Владимир Корнилов; Собрание сочинений в двух томах; Том второй: Проза.
Москва; Издательский дом "Хроникер"; 2004.
OCR и вычитка: Александр Белоусенко; декабрь 2008.
-----------------------------------------------------
Проза Владимира Корнилова так же значима, как и его стихи. Повести «Без рук, без ног», «Девочки и дамочки», «Псих ненормальный» — это обнаженная правда о войне и послевоенной действительности, о трудном созревании души человека.
В «Приложениях» помещены автобиографические заметки Корнилова и статьи о его жизни и творчестве.
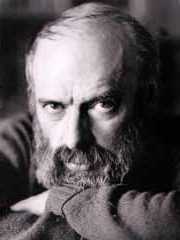
Владимир Корнилов
ДЕВОЧКИ И ДАМОЧКИ
Повесть
1. КИРКИ, ЛОМА И ДВА МЕТРА
Шанцевый инструмент привезли перед самым рассветом. Три грузовика, шурша по шлаку, вползли на станционный двор, и худой военный со шпалой в петлице, устало поеживаясь, вылез на подножку первой полуторки.
— Скидовай! — махнул он красноармейцам, сгорбившимся в кузовах машин. — Отыми борта!
И тут из бараков посыпались женщины.
— Айда, девчонки! — орали на бегу. — Ломы! Ломы одни останутся.
— Давай, куры! Лопат не хватит!
— Кончай ночевать! Кирки и тяжелые!
Полуторки враз облепили, как автолавки с мануфактурой.
«Вот те на!» — подумал военный. За ночь он продрог, и простреленное тело не удерживало тепла от выпитого второпях портвейна. Эту ночь он не прилег, а ездить ему — конца не видно.
— Женщины! — пробовал он перекричать толпу. — Женщины, подвиньтесь струмент скинуть!
Но голос пропадал в реве, в гоготе, в этом «айда», «валяй», «о-гой» кричавших женщин, для которых он никакое ни начальство, ни полначальства, — и военный, давясь от стыда и ярости, полез на крышу кабины.
— А ну — цыц! Соблюдай сознательность! Раз-зой-дись! — гаркнул оттуда, но станционный двор гудел, как лет тридцать назад во время забастовки. И женщины все сыпались из бараков, гулко, как картошка из бункера.
Это была железнодорожная окраина Москвы, однажды и навеки окрещенная «пересылкой». Круглый год она отправляла завербованных по найму и набранных другим путем на разные, все больше северные и сибирские стройки. Осенью отсюда уходила на действительную стриженая ребятня. А с этого лета пересылка уже трудилась для фронта. Сейчас, октябрьским знобким предрассветом, ее забили, лежа вповал, мобилизованные на окопы.
— Лопаты... Лопаты привезли! — разнеслось по бараку, где спала Ганя.
Тотчас захлопали двери. По доскам пола застучали башмаки, зашлепали ботики и галоши. Из щелястых окон потянуло нешуточным ветром, и Ганя проснулась.
— Да ну их, поспим лучше, — ворчали иные женщины, переваливаясь на другой бок и натягивая на голову кто мешок, кто полушалок. Тоже добро — лопаты!
— Лежи, тетка, — промычала гладкая деваха, о которую Ганя грелась ночью. — Холодно... — И, зевнув, уснула снова. Ее подружка, рыжая лядащая евреечка, что грела Ганю с другого боку, вовсе не просыпалась.
«Сознательные!» — сердито подумала Ганя. С недосыпу она была зла на весь свет, а особо на этих двух, гладкую и еврейку, которые ее вчера «сманули».
— Сглазили. У, проклятые! — скулила она, копошась на грязном холодном полу.
Вчера днем, когда Ганя обозвала хозяйку «ксплотаторшей» и швырнула ей в лошадиный мордоворот хлебные талоны, эти двое ее и подцепили. Ганя, зареванная, выбежала в колодец двора, а там была уже куча-мала баб с рюкзаками, кошелками, ведрами, и эти две из квартиры напротив — тоже.
— Не плачь, тетка, — сказала вчера гладкая Санька, подходя к Гане и вроде жалея ее.
— С нами пойдемте, — улыбнулась рыжая. («У, ведьма!» — нарочно толкнула ее сейчас Ганя. Еврейка спала, как пьяная.)
— У нас весело, — неуверенно сказала вчера эта самая «ведьма», и раскисшая от слез Ганя стала в их кучу, а потом одна баба (какая-то старшая — собой чистый грузчик!) гаркнула:
— Смирна! Равняйсь! Ша-гом... — и повела их на Ногина, а оттуда вверх, и сама же первая заорала:
А ну-ка, девушки,
А ну, красавицы...
И Ганя пошла между толстухой и лядащенькой, и, размазывая по тощему немытому лицу слезы, подтянула:
Пускай поет про нас страна,
И звонкой песнею пускай прославятся...
Потом, когда дошли до Ильинских, гора кончилась, идти стало ловчее, и запели другую, развеселую, из кино, какое бесплатно крутили на май в агитпункте:
Нам нет преград
Ни в море, ни на суше,
Нам не страшны
Ни льды, ни облака...
И Ганя маршировала довольная, пела со всеми и в мыслях еще успевала унижать хозяйку: «Ты, ксплотаторша, драпаешь, а я иду и пою. Я пролетарка, а ты, сивая кобыла, сдохнешь по дороге. А ну, а ну, достань воробышка! — Хозяйка была высокого роста. — Хрен тебе, а не воробышка. Кончишься в вагоне. Ворону жрать будешь», — улыбалась Ганя, и ее мягко подталкивали с обеих сторон евреечка и гладкая.
— Молодец, тетя! Видишь, как здорово...
Так вчера прошли через центр сюда на пересылку. Тут Ганю записали вместе со всеми в толстую школьную тетрадь, и все было в полном ажуре: повели в столовку, дали горячего ужину по армейской норме — кашу с мясом и чай в кружке с двумя камушками рафинада («граммов сорок», — прикидывали бабы). Кружки и миски выдавали через окна в перегородке, туда же сдавали грязные, и Ганя, может, впервые за жизнь, поев, посуды за собой не мыла и, гордая, легла посреди барака между двух новых товарок. От толстой было тепло, а рыжая прижималась доверчиво, ну прямо кошка! — и Ганя засыпала счастливая.
«Ехай, ахай... — грозилась она хозяйке. — Колбасой катись, жендарма! У, верста — сивая красота!» — и с удовольствием вспоминала, как хозяйка выдирала из своей русой косы седые нитки волос. И сон пришел к Гане хороший, с кавказскими горами, какие видела в двадцать втором году в Ессентуках. Снилось, что едет она со своим чернявым хахалем Серегой, Сергей Еремычем, на линейке, а у лошади в гриве бумажные ленты, будто взаправду свадьба. А потом они задаром пьют лекарскую воду гранеными стаканами. Сергей Еремыч лениво и великодушно лапает Ганю и плюется на ее сестру, полудурку Кланьку, лярву-разлучницу, которую Ганя по дурости и доброте взяла с собой. От больших рук Сергей Еремыча Гане тепло, только ноги немного мерзнут и в животе малость нехорошо, наверно, от дармовой воды.
И вот теперь ночная побудка, как приблудная собачонка, разом слизнула сладкий навар сна. Ганя больно потянула шею, дернулась и очнулась в мерзлом бараке на пыльном полу, который больно стучал в ухо.
— Беги, тетка! — крикнул ей малец. (Среди женщин случайно затесался этот недомерок, не то доброволец, не то допризывник.) — Одни ломы останутся.
Ганя отряхнулась, как вспугнутая курица, и, подхватив кошелку, поспешила к дверям. Хотя ей было под пятьдесят, ступала она вприпрыжку, точно тощая клуша или плакса девчонка, которая до смерти боится мальчишек и водится с одними малявками. Со спины Ганя была еще молодой, но лицо у нее сморщилось и одлинноносело. «Курица!» — не сговариваясь, обзывали ее во всех домах, где перебывала приходящей прислугой.
«А вдруг — лом!.. Руки отвертит. Кирка половчей...» — чуть не плача, решала она на ходу.
На дворе было светлее, чем в бараке. Горело больше синего электричества, и от маневровых паровозов летели искры и пламя. Красноармейцы, стоя в кузовах, нерасторопно раздавали инструмент. Лопаты были жирно смазаны какой-то липкой гадостью. «Солидол», — ругались в толпе.
— Не толкотись, не толкотись! — кричал на женщин худой военный. Он торчал по-прежнему на крыше кабины, и когда замолкал и не размахивал руками, то в шинели и фуражке при полутьме низкого неба напоминал статую. Но тут же снова драл глотку и рубил воздух рукавами шинели. В нем не было никакой державности, как внизу не было порядка.
«Разберут...» — слезно подумала Ганя и кинулась в толчею, гребя локтями, как в трамвае, когда просыпала остановку.
— Хучь кирку! — голосила она. — Лом рук не оставит!
Но те, кто вылез этой ночью из бараков, тоже были не ангелицы. Раза два Гане съездили по шее, разок сунули в ребро, и, прорычав:
— У, жилы! — она незаметно для себя перепорхнула от врагов порядка к вернейшим его слугам. Этих, как в любой очереди, было куда больше. Впрочем, с основания человечества слабые всегда в большем числе.
— Куда прешь? — через минуту орала Ганя на бойкую деваху в ватной фуфайке.
— Чего людям ноги давишь? — кричала на другую.
— А ну, паника, охолонь! — вразумляла еще кого-то.
— Вот все мы так... — вздыхала тут же для общего сведения. — Все возимся, все носимся. А чего?.. Все там будем.
— Будем-Будем, — смеялись вокруг. — Только рот, тетка, заткни.
— Лови, хохлатка, — заметил ее с машины боец и протянул лопату. Ганя, неловко подпрыгнув, ухватилась за склизкую холодную железяку, готовая к чужой зависти, а может, и к мордобою. Но никто ее не тронул. Вокруг машин как-то сразу поредело. Оказалось, лопат хватило на всех доброволок. Даже остались лишние, и их вместе с остальным инструментом сбросили в углу двора. Худой военный сел в кабину, и полуторки, развернувшись, выползли за ворота.
Светало медленно. Время было самое неловкое — ни спать, ни про жизнь переговариваться. Гане опять стало тоскливо. И еще от вчерашней каши жгло в животе.
— Снова печенка, — покорно вздохнула она, стоя посреди опустевшего двора и упирая черный ботик в штык лопаты.
— Ты чего... картофлю копать? — спросила, проходя мимо, какая-то женщина.
«Могилу», — хотела ответить Ганя, но окопница ушла в барак.
«Чего забыла? На дармовщину схотела, а?» — подумала Ганя с ехидцей, словно говорила не с собой, а с невидимой дурой-подругой, самой распоследней горемычкой. — Дьётка!.. Бесплатное, оно завсегда втридорога. Тьфу! На машинном готовят! Людей не жалеют, — скривилась она, отвечая боли в желудке. — Армейское!»
И вспомнились ей племяши-близнята, ее любимцы, которых летом застригли в армию. Парни были росляки-красавцы, в залетку-зятя Сергей Еремыча. Наворачивали за обе щеки — и второе, и первое. Особо уважали холодное мясо из супа. Ганя им в бидоне от хозяйки возила, они его жевали ночью после гулянок. Хозяйка супу не признавала. Может, этой, как ее, подагры боялась. И хозяйкина дочка-очкаричка — чудо природы! — тоже от Ганиной стряпни нос воротила. Так что Ганя варила суп справный, густой, а мясо из него половинила, и свой кусок, завернув в марлю, прятала на дно кошелки. Уже потом, в поезде, запускала его в бидон, и он плюхался туда весело, как карась в реку. Сама она супу тоже не ела, а уважала сыр голландский, постную ветчину и какаву, но не из сои — с той какая сыть! — а всамделишную, в железных коробках.
Светало медленно, неохотно, словно солнце задолжало, а отдавать ему было нечем. Так бывало в коммуналке соседи возвращали Ганиной хозяйке долги. Возьмут сотню-полторы, а приносят по трешнице. Хозяйка, гордая, не скажет и напомнить не даст. И у Гани вся душа изводилась — и кто чего не вернул, и кто на кухне керосину ихнего взял или примус закоптил — не продуешь! — или общие дрова на ванну извел: не в очередь мылся. Все помнила Ганя и за хозяйское болела, как за свое. Да оно и было свое. Чего сами не дарили, увозила потом Ганя втихую. А хозяйка — когда заметит, когда нет. Да и заметит, сказать постесняется. Не боялась Ганя хозяйки. Та, как со службы придет, сразу за свой «дервуд» и стрекочет, стрекочет, вроде пулеметчицы Анки из «Чапаева». Соседки говорят, до двух, до трех стрекотит. Ганя у них не ночует. Не лакейка. Хоть и без договору, а приходит, как на производство, — и каждый выходной зарплата (раньше — по шестым-двенадцатым, а с прошлого года — по воскресным). Так что Гане ночью все едино. Но соседки жаловались, ходили даже в квартиру напротив — к управдому, и пришлось хозяйке обиться дерматином с ватою снаружи и изнутри. Дверь теперь сто пуд весит. Ганя в сердцах ее футболит, когда с чайником или сковородой из кухни мчится.
Нет, служба у хозяйки подходящая. И Ганя на ней сама себе вроде командующего. А если хозяйке вожжа под хвост вдарит и придумает хозяйка:
— Хорошо бы, Ганя, простыни постирать. Давно не меняли, — Ганя вскочь за тазом не побежит, а станет посреди комнаты (а лучше — кухни: при соседках справнее!), подопрет кулаком щеку и толково рассудит:
— Да когда ж нам стирать? Да вить сейчас не постираешь, как следовает. Вот ужо к празднику, Елена Федотовна, и будем... — И — на-кась, выкуси! — съест хозяйка и опять начнет тарахтеть на своей машине, как в магазине на кассе. Да и вправду — кассе. С нее главный доход. А днем она в школе — что? Учителка...
Нет, бога обижать не надо. Вот уже три года Ганя у Елены Федотовны — и свет увидела. А раньше нигде не держалась. Как что пропадет, сразу — в шею. И пропасть не успеет — за грязь гонят. Неряха, мол. А тут догляду никакого. Малого ребенка нету и мужика тоже не бывает. Носок ему не штопай, сранок не споласкивай. Одна дочка-очкаричка. Так той уже пятнадцатый год. Она нижнее Гане не доверяет — сама простирнет. А дел всех — натри полы. У хозяйки чтоб полы блестели — это первым делом. А полов-то всего ничего. В комнате шешнадцать метров, так под мебелью половина. И второе дело — сосиски свари или котлеты там сготовь, а лучше — отбивную шмяк на сковороду — пусть себе горит. Самое главное — вовремя подать-убрать. Хозяйка это любит. Так чтоб с виду был порядок. А за шкафы она не лазит, времени у нее нет лишнего. Если б не война, ездила бы к ним Ганя, ездила. Война все перевернула.
Еще только налеты первые пошли, хозяйка к ней подкатываться начала:
— Поезжайте, Ганя, с Кариночкой в Куйбышев. Я вам деньги высылать буду.
— Да что вы, Елена Федотовна? Вы того... с работы совсем счумели. Куда я поеду? Кубышев! И надумали тоже! У меня хозявство.
— Да какое там «хозявство»? — рассердилась хозяйка.
Раньше смирная была, голос прятала. По квартире ходила сжималась, хоть сама под потолок. А тут позволила.
— Полсарая со скворешней — хозяйство...
— Какое ни есть, Елена Федотовна. Не вы наживали. У вас и этого нету. Одна тарахтелка, так и ту на неделе мастер два раза ковыряет.
Ну, «тарахтелку» хозяйка стерпела, но со своим «Кубышевом» не отлезла. Хорошо хоть школу на лето прикрыли, и поступила Елена Федотовна куда-то, где до ночи сидят. Так что теперь ее и не увидишь. Но по воскресеньям опять за свое:
— Поезжайте, Ганя, да поезжайте! Я вам всю зарплату высылать буду. Мне для себя ничего не надо.
И правда, для себя она не старается. Все для очкарички, для чуда природы. Для нее и Ганю держит, чтоб по часам горячее ела. А для себя хозяйка и платья не справит. Старое носит. И мужчин не водит. Некуда. Или некогда ей. Правда, был один интересный случай перед войной за неделю. Очкаричку в пионерлагерь спровадила, Гане на две недели отгул дала, а сама перед зеркалом села из косы седые нитки дергать. Потом соседки врали — три дня не ночевала. Что ж, еще не старая — сорока нету. Может, и нашла кого, каб не война. Война... Она для всех не сахар... Племяшей враз — в армию. А Кланьку, сестру, лярву-разлучницу — надо же! — в больницу положили. Помрет, видно. Кровь у ней, как вода. А в больнице кормежка известная. Передачу вози. Какие-то продуктовые бумаги — карточки выдумали. Всем дали, а Гане — нет: ни рабочая, ни иждивенка. Договору, видишь, нету. А где концы сыщешь? Гоняли по райотделам с Москвы на Икшу, с Икши опять сюда. Неделю бегала, плюнула и бегать не стала. Перебивалась при Елене Федотовне. Та с Ринкой всего не съедала. А вчера вдруг вакуацию надумала. Теперь сама едет, Ганю не зовет.
— Стирайте, — говорит, — на дорогу!
— Хрен тебе, а не «стирайте»! Не лакейка! — И кинула Ганя хозяйке деньги — мелочи больше было, а карточки — те особо! — смяла в кулаке и комом в лицо.
Теперь на станционном дворе, как баба-яга на клюку, припадая на лопату, Ганя глядела в землю, а видела свою жизнь, такую же мерзлую, продутую. Ничего в ней не было, кроме Ессентуков, да и те чем кончились? Выскоблили из нее потом Ессентуки. А Кланька, лярва, спугалась и не схотела... У, гадючка... А теперь все равно помрет. Кровь у нее никуда стала...
Ничего не было в Ганиной жизни. А теперь без хозяйки и вовсе клин. Одни окопы остались. Вот выкопает их Ганя и себе заодно два метра.
2. ЛЯДАЩЕНЬКАЯ
Утром, еще затемно, давали в окошки горох с мясом. Ганя ковырять его не стала. Пила только чай вприкусь. А евреечка горох ела, но Ганя заметила, что давилась без аппетиту — больше от сознательности, чтоб не выделяться. А гладкая Санька — раз-раз обстругала миску.
— Добавка полагается? — гаркнула весело на весь длинный стол и еще на два соседних.
— Как же! Чтоб громче стреляла! — подхватили бабы.
— Тебе, девка, мужика надо, а не гороха. Растряс бы тебя, а то лопнешь!
— Ха-ха, — залилась Санька. Она не обижалась.
Серым мерзлым утром перед неясной дорогой посмеяться было в самый раз. Ганя тоже встрять собралась, но опередила евреечка:
— Ты, Санюра, у тети Гани возьми. Она не ест.
— Правда, тетка, не хочешь? — спросила Санька. — Тогда давай. Зябко — вот и есца, — И она потянулась к Ганиной миске.
— Тпру-тпру, — зашипела Ганя. — Ты кувалды не тяни. Не твое. А ты не зырь, — напустилась на евреечку. — А то глаза-завидки все зырють, зырють, где чего хватануть... Знаю вашу нацию...
За столом сразу стало холодно и неловко, как будто и не смеялись. Толстая Санюра злобно звякнула черенком ложки — мешала в кружке сахар. Евреечка покраснела, но смолчала. Она дала себе слово быть как все, не выделяться и прятать любую обиду. Она уже три года решила быть как все, и даже, если это возможно, лучше. Она старалась изо всех своих тощих сил не краснеть, но ничего не выходило.
Со всем смирилась комсомолка Лия. Сначала было две комнаты, здоровая мать, отцовский распределитель. Отец вечером возвращался домой на машине, веселый, в мягких шевровых сапогах, в зауженных синих галифе и в такой же гимнастерке с широким ремнем. Он кивал матери и целовал Лию. Он был полноват, но строен. К нему, директору завода, удивительно шло полувоенное...
И вдруг — одно за другим: мать заболела, отца сняли и отобрали одну комнату. (Туда въехала толстая Санюра с отцом-выпивохой и неуживчивой, шумной дворничихой-матерью.) Жить стало трудно. Что могли, снесли в комиссионный, а остальное Лия с Санюрой (которая оказалась удивительно отзывчивым человеком) в выходные дни возили на толкучий. Мать, после того как упала в туалете в обморок, требовала подсов. И отец все чаще издевался над ней и нехорошо обзывал. Он абсолютно не умел ходить за больными. У него совсем сдали нервы. Он не приучился сидеть без дела. Ему надо было вечно куда-то ездить, проверять, браковать, песочить, объявлять выговора, приказывать, вскрывать чужие ошибки, исправлять упущенное, затыкать дыры и громко и радостно рапортовать в наркомате. Он был рожден командиром производства, красным директором. А тут, сидя взаперти, он как-то сразу стал жалким, склочным, недобрым человеком. Ужасно озлобился на соседей за то, что отняли кабинет. Но при встрече с Санюриным отцом, пьяницей управдомом, первым здоровался и еще угощал «Пальмирой». А потом жаловался, что этот мерзавец вечно стреляет у него курево. «Никаких денег не хватит!» — и поэтому курил при больной. А мать не позволяла открывать форточку, потому что температурила. Она росла в богатой семье и, как говорили родичи, была очень музыкальна. И раньше у нее шалили нервы, случались даже припадки, но тогда попадало домработницам, теперь — отцу. А он курил при больной. Лия ничего не могла с ним поделать. Папиросы были очень дорогими, мать совсем плоха, а отец до того жалок и обидчив, что вскипал от каждого незначительного замечания. Он не сразу похудел, но как-то посерел, обмяк. Носить полувоенное ему теперь было стыдно, а беспартийная, времен нэпа, тройка была так тесна и так старомодна, что отец выглядел в ней подозрительно, как переодетый преступник. Он и вправду ждал тюрьмы все полтора года, пока умирала мать. Уже докатилось и до Лииной школы, что он исключен, и кое-кто из ребят предлагал разобрать Лию на бюро. Но она, не дожидаясь конца четверти, поступила в библиотеку, где работали одни опрятные старушечки и не было никакого комсомольского учета. Все эти полтора года отец был совершенно невыносим. Но Лия его любила. Она гордилась им и жалела его. И если бы ее заставили отречься от отца, она бы скорей положила билет. Она знала, что он ни в чем не виноват, что он талантливый — просто природный! — руководитель. Самородок. Он вышел из самых бедных, самых голодных слоев местечкового еврейства. Ему просто завидуют. Сын какого-нибудь недорезанного буржуя или сам бывший буржуй, который каким-нибудь обманом пробрался в партию. Он ненавидит отца, потому что отец — талант! — и еще из животного антисемитизма. Он выгнал отца с работы и грозится посадить. Но советская власть никогда этого не допустит. Отец подал в комиссию МК, и в комиссию ЦК, и в партконтроль. И написал лично товарищу Сталину.
Она сама просила его писать, сама правила ошибки (он был не очень грамотен, потому что учился не в гимназии) — и сама относила письма. Он держался только ее уверенностью. Недаром она была его дочь, она была вся в него, а эти полтора года была даже сильнее его.
— Ты настоящий коммунист. Ты большевик, — доказывала она ему, словно он уже себе не верил. — Если тебя не вернут в партию, значит, нет больше советской власти, значит, Сталина нет в живых или он тайно арестован, — шептала она за полночь, сидя на краешке его дивана. Он благодарно целовал толстыми липкими губами ее руки, и она, счастливая и гордая, мечтала, что если у нее когда-нибудь будет муж, пусть хоть немного походит на отца.
— Ты жди, — твердила она. — Сейчас очень трудно доверять. Сейчас много вредительства. Ты же знаешь... Все сейчас недоверчивы. Но тебя обязательно разберут. Надо только немножко подождать.
И она вставала с дивана, стелила себе на полу, а потом шла в другой угол комнаты, к матери, меняла ей рубашку (мать не выносила спать в мокром, даже во влажном), поила ее, ставила градусник, а потом показывала другой, на котором температура никогда не поднималась выше тридцати семи и двух.
— С папой будет все хорошо, — успокаивала ее Лия, стараясь не замечать, что мать давно и бесповоротно возненавидела отца, и даже близкая смерть не может загасить этой ненависти.
Так было целых полтора года, пока умирала мать. А потом наступила справедливость. Отцу вернули билет и назначили снабженцем уральского стройтреста. Он снова надел галифе и гимнастерку, которые теперь ему были велики, и, не дожидаясь материной смерти, уехал в Челябинск. А мать ложиться в больницу ни за что не хотела. Лия работала посменно, и часто за мамой приглядывала толстая Санюра.
Словом, свыклась, стерпелась со всем Лия — с незаконченной десятилеткой, с материнскими подсовами, тяжким духом в комнате, с отцовской нервозностью, материнскими истериками, а потом с отъездом отца и материнской смертью.
Только краснеть не разучилась от хамства.
— На тетку наплюй, — обняла ее толстая Санюра. — А ты, тетка, давись: — рявкнула через стол. — Мне не надо. Я сытая.
И тогда, дергая длинным носом, захныкала Ганя.
— Фью-ить вью-ить-уить, — сопела она.
Издали могло показаться, что Ганя шепчет молитву, потому что голова ее вскидывалась, а руки были сцеплены на столе у миски.
— Тебя не поймешь, — сказала женщина рядом.
— На нашу сестру нету профессора, — вздохнула вторая.
— Да, бабья душа, как аптека! Без поллитры не разберешься! — добавил еще кто-то, и разговор чуть не ушел в сторону, пока Ганя шмыгала носом и пускала слезы по грязным желобкам морщин.
— Фью-ить вью-ить-уить... Да ить мне не жалко, — вытолкнула она наконец через глотку. Раньше почему-то слова попадали в длинный, забитый полипами нос. — Ешь, Санька. Мне такого дерьма и нельзя. Печень... — объяснила она, как бы доверяя себя всем и подымая всех до себя. — Малая была, ох наворачивала! А теперь — печень. Рак в ней или жаба. Кто знает?.. Какие сейчас врачи!.. Мне бы сырку... А ты жри, — она крутнула миску через стол к Саньке. — И ты, Лийка, не стесняйся. Хучь давись, а принимай. Завтра и того не дадут.
— Не каркай, ворона! — цыкнули рядом.
— Пораженка!
— Кура!
— Кончай жратву! — заорала старшая. — Вагоны счас подадут.
Опять началась толкотня, как ночью, когда прибыл шанцевый инструмент. Опять Ганя вскочь понеслась в барак, продралась сквозь толпу у входа, ухватила кошелку с лопатой и, не зная, чего делать дальше, на всякий случай опустилась на пол.
«Может, сбежать? — подумала она. — Снова пойти в райдел? Сжалятся. Карточку дадут. Что я тут забыла? Ну, в тетрадь записали. А на кой мне их тетрадь?»
Барак опять набивался женщинами. Хватали сумки, мешки, лопаты, ведра, потом нерешительно топтались на месте. Порядка, прямо скажем, было маловато.
— А ну, не загорай! Выходи строиться! — закричал из дверей тот самый военный, тот, что ночью приезжал на грузовиках. На дворе совсем посветлело, но небо было серым от туч.
— Хоть самолетов не будет, — переговаривались женщины, позевывая от холода.
— Стан-но-вись! — закричал военный. Он опять неловко взобрался на крышу кабины. Вместо трех ночных полуторок теперь на станционном дворе стояла только одна. «И чего ездит?» — подумала Ганя.
— Рукавицы привез! — как будто услышав ее, объяснил оказавшийся неподалеку допризывник.
— Для интеллигенции, — засмеялись бабы.
— Раз-говорчики! Ста-новись! Равняй-сь! — заорал военный с верхотуры.
Строились неумело.
— Старшие команд, давай порядок! — орал худой капитан. — Ну-ну, подравняйтесь! Сми-ирна! А, хрен с вами. Стойте хоть так... — Он махнул рукавом шинели. — Тихо чтоб!.. Слушай меня. Товарищи женщины! Положение очень тяжелое. Враг рвется в самое сердце нашего государства.
Он хотел сказать им что-то необыкновенно душевное и доброе, потому что очень жалел их, измученных кроме нелегкой жизни еще и этой полубессонной ночью в холодном станционном бараке. Ему хотелось если не подбодрить их, то хотя бы рассмешить. Но как только он взобрался на крышу кабины, ему почему-то вспомнилась частушка из фашистской листовки, прочитанной вчера на инструктаже:
Девочки и дамочки,
Не ройте ваши ямочки,
Проедут наши таночки,
Зароют ваши ямочки.
Вчера, в первую минуту, частушка показалась ему вполне складной. И человек двенадцать командиров, сидевших в тесной комнатенке у штатского Тожанова, тоже удивленно переглянулись.
Но сегодня, когда перед ним стояли свои, родимые дамочки и девчонки, которых посылали туда, вперед, за Москву, поближе к хорошо знакомым ему танкам, капитану стало не по себе, и он оборвал речь.
— В общем, разобрать кирки-ломы. Старшим разбить людей по десять. Каждые десять — отделение. Ясно-понятно?
— Ясно, — нестройно ответили женщины.
— Не распускать строй! Я вас скоро проверю, — добавил капитан и слез с крыши. — Давай, — сказал водителю, пристраиваясь рядом, и грузовик выполз за ворота.
— Стой на местах! На десять рассчитайсь! И тише вы! — цыкнула на своих старшая. — Немцев приманите.
На станционном дворе стоял рев, как воскресеньем на всех московских рынках разом.
— Не прилетит. Тучи! — засмеялся недомерок в Ганином ряду.
Теперь при свете Ганя даже удивилась, как она его сперва не признала. Это был Гошка с Ринкиного класса, друг-приятель чуда природы.
— Считайсь! — приказала старшая.
— Перьвая, вторая...
— Не «ая», а «ый»... Ты теперь вроде как боец.
— Первый! Второй!
— Третья... — крикнул недомерок Гошка.
Женщины засмеялись, и старшая не удержалась, но тут же напустилась на паренька:
— А ты, сцикун, не выскакивай! — и, засерьезничав, крикнула: — Давай, раз-раз, а то вагон прозеваем. А на платформе — дует!
Рыжая и толстуха вышли восьмой и девятой, а Ганя — десятой, последней. Еще чуть — и была бы с чужими. «Все ж есть бог», — подумала, смиряясь и успокаиваясь.
— Ну, ты тут самая просторная, — сказала старшая Саньке, — будешь за отделенную. Держи их — во! — Она сжала пальцы в основательный кулак. — Получишь десять рукавиц и гляди, чтоб кирки и ломы прихватили. А то иждивенцев — одни лопаты хватать — много. Ясно-понятно?!
— Ясно! — весело откликнулась Санька и уточкой притянула ладонь к полушалку.
3. ПАРА ХРОМОВЫХ САПОГ
Не платформа и не теплушка — достался им нормальный вагон с двумя полками и третьей для вещей. Ганя подгадала, где стать, и когда подходил состав, первой уцепилась за поручень, вскочила внутрь и одно место у окна взяла себе, а другое напротив придержала для старшой.
— Э, — махнула та, — некогда мне рассиживаться!
И как в воду глядела. Враз загудело, завизжало — у-у-у! — на весь город и еще, может, на область.
— Граждане, воздушная тревога! — передразнивая радио, забасила какая-то деваха из соседнего отсека.
«Вот тебе и тучи», — подумала Ганя и глянула в окно, но ничего не увидела. Впритык стоял товарный.
— Ой, мамоньки! — кричали в вагоне.
— Ой, сюда! Прямо сюда даст! — накаляя страсти, вопила загодя какая-то из самых нервных.
— Тише, стерва!
— Пусти, воздуху нет!
— Помираю!
— Ой, до ветру надо!
— Потерпишь!
— Ой-ой! — кричали в вагоне.
Вообще-то с июля женщины успели привыкнуть к тревогам. Москву хоть и бомбили, но была она чересчур велика. К тому же из метро или убежища, как падают бомбы, не видно. А ездить глядеть, где чего разрушено, — не у каждой есть охота или лишнее время. Зато самолет немецкий, что сняли с неба, поставили в самом центре на площади имени Революции — смотри-любуйся! Поэтому в октябре уже такого страха перед налетами не было. Но сейчас, вырванные из своей ежедневности, запертые в вагоне на двух полках и даже на третьей для узлов и чемоданов, многие запаниковали. Теснота сжимала не только бока и ребра, но и саму душу, а сверху выло, и хоть взрывов еще не было, даже грохот зениток еще не доносился, все равно казалось: попадет сюда, в вагон, в это купе, в спину, в шею.
«У-у-у-ууу», — ревело над Москвой, а казалось — над самой крышей, и те, кто пристроился на третью, хотели хоть на вторую полку, а со второй — на первую, а на первой казалось: взорвет путь и вдарит снизу — и они ринулись к дверям, забивая проход.
— А ну назад! — заорала от дверей старшая. — По местам! Соберешь вас потом! Как же! Эй, трогай скорей! — закричала на перронную платформу, наверно, кому-то из поездной бригады. — А то один кисель довезу. А ну назад! Кому говорю? — заорала снова в вагон, хватаясь за широкий армейский ремень, что стягивал зеленую, длинную даже ей стеганку.
— Осторожней, женщины! У нее под клифтом есть наган! — запел допризывник Гошка. Он сидел рядом с Ганей, явно забавлялся паникой, и во рту у него уже дымилась папироска.
— А ну загаси, ирод! Дыхнуть нечем, а он курит, — заквохтала Ганя. — От сцикун, — добавила, подлаживаясь к старшой, а та меж тем, свернув ремень, готова была стегать каждую, пусть только полезет к дверям.
«И вправду, с наганом вернее, — думалось ей. — Ответственность, а нагана не дали. С оружием уважения больше...»
— Дай прикурить! — крикнула она Гошке. — А сам загаси. Мал еще.
— Я и говорю, а он дымит, — снова ввязалась Ганя. — Сгаси. Духота. Тебе не положено. Вот солдатом станешь, кури, пока не убьют.
— Чего к человеку пристали? — сказала Санька. — Иди сюда! — Она отодвинулась от окна и пустила Гошку. — Раму только стяни. Вот так. Как раз будет.
— Дует, — заныла Ганя. — А ты не приманивай. Я тебя пустила временно. Это вон их место, — она почтительно повернулась к старшой, которая с ремнем, как казак с нагайкой, закрывала выход.
— Заткнись, тетка, а то, честное слово, врежу, — зевнула толстая Санька. — Двигались бы, что ли. Может, закуришь, подруга? — Она ласково обняла Лию.
Та, мотнув головой, прижалась к ней. И тут поезд тронулся.
— Господи, пронесло бы! — то ли вздыхали, то ли вправду молились на верхних полках.
— Фу-ты, — успокоилась старшая и, застегнув ремень, села на край лавки.
Поезд набирал скорость. Сверху выло. Уже стреляли зенитки и вроде где-то ухали взрывы, но на ходу, под ровный стук колес было не так тоскливо.
— Я вам у окна заняла, — снова заулыбалась Ганя начальству. — Встань! — строго сказала Гошке.
— Пусть. Тут не купленные, — отозвалась старшая. — Может, ему скоро ать-два. Стрелять умеешь?
— Угу, — кивнул Гошка, не вынимая папироски.
— Годишься. Напомни мне. Должны оружье выдать... — Прикрыла зевком вранье. Хотя была со всем районным начальством на «ты» и за руку, никто ей оружия не обещал, да и стрелять она не умела. Но как с женщинами без нагана? Хорошо, в вагоне две двери, да и замкнута одна. А там как высадятся — ищи-свищи. Они без присяги. Бабы!.. В трибунал их не потащишь. И опять же, не овцы — ремнем в одну кучу не сгонишь.
— И нам с Лийкой дайте, — сказала толстая Санюра. — Мы — «ворошиловские»!
— Ладно, поглядим. И тебе, хохлатка, тоже?
— На кой мне? — ответила Ганя. — Мне черпак дай. Я сготовить могу.
— Редкая профессия, — засмеялись в отсеке.
Поезд уже вымахнул за окраину, и паника поутихла.
— В столовке служишь? — поглядела на Ганю старшая. — Я тебя чего-то в лицо не признаю. Еще записывала, хотела спросить. Ты с дробь?..
— Ага, с дробь, с дробь... с двадцать седьмой, — закивала Ганя, не упоминая про столовку.
— Так то ж напротив вас, — вспомнила старшая, кивая Лии и Санюре. — Так, значит, в прислугах? Непрописанная.
— Она приходящая, — тихо сказала Лия.
— А сама откуда?
— Загородняя, загородняя. Меня Рыжова, Елена Федотовна, просила... Мы с нею старые знакомки. Подруги... За Ринкой, дочкой, глядеть уговорила. Зренье у нее никуда...
— Это которая длинная? На машинке грохочет? Неясная семья.
— Чего ж неясного? — заступился Гошка. — Учительница и квалифицированная машинистка.
— Тебя не спросили, — оборвала его старшая. — Значит, подруги, говоришь? — Она выпустила дым Гане в лицо. — Давно подруги?
— Давно, давно, — поддакнула Ганя. — У меня свое хозяйство. Но Ринку жалко. Она вить должна по часам принимать еду. Зрение ни в какую.
— А муж у Рыжовой где? — спросила старшая и даже рот открыла от удовольствия, будто целилась и попала.
— Нету мужа, — удивилась Ганя, — зачем ей муж? Она женщина серьезная. Мужиков не водит.
— А девку ветром задуло? — засмеялись на верхних полках.
— Вы чего? — задрала голову Ганя. — Людям поговорить дайте. Нет у ней мужа, — повернулась Ганя к начальству. — Был один армян... Мы с ней двое на Кавказ ездили... Ну, был грех, — стала складно, сама не зная зачем, врать Ганя. — Я ей говорила: скоблись. А она спугалась, как сестра моя Кланька. Спугалась и родила...
— А-а, — зевнула старшая. — А то было другое мнение. Хороший у вас дом. Чистый дом у вас. Не надо, чтоб в нем враги жили. Когда твоя Рыжова менялась, я была «за». Выезжали эти, ну, как их... Бабка еще с детьми... Цуккерманы. Отца и мать разоблачили у них... Ну, и дала я «добро». Не надо нам врагов народа в передовом доме. А потом доводят мне, что и Рыжова того же поля фрукт. Врали, значит?
— Ага-ага, — угодливо, к Гошкиному удовольствию, повторяла Ганя. — Нет, она женщина серьезная. Машинистка.
«И чего меня понесло? — подумала про себя. — У, жендарма! Скрыла... Да я б сроду к тебе не пошла. Ничего, все о тебе узнают! Вон, как про Лийкиного отца. Но Лийкиного простили, а тебя не простят... Врать не надо людям. И чего я твоей подругой назвалась?»
Лия вжалась в стенку вагона, и в груди у нее все замерло. Бедная Елена Федотовна. Такая сердечная, интеллигентная женщина. И Рина, хотя еще девочка и большая эгоистка, тоже интересный человечек. Хорошо, что их здесь нет... Но как все всё знают! Все обо всех всё знают! А как же иначе? Нужна бдительность. Капиталистическое окружение... А теперь еще и война. И Лия незаметно перешла к собственным переживаниям.
«Дура дурой, — думал допризывник Гошка, сидя напротив Гани. — Дура, а вывернулась... Что-то есть в прислугах собачье... Нет, не собачье, а рабье. Захаробломовское. Костерят хозяек, а другим костерить не дают. Ловко она с Кавказом придумала. А эта Домна (так он окрестил старшую, хотя звали ту очень просто — Марья Ивановна)... Вот головастая! Государственная баба! Мускулистая рука рабочего класса!» — и он с неудовольствием вспомнил, как вчера эта самая рука не дала ему отдельно идти по тротуару. Пришлось залезть в самую середку колонны и давиться стыдом под бабье вытье. «Вот люди, — думал он. — Просился на фронт, сунули на траншеи. Ну ничего... Там сбежать легче...» И сразу же повеселел, правым плечом втираясь в уютную Санюру.
— Так ты, выходит, прислуга? — спросила старшая. — Домраба, значит? А договор, небось, не оформляла?
— Не успела, — униженно кивнула Ганя.
— Она шпионка, — сказал Гошка. — Вы за ней в два глаза глядите.
Наверху опять засмеялись.
— Шпионка, пшенка! Шиш тебе! — завелась Ганя.
— Ладно, смейтесь без меня. Проверю, как настроение.
Марья Ивановна пошла по вагону, и в первом отсеке сразу стало просторнее.
— Сдвинься, Санька! — хихикнула Ганя. — А то парень как свекла стал. Доходит от тебя.
— А чего? Пусть греется. Давай руку, Гошенька! — засмеялась Санька и впрямь сунула Гошкину ладонь себе за телогрейку.
— Ха-ха! — заржали сверху.
— Хи, — фальшиво визгнула Лия.
— Пусти, — смутился Гошка, выдирая руку.
— Не стесняйся. Я добрая, — веселилась Санька. — Если замерзнешь, пожалуйста. И сразу действуй, а не жмись, как карманщик. Дело житейское.
— Да ну тебя, — буркнул Гошка, не зная — то ли обижаться, то ли смеяться со всеми. Складная Санюра ему нравилась.
— Он к Ринке наметился, — сказала Ганя. — Ты для него «широка страна моя родная». Ему деликатного надо, вумствен-ного...
Поезд меж тем выскочил из Москвы. Сирен не было слышно, только дружно хлопали зенитки.
— Ого дают! — сказал Гошка.
— Да ну их! Насмотришься еще, — сказала Санька.
— Авиации у нас маловато, — вздохнула женщина, крайняя на Ганиной лавке. — С земли стрелять — это как мертвому капли...
— Капли! Ничего себе капли, — рассердился Гошка, — с одного осколка — нет самолета. Особенно если в бензобак.
— Воробью в глаз, — ответил сверху голос поглуше. — Где в его попадешь? Он на месте не ждет.
— Стреляют заградительными, — хрипло, будто ей сжали горло, объяснила Лия.
— А, ну тогда другое дело, — отозвались сверху. — Заградительными я понимаю. У меня племяшка в зенитных. Приезжала на той неделе. Говорит, один снаряд по деньгам — пара хромовых сапог. Слышишь? Вон уже три «Скорохода» в небо пустили.
— А ты не жалей! Мы богатые, — сказала Санька и сунула под лавку ноги в мужских латаных башмаках.
Все засмеялись.
— Не, может одну хромовую, — рассудила Ганя. — Это ж убийство. У меня двоих ребят, тоже племяшей, забрали, так ботинки выдали и к ним бинты толстые. А сапог, ответили, нету...
— На твоих и лаптей жалко, — сказал Гошка.
— У, паразит! Санька! Хайлу ему заткни! — заныла Ганя. — Лаптей!.. Они не жмутся, как ты. Всех девок на Икше попортили.
— Вояки! — хохотнул Гошка.
— У немцев большая сила, — сказали с полки над Ганей. — Что им твоими зенитными сапогами сделаешь? Они с умом воюют.
— Чего мелешь? — отозвались с полки напротив.
— Ничего. Мелю, значит, знаю. А ты рта не затыкай. Сама видишь, куда едем...
— Куда-куда... Военная тайна — куда...
— Тайна? Не в Берлин. Сто верст — не дальше.
— Версты?! Не в верстах дело! Дурни твои немцы. Их обмануть — раз плюнуть.
— Поплюйся-поплюйся, подруга. Христом богом прошу, — под общий смех сказала Санька.
— Да не в том дело, — повторил тот же голос. — Они дурные. Их обмануть легко. У нас беженцы два дня жили. Немцы, рассказывали, глупые. Обдурить их — пара пустяков. И украсть у них завсегда украдешь.
— Так чего ж бежали? — съехидничал Гошка.
— Ты, сопливый, молчи. Бежали, потому что советские. Кому охота под врагом жить? Это другое дело. А я о том, что немцы дурные. Их перехитрить можно. Паренек у беженцев, сын. Так каску украл, наган или винтовку короткую и еще две плитки шоколада. И ничего — отвертелся, поверили. А дочка у них, такая из себя подходящая, офицер сильничать хотел, сказала, что сифилис, и не стал — поверил. А один немец молоко пил, так за кринку две конфеты дал. И еще платить деньгами хотел, когда старуха нательное простирнула.
— А чего ж сбегли? — спросила Ганя. — Может, евреи?
— Да никакие не евреи. Просто советские. Я говорю, немца всегда обдурить можно. Он только вперед глядит, а сбоку у него глаз нету — одни уши, а они по-нашему не кумекают...
— Ну и не бегли бы,— сказала Ганя.
— Пораженка! — разозлился Гошка. — С такими не победишь.
— Заткнись, погань!
— От погани слышу. Вон как уловителями повела. У Рыжовых тащила, теперь у немцев надеешься.
— У, подлюка! — взвилась Ганя. — Да я тебе...
— Не волнуйся, тетка, — вмешалась Санюра. — Немцам ты не потребуешься. Они чистых любят. А ты, небось, с Рождества в бане не была?
— А ты мне спину не терла.
— Нет, — согласилась Санька. — Я в детсаду малолеток купаю. А таких, как ты, обмывают в морге.
— Съела?! — захохотал Гошка.
«Как им не стыдно, — подумала Лия. — Ведь они — хорошие. В каждом что-то настоящее есть. Даже в тете Гане. Как она вчера со всеми пела! Даже в самых плохих есть мужество и самоотверженность. Надо только открыть это во всех. Тогда победим. И не надо ссориться. Нужны хорошие организаторы. Марья Ивановна — она хорошая. Но она не может увлечь. Она для приказов. Надо душевную, такую, как Санюра. Вот из Санюры вышел бы организатор! Если б я умела так разговаривать с людьми. Но я не могу. Я некрасивая и неловкая. Меня слушать не будут».
— Не грусти, касатка, — сказали Гане сверху. — Вымоешься, бант повяжешь и неси поднос. Немцы лапать не будут. Только мяса у них не тащи. Они жирное любят.
— Да чего вы на меня? Да у меня племяши на фронте! — заплакала Ганя.
— Что за шум, а драки нет? — весело гаркнула Марья Ивановна, возвращаясь с инспекции. — А ну, подвиньсь! — толкнула она Лию. — Хоть посижу, вдруг не скоро придется.
4. ЭХ, КАРТОШЕЧКА, КАРТОШКА
Их высадили посреди поля, километра за три от разбитой станции.
— Давай-давай! — орали старшие команд.
— Скорей-скорей! — нервничала, мечась по насыпи, поездная бригада.
— Так неловко... — оправдывались женщины, прыгая на насыпь.
— Ловко? Вон станцию ловко прямыми попаданиями... Как не было...
Бренчали ведра, стучали, падая, лопаты. Только и слышалось:
— Ой, ногу подвернула!
— Ой, мамочки, пятка!
— Аж по зубам... Боль-на!..
— Раз! Раз! — кричали железнодорожники, машинист с кочегаром. — И живо, живо в поле. А то опять прилетят! — И опасливо посматривали в сизое небо.
Было не очень ветрено, но как-то сиротливо. Окопницы пошли напрямик через неубранную картошку.
— Разберись по десяткам! — кричали старшие, но женщины шли кто как: идти строем мешала ботва. Нога то проваливалась в мягкую оттаявшую землю, то скользила по клубням.
— Пропадает! — вздыхали одни.
— Кланяйся да в подол! Потом напечем, — покрикивали другие.
— Сладкая небось, морозком прихватило... — останавливали их третьи.
Многие все равно нагибались, пытаясь на ходу подобрать вывернутые ногами картофелины.
— Левой! Левой! — орали старшие. — Некогда.
— Все вскочь! Все вскочь! — сердилась Ганя, хотя картошку не так уж уважала. Просто идти по неровному полю с киркой и лопатой радости было мало, да еще ее затравили в поезде.
«Грамотные, — сердилась она. — А как землю ковырять, так враз вся грамота мозолей выйдет. Ладно, шагай-шагай», — и она топтала ботиками мерзлую ботву.
Солнца не было. Только сквозь тучи что-то просвечивало, словно выйти стеснялось или тоже побаивалось немецких самолетов. Впереди за полем белела церковь, и возле нее загибалась асфальтовая дорога. «Хорошо бы на церкви артиллерийский наблюдательный пункт... Можно с телефоном или лучше с рацией. Вместо креста — антенна! Вот сила будет! — думал допризывник Гошка; он шагал поодаль от женщин. — Первая — огонь! Вторая — огонь! — командовал про себя, ковыряя полуботинками липкую землю. — Как займут красноармейцы окопы, останусь. — И он уже видел выкопанные траншеи, колючую проволоку и танковые ежи на дороге, которая пока еще одиноко змеилась мимо сельского храма. — Дальше, наверно, река, — думал Гошка. — Где это я читал, что церкви всегда над рекой ставили? Религиозники умели выбрать место. На реке хорошо оборону держать. Там и останусь. Каринка ведь все равно уехала...» И он вспомнил, как они с Кариной лазили на крышу тушить зажигалки. Но им не везло. В их дом ничего не попадало. Но все равно Каринкина мать закатила ему форменную истерику. Белая, валерианку пила, а потом, когда успокоилась, извиняться стала: «Поймите, Гоша. Ведь Карина у меня одна. У меня, вы знаете, больше никого нет». И он обещал больше не брать Ринку на крышу, даже на другой вечер пошел с ней в бомбоубежище. «Елена Федотовна еще ничего, — думал он. — А Каринка просто замечательная. Близорукость у нее пройдет. Как только зрение окрепнет, Каринка очки снимет. Но зачем, чудачка, читает лежа?..»
Лия еле плелась в своих желтых, шнурованных, высоких до колена ботинках, несла на лопате ведро с кошелкой. Каблуки то и дело застревали в вязкой земле. Она уже устала их выдирать. Эти материнские ботинки ужасно раздражали. Лучше бы их продали тогда на толкучем. Но мама упиралась, требовала меньше чем за пятьсот не отдавать. «Какая кожа! Это в Австрии, на курорте, в девятьсот двенадцатом покупали... Что ты, девочка!» Мама все надеялась, что вернется настоящая мода и она сама их наденет, когда перестанут опухать ноги. Мама была бесконечно упрямой. И теперь Лия сердилась на Санюру, что та посоветовала ей влезть в эти чудовищные сапоги. «Да я бы сама с радостью, когда бы вместилась!» — уверяла ее вчера Санька. «А вдруг она назло мне? Вдруг нарочно? — с отчаяньем думала Лия. — Вдруг она только сверху такая хорошая, веселая и добрая... Ведь они у меня чуть комнату не отобрали...»
И Лия вспомнила предвоенное воскресенье в Центральном парке. Это было через полгода после маминой смерти. Санюра просто силой потащила ее в парк. Она уже спала в Лииной комнате (убедила Лию, что той ночевать одной страшно), перетащила на мамину кровать свою постель и даже повесила в Лиин шкаф свой сарафан и два платья.
«Пойдем да пойдем!» — приставала к ней Санюра в тот воскресный вечер. Лия даже не приоделась. Да и не во что было. (Деньги, которые стал присылать отец, тратить на тряпки Лия жалела. Клала на сберкнижку. Рассчитывала: сдаст экстерном за школу, поступит в институт — пригодятся. Теперь эти деньги до конца войны будут лежать в сберкассе.) Словом, пошла в парк только из-за Санюры, потому что девушке ходить одной по парку неприлично. А Санюра, хоть была годом моложе, уже очень томилась без молодых людей. А тут еще такой случай: комната свободная. «Из-за комнаты она меня позвала», — подумала Лия, глядя в спину весело шагавшей по картофельному полю Саньке. — Что ж, она видная, бойкая!..»
«Нас не трогай, мы не тронем», — улыбнулась против воли Лия, вспомнив, как в тот вечер в парке Санька отваживала этой строкой из песни нестоящих, по ее мнению, кавалеров. Некоторые мальчики были даже очень ничего, но Санюра только отмахивалась. Она говорила им очевидные глупости, а получалось смешно и к месту. Ее шести классов вполне хватало на то, чтобы не уронить себя, а Лия со своими без одной четверти девятью слова выдавить не могла.
После недолгого дождя ходить по рыжим дорожкам было даже приятно, но Санюра все дергала Лию, тащила то к эстраде, вокруг которой все в один голос, как маленькие, противно пели, то на пятачок, где фокстротили — словом, к людям и яркому электричеству, где заметней были старенькие Лиины тенниски и худые незагорелые руки.
Мальчики тоже ходили по двое, по трое. Так им было удобней знакомиться: один ухарствовал перед другим. Но, увидев Лию, все они — как ей казалось — тотчас скисали, на третьем слове подымали ладошку и похлопывали воздух:
— Ауфвидерзеен! — или еще как-нибудь.
— Я пойду, — канючила Лия. — Я тебе только все порчу.
— Ничего-ничего. Другие будут, — обнимала ее Санюра и, похоже, не бодрилась, а совершенно была в том уверена. И действительно нашла, что хотела.
— Вон, гляди... — Она толкнула Лию в бок. — Годятся? Тебе какого — Крючкова или Абрикосова?
Вдоль пруда лениво шли два парня — один кряжистый с русым чубом, другой темноватый, высокий. Этим, собственно, и кончалось сходство со знаменитыми артистами.
— Ты шутишь! — сжалась Лия. «Это не для тебя!» — хотела она крикнуть, но сдержалась. Нет, это, конечно, были мальчики даже не для Санюры. Во-первых, у них были удивительно приятные интеллигентные лица. Светловолосый, видимо, учился в техническом вузе, шатен, скорее всего, в университете. У него в глазах была какая-то ленивая грусть, словно он знал о жизни больше других и даже как бы отстранялся от нее. И одеты они были даже чересчур прилично — оба в хорошо отутюженных брюках, в шелкового полотна рубашках, и на ногах у них были не тенниски, а настоящие туфли — у блондина белые парусиновые, у высокого — темно-коричневые кожаные.
— Не надо, Санюра, — Лия схватила ее за руку, боясь конфуза и жалея подругу.
— Да не робей ты, — отмахнулась та. — Главное, виду не давай, что тушуешься. Что мы — не москвички, что ли?
Ребята как раз остановились у тележки с газированной водой.
— Ну как, студенты, аш-два-о? Подходяще? — спросила Санюра покровительственно и небрежно, словно это были не молодые люди, а ее детсадовские писюки. Господи, у Лии щеки, наверно, стали рыжей дорожки.
— Стесняется, — улыбнулась Санюра, похлопав Лию по плечу. — Пить хочет, а фигуру бережет. Больше стакана в день нельзя. Вот и смотрим, где вода получше.
— Напои их, Витька, и пошли, — буркнул физкультурник. — Это не Рио-де-Жанейро. — Он отошел от тележки.
— Чего-чего? Крем-брюле не советуете? — защебетала Санька.
— Глупая, тебя оскорбили, — готова была заплакать Лия.
— Торопятся, — засмеялась Санюра. — Студенты, они от харчей легкие... Ветром уносит.
— Глупая, тебя презирают, — горлом выдохнула Лия.
— Да не шипи, как змея...
— Извините, он не в настроении, — сказал темноволосый. — Жорка, иди сюда! — Но физкультурник куда-то исчез.
«Если бы не я, Виктор бы тоже ушел», — думала Лия.
Женщины шли, устало растянувшись от насыпи до шоссе, размахивая кошелками, позванивая ведрами.
— На церкву держи, антирелигиозницы! — кричала Марья Ивановна.
«Все-таки я ему по духу ближе, но Санюра больше женщина», — рассуждала Лия, помимо воли любуясь ладной Санькой, которая в короткой, поверх лыжных брюк, юбке и в телогрейке лихо топтала отцовскими башмаками неубранную картошку. «Словно по парку гуляет. Даже лом с лопатой ей не в тягость. Нет, странная вещь наша жизнь, и все мы в ней странные».
— Так что милости просим. Вот телефончик. Мы одни живем, — сказала Санюра Виктору, когда он довел их до метро «Парк культуры». Целых два часа они бродили втроем по аллейкам, причем Санька сразу взяла студента под руку, а Лии пришлось идти с Санюриной стороны, и разговаривать ей с Виктором было неудобно. Да и Санька больше двух слов сказать не давала.
— Да бросьте вы о серьезном. Литература, литература! Сохнут с нее. Или без глаз ходят, как соседка наша Ринка. Замерзнешь тут с вами, — нарочно зевала она и прижималась к Виктору. Лия мешалась, и краснела, и все порывалась оставить их одних, но Санька не пускала ее, держала под руку. Прямо висела на них, веселая, разухабистая, хитрая и зоркая, такая, что зря не обидит, но своего не упустит. А студент (Лия уже разглядела, что он не только грустный, но еще и застенчивый) никак не догадывался их расцепить и пойти посередине.
— Так что звоните, миленький, — сказала у метро Санюра голосом, полным обещания.
— Ну ты подруга — первый сорт! — обняла она на эскалаторе Лию. — Без тебя бы враз упустила! Молодец, что при книжках служишь. Дай и мне поглядеть про эту самую Рину-Женеву.
Меж тем самые расторопные женщины уже добрались до церкви. Почти все они тащили ведра, и Ганя, запыхавшись, не отпускала их от себя, догадываясь, что они и будут поварихами.
— Давай-давай сюда, голубушки! — кричал им худой военный, указывая на распахнутые двери храма. За спиной капитана темнел полуторатонный грузовик «ГАЗ-АА».
«Вот оборотень! — подумала Ганя. — Как краснофлотец: нынче здесь, завтра там. И старика какого-сь пымал...
Рядом с худым капитаном крутился очкастый кругленький старичок в длинном брезентовом плаще, какие носят конвоиры или заготовители, и на чем-то, видимо, настаивая, размахивал ручками. Доберись допризывник Гошка до полуторки, он бы услышал, как старичок повторяет его собственные рассуждения.
— Я представляю себе, товарищ командир, на церкви наблюдательный пункт, — восторгался старичок. — Обзор исключительный!
Капитан не отвечал. Его занимало другое.
— По берегу мы все перероем. Мосты, гужевой и железнодорожный, видимо, придется взорвать. А на шоссе поставим ежи. Рельсы автогеном нарежем и сварим.
— Ну-ну, только без самодеятельности. И на хрен тут ежи нужны? Не город ведь... — процедил капитан.
— ...Мы узкоколейку на это дело пустим. Тут неподалеку ржавеет без надобности, — словно не слышал его старичок.
— Ну, узкоколейку — хрен с ней, — согласился капитан. — Только без самодеятельности. Вы что, в гражданской участвовали? — спросил скорее из вежливости, на минуту отрываясь от своих невеселых мыслей.
— Нет, скорее изучал, — неопределенно хмыкнул старичок. Но капитану уточнять было некогда.
— Сюда давайте! — кричал он женщинам, подходившим с ведрами и лопатами к шоссе. — Я вам, бабочки, продукт привез. Там разберите, в кузове, только чтоб без паники. Или нет! Отставить. Пусть старшие распределят.
«Я вроде как сам не свой, — думал он. — Были б вагоны, честное слово, запихнул бы в них окопниц и погнал бы назад в столицу. Нечего им тут делать...» Он жалел женщин, суеверно надеясь, что хорошие люди там, за линией фронта, тоже пожалеют его жену и детей.
Старичок меж тем потрусил в церковь, где, как видно, была ремонтная мастерская, потому что оттуда выскочили пацаны с двумя тачками — на каждой по баллону — и с гиканьем повезли их через шоссе к редкому леску.
«А, черт с ними! — подумал капитан. — Лишь бы были заняты. Безделье — мать паники. А за делом и страха поменьше... Кто знает, может, и пронесет...»
Но тоска грызла его отчаянная.
5. ДВА ТУЗА ИЛИ ПЕРЕБОР?
Все началось с того, что утром на пересылке продуктов ему не отпустили. Сунули по буханке хлеба на каждую окопницу и еще каких-то комбижиров, но и то не на все триста душ.
— Бюрократы, — пробовал он качать права. — Что ж, машину за сто верст гонять?!
— Нету, капитан, — отрезал завстоловой, пожилой коротышка-сверхсрочник. Четыре треугольничка высовывалось из-за накрахмаленного ворота его халата. — У нас кроме ваших баб народ есть. Мы не склад. Кормить — кормим, а отоваривать — в военторг дуйте.
— Так раньше ж давали...
— То раньше, а то теперь...
— Ничего не теперь... Войну никто не отменил. Слышь, старшина, я тебе говорю: крупу давай. И комбижир не жми.
— Нету, — повторил старшина.
— Выполняй приказ, сверхсрочник. Точка!
— Нет. — Старшина мотнул седым ежиком.
— Невыполнение?! Пристрелю, сверхсволочь!
— Катись-ка ты, капитан, к едрене-фене. Навидался я нервных...
«У, зараза... — думал капитан, выходя на станционный двор. — Попался бы ты мне за Днепром. Так таких ведь в тылу сберегают. Нечего тебе, Гаврилов, тут глотку драть. Был ты человек, а теперь бабий придаток...»
— Где отовариться можно — не знаешь? — спросил молодого водителя и закашлялся, потому что в кабине вдруг пахнуло гарью. Видно, где-то что-то жгли — по улице навстречу полуторке летело густое серое облако, похожее не то на снег, не то на тополиный пух.
— Разузнаем, — ответил боец.
Голос у него был уверенный, а лицо чистое и тонкое, городское. Но продсклад искать не пришлось.
На узкой булыжной, летящей под уклон улочке наперерез их «газику» выскочил пожилой еврей и, вздымая руки, запричитал:
— Товарищи военные! Товарищи военные! Спасите!.. Грабят!
— Тьфу ты... — Водитель отчаянно затормозил и крутанул на тротуар.
— Грабят, товарищ командир! — крикнул еврей, разглядев в кабине капитана. — Больше полмагазина вынесли!
...В маленький продмаг, как в бесплацкартный вагон, натолкался всяческий народ. Единственная витрина была напрочь выбита, и через нее совали мешки с крупой и сахаром. Гул стоял невообразимый, вполне вокзальный.
Неловко припадая на простреленную ногу, капитан, не раздумывая, опустил рукоятку ТТ на затылок какому-то старику в зимнем пальто, принимавшему через витрину заколоченный ящик.
«Хорошо, не женщина!» — успел подумать и жахнул в воздух.
— Прекратить! Застрелю! — Он затрясся, как контуженый.
Все в ларьке и снаружи разом отвалили от витрины, замерев, как перед фотоаппаратом. Только старик в зимнем пальто шарил на тротуаре — искал кепку. Она валялась рядом.
«Не насмерть, — подумал капитан, — хотя вообще такого не жалко...»
— Как допустил? — накинулся на завмага. — Чего милицию не звал? Или заодно с ними?
— Да что вы, товарищ командир?! Зачем обижаете? Я же не бежал, не бросил, как другие...
— Еще чего!.. Милицию звать надо.
— Так нет ее, милиции. Сегодня прямо как под землю...
— Звонил бы.
— Так не заслужили телефона. У нас мелкая точка...
— Интересное кино выходит, — вздохнул капитан. — А ну назад! Я тебе убегу... — Пригрозил он пистолетом парнишке. Тот норовил выскочить через витрину. — В другие двери не уйдет?
— Нет. Там замки на петлях.
— Ну, беги, торгаш. Звони мильтонам. Только раз-раз — одна нога здесь, другая — напротив. Две минуты отпускаю.
— Ой, спасибо! Спасибо, что сразу остановили безобразие! — крикнул завмаг, уже на бегу.
— Телефон испорчен! — закричал он из будки.
— И этот тоже... — чуть не рыдал из соседней.
— Ё-ка-лэ-мэ-нэ! — выругался капитан. — Не могу я с тобой загорать. Женщины у меня не кормлены. Случаем, не знаешь, где армейский продсклад?
— Не уезжайте, товарищ командир! — взмолился завмаг. — Побудьте еще минуточку. Без вас опять начнется. Или езжайте! Езжайте на здоровье. Только стрельните меня сначала!
— Что, опсихел?! Где тут у вас продбаза военная?
— Зачем база, товарищ военный? Вам продукты нужны? Берите. Сахар? Берите! Масло? Ящик? Пожалуйста! Крупа? Забирайте! Разве я для себя держу? Я для победы стараюсь. А они тащат! Берите все, товарищ командир! Пусть лучше ваши жены и дочери будут сыты, чем это хулиганье.
— Да ты что? Какие жены? Жена моя и пацаны у немцев. Свихнулся, папаша. Хотя, стоп. Требование у меня по форме. Отпустишь? Три сотни женщин жратвой не обеспечены.
— Конечно, что за вопрос! — Завмаг засуетился. — А ты лежи, лежи, — цыкнул на старика в зимнем пальто; тот наконец отыскал свою кепку. — Не стыдно тебе, Прохор Степанович. Ты же пожилой человек!
— Знакомый? — удивился капитан. — Или они тут все друзья-знакомые? А ты вот что, товарищ заведующий, организуй-ка их, пусть грузят. Правильно, боец? — Он повернулся к водителю, который с независимым видом курил, привалясь к борту полуторки.
— Точно, товарищ капитан. Пусть потрудятся.
— А ну, выходи-носи. На первый раз прощаю, хотя трибунал по вас плачет...
— А что, немцам оставлять лучше? — злобно спросил старик, поднявшись с тротуара.
— Каким немцам? Пули захотел?
— Каким-каким? Обыкновенным! Радио слушать надо.
— Ты мне не верещи. Бери мешок и в кузов, не то передумаю и не так вдарю! — рассердился капитан. — Ишь паникер. Носите, носите... А ты, отец, — кивнул завмагу, — бумаги давай. Подпишу, где надо... Тоже вздумали — немцам!.. Из-за таких гавриков и отходим. Стрелять вас надо.
— Вот бы на фронте и стрелял, — буркнула какая-то тетка из-под мешка, который тащила втроем с девками, возможно, дочерьми. — Все вы с женщинами герои. Снизу заносите, — прикрикнула на девок. — Не мы вздумали грабить. Приказ был не оставлять ничего.
— Ну и пораженцы у вас! — Капитан поглядел на завмага. — Сердце, можно сказать, родины, а такой, прости за выражение, бардак. Нигде похожего не видел. — «Это потому, что бегал быстро», — подумал про себя. — Что они несут про сообщение? — спросил завмага.
— Передавали: «Ждите важное...», а какое — не сказали... — ответил завмаг. — Вчера им расчет на фабрике произвели, а зарплату задержали. А тут еще это сообщение... Видимо, волнуются... Говорят, Москву будут...
— Враки, — перебил капитан, боясь, что завмаг назовет вслух то страшное слово. — Фашистское вранье, — добавил, успокаивая самого себя. — И ты веришь? — строго поглядел он на завмага. Но строгость была напускная.
«Черт его разберет!.. — подумал он. — Важное сообщение. А у меня там триста душ женского полу. Вот порезвятся фрицы».
— Конечно, не верю, — твердо сказал завмаг. — Товарищ Сталин не допустит.
— Правильно, папаша. Спасибо, продуктами выручил. Теперь прямо на окопы махну.
— Вам спасибо! Тут вот подпишите и тут. Все, как в требованиях. Два ящика — масло, лапша. Восемь мешков — пшено, песок, гречка.
— Ладно, верю. Прощай, отец! — крикнул капитан из кабины. — Теперь дуй сюда! — Он повернулся к шоферу, вытягивая из-под шинели планшетку с картой. — Вот, где крестом черкну-то — разберешь?
«Триста женщин, — не шло у него из головы. — У меня одна — и то спать не могу, а тут целых триста!» И он опять увидел перед собой так близко, что того и гляди дотронешься, свою Серафиму, солидную женщину, вдвое шириной и весом против него, суховатого и легкого. «Давала она мне политдрозда», — улыбнулся он. Как все, несколько забитые семьей люди, бывший политрук любил иногда промочить горло. «Знал бы второй батальон, какие кувалды у Серафимы Сергеевны! А может, и знал. Красноармейцы народ дотошный, все поразведают... А ведь ходок ты был, политрук, — сказал он себе. — То есть не политрук, а тогда еще в помкомвзводах ходил. А политруком — уже мало: разок на маневрах и два раза в санатории. А больше не было. Заливаешь, парень? — подмигнул самому себе. — Да нет. Правда. Раиску ведь не принял... — Раиска, Раиса Васильевна, была сестрой-хозяйкой госпиталя. Очень самостоятельный товарищ, не замужем. — Можно сказать, на самом краю удержался, — улыбнулся капитан, вспомнив, как в бельевой он в шутку ее обнял, когда менял госпитальное белье на армейское, а она укусила его в грудь. — Показался я ей. Это точно. Все искали, где поприжать, а я с ней вежливо, по имени-отчеству, как, мол, живете, самочувствие и настроение. Вот она и глаз положила. Только что ж мне в закутке напоследок? Симка небось сейчас морду сажей мажет. Господи, хорошо хоть не первой юности (и красоты, согласись, политрук!..). И красоты, — не стал спорить он. — А на кой? Красота — не миска. С нее не позавтракаешь. Зато пацанов — первый сорт! — народила... Нет, незачем и пустое... — подумал он. — Тут чужую прижмешь, там немцы твою. У них тоже голодуха на это дело. Хотя, говорят, походные бардаки за собой возят. Но бардак, он, может, как кухня... Когда подвезут, когда нет... Да чего это с тобой?! — оборвал он себя. — Чего про похабель мусолишь? Симки, может, в живых нет. Жена командира. А до прошлого года — политрука. Бей жида-политрука, морда просит кирпича, — криво улыбнулся он, вспомнив принесенную ему бойцами листовку. — Еще спасибо, что сам я русак и Серафима — природная кацапка...»
И его отчаянно потянуло к Симке, крупной Серафиме Сергеевне, что была вовсе не мед и не сахар, а одни окрики и подзатыльники. К той самой Симке, которую он шесть лет назад по пьянке обрюхатил и женился лишь силком, когда сам комполка чуть у него в ногах не валялся.
— Ну женись, Гаврилов! Не демобилизовывать же за ерунду. Ты же прирожденный краском. Ну, Щорс прямо. Только бороды не хватает. Женись, и хрен с ней. Все они на один чертеж: две ноги и глупость между... А возраст (Симка была на семь лет старше), так оно еще лучше. Гулять не будет.
— Ты женат? — спросил Гаврилов шофера. Они уже оставили Москву и два КПП за ней и неслись почти пустой магистралью.
— Нет, — мотнул головой шофер, не вынимая изо рта папироски.
«Не поймет, — подумал Гаврилов. — А объяснять — у меня слов таких нету. Тут Лебедев-Кумач нужен, чтоб понятно стало, как от всей этой неразберихи домой к Симке охота... Домой?! Скажешь тоже!.. — рассердился он. — Дом-то тю-тю...» Но ему все равно хотелось домой, куда угодно, но в ту комнату, где уже все по Симкиному, хоть въехали они в нее только вчера или даже сегодня на рассвете. Какие у политрука вещи — хрен да клещи, чемодан да ночной горшок... А Симка умела: раз-раз и жилье у нее. И уже вечером зовет: «Заходите, товарищи командиры, чай с вареньем пить».
«Везет Гаврилову!» — завидовали неженатые, выскребывая по три раза чайные блюдечки, и бежали не упустить девах, крутившихся вокруг разместившегося полка. А Гаврилов, завидуя им, покорно стоял с полотенцем у плиты или примуса. Симка мыла посуду, он вытирал.
Но сейчас, когда все наперекосяк, и старый уже — тридцать первый год, и сивость в волосах имеется — понимал: не в девках счастье. А сидела бы рядом вместо этого курца-водителя Симка, страх бы вчетверо убавился. Она и баранку крутит — выучил. Вообще способная. Такой бы в институт — и командиром производства. На блюминг. Говорят, на всю страну одна женщина есть на блюминге... А что такое блюминг, а? Знал, да забыл...
«Тут, Сима, сейчас такой поворот, — начал он жаловаться жене, — что без тебя, как без чекушки, не разберешься. Женщин мне придали. Триста душ. Все равно как помещику. А я над ними сроду не командовал. Вот бы тебе как женсоветчице. Ты бы их раз-раз и в норму привела. А я с крыши «газа» глотку драл — никакого впечатления».
С мыслями о Симке даже сидеть было удобно.
— Хороша дорожка? — спросил водителя. Они уже свернули с главной магистрали на другое шоссе, тоже асфальтированное, но поуже.
— Тормозить не надо, — кивнул водитель. И правда, шоссе было совсем пустое. Никого они не обгоняли, и навстречу никто не ехал. Только ветер свистел, да уже совсем редко и глухо ухали где-то зенитки.
— Бомбежки не боишься? — спросил Гаврилов.
— Нет. У нас скорость хорошая.
— Может, женщин догоним.
— Вполне возможно, — согласился водитель.
«Такие вот дела, Сима», — подумал Гаврилов, но тут у молчаливого шофера голос стал по-мальчишески ломким, лицо покраснело, и он выпалил:
— Товарищ капитан, разрешите обратиться! Вы здешний?
— Нет.
— Понимаете, я хотел узнать. Только не подумайте, что...
— Валяй, чего там...
«Погоди, Сима, — мысленно сказал жене, — боец что-то нервничает...»
— Выкладывай. — Он повернулся к шоферу.
— Понимаете, я москвич. То есть харьковский. Но уже здесь два года — после первого курса забрали. Так вот никогда не было такого: «Ждите важное сообщение».
— Ну и что?..
— Когда война началась, было «Работают все радиостанции Советского Союза...».
— Не вижу вопроса, — сказал Гаврилов. — Ты вон целый курс института кончил, а обстановки, можно сказать, ситуации — не понимаешь. А в чем ситуация? Ну, в чем?
— Немцы к Москве идут...
— Это не ситуация, а частность, — сказал Гаврилов. — Ты, может, и грамотнее меня, а главного не соображаешь. А оно, скажу тебе по секрету, в том, чтобы головы себе не ломать и выполнять приказание. Вот дорога хорошая, жми себе и радуйся, что скорость давать можешь. И я вон радуюсь, что женщинам продукт везу высшей качественности, а не комбижир какой-то. А если за всех голову ломать, то на личную обязанность, на долг свой священный, можно сказать, сил не останется. Сталин пусть Москву защищает, а ты руль держи. Ясно?
— Ясно-то ясно, товарищ капитан... Но шоссе уж очень пустое...
— А это не твоя печаль. Ты что, дорожная инспекция?!
«А он с мозгами, как думаешь, Сима? — вернулся к жене Гаврилов. — Головастая у нас молодежь! Из вузов берут. А вообще-то по шоссе и правда — хоть шаром кати... Вдруг они того... Москву, как Наполеону?.. Тебя ведь отдали...»
— А, сволочи! — выругался вслух и дернулся так, будто получил кулаком в челюсть.
— Зубы болят, товарищ капитан? — спросил водитель.
— Ага, — кивнул Гаврилов, который видел дантистов только на медицинских комиссиях.
— Закурите. Помогает!
— Нельзя мне. Легкое прострелено, — на этот раз не соврал капитан.
— А как вас?.. — спросил водитель, который еще не видел войны.
— Пулеметом из танка. Нервы не выдержали — вперед полез... Да ну его, не в этом беда, парень. У меня баба с пацанами под немцами осталась.
— Да я слышал. Вы завмагу говорили.
— Вот что плохо, товарищ боец.
— Да, понимаю...
— Ну этого ты, положим, не поймешь. Но спасибо за сочувствие. А пусто и вправду как на том свете!..
— Зато скорость! Может, догоним эшелон и повернем его назад.
«Головастый!» — подумал капитан.
— Еще чего! — сказал сердито. — Ты, что ли, поворачивать будешь? На месте есть фортификационное («Смотри, выговорил!» — обрадовался Гаврилов про себя) начальство! Оно пусть командует. А поворачивать будешь руль и то, если я тебе прикажу. Так вот... Понял? — Но тут же, почувствовав, что был лишне груб, а с водителем пережимать никогда не надо, Гаврилов положил ему руку на плечо, что могло означать: «Не скисай, парень. Не пропадем!» — или что-нибудь в этом роде.
— Инженерное начальство, — сказал капитан вслух, не надеясь второй раз выговорить сложное слово, — само соображает. Да у них там телефон или даже рация есть, — неуверенно добавил он. — Они твое «важное сообщение» еще, может, вчера слышали. Если только оно — не вранье, — добавил для собственного ободрения. — Нет, Москву не сдадут. Москва — это, брат, политика! Москва — это, можно сказать, — все, хоть мы с тобой и не оттуда. Слышал, когда надо сказать: много, до едреной фени — говорят: прямо Москва?
— Слышал, — неловко усмехнулся водитель. — И когда в очко два туза выходит, тоже называется «Москва».
— Ну ты мне не лыбься, — помрачнел капитан. — Перебора не будет.
6. ДЕД-НЕПОСЕДА
Но перебор, кажется, получался. У переезда почти перед самым носом пронесся в обратную сторону порожний разномастный состав с паровозом на хвосте, и вскоре стало видно, как женщины с ведрами ползут через картошку.
— К церкви, товарищ капитан? — спросил водитель.
— К ней. Может, оно там...
Но фортификационного, или, проще, инженерного, начальства так и не отыскали.
— Не было здесь таких, — вежливо, словно оправдываясь, отвечал старичок в балахоне. — Тут два дня никаких отрядов не было. Во вторник днем шли туда, за реку... Точнее, на запад... Очень быстро прошли.
— А стрельбу слышно?
— Простите, я глуховат несколько, — смутился старичок. — Но как будто бы нет. А смена моя, — он показал на парнишек, которые крутились рядом, — спит за троих.
— Понятно, — неуверенно сказал капитан.
— Да, извините, вспомнил, — сказал старичок. — Наверно, стреляют, только далеко. Стекла у нас в доме чуть-чуть ноют, и, знаете, посуда в буфете тоненько-тоненько поет, словно тоскует.
— Ясно, — сказал капитан, хотя ясности как раз и не было.
— А это, простите, ваши, как бы это сказать, бойцы? — полюбопытствовал старичок, тыча рукой в растянувшихся по полю женщин.
— Да, окопы рыть будут, — ответил Гаврилов. — Иди в кабину! — сердито крикнул он шоферу, жалея, что не погнал его раньше и тот слышал разговор. «Хотя куда ее, правду, спрячешь?» — тут же подумал про себя.
— Эй, товарищ старшая! — крикнул Гаврилов вылезавшей на шоссе Марье Ивановне. Крупная, как Симка, она запомнилась ему еще с утра. — Я тут шамовки привез. Прикажи своим сгрузить. Питание — первый класс.
— Ясна-а! — крикнула она, подплывая к полуторке.
— Помоги им, — сказал Гаврилов шоферу.
Машину стали разгружать, но не так споро, как на рассвете полуторки с инструментом. Видно, допек женщин бросок через картофельное поле.
— Мне их разместить надо. — Гаврилов повернулся к почтительно ожидавшему старичку. — Тут у вас как, село-поселок близко?
— Километра два будет.
— Не годится. Окопы не танцы.
«Бегай потом их собирай...» — подумал он.
— А в церкви что? Ремонтная? Вот пускай в церкви ночуют. А вас уж не знаю куда...
— Да, конечно, — засуетился старичок. — Мы понимаем: все для фронта. Мы и сами рады работать для фронта. Оборона здесь выйдет просто превосходная.
«Слава богу, отсюда не уйдут, — обрадовался старичок. — Куда мне отступать с Клавдией Тимофеевной? А в подвале на случай обстрела я ей уголок оборудую...» И он стал излагать Гаврилову преимущество обороны на реке.
— Ладно. Но без самодеятельности, — обрезал Гаврилов, однако старичка не остановил.
— Ну, ребятки, — крикнул старичок, чуть не как бородинский полковник, только не добавил: «не Москва ль за нами», — везите баллоны! Настоящая работа будет. Рельсы начнем резать, ежи сваривать!
— Вот что, отец! — вслед ему крикнул капитан. — Простите, не знаю, как вас по имени-отчеству. Так вот, Михаил Федорович. Вы человек, видно, грамотный, даже бывалый. Наверно, инженер? Так вот, поручаю вам тут пока возглавить строительство.
— Я, собственно, только самарское техническое... вместе с Сергей Миронычем Кировым, то есть гораздо раньше, — запутался от волнения старичок. — Но закончил, слава богу, закончил... Так что получается инженер не полный и другого профиля. Но примусь. С удовольствием примусь... Только женщин, простите, несколько побаиваюсь...
— Ничего. Над ними свои командирши есть. Вы только им нарисуйте, где рыть. Пусть ковыряются.
«Эх, нельзя расхолаживать энтузиазм», — сказал он себе.
— Чего-нибудь да нароют, — добавил вслух. — И еще, Михаил Федорович, покажите водителю, где тут отделение связи.
— Слышишь? — Капитан подошел к Марии Ивановне, которая руководила разгрузкой. — Останешься за меня. Порядок держи. Пусть кашу варят. Масло не экономьте. Накорми людей как следует. И еще за сеном-соломой отправь. Пусть накидают в церкви, а то застудят нужные места — ни рожать, ни утешать не смогут.
— Ясна-а! — засмеялась старшая. — Поняла! Езжай, начальник! — подмигнула ему со значением.
— Да. И еще пусть вкалывают в меру. До темноты — не больше.
— Костры можно будет разжечь, — подал голос подошедший Михаил Федорович.
— Отставить костры! — раздраженно оборвал капитан. «И что это на мою голову активистов сегодня подвалило?» — Самолеты, — объяснил, — налетят.
— Я полагал, дело экстренной спешности...
— Спешности оно, конечно, спешности, но спешность надо с головой делать, — отрезал капитан и тут же, передумав, потрепал старичка по балахону: мол, не мне вас учить, Михаил Федорович, да обстановка нынче особая.
«А что, как связи нет? Как я их буду отсюда уводить, когда на кирках и ломах выложатся? — спросил он себя. — Вот так всю дорогу: одних подгоняй, других за руки держи, активистов этих! А на немцев уже сил не остается».
— Крути на почту, — сказал он шоферу.
В церкви было темновато, почти все стрельчатые окна были забраны фанерой. Неприятно пахло горячим железом и соляркой, но Лия радовалась этим запахам. Она бочком, будто в щель, вошла в двери, через которые свободно проезжали трактора.
— Помолимся, что ли! — засмеялись за ее спиной.
— Ой, сто лет не была.
— Не храм, а пакость одна, — проскрипел чей-то немолодой голос.
— Лийка, загородь меня, — прошамкала Ганя и приподняла юбку, но на нее напустились женщины:
— Креста на тебе нет!
— Господь попомнит!
— Нету его, — осклабилась Ганя. Лицо у нее было как у шкодливой кошки. — А крест, оно правда, я в торгсине сменяла.
— Да пес с ним, с богом. Спать тут — твое нюхать! — рассердилась Санька. — Вот сейчас врежу... — И запуганная Ганя выбежала из церкви.
«Все-таки это ужасно, — подумала Лия, — есть ведь — совсем немного, но есть — религиозные. И для них это оскорбительно. Надо уважать чужие чувства. Правда, тут уже мастерская. Но как мы еще страшно невоспитанны». И она зарделась, вспомнив, как Санюрин отец, управдом, за день до войны ввалился к ней в комнату отбирать жилплощадь.
— Да пропиши ты Саньку! Чего там! Куда одной столько?! — кричал он, изрядно пьяный, и вдруг начал ее обнимать. И, когда она вне себя от брезгливости и ужаса толкнула его к двери, он бессмысленно и дико, как полный идиот, распустил губы и захохотал:
— Лийка, Лийка! Хочешь, птичку покажу? Вот гляди, птичка, птичка!
Это было ужасно, хотя она ничего не разглядела, потому что была почти что в обмороке. Но тут из коридора влетела Санька, треснула отца кулаком по голове и стала отпаивать Лию. И потом, обнявшись, они проплакали до утра.
— Кончай загорать! — расплескалось по церкви и повторилось, отдаваясь от стен.
— Работать, бабочки!
— Выходи вкалывать! — кричали старшие команд. Перед храмом круглолицый толстенький старичок размахивал руками, распределял по участкам.
— Впереди бугра, ниже по склону, ройте одиночные. Пожалуйста, друг от друга не меньше тридцати шагов. И в шахматном порядке, чтобы не в затылок один другому. А сам бугор прорезайте канавами, ну, шагов что-нибудь на пятьдесят и не в полный рост, а по плечи. Бруствер уложим — как раз будет. И, пожалуйста, извилисто. Я сейчас вам покажу.
Он попросил у Гани лопату и побежал на бугор чертить линию траншеи.
— От дед-непоседа! — шамкнула Ганя. — Старый, а летает! Колобок чистый.
И впрямь Михаил Федорович будто парил на крыльях. Только на седьмом десятке ему, сельскому учителю алгебры и физики, а в сезонное время также и технику МТС, привелось командовать чуть ли не батальоном. Раньше его слава простиралась не дальше трех верст в радиусе, да и то ребята все с меньшим терпением выслушивали его радостную бормотню о теле, погруженном в жидкость, или о корнях и возведениях в степень. И вот, когда уже не ждал, вдруг как с неба свалилось, и оказалось: нужен, просто необходим. И еще такая удача, что рядом с домом — и все увидят, как Михаил Федорович, немолодой, но бодрый мужчина, себя не жалея, личным своим примером заражает других.
— А ты чего мух ловишь? — напустилась на Ганю старшая. — Лопата твоя где?
— Да старикан одолжил!.. Мне с ведрами справнее, Марь Ивановна. Я — раз-раз за водой...
— Ничего, без тебя обернутся. Бери инструмент и шагом марш!
И Ганя полезла на бугор, завистливо оглядываясь на женщин у церкви. Одни тащили с реки воду, другие копошились у костров, пристраивая над ними закопченные ведра, третьи уносили мешки в храм — как бы не полил дождь. Две женщины, разживясь в мастерской топорами, нещадно раскурочивали деревянный сарай на церковном подворье.
— Тише, девки! — прикрикнула на них старшая. — Закуток капитану оставьте. А то ему в храме спать неприлично: дух от вас тот еще...
— Ха! — откликнулись лесорубки, и эхом отозвались возле костра поварихи. Настроение тут было вполне боевое, и Марья Ивановна пошла глядеть, как идут дела на траншеях.
— Роешь? Молодец! — похвалила Ганю. — А каша не убежит. Все получат. Капитан маслом разжился.
— И ты, управдомово племя, даешь! Давай, красавица! — похвалила Саньку.
— А ты как лопату держишь? — напустилась на Лию. — Жидкая ты кость! Не приучена? Не все тебе книжки читать! На тетку гляди, учись. Ишь, как ворочает, — кивнула она на Ганю. — Молодец, хохлатка! Две миски получишь! А ты учись, рыжая! Ботинки у тебя какие-то не нашенские. Каблук зачем? Каблук срежь, мешает.
— Научится, — негромко сказала Санька, смущаясь из-за подруги. Но старшая, не расслышав, пошла вдоль намечающихся траншей.
По бугристому берегу от моста до моста женщины долбили землю. Не похоже было, что это они перед рассветом отворачивались от ломов и кирок и толкались в очереди за лопатами. Теперь, когда и поезд, и бросок через картошку остались позади, наступила бодрая ясность, и все досадовали только на темень, которая незаметно слезала с серого неба, забирая под себя дорогу за мостом и лес на горизонте.
— Давай-давай!
— Наяривай!
— Темно... — только и слышалось по берегу. «Как муравьи, — на минуту остановившись, оглядела Ганя бугор. — Нет, кроты! Так верней будет».
— Давай-давай, Лийка! Курочь землю! — напустилась она на лядащенькую. Получив похвалу начальства, Ганя как-то незаметно для себя поднялась над другими и чувствовала, что уже может прикрикивать на тех, кто рядом. Впрочем, все старались. На вершине бугра четыре женщины — видно, там пошло каменье — дружно, в один дых подымали ломы.
И железная лопата
В каменную грудь...
— напевал про себя допризывник Гошка. Впереди бугра, почти напротив автомобильного моста, уже по полу коротковатого пальто уйдя в глину берега, он вырубал свой отдельный окоп.
— Как для себя стараешься, — крикнула ему сверху Санька.
— Ага, — недовольно отмахнулся он, швыряя вперед желтую землю. Санька сбила его. Копая, он представлял, что с бугра на него смотрит Каринка, и под ее ободряющим взглядом низкорослый Гошка чувствовал себя чуть ли не экскаватором. Он и вправду рыл для себя. «Тут и останусь! Только бы винтовку дали, а еще лучше — «Дегтярев». Вот отсюда — та-та-та-та-та!» — Он опустился на колено, целясь из невидимого ручного пулемета в деревья другого берега.
— Порядок! — меж тем ободряла себя Марья Ивановна, старшая, а теперь и заместитель капитана, обгоняя кругленького старичка, который пытался объяснить ей, как он тут обеспечит оборону.
— Ну что ж, двигай, — милостиво зевнула она, не дослушав его чересчур быстрой, мудреной и слишком вежливой — на ее вкус — речи.
— Шуруй. Я проверю.
«Да, фронт работы обеспечен! — размышляла она. — Вот, командир, как командовать надо! Не смылся бы только, леший! — на мгновение обеспокоилась, вспоминая худого и невеселого капитана. — Да нет, не похоже. Из себя аккуратный. Продукт хороший привез!» — И улыбаясь, она поплыла к кострам.
Тут уже давно кипело, снизу трещало, в двух десятках ведер переливалось через край.
— Сымай пробу, кума! — крикнула старшой чумазая повариха. — Ну как? Даем угля? Мелкого да много?
— Даете! — весело отозвалась Марья Ивановна, принимая черпак и важно притягивая его к губам, словно в нем была не каша, а водка.
— Соли, кажись, в меру, — сказала вместо похвалы, чтобы не ронять командирского достоинства. — Сейчас кормить пригоню. Всего огня не гасите, горяченького капитану оставьте, — добавила, отходя.
7. ЦАРЬ ГОРОХ С ТЕЛЕФОНОМ
Гаврилов с водителем тряслись по разбитой мощенке, на которую они свернули сразу за железнодорожным переездом. Студент, слава богу, молчал — сверялся с картой, боясь пропустить следующий поворот. Быстро темнело.
— Сколько женщин в кузов возьмешь? — спросил вдруг Гаврилов.
— Двадцать пять, если тихо лежать будут. А что?
— Да ничего.
«Двадцать пять, это двенадцать ездок. Клади тринадцать, потому как продукт, лопаты и еще кирки-лома. Ну, километров на двадцать, не дальше... Тринадцать на двадцать — двести шестьдесят километров, да еще на два. Да тут на полтора дня работы...»
— Не получится, товарищ капитан. Бензина не хватит, — сказал водитель. Видно, занимался про себя той же арифметикой.
— Знаю. Смотри не прогляди поворот, — помрачнел Гаврилов, — скоро уже?
— Сейчас будет. Больных и самых старых вывезу... — Студент хотел оставить за собой последнее слово.
— Ладно, увидим, — отрезал Гаврилов. «Опять активничаешь!» — устало подумал он.
Меж тем «ГАЗ», два раза качнувшись на холме, въехал в деревню. Было уже совсем темно. В избах света не горело, то ли из-за маскировки, то ли из-за отсутствия тока или керосина.
— Ё-ка-лэ, — выругался капитан. — Где это шарашкино отделение? А ну стучи, студент, в первую избу.
— По проводам увидим, — не скрывая удовольствия от собственной сообразительности, отозвался водитель. — Вот оно. — Победно притормозил он у кособокой халупы, в окнах которой тоже не было огня.
— Порядочки, — вздохнул капитан, выбираясь из кабины и снова припадая на недолеченную ногу. — Так твою! Заперто! — закричал с крыльца. — Чтоб они, — нещадно заколотил в дверь.
Никто не отвечал.
— Вымерли, что ли? Стучи, студент, к соседям!
— Ктой-то? — по-старушечьи донеслось из темноты.
— Связисты где?
— Скаженные! Дня мало!.. Где? Дома — где ишо! Рули на край села. Третья изба от конца.
— Спасибо! — ответил за капитана студент.
— Порядки, мать их дери, — усмехнулся Гаврилов, забираясь на подножку грузовика. — Как при царе Горохе...
— Или крепостном праве, — не удержался студент.
В третью хату капитан вошел, не стучась. В комнате тускло светилась керосиновая лампа. За столом напротив дверей сидел худой старик с трепаной бородой и совсем голым узким черепом. Видимо, был под сильным газом, потому что бутылка перед ним была пустой, и лез он в блюдо с квашеной капустой уже не ложкой, а всей ручищей.
— Ты, твою мать, связист? — накинулся на него капитан.
— Не, — старик мотнул узкой головой. В тусклом свете керосинки голова сияла, как захватанная колодезная рукоять. — Вон она, жадюга! — Погрозил кулаком с налипшей капустой в угол комнаты, где сидела — Гаврилов теперь разглядел — женщина в пальто, в платке и в очках. — Прикажи ей, служивый! Пусть первача отцу даст! А то я знаю: на почтамте держит... Так я ее почтамт к свиньям собачьим разнесу.
— Идемте, — сказал Гаврилов женщине. — Мне звонить надо.
— Идем, идем! — обрадовался старик, пытаясь выбраться из-за стола. — Сейчас ее ларь раскомиссарим! Выпьем с тобою, солдат!
— Заприте его, — брезгливо сказал капитан, выходя на темную улицу.
— Да он уже хорош. Дальше порога не уйдет. Вы тут осторожно идите, товарищ военный. У нас ямы под столбы весной рыли...
— Ехай за нами! — крикнул в темноту Гаврилов. — Что, принимает отец? — Он пропустил женщину вперед.
— Ужас, товарищ военный. Ни приведи господи. Перед воскресеньем мачеху схоронили, а еще сухой не был.
— Ясно, — вздохнул капитан. «Кому-то и кроме войны хватает, — подумал он. — Вот так, политрук, отъедешь от магистрали, и сразу тебе вместо военного положения и суровой обстановки сплошное безобразие и царь Горох».
— Москву сразу дадут? — спросил, поднимаясь вслед за женщиной на крыльцо почты.
— Попробую. — Женщина нашарила ключ под перильцем и звякнула навесным замком. — Погодите, я свет прилажу.
Здесь тоже не было электричества, но две «летучих мыши» позволили Гаврилову разглядеть комнату и связистку. Комната была самая обыкновенная, по-учрежденчески перегороженная невысоким барьером, за которым стоял стол с полевым телефоном, топчанчик, застеленный серым суконным одеялом, конторский шкаф и рядом печка, но не русская, а голландка. А связистка была совсем еще не старая, щуплая и сухая, собою невидная и заметная только очками. На минуту Гаврилова просквозила жалость: «Тебе и без войны бы вековушить, а теперь-то и вообще...» Но дела для долгой жалости времени не давали, и он, расстегнув под шинелью карман гимнастерки, протянул девушке листок с номером. Военно-полевой телефон работал от сухой батареи. Для вызова надо было крутить ручку. Но даже вид этой допотопной техники придал капитану уверенности, а когда после бесконечных томительных, надрывающих душу «Аллё!», «Жду!» «Давай!» «Дежурненькая!» — и так далее очкастая девушка протянула Гаврилову нагретую ее ухом трубку, он, наверно, впервые за день поверил, что враг вправду будет разбит и победа останется за советской властью.
Трещало немилосердно, и слышно было как на том свете, но все-таки на другом конце провода была столица, и, надрывая голос и кашляя, он закричал:
— Кто у телефона? Кто? Не слышу! Говорит Гаврилов... Говорит капитан Гаврилов из квадрата...
— Да какого тебе еще квадрата!.. — прорезалось вдруг в телефоне. — Место назови... А? Ну, ясно. Чего надо? — спросил усталый голос.
— Тожанова. Товарища Тожанова.
— Тожанова нету.
— Товарищ, не кидай трубки! — прямо-таки плача, молил Гаврилов. — У меня триста женщин... Окопных. На копку посланных. А тут никакого командования. Никаких инженеров!
— Так, — голос на другом краю стал тверже. — А ты какого черта их привез? Послали?.. А начальство сбежало?.. Ну и гнал бы эшелоном назад... Ах, не был! Продукты возил? Фрукты-овощи. Ну постой. Сейчас узнаю.
Минут пять в трубке слышался один треск без голоса. Гаврилова била лихорадка.
— Сядьте, товарищ капитан, — сказала девушка. — Хотите — налью?
— Нет, — помотал он головой, не отпуская трубки и прижимая другой рукой руку связистки к спинке стула. Рука была шершавая, рабочая, но теплая, людская.
— Сядьте, — еще тише сказала девушка.
— Эй, Гаврилов! Так, что ли, тебя? — снова пробилось сквозь треск. — Как там у вас обстановка? Роете? Ну и правильно! Ройте. А вокруг как? По шоссе — никого?.. — На полминуты треск опять забил слова. — Ну а на хрен тебе шоссе? Оно тебя не касается, — снова прорвался далекий голос. — Ты мне панику брось... И беспечность — тоже! Ясно? У нас? А что у нас? У нас порядок! Важное сообщение?.. Какое тебе сообщение? А, это... Не было еще. Скоро будет. Будет, не беспокойся. Узнаешь, узнаешь. Так вот чего: пошлют за тобой платформы. Платформы либо инженеров. Что-нибудь одно — по обстановке. Звонил — обещали... Жди, так, ну, — замялся голос, — ну хоть до пятнадцати, нет, шестнадцати ноль-ноль. А пока рубай землю на полный профиль! До шестнадцати жди! А там — сам знаешь, в случае чего — пешкодралом... Дойдут — не маленькие. Понял?
— Понял! Есть до шестнадцати! — выдохнул капитан, от радости забывая узнать фамилию говорившего.
— Налить вам, товарищ капитан? — снова спросила почтовая девушка.
— Лей, голубка! — закричал Гаврилов и оттого, что не мог обнять того, на другом конце провода, трубки не опуская, обхватил связистку и чмокнул ее куда-то возле очков.
— Лей, голубка! Лей! Да, сколько я тебе за разговор должен? Червонца хватит? — Он отпустил девушку и сунул руку под шинель в карман гимнастерки.
— Я вам так проведу, — смутилась связистка. — Ой, какой вы...
— Какой «какой»? — спросил он, протягивая деньги.
— Такой... — ответила она неуверенно. — Вот лучше выпейте. — Она достала из железного конторского ящика бутылку с марлевой пробкой и граненый стакан. — Вам и квитанцию писать? — спросила с робкой издевкой.
— Все пиши, голубка! — выдохнул он, начисто забывая о ней и видя только женщин, которые ковыряли землю за сельским храмом.
— По всей форме, — добавил вслух, хотя уже думал об обратной дороге. — Выпить?.. Нет, сглазишь еще... Эй, студент! — крикнул он, распахивая дверь почты. — Дуй сюда! Озяб? — И когда водитель, несмело стянув пилотку, ввалился в комнату, он сунул ему полный стакан. — Пей! Разрешаю. Обратно сам поведу.
— Спасибо, — кивнул водитель.
— Три восемьдесят, — сказала девушка.
— Сдачу на духи возьми, — крикнул Гаврилов и сбежал с крыльца, от радости забыв забрать квитанцию.
Ни соломой, ни сеном они так и не разжились. Самые догадливые оккупировали ризницу, где пол был деревянный, потолок низкий и дуло меньше. Десятка на два женщин хватило брезента, который на ночь стащили с продуктов. А остальные легли прямо на каменном полу. Под низ клали пальто и поверх клали пальто, а сами вжимались одна в другую, одна в другую, как все равно в мужиков после долгой разлуки.
— Ничего, защитницы! Капитан завтра сена добудет!
— Сегодня по-армейски!
— Грейся кашею и Машею!
— Ватник скинь, не зажимай, подруга! — гудело под сводами.
— Только б мышей не было!..
— А крыс не хочешь?..
— Шоферка бы сюда!..
— И капитана можно.
— Капитан для Маньки.
— Начальство начальство греет...
— Да тихо вы! — с удовольствием отвечала Марья Ивановна. — Вам бы только языки чесать. Вон парнишку бы пригрели, — кивнула она на Гошку. Тот стоял в дверях, не зная, куда пристроиться. «Может быть, машина вернется, поговорю с капитаном или с бойцом. Что мне тут одному делать?» — думал он.
— Иди сюда, Гош, — громко зевнула Санька. Она укладывалась у самой стены. Ганя и Лийка мостились тут же.
— Ну вас, — буркнул Гошка и вышел на паперть.
Было совсем темно, но сверху, над церковью, ветром проредило тучи, и кое-где мигали звезды. Москва была далеко. И тетка, незамужняя сестра отца, которая растила и жучила его вместо родителей-полярников, тоже была далеко. И оттого, что и Каринка была далеко, где-нибудь — он толком не знал где: на Казанке или Нижегородке, — было тоскливо, но одновременно свободно, по-военному тревожно и радостно. Перед храмом было так же просторно, как на крыше московского дома, но еще необычней и потому во сто раз лучше. И места для выдумки было больше. Шум в церкви слабел, треск досок, догорающих в кострах, тоже слабел и навевал мечты, как тихая музыка. И Гошка, согретый двумя мисками каши, весь таял, таял, становился легким и большим, как облако, и уже, казалось, был ростом с церковь и мог одним собой — без всякого оружия! — перегородить мост и прикрыть берег. А Каринка, что сейчас ехала по Казанке, была маленькая-маленькая, и он уже не жалел, что на прощание только пожал ей руку, а не обнял и не поцеловал, потому что как же ему — такому громадине — целовать пятнадцатилетнюю девчонку?
— Эй, парень, картошки печеной не хочешь? — крикнул женский голос.
— А? — вздрогнул Гошка. Но что-то от мечты еще в нем оставалось, и он, понизив голос, ответил: — Хочу! — И, важно вдавливая каблуки туфель, подошел к ближнему краю костра. Поварихи все-таки отличались от остальных женщин, и сидеть возле них в темноте, есть картошку, когда другие спят, было не так стыдно.
— Макай! — Ему пододвинули миску с растопленным маслом.
В лица он не вглядывался. Женщины и женщины. А на их месте могли быть и красноармейцы — и он возвращался в мечту. Эта мечта была хорошо упакована в шинель, галифе и кирзовые сапоги. Рядом лежала невидимая винтовка, трехлинейная (самая надежная в обращении, не то что самозарядка — с той на песчаной местности намучаешься!), и он, обжигая пальцы, снимал кожуру, потому что завтра продукты не подвезут, весь отряд отрежут у этого моста, и три дня никто подойти не сможет. Но белые, то есть немцы, своих положат несметно...
— Не сладкая? — спросила женщина, которая протягивала миску с маслом. — Правда, подходящая? Давай теперь ведра в церкву снесем. Все ж тепло хоть какое.
— Куда? Куда? Кто приказывал? — зашипела Марья Ивановна. Она сидела у токарного станка на табуретке, ждала капитана.
— Сдвигайсь, сестра. Тепло несем! — засмеялись поварихи.
— Людей будить, — недовольно буркнула старшая, но останавливать их не стала.
— Не скучай, Марь Иванна! С нами ложись! — крикнула Санька. — Капитан небось уже связистку клеит.
— Не трогай ее, — тихо шепнула Лия. Она еще не легла и в накинутом на плечи пальто сидела у стены на корточках.
— Давай польту, — сказала ей Ганя, доедая кашу. Из всего отряда у нее одной не было посуды, и она заправлялась после всех. — За орудиво спасибо! — Она протянула Лии липкие миску и ложку.
— Вымыла б, хавронья, — брезгливо скривилась Санька.
— Ничего. Молодая — к реке слетает, — хихикнула Ганя. Она уже почуяла, что Лийка тут поплоше всех и поездить на ней самое милое дело.
— Слетает... — передразнила Санька.
— Ты чего, мужиком балованная? — спросила какая-то женщина поблизости. На всю церковь светилось всего две «летучих мыши» — одна с верстака, другая с токарного, и через темень и надышанный пар Ганя женщину не разглядела.
«Балованная», — не успела ответить — ее опередила Санька:
— Да не было у нее мужика. Возле чужих побирается.
— А ты почему знаешь? — рассердилась Ганя. — Не возле чужих... у меня и свое было.
— Да сплыло, — резала бойкая Санька.
— Нет, было... Я в Ессентуки ездила... — И, отвернувшись от Саньки, Ганя заплакала.
Нет, не вечно жила она возле чужих. Было у нее и свое. В самом начале нэпа, в Липецке, пекли они с матерью и сестрой пироги и продавали у вокзала. И вправду ездила она в Ессентуки с земляком-полюбовником Сергеем Еремычем (он извозчиком был в Москве) и с Кланькой, сестрой, совсем еще девчонкой. И там, на водах, Сергей Еремыч спьяну или по дурости испортил Кланьку, и она понесла. Ганя-то от своего избавилась, а Кланька испугалась. Убежала из дому в прислуги, а вернулась, когда подошло время, и родила разом двух племянников. Тогда в Липецке снова появился Сергей Еремыч и объявил, что увозит Кланьку под Москву. Дом там купил. Раньше он так и спал при лошади.
— Как же Кланька одна управится? — спросила маманя; она уже почти что и не вставала.
— Ангелину возьмем, — как отрубил Еремыч.
— А меня куда? — спросила маманя.
— И одна помрете, — ответил (бесстыжие его глаза!) Серега, и Ганя поехала с сестрой и племяшами.
Нет, не врал Серега Шлыков, он и впрямь купил полсарая на Икше и чего-то к нему пристроил, жить можно — не хуже, чем в Липецке. Теперь они с Кланькой по очереди носили на Савеловский пироги. Только без маминого замеса торговлишка пошла гиблая, а выписывать старую, хворую Еремыч не хотел.
Так и жили, пока Серега не продал (или, может, пропил!) лошадь, стал учиться на водителя грузовика и завербовался куда-то подальше, где рубль длинней, и заявлялся на Икшу раз в два года, а то и реже.
Вот так было, и Ганя могла бы рассказать — да что толку: девахи все равно не поняли бы — да и ночь уже. Церковь наполовину спала-храпела, а которые не уснули, переговаривались:
— Спи!
— Ухайдакаешься завтра!
— Отбой! — звонко крикнули в дальнем углу.
— А ну тихо! Вроде машина едет! — зычно сказала Марья Ивановна и поднялась с табурета.
8. НОЧКА ТЕМНАЯ
Минут через пять капитан со студентом в темноте кабины по-братски работали ложками еще теплую кашу.
— Ну как мои повара? — хвалилась старшая. — Ты, капитан, заварки забыл, так я своей кинула.
— Спасибо, — хмуро сказал Гаврилов. Он чуял, что старшая нацелилась на него, стеснялся красноармейца, да и не время было.
— Может, по второй? — спросила Марья Ивановна.
— Мне — спасибо, — сказал капитан. — А водителю повтори. Ему надо! — намекая то ли на долгую дорогу, то ли на выпитый студентом стакан первача.
— Да, пожалуйста, если осталось, — попросил студент.
— Навалом! — ответила старшая и поплыла в храм. — А ну, марш спать! — шикнула на паренька, который курил у дверей.
— Сейчас пойду, — буркнул Гошка.
Ему не то чтобы не спалось, а просто спать было жалко. И еще хотелось переговорить с капитаном или на крайний случай с водителем. Мечта подошла уже совсем близко, и дураком надо было быть, чтобы ее проворонить. Он чувствовал, что ночью, в тишине, среди трех сотен женщин, трем мужчинам (четвертый, старичок, верно, ушел в село к старухе) легче договориться, и потешаться над ним не будут, как позавчера в военкомате.
— Вот, горяченький, пальцы не обожгите! — Марья Ивановна вернулась с двумя кружками и миской каши. — Заправляйся, боец, и на боковую... — Она протянула студенту миску.
«Да у тебя все распланировано, — подумал Гаврилов. — Вот чертяка! И чего они, матери-командирши, ко мне липнут? Или слабину какую находят?»
— Опять спасибо! — сказал он, возвращая кружку, и спрыгнул на землю.
— Боец в кабине ляжет, — шепнула, беря его под руку, старшая. — А тебе с бабами неудобно. Я закуток в сарае приберегла. Брезента, правда, не укараулила, девки под себя подложили. Но там не сыро. Доски есть.
— К женщинам иди, Марья Ивановна. Старые мы уже, — тоже тихо ответил Гаврилов, снова думая о телефонном разговоре, который теперь не казался ему таким веселым.
— Ну да — скажешь тоже! — С шутливой обидой обняла его старшая. «Гордится армеец или робеет? — решала про себя. — Наш брат, милиционер, попроще: не теряется!» — Какая же, — не сдавалась, — старая?
Мне тридцать второй только. Да и тебе много ли больше?
— Ровесники, — сказал Гаврилов, набавляя себе год.
— Ты серьезней глядишься. Да все равно не старость. Самая спелость, говорю тебе, капитан.
— Раненый я, — решил прекратить ненужный разговор, надеясь отвадить разом, но так, чтоб не обидеть, потому что вместе с ней командовать ему еще весь завтрашний день, а может, и дольше.
— Дела!.. — присвистнула старшая. — А ты женатый?!
— Женатый, — отрезал он, и подумал: «Вот липучка — клей резиновый!»
— Намучается с тобой баба, — теперь уже не жалея Гаврилова, развивала свои соображения старшая.
— Похоже. Ну, иди спать, Марья Ивановна.
— Отдыхай, бедолага, — сказала старшая, подымаясь по сбитым ступеням в храм. — Спать! Кому я сказала? — напустилась на Гошку, срывая на нем досаду. — Чего полуночничаете? — спросила в церкви Лию и Саньку. — Ложись, пухлявая. Я к тебе прижмусь. Вот надо же, как людей калечат! — вздохнула она, укладываясь между Ганей и Санькой. Ганя уже похрапывала. — Смехота, девки, — не дождавшись вопроса и не в силах держать в себе такую новость, стала она откровенничать.
— Ого! — прыснула Санька.
«Какой ужас! А она смеется!» — подумала Лия, и нехорошее чувство к подруге вместе с воспоминанием об ее отце-управдоме вернулось к ней. Она поднялась с пола и, осторожно пробираясь между спящими, двинулась к дверям.
— Куда ты? Ложись! — зашипела Санька.
— А ну, какой с нее сугрев? — зевнула старшая, вминаясь спиной в пухлую Саньку. «Вот не повезло! Ну да ладно, где наша не пропадала!..» — Она зевнула и приняла сон.
Перед церковью ветер разгуливался, и как-то по-бесовски бренчало кровельное железо. Гаврилов, словно на физзарядке, быстро махал руками, задирал голову, и ему казалось, что звезд с каждым разом высыпает все больше и больше.
— О бомбежке думаете, товарищ капитан? — звонко спросил Гошка, который все не уходил спать.
— Е-ка... — проглотил Гаврилов на половине привычное ругательство, потому что из храма вышла какая-то женщина. — Ну что, много на автогенили? — спросил чуть погодя, когда женщина зашла за церковь.
— Да я не местный. Я окоп рыл.
— К женщинам приписали?
— Да. На фронт просился, а меня сюда, — выпрашивая сочувствия, заныл Гошка.
— Ну, пойдем поглядим, чего нарыл, — сказал Гаврилов, догадываясь, о чем пойдет речь дальше. Он и сам, когда б не простреленное легкое, предпочел бы передовую.
— Эй, студент! Подневальте полчасика! — крикнул в темноту шоферу. — Погляжу, как там чего... Пошли, — кивнул Гошке.
За церковью ветра было еще больше, он дул из-за реки, просвистывая храм, выдувая оттуда женский храп и относя его подальше, в сторону столицы. Так что на бугре, кроме ветра и лязга железа, ничего не было слышно.
«Вот малец, — думал Гаврилов. — Лет четырнадцать верных. И уже туда же... Хорошо хоть моим меньше...» За четыре последних месяца он, может быть, тыщу раз размышлял, хорошо ли, что его сыновья еще малыши. То ему казалось, будь они постарше, жене было бы с ними половчей, а то, наоборот, ему хотелось, чтоб они остались вовсе грудными — и тогда бы немцы их меньше обижали и жену бы не тронули. Но сейчас, глядя в спину Гошке, Гаврилов считал, что ему еще повезло. «Слава богу, не курят и к партизанам в леса не сбегут», — утешался, забывая, что у него, тридцатилетнего человека, никак не могло быть детей Гошкиных лет.
— Ну, не больно ты накопал, начальник! — сказал Гаврилов, когда, перескочив начатую женщинами траншею, они подошли к Гошкиному окопчику. — А земля здесь, между прочим, не трудная, — добавил он, упирая правую здоровую ногу в край лопаты.
— Времени мало было, — обиделся Гошка. — Но я сейчас закончу. Вон луна выходит.
И вправду, прямо над черным лесом другого берега вылез нижний рог молодой луны. Тучи вокруг него клубились, как пар.
— Самолетам самая лафа! — воскликнул Гошка и протянул руку за лопатой.
— Спать иди, — рассердился капитан. — Завтра дороешь. «Недалеко от пацана ушел, если о том же думаешь», — сказал он себе, спускаясь к мосту.
— Чтоб духа твоего тут до утра не было! — крикнул он, оборачиваясь.
Гошка понуро поплелся назад.
Мост был старый, сделанный, видно, на совесть, потому что перила не качались, настил не прыгал, и нога ступала спокойно. Второй мост, железнодорожный, точно как по карте, чернел на полтора километра левее, а впереди уходила в лесок уже не асфальтовая, а мощеная дорога. На карте Гаврилова она и железнодорожная линия, больше не пересекаясь, каждая своим ходом упирались километров через пять в срез, а что там дальше, ему не было ясно ни на бумаге, ни в действительности. Стояла тишина, а значит, немцы находились еще черт-те где, может, за сто, а может, километров за сто пятьдесят, но по тому, что станция была взорвана и пути не чинили, и по тому, что инженерного начальства на месте не оказалось, можно было ожидать всего самого непредвиденного.
До ранения Гаврилов почти полмесяца отступал от Слуцка и на опыте знал, что расстояние для немцев не помеха. Да и потом, в госпитале, вчитываясь в сводки Информбюро, убеждался, что немцы почти всегда появлялись там, где их не ждали, и забирали города, которые еще два дня назад никто не считал фронтовыми. Правда, за месяцы, что он провалялся в московском госпитале, положение стало кое-где выправляться — под Ельней, например. Но об этой Ельне столько трещали по радио и писали в газетах, что он уже начинал прикидывать: не одна ли эта Ельня на весь фронт от Балтики до Одессы?..
Отсутствие инженерного начальства тревожило его не так, как разбомбленная железная дорога. «Инженера, они разгильдяи известные, — вспомнил он инженера их полка, прыщавого, плохо выбритого никудышного парня, от которого вечно несло потом и перегаром. — Только что пишутся — образованные, а вообще-то одни сачки... Не знаю, правда, как на гражданке...» — перебил себя, стараясь сохранять справедливость.
Но то, что станцию не чинили, то есть не гнали через нее снаряды и резервы, словом, то, что она была не нужна, само по себе наводило на мысль, что впереди то ли никого нет, то ли кто-то есть, но до него уже не добраться. И телефонный разговор, который два часа назад так обрадовал, выворачивался сейчас изнанкой, вовсе не веселой.
— Трепач! — вдруг разозлился Гаврилов, с резкой ночной четкостью слыша голос из трубки: «Пошлют за тобой платформы! Платформы либо инженеров!..»
— Балабон! — сплюнул капитан, углубляясь на том берегу в лес. — Насажают на нашу голову всяких... Ни хрена не знает, а бубнит. Сюда бы тебя, обещальщика.
И вдруг он с печалью вспомнил, что тот, на московском конце провода, не назвал ему своей фамилии.
«И квитанции не взял... — подумал Гаврилов, шагая через пустой лес. — Вот не повезло!..»
— Заберите женщин, дайте хоть взвод, хоть отделение, — бормотал он, забывая о простреленном легком и раненой ноге.
«А женщин куда, если вдруг немцы?!» И он вспомнил, что под шинелью на нем старая, еще политруковских времен гимнастерка, на которой ясно видны следы споротых звездочек. (Командирскую гимнастерку распороли в медсанбате, куда его притащили на закорках, чтоб не затекло легкое.)
«Симка всякое барахло берегла! — впервые за время разлуки подумал о жене злобно. — Ну а капитану в плен можно? — перебил себя, как бы выгораживая Серафиму. — Капитану тоже нельзя. Даже студенту нельзя... Вот и выходит: бросать женщин — трус, а не бросать — изменник Родины. Нет большей беды, чем бабами командовать! — сплюнул он в сердцах. — Нет, есть... Ранеными. Ранеными тяжельше». И, представив себе, что вместо женщин в церкви сейчас лежат ребята из отделения тяжелораненых, понемногу начал успокаиваться.
— Всегда найдется, кому хуже тебя, — сказал тихо, чувствуя, что уже берет себя в руки. — У меня две обоймы, и у студента на поясе подсумки. Вот и хватит, — закончил, чтобы не возвращаться к этой теме.
«Только женщинам надо сразу уходить, вроде они к нам отношения не имеют. При немцах мы — женщинам помеха. Только как бы намекнуть попонятней. У этой Марьи не то на уме... Ну, не паникуй, — снова оборвал себя. — Может, и нужны траншеи. Раз послали, значит, нужны. А с инженерами просто напутали. И брось думать про «семь врагу — себе восьмую»... Может, они и знают чего...» — уже без прежней злобы подумал про московских начальников. Ведь прикрикнули на него: «Тут тоже передовая!», когда после госпиталя направили в Моссовет. Тогда он обиделся, подумав, что слово «передовая» штатский Тожанов употребил в смысле — ударная или стахановская, как обычно называли бригады или стройки. Но теперь капитан уже склонялся к мысли, что Тожанов чего-то знал, когда три дня назад сказал ему, что Москва тоже фронт.
Однако фамилию говорившего спросить надо было, а уж квитанцию, голова твоя пустая, припрятать в карман на случай какого поворота или трибунала! «Ну что ж, — подумал он, — сейчас авось — главное твое начальство». И ему стало горько, но как-то одновременно и спокойно.
Поглядев на часы, он увидел, что шагает уже восемнадцать минут, прошел не меньше двух километров, а в лесу все так же тихо, даже тише, чем возле церкви.
— Всей страны не облазишь, так пусть хоть студент покемарит, — вздохнул Гаврилов и повернул назад. Сам он решил прилечь перед рассветом, когда женщины начнут копку и чуть потеплеет.
Гошка, обиженный капитаном, в церковь не вернулся, а, выждав, пока тот перейдет мост, спустился к реке. Тут, зацепившись в темноте за камень, он упал, ушибся и, набрав воды в левый полуботинок, нематерно выругался.
— Ой! — В реке плеснуло что-то белое.
— Стой! Кто идет?! — не успев испугаться, крикнул в темноту Гошка.
— Отвернитесь, пожалуйста, — жалобно пропел голос, и Гошка догадался, что это рыжая Лия.
— Извините, — промычал он и пошел к церкви.
«Бедная, барахтаться в осенней воде... Надо будет завтра взять ее на свой окоп. Пусть бруствер подравнивает», — важно думал Гошка, чувствуя себя заботливым командиром.
Он вернулся к церкви. Водитель, распахнув дверцу, курил, высунув из кабины длинные ноги.
— Разрешите прикурить, — сказал Гошка не затем, чтоб сэкономить спички, а ради разговора.
— Мал еще — расти не будешь, — наставительно произнес шофер, но прикурить дал.
Ему тоже было тревожно, прямо сказать, страшновато одному, без капитана, с тремя сотнями спавших без задних ног женщин. Без них он бы не боялся. Один он бы запросто переехал мост и летел бы по той стороне, пока не уперся бы в наших или в немцев. В руках — баранка, к задней стенке принайтован карабин, в подсумках — обоймы. Он уже два года был в армии, но ни дня на фронте, и, не видя смерти, не боялся ее. Но сейчас, оставшись один с храпевшими в церкви женщинами, он испугался так же, как капитан за рекой, не за себя и не за них (все-таки немцы с женщинами не воюют!), а испугался той неясности, какая может случиться, если нагрянут немецкие танки: женщин не защитишь и бросать их тоже нельзя. А если поймут, что женщины с тобой, сочтут их уже не бабами, а мобилизованными — и могут поступить по-всякому.
— Садись, раз уж дымишь, — милостиво разрешил он Гошке, подвигаясь внутрь кабины, — с какой улицы будешь?
Как все недавние москвичи, студент любил поражать коренных жителей знанием столицы. Это хоть немного глушило тоску по дому и транспортному институту, где ему дали проучиться всего два месяца, но позволяло считать, что еще повезло, потому что шоферить — это скорее работа, чем армейская служба, которую, как все городские ребята, он до 41-го года не слишком уважал.
— Возле Ногина, знаете? — ответил Гошка.
— Знаю. ЦК рядом. А мой Харьков сдали. Слышал, небось?
— Да, — понимающе кивнул Гошка и, сколько нужно помедлив, вежливо спросил: — Родные остались?
— Нет, двоюродные только. Родные все выехали. Но все равно жалко. Город жалко. В Харькове был?
— Не приходилось, — скромно ответил Гошка, который не выезжал дальше Клязьмы.
— Хороший город, а сдали, — и вдруг, намолчавшись за день, шофер в темноте кабины выговорил то, чего никогда бы не посмел днем: — Ну как, пустите немца?
— На турецкую пасху! — бодро ответил Гошка.
— Да, — хмыкнул студент. — А как ты его не пустишь? «Пораженец какой-то», — подумал Гошка, не зная, вылезать ему из кабины или оставаться и ждать капитана.
— У нас вечно, как глотку драть, так «на чужой земле и малой кровью», а как до дела... да что там?! Я не про тебя. Обстановка очень тревожная, — сказал шофер печально.
— Это понятно, — согласился Гошка.
— Ничего тебе не понятно. — Водитель вдруг его обнял, и Гошка не знал, радоваться ли этой ласке красноармейца или отпихнуть его от себя как труса и паникера.
— Ничего тебе, пацан, не понятно. И мне не понятно, и капитану тоже. Ну, много нарыл? — вдруг оборвал он свою нудянку.
— Вот до сих пор, — Гошка рубанул по колену.
— Ты не очень вкалывай. Силенки завтра пригодятся.
— Оружие привезут?!
— Какое еще оружие? Вагоны придут за вами — в Москву увозить. А скорей — не придут и придется пешком уходить. Так что копать копай, да не укапывайся.
— Неправда! — Гошка тотчас отодвинулся. — За это, знаете, что полагается!
— Тьфу, дурак... Два тычка от толчка, а уже трусом считает.
— Ничего не считаю... Только Москву не сдадим.
— Я не про Москву, я про тебя... — Студент сплюнул. — Привезли вас, а начальство где? Где фортификаторы? Этот колобок в брезенте, что ли, фортификатор? Так он последний раз при Потемкине землю копал, и то, наверно, под гальюн. Ты зачем, думаешь, мы с капитаном за двадцать километров сейчас жарили? В Москву звонили! Вас по дурости сюда пригнали. Ничего, не тоскуй. Я тебе завтра помогу. Тебе в плен попадать нельзя, не женщина.
— А вам?
— А мне что? У меня — карабин, у капитана ТТ. Нас не возьмешь, — сказал водитель, и Гошка сразу вернул ему доверие. — Только ты... это, ну, в общем, держи при себе. Я тебе по-мужски... Понятно? — смутился шофер.
— Могила, — сказал Гошка. «А он, кажется, ничего. Нервный только. Но положение действительно тревожное».
— Кемаришь, студент? — донесся голос Гаврилова. — Можешь на боковую.
— Ну как, товарищ капитан? — бодро крикнул водитель. — Сыпь отсюда, — прошипел он Гошке.
— Тихо. Полный порядок. А ты чего не спишь? — спросил Гаврилов паренька. Как все командиры, он не выносил слоняющихся без дела бойцов. — Думаешь, здесь «Артек»?
— В «Артеке» их брата жучат! — поддакнул студент, сразу как бы отрубая от себя допризывника, хотя только минуту назад выкладывал ему ночные страхи. — А вы когда поспите, товарищ капитан?
— Утром, — сказал Гаврилов. — Утром сны лучше.
9. ЛЕДЯНАЯ ВОДА И ГИМНАСТИКА
Лия сидела под мостом, никак не решаясь раздеться и залезть в страшную воду. Перед ужином она, как большинство окопниц, только наспех вымыла руки и сполоснула лицо, надеясь замотать обряд вечернего обтирания. «Нехорошо выделяться», — отговаривалась она. «Пропадете, девочка», — спорил с ней печальный голос Елены Федотовны, рослой дамы из квартиры напротив. «Нет, нельзя мне выделяться...» — снова повторила перед ужином Лия, и Елена Федотовна ничего тогда не сказала.
Но сейчас на пустом берегу она, невидимо склонясь над Лией, резким и горьким (как тогда в лифте!) голосом прошептала:
— Больше нам надеяться не на кого!
И Лия сняла пальто и стала расшнуровывать ненавистные мамины ботинки.
Тогда в лифте, в пору папиных неприятностей, Лия, вся обвязанная платками, в гриппу, кашляя и сморкаясь, не успела вовремя отвернуться и обрызгала эту длинную и нескладную, недавно переехавшую в их дом женщину.
— Ой, извините, извините! — Лия отворачивалась к стенке и снова чихала.
— Ничего, девочка, — ответила женщина. — Я вас знаю, — добавила со значением. — Вам надо умываться ледяной водой. Ледяная вода и гимнастика. Больше нам надеяться не на кого, — сказала эта странная женщина и первой вышла из лифта.
Потом, когда Лия не раз обдумывала эти слова, они часто казались ей оскорбительными, потому что папа был все-таки с ней, а муж несуразной дамы — известно где, но в первый момент Лию обдало такой симпатией к Елене Федотовне, что она еще долго стояла на площадке и смотрела на соседскую дверь таким взглядом, словно за ней скрылся принц или народный артист Лемешев. И это «нам», которое потом больше всего коробило, в первый момент растрогало Лию. В нем чудились ей печаль и ласка, упрямая гордость взрослой женщины, и ее уважение к шестнадцатилетней девчонке, и даже, если хотите, обещание дружбы. И за это Лия всегда прощала Елене Федотовне все, что та подразумевала под этим «нам»: наши родные несправедливо страдают, и (это особенно было обидно после того, как у папы дела уладились) хоть у вас, девочка, и есть отец, но все равно «нам» (то есть — вам!) надеяться не на кого... И, встречая теперь Елену Федотовну, Лия всегда радостно краснела, и Елена Федотовна дружески ей улыбалась, и это было значительнее слов. Да и что они могли сказать друг другу, когда через болтливую Ганю Елена Федотовна знала все о Лииной семье, а Лия тоже кое-что знала о несчастной женщине, но не хотела быть назойливой и бередить незажившую рану. Дочке Елены Федотовны, очкастенькой Карине, Лия тоже сначала улыбалась, но та в ответ кивала как-то надменно, а однажды в лифте, думая, что Лии не видно в боковое зеркало, высунула язык. Но Лия почти не обиделась, понимая, что Карина еще ребенок и что, несмотря на все старания Елены Федотовны, у нее очень нелегкое детство.
— Бр-р-рр! — Лия ступила в ледяную воду и только силой отчаяния не выскочила обратно. — Бр-рр! — тряслась она. Казалось, острые ледышки разрезают ноги у щиколоток.
— Иначе нельзя, — вздохнула она, заходя в речку по колено и стаскивая через голову свитер и юбку.
Плечам и спине было уже не так холодно, как ногам, и Лия с неприкрытой злобой, глядя на свои ключицы и маленькие груди, стала нещадно их растирать:
— Так вам! Так вам!
— А мне действительно очень помогло, — робея, сказала она год назад Елене Федотовне, когда они снова столкнулись в лифте.
— Я вас поздравляю, — кивнула та, полагая, что речь идет о восстановленном в партии главе семьи. — Теперь вы сможете учиться.
— Не знаю... Мама очень нездорова...
— Простите, — резко сказала соседка, и Лия поняла, что та считает Лииного отца бесчувственным человеком.
«Конечно, ей обидно, — подумала тогда Лия. — У такой хорошей женщины оказался такой муж... Но, может быть, он просто очень нестойкий человек, и воспользовались его бесхарактерностью... Мужчины часто бывают такими слабыми...»
— Ой! — вскрикнула она, увидев на берегу Гошку.
Тот скромно ушел.
«Деликатный», — подумала Лия, но уже не о Гошке, а о красавце Викторе, с которым Санька познакомилась летом в Парке культуры.
— Вот тебе! Вот тебе! — Снова стала она тереть, теперь уже полотенцем, свое тощее тело. — Да, не Рио-де-Жанейро! — повторила с горечью.
И опять вспомнила последний предвоенный понедельник, точнее вечер его, с той самой минуты, когда зазвонил телефон.
— Меня! — выпорхнула Санька из комнаты. — Лию?! — удивился в коридоре ее голос. — А кто требует? — Санькино сопрано, казалось, вспархивало до потолка и оттуда тройным сальто или ястребком в мертвой петле опускалось в телефонную трубку. — Так это я, Александра. Не признали? — разливалась Санька в коридоре, вовсе не собираясь звать Лию. — Ждите на Дзержинского! Я в две минуты! — крикнула Санька и тут же влетела в комнату.
— Подруга, дай «летчика»*, — она порылась в Лиином кошельке, — а то на белое у меня хватит, а вдруг он портвейн пьет. Ты пока приберись тут маленько! — И, схватив Лиину сумку (вот эту самую, общую сейчас на двоих, где были хлеб, документы и полотенца), выскочила из квартиры.
--------------------------
* Пятирублевая купюра.
Через сорок минут Виктор позвонил три раза, и Лия, пугаясь Санькиной матери-дворничихи и Гани, которая чаще околачивалась в их квартире, чем у соседей, открыла дверь.
— Простите, что я так... — Виктор развел пустыми руками. — Но я действительно не собирался в гости.
Лия стояла перед ним, нерешительная и маленькая, и ее робость передавалась ему.
— Вот сюда, — наконец выдавила она и повела Виктора в комнату, но двери за собой прикрыла не до конца. — Санюра сейчас вернется.
Она это сказала просто потому, что надо было что-то сказать, но тут же покраснела. Выходило, что она сама понимает и заранее согласна, что молодой человек пришел не к ним обеим, а только к Саньке.
— Да, она мне сказала, — тоже краснея, кивнул студент. Он еще сам не решил, к кому пришел, и ему было неловко.
Санька влетела хлопотливая, шумная, смущение в ней не ночевало.
— Чайник не ставила?.. Сейчас, в один момент, — щебетала она, словно не впервые, а всю жизнь угощала у себя молодых людей.
— Да я не голоден, — смутился Виктор.
— При чем тут голод?! Со знакомством надо! — шумела Санька, выставляя на стол из сумки четвертинку, пол-литра портвейна, коробку килек и свертки по двести граммов колбасы и сыра.
Лия покорно пошла кипятить чайник.
— Во дает! Матерь схоронить не успела, — встретила ее на кухне Ганя, которая по случаю интересного гостя не торопилась на свою Икшу.
— Лександру гони, — буркнула Санькина мать.
— Мать зовет, — сказала Лия, возвращаясь в комнату.
— Вот на мою голову! — хохотнула Санька. — Вы не скучайте — я разом!
— Шумная она у вас, — улыбнулся Виктор.
— Хорошая, — поправила его Лия, стараясь не сердиться и не завидовать подруге.
— Вместе живете?
— Нет. То есть — да... Санюра — у меня. Временно... Она очень много за мамой ухаживала... — сказала Лия и, вспыхнув, добавила: — Мама уже умерла, — чтобы молодой человек не подумал, что Санька что-то вроде сиделки или домработницы.
Он кивнул. У него было хорошее лицо, не только красивое, но еще и очень интеллигентное. Лии захотелось просто с ним посидеть-побеседовать, но она не знала, как начать разговор, боялась быть назойливой и, понимая, что сейчас вбежит подруга, глупо повторила:
— Санюра сейчас вернется.
— Ой, беда со старыми! — Санька влетела в комнату. — А ты чего? Хлеб не нарезан, консерв не вскрыт. Ой, подруга! Да не робей, не съест он тебя. Наш ведь, московский.
— Я из Саратова, — сказал студент.
— Ой, а не похоже — не окаете. Ну, раз в Москве, все равно что московский. Нате, орудуйте! Мужское занятие... — Она протянула ему консервный нож.
Лия трижды чокалась с ними, но себе в рюмку доливать вина не позволяла и все порывалась уйти.
— Погоди, мамаша ляжет, тогда... — каждый раз шептала Санька.
Наконец радио договорило свои известия, включило Красную площадь с боем часов, и Лия, взяв с этажерки толстую тетрадь и учебник физики, тихо вышла на кухню. Тетя Ганя, слава богу, уже отправилась на свою Икшу, и квартира спала. Лия прикрыла дверь, зажгла нещедрый кухонный свет и села к своему столу. «Правило правой руки — стержень и обмотка...» — пыталась она сосредоточиться, но законы магнитной индукции никак не шли в голову, потому что мысли волей-неволей отрывались от учебника и на цыпочках пробирались назад, в комнату, где сейчас должно было произойти что-то тайное и великое.
«Если правую руку повернуть вдоль стержня, то четыре пальца укажут направление электрического тока в обмотке катушки...» Ничего не понимаю, — глушила Лия себя физикой. — А если будет ребенок?»
— Очень красивый будет ребенок, — сказала она совсем громко, и тогда открылась дверь, и Санькина мать стала ругать Лию, что та жжет «обчее лектричество».
— На чужое, на дармовщинку хотишь? А ну спать иди!
— Не пойду, — зло сказала Лия.
— Как так? Да я тебя силком поведу! Думаешь, по-твоему будет! — И дворничиха потащила Лию в коридор. — Ой, да тут заперто! Санька, чего заперлась? Открой! — Она забарабанила в дверь.
Скандал вышел невообразимый. Соседи немедленно высунулись из комнат. Пьяный Санькин родитель, управдом, открыв рот, бессмысленно глядел, как Санька оттесняла мать, пропуская испуганного студента к входной двери.
— Спортил девку! — кричала дворничиха, дубася Саньку.
— Тихо, мамаша! Людей постесняйтесь! — шипела Санька.
— Спать надо, — ворчали соседи, но почему-то не расходились.
— А ты тоже хороша, — напустилась Санька на Лию. — На кухню пошла!.. Я за твоей каргой сколько ходила, а ты уж ночки не могла посидеть на Курском! Сволочь, вот ты кто. — И забрала свою постель и тряпки из шифоньера.
Лия проплакала до рассвета, понимая, что Санюра в чем-то права, но эта «карга» не позволяла ей мириться первой. А через четыре дня пьяный управдом, который уже привык, что дочь живет отдельно, поругавшись с Санькой, устроил Лии безобразный скандал. Грозился отнять комнату, а потом стал хулиганить и лезть, и Санька два раза нешуточно съездила его по шее, помирилась с Лией и простила ей. И Лия тоже простила. Они всхлипывали, обнявшись, и разомлевшая Лия наконец спросила:
— А не боишься, что будет ребенок?
На что Санька шутливо махнула рукой: мол, волков бояться... и улыбка у нее была лукавой и гордой, хотя студент Виктор (Лия это знала) больше не звонил.
10. НЕПОБЕДИМЫХ НЕТ
— Да, жизнь — это борьба! — вздохнула Лия, подымаясь на бугор. Эту фразу часто повторял отец и почти всегда не к месту. И, повторив ее сейчас, тоже не к месту, Лия улыбнулась и вошла в церковь. Все спали, один лишь допризывник Гошка сидел на табурете возле верстака.
— Садитесь, — сказал он, вставая.
«Очень симпатичный мальчик. Как бы эгоистка Карина его не испортила», — подумала Лия, забывая, что Гошка здесь, на окопах, а Карина с матерью уже далеко за Москвой. Ведь вчера — нет, уже позавчера! — утром Лия, преодолевая свою несокрушимую застенчивость, пришла к ним прощаться.
— Вы едете, и я тоже, — сказала она. — Меня берут на окопы.
— Как я вам завидую, девочка! — Елена Федотовна поднялась с пола, где тщетно пыталась обвязать двумя шарфами расползающийся чемодан.
— Мама хочет сказать, что я мешаю ее героизму, — съязвила Карина.
— Что ты, Карик? — смутилась Елена Федотовна и снова повернулась к Лии: — Я вас люблю и уважаю. Берегите себя, пожалуйста.
— Я хотела на фронт... Не взяли... Может быть, с окопов удастся...
— Да, я вас понимаю, девочка... Только берегите себя, пожалуйста. Дайте я вас перекрещу.
— Мама! — крикнула Карина.
— Я неверующая, — тихо сказала Лия. Ей было неловко.
— Да. Я знаю. Я тоже неверующая. Но на кого еще надеяться? — Она неумело, видимо, забыв, как это делается, перекрестила Лию.
— Не бойтесь, — шепнула. — Христос — для всех. Только, пожалуйста, останьтесь живы...
— Вам не холодно? — спросил Гошка, с любопытством глядя на рыжую девушку.
— Нет, что вы! Это так взбадривает. Мне Елена Федотовна посоветовала, — как бы извиняясь, что полезла в октябрьскую воду, ответила Лия. — А Рина, наверно, уже в дороге, — поторопилась перевести разговор.
— Наверно, — согласился Гошка. — А вы спать не будете?
— Не знаю. Боюсь, не засну...
«Бедная», — подумал он, а вслух сказал:
— У меня тоже бессонница.
— Это потому, что очень много впечатлений, — ответила Лия. — Как вы думаете, завтра мы много выроем?
— Посмотрим. Положение очень тревожное.
— Представляю.
— Вы умеете хранить военную тайну? — вдруг спросил Гошка, весь переполненный новостями.
— Не знаю, — испугалась Лия. — Мне ее никогда еще не доверяли.
— А слово дать можете? — спросил раздраженно, боясь, что еще немного, и он выложит ей военные секреты, не получив никаких гарантий.
— Могу, — улыбнулась Лия. — Могу комсомольское. Хотите?
— Хорошо, — обрадовался он. — Положение очень тяжелое. Так что вы завтра особенно много не ройте. Нам отсюда уходить придется.
— Как? — недоуменно вскрикнула Лия.
— Скорее всего, пешком, — не дал он ей договорить. — Обещали вагоны, но они вряд ли прибудут.
— Это неправда. Не сердитесь, но я не верю. Откуда вы знаете?
— Знаю.
— Вам капитан сказал?
— Это неважно. Только не думайте, что я трус.
— Бедный, я ничего не думаю. Я только не могу поверить. И почему это он вам сказал? Почему он всем не сказал? Или все уже спали? Простите, я ничего не понимаю. Зачем же нас сюда привезли? Гоша, ради бога, скажите? Это шутка, да?
— Нет. — Он мотнул головой. — Но помните, вы дали слово. Нас привезли копать оборону. Но фортификаторы, подлецы, бежали, потому что немцы близко. Понимаете?
Они говорили шепотом в огромной, наполненной храпом церкви, но Лии казалось, что допризывник кричит ей в ухо через рупор.
— Вам нельзя в плен попадать! — шепотом орал Гошка.
— Да-да... Я понимаю. Спасибо... Я хотела пойти на фронт. Меня не взяли. Разрешили только в госпиталь, санитаркой. Но я уже была санитаркой. Дома... — Она потупилась, словно боялась обидеть покойную маму. — Я умею стрелять из винтовки. — И она с надеждой посмотрела на Гошку, будто он был начальником арсенала.
— Шофер сказал — никакого оружия не будет. Эта Домна просто врала. Удирать будем. А дали бы винтовку, никуда б не ушел.
— И я, — вздохнула Лия.
Гошка посмотрел на нее с сомнением, но промолчал. Ему не хотелось портить такой хороший ночной разговор. В заброшенной церкви, среди спящих женщин, только они двое бодрствуют. Горят две керосиновые лампы. В разбитое стрельчатое окно виден край освещенного луной облака. Ночь стоит тихая, может быть, первая бессонная ночь за всю его жизнь, если не считать нескольких ночей на крыше во время налетов. Но тогда на чердаках было полно народа, а сейчас они одни.
«Она ничего... Мужественная, — наконец подобрал он подходящее слово. — Ледяной водой обливалась. Б-р-р... — задрожал от воображаемого холода. Стрелять — не копать. Может, и вправду умеет... Я тут один среди оравы женщин. И она тоже одна», — подумал он и проникся к Лии добрым чувством, то ли из-за ее одинокости и заброшенности, то ли оттого, что она разговаривала с ним, как со взрослым, и не гнала спать.
— Обстановка очень тяжелая, — снова повторил, вовсе не придавая этим словам того значения, которое они имели для всех, в том числе для Лии.
Несмотря на то что немцы шли по его земле и он, вполне сносно зная географию, по сводкам Информбюро с недельным или полуторанедельным запозданием узнавал, где сейчас проходит линия фронта, общее положение его как-то мало тревожило. Война вообще казалась ему его личной удачей, и теперь, когда он на нее почти попал, ему не терпелось подойти к ней еще ближе, впритык, получить винтовку, ручной пулемет или «максим» (об автомате ППШ он и не мечтал) и делать то, что делают настоящие парни в кинофильмах. Он был неглупый мальчик и на многие вопросы мог бы ответить толково, но само его существо было пока глупее его разума, и он весь рвался туда, вперед, за реку и тишину, где весь мир в его представлении стреляет, тарахтит, рвется, горит, вспыхивает и кричит «ура!».
— Но как же это вышло?.. — спросила Лия, как-никак она была старше Гошки. Она сейчас чувствовала его таким близким, почти родным, что, пугаясь собственной смелости, выдавила:
— Как это допустили?
— Внезапность нападения! — отмахнулся он, пребывая еще в приподнятом состоянии: ему слышалась пулеметная стрельба и виделись падающие немцы с задирающимися кверху стволами винтовок.
— Я, знаете, плохой политик, — шептала Лия, — но мне очень не нравился договор с Гитлером. Меня это оскорбляло: с такими людоедами здороваться за руку. Нет, это было очень неприятно...
— Дипломатическая хитрость. Нам нужно было спасти украинцев и белорусов, — небрежно сказал он, хотя два года назад ему самому этот пакт был не по душе.
Белорусы и украинцы были какие-то абстрактные, а сражения, которые он рисовал цветными карандашами (а еще чаще представлял их себе перед сном или во сне), были реальными и понятными. После заключения пакта он уже не знал, можно ли рисовать на вражеских касках свастику. На касках англичан можно было писать «фунт стерлингов», но это не так впечатляло. Свастика же была привычной и ясной, и по ней он бы ни за что не промахнулся.
— Нет, не говорите... Я все-таки ничего не понимаю, — не унималась расхрабрившаяся Лия. — Я хочу чем-то помочь. Даже не помочь. Я просто обязана что-то делать. Ну хорошо, пусть — окопы. Но теперь вы говорите, что окопы не нужны.
— Вы не волнуйтесь. Немцев мы разобьем...
— Да. Я понимаю... Но нельзя же сидеть без дела. Вы знаете, — она приглушила шепот, — у моего папы были неприятности. Так я его не только утешала. Я заставляла его писать и писать заявления и жалобы, просьбы и объяснения — во все, какие можно, инстанции. Я ему не давала сидеть без дела. Тормошила его. Если ничего не делать, можно с ума сойти. Опуститься. Можно даже перестать умываться...
— Да, конечно, — не совсем уверенно кивнул Гошка.
— Вы знаете... Я все время думаю: ведь нас больше... Нас в два, нет, в три раза больше, чем фашистов. Пусть один наш убьет одного фашиста и даже сам погибнет. Ведь тогда мы победим. Я сама готова погибнуть, но сначала я хочу убить одного гитлеровца.
— Они в бронетранспортерах едут. Пуля броню не пробивает...
— Так что же делать? А где наши броневики? Помните, перед праздниками нас ночью будили танки?.. Помните?
— Да! Ведь мы с вами из одного дома! — вдруг неизвестно почему обрадовался Гошка.
— Правда, — улыбнулась Лия, не понимая, что же тут удивительного: и Санюра из того же дома, и еще многие женщины.
— А вы петь любите? — спросил он, будто о самом главном.
— Люблю. Только про себя. У меня ни слуха, ни голоса.
— Правда? — обрадовался он. — И у меня тоже. Я только в уме пою. Я вам сейчас спою свою любимую, а вы по глазам догадайтесь.
— Я не сумею, — улыбнулась польщенная Лия. — Я очень неспособная.
— Да нет! Вы обязательно догадаетесь. Вот смотрите! — Он сжал губы, ноздри у него растопырились и зрачки остановились. Он почти не дышал.
— Ну? — наконец спросил он, побагровев, словно тащил четырехпудовый мешок.
— Не знаю, боюсь ошибиться, — смутилась Лия. — Мне показалось, под конец вроде:
Там, где кони по трупам шагают...
— Правильно! — воскликнул он. — А говорите, неспособная. Да вы просто ясновидец!..
Гаврилов, гоняя сон, бродил вокруг храма, спускался к речке, споласкивал лицо и снова, поднимаясь на бугор, обходил церковь. Шофер, не помещаясь в кабине, спал, вытянув из нее огромные ноги. Сапоги на них были поновей гавриловских. Ветер то унимался, то задувал снова, и кровельное железо на церкви бормотало что-то грустное, схожее с вальсом «На сопках Маньчжурии». Гаврилов все песни пел на один мотив, выбирая слова по настроению.
«На немцев работает!» — думал сейчас он про все сразу — и про ветер, и про погоду, и про положение, в которое не по своей воле попали и он, и его страна. И вдруг, в который уже раз со злобой и огорчением, глянув вверх, он увидел скользнувшее по краешку луны самолетное крыло и тут же сквозь ветер угадал гудение бомбардировщиков. Их, похоже, было немало, потому что спустя минуту еще один прикрыл лезвие луны. Шли они высоко, и угадать их он не мог, но летели они прямо над шоссе, и он понимал, что на Москву. С начала войны он так мало видел своих боевых машин, что каждую летящую, пока ясно не различал на ней звезды, принимал за чужую. Так было проще. Не надо было потом ругать себя за дурость. Зато редкие исключения были как подарок. Даже в московском госпитале, когда над головой вертелись ЯКи и МИГи, Гаврилов и то всякий раз ожидал от них подвоха, пока при свете солнца или при снижении ярко не вспыхивала на крыльях родная звезда.
«Все туда — все на него! — думал капитан, боясь даже себе назвать то великое имя. — И мы все стараемся ради него». — И тут Гаврилов со скорбью вспомнил все покинутые виденные и не виденные им города и в первую голову Слуцк, где осталась Сима с детьми. «Все его охраняем, — злобно добавил, забывая на миг, что Москва — это не только место, где живет тот человек, а еще, между прочим, и столица. — Охраняют, не пустят, — повторил, когда вдалеке почудились частые, как удары нервного пульса, выстрелы зениток. — А может, не знает, где сейчас немцы? — пришла в голову нелепая мысль. — Может, ему не докладывают? А как же речь третьего июля? Нет, знает. Знает, да не все».
Его отношения с тем знающим или не все знающим человеком были на самом деле не так просты, как считали сослуживцы Гаврилова и как считал он сам. Сначала для него, красноармейца срочной службы, главным был нарком Клим, луганский слесарь, свой русак, ясный и понятный, а тот, с трубкой, тоже вроде был, но его как бы и не было. И для отделенного Гаврилова Клим еще был главным, но потом все сменилось, и хоть Клим нацепил маршальские здоровенные звезды, а тот по-прежнему носил красноармейскую шинель, не приведи бог было теперь поставить его позади Клима. И, ломая язык, твердо и навсегда, запомнил старшина Гаврилов его трудное отчество и уже никогда не путал. Так, помалу да потиху, стал трубокур из поставленного впереди — взаправду впереди, и лицо его, поначалу некрасивое и чужое, стало привычным, своим, таким, как будто он был с нами всегда, с самого рождения. И уже младший политрук, бойко излагая своими словами газетные статьи, не кривя душой, хвалил Сталина. «Вот это политрук, не то что ты, — говорил себе Гаврилов. — Ты толкаешь бойцам новости, а они в кресты-нолики играют. А он слово скажет — все рот раскроют и еще полгода потом учат-переписывают».
Как человек, всю жизнь работающий с людьми, Гаврилов не мог не уважать авторитет, завоеванный у всего народа. И после, когда потихоньку, а потом и в открытую, в их полку и в соседних стали хватать по ночам командиров, от комполка до ротных, а комиссаров так вообще чуть не сплошь, он, жалея их детей и жен, кивал при женских всхлипах: «Сталин не знает!», но про себя считал: знает, и, бессонно копаясь в памяти, пытался найти вину каждого взятого. И когда найти было нечего и разговоров никаких не вспоминалось, все равно считал, что тому, наверху, виднее.
— Да не гуртись ты, Ваня, при начальниках, — пела ему по ночам мудрая Сима. — Ты при бойцах, при бойцах держись. От начальства — вред один! — и она звала теперь на чай только старшин да помкомвзводов и, изворачиваясь, угощала их чем бог послал.
Тем, может, и спасла Гаврилова в те непонятные годы. А когда ему прошлой весной заместо трех кубарей навесили шпалу и назвали капитаном, рада была до небес не столько большему окладу, как тому, что должность теперь командирская и трепать языком можно поменьше. Все беды от длинных речей, считала Сима. А о Главном политруке она думать не хотела и ему не советовала.
— Ты мой Сталин, — пела ему ночью. — Мне тебя с пацанами — вон как хватает, — и проводила ладонью по шее.
«Да. Ему с верхотуры виднее», — считал Гаврилов до того рассвета, когда их в лагере подняли по тревоге, в Слуцк к семьям не пустили, а маршем двинули назад, ближе к Москве. И десять дней, видя немцев больше над собой, чем перед собой, ждал приказа Гаврилов от того, кто все знает и насквозь видит, а тот молчал. И только за Днепром пришел этот приказ, занявший собой обе стороны дивизионки, и все кругом вздохнули, а Гаврилов насупился.
Нет, не того он ждал от Главного политрука, а теперь и Председателя обороны. И хоть нутром понимал, что в этой речи больше правды, чем во всех прежних, сложенных вместе, не понравилась ему речь; не понравилось в ней три слова: «Непобедимых армий нет». Кто-кто, а Сталин спроста ничего не говорил. Даже шесть годов назад, когда сказанул знаменитое «Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи», и то нельзя было это прямо понимать. Кому-то, да и не одному кому-то, может, не стало лучше, да и другим не так уж оно веселее стало. Но эти слова надо было понимать в общем виде и не на сегодня, а как бы наперед, то есть так, что пройдет время и действительно будет и получше и посчастливей. И, привыкнув понимать каждое верховное слово как знак на дальнее, Гаврилов прочитал фразу о непобедимых армиях, рассчитанную на душевный подъем и уверенность в разгроме немцев, как намек на то, что можно и не победить.
«Трусишь! — впервые даже в мыслях сорвался на «ты». — Страхуешь себя?! Обмазал тебя Гитлер с головы до сапог. Ну и хрен с тобой. Не маленькие. Хватит молиться... Самим расхлебывать надо...»
Это было поздним вечером. Он вышел из избы, кликнул командира первой роты и приказал окапываться.
— Люди устали... Да и место такое — обойдут сразу, — попробовал отговорить Гаврилова старший лейтенант.
— Пули захотел? — гробовым шепотом спросил капитан, и комроты-один, не узнав своего комбата, пошел отдавать приказание.
— Построй людей, — сказал Гаврилов на рассвете, но, вспомнив, что они ночь не спали, отменил построение. — И так поймут. В общем, надеяться, друг, нам не на кого... — И по его печальному голосу старший лейтенант понял меру отчаяния комбата и по-другому увидел себя, страну и армию.
Оборона и впрямь была никакая. Танки их смяли в первые четверть часа, а Гаврилову, который забыл в самом начале боя, что он уже не политрук, а комбат, и выскочил на бруствер с пистолетом и привычным еще с маневров криком, «За Сталина!», очередью из немецкого танка прострелили легкое и два раза левую ногу.
«Его зенитками берегут, — думал сейчас Гаврилов. — А мне моих женщин этим прикажешь? — Он хлопнул себя по кобуре. — Больше вроде и нечем. А Симке чем прикажешь обороняться?»
Ему стало тоскливо и холодно, он пошел в церковь наскрести в каком-нибудь ведре каши: вдруг не вовсе остыла. У верстака, спиной к капитану, сидела какая-то деваха в пальто, а напротив нее, привалясь к верстаку, стоял парнишка, тот, что рыл окоп. Парнишка глядел на девку и капитана не заметил. Сначала Гаврилов подумал, что они играют в гляделки, потому что лицо у паренька так напряглось, что показалось, он вот-вот лопнет. Но потом девка сказала какие-то стихи про лошадей и мертвых, и капитан, догадавшись, что у них не любовь, а одно баловство, погнал их спать.
11. ГНЕДЫХ ЛЮБЯТ
Утром женщины вынесли из церкви ведра, отскребли их от вчерашней каши и начали варить новую. Из деревни пришел чисто выбритый («Как новенький!» — подумал капитан, пробуя свою, второго дня щетину) старичок Михаил Федорович.
— Какие будут указания? Вы в Москву дозвонились? — Он торжественно замер перед капитаном, только что руку не прижал к картузу.
— Указание одно — рыть. Ночью два раза самолеты пролетали, — сбавил голос Гаврилов. — Рыть надо, отец: женщины хоть себя спрячут.
Голос капитана как-то не вязался с настроением старичка, и тот, не сдаваясь, напомнил про ежи.
— Мои помощники вчера нарезали немного. Сейчас сваривать начнут. Откуда прикажете первые ставить?
— Это напоследки. Не убегут, — отмахнулся Гаврилов. — Рельса вообще не того... Балка нужна. Ну да ладно. Все будет хорошо, отец, — сказал он, чтоб хоть как-нибудь закончить разговор. — А меня простите. Две ночи не спал.
Студент, оставшись за капитана, побаловался печеной картошкой, похлебал из ведра кипящей каши и до следующей кормежки изнывал от безделья. Он уже три раза обошел всю будущую позицию, держась на дистанции от женщин, которые, отрываясь от копки, то и дело задирали его:
— Давай подмогни!
— Иди погреемся!
— Не холостуй, парень! — или в том же духе.
Будь их две или на крайний случай три, он бы нашел, как отшутиться, но такая прорва не манила, а скорей отпугивала. Поэтому с серьезным и мрачным лицом вышагивал он рядом с маленьким Михаилом Федоровичем, который с утра сиял, как жених или именинник.
— Мы потом соединим окопы. Получатся хорошие хода сообщения. А завтра можно будет и землянок нарыть. Шпалы теперь без дела остались. Накатом их уложим.
— Шпалы коротки, — отрезал студент. Суетящийся старичок порядком его раздражал.
— А ежи вы не видели? — хвалился тот через минуту. — Вот извольте, — и тащил водителя через дорогу, где в кювете лежали сваренные двухметровые обрезки рельсов.
— Мы по три соединяли. Думаете, достаточно? По четыре ребяткам трудновато везти на тачке, — радостно оправдывался старичок.
— Сойдет, — зевнул студент.
— Балка бы, конечно, лучше против танков. Но где ее взять? Приходится ограничиваться подручными средствами.
— Угу, — кивнул студент. «Может, сказать ему, чтоб не очень заводился? — подумал, глядя на кругленького старичка. — Да нет. Пусть порезвится. Вон какой веселый».
— Я уже докладывал товарищу капитану, — не унимался Михаил Федорович, — что считаю необходимым взорвать железнодорожный мост. Станция все равно разбита, и движение на запад не производится. А при наличии моста немцы нам могут зайти с фланга.
— Женщинам, что ли? — съязвил студент. — На женщин они с передка пойдут, — сострил и сам же смешался, но старичок согласно захихикал:
— Простите, оговорился. Я имел в виду красноармейцев, которые займут наши позиции.
Михаил Федорович не хотел терять ни капли воодушевления.
— Они сами и подорвут, — ответил студент, вовсе не думая о том, что кто-то будет занимать эти траншеи, а тем более взрывать на их левом фланге железнодорожный мост.
«Может, капитана разбудить? Пусть поест...» — убеждал он себя, прекрасно понимая, что будить две ночи не спавшего человека даже ради жратвы не стоит.
— Прикажите им лучше, пусть гальюны себе отроют, — сказал он старичку.
— Да что с ними делать будешь? Сначала стеснялись, за мост в лесок бегали... Устали, наверно. Не знаю, как вы, товарищ боец, а я их, прямо сказать, побаиваюсь... Уж очень их много. Вот разве что эти утихомирят! — И старичок ткнул рукой в сторону леса, высоко над которым летело три звена самолетов.
— Эти не для них, — отрезал студент.
— Наши? — обрадовался старичок, но студент не ответил.
Молодым зрением он сразу угадал в летящих машинах «Юнкерсы-87». Точно такие летели в ту же сторону два часа назад, когда он, наворачивая кашу, случайно задрал голову. Те шли очень высоко и возвращались, видимо, на той же высоте, потому что возвращение их он прозевал, а в то, что их всех сбили, верить при всем желании не мог. Нынешние шли ниже, так что даже были видны очкастому старичку, но крестов на их крыльях он, слава богу, не разглядел. Женщины тоже не обратили на них особого внимания, только две или три, прикрывшись ладонью от неяркого солнца, на минуту задрали головы, а потом опять взялись за лопаты.
— Денек, а? — вздохнул Михаил Федорович. — Прямо бабье лето с опозданием!
— Фрицевское скорей.
— Не волнуйтесь, товарищ военный, — успокоил старичок. — После такой случайной теплыни сразу крупа начинается, а то и нешуточным снежком посыпет. Померзнут немчики.
— И женщины не согреются, — ответил студент и пошел к церкви.
«Может, проснулся уже?» — надеялся он, но капитан спал, наглухо закрыв дверцы кабины. Через спущенное всего на два пальца, заляпанное грязью стекло было видно, как ему неловко: портупея была не расстегнута, а только ослаблена на три дырки, и глаза от света прикрыты фуражкой.
Студент снова пошел к костру и попил с поварихами чаю. Они почти все были пожилые, годились ему в матери, и он их не так сторонился. У некоторых на фронте были сыновья.
— От моего третью неделю ничего... — вздыхала одна.
— И от моего...
— И мой не пишет.
— А ты такого не встречал? — снова называя имена и фамилии, приставали к шоферу, и, когда он в который раз объяснял, что на фронте еще не был, потому что прикреплен к московской обороне, они как будто не завидовали, а радовались за него, что он не в «самом пекле».
— Еще попей, парень!
— Чай не водка, много не выпьет.
— Непьющий. Лицо чистое.
— Спасибо, — сказал студент и после третьей кружки, осмелев и махнув рукой на хаханьки окопниц, поплелся на бугор к допризывнику Гошке. «Зря я ему вчера наплел. Протреплется, сопляк».
Гошка уже с головой торчал в своем окопчике, а над ним, на бруствере, сгребала землю рыжеволосая девушка в куцем пальто и рыжих высоких ботинках, на которые из-под юбки были спущены синие лыжные шаровары.
— Хороший отгрохали? — крикнул из глубины Гошка, и студент, чтоб не обижать рыженькую, согласно кивнул. Уж больно она была некрасивой, с ржаными ресницами и огромными веснушками, но была в ней такая забитость или растерянность, что говорить с ней жестко — было бы не уважать себя.
— Чего засмотрелся? — крикнула ему в спину Санька. — Мы тут тоже даем угля.
— Вас зовут, — смущенно сказала Лия.
— Потерпят, — отмахнулся он. — Давайте покажу вам, как... — Он взял у нее лопату. — А вы не стесняйтесь, рукавицы наденьте, — сказал тише, словно сразу разгадал Лию. Она, понятно, вся вспыхнула и с ненавистью поглядела на свои маленькие ладони с большими белыми волдырями.
— Эй, шофер, я тоже не знаю! Покажь! — кричала Санька из траншеи.
— И чего они гнедых любят? — вздыхала рядом Ганя. — И Кланька моя с гнедком. Правда, не такая. У этой рыжина сплошь.
«Ну, попал! — заливаясь краской, студент подравнивал бруствер. — И не уйдешь теперь — девчонку жалко. Совсем заклюют».
— Понимаю, понимаю. Теперь я сама, — извинялась Лия.
— Ничего, — басил студент. — Еще нароетесь.
— Значит, останемся здесь?! — поднял голову Гошка. — Я ж вам говорил!
— Тихо! — вскипел студент и показал Гошке из-за спины кулак.
— Ясно! Могила! — пролепетал Гошка и тут же глянул на Лию зверскими глазами. Но студент перехватил взгляд и понял, что сопляк проговорился.
Девушка тоже подняла голову и кивнула студенту: дескать, знаю, но больше никому не скажу; и он, как бы каясь в своей болтливости, словно друга, хлопнул рыженькую по плечу, и она это поняла.
«Эх, не поговоришь тут!» Студент досадливо оглядел берег и склон бугра. От моста до моста и чуть дальше за шоссе шла спорая работа. Женщины, как в трясине, тонули в земле, и некоторые уже ушли в нее по плечи и шею.
— Этот окоп хватит! — сказал студент. — Давайте другой.
— Давайте, — сказала Лия.
Она тоскливо глядела на молодого человека, не решаясь верить, что чем-то приглянулась ему. «Просто нужно где-нибудь рыть. Вот и помогает. Тем более я тут самая безрукая, — ответила своим горячим от волдырей ладоням, которые ныли под жесткими рукавицами. — Но он очень милый. Понятливый. Наверно, тонкой душевной организации. Даже чем-то похож на Виктора. Только Виктор...» И она, не додумав, вспомнила то, чего не знала махавшая сейчас киркой подруга. На шестой день войны, когда Санька с матерью пошла провожать мобилизованного отца, в коридоре снова зазвенел телефон:
— Лия, это злополучный Виктор.
— Санюры нет дома, — сухо ответила она.
— Лия, мне надо вас... Вы знаете клуб камвольной фабрики? Это на «букашке»... Только приходите одна.
— Хорошо, — сказала Лия, поняв, что его взяли в армию.
И когда назавтра он, странно преобразившийся в непригнанных гимнастерке, галифе и в ботинках с обмотками, хватая ее за руки и жадно глядя ей в лицо, шептал, что она сразу произвела на него впечатление и что он ее смущался, а Саня такая разбитная и ловкая, а он выпил. Лия слушала его, не отводя лица, слушала и не верила ему. И когда на прощанье он стал ее целовать, она не отворачивала головы, но все равно ему не верила. Все мужчины такие слабые; и этот тоже слабый, хоть и честный мальчик. Он был виноват перед ней, чувствовал это, желал оправдаться и поэтому, несмотря на свою честность, врал еще больше. Нет, она не была нужна ему. Просто из суеверия он хотел, чтобы кто-то его проводил туда, где бомбы, пули, снаряды, где смерть... А Санюру он позвать не мог, ему было перед ней совсем стыдно.
— Я тебе буду писать, — сказал Виктор.
— Хорошо, — кивнула она, надеясь, что тоскливая минута прощанья быстро позабудется и он не напишет. Потому что, если Санюра найдет в ящике письмо, могут начаться новые неприятности. Тем более ее отец, которому Лия после повестки все простила, ушел на войну, а Лиин папа, хоть и не жалеет себя на ответственном строительстве, все-таки не подвергается каждое мгновение смерти.
И теперь, глядя на бойца, она скорее огорчалась, чем радовалась, его вниманию и заботливости.
— Стоп! Без меня тут... — вдруг крикнул тот и, выпрыгнув из неглубокого, только начатого окопа, побежал по склону к мосту.
— Откуда?! — кричал он.
Лия увидела, что на том берегу из леса выскочили навстречу водителю два бойца в ужасно грязных, прямо-таки черных шинелях. «А вдруг переодетые немцы?» — со страхом подумала она, глядя на их запачканные и натянутые на уши пилотки. Но первый из бежавших бойцов уже обнимал водителя. Потом его обнял второй боец, и они трое, привалясь к перилам моста, стали весело размахивать руками. Водитель в давно не новой вспотевшей под мышками гимнастерке казался щеголем рядом с измученными, небритыми, грязными красноармейцами. Но было видно, что они ему ужасно рады. Потом бойцы побежали на ту сторону в лес, а водитель побежал назад по мосту, взлетел к ним на бугор, схватил шинель и, на ходу застегиваясь и не отвечая на молчаливый Гошкин взгляд, помчался к церкви, наверно, будить капитана.
12. СУКНО И ХРОМ
Спросонья Гаврилову почудилось, что его арестовывают. Над ним нависло перекошенное злобой лицо, к тому же перевернутое так, что звездочка на меховой шапке оказалась ниже высунувшихся из-под кожанки синих петлиц.
«Где я промахнулся? — звенело в полусонном мозгу. — По телефону открыто сказал? Грузовик не вернул? Так не себе, а женщинам вез! Ларечник? Нет. Накладные в порядке были!» Он, не торопясь, выбрался наружу. Перед ним стоял в новенькой зимней кожанке с новым автоматом на хромовой груди лейтенант внутренних войск. Кубари, правда, успели спрятаться под мех, но Гаврилов еще лежа заметил, что их на каждой петлице всего по два.
— Спишь? — спросил лейтенант, не торопясь, уверенный в своем праве задавать вопросы.
— А что, нельзя?! — злобно ответил Гаврилов. Теперь он видел, что лейтенант один — за его спиной прислонился к церкви мотоцикл «Иж-8» без коляски.
«От, чертяка хромовый! Удобства любит! — подумал капитан, завидуя сразу кожанке, ушанке, новенькому ППШ, а всего больше — мотоциклу. — Тебе бы еще перину! Ага, и она есть», — усмехнулся Гаврилов: в шагах пяти от лейтенанта, осклабясь, стояла Марья Ивановна.
«Унюхала», — подумал капитан.
— Ну? — сказал вслух.
— Что — ну? — разозлился кожаный. — Немцы где?
— Это ты мне доложи, — нарочно зевнул Гаврилов, твердо уже понимая, что лейтенант приехал не за ним. — Ты бы ему сказала, а то будит зря, — повернулся к Марье Ивановне.
— А мне что?! — огрызнулась та.
«Нешто так хреново, что уже этих посылать стали?» — со злорадством и одновременно с печалью подумал Гаврилов.
— Где противник, капитан? — медленно процедил кожаный, который, видимо, привык задавать вопросы.
— Я тебе не капитан, а товарищ капитан! Понял? — побледнел Гаврилов, ловя, как в прицеле, брезгливую ухмылку Марьи Ивановны. — А ну — руки по швам и стать, как положено...
— Ладно, не психуй, — сбавил гонор кожаный.
— Откуда едешь?
— Откуда надо. Я вам не подчиненный.
— А не подчиненный, так дуй отсюда к едрене-матрене, — снова зевнул Гаврилов, считая, что кожаный пены сбавил, а особо нажимать не стоит, потому что связываться с их народом — себе же хуже.
— Давно вы здесь? — теперь уже по-людски спросил кожаный.
— Вчера прибыли, — ответила вместо Гаврилова старшая.
— И ничего такого не было?..
— Ничего, товарищ начальник.
— Ни немцев, ни наших?..
— Нет.
— Вот пироги... — вздохнул кожаный.
— Ничего, жив будешь — привыкнешь, — издевался Гаврилов. — А ну, заводи колеса — начальство разведки ждет.
Он уже понял, что кожаного послали вперед выяснить обстановку. Хотелось Гаврилову еще узнать, кто послал и много ли у того начальства бойцов и техники, и пришлет ли оно их сюда, в эти окопы, а лучше еще дальше — за реку, но понимал, что кожаный ему, армейскому капитану, ни черта не скажет.
— Давай газуй, — сказал Гаврилов, давая понять кожаному, что видит насквозь его растерянность, а может, и трусость.
«Это тебе не ночью людей будить», — хотел добавить, но сдержался.
— Поели бы, — сердобольно протянула Марья Ивановна. — Горяченькая! — И пошла к костру.
— Пожалуй, — пробормотал кожаный.
Он неловко топтался перед храмом, растеряв половину форса.
— Ну? — Гаврилов с презрением снова посмотрел на кожаного, но тут капитана отвлек бегущий водитель.
— Товарищ капитан! Товарищ капитан! — кричал тот, задыхаясь. — Там наши!
— Где? — вскрикнули разом Гаврилов и кожаный.
— Сразу за речкой... Раненые у них... Сейчас принесут...
Кинувшись к мосту, Гаврилов и кожаный увидели на той стороне бойцов, с виду больше похожих на беглых каторжников. Шинели на них были черно-рыжие, словно они ползали в них по болотам, а потом терлись о кору или опавшую листву. Обмоток ни у кого не было, а пилотки были у всех вывернуты и натянуты на уши. Сначала появились трое, точнее двое, которые несли на каком-то куске брезента, обрывке палатки или орудийного чехла, третьего красноармейца. Правая нога раненого была обмотана тоже брезентом, цветом почернее — видно, запеклась от крови. Женщины с криком бросились на мост, опережая командиров.
— Подождем, — сурово сказал кожаный.
Капитан ничего не ответил. «Пусть командует, — решил про себя, — чего высовываться? Мне женщин во как хватает... А теперь — раненых, как пить дать, подкинут».
Из лесу вышли еще трое бойцов, тоже больше смахивающих на леших. Двое, видимо, были легкораненые. У одного рука была подвязана, у другого висела вдоль тела. Третий боец, обнимая их за плечи, прыгал на одной ноге. Вторая была укутана в надрезанный шинельный рукав, обмотанный телефонной проволокой. За ними еще двое красноармейцев несли тяжелораненого на самодельных носилках. Женщины на мосту обнимали бойцов, принимали раненых и с криком и плачем несли дальше.
— Как бы тебе, студент, не пришлось газовать в госпиталь, — тихо сказал Гаврилов.
— Платформы ж обещали... — тоже тихо отозвался водитель, словно объясняя, что своей волей не хочет бросать капитана с такой прорвой женщин.
— Обещанного, знаешь, три года... — вздохнул Гаврилов. — Ладно, подождем чуть. Погрей пока мотор.
— Ой, господи, молоденькие...
— Надо же!
— Ироды, народ губят! — причитали женщины, не столько помогая, сколько мешая тем, кто ухватился за носилки или за край брезента нести раненых. Некоторые крестились сами и крестили бойцов.
Красноармеец, тот, что минут пять назад выбегал навстречу водителю, еле пробился через толпу женщин и у самого края моста, забывая вывернуть пилотку, но притягивая к ней ладонь, лихо закричал:
— Товарищ майор! Старший штурмовой группы красноармеец Шкавро и восемь бойцов прибыли.
Кубари у лейтенанта были под меховым воротом, и потому, глядя на обтрепанную гавриловскую шинель, боец решил, что моложавый командир в кожаном должен быть хоть на ранг, а все ж постарше.
— Докладывайте обстановку, — хмуро сказал кожаный. — А вы ждите пока! — крикнул остальным красноармейцам, которые, отдав женщинам раненых, хотели перейти на этот берег.
Красноармеец Шкавро замялся: видно, ожидал другой встречи.
— Командиры где? — спросил кожаный.
— Нету, — потупился боец.
— Как? Бежали? — вскипел кожаный.
«Умеешь права качать», — вздохнул про себя Гаврилов, но пока сдержался.
— Убитые, — сказал красноармеец.
— Откуда вы? — зло спросил кожаный.
— Оттуда... — Боец махнул рукой в сторону леса.
— В церкви положите пока, — сказал Гаврилов женщинам, которые проносили мимо него раненых.
— Вижу, что не из Москвы! — съязвил кожаный. — Из лесу? Из окружения?!
— Мы не окруженцы, — с обидой и страхом ответил красноармеец. Видимо, это слово равнялось для него словам «враг» или «предатель».
— Дезертиры?!
— Да погоди ты! — перебил кожаного Гаврилов. «И чего я лезу?» — подумал про себя, но терпение уже вышло. — Товарищ боец, вы давно из боя?
— Три дня, — поднял красноармеец голову.
— Три дня лесом шли?
— Лесом только ночью.
— А днем — полем? — ощерился кожаный.
— Нет, днем пережидали, — поправился красноармеец, понимая, что против начальства не попрешь и надо сносить все, даже насмешку. — У нас раненых пятеро. Трое не ходят, — добавил он.
— Я видел, — кивнул Гаврилов. — Как шли? Дай карту, — повернулся к кожаному.
— Не могу. Секретная.
— Эх, черт! А моя как раз тут срезана... На восток все время шли? — спросил бойца.
— Вроде...
— Володи, — не зло усмехнулся Гаврилов. — Ну а немцев видели?
— Нет, мы деревни обходили.
— Я же сказал: дезертиры! — обрадовался кожаный.
— Да погоди ты! — снова отмахнулся Гаврилов. — Оружие есть?
— Есть... Только немного. «Дегтярев» один, ну и винтовки...
— И гранаты? — подсказал Гаврилов, как экзаменатор растерявшемуся первому ученику.
— И гранаты, — кивнул боец, — только мало...
— Дезертиры, — мрачно повторил кожаный.
— С «Дегтяревым» не дезертируют, — оборвал его Гаврилов. — Ты вон с этой цацкой и на колесах, один, без раненых, не очень вперед лезешь! А они герои! Герои! — твердо повторил он.
— Товарищ капитан, при младшем дискредитировать...
— Брось, лейтенант, — отмахнулся Гаврилов, снимая с кожаного всю его тайную важность. — Молодцы, ребята! — повернулся он к бойцу. — Молодцы! Сейчас вас покормят. Жалко только, что немцев не видели. Может, хоть танки слыхали?
— Нет, врать не буду, товарищ капитан. Не слыхали. Нас штурмовая группа была — полтора взвода, а всего девять осталось. Лейтенантов двоих убило. Мы к своим, к окруженным, пробивались вперед. Два раза немцы нас отбили. Тогда мы в лес и больше не высовывались...
— Значит, впереди бой?.. — обрадовался Гаврилов.
— Ага, товарищ капитан. Там нашего брата сосчитать невозможно. Вроде две армии окружены...
— Ну, вы мне панику не сейте! — рассвирепел кожаный.
— Ладно. Пока помолчи, — снова обрезал его Гаврилов. — Значит, танков, говорите, не видели?
— Нет, только самолеты.
— Ну этого добра и тут хватает, — усмехнулся капитан. — Вон снова летят.
Над лесом, вовсе не так высоко, метрах на восьмистах, не больше, летели три «юнкерса» и чуть сзади и выше их два «мессершмитта».
— Отойдем, капитан, — тихо сказал кожаный.
Красноармеец покорно остался ждать у моста. Женщины все сбежались к церкви. Оттуда доносилось:
— Ваньку Сизова видел?
— А Евтеева Сергея?..
— Слушай, милый, Шлыковых, Шлыковых Вальку с Валеркой встречал? — надрывалась Ганя.
— Ну? — сказал Гаврилов, когда они с кожаным поднялись на бугор.
— Ты командовать останешься? — спросил кожаный.
— Куда мне?.. Не видишь, что ли?.. — кивнул он на церковь и женщин.
— Тогда не мешай. Боец, ко мне! — крикнул кожаный в сторону моста.
— Только помни: люди все-таки, — вздохнул Гаврилов, понимая, что говорит впустую.
— Не учи, — огрызнулся кожаный. — Вот что, товарищ боец, — сказал он подбежавшему красноармейцу, — по лесам погуляли, теперь и повоевать надо. Приказ такой. За мостом отроете ячейки и займете оборону. Наши подойдут — вас сменят. А теперь — кругом! Обед вам туда доставят.
— Так, товарищ капитан? — Боец глянул с надеждой на Гаврилова, вдруг тот снова обрежет командира в кожаном. Но Гаврилов только спросил:
— Лопат не требуется?
— И девушек бы заодно... — усмехнулся боец.
— А что! Это можно, — развеселился кожаный. — Этого добра тут хватает.
— Не дам, — мрачно сказал Гаврилов.
— Ты что? — удивился кожаный.
— Не дам, и все. Забирай, боец, лопаты, присылай за кашей. И, повернувшись, Гаврилов пошел к церкви.
— Тебе чего, гарему своего жалко? — спросила вертевшаяся неподалеку Марья Ивановна, когда он проходил мимо. — Так он тебе, вроде, ни к чему.
— Мне еще как сказать, а женщинам действительно ни к чему на тот берег. Там сейчас, может, бой будет.
— Да не паникуй, капитан, — сказала, догнав его, старшая. — Или у тебя заодно командирскую храбрость оттяпало?
— Дура, — печально улыбнулся он. — А тебя, между прочим, немцы тоже не пожалеют...
— Ты чего это?
— А ничего, Маруся... Слушай меня, только тихо. Мы с тобой накрылись... Впереди войск нету. Пусто... Все равно как там. — Он показал на небо, по которому недавно пролетели немецкие машины. — Напутал кто-то, не туда нас послали. Вчера по телефону обещали мне платформы. Но сама знаешь: верить — верь, а надейся на одного себя. Так вот, если, — он поглядел на большие, переделанные из карманных, наручные часы, — через сорок минут платформ не будет или приказа нового не пришлют, снимайся отсюда и дуй назад.
— Врешь, — уже по инерции сказала старшая. — А этот на что? — вдруг вспомнила она про кожаного, который следом за бойцом шел сейчас по мосту на тот берег.
— На мотоцикл сядь! — с издевкой крикнул ему Гаврилов, но тот только рукой махнул.
— Раненых стесняется, — сказала старшая.
— Да нет. Ему далеко ехать страшно, — засмеялся капитан и хлопнул Марью Ивановну по заду.
— Ты чего? Или заиграло? — улыбнулась она.
— Заиграло. Да играть, Маруся, нет времени, — подмигнул Гаврилов, зная, что теперь им ссориться никак нельзя.
— Врал, значит?
— Ну как сказать... Может, малость присочинил с устатку.
— Ну и ну, — покачала она головой. — Артист же ты... Ой, да погоди! Вон они, твои платформы.
И вправду, на горизонте запыхтел серый дымок, и почти внятно послышались небыстрые перестуки колес.
13. ТРАНСПОРТ НАЗЕМНЫЙ И ВОЗДУШНЫЙ
— Там оружия полно, — зашептал Гошка, возвращаясь от моста к Лии. У них не было на фронте родных, и они не побежали к раненым, а присели у своего окопа.
— Хорошо бы — удалось... — кивнула Лия.
— Капитан не пустит. Парень с автоматом просил подкинуть женщин на тот берег, а капитан уперся, — покраснел Гошка, потому что утаил, для чего кожаный просил у Гаврилова женщин.
— Ну зачем же он так?.. — спросила Лия, хотя хмурый усталый капитан внушал ей больше доверия, чем бравый мотоциклист в кожанке.
— Знаешь что? В крайнем случае ночью под мостом переберемся! — по-заговорчески переходя на «ты», зашептал Гошка. — Вода ведь не такая холодная?
— Нет, — улыбнулась Лия.
— О чем шепчетесь? — крикнула с бугра Санька. — Не попадался им мой алкоголик, — засмеялась она. — Авось, жив папаня. Пьяного пуля боится.
— Скажем ей? — нерешительно спросил Гошка. Ему нравилась пухлая и смешливая Санюра.
— Давай спросим, — согласилась Лия.
— А чего? Можно! — бодро зевнула Санька, когда они, перебивая друг друга, шепотом стали излагать ей свой план. — Только одного фрица мало. Я меньше чем за пятерых несогласная!..
Веселой Саньке умирать не хотелось, да и все это пока было только разговорами.
— Ой, ребятишки! — крикнула она вдруг. — Гляньте, поезд идет.
— Я их, капитан, собирать не буду. Сам скликай, — ворчала Марья Ивановна. — Все равно как в опере — «фига — тут, фига — там». Только людей мучить.
— Ладно, сам скажу. Погоди, — отмахивался Гаврилов. Поезд шел медленно, кроме дыма, ничего пока не было видно.
— Порядок! — взбодрился за спиной Гаврилова кожаный. — Подкиньте, бабочки, товарищу бойцу шесть мисок.
За спиной кожаного стоял красноармеец в грязной шинели, но в уже приведенной в порядок пилотке. «Это другой, — подумал Гаврилов, — не тот, что докладывал».
— Быстро ты обернулся, — кинул он с насмешкой кожаному.
— А что? Людей расставил. Уже окапываются.
— Орден получишь!
— Брось...
— А чего? Дезертиров остановил. Панику, можно сказать, ликвидировал. Оборону поставил. Вполне дать могут, — издевался Гаврилов. — Вырви лист — напишу представление.
— А что — и остановил ведь, — не очень уверенно защищался кожаный.
— А я что? Дай-ка бинокль, если не секретный.
В шестикратном увеличении дым полз не быстрее, зато было видно, что паровоз-«овечка» опять прицеплен не по-людски, сзади трех платформ. Людей на них не было.
Ты шлешь моряков на тонущий крейсер,
Туда, где забытый мяукал котенок... —
вдруг вспомнился Гаврилову ошметок стиха, который на двадцать вторую годовщину задумал было читать с трибуны салажонок из карантина.
— Не пойдет, — сказал тогда политрук Гаврилов.
Вся ленкомната, набитая этими ротными сачками-артистами, разом повернула к Гаврилову свои тридцать с лишком голов. В стихотворении были еще слова про то, как хорошо шестидюймовками бить по Кремлю, но Гаврилов, не касаясь этого, ответил:
— Не для того революция была, чтоб кошек спасать.
— А вы сами, товарищ политрук, участвовали? — наведя невинно-ехидные глаза, спросил читальщик.
— Я — нет, да и Маяковский твой — нет.
— Он «Окна РОСТА» рисовал.
— Это что? Картинки? — притворился темной деревней Гаврилов.
Хоть он и был политруком и как бы родным отцом и покровителем самодеятельности, но самозваных артистов терпеть не мог и считал их всех до одного лодырями. «Настоящий боец, — считал Гаврилов, — тот, кто от службы не бежит и товарища за себя в караул или в кухонный наряд не гоняет. А все эти сборы, проверки-репетиции, простые и генеральные, — одна мура и безделье. Повод командирских жен за сценой потискать. Настоящий боец, да и парень настоящий, он тебе без всяких репетиций на марше такое к месту отмочит, что рота животы надорвет. А со сцены да по бумажке или на память выучить — это каждый дурак сумеет».
Но вслух он этих мыслей не высказывал, потому что самодеятельность считалась надежным помощником командиров и политработников в деле укрепления воинской дисциплины, и, пока ходил в политруках, он соглашался с этой формулой, стараясь только пореже ее повторять.
— А вы знаете, — взвился тогда в ленкомнате новенький боец, — что «Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом»? Знаете, кто это сказал?
— Знаю, — ответил Гаврилов.
— То-то, — сказал боец под одобрение всех этих самонадеянных сачков. Видно было, что они ни в грош не ставят политрука.
«Вот крючки на мою голову! За кого, смельчаки, хоронитесь?!» — обиделся он тогда не столько за себя, сколько за весь политсостав РККА.
— А ну, дай-ка книгу. Других, что ли, стишков нету? Вот про паспорт можно или про город-сквер...
Он взял толстый большой том, раскрытый на первых страницах, глянул на вытянутое глистой стихотворение и, еще не разобрав всего, заметил под ним цифру: «1918».
— Не пойдет, — повеселел, возвращая книгу.
— Разрешите обратиться к комиссару полка! — звонко крикнул салага.
— Обращайтесь, — усмехнулся Гаврилов. — Только он тоже не позволит. Твой Маяковский советской эпохи, а стихи-то военного коммунизма. Неувязочка? А? — И салага не то чтобы был посрамлен, но закрылся.
«А может, и прав был Маяковский? — думал сейчас Гаврилов, разглядывая в бинокль три платформы и паровоз. — Хоть и не кошки, а все же шлют транспорт, спасают, хотя его сейчас — полный дефицит. Хрен бы где в другой стране спасли!» И, вспомнив заодно челюскинцев и папанинцев, он примирился сразу с тем бойцом-декламатором, которого ранило во время бомбежки, и заодно с автором стихотворения, который сам себя застрелил.
— На, забирай, — протянул он лейтенанту бинокль и тут же простым взглядом увидел над медленным составом быстро растущий «мессершмитт».
Железнодорожная насыпь вильнула вправо, и теперь состав со стороны церкви был виден весь. Он пятился от самолета, а самолет пер на него. С первого захода «мессершмитт» только дал пулеметную очередь и круто пошел вверх. Скорость у истребителя была велика, а поезд еле тащился.
«Сейчас из пушки жахнет», — подумал Гаврилов.
По всему бугру стояли женщины, они остолбенело глядели на паровоз и истребитель.
— Ложись! — закричал Гаврилов. — Раненые где? — Он обернулся, но бойцов еще раньше отнесли в церковь. Кожаный уже лежал на земле, и боец, который пришел за кашей, тоже лежал подальше, возле костра. На бугре женщины прыгали в траншеи.
«Сейчас в котел даст, — подумал Гаврилов, глядя с земли, как самолет заходит издали, чтобы вырулить поближе к отползающему паровозу и расстрелять его из пушки. — Двадцать миллиметров калибр, пробьет...» И тут истребитель, летя почти по прямой, жахнул два раза в «овечку», но то ли не попал, то ли срикошетило, а только паровоз продолжал пятиться к разбитой станции.
— Ага! — обрадовался Гаврилов и повел взглядом за истребителем, который, полоснув по паровозу из пулемета, взрулил не очень высоко и закачал крыльями над картофельным полем. «Вроде хвалится? Так ведь не убил машиниста... — Капитан повернул голову к паровозу. Тот, все так же медленно, отползал к развороченной станции. — Нет, зовет своих», — решил Гаврилов и тут же услышал винтовочный выстрел. Из кабины «ГАЗа», приоткрыв дверцу и уложив на нее карабин, студент целился в истребитель.
«Пустое! — подумал капитан. — Не попасть. Да вреда тоже нет: за мотором не услышит...»
И действительно, «мессершмитт», помахивая крыльями, как ни в чем не бывало покачивался над картофельным полем.
«Улетит или нет? Улетит или нет? — нервно гадал Гаврилов, подпирая пальцами небритый подбородок. — Улетай! Смерть мне лежать на земле, хоть и сухо сейчас. Ну, лети отсюда!» — чуть не просил он, словно это был свой самолет, а не немецкий.
И тут за спиной, за церковью, завизжало, заревело заводской сиреной, — раз-раз-раз, — пошли взрывы, и сразу завыло кровельное железо, а над самим Гавриловым взмыл огромный желтый с красным носом и красными колесами бомбардировщик «Юнкерс-87».
Этот не играл с паровозом, как сытый кот с мышью. Косо, под самым малым углом перелетев рельсы, он кинул две бомбы, и Гаврилов, уткнув голову в землю, даже не успел понять, что железнодорожная эвакуация отменяется. Опять от свиста, рева и новых взрывов заложило уши — и второй, точно такой же огромный и желтый, бомбардировщик взмыл над Гавриловым поближе к железнодорожной насыпи. Визг сжимал голову и сдавливал затылок, не давая оглянуться, а надо было, ох как надо было поглядеть, что там, на бугре, сзади.
«Хоть бы в женщин не попало!» — уже не думал, а скорее мечтал капитан, потому что тяжелая голова мыслей не принимала.
За церковью взорвалось еще два раза, а потом началась пулеметная стрельба. Она прошивала вой сирен и грохот кровельного железа.
— У-у-у! — неслось над всем полем, то глуша, то чуть отпуская, чтобы снова еще сильней оглушить.
«Да что им, воевать не с кем? — тоскливо пронеслось в голове. Тут же рядом проскочили земляные брызги от пулеметной очереди. — Это они по тому берегу», — вспомнил он, слыша новые взрывы, идущие со стороны церкви.
— Твою оборону бомбят! — шепотом крикнул он кожаному, но тот лежал, не подымая головы. — Привыкай! — крикнул капитан, но кожаный, видно, не услышал, потому что снова начал нарастать вой снижающихся «юнкерсов». Теперь они пролетали над бугром и картошкой, чуть сторонясь церкви, а «мессершмитт», как меньшой брат, висел над ними, радостно покачивая крыльями.
«Воем берут, — соображал Гаврилов, постепенно привыкая к надрыву сирен. — На патроны не щедрятся». И тут опять (словно сглазил!) полоснуло очередью по земле, и вслед уходящему гулу зазвенело стекло... «По "ГАЗу"», — понял он и из-под прижатой руки глянул на полуторку. Лобовое стекло из нее вылетело, но студент был жив, и ствол карабина медленно полз по верхнему краю дверцы.
— Ишь ты! — попробовал усмехнуться капитан. — А что? Так и надо. Эй, учись у наших! — крикнул он кожаному, но тот все еще лежал, вдавясь в серую землю.
С бугра железнодорожную насыпь было видно хуже, но женщины и оттуда во все глаза следили за самолетом и поездом. Никто не знал, что состав послан за ними, и его просто жалели, потому что с рельсов ему некуда было деться — не грузовик. Паровоз отступал все ближе к бугру, а самолет спускался на него, и, когда в первый раз не рассчитал и промахнулся, на бугре обрадовались, но тут же поняли, что станция разбита и деваться поезду все равно некуда. Самолет ушел в небо, потом снова вернулся, ударил из пушки, а паровоз все отползал и отползал к разбитой станции. На бугре обрадовались и стали кричать и махать руками:
— Назад! Назад крути!
Но машинист то ли не слышал, то ли боялся остановиться, и паровоз медленно полз к развороченным рельсам. Теперь уже с бугра было видно хорошо, но тут заревели «юнкерсы», а что было дальше, никто уже глядеть не стал. Начали сыпаться бомбы, и женщины кинулись на дно траншей, а кто не успел, уткнули головы и на бугре, и на склоне в твердую или копаную землю.
Бомбы падали сначала на насыпь, потом на тот берег, а две упало в реку, и вода фонтаном плеснула в Гошку, который лежал над своим первым окопом, он так и не успел прыгнуть в него. «А-а-а!» — заревело над пареньком медленно и тягуче, и так заболели кости и ключицы, будто по спине проехал танк или гусеничный трактор. «А-а-а!» — нехорошо стало в животе, и пища, горячая, пшенная, кислая, долбанув в нос и уши, стала выталкиваться изо рта в сыроватую мягкую землю бруствера, а Гошка не мог поднять головы, и жижа, мешаясь с землей, ползла по щекам.
— Жик-жик-жик, — строчило, как на швейной машинке, по склону сначала вдоль тела, а потом поперек, словно сверху метили только в одного Гошку, хотели навсегда пришить, пристрочить к земле, но каждый раз промахивались. И снова накрывало гулом и тянуло болью, как будто рвали зуб без наркоза, но не зуб, а его всего откуда-то вырывали, а он не давался.
— Кхе-кхе, — вываливалось из него и залепляло глаза, а он лежал ненавистный самому себе и, теряя силы, кричал: — Мамочка! Мама! — но за ревом бомбардировщиков, слава богу, никто не слышал.
— Ой, — стонал он, чувствуя, что еще немного и вырвет вместе с последней кашей сердце и легкие. — Ой! Да что же я? Надо... Надо... — шептал он, тут же забывая, что надо, а потом рев слабел, и он вспоминал, что по самолетам надо стрелять. Но стрелять было не из чего.
«У, капитан!» — вспомнил Гошка, но тут его снова накрыло гулом и ревом и опять забрызгало фонтанчиками земли.
— Капитан за оружием не пустил... Капитан проглядел, не пустил... — повторил Гошка, как молитву, не раскрывая залепленных пищей глаз. Весь берег прошивало пулеметными очередями, а в ответ с земли неслись только слабые стоны. Ручной «Дегтярев» с того берега тоже не отвечал. Видно, там уже не было живых.
Лия лежала двадцатью шагами выше Гошки в недовырытом окопчике. Ей некуда было спрятать голову, и, на мгновение открывая глаза, она видела самолеты, два больших и один маленький, которые летали над ней, над бугром, полем и другим берегом.
«Господи! — Она закрывала руками голову. — Так погибнуть ни за что?! Ни за что, ни за что, ни за что... Ничего не сделать. Но где же наши? Где наши? Сейчас меня убьют. Сейчас всех нас убьют!..» — стучало сердце в груди, и снова ревели самолеты.
— Ва-ва-ва! — ревели самолеты, или это ревело в самой Лии. Ее не рвало, только что-то очень противное, кислое текло изо рта и из носа, и некуда было приткнуть вдруг ставшую совсем чужой, страшно огромной, тяжелой и неповоротливой голову.
— Нам надеяться не на кого, — сквозь вой самолетов донесся скорбный голос Елены Федотовны.
— Не сходи с ума! — одернула себя Лия и открыла глаза.
Церковь стояла на месте, а за церковью был наполовину виден грузовик, из дверцы которого выглядывал край винтовочного ствола. Ствол двигался, двигался по дверце, вздрагивал и опять медленно двигался, уже в обратную сторону.
«Это тот мальчик! Какой молодец!.. — сообразила Лия сквозь рев накрывающих ее самолетов. — А я — ничего... Я — ничего...» — корила она себя.
«Ничего, ничего», — уговаривал ее какой-то тихий, но настойчивый голос, который шел издалека-издалека, из самого затылка и стучал, как колеса приближающегося поезда.
«Поезда нет, — подумала она, но тут же увидела неподалеку от линии траншей неподвижный паровоз с тремя платформами. Пар лениво и редко выбивался из его трубы. — Машиниста, наверно, убило...» — подумала она. Но тут снова заревели самолеты, и Лию на мгновенье оглушило разрывной волной с другого берега.
«Ничего, ничего», — стучало в голове, приближаясь от затылка к ушам и вискам, а сверху выли самолеты, в которые никак не мог попасть водитель автомашины «ГАЗ-АА».
Санька с Ганей успели раньше других прыгнуть в траншею, и теперь лежали на самом дне. От взрыва бомб стенки канавы осыпались, и земля забивалась под платок, в уши и волосы. Обеим было страшно, но каждой по-своему. Ганю бил ужас, а Саньке было тоскливо-тоскливо, так тоскливо, что здоровое и веселое тело вдруг стало больным и затекшим. «Как у Лийкиной карги», — скорее почувствовала, чем подумала Санька.
«Сейчас убьют, и ничего не узнаешь. Тут и зароют», — представляла она, как ее зачем-то разденут и засыплют белые бока и груди этой мокроватой землей, в которой ползают склизкие черви, и ее взял такой страх, что она уже готова была выпрыгнуть из траншеи наверх, где ревели и стреляли немецкие самолеты. Эта склизкая земля была страшней, чем желтые драконы в небе. Но на ней еще лежали две женщины, и она не то что их скинуть, а рукой пошевелить не смела...
— Витечка, Витечка! — визжала Санька неслышным голосом, не зная, кого еще звать на помощь. «Один ты у меня...» — стонало в голове, которую придавила осыпающаяся земля, бабы и самолетный рев.
А Ганя, пока не улетели самолеты, лежала в столбняке, как курица, уставшая трепыхаться в руках поймавшей ее перед обедом хозяйки.
14. ОДНОФАМИЛЬЦЫ
— Вставай, — сказал Гаврилов кожаному. — Улетели. Ну, кому говорю?! — Издеваться уже не было сил. — Вставай. Начальству доложишь.
Кожаный все лежал. Гаврилов наклонился над ним, тронул за плечо. Кожаный лежал, как мертвый.
— Ну, — Гаврилов приподнял ему голову. Глаза были закрыты, а голова медленно поползла по гавриловскои ладони и стукнулась о кожух автомата.
«Готов!» — подумал капитан и тут только заметил на хромовой куртке две аккуратные дырки, чуть больше тех, какие оставляет конторский дырокол, когда подшиваешь бумаги.
— Докомандовался парень! — вздохнул капитан, ничего не чувствуя, потому что голова все еще тряслась от взрывов, воя, рева и пулеметного треска. Он оставил мертвого и пошел к церкви.
— Студент! Жив? — крикнул, вздрагивая от собственного голоса, так отдало болью в затылок.
— Жив. Все промазал, — хмуро ответил тот, словно он был на полковом стрельбище.
«Молодец», — хотел сказать Гаврилов, но горло почему-то забил ком.
— Молодец, — сказал потише и подошел к грузовику. Борта были сплошь покорежены, словно орава пацанов ковыряла их гвоздями, ножами или осколками стекол; стенки кабины были где пробиты, где оцарапаны пулями. Но радиатор был цел, и мотор уже работал.
— Кажется, обошлось, — улыбнулся студент. — Раненых повезете?
— Да! — Гаврилов смахнул со лба землю. Боль уже прошла. — Повезем. Ты повезешь. Молодец, студент! Не то что... — он хотел сказать про кожаного, но вспомнил, что того убили. — Раненых надо забирать. Организуй там... — и, махнув рукой, пошел к костру.
Возле погасшего костра и дальше на бугре все начало понемногу шевелиться, подниматься, отряхиваться, даже разговаривать, но доходило до глаз и слуха будто через какую-то пелену или воду.
«И впрямь как утопленники», — подумал Гаврилов и тут же увидел старшую. Она стояла над двумя скорчившимися на земле женщинами.
— Живая, Марь Ивановна?! А вашего — намертво.
— И твоего — тоже, — кивнула она на бойца, который, уткнувшись в землю, лежал шагах в десяти от убитых женщин. Рядом валялись миски с остывшей кашей. — Не пожрамши... — вздохнула Марья Ивановна.
— Книжку красноармейскую у него возьми. Шофер передаст, — сказал Гаврилов, стараясь поскорей отвернуться от мертвых женщин. — Собираться вам надо, родная моя, — вдруг обнял он ее при всех, спрятал на ее плече лицо, но тут же отпихнул ее и пошел на бугор.
— Раненые есть? — кричал там, пробегая вдоль траншей. — Есть раненые?!
— Дальше, кажись... — отвечали женщины, выбираясь из окопов.
— Иди проверь! — крикнул он попавшейся на глаза Саньке.
— Жива? — спросил сидящую в окопчике Лию. Та, не поднимаясь, кивнула головой.
— А пацан твой жив? — вспомнил капитан. Лия мотнула головой в сторону реки. Там Гошка, присев на корточки, отмывал лицо.
— Так, — вздохнул капитан. — Собирайте всех. К церкви идите. Уходить будем, — и он быстрым шагом вернулся к кожаному.
— Придется побеспокоить, парень, — склонился над ним, ничего не испытывая к убитому, и снял с него автомат и бинокль. — Да, еще планшет и документы, — вспомнил он и, расстегнув кожанку, достал из кармана командирской гимнастерки партбилет и удостоверение. — Гаврилов Алексей Степанович!.. Тьфу ты, однофамилец, — покосился капитан на мертвого, пряча документы и цепляя к портупее второй планшет. — Прости, — неловко пробормотал он, потому что мысли были заняты живыми. — Да, еще колеса у тебя были...
Мотоцикл, рогатый, как баран, по-прежнему жался к стене храма.
«Значит, пешая эвакуация?.. Выходит, что так», — соображал Гаврилов, возвращаясь к траншеям.
— Раненых помогите выносить! — кричал он. — И живо, живо!
— Документ шоферу отдай, — кивнул Марье Ивановне, которая склонилась над мертвым красноармейцем.
— Эй, пацан, — крикнул Гошке с бугра, — давай сюда!
Гошка медленно побежал вверх по склону.
— Автомат бери! В Москву поедешь, — усмехнулся Гаврилов, уже решив, что мотоцикл и автомат для одного человека чересчур жирно. — Давай бери, чего там... — добавил он, принимая Гошкину осоловелость за стеснительность. — Цепляй и дуй к шоферу.
«Пусть хоть этот жив будет. Ему еще воевать», — устало подумал Гаврилов.
— Раненые есть? — снова кричал он, шагая вдоль бугра.
— Есть, — отозвались из траншей.
— В кузов тащите.
Ему не хотелось глядеть на раненых женщин.
— Сколько у тебя? — вернулся он к старшой.
— Пока две. Поварихи.
— Запиши фамилии и вели зарыть. И быстро. Уходить надо. А то еще танки двинут.
— А те защитники на что?! — спросила Марья Ивановна, кивая на тот берег. — Или их уже тьу-у-у! Тьи-и-и-у? — пропела, подражая вою падающих бомб.
— Не знаю, — нахмурился он. — Ты своими занимайся. Тех, на другом берегу, он уже давно отделил от себя. За ним были только женщины и раненые в церкви.
— Говори всем, чтоб уходили. Лопаты пусть берут, а кирок не надо. И продукты, крупу-сахар, пусть в кошелки сыплют. И смотри, чтоб на дороге не гуртились, как овцы. А то опять прилетят...
Он глянул в небо, но там уже было много туч, словно их нагнали самолеты. Быстро темнело.
— Ой, мамоньки! Не уроните! — стонала женщина. Три другие несли ее с бугра.
— В кузов несите, — сказал, отворачиваясь, капитан. — Много раненых? — крикнул он в сторону траншей.
Ему не ответили.
— Ладно... Вот что, Марь Ивановна! Ты гони всех в Москву, а я сам проверю, — он пошел к мотоциклу. Тот завелся сразу.
— Бак полный. Я смотрел, — кивнул водитель.
— Проверю, может, кто еще есть в окопах, — сказал Гаврилов, как бы извиняясь перед студентом за все: бомбежку, раненых женщин, покореженную автомашину и еще за этот неожиданно доставшийся ему трофей. — Мы теперь женщинам не нужные. От нас только горе, — добавил он печально.
— Понятно, — сказал студент.
— Вырули на дорогу. Туда донесут. А то еще... — Он снова глянул на небо. Тучи быстро чернели. — В общем, счастливо тебе! — Он протянул водителю руку. — Пацана довези, — кивнул на сидевшего в кабине с автоматом на шее Гошку. — Да вот, книжки возьми. Однофамилец мой оказался. Отдашь первому, кого встретишь из ихних или наших. И вообще, доложи все как было...
— А вы? — спросил водитель.
— Я уж как-нибудь... — Гаврилов похлопал по баку мотоцикла. — Ну а в крайнем случае и тут хватит. — Он поправил кобуру ТТ.
Женщины уже стали тянуться по шоссе от церкви. Они шли угрюмо, как на похороны или с похорон. Кошелки раскачивались на перекинутых на плечи лопатах, тяжелые ведра почти не бренчали. Он проехал мимо них и свернул к мосту. От мотоцикла было тепло, и дрожь педали на малой скорости не мешала раненой ноге. Даже как будто снимала боль. «Освоюсь», — чуть повеселел Гаврилов.
— Товарищ командир! — вдруг донеслось до него справа от дороги. Он притормозил как раз над валявшимися в кювете самодельными ежами. Из недокопанной траншеи выкарабкался старичок в мягкой фуражке с матерчатым козырьком, закутанный в длинный плащ.
«Вот ты где! А я и забыл про тебя», — усмехнулся Гаврилов.
— Чего, отец?
— Значит, насколько понимаю, ежи уже не требуются? — сказал старичок. За его спиной на бруствере сидели три паренька.
— Все целы? — кивнул на них Гаврилов.
— Целы, — процедил старичок. — А ежи, выходит, больше не требуются? Так понимать надо? — Он махнул рукой на уходящих в другую сторону женщин.
— Да брось ты, отец, — вздохнул Гаврилов. — Ежи и раньше не требовались.
— Мне бросать нечего, — разнервничался старичок. — Вы меня бросаете, а не я вас, — и, взглянув через подвязанные веревочками очки на измученного небритого капитана, зло добавил: — А финны, между прочим, лучше вас воевали.
— Зима у них была, — тихо сказал Гаврилов и повел «Иж» за рога, стесняясь при старичке влезать в седло.
— Так что же, и мне зимы ждать?! — закричал ему в спину старичок. — Вот она, зима! — и показал рукой на низкие, вовсе черные тучи.
Гаврилов, не оглядываясь, свел мотоцикл с дороги на берег и там вдоль самой воды поехал в сторону железнодорожного моста.
— Раненые есть? — кричал он.
Последние женщины покидали траншеи и уходили к шоссе. Некоторые наспех ополаскивали в реке лица.
— Быстрей! Быстрей! — отгонял он их от воды.
Они покорно поднимались и брели вслед ушедшим. Гаврилов доехал берегом до железнодорожной насыпи, потом метров двадцать вдоль нее, а затем, повернув, поехал по этой стороне бугра к церкви. О паровозе, который намертво, уже не пыхтя, прирос к рельсам, и о машинисте с кочегаром он старался не думать. До них было километра полтора, и приказывать усталым женщинам тащить из паровоза убитых было свыше его сил.
— Раненые есть? — снова кричал он.
Старшая и еще три женщины спешно зарывали недалеко от церкви убитых поварих.
— Иди, Марь Ивановна... Я докончу. Иди, — сказал капитан.
— Еще этих надо, — кивнула старшая на бойца и кожаного, лежавших на бруствере. Она не решилась похоронить их рядом с поварихами. — Кожанка у него хорошая, — мотнула головой на убитого.
— Иди, — сказал Гаврилов. — Догоняй народ. И смотри, если танки... лопаты пусть сразу кидают.
— А ты как?
— Я на колесах.
— Догонишь?..
— Нет. Я теперь для вас хуже чумы... Если, конечно, танки появятся, — поправился он. — Прощай, не побаловались...
— Ничего, авось свидимся. Держи лопату. Айда, девушки! — крикнула старшая женщинам и повела их с бугра.
«Стой! — хотел он крикнуть ей вслед, глянув на кожанку лейтенанта. — А, ладно... Вроде неловко. И так его раскулачил».
Он спустился в траншею и начал за плечи бережно стягивать туда мертвых, сначала бойца, потом лейтенанта, стараясь уложить их поаккуратней.
«Вот какие пироги...» — вспомнил он слова кожаного.
— Не пироги, а синяки! — сказал вслух. — Точней, на орехи достанется! — и, выкарабкавшись из траншеи, стал сбрасывать землю с бруствера на убитых. «Пусть хоть женщины до переезда дойдут. Тогда уж вильну в сторону на почту...»
Ему не хотелось живому и с виду целому проезжать на мотоцикле мимо бредущих по шоссе, измученных копкой и бомбежкой окопниц.
«Чего я для них сделал? Ну, спекли бы картошки вместо твоей каши!» — продолжал он спорить с собой, а голова от всего перевиденного опять начинала гудеть в висках и ныть в затылке. «Сто двадцать верст за пять мешков пшена. Вон какая каша из-за твоей каши... — пробовал отшутиться, но шутки не выходило. — Не нашли б начальства, ушли бы пешком, и все дела. Этот, в балахоне, их не удержал бы... — с раздражением вспомнил он кругленького старикашку. — Финны дрались лучше... Ну и что, что лучше? Без тебя знаю, что лучше... Смотри, отец! Добрешешься!.. А немцы придут и узнают, что ты рытьем заправлял, тоже по голове не погладят... — непонятно зачем грозился он очкастому старичку. — Да и мне, папаша, трибунал светит. Пора, видно, за квитанцией ехать...»
Он быстро забросал мертвых землей. Потом достал из планшетки чернильный карандаш и, послюнив, у самого черенка лопаты вывел:
ДВЕ МОСКВИЧКИ Л-Т ГАВРИЛОВ
«А, черт, как же его звали?» — Фамилии бойца он вовсе не знал и потому чуть повернув лопату, написал:
БОЕЦ... (РККА)
И, помедлив немного, добавил рядом с фамилией кожаного род войск: НКВД.
— Чтоб со мной не спутали! — сказал он и воткнул лопату в землю по самую надпись.
И тут до него донеслось еле слышное не то нытье, не то плач.
— Кто там? — крикнул он.
Всхлипы усилились.
— Где ты? — тревожно закричал капитан.
— В церкви... — донесся бабий голос.
Гаврилов бросился в храм. В темном закутке, у ризницы, жалась какая-то женщина в ватнике и в лыжных шароварах.
— Что, раненая? — со страхом спросил Гаврилов, потому что машина уже ушла.
— Нет, — продолжая выть, мотнула головой Санька.
15. РАНЕНЫЕ ЕСТЬ?
Студент вывел машину на дорогу и стал ждать. Женщин больше не несли.
— Все, что ли? — крикнул он в темноту, закрывая задний борт. Всех раненых было девятнадцать — пятеро бойцов и четырнадцать женщин.
— Возьми меня, парень. Я все равно как раненая, даже хужей, — ныла крутившаяся возле грузовика Ганя.
— Ну черт с тобой, лезь, бабка, — согласился студент. — Лопату брось. На колесо заднее встань и перемахивай. И по-быстрому...
Он боялся, что попросится еще кто-нибудь из проходивших мимо женщин, но они шли молча, вовсе не похожие на тех вчерашних — на пересылке.
«Хорошо бы рыженькую подсадить. Совсем доходила...» — студент огляделся, но Лии нигде не было.
— Патроны у кого остались? — крикнул он бойцам в кузов. — Я все в небо пустил.
— Бери, — ответил сверху раненый и протянул ремень с двумя кожаными подсумками.
— Ну, все. Поехали! — крикнул студент и полез в кабину. — Цацку только перевесь, — сказал Гошке, кивая на автомат. — Пусть в окно смотрит. Или дай диск вытащу.
Он оттянул защелку и, к Гошкиному неудовольствию, положил магазин на сиденье рядом. «ГАЗ» тронулся, сразу забило ветром в кабину, и стало холодно.
— Пронимает? — подмигнул студент. — Зато сектор обстрела какой! — и показал на пустую раму. — Ты теперь стреляный!
— Что? — крикнул Гошка. Из-за ветра ничего не было слышно.
— Страшно было? — крикнул шофер.
Гошка неопределенно пожал плечами. «ГАЗ» прибавил скорость, и впору было закрывать лицо рукавом.
— Мне тоже! — кричал шофер. — Руки аж дрожали. Ни разу не попал.
Гошка ничего не расслышал и не понял, но согласно кивнул.
— А рыженькая где? — снова крикнул шофер.
Гошка опять кивнул. Он не слышал.
— Рыжая где? — больно дунул ему в ухо водитель.
— Там! — крикнул Гошка, закрывая от ветра ладонью голос.
— Живая?
— Да-да, — закивал Гошка.
Он не знал, как сказать про Лию. Отчаянно било ветром, а сразу за переездом посыпался какой-то снег, твердый, вроде мелкого града. «Кажется, он называется крупа», — вспомнил Гошка.
Лию он последний раз видел, когда бежал с автоматом к машине. Она как будто позвала его, но ему было некогда и неловко разговаривать с ней при капитане, да и позабыл он тогда о всех их дневных разговорах. После бомбежки они сразу вылетели из головы. Тогда на бугре он уже думал о раненых. «Ее там все равно не оставят», — успокаивал себя, стараясь из солидарности с шофером не прикрываться от бившей в лицо крупы, и гладил правой рукой автомат, а левой лежащий на сиденье диск. Крупа барабанила по лицу, и нельзя было попросить шофера, чтобы ехал помедленней. О том, что с ним было во время бомбежки, Гошка старался не думать.
Лия видела, как Гошка побежал на бугор к капитану, и, поняв, что он не вернется, даже не огорчилась. Разговоры до бомбежки были далеким детством, а сейчас наступал последний и решительный момент, и нельзя было его пропустить. «Гошенька мальчик, совсем еще мальчишечка, — усмехнулась она, вспомнив его позеленевшее, недомытое, страдальчески-счастливое, измученное лицо и тоненькую шейку, на которой болтался автомат. — Спрошу Санюру. Не захочет — одна останусь».
— Жива, — снова кивнула она мрачному капитану, который второй раз прошел мимо ее окопчика. «Слава богу, не ранена. Но и раненая бы осталась... Если ранили друга, перевяжет... Ах, это не то... Это песня... За рекой много оружия... Там, наверно, и раненые... Но раненых должен забрать капитан. А я возьму только оружие. Винтовку. Жалко, что мы не изучали ручной пулемет...»
Она посмотрела вслед капитану, тот к мосту не пошел, а вернулся к церкви.
«Надо от него спрятаться, не заметит. А вдруг за мостом раненые?.. Может, старичка попросить. Он увезет их к себе в деревню на тачке, спрячет на чердаке или в погребе. Нет, это безобразие, что капитан не забирает тех раненых!»
Она хотела подняться, но ноги были словно не свои.
«Ничего, еще подожду... Пусть пока женщины уходят. Капитан должен все-таки забрать с того берега красноармейцев. Наверно, туда поедет шофер. Какой он молодец! Не испугался. Стрелял. Хорошо бы он остался, а раненых повез в госпиталь капитан...»
— Ты чего? — склонилась над ней Санька. — Чего лежишь? Простудишься!
— Ничего, — слабо улыбнулась Лия. — Просто жду. Мы же договорились... забыла?
— А это... про винтовки. Пустое.
— Как хочешь, — холодно сказала Лия.
— Брось и не думай. Давай поднимайся. Совсем чокнулась, подруга.
— Как хочешь, — холодно сказала Лия.
— Пошли в церковь. Сумку нашу заберем и ведро. Сахарку насыплем.
— Иди, — сказала Лия. Она еле передвигала ноги.
Женщины быстро уходили с бугра. Некоторые несли раненых. Те стонали. Возле стены храма, где обрывалась задняя траншея, лежали две убитые поварихи. Сюда же, таща неловко, словно бревна, принесли командира в кожанке и бойца, что прибегал с того берега за кашей.
— Хороша курточка, — на миг отвлеклась Санька. — Неужели закопают? Никуда тебя не пущу, — снова обернулась к Лии.
— Иди-иди, — сказала Лия. — В Москве убивай свои пять немцев.
— Вот врежу сейчас, — рассердилась Санька. — Марь Ивановна! — прибавила она голосу, но не так, чтоб та услышала. — Вот сдам тебя сейчас, будешь тогда...
— Так ты еще и предатель?! — прошипела Лия.
Они стояли друг против друга, одна ладная, рослая, другая тощая, маленькая, готовые вцепиться одна в другую.
— Дура, — первой остыла Санька. — Да глянь на себя. Чего ты им сделаешь? На хвост соли насыплешь? Не видела, чего сейчас было?
— За рекой есть оружие, — повторила Лия.
— Оружье, оружье... Дура! Да ты что, храбрей меня? С умом надо. Видишь, тут оборона никуда...
— Я пошла. Прощай, — надменно кивнула Лия и, с трудом волоча ноги, спустилась к реке.
— Стой! — Санька схватила ее за плечо.
— Раненые есть? Марш, марш... Быстрей уходите! — кричал капитан — он ехал на мотоцикле вдоль самой воды, отгоняя от нее женщин, которые ополаскивались на дорогу.
— Уйди, — сказала Лия.
Капитан проехал дальше к железнодорожному мосту. Быстро темнело, становилось одиноко.
— Не пущу тебя, — вдруг заныла Санька.
— Тогда идем...
— Не, там мертвяки, — тянула Санька... — Я их боюсь... — Теперь она выла, как ее детскосадовские малолетки.
— Иди в Москву, — беззлобно, устало ответила Лия.
— Нет, — Санька мотала головой.
— Уходи!
Снова приблизился стрекот мотоцикла. Капитан возвращался с другой стороны бугра.
— Заметит! — обрадовалась Санька.
— Пригнись, — выдохнула Лия и неловко кинулась к мосту.
— Вернешься? — спросила Санька. — Я тебя в церкви подожду.
— Можешь не ждать! — крикнула Лия, почти уверенная, что подруга останется.
Она потащилась через мост. Было темно и жутковато. Направо от моста, берегом, шли старичок в балахоне и трое мальчишек.
«Надо бы окликнуть их, — подумала Лия. — Вдруг там раненые?..» Но побоялась, что услышит капитан.
Первого убитого она увидела сразу за мостом на развороченной взрывом булыжной дороге. Он выглядывал по грудь из воронки, сжимая в руке обломанный черенок лопаты.
— Товарищ. — Она нагнулась над ним и тронула за плечо. Он покорно и как-то чересчур легко повернулся, и она вдруг увидела, что он не засыпан, а обрублен по пояс.
— Ва-ва-ва!.. — завизжала она, но тут же, собравшись с духом, до крови закусила губы.
— Ва-ва! — тряслось, надрывалось в ней, как будто снова началась бомбежка.
Не оглядываясь, она обежала воронку и кинулась в лес. Тут было еще темней.
— Ра... Раненые есть? — задыхалась Лия, а сердце выбивало барабанную дробь. — Ра... Ра...
Ее начало рвать. Она покачнулась, ударилась лбом о березу, обняла ее, прижалась, и уже рвать было нечем, а Лия все никак не могла оторваться от березового ствола.
— Раненые есть? — наконец спросила она шепотом.
Никто не отвечал. Только с того берега еле слышно доносилось Санькино:
— Лийка! Лийка! — но отвечать не было сил.
16. В ТЕПЛЕ И НА ХОЛОДЕ
— Чего таишься? — строго спросил Гаврилов. — Немцев ждешь?
— Немцев?! Скажете тоже... Подругу, — всхлипывала Санька. — За винтовками побежала.
— Чего? — не понял он. — Какие винтовки?
— Обыкновенные. На тот берег за ними побежала.
— А ну вылазь! — разозлился Гаврилов. «И что они все заладили про тот берег?..»
— Вылазь, вылазь. Нету там никого. Я от речки всех шуганул...
— Врете! — обрадовалась Санька.
— Я тебе не Геббельс. А ну, выходи. Где она, подруга? — спросил, когда Санька, подхватив кошелку, вышла за ним из храма. Было совсем темно, холодно, и с неба быстро сеялась колючая крупа. — Никого нету, видишь.
— Лийка! — крикнула Санька. — Нет, она на тот берег побегла! Лийка! — завыла снова. — Лийка! Документы ее у меня. Сумка у нас на двоих одна. Лийка!
Гудел только ветер. В пустом черно-белом поле становилось страшновато.
— К немцам пошла, — злобно отрубил Гаврилов.
— Нет, она комсомолка, еврейка, — захныкала Санька.
— Ну тогда снова кричи!
— Лийка! Лии-ий-ка! — неслось над берегом. — Ой, как же я? — заныла Санька.
— Беги за ней. Пять минут дам.
— Не — страшно... — испуганно зашептала Санька. — Я туда боюсь. Лийка! Ли-ий-ка! — в голос выла она.
— Да нет ее там, — как мог уверенней сказал Гаврилов. — Я никого за мост не пускал. Лийка! — крикнул он сам.
— Вместе пойдемте, — схватила его за руку Санька.
— Нет, — твердо сказал он и вырвал руку. — Нет.
А сам вслушивался в темноту: вдруг там раненые? Но никто не стонал или стонал, но тихо. «Как их брошу? И девать мне их некуда. По мне уже трибунал плачет».
— Нет, — сказал он жестко. — Туда не пойду. Ее там нет. Со всеми ушла.
— А я как? — захныкала Санька.
— За мной садись. До переезда подкину. «Хоть спину мне прикроешь, — подумал он. — Эх, мародерствовать так мародерствовать. Надо было уже заодно кожан и ушанку у однофамильца одолжить. А то теперь крышка тебе, Ваня», — впервые назвал он себя по имени. — Садись! — приказал Саньке. — Вот бинокль повесь пока. И кошелку подложь, а то набьет нужное место.
— Ли-и-ий-ка! — крикнул уже с мотоцикла.
Никто не отозвался.
— Держись, — сказал капитан, и «Иж» запрыгал вниз по дороге.
Теперь уже мело как следует. Снег летел прямо на мотоцикл, на его засиненную фару и, кроме холода и резкого ветра прохватывало еще и жутью.
«Как на том свете, — подумал Гаврилов. — И вправду бы туда не загреметь. — Теперь он уже не помнил о немцах, словно его от них со спины прикрывала теплая Санька, а глядел только на дорогу. — Поворот бы не проскочить. Ничего не видно. Все белое». Но будка со шлагбаумом, задранным, как журавль, была на месте.
— Слезешь? — притормозил капитан. — Твои где-нибудь впереди. Далеко не ушли.
— Нет-нет, — уткнулась в него Санька, не разжимая на его груди крепких рук.
— А не набило?..
— Обойдется.
— Ну тогда терпи. Сейчас серьезней потрясет.
— Надо было вам кожанку с него снять, — дыхнула в ухо, словно услышала его мысли, Санька.
— Ему холодней, — нехорошо пошутил Гаврилов, а Санька еще крепче вжалась в него, повисла на нем, сводя рукавицы на его замерзшей груди.
«Вот и устроился, — подумал он. — Отлично провел операцию. Благодарность в приказе с занесением в личное дело. Натрясется девка, — вдруг переменил мысли и улыбнулся, сколько позволял ветер и колючий твердый снег. — Только бы квитанцию не потеряла очкастенькая... А может, опять дозвонюсь, объясню... Тепло от девахи, — благодарно подумал он. — Нет, не вывелась еще баба на земле советской!..»
— Замерзла? — Он повернул к ней щеку, перерезанную ремешком фуражки.
— Не... — Она повела грудями за его спиной, и он это остро почуял через свою шинель и ее ватник.
— Терпишь? Скоро доберемся. Нам на почту надо.
Ему хотелось с ней разговаривать. Снег теперь не так мешал — бил с правого бока. На холме, при въезде в деревню, мотоцикл два раза тряхнуло, как вчера «ГАЗ», но капитан не выпустил руля и, глядя на слабо черневшие в белом летящем снегу провода, отыскал почту. Было опять заперто, и в окне не светилось. Гаврилов ударил в дверь, чертыхнулся, потом, взглянув на навесной замок, вспомнил, что под перильцем должен быть ключ. Ключ действительно нашелся, и Гаврилов открыл дверь. Мело по-прежнему. Через летящую крупу Санька на краешке мотоцикла казалась сиротливой и заброшенной.
— Прошу, пани! — крикнул он ей с крыльца. — Заворачивай. Я скоро вернусь. Тут близко.
«Только в яму не загреми, — сказал себе, забираясь в седло. — Тут вроде под столбы рыли».
В третьей от края избе тоже было темно. Гаврилов толкнул дверь в сени, потом еще одну, ударился в темноте о стол и выругался как следует.
— Живой кто есть?! — закричал в темной, как шахта, хате.
— Чего тебе? — засопел в углу пьяный недовольный голос.
— Связистку, мать вашу...
— Нет ее. В районе она. Провод оборвали. В район Глашка потопала.
— А, черт, — вздохнул Гаврилов, вышел к мотоциклу и поехал назад по своему следу. У почты он слез, постоял немного на крыльце, поглядел на летящую крупу, а потом махнул рукой, снова завел мотоцикл и потащил его вверх по ступенькам.
— Стучит, как примус. Теплей с ним будет, — сказал он Саньке, но тут же приглушил мотор, вспомнив, что от выхлопных газов можно намертво отравиться.
Санька сидела на корточках перед голландкой.
— А, да ты уже затопила? — то ли удивился, то ли обрадовался Гаврилов и оглядел комнату. В печке трещало, лампа горела, уходить отсюда не хотелось. «Да и куда в такую ночь? — сказал он себе. — Немцы небось тоже живые: до утра не сунутся... Смотри, — перебил себя. — А чего смотреть? В крайнем разе девка ни при чем, а я отобьюсь. Или что, пропадать мне по такой погоде с продырявленной дыхалкой? Слыхал, что докторша про простуду объясняла?..»
— Займемся техникой, — сказал вслух, чтобы отбиться от разных мыслей, и три раза крутнул ручку.
В телефонной трубке молчало. Тогда он крутнул ручку, не кладя трубки на рычаг. В ухо пошел треск, и снова стало тихо.
— Где-то тут был сейф. Придется распатронить... Греешься? — Он обернулся к Саньке. — Ноги не сожги.
Санька, скинув ботинки и подтянув повыше лыжные брюки, сидела у печки, сунув ноги в чулках чуть не в самую топку.
— Заботливый вы! — отозвалась она, не оборачиваясь.
— Был, девка, был. Вот сейчас позабочусь об этой сберкассе, — хлопнул он по боку конторского ящика. — Эх, без привычки, но где наша не пропадала.
Он достал из мотоциклетного подсумка гаечный ключ. Замок не поддавался. Ящик ерзал по полу.
— Иди сюда! — крикнул Саньке. — Пусть и тебя привлекут за соучастие. Сядь на кассу. Так. Теперь вроде лучше. — Он взял полешко, поставил на висячий замок ключ, а сверху ударил полешком. С первого раза не получилось. — Теплая ты, девка. С тобой отвлекаешься, — сказал и ударил второй раз по ключу. Замок отскочил, а с ним и ушко ящика.
В кассе деревенской почты, кроме вчерашнего червонца, лежали еще несколько трешек и рублевок и несколько длинных узких не то книг, не то тетрадей, от которых отрывают квитанции. Кроме того, в ящике стояли две бутылки, заткнутые марлей. Одна полная, другая споловиненная вчера шофером.
— Чудом не разбил, — удивился Гаврилов и поднес книги к керосиновой лампе. Его квитанция была аккуратно подколота булавкой. — Везет тебе, политрук, — присвистнул он. — Семь бед — одна холера! Согреться хочешь? — обернулся к девушке.
— Могу, — откликнулась Санька.
— Закусить только нет. Или погляди, может, что в шкафу есть? За все сразу и заплатим.
«На хрена тебе деньги, политрук, — горько сказал он себе. — Аттестат посылать все равно некому. Почта туда так же ходит, как этот работает...» — Он кивнул на телефон.
— Алло! Алло! — снова крикнул в трубку. — Ну и молчи, не больно надо!
— Веселый вы, — засмеялась Санька. — Тут квашеная капуста одна. Нет, картошка еще есть. Спечь можно.
— Ну и порядок, — повеселел он, словно забывая, что между этой деревенской почтой и немецким передним краем никаких нету войск, а только один снег да ветер. Но печка трещала, крупа в лицо не била, квитанция за разговор была в кармане, и девушка уже собирала на стол.
«Надо будет — немцы разбудят», — сказал он себе, присев на топчан, покрытый серым шинельного сукна одеялом. И, глядя на хозяйничающую Саньку, он уже видел, как по доминошным камням, когда всякая игра у тебя на руках, чем сейчас у них обернется.
— Раненые есть?! — снова закричала Лия, и тут задуло, замело, и с черного толстого неба повалил холодный острый снег.
— Я винтовок не увижу, — испугалась она и, пересиливая себя, заковыляла к воронке. — Его закопать надо, — вспомнила с ужасом о красноармейце, но, вспомнив, уже не могла отступить и стала искать лопату. Лопат нигде не было. Она обошла воронку справа и тут же поскользнулась и упала во вторую воронку, уже не на дороге, а когда стала выбираться из этой второй воронки, больно ударилась коленом о сошку перевернутого ручного пулемета.
— Нет, тут должны быть винтовки, — чуть не плача от боли в ноге, успокаивала она себя. — Я сначала найду винтовку, а потом вернусь и закопаю красноармейца.
«Не вернешься», — твердил кто-то внутри нее.
— Честное слово, честное комсомольское! — вслух плакала Лия, пробираясь на ощупь между леском и берегом. На дереве что-то чернело. Лия вздрогнула, застыла, потом увидела, что это повисла на ветвях развернутая, как парус, красноармейская шинель.
— Это, наверно, взрывом подняло, — сказала она громко. — Им неудобно было рыть в верхнем... — И тут, вспомнив, что тот, обрубленный, боец тоже был в гимнастерке, чуть не задохнулась от вновь подступившей тошноты.
— Раненые есть?! — закричала она истошно.
Никто не отзывался. Она силой заставила себя снять с дерева шинель и набросить на плечи. Тошнота прошла, и сразу стало теплее. «Надо вторую найти, для Санюры, — подумала Лия. — И оружие... Самое главное — оружие...»
— А я про вас секрет знаю, — глотнув второй раз первача, вспомнила Санька, но тут же прикрыла рот рукой. Ей стало стыдно и как-то жалко капитана, а еще больше себя. Она в первый раз осталась почти впотьмах с мужчиной, если не считать Витечки и папаши одного ребенка из детсада. Тот, последним придя за своим дошкольником, которого еще раньше забрала жена, прижал Саньку в раздевалке и начал нешутейно лапать и вообще себе позволять. У него были бессовестные ясные глаза и, главное, властные руки. От этих рук она сразу сдурела и никак не могла отбиться. Но и он ничего не мог с ней поделать, потому что в других группах еще были дети и воспитатели и сама директорша не ушла домой.
Два дня потом она его боялась встретить, но ребенка водила жена, а когда он опять стал водить, то к Саньке больше не приставал. Сперва это ее обижало, после злило, и она даже стала к случаю и не к случаю вертеться в раздевалке и однажды нарочно мазнула его животом, а он только засмеялся, и все...
А Витечка оказался телком. И теперь, глядя на капитана и вспоминая, что про него говорила Марья Ивановна, Санька и верила ей, и не верила, а сама чуяла, что что-то будет, и ей было страшно, жутковато, но любопытно, как никогда в жизни. И все тело, а всего больше живот и ноги, растревоженные мотоциклом, ждали, ждали, а капитан макал в соль печеную картошку, пил из стакана самогон, заедал квашеной капустой и все медлил и медлил.
«Может, и вправду, инвалид?» — думала Санька и опять с ужасом вспоминала даже не бомбежку, а то, что она видела в ту минуту: как ее, Саньку, всю белую, голую, кладут в мокрую липкую землю. Ее груди, плечи, живот засыпают червивой землей; плечи, груди, которыми она так любовалась, крутясь нагишом перед зеркалом, на зависть и назло Лийке, которая сама-то, верно, себя стеснялась.
Хороша я, хороша,
Когда вся раздета, —
распевала Санька, подбирая живот и нахально крутя перед Лийкой пышными бедрами.
И вот теперь вроде сама судьба так повернула, и привез ее сюда на мотоцикле одну из трех сотен баб, и надо же.
— Какие еще там секреты? — устало сказал Гаврилов. — Скинь вон брюки. В земле они. Спать будем.
Он сейчас глядел на себя словно со стороны, и неохота и стыдно было ему заводить всякие игры и уговоры. Настроение да и время было не такое. Он знал, что и без всего этого под одеялом и шинелью все уладится.
Триста без малого женщин, растянувшись по шоссе больше чем на два километра, восьмой час брели под ледяной острой крупой, которая среди ночи вдруг обернулась дождем. Они сами толком не знали, куда идут, то ли в самую Москву, то ли просто поближе к ней, на другие окопы, и несли на плечах лопаты, а на них кошелки с пшеном или сахаром, а у некоторых были еще и ведра, тоже полные продуктов.
Было тихо. Поезда не стучали, самолеты не выли, никто не стрелял. Старшая шагала среди последних, не подбадривая никого и не ругая. Она чуяла сейчас в себе да и в других такую безотказность, что приказали бы повернуть всех, она бы их повернула, да они бы и без команды повернули. А дали бы винтовки и приказали лечь в грязь, которая сейчас расползлась по всей земле, — легли бы и даже, не умея, стреляли. Потому что усталость, покорность и злоба были уже в них такого накала, что этого добра могло хватить (и хватило ведь!) на годы и годы и еще бы детям осталось.
Но никто не приказывал им поворачивать, и винтовок им тоже не дали, и они плелись по шоссе, тащили кошелки и ведра, пока километрах в тридцати от брошенной церкви их не остановили молодые парни на мотоциклах и в таких же кожаных куртках, какая была на убитом лейтенанте. Эти приказали им сложить вещи в придорожном бараке, а с рассвета, который пришел почти сразу, одним назначили рыть противотанковые рвы вправо и влево от дороги, а другим тоже рыть землю и насыпать ее в мешки. И женщины стали ковырять грязь так, будто только сюда и шли, и не было никакой вчерашней бомбежки, ни колючего снега, ни тридцати верст ходу под крупой и дождем, а была одна земля, сверху липкая, а под низом точно кирпич, и они жалели, что не ухватили с собой кирок и ломов, от которых сто лет назад, на пересылке, убегали, как черт от ладана. Все было, как в позапрошлый вечер и во вчерашний день, только вот земля оказалась сверху помягче, а снизу — потверже, и уже не крутились рядом худой капитан и стеснительный шофер, а за-место чудного старичка в балахоне теперь всем заправлял толстый и мордатый инженер третьего ранга.
17. МЫТЬЕ И СТРИЖКА
— Ты что? Девка? — удивленно спросил Гаврилов. Он уже обнимал ее всю, открытую, радостную, покорную, нетерпеливую, поборовшую вдвоем с первачом его отчаяние, усталость, страх за семью и Родину, и вдруг — на тебе...
— Нет... Не бойся, — соврала она и жадно прижала его к себе, притянула за плечи, а там, внутри, боль ожила, но была небольшая, зато сладкая, такая живая, родная боль, что сразу сняла всю тоску, все томленье, что собирались в ней почти два года. Она изнутри поборола Саньку; Санька думала, что помрет, и с радостью готова была умереть, но вдруг не померла, а усталая и веселая осталась на топчане, и с ней был капитан, и она целовала его в кислые от капусты губы.
«Ох, девки, я баба уже! — радостно кричалось в Саньке, и хотелось вот так, голяком, выбежать на улицу и кричать на весь свет: "Женщина я! Я — женщина!" И плевать было, если скажут: так он тебе не муж! Ну и пусть. А чего с их, с мужей?! Вон маманя как со своим алкоголиком мучилась. А я баба! И мужа мне не надо. Вот какое счастье во мне. А не муж, так все равно мой. Вот захочу, обниму, прижму и не отпущу от себя. А? И глядите, зырьте, завидуйте!»
— Капитан-капитан, улыбнитесь, — вдруг пропела Санька неожиданно для самой себя, и Гаврилов не узнал ее голос, такой он был другой, веселый, будто его долго прятали, таили, а он вырвался и хлынул, как весенняя вода с гор, и впервые за четыре почти месяца, с самого 22 июня, капитан Гаврилов тихо и счастливо засмеялся.
И гордая Санька не засыпала с ним до утра и ненасытно любила его, как взрослая баба, не тревожась и не чуя, что уже приняла в себя пацана-безотцовщину... которого призовут на действительную ровно через двадцать лет, в год, когда полетит первый космонавт Юрий Гагарин.
А километров по прямой за двадцать, на том берегу, кутаясь в шинель, Лия ползла вдоль леса, искала лопату и винтовку.
— Санюра! — вдруг крикнула она, но при таком ветре вряд ли голос мог долететь до церкви. Надо было одной искать, и она искала и искала, но ни лопат, ни винтовок не было.
«Надо взять пулемет, — решила Лия. — Кажется, он для двоих. Я видела его в Осоавиахиме. Может быть, разберусь». Она вернулась во вторую воронку и подняла тяжелый «Дегтярев», закинув за плечо противную сошку-двуногу. Так, пошатываясь, она перешла мост и, обессиленная, закричала:
— Са-ню-ра!
— Ю-у-ра! — разнеслось по берегу, и больше никто не откликнулся.
Лия опустила пулемет на землю и кинулась к церкви.
— Санька! Санька! — надрывалась она. — Да не прячься, Санька! Санька, черт тебя побери! — Она забыла все другие ругательства. Санюры нигде не было. На верстаке стояла керосиновая лампа, которую забыли погасить, но керосин, видно, в ней кончился, фитиль коптил, и свету от нее было мало. — Санька! — крикнула Лия, и только гулкие своды передразнили: — Ань-ка-а.
— А сумка где? — вспомнила Лия и, схватив лампу, стала шарить в церкви. Сумки не было. На полу валялись только пустые мешки из-под крупы и сахарного песка.
«Я схожу с ума, — подумала Лия. — Нет, я просто так долго там копалась, что она не выдержала и ушла. Ведь звала же меня она: «Лийка! Лийка!» Надо посмотреть на дороге».
Но на дороге, кроме ветра и колючего снега, никого не было. Лия возвратилась назад, и хоть мело и холод стоял отчаянный, в церковь вошла только на минуту — взять два пустых мешка и тут же побрела мимо траншей, ища лопату. Лопату она нашла и спустилась с ней к мосту, подняла ручной пулемет и с мешками, лопатой и пулеметом побрела на тот берег. Глаза ее уже успели привыкнуть к темноте. Она нашла обрубленного взрывом красноармейца и стала засыпать его землей. Теперь он не внушал ей такого ужаса. Все-таки он еще недавно был живым и, наверно, добрым и отважным человеком. Он не бросил своих товарищей, и она тоже не бросит. Она засыпала его землей, думая о том, что утром, когда рассветет, она найдет и похоронит еще двух красноармейцев.
Чуть выше воронки, левей от дороги, Лия разглядела начатый окоп и стала неумело его углублять, чтобы спрятаться в нем вместе с ручным пулеметом. Ведь немцы могли появиться каждую минуту.
Думая об убитых красноармейцах и где-то спрятавшихся немцах, она работала без роздыху, наверно, часа два, пока крупа не растаяла и не полилась дождем. Тогда, тревожась за непонятный и, наверное, такой капризный, но необходимый ей ручной пулемет, она отбросила лопату, села на край окопа и, как ребенка, прикрыв пулемет шинелью, стала его разглядывать. Сверху был круг, она знала, что это магазин и в нем патроны и, кажется, когда патроны кончаются, магазин снимают и ставят другой. Поэтому при пулемете два красноармейца: один стреляет, а другой меняет диски. Но бывает так, что остается всего один пулеметчик, и все равно как-то ухитряется вести огонь. Вот здесь, кажется, надо нажимать. Это, похоже, как в обыкновенной винтовке. Но сначала надо установить эту двуногую сошку. Был такой плакат про испанскую войну. Мужчину убили, он лежит мертвым лицом к небу, а черноволосая девушка припала к пулемету. Но там, кажется, другой пулемет, с лентами, «максим».
Она стала на колени в своем окопчике, вмяла сошку в землю бруствера, прижалась к прикладу и надавила на спуск. Больно и радостно толкая ее в плечо, пулемет забрызгал огнем в мокрую ночь.
— Какое счастье! Какое счастье! — тихо улыбалась Лия. Она снова укутала пулемет и села на край окопа. Ноги, чтоб окончательно не замерзли, она укутала мешками.
Машина шла быстро. Останавливать ее начали только возле Москвы и в самой Москве, а потом она намертво встала у госпиталя, и тут Ганя с нее соскочила и побежала с кошелкой к трамваю.
— Ты откуда такая шахтерка? — спросила ее кондукторша, но Ганя только рукой махнула. Ей все еще взрывами закладывало уши, так-такало пулеметными очередями и пугало стонами раненых бойцов и женщин. «Антихрист», — вспомнила она слышанное в давней молодости или даже в детстве что-то страшное и непонятное, не иначе вроде сегодняшнего, когда сверху тарахтело и выло, и ты сама билась, как куренок, пойманный для бульона.
Она ехала точно во сне, хотя остановки не проглядела и пересела, где надо, на другой трамвай, а потом шла от Ильинских тоже точно во сне, но опять же парадного не перепутала и пешком поднялась на хозяйкин этаж, отперла дверь общую, а потом ихнюю, обитую дерматином, села в комнате на натертый пол, и тогда уж во всю глотку захлебнулась криком и слезами за всю свою разнесчастную жизнь.
— Ой, — голосила она, будто сама умерла и сама же над собой заходилась плачем. — Ой-ой, — и все время одно «ой», потому что других слов уже не помнила. А, устав кричать, заснула на натертом паркетном полу и спала в пустой квартире до утра, как мертвая, а утром пришла в себя, затопила ванну и долго скребла свое уже ни на что не годное тело. Но скребла она его и скребла, потому что твердо помнила, что говорили бабы про немцев в поезде. А потом отперла гардероб, надела Ринкину рубаху и Ринкино платье — почти враз были и села к окну подшивать старое хозяйкино демисезонное пальто. Надо было побыстрее управиться, чтобы успеть похлопотать о карточках и еще съездить на Икшу, может, есть письма от племяшей, и опять же надо было поехать в Кланькину больницу, узнать, жива ли. Словом, дел было много, а уши надо было держать торчком и на всякий случай ходить мытой.
— Ехать пора, — сказал Гаврилов.
За мутным серым окном лил дождь, но в комнате уже что-то можно было разобрать, и он сел писать записку связистке.
— Посмотри, прогорело ли. Трубу закрыть надо, — кинул он Саньке через плечо.
Она, большая, белая, вылезла из-под шинели, босиком поплыла к голландке и стала шуровать в топке черные головешки.
— Ух ты! — Он повернул голову, глядя на рослую, здоровенную деваху и не веря, что это он всю ночь вбивал в нее свои печали, тоску по жене и детям, позор отступления и вообще горечь этих четырех страшных месяцев, такая она была ладная, все равно как нарисованная или слепленная, но не из глины, а из чего-то живого, мягкого и гладкого. Она обвила его сзади руками, он ткнулся ей затылком в крепкую грудь, но писать записки не бросил и только вслух сказал:
— Одевайся. А то немцы голой увидят.
Она разняла руки, а он достал из кармана сложенной на столе гимнастерки две красные тридцатки и булавкой подколол их к записке, потом вздохнул и подколол еще червонец.
— Быстро, быстро! — повторил, но еще раз обнял Саньку, хотя уже небрежно, без той, ночной ласки, и она почуяла, что радость выходит из ее большого молодого тела, как все равно воздух из проколотой волейбольной камеры. И тогда назло себе и ему, потому что стало обидно и тоскливо, она завыла в голос:
— Лийку забыли!
— Кого? — не сразу понял он, спешно, как по тревоге, накручивая на ноги теплые портянки и надевая сапоги.
— Лийку! Подругу... Вот кого! — кричала Санька. — Обманул меня, обманул. Лийку бросил.
— Ох, черт! — вздохнул он. — Да одевайся ты скорей. Чего ты мелешь?..
Но Санька, завернувшись в его шинель, навзрыд голосила:
— Лийка! Лийка! Одна осталась! А ты меня увез. А нельзя ей в плен... Она еврейка...
— Да брось ты, — он растерянно потрепал ее по щеке. — Давай одевайся. Ну, съездим, поглядим, где она. Чего уж там... Снова семь бед — одна холера.
— Ой, да ты жаркий весь! — вскрикнула Санька, снова припав к нему.
«Простудился, — подумал Гаврилов. — Так и есть...»
— Одевайся, одевайся, — повторил устало. Теперь его всего ломило. «Спасибо за мотоцикл, кожаный», — зачем-то вспомнил он.
— Я в момент! — крикнула Санька и бросилась к печке, где сушилась вся ее одежда, а он вытолкнул мотоцикл из избы, прогрел мотор, подождал Саньку, навесил замок и сунул ключ назад под перильце. Улицу от долгого дождя всю развезло, колеса сперва буксовали, но он, вырулив, выскочил из этой богом и чертом забытой деревни за бугор, где их снова тряхнуло, и поехал через поле на второй скорости, то и дело застревая в разбухшей колее.
— Успеем?! Успеем?! — задыхалась за спиной Санька, теперь уже как своего обнимая капитана, а он покорно сжимал мотоцикл, который плохо слушался ослабших, трясущихся, словно не своих рук.
Но километра за полтора до переезда, где колея, петляя, лезла последний раз вверх, они увидели, как по асфальтовой дороге гуськом, издали похожие на утят, тянулись в сторону Москвы танки. Первые два уже миновали переезд.
— Все. Вопросов не имеется, — выдохнул Гаврилов и развернул мотоцикл.
— А как же Лийка? Как Лийка? — скулила за его спиной Санька. — Ей же в плен нельзя.
— Рыжая она и документ у тебя... может, не сообразят, — брякнул Гаврилов, как и Санька, забывая, что рыжая Лия осталась за церковью не для того, чтобы сдаваться в плен.
Но они знать не знали, что, вымерзнув и вымокнув, Лия только что увидела немецкого танкиста — он по грудь стоял в башне головной машины, но выстрелить не смогла, потому что заело пулемет. Лия колотила кулаком по диску, а танкист захлопнул люк, танк сполз с дороги и растер правой гусеницей рыжую Лиину голову по диску ручного пулемета. Это у него отняло не больше минуты, но другие танки успели проехать мост (словно знали, что его не заминировали), и теперь первая машина шла по шоссе последней.
Раненых подвезли к госпиталю (бывшей школе), которую водителю указали на КПП. Тетка Ганя куда-то испарилась, а Гошка, хоть весь закоченел, не снимая с шеи автомата, стал вместе с госпитальными санитарками таскать носилки. Потом их с водителем напоили горячим какао, и они поехали на улицу Горького в Моссовет. Там, в бюро пропусков, водитель долго дозванивался по телефону, а Гошка сидел рядом, но когда водителя наконец пустили наверх, какой-то сержант с петлицами внутренних войск ввалился в помещение и, ни слова не говоря, отобрал у Гошки автомат.
Гошка рыдал, как маленький, пока через час не пришел водитель и, усадив его в ледяную кабину, по дороге в гараж закинул домой. Дома тетка ахала до утра над Гошкой, а утром потащила его на Казанский вокзал, где полным ходом шла эвакуация.
Почти до вечера, выбиваясь из сил, Санька и капитан крутились по раскисшим полям, не решаясь свернуть на шоссе, пока, озверев и изматеря мотоцикл и друг друга, выбрались наконец на шоссе, а оно было перегорожено противотанковым рвом и мешками, набитыми под завязку землей и глиной.
— Вот тебе «девочки и дамочки», вот тебе «не ройте ямочки»! — на минуту перебарывая жар, обрадовано сказал Гаврилов.
— Что? — не поняла Санька.
— Да так, частушка одна, — шепнул он, а она не расслышала.
Кожаный на мотоцикле, лицом постарше убитого, проверил документы и пропустил их, но тут из-за мешков кинулось к ним несколько женщин и впереди них Марья Ивановна, старшая.
— Вон вы где?!
Санька спрыгнула с багажника и бросилась ее обнимать так, словно были родными сестрами, а Гаврилов поехал дальше, но тут же притормозил и подождал, подбежит ли Санька попрощаться. Но Санька, несчастная и пришибленная, стояла среди женщин и не могла двинуться с места.
— Рыжая где? — спросила ее старшая, но Санька не ответила и уже хотела кинуться к мотоциклу, но капитан, видно, устал ждать и поехал в Москву. Он снова вспомнил, что не простился с детьми и с Симой, и от злобы выжал педаль до отказа. Мотоцикл взбрыкнул, как необъезженная лошадь, и помчался по шоссе.
Жар ломал Гаврилова и грызла обида от того, что не он командует тут. Без него полным ходом идет работа, канавы роют, мешки, как на Малаховом кургане, набивают землей. А он, сердобольный армейский капитан, гонял ради пшенной каши «газик» за сто верст с гаком, и вот что оно получилось.
Понимая, что больше уже простудиться нельзя, он ехал быстро, а навстречу вместе со старой песней «От голубых уральских вод» шла рота курсантов. Он притормозил на обочине, глядел на них. Они шли в чистых шинелях, не обросшие, молодые, но какие-то чересчур тощие, будто заморенные, и он тут же представил, что будет с ними завтра.
«Да что я — собес, что ли! — оборвал себя. — Жалость, жалость! А что жалостью можно? Тут сила на силу. У той силы жалости нету, и у этой быть не должно. Я вон мертвого пожалел, кожана не снял; а тут живых не больно жалеют», — вспомнил он своих женщин, которые сейчас долбили землю за противотанковым рвом.
«Да, для Москвы стараемся! А для меня, между прочим, Слуцк, как Москва, был. Да и другому свое родное село или город, как Москва!.. И только под самой Москвой вспомнили, что отступать некуда... Эх, гром не грянет, мужик не перекрестится, — злобно подумал он, перескакивая в жару с одной мысли на другую. — Так-то, мужик... А ты ведь не мужик да и не русский вовсе! Тебе бы не трубку курить, а раньше почесаться! — обратился он опять на «ты» к человеку, с которым спорил позапрошлой ночью. — Эх, Гаврилов, ты уже спекся. Можно сказать, готов!..»
И оттого, что тревога за Москву спала, стала еще сильней болеть душа за семью, Симу и детей, которым он ничем помочь не может.
У заставы у него опять спросили документы. Он вытащил их вместе с накладной и вспомнил, как отоваривался пшеном, разгонял грабителей.
— Эй, младшой, — спросил возвращавшего ему бумагу дежурного, — что позавчера за важное сообщение передать грозились?
— Какое? — недоуменно поглядел на него младший лейтенант.
— Ну, такое... С утра обещались, а потом, вроде, отложили...
— А! Мура... — засмеялся дежурный. — Про то, как теперь работают эти самые, ну, бани-парикмахерские, в общем, мыться-стричься. — И он провел ладонью по своим молодым красным щекам, как бы приглашая небритого капитана потрогать свои.
— В госпитале побреют, а то и обмоют, — ответил Гаврилов, махнул рукой и поехал дальше. Он чувствовал, что температура в нем уже перевалила за сорок.
1968