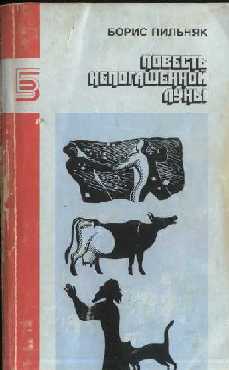
Источник: Борис Пильняк; «Повесть
непогашенной луны»; рассказы, повести, роман.
Библиотека журнала «Знамя». Москва,
Издательство «Правда», 1990 г.
OCR и правка: Давид Титиевский, январь 2007 г., Хайфа
Библиотека Александра Белоусенко
-----------------------------------------------------------------------------------------
Борис Пильняк
Рассказы
Снега
Старый дом
Грэго-Тримунтан
Целая жизнь
Человеческий ветер
Без названия
Снега
I
С вечера в хрусткой тишине были слышны ямщичьи колокольцы; должно быть, проехали со станции. Колокольцы прозвонили около усадьбы, спустились в овраг, потом бойко — от рыси — задребезжали на деревне и стихли за выгоном. В усадьбе их слышали.
Полунин сидел в кабинете с Архиповым за шахматным столиком. Вера Львовна была у ребенка, говорила с Аленой, затем ходила в читальню-гостиную, рылась в книгах. Кабинет был большим, на письменном столе горели свечи, валялись книги, над широким кожаным диваном висело, поблескивая тускло, старинное оружие. В окна без гардин заглядывала лунная безмолвная ночь. В окно проходил телефонный провод, рядом стоял столб, и провода гудели в комнате, где-то в углу у потолка, однотонно, чуть слышно, точно вьюга,— гудели всегда. Сидели молча,— Полунин,— широкоплечий, с широкой бородой, Архипов,— сухой, четкий, с голым черепом.
Пришла Алена,
принесла молоко, простоквашу и творог.
— Милости прошу
поужинать, чем бог послал,— сказала застенчиво, поклонилась, сложила руки под
грудями, молодая, скромная, в белом платочке, с тихими глазами. Сели к столу,
ужинали молча, рассеянно. Алена присела было, но скоро ушла — заплакал ребенок,
с нею ушла и Вера Львовна. Самовар шумел чуть слышно, вил тонкую верею, в
унисон с проводами. Мужчины взяли с собой чай, вернулись опять к шахматам.
Вернулась Вера Львовна, села на диван рядом с мужем, сидела неподвижно,
напоминали глаза ее глаза некой ночной птицы — были неподвижны, сосредоточены.
— Посмотрели, Вера
Львовна, Гойю?
— Просматривала
историю искусств, потом сидела с Наташей.
— Удивительнейшая
чертовщина! А вы знаете, есть еще живописец —Бохс. У того еще больше
чертовщины. Его искушения св. Антония.
Заговорили о Гойе,
о Бохсе, о св. Антонии, говорил Полунин, незаметно перевел разговор на
Франциска Ассизского,— читал сейчас творения Франциска, увлекался им,— его
аскетическим приятием мира,— потом разговор иссяк.
Ушли Архиповы
поздно, Полунин ходил провожать. Орион подошел к полуночному своему месту,
мороз в безмерной тишине жестко колол, под ногами скрипел снег.
Возвращаясь,
смотрел в пустынное небо, искал любимое свое созвездие Кассиопею, следил за
Полярной. Затем задавал на ночь корм лошадям, поил их, угощал специальным
посвистом; в конюшне было тепло, пахло конским потом, тускло горел на стене
фонарь, лошади выдыхали парные серые облака, жеребец Поддубный косил большим
наивным глазом, точно неумело следил. Запер конюшню, постоял на дворе на снегу,
осмотрел запоры.
Алена в кабинете на
диване постлала постель, сидела около в кресле, кормила грудью ребенка, склонив
к нему голову, напевала тихо, без слов. Полунин сел рядом, говорил о хозяйстве,
принял с рук Алены ребенка, качал его. В окна шли зеленые пласты лунного света.
Полунин думал о Франциске Ассизском, об Архиповых, потерявших веру и все же
ищущих закона, об Алене, о хозяйстве. В доме была тишина. Уснул быстро, спал
бодро, крепким сном, к которому привык давно, после бессонных прежних ночей.
Над безмолвными
полями проходила луна,— не спала, верно, этой ночью Ксения Ипполитовна
Енишерлова.
II
День пришел белый,
прозрачный, холодный,— тот, в которые дышится паром, и на деревья, дома,
изгороди садится иней. На деревне дым из труб пошел прямо, сизый. За окнами был
опустевший сад, лежала деревушка, придавленная снегом к земле, дальше шли белые
поля, овраг, лес. Небо было бело, воздух — бел, солнце не выходило из белых же
облаков.
Заходила Алена,
говорила о хозяйстве, ушла палить к Рождеству свинью.
В читальной часы
пробили одиннадцать, им ответили часы из зала, и сейчас же за ними прозвонил
телефон; в пустынной тишине его звон прозвучал необычно и резко; в телефоне
глухо, издалека зазвучал женский голос.
— Это вы, Дмитрий
Владимирович? Дмитрий Владимирович, вы ли это?
— Да. Но кто
говорит?
— Говорит Ксения
Ипполитовна Енишерлова,— ответил голос покойно и зазвучал взволнованно:— Это
вы, мой аскет и искатель? Это я, это я,— Ксения...
— Ксения
Ипполитовна,— вы?— Полунин спросил радостно.
— Да-да... О,
да-а!.. Я устала метаться и быть на кончике острия, и я приехала к вам в поля,
мой аскет, где снег, снег, снег и небо... к вам, искатель... Примете ли вы
меня? Вы простили мне тот июль?
Полунин стоял около
телефона сгорбившись, лицо его было серьезно и внимательно.
— Да, я простил.
Одно лето, давно
уже, часто Полунин и Ксения Ипполитовна встречали вместе июньские всходы, и по
зарям, в матовой росе на террасе, когда горько пахло березами и меркнул
хрустальный серп на западе, прощаясь до завтра, Полунин целовал свято наивные,
думалось ему, Ксении Ипполитовны, в горьком березовом соке, чистые губы, и
поцелуи эти были наивны и чисты. Но Ксения Ипполитовна потом смеялась над ними
и покойно пила изнемогающую, протестующую страсть Полунина порочными своими
губами, чтобы покинуть его потом, сменять на Париж и оставить после себя
лоскутья любви чистой и страстной.
Были те июнь и
июль, были с тем, чтобы принести радость и горе, добро и зло. Алену встретил
Полунин уже уставшим, уже нашедшим свое. Жил один, с книгами. Алену встретил
весной, сошелся быстро, просто, зачав ребенка,— нашед в себе уже не страстные
инстинкты, но инстинкт отцовства. Алена в дом пришла без венчания, тоже уже
после весенней любви, пришла вечером, поставила в кухне на скамью свой
сундучок, прошла в кабинет, сказала тихо:
— Вот я. Пришла,— и
платком утерла уголки губ, красивых еще очень и скромных.
Ксения Ипполитовна
приехала к заполдням, когда день уже меркнул и над снегами пошли синие полосы.
Небо потемнело, налилось синей мутью, кричали под окнами на снегу снегири.
Ксения Ипполитовна подъехала к парадному, позвонила, хотя Полунин ей отпирал
уже. Прихожая была большая, светлая, холодная. Когда входила Ксения Ипполитовна,
на минуту упали на окна солнечные лучи, свет в прихожей стал теплым и
восковым,— лицо Ксении Ипполитовны показалось Полунину в нем зелено-желтым, как
кожица персика,— безмерно красивым. Но лучи погасли, свет стал синим,
сумеречным,— Ксения Ипполитовна померкла, стала уставшей, постаревшей.
Алена поклонилась,
Ксения Ипполитовна на момент приостановилась, верно, раздумывая: — подать ли
руку? — подошла быстро, обняла Алену, поцеловала.
— Здравствуйте, я
ведь старый друг вашего мужа. Руки для поцелуя Полунину не дала.
С тех пор, с того
давнего лета Ксения Ипполитовна изменилась очень. Так же прекрасны были глаза,
так же тонки и красивы были своевольные губы, прямой нос, изломанные брови,—
появилось нечто, что напоминало поздний август. Носила раньше она светлые
костюмы,—была одета сейчас в черное платье, рыжие свои нежные волосы заложила
простым жгутом.
Прошли в кабинет,
сели на диван. Свет стал синий, за окнами лежал синий снег. Мебель и стены в
сумерках посерели. Полунин был очень серьезен и внимателен, заботливо стал
около Ксении Ипполитовны. Алена ушла; уходя, смотрела на мужа долго и
пристально.
— Я сюда прямо из
Парижа. Это очень странно. Собиралась уезжать к весне в Ниццу, складывала вещи
и нашла у себя в гардеробе гнездо мыши; мать убежала и осталось три детеныша,—
они были без шерсти и едва ползали. Я все дни проводила с ними, но на третий
день умер первый, затем ночью оба остальные... И наутро я стала собираться в
Россию, сюда, к вам, где снег, снег... Вы знаете, в Париже нет снега, а у нас скоро
Рождество, русское Рождество. Ксения Ипполитовна замолчала, скрестила пальцы,
поднесла руки к щеке; были пальцы ее тонки и длинны, с полированными ногтями;
мелькнуло в лице сиротливое и грустное.
— Говорите, Ксения
Ипполитовна.
— Я ехала нашими
полями и думала о том, что жизнь здесь скучна и проста, как эти поля, но что
жить здесь можно не только от вещей. Знаете,— жить от вещей. Меня зовут — я
еду, меня любят — я позволяю любить, в витрине бросилась в глаза вещь — я
покупаю. Если бы не было тех, кому не лень меня двигать,— я бы не двигалась...
Я ехала нашими полями и думала о том, что так нельзя. И еще я думала о том, что
приеду к вам и расскажу о мышах... Париж, Ницца, Монако, платье, английские
духи, вино, де-Виньи, неоклассицизм, любовники... У вас все по-старому.
Ксения Ипполитовна
встала, подошла к окну.
— Снег, синь, как в
Норвегии. В Норвегии я бросила Вальпянова. В Норвегии люди похожи на
клейдейсталей. Лучше России — нет. У вас все по-старому. Вы молчите. Вы
простили — тот июль?
Полунин подошел, стал
рядом.
— Да, простил,—
сказал серьезно.— Снег в сумерки всегда синий.
— А я не простила
того июня. А в читальной — тоже по-старому. Помните, мы читали вместе там
Мопассана.
Ксения Ипполитовна
пошла к читальной, отворила дверь, вошла. В читальной были книжные шкафы, где
за стеклами стояли ровные золоченые тома, стоял диван и около него большой
круглый полированный стол. В окна шли последние желтые лучи, свет здесь был не
холодно-синим, как в кабинете,— восковым, теплым, и опять лицо Ксении
Ипполитовны показалось Полунину необыкновенным — зеленым, а волосы — цвета
мальв; глаза ее, большие, черные, пустые в своей глубине, смотрели упорно.
— Вам, Ксения
Ипполитовна, бог дал величайшее— красоту.
Ксения Ипполитовна
посмотрела пристально на Полунина, усмехнулась.
— Величайший
соблазн дал мне бог... Вы мечтали о вере — нашли ее?
— Да, нашел.
— Вера — во что?
— В жизнь.
— Ну, а если ни во
что не верить?
— Невозможно.
— Не знаю. Не
знаю...— Ксения Ипполитовна положила руки на голову.— В Париже и Ницце меня
ищет сейчас японец Чики-сан. Я не знаю,— знает ли он про Россию. Я, вот уже
неделю,— как умер последний мышонок,— не курю, а раньше я курила египетские.
Да,— невозможно не верить.
Полунин подошел
быстро к Ксении Ипполитовне, взял ее руки, опустил их; были глаза его очень
внимательны; он сказал серьезно и тихо:
— Ксения, не надо
грустить. Не надо.
— Вы меня любите?
— Как женщину —
нет, как человека — да,— ответил твердо, тихо.
Усмехнулась,
опустила глаза. Пошла быстро, села на диван, поправила черную свою юбку, улыбнулась.
— Я хочу быть
чистой.
— Вы очень чистая.—
Полунин сел рядом, сгорбился, поставил локти на колена.
Молчали.
— Вы постарели,
Полунин.
— Да, постарел.
Люди стареют, но это не страшно, если они нашли.
— Да, если — нашли... А теперь — как? Почему — Алена?
— Что же, я
устал... Рублю дрова, топлю печи, живу, чтобы жить, читаю Франциска Ассизского,
думаю, и мне очень грустно, что это никогда не повторится. Он, я знаю, смешон,—
но у него вера. А Алена — я люблю ее, навсегда.
— А вы знаете, как
пахнут маленькие мышата?
— Нет. Это зачем?
— Они пахнут, как
новорожденные — дети людей, конечно. У вас дочь, Наташа. Это самое главное.
Солнце померкло, на
западе осталась в холодных облаках огромная красная рана, снега были
фиолетовыми, в комнатах стала лилово-черная муть. Вошла Алена, из раскрытой
двери в кабинет слышно было, как громко гудели провода,— по полям к вечеру
пошла колкая серая поземка.
Вечером поднялись и
пошли по небу поспешные мутные облака, и в них луна плясала. Крутилась —
свивалась, ползла поземка, ветер дул по-стариковски, злобно и колко. Было в
полях сиротливо, непокойно и нехорошо, темными провалами заливалось небо.
В семь пришли
Архиповы.
Ксения Ипполитовна
знала Архиповых давно, еще до их свадьбы, знали друг друга безразлично. Архипов
поцеловал руку Ксении Ипполитовны, здороваясь, заговорил о загранице,— знал и
уважал Германию. Перешли в кабинет, разговаривали, немного спорили; говорить,
собственно, было не о чем. Вера Львовна молчала, как всегда, уходила к Наташе.
Полунин был тоже молчалив, ходил по комнате, заложив руки назад. Ксения
Ипполитовна, верно бессознательно, шутила с Архиповым тоном своевольным,
кокетливым,— Архипов отвечал серьезно, точно, покойно,— не умел вести
разговоров легких и острых, чувствовал, верно, неловкость. Заговорили о Рождестве;
Ксения Ипполитовна доказывала, что Рождество надо провести шумно, с
сочельником, со святками, тройками, с Новым годом. Из пустяков, из того, что
Ксения Ипполитовна утверждала некий промысел в святочном гадании, вспыхнул
между Полуниным и Архиповым спор о старейшем,— о вере и безверии. Архипов
говорил покойно и твердо, Полунин волновался, путался и сердился. Архипов
утверждал, что вера, как и все чувства, как инстинкт,— не нужна и вредна, что
есть единственное непреложное — ум, что нравственно только то, что разумно.
Полунин ответил, что умное и неумное — не мерило жизни, ибо — разумна ли жизнь?
— что без веры — смерть, что в жизни непреложна лишь трагедия веры и духа.
— А вы знаете, что
такое мысль, Полунин,— мысль?
— О, да. Знаю.
— Не улыбайтесь,
ведь вы знаете, что мысль убивает все? Продумайте, промыслите трижды ваше
святое — и оно будет простым, как стакан лимонада.
— Но смерть?
— Смерть — это уход
в ничто. Это всегда у меня в запасе,— когда будет скучно. Пока мне хочется жить
и делать.
Когда спор уже
иссякал, Вера Львовна сказала покойно, как всегда, и тихо:
— В жизни трагично
только то, что нет ничего трагичного, а смерть — смерть только одна, когда
человек умирает физически. Поменьше метафизики.
Ксения Ипполитовна
слушала спор непокойно, настороженно,— горячо ответила Вере Львовне.
— Но все-таки есть
трагедия — отсутствие трагедии?
— Да. Только одна.
— А любовь?
— Нет. Любви — нет.
— Но вы же ведь
замужем?
— Я хочу ребенка.
Ксения Ипполитовна
сидела с ногами на диване, поднялась на колени, протянула руку, крикнула:
— А-а? Ребенка! Это не инстинкт?
— Это закон.
Заспорили женщины.
Затем спор иссяк. Архипов предложил преферанс. Раскрыли зеленый столик,
поставили по углам свечи, играли не спеша, молчаливо, со старинной записью,
по-зимнему. Архипов сидел прямо, положив локти на стол, держал их под прямым
углом. За домом свистел ветер, вьюга разрасталась, где-то сиротливо, тоскливо
скрипело, хлябало железо. Пришла Алена, села около мужа, сидела тихо, скрестив
на груди руки. Коротали вечер.
— Последний раз я
сидела за преферансом в шхерах, в маленькой деревенской гостинице, была
страшная буря,— Ксения Ипполитовна заговорила задумчиво.— Нет, в жизни есть
большие трагедии и маленькие трагедийки.
Ветер свистел
упорно, тоскливо, в окна хлестала метель.
Ксения Ипполитовна
засиделась до позднего часа, Алена упрашивала ее остаться ночевать,— не
осталась, уехала.
Полунин провожал до
околицы. Поземка летела стремительно, больно кололась, свистел ветер, была
кругом зеленая, снежная муть, луна прыгала наверху в облаках. Лошади шли
трудно, шагом. В полях был мрак.
Возвращался Полунин
один, без дороги; ветер дул в лицо, снег слепил глаза. Заходил убирать лошадей;
Алена встретила его у кухни, поджидала,— было лицо ее тихим и скорбным; подошел
к ней, обнял, поцеловал.
— Не грусти, не
бойся. Тебя одну люблю, только. Знаю, отчего затомилась.
Алена взглянула
благодарно и нежно, улыбнулась застенчиво.
— Ты не понимаешь,—
одну любить. Другие этого не умеют.
Над домом выл
ветер, в доме была тишина. Прошел в кабинет, сел к столу; заплакал ребенок,
ходил со свечой к нему, принес его Алене, Алена кормила. Ребенок был маленьким,
хрупким, красным,— нарождал безмерную нежность в сердце Полунина. Одиноко
светила затекшая свечка.
На рассвете
прозвонил телефон. Полунин встал уже. Рассвет творился медленно, синими
красками, за окнами и в комнатах была синяя муть, окна замело снегом, вьюга
стихла.
— Я вас разбудила,
вы уже легли? — говорила Ксения Ипполитовна.
— Нет, я уже встал.
— Чтобы
бодрствовать?
— Да.
— А я только что
приехала. Буран кружил нас полями и без дорог, все дороги замело... Я ехала и
думала, думала,— о снеге, о вас, о себе, об Архипове, о Париже... О, Париж!..
Вы не сердитесь, что звоню я, о, мой аскет... Я думала о нашем разговоре.
— Что — думаете?
— Вот... вот, мы с
вами говорили... но вы простите,— ведь так вы не можете говорить с Аленой. Она
ничего не поймет?.. Как же,— как?
— Можно совсем не
говорить и все понимать. Есть нечто, что соединяет без слов не только меня и
Алену, но меня и весь мир.
— Ну да...— Ксения
Ипполитовна сказала тихо,— простите,— баба Алена...
— Я ее люблю, и у
меня от нее дочь.
— Ну да. А мы любим
без детей... мы встаем не утром, а днем, и днем скучаем, чтобы веселиться
ночью, когда вы разумно спите,— крикнула Ксения Ипполитовна.— Мы «гейши
фонарных свечений»,— помните у Анненского? Ночью мы сидим в ресторане, пьем
вино и слушаем ночное кабаре. Любим без детей... А вы? — вы живете разумно,
правдивою жизнью, ищете правду... что же!? — правда!..— крикнула зло,
насмешливо.
— Это
несправедливо, Ксения,— Полунин ответил тихо, опустив голову.
— Нет, погодите!
Тоже из Анненского: «и было мукою для них, что людям музыкой казалось...» мы —
«гейши фонарных свечений», но — «нет у Киприды священней несказанных нами
люблю...»
— Это
несправедливо, Ксения.
— Несправедливо? —
крикнула, расхохоталась и вдруг затихла, заговорила скорбно, еле слышно — «но
нет у Киприды священней несказанных нами люблю...», люблю-у... Милый, тогда,— в
том июне я смотрела на вас, как на мальчика, а теперь я кажусь себе маленькой,
маленькой, а вы — большим, который защитит... Как сиротливо было ночью одной в
полях! Но это — искупление... Вы единственный, кто любил меня свято. Спасибо
вам, но у меня нет уже веры.
Рассвет был серым,
медленным, холодным, красно бурел восток!
III
После Парижа встретил
Ксению Ипполитовну старинный дом, опиравшийся на свои колонны целое столетие,
архитектуры классической, с фронтоном, двухсветною залою, с гулкими коридорами,
с мебелью, застывшей так, как ставилась она последний раз при прадеде,—
встретил дом, уже отживший, ее, последнюю в роде, безразлично и хмуро,
холодными комнатами, темными и страшными ночью, многолетней пылью. Прежнее
помнил один ветхий лакей,— помнил прежних господ, старую барскую ширь;
горничная, что приехала с Ксенией Ипполитовной, не говорила по-русски.
Поселилась Ксения
Ипполитовна в комнатах матери; сказала старику, что порядок будет прежний по
старинным правилам. Тогда же старик сообщил, что при старых господах в
сочельник собирались родные и близкие, а под Новый год — весь уезд, все дворянство
«даже без приглашения почитало за долг» приехать, и что теперь же надо готовить
запасы.
Поднимал старик
Ксению Ипполитовну в восемь, подавал кофе и после кофе говорил сурово:
— Вам надо, барыня,
пройтись, прогуляться по хозяйству, а потом в кабинет книги читать и записать
приходо-расходы, управляющий придут. Так барин всегда поступали.
И делала все так,
как указывал старик,— по прежнему порядку, была тиха очень, покорна, печальна,
читала толстые наивные книги, те, где «ш» путалось с «т». И лишь иногда, тайком
от деда, звонила Полунину и говорила с ним долго и боязно, с тоскою, ненавистью
и любовью.
На святках катались
на тройках, гадали; Ксении Ипполитовне вышла из воска колыбель; ездили в город
ряжеными, заезжали на любительский спектакль в клуб, Полунин рядился лешим,
Ксения Ипполитовна — лешего дочкой, березницей. Ездили к соседним помещикам.
Святки стояли ясными, морозными, с красным утренним солнцем, с восковым от
солнца дневным светом, с длинными синими вечерами.
IV
К Новому году, к
шумному балу в доме, старик поднял суматоху, чистил паркеты, расстилал ковры,
наливал лампы, расставлял новые свечи, доставал из сундуков сервизы и серебро,
заготавливал нужное для гадания,— к вечеру дом был готов, парадные комнаты
блистали огнями, у дверей стояли парнишки из села.
Ксения Ипполитовна
проснулась в этот день поздно и не вставала, лежала до обеда в кровати, туда ей
приносили кофе и завтрак, лежала неподвижно, закинув руки за голову. День был
яркий, в окна шло солнце, и золотые солнечные лучики падали на глянцевитый пол,
отражаясь, раскидывали зайчиков по темным стенам в штофных обоях. За окнами
холодно блестел синий снег с узорными следами птиц. Над конным двором стало
небо, синее и пустое. Спальня была большой, сумеречной, в коврах; у внутренней
стены стояла двухспальная кровать под балдахином, в углу кивот. Лицо Ксении
Ипполитовны было скорбно и утомленно. Перед обедом принимала ванну, долго
одевалась, обедала одна, вяло, медленно, с книгой в руках. За окнами в парке
перед сумерками кричали вороны, птицы разрушения. С вечера ненадолго поднимался
новорожденный месяц, красный и хрупкий. Вечер в морозе стал ясным и тихим.
Звезды казались огромными, небо — атласным, синим, снег — бархатным,
зеленоватым.
Полунин приехал
рано. Ксения Ипполитовна встретила его в диванной; горел камин, лампы не было,
у камина стояли два вольтеровых кресла, окна, закругленные вверху, в инее,
были, казалось, серебряными. Отсветы из камина падали оранжевые, теплые.
— Я грущу сегодня,
Полунин.
Была Ксения
Ипполитовна в черном вечернем платье, волосы заплела в косы, руку для поцелуя
подала.
Сидели рядом в
креслах.
— Я ждала вас в
пять. Сейчас шесть. Вы все невежи и невнимательны к женщине. Вы ни разу не
захотели побыть со мной наедине,— не догадались, что я хочу этого,— говорила
Ксения Ипполитовна тихо, немного холодно, смотрела упорно в огонь, щеки оперла
узкими своими ладонями.— Вы очень молчаливы, дипломат... Как сегодня в поле?
Холодно, тепло? Вам сейчас подадут чаю.
— Да, холодно,
очень, но тихо,— сказал не сразу, помолчал.— Когда мы с вами говорили, вы не
сказали всего. Говорите сейчас.
Ксения Ипполитовна
усмехнулась.
— Я уже все
сказала... Холодно очень? Я сегодня не выходила. Думала о Париже и о том,— об
июне... Сейчас принесут чай.
Встала, позвонила,
вошел старик.
— Скоро чай?
— Несу, барыня.
Ушел и принес
поднос с двумя стаканами, флаконом рома, печеньем, смоквой, медом, расставил на
столиках у ручек кресел.
— Свету не
прикажете?
— Нет. Ступайте...
притворите дверь.
Старик ушел,
посмотрел внимательно и понимающе.
— Я вам уже все
сказала. Как вы не поняли? Пейте чай.
— Говорите, Ксения.
— Пейте чай,
подлейте рому. Я вам все уже сказала. Помните, о мышах? Вы не поняли? —
говорила Ксения Ипполитовна холодно, тем же тоном, что и лакею, сидела в кресле
прямо.
— Нет, значит,— не
понял.
— Ах боже мой! Вы
раньше чутки были, мой аскет. Хотя здоровье и счастье всегда не чутки,— вы ведь
здоровы и счастливы.
— Вы опять хотите
быть несправедливой. Вы ведь знаете, что я люблю вас.
— Ну, хорошо. Это
пустяки.
Ксения Ипполитовна
усмехнулась, взяла стакан, откинулась к спинке, помолчала. Полунин тоже взял
чай, отпил сразу полстакана, согреваясь после дороги.
— Вот в печке
сгорят огни и потухнут, и будет холодно. У нас с вами всегда надрывные
разговоры. Быть может, правы Архиповы,— когда умно — надо убить, когда умно —
надо родить. Разумно, умно, честно...— Ксения Ипполитовна говорила тихо, тоном
мечтательным, замолчала на минуту, выпрямилась, стала говорить быстро, горячо,
неровно: — Вы меня любите? А вы хотите меня — как женщину? — целовать, ласкать,—
понимаете? Нет, молчите! Меня, очищенную,— я приду к вам так, как вы ко мне в
том июне... Вы не поняли о мышах? Или так. Вы заметили, вы думали о том, что в
жизни человека не меняется и остается одним навсегда? Нет, подождите... Было
сотни религий, сотни этик, эстетик, наук, философских систем — и все менялось и
меняется, и не меняется только одно, что все, все живущие,— и человек, и рожь,
и мышь, рождаются, родят и умирают... Я собиралась в Ниццу, там ждал меня
любовник, нашла мышат, и вдруг мне безумно захотелось ребенка, маленького,
милого, моего,— и я вспомнила о вас!.. И я уехала сюда, в Россию, чтобы родить
свято... Я могу родить!
Полунин встал около
Ксении Ипполитовны, внимательное лицо его было серьезно и взволнованно.
— Не бейте меня,
Полунин.
— Вы чистая,
Ксения.
— Ах, вы опять с
чистотой и грехом... Я глупая, с приметами и поверьями, баба, и больше ничего,—
как все бабы. Я хочу здесь зачать, понести и родить ребенка. У меня под сердцем
пусто. Хотите быть отцом моего ребенка? — встала, выпрямилась, пристально
посмотрела в глаза Полунина.
— Что вы говорите,
Ксения? — Полунин спросил тихо, серьезно, горько.
— Что я хочу, я
сказала. Я хочу ребенка. Дайте мне ребенка, а потом уходите, куда... к своей
Алене... я помню тот июнь, июль...
Полунин выпрямился,
сказал твердо:
— Я не могу этого,
Ксения. Я люблю Алену.
— Я не хочу любви,
мне не надо ее. О, я ее знаю!.. ведь я люблю вас...— Ксения Ипполитовна сказала
тихо, едва внятно, провела рукой по лицу.
— Мне уйти, Ксения?
— Куда?
— Как — куда?
Совсем.
Подняла глаза,
взглянула ненавидяще и презирающе, крикнула:
— А-ах, опять эти
трагедии, долги, грехи! Ведь просто же все! Ведь сходились же раньше вы со
мною!
— Я никогда не
сходился, не любя. Я люблю только Алену. Я думаю, я должен уйти.
— О, какой
жестокий, аскетический эгоизм! — крикнула зло, но затомилась, стихла, села в
кресло, закрыла лицо руками, замолчала.
Полунин стоял около
сгорбившись, опустив руки. Был он широкоплеч, широкобород, в блузе, лицо его
было взволнованно, глаза смотрели скорбно.
— Не надо, не
уходите... Это так, это пустяки... Ну, хорошо... Я ведь говорила чисто... Не
надо... Я устала, я измоталась. Верно, я не очистилась, я знаю,— нельзя... Мы —
«гейши фонарных свечений» — помните Анненского?.. Дайте руку.
Полунин протянул
большую свою руку, сжал тонкие пальцы Ксении Ипполитовны, рука ее была
безвольна.
— Вы простили?
— Я не могу ни
прощать, ни не прощать. Но — я не могу.
— Не надо...
Забудем. Будем веселиться и радоваться. Помните: — «А если грязь и низость —
только мука по где-то там сияющей красе...» Не надо, все кончено... О — о! все
кончено!
Ксения Ипполитовна
крикнула последние слова, поднялась, выпрямилась, расхохоталась громко и
нарочито весело.
— Будем гадать,
будем шутить, веселиться, пить... помните — как наши деды!.. Но ведь наши бабки
имели приближенных — кучеров.
Она позвонила.
Вошел лакей.
— Принесите нового
чаю. Подложите дров. Зажгите лампы.
Камин горел
палеными огнями, освещал кожаные вольтеровы кресла, на стенах во мраке
поблескивали золотом рамы портретов. Полунин ходил по комнате, заложив руки
назад; звуки шагов утопали в коврах.
За домом зазвенели
колокольцы тройки.
Гости съезжались к
десяти,— из города, соседние помещики — все, кто «почитал за долг», по
старинному обычаю,— их принимали в гостиной. Тапер — сын священника — заиграл
на рояли польку-мазурку, барышни пошли в зал танцовать, старик и два парнишки
принесли воску, свечей, тазы с водой — гадали. Ввалилась компания ряженых,
медведь показывал фокусы, гусляр-малоросс пел песни. Ряженые принесли с собою в
комнаты запахи мороза, меха и нафталина. Кто-то кукарековал, плясали русскую.
Было весело, по-помещичьи — бесшабашно, шумно. Пахло топленым воском, горелой
бумагой, свечным чадом. Ксения Ипполитовна была очень весела, шутила, смеялась,
протанцевала тур вальса с лицеистом, сыном предводителя. Рыжие свои волосы
переплела она из кос в большую прическу, на шею повесила старинное колье из
жемчугов. В диванной старики засели за зеленые столы, шел толк об уездных
новостях.
В половине
двенадцатого лакей отворил двери в столовую, объявил торжественно, что ужин
готов. Ужинали, говорили тосты, пили, ели, гремели сервизами. Около себя Ксения
Ипполитовна посадила Архипова, Полунина, предводителя и председателя. В
полночь, когда ожидали боя часов, говорила тост Ксения Ипполитовна, встала с
бокалом в руке, левую руку закинула за прическу, голову подняла высоко. Все
тоже поднялись.
— Я женщина. Я пью
за наше, за женское, за тихое, за интимное, за счастье, за чистоту, за
материнство! — говорила громко, стояла неподвижно.— Пью за святое...— не
кончила, села, склонила голову.
Кто-то крикнул
«ура», кому-то показалось, что Ксения Ипполитовна плачет. Начали бить часы.
Кричали «ура», чокались, пили.
Затем снова пили.
Почетных гостей и запьяневших обносили «чарочкой», вставали, кланялись, пели «чарочку»,
басы гудели:
— Пей до дна, пей
до дна!
Первую чарочку
Ксения Ипполитовна поднесла Полунину, стояла перед ним с подносом, кланялась,
не глядела на него, пела. Полунин встал, покраснел, смущенно развел руками,
сказал:
— Я не пью вина,
никогда.
Басы заглушили:
— Пей до дна! Пей
до дна!
Полунин потемнел,
поднял руку, останавливая, сказал твердо:
— Господа. Я не пью
никогда, и не буду пить.
Ксения Ипполитовна
посмотрела в глаза ему, сказала тихо:
— Я хочу, я
прошу... Слышите?
— Я не буду,—
ответил тоже тихо.
Ксения Ипполитовна
крикнула:
— Он не хочет. Не
надо насиловать волю... Отвернулась, поднесла «чарочку» председателю, потом
передала ее лицеисту, извинилась, ушла, вернулась тихо скорбная, сразу
постаревшая.
Ужинали долго,
потом перешли в зал, танцевали, пели, играли в фанты, в наборы, в пословицы, в
омонимы, мужчины ходили в буфетную выпивать, старики сидели в гостиной за
преферансом и винтом, толковали.
Разъехались гости к
пяти, остались Архиповы и Полунин. Ксения Ипполитовна приказала приготовить у
себя кофе; сидели вчетвером, уставшие, за маленьким столиком. Едва начинался
рассвет, окна стали водянисто синими, свет свечей блекнул. В доме, после шума и
беготни, замерла тишина. Ксения Ипполитовна была усталой очень, но хотела
держаться бодро и весело. Разлила кофе, принесла кувшинчик с ликером. Сидели
молча, говорили безразлично.
— Еще год канул в
вечность,— сказал Архипов.
— Да, на год ближе
к смерти, на год дальше от рождения,— ответил тихо Полунин.
Ксения Ипполитовна
сидела против него,— глаз ее он не видел,— поднялась быстро, перегнулась через
столик к нему и сказала медленно, ровно, зло:
— Н-ну-с, господин
святой! Здесь все свои. Я сегодня просила вас дать мне ребенка, потому что и я
женщина, и я могу хотеть материнства... я просила вас выпить вина... вы
отказались? Ближе к смерти, дальше от рождения? Уби-рай-тесь вон! — крикнула и
зарыдала, громко, сиротливо, закрыла лицо руками, дошла к стене, уперлась в нее
и рыдала.
Архиповы бросились
к ней. Полунин стоял растерянно у стола, вышел из комнаты.
— Я просила не
страсти, не ласки,— у меня же нет мужа! — рыдала, вскрикивала, была похожа на
маленькую обиженную девочку, успокаивалась медленно, говорила урывками,
бессвязно, замолкала на минуту, снова начинала плакать.
Рассвет уже
светлел, в комнату входили рассветные, не чистые, мучительные, водянистые тени,
лица казались серыми, испитыми, безмерно утомленными; голова Архипова, плотно
обтянутая кожей, голая, напоминала череп, лишь очень удлиненный.
— Слушайте, вы,
Архиповы. Если бы к вам пришла женщина, которая устала, которая хочет быть
чистой, пришла и попросила бы ребенка,— ответили бы вы так, как Полунин? — А он
сказал: нельзя, это грех, он любит другую. Вы так бы ответили, вы, Архипов,—
если бы знали, что у этой женщины это — последнее, одно? Одна любовь,— Ксения
Ипполитовна сказала громко, всматривалась по очереди в лица Архиповых.
— Нет, разумеется,
ответил бы по-другому,— Архипов ответил тихо.
— А вы, жена, Вера
Львовна,— слышите? Я говорю при вас.
Вера Львовна
наклонилась к Ксении Ипполитовне, положила руку на ее лоб, сказала:
— Не печальтесь,
милая,— сказала тихо, тепло, нежно.
Ксения Ипполитовна
вновь зарыдала.
Рассвет творился
медленно, синими красками, за окнами и в комнатах посинело, свечи блекли и их
свет становился сиротливым и ненужным; из мрака выползали вещи, книжные шкафы,
диваны. Через синюю муть в окнах, точно через толстейшее стекло, видны были
службы, синий снег, суходол, лес, поля... Справа у горизонта покраснело холодно
и багрово.
V
Полунин ехал
полями. Поддубный шел машисто, ходко, верно промерз ночью. Поля были синими,
холодными. Ветер дул с севера, колко, черство. Гудели у дороги холодно провода.
В полях была тишина, раза два лишь, пиикая однотонно, обгоняли Поддубного
желтые овсяночки, что всегда зимами живут у дорог, обгоняя,— садились на
придорожные вешки. В лесу потемнело, там еще не ушла окончательно ночь. В лесу
Полунин заметил беркута, он пролетел над деревьями, поднялся в высь, полетел к
востоку,— на востоке кумачовой холодной лентой вставала заря,— снега от нее
лиловели, тени же становились индиговыми. Полунин сидел сгорбившись, понуро
думал о том, что — все-таки, все-таки от закона он не отступил, как не отступит
теперь уже никогда.
Дома Алена уже
встала, хозяйничала,— обнял ее, крепко прижал к груди, поцеловал в лоб, пошел к
ребенку, взял его на руки и долго, с огромной нежностью, смотрел в спящее его,
покойное личико.
День был ярким, в
окна ломились солнечные лучи, говорившие о том, что зима свернула к весне. Но
плотно лежали еще снега.
Старый дом
I
На террасе в этом
доме, на косяке у двери были многие карандашные пометки, с инициалами против
каждой пометки и датою; каждый раз (раньше, когда дом не был еще разрушен),
когда ремонтировался дом, всегда отдавались распоряжения не закрашивать эти
даты,— и до сих пор еще хранятся пометки: «К. М. 12 апр. 61 г.», «К. М. 29 апр.
62 г.» — каждые две буквы, хранящие
за собою имя, с каждым годом шли вверх. Потом на двадцатипятилетие исчезали
года и появлялись вновь в самом низу двери. Инициалы К. М.— Катюша Малинина,
прабабка Катерина Ивановна, возросли высоко: высока была и стройна в молодости
правительница дома Катерина Ивановна. И каждая первая в роде, так случалось,
возникая через каждое двадцатипятилетие внизу двери, дорастала до Катерины
Ивановны. И последние даты, «Н. К.11 апр. 924 г.» — достигли зарубок шестьдесят
второго рода Катерины Ивановны, появившись у пола 7 мая (когда цвела уже,
должно быть, сирень под террасой) тысяча девятьсот восьмого года. Н. К. Нонна
Калитина, последняя в роде, даты ее и зарубины возрастали в годы —914, 917,
919, 920—924.
Катерина Ивановна,
в девичестве Малинина, потом Коршунова («Коршунихой» она и померла),— чтобы
роду потом перейти к Калитиным,— Катерина Ивановна померла: двадцать пятого
октября старого стиля тысяча девятьсот семнадцатого года.
Этот дом, по плохой
памяти того, чьи даты появились на рубеже восьмидесятых и девяностых годов, был
приданым Катерины Ивановны. Жили тогда на Большой Московской (ныне Ленинская),
где была торговля; только на лето приезжали сюда, как на дачу, на берег Волги,—
совсем же переселились сюда, когда разорились и умер муж Катерины Ивановны,— и
пометы на двери делали веснами, когда после зимы впервые выходили на террасу.
Терраса стояла на
столбах, высотой сажени в две. Под террасой росли тополя, белые акации и сирень,
и на десяток саженей — до забойки, до Волги — шли лесные склады, бревна,
восьмерики, двенашники, тес, дрова,— этим жили Коршуновы-Калитины,— и за
забойкой была Волга, просторная и вольная каждую весну и в песчаных мелях
каждую осень. С террасы в Волгу можно было бросить камнем и выкинуть тоску. И
от улицы отгораживали террасу каменные лабазы, в которых раньше хранились
соляные — для всего города — запасы, а потом, когда появился керосин, хранился
керосин, вначале называвшийся фотогеном, потом фотонафтелем и только в самом
конце керосином. Перед четырнадцатым годом, после разорения, в лабазе хранили
рогожи и уголь,— придаток к лесной пристани, где торговали пятериками. И, если
На дом взглянуть с улицы со взвоза,— потому что дома строятся по ватерпасу,—
казалось, что дом стоит покачнувшись: слева земля подходила под окна, справа
под рядом этих окон был этаж кладовых и квартиры для сторожей, а лабазы были
уже трехэтажные. К двадцать третьему году обвалился лабаз, и было похоже, что
дом прыгал в Волгу и разбил себе рожу — охренный дом — до крови красных
кирпичей, да так и замер в своем скачке на дыбах, сдвинувшись, вжавшись в землю
для прыжка. Но дом был каменен, громоздок, глух, приданое Катерины Ивановны.
Первое, что
сохранилось в памяти об этом доме,— это как умирал дед, муж Катерины Ивановны.
Это было в годы, когда пометы этого поколения на дверном косяке только что
появились,— и в памяти осталось, что дед умирал медленно, в мучительной
болезни, и в полутемном (всегда занавешены были окна) его кабинете удушливо
пахло судном красного дерева, похожим на трон деда,— дед не мог ходить, лежал
на подушках высоко, и под подушками у него лежали конфекты: вот сладость этих
конфект в удушьи судна и осталась навсегда в памяти,— и, если бы где-нибудь в
хламе на базаре встретился этот красного дерева трон судна — через десятилетия,
— его нельзя было бы не узнать... Но под террасой, на взвозе, на бульварчике
наверху так буйно каждую весну цвели белые акации и сирени,— так буйно под
террасой и под двенашниками, под забойкой разливалась Волга, несла простор,
баржи, пароходы, пароходные гуды, штормы, песни, «дубинушку», людей, бурлаков,
мать — русская река. Тогда веснами (весной умирал старик) нельзя было не понять
всего буя и вольности земли, вот этой спешащей, дурманящей черемухами,
сиренями, акациями, песнями, толпами бурлаков, гудами. По дому ходила, плакала
по мужу громко и при всех, а в город ездила с зонтиком и в «капоте» (так
называлась шляпа) парой в дышлах, учитывала векселя, писала закладные,— а на
пристань, к приказчику Михаилу Арсентьевичу, спускалась с тростью — Катерина
Ивановна Коршунова-Коршуниха.
Что это: сохранила
память, или создали домыслы? — что в этом доме бывал Пугачев, что под домом в
подвалах (под домом большие были подвалы, и были они засыпаны) — в подвалах
жили разбойники и фальшивомонетчики и шли там подземные ходы. И мальчишкам — им
все равно было, что бабушка ездит в государственный банк и в сиротский суд —
мальчишкам, тем, чьи даты возникли в девяностых годах, необходимо было
раскопать подвалы, самим застревать там так, что их надо было раскапывать,
подкарауливать с кухонными ножами ночами (пока не заснут на посту)
фальшивомонетчиков у дверей в кладовую и обдумывать, как бы снова изобрести
Пугачева и каждому стать у него Хлопушей (память о Пугачеве крепко тогда жила
на Волге, и мальчишки ее почерпали от бурлаков на забойке). Катерина Ивановна,
возвращаясь из государственного банка, плакала на террасе об умершем муже и о
том, что все дела он оставил на нее,— и мальчишек она наказывала — зонтом и тем,
что сажала их в кладовую. В кладовой было темно и сыро, окна были с решетками,
и была кладовая о двух этажах; в кладовой лежали сундуки с добрами, в кладовой
стояли банки с вареньями и сушеньями, висели весы, на которых можно было
качаться, в бочке был квас,— и в кладовой, качаясь на весах, мальчишки не
скучали: ели варенье, пили квас; иной раз (от Пасхи) оставались откупоренные,
заткнутые хрустальными пробками вина,— тогда пили вина и заедали их цукатами;
когда вместе с мальчишками оказывались и девчонки, было плохо — девчонки
наказание выполняли обязательно, плакали и не позволяли (под угрозой
пожаловаться) есть и пировать. Мальчишек и девчонок было много, потому что у
Катерины Ивановны было одиннадцать, а возросло семь человек детей,— и мальчишки
держались поодаль от девчонок; но сыновья и дочери Катерины Ивановны
разлетелись в те годы по всей России (и даже
за границу), слетались только к весне, чтобы оставить на лето своих детей; — и
бывало, когда совсем исчезала ребятня из дома,— оставшиеся тогда не различали
различия полов,— и память сохранила быль о том, как Борис и Надя травили
повариху Андреевну (о Наде — потом еще потому, что это была первая любовь
Бориса). Опять была весна, когда красили на улицах дома, когда дымили на
перекрестках в городе асфальтом и буйствовала сирень за загородями палисадов,—
и Борис с Надеждой порешили стать малярами, красить синькой стены; Борис ходил
в коротеньких штанишках, с прорехами с боков, без карманов,— и он отправился
промыслить синьки в кухне, где было царствие Андреевны; он синьку с полки взял,
но на кухню в этот миг вошла Андреевна; он синьку спрятал в прореху у штанов,
но Андреевна потребовала, как требовала бабушка,— «руки показать!» — и синька
вывалилась из-под штанины; Андреевна не жила в содружестве с Борисом, она
сказала, что бабушке расскажет обо всем, Борис ушел позорно к Наде, которая его
поджидала с тазом и водой, где надо было краску разводить. Борис сказал:
— Прогнала —
Андреевна, дура.
Бабушки не было
дома,— самое ужасное, когда не осуществлен проект,— и вскоре говорил Борис:
— А Андреевну мы
отравим. Она страдалица будет и попадет в рай,— ей все равно, а нам — выгода,
не будет жаловаться бабушке и синьку мы достанем.
И потому, что
бабушка уехала в сиротский суд с приживалкой Дарьей Ермиловной, а слово с делом
не расходилось,— вскоре обсуждал Борис конкретно, как лучше отравить Андреевну,
и убеждал Надежду, что это выгода для всех. У бабушки была темная, строгая
спальня со всяческим множеством всяких прекрасных вещей, и была там полочка,
где хранились лекарства и яды — от живота, от простуды, от зубной боли, от
запоя, от перепоя, от мигреней и нервов (хоть сама Катерина Ивановна «нервов»
не признавала, как не признавала, что шар земной есть шар, а она на нем «как
вошь на голове»). Борис пробрался в этот шкаф, и план был так задуман: какой-то
пузырек с таинственными каплями был опрокинут в сахарницу, а сахар на полке в
кухне у Андреевны. Андреевны в тот миг на кухне не было. Борис залез на печку,
где спал Иваныч — кучер (какие сказки там рассказывал Иваныч про лошадей и
Пугачева, и поговорка у Иваныча: «А ты, ребенок, не замай!»), Борис увлек и
Надю на печь, чтоб посмотреть, как будет травиться и помирать Андреевна. Судьба
предопределила жизнь Андреевны у печки, и печь ответила Андреевне огнем, вот
тем, что разлился по роже у Андреевны синею — почти — волчанкой; Андреевна
вошла на кухню,— ребята знали, что Андреевна пьет сто стаканов чаю в сутки;
Андреевна взяла коробку с сахаром, открыла,— ребята замерли на печке; Андреевна
крикнула сердито:
— Нюшка, дрянь, ты
что плеснула мене в сахар?
Нюша — горничная
ответила из коридора:
— И вовсе сахара мы
вашего не брали.
Тогда Андреевна
заворчала себе под нос, из куба в кружку налила кипятку, к столу присела, все
ворчала; и взяла огромный кусок сахара, тот как раз, что был обмочен больше
всех. Борис на печке замер, у Нади выросли глаза — удвоились от слез. Андреевна
сахар понесла ко рту. И тогда заплакала и запищала Надя:
— Андреевна, милая,
не ешь, умрешь! — не надо в рай, ты с нами поживи!..
Оторопелою
волчанкой рожи Андреевна крикнула зловеще:
— Што-о?
— Мы у бабушки на
полке взяли яд,— не ешь, умрешь!.. Ты синьки не давала...
Надя плакала.
Разоблачение по-странному воспринял Борис: он перевалился на спину, задрал
кверху ноги и завизжал в блаженстве!.. Случилось так, что в это время из сиротского суда вернулась Катерина Ивановна,— и Надя
и Борис, прошед сквозь зонтик бабушки, сидели долго в кладовой: Борис уписывал
варенье, а Надя, выполняя наказанье, каялась и плакала...
Там, дома, в тишине
больших комнат, затихала усталость дня, только на террасе горели свечи под
стеклянными колпаками, и около них вились серые бабочки, и сидела одиноко у
самовара — бабушка — Катерина Ивановна, и стояли у двери, как раз там, где даты
возрастаний, или кучер Иваныч, или повариха Андреевна. Те, даты коих возрастали
сейчас же после «К. М.», отцы, разметались по всей России, инженер, фабрикант,
столичный адвокат,— революционер и революционерка — оперная актриса,— два сына
ушли под забойку, в галахи, в оборванцы, в горькие пьяницы... Тот, чья дата
стала расти третьим уже поколением, Борис, только кусками помнил этот дом,
смертью деда, веснами, кладовой, фальшивомонетчиком; — короткие детские
штанишки на длинные серые — гимназиста — он сменил в городе, легшем далеко, за
тысячу верст отсюда, там, где коротал его отец свои земские дни, полулегальным
революционером, всегда забывающим и — при воспоминаниях — строго судящим тот
дом на Волге... И вновь приехал этот, теперь в длинных гимназических штанах и в
курточке, новой весной, когда буйничала вновь сирень, топились котлы с
асфальтом и гудела просторами и бурлаками Волга. И из другого какого-то города,
из другого конца бескрайной России приехала туда же — не девочка в платьице в
уровень штанишек с двумя косичками, вечный враг заседаний в кладовой,— а
подросток с длинными косами, на пол-аршина поднявший свою зарубь на двери в
год, в коричневом платьице — гимназистка Надя. Борис ей сказал, что он
социал-демократ, она сказала, что она — эсэрка, и Борис подарил ей стихи Тана,
книжку с золотым тиснением, потом оба они зачитывались «Рудиным» Тургенева, и
Борис грустил над Рудиным, а Надя — над Наташей. Они играли в крокет, и бывало,
когда им приходилось быть в разных партиях: — случайно ли получалось так, что у
Бориса срывался молоток и Надин — противника шар катился на позицию. Они играли
во мнения: — и случайно ли Борис всегда угадывал, кого выбирала Надя. Взрослые
тогда часто ездили на лодке за город, на Зеленый Остров, там пили молоко,
покупали у рыбаков стерлядь, варили на костре уху, пели песни у костра и
спорили (тогда, мимо дома, мимо бабки Катерины Ивановны, мимо первой этой
детской любви проходил девятьсот пятый год), — Надя и Борис сидели в лодке,
разговаривали так, что разговор не остался в памяти, ногами болтали в воде (все
разувались, даже взрослые, чтобы ходить по песку),— лодка накренилась, Надя
качнулась и оступилась в воду — неглубоко, по колено,— но Борис, не думая,
бросился в воду, стал там по пояс, поднял Надю и понес ее на песок: все это
было моментально, глаза Нади были удивленны и испуганы, и смотрели в небо, — и
Борис не заметил, как приблизил губы свои к щеке Нади, как поцеловал — и понял
лишь, когда стал погибать, навсегда, бесповоротно, сгорая от стыда и горечи и
раскаяния.
В доме внизу, там,
где были лабазы, кладовые, подвалы, в полуземле были еще какие-то, похожие на
тюремные, ширококаменные, за решетками — как их назвать,— квартиры, каморы,—
там на зимовки становились водоливы,— там в одном из таких сводчатых подвалов
жил с семьей столяр Панкрат Иваныч, бастовал и голодал.— У Бориса был рубль,
серебряный, подаренный ему вместе с кошельком, бабушкой, чтобы копил,— Борис
заказал Панкрату Ивановичу — за рубль — полочку для книг... Борис и Надя сидели
в зале, держась за руки,— прошла мимо бабушка Катерина Ивановна; Борис пошел
вечером с Надей к забойке посмотреть луну, тишь и Волгу, они сели на бревна,—
Боря взял Надину руку,— над забойкой возникла грузная фигура Катерины Ивановны:
— и на утро Надя собиралась ехать к родителям, ей не позволили даже проститься
с Борисом,— а бабушка, в зале, под портретами дедов, стуча палкою о пол,
говорила Борису непонятные и гнусные слова о кровосмешении, о том, что они не
дети, и о том, как прожила она свой век с мужем, с дедом (с тем самым, о
котором память сохранила вкус конфект в удушьи его умирания), как-никак не жили
и только дважды виделись они до свадьбы...
...Потом Борис
виделся с Надей — через десять лет, когда оба они носили уже отчества — в
Москве, на Николаевском вокзале, где шли толпы людей, лежали чемоданы и
приходили и уходили поезда. У Нади на руках был ребенок, она ехала к мужу в
дальний город, где он, офицер, раненый лежал в лазарете,— Борис издалека узнал
Надежду и увидел, как высока, красива и стройна она. Вуалька на черной шляпе у
нее была спущена. Она подняла вуальку, чтобы поцеловаться с родственником, и
заговорила о мелочах, о носильщике, о чемодане в багаже,— и тогда Борис
услышал, что в голосе ее звучат слова так же, как некогда они звучали у бабки.
Они сели на извозчика и поехали по Каланчевской и мимо Красных ворот к Нижегородскому
вокзалу.
...Там, на Волге,—
каждую весну буйничали Волга, воды, сирени. Дом стоял на взвозе и внизу, под
забойкой буйничала человечья толпа, в пудах, штуках, тюках, в визге свистулек,
в зное небес, облитых глазурью как свистульки. Двое сыновей Катерины Ивановны,
Петр и Константин, скатились со взвоза туда за забойку, в рвань, в беспробудное
пьянство, в водку, которую можно достать там воловьим трудом, коий надо
потратить, чтобы таскать восьмипудовые кули с солью и воловые кожи,— тем
соленым трудом, коий кроме пота и водки и горькой жизни, дает еще воблу; один
из них погиб без вести, другой: — о другом присылала полиция, после розысков,
справку, что убит он или не убит, но скрывается где-то в Николаеве на юге, ибо
пойман был с шайкой воров и грабителей, но отстрелялась шайка, оставив троих
неопознанных убитыми — и Катерина Ивановна не знала, как записать Константина в
толстой своей поминальной в коже и с крестом книге: за здравие или за упокой...
Другие дети ее пошли со взвоза — по тогдашним понятиям — в гору: один строил
мосты, путеец-инженер, к двадцати семи годам отрастил живот, и худенькая его
жена писала в письмах, что изменяет ей с певицами из кафе-шантана, но деньги
выдает на месяц аккуратно. Второй, уехав за границу учиться немецкой философии,
вывез оттуда патент, открыл под Петербургом химический — красок — завод, был он
любимцем Катерины Ивановны, и потихоньку от всех, за долгами и процентами по
векселям, посылала ему она «на обзаведение» тыщонки; — его жене ничего не
писала, кроме поздравлений и благодарностей на Рождество и Пасху. Третий стал
адвокатом в Москве, по веснам ездил за границу, добряк и шутник,— это его дочь
была Надя,— и жена его писала свекрови, что жить так, как живет она, свекровь,
некультурно, невозможно питаться так жирно, нужно главным образом вводить в
организм белки,— что капиталистическая форма жизни изживает себя и жить рентами
с капиталов нечестно, и что они едут в этом году в Карлсбад... Была одна из
дочерей у Катерины Ивановны, которая навсегда осталась с ней, выехав только
однажды, повенчавшись, к мужу, на два года, чтобы вернуться опаленной и с
дочерью на руках, Нонной,— Катерина Ивановна умерла двадцать пятого октября
тысяча девятьсот семнадцатого года.— Последние заметы на косяке двери на
террасе — «Н. К.» — Нонна Калитина — возникли у пола 7 мая (когда цвела уже,
должно быть, сирень под террасой) и возрастали в годы — 914, 917, 918, 919 —
924....
II
Годы четырнадцатый
и пятнадцатый прошли занавесью перед действом осьмнадцатого, двадцатых годов. В
семнадцатом году пошли в переселения все правды и все народы, и манеры жить
россиян: страшная гололедная гроза прошла по России, все размела, даже тех, кто
жил в старом доме, все развеяла, все переморозила и перегрела в жарах и
гололедицах. Катерина Ивановна Коршунова умерла двадцать пятого октября тысяча
девятьсот семнадцатого года. Тех, кто вторым поколением возрастал после
Катерины Ивановны, их разметало по всей земле, не только русской: одни
вспоминали старый дом где-то в Алжире; один рассказывал о нем в городе
Петербурге, в Америке, Надежда Сергеевна вспоминала безразлично о нем в
Благовещенске, в Восточной Сибири, куда занесли ее — ее муж и осколки
колчаковских армий. Двадцать первый год, когда в старом городе людоедствовали,
был распутьем для этих людей: как из огромных глетчеров, когда они тают, текут
ручьи и несут с собой все, что замерзало в них, иной раз так, что замерзшее,
консервировавшееся холодом, текло таким, каким оно было вчера;—так из ледников
осьмнадцатого — двадцатых потек двадцать первый. Третье после Катерины Ивановны
поколение, кроме Надежды, оставшееся в России, не думало о старом доме в старом
городе: для него революция не была ледниками, металось по России в делах и
строительстве, в проектах дел и в строительстве проектов; и все же, должно
быть, годы глетчеров заморозили их так, чтоб в ручьях потом отогрелось и такое,
что осталось от доледникового памятования... Годы двадцать второй — четвертый
много хранили в себе печали для этих людей; в эти годы сыскивали люди друг
друга, и приходили письма, как из-за гроба, из Алжира, из города в Америке
Петербурга, написанные одновременно— и на разных языках и по-русски; а у себя
надо было сразу перепроверять все, прожитое и изжитое в эти ледниковые годы,
чтобы перестраивать — если не наново (потому что в жизни человека новым бывает
все только один раз), то к лучшему — —
……………………………………………………………………………………………………………
Был апрель тысяча
девятьсот двадцать четвертого года, когда сумерки зеленоваты и когда сумерки
воруют покой.
И был апрель в
деревушке под Москвою, и были сумерки. Тот, чьи даты возникли на косяке двери
третьим поколением, написал в эти сумерки:
«Через три четверти
часа я пойду на станцию. Я приехал вечером и еще с улицы увидел Катюшу.
Мальчишки у околицы выстроились в ряд передо мной, пропустили сквозь свою шпалеру,
закричали понятное им. И было очень больно, вот в этих мальчишеских взглядах
понялась моя отчужденность от этого дома, где прожиты все эти нелегкие годы,
которые имели не одну только горечь. Детей любишь, как землю — и горькою болью
было прижать их к груди. Жена рассказала, как Анатолий просил написать мне
письмо: проснулся утром и спросил, где папа, потом захотел, потребовал, чтобы
папа был дома, сейчас же сказал, чтобы написала письмо, продиктовал:
— «Написы,—
плиеззай сколей, дологой!..
«Жена заплакала,
рассказывая. Анатолий сидел на своем высоком стуле, «Конька-горбунка» он
присвоил себе,— Кате пошел Сойер; Анатолий рассматривал картинки, Катерина
пошла спать, я подсел на ее кроватку, она рассказывала мне, как 1-го Мая они
будут кататься на автомобиле. Анатолий не хотел уходить от меня,— мать ему
сказала, чтобы шел — «иначе папа опять уедет», он заплакал и покорно пошел,—
«только не уехывай»... И утром, в одной рубашке, голопузый, Анатолий прилез ко
мне в постель, лег рядом, вставил в рот незажженную папиросу и «курил». Утром я
ходил на село, принес конфект,— детишки встретили на улице: Анатолий взял
конфектку и пошел с ней спать...
«Это очень страшно
— дети. Их любишь, как землю, как себя, как жизнь. Горькая любовь: у меня
сейчас, когда я собираюсь уходить, так же на душе, как должно быть у человека,
который захворал раком и может с карандашом в руках высчитать, через сколько
недель, часов и дней он умрет... Я хожу по дому, говорю, делаю и ем: неверно
это, я здесь чужой... Горькая любовь—дети!..»
Потом этот человек
шел полями и лесом, шарил его ветер и закутали туман и тьма,— и там в тумане и
мраке пахнуло черемухой и пели соловьи. И из тумана на полустанке выполз поезд.
Тогда думалось о — о человеческой лжи и правде, о том, что никогда, никогда человек
не может высказать, понять и рассказать себя так, чтоб сам же мог утвердить,
что это правда,— а в эти горестные дни расхождения с женой ни он, ии она не
сумели сказать друг другу — правды, такой правды, которая свою беду, как чужую,
по пословице, руками, руками бы развела,— правды, которая есть и, если была бы
сказана, принесла бы покой и оправдание...— Поезд пошел в туманы, и было
хорошо, что в вагоне не зажигали огня.
А Москва, которая
от дней в этих последних днях апреля несла уже летнее удушье, встретила огнями,
умом тротуаров, смешками в переулке. Трамвай, тоже возродившийся из ледников,
тащил медленно, поскрипывая. Дома отпер французским ключом дверь,— комната
пахнула нежилым, книги покрылись пылью, хлеб на окне зачерствел. Пришел
швейцар, принес пачку писем,— и среди них было одно, денежное, из того старого
города, о котором не думалось, забылось,— звал некий антрепренер прочитать там
лекцию. Вспомнилось детство,— подумалось, что за все эти годы ни разу не
вспоминалось о том городе и доме,— и вот сейчас неизвестно, кто там,— есть ли
там кто из родных, уцелел ли дом. В тот же вечер пошла телеграмма о согласии
приехать, а через два дня поезд понес к степям, на Волгу, в старый город.
В поезде, в
международном вагоне, который шел по разбитым шпалам и мимо по-ледниковых
станций иностранцем,— было просторно, неспешно и одиноко, и в одиночестве
приходили мысли о бренности жизни, о проходящести ее, о детях, как земля,—
вспоминалось детство, набережная на Волге за забойкой, где подслушаны были
разговоры о Пугачеве, те разговоры, мечту о коих воплотил во плоть дней и
будней тысяча девятьсот семнадцатый год,— и опять думалось о земле и детях, о
годах и пыли лет. За окнами в поезде с каждым десятком верст становилось все
степнее и просторнее,— поезд шел в места, где было людоедство: и когда поезд
подходил к старому городу, на полустанке мальчишки
продавали ландыши, белую акацию и сирень, как в детстве.
Тот, чьи даты
сохранились или не сохранились на косяке двери старого дома в этом городе,— не
поехал в этот дом, а направился в гостиницу, снял номер и, потому что от
гостиницы до старого дома было далеко и неизвестно, кто там живет, не пошел
туда в этот вечер,— ходил по бульварчику и смотрел оттуда на Волгу и на
волжские далекие просторы под горой.
Утром он пошел в старый
дом. Он шел переулками, где когда-то бегал мальчишкой и где проезжали раньше от
набережных громовые ломовые,— теперь здесь было пусто, росла трава из камней, а
за палисадами, за полуразрушенными воротами и заборами буйничали сирень и белая
акация. Людей здесь не было, и каменные лабазы и амбары для муки стояли без
дверей, разинутые и пустые, в прошлогодней белине и полынке. От старого собора
(как раз того, около паперти которого валялась пушка Пугачева) широким платом
размахнулась Волга, вольная и буйная, как каждую весну. И Волга, как переулки у
старого собора, была пустынна, безмолвна,— там, где стояли баржи и толпились
тысячи, ничего не было, и забойку размыло водой. А когда он, человек, стал
опускаться со взвоза, он услышал, как буйно гудит Волга лягушечьим криком,
никогда здесь не слышанным раньше, и где-то рядом, забыв про день, шалый от
ночи пел соловей. Мостовая на взвозе разбилась, выветрилась.
А дом стоял,
показалось, по-прежнему, только та сторона его, где были амбары, развалилась и
посыпалась в Волгу; а потом стало ясно, что пепел отошедших лет посыпал и его:
не было вокруг него ни одного забора, двор, где стояли тысячи пятериков,
уступами шедший к Волге, полег залишаевшей собакой, серый, в белине и полыни. С
террасы была порвана крыша,— но от террасы шло отдохновение: сирени и акации
под ней разрослись, выползли оттуда на двор, полонили пустое пространство,
буйно, по-весеннему весело. У парадного входа ступеньки крылечка были разбиты и
парадная дверь повиснула в воздухе,— он, человек, пошел задней лестницей.
И там, на лестнице
в холодке встретился старичок, сапожник за своим ремеслом, с валенком в руке.
— Кто здесь живет?—
спросил он, пришедший.
Но старичок не
успел ответить: навстречу вышла девушка, очень высокая, сильная, с ведром в
руке,— и она сразу напомнила и старый портрет Катерины Ивановны и Надю,— Надю
тогда, ту, в юности. Пришедший понял, как бьется его сердце,— пришедший
вспомнил Надю и детство,— пришедший не понимал, кто стоит перед ним. Девушка
поставила ведро и, легко через ступеньку, побежала навстречу.
— Здравствуй,— мы
тебя давно уже ждем, мы читали афишу,— сказала она, и голос был — Надин и
бабушкин.— Где твои вещи, давай, я принесу.
— Нонна,— приехал?
— крикнули сверху. ...На террасе уже не было крыши, не было шума за забойкой,—
росла, буйствуя под террасой, сирень и еще просторнее шла Волга. В доме — в
главных комнатах жил столяр Панкрат Иванович, переселившийся сюда из подвала,—
жили сапожник, телефонная барышня, два грузчика, две студентки. И в дальних
комнатах, где раньше никто не жил или жили приживалки Катерины Ивановны,
домирала дочь Катерины Ивановны, та, которая уезжала из дома только на два
года, чтобы опалить любовью свои крылья,— и с ней жила ее дочь, Нонна. На весну
Нонна выехала из этих комнат,— устроила себе жилье на лестнице, под террасой,
откуда из окна видна лишь Волга,— с ней там жила подруга, ушедшая от своих, от
отца и матери. Там у Нонны было занятие и странно, точно это были конструкции
театров тех лет: на перегибе лестницы была прикреплена кровать, как птичье
гнезде, пол — остальной — шел широкими ступеньками лестницы, амфитеатром,
чтобы; можно было не иметь стульев; на стенах Нонна повесила портреты, старые,
дедов,— бабка Катерина со стены — в молодости—смотрела Нонной, четвертым
поколением; Ноннин туалетный столик повиснул над отвесом ступенек; раскрытым
лежал том Плеханова, и рядом с ним кастрюля с пшенной кашей...
Та дверь на
террасе, где делали пометы возрастаний, и самые эти пометы сохранились. Этот,
третье поколение, нашел свои пометы, последнюю свою помету,— стал под нее и
стало больно на минуту: он снизился в росте вершка на полтора. Нонна ушла с
ведром,— запела вдруг, весело, частушку о «миленке»,— вернулась быстро,
поставила ведро.
— Меришься? —
сказала.— Я тоже каждый год мерюсь. Ну-ка.— Стала к двери, выпрямилась,
красавица: и выяснилось, что выросла еще на вершек,— на два вершка обогнала
последнюю, шестьдесят второго года заметку Катерины Ивановны,— сказала:
— Самая высокая в
роде!
Вошла Ольга, мать
Нонны,— Нонна ушла с ведром, запела незнакомую песню. Ольга села к барьеру
террасы, тот стал лицом к Волге.
— Хорошо поет
Нонна,— сказал он.
— Да, недурно,—
учится в консерватории... еще учится в вузе, на фоне, слова-то какие собачьи,—
сказала вяло Ольга.
— Как жили?
— Что же, у нас тут
людоедство было, говорить не о чем, как жили... Нонка — та не унывает, поет,
учится,— упорная девушка, в бабушку. И вот чего не пойму: или молодость это,
или время такое — вроде коммунистки она — все новое нравится, все на собрания
ходит, вот и тебя слушать билет купила... Как жили?.. лучше не поминать. С
Нонной я все ругаюсь...
— От бабушки ничего
не осталось?
— Ничего... Так,
рухлядь.
— Старинные вещи
были, бисерные вышивки, посуда, утварь, книги,— ничего?
— Ничего, все
размело. Нонка вон, что-то подбирает, спроси у нее... Я тебе жаловаться на нее
буду, нехорошо она со мной, не слушает,— хорошо еще померла мать, прокляла
бы... Комсомолка она, слова-то!..
Вошла Нонна с
самоваром, сказала:
— Отмериться-то я
отмерялась, а не зарубила. Надо зарубить.
Тот встал и пошел
по комнатам, все было и по-старому и по-новому одновременно,— в комнате
Катерины Ивановны, где была полочка с ядами, жил сапожник. Снова вернулся на
террасу. Ольга говорила Нонне:
— Опять к Панкрашке
ходила?..
Нонна сказала:
— Знаешь, с нами
теперь живет Панкрат Иваныч,— так мама все ругается со мной, зачем я к нему
хожу, не может забыть, что он жил у нас в подвале.
Стало скучно,
буденно, вернулись свои мысли,— замолчал и стал пить чай...
...Вечером Нонна
приехала за ним на лодке, повезла на острова, говорили о пустяках, Нонна
рассказывала о своих делах и знакомых, о экзаменах, о студенческих комкомах,—
Волга была просторна и благостна, гребла Нонна.
— Ну, как же
студенты смотрят, понимают? какие песни поют?
— Песни поют
старые, все по-прежнему о прекрасном,— студенты хорошие ребята, и всем нам
приходится все наново строить, все разрушено... Я стараюсь быть все время в
университете: дома мертвь, тоска, развал, все в прошлом, шипение, — вот я и
хожу по этому дому только к Панкрату Иванычу, о чем он мечтал всю жизнь,
приходит. Но я пойду по другому пути. Ты знаешь, как мы жили? — кем я ни была,—
и торговкой, ездила за мукой и бараниной, и за керосином, по Волге, и на
пароходах, и артельно на лодках, бечевой по берегу,— была дровосеком, месяц в
году по осени жила в лесу, дрова рубила на зиму, была грузчиком — разгружала
вагоны и баржи,— контрабандой носила из-за Волги от немцев муку, туда шла девушкой, оттуда — беременной
бабой, и окопы рыла... Жили упорно. Вот эта жизнь меня и научила понимать ее,
жизнь: никогда и нигде я не пропаду!.. Вот, я учусь петь, на фоне юридические
науки изучаю,— а мне бы командиром парохода быть!.. Мать рушится, как дом... а
я могу Волгу переплыть, четыре версты...
— Да, дом
разрушился...
— А знаешь, что я
чуть-чуть было не сделала? — хотела было прошлой весной взять дом в аренду, у
меня есть приятели — артельно отремонтировать его своими руками, конечно,—
выгнать всю шантрапу прошлогоднюю, как летошний снег, чтобы дом не рушился...
Да я его еще возьму. У меня к нему странная привязанность, к дому,— я вот
собираю все, что в нем осталось, какие-то старые тряпки, ненужные книги, вещи,—
нашла где-то щипцы, которым лет сто, для оправления сальных свечей, берегу их,
это остатки какой-то культуры, которой у меня нет... Дом я возьму в свои руки,
только торговой пристани там уже не будет,— я все дворы засажу листвою, пусть
растет, и так засажу, чтобы ни одной тропинки, запутайся, глаза выколи!..
Нонна зачерпнула за
бортом горстью воду, попила из горсти.
— Зачем ты сырую
воду? —
— Пустяки, то ли
бывает,— и запела незнакомую песню, очень дремучую.
— Что это ты поешь?
—
— А это разбойничья
песня, сложена по преданию, при Пугачеве... Я о Пугачеве реферат писала,
хороший был человек, люблю таких...
— А ты, должно
быть, очень на бабку похожа, только времена другие, бабка бранилась—«уу,
бурлак, Пугач!»
...Приехали уже
поздно. Нонна привязала лодку, вышла из-под забойки, выпрямилась, поправила
голос,— и вдруг опять стало ясно, что это Надя, когда-то давно, вот здесь же на
забойке, когда на другой день бабушка говорила о кровосмешении... Нонна пошла
вперед, привычно, крепкой походкой, красавица, силачка. Домой не заходили,
пошли в гостиницу взять вещи, извозчика нанять Нонна не позволила, понесла
чемодан на плечах. У дома во мраке кто-то лежал и хрипел. Нонна поставила
чемодан и пошла туда, оттуда послышался голос бабушки:
— Э-эх, негодяй,
опять надрызгался? Вставай! Кто-то завозился во мраке, и Нонна появилась не
одна: за шиворот она поддерживала сапожника, что жил в спальной бабки, другой
рукой взяла чемодан и опять пошла вперед. Ночь была темна. За террасой Волга
лежала простором мрака, безмолвием, чуть-чуть лишь плескалась вода у разбитой
забойки.
И вспомнилось: —
...Каждую весну,
когда слетались все в дом к бабушке, пометы на двери росли на четверть вверх, и
росла под террасой сирень и буйничала Волга за забойкой. Там, за забойкой на
просторе вод, стояли сотни барж, косоушек, рыбниц, росшие, дощаников,
пароходов,— под Часовенным взвозом на баржах была ярмарка, и Катерина Ивановна
сама водила туда внучат, в прелести ветлужских крашеных деревянных баб,
свистулек, ложек, чашек, коньков (тех самых по Клюеву — «на кровле конек есть
знак молчаливый, что путь наш далек!»). От барж рыбьими усами шли канаты
якорей, к забойкам от барж и росшие положены были сходни, на которых так хорошо
было качаться,— и тысячи людей-бурлаков, голахов, баб,—таскали на спинах тюки с
мукою, лыком, пеньками,— крепко пахло там воблой и волжской водой и просторами.
Под забойкой бабушки стояли ветлужские баржи с лесом и дровами, таскали голахи
и бабы на носилках и катили на тачках один за другим, вереницей — дрова на
берег, строили на берегу из них пятерики, целые фантастические домины, где
хорошо и с риском быть заваленным, прятались, играя в прятки. Под забойкой все
вместе кричали лягушками и визжали, мужчины и женщины, купаясь в мутной воде,
и, выкупавшись, обсыхая, ели воблу, поколотив ею сначала по тумбе иль камню. В
пивных на берегу и в лавчонках торговали бубликами и — пиво ведь горькое —
кислыми щами. На забойке, под террасой буйничала сирень. И вот над этой
блестящей водой, над камнями взвозов, над домами и лачугами, над тысячной
толпой полуазиатского города — каждое утро поднималось солнце, палящее,
золотое, которое раскрашивало небо точно такою же глазурью, какой были залиты
глиняные ветлужские свистульки, похожие на петушков. Тогда вместе с солнцем
там, под забойками, возникал человеческий гул, кричали грузчики, перекрикивали
их разносчики и торговки:
— ...сбитень,
сбииитень холааоодныай!..— луку, луку зеленогооо!..— гудели пароходы и кричали
истошно с барж непонятное в рупоры.— А ночами, когда стихала вода и небо
размалевывалось по-новому, сначала медленной красной зарей, а потом звездами,—
за забойками, в дровах, на земле отдыхали люди и говорили — говорили, каким
разбоем привалило счастье денежное Рукавишниковым и Бугрову, рассказывали
сказки, говорили — об Имельяне
Иваныче Пугачеве (пушка Пугачева валялась рядом на горе у Старого Собора), и
казалось иной раз, что Пугачев, Имельян Иваныч, был — вот совсем недавно, ну в
позапрошлом годе,— вон там, за Соколовой горой он объявился, позвал
пристанского старосту и сказал ему:
— Признаешь ты
меня, Иван Сидоров, или нет? —
— Не приходилось
мне тебя видеть, батюшка, никак не признаю,— говорит Иван Сидоров.
А Имельян Иваныч
тогда — бумагу из кармана и говорит:
— А есть я убиенный
царь— император Петр III,— и в бумаге о том
написано.
Ну, Иван Сидоров
первым делом — в ноги, потом ручку целует и говорит:
— Признал, признал,
батюшка,— глупость моя, старость, слеп стал.—
Ну, Имельян Иваныч
первым делом говорит:
— Встань на ноги,
Иван Сидоров, не подобно трудящему человеку в ногах валяться,—
а потом:
— А теперь сделай
ты мне реляцию, кто здесь идет против трудящего народа?—
— Барин у нас,
помещик, против трудящего народа,— говорит Иван Сидоров.— Живет он в своем дому
и кровь нашу пьет.
— Подать сюда
барина,— говорит Имельян Иваныч.
И барина привели,
плачет барин, не охота с жизнью расставаться, сладка, вишь, жизнь была. А
Имельян Иваныч ему:
— Жалко мне тебя
вешать, потому жизнь в тебе все-таки человечья, а ничего не поделаешь,
приходится как ты — барин и помещик.— Сдвинув брови Имельян Иваныч, взглянул
соколом, да как крикнет: — Господа енералы, вздернуть негодяя на паршивой
осине!..
Поднимался иной раз
месяц в ночи, туманил просторы волжские, холодил волжской вольной водой,— с
горы сползал запах белой акации, роса пробирала лопатки, и страшновато тогда
было подниматься через кубы дров, затаившие в себе дневное тепло, потому что
думалось, что — вот сейчас придет Имельян Иваныч, станет и скажет...
...Вошла Нонна и
села на барьер, скрестила руки. И тогда тот, чьи даты возникли на этой террасе
тридцать лет тому назад, вдруг почуял, что к нему пришла та правда, которая все
разводит, как пословица, руками, облегчающая правда: он понял, что жива жизнь
жизнью, землей, тем, что каждую весну цветет земля и не может не цвести, и
будет цвести, пока есть жизнь — и острою болью захотелось, чтобы здесь на
террасе — именно на этой террасе, в забытом городе, в забытом доме, оторванные
жизнью, и все же родные, единокровные,— стали его дочь Катюша и сын Анатолий,
стали к косяку двери и отмерились бы, и мерились бы так, пока не возрастут,—
пусть не будет его, пусть идет новая жизнь!.. И тогда стало на минуту, в этой
бодрой отреченченской радости,— больно, потому что все проходит, все протекает.
Под террасой, как и
при бабке, буйничала сирень, пахнула так, что могла заболеть голова,— и к
запаху сирени едва-едва примешивался запах тления, потому что за террасу
выливали помои.
8 июля 1924.
Сторожка в Шихановском лесничестве на Волге
Грэго-Тримунтан
I
Ветры дуют с моря.
Ветры дуют в море.
Всегда можно
сказать о людях, что они просты,— и никогда нельзя говорить, что просты люди.
Эти люди были строги, молчаливы, медленны,— были просты — как просто море. Они
знали, как знают от детства мать, что такое вооруженные мачты с реями и мачты —
сухие,— что такое трембака, бригантина, бриг, барк, фрегат; и они умели их
водить по морям, по ветрам и против ветров — от тримунтана на ливант, от острии
на пунентий, и очень знали, когда с Азии дует широкко, а с Европы маистра (так
называли они осты, зюйды и норды,— и ветры с этих сторон). Они очень знали соль
моря,— знали, что значит «в море», сиречь в шторм, когда надрывается гупошлеп,
сиречь ветер,— что значит тогда лазать по вантам и путаться в такелаже. По той
земле, где жили они, прошли многие народы, и никто не знал, чья кровь осталась
здесь, на этом каменистом берегу, в поселке, откуда мужчины шли только в море.
За поселком от моря
шла степь, и степь обрывалась в море невысоким каменистым и песчаным обвалом,
таким, каким обрывается в моря Великая российская равнина. Туда к морю, в
каменистую бухту, вела каменистая тропинка,— и этой тропинкой уходили молодые в
море, чтобы почти никогда — стариками — не возвращаться назад этой тропинкой,
могилы себе сыскивая в морях. В поселке оставались женщины и дети,— да изредка
в греческой кофейне пили водку моряки,— те, кто или уже навсегда сменял воды
моря на водку, или те, кому на ногу наступил Нептун, морской бог, вырвав на
время из рук руль и троссы, унося бригантины и трембаки в моря, а его оставив
на берегу,— и еще гуляли по берегу и пили кофе по-турецки в греческой кофейне
те, кто с моря пришел богатым,— пришел из-за моря, отдал якоря, отдыхает,
гуляет, нового ждет счастья и моря. Женщины оставаясь в поселке. Женщины перед
закатом, когда особенно прозрачны морские дали, выходили к обрыву,— их обдувал
ветер, они козырьком прикладывали руки глазам, чтобы лучше видеть, чтобы не
мешало ухо-дящее солнце,— и смотрели в море, туда, где шли иx капитаны, штурмана, подшкиперы, боцманы, юнги.
II
Их было двое — два
шкипера, два друга, два крестовых брата, поменявшиеся крестами в бурю, в час,
когда вместе они гибли. Они одновременно увидели — в детстве — солнце,
поднимавшееся из-за степи и уходящее в море. Вместе они сошли по каменистой
тропинке к морю, чтобы уйти в море, чтобы пройти путь от юнги до шкипера, чтобы
водить по морям трехмачтовые бриги. Их одинаково просолило море,— и вместе они
сошли в смерть.
Им одинаково
задалась жизнь, потому что они были почтены товарищами, водили бриги,— потому
что у них были красивейшие жены и были хорошие дети: потому что у них была
удача и крепко сидели головы на крепких плечах (Николай женился пятью годами
позже Андрея). Это были два друга, обменявшиеся крестами в гибели, чтобы
обменять жизнь одного за жизнь другого: тогда там, в море, в снегу и ветре, в
месяце декабре у берегов Сулина их трепал грэго-тримунтан, они оба стояли у
руля, в ночи, в ветре, в снегу — без компаса, без парусов, без мачт; — им не
было страшно от той красноватой в свете фонаря воды, которая забегала на
мостик,— и страшно было только лишь то, что руки окоченели и не было сил
держаться за руль, разжимались пальцы; — тогда они обменялись крестами, на
рассвете, когда их шхуну выбросило на берег.
Одного из них звали
Николаем, другого Андреем.
...Всегда о жизни
каждого можно сказать, что она проста,— и никогда нельзя говорить так. У Андрея
была красавица, прекрасная жена, дочь моряка, внучка моряка,— вольная, как море
и как ее отцы, обветренная всеми тримунтанами. У них был сын.
Андрей ушел в море,
в синь Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, в Константинополь, в Пирей, в
Порт-Саид, на месяцы, за деньгами, за подарками, за валанеей, за термаламой, за
фигами, за коврами. Николай пришел, с моря, с деньгами, с шалями, с маслинами.
Николай, тою походкой, которой ходят моряки после моря, принимая землю за
палубу, ходил из дома в дом, шкипер, почетный гость, заходил в кофейную выпить
чашку кофе и угостить рюмкой мастики товарищей. Закатами он со всеми смотрел в
море, надвигая на глаза картуз,— и тогда он говорил значительные фразы о
Стамбуле, о Чанаке, о Мителене, о смирнских тавернах, о том, как созвездие,
называемое Поясом Иакова, ночами на Средиземном море только на кварту
поднимается над горизонтом и опять уходит в море, в какие-нибудь двадцать
минут; как запрыгивают на палубу летучие рыбы,— и как много сини в Эгейе —
синее небо, синяя вода, синие горы. К морю приходила жена Андрея, Мария, с
ребенком за руку; море обдувало ее платье, косынка билась парусом; глаза ее
были синии, глаза скифки, и скифски-своевольно были сложены ее губы,
просоленные морем. Вечерами Николай приходил к Марии, Мария укладывала сына, и
потом они пили вместе вечерний чай, в мелочных разговорах.
И поздно ночью,
когда давно уже были убраны на ночь рыбачьи лодки и даже собаки полегли спать,
однажды Мария сказала, что она любит не мужа, но Николая. В комнате стоял
кругленький столик, в турецкой расшитой скатерти,— перед диванчиком в
подушечках. На столике лежали альбомы Афин и Стамбула, были кружевца под
альбомами. На стене за диваном висели фотографии моряков, в рамках, уже
засиженные мухами. Николай сидел на диванчике, Мария была рядом в кресле. Мария
заговорила простыми словами о том, что он не уйдет к себе, что он останется
здесь, что она любит его. Мария протянула руки к Николаю, положила их к нему на
колени, скифские ее глаза провалились внутрь, скифские ее губы засохли солью.
И тогда заговорил
растерянно Николай.
— Маня,— сказал
он,— я с твоим мужем друг, мы с ним крестовые братья. Я тебя очень люблю,
потому что ты красивая женщина и хорошая жена моего друга, у меня в портах на
берегу и в море на палубе было много грехов, но с тобой я никогда не согрешу
против моего друга, хотя, быть может, и хотел бы согрешить. Если ты будешь
говорить такие слова, я не буду ходить к тебе. Забудь об этом, Маня, этого
никогда не будет, и мы станем с тобою друзьями, как были до сих пор, и я буду
приходить к тебе, чтобы ты не скучала, когда Андрей будет уходить в море, а я
буду на берегу. Я никогда не согрешу против моего друга.
Как передать этот
ночной их разговор,— об этой, должно быть, настоящей любви Марии,— когда Мария
твердо сказала Николаю, что, если он не пойдет по ее воле, она солжет,
наклевещет, скажет мужу, расскажет мужу, что он, друг мужа, Николай, добивался
Марии, добивался ее чести.
— Маня,— говорил
Николай,— не надо так поступать,— пойми, ты только разобьешь себе жизнь, потому
что я тогда буду вынужден сказать всю правду, а Андрей мне поверит больше, чем
тебе, потому что он знает меня больше, чем тебя. И ты сделаешь моему другу
очень большое горе, потому что он тебя любит. Лучше, Маня, давай забудем эту
ночь и никогда не будем говорить об этом: я знаю, ты женщина молодая, и с кем
греха не бывает... А я завтра опять приду к тебе чай пить.
Море дуло на
берега, сыпало прибрежными песками, катило волны, перемывало камни,
перекатывало время. Андрей был в море, срок его пути кончался. Николай приходил
пить чай и шепотом говорил истины о том, что не надо разбивать счастья людей, о
том, что масло есть вещь масляная, и о том, как Пояс Иакова ночами в
Средиземном море поднимается только на несколько минут, и как танцуют смирнские
танцовщицы.
Андрей пришел с
моря. Его бриг остался в порту, на боте он пришел в поселок. В тот час, когда
окна огнем отражали закат солнца, он пришел к себе в дом. И, по обычаю моряков,
в этот вечер никто не подходил к его дому, ибо там он оставался с
женой На утро Николай пришел к нему.
Два шкипера
поцеловались братски, и брат Андрей подарил Николаю константинопольский
мундштук, бочонок маслин, мешок фиг, ящик рома. Они сели к круглому столу с
альбомами, чтобы выпить по рюмке дузики и по чашке кофе. Им подавала Мария.
Николай следил за ней, она была бледна, туманна, медленна в движениях, как
бывает с женщинами после страстной ночи.
— Маня,— сказал
Николай,— почему ты не посидишь с нами?
— Друзьям надо
побыть одним,— ответила Мария и ушла к сыну.
Андрей и Николай
выпили много рюмок дузики, и потом они пошли в кофейню, два примерных на
поселок шкипера, два друга. В кармане Андрея от моря и от портов застряли и
турецкие пиастры, и греческие лепты, и английские шиллинги, и французские
франки, и он, Андрей, только что оставивший борт, сорил ими в кофейной, угощая
товарищей, своих учителей-стариков, своих погодков-собродяг по морям; Андрей был
в новом пиджаке и всем показывал новый револьвер, купленный у бельгийца в
Хайфе.
III
Потом опять уходили
в море и Андрей, и Николай,— стояли у штурвалов, кричали на боцманов,
торговались с агентами, прятали контрабанду, живали в порядке «тихого плавания
и бурной гавани»,— но иной раз держали и бурное море.
У Марии родилась
дочь, ее назвали Марией. Крестным отцом был Николай. В день крестин очень много
и дузики, и пунша, и просто русской водки выпили Андрей и Николай. В это время
Николай нашел себе невесту, невеста была на крестинах, тоже крестною матерью.
Невеста была из другого поселка, и поздно ночью Николай повез ее на боте в ее
поселок. Море было безмолвно, но предутренний бриз раздувал парус и гнал бот.
Николай сидел у руля, невеста положила голову к нему на колени. Хмель путал
голову Николая, хмель губ невесты был рядом: невесту возрастило то же море.
Отцы пророчили свадьбу осенним мясоедом,— эта же ночь была июльская. Какой
хмель бродил в невесте? — на берегу, среди камней, в рассвете, в тот час, когда
все новые и новые открываются дали моря и тихнет морской шелест, и замирает
предрассветный бриз — была их беспоповья свадьба.
Но в осенний мясоед
было венчание. Венчались в поселке невесты. Андрей с Марией приехали на
венчание. Николай был в лаковых сапогах и в сюртуке. Невесту подружки украсили
фатой, и долго прикалывали ей флер-д-оранж, цветы померанца. В церкви пел хор,
невеста ступила первой на коврик.— И после венчания, в октябрьских сумерках и
грязях, когда молодые ехали в фаэтоне из церкви домой, возмущенно и с
ненавистью сказала молодая жена,— сказала, утвердила, спросила — о том, что
дочь Марии — Мария — обоих их крестная дочь — есть дочь Николая,— что в дни,
когда в прошлом году Андрей уходил в море, Мария любовничала с Николаем.
Николай — в этот торжественный час, в слякотной ночи — клялся и божился в том,
что все это выдумки. Молодая жена сказала, что знает она об этом от самой
Марии,— что Мария поклялась ей,— и молодая жена кричала о том, что она не
поедет на пир, что она всем расскажет об этом. Фаэтон степью вез их в поселок,
где жил и родился Николай, свадебный пир был в кофейне,— и Николай долго путал
возницу, гоняя его по степи, чтоб расстоянием и временем успокоить молодую
жену, чтоб рассказать ей чистую правду о всем, что было год назад,— чтобы —
вот, в новых лаковых сапогах, в сюртуке, в новом картузике, с величайшей
торжественностью на сердце — недоумевать, не понимать, негодовать, потеть от
несуразицы.
Свадебный пир был в
кофейне. Фаэтон с молодыми очень опоздал. Молодых встретили на пороге со
стаканами вина. Николаю стакан передала Мария. Молодой жене стакан передал
Андрей, муж Марии. И Андрей поцеловался с Николаем, и, целуясь, Андрей задержал
свои губы у щеки Николая, и тихо сказал:
— Николай, ты мне —
брат. И я тебе — брат!
IV
Потом пошли годы.
Ветры дули с моря, ветры дули в море. Люди ходили на бригах, трембаках и барках
в синее море, в делах и трудах, за фрахтами, за правом на жизнь,— за тою синью,
которой так много в морях, сини неба, сини воды, сини гор — сини времени. Андрею
и Николаю в руки шли удачи, они сдавали на капитанов дальнего плавания и
командовали теперь паровыми пароходами, водили пароходы на Дальний Восток, в
Америку, заходили за углем на Ямайку и в порт-Кардиф,— дома у них жили жены и
росли хорошие дети. Так шли годы, десяток лет: в человеческом времени идут
рождения, свадьбы, смерти.
И тогда умерла
Мария. И муж Андрей, и друг Николай несли гроб до могилы. Николай — теперь
давно уже Николай Евграфович — ел у Андрея, который так же давно стал Андреем
Ивановичем,— ел кутью, подливал Андрею водки, пил сам и сиротливо думал о
смерти и о несуразности этой кутьи. Вечером гости разошлись. Андрей и Николай —
Андрей Иванович и Николай Евграфович — сидели в детской, непривычно укладывали
детей, кормили их на сон и усаживали неумело на горшочек.
Андрей Иванович
сказал:
— Коля, ты
поухаживай за Маней.
И Николай
Евграфович сел над постелькой Марии.
Потом была
нехорошая, пустая в доме ночь. Николай не ушел от Андрея. Они вышли на улицу и
сели на крыльцо. Молчали. Ночь была черна, и не лаяли даже овчарки. Андрей
вынес на крыльцо бутыль вина. Выпили. Молчали.
Тогда заговорил
Андрей.
— Десять лет
прошло, как я хочу поговорить с тобой об одном деле, и не говорил, потому что
ты не заговорил со мною об этом, а я знаю, что ты не сделаешь мне зла.— Правда,
что Мария — твоя дочь? — Мне об этом говорила жена. Я тогда пришел с моря, и
она сказала мне об этом, и я тогда решил, что раз так случилось, потерянного не
вернешь. Я тебя должен был убить, но убить тебя я не могу. Я простил это тебе и
Марии, и я никому об этом не сказал.
Я только теперь
заговорил об этом, первый раз. Расскажи мне все,— сказал Андрей.
И Николай горячо
стал рассказывать правду, все, что было,— о том, что ничего не было у него с
Марией, что никак не грешен он против друга и его жены.— Ночь была черна, не
выли даже овчарки, не шумело даже море. И два человека, два друга говорили на
крылечке о странностях бытия, о человеческой любви, о невозвратностях,— о той
женщине, о той прекрасной женщине, которую сегодня зарыли в землю и которую в
час их разговора начали уже есть черви.
— Должно быть, она
любила тебя,— сказал Андрей.
— С тех пор я ни
разу не говорил с ней об этом,— ответил Николай.— Последний раз я поминал об
этом в день моей свадьбы, потому что она то же самое, что сказала тебе, сказала
моей жене, в день нашего венчания. Что это значит?
— Должно быть, она
любила тебя,— повторил Андрей.
— Тогда той ночью
она сказала мне,— сказал Николай,— что она никогда не забудет меня и сделает
так, что я тоже никогда не забуду той ночи,— но с тех пор она никогда не
говорила со мной о любви.
— Она любила тебя!
— сказал Андрей.
Была черная ночь.
Они сидели на крылечке. Они пили вино и говорили о непонятном в этом мире. Не
шумело даже море.
V
И еще прошел
десяток лет. Марии, дочери Андрея, стало двадцать,— собою она повторила мать:
как некогда мать, запеклась солнцем, просолилась морем, обветрилась морским
ветром, как некогда мать, была своевольной и вольной. У Андрея Ивановича и у
Николая Евграфовича посеребрели виски, посизели скулы, полегли у глаз морщины,
просоленные временем,— возникли полнота и медленность движений; они носили
теперь лаковые туфли, форменные — торгового флота — кителя нараспашку, фуражки,
прошитые золотым позументом,— капитаны дальнего плавания,— разменивали пятый десяток
своей жизни.
Человеческое время
идет рождениями, свадьбами смертями. Николай Евграфович водил пароход с грузом
зерна на Дальний Восток, шел морями шесть месяцев,— в это время по его поселку
прошла холера и на Дальнем Востоке он получил телеграмму от Андрея о том, что у
него, у Николая Евграфовича, умерли дети и жена. Три месяца вел Николай
Евграфович пароход Тихим океаном, Австралийским архипелагом, мимо Индии, мимо
Африки, мимо Аравии;— чтобы этими тремя месяцами примириться с мыслью о том,
что дома его встретят пустые стены, нежилой холод, одиночество,— что не выйдут
к нему навстречу — в вечерний час, когда он на боте под парусом придет в бухту
поселка — сын и дочь, не помашет ему с обрыва жена, не будет ему перед сном
вытоплена баня, и постель будет пуста.
...О жизни
человеческой всегда надо говорить, что она проста, и никогда нельзя сказать что
проста человеческая жизнь.
Бот пришел в бухту
затемно, когда уже убрались на ночь рыбаки. Капитан и матрос вытащили бот на
берег, закрепили концы, заперли паруса и весла. Вверх уходила каменистая
тропинка, во мрак. И из мрака на тропинке возникла женщина, в белом платье в
белой косынке,— быстро бежала по каменистой тропинке.
— Дядя Коля, это
ты? — спросила женщина.
Капитана Николая
Евграфовича встречала дочь Андрея, Мария, та, что повторила свою мать. Они
пошли вместе в гору. Ночь приходила глухая, безмолвная, такая, когда даже не
лают овчарки. Они прошли в дом Николая Евграфовича. На пороге их встретила
старая нянька, поклонилась хозяину в пояс. Матрос поставил чемоданы в прихожей.
Мария провела Николая Евграфовича в спальню,— на белой кровати лежало свежее
белье, и старая нянька сказала, что баня готова. Мария шумела в столовой
ложками и чашками. Во всех комнатах горели лампы. Николай Евграфович
присматривался к Марии, и ему казалось, что со счетов сброшены двадцать лет,
что перед ним Мария — та. Уже со свежим бельем в руках, в дверях, чтобы пройти
в баню, Николай Евграфович спросил обеспокоенно Марию:
— Что же, тебя
прислал отец?
— Нет, я пришла
сама. Я буду жить у тебя, дядя Коля.
Николай Евграфович
ничего не ответил, повернулся, постоял в двери,— опять повернулся,— неловко,
потому что в руках было белье, обнял за плечи Марию, поцеловал ее в лоб,— и
тогда пошел в баню. Баня была жарко натоплена, в бане хорошо было париться.— А
дома в столовой кипел самовар, на тарелочках, в салфеточках, так, как любил
Николай Евграфович, лежали и вяленая кефаль, и маслины, и еврейская колбаса, и
свежие булочки и стоял холодный графинчик водки. Чай разливала, маслины
накладывала, хозяйничала — Мария, и за чаем тараторила о всех новостях, кто
куда ушел в море, кто умер и кто поженился, какое кому повезло счастье и какие
выпали горести. Николай Евграфович сидел молчаливо, покорно, пил, ел,
посматривал, ни о чем не спрашивал.
После чая Николай
Евграфович выходил на крылечко, и Мария выходила с ним, села рядом, прижалась к
нему плечом. Ночь была черна и безмолвна, не шумело даже море. У людей, которые
прожили трудную, в сущности, жизнь, в годы, когда они разменивают пятый десяток
лет, появляется некая ригористичность, любовь поучить,— жизненный опыт их родит
консерватизм, они предуказывают всегда всем правила, которыми будто бы сами
прожили жизнь и которыми надо жить. Николай Евграфович оживленно заговорил о
том, что заборчик надо починить, надо для этого позвать дурачка Митю
Шерстяную-Ногу,— что те маслины, которые он привез, надо заправить маслом и
лимонами,— что бригантины хуже трембак потому, что в шторм вооруженные мачты с
реями менее управляемы, чем сухие. Мария слушала безмолвно.
Тогда Николай
Евграфович поднялся, чтобы пойти спать.
Он лег на
опустевшей своей двуспальной постели. Мария легла в комнате рядом, в бывшей
детской. Капитан долго возился, расшнуровывая ботинки, кряхтел, поставил свечку
на столик около кровати, взял книгу — приложение к «Ниве», полученное без него.
Из комнаты Марии не долетело ни одного звука. Капитан потушил свет, тогда стали
во мраке видны полосы света, идущие в дверную щель из комнаты Марии.
— Маня, ты не
спишь? — спросил Николай Евграфвич.
— Дядя Коля, можно
прийти к тебе? — ответила Мария.
Мария не дождалась
ответа, скрипнула дверь, капитан увидел на пороге босую Марию, раздетую
по-ночному, с шалью на плечах, со свечою в руке. Свеча потухла, и Мария села
около капитана на кровать, руки ее и голова упала на грудь к капитану, Мария
зашептала:
— Дядя Коля, папа,—
мама мне говорила перед своею смертью, что ты мой папа и просила у меня
прощения, и взяла с меня клятву, что я никому не расскажу об этом, кроме тебя,—
и взяла с меня клятву, что я никогда не перестану тебя любить и всю жизнь буду
заботиться о тебе. И я всю жизнь люблю тебя, папа. Мне было десять лет, когда я
узнала, и я всю жизнь готовилась сказать тебе об этом.
Капитан, как многие
старики, был ригористичен любил ставить точки над "и", любил доказывать,
что масло вещь есть масляная. И вдруг, вот тут, этой ночью, когда он пришел в
свой дом, из которого смерть унесла всех его близких, сейчас, когда он твердо
знал, что там в двадцатилетиях у него ничего не было с матерью Марии,— сейчас
он усомнился в правде того, что было за двадцатилетием, усомнился в истинности
фактов, точно факты могут быть неправдоподобны, как ложь — и неправда может
быть фактом. Мария, девушка, просоленная морем, так доверчиво, так нежно
положила голову к нему на грудь.
Старик-капитан
отечески обнял Марию. Старик-капитан, бродяга по морям, морской волк, старчески
бессильно, тихо заплакал, прижимая к своей груди дочь. Заплакал от нежности и
от одиночества, ибо Мария была единственным человеком, оставшимся у него в этой
жизни,— заплакал в удивлении от непостижимости того, что несет иной раз
человеческая жизнь,— от любви к своей дочери, от забот о ней,— заплакал от
старости,— заплакал, оплакивая ушедшее...
Ночь была черна,
глуха так, что не выли даже овчарки.
VI
...Ветры дуют с
моря. Ветры дуют в море.
Всегда можно
говорить о людях и о человеческой жизни, что они просты,— и никогда нельзя так
говорить.
...Тримунтаны,
грэго, ливанты, пунентии, маистры — так называют моряки ветры — дуют с моря: и
они же дуют в море — маистры, пунентии, ливанты, гарбии, острии. По той земле,
где родился и жил капитан Николай Евграфович, некогда прошли многие народы, и
никто не знал, чья кровь осталась здесь на этом каменистом берегу, откуда
мужчины шли только в море: здесь были и греки, древние и теперешние, и
левантийцы, и турки, и славяне и молдавы; они говорили на языке, окрашенном
украинскою речью,— но для моря, для Смирны, Салоник, Яффы, Александрии, Марселя
у них был иной язык вроде такого:
— «Ту моргэ паране
— море, и треба ми твэнти — един хлиб».
Ветры иной раз дуют
до свиста: но человеку в море нельзя свистать, как вообще не стоит свистать и
просвистываться серьезному человеку.
Эгейское море.
3 ноября 1925 г.
Целая жизнь
I
Овраг был глубок и
глух.
Его суглинковые
желтые скаты, поросшие красноватыми соснами, шли крутыми обрывами, по самому
дну протекал ключ. Над оврагом, направо и налево, стоял сосновый лес — глухой,
старый, затянутый мхами и заросший ольшаником. Наверху было тяжелое, серое,
низко спустившееся небо.
Тут редко бывал
человек.
Грозами, водою,
временем корчевались деревья, падали тут же, застилая землю, гнили, и от них
шел густой, сладкий запах тлеющей сосны. Чертополохи, цикории, рябинки, полыни
не срывались годами и колючей щетиной поросли землю. На дне оврага была
медвежья берлога. В лесу было много волков.
На крутом,
грязно-желтом скате оборвалась сосна, перевернулась и повисла на много лет
корнями кверху. Корни ее, походившие на застывшего раскоряченного лешего,
задравшегося вверх, обросли уже кукушечьим мхом и можжевельником.
И в этих корнях
свили гнездо себе две большие серые птицы, самка и самец.
Птицы были
большими, тяжелыми, с серо-желтыми и коричневыми перьями, густо растущими.
Крылья их были коротки, широки и сильны; лапы с большими когтями заросли черным
пухом. На коротких, толстых шеях сидели большие квадратные головы с клювами,
хищно изогнутыми и желтыми, и с круглыми, суровыми, тяжело глядящими глазами.
Самка была меньше самца. Ее ноги казались тоньше и красивее, и была тяжелая и
грубая грациозность в движениях, в изгибах ее шеи, в наклоне головы. Самец был
суров, угловат, и одно крыло его, левое, не складывалось как следует: так
отвисало оно с тех пор, когда самец дрался с другими самцами за самку.
Гнездо поместилось
между корней. Под ним с тех сторон падал отвес. Над ним стлалось небо и
протягивалось несколько изломанных древесин корней. Кругом и внизу лежали
кости, уже омытые дождями и белые. А само гнездо было уложено камнями и глиной
и устлано пухом.
Самка всегда сидела
на гнезде.
Самец же гомозился
на лапе корня, над обрывом, одинокий, видящий своим тяжелым взглядом далеко
кругом и внизу,— сидел, втянув в плечи голову и тяжело свесив крылья.
II
Встретились они,
эти две большие птицы, здесь же, недалеко от оврага. Уже нарождалась весна. По
откосам таял снег. В лесу и лощинах он стал серым и рыхлым. Тяжелым запахом
курились сосны. На дне оврага проснулся ключ. Днем пригревало солнце. Сумерки
были зелеными, долгими и гулкими. Волки покидали стаи, самки родили щенят.
Они встретились на
поляне в лесу, в сумерки.
Эта весна, солнце,
бестолковый ветер и лесные шумы вложили в тело самца весеннюю, земную тяготу.
Раньше он летал или сидел, ухал или молчал, летел быстро или медленно, потому
что кругом и внутри него были причины: когда он был голоден, он летел, чтобы
найти зайца, убить его и съесть,— когда сильно слепило солнце или резок был
ветер, он скрывался от них,— когда видел крадущегося волка, отлетал от него,
чтобы спастись.
Теперь было не так.
Уже не ощущения
голода и самосохранения заставляли его летать, сидеть, кричать или молчать. Им
владело лежащее вне его и его ощущений. Когда наступали сумерки, он, как в
тумане, не ведая зачем, снимался с своего места и летел от поляны к поляне, от
откоса к откосу, бесшумно двигая большими своими крыльями и зорко вглядываясь в
зеленую, насторожившуюся мглу.
И когда однажды он
увидал на одной из полян себе подобных и самку среди них, он, не зная, почему
так должно быть, бросился туда, почувствовал чрезмерную силу в себе и великую
ненависть к тем остальным самцам.
Он ходил около
самки медленно, сильно оттаптывая, распустив крылья и задрав голову. Он косо и
злобно поглядывал на самцов. Один из них, тот, который до него был победителем,
старался мешать ему, а потом бросился на него с приготовленным для удара
клювом. И у них завязалась драка, долгая, молчаливая и жестокая. Они налетали
друг на друга, бились клювами, грудями, когтями, крыльями, глухо вскрикивая и
разрывая друг другу тело. Его противник оказался слабее и отстал. Он бросился
снова к самке и ходил вокруг нее, прихрамывая и волоча на земле окровавленное
свое левое крыло.
Сосны обстали
поляну. Земля была засыпана хвоей. Синело, скованное звездами, ночное небо.
Самка была
безразлична и к нему и ко всем. Она ходила спокойно по поляне, рыхлила землю,
поймала мышь, съела ее спокойно. На самцов она, казалось, не обращала внимания.
Так было всю ночь.
Когда же ночь стала
бледнеть, а у востока легла зелено-лиловая черта восхода, она подошла к нему,
победившему всех, прислонилась к его груди, потрогала нежно клювом его больное
крыло, лаская и исцеляя, и медленно, отделяясь от земли, полетела к оврагу.
И он, тяжело двигая
больным крылом, не замечая крыла, пьяный, пьяно вскрикивая, полетел за нею.
Она опустилась как
раз у корней той сосны, где стало их гнездо. Самец сел рядом. Он стал нерешительным,
смущенный счастьем.
Самка обошла
несколько раз вокруг самца, снова исцеляя его. Потом, прижимая грудь к земле,
опустив ноги и крылья, сожмурив глаза,— самка позвала к себе самца. Самец
бросился к ней, хватая клювом ее перья, хлопая по земле тяжелыми своими
крыльями, став дерзким, приказывающим,— и в его жилах потекла такая прекрасная
мука, такая крепкая радость, что он ослеп, ничего не чуял, кроме этой сладкой
муки, тяжело ухал, нарождая в овраге глухое эхо и всколыхивая предутро.
Самка была покорной.
На востоке уже
ложилась красная лента восхода, и снега в лощинах стали лиловыми.
III
Зимою сосны стояли
неподвижными, и стволы их бурели. Снег лежал глубокий, сметанный в насты, хмуро
склонившиеся к оврагу. Небо стлалось серо. Дни были коротки, и из них не
уходили сумерки. А ночью от мороза трещали стволы и лопались ветки. Светила в
безмолвии луна, и казалось, что от нее мороз становится еще крепче. Ночи были
мучительны — морозом и этим фосфорическим светом луны. Птицы сидели, сбившись в
гнезде, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, но все же мороз пробирался
под перья, шарил по телу, захолаживал ноги, около клюва и спину. А блуждающий
свет луны тревожил, страшил, точно вся земля состоит из одного огромного
волчьего глаза и поэтому светится так страшно.
И птицы не спали.
Они тяжело
ворочались в гнезде, меняли места, и большие глаза их были кругло открыты,
светясь в свою очередь гнилушками. Если бы птицы умели думать, они больше всего
хотели бы утра.
Еще за час до
рассвета, когда уходила луна и едва-едва подходил свет, птицы начинали
чувствовать голод. Во рту был неприятный желчный привкус, и от времени до
времени больно сжимался зоб.
И когда утро уже
окончательно серело, самец улетал за добычей. Он летел медленно, раскинув
широко крылья и редко взмахивая ими, зорко вглядываясь в землю перед собою.
Охотился он обыкновенно за зайцами. Иногда добычи не встречалось долго. Он
летал над оврагом, залетал очень далеко от гнезда, вылетал из оврага к
широкому, белому пространству, где летом была Кама. Когда зайцев не было, он
бросался и на молодых лисиц, и на сорок, хотя мясо их было невкусно. Лисицы
защищались долго и упорно, кусаясь, царапаясь, и на них нападать надо было
умело. Надо было сразу ударить клювом в шею, около головы, и сейчас же,
вцепившись когтями в спину, взлететь на воздух. В воздухе лисица не
сопротивлялась.
С добычей самец
летел к себе в овраг, в гнездо. И здесь с самкой они съедали все сразу. Ели они
один раз в день и наедались так, чтобы было тяжело двигаться и зоб тянуло вниз.
Подъедали даже снег, замоченный кровью. А оставшиеся кости самка сбрасывала под
обрыв. Самец садился на лапу корня, ежился и хохлился, чтобы было удобнее, и
чувствовал, как тепло, после еды, бегает в нем кровь, переливается в кишках,
доставляя наслаждение.
Самка сидела в
гнезде.
Перед вечером
самец, неизвестно почему ухал:
— У-гу-у! — кричал
он так, будто звук в горле его проходит через воду.
Иногда его, одиноко
сидящего наверху, замечали волки, и какой-нибудь изголодавшийся волк начинал
карабкаться по отвесу вверх. Самка волновалась и испуганно клекотала. Самец
спокойно глядел вниз своими широкими, подслеповатыми глазами, следил за
волком,— как волк, медленно карабкаясь, срывался и стремительно летел вниз,
сметая собою комья снега, кувыркаясь и взвизгивая от боли.
Подползали сумерки.
IV
В марте вырастали
дни, начинало греть солнце, бурел и таял снег, долго зеленели сумерки. Веснами
добычи было больше, потому что все лесные жители чуяли уже тревогу предвесны,
томящую и зачаровывающую, бродили полянами, откосами и лесами, не смея не
бродить, безвольные во власти предвесенней земли,— и их легко было ловить. Всю
добычу самец приносил самке, сам он ел мало: только то, что оставляла ему
самка,— обыкновенно это были внутренности, мясо грудных мышц, шкура и голова,
хотя у головы самка всегда съедала глаза, как самое вкусное.
Днем самец сидел на
лапе корня.
Светило солнце.
Слабый и мягкий шел ветер. На дне оврага шумел черный и поспешный теперь ключ,
резко вычерченный белыми берегами снега.
Было голодно. Самец
сидел с закрытыми глазами, втянув голову в шею. И в нем была покорность,
истомное ожидание и виноватость, так не вяжущаяся с его суровостью.
В сумерки он
оживлялся. В него вселялась бодрая тревога. Он поднимался на ногах, вытягивал
голову, широко раскрыв круглые свои глаза, раскидывал крылья и снова складывал
их, бил ими воздух. Потом, снова сжимаясь в комок, втягивая голову, жмурясь,
ухал.— У-гу-гу-гу-у! — кричал он, пугая лесных жителей.
И эхо в овраге
отвечало:
— У-у...
Были синие сумерки.
Небо вымащивалось крупными, новыми звездами. Шел маслянистый запах сосен. В
овраге стихал на ночь, в морозе, ручей. Где-то на токах кричали птицы, и все же
было величественно тихо. Когда темнело окончательно и ночь становилась синей,
самец, крадучись, бодро-виновато, осторожно расставляя большие свои ноги, не
умеющие ходить по земле, шел в гнездо к самке. Он ликовал большой, прекрасной
страстью. Он садился рядом с самкой, гладил клювом ее перья. Самка была
доверчива и бессильна в нежности. На своем языке, языке инстинкта, самка
говорила самцу:
— Да. Можно.
И самец бросался к
ней, изнемогая блаженством страсти. И она отдавалась ему.
V
Так было с неделю,
с полторы. Потом же, когда ночью приходил к ней самец, она говорила:
— Нет. Довольно.
Говорила,
инстинктом своим чувствуя, что довольно, ибо пришла другая пора — пора рождения
детей.
И самец, смущенный,
виноватый тем, что не предугадал веления самки, веления инстинкта, вложенного в
самку, уходил от нее, чтобы прийти через год.
VI
И с весны все лето
до сентября они, самец и самка, были поглощены большим, прекрасным и
необходимым делом рождения,— до сентября, когда улетали птенцы.
Многоцветным ковром
развертывались весна и лето, сгорая горячими огнями. Сосны украшались свечками
и маслянисто пахли. Полыни пахли. Цвели и отцветали: свирбига, цикорий,
колокольчики, лютики, рябинки, иван-да-марья, чертополохи, многие другие травы.
В мае ночи были
синими.
В июне —
зелено-белыми.
Алым пламенем
пожара горели зори, а от ночи по дну оврага, белыми, серебряными пластами,
стирая очертания мира, шли туманы.
Сначала в гнезде
было пять серых, с зелеными крапинками яиц. Потом появлялись птенцы:
большеголовые, с чрезмерно большими и желтыми ртами, покрытые серым пухом. Они
жалобно пищали, вытягивая длинные шеи из гнезда, и очень много ели. В июне они
уже летали, все еще головастые, пикающие, нелепо дергая неумелыми крыльями.
Самка была все время с ними, заботливая, нахохленная и сварливая. Самец не умел
думать и едва ли чувствовал, но чувствовалось в нем, что он горд, у своего
прямого дела, которое вершит с великой радостью.
И вся жизнь его
была заполнена инстинктом, переносящим всю волю его и жизнеощущение на птенцов.
Он рыскал за добычей. Надо было ее очень много добывать, потому что птенцы и
самка были прожорливы. Приходилось летать далеко, иногда на Каму, чтобы там
ловить чаек, всегда роящихся около необыкновенно больших, белых, неведомых и
многоглазых зверей, идущих по воде, странно шумящих и пахнущих так же, как
лесные пожары,— около пароходов. Он сам кормил птенцов. Разрывал куски мяса и
давал им. И наблюдал внимательно своими круглыми глазами, как птенцы хватали
эти куски целиком, широко раскрывая клювы, давились ими и, тараща глаза,
покачиваясь от напряжения, глотали. Иногда кто-нибудь из птенцов, по глупости,
вываливался из гнезда под откос. Тогда самец поспешно и заботливо летел вниз за
ним, хлопотливо клекотал, ворчал; брал его осторожно и неумело когтями и
приносил испуганного и недоумевающего обратно в гнездо. А в гнезде долго гладил
его перья своим большим клювом, ходил вокруг него, из осторожности высоко
поднимая ноги, и не переставал клекотать озабоченно. Ночами он не спал. Он
сидел на лапе корня, зорко вглядываясь во мглу ночи, остерегая своих птенцов и
мать от опасности. Над ним были звезды.
И он в полноте
жизни, в ее красоте, грозно и жутко ухал, встряхивая эхо.
— У-гу-гу-гу-у! —
кричал он, пугая ночь.
VII
Он жил зимы, чтобы
жить. Весны и лето он жил, чтобы родить. Он не умел думать. Он делал это
потому, что так велел тот инстинкт, который правил им. Зимами он жил, чтобы
есть, чтобы не умереть. Зимы были холодны и страшны. Веснами — он родил. И
тогда по жилам его текла горячая кровь, светило солнце и горели звезды, и ему
все время хотелось потянуться, закрыть глаза, бить крыльями воздух и ухать
радостно, на все овраги сразу.
VIII
Осенью улетали
птенцы. Старики с молодыми прощались навсегда и прощались уже безразлично.
Осенью шли дожди, волоклись туманы, низко спускалось небо. Ночи были тоскливы,
мокры, черны. Старики сидели в мокром гнезде, двое, трудно засыпая, тяжело
ворочаясь. И глаза их светились зелеными огоньками гнилушек. Самец уже не ухал.
IX
Так было тринадцать
лет их жизни.
X
Потом самец умер.
В молодости у него
было испорчено крыло, с тех пор как он дрался за самку. С годами ему все
труднее и труднее было охотиться за добычей, все дальше и дальше летал он за
ней, а ночами не мог уснуть от большой и нудной боли по всему крылу. И это было
очень страшно, ибо раньше он не чувствовал своего крыла, а теперь оно стало
важным и мучительным. Ночами он не спал, свешивая крыло, отталкивая от себя. А
утрами, едва владея им, он улетал за добычей.
И самка бросила
его.
Предвесной, в
сумерки она улетела из гнезда.
Самец искал ее всю
ночь и на заре нашел. Она была с другим самцом, молодым и сильным, нежно
всклекотывающим около нее. И старик почувствовал, что все, данное ему в жизни,
кончено. Он бросился драться с молодым. Он дрался неуверенно и слабо. А молодой
кинулся к нему сильно и страстно, рвал и грыз его тело. Самка же, как много лет
назад, безразлично следила за схваткой. Старик был побежден. Окровавленный,
изорванный, с вытекшим глазом, он улетел к себе в гнездо. Он сел на свою лапу
корня. И было понятно, что с жизнью счеты его кончены. Он жил, чтобы есть,
чтобы родить. Теперь ему оставалось — умереть. Верно, он чувствовал это
инстинктом, ибо два дня сидел тихо и недвижно на обрыве, втянув голову в шею. А
потом, спокойно и незаметно для себя, умер. Упал под обрыв и лежал там с
ногами, скрюченными и поднятыми вверх. Это было ночью. Новыми были звезды.
Кричали в лесах, на токах птицы. Ухали филины. Самец пролежал пять дней на дне
оврага. Он уже начал разлагаться и горько, скверно пахнул.
Его нашел волк и съел.
Человеческий ветер
I
Десять лет
человеческой жизни — оглянуться назад на десятилетие — все это было вчера: все
помнится до мелочей, до морщинки у глаз, до запаха в комнате. Но в каждые
десять лет уходит с земли из жизни — одна пятая всех живущих на земле людей,
десятки миллионов людей идут гнить в землю, кормить червей; впрочем, в эти же
каждые десять лет и приходят в жизнь миллионы людей, родятся, растут, живут,
идут в новые земли, множатся, буйствуют половодьями весен, изобилуют летами,
покойствуют эмалевыми днями бабьего лета, сгорают красными зимними зорями — — И
каждая эпоха человеческой жизни, каждая страна, каждый город, каждый дом, каждая
комната имеют свой запах — точно так же, как имеют свой запах каждый человек,
каждая семья, каждый род. Десятилетья скрещиваются иной раз — очень часто, и —
за эпохами, за событиями городов и стран — ему, этому, данному человеку —
морщинки у глаз, запах комнаты — существенней, многозначимей, чем событья эпох.
Над каждой страной
дуют свои ветры.
У него, у этого
человека, Ивана Ивановича Иванова, жизнь запомнилась городом с деревянными
тротуарами, с деревянными заборами вдоль улиц, калиткой во двор, тяжелым
запахом жилья в сенях, низкими комнатами в дворовый бурьян. И над его жизнью
продул ветер тот, что пахнет человечьим жильем. В его комнате стоял
продавленный кожаный диван, за диваном веками собирались окурки. На столе в его
комнате изредка менялись книги и никогда не менялось сукно: это был письменный
стол, пепел перецветил сукно на столе из зеленого в желтое, пепел нельзя было
сдуть со стола. И за низкими окнами в сад рос бурьян, крапива, лопухи, белена.
Над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человечьим жильем,— и этот ветер
застрял в его комнате.
И там за
десятилетиями запомнился навсегда осенний, промозглый вечер, уж очень, до
судороги в горле, пропахший человечиной: это был вечер, когда он прогнал свою
жену. До этого были и бурьяны рассветов, и половодье полей, и ночи со словами о
том,— что — «люблю, люблю, навсегда, навсегда!» — были обвалы рассветов, когда
в рассветном мире были — солнце, мир и озера ее глаз, в которых можно утопить
мир и солнце,— она, заполнившая мир и солнце. В человеческой радости тогда
родился ребенок, новый Иван, в сумерки глаза матери были прекрасны всем
прекрасным материнством мира,— в сумерки он приходил тогда к ней, чтобы
поцеловать ее бледную руку: ребенок тогда спал, новый Иван.— Все это было.— И
потом был тот промозглый вечер, такой вечер, когда человеку одиноко, страшно на
земле от удушья человечины.
Это не был вечер:
это была полночь. За окнами лил осенний дождь и там надо было колоть глаза. На
столе горела свеча, капала на то самое сукно, которое никогда не сменялось. У
нее опухли глаза, и у глаз были морщинки. Он стоял у стола. Она стояла у
дверей.
Она говорила:
— Иван, пойми, это
все ложь, прости. Это было наваждение. Ведь у нас было же настоящее большое
счастье, мы же любили друг друга.
Иван Иванович
наклонялся к свече и читал медленно, по складам, сотню раз перечитанный
лоскуток бумаги, написанный ею: — «Николай, это наваждение, но я не могу быть
без тебя. Мужа не будет сегодня дома, калитка не будет заперта. Приди к
одиннадцати, когда все уснут...»
Иван Иванович клал
руку с лоскутком к себе в карман, отклонялся от огня и говорил медленно, по
складам:
— Прощать тут не в
чем. Это слово сюда не подходит. Я наваждениями не занимаюсь. И наваждение тут
тоже не при чем. Просто ты голая лежала с голым мужчиной в моей постели.—
Ступай вон!
— Иван! — у нас же
ребенок, у нас же сын!..
Иван Иванович
сострил:
— У нас
же-ре-бе-нок: вот именно, мне не надо, чтоб у тебя были жеребцы.— Ступай вон!
И тогда у нее
исчезли морщинки у глаз, остались одни глаза, полные ненависти, презрения и
оскорбленности. Она прошептала ему, тоже по складам:
— Не-го-дяй! И
люблю, и люблю — его люблю, а не
тебя!
Иван Иванович
ничего не ответил, растерявшись на минуту. Она повернулась круто, хлопнула
дверью. Он не пошел за ней. За дверью было тихо. Он стоял неподвижно. За дверью
было тихо. Так прошло, должно быть, четверть часа. Тогда он бросился к двери.
За дверью было пусто, постель ребенка была пуста, горела около постели на стуле
свеча. Дверь была открыта. Он бросился в сени, в тяжелый запах жилья. Дверь на
двор была открыта. Он бросился в дождь на двор. Калитка на улицу была открыта.
Тогда он крикнул беспомощно, очень унизительно и жалко:
— Аленушка — —
Ему никто не
откликнулся. Улица провалилась во мрак и дождь.
Потом наутро баба
принесла записку: — «Иван Иванович, будьте добры»,— в записке просилось с
посланной отослать вещи — ее и сына, только. Он собрал все вещи, собирал их
целый день, баба помогала ему в сборах; баба дважды уходила есть, пить чаи и
обедать: он не думал о еде, и когда уходила баба, писал огромное письмо. К
вечеру баба на тележке повезла вещи и за пазухой понесла письмо. Иван Иванович
помог ей вывезти тележку на улицу, на улице он жал руку бабы и просил не
позабыть принести ответ. Бабе неловкими были рукопожатия и она рассудительно
говорила, оттягивая руку: — «Мне што, — велят, я принесу, чай у меня ноги
свои».— Ответа не было ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Но послезавтра
узналось, что она уехала из этого города — куда-то по железной дороге, со всеми
вещами, должно быть, навсегда. И она на самом деле уехала навсегда. Больше Иван
Иванович никогда не видел ее.
Через год он узнал,
что она живет где-то в Москве, —
через три он узнал,
что у нее родился новый ребенок мальчик по имени Николай. Фамилия у мальчика
была его,— Ивана Ивановича Иванова,— Николай Иванов.
За продавленным
кожаным диваном росли залежи окурков.
II
Она, мать этих двух
детей, жена Ивана Ивановича, понимала любовь так, как понимают ее очень многие
женщины, когда они идут за каждым шагом мужчины, хотят знать каждую его мысль,—
в сущности, мешают мужчине жить, мешают ему думать и работать, когда женщины
теряют все свое, отдавая первым делом достоинство; такие любови неминуемо
кончаются развалом, потому что даже любовное рабство есть рабство, и в таких
любовях нет строительства.— Каждую человеческую жизнь и каждую человеческую
любовь можно отобразить образом: и жизнь этой женщины в годы после того, как
она ушла от мужа, похожа была на очень яркий, пестрый, красный платок, на
цыганскую шаль, которую навертели на руку, завихрили, вихрили около ночных,
загородных домов, свечей, около мутных рассветов. Эта шаль пропахла многими
табаками и духами, но от давних дней в запахе ее затаился запах человечины.
Потом эта шаль развивалась, упала — и упала она в очень мусорный московский
пригород, в очень удушливый человеческий мусор. Сын Иван жил в провинции у
сестры. Сын Николай жил сначала с нею, потом она отдала его в приют. Семи лет
от роду сын Николай узнал муку падучей, там, в гулком коридоре каменного
приюта. Мать же узнала тогда, что отец его, тот, который не дал даже имени
сыну,— просто негодяй, потому что только негодяи могут осмеливаться родить
больных детей: впрочем, мать тогда давно уже считала и себя негодяйкой,
посмевшей родить ребенка (и еще впрочем: человеческий суд не должен, не может
быть столь строгим, как суд человека над самим собой)...
И тогда мать
умерла. Мать умерла достойно, сумев оставить в детях, и в Иване, который жил
далеко и был здоров, и в Николае, который жил рядом за приютскими заборами и
был болен падучей,— она сумела оставить в них любовь и уважение к себе. Она
умерла от какого-то тифа, но большой смысл смерти был в том, что все,
положенное ей на жизнь, она отжила.
Дети не знали друг
друга. И только через годы к Николаю в приют пришло письмо от брата Ивана, из
провинции. Брат писал, чтобы познакомиться, чтобы восстановить братские свои
права. Николай ответил ему. Брат Иван писал о реке, над которой он жил, о
сеновале на дворе, о товарищах по гимназии, о птицах, о поле. Брат Николай
писал о своих коридорах, о ремесленном своем училище, о дортуарных буднях.
После многих писем брат Николай написал брату Ивану о своей болезни. Оба они
много писали о матери, каждый рассказал другому все до мелочи, что сохранила
память о святом — о матери. А когда Ивану в его провинции исполнилось
четырнадцать лет и ему рассказала тетка об отце, Иван написал Николаю, что у
них сохранился отец. Эта весть странно отразилась на Николае (или, быть может,
именно так, как и следовало ей отразиться): Николай замечтал об отцe. Николай глубоко спрятал в сердце, научившемся
прятаться в приютских дортуарах, мечту и мысль об отце, заветную память и
нежность. Иван написал отцу; и отец ответил Ивану длинно и нежно: Иван передал
письмо отца брату Николаю. Николай написал Ивану Ивановичу Иванову, и тот
ничего не ответил ему — —
(Надо в скобках
сказать тут, что эти дни бытия Ивана и Николая привели их в великую русскую
революцию.)
III
Десять лет
человеческой жизни — недолгий срок. И десять лет человеческой жизни — громадный
срок!.. У Ивана Ивановича Иванова, отца, все больше и больше копилось за
продавленным кожаным диваном окурков,— и все по-прежнему лежал город с
деревянными тротуарами, с деревянными заборами вдоль улиц, с калиткой во двор,
с тяжелым запахом жилья в сенцах, с бурьяном за окнами. Не важно, кем был и мог
быть Иван Иванович, преподавателем ли гимназии или земским статистиком: над его
жизнью продул тот ветер, что пахнет человеческим жильем.— И там в
десятилетии, в годах, Иван Иванович помнит письмо от сына Ивана. Его принесли
утром, первая строка там гласила: — «Здравствуй, дорогой мой папа»,— и в тот
день Иван Иванович помолодел на десятилетье, запомнил солнце, помнил бурьяны
рассветов, половодье лет,— и чуть-чуть лишь помнил страшную ночь, тот момент,
когда он шел от одной открытой двери к другой, до калитки, когда он крикнул во
мрак на улице: — «Аленушка»,— и в этот день ему все время вновь хотелось так же
крикнуть, только громко, только окончательно всепрощающе, только очень
радостно. И он тогда ответил сыну радостным и длинным письмом.— И тогда же
скоро пришло другое письмо, от Николая,— и оно начиналось теми же словами, что
и письмо Ивана: — «Здравствуй, дорогой мой папа»,— и всей кровью, всей
ненавистью, всей той промозглой ночью, пропахшей человечиной, ему захотелось крикнуть,
опять, опять: — «вон! вон! к своим жеребцам! — мне ублюдков не надо!»
...И были осенние
сумерки, когда от дождей особенно удушливо пахнет в сенцах и когда очень рано
надо зажигать свечи (это было время, когда уже отгромыхивала революция). На
дворе скрипнула калитка, кто-то палочкой прошумел по лесенке сенц. Отворилась
дверь в прихожую, и оттуда спросили тихо:
— Будьте добры,
здесь живет Иван Иванович Иванов?
— Да, я здесь,—
ответил Иван Иванович.
В комнату вошел
невысокий человек, с палкой о резиновом набалдашнике, какие носят калеки. Плечи
его были подняты. И в сумерках лицо с тонкими усами, как веревочки, показалось
очень бледным, очень усталым.— Так запомнился этот человек Ивану Ивановичу.—
Он, этот человек, шагнул в комнату, и нерешительно и радостно остановился у
порога. Он сказал:
— Вы — Иван
Иванович?..— и заплакал и протянул вперед руки (палка упала на пол).
— Папа,— это я...
твой... ваш сын Николай!
Иван Иванович стоял
у стола (у того самого стола, на котором перецветилось сукно),— и он не подал
руки, он отвернулся от Николая,— он почуял, как сразу вся та ночь из
десятилетий вступила в комнату. Он сказал тихо:
— Садись. Чем могу
служить?
Николай ничего не
ответил и покорно, поспешно сел на стул у двери.
— Чем могу
служить?! — громче сказал Иван Иванович.
Николай не понимал
вопроса, не успел ответить.
— Чем могу служить!
— закричал, завизжал Иван Иванович.
— Простите, я не
понима — —
Иван Иванович
потащил по полу от стола кресло, сел против Николая, руки упер в ручки кресла.
Иван Иванович поднял палку и передал ее Николаю. Николай принял палку. Иван
Иванович пристально глянул на Николая, прищурил глаз.
— Простите, не знаю
вашего отчества,— заговорил шепотом Иван Иванович, все больше прищуривая глаз.—
Не знаю вашего отчества,— повторил он громче.— Извините. Нам надо объясниться,
чтобы покончить недоразумение. Вы носите мою фамилию по недоразумению. Я не
знаю, кто ваш...— Иван Иванович перебил себя, вынул из кармана папиросы:—
Простите, вы курите? — нет?.. Так!— Простите, я не имею чести знать, кто ваш...
батюшка!
Николай встал со
стула. Иван Иванович тоже встал. Палка опять упала: Иван Иванович поспешно
подал ее Николаю. Глаз Ивана Ивановича был судорожно зажат.
— Да, да,—
простите! Не имею чести! Я здесь ни при чем!.. Не имею чести!.. Не имею чести
знать, с кем... с кем приспала вас ваша матушка!
Николай не слушал
больше Ивана Ивановича. Он пошел вон из комнаты. Он шел поспешно, припадая на
правую ногу, в правой руке была палка, правое плечо было поднято так, как оно
бывает поднято только у очень нездоровых людей.
— Да, да,— не имею
чести! Не имею чести! — кричал вслед Иван Иванович.
*
* *
...Братья Николай и
Иван условились встретиться в городе, где жил отец. Николай приехал несколькими
часами раньше Ивана. Иван с вокзала поехал в гостиницу. Он узнал, что брат уже
здесь. Они никогда не виделись. В номере горела на столе свеча, когда вошел
Иван, высокий, здоровый человек в военной форме командира полка. В номере
горела на столе свеча, но Иван никого не увидел в номере. Он спросил
коридорного,— Где брат? — Коридорный ответил: — Они никуда не выходили-с.—
Тогда Иван увидел на полу, за столом человека. Человек обнимал спинку стула.
Иван, сильный человек, запутанный в ремни от сабли и револьвера, поднял
человека на руки.
— Николай,
голубчик, что ты? — спросил он тревожно.— Припадок?
Николай ответил
покойно:
— Нет, никакого
припадка нету. Я здоров. Я был...— Николай затомился словами.— Я был у Ивана
Ивановича Иванова, у твоего отца. Он мне сказал, что наша мать была... что он
не знает, кто мой отец, с кем прислала, так сказал он, меня моя мама.
— Что?.. наша мама
— —
На столе в номере
горела свеча. Сильный человек держал слабого за плечи. За окнами улицы
проваливались во мрак. На столе у свечи лежали окурки. Вскоре сильный человек
сидел рядом со слабым на полу: это впервые встретились два брата, два человека,
никогда не видевшие друг друга, но с первых дней своего сознательного детства
знавшие все друг о друге,— они говорили о маме, которую один из них помнил. И
для того человека, который жил в этом же городе, к которому они приехали, у них
было сухое слово — негодяй,— негодяй,
который осмелился посягнуть на память матери — —
...В уездных
городах деревянные тротуары служат не только к тому, чтобы по ним ходили в
грязь,— тротуары разносят всякие уездные новости. И человеку, Ивану Ивановичу
Иванову, человеку, жизнь которого пропахла человечиной, выпало еще раз пережить
ночь, похожую на ту, когда открыты были все двери: была ночь наваждений, тех
наваждений, которые некогда, там, за годами, увели от него его жену. Улицы
проваливались во мрак, плакала земля дождем, и Иван Иванович стоял у калитки и
ждал сына, сына Ивана, который был за переулком в номерах «Москва». И Иван
Иванович-отец кричал в темноту: — Иванушка!» — Сын Иван не пришел к отцу.— И на
утро отец Иван видел сына,— тоже, в сущности, единственный, последний раз,— на
вокзале. Он, отец, стоял в толпе. Мимо него прошли двое: один, опирающийся на
палку с резиновым набалдашником, и этого хромого вел высокий, здоровый военком,
запряженный в ремни от сабли и от револьвера, белокурый, румяный, здоровый,
покойный человек. И отец увидел: глаза его были небывало похожи на глаза
матери, на те озера, в которых некогда он мог топить мир и солнце.— Поезд ушел
очень скоро, отсвистел, отдымил, отшумел. Отец пошел по деревянным тротуарам
города, мимо деревянных заборов. По улицам дул ветер.— По улицам, по деревянным
тротуарам шел дряхлый, седой человек— —
Дома в сенцах
запахло человечиной.
IV
Впрочем:
человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над
самим собой.
Москва,
Сентябрь 1925.
Без названия
I
...Очень трудно
убить человека,— но гораздо труднее пройти через смерть: так указала биология
природы человека.
...Перелесок
осиновый, сумерки, дождик. Дождик капает мелкий-мелкий, серый, сырой. Осины
пожелтели, шелестят иудами, сыпят мокрые листы. Дорога идет из овражка, в
овражке сломанный мост, мочежина. Поле подперло к перелеску, развороченное
картошкой. Дорога прошла осинами, колеи набухли грязью, дорога вышла в поле: на
горизонте торчит церковная колокольня. Перелесок упирается в настоящий лес,
этот треугольник иудиных виселиц. Сумерки, мелкий-мелкий моросит дождик.
Облака, должно быть, цепляют за вершины осин. По мосту, по дороге в осиннике,
по картофельному полю — не пройдешь: нога увязнет в грязи по колено. Но вот
сумерки налились каракатичной кровью ночи, тушевым мраком, и ничего не видно...
И через
десятилетия, чрез многие годы всяческих дорог — навсегда в памяти остался этот
перелесок в сумерках и дожде, проваливающийся во мрак, в котором ничего не
видно: навсегда осталось в памяти такое, где ничего не видно. Вечерами, после
улицы дня и после рек московских улиц, надо подниматься лифтом на третий этаж
первого дома Советов, того, что на углу Тверской и Моховой. В комнату, если не
зажигать электричества, идет синий свет улиц, в синем этом мраке над Кремлем,
над зданием ЦИКа плещется красное знамя: знамени не видно, виден только
багровый этот красный цвет в черном небе. И миллионный город несет в этажи
первого дома Советов осколки своих рокотов...
II
Всё это было
двадцать лет назад.
Героев в этом
рассказе — трое: он, она и тот третий, которого они убили и который стал между
ними.
Этот третий — был
провокатором. Этот третий был человеком, продававшим за деньги людей на
виселицу, продававшим революцию, ее идеи и ее честь. Он и она вызвались убить
этого человека, для которого не было иного имени, кроме мерзавца. Это были дни
разгрома революции 1905 года,— и суд над негодяем должен был быть жестоким:
побеждаемым не о чем было разговаривать, когда их же брат продавал головы на
виселицы, груди под пули и годы человеческих мук на тюрьмы и ссылки,— и
разговоров не было.
Она никогда не
видела в лицо этого провокатора. Из подполья она поехала в деревню, к
деревенскому своему отцу — дьякону. Был июнь месяц. Он — имя его Андрей —
приехал к ней в качествах жениха. Всего этого не знал третий, провокатор, не
знавший легального имени Андрея. Третий должен был приехать на станцийку,
лежавшую верстах в пяти от дьяконовой деревни, для связи, и встретиться с
Андреем в лесочке, что первый направо от шпал, за овражком.
Был июнь месяц.
Как, какими словами рассказать о первой любви? — любви, белой, как ландыши, и
тяжелой, в весеннести своей, как гречневый цвет, той тяжестью, которой можно
перевернуть мир,— любви, не знавшей ничего больше рукопожатья и общих — на мир
— вперед — глаз,— любви (и он, и она знали об этом, выверив это двадцатилетием)
той, которая бывает (и навсегда остается) единственной. Был сенокосный июнь в
коростелиных сумерках: развевались оржаным ветром оржаные ее волосы и обдувал
ветер белое ее платье, чуть тяжелеющее от вечерней росы,— и широко был
расстегнут ворот вышитой его рубахи, и непонятно, каким образом держалась у
него на затылке мятая его фуражка. Дьякон в палисаде, после сенокосного дня,
глупейшие нравоучения читал о семейной жизни и в наивной хитрости расхваливал,
как купец товар, качества своей дочки. При дьяконе весело они играли во
влюбленных. Дьякон уходил в сарай спать. Они шли в поле. И, сколь при дьяконе
нежно руку клала она ему на плечо,— в поле здесь шли они на аршин друг от
друга, в любви, как мартовские льдинки под ногою, и в разговорах — не ниже, чем
о Бокле, хоть старый Бокль тогда уже и устарел.
Ни
разу не говорили они о том, что они должны убить.
И пришел день,
когда в сумерки он сказал, что сегодня ночью они: должны пойти. В этот день они легли спать с курами,— и через час
после того, как улеглись они спать, встретились они за овинами в сосняке.
По-прежнему на затылке была его фуражка,— из мрака возникнув в белом платье, синея
во мраке, подошла она в белом платочке, монашески повязанном. В руках у нее был
узелок.
— Что ты несешь?
— Взяла хлеба на
дорогу.
И тогда он поправил
фуражку на голове, ничего не сказав. Она взглянула на него, наклонив к нему
свое лицо. Она выпрямилась, медленно развязала платочек и бросила в сторону в
кусты куски хлеба. Он ничего не сказал.
Сказала она:
— Пойдем.
И они пошли лесною
тропинкой, молча. Лес пахнул медами июня, кричал вдали филин, тесною стеною
стояли деревья. Они шли рядом, плечо в плечо, молча. Подавал иной раз он ей
руку, чтобы помочь, и доверчиво брала она его руку. Надо было спешить к ночному
поезду, и они шли торопливо, ни на минуту не приходили к нему мысли о том, что
он — тем револьвером, что лежит у него в кармане — должен через час убить человека, потому что он знал, что он
должен пристрелить гадину,
переставшую быть для него человеком. Что думала она — он не знал, как не узнал
никогда. Она шла рядом, его единственное, его любовь, его гречишневые тяжести,—
голова ее в белом платочке была упрямо наклонена, так же, как тогда, когда
вызвалась она пойти убить провокатора.— Из леса они вышли в поле. Вдалеке в
поле возникли огни станции, и быстрее заспешили они,— он шел впереди, и шаг в
шаг шла она за ним. Они подошли к осиновой косе. Шелестели иудинно осины,
черной стеной стал за осинами сосновый лес, пахнуло с поля картофельным
цветом,— горели в вышине блеклые звезды на пепельном российском июньском небе.
Здесь они
остановились. Здесь, в этой осиновой косе, должна была остаться она, он должен
был пойти к соснам. Вдали прошумел поезд, отошел от станции. Было еще свободных
десять минут. Он сел на траву, около осины. Покорно села она рядом.
— А правда, не
плохо было бы съесть кусок хлеба,— сказал он.
Она ничего не
ответила.
— У тебя револьвер
в порядке? — спросил он.
Она молча протянула
руку, в руке зажат был револьвер.
— Ты будешь
стрелять, если мне не удастся убить. Если я буду тяжело ранен, ты дострелишь
меня,— сказал он.
Она наклонила
голову в знак утверждения, ничего не сказав.
Больше они не
говорили. Он закурил папиросу, выкурил ее в кулак, крепко отплюнулся, поправил
фуражку и встал. Она тоже встала.
Он протянул ей
руку. Она слабо сжала его руку, потянула ее к себе — и покойным девичьим
поцелуем поцеловала она его в губы, первый и последний раз в их жизни. Вновь
поправил он фуражку, круто повернулся и пошел во мрак осин. Прошед уже много
шагов, он взглянул назад: он увидел белое платье, ее, побежавшую от опушки вниз
в овражек, к мосту, к ольшанику, бежала она широкой решительной побежкой. Он
пошел дальше, к соснам. Кричали в поле коростели и глубоким покойствием шла
ночь.
С насыпи в туман
овражка, к соснам пошел третий, человек в соломенной шляпе, в пальто. Этот
третий пошел к соснам. Этого третьего встретил Андрей.
— Это ты,
Кондратий? — спросил третий Андрея.
— Да, это я,—
ответил Андрей.— Пойдем.
Они пошли рядом.
Андрею показалось, что этот третий идет так, чтобы все время быть сзади Андрея,
а когда Андрей клал руку в карман, тот подходил вплотную.
— Что с тобою,
Кондратий? — спросил третий.
Андрей ничего не
ответил,— отступив шаг назад, выхватил он из кармана револьвер и в упор в грудь
выстрелил в провокатора. Тот улыбнулся и сел на землю, беспомощно подняв руки
вверх, в правой руке у него был браунинг. Андрей выстрелил второй раз в это
улыбающееся лицо. Человек мешком муки повалился навзничь. Андрей пошел прочь,
крупными шагами. Так он прошел шагов сто. И тогда вернулся к трупу, наклонился
над ним, толкнул его ногой. Труп поправил неестественно подогнувшуюся ногу,
лицо мертвецки улыбалось. Андрей еще раз толкнул его и осторожно, как люди,
боящиеся заразиться, стал обыскивать его карманы. В это время к соснам подошла
она, осмотрела внимательно убитого и Андрея, отошла к опушке, стала спиною к
соснам.
Андрей подошел к
ней, она молча пошла вперед. Так они и шли: она впереди, он сзади. Все версты
они шли, не отдыхая. Над землею возникал рассвет, багровой зарею покрывался
восток, месяц, поднявшийся к рассвету, новую посыпал росу. Восход солнца
предупредил торжественность тишины. Ни слова не сказали они друг другу за всю
дорогу. Бесшумно они прошли в дом.
III
Никогда больше ни
слова не сказали они друг другу с глазу на глаз. Наутро тогда веселым смехом
она разбудила его, добродушнейшие глупости говорил дьякон за картофельным
завтраком, нежной невестой ластилась она к жениху. Дьякон ушел,— они остались
одни,— и они замолчали. Так прошло три дня, тогда, когда пережидали они, чтобы
замести следы, но за эти три дня даже вести не дошли до их села,— и на
четвертый день дьякон отвез их на станцию, перецеловал крепко обоих на перроне,
перекрестил, благословил,— и в Москве с вокзала пошли они в разные стороны, ни
слова не сказав друг другу.
...Навсегда
остались в памяти проселок, перелесок осенний, мост в овражке, картофельное
поле. Осины пожелтели, шелестят иудами, сыпят мокрые листы. Все разбухло от
осенней грязи, и грязь налипает на сапоги по колено... Но вот сумерки налились
каракатичной кровью ночи, и все провалилось во мрак, в котором ничего не видно...— Этот осенний осиновый
иудин перелесок остался в памяти не от той ночи, когда он убил здесь человека,
ибо тогда был сенокосный, медовый июнь,— но от той, когда он, по странному
закону природы, повелевающему убийце прийти на место убийства,— черными
осенними сумерками пришел прокоротать ночь на том месте, где он: убил любовь.
...Осенний
переселок, сумерки, дождик,— и потом мрак, в котором ничего не видно...
Вечером, после улицы дня и после рек московских улиц, надо подниматься лифтом
на третий этаж первого дома Советов. В комнату, если не зажигать электричества,
идет синий свет улиц,— и в синем этом мраке над Кремлем, над зданием ЦИК'а
плещется красное знамя,— то, ради которого погребен в памяти осиновый
перелесок.
Узкое,
7 ноября 1926