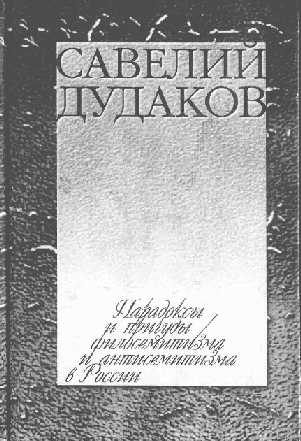
САВЕЛИЙ ДУДАКОВ
ПАРАДОКСЫ И ПРИЧУДЫ
ФИЛОСЕМИТИЗМА И АНТИСЕМИТИЗМА
В РОССИИ
Очерки
МОСКВА 2000
Под общей редакцией
|
Д. А.Черняховского |
Редактор О. Б. Константинова Художник М.К. Гуров
ISBN 5-7281-0441-Х
© С.Ю. Дудаков, 2000 ©
Российский государственный гуманитарный университет, 2000
OCR и вычитка: Давид Титиевский, декабрь 2008 г.
Библиотека Александра Белоусенко
Содержание
Очерк I
НЕМНОГО ИСТОРИИ
7
Очерк 2
АПОСТОЛ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛЮБВИ
55
Очерк 3
ВЕЛИКИЕ СОВРЕМЕННИКИ (Бондарев и Лев Толстой)
91
Очерк 4
РОССИЙСКАЯ АРИСТОКРАТИЯ И ЕВРЕЙСТВО
219
Очерк 5
ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ
285
Очерк 6
ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС" НА ОКРАИНАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
425 Приложения
"Протоколы Сионских мудрецов"
485
Россия и Иерусалим
497
Вечный жид
511
Каисса и Вотан
530
Примечания
583
Указатель имен
619
Моей жене — Инне Иосифовне
Дудаковой
Очерк 1
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Христианство родилось в недрах иудаизма. Будучи поначалу сектой, оно лишь постепенно отпочковалось от материнского древа. В I—II вв. н. э. евреи еще были подавляющим большинством среди иудео-христиан. Самые ранние христиане были исключительно евреи, отличавшиеся лишь верою в мессианство Иисуса из Назарета. Так как царство Мессии предназначалось лишь для богоизбранного народа, то первые христиане строго придерживались всех предначертаний Моисеева закона. При распространении христианства среди язычников апостолу Павлу пришлось пойти на ряд компромиссов, в первую очередь связанных с обрядами обрезания, соблюдения святости субботы и пищевых ограничений (кашрута).
Антиохийские христиане, бывшие евреями, потребовали от прозелитов полного соблюдения Закона. Апостол Павел, называемый апостолом язычников, обратился к иерусалимским последователям Христа по данному поводу, и, вероятно, в 51 г. состоялся в Святом граде собор, утвердивший следующее решение: принявшие христианство должны воздерживаться от языческих обрядов. Споры не прекратились и после собора. В иудео-христианстве образовались два течения: эвионитов, утверждавших абсолютную обязательность Моисеева закона для язычников, и назореев (общее имя христиан из евреев), считавших обязательным полное соблюдение Закона лишь для евреев. Отсюда и последующие разногласия между двумя течениями в христианской теологии.
7
Вплоть до VI в., до начала преследований евреев византийским правительством, евреи составляли значительный процент населения Византии. Здесь уместно напомнить, что ареал распространения евреев на Востоке бывшей Римской империи и ее преемницы — Византии — был велик. На Севере евреи селились в Причерноморье и Крыму, на Итиле (Волге), Северном Кавказе, т. е. там, где позже сложилось Хазарское государство. На Востоке — в Грузии и Армении. На всем пространстве древнего мира, особенно в местах интенсивного торга, добровольно селились евреи.
С крещением Руси по византийскому образцу в Древней Руси одновременно появилась и полемическая литература, направленная против иудаизма. Связано это с весьма непростыми отношениями Древней Руси с Хазарией, правящая верхушка которой исповедовала иудаизм. Насколько реальным было для Древней Руси принятие иудаизма — этот вопрос до сих пор остается открытым. По Летописи, хазарские евреи присылали послов к князю Владимиру с предложением принять их веру. В весьма содержательной и интересной статье отечественного историка Д.Е. Фурмана не только подчеркивается иудейское влияние на Русь эпохи князя Владимира, но и без каких-либо критических замечаний воспроизводится точка зрения, как сказано в статье, "крупнейшего русского церковного историка" Е.Е. Голубинского о возможном влиянии на летописный рассказ более ранней еврейско-хазарской легенды о принятии иудаизма хазарским каганатом1. Несомненно лишь одно, что потомки хазар оказали влияние на этногенез русского народа. Некоторые исследователи (Ал. Гатцук, Лев Успенский) считают, что такие дворянские фамилии, как Халдеевы, Казариновы, восходят к хазарским корням. Ал. Гатцук указывает на упоминание в летописи под 1146 г. о "муже Владимировом, воеводе в Звенигороде Иване Халдеевиче..."2. (В романе И.А. Гончарова "Обыкновенная история", например, упоминается дворянская фамилия Хозаровы.)
Вопрос о данничестве восточнославянских племен хазарам в наши дни приобрел отнюдь не академический характер. Текст летописи скуп и лаконичен. Разночтений быть не может. Да, платили дань, и не один год. Часть исследователей, наиболее крайнего толка, начисто отрицают сам факт зависимости.
О степени влияния Хазарского каганата на начальный период русской истории существует множество версий, зачастую носящих весьма спекулятивный характер: сама мысль о Киевской Руси как даннице народа, исповедующего иудаизм, казалась (да и по сию пору многим кажется) просто кощунственной.
8
Кто не помнит с детства знакомые строки Пушкина:
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам,
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам.
В этом стихотворении (кстати, напомним, что в годы гражданской войны оно стало чуть ли не гимном "белого движения": подтекст ясен) поражает, во-первых, эпитет "неразумные", толкуемый в словарях как "безрассудный, бестолковый, глупый". Во-вторых, вызывает удивление сочетание "сел и нив" с "набегами".
Что же касается побед над хазарами, то тут тоже не все просто. Так, попытка князя Игоря в 913—914 гг. захватом Дербента "разрешить хазарскую проблему окончилась неудачно": хазары устроили засаду, перебили и пленили почти все русское войско, сам предводитель с трудом избежал пленения3.
Летописный свод анализируется В.О. Ключевским, который отличал хазар от других кочевнических племен. Собственно, Ключевский стал создателем так называемой "торговой теории" Хазарского каганата. Весьма иронично пересказывает Ключевский летопись: "Древнее киевское предание отметило впечатление, произведенное хозарами на покоренных ими днепровских славян, — впечатление народа невоинственного и нежестокого, мягкого ...хозарское иго было ...не особенно тяжело и не страшно. Напротив, лишив восточных славян внешней независимости, оно доставило им большие экономические выгоды. С тех пор для днепровцев, послушных данников хозар, были открыты степные речные дороги, которые вели к черноморским и каспийским рынкам. Под покровительством хозар по этим рекам и пошла бойкая торговля из Приднепровья"4.
Одним из апологетов Хазарии был и автор работ по истории Древней Руси В.А. Пархоменко, наиболее ясно высказавший свою точку зрения относительно влияния хазар на Русь в статье "Киевская Русь и Хазария": "Киевская Русь как государство явилась в известной мере модификацией и преемницей Хазарского государства". Даже подорвавшие мощь Хазарского каганата походы Святослава В.А. Пархоменко рассматривает как некую "гражданскую войну", ибо иначе эти, как говорили в старину, "предприятия" оказываются вне понимания историка5.
Святослав — разрушитель Хазарии — был не только воином, он был и предпринимателем. Чего стоит его знаменитое обращение к матери и боярам о переносе столицы из Киева: "В лето 6477 (969). Не любо ми есть в Киеве быти, хочю жи-
9
ти в Переяславци на Дунай, яко то есть середа земли моей, яко ту вся благая сходятся: от Грек злато, паволоки (шелковые ткани), вина и овощеве разноличныя, из Чех же, и из Угорь сребро и комони, из Руси же скора, и воск, и мед, и челядь"6. Выдающийся русский историк Ю.В. Готье так характеризует место хазар в мировой культуре: "Историческая роль хазар не столько завоевательная, сколько объединяющая и умиротворяющая. Это обстоятельство выдвигает их из множества народов азиатского происхождения, последовательно сменяющих друг друга на пространстве между Волгой, Доном и Кавказом"7.
Торговый путь, ведущий из Балтики в Черное и Каспийское моря через бассейн Днепра и Волги, именовался в прошлом путем из "варяг в греки". Конечная цель — пристани Константинополя, где существовал самый крупный рынок рабов, были предметом нескончаемых войн и взаимодействия трех сил: славян, варягов и хазар. В начале XIX в. историк Иоганн-Филипп-Густав Эверс (1781 — 1830) высказал предположение, которое в наш век кажется странным, об общности происхождения руссов и хазар, а династию Рюриковичей он естественно считает хазарского происхождения: "...сие Русское владение при Черном море было родовым наследием династии Рюриковой, что совершенно согласно с Козарским происхождением оной"8.
К сожалению, в дискуссию о роли хазар в мировой и русской истории зачастую вмешиваются силы далеко не беспристрастные. На сегодняшний день крупнейшим специалистом по Хазарии является украинский историк и тюрколог О. Прицак. В работе, написанной совместно с Н. Голбом, Прицак утверждает, что поляне — это народ хазарского происхождения9. В целом выводы О. Прицака сводятся к следующему: "1) поляне были не сельским населением, а городским; сельских поселений полян на Правобережье (Днепра. — С. Д.) не было; 2) поляне основали (захватили) Киев не ранее VIII в.; 3) кроме киевских полян, говоривших на славянском языке, были также поляне, говорившие на других наречиях (подразумевается хазарский язык. — С. Д.); Киев как город имел связи с хазарами; 4) Кий и его род были связаны с Хазарской державой"10. Эти положения Прицака основаны на анализе так называемого "Киевского письма", обнаруженного в 1962 г. среди документов Каирской генизы, хранящейся в библиотеке Кембриджского университета. Главное в анализе сводится к тому, что письмо написано хазарской общиной в Киеве, на нем имеется надпись тюркскими рунами "я прочитал", которую следует считать резолюцией представителя хазарской администрации в этом городе. На рубеже перестройки в СССР критика
10
этого анализа Прицака сводилась к тому, что ему не удалось "преодолеть традиционного для буржуазной историографии взгляда на раннюю историю Руси как на симбиоз хазарско-скандинавского развития"11.
В связи с этим следует коснуться и такого "деликатного" вопроса, как происхождение крестителя Руси князя Владимира. Характерно, что среди определенного круга авторов (типа одиозного В.Н. Емельянова)12 упорно отрицается значение принятия Русью христианства, которое, по их мнению, есть не что иное, как форма иудаизма, исказившая истинно славянский путь развития и отринувшая родное, "исконное" язычество. Как было бы славно, если бы сейчас в Киеве на месте Софийского собора радовало глаз, душу и сердце "истинно русских людей" капище Перуна! Более того, в этих же кругах утверждается, что креститель Руси святой Владимир был сыном еврейки.
Вот для этого утверждения, действительно, есть основания. Происхождение князя Владимира уже становилось предметом научного анализа, в частности, известных русских историков Д.И. Прозоровского и И.И. Срезневского13.
В "Повести временных лет" по Второму Лаврентьевскому списку под 6478 г. (т. е. 970) мы читаем: «В се же время придоша людье Ноугородьстии, просяще князя собе: "аще не пойдете к нам, то налезем собе"; и рече к ним Святослав: "а бы пошел кто к вам". И отпреся Ярополк и Олег; и рече Добрыня: "просите Володимера". Володимер бо бе от Малуши, ключнице Ользины; сестра же бе Добрыни, отец же бе има Малъкъ Любечанин (в Радзивилловском списке и в рукописи Московской Академии — "Малко Любечанин". — С. Д.), и бе Добрына уй Володимеру. И реша Ноугородцьци Святославу: "ведай ны Володимера"; он же рече им: "вото вы есть". И пояша Ноугородци Володимера к собе, и иде Володимер с Добрынею уем...», краткий перевод: «В то время пришли новгородцы, прося себе князя. И сказал Святослав: "А кто бы пошел к вам?"...И сказал Добрыня: "Просите Владимира". Владимир же был от Малуши — ключницы Ольгиной. Малуша же была сестрой Добрыни. Отец же им был Малк Любечанин, и приходился Добрыня дядей Владимиру. И сказали новгородцы Святославу: "Дай нам Владимира". Он же ответил им: "Вот он вам". И взяли к себе новгородцы Владимира, и пошел Владимир с Добрынею, своим дядей, в Новгород...»14.
Из этого сообщения явствует, что отцом Малуши и Добрыни был некий Малк из города Любеча — одного из древнейших русских городов, находящегося в 202 верстах (215,5 км) от Киева и в 50 верстах (около 53 км) от Чернигова и вначале
11
платившего дань хазарам, а в 882 г. захваченного князем Олегом. (Ныне Любеч — районный центр Черниговской области Украины.) Поскольку "Малк" — имя еврейское15, а дело происходило в дохристианской Руси, то этого Малка следует считать либо евреем, либо хазарином-иудаистом. Попытки Д.И. Прозоровского свести имя "Малк" к имени древлянского князя "Мал" несостоятельны, ибо в другом месте летописи Рогнеда отказывается выйти замуж за Владимира, поскольку он — "робичич", т. е. сын рабыни: «И посла ко Рогъволоду Полотьску, глаголя: "Хочю пояти дщерь Твою собъ женъ". Он же рече дщери своей: "Хочеши ли за Володимера?" Она же рече: "Не хочу разути робичича, но Ярополка хочю"»16.
Кроме того, ни в одном из летописных списков Малк не назван "Малом". Если сравнить древнеславянское написание этих имен — "Малъ" и "Малькъ" или "Малко", становится очевидной невозможность объяснения разницы в написании в две буквы столь короткого слова ошибкой летописца. (Кстати, во времена Прозоровского и Срезневского было известно имя крупного еврейского предпринимателя Самуила Малкиеля. ("Малкиель" с древнееврейского может переводиться как "Ангел Божий".)
Защитником теории происхождения Владимира от древлянского князя Мала стал А. Членов. В работе "На родине Добрыни Никитича", опубликованной в журнале "Дружба народов", он воскресил идею Прозоровского17. Основная идея Членова состоит в том, что Рюриковичи — не полянская династия, а пришлая (т. е. норманские узурпаторы), а защитником правого дела Руси были древляне во главе с князем Малом, давшим по линии своей дочери новую династию. Членов прибегает к анализу былин и в целом совершенно справедливо указывает на генетическую связь Добрыни с Добрыней Никитичем. Но свободная манипуляция с текстом летописи вряд ли способствовала утверждению невозможного. Мал был убит Ольгой, и вряд ли она оставила в живых хоть одного члена его семьи (это было не в обычаях того времени).
В итоге Членов должен вернуться к почти единственному источнику — летописному своду, и он делает единственно возможное — дезавуирует его: «...русская история в династических целях подверглась в летописи сознательной фальсификации в проваряжском духе. А в "анти" каком? В антидревлянском? Безусловно. В антивсеславском? Так же несомненно. В антинародном? И это определение (как еще немало других) будет в большой мере верным. Но главной доминантой фальсификации было, увы, то, что летописная версия — "антирусская"»18. Утверждения Членова, попросту говоря, не выдерживают кри-
12
тики (например — понятие "антинародность"). Но возвращаемся к матери Владимира. Должность, которую занимала Малуша при княгине Ольге, — ключница (а по одному из летописных списков — милостивица), вне всякого сомнения требовала грамотности, а в те времена грамотная славянская женщина была редкостью, да и то среди представительниц самых высоких сословий (что навряд ли могло соответствовать тем обязанностям, которые исполняла при великокняжеском дворе Малуша), но среди евреев даже в ту пору умение читать и считать не было диковинкой. По Далю: "ключник м., -ница ж., кто ходит в ключах, служитель, заведующий съестными припасами в доме, погребом, а иногда и питьями"19. И.И. Срезневский полагает, что упоминание Малуши в одном из списков как "милостивицы" свидетельствует, быть может, о том, что она ведала распределением милостыни от имени княгини. Как бы то ни было, круг обязанностей Малуши при дворе великой княгини требовал в первую очередь грамотности, что указывало на полученное в детстве образование, а также доверия Ольги, на что вряд ли могла рассчитывать дочь убитого княгиней злейшего врага.
Здесь любопытно остановиться на проблеме литературного воплощения эпохи крещения Руси. Скудость исторических материалов оставляет много места чисто авторскому воображению. Поначалу эти события в русской литературе представали как бы в сказочно-фольклорном виде. В 1705 г. учениками Феофана Прокоповича была разыграна его трагикомедия "Владимир", где рассказывается о выборе Владимиром религии. Киев воспевается как Божий град: "...Не инно Чудо о твоей славе вижду, граде Божий!". В научной литературе это место трагикомедии сопоставлялось с его "Словом в день святого равноапостольнаго князя Владимира", где Киев назван "вторым Иерусалимом", а князь Владимир — "основателем духовного в земле нашей Сиона"20.
А.С. Пушкин вывел в "Руслане и Людмиле" среди прочих героев и хазарского богатыря Ратмира, никоим образом не указав на его религиозную принадлежность. Современник Пушкина Александр Вельтман в романах "Святославич, вражий питомец. Диво времен Красного Солнца Владимира" и "Райна, королева Болгарская", уделяя немало внимания хазарам и весьма подробно останавливаясь на происхождении Владимира, также не упоминает его возможных хазарских предков. Подход Вельтмана к этим проблемам полностью соответствует состоянию исторических знаний того времени, что явствует из сопровождающего романы авторского комментария21.
13
Наиболее близко к пониманию исторических процессов, происходивших в Древней Руси, подошел Велимир Хлебников. Из его ранней поэмы "Внучка Малуши" (написанной, по-видимому, около 1907 г., но опубликованной в 1913 г.) следует, что истоки русской государственности поэт видит в сочетании трех сил — язычества, хазарского иудаизма и христианства. Более того, не исключено, что Хлебников предполагал возможность еврейского происхождения Малуши, поскольку один из героев поэмы, хазарский каган (или, по Хлебникову, "хан"), "жид Хаим", тесно связанный по сюжету с внучкой "рабыни" Малуши, чудесным образом превращается из старика в молодого еврея:
...в синей косоворотке,
С смеющейся бородкой,
Стоял еврейчик. Широкий пояс.
Он говорил о чем-то оживленно, беспокоясь,
И рукоплескания стяжав,
Желания благие поведав соседственных держав
................................................................
летит, сидя на хребте рыси, внучка
Малуши, мать Владимира,
Старинных не стирая черт... 22
Но вернемся к истории. Приход Владимира на княжение в Киеве был, несомненно, ярким примером искусной дипломатии, мастерства обходного маневра, которым впоследствии Владимир воспользовался еще раз, ибо, взойдя на великокняжеский престол, он провозгласил себя поначалу твердым приверженцем язычества, и лишь укрепившись в Киеве, радикально изменил идеологическую ориентацию своего правления. Политический талант Владимира — "сына рабыни, находившейся в немилости (вернее сказать, впавшей в немилость. — С. Д.) у великой княгини Ольги", признается современным историком О.М. Раповым23. Более того, следует указать, что ставший краеугольным камнем клерикальной пропаганды летописный рассказ о принятии князем Владимиром христианства в его православном варианте, по вполне обоснованному мнению ученых, является не только более поздней вставкой24, но, как было указано выше, вполне вероятно, родился под влиянием более ранней еврейско-хазарской легенды о принятии иудаизма хазарским каганом25. Нельзя не отметить важнейшую роль в утверждении Владимира на киевском великокняжеском престоле, равно как и в принятии Русью христианства, его дяди Добрыни Малковича, которого былинно-фольклорная традиция увековечила под прославленным именем Добрыни Никитича.
14
То, что мать великого князя Владимира была еврейкой или хазарянкой, не представляется чем-то из ряда вон выходящим. В 695 г. свергнутый с престола византийский император Юстиниан II Ринотмет не только нашел у хазар пристанище, но и вступил в брак с дочерью хазарского кагана26. У М.И. Артамонова указано, что каган выдал за него свою сестру, принявшую в святом крещении имя Феодора. После того как Юстиниан вернулся в Константинополь, сын Феодоры, нареченный Тиверием, был объявлен его соправителем. Статуя хазарской принцессы была поставлена в столице рядом со статуей мужа27.
В период правления в Византии императоров-иконоборцев один из них, Константин V (741—775), женился на хазарянке Ирине, также дочери или сестре кагана. По некоторым сведениям, она умерла в 752 г. Их сын с 775 по 780 г. занимал престол под именем Льва IV Хазара. Позднее аналогичная история произошла в Болгарии, где правивший с 1330 г. царь Иоанн Александр в 1335 г. женился на красавице-еврейке из Тырнова по имени Сарра, после крещения ставшей именоваться Феодорой и получившей титул "новоцросвештена царица". "Феодора", надо заметить, было популярным именем среди новокрещенных. ("Феодора" с греческого переводится как "божественный дар": Theos — Бог и Doron — дар.) Их сын Иоанн Шишман во времена своего пребывания на тырновском престоле дружелюбно принял изгнанных в 1360 г. из Венгрии и расселившихся в Никополе, Плевне и Видине евреев28. И в соседней Польше один из наиболее выдающихся польских королей Казимир III Великий (1333—1370), отличавшийся редким в то время филосемитизмом и покровительством евреям и другим меньшинствам, состоял в морганатическом браке с Эстеркой, дочерью портного из Опочно. Две дочери, родившиеся у них, остались в еврействе, но два сына — Пелка и Немир — были крещены и стали родоначальниками знатных польских семей. Судьба Эстерки была трагичной: при преемнике Казимира Людовике Венгерском она была убита во время погрома. История ее жизни стала предметом многих исторических романов. Не обошла она и русскую поэзию, правда без упоминания имени и происхождения: "...Казимир, круль польский, мчится в Краков с молодой, веселою женой". Любопытно, что это стихотворение Якова Полонского посвящено известному фольклористу А.Ф. Гильфердингу, полуеврею, отославшему поэта к польскому летописцу Длугошу (XV в.), который рассказал о судьбе Эстерки29.
Возникающий вопрос: "Почему князь Владимир не воспринял веру своих предков по материнской линии, а, напротив, в
15
решающий момент выбора отверг ее?" — весьма просто решается при учете политической ситуации того времени. Перед великим князем стояла альтернатива: либо принятие иудаизма, что означало не только признание вассальной зависимости от еще достаточно сильного в ту пору Хазарского каганата (а, как мы помним, противоречия между обоими государствами были весьма острыми еще во времена Святослава), но и бесповоротное закрепление этой зависимости на наиболее важном, идеологическом, уровне, либо резкий отрыв и противостояние при помощи провозглашения государственной религией христианства в его православном варианте, что давало не только шанс самостоятельного правления и полной независимости от каганата, но и надежду на получение покровительства от Византии.
Что же касается собственно хазар, то они последний раз упоминаются в одном из изводов русской летописи под 1079 г.: "В лето 6587...а Олга емше Козар е поточиша и за море Цесарюграду"30, но имя "хазарянин" встречается в XIV в. при перечислении разных слуг московских князей31. Великие русские князья еще долго после принятия христианства носили титул "кагана" — атавизм прошлой зависимости от Хазарского каганата. (Например, в "Слове о законе и благодати" и в "Исповедании веры" киевского митрополита Илариона: "Похвала Кагану нашему Володимиру", так же он называет и Ярослава. Иларион, кстати, нигде не употребляет слово "жид", а исключительно "июдеи", например: "И рассеяны быша Июдеи по странам". Носит титул кагана в "Слове о полку Игореве" и Олег Святославич.)
Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода... 32
Есть еще один чрезвычайно важный вопрос: куда исчезли хазары? 500 (!) лет их существования в Южной Руси не могли пройти бесследно. Попытки ответить на этот вопрос предпринимались неоднократно. Наша точка зрения такова, что большая часть хазар участвовала в этногенезе поволжских татар. В осторожной форме эта мысль высказана в рецензии на книгу по истории Волжской Булгарии: "В книге есть упущения. Например, нет желательной ясности в характеристике роли древних булгар в этногенезе поволжских татар. Решению этой сложной проблемы могли бы помочь исторический и археологический материал Северного Кавказа, куда уходит своими корнями наиболее ранняя история булгар. Обращает внимание сходство, а иногда тождество археологического материала, от-
16
носящегося к булгарам, хазарам и аланам"33. Казанские татары, например, дали русскому дворянству сотни аристократических фамилий, включая царя Бориса Годунова, составили цвет русской интеллигенции — Державины, Тургеневы, Карамзины, Булгаковы и т. д.34
Путешественник XVII в. сообщает следующее: "Сегодня я узнал, что [ногайские] татары восточнее Казани во многом схожи с евреями; несомненно, это когда-то вывезенные племена [евреев], сохранившие старинные обычаи... имеют по древнему обычаю скинию, у них тоже в обиходе псалмы Давида и Моисея, да они и говорят, что происходят от евреев. В Крыму живут такие люди, они убежали от тех же, и у них тоже наблюдаются остатки иудаизма; это рассказал нам один из их рода, который здесь на службе"35.
Информация о хазарском происхождении ногайских татар, безусловно, чрезвычайно интересна. Что же касается упоминаний о Крыме, то речь, естественно, идет о караимах (может быть, и крымчаках).
Вероятно, еврейское население древнего Киева было достаточно большим, ибо не случайно одни из ворот, как раз примыкавшие к кварталу, населенному евреями, именовались "Жидовскими". Как и в других местах, здесь происходили религиозные диспуты. В Летописи указано, что преподобный ФеодосиЙ, киево-печерский игумен, живший в княжении Изяслава Ярославича (1036—1074), в юности мечтал совершить паломничество в Святую землю, но его попытка окончилась неудачей. Каждую ночь, переодевшись, он тайно посещал евреев, с которыми вел нескончаемый спор: "Се бо сице обычай имяше блаженный, яко же и многажды в нощи встая, отай всех исхожаше к жидом, тех еже о Христе препирая, коряше и досажаше я тем, яко отметники и беззаконники техъ нарицая: ждаше бо еже о Христе исповедании убиен быти". Часть исследователей считают, что Феодосий вел борьбу с еврейским прозелитизмом36. Феодосию же принадлежат прекрасные слова: "Всякого помилуй — аще увидишь нага, или голодна, или замерзающего, или в беде, будет ли то Жидовин или Сарацин"37.
Однако если и был еврейский прозелитизм, то сообщения о нем глухи и малодостоверны. Зато насильственное обращение евреев становится нормой, чему мы имеем ряд свидетельств. Один из первых известных в истории Древней Руси выкрестов — это св. Лука Жидята, второй по времени епископ новгородский (первая половина XI в.). Князь Ярослав предоставил ему Новгородскую кафедру, вопреки давлению Византии. В Лаврентьевской летописи под 6544 г. (1036 г.) читаем: "Иде
17
Ярослав Новугороду, и посади сына своего Володимера Новегороде, епископа постави Жидяту"38. До Луки Жидяты высшие иерархические должности занимали греки. Таким образом, Лука был первый уроженец Руси, удостоенный столь высокой чести. В 1051 г. он освящал Софийский собор. После, попав в опалу, провел три года в Киеве и скончался в 1059 г.
Интересное исследование о происхождении и деятельности Луки Жидяты провел историк церкви, богослов Иван Игнатьевич Малышевский (1828—1897). Он утверждает, что епископ был несомненно еврейского происхождения, мальчиком был насильственно обращен и сохранил свое прозвище "Жидята" (уменьшительное — "жиденок", "жидовский мальчик") в древнейших летописях — Лаврентьевской и Ипатьевской, которые никогда не называют его просто Лукой, но всегда Лукой Жидятой. Малышевский делает упор на практику насильственного крещения, существовавшую в древней Византии. Эту практику переняла и Русь. Единственное произведение епископа, дошедшее до нас в списках XIV—XV вв., "Поучение к братии". Оно представляет значительный историко-литературный интерес. По-видимому, святитель новгородский произносил свое поучение при вступлении на новгородскую кафедру — это первое собственно русское произведение духовной литературы.
Малышевский, настаивая на своей версии еврейского происхождения святителя, приводит аргумент и литературоведческий: "Содержание поучения, в котором, при всей краткости, обнимается почти весь круг катехизического обучения, обличает навык в катехизации, приобретенный практикою. Замечательно далее, что в нравственной части своего катехизического поучения Жидята говорит именно языком Моисеева десятисловия (заповедей Моисея. — С. Д.): не клянись именем Божиим, чти родителей, чти дни Господни, не убий, не укради, не солжи, лжи послух не буди, блуда не твори с чужими женами и рабынями и т. п."39
Ни в одном из древних русских произведений нет такого дословного повторения Моисеевых заповедей. В пользу версии о еврейском происхождении Жидяты говорит и следующее: один из поздних анонимных списков труда Луки Жидяты носит название "Слово поучение ерусалимское". Ясно, что переписчик, не найдя имени автора, вообразил по содержанию, что это новообращенный иудей из Иерусалима40. Но, увы, были не только словесные прения: в 1113 г. в Киеве был еврейский погром, возможно первый еврейский, но не первый антихристианский погром в истории Киева. Было ли то атавизмом язычества — трудно сказать. Рассказ об этом есть в одной из былин, в которой невозможно отделить реально-исторический
18
фон от сказочного или фантастического. Как бы то ни было, любимый герой русского эпоса Илья Муромец становится противником Владимира Красное Солнышко:
Старому казаку Илье Муромцу
За досаду показалось то великую,
И он не знает, что ведь сделати
Супротив тому князю Владимиру.
И он берет-то как свой тугой лук разрыватый,
А он стрелочки берет каленыи,
Выходил Илья он да на Киев град
И по граду Киеву стал он похаживать
И на матушки Божьи церкви погуливать.
На церквах-то он кресты вси да повыломал,
Маковки он залочены вси повыстрелял.
Да кричал Илья он во всю голову,
Во всю голову кричал он громким голосом:
"Ай же пьяницы вы голюшки кабацкие!
Да и выходите с кабаков домов питейных
И обирайте-тко вы маковки залоченыи,
То несите в кабаки в дома питейные,
Да вы пейте-тко да вина досыта... 41
Тот же самый Илья Муромец в одном из изводов былин борется с могучим Жидовином:
Еще что же то за богатырь ехал?
Из этой земли из Жидовския
Приехал Жидовин — могуч богатырь...
Победа досталась Илье Муромцу с трудом:
Ездил в поле тридцать лет —
Этакого чуда не наезживал
В нашем распоряжении чрезвычайно мало документов, относящихся к древнему периоду, но все же попадаются удивительные страницы.
В исследовании боярских родов Древней Руси, находившейся в свое время в составе Великого Литовского княжества, имеются сведения и о крещеных евреях. Вот три боярских рода — Ограновичи, Новокрещенские, Семашковичи. Исследователь ограничился только этими фамилиями, которые, увы, вымерли. Можно предположить, что он знал и иные существовавшие роды, но скрылся за фразой "и другие"42.
С большой вероятностью сюда можно добавить еще один род, и к тому же весьма знаменитый. При Ярославе I (XI в.)
19
приехал служить "из немец некто "Шимон Африканович (в "святом крещении Симон"), сделавшийся родоначальником трех прославленных фамилий: Воронцовых, Вельяминовых и Аксаковых43. Вероятность того, что Шимон Африканович был еврей из Магриба, весьма велика: сочетание распространенного среди евреев библейского имени в сефардском варианте с местом исхода — Африка — предполагает, что путь его шел из Марокко через Европу на Русь. Ничего невероятного в этом не было. (Спустя много лет австрийский писатель Адальберт Штифтер в повести "Авдий" (1842) рассказывает о судьбе еврея с Атласских гор, попавшего в Европу.)
Одно из самых интересных средневековых религиозно-культурных движений, возникших на Руси и затронувших даже верхушку московского общества, носит название "ересь жидовствующих". Ее основоположником считается еврей Схария, прибывший из Литвы в свите князя Михаила Олельковича. К жидовствующим примыкала интеллектуальная элита того времени, включая думного дьяка Федора Васильевича Курицына, автора известной повести о "Дракуле, воеводе волошском" и "Лаодикийского послания". Движение было жестоко подавлено, его вожди были сожжены в декабре 1504 г. О соотношении между собственно иудаизмом в этом протестантском течении и христианством много написано. Но, впрочем, все сведения о ереси и ересиархах мы находим лишь в произведениях сторонников ортодоксии, в первую очередь Иосифа Санина, объективность которого не следует преувеличивать. Реконструкция учения жидовствующих в общих чертах сводится к признанию Единого Бога, отрицанию троичности, непризнанию Иисуса Христа — ни сыном Божиим, ни Мессиею, отвержению церкви и церковной иерархии. Им вменялись в вину "насмешки" над христианскими таинствами и обрядами, почитанием Божией матери и угодников. Сектанты уподобляли христианство языческому политеизму, иконопочитание называли идолопоклонством, монашество — установлением, противным самой природе человека и т. д.44 Мы хотим отметить лишь несколько фактов: 1) массовость движения; названо более 30 представителей высшей духовной и светской знати; 2) культурный и интеллектуальный перевес еретиков над их противниками; 3) очевидная связь с еврейством и связь с Западом; 4) признание самого Ивана III в своей близости к еретикам; надо сказать, Иван III прекрасно разбирался в теологических разногласиях сектантов, что он и объяснил Иосифу Волоцкому; 5) достаточно сильное в целом сопротивление Ивана III расследованиям и казням обвиненных в ереси.
20
(К этому времени прошло 33 года с момента появления жидовствующих.) Уступил великий князь лишь после сильнейшего воздействия духовных лиц. В споре с ортодоксами он был не одинок. Его поддерживали заволжские старцы во главе с Нилом Сорским. Возможно, что кроме спасшихся бегством за границу часть "жидовствующих" схоронилась в заволжских скитах. Заметим, что до начала XIX в., т. е. возникновения декабристских обществ, столь высокого процента представителей знати в оппозиционном движении не было. (Вообще Иван III был знаком с евреями и даже вел переписку с еврейским князем из Кафы, предлагая последнему переселиться в Московию и породниться с ним: он сватал своего сына за дочь кафского князя.)
И наконец самое главное — связь ереси жидовствующих с движением стригольников. Считается, что ереси жидовствующих предшествовали проповеди некой сектантской организации в Пскове и Новгороде в конце XIV в., называемой "сектой стригольников". В XV в. остатки стригольников, по-видимому, примкнули к жидовствующим. Русские субботники, обнаруженные в центральных губерниях России (Воронежской, Орловской и даже Московской) в последние годы царствования Екатерины II и Павла I, утверждали преемственную связь с мучениками времен Ивана III. Этой точки зрения, например, придерживался кн. Н.Н. Голицын45.
Обширнейший анализ всех точек зрения на жидовствующих XV — начала XVI в. и вопроса о роли иудаизма принадлежит А.И. Клибанову46. К сожалению, к научной критике примешивались политические факторы сиюминутного времени. Так, В.В. Колесов в комментариях к "Посланию старца Филофея" пишет не более и не менее как о содомии, т. е. о пороке, специально распространяемом еретиками среди светских лиц: "У еретиков, по предположению некоторых исследователей, он выполнял роль ритуального действа"47. Однако даже из поучения епископа Стефана Пермского против ереси стригольников явствует, что еретики пользовались репутацией порядочных людей, которые "не грабят и имения не збирают", в отличие от современного духовенства, погрязшего в пьянстве: "Сии учителя пьяницы суть". Стригольников отличала высокая нравственность, что и признавал Стефан Пермский: "Аще бо бы не чисто житье их видели люди, то кто бы не веровал ереси их?". Впрочем, наивность его видимая — главное у "стригольников" не норма поведения, вполне пристойного, суть в том, что они — антихристиане, а посему хуже убийц: "Тати и разбойницы убивають человека оружием, а вы, стригольницы, убиваете человека разумною смертию, удаление ради от пречи-
21
стых тайн тела и крови Христовы. Не покоряетеся Христу Богу..." 48
Среди сектантов начала XVIII в. мы уже упоминали о субботниках. Св. Дмитрий Ростовский писал о них, что они "иже по-жидовски субботу празднуют" и отпали от почитания икон под влиянием «люторских, кальвинских и "жидовствующих"»49. Со времени возникновения ереси жидовствующих прошло не менее 200 лет. Столь долгое существование ереси жидовствующих смущало многих исследователей: как может сохраниться так долго религиозно-идейное течение? О том, что это возможно, свидетельствует пример маранов. Евреи были изгнаны из Испании в 1492 г. Многие притворно приняли христианство, и костры инквизиции лишь подтверждали их обман. Напомним лишь несколько фамилий, ставших известными в XVIII в.: Даниель де Фонсека (вторая половина XVII в. — 40-е годы XVIII в.) — врач и дипломат, родился в Португалии, прадед сожжен за тайный иудаизм; сам Даниель бежал от преследований, сохранил веру своих предков; Антонио Хозе де Сильва (1705—1739) — поэт и драматург, сожжен в Лиссабоне за исповедание иудаизма; Антонио Санхес (1699—1783) — врач из Португалии, работал в России при Елизавете Петровне; за исповедание иудаизма был лишен императрицей пенсии, умер в Париже. Мы привели только три имени, но известны сотни и сотни имен маранов, на протяжении столетий хранивших религию далеких предков. Что возможно было на Пиренейском полуострове, то могло быть и в польско-литовском государстве и в Московии. Один из крупнейших знатоков русского сектантства В.Д. Бонч-Бруевич писал о почти непреодолимом препятствии при исследовании учения, жизни и быта сектантов, "существование которых было погружено много столетий в величайшую тайну, а таких сект у нас немало — приверженцев их насчитывают огромными сотнями тысяч! Не знаю, есть ли другая страна в мире, где столь развита в народе конспиративная, тайная жизнь; не знаю, есть ли еще такой народ, где целые округи, деревни, села, станицы, посады исповедуют тайно свое учение, свою веру, свою особенную религию, которая подвергает жесточайшей критике и разбору господствующую ортодоксию!"50
Вероятно, многие русские сектанты занимали промежуточное состояние между иудаизмом и христианством. Мы, например, мало что знаем о религиозной системе Феодосия Косого (середина XVI в.), сравниваемого своими последователями с апостолом Павлом. Его взгляды дошли до нас лишь в пересказе его противников. Но есть один несомненный факт: после бегства в 1551 г. в Литву он женился на еврейской вдове; причем о ее переходе в христианство не сказано ни слова51.
22
Один из крупных исследователей сектантства М.А. Кальнев писал, что после преследования во времена Василия Ивановича секта "притихла", ушла в глубокое подполье и заявляла или не заявляла о своем существовании в зависимости от благоприятных или неблагоприятных обстоятельств52. Тот же св. Дмитрий Ростовский вопрошал: "Что же речем о субботниках, иже по жидовски субботы постят?... Не обновили ли тии жидовствования онаго, еже восстало в великом Новеграде, в княжение великого князя Иоанна Васильевича, при архиепископе Новгородском Геннадии, во дни преп. Иосифа, игумена Волоколамского"53.
Феофилакт Лопатинский, ректор Московской духовной академии, архиепископ Тверской, вице-президент Синода, знаток богословия, в "Обличении неправды раскольнической", написанной по поручению Синода, вероятно, в начале 1741 г., указал в прибавлении № 32: "Субботовщина, когда христиане постятся, тогда они не постятся... Оле! злоба не весть предпочитати полезное"54.
Один из исследователей раскола утверждает, что в царствование Екатерины II на Дону появляются последователи Моисеева закона из Польши и Турции55.
В первой половине XVIII в. наиболее нашумевшее дело об отпаде от господствующей церкви и переходе в иудаизм было связано с именем капитан-лейтенанта (поручика) русского флота Александра Возницына. Возницын принадлежал к старинному новгородскому роду, переведенному после покорения Новгорода во Владимир. Его дядя, Прокофий Богданович Возницын, думный дьяк, крупный дипломат, заключивший в 1681 г. Бахчисарайский мир, принадлежал к высшей аристократии. Тетка Александра Возницына, сестра думного дьяка, была замужем за контр-адмиралом Иваном Акимовичем Синявиным. Вполне возможно, и карьера во флоте Александра Возницына состоялась не без влияния дяди. Возницын был человеком образованным и мыслящим. В начале 30-х годов XVIII в. он познакомился с евреем Лейбом Борухом (имеются и другие написания — Борохов или Борухов) и, как утверждает следствие, совершил обряд обрезания. Следствие пыталось выяснить, не является ли дело Возницына единичным: "Ими, жидом Борохом Лейбовым и Возницыным, для изыскания истины, надлежит произвести указанные розыски, для того не покажется-ль оный Борох и с ним кого сообщников в превращении еще и других кого из благочестивой греческого исповедания веры в жидовский закон..."56 Императрица Анна Иоанновна на докладе сената от 3 июля 1738 г. наложила резолюцию следующего содержания: "...понеже оные, Возницын в
23
принятии жидовской веры, а жид Борух Лейбов в превращении его через приметные свои увещания в жидовство сами повинились; и для того больше ими не розыскивать не в чем, дабы далие сие богопротивное дело не продолжалось, и такие, богохульник Возницын и превратитель в жидовство жид Борух, других прельщать не дерзали: того ради за такие их богопротивные вины... обоих казнить смертию, съжечь..."57 В июле 1738 г. Александр Возницын и Лейб Борух были сожжены в Петербурге. В юридическом плане это дело интересно тем, что фактически следствие не было доведено до конца и Юстиц-коллегия требовала "досмотра" дела. Напомним, что дело вел начальник Канцелярии Тайных розыскных дел Андрей Иванович Ушаков (имя его наводило ужас, в истории прославился ведением дела Волынского и товарищей). Ушаков в Сенате от имени императрицы требовал скорейшего окончания дела: "...хотя он, Борох, и подлежит, но чтоб из переменных речей что-либо может последовать, от нетерпимости жестоких розысков, не произошло в том Возницыне деле дальняго продолжения (sic!) и чтоб учинить об нем решение, чему он, за оное его, Возницына превращение, по правам достоин, не розыскивая им, Борухом"58. Юстиц-коллегия подчинилась, но тот же Голицын отметил, что даже по рамкам времени Бирона требования справедливости вряд ли были соблюдены. Вывод может быть лишь один: жестокость наказания заставляла предполагать, что толкал правительство на столь решительный шаг призрак ереси жидовствующих59.
Впечатление, произведенное на современников этим судом, зафиксировано в одной из сатир Антиоха Кантемира:
...вон услышим новый
От него тверд документ, уже готовый.
Как (говорит) библию не грешно читати,
Что она вся держится на жидовской стати?
Вон де за то одного и сожгли недавно,
Что зачитавшись там, стал Христа хулить явно.
Ой нет, надо Библии убегать, как можно.
Бо зачитавшись в ней пропадешь безбожно"".
В примечаниях к этим темным стихам, как ни странно, обличающих усердное занятие Библией, блестящий дипломат, а по некоторым сведениям и масон высокого посвящения, князь Антиох Дмитриевич Кантемир (1708—1744) писал: "В Санктпетербурге 1738 года месяца Июля в средних числах сожжен по уложениям блаженные памяти Российских Государей бывший морского флоту капитан за то, что принял жидовскую веру и так крепко на оной утвердился, что не смотря на правды, уп-
24
рямством своим и страшном на Спасителя Нашего Христа хулении погиб; который случай безмозглим невежам немалую причину подал сумневаться о библеи, когда они слышат, что жиды ветхого закона держатся. О как безумии и дерзкий невежды! Причина ли библия святая диавольского того орудия погибели?"61 Поражает факт, что европейски образованный человек, долгое время бывший послом в Париже и в Лондоне, был глух к вопиющему беззаконию и жестокости своей родины. Но его интеллектуальный потомок философ Владимир Соловьев был иного мнения. Для него не было сомнений: это варварское аутодафе было последним костром инквизиции в Европе. В полемике он отвечал своим оппонентам: "Последнее религиозное сожжение было у нас в Петербурге"62.
Уже в XX в. делом Возницына заинтересовался писатель Леонтий Иосифович Раковский (1895/1896—1979). Он написал исторический роман "Изумленный капитан" (1934—1936). Хотя "еврейская" тема почти не затронута в повествовании, оно полно аллюзий на современную автору эпоху. Книга имела неожиданный резонанс. По воспоминаниям его вдовы, маршал Василий Константинович Блюхер накануне своего ареста читал книгу Раковского: «Прочитай, — и после паузы: "Со мною то же будет"»63.
Собственно основателем секты "субботников" признается крестьянин села Дубовки Саратовской губернии Сундуков. Проникшись духом иудаизма, весьма распространенного на его родине в Саратовской губернии, он стал превозносить Моисеевы заповеди. Основывался он на словах самого Иисуса, подчинявшегося этому закону и торжественно указавшего на его вечное и непреходящее значение: "...доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все" (Мат.: 5:18). Это утверждение подвигло Сундукова на дальнейшее — отрицание божественности Иисуса, признание его простым человеком, а если и пророком, то неизмеримо ниже Моисея. Он отказался от празднования воскресения, заменив субботой, почему его и его последователей стали называть "субботниками". Кроме того, он совершил обряд обрезания. В дальнейшем большая часть субботников почти полностью слилась с еврейством, вследствие чего их часто называли иудействующими, или жидовствующими64.
К концу XVIII в. относится документ, имеющий некоторое значение для истории медицины в России. Именно в это время население страдало эпидемическими глазными заболеваниями. Отечественных врачей почти не было, а приезжих было чрезвычайно мало. Кроме того, среди них обретались всевоз-
25
можные самозванцы и шарлатаны. До сведения орловского и курского губернатора Франца Николаевича Кличко дошло, что в Курске успешно лечит глазные болезни еврейка Фейгель Бойнитович. По просьбе губернатора в его присутствии была проведена успешная операция человеку, который 17 лет тому назад потерял зрение.
Инвалид прозрел. Губернатор решил узаконить положение "операторши" и обратился в медицинскую коллегию. 24 декабря 1784 г. медицинская коллегия потребовала прислать ее для экзаменов в Москву или Петербург. Однако Фейгель Бойнитович по неизвестной причине перепугалась и стала скрываться по разным городам и весям, продолжая, впрочем, свою успешную практику. Она пряталась не менее пяти лет. Наконец московская медицинская контора 22 июня 1790 г. смогла принять у нее экзамен. Она экзаменовалась по анатомии глаза, употреблению различных лекарственных средств, а главное — в операции по снятию катаракты у 75-летнего отставного солдата 2-го гренадерского полка Игнатия Моисеева Мулятина. После операции старик "прозрел". Комиссия разрешила делать "еврейке Фейгель Бойнитович" операции постановлением от 11 июля 1790 г.65 В этой истории очень много интересного и неясного. Откуда появилась Фейгель Бойнитович? Где она обучалась медицине? Сколько ей было лет? Эти вопросы остаются без ответа. Возможно, "операторша" была родом из Курляндии (но это только предположение). Для нас важно, что местом действия были Орловская и Курская губернии, как раз в это время замеченные в распространении секты жидовствующих. Совершенно очевидно, что только при помощи местного иудействующего населения она смогла успешно скрываться от властей на протяжении пяти лет. Отсюда же и ее страх явиться перед лицом начальства (не из-за профессиональной неуверенности — судя по восторженному отзыву губернатора, она была асом своего дела), а из-за боязни быть обвиненной в распространении иудаизма.
Большие группы субботников, или иудействующих молокан, впервые были обнаружены властями на земле Войска Донского. В 1797 г. находящийся на кавказской линии в слободе Александровка донской казак Косяков принял "Моисеев закон" от местного учителя ("меламеда"?) Филиппа Донскова, а по возвращении на Дон к секте примкнул и его брат. Репрессии последовали немедленно, ибо в 1802 г. они уже "покаялись". Впоследствии выяснилось, что их покаяние было притворным; они даже обращались к наказному атаману Войска Донского с просьбой о свободном исповедовании своей веры и о соблюдении субботнего отдыха вместо воскресного. Как ни
26
странно, но во времена Александра I ("Дней Александровых прекрасное начало") их просьба была уважена. В "деле" находится копия с указа кавказского губернского правления, в котором среди прочего утверждается, что "многие" (это слово в тексте выделено) жители города Александрова из купечества и мещанства "содержат Моисеев закон", уклоняются от общественных работ в субботние дни, и что субботников в городе больше, чем прочего населения66.
Удивительное дело, но земли Войска Донского, вопреки господствующей религии и в противовес устойчивому стереотипу казака как истово православного, стали рассадником всевозможных сект с ярко выраженным приматом Ветхого Завета. На наш взгляд, это было связано с относительной грамотностью населения, а также с возможностью во время службы на границах познакомиться с носителями иных вер и исповеданий. Так, в это время возникла секта "духоносцев". Ее основал есаул Евлампий Никифорович Котельников (ок. 1775— 1855)67. Во время службы на австрийской границе он познакомился с евреями и даже выучил еврейский язык. На первый взгляд, Котельников — идеальный герой: участник войны 1812 г., адъютант фельдмаршала М.Б. Барклая де Толли, человек, самостоятельно изучивший западные языки, написавший несколько книг, в том числе и книгу по истории Дона, не утратившую значения до сих пор. Автор хвалебной песни в честь Дона "Преславный тихий Дон Иванович...", но, увы, сектант...
Другое дело, по поводу отпадения от православия, проводилось в Орловской губернии и отличалось от аналогичных дел сравнительной полнотой следствия. Ересь возникла в городе Ельце и к ней примкнуло семейство братьев — купцов Яковлевых и зять одного из них, "экономический крестьянин" (т. е. находящийся в церковной или монастырской экономии, а после секуляризации ставший государственным крестьянином) подгородной слободы Жегулин с семьями. При обыске в доме Яковлевых был задержан неизвестный еврей и найдена литература на еврейском языке (четыре книги и письмо некоего Захара Уманского). В письме Яковлевы называются русскими евреями. Захар Уманский оказался евреем, проживающим в Саратовской губернии. Он, как и другие евреи, приезжал по делам в город Елец, все они останавливались в доме Яковлевых и "суботствовали" с ними68.
Борис Яковлев рассказал на следствии, что ему от роду 47 лет, что он вольноотпущенный крестьянин и пять лет тому назад принял иудаизм ("еврейскую веру") со всем своим семейством, включая женщин; мужчины совершили обряд обрезания. Это произошло под влиянием Михайлова, мужа его
27
сестры, и приезжающих евреев. Объяснения отпадения от православия несколько наивны: "Михайлов и Евреи дали ему знать, что Еврейская вера лучше Христианской для спасения души"69. Все без исключения совершили обряд обрезания, его новорожденный сын обрезан на 8-й день. Яковлев соблюдает субботу и кашрут. В церковь не ходит, не признает православных праздников, икон не почитает и, естественно, не причащается и не исповедуется. Других не склонял к переходу в иудаизм, так как сам еврейской грамоты не знает и не силен в законах. В Ельце, кроме семейства Яковлевых, других субботников нет, но около 300 помещичьих крестьян в Воронежской губернии, Бобровского уезда, в селе Чиголка, "жидовствуют". Арестованный еврей приехал из Саратова, так как узнал, что в Ельце есть иудействующие; еврейские книги принадлежат ему, но он не занимался прозелитизмом.
Другой брат — Иван Яковлев — показал, что рожденный в православии, он со всем семейством перешел в иудаизм около 15 лет тому назад. В церковь ходил лишь для вида, Новый Завет за божественное откровение не признает, в Христа не верует — верует в Единосущего, сотворившего небо и землю, отвергает Троицу и икон не почитает. Последнее подкрепил ссылкой на третью книгу Моисееву (Левит: 26:1: "Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними: ибо Я Господь, Бог ваш"). Четыре года тому назад сам себе совершил обрезание, соблюдает заповеди Моисея, правил еврейской веры не знает, так как умеет лишь читать. К принятию иудаизма склонился самостоятельно, читая издавна Библию и приходя к выводу о том, что она более всего способствует спасению души. Прозелитизмом "будто бы" не занимался. С крестьянами Воронежской губернии, исповедующими иудаизм, находился в непрерывных сношениях, обсуждая законы "еврейской веры". Найденное письмо принадлежало еврею Захару Уманскому, который неоднократно приезжал к ним и вместе с ними "субботствовал".
Руководитель елецких субботников Михайлов дал показания в том, что рожденный в православии, "от сей веры совершенно отступил"70; он отрицает божественность Христа, не признает Богородицы и других христианских святых. 19 лет тому назад, по совету купца Шишова из г. Александрова, произвел обряд обрезания на Урюпинской ярмарке. Станица Урюпинская Хоперского округа, расположенная на левом берегу реки Хопер — крупный торговый центр, известный своими ярмарками и находящийся в центре движения "жидовствую-
28
щих". Впоследствии из жидовствующих был полностью составлен Хоперский казачий полк на Кавказской линии71.
Интересные показания дал уже упоминавшийся "экономический крестьянин" Жегулин, 25 лет от роду. Семь лет тому назад, работая при "питейных сборах", самостоятельно выучил грамоту, читал пятикнижие Моисеево и сделался с 18 лет "исполнителем еврейской веры".
Жены и дети Яковлевых и Михайлова на допросах заявили, что "содержат... еврейскую веру по воле мужей и отцов своих"72.
Арестованный в доме Яковлевых еврей, витебский мещанин винокурный мастер Левин, ездил по плакатному паспорту (т. е. на законном основании) в Псковскую, Саратовскую и Пензенскую губернии. Проезжая Елец и узнав, что там есть иудействующие, он остановился у них для собственного удобства, связанного с соблюдением субботы и кашрута. Яковлевы к тому времени были еще не обрезаны, они не могли в точности исполнить обряды, так как не знали основ веры, не имели книг и раввинов. Вероятно, Левин просвещал неофитов.
Допрошенные жители Ельца сообщили, что Михайлов и Яковлев были неистовыми в обличении христианства, вступая в постоянные прения, они отрицали христианскую веру. Христиан называли идолопоклонниками, иконы обзывали досками, которые расписывают бабы, Новый Завет сплетнями. Николая Чудотворца обзывали однодворцем, "Иоанна Златоуста желтухиным"73. Самое страшное обвинение заключалось в том, что субботники активно занимались прозелитизмом, особенно Жегулин, который всенародно выступал против христианства. Возмездие последовало незамедлительно: по распоряжению министра полиции и по соглашению с Обер-прокурором Святейшего Синода главные обвиняемые были преданы суду, а "прочие поручены увещаниям духовенства, под наблюдением местного епископа"74.
Замечательно то, что одновременно обнаружились субботники в самых разных частях империи. В Иркутской губернии распространителем "еврейской веры" был сосланный туда некий тульский дворянин (фамилия не указана), для того сурового времени весьма гуманно признанный Врачебной управой "умалишенным". Но еще до своего помещения в сумасшедший дом он обратил в иудейство "некоторых поселян" (число не указано). Будучи увещаемы, эти поселяне "упорно оставались в своем заблуждении"75.
В 1818 г., при переселении духоборов из Архангельской губернии в Сибирь, среди иудействующих оказалось несколько семей: 10 мужчин и 11 женщин, которые, несмотря на давле-
29
ние светской и духовной власти, оставались непреклонны и просили разрешения поселиться в известном Александровском уезде вместе со своими единомышленниками. Правительство разрешило переселение.
В Тульской губернии секта "субботников" распространилась весьма широко. По далеко не полным данным, их было порядка 160 человек (вероятно, считались главы семейств): 17 купцов и 143 крестьянина. Все они отрицали Троицу и Мессию, т. е. Иисуса Христа, но подробности в деле отсутствуют. Главного зачинщика, родом крестьянина, сослали в Сибирь, остальных отдали на "попечение" местного духовенства. Удалось ли вернуть их в лоно православия — осталось неизвестно. Но обычно "увещаемые" притворно возвращались к господствующей церкви, тайно соблюдая иудаизм; при обнаружении этого их сурово наказывали. Добавим к этому, что зачастую духовенство облагало отколовшихся поборами в свою пользу.
В 1819 г. началось дело, закончившееся семь лет спустя, в 1825 г. Казак Чиликин под влиянием однодворца Милюхина, проживавшего в Арженовской станице, Балашевского уезда, села Свинуха (несколько странное название для субботнического села) Саратовской губернии, решил принять иудаизм и сделать себе обрезание. Было это в 1817 г. Сам Милюхин исповедовал "еврейскую веру" с 1802 г. Он "изъездил всю Россию, пропагандируя лжеучение субботников", — негодует профессор-протоирей Т.И. Буткевич76. Кроме семейства Милюхина из села Свинуха, субботствовали также и крестьяне других сел: Иняево, Дурнилино и Мелик. (Есть нечто некрасовское в названии этих деревень. Но, вероятно, материальное положение жителей этих сел было неизмеримо выше деревень некрасовского уезда Терпигорева — Заплатовой, Дырявиной, прочих.) Общее количество субботников доходило до 400 человек. Причем в 1812 г. они объявили о себе местному начальству, и с того времени, на основании Высочайшего повеления от 16 мая 1803 г., им были отведены в их селениях отдельные кладбища. Далее документ беспристрастно свидетельствует, резко отличаясь в этом от очень многих доносов и клеветнических измышлений: "Люди эти, состоя в наблюдении местной Полиции, никогда не были замечены в поступках, противных общему порядку, тишине и спокойствию. Главное основание вероисповедания их Ветхий Завет. Моления производили они в дни субботные; имена новорожденных нарекали избранные из среды их к богослужению люди, которые обрезывали младенцев мужеского пола в 8 день по рождению и совершали прочие обряды по правилам Евреев. В селе Иняеве имели
30
они особую избу для обучения детей чтению и письму; избу называли школою и отправляли в них богомолие"77. Обратим внимание на жажду грамотности у крестьян, исповедующих иудаизм. В каждой деревне имелась особая изба для обучения детей чтению, письму и закону Моисееву. Тем не менее Комитет министров требовал положить конец отпадению от "веры Христовой", находя, что "столь явное отступление от закона отечественного не должно быть вовсе терпимо Правительством, обязанным охранять господствующую веру и охранять членов ея от обольщений..."78 Последовала высылка казака Чиликина и однодворца Милюхина в Кавказскую губернию, в знакомый нам уже Александровский уезд, где давно обретались субботники. Вообще на Южной и Восточной пограничных линиях находились в большом количестве не только высланные субботники, но и купцы-евреи. Известно, например, что один из основоположников русской военной медицины Николай Илларионович Козлов (1814—1889) был сыном оренбургского купца-еврея (Н.И. Козлов приходился прадедом писателю Владимиру Набокову). Н.И. Козлов — начальник медико-хирургической Академии и первых женских военных курсов79. На Кавказской линии работал богатый ростовский купец Осип Борисович Фавишевич. О нем с большой теплотой пишет мемуарист80.
Возвращаясь к Милюхину, следует отметить, что он смело защищал свои религиозные взгляды. Он направил в Министерство внутренних дел прошение, интересное тем, что в нем мы впервые слышим голос иудействующего человека, уверенного в правильности своего религиозного пути и готового защищать свои позиции в рамках закона того времени. Прошение дышит достоинством и уверенностью даже в пересказе чиновника, ведшего это дело: "Последуя примеру предков своих, он и некоторые из жителей Балашевского уезда, числом около 300 душ, издавна исповедовали веру по Моисееву закону, прежде тайно, а потом, в 1812 г., огласили себя в том перед местным начальством. С того же времени, начали они избирать из среды себя особых людей по преимуществу в знании грамоты для отправления богомоления, которые новорожденным нарекают, по всенародным святцам, имена, и производят обрезание; желающих вступить в брак венчают и умерших погребают на особо отведенных местным начальством кладбищах. Быв усердно преданы вере своей, они празднуют, вместо воскресенья, субботу и другие установленные по Моисееву закону дни; но не имеют от правительства дозволения на свободное отправление своих обрядов: посему нередко местное начальство побуждает в празднуемые ими дни к работам и, на-
31
против, в воскресные и другие Христианские праздники возбраняют им работы; сверх того, в общественном сожитии и по судебным делам причиняются им от Христианского сословия разные обиды и притеснения. Главнейшие у них праздники: пасха, называемая ими опресноки, судный день, трубное служение и прочие установленные по закону и обрядам Израильтян. Они поклоняются только единому Творцу вселенныя, Христа Спасителя не признают за Сына Божия, равно Матерь Божию и прочих угодников, чтимых Христианами, не признают святыми; крестного знамени, святых и прочих Христианских обрядов и таинств не приемлют. Богомоление их состоит в чтении и пении стихов из Библии и псалмов из псалтыри; других же книг для сего не потребляют. Обрезание чинят младенцам мужеского пола в 8 день от рождения на основании 17 главы Бытия. Браки сочетавают с приличным для сего богослужением, и в подкрепление союза читаются новобрачным по порядку назидания, выбранные из Божественных книг, причем напоминается обоим лицам, что сия обязанность принята от праотцев Израильских; умершие погребаются при чтении и псалмопении псалтыри всеми предстоящими у могилы; посты содержат на таком основании, как Евреи. В обрядах их нет ничего тайного или вредного для людей других религий; ибо пороков они не терпят, беглых от воинской службы не принимают, считая их клятвопреступниками (курсив мой. — С. Д.). Впрочем люди одинаковаго с ним, Милюхиным, исповедания не все единообразно отправляют богомоление и обряды по принятому ими закону Израильскому; поелику не имея сведующего в сем наставника, не знают основательно и правил этого закона; он, Милюхин, необходимым считает позаимствоваться наставлениями от ученых Евреев"81.
В Москве секта субботников была обнаружена в 1805 г. Их нашлось 41 человек. Распространял учение "вотчинный бурмистр" Яков Андреев, который отказался сообщить, где и при каких обстоятельствах он принял иудаизм.
В Каширском уезде Тульской губернии в самом начале XIX в. жидовствующих было около 150 человек, а руководителем секты и распространителем ее учения был купец Краснов.
В 1818 г. правительству стало известно о наличии секты Моисеева закона в двух уездах Воронежской губернии — Бобровском и Павловском, в шести селениях. Первые сведения о секте в этих уездах относятся к 1797 г. В 1808 г. сектантов было свыше 60 человек. В 1818 г. уже в этих шести селениях: Козловке, Тишанке, Гвозде, Кленовке, Мамонах и Чиголке — общее число отпавших составляло свыше 500 человек, но со-
32
вершенно резонно предполагалось, что их количество значительно выше, ибо многие были тайными приверженцами иудаизма. Зачинщиков и явных нарушителей было решено без зачета сдать в солдатчину. Это нагнало страху на многих, и чиновник как о само собой разумеющемся пишет: "Следствием этой меры было обращение многих субботников в Христианскую веру"82. В селе Козловка иудействующих было очень много. Их обнаружили около 1810 г. Но еще в 1806 г. Гавриил Гриднев первый начал придерживаться Моисеева закона и открыто проповедовал "древний закон", отрицая божественность Христа и "возводя хулу" на Богоматерь. Всем новорожденным было сделано обрезание. Субботники быстро распространились, и следствие сохранило их имена: Иван Раков, Иван Ситников, Ефрем Кончаков, Сарк Жабин, Ермил Воронин и другие. На них в полицию донес священник Исайя Лебядянский и "после увещаний" их сослали в Сибирь. Часть "раскаялись" но, понятно, продолжали втайне "иудействовать". Так, в семьях вернувшихся в православие Гридневых и Ворониных не ели свинины и не праздновали христианских праздников. В конце концов они переселились на новое место и вновь стали открыто "субботствовать"83.
Но что совершенно замечательно, так это признание зажиточности иудействующих: "Домоводство всех вообще субботников было весьма избыточное и недоимок за ними не состояло"84.
Антихристианская пропаганда жидовствующих давала, как ни странно, известные плоды. Ибо многие их соседи — однодворцы и крестьяне — отказывались ходить в церковь и разводить свиней, при этом явно не обнаруживая своих религиозных симпатий — последнее, по-видимому, из-за боязни репрессий. К этому времени были обнаружены субботствующие и в Бессарабской губернии, большая часть которых были пришлые из Великорусских областей.
Русское правительство было убеждено, что существует связь между "коренными" евреями и новообращенными. Была твердая уверенность, что у евреев есть тайные миссионеры, получающие постоянные пособия от своих обществ. Так, в том же самом 1818 г. один еврей взялся открыть правительству "совращенных" христиан, в числе которых был и один священник. Впрочем, вскоре после того как было обнаружено несколько неофитов, доносчик исчез из поля зрения полиции. Сосланные в Александровск, они даже если и были возвращены в православие, оставались недолго в лоне господствующей церкви: слишком много здесь находилось субботствующих, свободно исправляющих законы Моисея.
33
В 1823 г. общее количество обнаруженных субботников в Воронежской губернии составляло 3 771 человек. Повторимся — в действительности их было неизмеримо больше.
Воронежские и саратовские субботники одновременно подали жалобы через графа Аракчеева в Министерство народного просвещения и духовных дел на притеснения, причиняемые им за исповедование Моисеева закона. Правительственная проверка показала, что субботников насчитывается по всей России до 20 тыс. человек обоего пола85. Иллюзий у правительства не было — их было больше, ибо только в трех станицах Майкопского уезда было субботствующих 1 726 душ мужского пола и 1 714 душ женского пола. В Астраханской губернии субботников числилось до 3 850 человек. Карта распространения иудейских сектантов была просто поразительна — она охватывала уже перечисленные исконно православные центральные губернии: Московскую, Тамбовскую, Тульскую, Орловскую, Пензенскую, Екатеринославскую, Иркутскую, земли Войска Донского, даже далекий Север — родину Ломоносова, Архангельскую губернию. Из некоторых больших сел (Дубровка, например) иудействующие вытеснили всех православных. Т.И. Буткевич называя "все коренное православное население", забывает, что иудействующие мужички, в отличие от "патентованных евреев", тоже принадлежат к коренному населению. Какое же объяснение дает столь быстрому распространению субботничества профессор-протоиерей Буткевич? Он пишет: "...быстрое распространение иудейских воззрений объясняется, с одной стороны, тою широкою религиозною свободою, которая была объявлена императором Александром I, а с другой — тем, что евреи не жалели денег на пропаганду: содержали энергичных и пронырливых профессиональных миссионеров, выкупали у помещиков крепостных крестьян и т. п.»86.
Посмотрим на это высказывание со стороны. Религиозная свобода приравнивается к бедствиям, а не к достижениям человеческого духа. В относительно свободной конкуренции православие оказалось не в состоянии противостоять сектантству, оно должно было полагаться на карательный полицейский аппарат, чтобы сохранить позиции. И профессор богословия, не стесняясь, апеллирует к государственной власти. Что же касается крепостного крестьянства и "еврейских денег", получаемых на выкуп крестьян и на пропаганду, то и здесь профессор несколько перепутал времена и преувеличил силу еврейского капитала в России в конце XVIII — начале XIX в. Крепостничество, естественно, не украшало Россию — европейскую страну, сохранившую рабство до 1861 г. Истори-
34
ческое отсутствие у евреев рабства, вероятно, было привлекательным в иудаизме. ("Потому что они — Мои рабы, которых Я вывел из земли Египетской; не должно продавать их, как продают рабов" (Левит: 25, 42). Приведем один исторический пример, как раз приходящийся на 1818 г., когда еврей выкупил из неволи русского человека. Мы имеем в виду городского голову Полтавы купца Абрама Моисеевича Зелинского, который участвовал в сборе денег для выкупа великого русского актера Михаила Семеновича Щепкина. Однако Михаил Семенович, несмотря на то что его выкупил еврей, что он блестяще играл евреев в пьесе "Жид Шева" и особенно в "Жидовской корчме", где он подражал своему благодетелю Зелинскому и даже шаржировал его, в иудаизм не перешел. Впрочем, его внучка вышла замуж за известного адвоката и публициста Льва Абрамовича Куперника. Л.А Куперник активно выступал в защиту еврейства в ритуальных и погромных процессах.
Иногда рассматривается влияние евреев на распространение субботничества. Процент евреев в Центральной России до 60-х годов прошлого века был мизерным. Затем там появились бывшие кантонисты, имевшие право на жительство. И отношение населения к новым пришельцам было не однозначно. Известный критик и писатель А.К. Воронский, родившийся в богатом селе Добринка Тамбовской губернии, рассказывает о своем деде-попе: «С николаевских времен в селе жили евреи, выходцы из черты оседлости. Права свои они получили солдатами в турецкой войне. Около базара, на задах, евреи заселили целый порядок. Они ссыпали хлеб, знали ремесла. Православное купечество жаловалось на еврейское засилье: у евреев было больше смекалки, торговых связей, да и крестьян они обвешивали меньше. Дед с купцами не ладил. Купцы считали его гордецом, пьянчугой, мрачным чудаком и самодуром. Чтобы досадить купечеству, дед свои обходы на Рождество и на Пасху начинал иногда ... с евреев. В облачении он, дьякон и псаломщик истово славили Христа у Хазанова или у Канторовича. Хазановы и Канторовичи деда принимали и, подобно волхвам, не скупились на сильные дары. На "чистую половину" дед, впрочем, к евреям не заглядывал, а скромно ограничивался кухней, где подпускал к кресту православных, кухарку и работника, хозяевым же говаривал: "Шмуль, рабов твоих и рабынь я приобщил благодати. Ты же ее недостоин, ибо обрезан и употребляешь мацу. Однако разумей: куличи и опресноки не вера, а жалкое суеверие". Неизвестно, что отвечали деду Шмули и Абрамы, но крещеные купцы, созерцая предосудительные обходы из окон своих домов или с крыльца, зеленели от обиды и унижения. Дед это знал и, заметив на улице
35
кого-нибудь из местных тузов и добродеев, совершенно наглядно показывал им преогромный кукиш, и, несмотря на изрядное подпитие, твердо и во всеуслышанье через дорогу восклицал: "На-ко, выкуси, стяжатель и спесивец! Раньше четвертого дня не приду, не жди!"»87. Вряд ли в этой обстановке можно серьезно говорить о влиянии евреев на местное население. Что же касается вызывающего поведения священника, то это иной разговор, хотя пример для прихожан отменный...
Один из крупнейших специалистов по русскому сектантству В.Д. Бонч-Бруевич считал, что жидовствующие в первой четверти XIX в. признавали только Моисеев закон, Библию и отчасти Талмуд, совершенно не приемля Евангелия. При этом Бонч-Бруевич отвергает любую их связь с ересью XV в., считая, что хулители сектантов — церковники и светская власть — специально обзывали секту тем же наименованием "жидовствующие" с целью моральной дискредитации в глазах простого народа. Бонч-Бруевич предполагает, что новейшие жидовствующие отличались сильнейшим стремлением к прозелитизму. Правительство преследовало их немилосердно, ведя не только обычную борьбу за "чистоту" православия, но и проявляя обыкновенный "отвратительный" антисемитизм. Так же ожесточенно преследовались и другие секты, близкие к иудаизму: молокане-субботники и иеговисты. Субботники-молокане считали себя ветвью Библейского Израиля и в процессе духовной эволюции постепенно становились ортодоксальными евреями. Ими были заселены отдаленные районы Восточной Сибири88.
Царское правительство было чрезвычайно озабочено ростом сектантства. Для "отвращения" простого народа от иудаизма была разработана весьма простая программа: репрессии, репрессии и репрессии. По высочайшему повелению от 3 февраля 1825 г. "субботников" переименовали в "жидов". Удивительный факт — на узком фронте борьбы с иудействующими был как бы принят обратный закон. Во времена Екатерины, как мы помним, тайно переименовали презрительного "жида" в нейтрального еврея. Здесь же явочным порядком произошла регрессия. В "Уложении о наказаниях" эта секта относится к самым вредным. И это при наличии всевозможных изуверских сект! Распространителям ее полагались тяжкие наказания. Но не только им. Если при отправлении членами секты обрядов в комнате находился малолетний крестьянин (при этом не оговорено, какого возраста этот малолетний — возможно и младенец), то он отдается в кантонисты, а если он не пригоден к военной службе, то его отдают на казенные фабрики, и, как резонно замечает исследователь раскола А.И. Мельников-Печерский, даже не оговариваются права детей приви-
36
легированных сословий, теряющих часть своих прав при отдаче в кантонисты и полностью, если их отдавали на казенные фабрики89.
По закону "местные власти, сколь возможно, преграждают жидовствующим сообщение с правоверными жителями и для того не выдают паспортов никому из принадлежащих к жидовской ереси для отлучки в другие места. Из уездов, в коих находится жидовская ересь, высылать всех евреев без исключения и ни под каким предлогом не дозволять их пребывание там. С евреями, являющимися в уездах, в коих находится жидовская ересь, поступать, как с беспаспортными, подвергая взысканию и лица, давшие им пристанище"90.
Надо сказать, что сам А.И. Мельников-Печерский считал, что особой ереси жидовствующих нет, а имеются лишь всевозможные протестантские толки, неправильно называемые "жидовствующими". Опровергнуть это мнение не стоит большого труда. Стоит лишь прочитать прошение Милюхина. Кстати, Мельникову, едва ли не первому, принадлежит утверждение, что еретиков времен Ивана Васильевича «огласили "жидовствующими" ради отвращения народа от их учения, этого отпрыска реформационных идей, волновавших тогда умы в Западной Европе, учения, которое в самое короткое время было так распространено в России, что многие лица, стоящие на самых высших ступенях общественной иерархии, открыто их приняли». В связи с этим он задает риторический вопрос: "Неужели и они были жиды?"91
Конечно, среди всевозможных сект были связанные с протестантизмом (по классификации того же Мельникова: мистики, сионская церковь, лабзинцы, десные христиане), созданные под влиянием чтения обширной масонской литературы, так сказать, классиков мистики — "отца нашего Бема", Сведенборга, Сен-Мартена, Юнга-Штиллинга, Эккартсгаузена; последние, как замечает автор "Писем о расколе", имели большое влияние на "простолюдинов". С этим вряд ли можно согласиться — простолюдину весьма и весьма тяжело овладеть мистической сущностью означенных авторов. Но чувствуется, что А. Мельникову вообще неприятна любая связь русского народа с еврейством и он повторяет: "...Особой секты жидов в русском народе нет и не бывало"92.
Высшая стадия апологии еврейства — идентификация себя с Древним Израилем и с современным еврейством, что было свойственно субботникам того времени, как совершенно явствует из протоколов допросов. Все это не могло быть неизвестно автору романов о русском расколе Андрею Печерскому и одновременно чиновнику по особым поручениям Министерства
37
внутренних дел Павлу Ивановичу Мельникову. В последние годы царствования Николая I Мельников-Печерский стал для центральной администрации главным авторитетом по расколу. Историки пишут, что Мельников рекомендовал карательные меры, вплоть до отнятия детей у родителей и отдачи их в кантонисты: "Обыски и выемки у раскольников он совершал с ретивостью, даже по тому времени чрезмерною", — писал С. Венгеров в энциклопедической статье о писателе93. Венгеров приводит примеры безнравственной "ретивости" чиновника. Но в новое царствование Мельников быстро перешел в лагерь "перестройщиков-либералов" и проповедовал широкую веротерпимость. (Все это выглядит слишком современно, но, увы, история любит повторяться и в большом, и в малом, и в великом, а чаще всего в карикатурном.) Злоязычный Н.Ф. Щербина обмолвился о нем так:
Ваш Мельников, — что всем известно, —
Доносов много написал,
С расколов разных повсеместно
Он, как подьячий, взятки брал;
И, эти взятки обличая,
Опять деньгу стал наживать,
Когда, себя изображая,
Он начал повести писать... (20 июня 1861)94
Н.С. Лесков, работавший одно время с Мельниковым, приводит мнение раскольников о ретивом чиновнике: "Волк, так и волчком глядит"95. Важнее, однако, другое — он составил три тома ценного секретного издания: "Сборник постановлений, относящихся к расколу".
В Высочайшем указе от 3 февраля 1825 г. мы читаем следующее: "Как ничто не может иметь большого влияния над простым народом, как презрение или посмеяние над заблуждениями, в кои совращать его ищут, и что именно средство сие употребляют как раскольники разных сект, так и субботники в отношении православной веры, то Именовать субботников жидами и оглашать, что они подлинно суть жиды, ибо настоящее их наименование субботников или придерживающихся Моисееву закону не дает народу точного о секте сей понятия и не производят в нем того отвращения, какое может быть производимо быть убеждениям, что обращать стараются их в жидовство"96. Как видим, правительство не стеснялось обращаться к низменным инстинктам черни. Однако успех контрмер зависел не от словесной завесы, а от массовых репрессий, которыми эти меры на самом деле являлись и которые обрушивались на сектантов уже в царствование Николая I.
38
Эти меры были следующими:
"1) предписать губернским начальствам, без всякого участия духовной власти и в виде обыкновенного полицейского распоряжения, взять в тех селениях, где секта эта находится, начальников ея и их помощников и отослать немедленно для определения в военную службу годных к ней, а неспособных к военной службе — на поселение в Сибирь; таким образом поступать впоследствии с теми, которые окажутся начальниками и распространителями секты;
2) начальством Сибирских губерний предписать, чтобы люди эти размещаемы были в отдаленные места и сколько можно отдельно, и чтобы земская Полиция строгое имела наблюдение, дабы они никого не вовлекли в свое заблуждение;
3) за обращенных таким образом в военную службу или на поселения крестьян, принадлежащих помещикам, выдавать помещикам рекрутския квитанции;
4) если бы, при отправлении этих людей на поселение в Сибирские губернии, жены и дети их не пожелали следовать с ними, то к тому их не принуждать и оставлять на прежнем жительстве;
5) меры, изъясненной в первом пункте, не распространять на субботников Кавказской губернии, находящихся в Александровском уезде, так как существование их распоряжениями самого Правительства некоторым образом утверждено, но вся строгость этих правил приложится к ним;
а) если откроется покушение к вовлечению других в заблуждение этой секты;
6) если будут изъявляемы наружные оказательства секты или соблазна, происходящего от него; в этих случаях поступать с начальниками субботников, жительствующих в Александровском уезде, на точном основании вышеприведенных правил;
б) начальников секты почитать тех, кто совершает какие-либо обряды или занимает первое место в богослужении или дает наставления в правилах Иудейских;
7) из уездов, в коих находится секта субботников или Иудейская, и соседних им уездов выслать всех Евреев без исключения, где бы они не находились, и впредь ни под каким предлогом пребывания там им не дозволять; (Это правило было отменено в 1883 г.) с являющимися вопреки этому запрещению поступать как с беспаспортными, подвергая лица, которые дадут им пристанище, взысканиям;
8) поставить в обязанность местному начальству затруднять сколько возможно сообщение правоверных жителей с иудействующими и для того не выдавать паспортов никому из при-
39
надлежащих к секте сей для отлучки в другие места (курсив мой. — С. Д.);
9) запрещать всякое наружное оказательство секты Иудейской и всякое действие, явным соблазнам повод дать могущее, возложа строгое за сим наблюдение на ведомство гражданское, без участия духовной власти;
10) под наружным оказательством секты разумеются собрания из разных домов в один для молитвы, обрезание, венчание, погребение и прочие обряды, не имеющие сходства с христианскими; под соблазнами разумеются: всякое действие при христианине, противное его Вере, и в особенности хула и насмешки над правилами церкви и над теми, кто следует оным;
11) постановить непременным правилом, чтобы отступники сии не были избираемы ни к каким общественным должностям, на основании утвержденных о раскольниках правил;
12) поставить в обязанность губернским начальствам иметь верные сведения о числе Иудейскому заблуждению предавшихся, о прибыли их или уменьшении числа оных посредством возвращения к Православной Церкви, но сведения сии собирать со всею возможною скромностью, дабы не дать повода к каким-либо неудобствам, как-то: или оглашению большого еще числа сих Русских Евреев, доселе вероятно скрывающихся, или распространения толку (курсив мой. — С. Д.), как сие уже случилось при розысканииях о числе раскольников"97.
Духовное ведомство тоже шло в ногу с суровым временем: в декабре 1842 г. от Святейшего Синода последовало распределение раскольников-сектантов на степени вреднейшие, вредные и т. д. В первом же пункте читаем следующее:
"Секты вреднейшие:
1) Иудействующие, ибо это хуже, нежели ересь: это совершенное отпадение от христианства и существенная вражда против христианства"98.
К сожалению, в нашем распоряжении находится слишком мало архивных материалов, но все же можно представить себе общую картину принуждения к возврату в лоно господствующей религии. Так, в 1827 г. были обнаружены жидовствующие в Московской губернии. Священник Спасской церкви Бронницкой округи, села Верткова Иван Никифоров еще в 1825 г. доносил знаменитому московскому архиепископу Филарету (в миру В.М. Дроздов), что в его селе 19 человек "содержат секту жидовскую". Что в селе есть иудействующие, было известно давно, лет уже 20, их "увещали" предшественники нынешнего настоятеля, но, вероятно, безуспешно. Иван Никифоров жалуется, что субботники отказываются с ним говорить. Его
40
жалоба в первую очередь относится к крестьянину Якову Андрееву и двум его родным племянникам — Афанасию и Козме Абрамовым. Сектанты часто отлучаются в город Каширу и Рязанскую губернию, где вообще иудействующих очень много. Единственный способ воздействия на них — земская полиция или непосредственное обращение к их помещику генерал-майору Николаю Матвеевичу Толстому, "а без того они к себе никого из духовных лиц не допускают"99.
Некий архимандрит Григорий довольно подробно описывает "заблуждения" жидовствующих, иногда путаясь в еврейских праздниках и даже не допуская мысли об обрезании, когда из других источников явствуют, что обрезание обязательно. Вот эти пункты: 1) веруют в Единого Бога, но не признают троичности лиц в Божестве; 2) ожидают Мессию Царя, который восстановит разрушенный Иерусалим и соберет в Обетованную Землю рассеянных иудеев и всех содержащих закон их; 3) иконы считаются идолами, а поклонение иконам — идолопоклонством; 4) празднование субботы происходит у них таким образом: накануне вечером собираются они на молитву, читают и поют псалмы при зажженных свечах. В самый день субботы общественное моление бывает утром, перед обедом и перед вечером; 5) в марте празднуют Пасху 7 дней и во все это время едят опресноки с водою или пресным молоком; 6) девятое число сентября, у них так называемый Судный День; проводят они его в посте, так что до вечера ничего не пьют и не едят, а с 15 числа начинают торжественно и весело праздновать праздник Кущей, продолжающийся 8 дней и установленный в память 40-летнего странствования евреев по пустыне, на пути из Египта в Землю Обетованную. Кущей или палаток не строят, живут в своих домах, разрешается все, кроме употребления той мясной пищи, запрещенной в Ветхом Завете. «Вместо наших молитв, — продолжает архимандрит Григорий, — читаемых в первый день, "повнегда родити жене отроча" у них вычитывается седьмая кафизма, начиная с 50 псалма до конца кафизмы, а в 8 день от рождения над мальчиком, а в 14 над девочкою, прочитывается сполна 17 кафизма, при чем на новорожденного младенца надевают ладанку, т. е. мешочек с кусочком ладана и бумажкой, на которой написаны слова: "Во имя живаго Бога". Обрезания над младенцами мужского пола не бывают вовсе. Венчаться ездят они неизвестно куда, и непременно ночью, скрытно от других; спустя один день, ночью же возвращаются назад, и празднуют свадьбу по заведенному обычаю. Развод браков бывает только по важным причинам. В день погребения умерших читают псалмы, какие сами изберут...
41
В Воскресенье ходят они на всякую работу, а в церковь никогда не ходят, и не только ничего Христианского не исполняют, но даже почитают осквернением... Степень ожесточения их видна и из следующего: услыхав о прибытии Миссионера, некоторые из них признавались, что скорее согласятся претерпеть какие угодно казни, чем переменить свою Веру»100.
В помощь священнику был послан миссионер с соответствующей инструкцией, состоящей из 15 пунктов. Среди этих пунктов обращает на себя внимание пункт 2-й, где предлагается читать отцов церкви, а также сочинения Гроция и Самуила Раввина Иудейского. В пункте же 7-м указано, что желательно "увещания" проводить "без всякого участия Гражданского Правительства", т. е. без светских властей; иными словами, чтобы насилием не позорить церковь. Пункт 15-й требует полного цитирования: "Верный служитель истины не забудет, что только благим побеждается злое, и потому на прекословия отвечать будет (миссионер. — С. Д.) с терпением и незлобием, в случае неуспешности первого опыта увещания, не возмалодушествует, но сохранит твердость и постоянство, свойственные доброму предприятию, не свяжет духа своего с мыслию о собственной корысти, или чести, но воскрилит его ревностию к славе Божией и человеколюбием, в Боге полагая и надежду помощи, и надежду воздаяния. Июня 27, 1827"101. Витиеватость слога выдает авторство творца текста будущего манифеста об освобождении крестьян от 19 февраля 1861 г. Успех "увещаний" был неотразим: в течение одной (!) недели "обратились" 37 человек, а отсутствующие 4 человека (супружеская пара с двумя детьми) письменно объявили о своем присоединении. Обращаем внимание на количество "увещаемых" — поначалу их было 19 человек, теперь оно возросло до 41. Интересно и другое, что вызов "на увещание" вопреки цитируемому пункту 7, происходил по повестке через "десятского" в барском флигеле. Пришло в первый раз всего 4 человека. Последним словом "увешенных" сектантов было следующее: «Для нас нелегко отстать от учения, внушенного нам около 20 лет назад; впрочем склоняемся принять Християнство, проповедоваемое вами и основанное на тех же Пророках, каких и досель мы чтили. Но, если окажется, что вы, Отец, ввели нас в заблуждение: то во второе пришествие Спасителя, на Страшном Суде, все ухватимся за вас и скажем Богу: "Он виновник нашего несчастия, он пусть и отвечает за нас!»102 Долго ли эти крестьяне оставались православными? "Увещания" правительством Николая I были сменены на крутые меры. Субботников ссылали в разные отдаленные места Сибири и Закавказья. Но, увы, меры были недостаточны. Иудействую-
42
щие продолжали исповедовать свою веру там, где проживали. Они стали осторожнее, боязнь ссылок и каторги сделала субботников тайными иудаистами, маранами нового времени: открыто придерживаясь православия, они втайне блюли иудаизм103.
С удивительнейшей откровенностью один церковный автор пишет о присоединении к православию молокан. (Он путает молокан с субботниками; утверждает, что эти сектанты делают обрезание, празднуют субботу и еврейскую пасху, и их инквизиторы обзывают их "жидами".) Очевидцы рассказывали, что в селе Балыклейском, принадлежащем к приходу Христорождественской церкви, Царицынского уезда, Саратовской губернии, лет 70 тому назад (в 10-х годах XIX в.) появился "главный корень жидовства" Кирьян (Кирьяк) Фаддеев Колебошин, который нашел "modus vivendi" с местным священником, давая отцу благочинному взятки натурой — возами пшеницы, гусями, утками. Были ли сектанты обрезаны, соседи не знали, но видели их празднующими субботу. Спустя какое-то время среди них появился какой-то "природный жид", который якобы начал производить обряд обрезания. Боясь огласки, еврей через некоторое время исчез из села, вероятно, научив кого-то своему ремеслу. При этом рассказчик утверждает, что благосостояние жителей села непрерывно росло. Из малолюдного хутора оно превратилось в большое торговое село. Вероятно, все же произошла "огласка": в 1836 г. в селе появилось начальство во главе с миссионером иеромонахом Палладием. После многих усилий, при содействии исправника, волостного головы и писаря Кондратьева, сектантов удалось вернуть в православие. Удивляет другое: приняв — притворно — господствующую религию, многие сектантки вышли замуж за "природных" православных, и им удалось их "совратить" в "жидовство". Как же происходило возвращение в православие? Очевидцы рассказывали, что целый месяц местный причт, включающий священника о. Луку Кинарейкина, дьякона Я. Венусова, царицынского исправника Балясникова, волостного голову Дмитриева и писаря Кондратьева, ежедневно по 4 часа утром и вечером "увещали". Увы, сектанты упорствовали в "заблуждении". Наконец, наскучив бесцельным времяпрепровождением, писарь Кондратьев, человек состоятельный, обратился к отцу Палладию: "Ваше преподобие, позвольте-ка нам увещать жидов, мы скорее Вашего с ними справимся". Тот позволил. Наутро приступили к "действу". Писарь Кондратьев с исправником вызывали поочередно упорствующих и вопрошали о желании крещения. Ответ был один: "Нет!" "Кладите его" — их избивали, судя по пропускам в рассказе,
43
немилосердно. "Мучимые болью", они, наконец, соглашались вернуться в лоно православия. Понятно, прочность в вере "новокрещеных" была сомнительной, и они почти все вернулись в иудейство. Часть их была выслана или добровольно переехала в Закавказье, но большинство осталось на прежнем месте104.
Однако при любой возможности сектанты стремились открыто идентифицировать себя с избранным народом. Они признавались: "...людей мы обманем, а Бога не обманем; мы хотя и ходили в церковь, и делали все ваше, а все-таки мы как держались прежде, так и теперь, держимся своей веры"105. Не следует забывать, что это был конец 1872 г., царствование Александра Освободителя, время, когда сектанты один за другим обращались к министру внутренних дел с просьбой отделиться от православия, к которому принадлежали притворно. Любопытно, что обращение переписывалось с одного образца — прошения жителя села Озерки Бобровского уезда Воронежской губернии. Одновременно поступили просьбы об отведении для умерших иудействующих отдельных участков. Ни одно из прошений не получало разрешения правительства, хотя люди на местах открыто исповедовали свою веру.
С точки зрения Святейшего Синода, все остальные сектантские течения, включая изуверские, на фоне этой, вреднейшей, секты бледнеют. И здесь Синод остался верен себе, заняв крайне юдофобскую позицию. Н.В. Варадинов в цитируемом труде приходит к выводу: "Нет сомненья, что жидовская ересь зарождалась от Евреев, которые часто совращали Православных в Жидовство". И далее: "...чтобы секта эта была совершенно самостоятельна без влияния жидовства, допустить этого по источникам нашим нельзя"106. И поэтому даже сибирским евреям разрешалось жениться на инородках, но ни в коем случае не на субботницах! Так, судя по архивным данным, Нерченское начальство запретило брак поселенки субботницы Худеяровой с евреем Юсиновичем107. Кстати, тот же источник сообщает, что инородки, вышедшие замуж за евреев и перешедшие в иудаизм, становились необыкновенно набожными, учились молитвам, строго исполняли обряды, не уступая "настоящим" еврейкам.
Имеется один в высшей степени интересный документ, касающийся связи евреев с субботниками-герами. (Гер: на иврите — перешедший в иудаизм.) Это воспоминание бывшего николаевского "пойманника" — кантониста М. Меримзона, 25 лет прослужившего в русской армии. Кстати, Меримзону, человеку, вне сомнения, большой внутренней культуры, несмотря на недостаток образования, принадлежит точнейшее и страшное определение кантонистов — "лилипутная армия".
44
В 1862 г. он попал на пасху в Нижний Новгород с таким же, как и он, горемычным приятелем. Случилось так, что, вспомнив о своих родителях, о милом праздничном доме, "лилипуты" заплакали (дело было на улице). Неожиданно в роли Ильи-пророка выступил какой-то русский пожилой купец, в поддевке темно-синего сукна, подпоясанный красным кушаком, с подстриженными в скобку волосами и окладистой рыжеватой бородой, как будто сошедший со страниц Островского или с полотен Кустодиева. Он остановил солдат-евреев и стал их подробно расспрашивать. Уверившись, что они в армии не крестились, он пригласил их в свой дом на пасхальную неделю, дав взятку военному начальству, чтобы их отпустили на праздники. М. Меримзон подробно описывает дом купца и детали празднования пейсаха "гейрим": «Лишь только он отворил дверь квартиры, нам показалось, что он открыл перед нами светлый рай. Большой зал; посредине потолка висит большая бронзовая люстра, покрытая синей тюлью; вдоль стен кресла, покрытые темно-коричневым бархатом; по стенам висят большие картины в золоченых рамах, зеркала; пол паркетный. Посредине зала стоит большой стол, покрытый разноцветной скатертью. Возле стола сидит еврей средних лет, в чистом длинном сюртуке, и вторит с двумя русскими мальчиками "гагаду". Еврей поднялся и подал нам руку — "шолем алейхем", а мы ему: "Алейхем шолем". Он наскоро расспросил нас: откуда и куда? Мальчики смотрели на нас с большим любопытством. Я тихо спросил у еврея: "Будьте добры, скажите: куда мы попали? какой тут народ? не то русский, не то евреи"... Ребе улыбнулся и сказал: "Это — Гейрим". Тут есть порядочно и субботников, которые тоже с любовью соблюдают нашу веру; так как правительство их строго преследует, то они нашли удобное место у моего хозяина и здесь исполняют религиозные обряды. Я исполняю три должности — шохета (резника), кантора и меламеда, и за все эти должности я бываю награжден, что не смею обижаться. Вот вы сегодня увидите. Ко мне соберутся и будут мне "хомец" продавать, а вечером соберутся Богу молиться»108. Дальше идет описание седера, который ведется строго по закону, включая чтение молитвы "кадиш". Единственное исключение было тогда, когда руководивший церемонией шойхет залез на кафедру, произнес проповедь по-русски, чтобы все присутствующие поняли. В конце все произносили ритуальную фразу: "На будущий год в Иерусалиме". Кстати, у хозяев дома были типичные имена "геров" — Абрам Моисеевич и Сарра. Надо сказать, что этот рассказ о русском купце, исповедующем иудаизм, производит сильнейшее впечатление. Не только неукоснительным соблю-
45
дением традиции, но и щедростью в пользу несчастных солдатиков. Это для них "мицва", доброе дело. Последним напутствием было: "Смотрите, ребята, держитесь за нашу святую веру; не льститесь, если вам кто-либо будет сулить богатство; не льститесь на чины, не верьте кумирам, а продолжайте верить в Бога Авраама, Исаака и Якова"109.
Обратим внимание на некоторое разделение между "герами" и "субботниками", делаемое рассказчиком, хотя понять разницу из текста затруднительно — "это гейрем", а это "субботники, которые тоже с любовью нашу веру..."
Но не только крестьяне принимали иудаизм. Среди высших сословий также происходили духовные драмы, кончавшиеся зачастую трагически. В одной из киевских молелен Оскар (Израиль) Осипович Грузенберг познакомился с интересным человеком. Было это в начале 80-х годов прошлого века: «За время хождения три раза в день в молельню я познакомился с гвардейским офицером, перешедшим в иудейство. Между нами установилась близость, насколько она возможна между подростком и пожилым, лет пятидесяти, человеком. Жил он в молитвенном доме, ел, что дадут; спал на узкой скамейке без подстилки. Целые дни проводил в молитве и в чтении духовных книг на древнееврейском языке. Знатоки говорили, что знал он этот трудный язык в совершенстве.
Евреи чтили его за святость, но тяготились им: того гляди, пришьют тебе совращение в "жидовскую ересь".
Раз как-то он задержал меня после вечерней молитвы и предложил пройтись по двору. Заговорил смущенно о себе.
Был он офицером одного из гвардейских полков. Служил хорошо, с товарищами жил дружно, хотя часто пропускал их веселые собрания. Потом вдруг заскучал: странная, мол, профессия, — всю жизнь готовиться к истреблению тебе подобных. Принялся за Евангелие и удивился: как этого раньше не заметил, — оно почти сплошь состоит из цитат из Ветхого Завета и пророков. Даже трогательная католическая отходная "Де профундис" скомпонована из творений пророков.
Тогда он принялся за изучение древнееврейского языка.
В полку нашли, что он слишком чудит и предложили подать в отставку. Командир сообщил о нем, куда следует и не следует. Стали к нему являться для увещания священники. Потом заточили его в монастырь. Тут он обозлился: каждый день брал его в переделку то один, то другой наставник. Один раз дошло до того, что схватил со стола нож — и со словами "не сдвинете", отрубил себе палец. Его освободили.
Так в поисках правильной веры дошел он до самозаточения в бедной еврейской молельне.
46
Много лет спустя, когда я читал "Отца Сергия" Толстого, вспомнил "жидовствующего " гвардейского офицера и подумал, не он ли послужил прообразом.
Однако остановило соображение, что мой милый собеседник не способен на то свинство, какое Толстой приписал своему подвижнику»110.
Думается, что Грузенберг и прав и не прав. Толстой вполне мог взять свой сюжет не из "Искушения св. Антония" Густава Флобера, а из жизни русского гвардейского офицера, но правила творчества и, возможно, нежелание касаться итога духовного поиска героя перевели финал рассказа в иное русло.
Большие поселения субботников находились в Закавказье, в Ленкорани. Исследователь Кавказа специально оговаривает проживание субботников в этом крае. Основание этих поселений он связывает с именем графа Аракчеева, препроводившего в 1818 г. министру народного просвещения и духовных дел жалобы "однодворцев" Воронежской губернии на притеснения, "делаемые им за исповедование Моисеева закона". Указом от 23 июня 1820 г. всех субботников г. Екатеринославля с семействами сослали в Кавказскую губернию. В течение пяти-шести лет они заселили места около Кизляра, Кубы, Нухи, Шемахи, Шуши, Ленкорани, Нахичевани, Ордубада и др. Чтобы еще больше усилить поток русских переселенцев-субботников по предписанию корпусного командира на Кавказе барона Розена им выдавали паспорта для свободного передвижения и торговли по всему Закавказью, оставляя запрещение для Кавказской области. Уникальный случай в русском законодательстве! Указ об этом был подписан 4 апреля 1837 г.
О жизни субботников в Закавказье есть выразительное свидетельство: "Свобода передвижения, сравнительно слабый надзор, относительное приволье, предприимчивость и трудолюбие сектантов много способствовали развитию торговой жизни Закавказья, а с тем вместе усилили их пропаганду. На Кавказской линии, около города Александровска, почти все население и даже казаки были совращены субботниками в раскол. Военные власти остановили распространение иудейства, зачислив всех жителей в Хоперский казачий полк и учредив над ними военное управление. Ввиду этого, новых переселенцев-субботников приказано было селить вдали православных, учредив над ними самый строгий надзор. Большинство их заселилось в Ленкоранском уезде, группируясь в селениях Привольном, Пришибе, а также в самом форштадте города Ленкорани"111.
Мы имеем еще два чрезвычайно интересных свидетельства об их жизни. Первое принадлежит перу известного этнографа
47
и писателя С.В. Максимова (1831—1901). Второе — известному писателю и правительственному чиновнику Всеволоду Крестовскому.
Максимов обстоятельно описывает жизнь иудействующих в Ленкорани. Он подробно останавливается на разногласиях между субботниками и герами. Первые признают лишь Священное Писание, тогда как вторые полностью слились с еврейством. Ходят, впрочем, они в одну синагогу. Отпадений от секты нет, наоборот, молокане переходят к субботникам. Материально иудействующие живут очень хорошо. Новое поколение геров старательно учит древнееврейский язык. Собеседники поразили этнографа многообразием знаний, начиная со сведений о гонениях на евреев в римскую и позднейшие эпохи. Этот поиск истины в древнейшей истории был несомненен и искренен. Молодое поколение, выросшее вне религиозных гонений, словоохотливо и бойко, чем разительно отличается от православных сверстников, деревенских увальней. Все они грамотны, читают как по-русски, так и на древнееврейском языке. Писатель восхищается трудолюбием и опрятностью сектантов. Субботники трудятся не покладая рук на пашне: "...они устойчивее и старательнее соседей в обработке пашен". Они занимаются садоводством, выделывают вино ("была бы чистая посуда"), занимаются табаководством, печным ремеслом, хлебопечением. Как и евреи в средние века, они сталкиваются с конкуренцией армян (средневековые еврейские хроники называли армян амалеком), но и с этим они справляются. Максимов утверждает, что Моисеев закон не вытравил из них русского духа: "Сколько в субботников не вглядывайтесь, сколько к ним не прислушивайтесь, это — простые русские мужички с теми же слабостями и с теми же доблестями, что и в России. Имевшие с ними дела говорят в одно слово, что это — честные торговцы, с которыми приятно вести всякое, самое крупное, дело"112. При этом следует заметить, что сектанты довольно часто вступают в "смешанные" браки, что приводит к совершенно неожиданным результатам. В Харькове произошел следующий случай: «В одной из хирургических лечебниц скончалась после сделанной операции молодая женщина, привезенная с Закавказья. С больной приехали ее родители и муж, люди чистейшего великорусского типа и зажиточные, хотя и "простые" по платью и обращению. Когда оперированная умерла, возник вопрос, совсем неожиданный, кому именно ее хоронить: православным или евреям? Родные умершей настаивали на погребении ее евреями, так как она субботница, но замужем была за молоканином, а известно, что между той и другой сектой огромная разница в их
48
вероучении. Субботники нисколько не отличаются от иудеев как по основным религиозным догмам, так и бытовому складу своей жизни, исполняя все обрядности и предписания талмудистов. Молокане же, как известно, представители одной из форм христианского рационализма. Смешанные браки, стало быть, среди сектантов факт существующий. Еврейское погребальное братство, к которому обратились родные умершей молодой женщины, категорически отказались хоронить на своем кладбище "Субботничиху". Но в дело вмешалась полиция, которая засвидетельствовала принадлежность умершей к данной секте. Евреи похоронили покойницу на своем кладбище, с соблюдением всех еврейских обрядов, но в совершенно изолированном от других могил месте».113
Всеволод Крестовский посетил Закавказье в 80-х годах прошлого века. Зачин, которым начинается рассказ, чрезвычайно важен. Встреченный им старик-молоканин говорит о местности, где их поселили: "Тут нам всем вольготно... за веру никто не утесняет: молись, кто как хочет — запрету нет, не то что в Рассее"114. Субботники сосредоточились в четырех пунктах Ленкоранского уезда: в подгородной Ленкоранской слободе (сплошное поселение), в селе Привольное (сплошное поселение), в местечке Ассулы они занимают восточную часть села (другая заселена туземцами), в селении Пришиб, занимая его южную часть. К чести автора "Тамары Бен Давид", он дает в общем объективную картину их житья-бытья. Во-первых, Крестовский имеет смелость называть вещи своими именами: субботники не могут называться в строгом смысле слова сектантами: они «просто русские Моисеева закона. Они всецело держатся еврейской религии, не признавая вовсе Нового Завета; имеют свои синагоги, устроенные совершенно по еврейскому образцу; собираются на богомоление совместно с настоящими евреями; при утренней молитве ежедневно надевают себе на лоб "шел рош", а на руку "шел яд" и покрываются "талесом"; всегда носят "цицес", голову покрывают ермолкой или сидят дома в шапке, — словом, исполняют все то, что предписывается евреям Второзаконием, и настолько — насколько эти древние постановления вообще могут быть применимы в современной еврейской жизни и быту»115. Этот репортаж был поначалу опубликован в "Московских ведомостях", где всезнающий Крестовский сделал сноски, объясняющие странные наименования "шел рош" или "шел яд". В "Истории одного мифа" я уже писал, что Всеволод Владимирович неплохо знал идиш, тщательно изучал еврейский быт и религиозную жизнь еврейства. Вот, например, объяснение слова "талес" — "белое шерстяное покрывало с темно-синими кай-
49
мами, вроде савана, в которое облекается при утренней молитве каждый совершеннолетний женатый еврей и которое надевают на него в последний раз после смерти, при снаряжении тела к погребению. Этот талес каждый еврей уносит в могилу"116. Далее Крестовский разбирает разницу между герами и субботниками. Первые строго соблюдают все еврейские обряды и обычаи, включая празднования субботы, йом-кипура, юбилейных годов, а также требований кашерности ("кошер" и "треф" — поясняет автор). Ради последнего община содержит "шохетов", "маргишей" и "менагров". И вновь идет пояснение: "Резники и специалисты, определяющие годность или негодность (кошер или треф) мяса в пищу евреям и достоинство резничьего ножа"117. Вторые же только соблюдают субботу и не едят свинину — этим и исчерпывается их иудаизм. Жидовствующие "ортотодоксалы" — русские Моисеева закона, относятся к ним, как к заблудшим братьям, не отвергают их и допускают молиться в своих синагогах; захоронения производят на одном кладбище и даже своих "девок" выдают замуж с непременным условием полного соблюдения кашрута. Но обе ветви жидовствующих в области религиозных воззрений признают истинным исключительно Закон Моисея, ожидают прихода Мессии и восстановления Иерусалимского храма и царства, которое будет "истинным царствием Божием на земли", "царствием будущего века".
С соседями иудействующие живут мирно, кроме первого времени, когда новые поселенцы работали в поле с винтовками за плечами, ожидая нападения мусульман. Основное их занятие — земледелие, жители окраин Ленкорани занимаются садоводством, огородничеством, различными ремеслами. Все они законопослушные граждане, исправно платящие налоги и беспрекословно исполняющие общественные повинности.
Среди "истинных" субботников (так называют себя ортодоксы — геры) встречаются люди, знающие древнееврейский язык, учившиеся от заезжих учителей "меламедов". В браки геры вступают не только между собой, но и с "настоящими" евреями, которые живут в небольшом количестве при каждом субботническом поселении. Они-то в основном исполняют роль раввинов, меламедов и резников. Еврейки, выходящие замуж за субботников, одеваются, как русские бабы, в сарафаны и дома с детьми и мужем говорят по-русски. В свою очередь и "кровные" евреи любят родниться с герами, это у них считается "шиком высшей марки". Женятся на субботницах и очень богатые евреи, которые для этого специально ездят в Ленкорань из Тифлиса, Одессы и даже Варшавы! Далее следует рассказ о закавказском богаче Круцкопфе, купце и домовладель-
50
це. Всеволод Владимирович не выдерживает беспристрастного тона, автор "Торжества Ваала" в примечаниях объясняет странную фамилию — она в переводе значит "чесоточная голова". Дети от этого брака говорят только по-русски, и мадам Круцкопф перевернула всю жизнь своего мужа на русский лад, кроме, оговаривается Крестовский, религиозного обряда. Жизненный уклад у субботников — русский, повторяется автор, но религиозная сфера — иудейская. Молятся они по Библии в русском переводе и по русско-еврейскому молитвослову — "сидуру" г. Гуревича. (Здесь Крестовский ошибается: вероятно, речь идет о книге О.Я. Гурвича "Еврейский молитвослов, впервые переведенный на русский язык" (Вильно, 1870). Важно знать, какой литературой пользовались иудействующие.)
Жилища субботников приспособлены к жаркому климату Ленкорани и ничем не отличаются от собственно русских домов, за исключением одного: на каждом косяке дома прибита "мезуза", заключенная в футляр. Идет объяснение Крестовского: "Свернутый кусок пергамента или бумаги, на коем написаны известные стихи из Второзакония. Мезуза имеет назначение охранять жилище еврея ото всякой нечисти и напоминает входящему в дом об Иегове и законе. Поэтому каждый входящий обязан прикоснуться к ней рукой"118. Особенно ценятся мезузы, подаренные заезжими "святыми" еврейскими раввинами или ламданами (учеными) за возданное гостеприимство. В переднем "красном" углу субботнической комнаты стоит "орн кодеш" или "кивот", род настенного шкафчика, задернутого занавеской, называемой "пераухес" (материя темно-синего цвета, а у состоятельных и парчовая, на которой нашита шестиугольная звезда и пояснение: два равнобедренных треугольника, сведенные в одном общем центрами и обращенные вершинами в противоположные стороны, вверх и вниз — мистический герб или эмблема еврейского царства). В "кивоте" хранится русская Библия без Нового Завета, Псалтирь и молитвословы. У некоторых хранятся, как можно судить из текста, "Пиркей Авот" и переводы из Агады ("дидакто-анекдотическая и легендарная часть Талмуда"). Но самое главное, высшая гордость, если в доме имеется рукописный пергаментный свиток Торы (Пятикнижия) на древнееврейском языке, с обязательным свидетельством за печатями и подписями известных раввинов, что священный свиток исполнен без малейших ошибок, описок или подчисток. Опять пояснения: «иначе он был бы "пусл" негодный». Далее Крестовский склоняет голову перед силой веры: "Подобные свитки почитаются у ортодоксальных субботников высшею и единственною их святыней, и у кого есть таковой, там уже он составляет гордость семьи,
51
хранится в шелковом футляре, завернутый в пеленах, как великая редкость, и передается из поколения в поколение по наследству в смысле самой священной и драгоценной части фамильного достояния. Зажиточные люди нередко платят очень большие деньги за выписку себе из Западного края или из-за границы такого удостоверенного свитка. Чтобы сколотить достаточную сумму на его приобретение, субботники зачастую отказывают себе и семье во многом из самого необходимого, постятся, не шьют новой одежды и обуви, продают хлеб и все домашние продукты, оставляя себе в обрез лишь то, без чего уж решительно нельзя обойтись"119. Этот религиозный восторг и преданность, ощущаемая самим Крестовским, остаются без разъяснения. Откуда и почему эта преданность Ветхозаветному Израилю?
Далее Всеволод Владимирович переходит к деталям, которые вовсе не снижают образа трудолюбивых субботников. Понятно, что попутно шпыняются еврейчики, делающие "гешефты" на продаже свитков своим собратьям по вере.
Хоронят субботников по еврейскому обряду: без гроба, заворачивая в саван, "смертную рубаху" (китель). Надмогильные памятники — вертикальные, общееврейской формы, с надписями на двух языках — русском и древнееврейском.
Среди субботников есть и прозелиты, которым общество сообща ставит дом и вообще помогает изо всех сил. Крестовский считает прозелитов неудачниками, переходящими в иудаизм из-за нужды. Хотя описание помощи неофиту скорее говорит о высокой степени взаимопомощи, чем о принуждении: «Иудействующие считают... своим долгом всячески поддержать на первых порах неофита и нравственно, и материально: помогут ему и избу поставить, и поле обработать, и зерна на засев дадут, обрядят и хозяйство, пожертвовав кто чем может, — один принесет "на новоселье" миску, другой ведро, третий горшок, четвертый барана пожертвует — с мира по нитке, голому рубаха; и этот голый, гляди, чрез несколько месяцев стал порядочным хозяином, может жить с семьей не нуждаясь, впереди есть для него и просвет и надежды, но увы! — все это приобретено на счет не легкой сделки с собственной совестью, ценой вероотступничества...»120. Особенно следует подчеркнуть, что приведенные выше описания принадлежат автору романа "Тамара Бен Давид", в котором описывается история перехода еврейки в православие, рассуждается о всемирном еврейском заговоре и т. п. Но тем не менее с такой полнотой субботнический быт не был описан ни одним этнографом или писателем. Крестовский, хотя и предвзято, но талантливо описал то, что увидел.
52
На начало XX в. ересь была широко распространена в следующих губерниях: Иркутской, Новгородской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Екатеринославской, Астраханской, Ставропольской и почти во всех губерниях Кавказа и Закавказья, а также в Тверской, Кубанской и Донской областях121. Список губерний неполный, ибо "субботники" проживали и в столичных губерниях — Московской и Петербургской.
По переписи населения 1897 г. общее число старообрядцев и сектантов определяется цифрой в 2 137 738 человек. Исследователь сектантства А.С. Пругавин убежден, что это число значительно занижено. Цифра вообще не дает представления о степени распространения раскола в России. А.С. Хомяков в свое время определял всю раскольничью массу как равную по численности населению Испании. А.С. Пругавин на основании официальных и полуофициальных источников называет невероятную цифру — 20 млн человек!122 Книга Пругавина вышла еще до революции 1905 г., и, конечно, он должен был оглядываться на церковную и государственную цензуру. Тем поразительнее приведенные факты. Мы же можем задать вопрос: "Какова же была численность иудействующих?" Официальные данные ни в коей мере не соответствуют действительности. Они оперируют в лучшем случае десятками тысяч человек. Вспомним 11-й пункт инструкции от 3 февраля 1825 г., касающийся как раз сокрытия истинного числа иудействующих: сведения требовалось собирать тайно — по лексике инструкции — "со всею возможною скромностью". Вспомним и тайного субботника Аггея Касьяновича, выдавшего себя за старовера. Сколько же было этих странных маранов новейшего времени? Писатель С.А. Анский, интересовавшийся русским субботничеством, слышал от одного иудействующего следующее: "А, между прочим, нас, геров, ведь не мало будет. Почитай, по одной Волге с полмиллиона (?) душ наберется..."123 Авторский вопросительный знак не убеждает. Счет субботникам шел на сотни тысяч. Другое дело — их идентификация по паспорту. Если исследователь сектантства увеличил официальную цифру в 10 раз, то такое же увеличение субботников приведет нас к тому же числу — сотни тысяч. Один из авторов Воронежских епархиальных ведомостей договорился даже до того, что жидовствующие размножались так быстро, как "некогда Евреи в Египте" — ценное свидетельство из другого лагеря!124
Возникает, впрочем, один из самых сложных вопросов. Почему русские люди, известные своим религиозным консерватизмом, переходили из "стана ликующих" в стан "униженных и оскорбленных"? Этот вопрос не давал покоя ревнителям ве-
53
ры, правительству и Синоду. Утверждение, что их "прельстили" в иудаизм, "сманили" в жидовство, что они вошли в "соблазн" или даже были "совращены" — мало вразумительны. Если только не обратить внимание на почти фрейдистскую лексику. Попытки объяснить рациональностью поступки сектантов, в конечном итоге, мало что дают. Прислушаемся к голосу одного из первых исследователей русского сектантства С.В. Максимова, который удивляется переходу в иудаизм, к которому никто не принуждает: это не насильственная ассимиляция (по Максимову — "подделка") и не корысть. "Там, где подделка под чужую национальность затребована корыстными целями и для них необходима, в ней мы не видим ничего удивительного. Там, где для этой подделки нет благоприятных причин и она переходит в подражание при безвыходности, мы также не найдем ничего странного. Подивимся другому явлению, когда все причины его находятся вне всяких вероятных явлений, когда они не экономические, не географические, не климатические — никакие. Нет изолированного, безвыходного положения, среди одной и той же и все чуждой народности; нет и того сильного рычага деянии человеческих, каково искание корысти, материального обеспечения, денежного обогащения. Есть даже для русского человека кое-что из неприятного ему, несочувственного: вера, несходная с той, за которую он кровь проливал и теперь пролить не задумается; есть и при этом народ, и у русских людей находящийся в каком-то подозрении. Между тем, больше двух тысяч русских семей (речь идет о закавказских герах и субботниках. — С. Д.) стремятся уподобиться этому народу, считая для этого лучшим средством его веру, и подчиняют ей свои житейские обычаи и отечественные привычки. Для этих людей Евреи стали идеальным народом (курсив мой. — С. Д.), Ветхий Завет исключительным руководством в вере и жизни. Притом же эти люди стали так думать и так поступать не там, где ютится гонимое племя, не в тех местах, где оно пустило глубокие корни; напротив, пошли русские люди в еврейскую веру в тех местах, где все тому противодействовало: евреям воспрещено было постоянное жительство... Как бы то ни было, факт совершился. Русский человек самым делом доказал сочувствие к угнетенному и презираемому племени и принял его веру... (курсив мой. — С. Д.). И, принявши Закон Моисеев, естественным образом должен был подчиняться и предписаниям этого закона: к народным обычаям своим примешал он еврейские и стал сознательно стремиться к тому, чтобы сделаться совершенным евреем"125.
Очерк 2
АПОСТОЛ
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ЛЮБВИ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
Николай Сазонтьевич (Созонтьевич) Ильин (1809 или 1812—1890), "солдатский сын", отставной штабс-капитан артиллерии, был внебрачным сыном русского генерала, судя по всему, шведского происхождения, Владимира Григорьевича Паткуля (умер в 1855 г.), ревельского коменданта и члена генерал-аудиториата, потомка знаменитого Иоганна-Рейнгольда Паткуля — героя Северной войны, казненного Карлом XII. Мать — полька-католичка, Тенчинская. "Номинальный отец", узнав об измене жены, оскорбил генерала и был разжалован в солдаты. Далее его следы теряются. Детство Николая было безрадостным. Жил он с матерью, отца не знал. Хотя, по-видимому, генерал как-то все-таки помогал "соломенной вдове". Его крестили в православную веру и первым его учителем был сельский дьячок, дальнейшее образование он получил в Полоцком иезуитском колледже. В 1832 г., числясь военным кантонистом, Ильин поступил в учебную артиллерийскую бригаду. В качестве вольнослушателя он посещал офицерские классы Михайловского артиллерийского училища в Петербурге (впоследствии преобразованного в военную академию), для того чтобы получить первый офицерский чин прапорщика. В училище обратили внимание на его талант и усидчивость, и ему было предложено написать руководство для действий артиллеристов "на берегу и на море". Его техническое образование, как ни странно, отразилось в его будущих богословских
55
трактатах, например, говоря о трех главных событиях в Мире — он называет их тремя бомбами Божьей Артиллерии1. В 1834 г., довольно поздно, в 26 лет он был произведен в прапорщики, женился (жена — Ольга Евстафьевна Тиде, протестантка) и получил назначение в Юго-Западный край. Жизнь в маленьких местечках, при всех ее минусах, заставила Ильина сосредоточиться, и он усиленно занялся самообразованием. В это же время вышла первая часть его "Руководства", которая вызвала восторженный отзыв редактора морского журнала "Маяк", корабельного инженера и писателя, впоследствии генерал-лейтенанта С.А. Бурачека. Он назвал автора настоящим ученым, предрекая Ильину мировую славу. Этот успех окрылил Николая Сазонтьевича, но тем удивительнее, что он вскоре оставил навсегда военные занятия — причиной этого стало духовное перерождение. И не исключено, что к тому подтолкнуло его тесное общение с еврейством, составлявшим весомое большинство местечек Юго-Западного края.
Ильин болезненно переживал свое положение незаконнорожденного. Вероятно, русская поговорка "Иван, не помнящий родства" была для него не пустым словом и толкнула его на поиски всеобщего братства. С откровенностью, не свойственной тому времени (вспомним историю А. Фета — Шеншина) и вызывающей ассоциации с "Исповедью" Жан-Жака Руссо, он писал впоследствии: "Так как я не мог узнать, от какого народа я зародился, то и стал признавать всех людей за родных моих"2. Увы — "родные" даже не предполагали наличие нового родственника, они были далеки от идеи всемирного братства. Мысль Николая Сазонтьевича обратилась в сторону создания общего языка. В какой-то степени он стал предшественником Лазаря Заменгофа, создателя эсперанто. В журнале "Маяк" в 1842 г. была помещена "Общая азбука в природе человека" (полное название "К пополнению житницы истинного просвещения, первое зерно человеческого знания, умовый (т. е. теоретический. — С. Д.) взгляд на общую азбуку в природе человека"). Это была попытка преобразовать русскую азбуку, приблизив ее к другим народам, и попытаться объединить человечество посредством общего языка. И это было, как мы бы сказали, малым практическим делом. В предисловии к труду он рекомендовал соединение веры и науки. (Но даже эта попытка создания общего языка, с точки зрения ортодоксии, есть покушение на волю Всевышнего, есть богоборчество — ибо разделение произошло по Его решению: "И сошел Господь, посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того,
56
что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле..." — Быт: 2, 5 — 7.) Несравненно более решительно Ильин приступил к реформации духовной жизни. На русской почве он стал предшественником Владимира Соловьева в попытке создать единую религию для всего человечества. По его мнению, не было более крепкого связующего звена между народами, чем религия, и, конечно же, именно православие должно лежать в основании единения. С точки зрения Ильина, он сам идеально подходил для диалога с другими конфессиями. Напомним, что сам Ильин был крещен в православие, но мать его была католичкой. Несмотря на сыновние чувства, Ильин относился к католицизму с недоверием — его юность совпала с польским восстанием 1831 г. и с антипольской истерией, которой поддались многие. (Как ни странно, полонофобию Николай Сазонтьевич сохранил до конца жизни.) Женился Николай Сазонтьевич, как мы говорили выше, на лютеранке и стремился к полному духовному единению как с ней, так и со всем человечеством. Единению мешала разность религий — и он хотел слияния всех религий в единую истинную, конечно же, православную. Борьбу за единение религий он начал своеобразно. Прежде всего он отправился в синагогу, которую стал посещать очень усердно, вступая в богословские споры с раввинами. Как тут не вспомнить древнего благочестивца митрополита Киевского Илариона (XI в.), который дискутировал с евреями, что и было зафиксировано в "Слове о законе и благодати". Некоторые ученые даже считают Илариона крещеным евреем. В летописях Нестора можно прочитать и о преподобном Феодосии, игумене киево-печерском, современнике князя Изяслава Ярославича (1036—1074). "Тайком" и переодевшись, он каждую ночь приходил отчаянно спорить с евреями в их квартал. За восемь прошедших столетий был достигнут прогресс — дискуссии Ильина происходили вполне легально. Он вел с раввинами беседы о вере, доказывал преимущество православия над иудаизмом, добиваясь компромисса, который бы помог ему осуществить его мечту о единении церквей. Из этого, впрочем, ничего не вышло, но обращение Ильина к еврейству сыграло громадную роль в становлении его взглядов — он освоил древнееврейский язык и глубже окунулся в книжный, ветхозаветный мир, основательно изучил догматы православия. Нам кажется, что он внимательно проштудировал и некоторые еврейские книги, в первую очередь "Сефер ха-берит", принадлежащий перу Пинхаса Илии Гурвича (умер в 1821 г.). К этому мы еще вернемся.
57
Ильин имел предшественников. Речь идет о человеке необычной судьбы, прошедшем путь от рядового донского казака до гвардейского полковника, командора Мальтийского ордена, погибшем под кнутом палача в возрасте 30 лет. Это — Евграф Осипович Грузинов. 12 августа 1800 г. он был арестован. При обыске у него нашли черновик на трех листах — политическая программа по переустройству абсолютистского государства, где определялись принципы разработки законов, провозглашались "почти демократические" свободы и иные, обновленные, социальные отношения. Исследователи пишут, что Грузинов не придерживался твердых религиозных правил, "у исповеди и святого причастия лет шесть не был". Однако разнородность конфессий его беспокоила: из-за различий в "рассуждении вер" возможен был "разлад". Чтобы укрепить "во всех согласие единодушное", было предложено принять "такое наставление, которое бы никогда не произвело вражды между людьми"3.
Что же касается Ильина, то в своей миссионерской деятельности на семейном фронте он преуспел — жена приняла православие. Он был уверен, что произошло чудо, что сам Всевышний вмешался в его судьбу. О своей победе он написал пространное письмо в знакомый нам уже журнал "Маяк", а сам все более и более погружался в мир мистики, обратившись к изучению западного мистического опыта. Большим подспорьем в этом оказался журнал "Сионский вестник", издававшийся в начале века (1806—1807, затем 1817—1818, закрыт из-за доносов) масоном и мистиком А.Ф. Лабзиным (псевдоним, Феопомент Мисаилов). Усилия Ильина, духовное напряжение привели его к глубокому внутреннему перелому, следствием чего стало основание им новой религиозной секты. Его отпадение от православия не было внезапным. Поначалу он выступил против авторитета церкви. В свое время выступление против церкви послужило формальной причиной закрытия "Сионского вестника", несмотря на посвящение его Господу Иисусу Христу и покровительство, оказанное Лабзину его личным другом министром народного просвещения кн. А.Н. Голицыным. Идеал "Сионского вестника", воспринятый Ильиным, — "интимное общение с Всевышним", любовь к Нему и любовь к ближнему, широчайшая веротерпимость. Напомним, веротерпимость А.Н. Голицына и его приятеля была весьма относительной. Ими было создано "Общество израильских христиан", целью которого было присоединить к христианству (не обязательно к православию) евреев. Все это очень подходило Николаю Сазонтьевичу, который, вероятно, вошел в религиозный экстаз, вылившийся в непрестанные молитвы и мольбы
58
получить от Всевышнего откровение. И однажды утром Ильин проснулся просветленным и радостным: во сне ему открылось, что сущность христианства — в любви. И посему православие, бывшее прежде для него "единой истинной религией", стало отныне предметом отрицания и настойчивых, жестоких и упорных нападок.
СОЗДАНИЕ "ДЕСНОГО БРАТСТВА"
Отрицание православия произошло у Ильина под сильнейшим влиянием мистической литературы XVIII в., а особенно работы Иоганна Генриха Юнга-Штиллинга "Победная повесть веры христианской" (1799), направленной против католицизма. Идея Штиллинга о том, что господствующая церковь никогда не являлась носительницей христианства, а была его гонительницей, и толкование Апокалипсиса, обещавшего спасение сохранившим истинную веру, были взяты на вооружение Ильиным. Задача Ильина, как он ее понимал, заключалась в том, чтобы вернуть церкви первоначальную апостольскую простоту. Уверившись в том, что на нем почила благодать Господня, Николай Сазонтьевич приступил к созданию "Десного братства" и к написанию "Сионской вести" — первого и наиболее значительного своего труда. Обратим внимание на то, что писатели-мистики придавали большое значение числам и математическим фигурам, пытаясь передать ими отвлеченные понятия. Все это, очевидно, заимствовано у Пифагора, через Платона и "Отцов церкви" дошло до начала XIX в. и признавалось "остатками Божия подобия и отдаленного знакомства с Иудейскими таинствами, заключенными в Библии". В том же "Сионском Вестнике" Ильин мог почерпнуть и следующее: "Напрасно философские умы напрягали все силы, чтобы оспорить Моисеевы книги, — все покушения их оказались тщетными: доказано, что Индейския и Китайския древности не простираются далее времени Соломона. Мудрые всех времен явно почерпали учение свое от рассеянных всюду Иудеев"4. Математика была профессией Ильина, и понятно, что тайное притягивало его. Тем паче, что такое высокое отношение к иудейскому закону и народу, избранному и сохраняемому вопреки логике, привлекало его, ибо лежит на нем "печать особливого промысла о нем Божия". А отсюда не может не исполниться обещанное спасение Божие Аврааму, Исааку и Иакову,
59
подтвержденное и Новым Заветом: "Итак не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока не войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано: приидет от Сиона Избавитель и отвергнет нечестие от Иакова" (Рим: 11, 25—26). Эти слова апостола Павла Ильин принял к действию.
С внешней стороны его жизнь изменилась — к этому времени он покинул Юго-Западный край и переехал поначалу в Оренбург, а затем на Урал, в Екатеринбург и, наконец, начал работать в Пермской губернии приемщиком артиллерийских снарядов на Уральском Баранчинском казенном заводе. (Напомним о том, что в Пермской губернии староверческое население было достаточно многочисленным.)
На Урале круг близких Ильину людей поначалу состоял из его родственников. Вообще при изучении истории сектантства обращает на себя внимание такая тенденция: харизматическая личность поначалу действует в узком семейном кругу, лишь постепенно расширяя поле деятельности. Вспомним первых христиан: Мария, мать Иисуса, и Елизавета — сестры, следовательно, Иоанн Креститель и Иисус — двоюродные братья, плюс к этому первый епископ Иерусалима Яков — брат Господа. Из семейного кружка Ильина и было образовано "Десное братство", вероятно, около 1850 г. (до Крымской войны). Старославянское название "десное" ("десный" — правый, праведный) было дано, чтобы подчеркнуть, что уверовавшие в обновленную религию будут на Страшном суде сидеть по правую сторону от Всевышнего, т. е. на месте праведников. Неуверовавшие же обречены стоять на противоположной, левой стороне — "ошую". Естественно, что по аналогии они будут называться "ошуйными".
Итак, первыми членами братства стали, кроме Ильина и его родных, несколько ближайших друзей — подпоручик корпуса лесничих Нижнетуринского завода Александр Степанович Лалетин и полицмейстер Николаевского оружейного завода титулярный советник Капитон Александрович Протопопов (сын священника, учившийся в пермской семинарии, в свое время преподававший латинский язык в том же училище), а также школьный друг Протопопова — коллежский асессор Иван Иванович Будрин, который жил при Екатеринбургском женском монастыре, занимался монастырским делопроизводством и имел репутацию примерного и благочестивого христианина. Обратим внимание на первых неофитов: выражаясь современным языком, они принадлежали к технической интеллигенции, относились к среднему слою, и —
60
самое любопытное — часть сектантов получила религиозное образование.
Первый кружок собирался исключительно для обсуждения религиозных вопросов, а после написания "Сионской вести" — для ее чтения и изучения. Считается, что примером для членов "Десною братства" послужили общины первых христиан, главными заповедями которых были преданность Богу, деятельная любовь к ближнему, нравственная и физическая чистота. Это лишь условное предположение. Сам Ильин слишком хорошо знал историю христианства, а посему идеалом ему должны были послужить течения в иудаизме, оказавшие влияние на формирование новой религии, в первую очередь — ессеи. Но и в современном ему мире, находясь в постоянных контактах с еврейским населением, Ильин увидел в Юго-Западном крае существование многочисленных "хеврот" — братств, союзов. В книге печально известного Я. Брафмана "Еврейские братства, местные и всемирные" довольно подробно рассказана история данного вопроса, правда, весьма предвзято. Автор утверждает, что "ныне почти нет ни одного Еврея, который бы не считался членом какого-либо братства"5. Исторически наиболее распространенными союзами были благотворительные братства, включающие такие организации, как братство по выкупу пленных — "Хевра кадиша" (переводится как святое или погребальное братство), действующее и поныне. Существовало и братство "странноприимства", занимающееся размещением гостей, нуждающихся в ночлеге.
"Десное братство" впитало в себя многие элементы из деятельности этих союзов. Так, например, общность имущества, по Ильину, не требовалась, но каждый должен был делать еженедельные вклады в общую кассу для помощи нуждающимся сочленам — точная копия правил еврейских содружеств. Излишняя роскошь в одежде и в обстановке осуждалась. Для наблюдения за порядком и за кассой выбирался "блюститель". Братья и сестры "Десного братства", нарушившие правила, подвергались тем или иным наказаниям в зависимости от вины. В серьезных случаях нарушителей изгоняли из содружества. В "Сионской вести" перечисляются пункты, по которым происходит отлучение. Они делятся на три разряда: проступки против веры, против нравственности и против доброго братского отношения как к своим "десным", так и к "ошуйным". Самыми страшными грехами считаются измена братству, разглашение его тайн и противоестественный разврат. От этих пунктов веет суровым духом Ветхого Завета. Виновные в этих грехах не только отлучаются, но после смерти их тела "предаются на сокрушение Сатане". В ру-
61
ках историков имеется книга (форма) сбора штрафов общины "Десного братства":
|
Номер |
Такой-то месяц, день |
Часть дохода |
Поклоны |
|
1
7 |
Нечаянно произнес имя Господа всуе
Не молился богу о болящих, скорбя- щих, или отправившихся в путь брать- ях и сестрах |
1/10
1/10 |
10
10 и т.д. 6 |
Собственно, новое сектантское учение испытывало сильнейшее влияние идеи Н.С. Ильина о создании новой религии, должной поглотить все другие, стать "общечеловеческой религией любви", объединить все человечество. В наше время, когда экуменическое движение достигло известного развития, Ильину бы нашлось почетное место среди его адептов.
Однако постепенно произошла метаморфоза — земная жизнь оказалась уже малой для претворения его идей. Идеалом стала вечная жизнь, бессмертие, которые можно завоевать лишь пренебрежением к земным интересам. Страх смерти, телесного уничтожения оказал на религиозную мысль Ильина сильнейшее влияние. Не забудем, что он был старшим современником философа Н.Ф. Федорова (1828—1903), создателя теории о возможности физического воскрешения людей ("Общее дело")7. Сам Ильин с убеждающей откровенностью рассказывает, как он во время эпидемии холеры, видя вокруг себя гибнущих людей, в отчаянье и страхе взывал к Богу, моля Его указать ему путь спасения и достижения бессмертия.
Мы остановимся на теологическом аспекте деятельности и проповеди Ильина лишь в связи с его влечением к иудаизму. Мечта о вечности, безначальной и бесконечной, приводит его к следующему силлогизму: так как достижение вечной жизни возможно, по мнению Ильина, лишь тогда, когда исполнятся слова апостола Павла: "Не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей... что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников" (К римлянам: 11, 25), то следует обратиться к еврейскому народу. Бог не отверг своего избранного Израильского народа, он ждет лишь обращения, карая за упрямый отказ принять посланную ему Новую заповедь. Отсюда задача — привлечь евреев к новой религии, апостолом коей и является Николай Сазонтьевич. Ильин высоко чтит Бога Отца. По Ильину, хозяин всех бесчисленных солнечных систем вверил нашу солнечную систему Сатане, восставшему против Бога Отца, за что был свергнут, и нашу землю в удел получил Иисус Христос.
62
Ильин ставит знак равенства между Богом Отцом и Христом. Христос избрал народ еврейский, который называет Его Богом Израильским, Богом Авраама, Исаака, Иакова. Сатана же сеял вражду между людьми, поэтому Иисус вторично пришел на землю и принес новую заповедь любви. Евреи его не узнали и распяли. Весь мир погрузился в бездну вражды, беззакония и преступления. Сатана торжествует, но час торжества праведных близок. Для того чтобы поддержать праведных, Иисус создал книгу "Апокалипсис", которую написал сам. Отныне все другие книги Евангелия теряют исключительное значение. С точки зрения богословия, книга "Откровение Иоанна Богослова", безусловно, стоит ближе к Ветхому Завету, чем другие книги Евангелия. Будучи "технарем", Н.С. Ильин должен был знать книгу Исаака Ньютона "Observations on the Prophethies of Daniel and the Apocalypse of St. John" ("Замечания о пророчествах Даниила и Апокалипсиса св. Иоанна"), "классический источник по вопросу о смешении безумия с умом", по выражению Н.Г. Чернышевского8. Книга протестанта Ньютона содержит критику Вселенских соборов, которые он рассматривает как результат интриг византийских императоров. В ней подвергаются осмеянию идолопоклонство и почитание святых. С другой стороны, Ньютон пытается "расшифровать" библейские пророчества, предсказания отдаленнейших по времени исторических событий. Это сочетание рационализма и веры было особенно дорого Ильину. Высоко поднимая "еврейство" своего Бога-Христа, Ильин в "Десном братстве" сохранил некоторые установления Моисея. Главнейшие из них: празднование еврейской Пасхи, соблюдение святости субботы и пищевые ограничения. Последнее, вероятно, требовало не стопроцентного соблюдения кашрута, а лишь отказа от употребления свинины. Запрещено было поклоняться иконам и мощам, ибо сказано в заповедях Моисея: не сотвори себе кумира.
Ильин отрицательно относился и к церковной обрядности. На субботних собраниях "десных братьев" совершалась лишь общая молитва. В числе проступков, за которые грозило отлучение от братства, было и неуважительное отношение к евреям; более того — евреев следовало считать избранным народом: "Кто рассеял Израильтян, Тот опять и соберет их и станет пасти их, как Пастырь стадо Свое". Естественным для Ильина было и непосредственное обращение с длинным посланием к евреям, названным им "Увещание иудеям, или мужам Израильским". Понятно, что здесь он уподобляется древним апостолам, обращающимся с посланиями то к римлянам, то к евреям. Среди прочего Ильин утверждал, что он сам — такой же Иудей, как и они, но лишь обрезанный по духу, а не по пло-
63
ти. "Увещание" начиналось следующими словами: «Возлюбленные Живым Богом мужи Израильтяне, мир вам!.. Вы спрашиваете об нас, кто мы такие? Субботники или просто кержаки? Воздавши славу Богу Живому, Единому Богу Авраама, Исаака и Иакова, Богу Израилеву, мы спешим уведомить вас, что мы не субботники, не недельники, не вторничники, не понедельничники и никакие не кержаки, ни из западных, и ни из восточных, и отнюдь не принадлежащие ни к какой вере из всех 666 вер христианских. Мы — Иудеи, обрезанные верою на сердце, т. е. мы верные и непоколебимые поклонники Богу Аврааму духом и истиною, а не наружностию. Мы отвергаем не токмо, что все наипремудрейшие талмуды человеческие, но даже и ангельские, а приемлем и веруем от всей искренности нашей токмо в Единый, Вечнопреложный Закон уст Бога Живаго, в который верили и веруют все святые пророки и все святые Израильтяне... Но вы, может быть, скажете нам: "Вы не можете называться Иудеями, если вы еще не обрезаны по плоти"... На сие мы скажем вам, что это невозможно токмо у человеков, а у Бога все возможно: возможно сотворить не токмо что воду из камня, но и детей Авраамовых, потому что Бог есть Бог, как для обрезанных, так и не для обрезанных. Он милует и благословляет всякого человека, покорного и послушного Ему и трепещущаго пред глаголами уст Его, а всякого противящагося воле Его и повинующагося уставам и законам человеческим, а не Единому Его закону, Он страшно карает и истребляет с лица земли. И если бы люди делались праведниками пред Богом токмо из-за одного обрезания, то вы, Евреи, не были бы рассеяны и не страдали бы такое долгое время в тяжком плену в Всемирном Вавилоне.
И обрезание есть ничто, и необрезание есть ничто, а все спасение состоит в несумнительной доверчивости глаголам Бога и в неколебимой надежде на обещания Его и в искренней любви к Богу и ближнему своему»9.
Далее Ильин утверждает, что все человечество, а не только колена Израилиевы, хотя и не знает своей генеалогии ("родословия"), является потомками Авраама. "Родословие" это знает Господь, и поэтому они не должны лишаться наследия общаго отца Авраама и должны быть участниками "во всех обетованиях Божиих". Н.С. Ильин умоляет "возлюбленных братьев евреев" принять "десных", отложив обрезание до того дня, когда Всевышний "приведет нас с вами ко святой горе Сионской и разместит нас гражданами в Новом граде Иерусалиме". Ильин просит у евреев разрешения именоваться Иудеями, ибо Мессия является спасителем не только 12 колен, но и язычников, уверовавших в Бога Авраамова10. Возможно, в
64
кругу близких Ильину поднимался вопрос об обрезании. Во всяком случае позднее следствие считало, что фельдшера Василия Кардапалова привлекли в общество для совершения обрезания, что, впрочем, не подтвердилось11. Возможно, что Ильин, прекрасно зная церковную историю, пошел по пути апостола Павла, отказавшегося от обязательного обрезания в пользу более широкого распространения своих идей и более длительного сокрытия тайного братства. Допустимо также, что часть "десных" делали обрезание. Так, арестованный чиновник Протопопов в дискуссии утверждал примат установлений Ветхого Завета, "соблюдение коих заповедано было от Самого Бога, как например, обрезание, несоблюдение коего наказывалось смертию"12.
"Увещание Иудеям", видимо, было послано Н.С. Ильиным в места прежней службы в Юго-Западном крае, где у него сохранились дружеские связи с евреями. Увы, успеха и эта проповедь среди "Божьего" народа не имела, хотя впоследствии, в остроге Соловецкого монастыря, он нашел некоего еврея, если не своего последователя, то по крайней мере сочувствующего его идеям.
Однако среди заводского населения успех учения Ильина был необычаен. И это легко понять. Он располагал к себе людей. Простота, душевная доброта, безусловная честность и энтузиазм — все способствовало успеху его пропаганды. Он внимательно выслушивал жалобы рабочих и усердно помогал им. Успех сопутствовал Ильину и в крестьянской среде. Богатые заводские крестьяне братья Григорий и Панкрат Волгины впоследствии много сделали для распространения "Десного братства". Оба брата были раскольниками и пытались бежать в скит, но были задержаны полицией. Ильин посещал в тюрьме Панкрата Волгина, вел длительные разговоры с ним и его братом. Следствием этих бесед стало то, что Волгины примкнули к "Десному братству". Их дружба укрепилась "династическим браком" — родственник Волгиных, "купеческий сын" Василий Шептаев (умер в Саратове в 1882 г.), женился на старшей дочери Ильина Наталье, а вторая его дочь — Александра — вышла замуж за И.И. Будрина. Кружок "Десных" сплотился еще больше.
При этом следует добавить, что Ильин требовал от членов братства соблюдения строжайшей тайны, понимая, что преждевременное обнаружение секты властями приведет к преследованиям, и неокрепшее братство может распасться. "Десные" продолжали исполнять все требования православия, посещая церкви и даже на дому принимая священников. Они превратились в неких "маранов" российского толка. Только по суб-
65
ботам, за закрытами наглухо ставнями, они сбрасывали маску и отдавались чтению и обсуждению дел своего кружка.
Одним из самых важных и трудных для Ильина моментов был вопрос о распространении "истинной веры". Выход из подполья в стране, где веротерпимость была не в почете, чреват был многими осложнениями. На "скромность" евреев Ильин мог рассчитывать, но он действовал и в русской среде, где донос был нормой. Пропагандой в основном занимались сам Н.С. Ильин и его друг Лалетин. (Судьба Лалетина трагична. Он был сослан в Свияжский монастырь Казанской губернии, где безвыездно прожил около 10 лет и скончался, по-видимому, в 1869 г.) Они от руки переписывали "Десную весть" — один из немногих политических самиздатов России. (Политический — потому, что отпадение от господствующей церкви приравнивалось к государственному преступлению.) Переписанное частями давали читать, прося соблюдать тайну, даже в случае нежелания примкнуть к секте. В общем, благодаря талантам Ильина-психолога они до поры до времени ни разу не попали впросак — люди сохраняли секрет. Для простонародья Ильин пытался мастерить особые послания, но в них вообще не было надобности, так как население было почти полностью неграмотным. Спасало общество от преследований, главным образом, безупречное моральное поведение его членов. Кроме того, знавшие об обществе интеллигенты считали Ильина фантастом и идеалистом, а рабочие до поры до времени считали это общество очередной барской затеей. И неизвестно, что произошло бы с новыми сектантами, если бы всемогущий случай не привел к признанию Ильина правительством и Синодом опасным ересиархом, а его поклонниками — мучеником. Используя сказанные А. Ахматовой по другому поводу слова (об Иосифе Бродском), по отношению к Н.С. Ильину можно с уверенностью сказать: "Они ему сделали биографию".
Заповедь любви и помощи исполнялась "десными" неукоснительно, и когда над одним членом сообщества разразилась беда, то все братство вступилось за него, помня слова, что "Христос положил жизнь Свою за нас". Короче, девиз: "Один — за всех, все — за одного" исполнялся свято. В конечном счете "иеговисты" оказались победителями: они остались значительной сектой вплоть до сегодняшнего дня. Заступившись за Протопопова, у которого были неприятности по службе, они вышли из подполья. Офицер, приехавший из Екатеринбурга для ареста Протопопова, доносил по начальству, что арестованный оказал сопротивление и что он является членом тайной мистической организации вместе с капитаном Ильи-
66
ным и поручиком Лалетиным. Общество преследует морально-духовные цели, похоже на секту духоборов и приближается к "ложной религии новоиудействующих"13. Напомним, что правительство после декабрьского восстания панически боялось масонских лож, и фраза "тайная мистическая организация" настораживала. Следствие велось секретно, никаких допросов Ильину и Лалетину не было сделано, поэтому, когда пришел приказ о переводе их в другие места, они стали писать жалобы, как выразилось начальство, исполненные "самых дерзких и оскорбительных выражений". О Протопопове доносили, что он обладал сильным полемическим даром: на судебное заседание приносил Библию, не терял надежды приобщить членов комиссии к своим идеям. "Диалектика" и спасла его от тюремной камеры.
АРЕСТ И ССЫЛКА
Можно опустить все перипетии дела — важно одно, что Ильин стремился разоблачить злоупотребления на уральских заводах, о чем откровенно писал великому князю Михаилу Николаевичу (не самому плохому из Романовых), а затем императору Александру II. Препровожденный в Петербург Н.С. Ильин допустил психологическую ошибку — ознакомил служителя Ордонанс-гауза с "Сионской вестью". Рукопись незамедлительно попала на стол шефа жандармов князя В.А. Долгорукова. Последовали аресты; почти все сторонники Ильина сознались, что они члены "Десного братства". Исключение составили два священника — Аркадий Казанский и Иоанн Снигирев и фельдшер Кардапалов; несмотря на явные улики, они отрицали свою причастность к секте. Приглашенный в комиссию священник Казанский обнаружил "крайнюю строптивость и неповиновение", отказавшись от дачи каких-либо показаний. Допрошенный своим непосредственным начальством — пермским архиепископом, он снова выказал "строптивость и неповиновение", за что и был переведен в Осинский уезд14. Между прочим, свидетели показывали, что при отпевании Будрина священник Новотихвинского монастыря Аркадий Казанский в надгробном слове намекал на преследование начальством "невинно страждущих"15. Из переписки "десных" с несомненностью явствует, что рукописью "Сионской вести" хотели отвлечь внимание от злоупотреблений на оружейных заводах и закрыть дело. Но, видимо, это не совсем удалось екатеринбургскому начальству: на Урал была послана правительствен-
67
ная комиссия. (Борьба Ильина с заводчиками отнюдь не была склокой. Богатые владельцы всеми правдами и неправдами отстаивали свои интересы. Так, одна из тяжб между заводчиками и рабочими на Урале, начатая чуть ли не в середине века, кончилась в конце столетия, причем даже после окончательного решения сената губернатор под давлением фабрикантов саботировал претворение в жизнь сенатского решения16.) Косвенным подтверждением высокого профессионализма и честности Ильина является отзыв его непосредственного начальника генерала Одинца, отметившего: "...я имею даже основание думать, что... он не позволит себе никакого пристрастия вредного для казны и службы"17.
Священник Иоанн Снигирев, находившийся в тесной дружбе с семьей Ильина (дружба скрепилась тройным кумовством) и "уличенный" в знакомстве с Волгиными и Шептаевыми, исходя из чего высокое начальство было убеждено в его знакомстве с "Сионской вестью", был переведен под строгое наблюдение в Пермский уезд.
Что же касается "десных", то для искоренения ереси было принято решение о высылке вожаков секты с места жительства, остальных же оставили под надзором полиции и духовенства. Причем следствие было убеждено, что имеет дело с субботниками.
Как пример сочувствия священников секте иеговистов свидетели приводят удивительный факт. В начале 60-х годов прошлого века в Верхотурском монастыре появился средних лет человек с ярко выраженной семитской внешностью. Архимандрит А. полностью доверил ему ведение хозяйства. Во время церковной службы этот человек обходил молящихся с кружкой. Голова еврея всегда была покрытой, одет в шерстяную полосатую ризу (талес) с шерстяными нитями на всех четырех сторонах (цицот). Сборщик будто гипнотизировал прихожан, щедро наполнявших церковную кружку. При переездах настоятель всегда брал этого странного человека с собой. Если в дороге настигала их суббота, они останавливались на полтора дня на постоялом дворе и архимандрит терпеливо ждал окончания субботы. В конце 60-х годов настоятель умер, а странный жилец покинул монастырь и переехал в Америку. Высказывалось предположение о связи архимандрита с сектой иеговистов-субботников, причем постоялец выполнял роль посредника между настоятелем и сектантами18.
Но вернемся к делу "десных братьев". Синод отнесся к ним достаточно жестко. Пострадала вся семья Ильина; его дочь, вдова Будрина, Александра Николаевна, была заключена в Новгородский Свято-Духов женский монастырь. Находилась
68
она в нем недолго, ибо дала подписку неукоснительно соблюдать учение православной церкви19. Впоследствии она вновь примкнула к иеговистам.
Ильина признали виновным в основании новой религиозной секты и в превратном толковании православной веры. После тюремного заключения в Петропавловской крепости его сослали в Соловецкий монастырь. Соловки, по словам писателя С. Максимова, — вторая живая могила после Спасо-Евфимовского монастыря в Суздале. "В одном из промежутков между циклопическими стенами... складенными из громадных диких камней, и стенами жилых монастырских строений, в северо-западном углу, приютилась отдельная палата каменная и двухэтажная. Часть ея занята казармами караульных солдат... другая часть — арестантскими. 12 чуланов существовали издавна в нижнем этаже очень старинного здания, построенного еще в 1615 году. 16 новых чуланов прилажены были и в верхнем этаже в 1828 году"20.
Самому Максимову, несмотря на официальное разрешение, не дали возможности переговорить с заключенными за религиозные убеждения. Впрочем, из уст возницы-монаха он услышал страшную фразу: "Не выдерживают они у нас: в уме мешаются"21. Судя по некоторым признакам, Максимов посетил монастырь в то время, когда там находился Ильин. Настоятелем монастыря был архимандрит о. Александр, герой обороны Соловецкого монастыря при попытке англичан в 1854 г. во время Крымской войны захватить его. Среди знаменитых предшественников Николая Сазонтьевича, заключенных Соловецкого монастыря — советник Ивана Грозного священник Сильвестр, келарь Троице-Сергиевой лавры писатель Авраамий Палицын, касимовский царь Симеон Бекбулатович, а среди иноков — Великий Никон.
В Соловецкий монастырь на "исправление" ссылались люди на длительный срок. Исследователь обратил внимание на списки заключенных, находившихся в заточении 20-30 лет. "Рекордсменом" был крестьянин Шубин, заточенный за старообрядчество и богохульство в 1812 г. Он пробыл в заключении 63 года, достигнув 108-летнего возраста22. Чашу скорби Н.С. Ильину пришлось испить сполна. Начиная с 1858 г. он провел в каменном мешке 14 лет. По другим данным, он был доставлен в монастырь 25 сентября 1859 г. Ильин писал:
День судьбы несчастной!
Капище пред взором...
Стены с кровлей красной,
С варварским запором!
Боже мой! Страшно! Будь со мной!23
69
Из тюрьмы он написал царствующему монарху Александру II стихотворное послание, начинающееся так:
Там, где остров Соловецкий
С мрачным капищем стоит,
В нем-то деспот папа русский
Христиан в плену томит24
Впоследствии, вспоминая свои муки, он писал:
Кости мне сломали,
Яду поддавали,
Смрад и чад впускали,
Рявкали, стучали,
И палач вынудил меня,
Чтоб места отхожие чистил сам бы я;
Чтоб дрова и воду
На себе таскал бы...
..................................
И различных скорбей
Много причиняли,
Мерзости злословий
На меня рыгали... 25
В конце 1860-х годов английский путешественник Вильям Диксон, посетивший Соловецкий монастырь, имел случай видеться и говорить с основателем "Десного братства", находившимся под "строгим надзором". Впоследствии он описал встречу с интересным узником и изложил в общих чертах учение, созданное Ильиным, в книге "Free Russia"26. По внешнему виду Ильин напомнил английскому путешественнику венгерского революционера Кошута. Высокий, худой человек, сохранивший, несмотря ни на что, военную выправку. Отдадим должное Диксону, он стал хлопотать об освобождении узника в петербургских гостиных, но, увы, безрезультатно. "Между тем, люди, подобные Ильину, — это соль земли... Люди, способные ради своих убеждений идти в огонь и в воду, люди, предпочитающие праведную жизнь в тюрьме — греховной жизни в самых богатых дворцах мира!"27 Эти слова Диксона почти повторяют слова Н.Г. Чернышевского в адрес подвижников веры: "Они соль соли земли, теин в чаю, букет в благородном вине". Попытку освободить Ильина предпринял и будущий анархист, князь П.А. Кропоткин, привлекший к судьбе узника внимание даже одной из великих княгинь (Елены Павловны?), но все хлопоты были безуспешны.
Ильин, несмотря на строгость режима, умудрялся посылать своим друзьям весточки и даже целые программы. Некоторые
70
из этих посланий вместо чернил были написаны его собственной кровью. Убежденный в правоте своего пути, он на многих страницах проповедовал слияние христианства с иудаизмом. Важнейшим для него было именно то, что евреи являются последней и единственной силой, способной содействовать единению. Он жалуется на жестоковыйных евреев: "Все дело только и остановилось за ними... образумься они... то образумятся и все. Познай, или точнее сказать, признай они Человекабога (так в тексте. — С. Д.) за ихняго Бога, то признают Его тогда и все. Для них тогда устроится Вечный мир с их Богом, а вместе с ними или из-за них утешатся, утишатся, возрадуются, благословятся и заблаженствуют и все народы. См. послание ап. Павла к Римлянам гл. 15, ст. 11, 12 и гл. 11, ст. 25-28"28. Ильин был незаурядным версификатором. Для него составление гимнов было духовной потребностью. Идеалом ему служила русская народная песня, духовные стихи и т. п. Рукописный сборник "гимнов", озаглавленный им "Пятою частью Луча Света для Рассвета", Ильин посвящает специально евреям:
Эй, друзья, сыны Иуды!
Жгите все ваши талмуды
И не ставьте даже в грош
Всю в них дьявольскую ложь!
Бросьте чушь Синедриона,
Слушайте Глас к вам Сиона,
Просветитесь все "Лучем",—
Обновитеся умом.
Всей душой Христу предайтесь.
.......................................................
Скинув дурь и суеверья, —
Надо-ж обновить и перья,
Бросить пейсы, жен бритье,
Влезть в немецкое шитье...
...............................................
Если ж это не поймете,
То совсем уж пропадете...
Бог отдаст Иерусалим,
Но не вам... 29
В Соловецких казематах Ильин познакомился с сосланным за отпадение от православия евреем. Его звали Захарий Шарри. Как рассказывает в своих записках Николай Сазонтьевич, Шарри был кантонистом, которого насильно крестили. Став взрослым, он вернулся к иудаизму и для "вразумления и увещания" был заточен в Соловецкий монастырь. Мы знаем несколько судебных дел эпохи царя-освободителя, когда насильственно крещенным разрешалось вернуться к религии отцов.
71
Но такие случаи можно перечесть по пальцам, ибо Синод не желал выпускать из своих цепких лап новоприобретенные души30. Вероятно, прообраз Захария лег в основу одного из рассказов Л.О. Гордона о сосланном в Соловецкий монастырь кантонисте Якове Каце (Кацалове) и спустя 25 лет, после насильственного крещения и трехгодичного суда, вернувшегося в иудаизм31.
Ильин наблюдал жуткую сцену, когда конвойный солдат силком тащил в церковь несчастного. Захарий упирался и не хотел идти, его повалили и стали тащить по крыльцу за ноги и немилосердно бить. Заступничество Ильина не помогло. Среди прочего Ильин кричал конвойному, что он новый мучитель Христа. Это лишь озлобило тюремное начальство. Однако неподдельное сочувствие к страданиям Захария скрепило дружбу между ними. Видеться часто они не могли, и поэтому Ильин писал своему другу письма, где подробно излагал свою экуменическую теорию. В бумагах Николая Сазонтьевича сохранилось письмо, так и озаглавленное: "К соузнику моему Еврею Захарию Шарри". Вот некоторые выдержки из него: «Голубчик ты мой возлюбленный! Сиротка безутешный, страдалец невинный! Ты открыл мне всю сущность, за что ты страдаешь, или за что и тебя мучат с нами в сем... узилище, и просишь меня дать тебе ответ и совет, как от искреннего друга твоего...
Произнеси же имя того Бога, в Которого ты веруешь, и притом преклони сердце твое чуткое к следующим словам: "Как ты, так и все Евреи говорят: "Мы уповаем на Бога нашего (здесь и далее выделено у Ильина. — С. Д.) (Еврейского), мы молимся только Богу нашему (Еврейскому), мы не сообщаемся, удаляемся, не любим, ненавидим, презираем, проклинаем и при всякой возможности гоним и истребляем всех врагов Бога нашего ...мы уверены, что придет время, что истребятся все враги Бога нашего и наш закон признается тогда за истинный у всех народов: ибо только мы, Евреи, в Истине и угодны Богу, а все другие в заблуждении и, следовательно, погибают и погибнут как скоты бессмысленные». Но так как и все многочисленные народы точно так же считают себя провозвестниками истины, то следует обратиться непосредственно к Богу, отринув библии, талмуды, избегая сетей Сатаны. Ильин в экстазе взывает к своему другу: "Я так уверен в милосердии Бога вашего Иисуса Христа, что если ты воззовешь к Нему от всей искренности твоей, то Он откроет и тебе весь Его Мироправительный План, показанный всем верным рабам Его в Небесной книге (т. е. в Апокалипсисе. — С. Д.) и присоединит и тебя к тем 144 000 Евреям, которых он прятал в пусты-
72
не, ибо ты природный Еврей, как и Он. И сделает и тебя вечно молодым и бессмертным". Далее Н.С. Ильин рисует картину, достойную кисти великого художника средневековья: "Там тебя обнимут и расцелуют... И как ты думаешь, кто? Все твои же праотцы: Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Самуил, Аарон и все пророки и апостолы ваши!" До сих пор картина вполне в еврейском духе, но далее идет идентификация еврейского Бога — он его называет Иисусом Христом, что несовместимо с галахой, но вполне в духе ищущего компромисса сектанта: "Там ты лицом к лицу увидишь Бога Авраамова — Иисуса Христа и точно таким же человеком, каким Он был на обеде у Авраама. Он тебя также обнимет и поцелует и велит заиграть для тебя на удивительной музыке песнь раба Его Моисея и песнь всех агнцев, закланных и растерзанных...
А когда же Он отправится в Армагеддон для окончательного поражения Сатаны и всех сатанинских... и для устройства опять Иерусалима, тогда и ты поедешь за Ним на белом же коне в числе всех тех избранных праотцов твоих. Ей, истина! Аминь". Эти откровения Ильин подкрепляет декларацией, что и он пострадал за Еврейского Бога: "Ну, вот я тебе открыл и мою веру. И выходит, что я страдаю за повеления вашего же Бога Еврейского, а разница только в том, что я знаю, кто Он таков и как Ему Имя, а ты не знаешь Его. И я исполняю последние Его повеления, написанные Самим Им и присланные на землю с неба чрез Его Ангела. Сущность же сих повелений Его состоит в Брато-родственной млеющей любви к Нему, а ко всем братьям и сестрам Его в любви и единении по Новой Заповеди Его; отнюдь не принимать никакого христианства, святить Имя Его и день субботу, отнюдь не поклоняться и не молиться никакой твари, кроме Его и Отца Его и нашего, не вкушать нечистой или запрещенной Им пищи и природным евреям совершать обрезание". В этой части поражает "антихристианство" Ильина. На основании этой цитаты его секту к христианским можно отнести лишь с большой натяжкой. По Духу и по существу это типичное иудеохристианство. Себя Ильин безоговорочно считает евреем: "А из сего ты можешь уразуметь, что я есть овца, входящая в ваш двор, а ты — овца, бегущая и удаляющаяся от своего двора в страшное талмудное служение. Я необрезанный, но присоединяюсь к вам, обрезанным, чрез Милосердие ко мне Бога вашего Христа. И если Он введет меня в Новое Царство Его Израильское, т. е. поселит и меня в Землю Живых, или в 1000-летний Иерусалим, и велит мне обрезаться, то я тотчас же исполню и эту Его волю. Но полагаю, что там совсем Новый Закон и новое для всех имя... "32
73
Дружба с Захарием Шарри имела продолжение. Захарий был освобожден в 1871 г. и переехал на жительство в Ригу. Николай Сазонтьевич находился в монастыре еще два года, а затем его перевели на шесть лет в Суздаль, в Спасо-Евфимьевский монастырь. То, что произошло в стенах этой тюрьмы, с трудом поддается описанию: в этой живой могиле он лишился глаза — невежда фельдшер поставил ему пиявку так близко к глазу, что он вытек33.
Приблизительно с этого времени, "получив откровение", Ильин стал называть Иисуса —"Ѣговой", первую букву он писал, через "ять", своих последователей стал называть —"Ѣговистами" (тоже через "ять"). Объяснение, даваемое сектантами, сводится к тому, что Ильин знал древнееврейский язык и что слово "Иегова" надо произносить очень мягко, и мягкое "ie" и будет "Ѣ" (ять), т. е. произношение должно быть максимально приближено к источнику34.
Впоследствии его поселили в Митаве, считая, что пропагандой в Остзейском крае он вряд ли будет заниматься. По крайней мере в полицейском досье об этом не встречается ни слова. Зато друзья могли чаще встречаться. Вряд ли Захарий перешел идейно к иеговистам, но он навсегда сохранил уважение и любовь к своему тюремному другу. Живя поблизости, в Риге, он многим помог ему, в первую очередь это было связано с возможностью вести обширную переписку, используя свой адрес, вероятно, для того, чтобы избежать цензуры. Письма Ильина Захарий потом сам возил в Митаву. Таким образом Ильин общался со своими последователями на Урале, которые преуспели в пропаганде.
СЕКТА БЕЗ ИЛЬИНА
За годы заключения Ильина секта сильно окрепла: она имела большие общины на Урале и в Сибири. Уже в 1864 г. благочинный Верхотурского уезда, Кувшинского завода протоиерей Матвей Суворов доносил, что секта десных, основанная Ильиным, "не искоренилась". По сообщению благочинного, последователи слывут "субботниками" и распространились на Кувшинском и Баранчинском заводах. На Кувшинском заводе "секту открыто содержит отставной солдат Вахрушев, который и ревнует об ее распространении"35. (Здесь уместно сказать, что православное духовенство и полиция по-разному называли последователей Ильина: иеговисты, субботники, "десные";
74
лишь впоследствии за ними закрепилось название иеговисты.) География секты расширялась, и "десные" появились на Нижнетуринском и Нижнетагильском заводах. Епископ Екатеринбургский Вассиан упоминает о появлении "десных" даже в Шадринском уезде.
Иеговисты приняли от Ильина не только догматическую сторону его учения, но и внешние установления, заимствованные у евреев, правда, с изменениями, необходимыми в их общежитии. Выше мы говорили о "кашерности" (в понимании иеговистов кашерность — это всего лишь отказ от употребления в пищу нечистых животных, запрещенных Моисеевым законом). Иконам они не поклоняются, но "святят Имя Иеговы" — на их молельнях изображена шестиконечная звезда с начертанным внутри по-еврейски словом "Иегова". Собрания у них происходят по субботам, когда читают "Книгу с Неба" — Апокалипсис в изложении Ильина. Распевают гимны сочинения Николая Сазонтьевича, призывающие к борьбе с Сатанинским миром и рисующие блаженное будущее "десных". Будущий мир выглядит так:
Мир, любовь и Вечный лик...
Нет монахов, ни искуса,
Нет постов, пестов, вериг...
Музыка в Сионском храме,
Радостный в ладоши плеск,
Нету траура на даме,
Все изящно, роскошь, блеск!
Среди Божией столицы
Нет жандармов и палиц,
Хоровод ведут девицы,
Всюду радость, пенье птиц!
Царь Давид вприсядку пляшет,
Мириам гимны поет,
Женский пол венками машет,
Танцем божиим идет!..36
Из еврейских праздников сектанты празднуют пасху. Подобно евреям, они целую неделю едят мацу (опресноки). Обрезания они не делают и при рождении дают христианские имена. Любопытно, что в статье, опубликованной в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, указано, что Ильин ввел обряд обрезания среди своих последователей37. Лишь войдя в сознательный возраст, сектанты получают библейское имя, которое употребляется в торжественных случаях. Проводится праздничная церемония по присвоению имени и дается клятва: "Быть верным рабом Иеговы".
75
Их частная жизнь поражает трезвостью и трудолюбием. Поэтому они в большинстве люди состоятельные; бедных среди них нет. Если случается с кем-нибудь несчастье, то они непременно выручают друг друга. У них имеется касса взаимопомощи, ответственным за которую является выбранный "блюститель". Отношения с окружающим обществом, зачастую враждебным, доставляют им массу неприятностей, но сами иеговисты всегда дружелюбны: "Наша религия проповедует не вражду, а любовь, и строго запрещает нам наносить вред кому бы то ни было, хотя бы человеку и другой веры"38.
НОВЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Нам осталось окончить рассказ о судьбе самого Ильина. Двадцать лет заключения не отразились на его взглядах. Внешнее давление, оказанное властями, наталкивалось на железную волю — он не сделал ни единой уступки господствующей церкви, не отрекся ни от единого слова. Призывы к покаянию и возвращению в лоно православия не имели успеха. 70-летний старик стойкостью своих взглядов внушал уважение. Архимандрит Соловецкого монастыря присоединился к просьбе родных Ильина об облегчении участи узника, ибо северный климат, при отрезанности на полгода от материка, губительно сказывался на его здоровье. Интересно отношение к Ильину графа П.А. Шувалова, шефа жандармов, высказанное обер-прокурору Синода графу Д.А. Толстому: "Хотя и нет надежды на сознание Ильиным его заблуждений, было бы несовместимо с духом настоящего времени оставить его в заключении на всю жизнь"39. Синод нашел возможным перевести его в Суздальский Спасо-Ефимовский монастырь, а спустя шесть лет, в 1879 г., на 21-м году заключения, ему разрешили покинуть монастырь с обязательством жить в Митаве, где успех его проповедей среди протестантов был маловероятен. В Митаве он вернулся к старой мысли о создании общей религии. Ильин писал безостановочно и многократно — евреям вообще и лично барону Ротшильду, римскому папе, вселенским патриархам, генералу Армии спасения, императору Александру II, английской королеве Виктории, "во все академии и университеты", он обращался даже к мусульманам и мормонам. Эта интенсивная жизнь была прервана арестом группы иеговистов в Екатеринбурге, куда он в 1887 г. был вызван на судебный процесс в качестве обвиняемого.
76
Дело же, суть которого сводилась к обвинению в отпадении от православия и осквернении икон, началось значительно раньше. Доносчиком выступили церковные власти, утверждавшие, что сектанты проявляют "дерзость", а именно: совершенно отказались от внешнего соблюдения православия и дошли до того, что один из них, Деньгин, 6 апреля 1885 г., сидя на берегу у заводской плотины, не встал и не снял шапки при прохождении мимо него Крестного хода, а на замечание священника отвечал: "Какое ваше дело", — и заявил, что он субботник и не признает священников и икон. Это место требует особого комментария.
Приблизительно в это же время (1883 г.) на очередной передвижной выставке выставлялась знаменитая картина И.Е. Репина "Крестный ход в Курской губернии", вызвавшая крайне резкую реакцию в церковных и правых кругах. Это и понятно: картина наносила совершенно ошеломляющий удар по православию. Ни одна фигура, изображенная на этом полотне, не соответствовала религиозным идеалам. Среди страшной, пьяной и возбужденной толпы светлый праздник Христова Воскресения совершенно терял свое значение. Исследователь писал: «"Крестный ход", с его многофигурной композицией, с его яркими образами, — это не просто эпизод из жизни народа, это своеобразный портрет русского общества того времени, портрет без прикрас и без заострений»40. В воспоминаниях Репина есть описание праздника Петра и Павла в одном из поволжских сел: «Вся улица была грязна и пьяна. Ватага мужиков или парней, взявшись за руки и растянувшись поперек всей широкой улицы, горланили во всю глотку, кто в лес, кто по дрова, какие-то песни, "писали мыслете" по всей длине улицы вдоль над Волгой и бесстрашно шлепали лаптями по глубоким лужам. Я заметил, что некоторые, особенно молодые парни, даже не будучи пьяными, нарочито притворялись такими до "положения риз". Это, оказывается, поднимало их в общественном мнении деревни...»41 К.П. Победоносцев по поводу одной из картин Репина писал Александру III: "Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на нее без отвращения... Удивительное ныне художество, без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и обличения. Прежние картины того же художника Репина отличались этой наклонностью и были противны. А эта его картина просто отвратительна... Есть и портрет самого художника на выставке; черты лица его объясняют, что вынуждает его выбирать и рассказывать такие моменты"42. О каких это чертах лица Ильи Ефимовича писал Победоносцев? Неужели ему не понравилась семитская внешность сына чугуев-
77
ского кантониста? (Замечание в скобках. Это не фантазия автора. В отношении И.Е. Репина есть удивительное воспоминание К.И. Чуковского: "Мережковский однажды изрек: — Люди разделяются на умных, глупых и молдаван. Репин — молдаванин. — И Блок тоже! — громко крикнула из другой комнаты З.Н. Гиппиус. В ту минуту мне показалось, что я их понял". Что же понял Корней Иванович? Сразу после приведенных слов он рассказывает о том, что хотел опубликовать в "Литературной газете" рецензию на книгу Марка Исаевича Копшицера. Ему отказали: "Это не наш профиль". К.И. отвечал: "Тут виноват не ваш профиль, а профиль Копшицера"43. Кажется, "профили" Репина, Блока и Копшицера совпадают... и если бы "они" знали о настоящем профиле самого Чуковского... Окончание замечания в скобках.)
Что же касается сектанта Деньгина и его поведения во время крестного хода, то он не мог в силу правил "Десного братства" проявлять "дерзость", ибо в ведомости грехов, записанной рукой самого Николая Сазонтьевича, за хулу перед ошуйными их веры, обряда или проповеди — полагалось наказание.
Возвращаемся к Ильину. Как мы уже знаем, его родные выхлопотали ему освобождение от суда по возрасту и состоянию здоровья. Радостная весть об освобождении "Всемирного святителя" облетела заводских иеговистов. С востогом пели сектанты гимн, сложенный в заключении Ильиным:
Ура, Царь Сиона!
Осанна, Иисус!
Смял ты Дракона
И спас нас от уз44.
В беседе со своими поклонниками Ильин припомнил, сколько его врагов уже находятся в аду: здесь и пресловутый Бенкендорф, и сам царь Александр, и многие митрополиты и архимандриты. Кстати, о гибели императора он знал заранее — ему приснился "вещий" сон45.
Однако Ильина арестовали вновь: в Нижнем Тагиле, в доме его старых друзей Волгиных. Это было тягостно. Суд в Екатеринбурге состоялся без его участия. В заявлении, поданном им, Николай Сазонтьевич обозвал своих судей "двуногими псами", провозгласил Сенат и Синод сонмом губителей, царя назвал деспотом и даже Антихристом, который как владетель Московии и Тоболии будет поражен Господом вместе с "ошуйными". Он объявил чинопочитание и военную службу "прелестью" сатаны. В социальном плане Ильин провозгласил полное равенство, отвергая существующий церковный и обще-
78
ственный строй, проповедуя человеческое братство в будущем республиканском Иерусалиме46. Свою гневную брошюру, направленную прокурору Екатеринбургского суда, он назвал "Кол в горло, вбиваемый 7-ю ударами стопудовым молотом истины каждому изрыгателю всякой лжи и хулы на Егову и на всех друзей и другинь...". В другом послании он назвал русское царство — жидовско-польско-немецким царством и при этом ссылался на "Польский катехизис"47.
Н.С. Ильин достиг высшего интеллектуального признания, удостоившись чести, которая до него выпала Чаадаеву: заочный суд признал его душевнобольным, и он был отправлен обратно в Митаву, где два года спустя, 3 июля (ст. ст.) 1890 г. скончался. Он завещал своим последователям:
Ни церквей, ни алтарей не создавать,
А на всяком месте Бога прославлять,
Ни обрядов, ни попов не сочинять;
Всяк свою мысль должен Богу выражать,
Ибо каждый брат есть царь и иерей.
ИДЕЙНОЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Н.С. Ильин оставил обширнейшее литературное наследие, включающее не только богословские трактаты, но и духовные стихи и поэмы, к которым сам сочинял музыку. Человек очень талантливый и разносторонний, он часть своих работ снабдил иллюстрациями, которые, конечно же, носят черты примитивизма, но естественного, а не искусственного, характерного для XX в. Есть у него изображение нового Вавилона: это Петербург, легко узнаваемый по квадриге Триумфальной арки, на которой и написано — Вавилон, позади виден Исаакиевский собор.
Его поэтический вкус сложился в 30-е годы под явным влиянием В.Г. Бенедиктова. С другой стороны, влияние "Сионского вестника" также очевидно. Его духовная поэзия сродни творчеству другого забытого современника В.И. Соколовского (1808—1839), человека тоже трагической судьбы: Шлиссельбургская крепость, вологодская ссылка, ранняя смерть от чахотки... Соколовский был автором поэмы "Мироздание" (1832) и с большим пиететом относился к Ветхому Завету и к судьбе еврейского народа. Критик отмечает исключительное значение Библии в творчестве Соколовского48. Таковы поэмы "Эсфирь", переименованная автором под давлением цензуры в
79
"Хеверь", "Разрушение Вавилона" и др. Обращает на себя внимание смысловая и текстуальная близость духовных стихов Ильина с песней Соколовского:
Славен, силен Саваоф!
Дивен Ты в красах созданья
И святой Любовью Слов,
И могуществом Дыханья!49
При изучении сектантского движения XIX в. напрашивается вопрос о возможности влияния личности Ильина на творчество его великих современников Толстого и Достоевского. На первый взгляд, вопрос отпадает: нигде, ни в полном собрании Л.Н. Толстого, ни в полном собрании Ф.М. Достоевского имя Николая Сазонтьевича не упоминается. Однако изобразив капитана Лебядкина в романе "Бесы", не отталкивался ли Достоевский от личности капитана Ильина? А если знаменитую легенду о Великом инквизиторе из "Братьев Карамазовых" сопоставить с произведениями Ильина, то и здесь найдется повод для предположений. Приведем одно место из "воспоминаний" Николая Сазонтьевича о своем пребывании в Соловецком монастыре и о посещении его архимандритом Порфирием:
"— Ну, здравствуй, сын мой! — сказал, входя, архимандрит.
— Мое вам всенижайшее почтение, г. Инквизитор, но не отец мой.
— А кто же твой отец?
— Мой и всех моих братьев и сестер Отец есть Один Сущий на небесах.
— Да ведь я учитель или нет?
— Учитель и отец — две разные вещи; но и Учитель у нас тоже Один — Господь наш Исус Христос, а мы все братья между собою.
— Да ведь не сам же Христос вас учит?
— Не лично Он Сам, но Он дал нам источник Его неизрекаемой Премудрости и заповедовал, чтобы каждый из нас, жаждущий Его Премудрости, приходил бы всегда (или во всякое время) к оному источнику и сам черпал бы Премудрости даром и сколько хочет. Впрочем, Он и Сам лично ходит по братствам (Ап. 2—1...20; 3—20).
— Да ведь я священник и даже архимандрит, или кто я, по-твоему?
— И по-моему вы есть священник и г. архимандрит и разных орденов кавалер, но только поставленный для освящения вашей веры и по ея уставам, сочиненным вашими же учителя-
80
ми и отцами, и пожалованный в этот чин и орденами Генерал-Инквизитором или высшею властью, и это я опровергать отнюдь не смею, но для меньших братьев Христовых или для святых, из коих каждый есть царь и иерей Богу Отцу их и пожалован в этот чин уже не народною властию, а Самим Царем всех Царей, вы отнюдь не священник, а только немилосердный инквизитор; след., если и вы пожелаете такой себе святости и чина от Него, то вы сами должны прежде освятиться от них Словом Истины, а не они от вас, и должны получить себе Свидетельство Исусово на сей чин от Бога.
— А кто же меньшие братья Христовы?
— Все те, кто исполняет Апокалипсические повеления Отца Небесного.
— С ума ты сошел! Большая ученость довела тебя до сумасшествия!
— Нет, Высокопреподобнейший инквизитор, я не сошел с ума, а на ум нашел и говорю вам слова Вечно-непреложной Истины, здравого рассудка и согласные по истории (Деян. 26-24, 25).
— О-го-го! Это уж точно не расколом пахнет!
— Точно так-с! Или ей, ей, истинно объявляю вам, что это не раскол, а повеление от Царя Царей о соединении всех 666 расколов и отпадений от апокалиптических повелений Его на два сонма: на Десных и Ошуйных.
— Запереть его на два замка и заколотить все щелки, чтоб он чрез них и в каземат не глядел, да и близко к двери его не подходить ни одному солдату! Это от века неслыханный еретик!! — заревел сей отец страшным зверским голосом к спекулятору узилища, вылезая боком из чулана"50. Удивительно емкий этот диалог корреспондирует и формой, и содержанием с монологом Великого инквизитора у Достоевского. Монолог у Достоевского строится в форме вопросов и ответов, он является частью разговора Ивана и Алеши Карамазовых с неизбежными в этом случае комментариями. Но и в диалоге Ильина присутствует зритель — это сам Николай Сазонтьевич любуется своими провокационными ответами. Ильин владеет слогом виртуозно, что стоит утверждение — ответ: "Я не сошел с ума — а на ум нашел..."
Или: полное сарказма и человеческой боли прошение своим тюремщикам, озаглавленное "В присутствие членов Конторы Соловецкого Монастыря — от арестанта Соловецкой Инквизиционной Роты Артиллерии Капитана Ильина". "Настоятель здешняго Инквизиционного узилища г. архимандрит Порфирий" заставлял единственное офицерское "платье", носимое Николаем Сазонтьевичем на прогулках, снимать и мок-
81
рое и грязное запирать в отдельный шкаф, чтобы арестант не смог его высушить. "Жаль мне стало и последнего моего достояния, и потому 11-го сентября я просил фельдфебеля, чтобы отнесли оное опять в монастырскую рухольную (гардеробную), а я опять по-прежнему буду ходить в арестантской форме". В ответ на отказ надевать свою одежду фельдфебель приказал солдатам схватить его: "Солдаты бросились на меня, начали тащить, мять, толкать, бить меня пинками и кулаками. Вывихнули и поранили мне до крови левую руку, повредили левый бок, на который я и до сих пор лечь не могу, безъименный палец правой руки, плечо и крестец. Втолкнули в чулан и замкнули на замок"51. Финал, достойный пера Ф.М. Достоевского. Но вот что удивительно: вся тональность письма, включая преувеличенное отношение к своей единственной приличной одежде, сродни письму другого мученика — П.Я. Чаадаева. Речь идет о письме, обращенном к другому "инквизитору", А.П. Плещееву:
"Милостивый государь Александр Павлович!
Позвольте, Ваше превосходительство, прибегнуть к покровительству Вашему в несчастном случае, меня постигшем. 26-го числа, в 11 часов вечера, выронил я из дрожек, на Трубном бульваре, новый с иголочки пальто-жак; проискавши его до полуночи, возвратился домой с горестным сердцем. На другой день, к несказанной радости моей, узнаю, что он найден фонарщиком. Нынче посылаю за ним в пожарный Депо, с 3 рублями награды великодушному фонарщику. Там объявляют посланному моему, что пальто отправлено в канцелярию г-на обер-полицмейстера; туда спешит он, и узнает, что до четверга не получу своего пальто. Войдите, Ваше превосходительство, в мое положение, сжальтесь над моею наготою и милостивым предстательством Вашим перед Его Превосходительством возвратите мне, если можно без нарушения закона, мой бедный пальто: прошу Вас покорнейше между прочим принять в соображение, что при долговременном его странствии в том светлом мире, где он находится, могут в него проникнуть разные насекомые, тем более что мир этот (я разумею мир фонарщиков) отчасти населен, как известно, гадинами.
В надежде на благосклонное участие Ваше, честь имею быть Вашего Превосходительства покорный слуга
Петр Чаадаев"52.
Комментарий нашего современника: «Такое письмо мог написать и так шутить с "Его Превосходительством" мог бы, пожалуй, и Макар Девушкин»53. Тонкое замечание и очень важ-
82
ное — на горизонте вновь Достоевский. Для меня же в письме Чаадаева два "ударных места" — полное совпадение беспокойства Петра Яковлевича и Николая Сазонтьевича, не стыдящихся своей бедности, о своей одежде и замечание о светлом мире, населенном насекомыми и гадинами (с блистательным миром "фонарщиков"). В длинном прошении Ильина также не обошлось без самоиронии: "...я непременно должен страдать или пройти под Крестом Христовым скорбный и инквизиционный путь в Царство Божие, согласно предопределению Божию, а Ушаков с архимандритом Порфирием и с солдатом Макаренкой должны быть главными зверскими инквизиторами моими в сем адском узилище"54.
К концу жизни апостол единой религии разуверился в том, что евреи смогут внять его слову и с раздражением, не свойственным ему, писал в очередном послании: "Возымейте уши, отвергнутые Иеговою Иудеи! ...Все ваши святые пророки и сам Иегова во все времена уверяют, что Талмудно-Иудейская Религия есть самая Суевернейшая и Враждотворная или Бесчеловечная из всех религий и что вы, Иудеи, суть самый негодный и упрямейший народ, слепы, глухи, с медными лбами, с каменными сердцами, с железными затылками, и убивающие пророков да и самого Иегову и не знаете Бога своего!" Конечно, евреи не знают своего Бога, они жестоки и жестоковыйны ("железные затылки"), но Ильин знает Бога: "Теперь же я открыл вам и всему миру, кто такой Иегова! И потому услышьте же Глас Его к вам! Швырните в огонь все ваши священные книги без всякой оглядки на них и на место их напишите на сердце только одно слово — Любовь... Вы не верите сим словам Иеговы?! Ну, так и ждите, пока окажется, на чьей стороне будет правда: на вашей ли с Сатаною или на моей с Иеговою!"55 Эта филиппика разительно отличается от увещевательных писем прошлых лет. Не надо думать, впрочем, что здесь заложен скрытый антисемитизм. Это не так. Своей любви к богоизбранному народу он не изменил, но горькое разочарование в том, что его весть не была услышана, уподобление себя древнему пророку, побитому камнями, или даже самому Иисусу — все это двигало раздраженным пером Николая Сазонтьевича.
Вместе с тем со стороны официального православного мира мы имеем компетентное и жесткое мнение профессора Казанской духовной академии, известного исследователя раскола Ивановского, который считал, что, судя по рукописям сектантов, ересь "весьма вредна не только в религиозно-церковном, но и в государственном отношении своим отрицанием православного богословия, отвержением церковного авторитета и
83
государственного строя, а еще более проповедью фантастической любви и всеобщего равенства, при чаянии будущего вполне счастливого состояния на земле"56. Этот отзыв был положен в основу официального отношения властей к секте. Из него, безусловно, следует, что дело не столько в религиозных взглядах ересиархов, сколько в их социальной позиции. И действительно, успех иеговистов среди рабочих был огромен, главным образом по причине социальной. Призывы к равенству и осуждение начальства, зачастую увольняющего сектантов с работы только из-за исповедуемых ими религиозных взглядов, подталкивали рабочих к революционным выступлениям, хотя последнее лежало вне идеологии Н.С. Ильина. Как бы то ни было, один из свидетелей на процессе сектантов, земский статистик, производивший поземельное обследование горнозаводского населения Верхнетурского уезда Пермской губернии, записал на Баранчинском заводе в 1901 г. песню об убийстве Александра II. Авторство этих стихов не установлено:
В Петербурхе люцинер
На рабочий жил манер.
Кудри, бороду пустил,
Все по фабрикам чистил.
Там рабочему народу
Вел он речи про свободу.
Раз идет он вдоль канала
Из редакции журнала.
А навстречу — экипаж.
Пешеходы — просто в раж.
Все поклоны расточают,
Царь — улыбкой отвечает.
В той карете он сидел
И в окошечко глядел.
Люцинер, не моргнув глазом,
Подбежал к карете разом.
Лишних слов не говоря,
Бомбу бросил он в царя.
Разорвало государя.
Волком взвыли баре.
Царский прах похоронили,
А взрывателей казнили57.
Известно, однако, что сектанты-иеговисты распространяли песню в листовках, наряду с другими "гимнами", воспевающими братство и свободу, сочиненными Ильиным еще в 40—50-х годах прошлого века... Сам же Н.С. Ильин убийство императора Александра II считал справедливым возмездием за совершенные им преступления, в том числе и против него самого.
84
Православные миссионеры, сталкивавшиеся с иеговистами, вынуждены были признать наличие многих привлекательных черт в их личностях и характерах. Для этого есть множество причин. Во-первых, высокая самодисциплина. Во-вторых, у них необыкновенно развито чувство солидарности (нередки случаи раздела собственного имущества с единомышленником — бедняком). Бедных, как мы указывали, среди них почти нет — они трезвы и трудолюбивы. Один из православных миссионеров с горечью писал, что сектантов удерживает в "заблуждении и нехристианская жизнь православных"58. Более того, по сравнению с другими сектантами они почти не возвращаются в православие. На предложение православных воссоединиться сектанты обычно отвечают: "У вас жить-то по-христиански нельзя: ваши попы — торгаши, сами губят людей, защищая в угоду правительства заводские работы по праздникам, а мы не можем работать в субботу"59. Отсюда напрашивается вывод о том, что нравственно иеговисты неизмеримо выше окружающей среды. Пример иеговистов заразителен, все отмечают их скромность: они не курят табак, не бранятся нецензурно, уважительно относятся к женщине. Последнее обстоятельство много способствует прозелитизму. Меры, которые предлагает миссионер для приостановления сектантской пропаганды, носят весьма наивный характер: исполнение бесплатных треб, рассылка некурящих и непьющих пастырей, открытие приходских братств и обществ взаимопомощи. Увы, таких пастырей — единицы, и посему приходится прибегать к испытанному способу — репрессиям. Ибо тот же миссионер жалуется, что открытый диспут с иеговистами невозможен: они неизмеримо выше своих оппонентов: "Сами православные редко вступают в полемику с иеговистами, они бессильны против их доводов"60. А.И. Обтемперанский ссылается в этом случае на уже упомянутого профессора Ивановского, советующего избегать публичного состязания61.
Тяжело было признать, что иеговистами-субботниками обычно становятся люди, стремящиеся к личному духовному самосовершенствованию, безусловно отрицающие господствующую церковь, которая не сумела утолить их духовный голод. Они приходят в секту после тщательного изучения Библии и трудов Н.С. Ильина, они стоят выше православных и в культурном и в социальном смысле. Бессилие справиться с сектантами свидетельствовало о том, что "из вышеизложенного вероучения иеговистов видно, что эта секта, среди русских сект, является одной из наиболее вредных, как в церковном, так и в государственном отношениях, почему борьба с ней является самым серьезным и необходимым делом и Церкви и Государства"62.
85
Связь Н.С. Ильина с еврейством бесспорна. Достаточно рассмотреть его "Символ веры", где он на недосягаемую высоту поднимает Еврейского Бога: "Я верю подлинным словам Единого (т. е., не девятиличного, не триличного, не двуличного, а одноличного, одноглавого, двуногого, с одним сердцем и с одной душою Бога Еврейского), что Он есть Еврей же, только предвечный (ибо Он с Адамом и Евою говорил по еврейски же) Егова Ашерейех, т. е. Председатель всего сонма человекобогов или Царь святых"63. Будущий Апокалипсис, описанный в § 16 "Символа веры" Ильина, полон пиетета по отношению к еврейству: "Верю словам Его, что Он, вечно-неизменный Бог еврейский, набрал 144 000 верных Ему евреев по 12 000 из каждого их колена и спрятал их от Сатаны..."64
Будущее царствие небесное, "Новый Иерусалим", рисуется Ильиным как реальная победа иудаизма над христианством. В § 17 "Символа веры" читаем: "Верю словам его, что сей-то тайный христиано-еврейский народ Его придет к Сиону на белых конях на предпоследнюю битву с сатаною и сатанинскими христианами; поразит всех врагов Божьему еврейскому народу..."65 В особом гимне, исполняемом сектантами, изображается будущее:
Прелюдия
С нами Бог — нам помог
Дал нам славу:
Смял врагов — тьмы рабов,
Их державу.
Деспотизм-атеизм
Сдернул с трона;
Поразил — в ад ввалил
Апполиона!
Гимн
Зверство, войны истребил,
Христиан-псов усмирил
Во весь мах — стальным жезлом,
Гладом, язвами, огнем.
Рабства узы разорвал, —
Всем свободу даровал!
Православье-ж адских псов,
Чашу с мерзостью попов,
Мощи, лики с дур ханжей,
..........................................
Ввергнул в ад... 66
Мы уже указывали, что в начале своего религиозного пути Ильин сошелся с евреями Юго-Западного края. Почти несом-
86
ненно, что он был знаком с книгой Пинхаса Илии Гурвича "Сефер-ха берит". П.И. Гурвич — ученый, родом из Вильны, умер в 1821 г. Его труд носит энциклопедический характер. Здесь провозглашается союз науки и веры, но особенно интересна вторая часть труда, "Дебрей Эмет", посвященная "венцу творения" — человеку. Знакомство Гурвича с современной мистической литературой очевидно. Ученые полагают, что он знал и труды Канта. В принципе вся книга — соединение мистико-каббалистических воззрений с философией своего времени. С этой точки зрения представляет интерес 13 глава второй части, "Ахават Рейм": любовь к ближнему провозглашается высшей стадией развития души, любовь к человеку ставится выше любви к знаниям и науке. Высшая степень совершенства — творить добро и справедливость. «Весь род человеческий представляет собой единый организм со множеством органов и частей, и каждый индивидуум является маленькой частицей целого организма... И пусть каждый еврей помнит, что слова Моисеевы: люби ближнего, как самого себя, не относятся к одним только единоверцам, но ко всем, носящим человеческий образ; в эту формулу включены все нации, и каждый смертный есть "ближний"... Внемлите же, сыны Якова, любовь и братство да будет на вашем знамени, и всем народам земли протяните руку привета»67.
Гурвич идет далее: "...любовь к ближнему... не есть дело разумного рассчета, это не вопрос пользы и удобства — а нравственный, врожденный нам долг, долг, который выше всего, выше любви к знаниям, любви к истине и даже любви к Торе. И этому нравственному долгу должны подчиняться все без исключения, ибо любовь к ближнему обязательна для всех в одинаковой степени: для раба и господина, для царя и простолюдина, для близких и дальних, для туземца и пришельца — один закон для всех"68. Как видим, в идеях основателя "Десного братства" и еврейского мыслителя времен Юнга-Штиллинга много общего. Это, конечно, не случайное совпадение, а следствие целеустремленного изучения Н.С. Ильиным еврейских источников.
До сих пор мы говорили о еврейском влиянии на теологическое мышление иеговистов. Но, как ни странно, было и обратное влияние. Это тем более удивительно, что никто из прозелитов-евреев не перешел в эту секту. Но один случай уникален. Выше мы упомянули имя Лазаря Людвига Заменгофа (1859—1917), врача-окулиста, лингвиста, создателя языка эсперанто. Родившийся в Белостоке, где население разговаривало на четырех языках и из-за этого происходили недоразумения, Заменгоф пришел к выводу о необходимости создания едино-
87
го языка. Безусловно, в поисках решения он должен был обратиться к своим предшественникам, и именно Н.С. Ильин попал в поле его зрения. Одно время Заменгоф был членом "Ховевей Цион", основал отделение этого общества в Варшаве. В 80-х годах прошлого века в газете "Рассвет" под псевдонимом Гамзефон (анаграмма его фамилии) он первым указал на необходимость направить еврейскую эмиграцию в Палестину. Позднее он примкнул к сионизму. В 1901 г. Заменгоф выпустил брошюру на русском языке "О гиллелизме". Разрешение еврейского вопроса Заменгоф видел в том, чтобы иудаизм реформировался и превратился в чистый монотеизм, не признающий иного закона, кроме закона любви к ближнему. Новая еврейская секта не отрицала древних установлений и обрядов, но они находились для ее сторонников в русле традиции, а не религиозного закона. Мне кажется, что Заменгоф штудировал внимательно не только статью Ильина в "Маяке", но и другие работы религиозного мыслителя. Слишком много было между ними общего, чтобы приписать это случайному совпадению69.
Высокий социальный накал в сектантских движениях привлекал к себе внимание революционеров. С элементарной утилитарной целью делались попытки воспользоваться сектантством для дестабилизации общества. Однако эти попытки не привели к осязаемым результатам. Так, во времена Герцена и Огарева знаток раскола В.И. Кельсиев издавал при "Колоколе" "Общее вече", посвященное исключительно сектантству, которое он рассматривал как движение чисто политическое. В Лондоне он издал две книги по истории раскола. Однако практических результатов деятельность эта не принесла, да и не могла принести: среда сектантов была весьма консервативна и Кельсиев разочаровался в ней.
Следующее поколение революционеров также не прошло мимо русского раскола, и в начале 70-х годов во времена "хождения в народ" многие народовольцы поселялись среди сектантов, пытаясь найти в них союзников в борьбе с самодержавием. Они явно переоценили "горючий материал". Один из талантливейших деятелей того периода Степняк-Кравчинский даже написал роман о сектанте "Штундист Павел Руденко" (1892—1893). Вдова Кравчинского, Ф. Степняк, писала о причинах, толкнувших ее мужа к созданию этого произведения: "Когда русское правительство с особенным усердием принялось преследовать штундистов ... английские газеты были полны сведений о возмутительных издевательствах над мирными сектантами, и английское общество сильно негодовало против бесчинств, производимых Победоносцевым и компанией..."70
88
В свое время сам автор в течение нескольких месяцев жил у сектантов, перетолковывая им Евангелие на "бунтарский" лад. О той же повести Степняка писала Вера Засулич: «Трудно теперь где бы то ни было пострадать за проповедь Евангелия, но в России еще можно принять за нее даже мученическую смерть... Не "ревность о Господе", конечно, тому причиной. Едва ли когда бывало на свете духовенство, более формально относящееся к религии, более равнодушное ко всему на свете, кроме собственного хозяйства, чем православные батюшки. Сектантство может беспокоить их единственно с точки зрения уменьшения доходов. Но при нашем общем беззаконии и бесправии устроить гонение слишком легко, чтобы этой легкостью не соблазнялись люди, которым гонение выгодно. А с другой стороны, всякое движение, одушевление, объединение, хотя бы и под знаменем Евангелия, действительно вредно для нашего государственного строя...»71
На смену народовольцам пришли марксисты, которые тоже не упустили возможности использовать сектантов в своих целях. Крупнейшим специалистом в этой области заслуженно считался Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, который и подготовил доклад для II съезда РСДРП, под названием "Раскол и сектантство в России". Как известно, в повестке дня съезда стоял вопрос "Постановка работы среди сектантов". Сам Бонч-Бруевич не мог присутствовать на съезде, но свой доклад он передал В.И. Ленину и на одном из заседаний вопросы, им поднятые, дискутировались. В 1905 г. в Женеве социал-демократы издавали листок под названием "Рассвет", в котором печаталось много материалов с целью привлечь сектантов к революционному движению. Редактором "Рассвета" и автором почти всех статей был все тот же Бонч-Бруевич.
В интересующем нас аспекте Бонч-Бруевич был весьма краток, хотя он отметил секту "жидовствующих", указывая на зоологический антисемитизм правительства в борьбе с ними. Таким же преследованиям подвергались и те молокане, которые в процессе эволюции своих взглядов принимали ортодоксальный иудаизм. Их ссылали в Восточную Сибирь, где они образовывали целые селения.
Довольно подробно останавливается Бонч-Бруевич на секте иеговистов, основанной Н.С. Ильиным. Совершенно справедливо он отмечал в учении Ильина элементы средневекового хилиазма (учения о тысячелетнем земном царствовании Иисуса Христа)72.
После революции Бонч-Бруевич пытался организовать "Общество для изучения общественно-религиозных движений" и с этой целью списался с Е.В. Молоствовой, крупнейшим специ-
89
алистом в этой области. Конечно, "общество" не было создано, ибо государство проводило последовательную антирелигиозную политику, как против бывшей господствующей церкви, так и против сектантов. Но положение последних резко ухудшилось, когда И. Сталин из-за прагматических соображений во время войны пошел на известный конкордат с православием. Сектантов нещадно преследовали и во времена Хрущева. В числе политических заключенных в советских лагерях был весомый процент сектантов, среди которых субботники и иеговисты не были исключением. Последних пропаганда неизменно обвиняла в антигосударственных выступлениях. Главнейшее — это отказ от службы в армии. Их "антисоветской" деятельности было посвящено много брошюр и выступлений73.
Изобретение новой религии Н.С. Ильиным, конечно же, не было единственным в XIX в. В качестве примера "изобретения" на государственном уровне можно вспомнить старшего современника Ильина, генерал-губернатора Западной Сибири Г.Х. Гасфорда (1792—1794), человека, присоединившего к России часть Средней Азии. Он обратил внимание на поверхностный уровень религиозности среди казахов и киргизов. Гасфорду пришла в голову мысль создать для степняков новую религию на базе иудаизма, "очищенного от талмудических толкований", но с обязательным обрезанием. Свой проект он подал Николаю I, который, хотя и ценил боевые и административные способности генерала, но все же наложил резолюцию, не лишенную иронии: "Религии не сочиняются, как статьи свода законов"74.
Но и среди субботников мысли о создании единой, всечеловеческой религии не утратили своего значения. Один из путешественников, посетивший станцию Зима, познакомился с Моисеем К., который на провокационный вопрос о нетерпимости иудейской религии, о вражде и презрении к христианству отвечал в том смысле, что рано или поздно стенки, разделяющие религии, будут все тоньше и тоньше. И на очередной вопрос о невозможности найти общую почву для примирения противоречий между христианством, иудейством, буддизмом и язычеством отвечал: "Что-нибудь да и выйдет, а, может быть, знаете, как огонь и вода: огонь потухнет, но и вода испарится"75.
Очерк 3
ВЕЛИКИЕ СОВРЕМЕННИКИ
(Бондарев и Лев Толстой)
ДО СИБИРИ
Удивительное дело: два гения, два современника, знавшие друг друга и находившиеся в переписке, никогда не встречались. Это может быть лишь в России. Если два современника, с годами жизни и смерти почти совпадающими, даже не знали о существовании друг друга — я говорю о Сервантесе и Шекспире, или Веласкесе и Рембрандте — то это были XVI-XVII вв., а здесь речь идет о конце XIX в., века пара и электричества, газетных новостей и железнодорожного транспорта. За несколько десятилетий до того великий Пушкин даже не знал о существовании Серафима Саровского, а уж им, по словам Н.А. Бердяева, было бы о чем поговорить. Да что Серафим Саровский, если Лев Николаевич Толстой никогда не встречался с Федором Михайловичем Достоевским. А ведь, по словам Страхова, они чуть не столкнулись лицом к лицу в фойе театра. Но Страхов понял, что яснополянский мудрец не желает этой встречи. Толстой, правда, впоследствии отрицал это. Но, думаю, Страхов хорошо понимал Учителя...
Мы расскажем о двух гениях — гении из аристократии и гении из народа. Этим народным гением был человек, связавший свою жизнь и судьбу с еврейским народом. Историки, ссылаясь на высказывания самого Толстого и на исследования его произведений, утверждают, что великий писатель не мог до самой смерти преодолеть влияние сибирского ссыльного. Но современники не встретились. Предчувствие, что встреча никогда не произойдет, преследовало Давида Абрамовича Бондарева. Он писал Толстому: "Да неужели же нам по одной толь-
91
ко привязанности к свету сему так и умереть, не видавши лица один другого, это для меня что-то сильно загадочное"1.
Тимофей Михайлович, а после принятия иудаизма Давид Абрамович Бондарев, родился 3(15) апреля 1820 г. в селе Михайловка Донецкого округа Земли Войска Донского2. Считается, что эта Михайловка находилась у истоков рек Быстрая и Гнилая, в поместье Чернозубова-Янова. Исследователь В.В. Смиренский решительно опровергает эти сведения и, ссылаясь на авторитетное мнение краеведа Арк. Айрумяна, полагает, что на самом деле Т. Бондарев родился на хуторе Михайловка, Тоцинского района, Ростовской области, принадлежащем в начале XIX в. помещику Чернозубову-Янову и расположенном не у истоков, а при слиянии рек Гнилая и Быстрая3. Ныне это место называется поселок Михайловка, расположен неподалеку от города Морозовска4.
В этих местах прошло детство и первая половина жизни Бондарева. Его отец, дед, прадед были крепостными помещиков Чернозубовых. У местного дьячка Тимофей обучился грамоте. Как предполагает А.И. Клибанов, первой прочитанной им книгой была "Псалтирь"5.
В 22 года Бондарев был уже главой семьи, в состав которой входили: старики-родители, пятнадцатилетняя сестра, десятилетний брат и жена с ребенком. Бондарев был трудолюбив, вина в рот не брал. Он хотел построить новую избу, а так как лесу не было, то соорудил себе каменный дом. Камень возил за шесть верст от дома, выкапывая его из земли. При этом он еще отрабатывал на помещика три дня в неделю. Нанимать себе в помощь он никого не мог, но, в конце концов, построил пятистенный каменный дом, амбар, хлев. Достаток в доме был небольшой, хотя Бондарев был отменным тружеником: "Я, Бондарев, такой работник, что если косят самый хороший хлеб на крюк (на грабки), где пять разов отрежут косою сноп, тут нужно самых лучших двух работников успеть вязать снопы за одним косарем, а я один вяжу, так что с косы граблями хватаю", — с гордостью писал он о себе впоследствии... Тогда же он хорошо усвоил жизненную политэкономию: "От праведных трудов не наживешь каменных домов", а о своем помещике Чернозубове говорил, что он "пузырь, чужим трудом надутый". За свой непокорный нрав он был отдан разгневанным помещиком в солдаты, в нарушение даже тех несовершенных законов Российской империи, которые ограничивали мобилизацию семейных крестьян. Бондареву уже исполнилось 37 лет, он был женат, имел четырех детей, а "пятый был за поясом". Строптивый правдоискатель, как ни дико это выглядит, был отдан в солдаты за "колдовство". Спустя десятилетия ссыль-
92
ный философ писал: "Я был Новочеркасской области помещика Чернозубова крепостной раб, на хребте которого помещик ездил и удила в рот закладывал, и я эту чашу горести, скорби, печали и воздыхания до дна выпил... Первого августа (1857 г. ст. стиля. — С. Д.) тут бывает в православной церкви водосвятие. Иду я к церкви и несу бутылку в руках, чувствую, что бутылка тяжелая. Посмотрел, а в ней половина простой воды. Я, не останавливаясь, эту воду на ходу вылил. И это случилось против помещицких ворот, в отдаленности на 200 саженей (более четырехсот метров. — С. Д.); помещик и увидал с окна, что я воду лью против его ворот, потому признал меня колдуном и чародеем и в том же году отдал меня в солдаты на 37 году жизни моей, и я изнурен сухоядением, денными и ночными работами, старик уже был, и по тогдашним Николаевским законам на 25 годов; четверо детей маленьких, а пятое за поясом, остались с одной матерью при крайней бедности и в его же тигровых когтях и покровительства и защиты ни с какой стороны и ни откуда не было. Да и Бог, как видно, в те веки закрылся облаком, что не доходила к нему молитва наша. На бумагах нельзя описывать тогдашних лютостей, потому что это будет порок на тогдашних царей, а тех стариков, которые довольно знают те лютые времена, в настоящие минуты здесь нету, а мне как незнатному человеку вы не поверите, но я со своей стороны представляю вам, читатели, имя Бога в свидетели, что я верно и верно говорю"6.
Сын Бондарева Даниил Давидович к этому рассказу добавлял, что он слышал из уст отца и матери, что дело было не только в самодурстве помещика: уже тогда отец пришел в столкновение с деревенским священником и поп донес на строптивого прихожанина7.
Другой исследователь считает, что трудолюбивого и непьющего мужика помещику сдавать в солдаты было убыточно, но, видимо, он был у барина на плохом счету из-за того, что был политическим "смутьяном"8.
По положению Бондарев должен был 25 лет отслужить в армии. Интересные мысли высказал он впоследствии о своих несчастных товарищах: "...брал людей в солдаты сорока годов, это с какой целью? А для такой, что он, начиная с 10 годов, поработает помещику 30 лет, да до десятка детей народит и вскормит, потом начнет клониться к старости, и силы у него слабеть станут, он его тогда в солдаты на 25 годов — ведь это помещику и царю большая польза"9. Чувство протеста против социального гнета было порождено самой жизнью.
Отданный в солдаты, Бондарев попал в 26-й казачий полк Кубанского войска и службу отбывал на Кавказе, по удиви-
93
тельному совпадению также в станице Михайловской, но Кубанской области. Немногим ранее (до 1854 г.) здесь служил знаменитый корреспондент нашего героя — Л.Н. Толстой. Во время службы Тимофей Михайлович был военным (полковым) диаконом. Напомним, что Северный Кавказ был наводнен различными сектантами и, например, Хоперский казачий полк полностью был укомплектован субботниками. Вероятно, в это время он познакомился с рукописным экземпляром книги А.Н. Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву", которое потрясло бывшего крестьянина, на своей шкуре испытавшего все прелести крепостной зависимости. Чего стоит один эпиграф, рисующий крепостное право в России: "Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй". Думаю, что стиль "Путешествия", много раз читанного Бондаревым, оказал влияние на будущее творчество крестьянского философа (даже выражение "кормится трудами своими" или мысль о том, что приближение к жизненному идеалу достижимо лишь "трудолюбием", мы можем обнаружить в "Путешествии"). Но особенно внимательно он читал антикрепостнические главы "Зайцево", "Вышний Волочок", "Пешки". Путешественник, от имени которого ведется рассказ, в воскресный жаркий день видит пашущего мужика. Первый вопрос, который задает он крестьянину, должен был остановить внимание Бондарева: "Ты, конечно, раскольник, что пашешь по воскресеньям?" Крестьянин отвечает, что нет, но он вынужден работать в праздники и ночью, чтобы прокормить семью: "В неделе-то... шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину; да под вечером возим оставшее сено на господский двор... Не ленись наш брат, то с голоду не помрет... У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов... Да хотя растянись на барской работе, то спасибо не скажут".
Или этот страстный порыв, перешедший потом к Бондареву: "Но кто между нами оковы носит, кто ощущает тяготу неволи? Земледелец! Кормилец нашея тощеты, насытитель нашего глада, тот, кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея права распоряжати ни тем, что обрабатывает, ни тем, что производит. Кто же к ниве ближайшее имеет право, буде не делатель ее? ...Можно ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России? Ненасытец кровей один скажет, что он блажен..." Но не только обличение крепостного права привлекло внимание Бондарева в книге Радищева. В главе "Городня", описывающий рекрутский набор, Бондарев мог прочитать: «Подошел к одной куче узнал я, что рекрутский набор был причиною рыдания и слез многих толпящихся. Из многих селений казенных и помещичьих сошлися отправляемые на отдачу рекруты.
94
В одной толпе старуха лет пятидесяти, держа за голову двадцатилетнего, вопила: "Любезное мое дитятко, на кого ты меня покидаешь? Кому ты поручаешь дом родительский? Поля наши порастут травою, мохом — наша хижина. Я, бедная престарелая мать твоя скитаться должна по миру. Кто согреет мою дряхлость от холода, кто укроет от зноя? Кто напоит меня и накормит?». Бондареву, пережившему весь ужас солдатчины, когда он должен был оставить семью без средств к существованию — все это было знакомо и почти теми же словами он передает свое тогдашнее состояние.
Младший современник Бондарева Михаил Иванович Осколков вспоминал, что Давид Абрамович наизусть читал "Деревню" Пушкина, генетически связанную с "Путешествием" Радищева:
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Внешним толчком для религиозного кризиса послужил незначительный случай, произошедший с Бондаревым: его в субботу отказался обслуживать еврейский лавочник. Сам Бондарев описывет это приблизительно так: желая купить ситцу, он просил еврея отмерить ему требуемое, а еврей отвечал: "Нельзя, сегодня суббота", и предложил самому Бондареву отрезать нужный кусок. И.П. Белоконский, описавший этот факт и лично знавший сибирского философа, был потрясен обыденностью случая и впечатлительностью Бондарева10. "С тех пор", по словам самого Бондарева, ему "запала мысль в голову", которая не давала ему покоя. Вскоре после этого он "нарочно" знакомится с жидовствующими и принимает иудаизм. Вероятно, процесс этот был не столь прямолинеен. Но как бы то ни было, спустя 10 лет по прохождении службы и получив медали за Кавказкую войну, Тимофей Михайлович Бондарев принял обряд обрезания в станице Михайловской в присутствии трех лиц и стал иудействующим. В наших руках находится письмо, принадлежащее перу известного субботника Моисея Самуиловича Рогова: «Сие письмо передайте Давиду Абрамовичу Бондареву.
Я, Моисей Самуилович Рогов, имел счастие видеться с друзьями Давида Абрамовича; они жили (в) Кубанской области (в станице Михайловской), а в настоящее время живут у нас в городе Владикавказе, а именно: Агей Ермилович Зувижимов
95
(Бувижимов?), Яков Абрамович Алексеев и Федор Семенович Лунев. Они рассказывали, (что) будучи Давид Абрамович русским, был военный диакон, а когда познал закон Божий, совершил обрезание на станции Михайловской Кубанской области. Эти вышеупомянутые друзья Давида Абрамовича Бондарева присутствовали при обряде обрезания. (Они) говорят: "Мы хорошо знаем Давида Абрамовича, он был полковым диаконом, а когда он отпал от православия, его сослали в Сибирь в Енисейскую губернию". А когда я, Моисей Самуилович, рассказал, что у нас в селении Иудиной есть Бондарев, бывший диакон, тогда они поняли, что Бондарев их ближний друг и очень обрадовались, услышав о друге и о том, как он живет. Итак, сие письмо я пишу от имени друзей Давида Абрамовича; желают ему и его супруге мира и блаженного положения и от искренней любви посылают ему нижайшее почтение и низкий поклон. Итак, Давид Абрамович, если Вы признаете сих вышеупомянутых лиц за друзей, то они просят Вас в том, чтобы вы уведомили их со своей стороны письмом; им желательно знать, как вы живете и какие обстоятельства в Сибирском крае; обо всем отпишите подробно, более пока писать не будем.
Ваши друзья и приятели своему старому другу Давиду Абрамовичу Бондареву; с нетерпением ждем ответа.
Адрес в городе Владикавказе, на мельницу Иосифа Ивановича Худякова Моисею Самуиловичу Рогову».
К этому есть приписка:
"Любезному другу Давиду Абрамовичу и супруге Вашей и всему вашему семейству желаю вам весьма вообще быть живым, здравым и хорошего блаженства (и? нрзбр.) Вашему семейному кругу; притом же низкий поклон; от Вашего ученика и доброжелателя Моисея Самуиловича Рогова и всего моего семейства.
Моисей Самуилович Рогов.
.........письма 8 ноября 95 года".
Совсем внизу добавлено мелким почерком: "Желаю подробности о Сибирском крае;
Город Владикавказ (,) Терская область объята высокими горами, но зимы нету всегда тепло"11.
Последняя запись, по-видимому, говорит о трудностях жизни субботников, а возможно и о преследованиях. Именно поэтому к Бондареву обращаются с просьбой сообщить о сибирских условиях жизни.
Необходимо повторить, что мы располагаем слишком малым числом документов, свидетельствующих о важнейшем жизненном решении Тимофея Михайловича. Тот же самый
96
Белоконский лишь ставит вопрос о причинах перехода полкового дьякона в другую веру: "...человеку малограмотному, родившемуся в православии, не подвергавшемуся никаким влияниям почти до сорокалетнего возраста, не легко изменить свой взгляд, изменить притом радикально: между иудаизмом и православием весьма мало общаго"12.
После перехода в иудаизм Бондарев принял имя Давид Абрамович. До конца своих дней он носил двойное имя: в официальных документах он именовался Тимофей Михайлович, а сам себя он, а вслед за ним и его односельчане называли Давид Абрамович. Но даже в некоторых документах упоминается его новоприобретенное имя. Так, в актовой записи о смерти Бондарева в книге Бейского волостного правления зафиксировано: "Тимофей (Давид) Михайлович (Абрамович) Бондарев". Из-за двойного имени иногда происходит путаница. Так, К. Горощенко именует его Тимофеем Абрамовичем!
Советские авторы настаивают на том, что принятие иудаизма было лишь формальным поводом к аресту Бондарева. Основной причиной якобы было свободолюбие полкового дьякона, требующего сократить военную службу до трех, максимум до 5 лет. (Реформы военного министра Дм. Милютина были проведены лишь в 1874 г.)
Один из исследователей жизни Бондарева, писавший о нем в 50-е годы нашего века, нашел в себе мужество указать на основную причину отпадения дьякона Бондарева от православия, наряду с "дежурной", социальной: «Несомненно, что причиной перехода Бондарева в иудейство была его неудовлетворенность официальной религией, которую проповедовала православная церковь: уж слишком парадоксально звучали слова священнослужителей о "любви к ближнему" и проч. в обстановке страшного закабаления трудящихся. С другой стороны, Бондарев видел людей, крепко державшихся своей веры и противостоящих официальной религии, за что они подвергались гонениям, которые еще более их укрепляли в их религиозных суевериях»13. М.В. Минокин, действительно, имел мужество сказать о религии бунтаря во времена не совсем безопасные. Зато другой исследователь, уже в "доброе" хрущевское время, договаривается до того, что переход в иудаизм был хитрым ходом крестьянина, желавшего любым путем избавиться от солдатской службы14.
В жизни дьякона последовали резкие перемены, власти не дремали: за "отказ" от православия и переход в иудейство он был судим, его лишили воинского звания, отняли медаль, полученную за боевые заслуги, и заключили в Усть-Лабинскую тюрьму, где он находился два года. В 1867 г. военно-судная ко-
97
миссия приговорила Тимофея Михайловича Бондарева на "вечное поселение в Сибирь" и направила его в распоряжение енисейского губернатора. В одном из писем Л.Н. Толстому он писал, подводя итог первой половины своей жизни: "До 40 годов я был помещицкий крепостной раб, а потом в самые лютые николаевские времена 12 год(ов) солдатом, а потом в самое тревожное время с черкесами, 4 года казаком, а затем с семейством — четверо детей и жена — пошел в кандалах в Сибирь"15. В письме несколько ошибок, не меняющих сути (не до 40 лет, а до 37; не в николаевские времена, а при Александре II, и не 12 лет, а 10).
За годы солдатчины, "безотцовщины", семья претерпела трагедию — трое детей умерли...16 Сын Бондарева Даниил Давидович вспоминает, что родителей с детьми пешком гнали до Казани, после обессиленных повезли в телеге: "Мукоты было горе-горькое, пока по этапу страдовали. Вот и очутились в нашей Юдиной..."17
Сначала Бондарева с партией сектантов поселили в селе Заледеевском, Красноярского округа. Вероятно, эта деревня была перевалочной, ибо в ней останавливались предшественники Бондарева, основатели села Иудино. В само Иудино, по словам Даниила Давидовича, они прибыли 22 мая 1867 г. Семья состояла из самого героя, жены и двоих детей18.
Село Иудино — уникальное место, оно было заложено крестьянами-иудействующими, появление которых там составляет самостоятельную историю.
СЕЛО ИУДИНО
В начале царствования Николая I сосланные в Сибирь крестьяне-иудействующие, в основном родом из Воронежской, Саратовской и Самарской губерний (по другим сведениям, они были высланы с Северного Кавказа, что не противоречит одно другому: высланные из Центральной России на Кавказ затем "досылались" в Сибирь), попали в Енисейскую губернию, где были поселены в Красноярском округе, в селе Заледеевском, в 27 верстах от Красноярска, по пути в Томск. Село было расположено по обеим сторонам "московского тракта". Так как местные условия жизни были достаточно трудны, то субботники стали хлопотать о переселении их в другое место. Им это разрешили, и ходоки отправились на поиски удобных земель. Это было в 1838 г: (По другим сведениям — в 1833 г.) В то же время переселение из Заледеевского было вынужденным, ибо
98
село находилось неподалеку от Красноярска и служило последней станцией (станком) перед городом, жителям села постоянно докучали начальство и духовенство со своими придирками и "увещаниями". Мы знаем имена трех первопроходцев, искавших и нашедших новое место, вот они: Богданов, Аникин и Борисов. В пересказе это выглядит приблизительно так. После долгих странствий по дебрям Минусинского края ходоки облюбовали одно место в глубине Койбальской степи, на речке Сосе, притоке Абакана. Выбор был сделан удачно: место им показалось хлебородным, богатым выпасами для скота, кроме того привлекали близость леса, полного дичью, а также реки, удобной для сплава леса и рыбной ловли19. Здесь было основано село "Обетованное", напоминающее жидовствующим о "земле Обетованной, Ханаане". По словам Давида Абрамовича, село находилось в 150 верстах от Минусинска.
Название "Обетованное" частью относилось к географическому положению выбранного места: на Север тянулась громадная пустынная степь, на Юге — непроходимая горная тайга. Кругом обитали аборигены, в основном хакассцы, или, как их называли в те времена, сибирские татары... Нетронутая плугом земля давала надежду на богатый урожай, леса были полны дичью, а вода — рыбой.
Самое же замечательное: субботники надеялись на то, что руки властей сюда до них не дотянутся. Но не тут-то было. Енисейский губернатор, имя которого нам неизвестно, получив уведомление от смотрителя поселений Минусинского округа князя Голенищева-Кутузова о возникновении новой деревни под названием "Обетованная", рассвирепел, увидев в этом кощунство и поругание православной веры. Он категорически потребовал переименовать село в честь... предателя Иуды, в Иудино, ибо его насельники предали истинно православную веру и перешли в "жидовство". И с тех пор, на протяжении более 100 лет, деревня официально называлась "Иудино", а неофициально "Молоканы", "Сосы", "Субботина" и наиболее часто "Юдино". Кстати, неподалеку, километров 40 южнее Шушенского, есть и село Субботино, и можно предположить, что были еще и другие поселения жидовствующих, вроде "подозрительных" Моисеевки и Табат (по-древнееврейски: кольцо). Из-за пребывания субботников в Минусинском крае, как сообщает И. Белоконский, там было запрещено селить евреев: боязнь "дурного" влияния и дополнительных "соблазнов". Лишь в 1958 г. "по просьбе трудящихся" село было переименовано в поселок Бондарево...
Вскоре сюда прибыли почти все заледеевские субботники. Впоследствии здесь поселились молокане. Всего же на время
99
посещения села И.П. Белоконским (80-е годы XIX в.) в селе жило 1 000 душ, две трети которых составляли субботники, остальные — молокане20. (При перепечатке воспоминаний Белоконского в "Еврейской старине" в примечаниях добавлено, что местный шойхет г. Лобзовский, работающий 12 лет в селе, сообщил, что в 1911 г. здесь жило до тысячи семейств субботников. Следовательно, несмотря на запрет, евреи, по-видимому, жили в Иудине.) Но в советской литературе можно прочитать и о том, что село Иудино, или благозвучнее Юдино, было населено казаками-староверами21.
Один из исследователей и знатоков проблемы высказывает мысль о том, что известная сибирская фамилия Юдины корнями уходит в упомянутое село22. И действительно, фамилию Юдин носило несколько известных личностей, включая известного красноярского миллионера и библиофила Геннадия Васильевича Юдина (1840—1912), героиню благовещенского конфликта (русско-китайский инцидент в июле 1900 г., когда город подвергся бомбардировке с китайской стороны) Анастасию Юдину и др. Но не все эти сибирские фамилии связаны с интересующим нас селом. Хотя и следует признать связь этой фамилии с еврейским или субботническим происхождением корня. (В сектантстве известен молоканин Осип Петрович Юдин, он же Укол Любавин.)
Геннадий Васильевич Юдин интересовался историей своей семьи. В автобиографии он рассказывает о том, что его дед в Чигирине содержал откуп. Да и сам он свою карьеру в Минусинске начал службой в питейной конторе. Он писал с гордостью: "Занятие и честное ведение питейной торговли в обширном размере в течение 40 лет не считал и не считаю предосудительным, как это общепринято в России"23. Совершил Юдин паломничество в Святую Землю. Среди изданных им книг обратим внимание на "Материалы для истории города Чухломы и рода костромичей Июдиных (1613—1895)" (Т. I—II. Красноярск, 1902) и "Записную книжку Анны Михайловны Июдиной" (М., 1894). Обращаем внимание на "неблагозвучное" написание подозрительной фамилии...
Об Анастасии Юдиной написал книгу Ю.Л. Елец (сотрудник Всеволода Крестовского) "Амурская героиня при осаде Благовещенска китайцами" (изд. 5-е, М., 1901). О своем происхождении она рассказывает, что ее отцом был солдат Деляров, родилась в селе неподалеку от Томска, вышла замуж за крестьянина Константина Давидовича Юдина, разбогатевшего на золотых приисках. Сама, вероятно, была православная. Такие смешанные браки существовали в Сибири. Юдина упоминает своих соседей молокан.
100
Один из рассказов о субботниках на Амуре связан с селом Юдиным. Рассказчик, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что его отец был сослан как сектант-христианин. Сам же он, движимый религиозным исканием, обратился за помощью к грамотному еврею, по имени Иошуа (Нейман?). Последний обучил его древнееврейскому языку, и он, по совету своего учителя, уехал в Минус, где находилось село Юдино, населенное субботниками. Здесь он совершил обряд обрезания. Из Минуса перебрался в известное нам село Зима Иркутской губернии, где также жили иудействующие. Там он женился на субботнице и затем в 1883 г. переехал в Благовещенск. Детям дал хорошее образование. Один из сыновей учился в университете на юридическом факультете, другой сын — учитель, третий — фармацевт. Из дочерей — одна акушерка, другая училась на медицинских курсах, третья вышла замуж за еврея. Все дети — набожные евреи, "живут с евреями заодно". Сам отец очень интересуется еврейством. Он же сообщил сведения о некоторых субботниках Благовещенска:
1) Парфен Трофимович Морозов, бывший крестьянин Самарской губернии, за отпадение от православия и за "совращение" в иудаизм других крестьян сослан в 1858 г. В общей сложности он провел 3 года в тюрьме и 10 лет на каторжных работах на солеварном заводе в Иркутске. Жену с шестью детьми после долгих "увещаний" сослали в Туруханск. С разрешения либерала генерал-губернатора Муравьева-Амурского произошло воссоединение семьи. После отбытия каторги Морозов поселился в Благовещенске. Живет "с евреями заодно", всего в семье 8 душ.
2) Федор Петрович Холодеин, осужден и сослан на Камчатку. Жену в процессе "увещаний" наказали 200 розгами. Была долго без сознания. Сослана в Туруханск. С разрешения Муравьева поселилась в Благовещенске, где дождалась мужа. В этом семействе 14 душ. Одна дочь кончила гимназию, другая вышла замуж за еврея.
3) Никита Романович Попов, с женою и тремя дочерьми выслан в Туруханск, поселился в Благовещенске и всех дочерей выдал замуж за евреев.
Кроме перечисленных, упоминаются еще три семьи субботников, сведения о которых отсутствуют. Молятся все в еврейском миньяне (молитвенном доме, где должны собраться не менее десяти евреев) города Благовещенска, где пользуются услугами шойхета и "прочими религиозными требами", включая обрезания, венчания и похороны. Другие ссыльные сектанты к субботникам относятся уважительно — общие страдания за веру сближают людей. Кроме ссыльных субботников,
101
в Благовещенске живут и переселившиеся иудействующие из европейской России. Среди них особым почетом пользуется семья Ершовых. Ее глава — Иван Кондратьевич, по профессии бухгалтер, начитанный и образованный человек, успешно ведет диспуты с православными миссионерами и священниками. Его дети получили среднее и высшее образование. Другие субботники занимаются пароходством, торговлей и кожевенным делом. Неподалеку от Благовещенска в деревне Петропавловск проживают девять субботнических семей в составе 67 душ. Имеют миньян, молятся на "лошон койдеш". Носят сугубо библейские имена — Илья, Авраам, Яков, Азар, Давид. Занимаются жители деревни хлебопашеством и скотоводством24.
Один исследователь, посетивший Благовещенск, также отмечает наличие в городе русских субботников, поднаторевших в диспутах с миссионерами и сектантами других направлений. Знание Библии и Нового Завета впечатляюще: иудействующие докапываются до истинного смысла священных книг. Один из геров показал путешественнику огромную Библию на русском языке с пометками: оказывается, он сверяет точность ссылок Евангелия на Ветхий Завет. Вообще геры мечтают родниться с "чистокровными" евреями, объясняя, что им и их сыновьям уже не быть "истинными" евреями, зато внуки будут. Автор сообщает, что идеи сионизма уже широко обсуждаются в Благовещенске25.
Интересные свидетельства о сибирских субботниках привел некий Л. Украинский (вероятно, псевдоним), имевший, видимо, возможность за государственный счет попутешествовать в места не столь отдаленные. Он познакомился с целыми селами, населенными сплошь жидовствующими. Ему было странно видеть типично русских мужичков в национальных костюмах, с великоросским выговором и русскими фамилиями и еврейскими именами: Янкель Ицкович Миронов, Авром Шмуелевич Иванов и т. п. Женщины носили чисто библейские имена: Рохель, Лия, Эстер, Двейра (Двора).* Среди субботников были чистокровные малороссы-запорожцы, родом из Киевской губернии, где эта секта впервые была обнаружена. Автор отмечает их честность, трудолюбие, трезвость, высокое чувство взаимопомощи. Молятся они по-еврейскому образцу, а где есть еврейская синагога, то моления у них общие. Украинский попал в синагогу субботников, которые потрясли его пением псалмов Давида и специальной молитвой: "Смягчи, Господи, участь народа Твоего". "Как кантор, так и молящиеся, пели эту молитву с такой заунывной мелодией, что положительно надрывало душу слушателя и уносило его в область вечно непримиримых религиозных гонений, из-за которых всегда так жалобно стонет земля26".
___________________
* Об этом же пишет Михаил Демин в романе «Таежный бродяга» (Russica Publishers, Inc., New York, 1986, стр. 185-186. — Д.Т.)
102
С большим уважением о сектантах на Амуре писал П.А. Кропоткин. Видел ли он субботников, трудно сказать, но мне кажется, что духоборы не ссылались на Дальний Восток и речь здесь может идти об иудействующих разных толков (поскольку дело было в середине 60-х годов прошлого века): "Я ясно сознал созидательную работу неведомых масс, о которой редко упоминается в книгах, и понял значение этой построительной работы в росте общества. Я видел, например, как духоборы переселялись на Амур; видел, сколько выгод давала им их полукоммунистическая жизнь и как удивительно устроились они там, где другие переселенцы терпели неудачу; и это научило меня многому, чему бы я не мог научиться из книг"27.
Увы, земля обетованная не была наполнена молоком и медом. Все надо было создавать своими руками. Степное приволье (вспомним имя закавказского села) было обманчиво. Никогда не паханная земля, страдающая от засухи, не давала достаточно зерна. Люди жили если не впроголодь, то достаточно скудно. Бедствием было и то, что начальство к сосланным субботникам относилось как к евреям черты оседлости — им не разрешалось заниматься отхожим промыслом, скажем на золотых приисках. Они были военнопленными во враждебной стране или крепостными в руках сибирской администрации. Существуют документальные сведения о том, как "водворялись" сектанты в Сибирь. И хотя они относятся к другой группе протестантов, но эти же факты легко перенести и на субботников: «Казна дедам нашим не помогла. Привел их на место ...чиновник. Стали его спрашивать: "Где жить?" — указал в горах... кругом высокие лесистые горы... Стали пытать: "Чем жить?" — чиновник сказывал: "А вот станете лес рубить, полетят щепки, — щепы эти и ешьте!" Поблагодарили его, стали лес рубить... На восемь дворов одна лошадь приводилась. Поселились. Земля оказалась благодатной. Ожили и повеселели. Приехал знакомый чиновник и руками развел: "Вы де еще не подохли? жаль — очень жаль, а вас — чу! — затем и послали, чтобы вы все переколели"»28.
При основании села Иудина там существовала общинно-уравнительная форма землепользования, которая вскоре распалась. И.П. Белоконский, один из первых посетивший село и собравший сведения от старожилов, писал: "То обстоятельство, что субботникам и молоканам был воспрещен переход из раз избранного места на другое, и что облюбованная ими для деревни местность была окружена землями татар (хакассов. — С. Д.), послужило сначала причиной основания в Юдиной общинного землевладения, а впоследствии повлекло за собой оскудение сектантов"29.
103
Свыше 30 лет страдали иудинцы от засухи. Даже европейская часть России каждые 10 лет страдала от недорода.
ИССЛЕДОВАНИЕ СИБИРИ И РАЗВИТИЕ
ИСКУССТВЕННОГО ОРОШЕНИЯ
Повторимся: 30 лет (1838—1868) иудинцы бились в тенетах нищеты, пока в их селении не появился в одном лице Моисей и Аарон, который своим жезлом (да-да! буквально волшебной палкой!) высек в засушливой степи источник. Этим библейским Моисеем-Аароном был Давид Бондарев.
Будучи человеком внимательным и вдумчивым, Давид Абрамович обратил внимание на большой уклон, по которому спадают в Абакан с Западных Саян речки Сое и Кындырла, и предложил своим односельчанам прорыть каналы среди полей. Любое новаторство, даже на таком уровне, встречает недоверие. "Нет пророка в своем отечестве!" — вероятно, не раз повторял Бондарев. И первое, что сказали его односельчане: "Тимофей тронулся умом, и его нечего слушать". Е.И. Владимиров приписывает эту фразу кулакам Мясиным. К сожалению, в трудах о Бондареве социология играет доминирующую роль и "кулаки Мясины" выступают в них в соответствующей роли. Но, как мы увидим, отношения между Бондаревым и Мясиными этим не ограничились.
Общество выделило Бондареву небольшой участок земли, как мы бы сказали, для эксперимента, и десяток мужиков-добровольцев присоединились к нему. Никто не учил Давида Абрамовича геодезии. В его распоряжении не было ни одного инструмента — ни уровня, ни теодолита. В его руках был лишь волшебный жезл Аарона — обыкновенная палка-желобок длиною в пять аршин (порядка 3,5 м). Начал он от речки Кындырла, выбрал подходящее, по его мнению, место и стал прокладывать будущий приемный и оросительный каналы. "Жезл Аарона" позволял "нивелировать" по 2—3 версты в день. Следом за "пророком" шли артельщики и заступами рыли канал. В первый же год орошенные 50 десятин земли дали обильный урожай пшеницы по 250—300 пудов с десятины! Факт потрясающий, для Сибири невиданный, и имеющий важнейшее значение в зарождающемся экономическом расцвете Иудина. (Для сравнения укажем, что в 1913 г. урожай пшеницы с десятины земли составлял в Бельгии — 168 пудов, в Германии — 157, в Австрии — 89, в России — только 55 пудов!30)
104
Не следует, впрочем, забывать, что русские крестьяне, к которым принадлежал и Давид Абрамович, были людьми суеверными. Но практическая польза прорытых каналов была очевидна. Очень важным в этой связи оказалось знакомство Бондарева с основателем знаменитого Минусинского краеведческого музея Николаем Михайловичем Мартьяновым (1845-1904). Знакомство перешло в тесную дружбу. Мартьянов был ботаником, он-то и подсказал Бондареву мысль об устройстве оросительных каналов, а также рассказал об обширной ирригационной системе этих мест в домонгольское время. Старинные оросительные каналы были созданы древними насельниками енисейской долины — динлинами, которых, по сообщению о. Иакинфа Бичурина, китайские источники считали принадлежащими к белой расе. Все это дивное создание человеческих рук было разрушено вторгшимися монголами ("дополнительный аргумент" в пользу гумилевской теории человечества, осчастливленного ордами Чингис-хана...). Но следы так называемых "чудских" каналов сохранились в пределах деревни Иудино, что значительно облегчало труд крестьян. Поэтому озарение Бондарева подкреплялось авторитетом науки, и нам следует сказать несколько благодарственных слов в адрес Мартьянова и других этнографов Сибири. Тем паче что большая часть исследователей этого края были ссыльными евреями, что все-таки весьма близко нашей теме. Вот небольшой перечень евреев-натуралистов, внесших вклад в освоение Сибири того времени.
Создатель всемирно известного естественно-исторического и этнографического музея, человек, оказавший совершенно исключительные услуги делу изучению края, Николай Михайлович Мартьянов был по национальности еврей (вероятно, крещеный)31. Он родился в Западном крае, в семье лесного объездчика. Из-за материальных затруднений оставил гимназию и поступил в аптекарские ученики — распространенное занятие еврейской молодежи. В 1870-1872 гг. посещал Московский университет, готовясь получить провизорское звание. С 1873 г. служил провизором в Казани и был деятельным членом Общества естествоиспытателей при Казанском университете. Здесь же он написал первую работу о местной флоре. В 1877 г. переехал в Минусинск, где и жил до самой смерти. Основанный им Минусинский музей (открыт 10 января 1877 г. ст. стиля) получил мировую славу. При Мартьянове музей имел 60 тыс. экспонатов и состоял из отделений: естественно-историческое, антропологическое, этнографическое, археологическое, горнопромышленное, промышленное, сельскохозяйственное, нумизматическое, географическое и др. Мартьянов
105
создал Минусинскую метеорологическую станцию и публичную библиотеку, одну из лучших в Сибири. Во времена Бондарева библиотека насчитывала 20 тыс. томов, не считая небольшого отдела рукописей (там позже хранились и материалы, касающиеся Бондарева). В городе имелись также обсерватория и фотолаборатория. И все это создано стараниями одного человека! Мартьянов участвовал в многочисленных экспедициях, составил богатейший гербарий местной флоры, опубликовал множество научных трудов, оказал большое влияние на развитие музейного дела в Сибири. После смерти Н.М. Мартьянова богадельня и детский приют, созданные им, стали носить его имя. В 1902 г. в Казани вышла книга Феликса Кона "Исторический очерк Минусинского музея за 25 лет", где деятельность Мартьянова осталась в тени (по настоянию самого Николая Михайловича). Спустя много лет Ф.Я. Кон восстановил справедливость32. Мартьянов, по словам Кона, принадлежал к типу людей, увлеченных единственной идеей и с настойчивостью (мы бы сказали с фанатизмом) проводящих ее в жизнь. Для этой цели (создание и процветание музея) он привлек многочисленных политических ссыльных — и именно поэтому его считали человеком революционных симпатий, но с тем же рвением он добивался присылки портрета Николая II, ибо считал это необходимым для музея. «Когда однажды Аркадий Владимирович Тырков в беседе о превалирующей в Мартьянове черте поставил вопрос — что делал бы Мартынов в момент революции? — я не колеблясь ответил: "Будет фотографировать баррикады, собирать осколки бомб и гранат и т. д. и т. п. и тащить в музей"»33. С большой теплотой пишет Кон о трудолюбии этого человека, делящего свое время между музеем и аптекой (понятно, что музейное дело превратило его в крупного ученого). Кстати, именно Ф.Я. Кон на чествовании Мартьянова по поводу 25-летия организованного им музея поднес ему адрес от имени минусинских политических ссыльных. С несомненностью можно говорить о влиянии Мартьянова на Бондарева.
Но среди подвижников-евреев было много и других имен, и в первую очередь Владимир (Натан) Германович Тан-Богораз (1865—1935), этнограф, лингвист, поэт, писатель. Сосланный в Сибирь в 1889 г. за участие в южной организации "Народной Воли", он создал словарь и грамматику чукотского языка. Вошел в литературу как прозаик сибирской школы.
Владимир Ильич Иохельсон (1855—1943), ученый-этнограф, друг Богораза. Попал в Сибирь по делу Исполнительного комитета "Народной Воли". Сослан в Средне-Колымск. Вместе с Богоразом принял участие в сибирской экспедиции. Изучал
106
жизнь вымирающих юкагиров и ламутов. Когда Нью-Йоркский музей обратился в Российскую Академию наук с просьбой указать ученых, которые могли бы принять на себя исследование юго-восточной Азии, то Академия назвала имена Иохельсона и Богораза.
Другим крупным ученым был Лев Яковлевич Штернберг (1861-1927). Он проходил по одному делу с Богоразом и Иохельсоном. Его научная карьера — феноменальна. Сосланный на Сахалин, он выучил не только язык гиляков, но и языки других местных народов. Переведенный во Владивосток, издавал в течение двух лет газету оппозиционного направления. Впоследствии как крупнейший знаток сибирских народностей работал старшим хранителем коллекции музея Академии наук.
Большие заслуги в изучении Сибири принадлежат Моисею Ароновичу Кролю (1862-1943), также сосланному народовольцу. В 1895 г. он принял участие в экспедиции для исследования земледелия в Забайкалье. В Иркутске сотрудничал в газете "Восточное обозрение", а затем в петербургской газете "Сибирь". Состоял председателем иркутского "Общества изучения Сибири и улучшения ее быта".
Соломон Лазаревич Чудновский (1842—1912), осужденный по процессу 193-х, работал в области статистики и этнографии. Ему принадлежит заслуга в изучении Алтая и алтайских народностей. Сотрудничал в "Сибирской газете".
Ценный вклад в изучение жизни якутов внес Наум (Нахман) Лазаревич (Леонтьевич, Левкович) Геккер (1862—1920), осужденный по делу Южнорусского союза в 1881 г. Отбыл 10 лет на каторге. Позже участвовал в сибирской экспедиции. Затем, уже работая в европейской России, сотрудничал в различных изданиях Сибири. Работа "К характеристике физического типа якутов" отмечена Уваровской премией Российской Академии наук.
Исаак Владимирович Шкловский (Дионео) (1865-1935) был выслан в 1887 г. в Средне-Колымск. По материалам, собранным в ссылке, издал в 1892 г. книгу "Очерки крайнего Северо-Востока", способствующую знакомству европейских читателей с далекими окраинами.
Феликс Яковлевич Кон (1864-1941) — революционный деятель, писатель и этнограф. В 1884 г. приговорен военным судом к 10 годам каторги. В 1891-1904 гг. проводил антропологические и этнографические исследования, за которые был удостоен Золотой медали Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии и премии им. Расцветова. Кон проделал огромную работу, включающую исследования жизни якутов, русских скопческих поселений, русских сектантов села
107
Усинского, искавших сказочное Беловодье, и т. п. Кстати, во время болезни Мартьянова Кон заменял его на посту директора музея.
К этой же группе ученых относится и сын сибирского еврея-кантониста Николай Васильевич Кириллов (1840—1921), врач, этнограф и климатолог. В течение многих лет он занимался тибетской медициной и несколько лет прожил в Монголии. Пользовался большим уважением у бурятских лам. Помог установить М.А. Кролю контакт с бурятами для проведения этнографических работ.
Намного старше перечисленных выше ученых был Максимилиан Осипович Маркс (1816—1893), родившийся в Галиции. Он учился в Московском университете. В 1866 г. по делу Каракозова был сослан в Енисейскую губернию. В Енисейске основал первую метеорологическую станцию и 12 лет вел на ней наблюдения, работая одновременно в Енисейском музее. По предложению проф. Норденшельда занимался наблюдением за космической пылью и доказал ее существование. Его работы по метеорологии и фауне вышли на русском и немецком языках.
Особняком стоит некий М.М. Дубенский. В молодости — народоволец, сосланный в Сибирь, впоследствии крестился, стал видным чиновником в канцелярии генерал-губернатора. На эту должность попал после участия в экспедиции по двум губерниям Восточной Сибири — Енисейской и Иркутской. Целью экспедиции было составление статистическо-экономического обзора о положении сельскохозяйственного населения. Капитальный труд о землепользовании в Сибири сделал Дубенского одним из крупных деятелей края. Его статьи в "Восточном обозрении" были всегда интересны и обстоятельны. О грехах молодости он никогда не вспоминал, даже если встречался с бывшими товарищами по "Народной Воле"... Об авторитете газеты "Восточное обозрение" не только в Сибири, но и в Европейской России следует сказать особо. За прогрессивное направление она постоянно подвергалась нападкам. Известный антисемит Пятковский в "Гласности" обвинял газету в юдофилии, доказывал получение субсидий от Ротшильда, а про главного редактора Ивана Ивановича Попова, не стесняясь, писал "у нас и такие жиды бывают", обвиняя последнего в получении взяток от евреев. Попов получал анонимные карикатуры на себя и на евреев, подносивших ему золото в мешках34.
Конечно, это не полный список ученых-евреев — сибирских этнографов и климатологов. Эти имена выбраны потому, что каждый из этих людей был современником философа-крестьянина и, возможно, что со многими из них Бондарев встречался.
108
Красочное описание деятельности Д.А. Бондарева оставил писатель и краевед Анатолий Зябрев. По его словам, после разговора с Мартьяновым о древних каналах взволнованный Бондарев, не заходя в деревню, пошел в степь: "Речки Сое и Кындырла стекали круто с северного склона Джойского хребта, вода на пути к реке Абакану набирала большую скорость. Значит, если зайти повыше на склон и воду отвести от берега, она сама подойдет к полям! Вон и следы каналов полукружьями... Верно, никаких углублений нет, все занесено щебенкой да песком, одни лишь рыжеватые полосы видны... Подобралось человек десять, согласились хлопотать перед обществом насчет выделения участка в степи для пробы. Пятьдесят десятин выделило общество. Вышли на склон с заступами. Бондарев смекнул: вырубил обычную толстую палку в пять аршин, сделал в ней желоб. И начал прикладывать ее к земле, идя от берега Кындырлы. Вода в желобок заходит, значит, дальше шагать можно, дальше заступами бить можно"35.
Невиданные урожаи подхлестнули крестьян — в село впервые пришел достаток, стали подумывать о покупке скота, добрых лошадей, но возникла новая проблема, которая на языке политэкономии называется перепроизводством. И это выглядит странным, не так уж много мест в России, а особенно в Сибири, где был бы излишек хлеба. Однако эта проблема к экономике имела косвенное отношение — дело было в том, что ссыльные крестьяне не могли сами вывозить хлеб, ибо не имели права покидать свою деревню. Каждый раз надо было "выправлять вид", т. е. кланяться каждому мелкому чиновнику. Кулаки за бесценок скупали у крестьян хлеб. Н.Г. Гарин-Михайловский точно определил проблему: "Мировые конкуренты сбили цены, — в урожайный год хлеб не оправдывает больше расходов примитивного производства, а в голодный, в силу тех же примитивных условий, втридорога обходится доставляемый хлеб"36. Об этом же говорит и сельский священник в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?":
Угоды наши скудные,
Пески, болота, мхи,
Скотинка ходит впроголодь,
Родится хлеб сам-друг,
А если и раздобрится,
Сыра земля-кормилица,
Так новая беда:
Деваться с хлебом некуда!
Припрет нужда, продашь его
109
За сущую безделицу,
А там — неурожай!
Тогда плати втридорога,
Скотинку продавай37.
Читал и любил Давид Абрамович Некрасова, и несложная политэкономия, изложенная в поэме, была понятна ему.
Итак, в течение нескольких лет орошение давало обильные урожаи, но сбыт находился в руках практически одного человека, монополизировавшего это дело и потому сбивавшего цену. И опять на сцену выступает Бондарев. Зависимость иудинцев от вышестоящего начальства — очевидна. Чтобы продавать хлеб, нужно было получать каждый раз "вид", разрешение, терпеть бесконечные злоупотребления и взяточничество, начиная от станового до самого верха. И это в стране, освобожденной от крепостной зависимости, в Сибири, не знавшей помещичьего землевладения и так нуждающейся в своем хлебе. Давид Абрамович обращается с прошением к Енисейскому губернатору Л.К. Теляковскому с просьбой разрешить крестьянам села Иудина самим сплавлять хлеб вниз по Енисею, на золотые прииски. Положение губернской администрации было затруднительно: с одной стороны, ими велась борьба с отступниками от истинной веры, с другой — Петербург требовал расширения посевных площадей в Минусинском крае. Казна знала, что из сотен тысяч пустующих земель с трудом обрабатывалась десятая часть38. Допускаю, что прошение было написано таким образом, чтобы не оставить властям выбора. Разрешение было получено, и с этого времени иудинцы сами на барках стали сплавлять хлеб на золотые прииски за 1 400 верст. Это стало решающим фактором в стимуляции труда иудинских крестьян. С этого времени в их дома пришел достаток. И все это благодаря стараниям и энтузиазму Бондарева. Возможно, что с этого времени за Минусинским краем утвердилась репутация "Сибирской Швейцарии". Владимир Ульянов писал своей матери и сестре об этих краях, что лето он проведет в "Сибирской Италии", где пейзажи напоминают Швейцарию (письмо от 17 апреля 1897 г.) Но, кажется, мы где-то читали о деревне, где были здоровые овцы и лошади, а коровы были "толще московских купчих":
Горсточку русских сослали
В страшную глушь за раскол,
Землю да волю им дали;
Год незаметно прошел
Едут туда комиссары,
Глядь — уж деревня стоит,
110
Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит,
Мельницу выстроят скоро.
...............................................
Вновь через год побывали,
Новое чудо нашли:
Жители хлеб собирали
С прежней бесплодной земли.
...................................................
Так постепенно в полвека
Вырос огромный посад —
Воля и труд человека
Дивные дива творят39.
И, действительно, два важнейших компонента: Воля и Труд — создают сытое благополучие, но не все так просто, как в поэме Некрасова. Вообще иудинцы всегда старались помочь не только друг другу, но и другим. В Иудино пришло письмо из Красноярска с просьбой помочь погорельцам хлебом. Общество отпустило из экономического магазина 50 пудов. Многие предлагали дать больше, но, к сожалению, "кобылка весь хлеб поела"40.
БОРЬБА ЗА СВОБОДНУЮ ТОРГОВЛЮ
Следующим этапом в жизни крестьянина Бондарева стала борьба за создание общественной торговли, и не только в своем селе, но и во всей России. Вопрос об общественной кооперации, без сомнения, был подсказан минусинскими знакомцами Давида Абрамовича. Нигде — ни в воспоминаниях самого Бондарева, ни в воспоминаниях о нем, ни в переписке — никогда не появлялось имя Николая Гавриловича Чернышевского. А ведь не слышать и не знать о нем иудинский отшельник не мог. Тем паче, что его ближайшие приятели в Минусинском музее — все сплошь шестидесятники и народовольцы, да и сам сосланный Чернышевский, по сибирским меркам, был почти сосед. В прошлом веке для поколения шестидесятников и последующих Николай Гаврилович был Учителем с заглавной буквы, обладал огромным авторитетом. Мерки сегодняшнего дня не должны заслонять от нас прошлого. Чернышевский был, как теперь говорят, знаковой фигурой своего времени, и то, что сегодня его никто не читает — так мало ли кого
111
из хороших литераторов прошлого начисто забыли! То, что для Н.К. Михайловского и В.И. Ленина роман "Что делать?" был настольной книгой, не добавляет ей привлекательности. Но что скажет современный читатель, знакомый с пишущей машинкой или ксероксом, если узнает, что спустя и 30 лет (!) после публикации в "Современнике" запрещенный роман переписывали от руки. Так, в семинарии некий бурсак Неаполитанский переписал весь роман целиком41. Пройдет еще 30 лет, и жрецы и жертвы революции на берегах Сены будут воспевать не только "честной" динамит и револьвер, но и Вилюйского ссыльного:
Выпьем мы за того,
Кто повешенный спит,
За револьвер его,
За честной динамит.
И еще за того,
Кто "Что делать?" писал,
За героев его,
За святой идеал42.
"Моисеем-пророком наших социалистов" назвал Чернышевского историк Н.И. Костомаров, человек крайне правых взглядов, оценивающий формы деятельности социалистов как "чудовищные"43.
И даже сам Лев Николаевич Толстой, в свое время писавший Н.А. Некрасову о "клоповоняющем господине", к концу жизни говорил А.Б. Гольденвейзеру о многих очень хороших, высоких в нравственном отношении мыслях, присущих Чернышевскому. Примером может служить запись в Дневнике от 19 декабря 1888 г.: "Вечер читал. Статья Чернышевского о Дарвине прекрасна. Сила и ясность..."44
А мысли, заложенные в романе "Что делать?", могли пригодиться правдоискателю Бондареву. Знаменитый второй сон Веры Павловны как раз касается важнейшего: Чернышевский провозглашает Труд главным элементом жизни. Возможно, что эта искра взбудоражила Давида Абрамовича. Ведь сон Веры Павловны был посвящен самому главному в жизни Бондарева — выращиванию хлеба. Напомним, во второй сон введен диалог между Лопуховым и Мерцаловым о разных условиях произрастания пшеницы: накануне между героями романа шел спор о химических основаниях земледелия по теории Юстуса Либиха, родоначальника современной агрохимии. И более того — снится Вере Павловне, что Алексей Петрович и ее муж ходят по полю и рассуждают о корнях, колосьях, пшенице, дренаже и т. п., т. е. происходит разговор, должный заинтере-
112
совать крестьянина-хлебороба. Даже "дренаж" почвы в иных климатических условиях — обратное искусственному орошению Минусинской степи.
И если Труд — главное, то следует продумать и его разумную организацию. Еще в работе "Капитал и труд" (1860) и "Очерках из политической экономии (по Миллю)" (1862) Н.Г. Чернышевский требует, "чтобы работники сделались из наемных людей хозяевами", а организация труда должна зиждиться на основании товарищеских ассоциаций, ибо "экономическая история движется к развитию принципа товарищества". Идея кооперации целиком охватила Бондарева. Неизвестно, читал ли он роман, но вполне вероятно, что сотрудники Минусинского музея ознакомили его с основными идеями Чернышевского45. Напомним, что Бондарев был в меру начитанным человеком. Он еще у себя на родине познакомился с произведением А.Н. Радищева, а в Минусинске ему достали полный текст "Путешествия из Петербурга в Москву", откуда он хорошо усвоил многое. Итак, как видим, для Бондарева идея кооперации упала на подготовленную почву, но для Сибири это было делом необыкновенным. Законопослушный Бондарев через минусинского исправника отправил губернатору прошение, которое, как водится, до адресата не дошло. Упорный Бондарев шлет запрос: почему на свое прошение он не получает ответа. Губернатор предписанием от 28 июня 1895 г. потребовал от исправника прошение. И лишь после этого минусинский окружной исправник переслал прошение Бондарева губернатору со следующим донесением-доносом:
М.В.Д.
Минусинского окруж- Его превосходительству
ного исправника. господину
Октября 5 дня 1895 г. Енисейскому губернатору
№ 1052
г. Минусинск.
Во исполнение предписания от 28 июня сего года за № 4997, представляя при сем присланное при упомянутом предписании прошение крестьянина Бейской волости Тимофея Бондарева, ходатайствующего о разрешении открытия общественной торговли, отзыв того же Бондарева, данный с минувшего сентября в разъяснении приведенного прошения, и представленные им гербовые марки, на сумму один рубль сорок копеек, имею честь донести вашему превосходительству, что Бондарев, как донес мне земский заседатель 4 уч. вверенного мне округа, уже несколько лет занимается исключительно составлением проектов и статей преимущественно обличительного характера, часть которых переведена и отпечатана на французском языке, как видно из имеющейся у Бондарева переписки с графом Л.Н. Толстым.
Окружной исправник (подпись)
113
Само же прошение — блестящий пример эпистолярного наследия Д.А. Бондарева: сочетание доступности, образности, хитрецы; язык, совмещающий канцелярские обороты и народные выражения, с обязательным вкраплением нескольких пословиц и поговорок и даже неологизмов ("гнитнули"). Обращение к губернатору лишь предлог, его адрес — вся Россия, весь мир, вселенная, короче — "URBI ET ORBI":
«Его превосходительству
господину Енисейскому губернатору.
Крестьянина Минусинского округа,
Бейской волости, дер. Иудиной,
Тимофея Михайловича Бондарева.
ПРОШЕНИЕ
Верно знаю я, что настоящее мое прошение оно выходит из круга поручений ваших, но я представляю его Вашему превосходительству только по той причине, что не знаю, в какое министерство подать его. Поэтому прошу Вас, примите Вы на себя труд этот и представьте его в то место, куда оно по изложенной силе следует.
С целью избавления людей от нищеты, без всяких корыстных видов, с понесением великих трудов, среди забот и попечениев крестьянских, 19 годов ходатайствовал я перед правительством о разъяснении и распространении трудов трудолюбия в мире, которое есть главнейший источник всех благ света сего. Но правительство этого моего ходатайства не приняло, а с омерзением назад за себя бросило, что Вашему превосходительству довольно известно. Но и быть по тому. Вместо сказанного блаженства я розыскал другое врачество для бедных людей от постыдной нищеты. Какое же? Вот оно!
Как люто и как тяжко угнетают нас деревенские наши кулаки (торговцы), чего подробно описывать здесь не время и не место. А люди — одни по бедности, а другие по глупости чуть-чуть не боготворят их, где он пройдет, то они готовы следы ног его целовать.
По всему вышеизложенному мною, прошу тебя, правительство, сделайте вы так, чтобы во всякой деревне одна была бы общественная товарная торговля и чтобы кроме ее никто не имел права торговать; вот этим вы их, этих наших мироедов, обуздаете и на кукан посадите. А кроме этого, вы никаких мер не найдете, чем спасти людей от этих злодеев.
Вы сделали государственный банк, чтобы из оного деньги людям давать, а в пользу ли им это? Нет: они сегодня деньги из банка получили, а завтра они перешли в кулак кулаку. И вы этими миллионами обогащаете одних только мироедов, а не людей.
А будет ли с общественной торговли польза людям? Будет, великая польза будет! Я весь этот план нарисовал в воображении, и как в зеркале, ясно увидал, что тогда люди как на крыльях вспорхнут выше облак и избавятся они от нынешней тяжкой нищеты и от нестерпимого горького убожества. Вот доказательство тому.
114
В нашей Иудиной деревне на 180 дворов жителей наши кулаки получают с нас на одном чае 490 рублей пользы, это я верно считал. Это в год; то что же можно представить на прочем и прочем товаре, сколько они с нас берут пользы? Об этом стоит подумать и притом вздрогнуть. А если бы была у нас общественная торговля, тогда бы все эти десятки тысяч были бы в нашем общественном кармане. А теперь где они? Это есть вопрос. "У черта в зубах", — это есть ответ. А мы, мужики, растрепали губы да и стоим перед ними у порога и с бледностью покрытом лицом и с поникшею головою просим правительство, чтобы дозволили нам иметь в деревне одну общественную товарную торговлю, а этим мироедам запретили бы делать нам перебой или запинание.
Они с нас получают не деньги, у нас денег нет, работаем мы у них, как бывшие у помещиков рабы, одно только жалко то, что крепостных прав недостает на нас. Начиная с первого декабря и по первое марта, мало не вся деревня на железном заводе на них работает, на своих конях, где нужно овес и сено. На золотые прииски, туда и обратно 300 верст, возим им свой хлеб за баснословно низкую цену, и многие и многие несосчитанные работы мы на них работаем. Вот откуда они получают многие тысячи денег, а если бы мы имели общественную торговлю, тогда мы и эти многие тысячи имели в своих руках, мы тогда бы жили как одно дружелюбное семейство. Это все я говорю не об одной нашей деревне, а о всем мире, о всей России, потому что эти мироеды — они везде есть.
Когда я разъяснил все сказанное здесь и более своим общественникам, то с какой радостью они приняли совет мой, по этому видно, что если бы услыхала и вся наша Россия это, то и вся она так же приняла бы это уважение, а кулаки наши так зверовидно на меня при этом взглянули и как крепко когтями меня гнитнули.
Главнейший вопрос: где мы деньги возьмем на первое обзаведение торговли?
Спрашивается: могут ли общественники содержать сказанную торговлю? Могут, без сомнения могут. Я думаю, вы, правительство, слыхали всемирную поговорку: "На мужике зипун сер, а разум его не черт съел", а еще говорят малороссы: "Це дiло треба розжуваты". Да не розжуем, не тужи и не думай!
Всякое дело, на свете небывалое, оно и не вдруг и не сразу полным в свет является, а сначала одно только напоминание, один только зародыш, а потом мало-помалу и время от времени вполне усовершенствуется. Слово в слово также и мое настоящее, на свете небывалое, дело — это один только зародыш, одно только напоминание, а со временем, когда мы скинем с глаз наших ту прочную завесу, которую с древних времен накинули кулаки на глаза наши, вот только тогда мы увидим вполне свет истинный, вот тогда только мы это дело, т. е. общественную торговлю, вполне усовершенствуем.
Первое мое ходатайство перед вами "О тунеядстве" вы опровергли потому, что там великая преграда была тому, какая пышность да роскошь знаменитых людей, с какой стороны и ни откуда никакой преграды для вас нет, потому уверят меня какое-то предчувствие, что вы это примете. Теперь мы как алчущие хлеба и как жаждущие воды будем ждать от вас этого распоряжения. И к этому несомненному ожиданию правую и левую руки приложил
Т. Бондарев»46.
115
Получив столь оригинальное прошение и, по-видимому, вспомнив о других "художествах" иудинского новатора, губернатор запросил жандармское управление, и на запрос получил "конфиденциальный" ответ:
«Начальник Енисейского Конфиденциально.
губернского жандармского
управления. Его превосходительству
Января 15 дня 1896 г. господину
№ 46 енисейскому губернатору
гор. Красноярск.
На отношение Вашего превосходительства от 18 ноября 1895 года за № 1680 имею честь уведомить, что по тщательно собранным помощником моим в Минусинском и Ачинском округах, негласным путем, сведениям о крестьянине Тимофее Бондареве оказывается нижеследующее: означенный Бондарев уже старик под 70 лет, человек начитанный, много пишет обличительных статей и сочинений по поводу "Трудолюбия и тунеядства"; некоторые из своих сочинений, как плохо грамотный посылает на исправление к известному писателю графу Льву Толстому, которому он, очевидно, хорошо известен и с которым состоит в переписке. По слухам, какое-то из сочинений Бондарева было исправлено графом Толстым, но неприятием этой статьи русскими журналами таковая графом Толстым была направлена в Париж и там напечатана в одном из французских журналов, кажется, в "Revue des deux mondes" или "Debats".
Обо всем этом, как говорят, граф Толстой сообщил Бондареву.
Среди своих односельчан Бондарев проповедует против кулачества и легкой наживы. Односельчане Бондарева считают "тронувшимся умом", хотя, по-видимому, он рассуждает здраво.
При сем имею честь возвратить вашему превосходительству дело енисейского общего губернского управления за № 423.
Полковник Женбах» 47.
В этом отзыве поражают несколько моментов. Во-первых, секретность информации, которую вряд ли стоило добывать сыскным путем. Во-вторых, противоречие: признание начитанности иудинского крестьянина, с одной стороны, и обвинение его в неграмотности — с другой. Дальнейшее — полная глупость: "посылать на исправление" "обличающие" статьи Толстому — и это в стране тотальной цензуры. Но, с другой стороны, мы чувствуем, что власть колеблется и власть уважительна: имя всемирно известного писателя — надежный щит иудинского пахаря — "тронувшийся умом рассуждает здраво". И здесь Давид Абрамович попал в сонм великих русских имен — литературных и исторических: кого в России не признавали умалишенным?
Одновременно к губернатору поступили прошения из других мест — из села Тесь Минусинского уезда и села Рождест-
116
венского Казачинской волости Енисейского уезда. Вероятно, село Тесь тоже было населено субботствующими, ибо один из крестьян этого села Осколков был другом Бондарева и приезжал к нему советоваться по поводу открытия кооперации. Произошло следующее: енисейский губернатор воспользовался формальностью и отказал в просьбе иудинцу, так как прошение было подано не от всего общества, а лично от Бондарева. Прошение же теснинских и рождественских крестьян было передано губернатором в вышестоящие инстанции — генерал-губернатору Восточной Сибири и в Петербург. 25 января 1896 г. поступило предписание минусинскому окружному исправнику:
"Вследствие донесения от 5 октября минувшего года за № 1052, по прошению крестьянина Бейской волости, дер. Иудиной, Тимофея Бондарева о разрешении открытия торговли мануфактурными товарами на средства общества, предлагаю объявить просителю, что упомянутое его ходатайство мною оставлено без последствий, так как таковое возбуждено исключительно самим Бондаревым без уполномочия общества.
Губернатор Теляковский.
И.о. советника Зейдель".
На отказ Бондарев отреагировал незамедлительно, в день ознакомления с ним:
"Я, крестьянин деревни Иудиной, Бейской волости, Тимофей Михайлович Бондарев, на предъявленное мне сего числа г. земским заседателем 4 участка, Минусинского округа, предписание его превосходительства господина енисейского губернатора от 28 июня с. г. за № 4997, имею честь отозваться, что прошением своим в июне месяце я ходатайствовал перед его превосходительством об открытии торговли мануфактурными товарами на средства сельского общества не исключительно в деревне Иудиной, а вообще повсеместно по Енисейской губернии, и цель моего ходатайства — облегчить население от нищенства, вследствие дороговизны необходимых товаров при настоящем положении этого дела, т. е. пока торговая операция в руках местных богачей деревни Иудиной, почему я и не нашел необходимым брать на подобное ходатайство уполномочия от иудинского общества. При сем представляю гербовых бумаг на один рубль 40 коп., так как при прошении моем уже приложено при подаче его таковых на 20 коп.
В том и подписуюсь крестьянин
Тимофей Михайлович Бондарев.
Отзыв отбирал земский заседатель (подпись)"48
117
Это письмо необыкновенно интересно логикой и аргументацией, а также тем, что крестьянин Бондарев хорошо знал счет деньгам. Эта переписка датируется 1896 г. Напомним, что в следующем, 1897 г. в России прошла первая всероссийская перепись населения. Она дала печальные результаты: в Европейской России (без Привислинского края) грамотных было 22,9%. Но даже этот процент весьма условен. Так, например, в Иркутской области во второй половине 80-х годов исследователи нашли, что полуграмотные составляют от 27,3 до 50,9% общего числа грамотных49.
М.И. Осколков вспоминает, что в начале 1898 г. была открыта кооперативная лавка в их селе, с чем и поздравил их письмом Давид Абрамович. В письме он "на все корки костил губернатора и правительство вообще"50. После смерти Бондарева кооперация пришла и в его село. Увы, он ее не дождался.
ГЛАВНЫЙ ТРУД БОНДАРЕВА
И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Жизнь труженика оборвалась, и мы бы никогда не заинтересовались его судьбой, если бы он сам ее не описал. "Народ безмолвствует" — расхожая фраза, но Бондарев заговорил и записал свои мысли.
В зимнее время, когда досуга было больше, Давид Абрамович обучал деревенских детей грамоте; многие приходили издалека, так как школ в окрестностях не было. Учить стало душевной потребностью Бондарева: он любил передавать свои знания другим, а в последние годы жизни, когда физически ослабел и хозяйство вел сын, он поселился в отдельной избушке, размышлял и записывал пришедшие в голову мысли. Иногда его посещали политические ссыльные, сектанты или просто заезжие интеллигенты, и он яростно спорил с ними, не столько пытаясь их переубедить, сколько стремясь удостовериться в своей правоте. Источники сообщают, что он обучал бедных детишек и сирот бесплатно. Еще в 40-х годах нашего века старшее поколение иудинцев были сплошь питомцами его школы, охотно вспоминавшими своего мудрого Учителя. В летнее время старик скучал по своим ученикам. Так рассказывал его сын51. Отношение русского субботника к воспитанию и обучению сродни тому, что сложилось среди евреев. Известна величайшая тяга еврейства к знаниям. Я бы сказал, остервенение в учебе. Сказано во Второзаконии: "Слушай, Израиль:
118
Господь, Бог наш, Господь един есть... И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая" (Второзаконие 6:4, 6, 7). Но и талмудическая литература подчеркивает значение школьного воспитания: "Мир держится только лепетом детей в школе" (Трактат Шаб., 119) Еще более удивительна система еврейского воспитания: лишь в XVII в. в Европе появилась школа Яна Амоса Каменского. В Талмуде и у Маймонида рассмотрены отношения между учителем и учениками: идеалом служат мягкие, семейные, основанные на взаимном уважении друг к другу. Этому примеру и следовал в своем отношении к детям Давид Абрамович. Для Бондарева учительство было и способом проповеди своих идей молодому поколению односельчан. В 1889 г. он писал Л.Н. Толстому: "Я занимаю в своей деревне должность учителя, у меня 60 человек учеников, которые могут свободно читать...". Некоторые подробности сообщил крестьянин, впоследствии член колхоза "Красный пахарь" А.А. Милюхин, 1880 г. рождения, проучившийся у Бондарева зиму 1889—1890 гг. (сделаем скидку на время записи разговора — 1947 г.): «Школьного здания не было, занимались в доме какого-нибудь богатея, сдававшего "горницу" под школу и кормившего вместе с батраками учителя. Казна жалованья не давала. Учил Бондарев по Псалтири и Св. Писанию. Вскоре я научился правильно писать буквы и цифры, составлять слова и читать. Многие из детей, как и я, в одну зиму "заканчивали" образование. Вместе с русскими учились и дети хакассов из соседних улусов. Учились и девочки. Тимофей Михайлович никогда нас телесно не наказывал, особо провинившихся иногда ставил в угол. Задав нам урок, он часто размышлял вслух. Я был очень мал, поэтому не все понимал, но одно хорошо помню: Тимофей Михайлович говорил, что нет пуще греха, как тунеядство»52. Любопытно, что в субботническую школу ходили инородцы. В памяти всплывают некоторые фрагменты речи Максима Горького, произнесенной в Нью-Йорке в 1906 г., как раз касающиеся субботников, русских и евреев и совместного обучения: "Что у нас в народе нет антисемитизма, показывает, между прочим, существование секты субботников, празднующих еврейскую субботу и соблюдающих некоторые обряды, носящие в себе дух еврейской религии. Что же касается меня лично, то я уже с самого детства питаю глубокую симпатию к евреям (курсив мой. — С. Д.). Самые светлые воспоминания моей жизни содержат в себе одновременно и воспоминания о евреях. 14 лет тому работал я в качестве простого работника на еврейской ферме. Еврейские и хри-
119
стианские земледельцы жили между собой очень дружно. Христианские дети охотно посещали еврейские училища — других училищ там не было"53. Что касается замечания об отсутствии антисемитизма в русском народе, то мы оставим его на совести писателя (думаю, во времена гражданской войны М. Горький пересмотрел многое, в том числе и этот тезис), но вот по поводу слов о симпатиях с детства — это очень интересно. И, кроме того: "Я очень рано понял, что у деда — один Бог, а у бабки — другой... Позднее, бывая в синагогах, я понял, что дед молится, как еврей..."54. Возможно, дед писателя принадлежал к какой-то секте.
Из других учеников, давших сведения М.В. Минокину, интересные воспоминания оставил Д.Г. Федянин; он был старше Милюхина на 5 лет, а потому помнил больше. Да к тому же он мог лучше наблюдать за работой Учителя, потому что школа была на дому у его отца — Г.П. Федянина, скончавшегося в 1909 г. Федянин подтвердил все сказанное Милюхиным о методе преподавания Бондарева, но в дополнение сообщил подробности многих рассказов Давида Абрамовича. Основная мысль субботника сводилась к восхвалению труда и к порицанию тунеядства. Все должны трудиться. На вопрос ученика: "А зачем работать генералу?" — ответ был прост: "Трудиться должен каждый, кто бы он ни был. Все должны в поте лица своего зарабатывать себе хлеб. Даже генерал может обработать одну десятину: больше от одного человека не требуется".
Однажды Тимофей Михайлович пришел в класс возбужденный. "Какой предмет самый важный на мельнице? — спросил он учеников и, когда те не смогли ответить, торжественно сказал: — Жернов! Он обращает зерно в муку. Его нельзя ценить ни на серебро, ни на золото. Что же можно сказать о том, кто добывает это зерно? Земледелец, всю жизнь работающий хлебную работу, тот же жернов, нет ему цены — он бесценный"55.
В сноске указано, что "жернов" фигурирует в ряде произведений Бондарева. И это не случайно. Знаток Библии, он хорошо усвоил текст Второзакония, где "жернов" метафорически уподобляется человеческой душе: "Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова; ибо таковый берет в залог душу" (Втор. 24:6). Остановившиеся мельницы, звук умолкнувших жерновов в Библии приравнивается к самой смерти: "В тот день, когда... перестанут молоть мелющие... когда замолкнет звук жернова... отходит человек в вечный дом свой... И возвратится прах в землю, чем он был; а дух возвратится к Богу, Который дал его" (Еккл. 12:3, 4, 5, 7). Да и пророк Иеремия, этот, по словам писателя Г.Я. Красного-Адмони, "идеальный образец народного трибуна", в какой-то мере ду-
120
ховный близнец сибирского оракула, вкладывает в понятие жернова тот же самый смысл: умолкнувшие жернова — это смерть, а работающие — жизнь: "И прекращу у них голос радости и голос веселия, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника" (Иер. 25:10). Да, знал сибиряк Священное писание! Далее в рассказе Федянина на сцене появляется священник, явившийся в субботническую школу по поручению духовных властей увещевать Давида Абрамовича. Спор между ними был очень горячим, но он остался без последствий...
В самом конце жизни Бондарева, в 1897 г., у него появляется коллега — учитель П.В. Великанов. Проработал он в школе 8 месяцев, а затем уехал в Москву. Между собой учителя были дружны, Давид Абрамович называл его самым своим близким другом после Толстого, свидетельством чему служит активное участие Великанова в составлении Бондаревым своей надгробной надписи, о чем будет речь ниже. Павел Васильевич Великанов (1860—1945), земский учитель, какое-то время находился под влиянием толстовства и в личной переписке с Толстым, правда, потом пути их разошлись, о чем с горечью писал Лев Николаевич. Еще одна живая ниточка, соединяющая сибирского отшельника и яснополянского старца.
За 30-летнюю учительскую практику сибирского мудреца все дети села Иудина прошли его школу, а под конец его жизни у него учились уже дети его первых воспитанников. И у всех он оставил благодарную по себе память.
Внешним толчком к созданию Бондаревым его труда, как это уже бывало с ним, послужил как будто незначительный факт. Он так рассказывает об этом: "Нелишним признаю объясниться перед читателем, что меня первоначально понудило принять на себя труд этот. Была ли у меня притом корыстная цель? Нет, не было! А вот какой случай невольно заставил меня дело это принять на себя. В 1874 году, в августе месяце, на закате солнца, иду я с уборки хлеба. Первое — от преклонных годов, а второе от тяжких дневных работ, едва ноги передвигаю, а дорога моя состоит из пяти верст. Едет навстречу один мало-мальский знатненький господин на легком тарантасе, облокотился на красные подушки, лицом на мою сторону. Я, не поровнявшись с ним пять шагов, снял шапку и ему поклонился. И что же? Он на мой поклон ни рукою, ни головою никакого признака в ответ не сделал, а только с каким-то омерзением сподлоба взглянул на меня. И этот варварский его поступок против меня, как острый нож, прошел сквозь сердце мое и убил печалью нестерпимою мою душу. И тут я поговорил кой-что заочно с ним, а от него перешел и ко всем ему
121
подобным шарлатанам. Прежде я чувствовал усталость в ногах, а теперь про нее забыл. Иду и ног под собой не слышу. Вот это был первый толчок, принудивший меня принять на себя труд этот" 56.
С момента пережитого Бондаревым озарения (ему тогда было 54 года) односельчане могли наблюдать неоднократно любопытную картину: застигнутый мыслью, он застывал на месте, "становился в позу древнего мудреца Сократа" и, увы, ни криками, ни просьбами сдвинуть его с места было невозможно до тех пор, пока он ясно не продумает до конца и не занесет огрызком карандаша выношенное на клочок бумаги. Безусловно — высшая сосредоточенность у Давида Абрамовича проявлялась непосредственно, посему крестьяне были уверены, что он "тронулся", но кто изучал творческий процесс, ничего удивительного в его поведении не найдет.
В своих очень ценных воспоминаниях народоволец Иван Петрович Белоконский (1855—1931), лично знавший Давида Абрамовича, писал: «Система писания "Торжества земледелия" весьма оригинальна: с момента встречи с чиновником до окончания труда Бондарев не выходил из дому без клочка бумаги и кусочка карандаша для того, чтобы записывать каждую мысль, возникшую в его голове по поводу главного сюжета, с которым мы ознакомимся при изложении учения; боронил ли он, пахал ли, ехал ли в лес или просто шел куда, он вечно думал, и раз приходила какая-либо достойная внимания мысль — Бондарев останавливался и заносил ее на бумажку, чтобы внести в "учение"»57.
Приходя домой, Бондарев удалялся в свою отдельную хижину (подобие деревенской баньки), где стулом ему служила деревянная чурка, а письменным столом грубо сколоченная импровизация из другой чурки и куска доски, и "набело" чернилами переписывал "выношенное".
Вероятно, к началу 80-х годов у него уже была готова длинная 200-страничная рукопись, озаглавленная "Торжество земледельца, или Трудолюбие и тунеядство". Первый вариант своего труда Бондарев создавал, по некоторым сведениям, около 10 лет (1874-1883 — М.В. Минокин), по другим — около 5 лет (И.П. Белоконский), по третьим: "С 1880 года Бондарев теряет, наконец, терпение буддийского созерцания жизни и с увлечением и с чисто сектантским упорством начинает писать, в течение 18-ти лет занося свои мысли на бумагу"58. В любом случае — это было выверенное и обдуманное сочинение. С точки зрения литературной, Белоконский был прав, усматривая в произведении Бондарева повторы и длинноты. Все-таки иудинский Сократ не посещал "сады ликеев и академий", но
122
за основную мысль он держался крепко. Безусловно, он знал былины и посему характерный для них зачин определял содержание работы: «На два круга разделяю я мир: один из них возвышенный и почтенный, а другой униженный и отверженный. Первый пышно одетый и за сластьми чужих трудов столом в почтенном месте величественно сидевший — это привилегированное сословие.
А второй круг — в рубище одетый, изнуренный тяжким трудами и сухоядением, с унижением и с поникшею головою, с бледностью покрытым лицом у порога стоявший — это бедные хлебопашцы... (в изд. 1906 г. вместо "хлебопашцы" — "земледельцы". — С. Д.).
Теперь обращаю я слово мое к своим товарищам-хлебодельцам, с унижением стоявшим, и говорю им так: "Что мы все веки и вечности стоим перед ними с унижением и с молчанием пред ними, как животные четвероногие?"
Теперь выступаю я, Бондарев, из среды своего круга, у порога стоявшего, и задаю следующие вопросы». Этих вопросов было поначалу 145, затем их число увеличилось до 250, большинство которых повторяют одну и ту же мысль, варьируемую философом.
Нетрудно заметить, что начитанный крестьянин использовал для классового разграничения эксплуататоров и эксплуатируемых литературные штампы из Виктора Гюго и Ф.М. Достоевского. Читал ли Бондарев роман "Отверженные" — трудно сказать, но что касается автора "Униженных и оскорбленных", то он, несомненно, был знаком ему. Друзья из Минусинского музея недолюбливали "ренегата", бывшего петрашевца, перешедшего в стан "ликующих", но уважали его литературный талант, поскольку его оценил в свое время "сам" Виссарион. Есть один беллетризованный рассказ о том, как Тимофей Михайлович посетил место ссылки писателя. В 1887 г., пробираясь в Европейскую Россию на встречу с Толстым, Бондарев въехал в город Кузнецк, где по редкому стечению обстоятельств, случайно, переночевал в доме на Полицейской улице, на карнизе которого прочитал сделанную небольшими буквами надпись: "Здесь жил Федор Михайлович Достоевский в 1858 году". И это решило его судьбу: он остался еще на один день в Кузнецке.
Свою работу Бондарев озаглавил: "Трудолюбие, или Торжество земледельца", эпиграфом он взял славянский перевод одного места Библии: "В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят" (Бытие 3:19).
Обращение Бондарева к Старому Еврейскому Богу закономерно. Ибо этот Бог был тружеником. Он — Бог-созидатель.
123
Шесть дней творения, неустанного труда. Есть одно тонкое замечание Соломона Лозинского: «В противоположность греческим богам, проводившим время в бесконечных пиршествах и шумных веселиях, еврейский Бог является вечным тружеником, не знающим "ни дремоты, ни сна, ни утомления, ни усталости"»59. Взяв в руки Библию, мы обнаружим на первых страницах Человека, созданного по Его подобию и помещенного в Эдем не только для вкушения райских плодов, а для труда, первого человеческого труда — обработки земли: "И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его" (можно предложить и такой перевод: "обрабатывать его и стеречь этот сад" (Бытие 2:15). Эдем — это сад труда, а не разгула или увеселения).
Интимное обращение Бондарева к читателям сразу приближает автора к нам: "Во-первых, прошу и умоляю вас, читатели, не уподобляйтесь вы тем безумцам, которые не слушают, что говорит, а слушают — кто говорит. <...> О, други мои, читатели и слушатели, да если бы я не один язык имел, а много, и говорить бы хотел, и тогда не можно бы было подробно поведать все горести те, изнемогут всякие уста человеческие изъяснить муки те. Плакали эти миллионы мучеников неутешно, да никто и не утешал их, вопили они с глубокой той пропасти, да никто и не слышал их; да и Бог, как видно, в те века закрылся облаком, чтобы не доходили к нему вопли их. Словом, были эти миллионы людей в земле темной, в земле мрачной, в дальнейших частях и узилищах адовых.
Это прежде было и всего более в лютые николаевские времена, который горячей огня пек и холодней мороза знобил бедных людей".
Страстное начало. Праведный гнев. Лаконизм и выразительность. Социальный протест. Знаток Ветхого Завета, Бондарев использовал и прибегнул к помощи пророка Амоса, самого социального пророка Израиля: "Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев... А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду" (Амос 5:1, 10).
Основная мысль Бондарева проста — человечество должно трудиться на ниве. Первый человек общества — земледелец. Это не значит, что он отвергает другой труд, и другой труд — похвален. Но государство должно потребовать, чтобы все, без исключения, 30 дней в году трудились в поле. Это — трудовая повинность вместо воинской: "Именем Бога прошу, скажи ты по чистой совести, если поработать тебе хлеб 30 дней в разные времена года, почему ты это признаешь невозможным? Потому ли, что не можешь, или потому, что не хочешь? Скажи чи-
124
стосердечно: или не можешь, или не хочешь? Хлебный труд есть священная обязанность для всякого и каждого, и не должно принимать в уважение никаких отговоров: чем выше человек, тем более должен пример показывать собою другим в этом труде, а не прикрываться какими-нибудь изворотами, да не хорониться от него за разные углы"60. В другом месте он это повторяет (повтор для Бондарева — это не столько авторская неопытность, сколько желание укрепить основную мысль): "Говорят: другой в двадцать раз больше земледельца трудится, — можно ли его назвать тунеядцем?
335 дней в году работай чего хочешь и занимайся чем знаешь, а 30 дней в разные времена года должен всякий человек работать хлеб" — (основная мысль выделена самим Бондаревым. - С. Д:)61. Каждая инвектива направлена против правящего класса, помещиков, чиновников и даже интеллигенции: «Один из вас говорит: "я сегодня несколько строк написал, значит, я в поте лица ем хлеб"...»62 Таких отговорок Давид Абрамович не принимает, прибегая к цитате из Библии: «Каждый из вас скажет: я люблю и от души уважаю как хлебный труд, так и трудящихся в нем, а лодырей ненавижу и гнушаюсь ими, но я так вам отвечаю: "Слышу голос Иакова, осязаю Исава"»63.
Социальный гнев Бондарева находит оправдание в Ветхом Завете: «Дах вам, — сказал Бог в день шестый творения своего — дах вам всякое семя сеющее". Вселенная же вся не повинуется приказу его, сеять не хочет, а свалила эту тяжкую работу на руки того бедного человека, который не в силах стать в защиту сам себе. И хлеборобную землю от него отобрала и на вечное время белоручкам отдала и его собственностью наименовала, то есть тому человеку, который вечно ничего не работает. Вот сколько велика ваша любовь к ближнему, которую вы для нас, а не для себя проповедуете»64. Понятно, что в этой инвективе содержится выпад против христианства. "Любовь без труда.мертва", — провозглашает иудинский мудрец. Это место по силе выразительности не имеет равных в сочинении Бондарева: "Не верны ли мои доказательства, что любовь без труда мертва есть, а труд, происходящий в честь этого закона, без любви живой есть. Потому, что любовь в труде скрыта: это дом ея, это местожительство ея, любовь без труда, как тело без души. Но только и этот закон живой, но не для всех, а только для тех, которые исполняют волю Его; также и для тех, которые от всей души желают исполнять волю Его, то есть работать, но нет на то никаких возможностей. Но для лентяев и для лодырей, — он для них, а они для него жертвы есть. А о любви к ближнему тут и говорить нечего"65.
125
Но Давид Абрамович идет дальше: мир не может существовать как без Бога (вероятно, подразумевается без веры в Бога), так и без крестьянина. "Как без Бога, так и без хлеба, также и без хлебодельца вселенная существовать не может. Тут ясно и верно видно, что Богом, да хлебом, да третьим — земледельцем держится весь свет..." Логика старца железная — место пребывания Бога, точнее, главное пребывание Бога и "коренной дом жительства Его в хлебе да в хлебодельце". Далее идет богохульство: "Уничтожь из трех одно что-нибудь: Бога или хлеб, или хлебодельца, тогда вселенная вся в короткое время должна придти в исчезновение"66. Это место можно объяснить, лишь поняв, что под "уничтожением Бога" Давид Абрамович имел в виду — безверие, атеизм. Тогда все становится на свои места. Великий труд создал сибирский субботник. И это он сознавал. В конце он пишет, что желает выстроить себе "памятник", равный своими достоинствами с "первородным законом": "в поте лица твоего будешь есть хлеб твой", в сравнении с которым все драгоценности света сего есть нуль без единицы, — какой я памятник выстрою себе»67. В итоге он действительно создал великое произведение, дошедшее до наших дней.
В книге Бондарева много противоречий. С недоверием относясь к интеллигенции, он не предвидит, что именно наука и техника облегчат сельскохозяйственный труд. Он пишет: "Как много на свете уму непостижимых хитростей. На всякое незначительное изделие придуманы, например, машины: где бы нужно многим людям работать, там одна машина чище всяких рук человеческих работает. Хлебная же работа, как крестьяне сами придумали еще с незапамятных времен, так и доныне остается в том же виде — иногда самого дела и одной лошади нечего везти, а по неурядице две или три, а в других местах четыре пары быков не в силах поднять". И далее: "Трудно ли бы ему, механику, сказать только несколько слов: сделай вот так и так, и этим вся эта страшная тягость свалилась бы с людей и животных.
Нет, не хочет и близко подойти как к этой гнусной для него работе, так и к работающим ее. Нет у него милости к этим бедным страдальцам, то есть к людям. Хотя бы он сжалился над животными — и того нет. А сам много раз на день принимается есть, под видом только хлеба, а на самом деле кровь да слезы бедных людей и животных.
Вот насколько ты, именитый круг, опроверг нас, а с нами заповедь, а с заповедью и заповедавшего ее.
Не есть ли тут очевидная твоя нелюбовь к Богу и ближнему?.."68
126
Предвидеть, впрочем, научно-техническую революцию не смогли ни граф, ни крестьянин. Конечно, крестьянская работа наиболее трудоемкая и до наших дней. Но уже в конце XIX в. на полях Западной Европы, Америки и Канады сельскохозяйственная техника была не редкостью. Что бы сказал Давид Абрамович, скажем, о французской деревне, где в конце века уже везде было электричество. Россия — самая отсталая страна, но даже в ней происходили медленные изменения. Сергей Федорович Шарапов (1856-1911), "крестный отец" сибирского мыслителя (в его журнале впервые появился труд Бондарева), был не только известным публицистом, но и изобретателем плугов новейшей конструкции и основателем Сосновских мастерских для их производства. Та же самая техника — строительство Великого Сибирского пути, приблизила мир к дому Давида Абрамовича. А что бы он сказал, узнав, что ничтожный процент сельских хозяев Америки кормит чуть ли не весь мир! Но правда и то, что Бондарев в своем труде советовал использовать для повышения урожайности полей искусственное орошения, удобрения и т. п., а не прибегать к жалобам на Бога и неурожай (вопросы 135—136), т. е. в какой-то степени он признавал агрономию. В последнем варианте своего труда Давид Абрамович уделяет некоторое внимание техническому вопросу, вероятно, учитывая "критику" односельчан: "Конечно, есть машины пахать, жать, косить и т. д., но эти машины очень дорого стоят. В силах ли ее бедный человек купить?"69
В труде Бондарева, изданном "Посредником" в 1906 г., были сделаны большие сокращения. Они касаются и еврейской темы. В изъятой части Бондарев требует, чтобы евреи первыми ответили ему на вопрос: "Почему они, евреи, ленятся и тунеядствуют?" Мотивировка этого вопроса ясна: "взысканный Богом народ" должен нести в первую очередь ответственность за свои деяния. И чтобы не было упрека в антисемитизме, он спешит прибавить, что он им не только не враг, но более того — он их единоверец. И если они ему не ответят, это будет только доказательством их отлынивания от труда. В случае молчания со стороны единоверцев Бондарев требует от правительства "насильно заставить евреев заняться земледелием" (это же он повторяет потом в 174 и 175 вопросах)70. Вопросы Давида Абрамовича были услышаны, и он получил достойный ответ, тем паче, что он неоднократно подчеркивал, что исповедует иудаизм, не признавая крайностей Талмуда. Любопытно и то, что основная работа Бондарева озаглавлена одним из исследователей "Труд по Библии"71.
В 1889 г. в Одессе вышла небольшая брошюра Е.А. Шура "Школа и труд по Талмуду (Историко-педагогический этюд,
127
изложенный в форме литературного чтения)". Причем имена Давида Абрамовича Бондарева или его популяризаторов не упоминаются. Но уже в двух эпиграфах изложен ответ на вопросы Бондарева "Мир поддерживается только лепетом детей в первоначальной школе" (Шабат, 119 ) и "Велик труд, ибо он питает человека" (Гитин, 67). В предисловии автор объясняет причины, побудившие его написать свою брошюру. Во-первых, в среде евреев произошли сильные ассимиляционные процессы, заставившие их забыть или игнорировать "родное учение", во-вторых — "обостренное положение еврейского племени в настоящее время и неприязненные отношения всех к этому бедному племени"72.
Идеалом человека, по Талмуду, является гармоническое развитие личности: каждый должен изучать какое-нибудь ремесло. Человек должен заниматься физическим трудом, досуг посвящая развитию своих интеллектуальных сил. То и другое, соединенное вместе, составляет идеал, к которому должен стремиться каждый в своей кратковременной жизни: "Прекрасно изучение закона вместе со светскими занятиями, ибо труд только в этом двояком направлении заставляет забыть о грехе. Одна ученость, не соединенная с ремеслом, под конец оказывается несостоятельной и ведет к преступлению" (Авот 2:2) 73.
Величайшие талмудисты, имена которых пользуются заслуженной славой, занимались трудовой деятельностью и весьма тяжелой, "лишь бы добыть средства к жизни трудом своих рук, а не барствовать, жить трудом других (курсив мой. — С. Д.)"74. Эти слова кажутся дословной цитатой из книги Бондарева. Перечислим наиболее известных талмудистов, владевших не только словом, но и делом. Как известно, великий Гилель был дровосеком, а его оппонент Шамай — плотником. Абба Хилькия — чернорабочим, землекопом, раби Йоханан, ученик раби Акивы — сапожником, посему его прозывали — раби Йоханан-ха-сандлар (делавший сандалии); раби Йосе бен Халафта — кожевником. Ему принадлежат дивные слова: "Кто нетерпеливо ждет Мессии, не имеет доли в будущем мире". Раби Ицхак был кузнецом, Абба Умна — хирург, лекарь, образец еврейского благочестия и бескорыстия, он стеснялся брать плату за свои труды. Раби Абба бар Земина, палестинский аморай IV в. — был портным; Бар Ада — пастухом, Абба Гошеа добывал пропитание стиркой белья. Раби Йегошуа, товарищ великого раби Эльазара — был угольщиком, раби Йосеф — мельником, рав Шешет — лесопилыциком, рав Нехемья — горшечником; раби Йегошуа бен Хананья изготовлял иглы и был кузнецом. Таннай II в. Йегуда бен Илай, говоривший, что не
128
обучающий сына ремеслу толкает его на преступления, сам в течение многих лет был бондарем. Знаменитый законоучитель Шимон бен Лакиш (иначе: Реш Лакиш, около 200-275) в молодости был циркачом (гладиатором) и в своих агадах он часто употреблял выражения, заимствованные из артистической среды. Ему принадлежит изумительный парадокс, важный для нашей темы: "Израиль дорог Богу, но дороже прозелит, потому что Израиль не признал бы Торы без тех чудес, которые Бог проявил на горе Синае, прозелит же не видел ни одного такого чуда и все же посвящает себя Богу"75. Этот список бесконечен. Общий же вывод бесспорен: "Следя... за воззрениями талмудистов относительно труда, мы придем к тому убеждению, что они духовною проницательностью своею, заглядывая в даль веков будущности человечества, видели могучую силу прогресса и твердую нравственную мощь в упорном труде и работе физической в связи с работой умственной, а потому они поставили мускульный труд необходимым элементом воспитания, наравне с развитием умственным, с изучением Торы". И далее Шур пишет: "Идеализация труда доведена в Талмуде до высшей степени..."76 И в действительности раби Хия от имени Улы говорит: "Человек, питающийся собственным трудом, выше богобоязливого". В Святом Писании сказано: "Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его" — Пс. 112 (по православной традиции 111), 1 — и чуть ниже в псалме 128 (127) — благословение труженику и его семье. Собственно, это гимн труженику, воспевающий высшее благоденствие — в его доме и в его стране; дивная последовательность — в начале — дом, затем — отечество: "Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть от трудов рук своих; блажен ты, и благо тебе! Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа! благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!" Талмуд продолжает: "Если ты питаешься трудом рук своих, блажен ты, и благо тебе — блажен ты в сем мире, благо тебе в будущем" (Брахот 8а). Раби Тарфон заметил: "Пресвятой — да благословен Он! — и не утвердил Своего пребывания среди Израильтян ранее, чем они стали заниматься работою и сослался на книгу Исхода: И да соорудят Мне скинию, и Я поселюсь среди них" (Исход 25:8; рус. пер.: "И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их"). Все это сказано в том смысле, что физический труд есть несомненный двигатель культуры и нравственная основа человеческого общежития, осененная именем
129
Всевышнего. Вплоть до утверждения, что Сам Господь благославляет ремесленника: "Все устроено Им прекрасно и своевременно" (Еккл. 3:11; рус. пер.: "Все соделал Он прекрасным в свое время"), т. е. "Он внушил всякому ремесленнику любовь к своему ремеслу" (Брахот, 436). Труд ремесленника даже во времена самого тяжкого народного бедствия обеспечивает кусок хлеба: "Семь лет продолжался голод, но за порог [дома] ремесленника не перешел" (Сангедрин, 27). Мысль о том, что владение ремеслом обеспечивает независимое состояние и потому жизнь ремесленника несопоставима с жизнью человека, не овладевшего специальностью, завтрашний день которого необеспечен, аллегорически выражена рабаном Гамлиэлем (учителем апостола Павла): "Кто владеет каким-нибудь ремеслом, того можно уподобить винограднику, защищенному извне оградою, или каналу, обведенному валом; наоборот, не владеющий никаким ремеслом подобен винограднику, не защищенному оградой, или каналу, необведенному валом" (Тосефта Кадушин, 1, 9)
Итак, общий вывод талмудистов сводится к восхвалению труда и требованию изучения ремесла и навыка физического труда в раннем возрасте. Они смотрят на труд не только как на силу материальную, обеспечивающую безбедное существование, но и как на силу нравственную.
У Д.А. Бондарева упор сделан на социальную необходимость труда. Паразитизм правящего класса и чиновничества ложился тяжелым бременем на податное сословие. Перед талмудистами стояли аналогичные проблемы. «Все вещи в труде; не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Чтó было, тó и будет; и чтó делалось, тó и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1:8—10). Труд для талмудистов — радикальное средство против различных социальных недугов. Е.А. Шур, отвечая Бондареву, делал упор именно на земледельческом труде: "Взгляд Талмуда относительно социального значения труда исходит из той политико-экономической теории, что пока народ не приобретает богатства, излишка материальных средств за удовлетворением первых насущных потребностей, умственный прогресс его незначителен, ибо нет в народе сбережения, капитала, для существования непроизводительного, интеллигентного класса людей"77. Именно вследствие этого взгляда на труд талмудисты старались поднять общественное положение трудящихся, людей физического труда, в первую очередь земледельцев и ремесленников. Везде они проповедовали великую обществен-
130
ную силу труда, более того, идеализировали труд как высшее предназначение человека на земле, санкционировали святость физической работы наравне с занятиями Торой. Они утверждали, что занятие одной наукой, без физического труда, вредно и может даже привести к преступлению. В трактате Пиркей-Авот ("Высказывания отцов", другой перевод: "Наставления отцов") превозносится ремесленная работа. Раби Йего-шуа говорил: "Достаточно прочесть две галахот (статьи закона) утром и вечером, а целый день заниматься работою, за что человек удостоится так же воздаяния, как если бы выполнил всю Тору" (Мехильда). "Раби Меир говорит: нет такого ремесла, в котором людям не было бы нужды. Мир не может обойтись ни без парфюмера, ни без кожевника..." (Кидушин, 82). День должен быть посвящен труду, и "человек не должен спать днем дольше, чем спит лошадь. А сколько продолжается лошадиный сон? — Шестьдесят дыханий" (Сука, 26). Пример взят из сельского быта, где лошадь — необходимый элемент существования. Следующее выражение является краеугольным камнем талмудической философии: "Занимающийся трудом, промыслом, есть строитель мирового бытия" (Кидушин). Физический труд предшествует изучению Торы, и ему отдается предпочтение (Мидраш Раба и Авот дераби Натан). Е.А. Шур пишет: "Труд предписывается талмудистами, как единственное радикальное средство против разных общественных недугов: против паразитства, тунеядства (лексика и Бондарева. — С. Д.) и нищенства, от которых страдал древний мир и которые служили главнейшими недугами анормального общества той эпохи"78. Талмудисты вновь и вновь возвращаются к основной мысли о целебном значении физического труда, подчеркивая, что любая, даже самая унизительная работа, несравненно лучше тунеядства и попрошайничества. Необходимо жить скромно, по своим средствам, но быть независимым. "Празднуй субботу по буднешнему (скромно), но не прибегай к помощи людей" (Шабат, 118а; Псахим 112а). «Наймись на базаре содрать кожу с околевшей скотины, а не говори: "Я священнослужитель, я знатный муж, и мне это непристойно"» (Псахим 113а, Баба-Батра 110а). "Лучше наниматься на самую унизительную работу, чем просить одолжения у людей" (Баба-Батра 110а). Да, конечно, наши праотцы сильно настаивали на благотворительности и создании всевозможных благотворительных учреждений, но это допускалось лишь для людей, не способных к физической работе (калек, стариков и т. п.), или людей, которых постигло внезапное несчастье (пожар, стихийное бедствие и т. п.).
131
При выборе профессии талмудистами отдается решительное предпочтение земледельческому труду — основе человеческого существования, развития общества. Благосостояние и развитие культуры всецело зависят от усовершенствования и развития земледелия. Бондарев может торжествовать!
«Раби Иеремия говорил: когда Авраам странствовал по Месопотамии и видел, как люди проводят там жизнь в удовольствиях и разврате, он сказал: "Я не желал бы получить удел в этой земле". Когда же он дошел до пределов Тира и увидел, как люди прилежно занимаются там земледелием и садоводством, он воскликнул: "О, если бы мне дан был удел здесь!" Господь же сказал ему: "Потомству твоему Я отдам эту землю"» (Мидраш Берейшит Раба 39). Еще решительнее в пользу земледелия высказывается раби Папа: "Обрабатывай землю и не торгуй, хотя то и другое, по-видимому, одинаково, но первое все-таки лучше, потому что благословляется людьми" (Йевамот, 63а). Раби Эльазар утверждал, что в будущем все рабочие и мастеровые возвратятся к земледелию, интерпретируя таким образом Святое Писание и слова пророка Йехезкеля: "И сойдут с кораблей своих все владеющие веслом, все плавающие по морю к земле пристанут" (рус. пер.: "И с кораблей своих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря и станут на землю" — Иез. 27:29), "К земле пристанут" — он толковал как занятие земледелием, полагая, что крестьянский труд будет основой их существования. В том же толковании, подразумевая, что земледелие обеспечивает человека более, нежели другое занятие, Талмуд, прибегая к иносказанию, говорит: "Покупающий готовый зерновой хлеб на базаре подобен грудному ребенку, которого многие кормилицы кормят, и он все-таки голоден; кто же потребляет хлеб от обрабатываемого им самим поля, подобен ребенку, вскармливаемому материнской грудью" (Авот дераби Натан, 31). Соотнесемся со словами Бондарева. Для него "не всуе же Бог вначале никаких добродетелей не назначил, кроме хлебного труда, и ни от каких пороков не приказал удаляться, как только от беганья от оного (т. е. отлынивать от труда. — С. Д.). Из этого видно, что этот труд все добродетели в себя забрал. Напротив того, леность да праздность все пороки себе присвоили... Но при этом нужно не упускать из вида, что и прочие труды есть добродетель, но только при хлебе, т. е. своих трудов хлеба наевшись"79. Бесспорно, что хотя и отрицал (искренне ли?) Тимофей Михайлович Талмуд, но, безусловно, многое в нем почерпнул. Мы уже упоминали, какая литература была в личных библиотеках субботников. Кроме того, наезжали в субботнические села еврейские начетчики, о чем Бондарев рассказывал в письмах к Толстому.
132
Да и сам переход в иудаизм Бондарева был непрост. Знаток Библии и Евангелия, дьякон как-никак, он не мог не заинтересоваться Талмудом. А извлек он из него то, что ближе всего было его сердцу. Но возвращаемся к Святому Писанию и талмудистам.
В Притчах царя Соломона можем прочитать следующее: "Кто обрабатывает землю, будет сыт хлебом..." (рус. пер.: "Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен" — Притчи, 12:11). Толковники разъясняют это место следующим образом: когда человек становится рабом своей земли, тогда он будет сыт хлебом (Сингедрин). Мысль, что на каждом человеке лежит нравственная обязанность заниматься земледелием, развивать и усовершенствовать сельское хозяйство, — все это высказано в Мидраш Раба и в Мидраш Танхума. Человек должен заботиться о земле и неустанно на ней трудиться, ибо сказано в Библии: "шесть дней работай". Как сказано, что Господь насадил сад в Эдеме (Бытие, 2:8), так и пришедшие в Землю обетованную должны заняться садоводством: каждый должен посадить дерево: "Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам и посадите какое-нибудь плодовитое дерево..." (Левит, 19:23). Это же повторяет и Талмуд: "Когда придете в эту землю, посадите в ней всякое плодовое дерево" (Ваикра Раба, 25). Сказанное в Мидраше Танхума необыкновенно интересно с современной точки зрения своим отношением к охране природы и заботой о будущих поколениях. Земля не должна приходить в запустение. "Господь обращается к Израилю: хотя вы найдете в этой земле всякого добра, тем не менее, однако, не возымейте мысли оставить ее невозделанною и не сажать в нее новых растений, но точно так же, как теперь вы пользуетесь растениями, посаженными другими, до вас, и вы должны работать для других, приготовлять для детей ваших" (Мидраш Танхума 6, 21).
Делая общий вывод об отношении мудрецов Талмуда к земледельческому труду, приходим к следующему итогу: "Человек должен стараться сам обрабатывать свою землю; это составляет его нравственную обязанность; вообще, чтобы не прибегать к помощи чужого труда"80. Как видим, этот мотив — возделывать землю своим трудом, не прибегая к наемному — носит сугубо социальный характер. Древний мир рухнул от применения рабского труда, и талмудисты изо всех сил протестовали против института рабства, советуя как можно меньше пользоваться рабским трудом и способствовать его уничтожению. Это простиралось настолько далеко, что они считали, что нравственному развитию народа вредит крупное землевладе-
133
ние, при котором труд наемных рабочих вел к возникновению барства, неги и роскоши. Идеалом должен быть мелкий землевладелец: "Лучше нанять одно поле, удобрить, унаваживать его, чем нанимать много полей и опустошать их" (Брейшит Раба, 82). И вновь мы видим желание сохранить экологию окружающего нас мира. Вместе с тем мелкий собственник трудится самостоятельно и "каждый человек должен стараться приобресть себе домик, виноградник" (Сот., 44). И даже: "Человек, лишенный поземельной собственности, не может быть назван человеком" (Йевамот, 63). Последняя мысль совершенно ясна: недвижимая собственность, как ни мала она (домик, поле, виноградник), охраняет человека от преступлений, связанных с нищетой. Рава обращался к своим ученикам: "Прошу вас не являться ко мне в месяц нисан и месяц тишри (начало весенних и осенних полевых работ. — С. Д.), дабы учебные занятия в эти месяцы не лишили вас возможности прокормиться в течение целого года" (Брахот, 356). Иными словами: осенние и весенние каникулы школьников сегодняшнего дня — атавизм далекого библейского времени.
Мы можем задать вопрос: насколько преуспевали древние иудеи в земледельческом труде? Преуспевали и еще как! Производство злаков, в первую очередь пшеницы, было поставлено на широкую ногу. Страна не только полностью снабжала себя зерном, но и вывозила знаменитый сорт пшеницы из Миннит (по-видимому, из Гильада) в Финикию. В Иудее особенно славились пшеницей уделы Биньамина и Эфраима.
И не вина евреев, что они были насильственно оторваны от земледельческого труда. Поначалу изгнанные из своей страны, они способствовали развитию земледелия в еврейских колониях в Аравии, Италии, Испании, Южной Франции, но затем многие вынуждены были уходить в города и заниматься городскими ремеслами. Усиление религиозных преследований сделало занятие земледелием невозможным, и с VII в. связь евреев с землей почти прекратилась (кроме Месопотамии) — законом это было им запрещено. В XIII в. в Средневековой Европе ремесленные цеха вытеснили евреев из своей среды и ремесленный труд был для них так же закрыт. Постепенно евреи из земледельческого народа превратились в мелких торговцев и в ростовщиков. Ростовщичество стало для евреев проклятием. Христианские законы, направленные против евреев, способствовали разорению ростовщиков. Мир сузился для евреев до размеров гетто. И лишь с началом европейской эмансипации в XVIII в. евреи стали выходить из гетто и вновь возвращаться к потерянным профессиям. Жизнь восточно-европейского еврейства была знакома Бондареву не понаслышке, и почему
134
он бросил евреям упрек в лености — непонятно. Как известно, царское правительство организовало еврейские земледельческие колонии в Новороссии, в Белоруссии, на Украине. Нельзя сказать, что все они потерпели экономический крах. Интересующихся проблемой отсылаем к классическому труду современника Тимофея Бондарева, человека не менее тяжелой судьбы, Виктора Никитича Никитина (1839-1908), насильственно крещенного кантониста, одного из директоров санкт-петербургских тюрем и чиновника по особым поручениям при Министерстве земледелия и к тому же писателя81. Некоторые поселения процветали. (Среди этих поселений были колонии с названием Доброе, Трудолюбовка и т. п.) Пионером, призывавшим свой народ вернуться к земледелию, был И.Б. Левенсон (1788—1860). Примерами из Библии он доказывал, что самые прославленные личности еврейской истории были земледельцами. Из Книги Судей явствует, что ангел Господень явился к Гедеону, избавителю народа от ига мадианитян, в тот момент, когда он выколачивал пшеницу в точиле (Книга Судей, 6:11). Первый царь иудеев Саул возделывал землю: он шел с поля домой позади своих волов (1-я Царств, 11:5). Также пророк Илья застал своего преемника Елисея, когда он орал с другими при двенадцати пар волов (3-я Царств, 19:19). Земледельческий народ благоденствовал: «Это счастье автор Книги царей рисует нам в образе почивающего на лаврах земледельца: "И сидели Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницею своею" (3-я Царств, 4:25)»82.
Именно тогда, когда Бондарев создавал свое произведение, велась широкая пропаганда земледельческого труда среди евреев в России — в газете "День" ратовали за это И. Оршанский, В. Леванда и другие. Особенно же с конца 70-х годов в газетах "Русский еврей", "Вестник русского еврея", "Hamtlitz", позднее в "Восходе". Тогда же возникла идея земельного фонда и в 1880 г. было основано "Общество ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России". К сожалению, с введением "Временных правил" при Александре III, ограничивающих вновь права евреев, делу был нанесен сильный удар.
Возможно, что в ответ Бондареву вышла в 1886 г. в Петербурге и анонимная книжечка "О необходимости земледельческого труда для евреев". В этой маленькой, в 15 страничек брошюре, дважды в самом начале употребляется слово "торжество", правда не земледельца или земледелия, а торжество антисемитов по поводу вытеснения евреев из сферы производительного труда. Автор пишет о широкой дискуссии по этому поводу, в том числе о многочисленных ходатайствах, включая
135
и просьбу об основании еврейской земледельческой общины. «Толки о земледелии заставили даже петербургскую "откровенную" газету ("Новое время". — С. Д.) пролить крокодиловые слезы об участи бедного мужичка, которого-де жиды хотят уже вытеснить из его последней позиции — земли. Это по поводу ходатайства Духовно-библейского братства о разрешении ему основания земледельческой общины ввиду проповедуемого братством учения о нравственной обязательности производительного, по преимуществу же земледельческого, труда»83. Кстати, Духовно-библейскому братству один из последователей Л.Н. Толстого в 1889 г. пожертвовал большую сумму на организацию "интеллигентной колонии" на общинных началах.
По переписи 1897 г. количество занимающихся земледелием евреев достигало по всей империи свыше 160 тыс. человек. Немного, но учитывая все препятствия, возникающие на пути евреев, желающих заниматься земледелием, это и не совсем мало. С начала 80-х годов возникло движение за сельскохозяйственное возрождение Палестины. На Катовицком съезде "Ховевей Цион" в 1884 г. было основано "Общество вспомоществования евреям — земледельцам и ремесленникам в Палестине и Сирии". И об этом Давид Абрамович Бондарев должен был знать.
Возвращаясь к труду Бондарева, мы должны отметить и еще один важный момент. Если о его призыве к земледельческому труду, к трудолюбию еще можно было кое-что прочесть в советской литературе, то второй пункт его программы вообще неизвестен. И это понятно: речь идет об абортах. Во времена, когда аборты были запрещены, такой вопрос вообще не поднимался в прессе. Что же касается сегодняшнего дня, то Бондарев стоял бы на крайнем правом фланге вместе с другими ригористами.
Пропагандируя свое учение о земельном труде, он обращается к мужской половине человеческого рода — именно мужчина в поте лица своего должен зарабатывать свой хлеб: "дондеже возвратишися в землю, от нея же взят". Что же касается женщин, то на них налагается "первородный закон" или "эпитимия". Это разделение функций предопределено самим Богом: "Не хлеб работать, а в болезнях родить чада", утверждает Давид Абрамович. Далее у Бондарева идет суровая филиппика против искусственного прерывания беременности как вопиющего нарушения закона природы: "Но жена, убившая плод чрева своего, во всю жизнь раскаивается, из глубины души своей вздыхает и просит у Бога прощения, а под старость накладывает на себя посты, молитвы, чем можно думать, и вы-
136
молить у Бога прощение за уничтожение заповеди"84. Даже в этом пункте субботник следует Ветхому Завету: "Плодитесь и размножайтесь", что и было замечено современниками. (Жаль, что о Бондареве ничего не написал В.В. Розанов, хотя знал, есть у него такое словосочетание: «Оплодотворение детей входит неописуемым чувством в родителей: "Вот я прикрепился к земле»; "земля уроднилась мне", "теперь меня с земли (планеты) ничего не ссадит, не изгладит, не истребит"» - "Опавшие листья".) В Евангелии, впрочем, есть противоречие в отношении этого "первородного закона": "Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться; Он же сказал им: не все вмещает слово сие, но кому дано; Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит" (Матф., 19:10—12). И это не единственное место, оправдывающее безбрачие. Так, апостол Павел в 1-м Послании к коринфинянам хотя и не возбраняет заключать брак, но лишь в избежание блуда, идеалом же для него служит безбрачие, что и оговаривается: "Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться как я" (1-е Кор., 7:6—8). Бондарев же отталкивается от христианства, что проявляется в отрицании ветхозаветного варианта первой заповеди "Люби ближнего, как самого себя" (Левит, 19:18), потому что любят ближних, обыкновенно, из выгоды для самих себя. Он предлагает такой вариант этой заповеди: "Чего себе не желаешь, того и другому не делай: если ты не желаешь, что бы твоих трудов хлеб ели, то на что же ты их (т. е. крестьянский труд. — С. Д.) поедаешь даром?"85
Совершенно ясно, что Бондарев был знаком с "Пиркей авот" ("Наставления отцов"). Когда один из язычников, желавший принять иудейство, обратился к знаменитому Гиллелю ха-Закену с просьбой сообщить ему сущность иудаизма в нескольких словах, иносказательно — "пока он может стоять на одной ноге", Гиллель отлил чеканную фразу: "Что тебе неприятно, того не делай ближнему, вот сущность всей Торы; все остальное только комментарий..." Интерпретаторами доказано, что слова Гиллеля не отменяют выражение "Люби ближнего, как самого себя". Последнее — идеал; выражение же Гиллеля доступно каждому, и если вникнуть в смысл слов, то это должно (или возможно?) приводить к одинаковому результату. Думаю, в российском варианте пресловутая формула
137
Н.Г. Чернышевского "о разумном эгоизме" восходит к изречению одной из самых обаятельных личностей еврейской религиозной традиции.
Бондарев, говоря о России, считает, что около 30 млн. людей, не считая евреев и цыган, "едят чужой хлеб". Среди них достается от него и духовенству, и особенно монахам. Он предлагает способ усовестить тунеядцев, бесплатно выдавая им хлеб. Тогда, побежденные благородством, лентяи примутся за труд, "неловко будет всякому ходить и просить хлеба", каждый постарается добыть его своими стараниями.
Для придания большего веса своим словам Давид Абрамович вводит в изложение оппонента — чисто литературный прием, невесть где позаимствованный сибирским отшельником. В диспуте побеждает всеторжествующая мораль труда — оппонент в лице "белоручек" посрамлен, восхваляются землепашцы.
В 132-м пункте своего вопросника, следующего за суждением о монашестве, он задает риторический вопрос: "Если ты полагаешь земное и небесное, временное и вечное блаженство в труде, то на что же ты оставил христианскую веру, а принял еврейскую? Я на это отвечу так: этому времени 25 годов назад: я тогда, хотя и много разов прочитывал это место Святого Писания (подразумевается Бытие, 3:19: "В поте лица твоего снеси хлеб твой" и т. д. — С. Д.), но что же? пробежал глазами, пролепетал языком и никакого понятия не получил, как птица пролетела — следу нет". Другими словами, Бондарев теперь (выделено И.П. Белоконским) "индифферентен к делам религии" и видит единственное для всех спасение — в "хлебном труде"86. На наш взгляд, это не соответствует действительности. Бондарев — пророк. И пророку видеть свой народ не соответствующим своему высокому предназначению — мука. Именно поэтому он подчеркивает свою религиозную принадлежность иудаизму. Он — один из них: "Слушайте это, дом Иакова, называющиеся именем Израиля и происшедшие от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилева, хотя и не по истине и не по правде" (Исайя, 48:1). И все это в связи с восхвалением покойного Александра II, освободившего от крепостной зависимости 24 млн. человек. Бондарев призывает сделать день 19 февраля праздником выше праздника Пасхи, ибо Христово освобождение «видно только на бумаге — очевидцев не было и нет, а что царь освободил, то мы глазами видим, ушами слышим, руками осязаем и сердцем ощущаем. В день смерти Государя (пункт 199) — праздник и пост: он истинно "смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав"»87. Убийство импе-
138
ратора рассматривается особо, к этому месту сделано соответствующее примечание, чрезвычайно важное для уяснения проблемы отношения Бондарева к еврейскому народу: "Теперь русские не имеют права обвинять евреев за смерть Христа, сами убивши Государя:
1) Евреи все сделали публично, а здесь нет.
2) Евреи, по их мнению, находили вину за Христом, а здесь нет.
3) Смерть Христа была заранее назначена Богом, кем и где должна совершиться. Виноваты (т. е. в смерти Государя. — С. Д.) не только казненные, но вся Россия..."88
Какая же это "индифферентность"? Напротив, резкий выпад против христианства, абсолютное неверие в воскресение Христа — прозаически сказано, что оно (воскресение) "видно лишь на бумаге" и не имеет ни одного свидетеля. В защиту еврейства выдвинуты три пункта: публичность суда и казни Христа и признание его виновности (что, между прочим, согласуется с трактовкой Константина Романова в драме об Иисусе), а также предопределенность этого события Всевышним. Таким образом, обвинение в смерти Иисуса должно быть снято с еврейского народа, и, наоборот, следует признать, что вся Россия повинна в гибели императора.
В конце своего трактата Бондарев помещает приложение, состоящее из нескольких пунктов, сводящихся к требованию покаяния тунеядцев и восхвалению земледельческого труда. Для нас же интересно, что в 5-м пункте приложения, названном "Прошение одному высокопоставленному лицу", он требует уравнения в гражданских правах субботников и молокан с православными (об этом же он говорит в 226-м вопросе). Особенно же он настаивает на свободе перемещения — конкретно на праве выезда из села Иудина. Последнее трогательно и умилительно — весь мир для Давида Абрамовича сузился до его родного села! Увы, односельчане не понимали Бондарева, и отношение к нему, несмотря на его благодеяния, было отношением здравомыслящих мужиков к сумасшедшему. Он был для них, по крайней мере, странным человеком. Древнееврейская формула "нет пророка в своем отечестве" как раз подходила к данному случаю. При этом следует учесть, что село было зажиточным, грамотным; субботники и молокане, населяющие его, несравненно превосходили среднего русского мужика по развитию. Так считал, например, И.П. Белоконский. И он же привел удивительный факт: ни одного последователя среди односельчан у Бондарева не было.
Он был действительно странным человеком, "одна, но пламенная" идея владела им. Ни о чем он не мог говорить — лишь
139
о своем труде. Он плохо выслушивал контрдоводы, быстро приходя в негодование. В разговорах он все время возвращался к тому, что высшие классы развращающе действуют на крестьянина. Иудинцы же не понимали, чего он от них требует, ибо сами они трудились усердно. Вместе с тем здравый смысл подсказывал им вопросы типа того, что же делать с другими отраслями человеческой деятельности: ремеслами, торговлей. Вразумительного ответа они не получали. Он стоял на своем, признавая только хлебный труд, не объясняя своего отношения к другим занятиям. Да и само произведение было в достаточной степени трудным: перегружено повторами и цитатами. Исследователи выяснили, что он прекрасно, можно сказать досконально, знал Библию, свободно цитировал наизусть. Знал он и отцов церкви; читал подряд и запоем, внимательно и с наслаждением все, что попадалось в руки, и легко запоминал прочитанное; из писателей любил А.Н. Радищева, И.А. Крылова, А.С. Пушкина (правда, иногда путая их) и, как ни странно, Мильтона. Кстати, имя Мильтона впервые Бондареву встретилось в "Путешествии" Радищева.) Неплохо Давид Абрамович знал и русскую историю. В своем основном труде он ссылается на царствование Бориса Годунова, когда голод унес 600 тыс. жизней только в одной Москве, "как передают историки ...а что по всей России неизвестно", замечает сибиряк89. Смею судить, что он неплохо знал и талмудическую литературу.
Итак, его труд завершен. Пока это только первый вариант, но этого сибиряк еще не знает. Перед ним встал вопрос, который стоит перед каждым автором: "Куда направить рукопись?" Ему ясно: правительство должно принять к сведению его "открытие" и внедрить в жизнь, ибо речь идет о спасении всей страны от мук голода. Нам понятны царистские иллюзии, которые еще не были изжиты в крестьянской среде. Именно поэтому Бондарев решился направить рукопись, сопроводив ее письмом, Александру III. Для этого он посылает свой труд старым знакомым в Минусинский музей. Пишется адрес: "В Минусинскую городскую музею в дом Белова, где собраны со всего света редкости". Не успела рукопись дойти до адресата, как сам сочинитель появляется в доме Белова. Как мы знаем, это было не первое его появление там. Однажды, рассматривая библиотеку музея, слушая от Николая Михайловича Мартьянова объяснения по поводу "редкостей со всего света" и записывая для памяти имена незнакомых писателей, он задал смотрителю музея вопрос: "О чем пишут в таком множестве книг?" Мартьянов терпеливо и педантично охарактеризовал главнейшие отделы библиотеки. Старик внимательно слушал, а потом
140
сказал: «"Да, много люди написали. Но все это лишнее... Сколько ни держите вы книг на полках, во всех вместе нет и сотой доли того, что у меня в течение одного дня проходит вот здесь". И он торжественно коснулся перстом чела своего»90.
Рассказ об этом Амфитеатров слышал из уст самого Мартьянова. Познакомился Бондарев в музее с находившимися в Минусинской ссылке народниками И.П. Белоконским, B.C. Лебедевым, Л.Н. Жебуневым и другими. Конечно, и для народовольцев Бондарев был находкой, некой terra incognita, которую приходилось открывать. Они в свое время занимались хождением в народ, боготворили народ, народ был их идолом, во имя народа они шли на виселицу и каторгу. Они привыкли, что "народ безмолвствует". И вот этот самый "народ" в лице Давида Абрамовича пришел к ним и заговорил, но не о том, чего они ожидали... Скажем так: они были революционеры, он — эволюционист. Для них он был не однозначен. Например, тот же Мартьянов, как естествоиспытатель и позитивист, по словам Амфитеатрова, был небольшим поклонником философии Бондарева91. Иными словами, последователи Базарова не признавали архаики и ссылок на Святое Писание. Но они сразу оценили размеры дарования Бондарева. Многие оставили о нем воспоминания. Вероятно, часть из них безвозвратно утеряна. С этой точки зрения интересны откровенные мысли, высказанные Льву Николаевичу Толстому другом Бондарева Л.Н. Жебуневым, народовольцем, сосланным в Восточную Сибирь. В письме Толстому от 26 марта 1886 г., которое до нас не дошло, оттолкнувшись от фразы Льва Николаевича, который написал о Бондареве, что он "разъяснил больше вопросы нашей жизни, чем все философы и ученые", вознегодовавший революционер гневно отвечал: "Я скажу Вам, что меня удивляет это Ваше утверждение. Мне кажется, что немало писано и говорено на эту тему. Разница была только в исходящих точках зрения, но те пункты, которые брали за отправную точку образованные люди, были шире, разностороннее и прямо соприкасались с реальною жизнью, исходили из условий последней... Заманчива перспектива подобного общественного порядка, но я решительно не понимаю, как можно придти к нему путем применения... одного непротивления злу... И еще более удивляет меня возможность проектируемого Вами порядка при том воззрении на женщину и ее труд... От этого взгляда несет домостроевским обскурантизмом, азиатской неподвижностью ума"92.
Несмотря на уговоры Мартьянова, хорошо знавшего полицейские нравы, ни в коем случае не отсылать творение царю, упрямец решил по-своему. «Отправление этой рукописи
141
сделало эпоху на патриархальной минусинской почте. Бондарев принес претолстый пакет с простым адресом: "Ст. Петербург. Царю." Почта пришла в ужас и изгнала Бондарева, "яко злодея, нечестно пьхающе". Упрямый мужик исходил все минусинские присутственные места и добился-таки способа послать рукопись императору. Очень может быть, что его обманули и рукопись не была послана, хотя какую-то расписку в отправлении Бондарев хранил до конца жизни своей, как обличительную святыню. Во всяком случае, рукопись канула, как в воду»93. Кстати, имеются в воспоминаниях и противоречия в хронологии отправки "Трудолюбия" царю. Тот же Амфитеатров говорит о пророческом самомнении Бондарева, глубоко убежденного, что убийство 1 марта 1881 г. было небесною карою за то, что император не обратил внимание на рукопись о труде и не перестроил государство согласно прожекту Бондарева. Вероятно, это легенда. Ибо из сохранившегося текста "Торжества земледелия" видно, что Давид Абрамович глубоко почитал убиенного монарха, да и рукопись, судя по всему, была создана позже и послана уже Александру III.
Посылал свое сочинение Тимофей Михайлович и за границу: австрийскому императору Францу-Иосифу. Это любопытно, так как в еврейской среде складывались легенды о его веротерпимости, о его юдофильстве и резко отрицательном отношении к антисемитизму. Имя австрийского императора было окружено каким-то ореолом не только среди галицийского еврейства, но и в России94. Вероятно, по этой причине сибиряк всем иностранцам поначалу предпочел австрийского монарха.
Не получив ответа, что и предвидели его доброжелатели из музея, Бондарев через год предпринял новую попытку открыть правительству глаза на проблему и, снявши копию с рукописи, отправил свой труд в Министерство внутренних дел. В сопроводительном письме он писал: «Я же бывший помещичий крестьянин, просто рабочий, а эти люди в каких тисках были — это всем известно; нужда же самый лучший учитель есть изобретательности, в учении которой, т. е. в этих тисках, со всего правительства никто не был, потому-то я изобрел и написал до 250 вопросов под названием "Торжество земледельца", это настолько сильное и полезное врачество, что если донести его до сведения всякого человека, то не более как через четыре года, без понесения трудов и без напряжения сил, избавятся все они от тяжкой нищеты и от нестерпимого убожества; тогда глупый сделается умным, лентяй — трудолюбивым, пьяница — трезвым, бедный — богатым, бездомник — прочным хозяином, злодей — честным человеком, и будет как на них,
142
так и на столе их Велик-День, и без всякого противления или закоснелости сольется вся вселенная в одну веру в Бога!»95 Е.И. Владимиров, кстати, упоминает о 200 вопросах; очевидно, до конца дней сибиряк дополнял и исправлял написанное. Поэтому чрезвычайно трудно установить, существует ли вообще канонический текст. Результат был аналогичен результату первой посылки. Но интересен сам текст обращения, его лексика. Красочность и убедительность, библейский, пророческий пафос и прозаизмы, вера, что труд — целитель, что он приведет к экуменизму — все это сближает Бондарева с проповедью Ильина. Возьмем, например, слово "рабочий" — имеется в виду не современное значение слова, а, как любезно сообщает нам Владимир Даль: "Рабочий — человек, живущий трудами рук своих" (у Даля слово "рабочий" не имеет самостоятельного значения и входит в гнездо "раб"). Кажется, Бондарев видел словарь Даля, ибо в рукописи более нигде не встречается это слово, но зато широко используется идиома: "Трудами рук своих". В самом же тексте Бондарева скрыты две поговорки: "Голь на выдумки хитра" и "Сытый голодного не разумеет".
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ РУКОПИСИ
Стало общим местом, что рукописи не горят, а в нашем конкретном случае они не всегда пропадают и на почте. Особенно если этот "самиздат" был переписан в нескольких копиях и (по одному варианту легенды) сохранился благодаря старанию находившегося в минусинской ссылке врача B.C. Лебедева, который послал рукопись Давида Абрамовича Бондарева писателю Глебу Успенскому. Высказана догадка, что энергичный Н.М. Мартьянов просил своих сотрудников (в том числе и врача B.C. Лебедева) переписать труд Бондарева в нескольких экземплярах и направить выдающимся писателям-современникам96. Копировальной машины у них, естественно, не было, дать профессиональным переписчикам в работу было рискованно. Видимо, на добровольных началах переписывали сами ссыльные. (Лебедев — член Центрального комитета "Народной воли". Под его редакцией вышло четыре номера печатного органа партии — "Народная воля: Социально-политическое обозрение". Арестован в Москве в 1882 г. и сослан в Восточную Сибирь на 5 лет.)
143
И с этого времени шло параллельное существование автора и рукописи. Ситуация, знакомая и по иным временам. По другим же "изводам", с рукописью Бондарева ознакомился вначале Н.К. Михайловский. Е.И. Владимировым, которому мы обязаны очень многим в изучении жизни и трудов Бондарева, произведен следующий расчет: оригинал Бондарев держал у себя; всего было якобы шесть копий: три из них — "царская", "министерская", "губернаторская" — все они сгинули безвозвратно. Две были посланы самим Бондаревым Успенскому; через B.C. Лебедева экземпляр был передан Льву Толстому. Еще один был вручен иркутскому мещанину Лаврентьеву. Как видим, копий было не менее семи.
В начале мая 1884 г. Г.И. Успенский писал Н.К. Михайловскому: "Пожалуйста, если поедете в Москву, загляните ко мне и захватите рукопись о Трудолюбии и Тунеядстве. Она мне теперь до крайности нужна. Надо бы работать. Я думаю обделать нечто беллетристическое, а самую рукопись возвращу Вам"97. Интерес к труду сибиряка не упал у Глеба Успенского и после публикации статьи о нем. По просьбе писателя сначала сокращенный вариант рукописи Бондарева, а затем и полный оригинал были высланы ему из Минусинска А.И. Иванчиным-Писаревым (1849—1916), писателем и деятелем эпохи "хождения в народ", одним из основателей музея этнографии в Тобольске. Вероятно, он был знаком с Бондаревым. 28 декабря 1884 г. он выслал полный текст Бондарева Глебу Успенскому98. И вот Александру Ивановичу Иванчину-Писареву принадлежит честь первым в мире написать о Давиде Абрамовиче Бондареве. В Томске, в "Сибирской газете" от 1 июля 1884 г. в № 27 была опубликована статья некоего А.Ш. "Деревенская философия"99. Как нам удалось установить, автором, скрывшимся за двумя буквами, был Иванчин-Писарев. Статья имела подзаголовок "Корреспонденция из Минусинска". Следовательно, он получил список или от сотрудников Минусинского музея, или от самого Давида Абрамовича. А.Ш. отдал дань "оригинальности мысли, приемов и языка", но оценка взглядов Бондарева отсутствует. Революционер не может мириться с Высшей силой, радикализм мышления семидесятника не позволял переступить запретного... Тем не менее он понял, что в его руках находится нечто из ряда вон выходящее. Впрочем, корреспондент довольно подробно пересказывает "основной закон" Бондарева, подчеркивая, естественно, социальный характер труда крестьянина100. Еще в январе 1884 г. Иванчин-Писарев направил шифрованное письмо Глебу Успенскому по поводу "Торжества земледельца", где отметил, что "многоземельная страна, Сибирь, порождает философов, какие едва ли возможны в России"101.
144
Для Г.И. Успенского (и не только для него одного) труд Бондарева подоспел вовремя. Пореформенная русская деревня переживала страшный кризис, выбрасывая из своих рядов люмпенов — огромную неуправляемую массу людей: "На наших глазах настроения духа этого бродячего человека выражались в весьма различных видах; еврейские погромы, поджоги усадеб и только что приготовленного на продажу владельцами хлеба совершались и совершаются не без участия этой бродячей рабочей толпы..." Успенский же обращает внимание на то, что после освобождения крестьянства произошел резкий всплеск сектанства, "обилие сект ... смысл которых исчерпывается стремлением те же самые земледельческие формы жизни, те же семейные и общинные порядки" переделать, перестроить на основании правоты, справедливости, на основании того, "что хорошо велит жить хороший труд"102. Статья, пересказывающая основные положения Бондарева (автор сразу оговаривает, что его очерк носит компилятивный характер), вызвала ажиотаж. Собственно, квинтэссенция очерка — это защита натурального хозяйства, в котором крестьянин "сам удовлетворяет всем своим потребностям", что подкрепляется экономическими выкладками Н. Михайловского, художественным словом Л. Толстого и самым заинтересованным лицом — крестьянином Т. Бондаревым.
Интересно и зло высказался по поводу статьи Успенского М.Е. Салтыков-Щедрин. В письме к Михайловскому от 21 ноября 1884 г. он раскрывает генеалогическую связь ("проект генеалогии") между крестьянскими философами, Л. Толстым, Г. Успенским и Златовратским. "Генеалогическое дерево" выглядит так:
Сюсляев
/ Дядя Златовратский
Л.Н. Толстой /
/ \ /
Тибо Бриньоль Г.И.Успенский103
(Необходимые пояснения: Тибо Бриньоль — правый французский публицист того времени. "Сюсляев" — ошибка, речь идет о сектанте Василии Кирилловиче Сютаеве (1819-1892), несомненно оказавшем влияние на Толстого, но в несоизмеримо меньшей степени, чем Бондарев, хотя Лев Николаевич и ставил между ними некий знак равенства. Впоследствии все станет на свои места, и в письме к своему венгерскому поклоннику Эугену (Евгению) Шмиту от 27 марта 1895 г. Толстой напишет, что у Бондарева он "почерпнул еще гораздо больше поучения, чем от Сютаева"104.)
145
В апреле 1885 г. Глеб Иванович писал своему корреспонденту А.И. Иванчину-Писареву: «Рукопись молоканина сокращена, вычеркнуто множество, и потом ведь пишешь положительно с глубоким сознанием, что "не так", и это уже несколько лет подряд. Но она произвела большое впечатление, и массу писем я получил. В сочинении Л. Толстого, которое не напечатано, та же идея, и едва ли не этот молоканин вывел его из той чепухи, в которую попал Толстой с своей теорией благотворительности, которую практиковал на деле. Теперь он все это попрал и говорит: "пахать!". Я думаю, что и это не пристало барину. Зачем же тащить из мужицкой теории в свою то, что для барина только извинение не вмешиваться в политику? Ведь пахать-то в самом деле не будет»105. В письме — две ошибки. Вторая — граф стал пахать! Каждый может в этом убедиться, видя многочисленные фотографии и картину Репина, где опростившийся граф идет за плугом. А первая ошибка присутствует в самой статье Успенского, и она вызвала негодующее письмо Давида Абрамовича. Это негодование специально оговаривается Е.И. Владимировым, у которого мы заимствуем эту часть письма. Это действительно гнев, ибо Бондарев к писателю обращается в третьем лице, что вообще ему не свойственно: "Откуда, чего и почему Успенский в своей статье назвал меня, Бондарева, молоканом? Да ведь я же никогда тем не был и не буду! Я, когда первый раз наткнулся на это слово, я от ужаса обе руки заложил в затылок. Ах, Успенский, Успенский! Да что же это ты сделал, да легче для меня было, если бы ты назвал меня самим чертом! Тогда никто не поверил бы тебе, что я черт, а если молоканом, то вся вселенная в том утвердилась, что Бондарев молокан.
Сколько на свете ни есть вер и сект, а все они имеют себе приличное название, а молокан?! Что слово значит молокан? По одному только названию видно, что гнусней этой секты во всей поднебесной нету. А ты, Успенский, взял да и погрузил меня в страшную бездну унижения и стыда, позора и порока. А за что? Что я тебе плохого сделал, чем обидел или огорчил? Да за что же ты меня так тяжко наказал? Бондарев — молокан?
Пиши, что хочешь, выражай, что знаешь, раздирайся душою и сердцем, сколько можешь, а молокан, так молокан, вся вселенная в том утвердилась, что Бондарев молокан. Со всех четырех сторон, сверху и снизу, изнутри и извне обижаете вы меня"106. Кто-то сказал, что Бондарев стал индифферентен к религии. Письмо Бондарева, как мы видим, начисто опровергает этот вывод. Наоборот, сквозь строки мы ощущаем темперамент бойца, отнюдь не стесняющегося, что он иудействую-
146
щий. С этим письмом Бондарева произошли какие-то странности. Владимиров опубликовал эту часть письма, в примечании указав, что оно находилось (копия?) в деле Енисейского губернского управления под № 423 за 1893 г., на период издания книги Владимирова в 1938 г. хранящемся в Красноярском краевом историческом архиве. Из этого примечания явствует, что письма Бондарева перлюстрировались и с них, вероятно, снимались копии. Но странности продолжаются и в наши дни. В недавно вышедшей книге "Л.Н. Толстой и Т.М. Бондарев. Переписка" (сост. А.А. Донсков) в приложении приводятся два письма Бондарева к Г. Успенскому. Ответных писем Г. Успенского, как указано, не обнаружено. Так вот: при публикации в тексте письма сделаны купюры. Они как раз относится к негодованию Бондарева по поводу того, что его назвали молоканином, и выпадам против этой секты. Зачем сделаны купюры — непонятно. С другой стороны, в публикуемом письме высказана догадка Бондарева, что, видимо, Глеб Иванович прочитал о том, что он молоканин, в каком-то письме. (Указано, что письмо Бондарева публикуется впервые с копии, находящейся в архиве Г.И. Успенского107. Предисловие к книге написано также Донсковым. В нем не совсем точно дана дефиниция секты "субботников" и их отличия от "молокан".)
Путаница с вероисповеданием Бондарева до поры до времени как раз играла положительную роль в популяризации его труда. Неизвестно, как посмотрели бы на его творчество те же Успенский и Толстой, если бы они сразу поняли, что он принадлежит к воинствующим иудаистам. Вспомним замечательные слова Давида Абрамовича: "Во-первых, прошу и умоляю вас, читатели, не уподобляйтесь вы тем безумцам, которые не слушают, что говорит, а слушают — кто говорит." И это правда. Ибо отношение Глеба Успенского и Льва Толстого к иудаизму и еврейству было не однозначно. Если уж само христианство имеет недостаток — Иисус был евреем (А. Пушкин), то и ждать вновь спасения от иудеев (Salus ex Judaeis est!), в данном конкретном случае от жидовствующего — это уж слишком! Сытые и грамотные крестьяне-субботники — этого только не хватало для проповеди благосостояния на Руси...
Любопытно, что Бондарев был прав, выговаривая Успенскому за ошибку в указании его вероисповедания — действительно, "вся вселенная" была уверена, что он молоканин. Это настолько укоренилось, что в одной итоговой статье о сибирском мудреце специально оговаривается: "Авторы некоторых заметок о Бондареве по неизвестным мне основаниям называют его молоканиным, другие же баптистом"108.
147
ПЕРЕПИСКА С ТОЛСТЫМ
Врач B.C. Лебедев, получив рукопись Бондарева у Н.М. Мартьянова, переправил ее в редакцию "Русской мысли" с просьбой о пересылке ее Толстому. Прочитав рукопись, Толстой был потрясен. В письме, отправленном Лебедеву (он получил его 6 августа 1885 г.), великий писатель писал: «Василий Степанович! Вчера я получил через редакцию "Рус[ской] мысли" рукописи Бондарева, присланные Вами. Мое мнение, что вся русская мысль (конечно, не журнал), с тех пор, как она выражается, не произвела с своими университетами, академиями, книгами и журналами ничего подобного по значительности, силе, ясности тому, что высказали два мужика — Сютаев и Бондарев. Это не шутка и не интересное проявление мужицкой литературы, а это событие в жизни не только русского народа, но и всего человечества. Вчера я прочел эту рукопись в своем семейном кругу, и все встали после чтения молча и пристыженные разошлись. Все это как будто знакомо, но никогда не было так просто и ясно выражено, без того лишнего, что невольно входит в наши интеллигентные рассуждения.
Очень, очень вам благодарен за сообщение мне этой рукописи; она произвела на меня большое влияние. Пожалуйста, сообщите мне еще подробности о Бондареве:
1) его звание, семейное положение, его религиозные убеждения (как бы хорошо было, если бы они ограничились первородными законами и законами только нравственными, связанными с ними);
2) его образ жизни.
Я хочу написать ему, но если не напишу, то скажите ему, что есть человек — я — совершенно, без всяких оговорок согласный с его учением и желающий посвятить остаток своей жизни на то, чтобы убедить в ней людей словами и делом. Я не получил из редакции "Русской мысли" большой рукописи, а очень желал бы иметь ее.
Вы, должно быть, тот Лебедев — медик, которого года два тому назад выслали из Москвы; если вы тот, то я немного знаю про вас. Во всяком случае дружески жму вашу руку и от всей души благодарю вас за то, что вы вспомнили обо мне и сообщили мне рукопись.
Адрес мой: Тула.
Л. Толстой»109.
Возникает вопрос: почему Лев Николаевич испытал такое потрясение? Что способствовало быстрому восприятию идей Бондарева? Слова, написанные Лебедеву и затем многократно
148
повторенные: "это событие в жизни не только русского народа, но и всего человечества", нешуточные.
К 1881 г. Лев Николаевич переживал, как известно, серьезный душевный кризис. Русская деревня не могла себя прокормить. Был очередной голод, который в России чаще всего падал на начала десятилетий. И многие считали, что погромы, прокатившиеся на юге России в 1881 г., были связаны с недородом. Начался аграрный кризис, продолжавшийся вплоть до 1895 г. и сопровождавшийся перманентным голодом. К тому же аграрный кризис совпал с промышленным кризисом 1881-1882 гг., вызвавшим резкое сокращение производства и массовую безработицу, особенно в крупнейших индустриальных центрах. Однако "расточительный" вывоз зерна за границу продолжался; он не был оправдан экономической целесообразностью и получил эпитет "голодный", т. е. шел за счет сокращения потребления внутри страны110.
Толстой записал в дневнике страшные слова: "Революция экономическая не то, что может быть. А не может не быть. Удивительно, что ее нет". И далее как рефрен повторяется: "Курносенкова родила, воспаленье. И хлеба нет... Щекинский чахоточный мужик. Хлеба нет". Голод стоял на пороге России, он возвращался и возвращался и его нельзя было предотвратить. Лев Николаевич дружил с А.А. Фетом, своим соседом, великим поэтом и рачительным хозяином. И тот мог ему рассказать о ведение сельского хозяйства в разных пределах империи: «При... вступлении в остзейский край мне было 34 года, и я не могу умолчать о произведенном на меня впечатлении культурной страны, которую глаз беспрестанно сравнивал с нашею Русью.
Я должен признаться, что сравниваю тогдашнее состояние остзейского края, которого не видел с тех пор, с теперешним положением нашего черноземного населения, близко мне знакомых. Разница выходит громадная.
Почва этого края не выдерживает никакого сравнения с нашей черноземной полосою, а между тем жители сумели воспользоваться всеми данными, чтобы добиться не только верного, но и прочного благоустройства. Поля возделаны со всевозможною тщательностью, всюду проложили не широкие, но прекрасно содержанные шоссе; леса, дичина и рыболовство не подвергнуты беспощадному расхищению; небольшие, круглые и сильные крестьянские лошади прекрасно содержаны, и вы не встретите ни тощих кляч, попадающихся у нас на каждом шагу, ни нищих.
Все дворянские дома и усадьбы... массивно сложены из гранитных камней, обильно разбросанных по полям.
149
Таким образом, камни сослужили две службы: сошли с полей и построили усадьбы и шоссе... Дочери богатого графа, обносившие вокруг стола кушанья, ясно указывают на то, что дворяне полагают унижение своего достоинства не в этом акте и ему подобных, а в чем-то другом, хотя и преисполнены чувством собственного достоинства никак не менее наших, и не сразу бы поняли слово "опроститься". Словом, весь жизненный строй напоминает растение, расцвет которого не мешает ему глубоко пустить корни в почву, запасаясь все новыми силами»111. Принцип Фета-мемуариста — "жизненный поток". Нетрудно понять, что эта вставка о Прибалтийском крае имеет адресата. Отсюда — вместо ожидаемого остзейского барона появляется граф с дочерьми и сигнальное слово "опроститься" — в контексте описания звучит вполне иронично. (Свидетель семейной жизни Толстого Исаак Борисович Файнерман (1862—1925), писавший под псевдонимом Тенеромо, вспоминал: «Страстное желание жить с народом и жить так, как народ, охватило одно время почти всех членов семьи Л. Н-ча. Даже Софья Андреевна, долго противившаяся всяким попыткам "опроститься" и идти на работу, — даже и она, помню, пошла на покос, нарядившись в русскую поневу, и граблями сгребала пахучее свежее сено. Л.Н. вставал рано и наравне со всей артелью выходил на покос и выдерживал весь день работы до вечера»112.) Но ирония Фета — это второй план, а первый совершенно ясен: поэт хочет сказать, что русский народ не может систематически трудиться, он ленив. Отсюда столь печальное сравнение с остзейским краем, даже не всей России, а лишь ее черноземной полосы. Толстому признать огульно этот факт не под силу. Это могучему-то Толстому, что же говорить о других. (Справедливости ради и заранее защищаясь от обвинений в предвзятости, напомним, что существовала и другая точка зрения. Один из самых тонких мыслителей Германии Иоганн Готфрид Гердер (1744—1803) предсказал восточным славянам великое будущее в гл. 4 кн. XVI своего труда "Идеи к философии истории человечества". С другой стороны, степень "радения" русского человека по сравнению с западным такова, что даже националисты не скрывали это: "Интересно в самом деле и в то же время грустно подумать, что русский рабочий в течение года прогуливает не менее 125 дней, тогда как в Западной Европе нерабочих дней не более 65 в целом году"113. Прошло много лет и каждый может оценить степень осуществления этого футурологического предсказания).
В 1882 г. Лев Николаевич получает письмо от Михаила Александровича Энгельгардта (1861—1915), известного об-
150
щественного деятеля и писателя Александра Николаевича Энгельгардта. Кстати, пример этой семьи лишний раз подтверждает, что в вопросах идеологических даже в одном клане бывают такие глубокие различия, которые не могут быть объяснены одинаковым воспитанием. Отец — Александр Николаевич (1832-1893), мать Анна Николаевна (1835-1903) и сын Михаил примыкали к левому крылу русской интеллигенции. Зато второй сын — Николай Александрович, деятель крайне правого черносотенного лагеря, прозванный "современным Булгариным", — ярый ненавистник еврейства. (Все члены семьи были необыкновенно талантливы, включая и Николая.)
А.Н. Энгельгардт, публицист-народник, прославился созданием образцового хозяйства в Батищеве, где были решены проблемы возделывания зерновых в нечерноземной полосе. Благодаря М.Е. Салтыкову-Щедрину им опубликованы "Письма из деревни" (1872-1882), вышедшие отдельным изданием в 1882 г. Идеалом прогрессивного хозяйства он считал общественное пользование и артельную обработку земли. Он приглашал интеллигенцию идти в деревню, на землю: "Мужику нужен земледелец-агроном, земледелец-врач, земледелец-учитель". На его призыв откликнулись многие интеллигенты, и его усадьба стала школой практического труда. Лев Николаевич Толстой высоко ценил работу старшего Энгельгардта.
Михаил Александрович, как и отец, занимался проблемами сельского хозяйства, но также и вопросами религиозными. Он вел интересную полемику с Иваном Аксаковым по поводу статьи Владимира Соловьева "О церкви и расколе", высказываясь против ортодоксального христианства. 10 декабря 1882 г. он обратился к Льву Толстому как к человеку, "хорошо изучившему Евангелие и вообще религиозные вопросы", послав свою статью ему на отзыв. Толстой ответил ему письмом, и тогда Энгельгардт написал обширное послание, где среди прочего коснулся свободы совести, которая в России отсутствует, и поставил вопрос об организации новых евангельских общин. Он говорил о налаживании связи с существующими сектами для того, чтобы объединиться в единый союз. Далее он касался земельного вопроса, капитализации деревни и проблемы общинного землевладения. "И вот придется искать новой формы хозяйства: ум народный естественно натолкнется на мысль вести дело сообща. В этом смысле лучшая часть интеллигенции могла бы — мне кажется — оказать огромную услугу сектантству; могла бы исправить ошибку, в которую постоянно впадают секты. Они не обращают внимания на условия жизни народа и думают, оставив эти условия в стороне, преобразовать людей; но только часть этих последних способна стать
151
выше окружающих условий; остальные поддаются соблазну. Не должны ли идти рука об руку основание общин, проповедь истинного учения и стремления добиться известных реформ от государства? Не есть ли это наилучший путь для достижения нашей цели? Если бы несколько сот тысяч человек могли соединиться в один союз, то это была бы уже огромная сила. — Как вы думаете обо всем этом? Наша интеллигенция совершенно оставляет в стороне сектантское движение и, мне кажется, этим сама лишает себя возможности сблизиться с народом"114.
Конечно, искренность Михаила Энгельгардта завораживает, несмотря на утопичность его плана. И она вызвала ответную реакцию — Лев Николаевич ответил пространным письмом, своеобразной исповедью, где перед незнакомым человеком вывернул себя наизнанку: «Вы верно не думаете этого, но вы не можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий "я", презираемо всеми окружающими меня»115. В этом письме для нас ценно то, что Лев Николаевич из Моисеевой декалогии оставляет 5 — "нет", что касается позитивной программы, то остаются: дом, село, пашня, труд и равенство трудящихся в том, чтобы носить воду, убирать горницу и пахать ниву. И вот именно в этот момент "сектантски подготовленный" Толстой прочитал статью Успенского. А затем получил рукопись Бондарева. Вечером 12 июля 1885 г. он "читал присланную ему из Минусинска любопытную рукопись крестьянина Тимофея Бондарева"116. Он был потрясен, и даже не дождавшись ответного письма от B.C. Лебедева (пославшего рукопись), пишет письмо Бондареву — случай в биографии великого писателя чуть ли не единственный. Всего обнаружено 11 писем Толстого к сибиряку (до недавнего времени было известно 9 писем) и 23 письма Т.М. Бондарева к писателю. Большую работу по изысканию и публикации этих писем провел уже упоминавшийся А.А. Донсков.
Первое письмо написано между 15 и 20 июля 1885 г.:
"Тимофей Михайлович!
Доставили мне на днях вашу рукопись — сокращенное изложение вашего учения. Я прежде читал из нее извлечения и меня они поразили тем, что все это правда и хорошо высказано; но прочтя рукопись, я еще больше обрадовался. То, что вы говорите, это святая истина, и то, что вы высказали, не пропадет даром; оно обличит неправду людей. Я буду стараться напечатать вашу статью и сам стараюсь и буду стараться разъяснить то же самое. Дело людей, познавших истину, говорить ее людям и исполнять, а придется ли им увидать плоды своих
152
трудов - то Бог один знает. Моисею не довелось войти в обетованную землю, но он привел в нее народ и не оставлял ничего из того, что нужно было, чтобы привести народ"117.
Поражает психологическая тональность письма: Лев Николаевич признает новаторскую сущность учения Бондарева и готов стать его барабанщиком. Обращаясь к сектанту, он пользуется библейским текстом, и лучшего примера, чем Моисей, столько сделавший для освобождения своего народа, но которому так и не суждено было увидеть Землю Обетованную, трудно придумать. Ведь письмо пришло в село, которое носило когда-то это чудное название. Сердце Бондарева было завоевано. Дальше Толстой советует прекратить бесплодные попытки добиться чего-либо через правительство (царя, министров), ибо в своих действиях сильные мира сего исходят из эгоистических соображений. Сам Толстой не питал иллюзий: он испытал неудачу с посылкой письма Александру III через Победоносцева, по делу 1 марта.
"Большую" рукопись Бондарева, отправленную Леонидом Николаевичем Жебуневым (1851—?), сосланным народовольцем, который был дружен с Давидом Абрамовичем, Толстой получил значительно позже. То ли по цензурным причинам, то ли из-за медлительности почты рукопись, отправленная еще в мае 1885 г., нашла адресата, по-видимому, лишь в марте 1886 г.
В октябре 1885 г. Бондарев ответил Толстому письмом. Надо понять состояние человека, находящегося в сибирской глуши, одинокого среди своих односельчан и, пожалуй, втихомолку презираемого за свои "чудачества", и тот прилив сил, который он испытал, получив весточку от великого писателя. Письмо было им получено 6 сентября, но, чтобы собраться с духом и с мыслями, ему нужно было время. Прошло не менее месяца, прежде чем он в образной форме описал свое состояние и отношение к нему его окружения: "Ваше письмо послужило для меня громовым ударом. Все знатные люди у нас в Минусинске, так и в деревнях, как разъярившийся пес брошенный на него камень грызет зубами, так они эту мою проповедь ненавидят и гнушаются ее. А почему? По незнатности и по бедности моей. Я думал, что и везде будет так же, а теперь с Вашего письма увидал все противное тому". Далее свое положение в селе он подкрепляет ссылкой на Святое Писание и приравнивает себя к древним пророкам — "нави": "В С.П. сказано, что пророк не бывает без чести — только в своем отечестве и в своем доме нету ему чести, а одно бесчестие". В письме сообщаются интересные житейские детали. Бондареву в то время было почти 65 лет, но он со своей женой работает,
153
работают и его сын и сноха, у которых трое маленьких детей. К тому же в Сибири "скот заразился" — из сотни выживает лишь 5-6 "штук", и посему сам Бондарев поселился со скотом в горах и в лесах, в 15 верстах от села, спасая домашнюю скотину от сибирской язвы.
Но чувства собственного достоинства он не потерял. И посему просит свою проповедь напечатать с его именем, отчеством, и, самое главное, без пропусков. Ему нужно две копии — одну "отослать на родину в Рассею": ссыльный трогательно не забывает своей станицы. Тимофей Михайлович призывает Толстого всемерно помочь издать его труд, на пользу человечеству и во славу Бога, а в успехе он уверен: "У меня много написано, а лучшие меня писатели с этого еще в 10 раз более умножат, и выйдет из того громадная книга под названием трудолюбие, или радость земледельца. Тогда эти книги многие тысячи людей наперерыв расхватят, чем вознаградятся все Ваши труды и издержки десятерицею. А от Бога какая Вам за то будет награда, оценить ее выше нашего разума.
Тут как в зеркале ясно видно, что правосудное небо Вам, Л.Н., поручает вывести первородный закон из тьмы неведения на свет познания. И потому, Л.Н., напрягай все возможные силы привести все это в Богу угодный и людям полезный порядок". (Читал ли когда-нибудь Бондарева Владимир Ленин? Образ зеркала в отношении к Толстому кажется неслучайным. Напомним, что в феврале 1897 г. Ульянова ссылают в село Шушенское Минусинского округа Енисейской губернии, его друга Глеба Кржижановского — в субботническое село Тесь. Таким образом, пути сектанта и революционеров могли пересечься в Минусинском музее. Один из исследователей творчества Бондарева ссылается на Феликса Кона, утверждая, что в ссылке Ленин ознакомился с рукописями Бондарева. Подтверждения этому, впрочем, нигде не нашлось118. Но и преувеличивать значение слова "зеркало" не имеет смысла: это общее место о Толстом встречается не так редко, например: "Твой разум — зеркало. Безмерное оно" (A.M. Жемчужников о Льве Николаевиче Толстом, 1908 г.).
В письме Толстому Давид Абрамович указывает, что он в течение 6 лет разработал 250 вопросов — "статей", как он выразился. Главный источник его вдохновения — Ветхий Завет, что он и подчеркивает: "И все эти доказательства я брал только с допотопного времени, а ниже по закону не спущался"119.
Ответ Бондарева Толстому носит программный характер. Переходя к положению крестьянства, он жалуется на их разобщенность: "разделение братьев на разные семейства и на одиночество". Все это увеличивает их нищету и "убожество". Он
154
призывает к созданию артели — "единодушной и единосердечной", в первую очередь исходя из гуманных соображений помощи сиротам и нуждающимся. Все эти мысли Бондарева были бальзамом для толстовской души, подготовленной к восприятию учения Бондарева письмом Энгельгардта. Конец письма Бондарева свидетельствует о том, что он пренебрег советом Толстого (и не только его) не пытаться ознакомить министров и царя со своим "первородным законом".
Списки труда Бондарева пересылались русскими интеллигентами друг другу. Одним из пламенных апологетов Давида Абрамовича стал писатель Николай Николаевич Златовратский (1845-1911), человек демократического лагеря, живо интересовавшийся положением русского крестьянства. Рукопись Бондарева он получил от Толстого через Марию Александровну Шмидт (1843-1911), известную последовательницу Толстого. Очарованный Златовратский пишет письмо Льву Николаевичу, где благодарит его: "До сих пор не могу освободиться от впечатлений, которые она (рукопись. — С. Д.) произвела на меня. По-моему, это документ высокой важности. Впрочем, простите, что это я говорю Вам. Вы давно оценили его в тысячу раз лучше". Далее он напоминает Толстому о скорейшем исполнении его обещания — написать предисловие к предполагаемой публикации "Торжества Земледельца"120.
Толстой отвечал Златовратскому 20 (?) мая 1886 г.: "Я душевно радуюсь тому сочувствию, которое вы выражаете и испытываете к Бондареву. Я еще больше полюбил вас за это. Я написал кое-что в виде предисловия. Пожалуйста, прочтите и напишите мне свое мнение. Я очень недоволен написанным"121. Недовольство вызвано было, вероятно, желанием обойти цензуру, а для этого надо было приспособить текст — занятие не из приятных. Для Златовратского же вообще был важен факт участия великого писателя в пропаганде идей сибирского мужика: "В высшей степени важно и знаменательно для меня то, что Ваше предисловие сопровождает сочинение мужика Бондарева, признавая тем самостоятельное право за народным сознанием аналитически относиться к явлениям жизни"122.
Златовратский в отличие, например, от Глеба Успенского в своих произведениях всегда идеализировал русского крестьянина. По ироничному замечанию С.А. Венгерова, Златовратский, видный представитель "мужицкой беллетристики", даже в мелочах крестьянской жизни всегда видел некие глубинные "устои", а "серенький мужичок сплошь да рядом превращается ... в какого-то эпического Микулу Селяниновича, который часто говорит былинным складом и чуть не белыми
155
стихами"123. Венгеров намекал на роман писателя "Устои". (Сам же Венгеров был и редактором народнического журнала "Устои"). Златовратский же был автором повести "Золотое сердце" — отсюда его поклонники, например Я.Л. Тейтель, обыгрывая и его фамилию, называли его тоже "золотое сердце", отмечая тот же слащавый стиль в отношении к мужику-пахарю. Как народник, он преклонялся перед любым народом, в том числе и еврейским: каждый несет искру Божию и является источником правды и истины124. Наконец-то добрейший Николай Николаевич получил в реальной жизни настоящего былинного героя, да еще пишущего не менее красочно и темпераментно, чем Аввакум. Было от чего прийти в восторг. До конца дней у Н.Н. Златовратского в его кабинете висела увеличенная фотография Давида Абрамовича Бондарева. Но состоял ли он в переписке с ним — нам неизвестно, хотя даже в его письмах дочерям всплывает имя Бондарева125.
Интересна история фотографий Бондарева. Благодаря ссыльным народовольцам Давида Абрамовича несколько раз снимали в Минусинске, и фотографии были разосланы писателям, в том числе и Льву Толстому, который в ответ выслал автору "Торжества земледелия" свое изображение126. К сожалению, фотографический снимок Давида Абрамовича с группой минусинских ссыльных исчез. Его же портрет кисти И. Волгужева находится в Толстовском музее в Москве127. И если мы заговорили о внешнем облике субботника, то хорошо знавший его Белоконский писал: "Ему было тогда более 70 лет, что не мешало Бондареву быть еще здоровым человеком; черты лица Бондарева напоминали еврейский тип"128. Замечательно — Бондарев превратился в настоящего библейского пророка! Суть перешла во внешность. А в далекой сибирской деревушке хранилась фотографическая карточка великого писателя. В одном из писем Бондарева Толстому говорится об этом: "А меня за что уважаешь? Даже и портрет мой показывает меня со всех 4-х сторон, сверху и снизу, изнутри и извне, что я по будням заношен, да, впрочем, и твой портрет никакой пышности не представляет, а показывает тебя в великих трудах изнуренного челов[ека], одна рука за поясом, рубаха посконная, холщовая, на голове и на бороде волосы в беспорядке, и несколько сгорблен. Что я говорил в особой от людей комнате ночью заочно с тобою, смотревши на твой портрет, мне кажется, что эти мои слова прозвучали по всему шару земному и прогремели по всему кругу небесному"129.
Предисловие было написано Толстым для публикации в "Русском богатстве". "Труд Тимофея Михайловича Бондарева кажется мне очень замечательным и по силе, ясности и по
156
красоте языка, и по искренности убеждения, видного в каждой строчке, а главное, по важности, верности и глубине основной мысли". Лев Николаевич подчеркивает, что основная мысль Бондарева взята из Библии, но она важна не потому, что была сказана Богом Адаму: "В поте лица твоего снеси хлеб твой", а именно из-за истины, заложенной в ней, — это один из основных законов человеческого общежития. Понятие "хлеб" Толстой воспринимает расширительно. Бондарев, пишет Толстой, "разумел под хлебом всю тяжелую, черную работу, нужную для спасения человека от голодной и холодной смерти, то есть и хлеб, и питье, и одежду, и жилье, и топливо". Заканчивает писатель призывом к интеллигенции спуститься к низам, встать в один ряд с тружениками. Наградой будет чувство исполненного долга: "И ты испытаешь те цельные, неотравленные радости, которые ты не найдешь нигде, ни за какими дверями, ни за какими гардинами"130.
Увы, никакие ухищрения не помогли — статья была набрана, но не пропущена цензурой, о чем Л.Е. Оболенский известил Толстого 15 октября 1886 г.131
Леонид Егорович Оболенский (1845-1906) — лицо заинтересованное — редактор журнала "Русское богатство", единственного журнала, по словам Толстого, воздействующего на общество. Еще раньше ему удалось откликнуться на статью Глеба Успенского о Бондареве (единственная публикация, посвященная этой статье, несмотря на массу писем, получаемую Глебом Ивановичем) — в № 12 "Русского богатства" за 1884 г. под псевдонимом "Созерцатель" в обзоре "Обо всем", где он затронул проблему нравственного значения земледельческого труда для всех сословий общества. Оболенский писал о плодотворной и необходимой работе интеллигенции в народной среде — будь то труд врача, учителя, земца и др. «Конечно, если кто из интеллигентных людей в силах заняться земледелием... не теряя и способности при нынешних условиях этого труда мыслить и работать умственно, тому дай Бог успеха: "Могущий вместити да вместит!" но таких немного». Оболенский иронизирует над мыслью Михайловского и Глеба Успенского о гармоничном развитии личности, приводя в пример древних греков, кои под гармонией подразумевали не переложение части своего интелектуального труда на плечи рабов и не взятие части их физического труда на себя: для них гармонией считалось "благородное" развитие тела гимнастикой, играми и т. п. Оказывается, гармонический идеал русский народ осуществил бессознательно, "зоологически", "а в некоторых сектах даже сознательно". Вывод Оболенского естествен: "Наша интеллигенция охотнее идет в деревню в качестве
157
врачей, учителей, земцев и пр., но кажется, г. Успенский признает, что это — не то, о чем мечтает его крестьянин в своих записках"132.
Выдержки из сочинения крестьянина в статье Успенского уже тогда произвели на Льва Николаевича впечатление разорвавшейся бомбы или, точнее, откровения свыше. 13 июля 1885 г. Толстой в письме к Л.Д. Урусову вспоминал свой разговор с ним по поводу статьи Успенского и мыслей сибиряка. В этот же день он отправил письмо к В.Г. Черткову, где среди прочего вспомнил об этой статье.
По получении рукописи граф поспешил сообщить об этом своим друзьям. Сначала Л.Д. Урусову: "Удивительно сильно. Вся наука экономическая ничего подобного не сказала"133, а затем Черткову — почти в тех же словах: "Удивительно верно и сильно"134. После некоторого внутреннего колебания Толстой пишет письмо Бондареву, о чем тоже сообщается Черткову. Такова предыстория и история знакомства и начала переписки между писателем и крестьянином.
27 января 1886 г. B.C. Лебедев по просьбе Бондарева высылает Толстому «Добавление к прежде написанному мною, Бондаревым, "О трудолюбии и тунеядстве", почерпнутому из первородного источника: в поте лица твоего снеси хлеб твой». Это небольшое дополнение из 32 "вопросов" завершается завещанием, выполнение которого ложится на плечи его сына Даниила Давидовича: «И похоронить меня прикажу я сыну своему не на кладбище, а на той земле, где мои руки хлеб работали, и четверти на две не досыпавши песком или глиною, досыпь ее плодородною землею, а оставшуюся землю свези домой так чисто, чтобы и знаку не было, где гроб покоится, и таким же порядком продолжай на ней всякий год хлеб сеять. А со временем перейдет эта земля в другие руки, и также будут люди на моем гробе сеять хлеб до скончания века. Вот тут-то и сбудется реченное: "да снидем в гроб, как пшеница созрелая, или как стог гумна вовремя связанный" (Иов, 5:26; рус. пер. — "Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время")».
Это место необыкновенно интересно. То, что Бондарев знает Библию назубок — ясно. Он отыскал в самой глубокой книге Библии — книге Иова — место, касающееся погребения, и именно то, где говорится о земле и пшенице. Книга Иова влекла к себе и Толстого, и Достоевского. Но сибиряк кое-что не договаривает: он глубоко верит в свое дело, порукой чему служит та же книга Иова и стих, помещенный выше приведенного: "И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле" (Иов, 5:25).
158
К своему завещанию Бондарев сделал примечание: "Примечание. Этот мой памятник будет дороже ваших миллионных памятников, и о такой от века неслыханной новости будут люди пересказывать род родам до скончания века; да и многие из земледельцев сделают то же самое. А может статься и из вас, именитых людей, кто-либо пожелает и прикажет похоронить себя на той земле, где люди хлеб сеют.
Теперь я избрал желаемое место и положил сам себя в гроб (я сегодня еще жив и здоров, а будущее не в нашей воле), на этом и проповедь моя кончалась. Теперь, читатели и слушатели, прощайте. Если не в сей жизни, то в будущем веке я вас всех, а вы меня увидите. Но я надеюсь, что вы своим красноречием да хитростию перед Богом более оправдаетесь, нежели я"135.
Получение "Добавлений..." подтолкнуло Толстого на еще одну попытку провести труд через цензуру. 8 февраля 1886 г. он обращается к Черткову, чтобы тот "очень, очень" попросил Л.Е. Оболенского напечатать Бондарева в "Русском богатстве". Оболенский, естественно, был согласен и даже изобрел новое название: "О нравственном значении земледельческого труда. Крестьянина Тимофея Бондарева". Но и это не помогло. В мае 1886 г. Оболенский сообщил Толстому, что "Бондарева не пропустили окончательно".
ПУБЛИКАЦИИ
Лев Николаевич не прекращает борьбу. В декабре 1887 г. он вновь делает попытку напечатать сочинение Бондарева со своим предисловием в журнале "Русская старина". 17 января 1888 г. он пишет редактору Михаилу Ивановичу Семевскому, известному писателю и публикатору самых разнообразных произведений: "Рукопись Бондарева очень стоит того, чтобы быть напечатанной, и вы сделаете доброе дело, издав ее"136. Человек, обнародовавший "Записки Андрея Тимофеевича Болотова", прекрасно понимал, что находится в его руках. Не мог Михаил Иванович не сравнить издателя "Сельского жителя" и автора "Торжества земледельца", не мог... Семевский был согласен — не согласна была цензура. Уже 2 февраля Толстой извещал Черткова: «В "Рус[ской] стар[ине]" запретили мое предисловие и статью Бондарева. Я хочу перевести по-английски и напечатать в Америке»137. В этот же день в письме к П.И. Бирюкову он сообщал, что перевод должна будет сделать гувернантка его детей с помощью его дочери М.Л. Тол-
159
стой. "Очень уж меня пробрал Бондарев — я не могу опомниться от полученного опять впечатления"'38. Но осуществить в то время английский перевод не удалось.
И вновь Толстой борется и частично ему удается прорвать цензурный барьер. На помощь пришел еженедельник правого лагеря.
Впервые на русском языке со значительными сокращениями труд Бондарева появился в "Русском деле" (№ 12, от 19 марта 1888 г.) с небольшим предисловием-примечанием редакции. Редактор С.Ф. Шарапов писал: "Возражать на мысли Бондарева не будем. В своей трогательной наивности крестьянин-философ заходит в такое огульное отрицание, которое не допускает полемики и возбуждает только улыбку. Но сочинение почтенного старика-земледельца имеет и свои несомненные достоинства. По мысли, оно интересно как протест против того неуважения, с каким наше образованное общество и государство относится к земледельческому труду. По форме, как удивительно простое и поэтическое произведение, полное чарующей искренности... нам эта рукопись живо напомнила древние произведения народного творчества, ставшие историческим достоянием нашей литературы. Стиль автора очень близок к Даниилу Заточнику, протопопу Аввакуму и т. п. Есть еще на Руси уголки, где в полной силе царят простота и искренность XIV и XVI вв.; голос оттуда"139. Для убедительности Шарапов "наивно" подыгрывает цензуре: «Считаем возможным поместить в "Русском деле" произведение Бондарева, потому что уверены в его полной безвредности».
В следующем номере "Русского дела" (№ 13 от 26 марта) было опубликовано предисловие Л. Толстого. За два дня до появления номера Лев Николаевич писал Черткову: «Здесь в "Русском деле" напечатали Бондарева, хотя и с пропусками, но и то хорошо. Послезавтра должно выйти предисловие к нему в виде послесловия. Если не задержит цензура, я пришлю вам несколько экземпляров»140.
Публикацию статьи Толстого о Бондареве редактор "Русского дела" сопроводил обширной полемической статьей, в которой противопоставил взгляды Толстого и Бондарева. "Для Бондарева наш мир — мир реальный и общий ему; он считает его испорченным, построенным на несправедливости и он все бы отдал, чтобы его исправить. Для Толстого наш мир — чужой, наши понятия — чужие, наша цивилизация — дикость. Он не желает исправлять этот мир, но желает создать новый". Был ли искренен Шарапов — трудно сказать. На мой взгляд, это был тактический прием. Для видимости противопоставляя взгляды графа и крестьянина (ему казалось, так было легче
160
протолкнуть статью в печать), Шарапов писал: "Бондарев самой сути нашей цивилизации не трогает, граф Толстой ставит над нею крест". Далее идет нечто от известного обращения Тургенева к Толстому, а именно призыв вернуться к писательскому творчеству, ибо Толстой "опустил... тяжелое и огромного подвига требующее знамя художника и поднял знамя учителя, в тысячу раз более легкое"141.
За помещение статей Бондарева и Толстого редакция в лице С.Ф. Шарапова получила предупреждение — на первой странице следующего №14 от 2 апреля было опубликовано "Распоряжение министерства внутренних дел": «Принимая во внимание, что несмотря на предостережение, объявленное от 17-го февраля сего года газете "Русское дело", обнаруживается в ней по-прежнему вредное направление, доказательством чего служит, между прочим, статья, напечатанная в № 12 этой газеты, под заглавием "Трудолюбие, или Торжество земледельца"». Вот уж действительно "хитрость старого Гайста" — Шарапов, человек правого лагеря, сумел с небольшими издержками опубликовать труд Бондарева и статью Толстого, что не удалось "прогрессистам". Но может быть, его монархическое реноме ему помогло. Кстати, Шарапов пользовался псевдонимом "Земледелец".
А министр внутренних дел граф Дмитрий Толстой в тот же день 26 марта 1888 г., когда вышел № 13, писал в докладе Александру III следующее: «В издаваемой в Москве (№ 12) газете "Русское дело" появилась статья под заглавием "Трудолюбие, или Торжество земледельца", будто бы сочиненная каким-то крестьянином, проживающим в Сибири. Из содержания статьи и вполне литературного ее изложения можно, однако, безошибочно заключить, что она вышла из-под пера если не самого графа Льва Толстого, то одного из его ревностных последователей. Всецело посвящена она развитию в высшей степени вредных теорий этого писателя». Далее министр негодует на социальную направленность сочинения — "автор обращается к людям высших классов с увещанием, чтобы по занятиям своим они вполне примкнули к народу, вели бы одинаковый образ жизни, чтобы каждый из них питался только тем, что выработает собственными руками. Это проповедь грубого социализма... имеющая целью восстановить один класс общества против другого, находит немало адептов благодаря пропаганде графа Льва Толстого, которую цензурное ведомство настойчиво преследовало в издаваемых им книгах. Тем более дерзкою является попытка перенести ее на страницы периодического издания". Граф Дмитрий Андреевич, дальний родственник Льва Николаевича, был весьма образованным человеком,
161
"классицистом", и поверить, что автором "Трудолюбия, или Торжества земледельца" мог быть крестьянин — было выше его сил. (Только что, в 1887 г., был издан циркуляр министра народного просвещения И.Д. Делянова об ограничении доступа в гимназии детям из простонародья, прозванный злоязычными современниками циркуляром "о кухаркиных детях".) С другой стороны — это ли не честь для сибирского сектанта, если мощь его пера была признана за толстовскую: вулканическая природа гения говорит сама за себя. И Александр III, конечно же, сразу уверовал в то, что богоотступник Лев Толстой спрятался за спину сектанта: "Это прямо теория Толстого, и очень может быть, что даже и статья его"142. Затем последовало вышеприведенное предостережение газете.
Публикация в трех номерах "Русского дела" материалов о сочинении Давида Абрамовича совпала с полемическими статьями, направленными против Вл. Соловьева в связи с критикой последним книги Н.Я. Данилевского "Россия и Европа". И здесь Тимофей Михайлович мог бы заинтересоваться одним высказыванием Соловьева: «В сельской общине и крестьянском наделе Данилевский видит общественно-экономическое устройство, справедливо обеспечивающее народные массы, и это, по его мнению, составляет основу русско-славянского культурно-исторического типа, важнейший залог нашей будущности. Хотя и к народам следует применять слово Писания: "не хлебом единым" и т. д., тем не менее, общественный строй, обеспечивающий благосостояние народных масс, есть дело огромной важности" (курсив мой. — С. Д.)». Но и Владимир Соловьев не мог не заинтересоваться Бондаревым. Между прочим, в это время философ готовил открытое письмо Александру III по поводу единения церквей.
Кстати, публикации в "Русском деле" сочинения Бондарева предшествовала какая-то заминка со стороны Толстого, не совсем понятная. В февральском письме Толстого его биографу П.И. Бирюкову есть загадочная фраза: «Бондарева хотел напечатать в "Русском деле", но теперь заробел. "Жизнь" до сих пор в духовной цензуре и так как нет ответа, то не посылается еще для печатания за границей. Тогда заодно и пошлю Бондарева»143. В чем проявилась "робость" — трудно сказать, возможно, в страхе перед цензурными издевательствами. Вероятно и то, что сам Давид Абрамович не увидел своей публикации, ибо номера "Русского дела" были тотчас же конфискованы, как утверждает Владимиров144. Узнав о конфискации, Бондарев писал енисейскому губернатору: |
"Надивиться, надивиться я не могу нижеследующему: такой; редкости еще не было на свете, да и впредь никогда не будет.
162
Какой же редкости? Вот она. Два великих писателя, Лев Николаевич Толстой и Глеб Иванович Успенский, они в своих сочинениях на всевозможные лады хвалят, превозносят, выше облак поднимают и всему свету показывают одобрение моему учению, с целью пожелания обратить всю вселенную на сказанный путь благочестия, чего вы, читатели, своими глазами видали. Из этого видно, что если бы вся вселенная видела все сказанное мною и тоже бы с жадностью всякое слово мое читала и на самое дно сердца клала, да и великое наше правительство, ведь оно тоже не глупей Толстого и Успенского. Оно видит, что не было, нет, да и быть не может на свете полезнейшего, как это мое, т. е. Бондарево, учение.
После же всего сказанного что же? Похвалу, одобрение и возвышенность тому моему учению печатать можно, а самого учения, т. е. ту вещь, которая одобряется, в свет выпустить нельзя.
Так вот загадка, так вот задача: хвалить можно, а ту вещь, которая хвалится, выпустить в свет и показать людям нельзя. В таком случае нужно же ту вещь, это мое учение, укорять, — нет, укорять нельзя: а если укорять нельзя, то напечатай, а напечатать нельзя. Так вот загадка, так вот задача для тебя, правительство! Вы и рассуждение потеряли, с нею что делать, и как быть с нею, не знаете!"145
До 1906 г. напечатать в России работу Бондарева не удавалось. Зато началась мировая слава "сибирского мужика". В марте 1888 г. Ясную Поляну посетил профессор Сорбоннского университета в Париже Эмиль Пажес. В день публикации своей статьи о Бондареве Лев Николаевич рекомендовал Пажеса Н.Н. Страхову как "умного, образованного и, что редкость — свободного человека". "Он большой сторонник моих взглядов", — из письма в тот же день 26 марта А.А. Толстой, своей двоюродной тетке146. Пажес имел опыт перевода. Он издал на французском языке первую часть толстовской работы "Так что же нам делать?". Поэтому Лев Николаевич, не колеблясь, предложил перевести Пажесу сочинение Бондарева и свое предисловие. В июне 1890 г. эта книга вышла в Париже под заглавием "Leon Tolstoi' et Timothee Bondareff:. Le travail. Traduit du russe par B. Tseytline et A. Pages". Книга распадается на две части. Первая часть содержит статью Толстого "Труд и теория Бондарева". Вторая часть, озаглавленная «Труд "мужика" (par le moujik) Бондарева», имеет две главки: 1) Введение. Жизнь Бондарева. Цель его работы; 2) Труд по Библии. В приложении даны статьи: Труд и любовь. Завещание Бондарева. В предисловии один из переводчиков Амедей Пажес сообщил, что его брат Эмиль посетил Толстого в 1888 году и «принял из
163
его рук рукопись "Труда", но, загруженный работой, поручил работу ему». Получив перевод, Толстой записал в дневнике от 28 июня 1890 г.: "Прекрасная книга"147. 30 июня Толстой писал своему другу Г.А. Русанову об этом труде: "Очень хорошая вышла книга и, думается, может быть на пользу людям"148. Вышедшая книга была доставлена в село Иудино много лет спустя. Как выяснилось, Тимофей Михайлович, получив уведомление от Толстого в письме от 3 декабря 1893 г. о посылке книги, напрасно ждал ее. Недремлющие полицейские власти изъяли книгу на минусинской почте как враждебную правительству. Прошло не менее пяти лет, пока автор сумел ее получить окольными путями. И прошло еще немало времени, пока для Бондарева молодой человек В.И. Кузьмин (Вл. Са-гайский) сделал обратный перевод с французского на русский. По-видимому, перевод получился довольно близким к подлиннику. Но старик вознегодовал: он написал резкое письмо яснополянскому доктору Д.П. Маковицкому (1866-1921) и самому Толстому. Кстати, это письмо показывает, что иудинский философ находился в обширной переписке со многими людьми. Да и не могло быть иначе, его труд вызвал широкую полемику, и людям было необходимо общаться с ним. Мы доподлинно знаем, что он переписывался с Глебом Успенским и Николаем Златовратским. Но эти письма, видимо, безвозвратно утрачены. Бондарев писал Маковицкому по поводу преследования царскими властями сектантов, а во второй половине послания жаловался на неточность французского перевода. Доверительный характер письма к человеку толстовского окружения говорит об их близости: "О, друг мой, о душа души моей, Душан Петрович! Если Бог есть бесконечная милость, то откуда же бесчисленные бедствия, коим подвергаются благочестивые люди? Если Он есть правосудный правитель мира, то почему порок счастлив, а добродетель несчастная?" Публикатор письма А. Косаванов делает по этому поводу замечание: можно подумать, что это высказывание безбожника. Но это далеко не так: вернее предположить, что Давид Абрамович только что читал 66-й сонет Шекспира. В конце письма он касается парижского издания своего труда: "Лев Николаевич прислал мне книгу моего сочинения, печатанную на французском языке, и она года три лежала — прочитать ее некому, но теперь нашелся человек, который перевел ее пером на русский язык. И что же я там увидал? Я увидал там то, что платье на себе разодрал и волосы оборвал на себе от досады и неудовольствия. Как! Ссудомлена да сковеркана, когда я ее первый раз читал, то я тогда был не человек, а какой-то изверг со всего человеческого рода"149. Один из советских исследователей
164
настаивает на том, что Толстой выкинул из сочинения при французской публикации все выпады против власть имущих, согласно своей теории непротивления150. Но тем не менее переписка между Толстым и Бондаревым окончательно прервалась лишь незадолго до смерти сибиряка, после того как 15 августа он отправил в Ясную Поляну короткое письмо, где писал следующее: "Ту книгу моего сочинения, которую прислал ты мне печатную на французском языке, теперь перевели ее на русский язык пером, и что же я там увидал? О сколько много там не наилучшие, а наихудшие измены и какая темнота да запутанность. Я думал пользу принести как нынешнему всему миру, также и всем будущим родам, а оно вышло все противное тому и наоборот.
Именем Бога правды прошу и умоляю тебя, Л.Н., подай ты с своей стороны возможную для тебя помощь мне, в этой бездне зол утопающему. Какую же помощь? Вот она.
У меня есть эта же рукопись в сравнению с тою, которая у тебя была, вдвое сокращена и многими лучшими сказаниями добавленная.
У меня есть великое желание отослать ее к тебе, чтобы ты представил ее в ту редакцию, то есть за границу, где эта книга печатана. Вот в чем все моление и прошение мое состоит к тебе..."151
Ответ был написан 11 сентября и дошел до адресата быстро, 27 сентября 1898 г. Толстой старается объяснить старику принцип сокращения и сохранения главного:
"Тимофей Михайлович.
Напрасно ты думаешь, что книга твоя переводом испорчена. Вероятно, тебе дурно ее перевели. В ней переведено все самое существенное, а если что пропущено, то только то, что могло не привлечь, а оттолкнуть читателя.
Переведена же она на французский язык прекрасно и читается очень хорошо...
В том виде, в каком она есть, книга делает и сделает свое дело, т. е. распространит между людьми сознание их греха и укажет им средства его искупить... Любящий тебя брат Лев Толстой"152.
В
том же году, что и французский перевод, сочинения Бондарева вышли на английском
языке, но перевод был сделан не с русского, а с французского издания: "The Suppressed book of the peasant Bondareff. Labour:
The Divine command. Made known, augmented and edited by Count Lyof Tolstoi.
Transl.
Mary
Cruger.
165
Толстого, укоряет его за заимствования у сибирского философа (по-видимому, он уже знает о религиозной принадлежности крестьянина, так как говорит о примате в его мировоззрении Ветхого Завета). Михайловский пишет: «Удивительная статья графа "Женщинам" ...начинается ссылкой на библию (у Михайловского это слово и подобные написаны со строчной буквы. Отсюда мы видим, кто был родоначальником правописания с маленькой буквы слова "бог". — С. Д.), по которой мужчине дан закон труда, а женщине — закон рождения. Ссылка эта совсем чужая графу Толстому, который строит свое здание на Новом, а не на Ветхом завете, на евангелие, а не на библии (курсив мой. — С. Д.). Эта ссылка, равно как и непосредственно примыкающие к ней размышления о неизменности обоих законов, принадлежит некоему минусинскому крестьянину, с логически стройным учением которого читатели могли познакомиться из одной статьи Глеба Успенского в "Русской Мысли"». В этом месте Михайловский бросает несправедливый упрек в замалчивании источника вдохновения: "Но гр. Толстой умалчивает об этом и с христианским чувством предоставляет минусинскому крестьянину счастие неизвестности, как богоугодному старику сказки..."153 На самом деле Толстой всемерно продвигает сочинения Бондарева. Как мы говорили, предисловие графа к труду Давида Абрамовича в "Русском деле" пострадало от цензуры. Полностью оно было восстановлено в заграничном издании М.К. Эльпидина под названием "Учение М.К.(?) Бондарева. Предисловие и изложение графа Льва Николаевича Толстого" (Женева, 1892).
Тимофей Михайлович удостоился большой чести: попасть в биографический словарь русских писателей С.А. Венгерова. И статью о нем, о единственном, написал Великий писатель земли Русской. История появления этой заметки началось с того, что Семен Афанасьевич Венгеров (1855—1920) обратился к Толстому с просьбой по этому поводу. У Льва Николаевича были сомнения, несмотря на большое желание: "...предисловия я очень желал бы написать: и сейчас же попытаюсь это сделать. Боюсь только, что эти несколько слов с моим именем помешают прохождению статьи Бондарева через цензуру"154. По этому поводу между Венгеровым и Толстым возникла переписка, ибо у Семена Афанасьевича было несколько вопросов. Возможно, он хотел узнать адрес сибиряка, чтобы сделать личный запрос для нужд словаря. В письме от 22 мая 1895 г. Венгеров писал, что, несмотря на все его "старания и расспросы", он не смог раздобыть никаких сведений о Бондареве и даже не знает, жив ли он. 8 июня 1895 г. Лев Николаевич отвечал: "Бондарев до последнего времени был жив. Я получил
166
от него письмо менее года тому назад. Он живет в деревне Минусинского уезда. Попрошу дочь найти и приложить к этому письму его точный адрес. Обратитесь к нему, и он наверное даст вам те сведения о своей жизни, кот[орые] вам нужны.
Помню я из его писем об его жизни следующее: он — бывший крепостной крестьянин какого-то помещика земли Войска Донского". Далее Лев Николаевич, думаю, не без задней мысли, писал крещенному еврею Венгерову о религиозных взглядах Бондарева: "За субботничество сослан в Сибирь, где жил и живет лет около пятидесяти. Ему теперь должно быть лет 75. Имя ему Тимофей Михайлович. У него сыновья. Он до последнего времени не переставал работать всю крестьянскую работу в поле и гордится этим. Зимою же учит грамоте ребят. В Сибири продолжает держаться секты субботников, т. е. еврейства"155 (курсив мой. — С. Д.). Думаю, не без удовольствия выводил Лев Николаевич эти слова о человеке, сосланном из-за религиозных взглядов, и даже растолковывает профессору Венгерову, сыну знаменитой еврейской матери — Паулины Венгеровой, что такое субботничество, т. е. еврейство... Знакомство самого Льва Николаевича с Венгеровым относится к 1882 г. Судя по воспоминаниям одного из современников, они говорили о возможности опубликовать статью Толстого "Так что же нам делать?" в журнале Венгерова "Устои", касались современной литературы и вообще "много говорили". Венгеров произвел на Льва Николаевича впечатление "умного еврея"156. Написал ли письмо Семен Афанасьевич в Иудино, осталось неизвестным. Но заметка Толстого была помещена Венгеровым в его "Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых"157. В письме от 22 мая 1895 г. Венгеров благодарил Толстого за "любезное и быстрое" написание статьи и что она "необыкновенно ярко запечатлевает в уме читателя представление о замечательном народном мыслителе"158. Это была всероссийская слава, но видел ли сам Бондарев этот словарь, сказать затруднительно. В последнее время он реже наезжал в Минусинский музей, где, конечно же, был этот справочник.
МЕЧТА О ВСТРЕЧЕ
Статья Толстого для биографического словаря резко выпадает из произведений подобного толка. Это апология сибирского труженика, и Лев Николаевич не стесняется сравнивать его с величайшим реформатором, создателем новой религии апосто-
167
лом Павлом: "Как бы странно и дико показалось утонченно образованным римлянам первой половины 1-го столетия, если бы кто-нибудь сказал им, что полуграмотные, неясные, запутанные, часто нелепые письма странствующего еврея к друзьям и ученикам будут в сто, в тысячу раз, в сотни тысяч больше читаться, больше распространены и больше влиять на людей, чем все любимые утонченными людьми поэмы, оды, элегии и элегантные послания сочинителей того времени. А между тем это случилось с посланиями Павла. Точно так же странно и дико должно показаться людям теперешнее мое утверждение, что сочинение Бондарева, над наивностью которого мы снисходительно улыбаемся с высоты своего умственного величия, переживет все те сочинения, которые описаны в этом лексиконе, и произведет большее влияние на людей, чем они, взятые вместе. А между тем, я уверен, что это так и будет". Собственно, Толстой сравнивает Бондарева даже не с евреем Шаулем (Савлом), он ставит Давида Абрамовича вровень с самим Иисусом, оставляя для себя роль его апостола и ученика — Павла. "...Бондарев, признавая хлебный труд основным религиозным законом жизни ... делает это не потому, как это нам приятно думать, что он невежественный и глупый мужик, не знающий всего того, что мы знаем, а потому, что он гениальный человек... Смысл и значение эта истина получает только тогда, когда она выражена как непреложный закон, отступление от которого влечет за собой неизбежные бедствия и страдания и исполнение которого требуется от нас Богом или разумом, как выразил это Бондарев. Бондарев не требует того, чтобы всякий непременно надел лапти и пошел ходить за сохою, хотя он и говорит, что это было бы желательно и освободило бы погрязших в роскоши людей от мучающих заблуждений... но Бондарев говорит, что всякий человек должен считать своей обязанность физического труда, прямого участия в тех трудах, плодами которого он пользуется, своей первой, главной, несомненной священной обязанностью и что в таком сознании должны быть воспитываемы люди. И я не могу себе представить, каким образом честный и думающий человек может не согласиться с этим"159. Венгерову с небольшими цензурными потерями удалось напечатать эту заметку Толстого, а также поместить краткие биографические данные о Бондареве и в сноске даже привести часть статьи Толстого, писанной в 1888 г. А уже после смерти Бондарева, в 1906 г., эта статья была использована в качестве предисловия к изданию сочинения Бондарева издательством "Посредник".
12 февраля 1887 г. Лев Николаевич отправил в Иудино письмо, в котором подбадривает крестьянина в связи с неус-
168
пехом публикаций: "Напрасно, Тимофей Михайлович, огорчаетесь тем, что ваше писание не печатается и что правительство не делает распоряжения соответственно вашим мыслям. Мысль человеческая тем и важна, что она действует на людей свободно, а не насильно, и никто не может заставить людей думать так, а не иначе, и вместе с тем никто не может остановить и задержать мысль человеческую, если она истинна"160. Ободренный этим посланием, Бондарев решился совершить паломничество в Ясную Поляну. Обычно, принимая ответственное решение, он приезжал посоветоваться со своими друзьями в Минусинский музей. Так он поступил и в этот раз. Каждая такая отлучка была незаконной, ибо, будучи ссыльным, он не имел права свободно передвигаться. В последних числах марта 1887 г. он посетил своих друзей — Н.М. Мартьянова, B.C. Лебедева и Л.Н. Жебунева, которые в один голос отсоветовали ему это предприятие, указав на все сложности пути и предложив дождаться строительства сибирской железной дороги, что значительно облегчило бы его путь. Старик (ему было уже 67 лет — почтенный возраст) согласился с доводами доброжелателей и повернул лошадь домой. Но уже на обратном пути в Иудино он принял твердое решение — прорваться в Европейскую Россию. Есть удивительно красочный рассказ Е.И. Владимирова об этой попытке: «...он хорошо подправил коня, заготовил сухарей, вяленого мяса и, как только на склонах Саян сошел снег и начал появляться подножный корм, Бондарев навьючил в торока запас продовольствия, утром потемну, в один из июньских дней, оседлал коня и двинулся в путь-дорогу, на свидание с Львом Толстым. Чтобы сократить путь, обычно пролегающий через Ачинск по Московскому тракту, и чтобы не попасть в руки начальства, он взял маршрут через Таштып, долиной этой реки вглубь Горно-Шорской тайги и Кузнецкого Алатау с выходом на Кузнецк у реки Кандомы, с Кузнецка на Омск, с Омска на "Челябу" и так далее. Немало неудобств при весенней распутице пришлось перенести храброму рыцарю отважной мысли; не раз приходилось ему держась за гриву коня, вплавь переправляться через вздувшиеся горные реки, переваливать ледниковые вершины Алатау. Через 10-12 дней самый опасный и тяжелый участок пути был позади. Но впереди подстерегали его другие опасности — быть спрошенным старостой, сотским, приставом или волостным старшиной, — кто он такой, откуда и куда идет?
Утомленная тяжелым переходом через горные цепи, лошадь требовала отдыха. Бондарев решил подкормить ее на задах Кузнецка. Под вечер он въехал в город Полицейской улицей и в конце ее попросился переночевать у хозяйки тесом обшито-
169
го дома. Лошадка выстоялась, отдохнула с дороги, была отвязана от столба и, стреноженная ремнем, была выпущена за город на выпас, а путешественник с устатку выпил и вскоре уснул и проснулся лишь с восходом солнца.
Вскочив с постели, не умывшись, побежал он скорее за город посмотреть на лошадь, но она паслась целой и невредимой.
Возвращаясь в город, Бондарев на карнизе дома, в котором он ночевал, увидел дощечку с мелкой надписью: "Здесь жил Федор Михайлович Достоевский в 1858 г." (Об этом смотри, выше. — С. Д.).
Тимофей Михайлович задумался и решил провести здесь еще день-другой.
На следующий день Тимофей Михайлович поднялся на холм, возвышавшийся близ Кузнецка, к старинной крепости, построенной по заданию Петра I пленными шведами. Перед путешественником открылась панорама предстоящего пути — через старинный Гурьевский завод на Омск.
Возвращаясь с прогулки, Бондарев был приглашен в полицейское управление, где его спросили, кто он такой и куда держит путь?
— Я такой-то и такой-то, — отвечал Бондарев, — и еду на личное свидание с графом Толстым.
— Как — с графом Толстым? — переспросил чиновник.
— Да вот так.
И путешественник достал из-за голенища бродня бумажный сверток и развернул перед полицейским чином письма Толстого.
Чин, не вникая в содержание писем, потребовал "вид", но так как Бондарев уехал тайно от старосты, то документа не оказалось.
Последовал арест и отправка путешественника обратно к месту водворения в деревню Иудино, где после пяти дней отлучки Бондарева был поднят переполох: волостной старшина снял его с оклада, перестал выписывать его семье пособие и разослал бумажки по всем волостям уезда. Бондарев "был в безвестной отлучке", как это значится в делах Бейского волостного правления, и повсеместно разыскиваем»161. Прежде всего отметим беспримерность подвига Давида Абрамовича, почти в 70 лет в одиночку одолевшего несколько сот верст. Во-вторых, Владимиров в своей замечательной книге несколько отошел от формальной фактологии и с необыкновенной теплотой описал вояж сибиряка. Кажется, Владимиров опирался в своем рассказе на какие-то личные записи Бондарева, вероятно, утраченные.
170
ПОЛЕМИКА С ЯСНОПОЛЯНСКИМ СТАРЦЕМ
После этой неудачи писатель и сибиряк продолжали переписываться, иногда интенсивно, иногда редко. В общем, начавшись в 1885 г., их переписка продолжалась вплоть до смерти Бондарева — 12 лет. Существует одна лакуна: в течение 7 лет — с 1887 по 1893 г. — Толстой не писал в Иудино. (За исключением 1891 г., когда Толстой написал письмо, но оно не сохранилось.) За это время Бондаревым было отправлено несколько писем в Ясную Поляну, но не единого письма к Давиду Абрамовичу. Трудно сказать, чем было вызвано молчание Толстого. В письмах Тимофей Михайлович постоянно сетует на то, что ему не удалось убедить сильных мира сего принять его идеи. Толстой в шутливой форме утешает старика, приводя примеры из истории своих публикаций. Он пишет о конфискациях, запрещениях и даже об уничтожении его брошюр и книг. Между прочим, Лев Николаевич просит перейти на "ты", ибо это приличествует их возрасту.
Обращает на себя внимание одно из самых сильных писем Бондарева к Толстому, касающееся отношений еврейства к Христу. 1 октября 1893 г. сибиряк писал своему "единственному другу" о душевном расстройстве, в котором он находится:
«Я, Л.Н., чувствую в себе какое-то душевное расстройство, да и притом и нешутейное, о котором или стыжусь, или боюсь объясниться Вам. В чем же состоится это мое расстройство? Вот оно.
Я веры иудействующей, именуемый субботник, утвержден на одном Ветхом Завете (но талмудических преданий отнюдь не принимаю и даже крепко гнушаюсь ими), то есть иду по стопам жития Христова. Как по стопам его? Вот так!
Христос признавал единого Бога, а сделанных руками человеческих богов не имел и не поклонялся им, и я так же. Христос был обрезан, соблюдал субботу, ел законом установленную пасху, и я так же, и так далее и далее. Христос говорит: "Да не мните яко прийдох разорити закон, не разорить, но исполнить дондеже прейдет небо и земля, [и]ота едина и черта едина из закона мимо не пройдут". И я исполняю, насколько могу исполнить законное.
У нас 130 дворов субботников и во всех них есть ненависть ко Христу, а спроси у него, за что ты Христа ненавидишь? Он отвечает: "Не знаю. Ничего я за ним не нахожу, а ненависть есть". Жиды же, у них сверхъестественная и выше всякой меры ненависть к нему.
171
Настойчиво спрашивал я великоученых жидов, за что, почему и откуда у вас столько великая ненависть к Иисусу сыну Мариину? "Он был незаконнорожденным да к тому еще колдун и волшебник", — отвечают они. Да мало ли было незаконнорожденных колдунов и волшебников? — отвечаю я им. — Есть ли у Вас ненависть к ним? — спрашиваю я. "Нету, — говорят они, — нету. Он сам себя Богом называл", — представляют они в свое оправдание, а в Его обвинение. Да скажите же Вы мне чистую истину, как своему единоверцу, — притворившись ревностным последователем талмудических преданий, [говорю я], скажите мне, то есть укажите мне на тот источник, откуда, почему и за что у вас столько ненависти к нему?..
Говорят христиане: ненависть их поджигается тою кровью Его, которую они приняли на себя: "Кровь Его на нас и на чадах наших". Нет, Л.Н., нет, это догадка несправедливая, потому что они и до того слова были злы на Него... даже Пилат сколько ни жесток был, и тот плачевным Его видом умягчился и вывел Его на показ всему миру с целью, не ощутят ли они какую перемену в сердцах своих, они же увидавши Его, все единогласно закричали Пилату: "Возьми, распни Его". Это все было до того слова, что кровь Его на нас...
Да не призывало ли тогдашнее правительство к допросу всех тех, которых Он исцелил и из мертвых воскрешал, призывало, но они все страха ради отреклись: "Не знаем Человека сего". Этой моей догадке Петр апостол свидетель, как это Вам известно, что пусть бы он принужден был от кого к тому, пусть его Архирей или Пилат или Ирод с какими-нибудь угрозами спрашивали. Нет, одной той подлой женщины Архирейской служанки он убоялся, да и та ему говорила: "Не ты ли был с Исусом Назарянином?" И тут надобно ему стало с клятвой отрекаться.
Спрашивал я, Л.Н., спрашивал я сам у себя так: если бы евреи приняли Христа во объятие и не сделали бы с ним то, что сделали, что тогда было? Все пророчества о Нем должны остаться во лжи, потому что Он тогда не пострадал [бы] и не умер, не воскрес и не вознесся, и никакого нынешнего православия не было бы, и осталось бы мало не вся вселенная во тьме древнего своего суеверия».
Остановимся немного. Мы знаем из других писем и работ, что отношение Бондарева к Иисусу было отрицательным. Ему, землепашцу, претили слова, отвращающие человека от труда: "Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; И Отец ваш Небесный питает их" (Матф., 6:26). И это повторено в Евангелии от Луки (12:24). Безуслов-
172
но, он не признавал Христа Богом, и это было решающим. Собственно, письмо-запрос Давида Абрамовича первому писателю России — ловушка. Сам Бондарев дает ответ на поставленные вопросы, но он же с нетерпением ждет и толстовского разбора. Ловушка сработала — удовлетворительного ответа сибиряк не получил. Теологический вопрос остался без ответа. Вот объяснение Бондарева, находящегося во всеоружии богословской диалектики (не верится, что диспут ведет автодидакт):
"Так спрашивал я сам у себя и никакого удовлетворительного ответа дать не мог, только сделал этому своему вопросу по силе своего разума решение такое, вот оно: Как для Бога нету времени ни прошедшего, ни будущего, а все настоящее, то есть для нас не пришли тысячи годов, а для Него они есть (для "Него" — в данном случае, для Ветхозаветного Предвечного. — С. Д.). Потому неисповедимое и Ангельскому уму недоведомое определение Его прежде всех веков и вечностей постановило: в какое время и на каком месте, от кого и как пострадать и умереть Ему, Христу.
Да если бы и мы были в то время и на том месте и было бы определено, от нас Ему пострадать и умереть, в силах ли бы мы были обойти и миновать предел Его? Это невозможно. А если все сказанное положено Богом, то и нынешняя еврейская ненависть к Нему также неизбежна для них. А если все то Богом положено, потому тут никакой еврейской вины нету (курсив мой. — С. Д.), потому что их поджигает к ненависти на Него то, о чем я выше говорил.
По всему сказанному прошу и умоляю Вас, Л.Н., соберите Вы рассеянные свои мысли по светским суетам и посоветуйте с ними и мне напишите, чем и как залечить сказанную язву души нашей, ненависть ко Христу".
Концовка блистательна: несмотря на известную критику еврейства, неприемлющего христианство, Бондарев, как еврейский единоверец, остается верен иудаизму, для него обращение в православие немыслимо: "Можно ли обратить нас в православие? Нет, это немыслимо. Тут 1-я и 2-я из десяти заповедей, заповеди стоят на пути, ведущем нас в православие, непроходимою преградою. Один ли я болю сердцем об этом? Нет, многие у нас. Они-то и принудили меня обратиться к Вам, Л.Н., за лекарством от этой страшной болезни"162.
Вот ответ Л. Толстого:
"3 декабря 1893 г. Москва.
Тимофей Михайлович!
Очень был я обрадован вашим письмом, во-первых, потому, что из него я узнал, что вы живы и здоровы и меня помните,
173
а во-вторых, что вас занимает самый, по моему мнению, важный вопрос. Постараюсь, как сумею, дать вам на него свой ответ.
Ответ мой будет следующий:
Евреи и субботники ненавидят Христа по недоразумению, потому что заблудшие люди на место единого вечного Бога поставили в виде Христа другого Бога и этим заслонили истинного Бога и даже скрыли его от людей. Я говорю, что ненавидят они Христа по недоразумению, потому что им обвинять надо не Христа, который никогда не говорил про себя, что он Бог, а называл себя сыном Божьим так же, как и всех людей, а обвинять им надо тех людей, которые его сделали Богом. Этим же я объясняю ненависть евреев к Христу.
Христос, по моему понятию, не Бог и никогда не выдавал себя за Бога, а был великий и последний пророк еврейский, учивший не только евреев, но и всех людей тому, как надо служить единому истинному Богу, сознавая себя так же, как и всех людей, сыном Его.
И потому евреи и субботники не только не должны ненавидеть Христа, а должны почитать его и следовать тому Божескому закону, который он открыл нам. Закон Христов согласен с законом Моисеевым и с пророками не во всех мелочах, но в главном, в любви к Богу и ближнему. Христос только точнее, яснее выразил этот закон, а главное, он, один Христос из всех пророков еврейских, дал закон не одним евреям, а всему миру, и прекратил отделение евреев от других народов. Со времени Христа закон Божий стал общим для всех людей, как и предсказывали пророки. (Про это сказано в главе XII, 20, Иоанна, когда он прямо объявил истину эллинам.) Мучали и распяли Христа первосвященники, фарисеи и садукеи, а не все иудеи. Иудеи, напротив, были его учениками и разнесли его учение по миру. И если бы безбожники не назвали бы Христа Богом, все евреи уже давно бы не только не ненавидели бы Христа, но почитали бы и любили его, как самого последнего великого пророка, открывшего нам истину. Кощунство безбожников, назвавших Христа Богом, помешало этому, но евреи все-таки придут и уже приходят к этому. Еврею нельзя перейти в православие, но евреям, так же как православным, надо признать Христа человеком (К Тимофею, послание, гл. II, 5. — Помета Л.Н. Толстого. — С. Д.), пророком Божьим, и тогда и те и другие соединятся".
Письмо Толстого, полученное Давидом Абрамовичем, было зачитано им прилюдно своим односельчанам, в синагоге на Пасху, вероятно, еврейскую: "...всякий человек, на свой лад кто как мог выразить, отдавал Вам благодарность. А евреев,
174
которые были при прочтении Вашего письма — это было в синагоге на Пасху при многолюдном собрании, — сделали в стыде и в поругании. У нас небольшая часть жидовствующих, а более и более субботников, караимов, которые утверждены на одном Моисеевом законе и пророках, а талмудических преданий отнюдь не принимают"163. Далее в письме весьма резко говорится о раввинах, которые ставят себя "выше Бога". И задается чрезвычайно важный вопрос, касающийся православия: "Кто назвал православную веру православной? Неужели сама себя так назвала? У нас молвят, что будто то бы хотят во всем свете установить одну веру в Бога, слышно ли у вас это? Я от души желал бы этого, только с тем вместе, чтобы ни под ничью нынешнюю веру не походила, а новая и новая". Экуменизм Бондарева примечателен, но не менее замечательно и то, что в глухой сибирской деревне прихожанам синагоги приходится разрешать сложные богословские вопросы.
Следующий вопрос относится к поклонению иконам: "Признавать их за святыню, надежду и упование возлагать на нее и при этом неизбежно нужно боготворить ее? Позволительно ли сердечные и душевные чувства изливать перед нею? Явленные иконы, Киево-Печерской мощи — истинно ли это?"164. К сожалению, полностью ответ Толстого не сохранился. На конверте пометка рукой Льва Николаевича: "Отвечено. Приложить к ответу письмо о Г[енри] Дж[ордже]и заключение ответа"165. В издании А.А. Донскова не оговаривается отсутствие ответа на это одно из важнейших писем Бондарева. Спустя долгие годы Толстой переделал свое письмо к Бондареву от 23 июня 1894 г. и опубликовал под названием "Краткий популярный листок о земле" в «Листках "Посредника"» № 1 под заглавием "Письмо Л.Н. Толстого к крестьянину о земле"166.
Впрочем, зная взгляды Толстого на православие, нетрудно восстановить общую канву мыслей Льва Николаевича о "языческом" поклонении иконам и мощам.
И вновь мы должны отдать честь иудинцу, ставившему все новые и новые вопросы Толстому. В письме от 26 марта 1896 г. он вопрошает о загробной жизни, о сыне Марии — Иисусе: человек он или Бог, задает вопрос, касающийся Моисеева законодательства, об отпущении раба на 7 год и тому подобные. Но даже жестокое обращение Авраама со своей наложницей Бондарев переиначивает: для него исторического прошлого нет — оно в настоящем: "Если Авраам праведник, который с Богом говорил, как с подобным себе человеком, да и тут вот что делал над людьми, то что же можно думать о простонародных помещиках всех прошедших веков... Нынеш-
175
ние помещики, им люди работали близу трехсот лет, чем же они наградили, отпускавши от себя: выгнали подобно той Агари поленом из дома своего, это с земли своей, как собак..."167
Мечта встретиться с великим писателем и другом не покидала старика. В приписке сказано: "Будущего лета, это в 96 году, пройдет жел[езная] дорога до Красноярска. Если бы у меня были деньги да силы, я неотменно поехал бы к вам, потому что дешево и скоро"168.
Ответ Толстого краток: Моисеев закон написан людьми, книги Моисея не могут быть написаны им самим, так как в них описывается смерть Моисея. Что же касается сына Марии, то Иисус — человек, а не Бог. Считать его Богом "есть великое кощунство". Что же касается загробной жизни, то: "Какая будет эта будущая жизнь, мы знать не можем, но знаем, что она есть и что я не умру"169. Вопрос о жизни и смерти выглядит так:
... ты для нас — светильник на горе,
О, продолжай учить, на старости прекрасной,
О царстве Божием, о мире, о добре!
Тебе все ведомо, осмысленно и ясно.
Туманно лишь одно прозренью твоему:
Все сущее твой ум и познает, и судит;
Но грань воздвигнута и гению!.. Ему
Все ведомо, что есть; но темно то, что будет170.
Одно из последних писем Бондарева к Толстому от 28 декабря 1896 г. касается ряда вопросов, возникающих при чтении Библии. Вопрос о виновности или невиновности евреев в смерти Иисуса Христа разрешается Тимофеем Михайловичем в духе предопределения Божьего: "Мне кажется, что евреи невинные в распятии Христовом, потому что так Богом положено прежде век и свет, в какое время, на каком месте, какою смертью и от каких людей умереть. Если бы Бог определил, чтобы он от наших с тобою рук умер, в силах ли бы миновать это его постановление"171.
Вывод иудинца ясен: "Если это все по постановлению, то ныне они не принимают Х[риста] по определению. Если бы евреи приняли Христа, тогда все пророчества о нем остались бы во лжи, потому что Он не пострадал [бы] и не умер, не воскрес и не вознесся, и никакого бы православия бы не было на свете"172.
Давида Абрамовича живо интересовал вопрос о богоизбранности еврейского народа и, как следствие этого, отсутствие доказательств божественности Иисуса. Форма вопроса — есть утверждение: "Почему в Ветхом и в Новом Завете все жиды и
176
даже сам Бог, это Христос, жид, а с других народов ни одного нету? Почему это так? О Боге свидетельствуют небо и земля, что Он есть, а о Христовом Божестве какое доказательство есть, кроме чернила и бумаги, которое есть дело рук человеческих? Это вопрос нешутейный"173.
Целый ряд вопросов, поставленных Бондаревым, загонял Толстого в угол. Прямо говорить о невиновности евреев Лев Николаевич не мог: это противоречило его взглядам на еврейский вопрос.
Возможно, Толстой просто устал от настойчивого корреспондента. Как бы то ни было, сохранилась помета Льва Николаевича на конверте этого письма сибиряка:"Б[ез] О[твета]". Не получив ответа, Тимофей Михайлович вновь пишет в Ясную Поляну в июле 1897 г. письмо, где опять повторяет свои мысли о невиновности евреев и о предопределенности их поступков, при этом аргументация крестьянина достигает высокого теологического уровня174.
И на этом письме резолюция Толстого: "Б[ез] О[ответа]".
Последнее письмо Толстого, точнее записка, относится к 11 сентября 1898 г. Лев Николаевич успокаивает Бондарева в отношении перевода на французский язык его труда. Любопытен конец немногословного послания: "От души желаю тебе душевного спокойствия и в жизни и в встрече близко предстоящей нам смерти, т. е. уничтожения нашего тела и перехода нашего духа в другое состояние.
Любящий тебя брат
Лев Толстой".
"ПЕРВОРОДНОЕ ПОКАЯНИЕ"
Мы уже указывали, что переписка между Ясной Поляной и Иудиным прерывалась. Один из перерывов был связан с посылкой нового труда Бондарева "Первородное покаяние. Глас крови вопиет ко мне". В нем полностью пересматривается традиционное отношение к Каину. Посылка сопровождалась письмом, где Давид Абрамович ссылался на свою полемику с окружным доктором Михаилом Прокопьевичем Поповым, человеком от "души уважаемым мною", но совершенно не согласным со взглядом Бондарева на "дело Каина". Сибиряк обращается к Толстому как к арбитру: "...как он признает Каина, с тем мы и должны быть согласны..."175. Но напрасно в деревне ждали ответа: по своим нравственным критериям Лев Николаевич не мог согласиться с доводами крестьянина, а на-
177
прасно обижать полюбившегося человека, видимо, не хотелось. Вместе с тем философский труд Бондарева представляет собой уникальное творчество, в некотором роде единственное. Глубина и блеск анализа удивительны даже для человека эпохи Ренессанса. (Это не оговорка.) И действительно, Каин стал героем множества средневековых мистерий, легенд, драм, трагедий. Художники и скульпторы неоднократно воспроизводили образ Каина в произведениях искусства.
Библейский текст — скуп и емок одновременно. Каин — старший сын Адама, первенец человечества, совершивший первое преступление на земле — братоубийство. С его именем связана первая смерть на земле, первая материнская утрата, генетически связанная со скорбью Богородицы Нового Завета. В Библии сказано: "И был Авель пастырь овец; а Каин был земледелец... Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел" (Бытие, 4:2—5). Увы, библейский текст не объясняет, почему он впал в немилость у Бога и какие чувства побудили Каина совершить убийство.
Библейский текст относит конфликт к первым "дням" существования мира. Представители критической школы убеждены, что легенда возникла во времена занятия древнего еврейского населения скотоводством. Отсюда культ номадов, предпочитавших свой труд труду земледельца: для них земплепашец был началом всех бед и несчастий, обрушивших Божий гнев на людей. В Библии, собственно, нет никаких доказательств виновности Каина перед Всевышним. Вина его лишь в его предпочтении земледельческого труда. И наказание, которому подвергся Каин, жаждавший оседлой жизни, было вечное скитание — прообраз будущей легенды об Агасфере. Столкновение двух экономических укладов явно проглядывается в повествовании. Библия указывают и на то, что Каин (или его потомок Тувал-Каин) приобрел новую специальность — кузнеца, которую традиционно связывали с чародейством и нечистой силой. Атавизм сохранился и в русской поговорке о кузнеце: "Умудряет Бог слепца, а черт — кузнеца" (В. Даль). Но библейское сказание никаких общих философских или религиозных проблем не ставит.
Однако уже талмудическое толкование несколько отличается от библейского текста. Так, в Агаде вводится диалог между братьями, решившими разделить между собой мир. Деление, простое: одному будет принадлежать земля, другому — стада. Но неделимость мира очевидна: есть некоторая ирония в aгадическом сказании: погнал Авель свои стада в поле, а Каин
178
кричит ему: "Земля, по которой ты ходишь, моя!" — "А одежда, которая на тебе, не из шерсти ли моих овец сделана?" — отвечает Авель. В Агаде расширяется ответ Каина на вопрос Всевышнего: "Где твой брат Авель?" После некоторого запирательства он дерзко отвечает Богу в том смысле, что отвергнув его дары, Господь вызвал в нем чувство зависти: "Да, я убил брата моего, но не Тобою ли внушено мне это злое дело? Ведь Ты — страж всего сущего на земле. Кроме того, если бы Ты не отверг моей жертвы, то [я] не стал бы завидовать и мстить ему".
Нетрудно увидеть в защитительной речи Каина элемент богоборчества: или Бог не всемогущ и не является началом всего сущего, или Он, а не человек (обобщение Каина), ответствен за злодеяние. Здесь мы видим отрицание свободы воли, итогом которого следует считать отрицание божественного воздаяния и отмщения. Доведя до крайности богоборческую идею, Агада восстанавливает справедливость в ортодоксальном иудаистском представлении — благость, всемогущество и безграничное милосердие Всевышнего. Как мы увидим, Бондарев всецело заимствовал многие положения Агады. В нашу задачу не входит прослеживать дальнейшую эволюцию легенды о Каине, хотя библейские комментаторы не скупились на удивительные открытия, вроде введения эротического мотива в книгу Зогар как начала зла и источника человеческой греховности. Наша задача — указать на возможное знакомство сибирского мудреца с работами своих предшественников. Конечно, старик знал апокрифическую литературу — "Слово о Адаме", "Слово о Адаме и Еве", "Прении господни с дьяволом" и т. п. Но знал он и литературные источники. Поэму Мильтона "Потерянный рай" ("Paradise lost", 1667) Давид Абрамович внимательно читал, о чем и писал Толстому в начале июля 1897 г. Эволюция образа богоборца разительна. Между Английской и Французской революциями прошло более 100 лет, между созданиями Мильтона и Байрона — пропасть. По ироничному замечанию Ипполита Тэна, двор Иеговы, по Мильтону, сродни двору Карла I. Сатана, восставший против Бога — республиканец, воюющий против сюзерена вроде генерала Кромвеля. Адам и Ева — образцовая пуританская семья. Изгнание из рая сопровождается изображением картины будущего, следствия первородного греха, что не могло не привлечь к себе внимания Бондарева:
Адам, открой взоры свои, теперь видишь,
Следы преступлений твоих, в иных детях,
Хотя им неведом был плод заповедный,
179
Не знали и змея, и не согрешали,
Как ты, они сами, но грех повлечет твой
К преступным и даже жестоким поступкам.
Открыл он глаза, и увидел вдруг поле,
Одна половина всего того поля,
Была обработана и плодоносна,
Снопы, только сжатые, в копнах стояли,
Другая же пастбищем только служила,
На самой средине пространного поля,
Из дерна был жертвенник складен высокий.
Пришел земледелец, покрытый весь потом.
Не много снопов тех он взял без разбора,
На жертвенник взнес их, как первенца жатвы,
Пришел и пастух, с лицом добрым и кротким,
Он выбрал из стад своих лучших баранов,
И их заколол, и всю внутренность вынул,
Посыпал все мясо душистой травою,
Вложил на алтарь и свершил все обряды,
Мгновенно явился огонь с высот неба,
Кругом разлилося вдруг благоуханье,
Огонь поглощает всю пастыря жертву,
Даров земледельца же он не коснулся,
Не искренно им принесенные Богу;
Тогда земледелец, озлобленный этим,
Ударил тотчас же в грудь Пастыря камнем,
Облитый весь кровью, с ужаснейшим стоном,
Тот бледный, без жизни повергся на землю,
И тихо из тела душа отлетела176.
Испуганный Адам в ужасе взывает к архангелу Михаилу и вопрошает его о причине совершения злодейства. Ответ архангела каноничен — добрый гибнет от рук злого из-за зависти.
Читал ли сибиряк мистерию "Каин" Байрона — трудно сказать. Каин, по Байрону, богоборец принципиально новой формации, он — не небожитель, наподобие Люцифера, он — землянин. А в философском смысле его грех — продолжение грехопадения Евы:
Мой сын, ты говоришь,
Как я, свершая грех свой, говорила:
Не дай его мне видеть возрожденным
В твоем грехе177
Удивительно, но наиболее близко к пониманию позиции Бондарева в отношении Каина подходит Шарль Бодлер, одногодок сибиряка, знаменитый автор "Цветов зла"178. Социология Бодлера весьма близка сердцу Бондарева, труженика и ненавистника тунеядства:
180
1
Род Авеля, спи, ешь и пей,
Ты Богом сотворен для рая.
Род Каина, в дыре своей
Трудись и мерзни, голодая.
Род Авеля, твои дымы
Щекочут ноздри серафима.
Род Каина, ты пленник тьмы,
Твоя судьба неумолима.
Род Авеля, твой дом расцвел,
И сын твои стада удвоит.
Род Каина, ты бос и гол,
Пустой желудок волком воет.
Род Авеля, зови гостей,
Пускай веселье хлынет в двери.
Род Каина, дышать не смей,
Живи, как дикий зверь в пещере.
Род Авеля, любись, плодись,
Червонцы тоже плодовиты.
Род Каина, с судьбой смирись,
Умерь большие аппетиты.
Род Авеля, жирей, как клоп,
И загребай доход обильный.
Род Каина, готовь свой гроб
И падай на дороге пыльной.
2
Род Авеля, и ты сгниешь,
Собой удобрив свой надел.
Род Каина, ты всем хорош,
А главных не доделал дел.
Род Авеля, конец твой бьет!
Железо посоху сдалось.
Род Каина, гони господ
И с неба наземь бога сбрось!
Для Бондарева исходным пунктом в пересмотре традиционного отношения к Каину было то, что первенец Адама был земледельцем. Тяжесть крестьянского труда была решающей для взглядов Давида Абрамовича. Старик создает совершенно изумительную новеллу о преступлении и наказании. Зачин прост: "И рече Господь Бог Каину по убиении Авеля: глас крови брата вопиет ко мне от земли". И вывод Бондарева столь же прост: человеческий грех, убийство требует возмездия. Но и любое добро, содеянное человеком, так же требует скорейшего вознаграждения от Бога.
Наказание за убийство Каину — проклятие и неприкаянность. Тимофей Михайлович приводит библейский текст в
181
славянском прочтении: «"Стенай и трясыйся будетеши на земле", так сказал Бог Каину, то есть не будет иметь постоянного жилища, а будет изгнанником и скитальцем по белу свету и будет трястись, как в лихорадке»179. Далее крестьянин рисует психологический портрет преступника. Каин не кается, не взывает к милосердию Божию, не ссылается на незнание будущей заповеди "Не убий" и не оправдывается незнанием и даже не уподобляется своему отцу Адаму, слагающему вину на свою жену. Он понимает меру своей вины: "Вясшая вина моя еже оставитеся ми", и сам предлагает в диалоге с Всевышним: "От лица твоего скроюсь". Объясняет Бондарев слова Каина сознанием своей вины и невозможностью ее простить. Затем убийца задает вопрос: "И всяк обретый мя, убиет мя".
И вновь психологическая посылка: возможно, что просьбой об отягощении своей участи Каин пытался смягчить свою будущность. Но это отвергается отсутствием прецедента в прошлом: подчеркивается абсолютная новация содеянного. Но слова Каина смягчают Бога, который постановляет: "Не так всяк убивый Каина, седмижды отмстится", т. е. кто убьет или чем-либо обидит — словом или делом, объясняет Бондарев, — "тогдашнее гражданское правительство должно [в] семь раз более взыскать с обидчика и оскорбителя его"180. Бог налагает на чело Каина особую отметку, печать ("Каинова печать"). И к этому дает Давид Абрамович неординарный комментарий: "Это всяк — всяк встретившийся с Каином еще в далеком расстоянии видит это знамение и вполне понимает силу его, потому дорогу ему уступает и низкие поклоны отдает, потому что оно подобно звезде, утренней зарнице, сияло на нем, потому его, Каина, весь тогдашний мир уважал, как нынешнего Царя уважают, нет более, потому что на Царе знаки отличия положены человеком, а на Каине самим Богом"181. Это сравнение удивительно.
Далее Бондарев излагает "биографию" скитальца-Каина, пользуясь сведениями, почерпнутыми из Библии. При этом у него возникает ряд вопросов, ответы на которые он не может получить из первоисточника. Где, например, Каин взял жену, родившую ему сына Еноха? Кроме того: Каин строит первый город на земле, давая ему имя своего сына. По словам Бондарева, из этого явствует, что Каин был "царем или князем по тогдашнему веку". А строительство города входит в противоречие со скитальческой жизнью братоубийцы. "Не очевидное ли то заблуждение в понятии этого великоименитых людей?" — задает риторический вопрос сибиряк.
Затем у Бондарева — явная натяжка: убийство брата за смиренное и чистосердечное покаяние не только прощено, но его,
182
Каина, Господь поднимает на "высшую степень достоинства" наложением на него знамения, которое сияло на нем "подобно утренней зарнице", и этот знак видели все люди.
Этот знак отличия видит Бондарев на земледельцах, в том числе и на себе: "Вот такой же знак отличия и на нас, земледельцах, или короче сказать, на мне, Бондареве, положен, но вы его не видите, а если и есть из среды вас именитые люди, те, которые и видят и вполне понимают, но они не имеют настолько силы, чтобы его обнародовать"182.
Совершенно очевидно, что работа о "Первородном покаянии" находится в непосредственной связи с основным трудом Бондарева "Торжество земледельца". Понятно, что печать унижения лежит на тружениках земли, начиная с праотца пахарей Каина, и эта генетическая связь не обрывается до сегодняшнего дня. Знамение Божие лежало на всем потомстве Каина, вплоть до всемирного потопа, и все эти труженики носили имя "сыновей Божиих".
Далее идет тонкое замечание о разнице между преступлениями Адама и Каина: "Адам первый согрешил в раю, а Каин первый по изгнании, т. е. на этой же земле и в этих обстоятельствах жизни, в которых и мы ныне живем". Риторический вопрос обращен к оппоненту: "Да и могло ли это быть, да и можно ли допустить, чтобы на первом шагу вступления в свет человеческого рода первый родившийся и первый согрешивший да и остался бы навеки и навсегда проклят?"183
Логически сибирский философ подходит к мысли, что среди живущих нет ни одного не согрешившего; иначе — от Каина и до наших дней человеческий род проклят перед Богом. Но это хула на Всевышнего, невозможно допустить, что Бог проклял первородного Каина. Бондарев обращает внимание на продолжительность жизни Адама и "великих родоначальников"; вместе с тем в Библии не указана продолжительность жизни Каина и его потомства. Все они носят знак бессмертия и отличия от Бога, чего ни один ветхозаветный или новозаветный святой не удостоился. "Тут только шаг до того убеждения, что их не Бог, а люди назвали святыми отцами...", — утверждает Давид Абрамович.
Для него чудеса, произведенные библейскими персонажами, не могут являться доказательством святости. При этом он ссылается на чудеса, совершаемые египетскими жрецами и Аароном при отливке золотого тельца, и даже вызов тени пророка Самуила как проявление чудес "противоположной стороны Божества" (имя Сатаны Бондарев не называет). Сам же скептик Бондарев утверждает, что он неколебимо верит в чудеса, хотя они и происходят "как с той, так и с другой
183
стороны". И вот величайшим "чудесником" является Каин. Давид Абрамович слагает вдохновенный гимн Труду, ибо лишь труд является показателем святости. Каин же, по Бондареву, величайший благодетель человечества. Если бы Тимофей Михайлович знал античность, то наверняка бы сравнил его с Прометеем. "Вот они [чудеса]: первый изобретатель кования меди был Фовела, Каинов правнук" (Фовела — Тувал-Каин). "Спрашивается, чем и как построил Каин первый город на земле, когда никаких железных инструментов не было, не чудеса ли это? Многие делают догадку такую, что он каменными инструментами работал, этого допустить нельзя. Может статься, из нетесанного камня да из валежнику лесу как взгромоздил его да и назвал его городом. Спрашиваю, если то так, то уподобил ли бы он сына своего этому хламу, т. е. назвал ли бы он эту нелепую и смеху достойную городушку именем сына своего Еноха?
Из этого видно, что построенный Каином первый город на свете был красивейший изо всех наших нынешних городов город. А чем и как он построил его без железных инструментов? Не очевидные ли это чудеса со стороны Божества; происходящие чрез святость и праведность Каинову. А магии или волшебства тогда не было, потому в этих чудесах никакого сомнения быть не может"184.
Далее, чтобы убедить читателя в своей правоте, Бондарев ссылается на пример библейских царей: израильского Давида и иудейского Манасию. Оба — величайшие грешники перед Богом. Давид — блудник и убийца, Манасия — идолопоклонник и убийца (по преданию, казнил пророка Исайю, перерезав его деревянного пилою). Оба грешника в раскаянии взмолились Богу о прощении. Чье же раскаяние и прощение убедительнее и достойнее: Каина или царей-убийц? Прощение Каина в сто, в тысячу раз милосерднее. И Бондарев обращается к Льву Николаевичу с требованием признать его правоту, ибо в поднебесной нет никого из рожденных, кто бы не согрешил.
Не считая убедительными свои доводы, Бондарев пишет дополнение на нескольких страничках, где вновь и вновь пытается убедить оппонента в своей правоте. Он доказывает первородную доброту Каина, лишь под влиянием обстоятельств (из-за отвергнутых Богом жертвоприношений) озлобившегося. Более того, Бондарев предлагает в оправдание своему герою такую знакомую по криминальной практике версию, как временная потеря рассудка: "...потерял часть своего рассудка и по убиении брата и совсем сделался сумасшедшим"185. Исходным пунктом помешательства является — как вновь подчеркивает
184
Давид Абрамович — отвержение Всевышним даров, "ревность по Боге". Вывод: "...читатели, прошу не упускать из виду, что эти все бедственные перевороты начались не с каких-нибудь других корыстных видов, а по желанию к Богу, или по ревности к нему. Потому Каин со всех четырех сторон, сверху и снизу, изнутри и извне, как в зеркале ясно видно, что он принят Богом в объятия"186. В конце дополнения Бондарев требует согласиться с его доводами, главным образом из-за Божественного прощения: как бы ни был велик грех, милость несравнимо больше. Давид Абрамович заканчивает поэтически: "Прощение над грехом, как масло над водой, которое всегда бывает сверху. И еще, как высоко небо от земли, столько велика милость Его к нам, и как далеко восток от запада, столько удаляет Он от нас беззакония наши" (Псал. 102:12)187. Не может быть, что милосердный Господь сделал одно исключение — для Каина, посему следует признать его святым праведником и угодным Богу человеком. Труд заканчивается призывом признать эту непреложную истину: "Это я говорю к тем, с которыми уже много об этом было говорено"188.
Но из Ясной Поляны не было ответа... Причины этого теперь очевидны: письмо не дошло до адресата. По словам К. Шохор-Троцкого, оно прибыло к Толстому в оборванном виде, без заключительных страниц и по каким-то причинам не было передано Душану Петровичу, который ознакомился с ним лишь спустя много лет. Как предположил исследователь, письмо было погребено среди других бумаг и забыто.
Наступило молчание, прерванное письмом Бондарева от 9 мая 1891 г., имеющим зачин: "Лев Николаевич! Сколько лет, столько и зим прошло между нами в молчании, а теперь я прерываю это молчание..." Это были последние письма. Время небытия неумолимо приближалось. Земное зло "укоренилось" на свете, у обоих было желание искоренить его. Но зло властвует на земле. Отсюда — потеря надежды на будущее. Письмо от 30 марта 1896 г. замечательно обращением к Толстому о встрече в ином мире и это-то несмотря на уверенность сибиряка, что Толстой не верит в загробную жизнь: "По всему сказанному, как алчущий хлеба и как жаждущий воды, так желаю я смерти. Если я прежде умру, то прикажу сыну своему (он ныне сельским писарем), чтобы дал знать тебе. Если и ты прежде, то тоже прикажи, чтобы написали мне. Сегодня получил это письмо мое, завтра пиши ответ. Медлить некогда, мне 76 год. Я не болен и ем, как должно, а силы крайне ослабли. С этого видно, что я одной только ногой стою на земле, а другой уже во гробе. Да и ты, Л.Н., тоже недалек от этого. Ты немного что-то моложе меня.
185
Как у меня не было, нету и не будет столько искреннего друга, как ты, Л.Н. Ты настолько великоиме[ни]тый человек, а я кто? Помещицкий крепостной раб, чего хуже и гаже на свете нету, несмотря на все это называешь меня дорогим другом и братом. Чего мне принесть или чего воздать тебе за все сказанное? Нечего... Я принесу тебе вот что, если только будешь согласен со мною. Как мы оба близки к гробу, потому давай условимся между собой так. Если ты будешь в блаженном месте на том свете, а я в худом, то потребляй все меры, чтобы выручить меня оттуда. Если же я в блаженном, а ты в худом, тогда я буду умолять Бога тебе даровать блаженную жизнь со мной. Если же не будет возможности, тогда я пойду к тебе в худое место, то есть жить вместе и умереть вместе, на суд к Богу идти вместе и в определенное место идти вместе. Я твердо надеюсь и крепко уповаю на то, что как мы здесь условимся, так и там будет. И еще не смотреть тогда на виновности друг друга и пороки, а смотреть на одни добродетели и заслуги. Согласен ли ты, Л.Н., со всем этим? Если согласен, то дай же мне хотя и заочно в том руку, я ее крепко пожму в знак ни в этой жизни, ни в будущем веке непременного условия, как выше сказано. Вот чего я приношу тебе, Л.Н., за твою признательность ко мне. Доволен ли ты этим?.. От тебя я буду ждать письма в первой половине мая..."189. А деликатность сибиряка потрясающая: он не рассматривает возможный вариант своего нахождения в "худом месте" и не просит Толстого, если тому не удастся убедить Бога, просить совместного "житья" в этом "худом месте". Сам же он полностью предоставляет себя в распоряжение друга. Думаю, что за всю свою долгую жизнь аналогичного предложения Толстому не было сделано. А ответить было необходимо. Извинившись за задержку: здоровье, дела, наспех не хотелось отвечать, Толстой отвергает предложение Бондарева. Увы, в будущей жизни каждый несет индивидуальную ответственность перед Богом и форма будущей жизни непознаваема: "...потому думаю, что никто один другому помочь не может, да и незачем помогать, потому что каждый сам в себе может найти Бога и соединиться с Ним и жить Им, и тогда уже никого и ничего не нужно. Вот какие мои мысли о Боге и будущей жизни"190.
Максим Горький заметил, что в однообразии своей проповеди Лев Толстой был хитрецом и знал, с кем и как говорить. Так, в разговоре с муллой Гаспры (Исмаил Гаспрский?) держался как доверчивый простец-мужичок, впервые задумавшийся о смысле бытия. Он ставил мулле "детские" вопросы о смысле жизни, о Боге, о душе, ловко подменяя суры Корана строками Евангелия191.
186
Для Льва Николаевича это была игра, и делал он это артистически, мастерски. Не то было в случае с Тимофеем Михайловичем. Все тяжелее и тяжелее было Толстому вести диалог с человеком, равным ему духом. Скажем так: им было вместе тесно. Тот же Максим Горький писал: "С Богом у него (Толстого. — С. Д.) очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения двух медведей в одной берлоге". Кажется, в данном случае в берлоге были не двое... Тонко заметил о Бондареве А.И. Клибанов, что он был на "ты" не только с Толстым, но и с Богом192.
И Бондарев догадывался, что он был в тягость Толстому: "У меня есть догадка, что я своими письмами надоел тебе... Я, Л.Н., осмеливаюсь не вражески, а дружески попенять тебе. По семисот страниц печатаешь ты книги... а мне пишешь вот столько, один маленький почтовый лист и все. А почему? Это загадка для меня не ладная. В таком случае или откажи мне писать или замолчи, чтобы и я замолчал"193. На конверте письма Бондарева пометка рукой Толстого: "Б[ез] О[твета]". Но тем не менее Толстой послал ему в Иудино свой бюст — на память194.
ПАМЯТЬ ИЛИ ЗАБВЕНИЕ?
Приближалось неизбежное. Величие духа Бондарева проявилось и в этом последнем акте его жизненного пути. Его долгая жизнь была полна метаморфоз. Сосланный в Сибирь, он принес благосостояние своим односельчанам. Желание осчастливить человечество подвигло его на создание грандиозного труда. И не его вина, что его работа не появилась в полном объеме в печати. Моисей в Синае выбил скрижали Завета; Давид в Сибири в течение многих лет выбивал свои скрижали, свое обращение к потомкам. Это мощный "памятник", не уступающий ни пирамидам, ни стихам Горация, Державина или Пушкина. Место своего последнего приюта Давид Абрамович тщательно выбирал. Яму он выкопал сам, посадил рядом тополя. У ямы поставил стол с выдвижным ящиком и две табуретки. В ящик вложил свою рукопись. К. Горощенко, посетивший Иудино в 1902 г., оставил интересное описание могилы Бондарева. Могила была обнесена оградой, где росли шесть тополей, специально привезенных Бондаревым за 10 верст и посаженных здесь. Состояние могилы было плачевным. Стол, в ящике которого лежал его труд, был сломан. Рукопись исчезла. (Впоследствии, правда, нашлась.) Его завещание было вы-
187
бито на трех больших надгробных плитах, часть которых была уже разбита и замазана грязью. Вот текст:
При входе: "Се стоят ноги наши во вратах твоих Иерусалим[ских].
Внийду в дом твой и поклонюсь ко храму святому твоему.
На этом месте покоится прах Давида Бондарева. Все это я Бондарев написал при жизни моей своею рукою. Родился я Бондарев в 1820 г. апр. 3 д., а скончал многострадальную и великого оплакивания достойную жизнь свою в....
Все это я пишу не современным мне жителям, а тем будущим родам, которые после смерти моей через 200 г. родятся. Почему же так — спросят современные мне жители. Это потому что: во всякого человека воображение такое, что: все те люди хорошие и даже святые отцы, которые прежде нас были, также и те хорошие, которые после нас будут, а при нас все негодяй. А так же и я, Бондарев, живши на свете был негодяй. А теперь вот как прошло ни одно столетие со дня смерти моей. Вот теперь как имя мое исчезло и память изгладилась с лица всей земли. Вот теперь и я Богу хороший всякого уважения достоин. И еще: когда человек желает почестей, бывши живым. Тогда его ненавидят и гнушаются им. А когда умер, теперь ему почести не нужны, тогда эти же недоброжелатели, на руках несут его ко гробу. Это от жизни к смерти, от света в тьму, от бытия к уничтожению.
О, какими страшными злодеяниями и варварствами переполнен белый свет. По всей Россеи всю плодородную при водах землю, луга, леса, рыбные реки и озеры все это цари отобрали от людей и помещикам да миллионерам и разным богачам отдали на вечное время. А людей подарили в жертву голодной и холодной смерти".
Направо от могилы: «Благодарю, благодарю и еще благодарю вас, други мои, за то, что вы вспомнили обо мне и пришли посмотреть на устройство мое, при могиле моей и при этом было бы вам известно, читатели, что все это я, покоившийся Бондарев писал и устройство делал на 80-м году жизни моей собственными руками. Прошу и умоляю, читатели и слушатели, соберите вы рассеянные свои мысли по светским суетам и посоветуйтесь с ними, как затвердит на памяти и положите на самое дно сердца вашего следующее мое к вам слово, и при этом вообразите, что звук этих слов исходит не от читателя, а от меня, на этом месте покоявшагося Бондарева. Человек — второе лицо по Боге, а ангел — третье. Чем это можно доказать, что человек достоинством выше ангела? Тем, что ангел сотворен, как и прочие твари: рече и быша, повеле и создашася; человек же, божественным советом сотворил человека, ка-
188
кова и как по образу Нашему и подобию. Ну представьте же читатель, ведь то возвышенность для человека, по образу и подобию Своему сотворил его Бог и покорил ноги его все и назвал его сыном своим. Сын мой, первенец... (нрзб. одно слово. — С. Д.) и наконец всего благословил его: раститесь и множитесь, наполняйте землю. Вот сколько возвышенностей даровал Бог человеку, а ангелу что? — ничего. Потому то и сказано: творяй ангела своя духи и слуги. А кому слуги?" Богу? Нет, — человеку. Говорят, человек преступник есть перед Богом, но я на это отвечаю так: где нету преступления, там нету и исправления; где нету греха, там нету и спасения. Взглянем на животных: у них нету преступления, нету и спасения. Также и у нас, если бы не было преступления, то не было бы и спасения, мы тогда бы как скоты были, ни худого, ни хорошего не было бы с нами.
Говорю ли я этим, что грех позволителен? Нет, грех поставлен только для испытания, насколько мы тверды или слабы перед Богом. По всему сказанному надобно оставаться в той уверенности, что, несмотря на наши преступления и пороки, с многих тысяч и одного человека не будет, которого бы Бог выпустил из объятиев своих и отринул бы от лица своего, потому что суд Божий не человеческий суд, который видит только внешнее (наружнее) и при этом часто ошибается, правого делает виноватым, а виновника правым. Пред Богом же будут рассмотрены все изгибы человеческого сердца и все внутренния и внешние обстоятельства, ум или недоумен, способность или неспособность к добродетели и все соблазны света сего, пред которыми человек не мог устоять непоколебимо. Все это будет разобрано и рассмотрено перед Богом, а при таком разбирательстве много ли останется для человека тех грехов, за которые подвергся бы он неумолимой ответственности? Из тысячи один, да и тот покроется бесконечным Его милосердием. Вот видите ли, читатели и слушатели, все писание уверяет, что с многих тысяч ни один человек не оправдится перед Богом и все погибнут. А по моему исследованию будет, как выше сказано. Ну представьте же, читатели, Бог нам не велит помнить обиду, даже солнце да не зайдет во гневе вашем, а сам помнит обиду в непроходимые веки. Как и сказано: грешники пойдут в муку вечную, а вечность есть начало без конца, один раз начнется и никогда не кончится. Это есть вечность. Да неужели Бог настолько злопамятный и мстителен? Да не есть ли это страшная, ужасная хула на Бога? Человек всегда льстит перед Богом, только под гнетом страха ползает на коленях, любви же к Нему не имеет, а такая услуга для Бога не в сладость, а в огорчение.
189
Вот как я писал главнейшему правительству, при жизни моей: как ты правительство, меня, Бондарева, признаешь: хорошим или худым, умным или глупым, полезным или вредным, так и признавай. А я признаю сам себя (это кроме похвалы о себе) верным и нелицемерным ходатаем о блаженстве всего мира без различия звания, веры и происхождения, т. е, разыскиваю возможность, чем и как избавиться им от тяжкой нищеты, а это дело не маловажное, его не вдруг и не сразу не всякий и не каждый сделает, чем его избавить от этого порока (бедность не порок, а хуже всякого порока; богатство не добродетель, а лучше всякой добродетели). Все великие мыслители всех веков и при всех своих усилиях не могли добиться этой возможности. Что ему сделаешь, как избавишь от тяжкой нищеты? Дай ему рубль и два, сто и тысячу рублей, и он в короткое время израсходует, а сам, как нищий был, так и нищим и останется. Пьяница ли он? Нет, он трезвый, но нет никаких мер избавить его от сказанного бедствия, это от нищеты. Да на что же я ходатай, избавляющий их от бедности, и на что же вы правители и путеводители их ко всем благам света сего? Да неужели ты, главное правительство, способно только одних здоровых овец пасти, это помещиков и подобных им, а слабых овец оставлять на съедение кровожадных зверей. Я со своей стороны разыскал для них верное спасение от тяжкой нищеты и при том оно легонькое, для всякого человека доступное. При этом не лишне признаю коротенько пояснить его здесь. Вот оно: Услыхав все сказанное мною в полном моем сочинении о "Трудолюбии и тунеядстве", которое писано на 200 листах, тогда он, этот в нищете погрязший человек, не удвоит и не утроит, а удесятерит охоту к трудам с целью достижения вечных благ, потому что эти люди твердо верят в загробную жизнь будущаго века, и все эти труды будут казаться ему легкими, усталости этот человек чувствовать не будет и сон убежит от глаз его, и заживет на свете фертом, припеваючи, и признается всем миром и правительством честным и благородным человеком, вместо того, как ныне признается в высшей степени негодяй. Вот как я 22 г[ода] ходатайствовал перед правительством о благополучии всего мира среди забот и попечений житейских, тихим почерком 3 500 листов списал без корыстной цели, ради благополучия всего мира. Вот так сбудется реченное: да снийдите во гроб, как пшеница созрела, вовремя пожатая.
Прощайте, читатель, я к вам не прийду, а вы все ко мне прийдете»195.
В одном издании бывший личный секретарь Л.Н. Толстого утверждает, что к концу жизни Бондарев полностью отошел от
190
царистских иллюзий и что он якобы на камне выбил фразу: "А виною всему царь". Однако по совету своего друга, учителя П.В. Великанова, он соскоблил ее, из-за опасения, что власти могут тотчас снести памятник196. Зная характер Бондарева, можно допустить это, хотя думается, что в книге Е. Владимирова "антицаристский" момент подчеркнут из-за соображений цензуры. Обращаем внимание на блестящий народный язык, чрезвычайно близкий не только к языку Аввакума, что стало общим местом, но и к манифестам Пугачева. Сравним некоторые пассажи манифестов самозванца с "завещанием": "Заблудившие, изнурительные, в печали находящиеся... Ныне я вас, во-первых, даже до по следка землями, водами, лесами, жительствами, травами, реками, рыбами, хлебами, законами, пашнями [жалую]; или: "Жалуем ... нашим милосердием всех, находящихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков... вольностию и свободою... не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными озерами без покупки и без аброку и свобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и градцких мздоимцов-судей крестьяном и всему народу налагаемых податей и отягощениев... По истреблении... злодеев-дворян всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатца будет"197.
Спустя несколько лет после смерти Бондарева в Сибирь был сослан писатель А.В. Амфитеатров. Ему удалось посетить село Иудино, он познакомился с людьми, хорошо знавшими покойного философа, например, с Мартьяновым. Амфитеатров, так сказать, на месте определил влияние на толстовскую философию русского сектантства. В работе "Властители дум: Л.Н. Толстой" он писал: «Что касается народа, то русское религиозное самосознание в семидесятых годах, когда назрели первые разочарования крестьянскою реформою, всколыхнулись могучею и глубокою волною рационалистического радикализма, и не народу пришлось учиться у Толстого, а Толстому у народа. И мы, действительно, знаем, что Толстой был долгое время под влиянием Сютаева, что его волновала вера духоборов и что свою знаменитую теорию чернорабочего опрощения он целиком заимствовал у сектанта Бондарева — гениального минусинского мужика, которого книга — рукопись о труде — сыграла в жизни Толстого роль молниеносного откровения свыше. Штунда, сютаевщина, бондаревщина и т. д. — все эти течения, напоминающие утопический социализм древних еврейских анавитов, сами по себе были настолько резки и властны, что толстизм мог лишь пристроиться к
191
ним, как мезонин или флигель, но не объединить и не поглотить их собою. Мужики-сектанты семидесятых годов настолько были потомками древних библейских nabi, пророков-социалистов, что, например, секта Бондарева, до сих пор существующая в Минусинском уезде и заполняющая собою богатейшее хлебное село Юдино, открыто иудействует: соблюдает субботу, главною религиозною книгою принимает Пятикнижие и, в особенности, Второзаконие, — словом, за исключением обрезания, бондаревцы — иудейского вероисповедания. Сам Бондарев из Тимофея переименовал себя в Давида, а перед смертью, кажется, серьезно уверовал в свое тождество с царем-псалмопевцем. На могиле его близ Юдина поставлены надгробницы с малограмотными, но сильными надписями — идейным завещанием покойного пророка. Величайший энтузиаст земледельческого труда и "утопический социалист", подобный пророку Амосу, Бондарев проклял в надписях этих всякое накопление богатств и всякую власть человеческую. Это был человек необыкновенной пророческой энергии и глубочайшей веры в себя»198.
Замечательные слова! Не отрицая влияния на Толстого сектантов, отметим и некоторые ошибки Амфитеатрова. "Завещание" Бондарева — страстный документ, но в нем все же меньше проклятий, чем призывов к труду. И главное — нет и не было никакой секты "бондаревцев", да и не могло быть по самой простой причине: иудинцы были на 100% иудаистами и, кстати, делали обрезание. Да и по библейской пословице: "Нет пророка в своем отечестве" — не особенно жаловали своего знаменитого земляка. Даже несмотря на все его благодеяния односельчанам: устройством орошения и грамотностью больше всего они были обязаны ему, но увы... В своем селе Давид Абрамович был одинок, в некотором роде он был отщепенцем (таких французы называют "Les refractaires"). Есть горькое свидетельство современника о его одиночестве и душевном состоянии, написанное сочувственным пером, где муки Бондарева сравниваются с муками Тантала. Археолог К. Горощенко писал: «Вообразите положение старца, над которым уже закатывалось солнце жизни, заброшенного на край света и кричащего оттуда далекой толпе через головы непонимающих и чуждающихся его соседей, чтобы выслушали последнее слово его, и в ответ встречающего явное нежелание что-либо слышать! Ведь это настоящие муки Тантала.
Единственным, кажется, утешением для Бондарева были два или три письма к нему JI.H. Толстого, которые он с детской радостью хотел показать мне, долго роясь в бумагах по
192
разным местам, но я под влиянием какого-то особенного настроения постеснялся подслушать разговор двух таких чистых душ и попросил Бондарева не беспокоиться. Но как бы ни дороги были для Бондарева эти письма, могли ли они рассеять для него то бессильное безысходное горе, под тяжестью которого он сходил в могилу! И чтобы только облегчить это горе, Бондарев решил жаловаться на современников потомству и жалобу эту написать, выбить на плитах своей могилы; эта работа, как выбиванье обширных, почти в два писаных листа надписей на очень твердых плитах песчаника и затем заботы об устройстве могильного места занимали собою последние годы Бондарева; в глубокой старости он, конечно, не мог сам не нарушать своего завещания, которое лет за двадцать до того он хотел было сделать своему сыну Даниилу: похоронить его на пашне, чтобы и над могилою его всегда возделывался хлеб: тяжело исчезать совсем.
И все же, несмотря на тягостные, прямо трагические страдания души, этот старец сохранил до конца жизни способность живо отдаваться впечатлению и доходить до полного увлечения, граничащего, но не переходящего в экстаз.
Особенно памятен мне вечер, проведенный с ним в доме местного богача, где мне довелось переночевать. После колебаний хозяйка дома согласилась с мужем на приглашение Бондарева "чай пить", т. е. в гости; а колебаться было почему: во всем доме была поразительная чистота и умеренная роскошь; столовая, где собралось несколько человек, прямо-таки сияла, освещенная большою висячей лампой; пол блестел, как зеркало; скатерть на столе ослепляла своей белизной и вся обстановка комнаты говорила тоном, почти аристократическим. И вот приходит сюда Бондарев; долго он обтирает сапоги от грязи в передней, дверь в которую из столовой была открыта, и лишь после приглашения хозяйки: "заходи, когда пришел", — окончил приведение сапог в порядок и вошел в комнату. Здесь он уже чувствовал себя совершенно свободно, решительно не обращая внимания на окружающую обстановку, и, сидя за чаем, который он пил непрерывисто, как бы исполняя неприятную обязанность, стал все с большим и большим увлечением отстаивать принцип работы своими руками и попутно громить тунеядцев, к числу которых должны были отнести себя и хозяева дома. С Бондаревым сперва спорили, но потом отступились, тем более, что он под конец очень повысил голос, и слушатели, чувствуя неловкость, предпочли дать Бондареву излить свою душу вволю: они, по-видимому, хорошо знали старика и хотя не обижались на него, но, понятно, избегали такого собеседника.
193
Доставалось от него, как я потом слышал, и всем остальным жителям села Иудинского, благодаря чему он почти не имел там доброжелателей»199.
Горощенко вторит и Белоконский, лично хорошо знавший сибирского мыслителя. Белоконский высоко ставит интеллект земляков Бондарева — субботников и молокан: они несравненно выше обыкновенной крестьянской среды. Однако ни одного последователя у Бондарева не было. Отношение к нему было вполне "индифферентное": «Дело в том, что Бондарев действительно странный человек, чтобы не сказать более: во-первых, его "учение" сделалось его idee fixe и он ни о чем больше говорить решительно не мог и, если молчал, когда его опровергали или что-либо доказывали, то это еще не значит, что он вас слушал: как только вы переставали говорить, он, не принимая во внимание сказанного вами, начинал говорить "свое", т. е. излагать "учение": далее, из слов его можно понять только, что все должны заниматься исключительно земледелием, причем в разговоре он напирал более всего на то обстоятельство, что высшие классы, не обрабатывая земли, виновны главным образом в лености крестьянина, т. е. что крестьянин, глядя на господ, трудится не как следует"200. Курсивом народоволец Белоконский отметил важнейшее, по его мнению, — классовую направленность "учения" сибиряка. И что даже народная леность, по Бондареву, — есть нечто иное, как производное дурного поведения господ. Но, будучи честным человеком, Белоконский заканчивает мысль, давая характеристику иудинцев, отнюдь не лодырей: «Само собою разумеется, что юдинцы, весьма усердно обрабатывая землю, никак понять не могли, чего требует Бондарев: "Да мы и так работаем, только с землею да хлебом и возишься"; еще более развитые из молокан и субботников, разговаривая с Бондаревым по поводу учения его, спрашивали нередко, какую роль должны играть другие занятия, как-то: ремесла, торговля и т. д., но Бондарев твердил одно, т. е. что все должны заниматься "хлебным трудом", не выясняя роли других занятий; словом, Бондарев-писатель и Бондарев-оратор не сходятся: когда он говорит, выходит больше несообразностей, чем когда он пишет.
Из этого, однако, вовсе не следует, чтобы он писал ясно и понятно — далеко нет! Но, читая "учение", можно уловить главную мысль, проследить ее развитие, хотя и для этого нужно ознакомиться с массою никуда не годного балласта, с бесчисленными повторениями, с выдержками из всех книг, которые когда-либо читал автор, так что читатель крестьянин не вынес бы ничего, прочитав от доски до доски все 250 вопросов». (В примечании Белоконским сказано, что Бондарев был
194
страстным читателем, он перечитывал все, что попадалось ему в руки, читал с наслаждением и легко запоминая наиболее выдающееся. В разговоре свободно цитировал Святое Писание, отцов церкви и классиков.)
Ко всему этому надо прибавить странное, с точки зрения крестьян, "поведение" Бондарева: вечно задумчивый, он, как известно, ходил с бумажкою и карандашом и, останавливаясь, записывал свои мысли и т. д.
Трудно было крестьянину понять Бондарева, и крестьянин сначала удивлялся, а потом махнул рукою: "пусть, мол, чудит" — и неудивительно: оригиналы, выдающиеся личности нередко порицаются даже интеллигенцией. Этот индифферентизм, это полунасмешливое отношение юдинцев к Бондареву, непонимание его мыслей измучили Тимофея Михайловича: он чувствовал себя одиноким не только среди односельчан, но и в семье: родной сын его, сельский писарь, и тот, не понимая отца, относился к нему с насмешкою. Бондарев, благодаря вышеприведенным обстоятельствам, сделался угрюмым, сосредоточенным, углубился в самого себя, из "учения" сделал idee fixe и жил только надеждою, что его скоро повезут в Петербург, что скоро "учение" его сделается известным всему миру и тогда "вся вселенная взлетит на несказанное блаженство".
Когда мы, приехав в Юдино, разыскали его и изъявили, что интересуемся его учением, Бондарев очень обрадовался. Через несколько минут он был уже в нашей квартире и проговорил до глубокой полночи, а на другой день явился на заре и ждал, покуда мы не встанем. Тяжело было смотреть на этого библейского старца с воспаленными (большими черными), вечно поднятыми вверх глазами, с руками, поднятыми кверху, когда он говорил; плавно и необыкновенно медленно излагая нам свое учение, он весь погружался в мысли свои, не чувствовал, кажется, присутствующих и витал в ином мире...
Уезжая, мы от души пожалели эту выдающуюся личность, волею судеб поставленную в такие условия, что не может быть тем, чем быть бы мог...
Из писем, полученных впоследствии от Бондарева, мы еще более убедились, как глубоко страдал этот непонятый в своей среде человек"201.
В последнем варианте его труда, в обращении к читателю "с того света", мы находим горькие слова его "...к современным мне жителям, при которых я доживал век свой.
Конечно... многие из вас слыхали, как я 24 года ходатайствовал о вас перед правительством и даже перед самим государем. Три прошения подавал я на высочайшее имя, искавши для вас всего на свете лучшего, и при том без всякой корыст-
195
ной цели. И эти труды в общей сложности стоили 800 рублей серебром, причем и без того непрочный домик мой пришел в великий упадок.
И даже за границей во многих государствах это мое произведение печатают и по всему свету рассылают.
Вы же, это я говорю современным мне жителям нашей Иудиной деревни, вы же ради безумия, или ради гордости, или ради того и другого вместе, во уважение не приняли и с омерзением назад себя бросили, т. е. никто из вас не прочитал и не прослушал, какое покровительство и какая защита у меня там для вас писана и в книгах и на иностранных языках печатана. Многие из вас, не прикрывая ненависти к моему покровительству об нем, а прямо не в бровь, а в глаз мне говорили, что все это ерунда твоя. А видел ли он, что и как у меня там написано и что сказано? Ни слова не видел и не слыхал, а называет ерундою, т. е. безумием. И я им на это злословие отвечал одним только едким и донельзя прискорбным молчанием, да и все вы, современные читатели, с ними согласны.
Не верили вы мне живому, то поверьте мне хотя и в гробе лежащему, что я был и в загробном веке буду для вас великий благодетель и доброжелатель, так, как об этом выше сказано.
Вы же вместо благодарности за все выше помянутое с великою жадностью и сверхъестественным желанием со стороны правительства ждали мне неизбежной погибели, чему Захар Самсонович свидетель. Но главное, что не сбылось по желанию вашему, — почему меня в острог не засадили или в ссылку не согнали — жалко, что не сбылось по желанию вашему. А позволительно ли, люди добрые, слушатели благочестивые, позволительно ли платить за добро злом, за любовь ненавистью?
Теперь обращаю я слово свое к вам, дети, — это молодые люди, кроме стариков. Как это вам известно, что я хотя не всем вам, а многим из вас был учителем грамоты, поэтому и признал себя имевшим право много присоветовать и указать многое"202.
Это обращение к землякам из потустороннего мира производит сильнейшее впечатление. Собственно, весь мир ему и не нужен, ему нужно признание его трудов в его Иудине. Наивно и трогательно читать призыв в свидетели некоего Захара Самсоновича, которого вряд ли будут знать через 200 лет, но хорошо знают сельчане. Да и врагов в округе он называет по фамилии и лишь исследователь в примечании сообщает нам их статус. И он с ними из своего далека сводит счеты. Читаем: «Но что люди называют неправду неправдою, ей нужно бы другое по достоинству имя дать, потому что она справедливей всякой правды — затем, что сама себя обнаруживает и обнаро-
196
дывает. Вот доказательство тому. Один ленивец Пермикин (владелец Абаканского железноделательного завода в 70 верстах от Иудина), как дверь на петле, проворочался на своем ложе всю свою жизнь. Он сначала прочитал немного статей этого моего сочинения и потом, с омерзением обвернувши в сторону лицо, сказал:
"Это купоросная кислота!"
О, каким верным и законным этот приговор его признал я! Это он не своею волею сказал, а потому, что для него своих трудов хлеб — "купоросная кислота", а чужих — слаще меда, текущего из сота»203.
Желание лично переговорить с Толстым подвигло престарелого Давида Абрамовича, спустя 10 лет после первой неудачной попытки, на новое путешествие, и в 1897 г. он решает поехать в Ясную Поляну, но увы, резкое ухудшение здоровья вновь не позволило ему осуществить свою мечту. Он наводит справки о Льве Николаевиче через своего внука Винария (Вениамина) Данииловича, проживающего в Москве, и 12 февраля 1898 г. получает от него письмо:
"Милый и дорогой дедушка!
Письмо я твое получил и благодарю тебя за добрую память обо мне. Очень жаль, что посланные из Москвы книжки твоего сочинения и переведенные на словацкий язык не дошли до тебя! Не пришли ли они к тебе после моего письма? А доктора этого зовут Душан Петрович Маковицкий. В Москве есть писатель хороший Николай Николаевич Златовратский; он так же старается и пишет о горькой участи бедных и темных людей, как и ты; он тебя любит и уважает — у него есть большой даже портрет с тебя, написанный с фотографической карточки. Он меня расспрашивал о твоем житье-бытье; я ему все рассказал про твою трудовую жизнь и отдал в распоряжение ту твою рукопись, которую ты дал мне при моем отъезде от вас.
Ты спрашиваешь меня: православный ли Лев Николаевич Толстой? Он уже почти 20 годов только то и делает, что в пух и прах разносит православные суеверия..."204.
Это письмо — отчет внука — необыкновенно интересно. Из него можно сделать несколько выводов. Во-первых, видимо, благосостояние семьи Бондаревых выросло настолько, что они могли разъезжать по делам по всей России. Во-вторых, семья сохранила свою веру, ибо из ответа внука понятно его отношение к господствующей религии. В-третьих, из письма внука мы узнаем о весьма широкой популярности деда и, наконец, о желании сибиряка удостовериться в антиправославии великого писателя. В дополнение укажем, что дедушка был хорошим педагогом, ибо письмо внука грамотно, лаконично и емко.
197
До конца дней своих Бондарев работал над "Трудолюбием...". На последнем варианте рукописи стоит дата: "В половине мая 1898 года"205.
Конец неотвратимо приближался. 9 ноября 1898 г. Толстому было отправлено из Иудина письмо:
"Многоуважаемый Лев Николаевич!
Родитель мой Тимофей Михайлович Бондарев посланное вами письмо от 11 сентября сего года получил 27 сентября, но после того писал вам или нет, я не знаю; но в настоящее время его в живых нет, он после трехдневной болезни умер 3 ноября. Пред кончиною приказал первым долгом уведомить вас и пожелать вам пожить для пользы человечества. Остаюсь с искренним почтением к вам Даниил Бондарев. Прошу сообщить от себя о смерти знающим покойного"206.
В ответ на это печальное послание Толстой накануне Нового года (30 декабря 1898 г.) написал в далекое село сыну усопшего: "Очень благодарю вас, Даниил Тимофеевич, за сообщение очень для меня печальное о смерти родителя вашего, человека очень замечательного и оставившего после себя значительное сочинение. Вы бы очень обязали меня, сообщив мне о нем и о последнем времени и часах его жизни как можно больше подробностей.
Кроме того, что я высоко ценил его, как писателя, я любил его, как человека. И потому рад буду всем самым мелким подробностям о нем. Исполнили ли вы его желание похоронить его в поле? С совершенным уважением остаюсь готовый к услугам Лев Толстой"207.
Лев Николаевич был взволнован вестью о смерти своего оппонента. Память о нем он сохранил надолго. Так, в 1904 г., составляя "Круг чтения", поместил в нем в качестве одного из "Месячных чтений" (ноябрь) выдержки из сочинений Бондарева вместе со своей статьей о нем, написанной для словаря С. Венгерова. Выдержки касаются двух важнейших постулатов Бондарева: труда и деторождения. Заканчивается публикация призывом к единению: «Разделилась вселенная вся на тысячу вероучений, то как одна должна быть вера, как и Бог один. Первородный закон "в поте лица твоего снеси хлеб твой" все вероучения собрал бы воедино, и, если бы только они узнали всю силу благости его, то прижали бы его к сердцу своему. И он в одно столетие, а то и ближе, всех людей, от востока до запада, от севера до юга, соединил бы в одну веру, в единую церковь и едину любовь»208.
Помнил сибирского мужика и Максим Горький, который следовал Амфитеатрову в оценке значения Бондарева в формировании философских взглядов великого писателя. В неотпра-
198
вленном письме к Толстому от 5(18) марта 1905 г. он писал: "Почерпнув когда-то Вашу философию у мужиков Сютаева и Бондарева, Вы слишком поторопились заключить, что это пассивная философия свойственна всему русскому народу, а не есть только отрыжка крепостного права, и Вы ошиблись, граф, — есть еще миллионы мужиков — они просто голодны, они живут как дикари, у них нет определенных желаний, и есть сотни тысяч других мужиков, которых Вы не знаете, ибо, повторяю, не хотели слушать голос их сердца и ума"209. Горький по существу прав, но все-таки, если бы он заглянул в полный текст "Торжества земледельца", он бы обнаружил там много общего со своими мыслями. Письмо же не было отправлено Толстому из-за того, что граф в это время подвергся ожесточенной критике, и Горький не хотел присоединять свой голос к этой травле. Письмо было опубликовано спустя десятилетия.
В разгар первой русской революции в издательстве "Посредник" наконец-то вышел в сокращенном виде труд Бондарева "Торжество земледельца" с предисловием великого писателя. На дворе стоял 1906 г. 2 апреля этого же года Лев Николаевич записал в своем дневнике, жалуясь на физическое состояние и одновременно отмечая ясность и глубину мысли: "Если мне и кажется, что жизнь стоит во мне, она не стоит, но идет подземно и потом раскрывается тем сильнее, чем дольше она задержалась. Правда ли это, будет видно по тому, что я записал и теперь впишу за эти две недели. Записать:
1) Совершенно ясно стало в последнее время, что род земледельческой жизни не есть один из различных родов жизни, а есть жизнь, как книга — Библия, сама жизнь, единственная жизнь человеческая, при кот[орой] только возможно проявление всех высших человеческих свойств. Главная ошибка при устройстве человеч[еских] обществ и такая, к[оторая] устраняет возможность какого-нибудь разумного устройства жизни — та, что люди хотят устроить общество без земледельческой жизни или при таком устройстве, при к[отором] земледельческая жизнь — только одна и самая ничтожная форма жизни. Как прав Бондарев!"210. Это последняя запись Льва Николаевича Толстого, где он вспоминает своего сибирского друга. И еще в таком контексте, где признается абсолютная правота крестьянина — земледельческая жизнь — единственная форма жизни. Бондарев ушел из дневников великого писателя, ушел он и из разговоров последних лет жизни писателя, по крайней мере нет об этом воспоминаний. Но смею думать, Толстой не забывал сибирского мыслителя до конца жизни. В дневнике Д. Маковицкого приведен разговор с писателем И.Ф. Наживи-
199
ным, спросившим Льва Николаевича, знал ли он лично Бондарева: "Я обратил на него внимание, прочитав заметку Глеба Успенского, которому Бондарев прислал сочинение в музей в Минусинск. Между тем у Бондарева было в мизинце больше ума, чем у всех Глебов Успенских". Да, высоко ценил Толстой юдинского старца, но не мог простить ему поклонения букве Ветхого Завета211.
Наступили предвоенные годы, и если о Бондареве где-то и упоминали, то в научных изданиях, вроде "Толстовского Ежегодника" 1913 г., где К.С. Шохор-Троцкий привел некоторые биографические данные о нем и отдельные письма Толстого к Бондареву. Уже упомянутый археолог Горощенко в 1911 г. обратился в Минусинский музей им. Н.М. Мартьянова с просьбой разыскать переписку Бондарева и Толстого и передать ее дочери Толстого Александре Львовне для "Музея Толстого"212. Сотрудники музея разыскали часть писем у преподавателя Таштыпской школы Веселовского и получили их для музея. По просьбе народовольца Александра Васильевича Прибылева с них были сняты копии для А.Л. Толстой. Вероятно, общими стараниями они попали в публикацию Шохор-Троцкого. Профессор Иоанакий Алексеевич Малиновский (1868—?), одно время служивший на кафедре русского языка в Томске, совершив паломничество в Минусинск в июне 1903 г. в составе экспедиции во главе с проф. Василием Васильевичем Сапожниковым (1861—1924), опубликовал статью о Бондареве и Толстом в газете " Речь" от 9 (22) февраля 1912 г. Как мы указали, главный труд Бондарева у него называется "Труд по Библии". Симптоматично и то, что свою статью в кадетской газете профессор Малиновский заканчивает цитатой из завещания Бондарева: "Все это я на этом месте в гробе покоившийся крестьянин минусинского округа Бейской волости дер. Уздиной (Иудиной. — С. Д.) по крещению Тимофей Михайлов, а по обрезанию Давид Абрамов Бондарев на 76 году жизни моей описал своею рукою".
Несколько заметок и статей было опубликовано в сибирских газетах — "Енисейская мысль" (№ 46, 1914) и "Сибирский край" (№ 26, 1914). Как выше упоминалось, могила великого старца была разорена; существует мнение, что власти произвели обыск у могилы и вытащили рукописи покойного из ящика, куда он их положил заранее. Поклонник Бондарева Е. Потанин пишет в редакцию "Сибирского края" письмо:
"М.Г.
Г. Редактор
Прилагаю при сем 50 коп., прошу передать их в Комитет Минусинского городского Мартьяновского музея, на приведе-
200
ние в порядок запущенной могилы сибирского подвижника Бондарева... Но могила этого философа-крестьянина забыта, запущена, плиты на ней разбиты, надписи, вырезанные им, замазаны грязью. Из уважения к памяти этого подвижника, труд которого полностью, по цензурным условиям, еще не напечатан, и, в память Л.Н.Толстого, следовало бы могилу Бондарева привести в порядок...". Далее автор письма в общем пересказывает идеи Бондарева и передает семейную историю о том, что его жена "наученная хранителем душевных спокойствий" (т. е. вероятно священником) втайне сожгла труды Толстого и Бондарева. В свою очередь редакция удостоверилась в жалком состоянии могилы. Из четырех громадных плит, исписанных Бондаревым и поставленных на могиле, уцелела лишь одна, да и та с испорченной надписью. Остальные разбиты и растащены. Могила была обнесена крепкой изгородью и обсажена тополями — то и другое делалось руками покойного. Выдвижной стол с рукописями разломан, рукописи — похищены, как сказано, "невежественными, темными людьми". Отмечено, что в деревне к Бондареву сохранилось скептическое отношение и помнят его лишь его ближайшие родственники. «Горько становится на душе, когда не только в городском музее, "где собраны со всего света редкости", но даже в самой Иудиной, где жил и мыслил Бондарев, о нем закончен вопрос и не слышно о нем "ни песен, ни слов"»213.
Наступила мировая война, затем революция, гражданская война. В единственной обнаруженной за это время статье, принадлежащей перу некоего Л. Сетова, дана высочайшая характеристика Бондарева. Кратко излагая биографию сосланного в Сибирь иудействующего крестьянина, автор акцентирует внимание на мощи его интеллекта, свободно выдерживающего сопоставление с Толстым: "При таком гражданском положении, без средств, лишенный возможности пользоваться общением с интеллигентной средой, загнанный в захолустное, гиблое место, он поражал своей способностью разбираться в самых сложных мировых вопросах. По продуктивной творческой работе он, конечно, уступал Льву Николаевичу, но как мыслителя, как человека, я ставлю его значительно выше. Бондарев определенно конструировал свое мышление и шел в жизни дедуктивно. Совершенно ошибочно называть его сектантом — он не был таковым. Он был ортодоксальный библеец".
Мы можем задать отнюдь не риторический вопрос: принял бы революцию сибирский мужик? Если мы проанализируем ход гражданской войны на территории Сибири, то вывод будет однозначен: крестьяне Сибири в громадном большинстве
201
были на стороне красных. Колчаковская мобилизация привела к прямо противоположным результатам. И это подтверждает не только советская историография, но и западная. Да и сами участники белого движения довольно подробно описали крах "колчаковщины". Как вели себя иудинцы в гражданской войне, мы не знаем, но их собратья по вероисповеданию, субботники станции Зима, как описывает уже цитировавшийся писатель А.И. Алдан-Семенов, создали партизанский отряд. А для Бондарева было бы весьма привлекательно увидеть, скажем, герб РСФСР, утвержденный в 1918 г.: пятиконечная звезда со скрещенными плугом и молотом. Впоследствии, в 1923 г. в гербе произошли изменения — плуг был заменен серпом, молот остался на земном шаре, изображенном в лучах солнца и обрамленном колосьями — чем не "Торжество земледельца"! А сама себя новая республика называла Республикой труда. Интересно также было бы узнать, как бы отнесся Давид Абрамович к военному коммунизму, продразверстке, реквизициям и расстрелам? Что бы он сказал по поводу преследования церкви? Интересно, что бы сказал мудрый сибиряк, если бы познакомился с новым вариантом Моисеевой декалогии под названием "Моральный кодекс" строителя коммунизма? Или с идеей всеобщего труда на сельской ниве, когда закрывались высшие учебные заведения, конструкторские бюро, отрывались от своей непосредственной работы миллионы людей, которых "бросали на картошку" или, как в Средней Азии, на сбор хлопка? Был бы доволен автор "Торжества земледельца" осуществлением своей мечты? Как ни странно, но на часть вопросов мы можем ответить.
Когда началась коллективизация, в 1929 г. в селе Иудино был создан колхоз "Путь Ильича". Виделся ли в снах Давиду Абрамовичу этот вариант "единодушной и единосердечной артели"? Можно категорически утверждать — нет! По крайней мере, его сын Даниил Давидович был репрессирован, сослан в Нарымский край, и было ему к тому времени, судя по самым скромным подсчетам, уже за 70. (Уместно сказать несколько слов о семье Давида Абрамовича Бондарева. Его жена ненадолго пережила мужа. Сын Даниил сгинул в лагерях. У внука Винария было двое сыновей, правнуков философа. От дочери, по мужу Борисовой, он также имел внуков; одного звали Моисей Иудович Борисов, ему было больше 90 лет, когда он умер в 1949 г. У Тимофея Бондарева на его родине в станице Михайловской оставался брат, с которым он состоял в переписке. К сожалению, мы ничего не знаем о состоянии потомков Бондарева на сегодняшний день, но верим, что, подобно библейским праотцам, "им несть числа".)
202
В 1933 г. сибирский писатель Владимир Яковлевич Зазубрин (Зубцов, 1895-1938) опубликовал роман "Горы", где под именем Семена Калистратовича Бидарева выведен Давид Абрамович Бондарев, "доживший" до колхозных дней. В свете этого небезынтересна биография писателя Зазубрина. Участник гражданской войны в Сибири в 1921 г. выступил в печати с романом "Два мира", выдержавшим множество изданий. Роман нравился Ленину, Горькому и Луначарскому. И он имел безусловные художественные достоинства, в какой-то степени новаторские. Об этом сказано и в "Краткой литературной энциклопедии". Последующие произведения, две небольшие повести "Бледная правда" и "Общежитие" (обе написаны в 1923 г.), вызвали резкие нападки на автора. В статье о Зазубрине в "Сибирской энциклопедии" сказано, что герои революции и гражданской войны столкнулись в его повестях с непобедимой силой мещанского быта. Особенно досталось повести "Общежитие": «Жизнь по "Общежитию" — грязный клубок похоти, повальный разврат, насилие, сифилис. Критика отнеслась крайне отрицательно к "Общежитию", а эмигрантская печать использовала повесть в качестве очередного орудия клеветы на сов. власть». Нетрудно увидеть, что Владимир Зазубрин рано увидел перерождение советской власти, и с этой точки зрения он стоит в одном ряду с Замятиным, Пильняком, Булгаковым. Вероятно, тогда, в начале 20-х годов, оргвыводов в отношении Зазубрина не было сделано. По его сценарию было поставлено два фильма: "Красный газ" (1924) и "Избушка на Байкале" (1924); в 1923—1928 гг. он работал секретарем журнала "Сибирские огни" и был одним из руководителей Сибирского Союза писателей, "откуда был выведен за проведение реакционной политики в вопросах литературы". Судя по времени усиления нападок на него, вероятно, ему инкриминировали троцкизм. Его спас Горький, пригласив в Москву для работы в Госиздате и журнале "Колхозник". 38-ой год он не пережил: дата смерти, 6 июля этого года, говорит о расстреле. После XX съезда он был реабилитирован, но атавизм некоторых обвинений остался в статье в КЛЭ: "...непонимание путей и методов социалист. строительства... привели 3. к искажению сов. действительности. Повести окрашены пессимизмом..."214 А между прочим, Максим Горький высоко ценил талант Зазубрина и считал его роман "Два мира" одним из лучших произведений о гражданской войне наряду с произведениями Всеволода Иванова, А. Фадеева, Шолохова, Либединского, Ал. Толстого. Горький находился в переписке с Зазубриным. Особенно интересно одно письмо Алексея Максимовича, где он преподал молодому писателю урок этики: речь идет о
203
"литературных младенцах", начинающих писателях, осаждающих редакции, к которым нужно относиться с терпением и пониманием215. Не изменил он Зазубрину и во времена нападок. Горький связал Ромена Роллана с Зазубриным и какое-то произведение Зазубрина было опубликовано в Париже.
В романе "Горы" (иногда его называют повестью) Зазубрин предоставляет слово для суждения о коллективизации Бидареву-Бондареву, искусно пользуясь текстами Давида Абрамовича и его лексикой, сочетанием "высокого штиля" с простонародными выражениями: «"Ничего у вас, лжеучители, не выйдет. В колхозах ваших опять человек человеку будет гонителем. Саранчой на поля ваши насядут писцы непашущие, начальство городское с белыми руками, и пожрут труд земледельца. Не разделить вам ни полей своих, ни жен, было все это в Америке и у нас на Молочных Водах между духоборцами... Веселый, легкий труд ваш на вас же обратится тяжестью непомерной". С прилежанием слушал я Фому Иваныча и так уразумел слова его, что машина американская ни одного человека счастливым не сделала. Был человек рабом у человека, станет теперь рабом машины. Сломайся машина — и человеку напиться нечего, осветиться нечем. Без машины он даже до ветру сходить не сможет, брюхо свое не опростает. Бидарев ударил в пол посохом: "А я все своими руками добуду, и никакой у меня нехватки ни в чем не обнаружится, и никакой не заведется роскоши праздной. Надо так сделать, чтобы одна местность в другой не нуждалась, один человек другому в рот не глядел. Когда каждый станет делать все сам, тогда не будет и власти тягостной человека над человеком и не возгорится война разорительная. Сказано в Писании: "...Ибо будет в последние дни явлена гора Господня и дом Божий наверху горы, и возвысится превыше холмов, и придут к ней народы. И пойдут народы многи и рекут: прийдите и взыдем на гору Господню... И раскуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, и не возьмет народ на народ меча, и не будет научаться воевать... И отдохнет каждый под лозою своею, каждый под смоковницею своею, и не будет устрашающего... И изобличит Господь сильные народы, даже до земли дальней... Пути его видел и исцелил его, и утешил его, и дал в ему в утешение истинное: мир на мир далече и близ сущим..." Бидарев обвел собрание торжествующим взглядом: "Слышите, глухие, — под лозой своею, под смоковницей своею, вы же, прелестники, хотите отнять у человека поля его, скот его и домы. От труда мирного пахарей на битву возбуждаете, брата на брата и сына на отца ведете".
Бидареву никто не хлопал. Все знали заранее, что он скажет. Старик посмотрел на собрание, на президиум, вздохнул и замахал посохом к двери»216.
204
Этот отрывок производит сильное впечатление. Прибегая к помощи пророка Исайи (да и само название романа "Горы" взято напрокат у пророка Исайи - см.: Библия. Книга пророка Исайи, гл. 2, ст. 2 и последующие), старик обнажает суть новокрестьянской жизни. Описание Бидарева дается через призму восприятия организатора колхоза незаурядного Ивана Федоровича Безуглого — возможно, прототип самого автора: «Собрание молча подняло свои головы на старика Бидарева. Он встал к столу... Большая борода у него белой пеной свисала на грудь. Намасленная голова отливала на солнце серебром. На нем был длиннополый, узкорукавный черный кафтан. Бидарев обеими руками опирался на высокий посох. Безуглый посмотрел на розового синеглазого старика и подумал, что его портрет сошел бы за икону.
— Сеял я, никогда не ленился и опять посею. Пятьдесят годов писал я вельможам и простым людям, всех звал пахать и ни одной черты ни от кого не получал в ответ, ровно в мертвые руки подавал, в глухие уши говорил. Двадцать пять годов страдал я при царе в ссылке за то, что нашел правду, открыл средствие всем избавиться от нищеты и стать счастливым. Не любил царь правды.
Старик стукнул посохом.
— Средствие мое не тяжкое, а легонькое, не завитное, а простое и для всякого человека доступное. В короткое время избавились бы люди от нужды и от постыдного убожества и зажили бы на свете фертом, припеваючи. Доискался я, граждане, что хлебопашество сделает всех людей равными и пресечет крылья роскоши и вожделениям. Когда каждый сядет на землю и у каждого родится свой хлеб, и никто не станет продавать его и покупать, тогда не надо будет прибегать и к ласкательству лукавому, и к насилию.
Старик повернулся к Безуглому.
— Старой власти не страшился, в глаза говорил и попу, и становому, что белыми руками царь ест не заработанное им, значит, ворованное.
Он поднял руку.
— Вам говорю прямо, учение ваше о разделении труда суть измышление диавольского ума. От него и неравенств, и зависть, и обман. Истинно сказано: "В поте лица твоего снеси хлеб свой". Сейте, граждане, сами, все сейте, тогда царство Божие будет на земле.
Бидарев закрыл глаза. Голова его, как отрубленная, повисла на конце толстого посоха. Безуглый нагнулся над тетрадью»217. Интересный человек и противник произвел сильное впечатление на приезжего коммуниста. На земляков же Бида-
205
рева его слова не оказывают влияние. Он чудак, к которому привыкли. Безуглый новый человек и, естественно, снабжен информацией из недремлющего ведомства: "Семен Калистратович Бидарев. Маломощное середняцкое хозяйство. Ореол мученика за правду. Философ-самоучка. Переписка с Л. Толстым. Будет с ним канитель..."218
Зазубрин имитирует жизнь Бондарева до мелочей. Так, известно, что застигнутый думой, сибиряк мог стоять в остолбенении, не обращая внимания на погоду и окружающих: "На другой стороне улицы остановился Бидарев... Он простоял не менее пятидесяти минут. Его облило дождем, обсушило и снова вымочило — он не пошевелился. Старик смотрел и молчал..." Героиня повести Анна рассказывает мужу, коммунисту Безуглому: "Семен Калистратович у нас такой, где его мысли пристегнут, там и встанет. Другой раз часа два и простоит столбом. В бане он все пишет, не хуже тебя. Летошный год была с ним оказия... День цельный он писал, ввечеру вытопил банешку, выпарился, а одеться забыл. Вышел на улицу в чем мать родила и стоит в сильных размышлениях. Ребятишки собрались, срам. Он ровно не живой — ничего не слышит. Ум у него очень пронзительный, только кончик, самая острая умственность и загинается. Затвердил одно — сейте. Ну а кто будет железо на плуги добывать, не объясняет". Она же рассказывает легенду о встрече сельского мудролюба с Толстым. Анна повторяет, что Толстой и крестьянин встречались; по крайней мере, в деревне это считалось непреложным фактом и никаких сомнений не вызывало. (Исследователь М.В. Минокин многократно слышал от крестьян легенду о встрече Толстого и Бондарева, то в Ясной Поляне, то в Иудине.) Безуглов высказывает сомнение: "По-моему, Семен Калистратович со Львом Николаевичем никогда не встречался, они только переписывались. Книгу Бидарева в Париже изданную, верно, Толстой читал и многое из нее взял для своей проповеди земледельческого труда".
«У Анны вздрогнули руки.
— В Белых Ключах у любого старика спроси... скажет — правду, в Бийске они встретились....
— Однова посылает Бидарев Толстому письмо, ты, мол, сам ко мне приезжай, тогда и поговорим, а то что по бумаге-то наразговариваешь. Толстой берет билет и едет по чугунке. До Бийска доехал, а дальше не может. Ревматизьм, что ли, у него был. Все-таки нежный человек. Пишет он Бидареву, зовет его в Бийск, дескать, так и так. Ну, конечно, Семен Калистратыч собрался и поехал. Встретились они, и пошла у них катавасия, Бидарев под конец уже криком кричит на Толстого и кулаком
206
стучит по столу: "Ты, — говорит, — пишешь-то гладко, тоже зубы заговариваешь, а сам-то в графья записался, сам-то не работаешь. Ты, — говорит, — с роду-то когда косил, нет? Серпом-то пробовал поелозить? А? Ты, Толстой, тож работай, как я работаю". Толстой, это, не осерчал. "Правда, — говорит, — Семен Калистратович, вечный работник и земледелец теперь я буду". Уехал домой да с тех пор, до самой смерти, как крестьянин жил. Посконную рубаху носил, косил, жал, без седла ездить даже стал. Ребят начал учить, как наш Семен Калистратович учит. А от жены в раздел ушел, в избушку»219.
Народная легенда, вероятно, слышанная писателем на Алтае, точно зафиксировала психологическую вероятность встречи двух великих современников и зависимость Толстого от философии сибиряка. Кстати, когда герой (Безуглый) пытается с помощью справочника (по-видимому, 1-го тома Сибирской энциклопедии или Нового Брокгауза и Ефрона) убедить жену в невозможности этой встречи, он терпит поражение: миф побеждает реальность: «Безуглый достал в красном уголке с полки энциклопедический словарь, отыскал страницу, посвященную Бидареву, быстро пробежал ее и сказал Анне:
— Видишь, тут ничего не сказано о встрече в Бийске. Зато здесь есть ответ на твой вопрос: кто будет железо добывать, если все станут сеять.
Безуглый прочел вслух:
— Основная мысль учения Бидарева — утверждение закона "хлебного труда"; все, без исключения, должны "работать своими руками хлеб, разумея под хлебом всю черную работу, нужную для спасения человека от голода и холода...".
Анна оттолкнула от себя том словаря.
— Кто писал, не знаем, а мы, дураки, читаем...
— Машину он опровергает! Какой ты нашел у него ответ? Никакого он ответа-совета человеку не даст, хоть год на одном месте простоит!»220
Нельзя отказать Зазубрину в смелости: он с любовью рисует образ старика-сибиряка, противника коллективизации. Вот замечательная сцена, когда на заседании партийной и комсомольской ячейки появляется высокий, бодрый старик с посохом, в синих глазах которого мелькают переливчатые, лукавые огоньки, и спрашивает разрешения присутствовать на собрании двусмысленными словами: "Граждане, сборище ваше не тайное?" — И на приглашение сесть громогласно заявляет: "Не к лицу мне стоять перед тобой, потому по чину я в ровнях с самым вашим большим комиссаром... Да что комиссар, тебе передо мной стоять надобно, мой хлеб ты ешь, я тебя кормлю от трудов своих"221.
207
Нетрудно догадаться, что роману "Горы" была уготовлена тяжелая участь. Он подвергся разносу в рецензии Зел. Штеймана, озаглавленной "Тарзан на хлебозаготовках". И вновь в защиту Зазубрина выступил Максим Горький, отметив, в первую очередь, возросшее мастерство писателя по сравнению с романом "Два мира", уже выдержавшим 10 изданий. В полемике Горький отмечает сильные стороны Зазубрина. "Тарзаном" обзывает рецензент героя романа Безуглого. Такое сравнение оскорбительно и может иметь обратное действие, т. е. критика можно так же легко сравнить с любым животным или насекомым. «Но — легко сделать еще не значит хорошо сделать, следует делать, уместно делать. Действие повести "Горы" развертывается на Алтае, в среде звероподобного кулачья. Горный пейзаж, мощный хаос возбуждает в... здоровом человеке... инстинкты древнего охотника и еще кое-какие эмоции. Свойство горного пейзажа весьма ярко и глубоко отразилось в фольклоре всех народов, а особенно на воображении равнинных племен, это свойство возбуждает воображение, возвращает его в "глубину времен", к судорогам земной плоти. Штейман иронизирует над эмоциями коммуниста Безуглого: "Голый человек на голой земле"»222. Далее идет упоминание о жуткой сцене истребления лошадей и маралов. В конце Горький замечает: "Грубоватое, но вполне естественное и уместное изображение Зазубриным жизни животных горизонтального и вертикального строения рецензент, видимо, считает недопустимым". Как раз эти страницы повести Зазубрина необыкновенно сильны и выдерживают проверку временем. "Он понял, что слушает шумы вечного движения мира, его непрерывных превращений. Он знал, что весь мир живет по одним и тем же законам разрушения и созидания. Ветры, воды, льды непрестанно растаскивают, размывают, разламывают. Земля поворачивает к солнцу то один бок, то другой. Горы и моря на ней меняются местами. В ее неостывшие недра погружаются города, страны, материки.
Безуглый взглянул на небо. Бесчисленные миры светились в недоступной вышине. Они возникали, исчезали, рождались вновь, чтобы умереть, гибли, чтобы опять возродиться из праха. Он увидел вселенную как единый хорошо работающий огромный механизм. Человек показался ему обидно ничтожным.
Безуглый написал в тезисах к докладу: "Сволочь природа".
В двух словах он соединил и гнев и восхищение»223.
Сравните эти строки со стихами современника Зазубрина, Николая Алексеевича Заболоцкого, например такими:
208
Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя,
И, погасив свечу, опять отправлюсь я
В необозримый мир туманных превращений,
Когда миллионы новых поколений
Наполнят этот мир сверканием чудес
И довершат строение природы, —
Пускай мой бедный прах покроют эти воды,
Пусть приютит меня зеленый этот лес
("Завещание", 1947)224.
И таких ассоциаций множество (см. стихотворения Заболоцкого: "Метаморфозы"(1937), "Вчера, о смерти размышляя"(1936), "Все, что было в душе"(1936) и др.).
"Заимствования, к которым прибегал сам Заболоцкий, это, вероятно, тема специальных исследований", — писал друг его молодости225. Но это вряд ли сознательное включение близкого строю души материала. Тем паче что начатая поэма "Лодейников" публиковалась еще в 1933 г. И герой Заболоцкого — Лодейников близок герою повести Зазубрина — Безуглому попыткой осмыслить окружающий мир:
...Стояли яблони, как будто изваянья,
Возникшие из мрака древних лет.
...............................................................
И все чудесное и милое растенье
Напоминало каждому из нас
Природы совершенное творенье,
Для совершенных вытканное глаз.
Лодейников склонился над листами,
И в этот миг привиделся ему
Огромный червь, железными зубами
Схвативший лист и прянувший во тьму.
Так вот она гармония природы,
Так вот они ночные голоса!
Так вот о чем шумят во мраке воды,
О чем, вздыхая, шепчутся леса!
Лодейников прислушался. Над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшаяся адом,
Свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давильня
Соединяла смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства ее ("Лодейников", 1932-1947) 226.
209
Детство поэта прошло в доме отца-агронома. Его близость к природе и к труженикам земли была органична, она вошла в плоть и кровь его стихов.
В биографии замечательного поэта, написанной его сыном, сказано следующее: «...с детских лет привлекал Николая Заболоцкого тип не только землепашца, но и мужика-философа, носителя особого мировоззрения, отражавшего духовно-трудовое единение человека и природы... Пройдут годы, и, создавая поэму "Торжество Земледелия", поэт вспомнит эти свои детские впечатления и использует их для утверждения определенного долга человека по отношению к земле, растениям, животным»227.
В русскую поэзию Заболоцкий вошел своим сборником "Столбцы"(1929). Маленький сборник, включающий 22 стихотворения, сделал поэта знаменитым. Поэтика Заболоцкого восходит к русскому XVIII в., испытывая при этом влияние творчества Велимира Хлебникова. Это отмечалось критикой. Но несомненно и то, что на творчество Заболоцкого оказала влияние поэтика русского сектантства. Сам поэт рассказывает об этом в стихотворении "Голубиная книга" (1937). Так называлась книга духовных стихов, широко распространенная в народном обиходе. "Голубиная книга", или иначе "глубинная", т. е. мудрая книга, сложилась на основе апокрифических сказаний — "Беседы о трех святителях" и др.228 В полных вариантах "Голубиная книга" представляет собой некую энциклопедию, касающуюся происхождения мира, животных, святынь и даже сословных различий. Заключительная часть повествует о борьбе Правды с Кривдой и о поражении Правды, оставшейся "на сырой земле". "Голубиная книга" часто исполнялась на сектантских радениях.
А на той горе Сионския,
У тоя главы святы Адамовы
Выростала древо кипарисова.
Ко тому-та древу кипарисову
Выпадала книга голубиная,
Со небес та книга повыпадала:
В долину та книга сорока пядей
Поперек та книга двадцети пядей,
В толщину та книга тридцети пядей229
Кстати, "Голубиной книгой" и интересовался композитор М. Мусоргский, написавший песнь в es-mol.
Заболоцкий рассказывает в стихотворении о впечатлениях детства, о мудрости народного сказания:
В младенчестве я слышал много раз
Полузабытый прадедов рассказ
О книге сокровенной...
.................................................................
210
И слышу я знакомое сказанье,
Как правда кривду вызвала на бой,
Как одолела кривда, и крестьяне
С тех пор живут, обижены судьбой.
Лишь далеко на океане-море,
На белом камне, посредине вод,
Сияет книга в золотом уборе,
Лучами упираясь в небосвод.
Та книга выпала из некой грозной тучи,
Все буквы в ней цветами проросли,
И в ней написана рукой судеб могучей
Вся правда сокровенная земли.
Но семь на ней повешено печатей,
И семь зверей ту книгу стерегут,
И велено до той поры молчать ей.
Пока печати в бездну не спадут230
Успех "Столбцов" в литераторских кругах был несомненен. В доме Николая Тихонова поэт читал свои стихи, когда неожиданно актриса Зоя Бажанова, жена Павла Антокольского, «сказала нечто, что могло, казалось бы, смутить, и даже оскорбить поэта: "Да это же капитан Лебядкин!"» Однако не смутившийся поэт отвечал, что и он об этом думал. А в версии В. Каверина сравнение с капитаном Лебядкиным принадлежит самому Антокольскому и ответ Заболоцкого симптоматичен: он ценит Лебядкина выше многих поэтов231. Сын поэта, приводящий обе версии казуса, считает, что отцу было неприятно сравнение со злополучным капитаном. Но, вероятно, это все же не так. Собственное оригинальное видение мира было присуще Заболоцкому, но и Лебядкина надо оценивать, сравнивая не с современными поэтами, а с его прообразом — капитаном Ильиным и с его духовными стихами и даже рисунками.
Другой немаловажной опорой Заболоцкому был Некрасов. Критики проследили влияние "поэта мести" на его позднее творчество — "Старая актриса", "Смерть врача", "Некрасивая девочка" и некоторые другие. Но я имею в виду раннее творчество Заболоцкого, где влияние Некрасова можно проанализировать не в свете общности идей, а в использовании его поэтики. Речь идет не только о "Столбцах", но и о поэмах. Мы говорим о поэме Некрасова "Современники", где сатирическое, гротескное изображение сродни паноптикуму, воспетому Заболоцким. Равно интересно и то, что некрасовский шедевр написан свободным размером. Этот опыт был учтен младшим Николаем Алексеевичем в "Безумном волке" и "Деревьях".
211
Вот несколько примеров из Некрасова:
Князь Иван — колосс по брюху,
Руки вид пуховика,
Пьедесталом служит уху
Ожиревшая щека.
По устройству верхней губы
Он — бульдог; с оскалом зубы,
Под гребенку волоса
И добрейшие глаза.
Он — известный объедало,
Говорит умно,
Словно в бочку из-под сала,
Льет в себя вино... 232
Или — весьма близкая по тематике:
Встает известный агроном,
Член общества — Коленов.
(Докладчик пасмурен лицом,
Печальны лица членов).
Он говорит: "Я посвятил
Досуг мой скотоводству...
...................................................
В отечестве любезном
Старался я улучшить скот
И думал быть полезным.
Увы! напрасная мечта!
Убил я даром годы:
Соломы мало для скота
Улучшенной породы!
В крови у русской клячи есть
Привычка золотая:
"Работать много, мало есть" —
Основа вековая!
Печальный вид: голодный конь
На почве истощенной,
С голодным пахарем... 233
Думаю, небезынтересны для Заболоцкого были некоторые черновые варианты поэмы Некрасова:
Донесешь... но поплачешь о друге...
Таково уже сердце твое:
Плачешь даже о жирной белуге,
Уплетая под хреном ее! 234
В 1929 г. в журнале "Звезда" была опубликована часть поэмы Заболоцкого "Торжество земледелия", затем в 1933 г. в том же
212
журнале поэма была опубликована полностью в иной редакции. Бросается в глаза не только сходство названий трудов Бондарева и Заболоцкого, но и некоторое различие. Случайностью это быть не может. "Земледелье", как подсказывает толковый словарь Даля, — занятие или промысел и наука или искусство возделыванья, обработки земли для хлебородной жатвы; землепашество. "Земледелец" — поселянин, крестьянин, мужик; сельский обыватель; хозяин, владелец; кортомщик, занимающийся хлебопашеством. У С.И. Ожегова проще: "Земледелец" — человек, который занимается земледелием, а "Земледелие" — обработка земли с целью выращиванья сельскохозяйственных растений. Собственно, оба понятия тесно связаны друг с другом. И Бондарев, как мы видели, занят был не только социологическими проблемами крестьян, но и агрономией, он пытался решить извечную проблему жизни и смерти. (Ср. у В. Хлебникова:
Годы, люди и народы —
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы:
Звезды-невод, рыбы-мы,
Боги призраки у тьмы
и у Н. Заболоцкого, в журнальном варианте "Меркнут знаки Зодиака":
В тесном торжище природы,
в нищете, в грязи, в пыли,
что ж ты бьешься, царь свободы,
беспокойный прах земли.)
Бондарев даже негодовал на эксплуатацию животных в воскресные (вероятно, выходные дни, т. е. субботы и другие иудейские праздники, в точном соответствии с Второзаконием: первым в мире законом в защиту домашних животного мира), но, увы, этот закон плохо соблюдался его односельчанами. Н. Заболоцкий любил цитировать стихи В. Хлебникова: "Я вижу конские свободы и равноправие коров". Но, кажется, и здесь Второзаконие взято за образец, где вол, осел или любая другая живность — "всякий скот" — приравниваются к венцу природы — человеку (Втор. 5:14). В конце концов, герой поэмы Заболоцкого солдат, это тот же крестьянин, ставший воином ("Вы знаете, я был на поле брани, / Носился лих под пули пенье") и вновь ставший хлебопашцем (замечено сыном поэта в "Жизнеописании"), — точная копия биографии Бондарева.
213
В черновом варианте "Торжества земледельца" записано: "Где вол, зачитываясь Попом"235. В комментариях сказано, что Заболоцкого привлекала "легкая" поэзия английского поэта. Речь идет об Александре Попе (1688—1744). Заболоцкого у него интересовала отнюдь не легкость:
А там пиит-мудрец природу испытует
И цепи зрит существ несчетные звена.
Все благо то, что есть, и смертный слепотствует,
В очах которого природа зол вина.
Престав быть мизантропом,
И Тимон горестный утешен был бы Попом236
Ясно, что Заболоцкий внимательно читал дидактическую поэму Попа "Опыт о человеке", и мысль английского поэта о неразрывной связи человека и природы была близка Заболоцкому. Читал ли Заболоцкий Бондарева? На этот вопрос мы можем ответить положительно. Он интересовался Львом Толстым и его идеями и, конечно же, мимо него не прошли связи писателя с сибирским мужиком.
Есть еще одна ниточка, соединяющая поэта с прошлым. Это его интерес к В.И. Вернадскому. Книга Вернадского "Биосфера" была настольной книгой поэта. А становление личности Владимира Ивановича прошло не без влияния Толстого и Бондарева. Как известно, он был членом знаменитого "братства", основанного в феврале 1886 г., в разгар попыток публикации и полемики вокруг "Торжества земледельца". Решающим в образовании "братства" было знакомство с Вильямом Фреем, основателем земледельческой колонии в Америке. Уезжая из Ясной Поляны в Англию, Фрей встретился с "приютинцами" — группой друзей Вернадского, и под его воздействием был образован орден "братства". (Трагедией Владимира Константиновича Гейнса — Фрея было то, что он лишь накануне смерти узнал, что его идеи не пропали втуне.) Из этого "братства" вышли такие люди, как братья Сергей и Федор Ольденбурги, Д. Шаховской, Иван Михайлович Гревс, Александр Корнилов, Андрей Краснов. Основные правила братства были сведены Дмитрием Шаховским к весьма простой триаде: 1. Работай как можно больше. 2. Потребляй на себя как можно меньше. 3. На чужие беды смотри как на свои.
Безусловно, Заболоцкий был верующим человеком. Его связь с Библией требует отдельного исследования. (См., например, одно из декларативных стихотворений "Во многом знании — немалая печаль, / Так говорил творец Экклезиаста".) И отношение его к Евангелию было тоже непростым. В известном стихотворении "Бегство в Египет" (1955), связь кото-
214
рого с одноименным стихотворением Ивана Бунина написанным за сорок лет до этого, — очевидна, существует Ветхозаветный пласт. (Связь этих двух шедевров прослеживается даже в редкой рифме: "Полотенце младенца" — "Младенцем — поселенцем".) В стихотворении Бунина действие перенесено на Далекий Север, в Россию. Богородица кутается в кунью шубу. В зимнем лесу — медведицы, волки, лоси. И лишь в конце Огненный Ангел летит к Сиону отмстить Ироду.
У Заболоцкого перемещение не географическое и вообще не перемещение, а перевоплощение. Ибо место действия — Святая земля,"наш дом" (очаг), куда следует вернуться:
Но когда пришла идея
Возвратиться нам домой
И простерла Иудея
Перед нами образ свой...
Поэт, хранимый Ангелом не мщения, а спасения, погружается в сон. Сон необычный, сон перевоплощения:
Снилось мне, что я младенцем
В тонкой капсуле пелен
Иудейским поселенцем
В край далекий привезен.
Увы, родина встретила его нищетой, злобой, нетерпимостью, рабским страхом — родовые черты не только древней Иудеи, но и современной поэту России.
Вернемся к мудрому иудинцу. Не его ли имел в виду великий поэт, когда писал:
Здесь, под сенью дряхлеющих ветел,
................................................................
Я однажды ....заметил
Незнакомого мне человека.
Он стоял и держал пред собою
Непочатого хлеба ковригу
И свободной от груза рукою
Перелистовал старую книгу.
Лоб его бороздила забота,
И здоровьем не выдалось тело.
Но упорная мысли работа
Глубиной его сердца владела...
......................................................
В этот миг перед ним открывалось
То, что было незримо доселе,
И душа его в мир поднималась,
Как дитя из своей колыбели. (1948)
215
Впечатление такое, что это иллюстрация к воспоминаниям о Бондареве. О процессе его мышления.
Одним из важнейших ударных мест поэзии Заболоцкого является поклонение Хлебу. И не только — хлебу, а вообще — пище, еде, что в пораженной голодом стране нормативно. Именно в Царе-Голоде лежат истоки "Столбцов". Хлеб как символ мира и жизни проходит красной нитью через все творчество поэта. И на это обратил внимание сын Заболоцкого. Выскажем и такое странное мнение. Преклонение Николая Алексеевича перед поэтом Хлебниковым было связано не только с привлекательностью музы Председателя Земного Шара, но и хлебным запахом его фамилии. Равно и личность Сковороды была привлекательна поэту и "кухонной", а значит, пищевой фамилией малоросса.
Седьмая главка поэмы Заболоцкого так и называется "Торжество земледелия", а следовательно и земледельца, ибо герой крестьянин-солдат произносит речь, начинающую словами: "Славься, славься, Земледелье, / ...Бросьте пахари безделье, / Будет ужин и ужин".
И последнее — раскулаченная и обнищалая деревня, которую Заболоцкий видел на родине сибирского мудреца, выглядела приблизительно так.
Чем была колхозная жизнь для иудинцев? Свидетель начала века сообщает о зажиточности крестьян. Состоятельные имели каждый по 20—30 лошадей, до 100 голов рогатого скота и 150—200 овец. Середняки владели 8—10 лошадями, имели по 30 голов рогатого скота и такое же количество овец. Ну а бедняки? По российским меркам они жили не так плохо: 3—4 лошади, 5—6 коров, до десятка овец. Такое обширное хозяйство требовало наемного труда. Обычно в "батраки" нанимались "татары" — хакассы. Но и они получали за свой труд высокую плату. И это тоже зависело от качества работника. Трудолюбивый получал до 100 рублей на полном хозяйском содержании, средний работник — при тех же условиях — 70 рублей, а нерадивый не более 50 рублей. Употребляли юдинцы и технику — молотилки и веялки237. И потому жизнь им улыбалась. Кстати, единственными православными в округе были хакассы, да и то священники посещали их 2—3 раза в год; понятно, что православие аборигенов было формальным. Возможно, что православный священник, заглянувший в Иудино и ведший диспут с Бондаревым, был миссионером. Понятно, что коллективизация в селе не могла проходить легко. Были сосланы, как мы выше писали, и родственники Бондарева, включая сына. Но по сведениям, имеющимся у автора, села, где процветало сектантство, старались спасти "своих кулаков". Возмож-
216
но, поэтому колхозное хозяйство Иудиной и до войны считалось образцовым. А поголовье колхозного скота — не выдерживает сравнения с поголовьем дореволюционным... Судите сами: «Колхоз "Заветы Ильича", один из богатейших во всем Красноярском крае, объединивший к этому времени 360 дворов, имел 750 голов только крупного рогатого скота, 4 500 тонкорунных овец, фруктовый сад в 50 гектаров, звероферму, где разводили лисиц и енотов...»238. Насчет лисиц и енотов нам ничего не известно, но поголовье коров было до революции в десятки раз больше. Как не вспомнить Бондарева-Бидарева: "Вы же, прелестники, хотите отнять у человека поля его, скот его, и домы!"
О деревенском философе вспомнили в 1939 г., когда стараниями Е.И. Владимирова вышла книга "Тимофей Михайлович Бондарев и Лев Николаевич Толстой". Тогда же была создана комиссия под руководством археографа Минусинского музея Варвары Левашевой. В комиссии принял участие и сибирский поэт Иван Ерошин. Была произведена эксгумация, принесшая неожиданные результаты — никаких рукописей Бондарева в гробу не было обнаружено, зато были найдены обломки надмогильных плит, где современный Моисей высекал новейшие скрижали. Некоторые недоброжелатели утверждали, что могила была вскрыта по поручению известного библиофила Геннадия Васильевича Юдина в поисках новых трудов Бондарева и что эти труды попали в библиотеку конгресса США вместе с проданной Юдиным его библиотекой. На поверку оказалось, что в Америке нет рукописей, а они — те самые, когда-то похищенные из ящика у могилы, хранились в Красноярском краеведческом музее. Теперь большая часть перекочевала в Толстовский музей.
Во время работы комиссии в 1940 г. к поэту Ерошину обратились местные крестьяне с просьбой об увековечении памяти Бондарева переименованием села Иудина в Бондарево: "...неладное прозвище у нас Иудино... А что такое Иуда? Известно, предатель. Вспоминать о предателях не стоит. Их надо из колхозной памяти совсем извлекать"239. Просьба пошла по инстанциям, но началась Отечественная война, отодвинувшая осуществление пожелания крестьян. А во время войны молодые иудинцы ушли на фронт, их заменили на колхозных полях старики и женщины. Ежегодно они сдавали государству 70 тысяч пудов хлеба, 4 тысячи пудов мяса, 270 тысяч литров молока, 6 тысяч килограммов шерсти и много других продуктов и сырья. В 1943 г. 500 иудинцев направили письмо солдатам Карельского фронта, и здесь нашлось место для упоминания имени своего знаменитого односельчанина: "Когда-то в
217
селе нашем жил крестьянин Тимофей Михайлович Бондарев — из ссыльных поселенцев...
Тимофей Михайлович был первым ирригатором Кайбальской долины, он оросил 50 десятин земли, он пытался создать потребительское общество-кооперацию..."240.
Уже после войны последнюю плиту с надписями-изречениями Бондарева директор местной школы Померанцев уложил в фундамент строящейся в Иудине новой школы — прекрасная идея и надежда, что наши потомки еще раз вернуться к мыслям своего замечательного земляка. В селе поставлен памятник с простыми словами, соответствующими духу времени:
Тимофей Михайлович Бондарев (1820-1898 гг.)
Писатель — борец за счастье бедняцкого крестьянства Сибири — первый учитель крестьянских детей.
И последнее — акт человеческой глупости — бывшее село Обетованное, переименованное в Иудино, было еще раз переименовано — с 1958 г. место жизни философа получило статус поселка и имя своего самого прославленного земляка.
Очерк 4
РОССИЙСКАЯ АРИСТОКРАТИЯ И ЕВРЕЙСТВО
ЦАРИ И ЕВРЕИ
В самом начале перестройки в журнале "Советиш Геймланд" было опубликовано письмо княжны Екатерины Александровны Мещерской, где, пожалуй, впервые откровенно написано об отношении русской аристократии к еврейству. Кн. Мещерская утверждает, что русской аристократии был чужд антисемитизм. Редакция озаглавила письмо достаточно категорично: "Компетентное мнение княжны Екатерины Александровны Мещерской". Вот этот небезынтересный текст:
«Дорогая редакция!
Я достаточна наслышана об интересном и содержательном еврейском журнале "Советиш Геймланд". Хочу воспользоваться предоставленной мне возможностью вкратце рассказать вашим читателям о том, как расценивала антисемитизм русская аристократия (может быть, это поможет понять русский национальный характер вообще).
Дело в том, что до своего тринадцатилетнего возраста я об этом слове не имела понятия. Со времен царствования Петра Первого волны талантливых молодых иноземцев хлынули в Россию. Голландский еврей Шапиро стал лучшим Петру помощником в кораблестроении, и Петр дал ему титул барона Шафирова. В русской аристократии не было антисемитизма (курсив мой. — С. Д.). Подобные высказывания вообще считались дурным тоном.
Чтобы иметь возможность торговать в огромной, обширной России, многие евреи вынуждены креститься ради того, чтобы
219
преодолеть "черту оседлости". Их "заморские товары" и красивые витрины магазинов приводили в ярость купцов, и, не выдерживая конкуренции, те подкупали городовых, подстрекающих пьяную чернь на еврейские погромы. Вспомним лучший магазин старой Москвы — "Мюр и Мерелиз" (сейчас ЦУМ). На Мясницкой улице располагались лучшие магазины, торгующие различными новинками, в том числе и техническими. Их владельцами были братья Брабец, Сименс и Гальске, Роберт Кэнц, Жорж Борман и другие, а Михаил Васильевич Кишиневский украсил всю Москву своими огромными, круглыми электрическими светящимися часами.
Последний русский министр барон Витте был женат на еврейке и появлялся с ней при Дворе. Раньше было принято, чтобы в каждой семье жил в доме свой врач (конечно, он имел полное право ездить и по своим частным вызовам). Он лечил всю семью, всю прислугу, а также дворню. Получал хорошее жалованье и становился уже своим, родным человеком, принимал участие во всех семейных радостях и горестях. Таким был и наш дорогой доктор Зиновий Яковлевич Любарский. Я вспоминаю его чуть-чуть навыкате голубые глаза, пышную, рыжеватую бороду и ту добрую улыбку, с которой он, когда я болела, сначала выслушивал мою, рядом со мной лежащую куклу, а потом уже и меня. Он наверно был евреем, но никому не приходило в голову об этом специально осведомляться — это был наш Друг и всеми уважаемый человек.
Теперь вот о чем. Как это было напечатано в журнале "Огонек", я много раз сидела в тюрьме (главным образом за то, что не соглашалась быть агентом Лубянки). Сидела в одиночке, спать не давали, допрашивали по ночам перекрестным допросом. Уже после опубликования материалов о поимке Эйхмана (помещенных в моем переводе в журнале "Вопросы истории") я была однажды вызвана на Лубянку. Состоялся такой диалог.
Следователь: — Чего это ради Вы напечатали статью о том, как был пойман Эйхман?
Я: По убеждениям я интернационалистка и антифашистка.
Следователь: Стыдитесь! Русская княжна — и возвышаете евреев. Может быть, ваша мать согрешила с евреем?
Я: Все возможно. Только сама женщина знает, от кого она, носит под сердцем ребенка.
Следователь: — Вы мне не дурите, а говорите правду! За что это вы любите евреев?
Я: За то, что у меня с ними одна судьба: еврей не виноват, что родился от еврея, а я не виновата, что родилась от князя..
Тут следователь совершенно озверел и заорал на меня, стукнув по столу кулаком: "А для нас такие, как вы, хуже евреев!
220
Мы таких зовем — "ж и д о в с т в у ю щ и е!" и с этим выкриком он, нажав кнопку звонка, уже прошипел сквозь зубы "Обратно... в одиночку".
Евреи — многовековой народ. Они дали миру Библию, от которой пошли как культура, так и религии. И ясно, что ни один верующий человек не может быть антисемитом...
С глубоким уважением — Е. Мещерская»1.
Этот удивительный документ нуждается в комментариях. Человек, безусловно, достойный и мужественный, Екатерина Александровна Мещерская желаемое выдает за действительное. Русская аристократия была в достаточной степени антисемитски настроена. Сошлемся хотя бы на воспоминания великого князя Александра Михайловича (1866-1933). Он говорит о религиозном антисемитизме, процветавшем в царской семье, более того, он говорит о ксенофобии. Уже находясь в эмиграции, пройдя очень сложный духовный путь, он, отдадим ему честь, мужественно пишет о своем прошлом: «Стараясь быть честным с собой самим, я пришел к заключению, что мой духовный актив был отягощен странным избытком ненависти. Ненависти к личностям и даже к целым нациям. Я старался освободиться от первой... Но этой ненависти я долго преодолеть не мог. Не моя вина была, что я ненавидел евреев, поляков, шведов, немцев, англичан и французов. Я осуждал православную церковь и доктрину официального патриотизма, которая вбивалась в мою голову в течение девятнадцати лет учения, — за мою неспособность относиться дружелюбно ко всем этим национальностям, не причинившим мне лично никакого зла.
До того, как войти в общение с официальной церковью, слово "еврей" вызывало в моем сознании облик старого, улыбавшегося человека, который приносил к нам во дворец в Тифлисе кур, уток и всякую живность. Я испытывал искреннюю симпатию к его доброму, покрытому морщинами лицу, и не мог допустить мысли, что его праотец был Иуда. Но мой законоучитель ежедневно рассказывал мне о страданиях Христа. Он портил мое детское воображение, и ему удалось добиться того, что я видел в каждом еврее убийцу и мучителя. Мои робкие попытки ссылаться на Нагорную Проповедь с нетерпением отвергались: "Да, Христос заповедовал нам любить наших врагов", говаривал о. Георгий Титов: "но это не должно менять наши взгляды в отношении евреев". Бедный о. Титов! Он неумело старался подражать князьям церкви, которые в течение восемнадцати веков проповедовали антисемитизм с высоты церковных кафедр. Католики, англиканцы, методисты,
221
баптисты и другие вероисповедания одинаково способствовали насаждению религиозной нетерпимости, и равным образом, антисемитское законодательство России почерпало главные свои основы в умонастроении высших иерархов православной церкви. В действительности евреи начали страдать от преследований в России с момента прихода к власти людей, слепое повиновение которых велением церкви оказалось сильнее понимания ими духа Великой империи»2.
Великий князь, пытаясь найти опору в славном прошлом России, в качестве примера веротерпимости приводит слова Николая I, будто бы начертанные на всеподданнейшем докладе русских иерархов, требовавших правовых ограничений для евреев: "Император Всероссийский не может делать различия между своими подданными не евреями и евреями — ...он печется о благе своих верноподданных и наказывает предателей"3. О том, что эта филиппика принадлежит Николаю I, можно догадаться лишь по концовке фразы — угрозы предателям. В качестве примера веротерпимости можно привести Именной императорский указ, объявленный Командующему отдельным корпусом внутренней стражи Дежурным Генералам Главного Штаба (1843 г.), гласящий следующее: "Государь Император Высочайше повелеть соизволил: находящихся в подвижных инвалидных № 2 и 3 ротах и в мастеровой роте Императорских Дворцов девятнадцать человек нижних чинов из Евреев, исключив из сих рот, заменив нижними чинами Православного исповедания, и на будущее время в помянутые роты нижних чинов из Евреев не назначать"4. Неужели Александр Михайлович, брат знаменитого историка Николая Михайловича, ничего не знал об антиеврейских делах своего деда? Знал, конечно, но ничего более положительного в последующих царствованиях, видимо, не находил.
Здесь уместно сказать несколько слов в адрес "Михайловичей", самой талантливой ветви рода Романовых. Реформатор русского флота и создатель русской военной авиации и его брат, либеральный историк, по-видимому, имели по материнской линии деда-еврея. Во всяком случае, несколько независимых свидетелей сообщают, что настоящим отцом матери великих князей принцессы Баденской Ольги Федоровны был банкир из Карлсруэ некий Габер. Антисемитски настроенный Александр III в интимном кругу называл великую княгиню тетушкой Haber, а ее детей "...зонами". Тот же источник говорит не только о семитской внешности принцессы и ее детей, но и о том, что они все были очень красивы ("Великий князь Александр Михайлович был очень красивый молодой человек; он до сих пор красивый мужчина, несколько еврейского, хотя
222
и красивого типа"). Этот источник — С.Ю. Витте, который наряду с этим отметил наличие у Александра Михайловича отрицательных сторон еврейского характера5.
Александр Бенуа в своих воспоминаниях пишет: "...в этом же году произошло мое сближение с самым культурным и самым умным из всей царской фамилии — с в. к. Николаем Михайловичем ...находили в нем сходство с евреем, что объяснялось тем, что, как говорила придворная молва, его настоящим дедом был банкир Габерт"6. Его прадедом, вероятнее всего, был Соломон Габер (1760-1840), крупный банкир и фабрикант, родился в Бреславле, умер в Карлсруэ; дедом мог быть его сын барон Луи фон Габер или его брат7.
Если мы начнем рассматривать отношение к еврейству высших кругов России, скажем, начиная с Ивана Грозного, то в общем линия была вполне антииудаистской. Конечно, история России наполнена всевозможными ужасами и преступлениями, в первую очередь направленными против собственного народа:
Книга... Открываю:
"Бытопись российская..."
Ну, тебя я знаю,
Знаю, степь Ливийская!
Где тебя не вскрою,
Книга безотрадная —
Всюду предо мною
Та же жизнь нескладная.
Ширина основы,
Нищета развития...
Мрачны и суровы
Люди и события...
Хитрые обманы,
Злостные насилия.
Грозные Иваны,
Темные Василии... 8
С этой точки зрения, между погромами, осуществленными Иваном III и Иваном IV в Новгороде, и массовым убийством евреев в Полоцке тем же Иваном IV (их топили подо льдом) — нет разницы. Данило Лукич Мордовцев, о котором мы еще поговорим, опираясь на летописи, писал о гибели Новгорода: «...московские люди и татары, рассеявшись загонами по новгородской земле, жгли и пустошили ее, "убивая всяк мужеск пол", оскверняя "женское естество" и — что покрасивее, поблагообразнее — уводя в полон, а "ссущих младенцев", расшибая головенками о пни, камни, косяки, приворотные столбы или живьем вметая в горящие избы, сараи, овины» 9. (У кого
223
есть мужество, может прочитать и несколько следующих страниц — у меня нет сил их приводить. — С. Д.) Эти страшные страницы как две капли воды напоминают еврейские респонсы об убийствах в Полоцке. Один из современников писал о Иване IV: "Как ни был он жесток и неистов, однако же не преследовал и ненавидел за веру никого кроме жидов, которые не хотели креститься и исповедовать Христа: он их либо сжигал живых, либо вешал и бросал в воду. Потому что он обыкновенно говорил, что никакой царь, князь или король не должен доверять этим людям или щадить тех, которые предали и убили Спасителя мира"10. Таким образом, как те, так и другие преступления освящены именем государя.
В то же время личные отношения царя Алексея Михайловича с евреями (крещеными) были вполне дружественны. Его любимый дьяк, "хранитель печати" и "канцлер", как называли его иностранцы, Алмаз Иванов — еврей родом из Новгорода; близкий друг царя врач Данило Гаден (убитый впоследствии во время стрелецкого бунта) крещен был лишь формально, и царь, вероятно, знал об этом. Но государственная политика была однозначна — пленных польских евреев принуждали к крещению, желая пополнить техническими кадрами будущую европеизированную армию. И, самое главное, евреям запрещалось жить в пределах Московского государства.
При Петре I недостаток специалистов был решающим фактором при приеме иностранцев на русскую службу, и Петр добился от Синода разрешения на браки православных с иноверцами. Движущей силой была именно "скудота в начальных людях". В 1702 г. был опубликован манифест о вызове иностранцев в Россию, где провозглашалось "свободное отправление веры всех, хотя от нашей церкви отделенных, христианских сектов"11. Но это касалось лишь христиан, евреев в этом списке нет. Крестившийся еврей — да, он сразу мог войти в элиту общества, если обладал способностями, как П.П. Шафиров. Мещерская допускает несколько ошибок, приводя пример Петра Павловича. Самая распространенная ошибка, идущая из западных источников, — миф о голландском происхождении петровского сподвижника12.
На самом деле Шафиров — смоленский еврей и уж конечно никогда не был корабельным мастером. В то время не существовало расового антисемитизма. Обращаем внимание на некоторую условность: "антисемитизм" — термин XIX в. Посему лучшие роды России стремились породниться с "сильненьким" и "богатеньким" Шафировым. И действительно, пять дочерей вице-канцлера повыходили замуж за Рюриковичей (Долгорукие, Гагарины), Гедиминовичей (Хованские) и за
224
потомков достаточно древних родов Салтыковых (XIII в) и Головиных (XIV в.). Московская иерархия ставила Рюриковичей на первое место, чуть ниже — Гедиминовичи — роды более древние, чем Романовы. Вот тут-то уважаемая кн. Мещерская и привела примеры филосемитства, исходящего от потомков дочерей Шафирова. По закону совпадения сама Екатерина Александровна — потомок Марфы Петровны Долгоруковой, урожденной Шафировой. И по тому же закону совпадения граф (а не барон, как пишет Мещерская) Сергей Юльевич Витте — тоже потомок Шафирова по той же самой линии Долгоруковой13. Для удобства читателей привожу также генеалогическое дерево потомков Шафирова. Что же касается С.Ю. Витте, то к огорчению "последнего" министра (в некотором роде он действительно последний настоящий министр), его никогда не принимали при дворе — ни при благоволящем к нему Александре III, ни при его сыне — Николае II. Супругов Витте принимали лишь в интимном кругу вдовствующей императрицы Марии Федоровны...
Возвращаясь в царствование Петра I, можно указать на большую веротерпимость Петра Алексеевича, но все же есть несколько примеров его бытового антисемитизма. Например, на одной ассамблее он пытался споить дочь Шафирова — Анну Петровну, а когда та резко отказалась, воскликнул: «"Злая жидовская порода, я научу тебя слушаться" и подкрепил восклицание двумя увесистыми пощечинами»14.
Впрочем, при всей хваленой веротерпимости допустить евреев в Россию Петр I не пожелал, о чем рассказывается в известном историческом анекдоте, относящемся ко времени пребывания царя в Голландии: «Жиды обратились к любимцу Государя, известному Витзену, и просили его, чтобы он исходатайствовал им позволение селиться в России, заводить купеческие конторы и вести торговлю наравне с другими иностранцами. Они сулили громадные выгоды России от посредничества в торговле и обещали в благодарность поднести Государю на первый случай сто тысяч гульденов. Витзен согласился и передал Государю просьбу жидов. Петр выслушал ее и отвечал, улыбаясь: "Вы знаете жидов, знаете и русских. Я также хорошо знаю тех и других, что касается первых, то еще не время позволить жидам селиться в моем государстве. Скажите им от моего имени, что я благодарю их за предложение, но мне бы пришлось бы жалеть их, если бы они поселились в России: потому что хоть и говорят, что жиды в торговле всех надувают, но не думаю, чтобы они провели моих русских»15. С другой стороны, Петр Алексеевич был не прочь получить добротный человеческий материал, естественно, предваритель-
225
но его крестив. Польскому королю Августу он говорил: "Дай мне жидовских мальчиков, не достигших 10-ти лет, и я сделаю из них наилучших русских"16.
Но и позже, на процессе Петра Шафирова, неожиданно возник еврейский вопрос — доносители указывали на сокрытие им своего еврейского происхождения, а также на связи, существовавшие у него с некрещеными родственниками: "Михайло Шафиров (брат Петра Павловича. — С. Д.) не иноземец, но жидовской породы, холопа боярского прозванием Шаюшки сын, а отец Шаюшкин был в Орше у школьника (по-видимому, имеется в виду меламед. — С. Д.) шафором, которого родственник и ныне обретается в Орше, жид Зельман"17.
Ведший следствие П.И. Ягужинский писал кабинет-секретарю А.В. Макарову о том, что Г.Г. Скорняков-Писарев, находясь в ссоре с Шафировым, написал в предложении своем: "жидовского рода и отца их холопа боярского Шанявку знал (выделено Ягужинским. — С. Д.). Я надеюсь, что такая моей апробации не может иметь: ибо тогда, милостью государевой однажды уже кто посвящен прежние все низости и малородства тем покрыты..."18
У генерал-прокурора Сената, генерал-аншефа, обер-штальмейстера и кабинет-министра Павла Ивановича Ягужинского была особая причина не вводить "еврейский мотив" в дело Шафирова. "Око государево" и, пожалуй, единственный неподкупный человек в петровском окружении, по мнению писателя Данилы Лукича Мордовцева, был сам еврейского происхождения19.
Можно привести множество примеров веротерпимости Петра I, например, не отдавшего в руки гетмана Мазепы выкреста Яценко (Яковлева), доставившего донос Кочубея и Искры в Москву. Есть собственноручная запись Петра, из которой явствует, что венценосец прекрасно знал, что ожидает на Украине доносителя, но царь нашел юридический казус, чтобы оставить последнего в Москве. Да, петровское окружение, вполне космополитичное, имело большой еврейский компонент, но повторимся: все это были люди крещеные. Вот примерный и неполный список этого окружения: вышеупомянутый П.П. Шафиров и его брат Михайло Петрович, крупный чиновник — советник коммерц- и берг-коллегий, переводчик с латинского; П.И. Ягужинский; четыре брата Веселовские — Абрам, Исаак, Федор и Яков; племянники Шафирова (или двоюродные братья) — все дипломаты; баронский род Соловьевых, банкиры; основатель банкирского дома в Амстердаме Осип Алексеевич Соловьев, начавший свою карьеру дворецким у Меньшикова; граф Антон Де-Виер, первый генерал -
226
Генеалогическая таблица рода Шафировых
(глава рода барон Петр Павлович Шафиров, сподвижник Петра I)
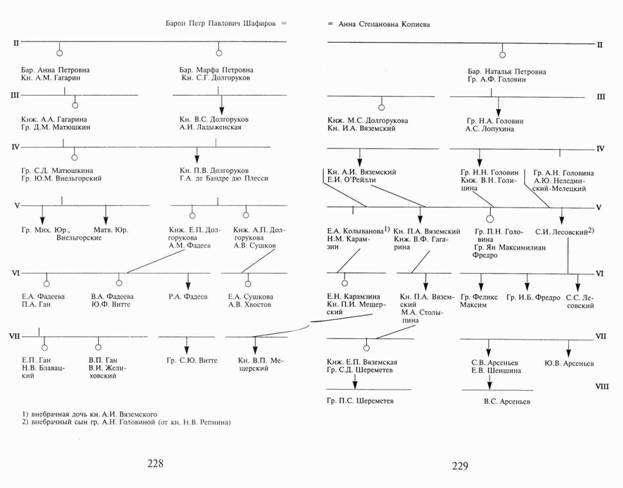
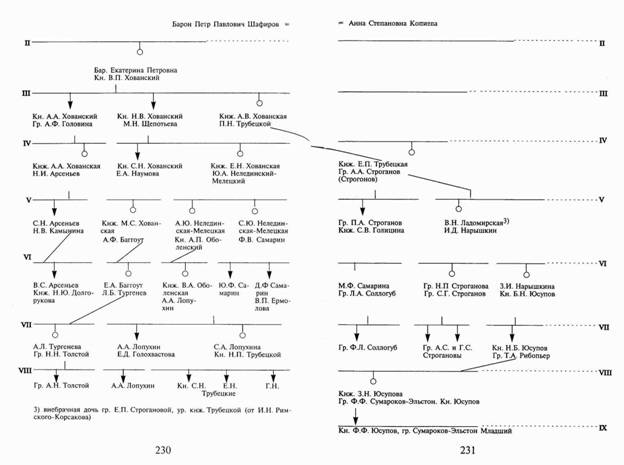
губернатор Петербурга и придворный шут Д. Акоста — оба по происхождению мараны; Аршеневские, тоже, как и Шафировы, родом смоляне, выдвинувшиеся на военном поприще; "камердинер Петра Великого, Петр Вульф, жидовского происхождения, быв гвардии офицером, пожалован в тайные советники"20. Петр Вульф, сын Гаврилы Петровича, "иноземца", дослужившего до чина полковника (1701 г.). Внук Петра Гавриловича Николай Иванович и все его семейство — дружило с А. Пушкиным (через Ганнибалов они были свойственники).
В царствование Анны Иоанновны произошло сожжение отпавшего в иудаизм поручика Возницына, о чем мы писали выше.
Дочь Петра Великого Елизавета Петровна прославилась знаменитой резолюцией на докладе Сената от 16 декабря 1743 г. о разрешении въезда купцов: "От врагов Христовых не желаю интересной прибыли". Этому предшествовал указ о высылке евреев из России от 2 декабря 1742 г. Безусловно, и указ и резолюция носят сугубо религиозный (антииудаистский) характер21.
Резолюция не утратила своего значения и после смерти Елизаветы Петровны. Царствование Екатерины Великой началось с заседания Сената, где обсуждался проект разрешения въезда в Россию евреев. Либеральная и просвещенная монархиня откровенно объяснила в своих записках причины, побудившие ее отложить решение вопроса, в первую очередь из-за страха задеть религиозные чувства народа. Обратим внимание, что Сенат единогласно стоял за положительное разрешение, но когда Екатерине показали резолюцию покойной императрицы, колебаниям пришел конец — придя к власти на волне защиты православия и имея дело с фанатичным духовенством, она поняла, что это было единственно правильным в данных условиях22. Хорошо известна история раздела Польши, когда Россия получила "в наследство" несколько миллионов евреев. Екатерина же установила и "черту оседлости", значение которой очевидно. Но тайно Екатерина помогала евреям и использовала их дарования. Безусловной ее заслугой следует считать уничтожение в государственной прессе и документах презрительного слова "жид", но даже это не было сделано явно: просто начиная с именного указа, объявленного 10 марта 1785 г. (подписан 8 февраля этого же года), стало употребляться слово "еврей". В письме к французскому философу Дени Дидро императрица не стесняясь пишет, что евреи живут и в ее дворце, у ее духовника, но она делает вид, что ничего об этом не знает...
По-видимому, священником, принимавшим евреев, был Михаил Самуилов (умер в 1818 г.), придворный протоиерей,
232
переведший на русский язык "Историю Ветхого и Нового Завета" и "Иосифа Флавия древности иудейския" (СПб.,1779-1783;2-е изд.,1795).
Из последующих правителей России интерес для нас представляет фигура императора Александра I. Будучи от природы весьма "добрым" человеком, он относился благожелательно и к еврейству. Я употребил слово "добрый", так сказать, не научный термин, но если бы мне предложили охарактеризовать разницу в характерах между двумя братьями — Александром Павловичем и Николаем Павловичем, я бы остановился на определениях "добрый" и "злой" — и это было бы наиболее точным. Приведем несколько примеров. Движимый любопытством, Александр неоднократно посещал еврейские синагоги, он встречался даже с Евой Франк, дочерью знаменитого апостата Франка (основателя секты "франкистов"). Главными поставщиками армии в кампании 1812 г. были евреи. Несмотря на их еврейское происхождение, царь выдвигал министра финансов Е.Ф. Канкрина (по преданию, внук раввина Кан-Крейна) и будущего канцлера К.В. Нессельроде (мать еврейка, принявшая протестантизм. По новейшим исследованием, и отец Карла Васильевича был еврейского происхождения). Но если эти действия можно соотнести с государственной необходимостью — евреи активно помогали России в борьбе с Наполеоном, то есть и другой факт, просто удивительный. Император Александр Павлович, человек изысканной европейской культуры, обожал ...еврейскую кухню. Об этом существует трогательный рассказ. Некий Давид Дынин содержал почтовую станцию в Орше Витебской губернии — центральное место по сообщению между четырьмя "столицами" империи — Петербургом, Москвой, Киевом и Варшавой. Содержание почтовой станции в таком месте являлось свидетельством полного доверия правительства к ее смотрителю. Александр I при частых поездках через Оршу ("кочующий деспот") любил приходить в дом почтодержателя Дынина, для того чтобы отведать еврейской кухни. Иногда ему было некогда, но он ни разу не пропускал случая насладиться кошерной пищей: тогда на дом к Дынину посылались адъютанты, которые с полными судками пробирались по доскам, проложенным посреди улиц, покрытых непролазной грязью...23 Этот Дынин был тестем барона Евзеля Гинзбурга. Конечно, кулинарные пристрастия — это дело вкуса, но все же... Известный антисемит С.С. Окрейц, всячески очерняя еврейский народ, добрался и до еврейской кухни. Волею обстоятельств Станислав Станиславович (А.П. Чехов его прозвал Юдофоб Юдофобович) побывал в доме Любавичского раввина, где ему предложили откушать: "В сто-
233
ловой мне предложен был завтрак. Мне очень хотелось есть, но воспользоваться предложенными явствами не было возможности: стояло блюдо щуки, приготовленной с шафраном и перцем, цимес (брюква, тоже с перцем и луком), кугель (запеченная лапша); стояли бутылки вин с золочеными ярлыками, но с содержимым, нимало не напоминающим виноградный сок, а скорее спирт и тот ром, который никогда не видел Ямайки. Было много варений, и между ними редька, варенная на меду... Довольно противное лакомство"24. Конечно, русская пословица гласит: "На вкус и цвет товарищей нет". Но при известном усилии можно охаять любую национальную кухню. Или наоборот — возвеличить. С.М. Михоэлс называл это "гастрономическим патриотизмом"25.
Однако вернемся к Александру I и его брату Николаю I. Трудно себе вообразить Николая Павловича, вкушающего хлеб-соль в еврейском доме. Он даже видеть евреев не мог. Исторический факт: когда в августе 1840 г. государь объезжал Западный край, царь остановился в Брест-Литовске. При осмотре валов крепости Николай увидел большую толпу любопытствующих евреев, что было естественно, ведь не каждый день император бывал в их городе. Реакция высшей инстанции была мгновенной. Обратившись к виленскому генерал-губернатору Ф.Я. Мирковичу, сопровождавшего его, Николай спросил: "Чем они живут? Надо непременно придумать, что с ними делать, и этим тунеядцам дать работу. Мне надо их выселить отсюда". Сказано — сделано, и евреев стали выселять из города. Во время того же посещения Брест-Литовска он еще дважды высказывался враждебно по отношению к евреям, в том числе уверенно утверждал, что "жиды" кого угодно подкупят26.
Еврейский историк С.М. Дубнов не без сарказма назвал это царствование "военно-исправительная система Николая I". И действительно, ничего хорошего, кроме многочисленных "гзейрес" (напастей), еврейский народ при нем не испытал. Еще в 1816 г., совершая образовательное путешествие по России, он писал в путевом журнале о "жидах", изнуряющих несчастный народ: "Они настоящие пиявицы, всюду всасывающиеся и совершенно истощающие несчастные сии губернии"27. Будет справедливо добавить, что он с удивлением отметил преданность евреев России во времена наполеоновского нашествия. Но если вспомнить систему воспитания, которой подвергались царственные отпрыски (великий князь Александр Михайлович не исключение), то это не удивительно. Вместе с тем, если воспитатели (или, по крайней мере, главные из них) — Лагарп у Александра I, Василий Андреевич
234
Жуковский у Александра II — сумели привить своим ученикам либеральные или просто гуманистические идеи, то и результаты были налицо: ни у Александра Павловича, ни у его племянника Александра Николаевича таких зоологических идей в отношении евреев не проявлялось, да и вообще они не страдали ксенофобией. У Александра Освободителя наметилась и тенденция юридического решения еврейского вопроса. Он освободил евреев (и не евреев) от страшной воинской повинности, ликвидировав кантонистскую службу, а следовательно, остановил вал насильственного крещения. И значительно расширил "черту оседлости" для некоторых слоев еврейского общества: для купцов 1-й и 2-й гильдий, для людей с высшим образованием. При нем присваивались офицерские чины евреям-врачам, и даже были редчайшие случаи присвоения офицерского звания некрещеным евреям. Но кардинального решения еврейского вопроса не последовало. В нашу задачу отнюдь не входит детальный анализ положения евреев в Российской империи. Мы исследуем в данном случае лишь частную сферу, бытовое отношение аристократии к евреям и еврейству. И в этом отношении Александр II был безукоризнен. Достаточно вспомнить историю возвышения скульптора Мордухая Антокольского. Его покровительница, великая княгиня Мария Николаевна (одно из редчайших и благороднейших созданий — тот случай, когда следует согласиться с кн. Мещерской; Марии Николаевне посвятил восторженную статью А.Ф. Кони) заказала у скульптора эскиз "Нападение Инквизиции на евреев" и уговорила своего царственного брата посетить мастерскую Антокольского в Академии художеств. Эффект превзошел все ожидания. Государь сразу оценил гений скульптора, составившего славу его царствования. (Впрочем, в воспоминаниях И.Е. Репина эпизод посещения скульптора Александром II выглядит по-иному: «...Александр II посетил мастерскую Антокольского, где был "Иоанн Грозный". Пришел, взглянул минуту, спросил:
— Какого вероисповедания?
— Еврей.
— Откуда?
— Из Вильны, Ваше Величество.
— По месту и кличка.
И вышел из комнаты. Больше ни звука»28.
Посему, переходя к следующему царствованию, следует отметить важнейшую деталь — будущий Александр III стал наследником после смерти своего старшего брата Николая Александровича (1843-1865), которого воспитывала целая плеяда талантливых ученых (К.Д. Кавелин, М.М. Стасюлевич,
235
Я.К. Грот и др.). И один из его преподавателей говорил, что с его смертью умерли надежды миллионов людей, "умирал идеал высокого, справедливого, благородного"29.
Существует обширная литература о личности Александра III — с самыми разнообразными характеристиками, от чрезмерного восхваления (С.Ю. Витте, вел. кн. Александр Михайлович) до абсолютного отрицания каких-либо достоинств. Обратимся к трудам историка, хорошо знавшего это время и по возможности объективно исследовавшего его. Мы говорим о работах П.А. Зайончковского. По отзывам своих воспитателей, приведенных Зайончковским, в отличие от старшего брата Николая, Александр не отличался широтой интересов. "Тупость и упрямство", обнаруженные еще в детстве, сохранились до конца его дней30. В воспоминаниях Е.М. Феоктистова (человека правых взглядов, начальника главного управления по делам печати и относящегося к государю весьма положительно) встречаем следующую фразу: "Нельзя отрицать, что в интеллектуальном отношении государь представлял весьма незначительную величину. Плоть уж чересчур преобладала над духом"31. Остановимся на анализе царствования Александра III, сделанном М.Т. Лорис-Меликовым ("прелестным, сердечным и оклеветанным человеком", по выражению А.Ф. Кони), который назвал собравшихся у трона славянофилов "своекорыстной сволочью": "Я говорил новому государю: Под знаменем Москвы вы не соберете всей России: всегда будут обиженные... Разверните штандарт империи, — и всем найдется равное место". И далее Михаил Тариелевич говорит пророческие слова: «Погромы евреев, цыган и "шелапутов"... — предвестники ряда будущих безобразных и диких бунтов. Гораздо, однако, опаснее возможность разложения на составные части России. Прежние государи это понимали и щадили окраины. Современное московское направление все гнет и равняет под одно — и этим только вредит. Я лично люблю Россию в ее целом, во всей огромности, такую, какою создавал ее Петр. Но он не дразнил отдельных национальностей, не навязывал им православия. Да и где сознательные бойцы за православие? Один, другой... а все остальные — или невежество или корыстолюбие. А связь частей в России еще очень слаба. И Поволжье, и Войско Донское очень мало тянут к Москве. Особенно мне жаль Кавказа, если он отпадет»32.
Естественно, и по еврейскому вопросу взгляды императора носили примитивный антииудаистский религиозный характер, заставлявший не раз вспоминать о. Титова в воспоминаниях Александра Михайловича. Он буквально понимал евангельские тексты — евреи Богом проклятый народ, ибо они "распяли
236
Христа. П.А. Зайончковский приводит свидетельство того же Феоктистова, видевшего резолюцию государя на прошении барона Гинзбурга, ходатайствовавшего об улучшение быта евреев в 1890 г.: "... что если судьба их (евреев. - С. Д.) печальна, то она предначертана евангелием". Историк добавляет, что в силу религиозности Александр III был антисемитом33. Выше мы приводили юдофобские "шутки" государя в адрес своей тетки и двоюродных братьев. Как известно, после убийства Александра II на юге происходили погромы, которые были подавлены властью. Варшавскому генерал-губернатору И.В. Гурко царь заявил по поводу погромов: "В глубине души я всегда рад, когда бьют евреев. И все-таки не надо допускать этого"34. Последнее совершенно ясно: погром — это нарушение порядка, это дестабилизация, следовательно, его следует прекратить. Мы знаем, что и при Александре II революционеры, по крайней мере, часть народовольцев, занимались антисемитской пропагандой, чтобы расшатать власть. Здравый смысл или инстинкт самосохранения подсказал императору, как действовать. Этот инстинкт отказал его наследнику.
Антисемитская политика Александра III не украшала лица империи. К.П. Победоносцев решился написать императору письмо, где иносказательно советовал монарху посетить "исторические концерты" А. Рубинштейна для того, чтобы успокоить общественное мнение на Западе. Вот это письмо в выдержках:
"Не прогневайтесь, Ваше императорское величество, за настоящее писание, коим являюсь беспокоить Вас.
В настоящее время даются здесь по субботам, в зале дворянского собрания, и приходят уже к концу, исторические концерты Рубинштейна. Они составляют событие в музыкальном мире целой Европы. Прошлой осенью и зимой эти концерты происходили уже в Берлине и в Вене и возбудили всеобщий восторг и удивление. И в Берлине, и в Вене все сословия общества, начиная с членов царствующего дома, принимали живое участие в этом деле. В Вене, по окончанию концертов, устроен был Рубинштейну праздник, в коем приняли участие многие из эрцгерцогов и герцогинь Кумберландских.
Несомненно, что в настоящую минуту Антон Рубинштейн есть первая величина и первый авторитет в музыке, и после смерти Вагнера не имеет себе равного. В музыкальной технике, в совершенстве исполнения, никто, по общему сознанию, не достигал такой полноты и такой силы. Имя его популярно в Европе и в Америке; где он ни появится, около него собираются первые таланты в музыке, в искусстве, в литературе, с сочувствием и с уважением к его таланту.
237
Приятно думать, что этот художник, в своем роде господствующий, принадлежит России. По рождению своему, по воспитанию, по семейным и общественным связям и отношениям, по привычкам и образу жизни — Антон Рубинштейн русский, и остается в России, несмотря на блестящие предложения, которые не раз делались ему за границей.
Кроме того, он человек образованный и благородного сердца, в чем все отдают ему справедливость. Во всех больших городах, где давал он концерты, немалое сочувствие привлекал он тем, что, несмотря на труд, которого стоит ему продолжительное и энергическое исполнение, он повторяет каждый из своих концертов даром для учеников и учениц консерваторий и музыкальных классов. То же делает он теперь и в Москве, и в Петербурге.
Антон Рубинштейн уже стар, силы его ослабевают. По всей вероятности, и жить ему уже недолго, и настоящие концерты будут едва ли не лебединою для него песнью.
Самого Рубинштейна я видаю очень редко и случайно, на концерты его не езжу (нет для того времени и сил), и не о нем теперь забочусь (курсив мой. — С. Д.)...
Но мне кажется, что достойно и праведно было бы и вполне отвечало бы достоинству верховной власти, в смысле покровительства искусству, если бы Ваше императорское величество и государыня императрица удостоили Вашим присутствием один из этих концертов Рубинштейна, показав тем внимание к имени русского художника, знаменитому по всей Европе. Я знаю, что многие, коим дорого русское искусство, будут до глубины души обрадованы таким знаком Вашего внимания...
6 февраля 1886 г. Константин Победоносцев».
Этот потрясающий документ вполне может вписаться в интересующую нас тему, но в данном конкретном случае, принадлежа перу мракобеса (слова А. Блока о Победоносцеве стали общим местом), они более касаются личности его сюзерена. Главное, ради чего это написано, ясно выражено в словах, где говорится, что он печется отнюдь не о Рубинштейне, а о реноме высшей власти. Ради этого он дает блестящий очерк творчества и успеха пианиста, напирая на то, что высшая аристократия Запада, коронованные особы, благоволят художнику. Далее опытный царедворец говорит о русском художнике Рубинштейне, о его патриотизме, избегая выражения "крещеный еврей". Обязательно подчеркивает бескорыстие мастера, как бы оттеняя ставшее общим местом суждения о стяжательстве семитского племени. Победоносцев прибегает к чувству жалости — мастер болен и жить ему осталось недолго. И, на-
238
конец, объясняет Александру III, почему он с женой должен посетить концерт — этого требует престиж высшей власти. Когда говорят об иезуитстве Константина Петровича — трудно найти лучший пример. Письмо должно быть отправлено но собственноручная запись на письме гласит: "Предполагалось, но по зрелом обсуждении не отправлено". Что же остановило Победоносцева? Ответ естествен — страх попасть в немилость из-за зоологического антисемитизма царя...
Существует масса анекдотов о юдофобии монарха, где правда перемешана с вымыслом. Но анекдот точен, он никогда не выходит за рамки правдоподобия, всегда соответствует психологической достоверности образа Александра III. Так, наиболее известен случай с Витте, где для решения еврейского вопроса министром было предложено гипотетически утопить в море 7 млн. подданных евреев (Витте доказывал императору невозможность насильственного решения вопроса)35. Или случай, происшедший после крушения царского поезда в Борках в 1888 г., когда чудом уцелевший император, на могучих плечах якобы поддерживавший крышу вагона, вышел наружу, перекрестился и погрозил сам себе пальцем: "И поделом тебе! Не езди на жидовских железных дорогах!" Я думаю, для беглого наброска характера венценосца — этого достаточно. А ведь если бы великий монарх снизошел до совета по поводу женитьбы наследника с любым раввином своей обширной империи (кстати, примеры советов с участием духовных лиц различных конфессий по столь важным проблемам Европа знала), он мог получить совершенно аргументированный ответ: нельзя жениться на внучке королевы Виктории. Дело в том, что за четыре тысячи лет до открытия Грегора Менделя еврейство знало о гемофилии: в семьях, где были больные, мальчикам не делали обрезания!
Сын Александра III, Николай II, в царствование которого погибла династия, не мог отрешиться от юдофобии. Перечень несчастий, обрушившихся на страну, начинается прямо с коронации — Ходынское поле унесло множество жизней (никогда не было и не могло быть точных данных о погибших из-за приехавших из соседних деревень или даже губерний. Обычно называют число в несколько сот человек, Александр Михайлович называет страшную цифру — 5 тыс. человек!). Затем несчастная русско-японская война, первая русская революция, наконец, мировая война, одним из виновников которой был самодержец. За время его царствования евреи пережили погромы — от Кишиневского до погромов во время первой мировой войны, когда жертвы исчислялись уже не десятками, а тысячами; к этому прибавилось дело Бейлиса. После революции с
239
очевидностью выяснилась причастность высшей администрации и самого царя к ритуальному процессу. История давно поставила 25-летнему царствованию соответствующую оценку, но в наше, постперестроечное время, есть силы, пытающиеся провести ревизию прошлому под лозунгом "Россия, которую мы потеряли". Не желая вступать в бесполезную дискуссию, прибегну к аргументации двух талантливых публицистов правого лагеря — М.О. Меньшикова и В.В. Розанова. В "Новом времени" от 18 марта 1917 г. Меньшиков в статье "Кто кому изменил" писал: "Все стихии народа русского отшатнулись от монархии, почувствовав в ней народную гибель. Монарх царствовал не на славу нам, а на бесславие, не на страх врагам, а на наш собственный страх. Мы должны быть благодарны судьбе, что столетия изменявшая народу монархия, наконец, изменила себе и сама над собой поставила крест. Откапывать ее из-под креста и заводить великий раздор о кандидатах на рухнувший престол было бы, по-моему, роковой ошибкой".
В той же газете ("Новое время" от 8 марта 1917 г.) другой столп правого лагеря В. Розанов писал: "Все царствование было печально. И даже не печально, а неудачно. Неудача бы ничего. Было упорство в неудаче. И вот это была настоящая беда. Наконец, была безжалостность к стране, к населению. Россия не живодерня..." Может показаться, что это написано по горячим следам павшей монархии, где многое утрировано. Страшные слова. Но они подтверждаются беспощадными воспоминаниями Сергея Ефимовича Крыжановского, бывшего в 1906—1911 гг. товарищем министра внутренних дел, а затем государственным секретарем, человека правых убеждений. О себе он в третьем лице пишет: "Стойкий националист и по убеждениям, и по семейным традициям, верный слуга Престола, в котором он видел единственно возможную в современной России форму правления..."36. Воспоминания написаны уже в то время, когда страсти утихли и осталась лишь горечь по ушедшей жизни. Однажды государственному секретарю пришлось преподать урок примитивной политэкономии последней императрице, низвести царственную семью к живой и страшной действительности. Крыжановский был приглашен 5 декабря 1916 г. Александрой Федоровной на аудиенцию по разным вопросам, включавшим в том числе и обсуждение создания особого фонда для инвалидов войны. Он вспоминал: «Разговор перешел на призрение пострадавших в войне с Германией и Государыня стала с жаром говорить о своей мысли, которую она старалась проводить в Верховном Совете, о необходимости поставить дело так, чтобы все раненные и увечные были возвращены к трудовой жизни, приспособленной к
240
новым физическим условиям, с доведением их производительности до возможного максимума, и с тем, чтобы те которым трудоспособности вернуть нельзя, были помещены на дожитие в прекрасно обставленных приютах (проекты таких приютов, не помню кем составленные и одобренные Государыней, предполагали для их постройки, не считая содержания, затрату в размере более 3 000 рублей на каждого призреваемого).
Она спросила мое мнение. Мне пришлось и в этом случае возразить против столь широкой постановки дела. Мы слишком бедны — сказал я — для такой роскоши, ибо на нее никаких денег не хватит, а их у нас очень мало и без того, тем более, что после войны придется нести чудовищные расходы на возобновление разрушенного хозяйственного оборудования страны. Как ни желательно сделать все возможное для облегчения участи пострадавших от войны, но не следует увлекаться мечтами, которые нельзя осуществить.
Положение раненых и увечных надо, разумеется, скрасить, как только можно, но, в общем, их приходится, скрепя сердце, рассматривать, как людей попавших под колеса истории и скинуть со счета (курсив мой. — С. Д.), силы же и средства направить на другую, более важную для государства и более осуществимую задачу...
Государыня опять заволновалась: "Что Вы говорите, как денег нет? А контрибуция, которую мы получим! Государь дал мне слово, что вся она пойдет на то, чтобы облегчить положение пострадавших от войны, и я не позволю, хоть одну копейку из нея обратить на что либо другое!"» Крыжановский должен был сказать и следующее: "Неужели Вы верите, Государыня, что контрибуция будет?"37
Из письма Николая II матери:
"В первые дни после манифеста (17 октября 1905 г. — С. Д.) нехорошие элементы сильно подняли голову, но затем наступила сильная реакция и вся масса преданных людей воспряла.
Результат случился понятный и обыкновенный у нас: народ возмутился наглостью и дерзостью революционеров и социалистов, а так как 9/10 из них жиды, то вся злость обрушилась на тех — отсюда погромы. Поразительно, с каким единодушием и сразу это случилось во всех городах России и Сибири. В Англии, конечно, пишут, что эти беспорядки были организованы полицией, как всегда — старая басня"38. Из этого письма видна разница во взглядах на погромы между отцом (Александром III) и сыном. То, что погромы инспирировались полицией, подтверждает не только сам премьер-министр С.Ю. Витте в своих воспоминаниях, но и публикации секретных архивов полиции после революции. Так
241
что сын пишет матери неправду. Но главное не в этом — император не видит в погромах угрозы трону, то, что его отец всегда чувствовал и поэтому подавлял беспощадно. Во времена Александра III министром внутренних дел гр. М.Д. Толстым суду были преданы свыше 5 тыс. погромщиков39.
Мы остановимся на одном деле, касающемся еврейства, инициатором которого был премьер-министр России того времени Петр Аркадьевич Столыпин. Столыпин пришел к выводу, что для спасения трона следует дать евреям равноправие (о взглядах П.А. Столыпина на данную тему несколько ниже). В письме государю от 10 декабря 1906 г. он писал: "Еврейский вопрос поднят был мною потому, что, исходя из начал гражданского равноправия, дарованного манифестом 17 октября, евреи имеют законные основания домогаться полного равноправия...
Затем я думал успокоить нереволюционную часть еврейства и избавить наше законодательство от наслоений, служащих источником бесчисленных злоупотреблений.
Все это послужило основанием в обнародованном с одобрения Вашего величества правительственном сообщении объявить, что коренное решение еврейского вопроса является делом народной совести и будет разрешено Думой, до созыва которой будут отменены неоправдываемые обстоятельствами времени наиболее стеснительные ограничения.
Затем еврейский вопрос был предметом обсуждения совета министров, журнал которого и был представлен Вашему величеству, что, несмотря на полное соблюдение тайны, проникло, конечно, в прессу и в общество, ввиду участия многих лиц в составлении и печатании этой работы.
Теперь для общества и еврейства вопрос будет стоять так: совет единогласно (курсив мой. — С. Д.) высказался за отмену некоторых ограничений, но государь пожелал сохранить их"40.
Из письма следует, что, исходя из соображений здравого смысла, чтобы ослабить революционное напряжение, а также ради справедливости, Столыпин через Совет Министров единогласно проводит свое предложение. Император должен решить проблему, близкую к той, которую решала Екатерина II, когда ей подан был доклад в Сенате о допущении евреев в Россию. Мы помним, что Екатерина отложила решение вопроса из-за религиозного страха. Полтораста лет отделяет одно решение от другого. Вот ответ императора премьер-министру:
«Царское Село. 10 декабря 1906 г. Петр Аркадьевич.
Возвращаю Вам журнал по еврейскому вопросу не утвержденным.
242
Задолго до представления его мне, могу сказать и денно и нощно, я мыслил и раздумывал о нем.
Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу, — внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. Поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям.
Я знаю, Вы тоже верите, что "сердце царево в руцех Божиих".
Да будет так.
Я несу за все власти, мною поставленные, перед Богом страшную ответственность и во всякое время готов отдать Ему в том ответ...
Николай»41.
Этот роковой ответ, безусловно, подтверждает, что антисемитизм императора носил религиозный характер. Вместе с тем из текста явствует, что он не владеет эмоциями — ибо "убедительные доводы" не перевешивают фанатичности, император — раб чувства, а не факта. Нежелание разрешать насущные проблемы толкало империю в пропасть. Уроки истории для императора ничего не значили. Царь подчинялся некоему внутреннему голосу. Существует мнение, что он был глубоко верующим человек. Это неверно — Николай Александрович был суеверным человеком. Суеверие отнюдь не синоним веры. Никакого понятия о свободе воли он не имел. Откройте наугад его дневник и обнаружится не только скудость мысли, но и жестокость, скажем по отношению к нашим меньшим братьям. В дневник меланхолически записываются трофеи охоты, более напоминающие бойню: "Убил 144 фазана, всего убито 522. Фазанов 506, зайцев 16" — запись от 11 ноября 1904 г., разгар войны42. Предисловие к дневникам Николая II, цитируемым нами, написано глубоким знатоком эпохи К.Ф. Шацилло, который обратил внимание на этот чудовищный факт. Счет идет на сотни убитых животных — тогда уже вымирающих зубров, оленей, диких коз, кабанов, уток и т. п. Самое тягостное, когда за неимением другой живности расстреливаются вороны и кошки. Вот, например, красноречиво монотонная запись от 8 мая 1905 г.: "... Принял морской доклад. Гулял с Дмитрием в последний раз. Убил кошку. После чая принял князя Хилкова...". Становится понятно, почему по поводу кровавого воскресенья Лев Толстой назвал императора "Чингиз-ханом с телефоном"...
Среди отрицательных черт характера Николая П, сыгравших роковую роль в судьбе России и в его собственной, была
243
бессердечность по отношению к своим ближайшим сотрудникам, когда он не щадил их самолюбия. Все это происходило на почве самомнения или даже зависти (С.Ю. Витте, П.А. Столыпин) и распространялось даже на членов царской семьи, как, например, на Константина Константиновича43.
РОМАНОВЫ И ЕВРЕИ
Из ближайшего семейного окружения царя следует остановиться на двух фигурах, которые считаются полярными, но на самом деле обнаруживают духовное сродство по еврейскому вопросу. Мы говорим о дяде последнего царя вел. кн. Сергее Александровиче и двоюродном дяде вел. кн. Константине Константиновиче ("дядя Костя" — так называл его Николай). Прибегнем еще раз к воспоминаниям Александра Михайловича, ибо они наиболее полно охватывают последние 50 лет истории семейства Романовых. Будучи некотором образом "дважды Романовым" — внуком Николая I, да еще женатым на правнучке Николая I, монархистом до мозга костей, он тем не менее пытается быть объективным в отношении членов романовской семьи. Это — живые люди с теми или иными достоинствами и недостатками. И о себе он пишет, отнюдь не приукрашивая свое прошлое. Единственное исключение из этого правила: "Дядя Сергей — Великий Князь Сергей Александрович — сыграл роковую роль в падении Империи и был отчасти ответствен за катастрофу во время празднования коронации Николая II на Ходынском поле, в 1896 г. При всем желании отыскать хотя бы одну положительную черту в его характере, я не могу ее найти" (курсив мой. — С. Д.)44. Далее он называет его посредственным офицером, абсолютно незаслуженно командующим гвардейским полком. Совершенно невежественный в вопросах внутренней политики, не имеющий административного опыта, он был назначен на пост генерал-губернатора Москвы. "Упрямый, дерзкий, неприятный, бравирующий своими недостатками" — так характеризует его мемуарист. По понятным соображениям Александр Михайлович лишь намекает на противоестественный порок великого князя. Но Сергею Юльевичу Витте нечего стесняться: "Мои взгляды и его расходились, ибо Сергей Александрович был, с одной стороны, взглядов очень узкоконсервативных, а с другой стороны, он был религиозен, но с большим оттенком религиозного ханжества. Кроме того, его постоянно окружали несколько сравнительно молодых людей, которые с ним были особенно друж-
244
ны. Я не хочу этим сказать, что у него были какие-нибудь дурные инстинкты, но некоторая психологическая анормальность которая выражается часто в особого рода влюбленном отношении к молодым людям, у него, несомненно, была"45 А.А. Половцов писал в своем не полностью опубликованном дневнике, особо выделяя Сергея Александровича: "Если два старших брата (Александр, Алексей) имеют презрение к человечеству, то третий (Сергей) всецело пользуется презрением человечества"46.
П.А. Зайончковский без обиняков подчеркивает, что в 80-е годы Сергей Александрович, "полукретин, с крайне примитивным мышлением реакционно-шовинистического порядка", командуя лейб-гвардии Преображенским полком, "активно содействовал процветанию противоестественного порока"47. Это уголовное дело по "наследству" попало в руки молодого жандармского офицера, но на известном этапе было прекращено сверху...48
По свидетельству Витте, великий князь был ярым противником евреев. Ретроград, крайне ограниченный человек, он своей политикой довел Москву до революционного взрыва. Витте решительно утверждает, что все меры, принятые в Москве великим князем, не могли пройти через Государственный совет — иными словами, даже несовершенное законодательство Российской империи находилось в вопиющем противоречии с деяниями Сергея Александровича. Назначенный генерал-губернатором Москвы в 1891 г., он начал свою деятельность с очищения Москвы от евреев, которым якобы попустительствовал его предшественник князь Владимир Андреевич Долгоруков (1810-1891), находившийся на этой должности с 1856 г.
Старый русский барин, Рюрикович, действительно благоволил евреям. Современник называет его аристократом с ног до головы49. Мягкий, воспитанный, он сохранил некоторые либеральные взгляды времен освободительных реформ, не любил "резкостей" К.П. Победоносцева. В.А. Долгоруков поддерживал тесные отношения с семейством Поляковых, особенно с Лазарем Моисеевичем, председателем еврейской общины, и это была определенная позиция, та же, что и у близкого ему человека — Михаила Никифоровича Каткова. Это были люди правых взглядов, но лишенные тени юдофобии. Понятно, что антисемиты утверждали, что и князь, и Катков находятся на содержании евреев. Если это и так, то взяточничество процветало в прямой пропорциональной зависимости от юридического бесправия евреев. Как бы то ни было, но во главе Москвы в течение 35 лет стоял человек, не зараженный квасным пат-
245
риотизмом. Без всякого сомнения князя Владимира Андреевича Долгорукова можно отнести к аристократам духа.
Что же касается Сергея Александровича, то он начал газетную травлю старого, заслуженного человека. Статьи носили прямой доносительский характер: "Москва ожидовела", "Москва наводнена евреями", "Евреи захватили все в Москве", "Вся торговля в их руках" и т. д. Удалить Рюриковича даже брату царя было сложно, ждать смерти — некогда. Старик все понимал. Анекдот рассказывает, что нетерпеливый брат царя на балу обратился к Долгорукову: "Ах, я так люблю Москву, мне очень хотелось бы жить в Москве". Старик отпарировал: "А я, ваше императорское высочество, очень хотел бы умереть в Москве"50. Гуманный венценосец помог брату: "Кто правит в Москве? — издевательски спросил он Долгорукова, — "Вы или Поляков?" Впрочем, Александр III не мог забыть, что племянница Долгорукова была его мачехой... Старый, заслуженный человек был уволен 28 февраля 1891 г.
Из Москвы было выселено не менее 30 тыс. евреев. Вермель называет еще большую цифру — 38 тыс. Тысячи остались без приюта, слабые духом крестились, и таких было немало. Существует целая литература, рассказывающая о московской трагедии51. Мы не будем останавливаться на этом сюжете, он достаточно известен по литературе. Расскажем лишь об одном эпизоде, активным участником которого был Сергей Александрович и жертвами которого стали кантонисты-выкресты. При первом посещении Москвы великий князь зашел в Соборную церковь Христа Спасителя. Каково было его удивление, когда среди соборной прислуги, состоящей из отставных старых солдат, он обнаружил несколько лиц семитского типа. Все они были уволены. Рассказ об этом приведен, в частности, в воспоминаниях гравера Ивана Павлова52.
В эпоху нынешней "перестройки" произошли странные переоценки. Муссируются слухи, что русская православная церковь, движимая крайне реакционными силами, желает провозгласить Сергея Александровича в нарушение церковных норм и традиций — великомучеником... Комментарий из дневника следующего нашего персонажа великого князя Константина Константиновича Романова: "26 февраля 1891 г. ... Назначение Сергея всеми встречается с радостью... Сергей, хотя и мечтал когда-то о своем новом звании, как о чем-то несбыточном и недосягаемом, еще не может отдаться чувству радости: мысль о разлуке с полком его сильно огорчает..." Падишах горюет о покинутом гареме...
Константин Константинович Романов (1858—1915), K.P. — "лучший из Романовых", как его неоднократно называли, дей-
246
ствительно резко выделялся на общем фоне. Поэт драматург человек, общавшийся с Фетом, Майковым, Полонским Достоевским, Гончаровым, Стасовым, Чайковским. Его отец Константин Николаевич, был одним из основных исполнителей "великих реформ" времени Александра II. Его П.А. Зайончковский называет "идейным вождем либеральной демократии"53. Великий князь Константин Николаевич был главою морского ведомства России, генерал-адмиралом. Издаваемый его ведомством "Морской сборник" предоставлял страницы журнала Гончарову, Станюковичу, Островскому, Мельникову-Печерскому, Григоровичу и другим классикам русской литературы. Константин Константинович был талантливым поэтом и очень религиозным человеком. Для своего времени он блестяще перевел "Гамлета" Шекспира. Достойно нес обязанности президента Академии наук. В нем было развито чутье на таланты. Он первым признал гений Ивана Павлова. В 1899 г. он провел большие юбилейные торжества в честь 100-летия Пушкина. По его инициативе при Отделении русского языка и словесности Академии наук был образован разряд изящной словесности. Первыми академиками стали люди разных политических позиций (что делает честь К.Р.): Л.Н. Толстой, А.Ф. Кони, А.П. Чехов, В.Г. Короленко, К.А. Арсеньев, А.А. Голенищев-Кутузов, П.Д. Боборыкин и другие. Конечно, в его деятельности на посту главы Академии не все было однозначно. Такова история с аннулированием избрания в академики М. Горького. "На дух" великий князь не переносил творчество Валерия Брюсова. Но, к его чести, он никогда сам не искал "приключений". Прекрасно понимал, например, что из себя представляют взгляды К.П. Победоносцева. В своем дневнике от 10 января 1910 г. он сделал запись по поводу заседания Академии наук по вопросу изменения календаря. "Пока Победоносцев был обер-прокурором Синода, нечего было и думать двинуть это дело: он на всякое новое дело отзывался отказом"54. Был, безусловно, не лишен чувства юмора. Однажды В.В. Стасов похвалил его стихи. Не без самоиронии он записал в дневнике от 3 декабря 1886 г.: "Кажется, он нашего брата — великого князя, вообще считает ни к чему не способным, и радуется, когда из нашей среды выходит какой-нибудь труд"55.
Сам Константин Константинович считал себя поэтом. Он находился в переписке с Фетом, возлагавшим на него надежды, которые не вполне оправдались. В общем дарование К.Р. было скромным. Авторы предисловий послеперестроечных изданий великого князя жалуются на дискриминацию, замалчивание и даже на шельмование его творчества. Это лишь от-
247
части верно. К.Р. было предоставлено "элитарное место" в издании Библиотеки поэта ("Поэты 1880—1890-х годов". Л., 1972). В очень корректной манере написана биография поэта, дана характеристика его творчества, отмечены его дружеские отношения с рядом композиторов (А. Рубинштейном, П. Чайковским, А. Глазуновым, Р. Глиэром и др.), написавших на его слова музыку. Романсы на слова К.Р. стали "наиболее долговечной частью его поэтического наследства"56.
Два стихотворения К.Р. вошли также в сборник "Библиотеки поэта" — "Песни и романсы русских поэтов" (М.; Л., 1965), где также дана объективная творческая биография поэта. В "Литературном наследстве" была опубликована акварель — карикатура художника Д.С. Стеллецкого "Выше бессмертные, ниже смертные", где изображался "Олимп" русской литературы из 10 человек, и К.Р. был в соседстве с Львом Толстым, Владимиром Соловьевым, Антоном Чеховым, Владимиром Короленко, Анатолием Кони и другими57.
Даже в суровые довоенные годы была опубликована переписка К.Р. и Ф.М. Достоевского с комментарием, на уровне тех лет почти корректным58. До войны же публиковались отрывки из дневника в "Красном архиве".
Великий князь Константин Константинович умер 2 июня 1915 г. На общем собрании Академии наук большую речь произнес А.Ф. Кони. Кстати, Анатолий Федорович хвалил великого князя и неофициально. Так, в приватном письме к академику А.А. Шахматову от 8 октября 1901 г. он именует К.Р. "нашим симпатичным президентом"59. Одна из статей в память К.Р. носила название "Человек великой человечности".
Начало и конец творчества поэта были связаны с еврейской тематикой. В 1882 г. на страницах либерального журнала "Вестник Европы", выходившего под редакцией М.М. Стасюлевича, было опубликовано первое стихотворение "Псалмопевец Давид", подписанное литерами К.Р.:
О, царь, скорбит душа твоя,
Томится и тоскует!
Я буду петь: пусть песнь моя
Твою печаль врачует...
В примечаниях к публикации стихов К.Р. в "Библиотеке поэта" об этом стихотворении приводится отзыв Я.П. Полонского из письма к великому князю от 20 января 1887 г.: "вполне безукоризненное и даже художественное стихотворение..."60
Незадолго до смерти он закончил мистерию "Царь Иудейский" (1914). В это издание вошли обширнейшие примечания К.Р., по словам А.Ф. Кони, "сами по себе представляющие в
248
высшей степени ценный труд, богатый историческими и археологическими данными и справками"61, в нашу задачу не входит анализировать этот в высшей степени интересный труд. Отметим, что работа К.Р. была в какой-то степени стимулирована двумя произведениями его современников: поэмами "Иуда" (1879) С.Я. Надсона и "Гефсиманская ночь" (1884) Н.М. Минского. Задача, поставленная автором — воссоздать политические условия древности, — вступала в противоречие с православной традицией. И критика отметила, что драма "Царь Иудейский" "может оказаться чуждою религиозному настроению многих лиц"62. Мастерство автора и истинная религиозность сказались в том, что ни разу Сын Божий не появляется на сцене. Мы смотрим на происходящее глазами его современников, чаще всего лиц, упомянутых в Евангелии. При этом К.Р. не модернизирует их характеры — все они даны в свете исторических реалий, известных науке того времени. Основное в драме — появление Мессии. Иудеи ожидают появления политического Мессии, обязательно царя из дома Давидова, цель которого свергнуть ненавистное бремя римской власти и воцариться на престоле предков в Иерусалиме. Посему в уста традиционного "евангельского" саддукея вкладываются соответствующие слова: "Охота же вам верить, что нищий свергнет Кесарево иго и воцарится в городе святом, воссядет на Давидовом престоле". Здесь назревает трагедия — народ стонет от власти чужеземцев и в действительности может провозгласить Иисуса царем. К.Р. не возводит напраслины — евангельские фарисеи и саддукеи боятся, что с провозглашением народом Иисуса царем поднимется восстание и произойдет полный разгром Иудеи. Саддукей говорит:
... римляне тогда, бесповоротно
Страною нашей завладев, разрушат
Святой Сион и Соломонов храм.
Ему вторит фарисей:
Не лучше ль для избранного народа,
Чтоб галилеянин один погиб,
Чем гибнуть всем из-за Него?63
Отсюда понятное желание как можно быстрее устранить Иисуса, чтобы не допустить "политических" осложнении и сохранить "хоть призрак той свободы, которую еще дарит нам Рим"64. Ибо уверовать сами в Его миссию они не в состоянии. Фарисеи и саддукеи — слишком черствы, у них произошла подмена веры мишурой обрядности. Одно из самых сильных
249
мест драмы — это речь Никодима, куда К. Р. довольно искусно вплетает цитаты из Ветхого Завета, используя гнев древних пророков — Исайи, Иеремии, Амоса — против "жестоковыйного Израиля":
О, жестоковыйный
Израильский народ! Народ строптивый!
Сыны погибели, вы позабыли,
Оставили вы Бога! Ярый гнев
Его не научил вас покоряться
Безропотно святой Господней воле.
Когда Он вывел из Египта вас,
И расступилось море перед вами,
[Когда пустыней мрачною вы шли,
И ваш пророк и вождь при блеске молний
Под грозные раскаты грома, в туче,
На высоте дымящейся горы
Беседу вел с Творцом сорокодневно,
Вы, вы тогда что делали в долине?
Из золота вы отлили тельца
И вкруг него неистово плясали
И в мерзостных бесчинствовали играх.
Вас пощадил Создатель и простил.
Чем вы Ему воздали за пощаду?]
Он посылал пророков вам и мудрых,
И праведных, а вы? Вы гнали их
Из града в град, бесчестили, камнями
Их побивали и казнили их"65
Естественно, что казнь Иисуса Никодим трактует в евангельском духе, главное событие драмы принимает в высшей степени антигуманный характер: последний пророк всепрощающей любви и — никакого всепрощения, никакой любви, только ненависть. Пожалуй, это уже голос самого автора:
Дополните же ныне меру ваших
Отцов! Один, последний остается,
Всевышним посланный с небес на землю
К вам с проповедью мира и любви.
Как Моисей вознес змию в пустыне,
На крест вы Иисуса вознесете.
Но знайте: не отпустится во веки
Ни вам, ни детям вашим этот грех! 66
Если с еврейством все понятно, то с другим миром — римским, преемником которого по логике "Москва — Третий Рим" является северная империя, не все ясно. Для Понтия Пилата с его представлениями о civitas Romana и беспощад-
250
ным презрением к еврейству Иисус, пока он его не видит всего лишь еврей какой-то", "какой-то Иисус".
Когда невинен Он,
Его на волю
Я отпущу; а если смертной казни
Достоин, — повелю казнить. Одним
Презренным иудеем меньше будет...
Далее проблема усложняется, тем более что Сеян, покровитель Пилата, ненавистник евреев, настраивавший императора против иудеев, убит. Пилат готов оправдать Иисуса, к тому же мечтатели для римлян не опасны, и прокуратор уступает Синедриону.
Один из критиков отмечал не только исторический, но и бытовой реализм драмы. Отсюда реакция православного Синода была скорее отрицательной, несмотря на высокое имя автора. И это понятно. Возьмем, к примеру, русскую икону; почему на "Распятиях" Богоматерь всегда изображена молодой женщиной? Исторически же ей должно было бы быть около 50 лет. Однако в истинно верующем человеке эта и подобные детали не могут посеять сомнение. Христианская идея становится величественнее, многозначительнее, если сопровождается не стилизацией, а реалиями времени. И более становится понятна цена победы христианства над языческим миром.
В Зимнем дворце, в Эрмитажном театре была поставлена драма К.Р. с музыкой А. Глазунова. Особенно удачно была передана сцена бичевания Господа. Для того чтобы не сталкиваться с Синодом, была объявлена не премьера, а репетиция. Часть семейства Романовых испрашивала разрешение священника на просмотр, и не получив его, не явилась на спектакль. (На вопрос о "Царе Иудейском" великого князя Николая Николаевича протопресвитер Русской армии и флота о. Георгий Шавельский, человек, кстати, открытый новым веяниям, ответил, что "к святыне прикоснулись неосторожными руками"67. На постановке присутствовал государь, но отсутствовали Николай Николаевич и Петр Николаевич. Константин Романов играл роль Иосифа Аримафейского, в связи с которым евангельское выражение "страха ради иудейска" стало устойчивым выражением в русском языке68.
Чрезвычайно интересно отношение крайних правых к произведению августейшего родственника. Автор обширной статьи "Театральная пьеса о смерти и воскресении Христа, где специально анализируются книги Юрия Николаева ("В поисках за божеством" (СПб., 1913) и "Противники Бога под личи-
251
ной богоискателей") и "Царь Иудейский" К.Р., Н. Варнавин, рассыпаясь в верноподданнических чувствах, как верующий православный возмущен попыткой перевести евангельский текст на театральные подмостки. Он абсолютно правильно отметил, что в ортодоксии в отличие от католицизма нет места мистериям, знакомым западному зрителю, и нет места пьесам на евангельский сюжет, известный протестантам. Хотя сам Иисус не выведен на сцене, в пьесе действуют несколько лиц, причисленных к лику святых (Никодим, Иосиф Аримафейский, Иоанна, две жены-мироносицы). Именно поэтому на верующих христиан пьеса производит тягостное впечатление. В логике критику не отказать, а под конец он рубит правду-матку: сочинение императорского отпрыска просто бездарно. «Общее впечатление таково, — пишет автор статьи, — что "Царь Иудейский" является и в художественно-литературном отношении пьесой более чем посредственной. Стихи слабы и лишены лирического подъема»69. Следует добавить, что православной церковной традиции известны пьесы на библейский сюжет. Так, первой пьесой русского театра XVII в. была постановка "Артаксерсово действо" — история царицы Эсфири, заимствованная у еврейских "пуримшпиллеров"70. В качестве примеров слабых стихов Варнавин приводит текст от Матфея в славянском переводе: "Камень, его же не в ряду сотвориша зиждущия, сей бысть во главу угла; от Господа бысть сие, и есть дивно во очею вашею" (Мф. 21:42). У К.Р., по мнению Варнавина, очень неудачно: "О Иисус! Отверженный Он камень, / Но камень, легший во главу угла". Критик считает: «Слово "легший" скребет как ножом по тарелке»71. Но едва ли это справедливо. Что бы сказал он о следующих стихах гениального поэта, пересказывающего соответствующее евангельское место: "Ученики, осиленные дремой, / Валялись в придорожном ковыле"?
Но Варнавин, как большинство правых, не может остановиться: ему всюду мерещатся масоны и убиенные Ющинские. Варнавин критикует пересказ Евангелия о гибели Иисуса, который-де неточен, ибо мучения Христа в пьесе занижены, пытки должны равняться на современные примеры: "Вспомните, хотя бы, несчастного Андрюшу Ющинского. Сперва истязания евреев-сатанистов причиняли ему жестокие мучения, но к концу пытки он уже терял сознание, так что мучители должны были приводить его в чувство посредством уколов в печень..."72 Этот безумный пассаж нелогичен: из Евангелия ясно, что казнь Иисуса — это казнь, применяемая римлянами на всей территории империи, к ее виду древние евреи не имели отношения. Еврейская казнь — это побивание камнями (см. притчу о блуднице).
252
С другой стороны, брат бывшего премьера, Аркадий Столыпин, пришел в восхищение от произведения августейшего поэта, отметив не только безусловные литературные достоинства но и несомненную искренность, "чистоту чувств" автора. Никаких шероховатостей стиля Столыпин не чувствует, а даже обнаруживает несомненную связь с поэзией "пушскинской плеяды". Конечно, и для критика правого лагеря, поклонника музы К.Р., есть причина для огорчений: он считает, что для постановки "Царя Иудейского" на "наших образцовых сценах" требуются некоторые ограничения, "о необходимости которых напомнили мне некрасивые проявления человеческой нетерпимости"73.
Еще несколько слов об актерском искусстве Константина Романова. Объективности добиться очень трудно. Безусловно одно — князь был одержим кулисами и даже пытался выступать на сцене. Так, он перевел "Мессинскую невесту" Шиллера и сам играл заглавную роль. Играл он роль герцога и, казалось, что тут-то ему и карты в руки, но был из ряда вон плох: костюм носить не умел, в плаще путался, дикция очень плохая, и — слово из песни не выкинешь — картавил...
Так о его игре отозвался Станиславский. Но еще хуже было, когда великий князь, переведя "Гамлета", поставил его в своем театре и пригласил на постановку знаменитого Сальвини, который не мог понять, какую пьесу играют...74
Вот еще один любопытный факт, приведенный Варнавиным, — дело "Царя Иудейского" дошло до Думы, где выразителем общего мнения правых депутатов Думы об удручающем впечатлении, производимом пьесой на верующих христиан, стал о. Алексей Мешковский!75 Кажется, приводя этот факт, несложно найти и аллюзии в пьесе: Рим победил Иудею.
Никто никогда не говорил о К.Р. как об антисемите. По крайней мере, при жизни. Еврейский мир был по отношению к нему корректен. Когда заходила речь о Романовых, его всегда выделяли: «О, это совсем другой человек! К.Р. - тонкий эстет и поэт, друг Фета и Минского, автор "Царя Иудейского", президент Академии наук, милый гуманный, простой... Лучший из Романовых»76. Увы, это было не так. В 1904 г. ушел в отставку министр просвещения Григорий Эдуардович Зенгер (1853-1919), бывший профессор Варшавского университета, классик, влюбленный в свое дело, блистательно переведший на латынь "Евгения Онегина", человек, о котором говорили приблизительно то же, что и о Константине Константиновиче: "человек кристальной чистоты, но не от мира сего", "либеральнейший и честнейший человек", "по натуре поэт". И вот эти двое "лучших и честнейших" людей пришли в столкнове-
253
ние по еврейскому вопросу и победителем, естественно, остался царственный родич. История отставки министра просвещения приблизительно такова. Великий князь Константин Константинович, будучи главным начальником военно-учебных заведений, предложил разработать законопроект о недопущении в военно-учебные заведения крещеных евреев. До внесения его в Государственный совет законопроект был разослан на заключение главам ведомств, и в первую очередь военному министру А.Н. Куропаткину и министру народного просвещения Г.Э. Зенгеру. Известно, что А.Н. Куропаткину проект не понравился, он "поморщился", но уступил сильному мира сего. Не то было с Григорием Эдуардовичем: "Если евреи неспособны к военной службе, то следовало бы исключить их вообще из рядов армии: если же они могут и должны нести военную службу в качестве нижних чинов, то нет оснований препятствовать им в достижении офицерского звания"77. Законопроект из-за несогласия министра народного просвещения был взят обратно, но Зенгер поплатился своим портфелем. Дело же, однако, на этом не окончилось. Либеральнейший великий князь нашел выход из положения, издав секретный циркуляр по военно-учебным заведениям, запрещающий прием крещеных евреев. Собственно, это уже была практика расового антисемитизма.
Осведомленный автор приводит несколько примеров личного отношения К.Р. к своему закону. По совету генерала Хабалова, студент-выкрест, мечтавший попасть в военное училище, обратился к самому начальнику: "Я ничего не могу сделать, — сказал великий князь: таков закон, которого я не нарушу". — "Ваше императорское высочество, — возразил студент, — мой родной брат несколько дней тому назад окончил Киевское военное училище и произведен в подпоручики..." К.Р. на минуту задумался, пошептался с адъютантом. "Это ничего не значит, — наконец изрек он. — Закон". Таким образом, великий князь сознательно лгал, ибо ни тогда, ни после, подобный "закон" не был издан78.
Много лет спустя Константину Константиновичу удалось добиться от Николая II высочайшего повеления, по которому "не только дети, но даже внуки крещеных евреев не принимались в военно-учебные заведения" (курсив мой. — С. Д.)79. В свете этого стоит вспомнить драму "Царь Иудейский". Следуя точно истории, К.Р. рассказывает о провокаторской деятельности Пилата в Иудее, когда он приказал внести в город значки с изображением Тиверия, после чего начались народные волнения:
254
На землю пав и шеи обнажив —
Толпа вскричала, что умрет скорее,
Чем надруганье над законом их
Снесет80.
Вероятно, К.Р. много думал о сочетании провокаторства и закона...
Тот же А. Вольский приводит характерный эпизод, когда во время посещения великим князем Полоцка на вокзале ему была представлена почетная депутация жителей, среди которых был и раввин. Очередь представляться дошла и до него: «"Казенный раввин гор. Полоцка, ваше императорское величество". "Кто?" — с изумлением спросил К.К., и по его лицу прошло облако гнева. Губернатор смущенно повторил: "Раввин". К. К. махнул рукой, отвернулся и быстрыми шагами направился к выходу. Губернатору был сделан строгий нагоняй. В присутствии раввина была усмотрена не то насмешка, не то оскорбление»81. И это при том, что по переписи евреи составляли 60% населения Полоцка.
ЕВРЕИ В РУССКОЙ АРМИИ
Переход к этой теме выглядит достаточно логичным. Высшая аристократия, семейство Романовых были тесно связаны с армией. Более того, великий князь Константин Романов, о котором шла речь выше, был лично знаком со многими генералами еврейского происхождения, правда, крещеными. Были и такие. Например, боевой генерал Сергей Константинович Гершельман (1853-1910), герой русско-турецкой войны, командовавший дивизией под Мукденом и прикрывавший "с выдающимся успехом" отступление русской армии был, хорошо знаком с К.Р. В 1906 г. назначен московским генерал-губернатором. На него покушались эсеры, и лишь случайно он уцелел. Кстати, и его отец был генералом.
Другим знакомцем К.Р. был генерал Н.О. Адельсон, исполнявший с 1882 по 1901 г. должность коменданта Петербурга. Его отец — еврей, русский консул в Кенигсберге, связанный родственными отношениями с семействами Розовских и Слиозбергов, жившими в местечке Налибоки, принадлежавшем князьям Витгенштейнам82.
Ружейным приемам обучал императора Николая II генерал-адъютант П.П. Гессе, дворцовый комендант; его родной брат, тоже генерал, Н.П. Гессе был волынским, а потом — в 70-х го-
255
дах — киевским генерал-губернатором. "Сами Гессе еврейского происхождения, в них есть значительная доля еврейской крови. В наружности генерала Гессе это не было заметно, но в наружности его брата, который был в Киеве губернатором... еврейский тип резко проглядывал, что не мешало как киевскому губернатору Гессе, так и генералу Гессе быть людьми весьма порядочными"83.
Одним из наиболее выдающихся генералов царской армии был генерал-адъютант Николай Иудович Иванов (1851-1919), в годы первой мировой войны главнокомандующий Юго-Западным фронтом, родом из семьи кантониста84. Генерал был сыном ссыльнокаторжного и по рождению имел другую фамилию85.
Положение офицеров "из евреев" в армии резко ухудшалось, даже тех, которые занимали высокие посты. "Инспектор классов Киевского военного училища генерал-майор генерального штаба Ц-ский, герой русско-турецкой войны, георгиевский кавалер, должен был знать, что ни его сыну, ни его внуку нельзя поступать в военные училища..." Свою статью А. Вольский заканчивает печальными словами в адрес творца "Царя Иудейского": «Цветочки, любовно и настойчиво взращенные "лучшим из Романовых", дали достойные плоды»86.
Не мог не знать великий князь, что министром иностранных дел России долгие годы был Николай Карлович Гире (1820—1895), официально состоявший в должности министра с 1882 г. Фактически же из-за болезни канцлера Горчакова он с 1876 по 1878 г. управлял министерством. Честный и добросовестный работник, опытный и осторожный. "Государь император ему доверял и его любил... Он как раз подходил, чтобы быть министром иностранных дел при таком императоре, как покойный Александр III"87. Но, как видно, он устраивал и отца — императора Александра Николаевича, несмотря на свое еврейское происхождение. Впрочем, это, видимо, было исключением. В одной из записок от 21 февраля 1888 г. статс-секретаря А.А. Половцова к К.П. Победоносцеву читаем следующее: "Гире от меня, как черт от ладану, потому что я не скрываю свое мнение, что для России постыдно иметь министром такого бездарного и трусливого жидка"88. Записка эта воистину "загадка природы" — сам А.А. Половцов был женат на дочери барона Штиглица (еврейского происхождения) и унаследовал все состояние своего тестя, которое растратил, в частности, и на издание Русского биографического словаря...
Если мы заговорили о ведомстве дипломатическом, то, вероятно, существует некая "закономерность" в том, что в истории России ее возглавляли "жидовствующие". Вот почти не-
256
прекращающаяся линия от Ивана III: дьяк Федор Курицын, Алмаз Иванов, Петр Шафиров, Карл Нессельроде Николай Гире, Сергей Витте, Лев Троцкий, Максим Литвинов
Кстати, Александра III устраивал и его лейб-медик Григорий Антонович Захарьин (1829-1897), также еврейского происхождения: мать его — урожденная Гейман. У его сына Николая II лейб-медиком состоял Г.И. Гирш, тоже еврейского происхождения.
Мы несколько уклоняемся от темы, но евреи в русской армии — это сложнейшая проблема, ибо инициатива К. Р. имела продолжение во время первой мировой войны. Начальник генерального штаба Н.Н. Янушкевич при главнокомандующем великим князем Николае Николаевиче разработал явно несправедливый проект для пополнения огромных потерь офицерского состава — православные воспитанники высших учебных заведений посылались в военные училища, а евреи — рядовыми в окопы. Известный адвокат О. Грузенберг встретился с вновь назначенным военным министром А.А. Поливановым, который признал недопустимость оскорбительного неравенства "при несении повинности кровью", и категорически заявил: "Военное Министерство не предложит и не одобрит подобного законопроекта: или новые категории студентов-евреев пройдут, наравне с товарищами своими — христианами, через офицерские курсы, или вовсе не будут призваны. Разве что закон этот издаст Ставка помимо меня"89.
Представляет интерес точка зрения на данную проблему генерал-адъютанта А.А. Брусилова как участника первой мировой войны и главнокомандующего, некоторым образом сходная с позицией бывшего министра просвещения и генерала Поливанова. (Кажется, неслучайно, что и Поливанов, и Брусилов пошли на службу Советской России.) Брусилов откровенно пишет о еврейском вопросе, в общем считая, что евреи — посредственные солдаты. (Из времен первой мировой войны: «Я нежно люблю анекдот про еврея, который, попав на позиции, спросил первым словом: "А где здесь плен?"»)90. Брусилов не проходит мимо проявлений государственного антисемитизма и приводит два вопиющих примера, как два храбрейших воина не могли получить заслуженные ими отличия из-за своего происхождения. Первым был некрещеный еврей, лучший разведчик дивизии, которому не присваивали звание младшего офицера, так как евреям занимать офицерские должности было запрещено. Брусилов расцеловал его перед строем, выдал ему георгиевский крест 1-й степени (он был полный георгиевский кавалер, т. е. всех 4-х степеней) и в нарушение закона присвоил ему звание подпрапорщика. Второй
257
пример, еще более разительный. Прапорщик православного вероисповедания, храбрец, должен был получить орден; св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Тут-то и выяснилось, что он "коренной" еврей, и вместо награды его ждет разжалование. Естественно, Брусилов встал на защиту справедливости и заявил командиру корпуса, что в случае огласки дела вину берет на себя. Концовка новеллы о еврейском вопросе Брусиловым дана следующая: "Из этих двух примеров видно, что евреям в сущности не из-за чего было распинаться за родину, которая для них была мачехой. А потому на них, как на солдат, я не был в претензии за то, что большинство из них в наших рядах были плохими воинами. Мне всегда казалось, что в боевом отношении требуется строгая справедливость, а тут они играли роль париев..."91. Естественно, что эта филиппика, как и некоторые другие, в советское издание по понятным причинам не попала.
В недавно вышедшей статье майора И.В. Образцова приводится также небольшой и неполный список евреев-генералов (выкрестов) в период до и во время первой мировой войны: М.В. Грулев (о нем подробнее см. в моей книге "История одного мифа"); генерал-майор Сергей Владимирович Цейль (1868—1915), окончил Академию Генерального штаба, командовал пехотной дивизией; Александр Александрович Адрианов (1861—?), окончил Александровскую военно-юридическую Академию, в 1908—1912 гг. был московским градоначальником. Несколько наивно, по-антисемитски, автор статьи трактует религиозный вопрос: "Если бы евреи не придерживались Талмуда в дополнение к своей вере, то они могли поступить в офицеры. Талмуд же исключал эту возможность. В Своде военных постановлений (кодекс законов о войске) предписания о порядке принесения присяги новобранцами были дополнены приложением, гласившим, что за еврейским раввином, читающим солдатам-евреям текст присяги, надо внимательно наблюдать, чтобы он не кашлянул или не сплюнул, потому что, согласно Талмуду, такое действие аннулирует присягу. Раз мораль еврея-талмудиста руководствовалась такими и им подобными трюками, то невозможно было ему доверить выполнение обязанностей офицера, требующих весьма высоких моральных качеств"92. В качестве примера офицера, сделавшего карьеру, приводится иудаист-караим Александр Павлович Хануков (1867—?), окончивший Академию Генерального штаба и в 1916 г. бывший начальником 41-го армейского корпуса. Интересно, в армиях других стран, где была всеобщая воинская повинность, велось ли наблюдение за раввинами, чтобы они не сумели аннулировать присягу? Например, во время присяги
258
военного министра Италии некрещеного еврея, генерала Джузеппе Оттоленги (1838-1904)?
На самом деле число крещеных евреев-генералов в русской армии было намного больше, чем приводилось в справочнике. Антон Иванович Деникин писал: "Совершенно закрыт был доступ к офицерскому званию лицам иудейского вероисповедания. Но в офицерском корпусе состояли офицеры и генералы, принявшие христианство до службы и прошедшие затем военные школы. Из моего и двух смежных выпусков Академии Генерального штаба я знал лично семь офицеров еврейского происхождения, из которых шесть ко времени войны достигли генеральского чина. Проходили они службу нормально, не подвергаясь никаким стеснениям служебным или неприятностям общественного характера"93. Последнее утверждение несколько неверно, судя по воспоминаниям генерала Грулева, вынужденного из-за антисемитизма великого князя Николая Николаевича выйти в отставку. Воспоминания Деникина написаны уже после гражданской войны, и генерал, видимо, забыл (я не говорю уже о погромах белой армии, которые он, по его утверждению, не мог остановить) о положении евреев-офицеров (были и такие и не один десяток) в его армии, когда их же товарищи стреляли им в спину. Этого факта он не мог отрицать94. Но есть еще один аспект в мемуарах Антона Ивановича, когда он говорит о массовых самоувечьях евреев, не желающих проходить службу. Картина, нарисованная генералом, страшная: «По должности командира полка в течение четырех лет мне приходилось много раз бывать членом Волынского губернского присутствия по переосвидетельствованию призываемых на военную службу. Перед моими глазами проходили сотни изуродованных человеческих тел, главным образом, евреев. Это были люди темные, наивные, слишком примитивно симулирующие свою немочь, спасавшую от воинской повинности. Было их жалко, и досадно. Так калечили себя люди по всей черте еврейской оседлости. Ряд судебных дел в разных городах нарисовал мрачную картину самоувечья и обнаружил существование широко распространенного института подпольных "докторов", которые практиковали на своих пациентах: отрезывание пальцев на ногах, прокалывание барабанной перепонки, острое воспаление века, грыжи, вырывание всех зубов, даже вывихи бедренных костей...»95. К сожалению, нет смысла оспаривать эти факты. Лучше проанализировать причины, приводившие к этому печальному явлению: сама служба казалась несчастным новобранцам намного хуже любого увечья, хотя генерал отрицает тяготы казарменной службы. Но это не так — сословная ограниченность не позволяла ви-
259
деть всего того, что творилось за стенами казарм. Деникин оговаривается, что речь идет не только о евреях, хотя их большинство. И казарменная служба не могла так пугать людей. И следующая песенка, распеваемая русскими людьми, свидетельствует о положении как православных, так и иудеев:
Деревенски мужики
Право слово, дураки:
Пальцы режут, зубы рвут
В службу царскую нейдут96.
Из воспоминаний Деникина мы знаем, что его 5-й дивизией командовал "человек не узкий и не формалист" генерал Перекрестов. Антон Иванович не случайно упомянул его сразу после "еврейских рассказов" — по фамилии ясно, что предок генерала был еврей-выкрест97.
Возвращаясь к великому князю Константину Константиновичу для прояснения к его позиции по еврейскому вопросу мы должны сослаться вновь на воспоминания Александра Михайловича, рассказывавшего о религиозном воспитании, полученном в царской семье. Но не только. Царственный отпрыск находился в переписке с рядом крупных писателей. Не исключено, что нравственное воспитание великого князя находилось и под влиянием переписки с писателями, для которых бытовой антисемитизм был нормой, возможно, даже не вполне осознаваемой ими самими. И.А. Гончаров, создавший бессмертный образ Обломова (на мой взгляд, визитная карточка России), познакомился с царственным поэтом в преклонном возрасте, ему было за семьдесят. По просьбе К.Р. он дал отзыв на его стихи. Рассматривая поэзию более широко, Гончаров считает "искренность" важнейшим фактором стихотворчества. Он не отрицает техники, более того, уверен, что следует пройти школу ученичества и, с этой точки зрения, переводы, которые выполнил К.Р., необходимы, чтобы "усвоить приемы и технику великих образцов, прежде нежели он начнет создавать сам... Пишущих стихи — масса. Большая часть пишут подражательно с чужого голоса... Они не из себя добывают содержание для своей эоловой арфы, а с ветра, лишь бы вышли стихи..." Далее идет грозная филиппика против группы поэтов, объединенных по известному принципу: "Есть еще у нас (да и везде — кажется — во всех литературах) целая фаланга стихотворцев, борзых, юрких, самоуверенных, иногда прекрасно владеющих выработанным, красивым стихом и пишущих обо всем, о чем угодно, что потребуется, что им закажут. Это — разные Вейнберги, Фруги, Надсоны, Минские, Мережковские и прочие..." (фамилии выделены самим Гончаровым. — С. Д.).
260
Представляю себе, как был удивлен Дмитрий Сергеевич Мережковский, дворянин, отец которого занимал видный пост в дворцовом ведомстве, внук героя войны 1812 г, имеющий пращура из малороссийской старшины — Федора Мережки обнаружив себя в списке поэтов, подобранных по звуковому — "неблагозвучному" принципу. "Звук имеет большое значение для национального чувства. Москва недаром старалась подвести народ к одному фонетическому знаменателю"98. Кажется, здесь кроется русский вариант происхождения устойчивого сочетания — "малый народ". Но Иван Александрович продолжает: "Оттого эти поэты пишут стихи обо всем, но пишут равнодушно, хотя часто и с блеском, следовательно неискренно. Вон один из них написал даже какую-то поэму о Христе, о Голгофе, о страданиях спасителя. Вышло мрачно, картинно, эффектно, но бездушно, не искренно. Как бы они блестяще ни писали, никогда не удастся им даже подойти близко и подделаться к таким искренним, задушевным поэтам, как, например, Полонский, Майков, Фет, или из новых русских поэтов — граф Кутузов"99. Что для Гончарова "неблагозвучные" поэты были неискренни — это понятно. Но младший современник Ивана Александровича почти дословно процитировал вышеозначенных и откровенно обозначил их национальную принадлежность. Удивительно, что совпадение стопроцентное, включая "невинного" Мережковского:
В те дни, когда поэтов триста
В отчизне народились вдруг;
Когда в журналах голосисто
Стонали Надсон, Минский, Фруг...
..........................................................
Когда в стихах жаргон жидовский
Стал заглушать родной язык, —
В те дни и ты возник,
Питомец Феба, Мережковский,
И принялся ссыпать стихи
В лабаз лирической трухи.
(В.П. Буренин)
Прошли годы и десятилетия. В серии "ЖЗЛ" вышла книга Ю. Лощица о Гончарове, где, само собой разумеется, процитированы приведенные выше строки из письма писателя к великому князю. Книга заканчивается следующей цитатой из письма Гончарова: "Только пережитые самим писателем горькие опыты помогают глубоко видеть, наблюдать и писать чужую жизнь в ее психических и драматических процессах. Вас от горьких, потрясающих опытов охраняют пока юные годы, а всего более высокое, огражденное, обеспеченное и исключи-
261
тельное положение. Может быть — они и настанут когда-нибудь, а лучше бы не наставали никогда". И далее: «К.Р.. умер в 1915 году. Его тихой интимной лирики так и не коснулось никогда дыхание великих бурь и "горьких, потрясающих опытов"»100. Увы, это неправда — преждевременная смерть К.Р. как раз и была вызвана "горьким, потрясающим опытом" — шла мировая война, и у великого князя на фронте было 5 сыновей и зять. Сын Олег Константинович и зять, князь Константин Александрович Багратион-Мухранский, погибли. Последняя утрата "доконала" К.Р. Багратион погиб 19 мая под Львовом, через две недели не стало творца "Царя Иудейского". "Живя в кровавой и воспаленной атмосфере совершающейся великой бойни культурных народов, люди страдают не только тем, что творится, но и тем, что им приходит на ум"101. 2 июня 1915 г. К.Р. скончался в Павловском дворце.
Если мы говорим о царской семье, о ее отношении к своим подданным иудейского вероисповедания, то следует вспомнить и главнокомандующего русскими войсками великого князя Николая Николаевича, запятнавшего свое имя неслыханными преступлениями против евреев в прифронтовой полосе. Тотальное выселение, погромы, зверские насилия над мирным населением, обвинения в шпионаже и немедленный расстрел ни в чем не повинных людей — все это стало нормой. Существует обширная литература на данную тему и издание литературного сборника "Щит", предпринятое Леонидом Андреевым, Максимом Горьким и Федором Сологубом, спасает честь русской интеллигенции.
Коснемся малоизвестного факта: обвинение военного министра России генерал-адъютанта В.А. Сухомлинова и жандармского полковника С.Н. Мясоедова в немецком шпионаже. К этому делу приложил руку великий князь Николай Николаевич, желавший вину за разгром русских армий свалить на военного министра. Кроме того, к этому примешался антисемитизм, ибо по стечению обстоятельств жены Сухомлинова и Мясоедова были крещеными еврейками. В стране, терпевшей поражение за поражением, обуреваемой жаждой найти виновного, правительство и оппозиция (жандарм Мясоедов!) нашли общий язык — полковник был повешен, а военного министра спасла революция. Интересная деталь — командующий Юго-Западным фронтом генерал-адъютант Николай Иудович Иванов отказался утвердить приговор. На исполнении настоял великий князь: невинный человек был казнен102.
Уместно рассказать здесь и о начальнике штаба Северного фронта генерал-майоре Михаиле Дмитриевиче Бонч-Бруевиче (1870—1956), который, по сути дела, и инспирировал обвине-
262
ние Мясоедова. Он был жестоким, грубым человеком и кроме того — ненавистником евреев. Хотя в своих воспоминаниях он рассказывает, как остановил расправу над несчастными беженцами, обвиненными казаками в шпионаже: «Когда я подъехал к особнячку, около него, окруженные подвыпившими казаками, толпились испуганные евреи, вероятно хасиды, судя по бородатым лицам, люстриновым долгополым сюртукам и необычной формы "гамашам" поверх белых нитяных чулок. Было их человек двадцать.
— Кто это? — спросил я, подозвав к себе казачьего урядника.
— Так что, вашскородие, шпиёны!....
— Как же они шпионили? — все еще ничего не понимая, заинтересовался я.
— Так что, вашскородь, провода они резали. От телефону, — сказал казак. На ногах он стоял не очень твердо, потное лицо его лоснилось.
— А ты видел, как они резали? — уже сердито спросил я.
Как ни мало я был в Галиции, до меня дошли уже рассказы о бесчинствах казаков в еврейских местечках и городишках. Под предлогом борьбы с вездесущими якобы шпионами казаки занялись самым беззастенчивым мародерством и, чтобы хоть как-то оправдать его, пригоняли в ближайший штаб насмерть перепуганных евреев.
Я видел, как страшно живет эта еврейская беднота, переполнявшая местечки с не мощеными, пыльными до невероятия улочками и переулками, загаженной базарной площадью и ветхой синагогой, сколоченной из источенных короедом, почерневших от времени плах. На эту ужасающую, из поколения в поколение переходящую нищету было как-то совестно глядеть.
— Оно, конечно, самолично не видывал, — ответил урядник, — так ведь казаки гуторят, что видели. Да они, жиды, все против царя идут. Хоть наши, хоть здешние, — привел он самый убедительный свой довод...
Пока я говорил с урядником, задержанные казаками евреи, прорвав кольцо пьяного конвоя, устремились к моему автомобилю. Все еще трясущиеся, с белыми как мел лицами, они, перебивая друг друга и безбожно коверкая русский язык, начали с жаром жаловаться на учиненные казаками бесчинства.
Я приказал казакам распустить задержанных евреев по домам и долго еще слышал их благодарный гомон за окнами моего управления»103. В этом рассказе есть все: социология, жизненная правда, опереточные евреи с сочувствием, но ... это было написано гораздо позже, а в 1915 г., о котором мы ведем
263
речь, несмотря на письмо в его защиту родного брата, Владимира Дмитриевича (1873-1955), известного большевика и ученого, специалиста по истории религии, юдофила, которого мы неоднократно цитировали, генерал-майор в неистовстве кричал: "Подумайте... каждый день приговаривают к смерти — и ничего: никто не пошевелится. А тут, в кои веки попался жид, сейчас прискакал на фронт жидовский батька. Понятно, жидовская солидарность. Но мы-то хороши: не устояли, размякли"104. А позже он писал об образцовом российском солдате, твердо усвоившим, что "враг внешний — это австрияк, немец и германец, а враг внутренний — жиды, скубенты и евреи" — милая пропагандистская тавтология, но безусловно дающая результаты.
Семейные узы — это вовсе не признак общего взгляда на еврейский вопрос. Если мы говорим о высшем обществе — стоит вспомнить несколько политических антиподов: вышеупомянутые Бонч-Бруевичи, братья Маклаковы: Николай Алексеевич (1871—1918), министр внутренних дел и шеф жандармов, один из инициаторов, дела Бейлиса, и Василий Алексеевич (1869-1957), один из лидеров кадетской партии и защитник Менахема-Менделя Бейлиса; братья Красновы: Андрей Николаевич (1862-1912), ботаник-географ, путешественник, человек европейской культуры, либерал и филосемит, и Платон Николаевич (1866—1924), переводчик, критик, публицист, в общем человек левых убеждений, после революции остался в России и работал конторщиком на железной дороге, и третий брат — Петр Николаевич Краснов (1869—1947), генерал и писатель, германофил, в своих антисемитских романах перешедший все границы здравого смысла, человек, предавший родину и служивший нацистам. Как видим, водораздел по еврейскому вопросу шел и внутри семьи, где родные братья получали весьма схожее и даже гуманитарное образование (например, М.Д. Бонч-Бруевич имел и гражданское образование: он окончил Межевой институт). Видимо, это уже из области мистики.
О деле Мясоедова довольно подробно рассказал в своих воспоминаниях генерал Александр Александрович Самойло (1869—1963), филосемитские настроения которого были выражены очень ярко. В своих воспоминаниях он этого не скрывает. Он рассказывает о своей дружбе с артиллерийским подполковником Абрамовичем, по-видимому, крещеным евреем, который и просвещал его по еврейскому вопросу. Высокообразованный Абрамович (он окончил Киевский университет и с отличием артиллерийское училище и академию, один из крупнейших специалистов по артиллерийскому делу,
264
высоко ценимый М.И. Драгомировым) возмущался национальной политикой России, разжиганием национальной розни, погромами и кровавыми наветами (дело Бейлиса). Слова Абрамовича пали на благодатную почву: на всю жизнь Самойло остался филосемитом.
Генерал-майор русской армии Самойло (абсолютно независимо от Оскара Грузенберга) рассказал о подноготной дела Мясоедова, обвиняя непосредственно великого князя Николая Николаевича, собственноручно начертавшего на докладе военного прокурора о невиновности полковника Мясоедова: "А все-таки повесить!"105* Самойло рассказывает также о встрече с братом Мясоедова, и в этом рассказе всплывает эта история. Этот брат, тоже полковник дореволюционных времен и бывший профессор академии им. Фрунзе, был, естественно, арестован в 30-е годы и пребывал в лагере на Ухте. По авторитетному свидетельству, он отрицал всякую вину брата, считая его козлом отпущения за промахи высшего командования. В свое время вышел документальный роман польского писателя Иосифа Мацкевича "Дело полковника Мясоедова", посвященный реабилитации злосчастного жандарма106.
Стоит сказать пару слов и в адрес русского главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Кроме антисемитизма, которым страдали и другие Романовы, он отличался редкой ограниченностью и малообразованностью. Слово умнейшему и циничному С.Ю. Витте: "Другое лицо, которое во время моего министерства имело громадное влияние на государя, был великий князь Николай Николаевич. Влияние это было связано с особыми мистическими недугами, которыми заразила государя его августейшая супруга и которыми давно страдал великий князь Николай Николаевич. Он был один из главных, если не главнейший, инициаторов того ненормального настроения православного язычества, искания чудесного, на котором, по-видимому, свихнулись в высших сферах... Сказать, что он был умалишенный — нельзя, что он был нормальный в обыкновенном смысле этого слова — тоже нельзя, но сказать, чтобы он был в здравом уме — тоже нельзя; он был тронут... К тому же великий князь по натуре человек довольно ограниченный и малокультурный"107. Во время мировой войны с Николаем Николаевичем произошел удивительный случай. При инспекции одного из корпусов главнокомандующий обратился с речью к солдатам. Искренность и пафос произвели огромное впечатление на присутствующих. Едва речь была закончена, стоявший на правом фланге старик-барабанщик без всякой команды изо всех сил ударил в барабан. Раздалось громогласное "Ура!". Николай Николаевич со слезами
_________________
*Подробно о деле Мясоедова можно прочесть в книге Михаила Хейфеца «Цареубийство в 1918 году», стр. 63-67, глава 16 «Казнь полковника Мясоедова»
265
на глазах бросился к барабанщику и расцеловал его. "Получилась трогательная картина". Вероятно, зная антисемитизм главковерха, один из присутствующих сообщил протопресвитеру Русской армии и флота о. Шавельскому, что великий князь "попался": барабанщик — еврей. Отец Шавельский решил проверить ситуацию и во время обеда заговорил об этом: "Какой удивительный барабанщик-старик! Как он ловко угадал момент и точно закончил Вашу речь! — Да, удивительно хорошо вышло! — сказал великий князь. — А вы знаете, ваше высочество? Ведь он еврей, — заметил я, вглядываясь, какое впечатление на великого князя произведут мои слова. — Ну так что из этого, ведь он давно служит в полку, — нервно ответил великий князь и сразу перевел разговор на другую тему"108.
Возвращаемся к военному министру России. "Было просто невероятно допустить мысль, что умный человек, считавшийся всегда одним из лучших офицеров генерального штаба, георгиевский кавалер, генерал-адъютант, военный министр — мог оказаться предателем родины... Многие считали, что обвинение Сухомлинова является позором не только для него, но и для России, которая могла дать такого министра"109. Современники вспоминали в этой связи дело Верещагина, когда на потребу толпы в 1812 г. Ростопчин выдал безвинного человека110.
Спустя 50 лет К.Ф. Шацилло подвел итоги в статье «"Дело" полковника Мясоедова»111. Вердикт истории как будто не подлежащий обжалованию: не виновен! К этому времени были открыты германские секретные документы и, увы, — ни Мясоедов, ни Сухомлинов не были шпионами. Однако в романе "У последней черты" (Наш современник. 1979. № 4—8) Валентин Пикуль вновь возвращается к обвинению в шпионаже и Мясоедова, и Сухомлинова. Пикуль, безусловно, знал истину. Он, например, восхищался разведывательной деятельностью А.А. Самойло и вывел его в двух романах, но тем не менее настаивал на обвинении в шпионаже и Мясоедова, и Сухомлинова112.
СЕМЬЯ ИГНАТЬЕВЫХ
Под стать филосемиту А.А. Самойло был и другой крупный офицер старой царской армии, граф Алексей Алексеевич Игнатьев (1877—1954), принадлежавший к тому же к одной из самых блестящих фамилий России. Необыкновенно интересная семья для нашего исследования. Княжна Мещерская, рассказом которой мы начали главу, приходилась теткой Алексею
266
Алексеевичу, и она приводит никогда не публиковавшуюся речь генерала Игнатьева на похоронах актера Михоэлса проникнутую пиететом перед еврейским народом и творчеством великого актера. Но клан Игнатьевых огромный, и здесь были все — и антисемиты, и филосемиты. Так, отец Алексея Алексеевича, граф Алексей Павлович Игнатьев, крайний реакционер, в 1905 г. занимавший должность председателя особых совещаний по охране государственного порядка и по вопросам вероисповеданий, был убит эсерами в 1906 г. Он еще в бытность Иркутским генерал-губернатором (1885) способствовал прикреплению сибирских евреев к местам прописки — случай для Сибири уникальный113.
Дядя, граф Николай Павлович Игнатьев, в 1881-1882 г. занимал должность министра внутренних дел. Как раз во время погромов на юге России он выдвинул теорию "эксплуатации" евреями русского народа, приведшую к печальным последствиям: правительство не оказало никакой реальной, в том числе и денежной, помощи пострадавшим, как это обычно делалось раньше. Был запрещен Игнатьевым и публичный общественный сбор в пользу пострадавших. Ему принадлежит крылатое выражение, обращенное к евреям: "Западная граница для евреев открыта". Он же подготовил так называемые "временные правила" ограничения евреев в правах, что, по меткому выражению С.М. Дубнова, вело к "легальным погромам". Его антисемитская деятельность вызывала протест у мало-мальски мыслящих чиновников, вроде министра юстиции Дмитрия Николаевича Набокова (1827-1904), деда великого писателя, и министра финансов Н.Х. Бунге. Все без исключения современники, любых лагерей от крайне правых до левых (Е.М. Феоктистов, Е.А. Перетц и др.), характеризуют Н.П. Игнатьева как патологического лжеца. П.А. Зайончковский называет его Ноздревым и Мюнхаузеном — не лучшая черта для министра!114 Статс-секретарь Перетц 16 ноября 1882 г. пишет: "...Шувалов смотрит на еврейский вопрос вообще благоразумно, то из этого я вывожу, что Толстой, с своей стороны, не желает чуть не поголовного истребления евреев, как предлагал Игнатьев и как желали бы и теперь многие"115.
Другой Игнатьев — Павел Николаевич (1870-1945), сын реакционного министра внутренних дел (двоюродный брат Алексея Алексеевича) — был человеком либеральных взглядов и, находясь с 9 января 1915 по 27 декабря 1916 г. на посту министра просвещения, проводил филосемитскую политику: ему удалось пробить брешь в пресловутой процентной норме. В частности, он разрешил открыть целую сеть еврейских частных гимназий. Наконец, им был утвержден устав первого ев-
267
рейского высшего учебного заведения — частного политехнического института в Екатеринославе. Психоневрологический институт, насчитывавший в своем составе несколько тысяч (!) еврейских студентов, получил статус высшего учебного заведения лишь благодаря усилиям министра. Павел Николаевич усиленно работал над отменой процентной нормы, вроде вторичного ее применения при переходе еврейских мальчиков из подготовительного класса в первый. Вообще за короткое время он проявил недюжинную энергию в борьбе с реальным антисемитизмом в системе образования. Естественно, правые круги поспешили избавиться от либерального министра. В высшей степени хвалебная статья в честь Павла Николаевича появилась в журнале "Еврейский студент" № 26 в феврале 1917 г., уже после отставки Игнатьева. Арестованный местной ЧК в сентябре 1918 г. в Кисловодске, он был освобожден по категорическому требованию Кисловодского совета, где оказались люди, знавшие о его неустанной работе на ниве просвещения. Не пропал Павел Николаевич и в эмиграции. Труженик (трудовая деятельность будущего министра началась с создания знаменитого завода в Гусь-Хрустальном), он поначалу возглавлял заграничную организацию русского Красного Креста, а затем вместе со своей женой, бывшей фрейлиной, урожденной княжной Натальей Николаевной Мещерской, занимался фермерством в Англии и Канаде. В некрологе о нем сказано: «Трагедия графа П.Н. Игнатьева — а вместе с тем трагедия России — заключалась в том, что созидательная "органическая" работа, к которой его так влекло, столь часто натыкалась на почти непреодолимые препятствия»116.
Алексей Алексеевич Игнатьев, с которого мы начали рассказ о семье Игнатьевых, был профессиональным военным, получил блестящее образование в Пажеском корпусе и Академии Генерального штаба. Человек незаурядный, он вошел в конфликт с обществом, когда женился на замечательной балерине Наташе Трухановой, блестящей исполнительнице еврейского танца Саломеи на музыку Р. Штрауса: "В Париже очень понравилась Наташа Труханова — ...артистка с большим темпераментом. Она танцевала полуобнаженная..."117
В 1912—1917 гг. он занимал должность военного агента России во Франции и, надо сказать, что все средства, положенные на его имя русским правительством, были им к общему негодованию эмигрантов переданы советскому правительству. Сам же граф и балерина кормились, выращивая шампиньоны. Такова была честность старого офицера.
А к еврейству у графа Алексея Алексеевича всегда был интерес. Чего стоит, например, выбор им темы для сочинения
268
при поступлении в Академию — "Помни день субботний" ("...я соблазнился желанием применить Моисееву заповедь к действительным потребностям человека в отдыхе в современной обстановке" ) 118. В поисках интеллигентой среды он пытался дружить с еврейским семейством Киршбаумов. В этом киевском еврейском доме собирались музыканты и писатели. Игнатьев честно пишет, что из этого ничего не получилось — его белая фуражка и шпага делали его чужим в этой среде. О евреях и еврействе он пишет свободно, без оглядки, не испытывая неловкости, отмечая и отрицательные еврейские типы (Николай Рафалович, Жак Гинзбург и т. д.), и наоборот, восхищаясь другими — храбрецом Беллом, во главе бригады брошенным на спасение Италии, полковником М.Д. Грулевым (автором книги "Генерал-еврей" и кандидатом на пост военного министра), командиром Псковского полка в Японскую войну и многими другими. Собственно, Игнатьев не испытывает неловкости, как большинство пишущих на эту тему. Вообще он начисто лишен ксенофобии и в каждом народе ищет и находит симпатичные черты — у шведов, финнов, датчан, французов... Исключение — немцы, но это и понятно. Никто, скажем, с такой убедительностью в советской литературе не писал о деле Дрейфуса. Позиция Игнатьева ясна, он на стороне невинно осужденного еврея, но откровенно пишет о том, что всесильные масоны способствовали освобождению собрата. Никакой мистики, никакого преувеличения, никакого насилия над фактами, приспособления мифа для объяснения катастрофы. И безусловное чувство юмора, не изменявшее автору. Такова история с похоронами старого кантониста Александра Ивановича Ошанского, унтер-офицера Кавалергардского полка. Вспомним историю отчисления инвалидов еврейского происхождения из дворцовой команды согласно именному указу Николая II. Но жизнь сложнее. Александр Иванович был отменным печником. При нем печи в казармах не дымили — вещь необходимая в быту, и в обход всех правил и законов его держали в полку, давая мундир, звания, медали и отличия за сверхсрочную "беспорочную" службу. И сыновья были пристроены к делу, тоже сверхсрочниками: один — трубач, другой — писарь, третий — портной. Случайно в день похорон заслуженного солдата дежурным по полку был молодой Игнатьев. Вскоре к полковым воротам стали подъезжать роскошные кареты и сани, из которых выходила элита буржуазного петербургского общества — весь еврейский Петербург: выяснилось, что печник по совместительству был главой еврейской общины. Вместе с тем воинский устав требовал, чтобы на похоронах любого кавалергарда вне зависимости от чина (ве-
269
роисповедание не упоминалось) присутствовали в полной парадной форме все бывшие командиры полка. У гроба старого служаки встретился христианский аристократический военный мир и еврейский торговый и финансовый. После речи раввина гроб старого кантониста подняли шесть бывших командиров полков... Стоит перечитать эту волшебную сказку, чтобы оценить добрый юмор бывшего кавалергарда119.
А вот речь генерал-лейтенанта А.А. Игнатьева "Слово о Михоэлсе" на траурном митинге 16 января 1948 г. В этой речи и преклонение перед Библией, и перед великим мастером, есть и новое прочтение Пушкина и, безусловно, гражданское мужество, проявить которое в России всегда было сложнее, чем воинское:
"Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
Восстает передо мной впервые в жизни образ не ветхозаветного библейского пророка, вдохновившего великого писателя на одно из лучших его творений, а образ современного, ушедшего от нас, и, увы, навеки, мыслителя, мастера слова и друга человечества Соломона Михоэлса.
Пушкина пленила та уходящая вглубь веков еврейская культура, которая дала нам в наши дни этого достойного наследника мудрых мыслителей, выходивших с незапамятных времен из среды еврейского народа. Впрочем, они принадлежали не ему, а всему человечеству, и потерю Михоэлса оплакивает не один еврейский народ, а все гордившиеся им народы Советского Союза и его зарубежные друзья и единомышленники... Они потеряли в нем солнце, светившее и согревавшее не самого себя, а всех окружающих..."120
Самый прославленный военачальник России — А.В. Суворов, по-видимому, относился к евреям благожелательно, особенно это проявилось на юге, где главнокомандующим был Потемкин, известный своим негативным отношением к евреям. Так, при взятии Измаила 135 евреев "прибегнули к покровительству Суворова"121. У А.В. Суворова была обширная переписка с П.И. Турчаниновым, в то время правителем канцелярии Г.А. Потемкина. В одном из писем Суворов с удовлетворением отмечает желание евреев Крыма переселиться в Россию и сетует на молчание по этому вопросу высшей власти122. Письмо имеет подтекст. Дело в том, что Алек-
270
сандр Васильевич находился в добрых отношениях с Петром Ивановичем Турчаниновым (1737 — после 1823), впоследствии генерал-поручиком, действительным членом Российской Академии наук и статс-секретарем Екатерины II. Возможно что Петр Иванович был наиболее близким человеком великого полководца; Суворов знал его с детства и хотя подтрунивал, и довольно колко, над ним, но "целостность их дружбы", как выражался Суворов, ничто не могло поколебать. Так вот — его друг и статс-секретарь был "выкрещенным" евреем123.
А "гуманный внук воинственного деда", по выражению Федора Тютчева, петербургский военный генерал-губернатор, светлейший князь италийский, граф Александр Аркадьевич Суворов-Рымникский (1804-1882) был и вовсе воинствующим филосемитом... Первоначальное образование он получил в иезуитском колледже. Позже учился в Сорбонне и Геттингене. И консервативная печать не раз упрекала Суворова в заимствовании западных либеральных взглядов, в том числе и в еврейском вопросе. Был он также близок к масонству и декабристским кругам, но на площадь не вышел. (По другой версии, как раз вышел — был на стороне мятежников, по третьей — был в рядах защитников престола.) Вероятно, лишь высокое происхождение помогло ему выкарабкаться из щекотливой ситуации. Напомним, что его ближайшим другом был поэт Александр Одоевский. Но наша история не об этом.
Когда в Петербурге возник вопрос о строительстве новой еврейской синагоги и обнаружились трудности в связи с сопротивлением некоторых духовных лиц, депутация евреев направилась к бывшему генерал-губернатору (осень 1868 г.). Он встретил чрезвычайно приветливо еврейских представителей, в числе которых был его знакомец еще со времен губернаторства в Прибалтийском крае, раввин д-р Авраам Нейман. Он долго беседовал с ними об успехах евреев на культурном поприще и обещал всемерную помощь. Через несколько дней Суворов прислал Нейману письмо следующего содержания: "Я весьма счастлив, что могу Вам сообщить, что по Вашему делу я удостоился любезного приема со стороны его высокопреосвященства. Митрополит порицал мытарства, которым подвергается еврейская община в таком добром начинании, и обещал дать надлежащее разрешение... Я очень рад, что косвенно сослужил Вам службу". Но даже эта протекция не помогла сразу, и А.А. Суворов вторично принял делегацию, пораженный тем, что дело застопорилось. В конце концов, разрешение было получено и, любуясь красивейшей синагогой, каждый еврей должен знать, что в ней есть доля усилий князя италийского124. Вообще А.А. Суворов был близок к евреям
271
и даже вознамерился возглавить железнодорожное управление у Полякова. Назначение не состоялось из-за недовольства государя. В некрологе, опубликованном "Русским евреем", о его филосемитизме сказано следующее: "Мы не станем подробно приводить здесь всех фактов, относящихся к этой светлой стороне личности покойного князя, тем более, что для многих из этих фактов не настала еще пора обнародовать; скажем только, что мы потеряли в покойном человека, который своею мощною поддержкою, в самых различных сферах, вызвал к жизни не одно доброе еврейское дело, и своим веским словом предотвратил не одну беду..."125 В журнале "Русский еврей" была опубликована биография князя за подписью Г. Бермана. Символично, что в этом же номере на этой же странице изложена лекция Владимира Соловьева в Петербургском университете об историческом значении иудаизма. В память светлейшего князя община установила восемь стипендий. Дочь покойного, г-жа Козлова, в ответ на соболезнование евреев заявила, что "не напрасно папаша Вас всех так любил". Другая дочь Суворова — г-жа Молостова так же проявляла симпатии к еврейству, что явствует из воспоминаний А.И. Дельвига. Откуда эта любовь к гонимому племени? Поклонники жидомасонства могут радоваться, как мы уже говорили, — князь Италийский в молодости состоял в масонской ложе и был близок к декабристам126.
ДЕМИДОВЫ
С точки зрения нашей темы интересна судьба одного из представителей русской аристократии. Безусловным филосемитом был Демидов Павел Павлович, князь Сан-Донато (1839—1885). В двухлетнем возрасте он потерял отца — Павла Николаевича, которому Россия обязана утверждением так называемой Демидовской премии. Мать его, Аврора Карловна, урожденная Шернваль. Мальчик получил прекрасное домашнее образование, затем в 1856 г. поступил в Петербургский университет на юридический факультет, который закончил в 1860 г. со степенью кандидата. В Петербургском университете в эти годы образовались две "партии": либерально-демократическая и аристократическая; вождем последней невольно оказался Демидов. Но он был настолько добрым и отзывчивым человеком, что демократы прощали ему его происхождение. И своих товарищей впоследствии он не забывал, что делает ему честь. Поселившись в Париже, он продолжал совершенствоваться в
272
юридических науках В 1867 г. он женился на княжне Марии Элимовне Мещерской, через год скончавшейся от родов Поступил на государственную службу и некоторое время работал при Венском посольстве. В 1869 г. возвратился в Россию поселился в Каменец-Подольске, где начал работать на скромной должности советника губернского правления. Здесь и произошло его знакомство с еврейским местечковым бытом. Вскоре он переехал в Киев, был выбран мировым судьей, а затем в 1870 г. стал киевским городским головою. В 1871г. он женился на княжне Елене Петровне Трубецкой. В этом же году он получил придворное звание — егермейстер двора Его Императорского Величества, а в 1874 г. благодарные киевляне переизбрали Павла Павловича на второй срок (3 года), но он отказался из-за болезни. Некоторое время жил в Петербурге, а потом в Италии, на своей вилле Сан-Донато, постоянно пополняя свою коллекцию произведениями искусств. Когда началась русско-турецкая война, князь срочно вернулся в Киев и стал чрезвычайным уполномоченным от Общества Красного Креста. В течение года он неустанно трудился, устраивая помещения для больных и раненых, снабжая их всем необходимым, тратя в основном свои личные средства. В 1880 г. он переехал вновь в Петербург, а после гибели императора вступил на службу в Министерство внутренних дел и одновременно принял должность председателя Банка и Общества для поощрения промышленности. Продолжая энергично заниматься развитием индустрии, он в 1877 г. основал в Нижней Салде первую на Урале фабрику бессемерования стали. На свой риск он занялся разработкой Луньевских каменно-угольных копий на Севере Урала, предвидя широкую будущность этой отрасли. Изделия его заводов на Венской всемирной выставке получили почетный диплом; на Филадельфийской выставке он удостоился бронзовой медали. Деятельность князя не ограничивалась Россией: в память своей первой жены он основал в Париже рукодельную мастерскую имени св. Марии (1868) для 300-400 женщин, во Флоренции — школы, приюты, дешевые столовые для рабочих. На его средства основаны при Нижнетагильских заводах учебные и благотворительные заведения, в их числе: реальное училище, два народных училища для мальчиков и два для девочек, школы грамотности при заводах и рудниках, два приготовительных училища для призрения детей, две больницы, аптеки, фельдшерская школа и библиотеки при школах и т. д. По его инициативе при заводах учреждено 10 сберегательных касс. За последние 9 лет жизни Демидов пожертвовал на пенсии, стипендии и другие пособия в пределах России капитал в размере 1 200 тыс. рублей. До самой рево-
273
люции из этих денег отпускались десятки тысяч рублей на больницы и на пособия. 2 июня 1872 г. император Александр II разрешил Демидову принять титул князя Сан-Донато, пожалованный ему итальянским королем Виктором-Эммануилом, и два ордена Итальянской короны — св. Маврикия и св. Лазаря. В 1879 г. население Флоренции поднесло князю золотую медаль с изображением его самого и его супруги и адрес, подписанный представителями рабочих корпораций. Муниципалитет избрал князя и княгиню Сан-Донато почетными гражданами Флоренции. От императора Александра II Демидов получил орден Станислава 1-й степени. Он собрал уникальную библиотеку, состоящую из 7 тыс. томов, куда вошли и библиотека его отца, и библиотека А.Н. Карамзина, сына историка. Он купил в Италии виллу Медичи, где и скончался 17 января 1885 г. Павел Павлович Демидов, князь Сан-Донато, был похоронен на Урале, вотчине своих знаменитых предков, чью славу он поддерживал и приумножал.
В свете нашей темы имя князя Сан-Донато интересует нас тем, что он является автором брошюры "Еврейский вопрос в России" (СПб., 1883 г.), вызвавшей бурную реакцию в лагере правых. И действительно, как писала газета "Русский еврей", этот случай незаурядный. Русский столбовой дворянин, бывший в течение 13 лет городским головою Киева, "матери русских городов", где совсем недавно (не в его бытность) произошли погромы, назначенный в так называемую Паленскую комиссию по еврейскому вопросу ("Высшая комиссия для пересмотра действующих законов о евреях" от 4 февраля 1883 г.), изучавший экономическое положение евреев еще в то время, когда он был в Каменец-Подольске, он нашел в себе мужество пойти против течения. Человек западной культуры, приверженец социального прогресса, он не мог примириться с несправедливостью. Историю возникновения этой брошюры довольно подробно описал в своих воспоминаниях "За много лет" А.Е. Кауфман127. П.П. Демидов всегда стоял на позициях уравнения евреев в правах, но чтобы подкрепить свои выводы современной статистикой, он обратился, за помощью к Кауфману, который и предоставил в его распоряжение некоторые данные.
Надо сказать, что по традиции семейство Демидовых было всегда дружественно по отношению к еврейству. История возвышения рода Демидовых связана с именем Петра Павловича Шафирова.
Первым шагом к славе и богатству Демидовых явился, как это часто бывает, случай. У проезжавшего через Тулу Шафирова испортился пистолет работы мастера Кухенрейтера. Никита Демидов не только исправил поломку, но и изготовил
274
точную копию пистолета, по своим качествам ничуть не уступавшую оригиналу. Восхищенный мастерством Демидова Шафиров, по достоверному свидетельству, дважды устраивал встречи Никиты Демидова с царем. Впоследствии благодарный Демидов никогда не забывал об этом.
Другой Демидов — Прокопий Акинфиевич (1710-1788) имел тоже неприятности по "еврейскому вопросу". В "сказке" поданной заводчиком в юстиц-коллегию, значится, что он был оштрафован в 1767 г. "за держание им у себя в доме Новороссийской губернии купца Леви Вульфа, за необъявление в полицию паспорта"128.
Основная идея П.П. Демидова, автора упомянутой филосемитской брошюры, в том, что он понял сущность еврейского вопроса, заключавшегося в ненормальных экономических условиях пребывания евреев в черте оседлости. Он требовал предоставить евреям полные гражданские права и свободу передвижения и местожительства, подчинив их общим установлениям в податном, административном и других отношениях.
Брошюра Демидова представляла собой развитие записки, поданной им в Высшую комиссию в апреле 1883 г. Павел Павлович ссылается на опыт Запада, давно отказавшегося от искусственной изоляции еврейского населения и "посему не имеющего в данный момент еврейского вопроса в российской форме". Замкнутость и отчужденность известной части населения или целого племени является обыкновенно следствием испытываемого им внешнего гнета, когда отдельная личность принуждена искать выхода из своего исключительного положения во взаимной сплоченности с людьми, находящимися в одинаковых с нею условиях. Это явление находит себе подтверждение и в истории еврейского племени, которое начиная с самого "рассеяния" и до конца XVIII в. подвергалось жестоким преследованиям и стеснениям в своей религиозной и экономической жизни. Крайнее невежество, религиозный фанатизм и узко национальные общественные и экономические взгляды того времени были главными причинами враждебного отношения христианского населения к евреям.
Эти факторы проявляются во всей средневековой истории гонений, тяготевших над еврейским племенем в Западной Европе. Но с развитием истинной цивилизации и гуманности нетерпимость и враждебное отношение к евреям начинают мало-помалу сглаживаться, и, наконец, совершенно исчезают "к спокойствию и благу государств, в которых они живут"129. Демидов обнаруживает знания по древней истории евреев, а также истории законодательства о евреях в России. В заключение князь касается огульного обвинения евреев в эксплуатации
275
русских. Он подчеркивает, что большинство еврейского населения — труженики, ремесленики и люди физического труда, ничего общего с эксплуатацией не имеющие. Естественно, свои выводы он подкрепляет статистикой. Например, в трех губерниях Юго-Западного края (Подольской, Волынской и Киевской) евреи, ремесленники составляют 41% от общего числа ремесленников. Касается он и погромов, прокатившихся по югу России, отмечая подстрекательство со стороны неизвестных лиц. Здесь уместно сказать об антисемитских прокламациях на украинском языке, распространяемых народовольцами. Сан-Донато внимательно следил за деятельностью революционеров. Так, например, он присутствовал на одном из процессов, состоявшемся в феврале 1882 г.130 Для части революционеров, духовным отцом коих был Нечаев, полагавших, что "еврейская кровь" лишь "смазочное масло на колесах русской истории", погромы были составной частью государственной дестабилизации. Об этом мы писали выше в характеристике Александра III131.
Известный антисемитский тезис о спаивании евреями православного населения князь отвергает также при помощи статистики, доказывая, что в черте оседлости употребление алкоголя ниже, чем в великорусских губерниях, не имеющих еврейского населения.
Говоря об ограничениях, Демидов больше всего возмущается тем, что евреев не берут на государственную службу. На три миллиона еврейского населения имеется всего один офицер и десяток чиновников, в основном по министерству юстиции. "После этого невольно является вопрос: неужели еврейское племя, которому никто не отказывает в даровитости (курсив мой. — С. Д.), считается непригодным для педагогической, судебной, финансовой, административной или иной деятельности..." 132
Сан-Донато считает евреев неотделимой, интегральной частью России — их история насчитывает много веков, да и прошло сто лет с момента получения ими российского гражданства, увы, неполноценного133.
Итак, основной вывод князя Сан-Донато сводится к одному — необходимости предоставить евреям гражданские права в полном объеме. В записке по еврейскому вопросу, поданной немного ранее, в феврале 1883 г., Павел Павлович пишет: "Предоставление евреям полной гражданской равноправности и свободы переселения в великороссийские губернии не преминуло бы восстановить ...равновесие местной экономической жизни. Не может подлежать сомнению, что перенеся свою оседлость в такие местности империи, где особенно ощущает-
276
ся недостаток в посредниках по обмену ценностей — часть еврейского населения в скором времени восполнила бы этот важный пробел. Таким образом, устранение стеснительных условий искусственно прикрепляющих евреев к данной местности, превратило бы их... в живительный фактор нашей экономической жизни.
Состоя одним из членов Высочайше утвержденной комиссии по еврейскому вопросу, я счел своим долгом теперь же высказать мой взгляд на еврейский вопрос, с которым в продолжение 13 лет я имел возможность близко ознакомиться в бытность свою киевским городским головою и благодаря специальному изучению этого вопроса по поручению киевского генерал-губернатора"134. Увы, ни эта записка, ни брошюра, ни мнение, высказанное частью членов комиссии, — не повлияли на юридическое положение евреев. Впрочем, книга князя Сан-Донато была переведена на основные европейские языки: "The Jewish question in Russia". London, 1884; "La question juive en Russie". Bruxelles, 1884; "Juden-Elend im Lande der Romanovs". Berlin, 1891.
Н.П. УВАРОВА
Приблизительно в это же время появилась и работа графини Натальи Петровны Уваровой, урожденной княжны Горчаковой, под названием "Евреи и христиане", в переводе с французского135. В оригинале книга называлась "Juifs et Chretiens". Переводчик С.Л. Демант в предисловии отмечает, что в кругу, где воспитывалась княжна, к сожалению, нет людей, дружественно расположенных к евреям. Но княжна Горчакова изучила под руководством выдающихся ученых еврейского мира Тору, прочитала Талмуд во французском переводе и постаралась проникнуть не только во внутренний мир, но и в обыденную жизнь гонимого племени. Среди многочисленных рецензий на книгу выделяется публикация журнала "Revue Parisienne": "Чрезвычайно интересное произведение в защиту угнетенного и оскорбляемого племени".
С точки зрения графини, упомянутая книга — это апология еврейского народа. Горчакова-Уварова, соединившая в своей фамилии два славных российских рода, пишет панегирик еврейскому народу: "В переживаемую нами эпоху... было бы нелишним бросить более внимательный взгляд на ту единственную нацию, которая среди всеобщего блуждания мысли сумела удержаться во всей своей неприкосновенности.
277
Я говорю о вечносущей Иудейской нации, которая, по-видимому, готова слиться с окружающими народами, но никогда не сольется с ними, о нации, члены которой, даже переходя в новую веру, всегда остаются евреями, подобно Есфири, любимой, но мстительной супруги, а в новейшее время подобно Кремье, Биконсфильду и многим другим людям, еврейское происхождение которых менее общеизвестно, которые, возвысившись до власти, так энергично ратуют за своих соплеменников и влияние которых отзывается на новейших законодательствах"136. Увы, у современных антисемитов эти доводы как раз служат оправданием ненависти. Крещеный еврей, пекущийся о нуждах своего племени, — это троянский конь, своего рода "валенродизм", воспетый Адамом Мицкевичем. Но цитируем далее: «Говоря с нами, еврей притворяется веротерпимым и вполне равнодушным к вопросу о религии; иногда он даже снисходит до того, что называет христианство "очищенным иудаизмом", но в душе он этому вовсе не верит: христианин для него всегда "гой", а он избранник Божий»137. Эта похвала "еврейской самобытности" выглядит и того хуже. И далее: "Религия еврея так тесно связана с его национальностью, что, ратуя через посредство журналов, которыми он располагает, за уничтожение преград, разделяющих племена и народы, громко проповедуя человеколюбие, всеобщее равенство и объединение всех народов, — он сам тщательно избегает всякого поступка, который мог бы его слить с этим единым человечеством, апостолом которого он себя выставляет"138. Графиня продолжает: "Где бы он ни родился — еврей всегда останется евреем; Яков — его отец; Тора и Талмуд — его воспитатели, колыбель его детей; для него с вопросом о религии связан еще вопрос и о национальности.
Из книг своих еврей черпает тот неистощимый запас жизненности, ту веру и надежду на будущее, которые ему так присущи. Он верит, что когда-нибудь сбудется великое пророчество, исполнения которого он ждет уже много веков"139. Однако далее идет вывод, который неприемлем для юдофобов. Уварова утверждает, что, несмотря на осознание своей исключительности, евреи — вполне лояльные граждане своих временных отчизн: "Его отечество — Иерусалим; но так как это народ, в котором наиболее развито чувство национальности, то еврей, не переставая смотреть на Иерусалим как на свою обетованную землю, в то же время способен служить с самоотвержением своему временному отечеству и его властям, не теряя никогда из виду своего происхождения и общих интересов"140. Уварова отмечает и такую деталь еврейской психологии, как абстрактная любовь к Сиону и практическая эмигра-
278
ция в Новый Свет, несмотря на старания "англичан и Монтифиоре ... (Это надо сказать, не утратило своей актуальности и по сей день.) Наталья Петровна убеждена, что "иудейская нация не произнесла своего последнего слова" и тут же противоречит себе: "...евреи как нация достигли крайнего предела развития, которое возможно для человечества при господстве Моисеева закона"141. Далее она переходит к сравнительному анализу нравственности евреев и христиан, отдавая полное предпочтение семитам. Она даже иронизирует: "Еврей, к несчастью, не имеет пороков, что представляет против него тяжкое обвинение: нисколько не смущаясь, он эксплуатирует пороки других наций, но христианин в этом отношении еще меньше церемонится, так как он эксплуатирует пороки своих единоверцев"142. В идеале, по мысли Уваровой, христианство выше иудаизма, но увы, "de facto — нравственность евреев неизмеримо выше нравственности христиан". Семейные узы евреев достойны восхищения, положение женщины, несмотря на "устарелость" законов Моисея и постановлений Талмуда, чрезвычайно почетное. Полное отсутствие пьянства. Воспитание детей имеет важнейшее значение. Первая азбука — Священное Писание. Закон запрещает евреям насмешки; насмешка — это зло, которое может привести к преступлениям, ибо чаще всего направлена против слабого. Стыдливость обязательна, грязные разговоры запрещены. Это залог здоровой и мудрой жизни. Графиня Уварова говорит о социальном мире внутри еврейства. Все евреи — бедные и богатые — воспитаны в духе единой семьи, ибо богатство и бедность — это дело случая и никоим образом разница в имущественном положении не должна разрывать еврейское братство. Они соединены узами солидарности и любви: "Когда один еврей падает, тридцать бегут его поднимать"143. Иногда графиня поднимается до пророческих высот. Она как бы предвидит приход нацистов, предсказывает наступление нового средневековья в виде возрождающего язычества на Западе, тайно скрывавшегося в течение многих веков. (Видимо, она имела в виду в первую очередь Германию.) Вывод печален: "...крещеные народы сделали только попытку быть христианами, а ... истинное христианство появится на земле только тогда, когда Израиль предложит к его услугам свою горячую веру и свою неисчерпаемую энергию144. Графиня, тем не менее, вполне дитя своего времени — она уважительно говорит о "Книге Кагала" Я. Брафмана, но и здесь ее точка зрения отличается от позиции оголтелых клеветников: "Это не столько наступательный кодекс, сколько собрание указаний, имеющих силу среди колен Израиля, для взаимной помощи, чтобы завоевать преимущества, в которых
279
отказывают им законы многих стран"145. Иными словами, по мнению Уваровой, не будь ограничительных законов России по отношению к еврейскому меньшинству, то и не было бы "Книги Кагала".
Наталья Петровна отрицает свое знакомство с сильными мира сего — Ротшильдами и Эфруси. Ее внимание привлекает еврей-ученый и еврей-бедняк. В ответ на антисемитскую критику она обращает внимание на еврейские богадельни и приюты, равных которым, вероятно, она не нашла в христианском мире. Для евреев богадельня — это "возвышенное" предприятие, где бедняк безвозмездно получает кров, пищу (физическую и духовную), заботу и медицинскую помощь.
Графиня призывает христианские народы не искать грехов у евреев, а, напротив, подражать гонимому Израилю.
«Самая хвалебная песня евреев — гимн Моисея, говорит, что они получили свой "жребий на виду у всех других сыновей Адама". Комментаторы Талмуда объясняют эти, довольно темные слова в том смысле, что миссия евреев, возложенная на них Самим Богом — распространить монотеизм среди народов»146. Кажется, Наталья Петровна Горчакова-Уварова именно это считает главным в судьбе еврейского народа.
Опубликовав свою брошюру в России, графиня и не предвидела, каким нападкам она подвергнется.
МЕЩЕРСКИЕ
Говоря об отношении русской аристократии к еврейскому вопросу, уместно вспомнить родственника княжны Мещерской, с письма которой мы начали этот очерк. Речь идет о князе Владимире Петровиче Мещерском (1839—1914), который, вопреки мнению Екатерины Александровны, был воинствующим антисемитом: публицист и беллетрист ультрареакционного, погромного толка, издатель-редактор газеты "Гражданин", где из номера в номер публиковалось "Розыскание" по ритуальному навету. Увы, он тоже был потомком П.П. Шафирова и внуком Карамзина. Кроме того, было хорошо известно о его, как бы сказали теперь, нетрадиционной сексуальной ориентации. Надо сказать, что в России XIX в. это отнюдь не поощрялось. («Вхож во дворец, но с "заднего крыльца"» — А.Ф. Кони.) Военный министр Ванновский утверждал, что произведенное военным ведомством следствие доказало обвинение его в мужеложстве147. В.П. Мещерскому посвящена масса эпиграмм.
280
В 1877 г. Д.Д. Минаев написал о нем:
"Я — внук Карамзина!" —
Изрек в исходе года
Мещерский. — "Вот те на!"
Пошел такого рода
Гул посреди народа —
При чем же здесь порода?
И в наши времена —
В семье не без урода148.
Особенно много изощрялся по адресу порочного князя Владимир Соловьев: «Единственный публицист, за смертью Каткова, есть конечно кн. Мещерский. Он хотя и безграмотен, но за то в качестве содомиста высоко держит знамя религии и морали. Прежде ему, по его профессии, приходилось более всего обращать внимание на задние статьи, но теперь он вдруг публикует, что в своей новой "большой газете он будет обращать особенное внимание на передовые статьи". Можно ли поверить такой резкой перемене направления? И не есть ли это маска для более удобного пропагандирования содомской идеи на основах православия, самодержавия и народности? Так я это понял и из глубины души воскликнул:
Содома князь и гражданин Гоморры
Идет на Русь с газетою большой.
О Боже! Суд праведный и скорый
Яви, как встарь, над гнусностью такой! 149
Увы, Божий суд не спешил, и Владимир Петрович Мещерский прожил длинную и порочную жизнь, отравляя антисемитскими миазмами русскую печать.
Среди авторов и сотрудников "Гражданина" наиболее значительной фигурой был, несомненно, Федор Михайлович Достоевский. Это обстоятельство дало повод Д.Д. Минаеву создать в 1873 г. эпиграмму "На союз Ф.М. Достоевского с князем Мещерским":
Две силы взвесивши на чашечках весов,
Союзу их никто не удивился.
Что ж! первый дописался до "Бесов",
До чертиков другой договорился150.
Укоренившееся за князем Мещерским реноме мракобеса не сумели изменить наметившиеся в конце жизни тенденции осознания необходимости эмансипации евреев и даже возму-
281
щение "делом Бейлиса". А в свое время Мещерский выступал и против крещеных евреев (это была его излюбленная тема), и против защитников евреев среди христиан: "У евреев есть и другие уловки. Они заказывают известным христианам статьи в их защиту. В Париже у них уже целая армия христианских по имени писателей"151. Образчиком такой наемной литературы князь Мещерский называет труд графини Н.П. Уваровой, урожденной княжны Горчаковой. По этой логике и брошюра князя Сан-Донато была составлена исключительно нуждающимся в еврейских деньгах богачом Демидовым.
Князю Мещерскому, жившему на подачках "из особых средств императора", продавшему свою перо мракобесу "Лампадоносцеву", как называл писатель Лесков Победоносцева, бескорыстное служение идее непонятно. Тут, говоря о еврейских деньгах, стоит вспомнить и Николая Лескова, как современника князя Сан-Донато, графини Уваровой и В.П. Мещерского. Известно, что Николай Семенович Лесков (1831 — 1895) имел репутацию правого писателя и даже антисемита. Последнее обстоятельство, как иронично отметил Лев Аннинский, "унизительно опровергать". Вопрос довольно сложный, и анализ творчества Лескова в нашу задачу не входит. (Для памятки любознательному читателю укажем, что Лескова "втравил в литературу" Николай Илларионович Козлов, крещеный еврей, прадед Владимира Набокова, упоминавшийся нами). Мы говорили уже, что в 1882 г. была создана так называемая Паленская комиссия, и еврейская община Петербурга искала эксперта по разделу "быт и нравы евреев". Выбор пал на Лескова. В начале 1883 г. к Лескову явился для переговоров адвокат П.Л. Розенберг. К концу года была написана небольшая работа "Еврей в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу". Брошюра была издана в количестве 50 экземпляров, исключительно для комиссии Палена. Писатель получил от "еврейского кагала" всего-навсего 1 000 рублей. По словам историка С.М. Дубнова, сам Николай Семенович придавал мало значение свой работе: "То была вымученная апология..."152 Да и Дубнов счел ее не научной. Но, конечно, дело было не в этом: основной постулат брошюры сводился к тому, что нравственность христиан несравненно ниже еврейской нравственности. Главное же то, что в брошюре содержался призыв дать евреям равноправие. Спустя шесть лет писатель получил письмо от Вл. Соловьева: «С благодарностью возвращаю вам ваши книжки, которые прочел с великим удовольствием. "Еврей в России" по живости, полноте и силе аргументации есть лучший по этому предмету трактат, какой я только знаю»153. Как видим, мнения самого автора, известного историка и великого
282
философа, не совпадали... Существует и еще одна весьма прозаическая версия "радикализации" Лескова. По словам И.Е. Репина, его взгляды изменились под влиянием "евреечки-курсистки", что тоже вписывается в картину мирового заговора еврейства при помощи соблазнительных "самок"154. В этот период своей жизни, как вспоминает один мемуарист, желая загладить свой грех перед евреями, которых он в достаточной степени окарикатурил, Лесков проникся к ним большим сочувствием. На склоне своих лет он с восторгом декларировал стихотворения С. Фруга155.
Возвращаясь к русской аристократии, скажем, что крупнейший эксперт по еврейскому вопросу того времени кн. Николай Николаевич Голицын (1836-1893), в 70-е годы подольский вице-губернатор, не питал к евреям особой любви. Публиковался у Мещерского в "Гражданине", был редактором реакционнейшего "Варшавского дневника", а также автором печально известного "Русского законодательства о евреях" (1880—1881). Ему принадлежит следующее высказывание о еврейском народе: «Иудаизм прославился своим искусством извращать факты, действовать всякою интригою, подтасовкою, отводить глаза, агитировать, устрашать, клеветать и лгать... лгать без конца, без перерыва, в течение долгих веков, ежечасно и ежеминутно творя то всесильное начало "еврейской лжи", которое в наше время стремится, кажется, чуть не к порабощению всего мира»156.
И в других работах он был последовательным антисемитом. В записках, представленных Паленской комиссии, Голицын придерживался самого юдофобского взгляда на еврейство. Но при всем при том, нельзя забыть, что при голосовании примкнул к большинству, склонившемуся в сторону предоставления евреям гражданского равноправия.
В заключение мы лишь можем констатировать тот факт, что русская аристократия в вопросе филосемитизма отнюдь не оказалась более передовой, чем другие сословия. Впрочем, утверждение о том, что в царской России евреям не давали делать карьеру, болезненно переживалось истинными монархистами, видевшими в империи идеал человеческого общества. Находясь в эмиграции, один из апологетов империи привел длинный список инородцев, сделавших карьеру на императорской службе. Правда, мемуарист подходит к проблеме еврейства, закрывая глаза на вероисповедание. Выкресты и иудаисты перечислены вместе, последних, впрочем, немного: "Есть ходячее мнение, что у нас не давали хода евреям и угнетали их, не допуская на государственную службу. Надо признать фактом, что многие евреи выдвинулись на поприще свободных
283
профессий: в журналистике, адвокатуре, профессуре, медицине, торговле. Но и на государственной службе многие пробили себе дорогу и заняли высокие посты. Знаменитый русский канцлер и министр иностранных дел времен Николая I граф Нессельроде родился от отца бельгийца и матери — франкфуртской еврейки. Его потомки были видными русскими государственными деятелями. Еврейская кровь была у министра финансов времен Николая I гр. Канкрина, министра двора гр. Фредерикса и у потомков по женской линии вице-канцлера Петра Великого гр. (барона. — С. Д.) Шафирова (Шапиро), обер-прокурора святейшего Синода Самарина, б. московского губ. предводителя дворянства, и у члена государственного совета Семенова-Тянь-Шанского, что было заметно по их внешности. Также у члена государственного совета статс-секретаря Перетца, директора Александровского лицея шталмейстера Саломона; сенаторов: Гредингера, Утина, Позена и товарища министра юстиции Гасмана; вице-директора министерства юстиции Гальперина; заведывающего церемониальной частью министерства двора гофмейстера Кониара; у ряда дипломатов с фамилией Гире — один был министром; потомки придворных банкиров бароны: Штиглиц, Фелейзен, Капгер были тайными советниками; евреи члены суда: — саратовского Тейтель, архангельского Варшавский и пограничного Мейер достигли — первый чин действительного, а два других статского советника; начальником канцелярии главного управления Красного Креста был А.Д. Чаманский; в департаменте полиции служили: Гурович и Виссарионов — оба занимали высокое положение; И.Я. Гурлянд был членом совета министра внутренних дел, а А.О. Немировский — сперва саратовским городским головою, а затем по выбору П.А. Столыпина — управляющим городским отделом министерства внутренних дел. Много было на государственной службе евреев-инженеров, в особенности гражданских; среди инженеров путей сообщения выделялись: Верблюнер, Абрагамсон, Богуславский, Нахман и мн. другие. Лейб-медик Гирш, знаменитый харьковский окулист Гиршман, известные строители железных дорог: барон Кроненберг, Блиох, Поляков и Варшавский были тайными советниками. Солистом Его Величества был венгерский еврей Ауэр. Действительными статскими советниками были: Проппер, Нотович, Вейнер (его сын служил в министерстве иностранных дел); доктор Гордон, знаменитый проф. Захарьин, барон Гинцбург, профессор Лондон и банкиры — Манус и Утин. Бродские были предводителями дворянства в Екатеринославской губернии. Все перечисленные лица были талантливые люди, а большинство и достойнейшие деятели"157.
Очерк 5
ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
И ИСКУССТВЕ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕВРЕИ
По поводу издания моей книги "История одного мифа" (М., Наука, 1993) появилось несколько десятков критических статей и рецензий, и первой среди них была статья Юрия Буйды в московской "Независимой газете", перепечатанная затем в Израиле в "Новостях недели" 5 апреля 1994 г. Автор указывает на то, что еврейская тема у Пушкина "не была даже третьестепенной", и далее по поводу рассуждения об отсутствии положительного героя замечает: "Неужели Дудаков всерьез полагает... присутствие — да еще положительного — образа пришельца из неведомого Западного края? Так и представляешь себе национальных классиков, напряженно размышляющих о том, чтоб им еще этакое именно о евреях написать. (Или, скажем, о камчадалах, положительный образ коих странным образом отсутствует у Пушкина)". По-видимому, критик недостаточно внимательно читал книгу, ибо из нее явствует, что после разделов Польши евреи были отнюдь не "неведомым племенем". Не говоря уже о том, что "чудная история" еврейского народа не раз завораживала русских писателей: и предшественников Пушкина, и его современников, да и его самого.
"Старик Державин", Гаврила Романович (1743—1816), хитроумный вельможа и великий поэт, командированный Павлом I в Белоруссию в 1800 г. исследовать причины голода, составил "Мнение об отвращении недостатка хлеба, обузданием корыстных промыслов евреев, о их преобразовании и проч." Конечно, "Мнение..." не ограничивается односторонним пере-
285
числением "вин" евреев, но он остерегал власти от огульных репрессий, прибегая к высокой патетике Ветхого Завета: "[Они] От последнего разорения Иерусалима рассеялись по лицу земному... переходят с места на место, через столько столетий; когда несколько царств разрушилось и почти их следы исчезли, они удерживают свое единство, язык, веру, обычаи, законы. Древле предопределенный народ владычествовать, ныне унижен до крайности..."1 И далее следует важнейший вывод, обращенный к верховной власти: "...ежели всевысочайший Промысл, для исполнения каких своих неведомых намерений, сей по нравам своим опасный народ оставляет на поверхности земной и его не истребляет; то должны его терпеть и правительства, под скипетр коих он прибегнул, споспешествуя установлению судеб, обязаны простирать и о Жидах свое попечение"2.
В этом же сочинении промелькнула одна мысль, имеющая большое значение для будущей истории еврейства. Говоря о "секте хасидов", Державин написал следующее: "Некоторые учением просвященные люди уверяли меня, что сия секта подобна иллюминатам ...но... точных сведений не имею...". Гаврила Романович, вероятно, в передаче мнений, порочащих хасидов, использовал доносы на их вождя Шнеура Залмана бен Баруха (1742-1812).
В конце царствования Екатерины II и в начале царствования Павла I поступили доносы на Шнеура Залмана по обвинению его в принадлежности к франмасонству и распространении идей иллюминатства, мартинизма, розенкрейцерства и даже "жакобинства". Естественно, что донос, спровоцированный религиозными противниками хасидизма (миснагдим), написанный рукой русского чиновника, во времена Французской революции, когда уже были арестованы Радищев и Новиков, содержал весь набор штампов тех лет и, конечно, не имел под собой никакой основы. Вождь хасидов был освобожден из-под ареста. В архивах сохранилось несколько доносов и рапорт по начальству: "Объяснение о начале и правилах секты Каролинов". Так называли иногда хасидов по названию предместья г. Пинска — Каролины, где была их молельня. По высочайшему повелению от января 1800 г. секту "каролинов" признали "терпимой". Вот несколько цитат из доносов: "Известной Еврейской секты в Белоруссии находившийся Патриарх или начальник Соломон Борхович живет в Лосне, в 8 милях от Витебска. Число их в Белоруссии и Литве простирается до 40 000 человек. Уверяют, что они весьма дерзко говорят насчет закона и общественных обязанностей. Таинственное принятие их в Секту сопровождается клятвою, и они пред своим началь-
286
ником обязуются слепым и неограниченным повиновением. По многим признакам заключать вероподобно можно, что сия секта есть иллюминатов". В "Объяснении" о секте сказано, что "прочие жиды уподобляют (хасидизм. — С. Д.), может быть, не без причины, франмасонской секте, и, особливо, мартинистам...". В другом месте излагается следующее: "По доносу, присланному из Вильны, подписанному евреем ...Давидовичем, якобы Рабин Зальман Борухович собирал молодых евреев — хочет французской Революции..." Таким образом, мы имеем первое упоминание о связи еврейства с масонством и революцией, легшее в основу будущего мифа о жидо-масонском мировом заговоре...
А освобожденный из-под стражи хасидский "вождь" отблагодарил русское правительство, призвав евреев во время войны 1812 г. поддержать всеми возможными средствами Александра I. Конечно, пока разобрались в наветах, Шнеур Залман дважды побывал в Петропавловской крепости. Дело Шнеура Залмана было вполне в духе времени. Но и современник любавического раввина — великий поэт и царедворец — также попал в опалу.
В 1795 г. Державин поднес рукописный экземпляр своих стихов своей повелительнице, "царевне Киргиз-Кайсацкия орды". Каково же было удивление поэта, когда после этого вокруг него образовался вакуум: придворные попросту от него "бегали". Говорили, что "кнутобойцу" Шешковскому было поручено допросить поэта: дело выяснилось — поэт был обвинен в сочинении якобинских стихов. Это было знаменитое переложение 81 псалма царя Давида "Властителям и судьям". В объяснительной записке "Анекдот" Гаврила Романович "ясно доказал", что автор псалма "царь Давид не был якобинцем"3.
Это об одном из предшественников Пушкина. Что же касается самого Александра Сергеевича, то о его отношении к еврейству написано достаточно много. Отсылаю к известной статье Д. Заславского4. Но обратим внимание читателя на одну запись Пушкина, относящуюся ко времени южной ссылки: "3 апреля. Третьего дня хоронили мы здешнего митрополита; во всей церемонии более всего понравились мне жиды: они наполняли тесные улицы, взбирались на кровли и составляли живописные группы. Равнодушие изображалось на их лицах — со всем тем ни одной улыбки, ни одного нескромного движенья! Они боятся христиан и потому во сто крат благочестивее их"5. Тональность этих фраз выдержанна и корректна (кроме употребления слова "жид", что, вероятнее всего, объясняется пребыванием в местах, где слово "еврей" было менее
287
употребительно). Правда, у Пушкина вообще, скажем в отличие от Лермонтова, соотношение употребления слов "жид — еврей" неизмеримо больше в сторону слова "жид". Он даже жаловался в письме от 29 июня 1824 г. к А.А. Бестужеву на цензуру, не пропускающую слова "жид" и "харчевни". "Скоты! скоты! скоты!" — восклицает негодующий поэт. Спустя много лет ему вторит Ф. Достоевский: «... обвиняют меня в "ненависти", что я называю иногда еврея "жидом"? Но, во-первых, я не думал, что это было так обидно, а во-вторых, слово "жид", сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: "жид, жидовщина, жидовское царство" и проч.»6. Но почему евреи "боятся христиан и потому во сто крат благочестивее христиан"? По-видимому, объяснение лежит в истории нескольких важных событий, относящихся к 1821 г. В апреле в Константинополе был убит греческий патриарх Григорий V, родом из Морей. Когда Александр Ипсиланти (за судьбой которого внимательно следил Пушкин) поднял восстание и перешел Прут, турецкая чернь, подстрекаемая мусульманским духовенством, повесила патриарха в полном облачении на воротах патриархии. Тело его было перевезено в Одессу. "Фанариотские" конкуренты евреев стали распространять слухи, будто в константинопольских зверствах приняли участие евреи. И в день предания тела патриарха земле, 19 июня 1821 г., разразился первый еврейский погром в Одессе и, по-видимому, вообще первый погром после присоединения польских земель к России. Были убийства и грабежи. Сотни евреев остались без средств к существованию. Меняльные конторы были разграблены, синагога разрушена. К погромщикам присоединились солдаты и казаки... Короче говоря, "русский бунт, бессмысленный и беспощадный". И, вероятно, Александр Сергеевич наблюдал погром в Одессе. Из его жизнеописания следует, что с мая 1821 г. (4 мая он был принят в масонскую ложу) по июль 1823 г. он жил в Одессе. Ужасные сцены запечатлелись в памяти поэта, и спустя 15 лет мы найдем отголоски этих воспоминаний на страницах "Капитанской дочки"...
Стоит коснуться еще одного вопроса, связанного с именем Пушкина. Обычная софистика: библейский народ и современное еврейство — суть не одно и то же. Но у Александра Сергеевича это также не всегда срабатывает. В неотправленном письме к П.Я. Чаадаеву на утверждение последнего, что христианство, получаемое из рук "жалкой", "презираемой" Византии, отторгло Россию от благодатного Запада, он замечает: "Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родил-
288
ся евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно?"7
Петр Яковлевич Чаадаев (1794—1856), человек, которому Пушкин многим обязан в становлении своей личности, не мог не коснуться еврейской проблемы. Для него, как человека глубоко религиозного, это не было случайностью. В 7-м философическом письме он анализирует личность Моисея, который, по его мнению, является "самой гигантской и величавой из всех исторических фигур"8. Чаадаев убежден в исторической реальности Моисея, "величайшего законодателя еврейского народа". Далее Чаадаев пишет: "И когда я размышляю об этом необыкновенном человеке и о том влиянии, которое он оказал на людей, я не знаю, чему больше удивляться: историческому ли явлению, виновником которого он был, или духовному явлению, каким представляется его личность. С одной стороны — это величавое представление об избранном народе, то есть о народе, облеченном высокой миссией хранить на земле идею единого Бога, и зрелище необычайных средств, использованных им с целью дать своему народу особое устройство, при котором эта идея могла бы сохраниться в нем не только во всей полноте, но и с такой жизненностью, чтобы явиться со временем мощной и непреодолимой, как сила природы, пред которой должны будут исчезнуть все человеческие силы и которой когда-нибудь подчинится весь разумный мир. С другой стороны, человек простодушный до слабости, умеющий проявлять свой гнев только в бессилии, умеющий приказывать только путем усиленных увещаний, принимающий указание от первого встречного; странный гений, вместе и самый сильный, и самый покорный из людей! Он творит будущее, и в то же время смиренно подчиняется всему, что представляется ему под видом истины; он говорит людям, окруженный сиянием метеора, его голос звучит через века, он поражает народ как рок, и в то же время он повинуется первому движению чувствительного сердца, первому убедительному доводу, который ему приводят! Не поразительное ли это величие, не единственный ли этот пример?"9 Моисей, по Чаадаеву, патриот, ибо "воздействовать на людей можно лишь через посредство того домашнего круга, к которому принадлежишь, той социальной семьи, в которой родился; чтобы явственно говорить роду человеческому, надо обратиться к своей нации, иначе не будешь услышан и ничего не сделаешь... яснее выступает во всей этой работе высокого ума глубоко универсальный замысел — сохранить для всего мира, для всех грядущих поколений понятие о Едином Боге"10. Надо сказать, что эти высокие слова в адрес Моисея
289
равно относятся и к еврейскому народу. Любопытно, что есть одно место в 6-м письме, касающееся еврейского народа, хотя он там и не назван. Рассуждая о "характере... постоянного воздействия божественного разума в нравственном мире", Петр Яковлевич неизбежно должен был коснуться иудаизма: "...нет ничего удивительного в том, что существовал народ, в недрах которого традиция первых внушений Бога сохранилась чище, чем среди прочих людей, и что от времени до времени появлялись люди, в которых как бы возобновляется первичный факт нравственного бытия. Устраните этот народ, устраните этих избранных людей — и вы должны будете признать, что у всех народов, во все эпохи всемирной истории и в каждом отдельном человеке божественная мысль раскрывалась одинаково полно и одинаково жизненно, — а это значило бы, конечно, отрицать всякую индивидуальность и всякую свободу в духовной сфере, иными словами — отрицать данное. Очевидно, что индивидуальность и свобода существует постольку, поскольку существует разность умов, нравственных сил и познаний. А приписывая лишь немногим лицам, одному народу, нескольким отдельным интеллектам, специально предназначенным быть хранителями этого клада, чрезвычайную степень покорности начальным внушениям или особенно широкую восприимчивость по отношению к той истине, которая первоначально была внедрена в человеческий дух, мы утверждаем лишь моральный факт, совершенно аналогичный тому, который постоянно совершается на наших глазах, именно что одни народы и личности владеют известными познаниями, которых другие народы и лица лишены"11. Совершенно ясно, что "Басманный философ" говорит о Древнем Израиле и его пророках: именно среди них в наибольшей полноте сохранилась идея монотеизма.
Среди других высказываний Чаадаева обращает на себя внимание его отрицание протестантизма. Тем удивительнее участие Петра Яковлевича в полемике, развернувшейся на страницах парижской прессы после публикации статьи Ф.И. Тютчева "Папство и римский вопрос" (1850). В дискуссии приняли участие с французской стороны Лоренси, а с русской — А. С. Хомяков. В ответ на обвинение Восточной церкви в склонности к протестантизму А.С. Хомяков писал: "Не станет же серьезная полемика возражать нам указанием на ереси и расколы, возникшие в России. Конечно, мы горько оплакиваем эти духовные язвы нашего народа; но было бы крайне смешно жалкие порождения невежества, а еще более неразумной ревности к сохранению каких-нибудь старинных обрядов, сопоставить протестантству ученых предтеч Рефор-
290
мы"12. П.Я. Чаадаев сделал замечания на брошюру Хомякова. При всей его нелюбви к Реформации Петр Яковлевич указал на важнейшую причину приостановки распространения протестантизма в России — силу и жестокость власти и прислуживающей ей церкви: "Нет, не перед верованием остановилась ересь, упрочившаяся на границах величайшей из православных стран, а перед восточным деспотизмом, опиравшимся на восточный культ, целиком замкнутый в своих бесплодных обрядностях и уже по одному этому бессильный открыться религии, враждебной всякому внешнему великолепию. Сам будучи идеей, протестантизм остановился на этот раз вполне естественно там, где кончалось царство идеи, где начиналось царство грубого факта и обряда; вот и все... правда, что бы вы ни говорили, заключается в том, что протестантизм неоднократно проникал в Россию под различными видами; что он встретился там с тем гнусным и нелепым преследованием, которое обращает наших собственных отщепенцев, людей в основе своей крайне безобидных, во врагов общественного порядка; что поневоле пришлось ему поворотить оглобли перед светской властью, прошедшей школу монголов и поддерживаемой религиозной властью, не менее ее ревнующей об использовании этого рокового наследия"13. В качестве примера русской ереси протестантского толка он приводит духоборов. Выше мы уже писали и о том, что русские жидовствующие, несмотря на репрессии светских и духовных властей, "не поворотили оглобли", а лишь ушли в глубокое подполье, чтобы при более или менее подходящих условиях вернуться к легальной деятельности.
В нескольких письмах, отправленных и не отправленных Чаадаеву и Вяземскому, А. С. Пушкин анализировал проблему единения церквей и весьма нелестно отозвался о греческом православии: "Не понимаю, за что Чаадаев с братией нападает на реформацию. C'est à dire un fait de 1'ésprit chrétian*.
Греческая церковь — дело другое: она остановилась и отделилась от общего стремления христианского духа"14.
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841), младший современник Пушкина, был намного сдержанней по отношению к еврейству, чем его современники, даже в смысле словоупотребления. Вместо слова "жид" он чаще употреблял нейтральное — "еврей". Да и то, как замечено одним из исследовате-
________________
* На известное проявление христианского духа. Насколько христианство потеряло при этом в отношении своего единства, настолько оно выиграло в отношении своей популярности (франц.). — Пер. ред. тома.
291
лей, чуть ли не однажды обнаруживается отрицательный смысл слова "жид" — в "Маскараде", где оно вложено в уста малопривлекательного человека для характеристики еще более непривлекательного. Вообще Лермонтов и еврейство — одна из интересных и малоисследованных областей русской литературы. Последняя точка здесь еще не поставлена. Интересующихся отсылаю к работам Л.И. Лазарева и Л.П. Гроссмана15. К слову, уникальные сведения о происхождении поэта автору этих строк сообщил в 1964 г. пушкинист Виктор Азарьевич Гроссман (автор нашумевшего романа "Арион"). При этом он ссылался и на Ираклия Андроникова как человека, знавшего эту тайну. Отцом Михаила Юрьевича якобы был французский еврей Ансельм Леви (Levis), личный врач бабки поэта Арсеньевой. Косвенным подтверждением "неблагополучия" в этом вопросе является перезахоронение праха Юрия Лермонтова в Тарханах16. Кстати говоря, в одной нацистской наукообразной книге, вышедшей в Германии еще до прихода Гитлера к власти, я обнаружил портрет Лермонтова, размещенный вместе со многими другими для характеристики еврейского типа внешности. Портрет Михаила Юрьевича располагался в соседстве с фотографией юноши, еврея из Йемена. Великий русский поэт оказался в "достойной компании": Альберт Эйнштейн, Барух Спиноза, Людвиг Берне, Стефан Цвейг, Чарли Чаплин, Максимилиан Гарден и другие17. На восточные черты внешности поэта обратил внимание и И.А. Гончаров: "Тут был и Лермонтов... тогда смуглый, одутловатый юноша с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами"18. В творчестве Лермонтова некоторые исследователи находили примат Ветхого Завета. Первым написал об этом И. Розенкранц, отметивший влияние "ученого еврея" д-ра Леви на развитие интереса Лермонтова к еврейству19. Тончайшее наблюдение было сделано Л.И. Лазаревым: "Создание Фернандо представляет собою сплошное чудо вдохновения, и никак не поймешь, откуда, каким путем Лермонтов, совершенно чуждый еврейству, уловил такие тонкие сокровенные движения еврейской души"20.
Леонид Гроссман блистательно доказал, что на автора "Испанцев", безусловно, повлияло Велижское дело по кровавому навету, длившееся 12 лет. Имеется по крайней мере несколько источников, откуда Лермонтов мог черпать сведения об этом деле: во-первых, его родственником был знаменитый адмирал Н.С. Мордвинов, "дедушка Мордвинов", защитник евреев; другим информатором мог быть родной дядя Е.А. Сушковой —Николай Сергеевич Беклемишев, "командированный в Витебскую губернию, производить расследование об убиении жида-
292
ми христианского ребенка" и так же весьма порядочный человек, настаивавший на занесении в протокол заявлений евреев, бросающих тень на действия следственной комиссии21.
В ранних черновиках "Демона" можно обнаружить следующую запись: «Демон. Сюжет. "Во время пленения евреев в Вавилоне (из Библии). Еврейка. Отец слепой. Он в первый раз видит ее спящей. Потом она поет отцу про старину и про близость ангела — как прежде. Еврей возвращается на родину. Ея могила остается на чужбине"». Впоследствии Лермонтов перенес действие в Испанию, а затем окончательно на Кавказ. Отказ от "еврейского" варианта, возможно, был связан с ассоциативным фактором сюжета в Евангелии.
В изучении творчества Лермонтова чрезвычайно важно его знакомство с творчеством Рембрандта, как мы знаем, также испытывавшего неодолимую тягу ко всему еврейскому: «Еврейский мир привлекал его прежде всего той горечью и скорбью, которая отвечала ...его душевному строю; сюда же манили его библейские предания с их трагизмом страстей и декоративностью форм; нищета еврейской массы и восточная орнаментика синагоги, вместе с убранством раввинов, давали великому портретисту темы и образы, близкие к его творческим вкусам и художественным исканиям. Здесь ли нашел Лермонтов истоки для своих ранних вдохновений, обращавших к аналогичной тематике? Родственность ли гениев сказалась в этом обращении юного поэта к "рембрандтовскому" художественному иудаизму? ...Откуда это проникновение в еврейскую психологию, неуловимый еврейский привкус...? Откуда это чутье у него самой сущности "иудаизма", его мироощущения и откуда это понимание основного духа Библии...?»22 Отметим высочайшее гражданское мужество, проявленное Гроссманом при публикации этой статьи — 1946 год! Ведь издатели "Лермонтовской энциклопедии" в 1981 г. умудрились в статье "Испанцы" ни разу не употребить слово "еврей"! Кроме того, Леонид Гроссман многим обязан художнику Леониду Пастернаку, как раз исследовавшему еврейский след в творчестве голландского живописца23.
Вопрос о происхождении Лермонтова 15 лет тому назад обсуждался в узком кругу работников института Восточно-Европейского еврейства при Иерусалимском университете. Один из присутствующих, кстати, не выступавший, не преминул очень быстро опубликовать мало аргументированную статью в газете "Наша страна", скрывшись за псевдонимом, даже не сославшись ни на один источник и ни на одного из присутствовавших... В спешке были допущены и некоторые ошибки24.
293
Но есть... еще одна сторона вопроса. Лермонтов в юношеской поэме "Сашка" (написана между 1835 и 1839 гг.) красавице Тирце предает отца-шпиона:
...отец ее был жид...
Когда Суворов Прагу осаждал,
Ее отец служил у нас шпионом,
И раз, как он украдкою гулял
В мундире польском вдоль по бастионам,
Неловкий выстрел в лоб ему попал.
И многие, вздохнув, сказали: "Жалкой,
Несчастный жид, — он умер не под палкой!"25
Впрочем, соотнесемся со временем. Варшава (Прага) была взята штурмом в 1794 г. русскими войсками под командованием Суворова. Имеются документальные свидетельства современников об использовании шпионов великим полководцем. Во время триумфального возвращения из Итальянского и Швейцарских походов, в Праге (чешской) Суворов на одном из банкетов встретился со шведским генералом, бароном (впоследствии графом) Густавом Маврикием Армфельдтом, который в письме к дочери подробно описал свои встречи с Александром Васильевичем. Отметим, что эти воспоминания необыкновенно интересны и доброжелательны. Европеец сразу отметил природу чудачеств старика-полководца: это мимикрия, защита личности в условиях бесчеловечного режима. Военный гений Суворова признается Армфельдтом безоговорочно, за одним исключением, кстати, общим для российских военачальников: большие людские потери ради достижения цели. Армфельдт заметил Суворову по поводу одного эпизода во время сражения при Треббии: «"Но ваши шпионы могли бы об этом вас известить". Суворов ответил о себе в третьем лице: "Шпионы, добрейшее превосходительство, шпионы! Суворов никогда таких не употребляет; это люди, которых можно вешать и которых вешают, и я не хочу быть причиной смерти никого". Потом он перекрестился и сказал мне: "Святой Дух дает мне внушения; это лучший шпион", и он опять перекрестился»26. Кажется, штамп и стереотип в лермонтовской поэме привел к исторической ошибке — Суворов не использовал шпионаж...
Вообще укоренение штампа "жид-шпион", возможно, произошло под влиянием польской литературы. Во всяком случае в отрывочных воспоминаниях Пушкина о встрече с В.К. Кюхельбекером присутствуют оба компонента — польский и еврейский: "...вдруг подъехали четыре тройки с фельдъегерем. Вероятно, поляки? — сказал я хозяйке... Я вышел взглянуть на них.
294
Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою, в фризовой шинели, и с виду настоящий жид — я и принял его за жида, и неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие; я поворотился им спиною..."27 Что же касается тургеневского "Жида" (1846 г.), то, по меткому замечанию Д. Заславского, для еврейской красавицы русская литература делала исключение и посему шпиону Гиршелю Иван Сергеевич подарил красавицу-дочь Сарру.
Тимофей Николаевич Грановский (1813—1855), еще один младший современник Пушкина, опубликовал в журнале "Библиотека для чтения" статью "Судьбы еврейского народа (От падения Маккавев по нынешнее время)". Современность почти отсутствует в этой статье, хотя она рядом, она стучится в двери, она уже на пороге нового времени. Историк Грановский выдвигает интересную версию откупа церквей на Украине. Но вот что говорится о еврейском народе: "Очень недавно сыны Израиля были среди нашей образованности несчастнее японских кожевников. Рассеянные по всем краям, без отечества, без политического быта, они не находили у других народов ни безопасного приюта, ни сочувствия своим страданиям. Церковь громила их своими проклятиями; народ их ненавидел, правительства презирали их и грабили; даже ученые, которые занимались их историей, разделяли их предубеждения и, казалось, искали в летописях этих несчастных изгнанников только новых причин ненависти и новых поводов к обвинению"28. Замечательно в этом отрывке полное отсутствие места действия и времени. По цензурным соображениям сцена отсутствует, создается впечатление вневременности происходящего, сравнение с японскими кожевниками отодвигает евреев на край известного нам мира, хотя в условиях России это сравнение можно было вполне заменить бесправием крепостного сословия. А каких ученых имел в виду Грановский? На русской почве — это историк В.Н. Татищев и Г.Р. Державин.
Далее Грановский говорит о "чудной" истории народа, "который, утратив все условия отдельной народности, неизменно пронес через длинный ряд веков и переворотов свои религиозные верования, свой первобытный характер, свои предания о минувшем и надежды на будущее"29. Грановский прослеживает историю евреев с древнейших времен. Ему известно о существовании еврейской колонии "Ка-ин-фу" в Китае или о таком малоизвестном факте, как обитание двух групп евреев — черных и белых — на Малабарском берегу.
295
С негодованием Грановский пишет о средневековых преследованиях евреев во времена крестовых походов или о жестокости Иоанна Безземельного или ханжестве Филиппа Красивого, ограбившего евреев и "подарившего" отнятую синагогу своему кучеру. С гневом и омерзением пишет Грановский о положении евреев в Польше. И именно здесь, с большим тактом, он выдвигает новую версию откупа церквей на Украине. Грановский с надеждой смотрит на будущее еврейского народа.
Конечно, большая часть исследования молодого ученого представляет собой компиляцию из трудов историков Георга Бернгардта Деппинга и Жана Батиста Капфига, но в части освещения истории евреев Польши и России (включая историю франкистов) он вполне самостоятелен.
Занимаясь историей еврейского народа, Грановский и свою частную переписку наполнил библеизмами вроде обращения к сестре: "Я жду тебя как Евреи ожидают своего Мессию..."30
Одним из самых интересных современников А.С. Пушкина был князь Владимир Федорович Одоевский (1803—1869), философ, писатель, литературный критик, композитор, музыковед, ученый-химик, изобретатель, футуролог — фигура почти из эпохи итальянского Возрождения.
Один из последних Рюриковичей (по отцу), а по матери — сын бывшей крепостной крестьянки, он соединял в себе черты высокого аристократизма и истинной, не фальшивой, демократичности. А.Ф. Кони, познакомившись с ним в конце его трудовой и земной жизни (Владимир Федорович интересовался судебной реформой), оставил о нем восторженный очерк-воспоминание: "Вооруженный всесторонним знанием, оживленным жадностью пытливого ума, Одоевский всю жизнь стремился к правде, чтобы служить ей, а ею — людям. Отсюда его ненависть к житейской и научной лжи, в чем бы она ни проявлялась; отсюда его отзывчивость к нуждам и бедствиям людей и понимание их страданий; отсюда его бедность и сравнительно скромное служебное положение..."31
В нашу задачу не входит дать полную или даже только общую характеристику творчества писателя. Нас интересует весьма узкая тема: Одоевский и еврейство.
До 50-х годов по своим политическим и философским взглядам Одоевский был близок к славянофилам, хотя систематически с ними не сотрудничал. Его ближайшими друзьями были Иван Аксаков и Владимир Соллогуб. Деятелей демократического лагеря смущал его титул. Печально известен факт, когда Н.А. Некрасов вывел карикатурный образ Одоевского в стихотворении "Филантроп" (1846), где поставил под сомнение до-
296
броту и отзывчивость князя. Впоследствии Некрасов отрицал, что Одоевский является прототипом его сатиры, но вряд ли искренне32.
В эпилоге лучшего своего произведения "Русские ночи" Одоевский распространяется насчет загнивания Запада и веры в будущее одной шестой части света: "Мы поставлены на рубеже двух миров: протекшего и будущего; мы новы и свежи; мы не причастны преступлениям старой Европы". Рюрикович задает риторический вопрос: "Религиозное чувство на Западе? — оно было бы давно уже забыто..." Вывод Одоевского категоричен: "Осмелимся же выговорить слово, которое, может быть, теперь многим покажется и через несколько времени — слишком простым: Запад гибнет!" (писано в 1838 г. — С. Д)33. В собственной сноске Одоевский с гордостью говорит, что в этих строках излагается вся теория славянофильства. Возможно, это была своего рода полемика со взглядами Петра Яковлевича Чаадаева. И действительно, в одном из писем к СП. Шевыреву, 17 ноября 1836 г. князь писал "о глупой статье П.Я. Чаадаева". И ему очень жаль, что его "Дом Сумасшедших" не успел попасть в печать. Ибо тогда, появившись в одно время с философическими письмами "Басманного философа", оно доказало бы правительству, "что на одного сумасшедшего есть тоже человек по крайней мере несумасшедший"34.
Но жизнь оказалась сложнее и Одоевскому пришлось многое переосмыслить после Восточной войны. Личное знакомство с "гнилым Западом" во время заграничных поездок, особенно участие его как русского делегата от Императорской публичной библиотеки в праздновании 100-летнего юбилея Фридриха Шиллера в 1859 г. в Веймаре, заставило Одоевского пересмотреть свои взгляды на смысл европейской цивилизации. С этой точки зрения громадный интерес представляет дневник Одоевского, опубликованный в "Литературном наследстве" и охватывающий последние годы жизни писателя (с 1859 и до кончины в феврале 1869 г.). Будучи сторонником освободительных реформ Александра II, Одоевский занял центристскую позицию, суть которой прекрасно выражена в строках Алексея Константиновича Толстого, одно время, кстати, работавшего под началом Владимира Федоровича:
Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь;
Союза полного не будет между нами —
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снесть,
Я знамени врага отстаивал бы честь!35
297
Отсюда и слабость этого лагеря, не сумевшего предотвратить перехода правительства к репрессиям уже в конце 60-х годов. К "постепеновцам" примыкали великий князь Константин Николаевич, великая княгиня Елена Павловна, граф П.А. Валуев и другие. Это была позиция здравого смысла, которая в российских условиях, при непрестанном давлении слева и справа, никогда не имела перспектив. Одоевский писал о себе: "В шахматном клубе... на меня напали — Лесков заступился. Ведь это очень забавно: псевдолибералы называют меня царедворцем, монархистом и проч., а отсталые считают меня в числе красных"36. Поэтому в дневнике Одоевского попадаются удивительные соображения, вроде записи от 25 декабря 1866 г. о наличии трех подземных интриг, действующих против России: политической, польской, немецкой. Или преувеличенное представление о значении польского освободительного движения. Запись от 4 августа 1866 г. содержит следующий пассаж: "Выражение — отравлена поляками — не гипербола. Они с адским искусством старались заразить все... Бедная, но глупая наша молодежь, — приняла даже польский катехизис"37.
Вместе с тем Одоевский постепенно отходит от славянофильских идей. Запись в дневнике от 5 декабря 1861 г. о газете "День", издаваемой И. Аксаковым с 1861 по 1865 г. в Москве: «Читал "День" — что за пустоголосица! ни одной живой мысли, а лишь славянофильское риторство и французская игра словами». В бумагах Одоевского сохранился незаконченный ответ Константину Аксакову, озаглавленный "Хмельное дитя", с эпиграфом из сочинений К. Аксакова: "Душенька народ, миленький народенька". Этот же эпиграф князь использовал для неоконченной резкой статьи "Стрелецкое толкование о всеобщем растлении", где князь выступает с апологией Петра I, отношение к которому, кстати, принято считать пробным камнем в полемике между "западниками" и "почвенниками" вплоть до наших дней. Через общую знакомую Владимир Федорович выяснял у И.С. Аксакова: «Примет ли он от меня возражение самому корню "Дня"» (запись от 8 января 1862 г.).
К этой же полемике относится и статья Одоевского по еврейскому вопросу. История ее такова. Когда в 1861 г. появился закон о предоставлении права государственной службы евреям, получившим ученые степени доктора, магистра или кандидата по всем ведомствам, Аксаков в статье газеты "День" от 16 февраля 1862 г. встретил закон в штыки, выдвигая в первую очередь религиозные причины. Теоретически допуская возможность появления евреев в Правительствующем сенате, Государственном Совете или вообще в любом законодательном
298
учреждении России, Аксаков задает вопрос о целесообразности допускать евреев на высшие должности и высшие звания. Он высказывает опасение, что законодатель (т. е. юрист), будучи евреем Моисеева закона, может законодательствовать в России в духе Моисеевом. "В христианскую землю приходит горсть людей, совершенно отрицающих христианское учение, христианский идеал и кодекс нравственности (следовательно, все основы общественного быта страны) и исповедующих учение, враждебное и противоположное"38. Конец статьи замечателен именно тем, что Иван Сергеевич отрицает вражду с евреями, и признавая замечательные дарования еврейского народа, отказывает евреям в правах: "Искренно сожалея об их заблуждении — но мы не можем желать для них административных и законодательных прав в России"39. Стоит отметить, что одинаковые посылки (в данном конкретном случае — одаренность семитского племени) приводят к прямо противоположным выводам. Вспомним П.П. Демидова Сан-Донато, как раз требующего использовать евреев на административном поприще. Антисемитизм Аксакова носит сугубо религиозный характер. Вероятно, он предполагает, что если евреи "откажутся от заблуждений", т. е. попросту "примут святое крещение", их карьера не будет ничем ограничена.
Ответ Владимира Федоровича Одоевского на эту статью Ивана Аксакова сохранился в бумагах фонда Одоевского (№ 17, в переплете, с. 102- 105) в Ленинградской публичной библиотеке4".
«В.Ф. Одоевский. "Поход Татарщины против Евреев".
Есть многое, друг Гораций,
в нашей литературе, чего
и не приснится человеку
Со здоровым мозгом.
Есть у нас вещи, которые были бы очень смешны, если бы не были возмутительны, и возмутительны в такой степени, что не решаешься и повторить их вполне для опровержения, а вчуже краснеешь. Недавно появилась у нас мера в высшей степени разумная, человечная, благодетельная, вызванная потребностями настоящего времени. Евреи допускаются к занятию должностей в России, если только они получили образование в высших учебных учреждениях. Этою мерою приливается в общественную жизнь деятельность даровитого племени, которого числа в России, по Кеппену, более миллиона41.
Кажется, что простее, что естественнее этой меры, что сообразнее со здравою политикою и с чувством любви христианской, никого не отвергающей, да идут на делание людям, от-
299
чужденным от общения с другими людьми, принужденным прибегнуть к скрытости, к обману, плутовству для своего охранения от нелепых предубеждений, подозрений, клеветы, людям, сохранившим, несмотря на все угнетения, дивные способности ко всем родам наук и искусства; таким людям говорят: путь вам открыт, путь возрождения, придите, учитесь, образуйте себя, образованием возвысьте свою нравственность, сделайтесь добрыми гражданами, вашу сжатую егоистическую деятельность обратите на пользу общую и получите мзду свою, работники одиннадцатого часа.
Кажется, одно чувство могло возбудиться такою мерою: чувство благодарности и готовности содействовать мудрому предначертанию.
Но не так это дело было понято некоторыми на беду русскими, или по крайней мере, выдающих себя за руссских журналами.
"День" № 19, отложив попечение о всем ином прочем, употребил свое досужество к отысканию единственного, может быть, места, где бы употребить иноверца было бы неблаговидно, нашел, очень рад и с комической гордостью предлагает следующий затейливый вопрос: "Как же это, говорит он, вы допускаете евреев во все ведомства; неужели вы его допустите и на такое-то место?"
Мы могли бы услужить этой византийской диалектике на пошехонскую ехать разными подобными вопросами, например: Всякому вольно вступать в военную службу, стало быть, вы допускаете слепого и хромого. Всякому вольно писать и печататься, стало быть, по-вашему, могут писать и безграмотные, не умеющие ни читать, ни писать...» (Переписано с рукописи, с сохранением особенностей орфографии, пунктуации и согласований оригинала).
Эта замечательная статья осталась не только ненапечатанной, но и незаконченной. В архиве Одоевского вообще хранятся десятки статей, начатых и незаконченных. С гордостью он писал о себе, что он труженик, и его архив это подтверждает. Несколько обидно, что столь ясно высказанное мнение по еврейскому вопросу своевременно не вышло в свет. Вероятно, у Владимира Федоровича была возможность выступить в коллективном письме русских писателей по поводу публикации Владимиром Зотовым в "Иллюстрации" (1858) юдофобской статьи о двух евреях-журналистах — И.А. Чацкине и М. Горвице, но этого он не сделал. Под коллективным протестом стоят подписи трех Аксаковых — Ивана, Константина и Сергея. Известно, что подписи собирались наспех и многие не успели присоединиться. Вполне возможно, что Владимира Федорови-
300
ча не было в России в то время. Сам же он находился в личных и приятельских отношениях со многими евреями, например с братьями Антоном и Николаем Рубинштейнами, известным виртоузом-виолончелистом и композитором Карлом Юльевичем Давидовым, с семьей композитора Александра Николаевича Серова (он был еврейского происхождения — мать его из семейства сенатора Таблица; еврейкой была и жена Серова — Валентина Семеновна, урожденная Бергман). Оперу Серова "Юдифь" он считал гениальной. Но приведенная статья — единственная, всецело посвященная еврейскому вопросу, не считая разбросанных по письмам и произведениям Одоевского библейских сюжетов или образов.
Само название статьи Одоевского "Поход татарщины против евреев" сразу же направлено против таких идей славянофильства, как восхищение допетровской Русью и даже — принятие за благо татарского ига, отгородившего Древнюю Русь от Запада. Впрочем, Одоевский был не одинок. Так, М.Л. Магницкий в статье "Судьба России" провозглашал: "Россия не тоскует о том, что был татарский период, удаливший Россию от Европы... Она радуется тому, ибо видит, что угнетатели ея, татары были спасителями ея от Европы. Угнетение татарское и удаленность от Западной Европы были, быть может, величайшим благодеянием для России"42. Это то, что П.А. Валуев называл "славянофильским онанизмом"43. Валуеву вторит граф Алексей Толстой в письме к Б.М. Маркевичу: "Ненависть моя к московскому периоду — некая идиосинкразия, и мне не требуется принимать какую-то позу, чтобы говорить о нем то, что я говорю. Это не какая-нибудь тенденция, это — я сам. И откуда это взяли, что мы антиподы Европы? Над нами пробежало облако, облако монгольское... Мне кажется, я больше русский, чем всевозможные Аксаковы и Гильфердинги..."44 Или в одном из стихотворений у Алексея Константиновича прорывается:
И вот наглотавшись татарщины всласть
Вы Русью ее назовете!45
Впрочем, у В. Даля сказано проще — "Это сущая татарщина! мамаевщина, произвол, насилие"46.
Нельзя сказать, что Владимир Федорович был намного впереди своего времени: рассуждения о том, что евреи должны образованием исправить ("возвысить") свою нравственность — это отголосок той критики в адрес еврейства, которая раздавалась из правого лагеря. Или мысль обратить в общую пользу "егоистическую деятельность". Но главное все же не в
301
этом, а в желании помочь "гонимому племени" и поддержать правительство в проведении в жизнь нового законодательства. И надо сказать, что В.Ф. Одоевский был не одинок в своих взглядах. В печати в пользу евреев высказался и Н.С. Лесков. Его сын писал, что он в первые годы своего писательства выступил горячим оппонентом И.С. Аксакова в вопросе предоставления прав "потомкам Моисея, живущим под покровительством законов Российской империи"47. Статья была опубликована в "Северной пчеле" в 1862 г. (№ 70, 13 марта) как передовая. Обращаем внимание на то, что редактором "Северной пчелы" был пресловутый Фаддей Булгарин, в это время заглаживающий антисемитские грехи молодости: его имя присутствует среди "почтенных" авторов, высказывавшихся против юдофобских статей "Иллюстрации". Н. Лесков писал: "По мнению Дня, новый закон о евреях понят не так, как следует. Редакция никак не хочет примириться с мыслию о допущении образованных евреев на службу по всем ведомствам. По ее убеждениям, это невозможно, в такой же степени, в какой невозможно предположить, например, еврея обер-прокурором Святейшего Синода". Далее Николай Семенович иронизирует над славянофилами, для которых "самое допущение евреев к государственной службе было бы ничто иное, как фикция, смешная и недостойная народа. Г. Аксаков уже не в первый раз увлекся своею любовью к русскому народу и упускает из вида, что в делах, имеющих общественный интерес для страны, можно ожидать полного сочувствия всех лиц, населяющих эту страну и заинтересованных в ее положении, без различия племени, исповедания и цвета". О евреях написано тепло, автор отдает дань их дарованиям, попутно усмехаясь над историческими экскурсами националистов: "Разумное и способное еврейское племя, рассеянное по лицу земли, живет в России очень давно, и никогда еще не пользовалось полным гражданским равноправием не только с русскими, но даже с иностранцами, наезжавшими в несметном числе, ради просвещения скорбных головами чад земли русской". Автор патетически вопрошает: "Неужели г. Аксаков так мало верит в народный смысл и сомневается, что в русском обществе не достанет разума воспользоваться прекрасными дарованиями евреев, не привлекая их к должностям по Святейшему Синоду и не подчиняя русской жизни еврейскому преобладанию?" Но, увы, Иван Сергеевич как в воду глядел. Прошло не так много времени и председателем Святейшего Синода стал еврей, правда крещеный. Речь идет о Владимире Карловиче Саблере-Десятовском (1845—1929), действительном тайном советнике, статс-секретаре, члене Государственного совета, доценте на кафедре
302
уголовного судопроизводства Московского университета и председателе Святейшего Синода в 1911—1915 гг.!
Царствование Александра II было, даже по признанию "Еврейской энциклопедии", самым благоприятным периодом истории Российской империи. Но либеральные реформы были приостановлены уже в 70-е годы. И не последнюю роль в этом сыграли правые органы печати "День" и "Русь" Ивана Аксакова, прямые предшественники суворинского "Нового времени". Но вот удивительная вещь, однажды "День" опубликовал стихи одного из самых крайних западников, и весьма антипатриотического содержания:
Как сладостно - отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирную денницу возрожденья (1834) 48.
Речь идет о Владимире Сергеевиче Печерине (1807—1885), отце Печерине, которому Александр Герцен в "Былом и думах" посвятил немало вдохновенных страниц. Отец Печерин — один из первых русских эмигрантов, может быть, один из первых "невозвращенцев". Друг Станкевича и Грановского, он сохранил о них теплые чувства на чужбине. В 1835 г. он был назначен экстраординарным профессором греческой словесности Московского университета. По словам Ивана Аксакова, Печерин соединял в своих лекциях замечательную эрудицию, живое поэтическое дарование и чутко отзывался на современность. В июне 1836 г. он навсегда покидает родину. Еще во время первой учебной поездки за границу он писал своему другу А.В. Никитенко: "Один за одним северные варвары возвращаются в свою орду... Что же касается до меня, то я надеюсь, что Бог в бесконечном милосердии своем не даст мне скоро увидеть бесплодных полей моей безнадежной родины. Друзья! Друзья мои! Я уеду отсюда..."49 Будучи человеком глубоко верующим, Печерин в своем знаменитом стихотворении "Как сладостно отчизну ненавидеть" прибегает к библейским ассоциациям, в первую очередь из книги пророка Исайи.
Печерин остался за границей и принял католичество. Более того, впоследствии он принял и духовный сан. При изучении психологии русской интеллигенции обращает на себя внимание постоянная тяга к католицизму — П.Я. Чаадаев, B.C. Печерин, B.C. Соловьев... Вместе с тем все перечисленные "отщепенцы" были несомненными филосемитами.
Попытка литературного возвращения Печерина на родину в определенной степени случайна. В 1865 г. в Дублине отец
303
Печерин, просматривая русские периодические издания, в одном из номеров "Дня", издаваемого Иваном Аксаковым, натолкнулся на имя своего университетского товарища Ф.В. Чижова. Из Дублина на имя Аксакова пришло письмо, которое с подробными комментариями было опубликовано в № 29 "Дня" за 2 сентября 1865 г. Завязалась обширная переписка с Ф.В. Чижовым и А.В. Никитенко. Сам же Печерин начал писать мемуары, которые лишь в последние годы были опубликованы полностью50.
Интересны взгляды Печерина — западника и католика — на еврейство, в какой-то степени близкие взглядам Т.Н. Грановского, с которым, напомним, он был очень дружен. Отрывок, который мы приводим, был написан в июле 1872 г. Владимир Сергеевич писал о кризисе христианской идеи, о христианстве, доведенном до абсурда к вящей славе еврейства:
«Какое торжество для иудеев! Итак они пережили своего лютого врага! Вот этот выскочка из их же семьи. Вот это христианство! Оно прошумело несколько столетий, пролило потоки крови в бессмысленных войнах, сожгло миллионы людей на кострах, а теперь оно издыхает от старческого изнеможения перед глазами этих же самых иудеев. А у них все осталось по-прежнему: они не устарели — они вечно юны и будущее им принадлежит. Они везде блистают умом — в науке, в искусстве, в торговле; половина европейской прессы в их руках. Закон их не изменился ни на йоту, они поклоняются тому же единому Богу Авраама, Исаака, Иакова, и на них буквально исполнились слова их пророка: "Вы будете опекунами, отцами-благодетелями, кормильцами властителей мира. Цари вас будут носить на руках" и пр. Какое блистательное исполнение пророчества! Какому государю не пришлось сказать Ротшильду: "Отец ты мой, благодетель! помоги, ради Бога, пришла крайняя нужда; охота смертная, да участь горькая: хочется воевать, да денег нет: сделай божескую милость, одолжи несколько миллионов!" Даже сам папа, если не ошибаюсь, не раз прибегал к Ротшильдам (см.: Втор. 15:8: "Ты будешь давать взаймы многим народам, а сам ни у кого не будешь занимать, ты будешь господствовать над многими народами, а они не будут господствовать над тобою"). И даже наш железный Николай должен был преклонить перед ним главу и принужден был выдать ему именье Герцена. Велик Бог Моисеев! Да воскреснет Бог и расточатся врази его и да бегут от лица Его ненавидящие Его»51. Здесь мы видим не только пиетет перед еврейством, но и мистический ужас перед необыкновенной историей еврейства, видим зачатки зарождения мифа о всемирном владычестве еврейства, что у авторов-анти-
304
семитов получило дальнейшее развитие. И сама история с состоянием Герцена, так потрясшая тогдашнее общество, когда Ротшильд заставил "железного" Николая подчиниться банковским законам буржуазного общества, стала расхожим местом у писателей правого лагеря52.
Восторг отца Печерина перед жизненной силой еврейства у других авторов превращается в навязчивую идею страха перед их нескончаемой историей. Те же самые слова в адрес еврейства произнес историк Николай Иванович Костомаров (1817—1885), почти современник Владимира Сергеевича. Немного изменена акцентировка, и мы получаем ужасную картину, частично воспроизведенную впоследствии Ф.М. Достоевским в "Дневнике": «Слов нет: Евреи народ вообще чрезвычайно способный и умный, содействовавший развитию человеческой образованности в большей степени, чем сколько нам представляет до сих пор историческая наука... "Жид любит деньги, больше всего любит Жид деньги", — повторяется с незапамятных времен эта избитая фраза. Действительно, и в XII веке Жид через деньги управлял борьбою Итальянских партий, и в XVI веке Жид вышел на сцену в гениальном типе у Шекспира, в его Шейлоке, и в XIX веке тот же вечный Жид является в многосложном образе европейского банкирства. Этот вечный Жид поймал слабую струнку мира и держится за нее и водит миром, и мир был обманут: мир думал, что Жид у него под пятою, а сам не услышал, как очутился у Жида на привязи. Иудей совершает изумительную борьбу с историей: история осуждает его на невежество и одичалость порабощенного состояния, — Иудей делается великим философом, поэтом, композитором; история выбрасывает его из колеи человеческого развития, — Иудей пролагает себе собственный путь, заходит вперед и смотрит иронически на это развитие, говоря сам себе: "идите, идите, боритесь... я буду смотреть и дожидаться; все для меня; безумцы, вы не знаете, что трудитесь, терпите для меня, пренебреженного, забитого, оплеванного, грязного Жида". История не раз грозила стереть Иудейское племя с лица земли, и на зло истории, Иудейское племя распространяется по всем концам земли... Он не дорожит вашим мнением...: он вас презирает делом. "Иудеи выше всех колен земных", думает он и доказывает это своей гигантской борьбой с роком, перед которым падали во прах сильнейшие племена земли. И что ожидает этот народ в грядущем?»53. Ответ, который дает Костомаров, достоин восхищения и сейчас: "Что если наше цивилизованное общество, после многотрудной борьбы со своими недостатками и страстями, кидаясь то в ту,
305
то в другую сторону, доходя почти до отчаяния и потеряв веру в свою нравственную мощь, обратится к этому некогда отверженному народу и призовет его, как некогда наши предки варягов, устроить у себя наряд?"54 Не правда ли, прекрасные слова, да и к тому же отнимающие приоритет Достоевского, якобы пророчески сказавшего: "Жиды погубят Россию". Правда, поиски этой цитаты не привели к положительным результатам: Федор Михайлович не писал и не говорил этих слов, но подобное по смыслу можно извлечь из "Дневника". Любопытная для психолога деталь: Костомаров дружил с Д.Л. Мордовцевым, одним из светочей русского филосемитизма. Последний заметил, что Николай Иванович избегает говорить о Саратовском деле, недобросовестным экспертом которого он был55.
Я вообще думаю, что надо относиться более спокойно к словесным выкрутасам. Один из апостолов славянофильства А.С. Хомяков в полемике с братьями Киреевскими по поводу статьи И.В. Киреевского "О характере просвещения Европы и его отношение к просвещению России", касаясь фразы о том, что "христианское учение выражалось в чистоте и полноте, во всем объеме общественного и частного быта древнерусского"56, имел мужество вопрошать: "В какое же время? В эпоху ли кровавого спора Ольговичей и Мономаховичей на юге? В эпоху ли, когда московские князья... употребляли русское золото на подкуп татар и татарское железо на уничтожение своих русских соперников? В эпоху ли Василия Темного, ослепленного ближайшими родственниками и вступившего в свою отчину с помощью полчищ иноземных? Или при Иване III и его сыне-двоеженце?"57 Пожалуй, у Хомякова слишком много личностей — князей, не они составляют основу народную. Несравненно более тягостно читать другие строки, написанные отнюдь не русофобом: «Несомненные факты указывают, что в русском народе, при многих проблесках превосходных качеств, проявлялась черствость и грубость, отсутствие сострадания к несчастию: татары брали многих русских в плен и привозили их, предлагая выкупить, но чаще всего увозили назад, потому что их не выкупали соотечественники. Правительство собирало с народа особый налог, называемый "полоняночными деньгами", для выкупления пленных, но эти деньги воровались без всякого зазрения... Вместе с тем и в семейной жизни господствовал грубый разврат... на половые отношения русские смотрели с совершенно животной точки зрения, и потому нередки были кровосмешения свекров с невестками, братьев с сестрами, даже родителей с детьми...»58 Далее идет ссылка на патриарха Филарета: "Многие русские люди поимают за себя сестры свои родные... а иные де и на матери свои посягают
306
блудом и женятся на дщерях и сестрах, ежи ни в поганых и незнающих Бога не обретается; а иные жены свои в деньгах закладывают на сроки, и отдают те своих жен в заклад мужи их сами; и те люди, у которых они бывают в закладе, с ними до сроку, покамест которой жены муж не выкупит, блуд творит беззазорно; а как тех жен на срок не выкупят, они их продают на воровство же и в работу всяким людям". Ниже описывается церковная жизнь, где сорок сороков московских церквей не спасали от пьяных и развратных попов. Короче, по русской поговорке: "Каков поп, таков и приход". Этим страшным хулителем русских нравов был Николай Иванович Костомаров59. Один из критиков суммировал его взгляды на русскую историю следующим образом: "Костомаров подверг истинному поруганию все, что в русской истории имеет неоспоримое право на уважение истинно русских людей, начиная с первых князей, которые для него только разбойники и грабители. Владимир Мономах, Василько, Андрей Боголюбский — это люди своекорыстные, жестокие, способные на гнусное злодеяние. Дмитрий Донской — трус, человек неблагородный; Пожарский, Минин, Скопин-Шуйский — лица двусмысленные, своекорыстные, лживые и т. п. Самопожертвование Сусанина — миф, т. е. факт, никогда не существовавший..."60 Иной может подумать, что Костомаров — Писарев исторической науки. Это не так. "Писаревщина" — легкая детская болезнь, которую переживают большинство интеллектуалов. У Костомарова — анализ сделан на основании сухих летописных и иных документов, которые обжалованью не подлежат.
Гласную приверженность еврейству демонстрировало очень мало русских интеллигентов. Зато в частных письмах и дневниках, где не надо было скрывать свои мысли, где самоцензура была ослаблена, то и дело проявлялись антисемитские ноты. Вот, например, А.И. Герцен (судя по одной заметке в "Еврейской старине" — еврей по материнской линии61), публикуя изредка в "Полярной звезде" и в "Колоколе" сочувственные корреспонденции о положении евреев в Польше, в одном из писем к Огареву разражается филиппикой против "шестидесятников" с неожиданной "изюминкой" юдофобии: «Тут все — и Бакст, отпирающийся от своих слов, сладкоглаголивый, семитический "муран" Венери — и пердословный Элпидин. Сопля Вормс и гной Серно-Соловьевича, жиденята, утята и гулята»62. Не испытывал Александр Иванович благодарности к "мировому еврейству", выручившему из цепких когтей двуглавого орла его "имения"...
Должен сказать, что и патер Печерин на бытовом уровне не жаловал "избранный народ": оказавшись за рубежом без денег,
307
он вынужден был заложить одежду. "Жид" (не еврей!), "варвар!", "злодей!" дал за операцию всего 8 франков. И будущий патер восклицает иронически: "От этих-то сынов Израиля я чаял спасения! Salus ex Judaeis est!* (Печерин цитирует Евангелие от Иоанна, 4:22.)63
Вот еще один из случаев бытового антисемитизма, о котором в народе говорят: "Для красного словца — не пожалеет и родного отца". Известный острослов и современник А.С. Пушкина, осмотрев картину Александра Иванова "Явление Христа народу" (первый авторский вариант названия —"Явление Мессии" — намного точнее), не нашел ничего лучшего, как пошутить: "Семейство Ротшильда на водах". Варианты остроты обыграны у Ольги Форш64. Имя острослова — Ф.И. Тютчев.
Частная переписка и дневники писателей содержат массу интересных материалов по интересующему нас вопросу. Идеальный пример несоответствия между публичными декларациями и личной перепиской — А.И. Куприн. С точки зрения нашего исследования, некоторые произведения Александра Ивановича вполне вписываются в знакомую, чуть ли не сусальную картину благоговения перед еврейством, скажем, незначительного Г. Мачтета или классика В.Г. Короленко. Я говорю о таких замечательных произведениях Куприна, как "Суламифь", "Жидовка" и "Гамбринус". С другой стороны, у всех на памяти, какой шок вызвала публикация нескольких писем Куприна и их анализ, проведенный В. Левитиной. Интересующихся Куприным и его отношениями с еврейством отсылаю к этой работе65.
Если мы вернемся вновь из лагеря разночинцев в лагерь аристократический, то нас поразит дневник Марии Башкирцевой. Талантливая художница (картины Башкирцевой висят в Русском музее и в музее "Карнавал" в Париже) и автор юношеского дневника, переведенного на многие языки мира, она сохранила активно непримиримое отношение к еврейству. Запись в "Дневнике" от 18 августа 1876 г. об одном летнем вечере в имении на Украине: "...пустили несколько ракет и заставили жида говорить глупости. Жид в России занимает среднее положение между обезьяной и собакой. Жиды все умеют делать и их употребляют на все"66. Если внимательно вчитаться во фразу о жиде, обезьяне и собаке, что-то останавливает. Покопавшись в памяти, я извлек нечто аналогичное у автора "Униженных и оскорбленных": "...знавший на своем веку много жидков, часто дразнил его (Исайя Фомича Бум-
____________
*Спасение от иудеев (лат.).
308
штейна. — С. Д.), и вовсе не из злобы, а так, для забавы, точно так же, как забавляются с собачкой, попугаем, учеными зверьками и проч."67. Тоже — своего рода "бродячий сюжет"! В противовес нетерпимости, особенно проявляемой в области религиозной, можно привести множество других фактов. Зачастую происходила мешанина, внутренняя борьба, заканчивающаяся по-разному. Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовской (1853—1920), историк культуры, лингвист и литературовед, автор книги "Психология национальности", не утратившей значения и до сего времени, сам начисто лишенный малейшей тени антисемитизма, рассказывает о своем отце, вероятно, человеке добром, но не лишенном предрассудков. Так, он повествует о появлении в их доме — доме богатого помещика — некого Поппера (к сожалению, не указаны инициалы), выходца из бедной еврейской семьи, с отличием окончившего медицинский факультет. Поппер был домашним врачом и репетитором детей. На этом Поппере, как и на его друге Марсикани, по словам мемуариста, лежал "отпечаток лучшей поры 60-х годов — чего-то светлого, просвещенного, гуманного, чего-то от духа Н.И. Пирогова, который как раз тогда был в разгаре своей достопамятной деятельности как попечителя"68. Благодаря щедрой материальной помощи отца молодые люди получили возможность поработать за границей, в венских клиниках, написать диссертации и стать докторами медицины. Отец не делал разницы между евреем Поппером и итальянцем Адольфом Доминиковичем Марсикани — каждый получил необходимую помощь. Впоследствии Поппер работал домашним врачом в семействе Фальц-Фейна в Таврии (основатели заповедника Аскания-Нова). Умер он во время эпидемии тифа в расцвете сил. Отец публициста Н.Н. Овсянико-Куликовский был видным общественным деятелем в двух губерниях — Таврической и Херсонской, где уже тогда возникли сложные национальные проблемы, но он пользовался непререкаемым авторитетом среди русских всех сословий, евреев, немцев-колонистов: за глаза они любовно его называли Николай Николаевич, что в то время считалось непозволительной вольностью (норма — "их превосходительство"). И вот Николаю Николаевичу пришлось разрешать домашнюю проблему, из которой с честью он выйти не смог, — религиозные предрассудки оказались сильнее его доброты. Он поссорился и совершенно разошелся со своей сестрой, Елизаветой Николаевной, вышедшей замуж за еврея, доктора Грумберга, "человека весьма почтенного", как подчеркивает мемуарист. Около 20 лет отец сохранял непреклонность, и только в старости, уже в 80-е годы, примирился с сестрой и ее мужем.
309
Нам уже приходилось цитировать графа Алексея Константиновича Толстого (1817-1875). Надо сказать, что антисемиты с восторгом воспроизводят его юдофобские пассажи, относящиеся, по-видимому, к 1849 г.:
Стучат и расходятся чарки,
Питейное дело растет,
Жиды богатеют, жиреют,
Беднеет, худеет народ.
...............................................
За двести мильонов Россия
Жидами на откуп взята —
За тридцать серебряных денег
Они же купили Христа"69.
В письме к Болеславу Маркевичу он анализирует положение крестьян в своих имениях. Так, если в Красном Роге освобождение привело к повальному пьянству, то в Погорельцах (давших псевдоним писателю Перовскому-Погорельскому) "пьянство прекратилось совершенно — так что евреи уезжают оттуда, считая, что невыгодно оставаться в таком месте, где не пьют"70. Редакция советского издания сделала робкое примечание, указав, что среди владельцев кабаков и трактиров было немало евреев.
Горько читать эти строки о евреях, способных лишь паразитировать на теле русского народа. Не будем вдаваться в социологию данного факта. Но и самому автору "Князя Серебряного", считавшему себя несравненно более русским, чем даже Аксаков, приходили в голову разные мысли о собственном народе. Да еще такие, что по сравнению с ними высказывания "Басманного философа" кажутся сладким елеем. Ведь он писал страшные слова о России: "Я пришел к убеждению, что мы не заслуживаем конституции. Каким бы варварским ни был бы наш образ правления, правительство лучше, чем управляемые. Русская нация сейчас немногого стоит, русское дворянство — полное ничто, русское духовенство — полные канальи, меньшая братия — канальи, чиновники — канальи..." Дальше цитата звучит столь современно, что бросает в дрожь: "...не существует уже и флота — этих геройских каналий, три четверти которых я бы велел повесить... армия деморализована необходимостью выбирать дисциплину или анархию..." И далее: «Я, к несчастью, разделяю мнение... что имеешь то правительство, которое заслуживаешь, а у нас правительство лучше, чем мы заслуживаем, потому мы настолько монголы и туранцы, насколько это вообще возможно. Позор нам! И это мы еще хотим повернуться спиной к Европе! Это мы провозгла-
310
шаем новые начала и смеем говорить о гнилом Западе. Если бы перед моим рождением Господь Бог сказал мне: "Граф! выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться!" — я бы ответил ему: "Ваше Величество, везде, где Вам угодно, но только не в России!" У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению». Советская цензура добавляет примечание к этому пассажу, кстати, частично правильное: «Горькие слова Толстого о России и русском народе вызваны прежде всего его глубоким недовольством социально-политическими условиями русской жизни. Они перекликаются с известными словами Пушкина: "Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом"»71. Самый ужасный, самый русофобский эпитет о Родине есть и у другого великого поэта — "немытая Россия".
Действительно, у графа было мужество написать эти слова. Он вообще был человек убеждений: чего стоит один его поступок, связанный с именем Н.Г. Чернышевского! Граф не любил "семинариста" и, понятно, не разделял его взглядов, но на вопрос Александра II, что делается в литературе, он ответил, что "русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского". Редкий случай: мягкий человек-император прервал своего друга резкой фразой: "Прошу тебя, Толстой, никогда не напоминать мне о Чернышевском". Между друзьями произошла размолвка, но, увы, на судьбе арестованного это никак не отразилось, на что очень надеялся Алексей Константинович.
Кстати, полемика в письмах с Маркевичем довольно часто касается национального вопроса. Охранитель и антисемит Маркевич должен был выслушивать тяжелые слова в адрес правых в разгар травли поляков и других национальных меньшинств. Для Болеслава Маркевича это было вдвойне тяжело: апостол православия, как сказано в любом справочнике, был польского происхождения по отцу. И вот граф ратует за терпимость, а Маркевич требует "навязать всеми средствами русскую национальность"72. В другом месте он упрекает Маркевича в смешении понятий "государство" и "национальность". Отсюда понятна и речь, произнесенная Алексеем Константиновичем Толстым в Английском клубе Одессы 14 марта 1869 г., когда он в заключение поднял тост за благоденствие "всей России и ее жителей, к какой бы национальности они ни принадлежали"73. (Последнее — курсивом в письме Маркевича.) Эти слова, сказанные в космополитической Одессе, были названы Маркевичем прискорбной ошибкой и, конечно же, как и предвидел Болеслав Михайлович, не были воспроизведены в газете Каткова "Московские ведомости". Да и сам Маркевич
311
радуется, что граф — не государственный человек, ибо, находясь на высоте власти, он был бы "злейшим врагом"74.
Можно говорить об истинном патриотизме Толстого, без оглядки защищающего идею "единения". Разногласия между друзьями носили "государственный" характер, но и на уровне литературно-музыкальном они принимали неожиданные формы. Каролина Павлова перевела "Дон Жуана" Толстого на немецкий язык. Восхищенный П.И. Бартенев (известный историограф) вознамерился заказать знаменитому Дж. Мейерберу музыку на слова романса из "Дон Жуана", чему решительно воспротивился Маркевич, заимствовавший из лексики Рихарда Вагнера некоторые пассажи: "Старый жид Мейербер не способен изобресть достаточно молодую, теплую и яркую мелодию для этих прелестных слов, точно вдохновленных андалузской музой"75. Другого мнения был сам автор: "...если бы старому еврею (интересно, во французском тексте стоит "еврей" или "жид"?) захотелось положить это на музыку, я был бы весьма польщен. Вы, мне кажется, слишком строги"76. Бог миловал Маркевича: смерть Толстого спасла его от презрения друга.
А теперь небольшое отступление. В разгар перестройки появился ряд статей в журналах "Москва", "Наш современник", "Молодая гвардия" и других подобных изданиях, утверждавших, что главными разрушителями храмов в советское время были евреи. Например, Л.М. Кагановичу вменялось в вину уничтожение Храма Христа Спасителя и других сооружений в Москве. Абсурдность этого утверждения очевидна. В стране, где все решалось именем Сталина, даже "первые ученики" были лишены права на самостоятельное действие. Но в бытность Кагановича "хозяином" Москвы произошли большие изменения в облике города. Причины этих метаморфоз можно свести к нескольким важным пунктам.
1. Атеистическое государство категорически не желало иметь идейного конкурента. Православная церковь отнюдь не единственная, которая подверглась репрессиям. Другие конфессии пострадали не менее, включая и иудаистскую.
2. Москва стала столицей государства. Перенос столицы из Петрограда требовал огромной модернизации.
3. Резко выросло население Москвы, что также было связано с переносом столицы.
4. Индустриализация и развитие новых видов транспорта требовали реконструкции города. Грубо говоря, то, что сделал префект Оссман в Париже в 50—70-е годы прошлого века, делалось в 30-е годы в России. Напомним, что клерикалы
312
атаковали Оссмана за снесение нескольких церквей в черте города, а интеллектуалы — за пренебрежение памятниками старины. Но спустя столетие парижские бульвары стали синонимом городской красоты. (Ле Корбюзье сравнил действия Оссмана с прямыми пушечными выстрелами в многовековой толще прогнивших улиц. Сам великий архитектор работал и в Москве, где по его проекту строились здания отнюдь не на пустом месте.)
В конце 80-х годов Каганович оставил несколько писем и заметок по поводу сноса храма Христа Спасителя и Сухаревской башни в свое оправдание перед потомством.
Первое письмо было направлено дочери-архитектору. Из письма явствует, что Каганович предлагал соорудить Дворец Советов на Ленинских горах. Но предложение было отвергнуто из-за дальности расстояния от Кремля. После долгих совещаний было принято решение о снесении Храма Христа Спасителя. Каганович пишет, что у него были возражения, связанные в первую очередь с боязнью затронуть религиозные чувства населения. Ярым сторонником сооружения Дворца на этом месте, по словам "Великого Кагана", был председатель Моссовета с не менее одиозной фамилией "т. Иванов". Вопрос о храме решался правительством СССР под председательством В.М. Молотова. При этом выяснилось, что знаменитые архитекторы Жолтовский, Фомин, Щуко и другие считали, "что особой архитектурной ценности Храм не представляет".
Что же касается Сухаревской башни, то и ее долго не решались разрушить. Дело ускорил тот прискорбный факт, что с увеличением потока транспорта в этом месте ежедневно погибало до 10 человек. Иного решения, кроме сноса, не было найдено. Каганович ссылается на Генеральный план реконструкции Москвы, где сказано следующее: "При реконструкции города практически возникает вопрос об отношении к памятникам старины. Схема планирования отвергает слепое преклонение перед стариной и не останавливается перед сносом того или иного памятника, когда он мешает развитию города. Это, конечно, не исключает, а предполагает сохранение всего наиболее ценного в историческом или художественном отношении (например, Кремль, бывший Храм Василия Блаженного и т. п.)". Далее Каганович говорит о своих заслугах в деле сохранения памятников старины. Все это мы оставляем на совести "железного наркома", кроме совершенно справедливой фразы: «Я об этом вспоминаю не столько для самозащиты от некоторых черносотенных выпадов людей из так называемой "Памяти", сколько для установления действительных фактов истории...»77
313
Но возвратимся к Алексею Константиновичу Толстому. Вот небольшой отрывок из его письма другу, императору Александру Николаевичу (август или сентябрь 1860 г.):
"Ваше Величество.
....я... лишен возможности лично довести до сведения Вашего Величества следующий факт: профессор Костомаров, вернувшись из поездки с научными целями в Новгород и Псков, навестил меня и рассказал, что в Новгороде затевается неразумная и противоречащая данным археологии реставрация древней каменной стены, которую она испортит. Кроме того, когда Великий князь Михаил высказал намерение построить в Новгороде церковь в честь своего святого, там, вместо того, чтобы просто исполнить это его желание, уже снесли древнюю церковь св. Михаила, относившуюся к XIV веку. Церковь св. Лазаря, относившуюся к тому же времени и нуждавшуюся только в обычном ремонте, точно так же снесли. Во Пскове в настоящее время разрушают древнюю стену, чтобы заменить ее новой в псевдостаринном вкусе. В Изборске древнюю стену всячески стараются изуродовать ненужными пристройками. Древнейшая в России Староладожская церковь, относящаяся к XI веку (!!!), была несколько лет тому назад изувечена усилиями настоятеля, распорядившегося отбить молотком фрески времен Ярослава, сына святого Владимира, чтобы заменить их росписью, соответствующей его вкусу".
Этот рассказ бесконечен. Ну а как обстояли дела в первопрестольной, когда в ней не было большевиков и малого народа? Читаем в том же письме: «На моих глазах, Ваше Величество, лет шесть тому назад в Москве снесли древнюю колокольню Страстного монастыря, и она рухнула на мостовую, как поваленное дерево, так что не отломился ни один кирпич, настолько прочна была кладка, а на ее месте соорудили новую псевдорусскую колокольню. Той же участи подверглась церковь Николы Явленного на Арбате, относившаяся ко времени царствования Ивана Васильевича Грозного и построенная так прочно, что и с помощью железных ломов еле удавалось отделить кирпичи один от другого.
Наконец, на этих днях я просто не узнал в Москве прелестную маленькую церковь Трифона Напрудного, с которой связано одно из преданий об охоте Ивана Васильевича Грозного. Ее облепили отвратительными пристройками, заново отделали внутри и поручили какому-то богомазу переписать наружную фреску, изображающую святого Трифона на коне и с соколом в руке.
Простите мне, Ваше Величество, если по этому случаю я назову еще три здания в Москве, за которые всегда дрожу,
314
когда еду туда. Это прежде всего на Дмитриевке прелестная церковка Спаса в Паутинах, названная так, вероятно, благодаря изысканной тонкости орнаментовки, далее — церковь Грузинской Божьей Матери и, в-третьих — Крутицкие ворота, своеобразное сооружение, все в изразцах. Последние два памятника более или менее невредимы, но к первому уже успели пристроить ворота в современном духе, режущие глаз по своей нелепости — настолько они противоречат целому. Когда спрашиваешь у настоятелей, по каким основаниям производятся все эти разрушения и наносятся все эти увечья, они с гордостью отвечают, что возможность сделать все эти прелести им дали доброхотные датели, и с презрением прибавляют: "О прежней нечего жалеть, она была старая!" И все это бессмысленное и непоправимое варварство творится по всей России на глазах и с благословения губернаторов и высшего духовенства. Именно духовенство — отъявленный враг старины, и оно присвоило себе право разрушать то, что ему надлежит охранять, и настолько оно упорно в своем консерватизме и косно по части идей, настолько оно усердствует по части истребления памятников.
Что пощадили татары и огонь, оно берется уничтожить. Уже не раскольников ли признать более просвещенными, чем митрополита Филарета?
Государь, я знаю, что Вашему Величеству не безразлично то уважение, которое наука и наше внутреннее чувство питают к памятникам древности, столь малочисленными у нас по сравнению с другими странами. Обращая внимание на этот беспримерный вандализм, принявший уже характер хронического неистовства, заставляющего вспомнить о византийских иконоборцах, я, как мне кажется, действую в видах Вашего величества, которое, узнав обо всем, наверно, сжалится над нашими памятниками старины и строгим указом предотвратит опасность их систематического и окончательного разрушения"»78.
Слово Михаилу Васильевичу Нестерову: "По возвращении с Кавказа мне пришлось впервые заседать в комиссии храма Христа Спасителя. Двадцать лет существовала эта курьезная комиссия. Обычно почетным председателем ее был московский генерал-губернатор. В числе их был и вел. князь Сергей Александрович... Заседание началось и прошло в ознакомлении меня в общих чертах с тем, что было сделано (вернее, чего сделано не было) за истекшие двадцать один год. В двадцати томах было изложено это хронологическое бездействие, в продолжении коего храм Христа Спасителя, его росписи гибли.
К моему приходу гибель дошла до предела. Лучшие картины Семирадского, Сурикова, Сорокина лупились. Краска на
315
них висела клочьями. Копоть покрывала все стены храма густым слоем. Надо было действовать, однако всем действиям умело ставились противодействия лицами, в этом заинтересованными... Быстрее, чем мы думали, наступили события, которые всему положили конец. Комиссия распалась сама собой, а храм Христа Спасителя, его живопись умирает естественной смертью"79.
Вновь возвращаемся к Алексею Константиновичу Толстому. У него был острый взгляд, и то, что просмотрели первые поэты России и Польши, увидел он. В "Крымских очерках" (1856—1858) мы с удивлением читаем следующие строки:
Тяжел наш путь, твой бедный мул
Устал топтать терновник злобный;
Взгляни наверх: то не аул,
Гнезду орлиному подобный;
То целый город; смолкнул гул
Народных празднеств и торговли,
И ветер тления подул
На Богом проклятые кровли.
Во дни глубокой старины
(Гласят народные скрижали),
Во дни неволи и печали,
Сюда Израиля сыны
От ига чуждого бежали,
И град возник на высях гор.
Забыв отцов своих позор
И горький плен Ерусалима,
Здесь мирно жили караимы;
Но ждал их давний приговор,
И пала тяжесть Божья гнева
На ветвь караемого древа.
И город вымер... 80"
Да, это Чуфут-Кале, Еврейский город, это Крым, где столетиями жили крымчаки и караимы. И вышеприведенный отрывок, впервые опубликованный в "Русской беседе", так и был озаглавлен "Чуфут-кале". Это чудное стихотворение обязано своим появлением знакомству Толстого с караимским раввином Соломоном Абрамовичем Беймом (1817—1867), автором книг "Чуфут-Кале и караимы" (СПб., 1861) и "Память о Чуфут-Кале" (Одесса, 1862). В письме от 28 ноября 1858 г. своему двоюродному брату Н.М. Жемчужникову Толстой с удовольствием писал о знакомстве "с одним из образованнейших и приятнейших людей, а именно с караимским раввином Беймом. Он написал историю караимов, которую хотел прочитать в Симферополе. История эта чрезвычайно любопытна и беспристрастна..." Толстой советует брату немедленно "тиснуть ее без пощады" в университетской типографии81. Соломон Абрамович вдохновил Толстого и на другое дивное стихотворение, датируемое летом 1856 г.:
Войдем сюда; здесь меж руин
Живет знакомый мне раввин;
Во дни прошедшие, бывало,
Видал я часто старика;
Для поздних лет он бодр немало,
316
И перелистывать рука
Старинных хартий не устала.
Когда вдали ревут валы
И дикий кот, мяуча, бродит,
Талмуда враг и Каббалы,
Всю ночь в молитве он проводит... 82
Алексей Константинович несколько преувеличил вражду хахама к Талмуду (о Каббале вообще нечего говорить). Дело в том, что раввин Бейм ратовал за сближение с раввинистами, вызвав недовольство своих соплеменников. Бейм знал множество восточных и европейских языков, отличался редкой добротой и терпимостью. Умер он в Петербурге, куда приехал по заданию Императорского географического общества, выполнив 12 деревянных муляжей, изображавших старинные караимские типы в оригинальных костюмах. Личность, безусловно, замечательная и не случайно оставившая след в творчестве поэта83.
На балансе антисемитов в результате останется несколько строф А.К. Толстого об откупах, о процветающем питейном деле, от которого жиды богатеют и жиреют, а русский народ беднеет и худеет, и, кажется, все.
Спустя несколько десятилетий другой поэт, кстати, обязанный многим Козьме Пруткову, дал следующий ответ:
Отчего на Руси
Стала жизнь не легка?
Хоть ребенка спроси,
Хоть спроси старика,
И ответ прозвучит,
Как всеобщий набат:
Виноват в этом жид,
В этом жид виноват!
Если всюду растет
Только чертополох
Если беден народ,
Если климат наш плох,
И везде дифтерит
Заражает, как яд,
Виноват в этом жид,
В этом жид виноват!
...................................
Жид идет! Жид пришел!
И жидам счету нет;
Жид — источник всех зол,
Жид — причина всех бед,
Жид, красней за наш стыд,
За наш личный разврат...
Виноват во всем жид,
Жид во всем виноват!..
Эти строки принадлежат поэту Дмитрию Дмитриевичу Минаеву (1835—1889), всегда относившемуся с уважением к еврейскому народу. Известный пародист и переводчик, он неоднократно писал на еврейскую тему. Так, он талантливо пародировал "Еврейскую мелодию" Льва Мея ("Еврейско-рус-
317
ская мелодия"), перевел "Моисея" и "Дочь Иеффая" Альфреда де Виньи, "Вечного жида" Николауса Ленау (Стреленау), "Еврейскую песню" Барри Корнуолла, поэму А. Шамиссо "Искатель истины", где один из героев — философ Моисей Мендельсон. Особенно много он переводил австрийского поэта Людвига Франкля: "Цветы Иудеи", "Последний первосвященник", "Субботняя песнь" и др. Перевел стихотворение Л.О. Гордона "Братьям" (1873). Созданная им по мотивам талмуда легенда "Нахум Иш Гамза" впервые была опубликована в 1880 г. в журнале "Молва"; затем перепечатана в "Русском еврее" (№ 12, 1880) и в "Недельной Хронике восхода" (№ 28 1888).
Да, действительно, "жид" во многом виноват, но "виноват" и в хорошем. Вышеупомянутый Д.Л. Мордовцев, автор исторических романов и статей в защиту еврейства, на вопрос о перспективах сионизма на заре этого движения ответил весьма пророческими словами. Ставя еврейскую интеллектуальность несравнимо выше античных эллинских образцов, он писал: «...евреи дали нам нечто большее, именно: величайшую из книг — Божественную книгу. Евреи ...выделили из своего богатого запаса духовной мощи две религии: мусульманскую и христианскую. За эти великие духовные дары, которыми еврейский народ обогатил весь цивилизованный мир, — этот мир обязан, рано или поздно, заплатить свой неоплатный долг народу, духовная мощь которого не иссякла в течение тысячелетий — возвратить ему утраченную им родину, безбожно ограбленную насилием. И я глубоко убежден, что, получив обратно в свое владение всю (курсив мой. —С. Д.) Палестину, еврейский народ, при его необычайной даровитости и поразительной энергии духа, создаст могущественное и богатое государство там... И это сбудется, я этому глубоко верю, не погибнет тот народ "в духоте", который под страшным гнетом пронес свои идеалы через тысячелетия и через реки крови»84.
XIX век — время обостренного восприятия передовыми русскими людьми национального вопроса, "еврейского вопроса" в частности. Это же и время многочисленных уголовных дел о ритуальных убийствах, особенно в Западном крае. В следующем очерке мы остановимся на "творчестве" одного из адептов теории всесилия мирового кагала, фигуре противоречивой, бездарной, на чьей совести (и литературной, и человеческой) лежит вина за серию "кровавых наветов" — И.И. Ясинского. Однако, как мы увидим, передовая русская литература была по-настоящему неподкупна. Свидетельство тому — творчество одного из старших современников Ясинского.
318
Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), один из самых образованнейших людей своего времени и весьма плодовитый писатель, оказавший влияние на И. Ясинского, что и отмечалось критиками. Как раз между двумя антисемитскими романами ученика, о которых речь выше, в 1894 г., Боборыкин написал роман "Перевал". Напомню, что герой, семидесятник, возвратившись после долгого отсутствия в Москву, попадает в общество так называемых интеллигентных людей, которые открыто занимаются "жидоедством": «Разве в первый раз слышит он те же выходки. Прежде этим пробавлялись одни "гасильники", теперь все: чиновники и профессора, офицеры и студенты, художники и светские шалопаи, старики и дети»85. Оскар Грузенберг об этом времени сказал замечательную фразу: "Толпа ренегатиков и восставших из гробов смердящих Лазарей, в предвиденье успеха, откликаются им сочувственным воем и требуют немедленного, притом беспощадного, осуждения всего того, что еще недавно озаряло и красило невеселую нашу действительность"86.
Один из "антигероев" — профессор Шахматов (его прототипом, вероятно, был С.Ф. Шарапов, издатель, публицист, изобретатель). Боборыкин был вхож в московскую профессорскую и купеческую среду, отсюда он заимствовал персонажи и положения своих романов. Не исключено, что часть "разговоров" его романов были подслушаны писателем в доме профессора Бугаева, отца Андрея Белого87. Кроме того, Шахматов — фамилия выдающегося лингвиста, но на такое открытое указание прототипа Боборыкин вряд ли мог пойти. А вернее всего, "Шахматов" заимствовано из названия подмосковного имения Шахматове, принадлежавшего профессору А.Н. Бекетову, деду А. Блока. Напомним, что Бекетов был в большой дружбе с Д.И. Менделеевым, о котором разговор будет ниже. Шахматов проповедует расовую нетерпимость к евреям и задолго до работ Альфреда Розенберга и нюрнбергских законов выносит вердикт: "Маски надо сдирать... Он штатский генерал, с лентой через плечо! А для меня он — форменный жид! Я кровь эту узнаю в каком угодно колене... Федор Германович, кажется, немчура по отцу... а по матери настоящий русак... Но дед их был из выкрестов. Кровь-то, кровь — острая. Она себя сейчас выдаст... В сотом колене себя выдаст"88.
Роман П.Д. Боборыкина появился как раз после приказа великого князя Сергея Александровича о высылке из Москвы евреев89. За два года из Москвы было выслано, по-видимому, свыше 38 тыс. человек.
Факт высылки и ужесточение в вопросах "черты оседлости" в профессорской среде вызывают удовлетворение: "Стало
319
быть... вокруг них будут теперь обводить такие круги... суживать их и суживать? Как в некоторого рода чистилище? Ха-ха!" Общество отнеслось к "этой суровой расовой травле" вполне одобрительно: "Стало, их запрут на пространстве шести или семи губерний, и никакого хода из этого железного кордона не будет?" "Запрут, запрут! — разразился Сидоренко, и от смеха его широкая грудь пошла ходуном... — Знаете... в одном огромном ушате. И пусть варятся в собственном соку"90. Разговор ведется то по-русски, то по-французски — все же интеллигенция. Возмущенный герой — Лыжин — доводит до абсурда высказывания мракобесов: они, вероятно, имеют в виду поселить евреев на необитаемом острове или выбросить их в море (последний пример воспроизводит разговор С.Ю. Витте с царем Александром III). Однако общество не склонно воспринимать юмор и ответствует устами юдофоба: "Вот была бы благодать!" — вкусно и отчетливо выговорил Шахматов91. И так же "вкусно" склоняются и склоняются слова "жид", "немец" или "поляк" в зависимости от состава общества. Достается и евреям-колонистам и вновь говорится о проблеме скрытого "еврейства", начало которой ведется от французских антисемитов, заподозривших самого папу Льва XIII в тайном еврействе. Как известно, политика обрусения Москвы, проводимая великим князем Сергеем Александровичем, коснулась и вывесок. Городские власти потребовали писать настоящие имена и фамилии владельцев. Русифицированные еврейские имена и фамилии подверглись преследованию. Задолго до бойкота еврейских магазинов в Германии этот опыт был произведен в первопрестольной. Апологет антисемитизма профессор Шахматов утверждает, что в семихолмной Москве водворились два царства: иудейское и израильское, а после изгнания евреев наступит отдых. Петербургский гость "с игриво-пьянящими глазами" подхватывает: "...вижу, что и у вас всех этих лже-русских и лже-германцев вывели на свежую воду... Зильберглянц — портной... Но мне этого мало... Ты — Мовша Исаев. Так ты и должен значиться... Или какая-нибудь Парфенова — содержательница кассы ссуд... Как бы не так! Ты — Ривка Мордохеева! Ха-Ха! — Оба громко засмеялись"92. Боборыкин хорошо знает московскую жизнь и знает, что купечество, хотя и страшилось еврейской конкуренции, не желало изгнания евреев. И один из гостей указывает, что под Москвой, на Оке, есть село с 3 тыс. душ, и все они получают работу от магазина готового платья, принадлежащего еврею. Бесхитростный купчик заключает: безразлично, кто владелец этого магазина, ибо без него все село обречено идти по миру. Таковы законы экономики, это понимает простой торговец, но не профессор Шах-
320
матов, стоящий на своем — и без еврея проживут, как до этого жили. Но упрямый купец за словом в карман не лезет и утверждает, что до прихода еврея село бедствовало!
Этот антисемитизм без конца и края, без всякого здравого смысла вызывал недоумение: откуда идет эта звериная юдофобия? Ни социологические, ни политические, ни религиозные соображения не могли привести к столь печальному результату. Ведь один из персонажей "Перевала", молодой администратор, предлагает решить проблему простейшим способом — "евреев надо жарить в собственном соку". Что это? Боборыкин дает ответ в одном из своих рассказов "С убийцей". Женщина-врач, психиатр, рассказывая о так называемом "резонирующем помешательстве" (manie raisonnante), приводит пример юдофобии как одного из видов "коллективной резонирующей мании". Боборыкин в уста современного ему психиатра вкладывает следующие слова: "...здесь и там, разные индивиды, склонные к болезненному резонерству, получают усиленный заряд, и иудофобия делается у них постоянным аффектом. Такой антисемит, если вы только с ним раз заговорили, когда бы и где бы вам потом ни встретился в обществе, не может буквально раскрыть рот, чтобы третье или четвертое слово его не было бы окрашено в тот же колорит. Попадаются даже и такие, что не в силах говорить решительно ни о чем другом. И мы вправе считать это почвой для manie raisonnante. Такие маньяки могут слыть за совершенно нормальных до тех пор, пока в их обличениях есть подобие логической связи..."93
В одной из юбилейных статей, посвященных Боборыкину, еврейский рецензент нашел прекрасную форму для выражения благодарности писателю: "За правдивое слово о юдофобии, которое есть в то же время доброе слово о евреях, мы должны теперь сказать маститому юбиляру наше сердечное спасибо"94.
Но, слава Богу, мир состоит не только из литературных и всамделишных профессоров Шахматовых. Ниже пойдет речь о профессоре, чье имя неразрывно связано с историей русского филосемитизма.
Михаил Михайлович Филиппов (1858-1903) родился на Украине, в селе Окнино Звенигородского уезда Киевской губернии, в семье известного в свое время писателя, юриста и издателя Михаила Авраамовича Филиппова (1828-1886). Родился он в имении, принадлежащем его деду по матери — Л.С. Васильковскому. Родословная Васильковских, одной из старинных фамилий малороссийских старшин, восходит к самому Богдану Хмельницкому. Мы имеем свидетельство матери Михаила Михайловича — Анны Лаврентьевны (урожденной Васильков-
321
ской) — о своих предках, далеких и близких. Дед участвовал в Отечественной войне 1812 г. и после заграничного похода побывал в Париже, откуда вывез жену француженку. Дружил Лаврентий Степанович с Василием Назаровичем Каразиным, основателем Харьковского университета и дедом художника Н.Н. Каразина. (Интересно переплетаются судьбы и семьи русской интеллигенции.) Отец — Михаил Авраамович Филиппов — был юристом, а в свое время издавал в Петербурге журнал "Век" (1882—1884), определенно славянофильского толка (одна из напечатанных там статей называлась "Гоголь как националист"), поддерживавший политику правительства. Именно в этом журнале был опубликован труд О.А. Пржецлавского "Великая тайна франкмасонов"95. Правда, в предисловии редакция несколько отмежевывается от идей Пржецлавского. Возможно, что публикация носила "коммерческий" характер. Впоследствии в "Веке" сотрудничал сын издателя, подписывавшийся Филиппов-второй. На этой почве, вероятно, и произошло знакомство семей Васильковских и Филипповых. И мать, и отец Михаила Михайловича сотрудничали в прессе того времени. Статьи по юридическим вопросам М.А. Филиппов помещал в "Современнике" периода расцвета журнала. Принадлежащие его перу сатирическая повесть "Полицмейстер Бубенчиков" и роман "Скорбящие" подверглись суровой цензурной правке за антикрепостническую направленность. ("Бубенчиков" был сокращен на треть, но даже и в таком виде его публикация считалась большим достижением!) Особняком стоит его исторический роман "Патриарх Никон" (1885). Юридические труды М.А. Филиппова собраны в двухтомнике "Судебная реформа в России" (1872—1875). Совершенно уникален по богатству материала его труд "История карательных учреждений в Европе, Америке и России" (начало 70-х годов). Умер Михаил Авраамович в Риге в 1886 г. Ему не было и 58 лет.
Его сын — Михаил Михайлович — был энциклопедистом в полном смысле этого слова, человеком ренессансного мышления. Высшее образование он получил в Новороссийском университете на физико-математическом факультете. Затем поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Учился в Париже у знаменитого французского химика Пьера-Эжена-Марселэна Вертело, а затем, в 1892 г., получил степень доктора натуральной философии в Гейдельбергском университете за диссертацию "Sur les invariants des equations differentes lineares".
Свою литературную деятельность он начал в журнале Н.П. Вагнера "Мысль" статьей "Борьба за существование и кооперация в органическом мире" (1881). Занятное совпаде-
322
ние: Семен Яковлевич Надсон и Михаил Михайлович Филиппов начинают публиковаться в журналах воинствующего юдофоба96. В общей сложности М.М. Филиппов только на русском языке издал свыше 140 работ — специальных технических и популярных статей и книг. Писал он и художественные произведения: известна его историческая повесть "Остап" из времен хмельнитчины (1888), а роман "Осажденный Севастополь" (1889) вызвал одобрительный отзыв Л.Н. Толстого. Любопытно, впрочем, что в письме к вдове Филиппова Толстой, пораженный богатством исторических материалов, ясностью и полнотой представления автора о войне и ее причинах, отказывался рекомендовать роман в печать из-за его "воинственного и патриотческого духа", т. е. по пацифистским соображениям97. Кроме того, Филиппов помещал свои статьи и в заграничных изданиях. По своим взглядам он был марксистом, принимал участие в "Русском Богатстве", где опубликовал среди прочего "Посмертный труд Карла Маркса" с подробным разбором второго тома "Капитала". После раскола марксистов Филиппов критиковал П. Струве и Н. Бердяева. Перечень его работ поражает широтой тематики — от теории воздухоплавания, цветной фотографии, рентгеновских лучей, математики, естествознания, политической экономии, социологии, философии и т. п. до филологических изысканий. В издаваемом Филипповым журнале "Научное обозрение" сотрудничали и В.И. Ленин, и К.Э. Циолковский, опубликовавший в 1903 г. "Исследование мировых пространств реактивными приборами", и Д.И. Менделеев со своими "Заветными мыслями".
Жизнь Михаила Михайловича оборвалась трагически: 12 июня 1903 г. он был найден мертвым в своей лаборатории в Петербурге. Существовало несколько версий гибели ученого. Утверждалось, что Филиппов, используя сложные технические средства, пытался взорвать дворец в Царском Селе. В пользу этой версии говорит тот факт, что все документы ученого были опечатаны полицией и впоследствии погибли при пожаре Литовского замка. В одном из писем, опубликованном незадолго до смерти в московской газете "Русские ведомости", Филиппов писал о своей мечте остановить войны изобретением сверхмощного оружия: "На днях мною сделано открытие, практическая разработка которого фактически упразднит войну.
Речь идет об изобретении мною способа электрической передачи на расстояние волны взрыва, причем, судя по примененному методу, передача эта возможна и на расстояние в тысячи километров, так что, сделав взрыв в Петербурге, можно будет передать его действие в Константинополь. Способ изу-
323
мительно прост и дешев. Но при таком ведении войны на расстояниях, мной указанных, война фактически становится безумием и должна быть упразднена. Подробности я опубликую осенью в мемуарах Академии наук. Опыты замедляются необычайной опасностью применяемых веществ, частью весьма взрывчатых (треххлористый азот), частью крайне ядовитых"98. 11 июня он приступил к испытаниям, так как на следующий день должен был ехать в Париж для консультации с Бертело, но погиб во время опыта.
Интересовался Филиппов и еврейской проблемой, которая занимала довольно значительное место в его творчестве. К этой тематике его обратила волна погромов на юге России в 1881—1882 гг. Плодом его раздумий и явилась книга "Русско-еврейский вопрос", вышедшая в Одессе в 1882 г. В ней резко осуждался антисемитизм. Эта книга была встречена в штыки официальной Россией и, наоборот, о ней тепло отозвались в еврейской печати.
Сотрудничество с павленковской серией ЖЗЛ позволило Филиппову ясно высказаться по еврейскому вопросу. В книге о Лессинге, рассказывая о его комедии "Евреи", где в сверхположительном виде выведен друг Лессинга философ Мендельсон, Михаил Михайлович писал, что главное в Лессинге —это смелый вызов юдофобскому обществу. Филиппов напоминает, что знаменитые современники Лессинга — философ Вольтер и король Фридрих — были ярыми врагами еврейства. Великий философ вообще не признавал за евреями гражданских прав. По поводу комедии у Лессинга возникла полемика с юдофобом Михаэлисом, доказывающим невозможность существования типа идеального еврея. Наоборот, для Лессинга жизнь Мендельсона была лучшим доказательством собственной правоты". Безусловно, позиция Лессинга вызывала у Филиппова ассоциации с собственным положением в юдофобском обществе. Написанная Лессингом за два года до смерти драма "Натан Мудрый" подвигла Филиппова обширно процитировать автора, утверждавшего, что "в те времена евреи и мусульмане были единственными учеными..."100
Филиппов скептически относился к сионизму, что понятно — по своим взглядам он примыкал к марксистам. Подобно Вл. Соловьеву, он считал сионизм утопией. Впрочем, Соловьев исходил из религиозных соображений, а Филиппов из социальных. На известную анкету по поводу сионизма Филиппов ответил так: "Я не верю в национальное возрождение евреев путем сионизма именно потому, что это движение имеет национально-религиозный характер. Ожидать от еврейской интеллигенции за весьма редким исключением чего-либо, кро-
324
ме чисто-платонических разговоров о сионизме — значит, разделять утопизм Дон-Кихота, который мечтал о восстановлении рыцарства в окружавшей его мещанской среде. Не национализм, а интернационализм, не мессианские идеи и не мистика, а земные идеалы социальных реформаторов — таково наследие, завещанное XIX веком начинающемуся XX столетию. Поэтому всякий идеал, построенный на религиозно-национальной почве, как бы ни были привлекательны его частности, в общем всегда останется реакционным"101. Д-р Григорий Гордон справедливо возражал Филиппову, отрицая, что сионистское движение носит религиозный характер. Впрочем, в конце XX в. победил как раз идеал религиозно-национальный.
В России XX век начался обвинением евреев в попытке ритуального убийства. Речь идет о так называемом "деле Блондеса", возникшем в Вильно. Процесс благодаря "польским" стараниям принял скандальный характер. Со стороны обвинения выступал известный польский адвокат Врублевский, со стороны защиты — "русский" П.Г. Миронов, "поляк" В.Д. Спасович и "еврей" О.О. Грузенберг. Процесс в общем закончился победой здравого смысла, но вся центральная и провинциальная печать приняла активное участие в дискуссии. Особенно неистовствовали правые газеты. Ответом стала статья М.М. Филиппова.
Эта забытая статья М.М. Филиппова не потеряла актуальности и в наши дни. Пафос ее направлен против антисемитов, у которых идея о ритуальных убийствах была излюбленным аргументом. Еще в 1844 г. была написана для служебного пользования министерством внутренних дел книга под названием "Розыскания об убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их", автором которой считали или знаменитого лексиографа Владимира Даля, или директора департамента иностранных вероисповеданий В.В. Скрипицына, или генерал-губернатора Волынской губернии И.В. Каменского. Каждый из предполагаемых авторов не отрицает и не афиширует своего участия в этом деле. Мы предлагаем четвертую кандидатуру на авторство, а именно Василия Васильевича Григорьева, впоследствии известного тюрколога и члена ряда комиссий по еврейскому вопросу, где он занимал обычно антисемитскую позицию102.
Интересную точку зрения на этот предмет высказал сенатор К.Н. Лебедев, которого трудно заподозрить в необъективности: «Я читал "Розыскание об убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их", напечатанное по приказанию г.[осподина] м.[инистра] в.[нутренних] дел в 1844 г. Не знаю, кто писал этот беглый обзор (может быть, В.И. Даль или
325
генерал-майор Каменский) и для чего напечатано это во многих отношениях поверхностное розыскание о столь важном предмете, в котором соединяются интересы народные, религиозные и юридические. Может быть, Лев Александрович [Перовский], поборая государственное единство, думает, приняв энергические меры, очистить от Евреев наши Западные губернии. Памятны им гонения, воздвигнутые в Велиже 1823 г. и в Мстиславле по контрабандному делу 1844 г. Брошюра замечательна по своему предмету, но бедна содержанием, лишена беспристрастного взгляда, не имеет достоинств ученого исследования и даже полного собрания сведений. Не ищите здесь ни точных источников, ни верных указаний, ни оценки событий. Это беглое изложение сведений, почти всеизвестных, направленное к тому, чтобы доказать, "что убиение христиан евреями для получения крови существует; что обряд сей известен и исполняется сектою Хасидов или Хасидым, и что поныне являются между Жидами фанатики и кабалистические знахари, которые с этою двоякою целию посягают на мученическое убиение христианского младенца и употребляют кровь его с мистически-религиозною и мнимо-волшебною целию". Польша и Западные губернии наши, служащие со времени средних веков убежищем закоренелого и невежественного жидовства, представляют и поныне самое большое число примеров подобного изуверства, особенно губерния Витебская, где секта Хасидов значительно распространилась. Может быть, все это и правда; но я поверю тому не прежде, как получу убеждение, которого мне не может дать это разыскание. Весьма легко, сидя в кабинете, рассуждать о виновности лиц, освобожденных судом от ответственности, как напр. по Велижскому делу; не трудно признать эту виновность и будучи в составе временной комиссии, но трудно постановить приговор судебный, когда человеческое убеждение не подкрепляется теми доказательствами, которые преподаны судье для успокоения его совести и при которых вся кара не вполне доказанного преступления есть в свою очередь преступление, угрожающее виновному и невинному»103. Так вот, статья Филиппова непосредственно была связана с ритуальным процессом 1899 г. в г. Полна (Богемия), носившим специфический криминальный характер.
Приводим текст статьи.
«"Ритуальные" убийства и половая психопатия.
По поводу пресловутого австрийского процесса, вновь возбудившего вопрос о возможности "ритуального убийства", знаменитый психиатр Крафт-Эбинг104 высказался в том смысле, что истинным убийцей был, по всей вероятности, половой психопат, страдающий так наз. садизмом. Эта форма психопа-
326
тии выражается, как известно, в неудержимом стремлении терзать и мучить жертву страсти, доходящем иногда до того, что одержимый этой болезнью субъект в буквальном смысле сосет кровь жертвы. По моему мнению, к этой категории психопатов должен быть отнесен и таинственный Джек-потрошитель, несколько лет тому назад пугавший воображение даже петербургских дам.
Недавно мне пришлось совершенно случайно узнать факт, быть может, проливающий свет и на другое "ритуальное" убийство, происшедшее в нашем отечестве. Я говорю о люцинском процессе. Дело вот в чем. Мне пришлось разговориться с одной крестьянкой, уроженкой Посинской волости Люцинского уезда, Витебской губернии. Я спросил ее, не знает ли она что-нибудь о люцинском деле. Ответ был, какой и следовало ожидать: "Как не знать? Евреи убили девушку, — потому им надо было ейную кровь для их мацы". Я, разумеется, не мог разубедить ее никакими доводами — она ссылалась на то, что, дескать, начальство выслало куда-то этих евреев, стало быть — за дело. Несколько дней спустя, совсем по другому поводу, та же крестьянка рассказала мне следующую историю. У них в уезде одно время, по ее словам, ни одна девушка или баба ни за что не решалась идти одна в лес: все боялись одного сумасшедшего барина. Барин этот был сначала очень добрый, потом женился, и вдруг что-то случилось с его женой, и она умерла. Носились страшные слухи, будто "барин барыню загрыз". С тех пор этот барин стал грозою всего околотка. Однажды, так повествовала, по крайней мере, моя собеседница, какая-то молодая бабенка рискнула пойти одна в лес, откуда ни возьмись сумасшедший, бросился на нее, повалил и начисто отгрыз ей одну грудь. "Баба от этого вскоре умерла; так нам всем жалко было, молодая совсем, недавно замуж вышла". После того не раз парни нарочно переодевались девушками и отправлялись в лес: сумасшедший "бросится на них, а они на него и несколько раз избивали его до полусмерти; а он отлежится, а потом опять пакостит".
И что всего удивительнее, этот опасный сумасшедший, о котором знал весь околоток, преспокойно разгуливал на воле в течение нескольких лет и, по уверению крестьянки, "многих баб порядком покусал".
Я нисколько не удивился бы тому, если бы и люцинское убийство оказалось делом рук того сумасшедшего. Когда я высказал это предположение моей собеседнице, она сначала воскликнула: "Ах нет, то — другое, там евреи! Тогда он, кажись, еще разумный был". Но потом она несколько призадумалась и уверенность ее поколебалась.
327
Обращая внимание на этот факт всех, кто присутствовал на разбирательстве процесса, я, разумеется, не выставляю его как единственнное возможное объяснение. Но мне кажется, с подобными фактами наука должна считаться. В особенности же вероятно, что такого рода половые психопаты были главными виновниками целого ряда средневековых процессов об употреблении христианской крови, по крайней мере в случае убийства девушек или даже маленьких девочек. Это в особенности возможно в виду того необходимого извращения половых чувств, какое должно было быть следствием, с одной стороны, аскетизма, а с другой — военного образа жизни. Вообще, есть основание думать, что соединение сладострастия с жестокостью — факт очень распространенный и желательно, чтобы указание, сделанное Крафт-Эбингом, обратило на себя внимание как врачей, так и юристов. Конечно, можно опровергнуть нелепое обвинение, направленное против евреев, и с чисто обрядовой точки зрения, указав, например, на то, что кровь составляет в глазах правоверного еврея нечто оскверняющее — даже, например, кровь, оставшаяся на хлебе от десен. Если хасид считает оскверненным мешок с мукою для мацы после того, как этот мешок нечаянно заденет нееврей (я знаю такой случай), то какой ужасный "треф" составила бы для него христианская кровь, попавшая на мацу из жил убитого человека. Все подобные соображения не убеждают людей, утверждающих, что возможна будто бы особая еврейская секта, потребляющая кровь для ритуальных целей. В это верил даже такой серьезный человек, как Костомаров. Требуют непременно обнаружить: кто же был убийцей? А что иногда бывает нелегко именно вследствие предвзятого мнения, что убили евреи, мнения, запутывающего процесс. И вот почему важно указать на гипотезу, позволяющую объяснить многие таинственные убийства. Надеюсь, что эта гипотеза прольет на многие процессы гораздо более света, чем все "Иудейские зерцала", "Тайны кагала" и "Контрабандисты", вместе взятые»105.
Статья не затерялась на страницах журнала и была замечена в первую очередь антисемитской прессой. Особенно неистовствовал А.П. Пятковский, с пеной у рта доказывающий еврейское происхождение не только Филиппова, но и других филосемитов. Ответ М.М. Филиппова не заставил долго ждать. Его фельетон был озаглавлен "Розыск еврея":
«В благословенном Петрограде или, если угодно, на петербургском болоте шевелятся разного рода рептилии, и всех их перечесть трудно. К числу этих произведений болотной почвы принадлежит журнал "Наблюдатель". Я не колеблюсь назвать этот журнал "еврейским", несмотря на все его комичные ти-
328
рады против евреев, или именно потому, что читаю в нем сотни подобных тирад. Ставлю себя в положение постоянных читателей этого журнала: на каждой странице либо "жиды", либо кухарки и швейцары! С кухарками храбрый журнал ведет борьбу не менее ожесточенную, чем с жидами; но пора, наконец, и честь знать! Беру в руки январскую книжку журнала: весь фельетон г. Просвердова посвящен "евреям", "гоям", "кагалу" и т. п. Остроумие везде самого высокого сорта: так, например, Одесса названа Иудессой. Что же это такое, наконец? Пошлое шутовство или своего рода психическая болезнь, "жидомания"? Я никогда бы не стал упоминать ни о "Наблюдателе", ни о его глупостях, если бы не встретил в той книжке названного журнала заметку о небольшой статье, напечатанной мною в № 50 "Будущности" по поводу так называемых ритуальных убийств. Вопрос этот важный, от него иногда зависит участь многих людей и тут вовсе не до смеха. Читателям "Будущности" известно, что я, следуя указаниям знаменитого Крафт-Эбинга, счел возможным указать, что в некоторых таинственных случаях убийств, в которых возникает нелепое обвинение против евреев, могут быть виновны страдающие половой психопатией. Разумеется, это далеко не всеисчерпающее объяснение: во многих случаях обвинение в ритуальном убийстве бывает совершенно голословно относительно самого факта убийства. Всем памятен один знаменитый процесс этого рода (кутаисский), когда было выяснено, что причиною смерти девушки был просто несчастный случай, так что вовсе никакого убийства не было. Весьма важно обратить внимание также на существование одного микроорганизма, служащего причиной пятен кровавого цвета на пресном тесте. На это обстоятельство было уже указано, впрочем, не мною, а одесским приват-доцентом г. Генкелем. Добавлю, что и первых христиан обвиняли римляне, быть может, именно по вине этого микроорганизма. Само собою разумеется, что в своей краткой заметке я не имел и не мог иметь в виду всесторонне разобрать и опровергнуть на нескольких столбцах суеверие, держащееся более тысячи лет. Целью моею, вполне ясною для каждого непредубежденного читателя, было не разубеждать невежд, глупцов и суеверов, а обратить внимание людей образованных на одно из обстоятельств, могущих играть роль в подобного рода процессах. Если я при этом сослался на показание крестьянки, то ведь именно такие показания и интересны, так как и ритуальные процессы возбуждаются по показаниям подобных же простых людей. Вот почему я и обратился непосредственно к "гласу народа" в лице крестьянки, не имеющей еще понятия об антисемитизме и прочих "измах" и рассуждающей в простоте души, — простоте настоящей, а не псевдонимной.
329
Как и следовало ожидать, статья моя крайне не понравилась "Наблюдателю", и журнал этот прибег к тем соглядатайским приемам, какие вообще практикуются им в подобных случаях.
Прежде всего "Наблюдатель" очень огорчен моим докторским титулом. Следует заметить, что никогда, ни в одной моей статье и ни в моей книге я этим титулом не подписываюсь, хотя разумеется, я не вижу в докторской степени ничего, что могло бы заставить меня покраснеть и что я должен был бы умышленно скрывать. Моя степень фигурирует исключительно в объявлениях и в списках сотрудников, точно так же как там принято писать "профессор" N.N, "д-р медицины" Х.Х. и т. п. Но и этого "Наблюдатель" почему-то мне не может простить. Он ставит мою степень в кавычки и указывает на то, что я доктор "какого-то заграничного университета". Да, г. самозванный паспортист, я доктор философии какого-то университета: того самого, который гордится такими именами, каковы имена Бунзена, Гегеля (в лучшую пору его деятельности), Шлоссера, Гельмгольца, Герца, Куно Фишера, Виктора Мейера. Этот "какой-то" Гейдельбергский университет еще недавно справлял свой 500-летний юбилей и тогда приветствия со всех концов мира показали, сколько славных имен связаны с именем моей alma mater...
Но г. Пятковскому хочется кроме того знать всю мою родословную. Он задался целью доказать, что все пишущие, не говорю в пользу еврейства, а в пользу справедливости, которую следует оказать евреям, непременно или сами — евреи или имели предков — евреев, если не во втором, то хоть бы в седьмом или семидесятом поколении. И вот, чтобы скомпрометировать меня в глазах тех читателей, для которых назвать кого-либо "евреем" значит произнести окончательный, решающий приговор, для этого рода читателей г. Пятковский заявляет, что "еврейская газета" говорит устами заграничного "доктора философии", "не чуждого еврейству".
Прочитав эту фразу, я в первый раз искренне пожалел, что г. Пятковский неправ и что я хотя на минуту не могу сделаться евреем. Действительно, будь я "не чужд еврейству" в смысле, на который намекает г. Пятковский, я бы ответил ему очень просто: "да, я еврей; но что из этого следует? Разве истина и логика не одинаковы для еврея и русского, для иудея и христианина?" Я не могу этого, однако, сказать г. Пятковскому по той простой причине, что я, вопреки его утверждениям, "чужд еврейству" в смысле принадлежности к иудейской религии и к еврейской расе. Мало того: я печатно выразил сомнение в самом существовании этой "расы" в европейских стра-
330
нах. Но так как г. Пятковскому угодно было начать следственное дело относительно моего происхождения, то на первый раз скажу ему, что в числе моих предков были французы и запорожские казаки и что те и другие всегда презирали невежливых людей. Если же г. Пятковский продолжит свой розыск, то для облегчения его полицейски-генеалогических изысканий я заранее сообщу ему по секрету, что мы с ним очень близкие родственники, принадлежащие к потомству, несомненно происшедшему от одних и тех же предков, о которых говорится в начале книги Бытия. Нетрудно доказать, я по духу в гораздо большей степени русский, нежели каждый, чье имя звучит так, как литературное имя г. Пятковского. Впрочем, после того, как г. Пятковский заявил, что покойный Владимир Соловьев был не русским человеком, а евреем-талмудистом, я могу только порадоваться тому, что и меня зачислили в тот же сонм. Быть в одной когорте с Вл. Соловьевым, право, гораздо большая честь, чем быть в одной группе с г. Пятковским»106.
Достойный ответ на низкую инсинуацию. Михаил Михайлович Филиппов в откровенной форме высказал мысль: логика одинакова для всех сущих. Он предпочел бы быть евреем в стане Вл. Соловьева, чем русским в лагере Пятковских. В статье есть указание на то, что Филиппов отрицал существование специфической еврейской расы. Статья на эту тему была опубликована им в № 44 "Северного курьера" под названием "Существует ли еврейская раса?". Основываясь на современных ему этнографических работах (Вильяма Райпли и д-ра С.А. Вайсенберга), он приходит к выводу: "...современные евреи не раса, а народ, т. е. их индивидуальность сохраняется и видоизменяется общественными причинами, нимало не свидетельствуя о чистоте происхождения и еще менее того доказывая неизменность еврейского типа". Для Филиппова-марксиста такая точка зрения естественна. Вместе с тем редакция "Будущности", приводя доводы Филиппова, подчеркивает наличие пяти теорий, существующих в определении антропологического типа евреев107.
Внезапная и трагическая смерть выдающегося ученого вызвала различные толки, частью исходившие от охранного отделения. Как считает сын Филиппова, именно охранка инспирировала статью в "Новом времени", где некто, скрывшийся за инициалами А.Т., пытался доказать несостоятельность идеи изобретения покойного ученого. В защиту Михаила Михайловича выступил сам Дмитрий Иванович Менделеев, показавший на страницах "Санкт-Петербургских ведомостей" полную некомпетентность "А.Т.": «То, что я прочел в статье "Нового времени", содержит в действительности не "научный разврат",
331
а научную белиберду, и как она связана с именем покойного М.М. Филиппова, от которого я ничего подобного никогда не слыхал и с которым всегда беседовал с большим удовольствием ...для меня остается совершенно неясной связь между белибердой статьи г. А. Т-а и кончиной человека, который, по моему мнению, оставил о себе добрую память у всех, кто его знал»108.
МЫСЛИ СЛУЧАЙНЫЕ И НЕ СЛУЧАЙНЫЕ
(Владимир Соловьев)
Смерть и Время царят на земле —
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.
Вл. Соловьев
Строго ограничу себя. Я буду говорить о Владимире Соловьеве (1853—1900) как общественном деятеле и публицисте, а не как философе, хотя разграничение это довольно условно, ибо одно связано с другим. Так, принятие причастия у католического священника Николая Толстого в 1896 г. — общественный поступок — было тесно связано с мировоззрением Вл. Соловьева: согласно его учению, мистическое единство Восточной и Западной Церкви сохраняется, несмотря на внешнее разделение их. Вероисповедные перегородки до небес не доходят, и потому он с полным правом мог сказать профессору Льву Лопатину: "Меня считают католиком, а между тем я гораздо более протестант, чем католик"109. Мы будем иметь случай подчеркнуть, что в некотором роде Владимир Соловьев не только христианин и не только филосемит, а еврей... И эта мысль принадлежит не восторженному поклоннику идей философа, а наоборот, яростному ненавистнику еврейства. Но и А.Ф. Кони считал, что в биографии Соловьева публицистичность играет большую роль. Он всегда был бойцом и всюду слышал "трубу, зовущую на бой"110.
Вдумчивый религиозный философ должен был рано или поздно остановиться перед мировой загадкой. Еврейская история, насчитывавшая четыре тысячелетия, грандиозная и величественная, несомненно притягивала его. "Дивный образ торжествующего духа Израильского, превозмогающего все страдания плоти, чарующим образом действовал на его поэтическую душу"111. Поэтому уже в зрелом возрасте он начал изучать
332
древнееврейский язык под руководством Файвеля Меера Бенцеловича Геца (1853—?). Первая личная встреча произошла в 1879 г. в доме знакомого студента. Гец, робея перед знаменитостями и слыша, что Соловьев находится под сильным влиянием Ф.М. Достоевского, был насторожен. Но случайно Соловьев обратил внимание, что Гец соблюдает "пищевые ограничения" — кашрут, и тут же начал разговор о "талмудичестве", проявив незаурядную эрудицию. Тем не менее он решил углубить свои знания и обратился к своему одногодку за помощью. Так Файвель Гец стал учителем философа112. Переписка между учителем и учеником весьма обширна и в эпистолярном наследии философа занимает значительное место. Это была большая дружба, скрепленная общими интересами. Сколько теплых слов сказал в адрес учителя философ. Так, в одном из писем он просит его беречь здоровье, так как круг друзей сужается. А по поводу исцеления Файвеля Бенцеловича он даже на радостях написал юмористические стихи (в письме от 22 августа 1891 г.):
Не верил я в жестокий тиф, —
Не верил — и был прав:
Жестокий тиф был только миф,
Друг Файвель жив и здрав.
Время от времени они обменивались подарками — то Соловьев высылал другу Арабскую Библию из Москвы, то Сирийскую из Вены. Файвель в свою очередь дарил своему русскому другу еврейское вино с надписью "кошер л'пэсах", которым остроумный философ не без задней мысли потчевал и православного священника, и католического ксендза...
Занимался языком философ неустанно. По словам Геца, он приходил к нему в 10 вечера и оставался до 2 часов ночи. Владимир Сергеевич интересовался не только этимологией и грамматикой, но, главным образом, толкованиями талмудических и раввинистических комментаторов, чтобы понять глубину библейского текста. Работал Соловьев над ивритом и самостоятельно, о чем сообщал своему учителю в письмах из разных городов, куда его забрасывали обстоятельства — Киев, Москва, Загреб, Париж113. Он прочел трактаты "Авот", "Авода Зара", "Иома", "Сукка"114. Иногда он вставляет в письма целые фразы на иврите в русской транскрипции. В 1886 г. Владимир Сергеевич извещает Ф.М. Геца: «Еврейское чтение продолжаю. Теперь, слава Богу, я могу хотя отчасти исполнить свой долг религиозной учтивости, присоединяя к своим ежедневным молитвам и еврейские фразы, например: "Пнэ элай в'ханнэни ки яхид в'ани, царот л'бабы ирхибу, мимцукотай
333
оц'iэни". Надеюсь, что ради моих добрых намерений Бог будет снисходителен к моему плохому еврейскому выговору»115. Владимир Соловьев достаточно овладел "еврейским" материалом, вплоть до того, что статья "Каббала" в "Энциклопедическом словаре" Брокгауза и Ефрона была написана им. По собственным словам Владимира Сергеевича, его консультантом был ученый гебраист и арабист барон Давид Горациевич Гинцбург. (Между прочим, единственный в России человек, знавший коптский язык, незаменимый сотрудник министерства иностранных дел при сношениях с Абиссинией.) Говоря о незавершенных замыслах философа мы можем сожалеть о том, что Соловьев не успел перевести Библию с оригинала и снабдить текст комментариями.
Но в отличие от многих идеалистов Владимир Соловьев искал возможности помочь еврейству практически. В 80-х годах во время погромного разгула он пытается собрать подписи общественных деятелей в защиту угнетаемого меньшинства. В. Соловьеву принадлежит почетная роль первого русского, открыто прочитавшего публичную лекцию в Санкт-Петербургском университете об историческом значении еврейства. Лекция была прочитана 18 февраля (по старому стилю) 1882 г., т. е. спустя год после убийства Александра II116. Резонанс этой речи в русском обществе был потрясающий: Соловьев декларировал духовный союз между Израилем и Россией; русская история и еврейская история не случайно встретились на Восточно-европейской равнине. Поэт Н. Минский так описывает эффект этого выступления: "Помню... как я еще юношей присутствовал в актовом зале университета на одной из лекций Соловьева о еврействе. Перед изумленной тысячной толпой стоял бледный аскет, покоряющей красоты. Голосом глубоким, с частыми напряженными паузами он не говорил, а как власть имеющий вещал об обязанности русского народа-богоносца духовно слиться с народом еврейским, вечно богорождающим. Признаться, в то время слова Соловьева, глубоко волнуя, казались мне парадоксом. И только долго спустя я понял их сокровенное"117. Вне всякого сомнения, речь Соловьева была одной из первых апологий еврейства на русском языке.
Что же касается проекта против антисемитизма, то Соловьев собрал 66 подписей в Москве и чуть более 50 в Петербурге. Но по тогдашним обстоятельствам даже весьма умеренное обращение не нашло отражения в печати118. С.М. Дубнов указывает на известного историка и не менее известного антисемита Д.И. Иловайского (1832—1920) как на доносчика. Приблизительно то же сообщает и В.Г. Короленко, утверждая, что, прослышав о сборе подписей, Иловайский "ударил в набат". Самое главное, гнев правой печати был обрушен не на текст
334
петиции, а на само желание обратиться к обществу!.. Но Иловайский был не единственный ябедник в стране классического навета. Победоносцев неоднократно получал письма с доносами на философа. Так, граф С.Д. Шереметев (член госсовета, историк, археолог, почетный член академии наук и т. д. и ...черносотенец) по поводу университетской речи о смягчении участи цареубийц назвал Соловьева "врагом", можно понять, что государства. А Лесков выступление по поводу исторической роли еврейства в письме к Победоносцеву охарактеризовал как очень странное: "По мнению Соловьева, еврейский вопрос будет разрешен в России, ибо здесь, во всеобъемлющем духе православия они примирятся с ненавистным им христианином; с другой стороны, они принесут России недостающий ей элемент — сильное развитие субъективного духа, которым всегда отличались"119. Что же касается петиции, эта весьма умеренная акция по тогдашним обстоятельствам не могла пройти. К.П. Победоносцев писал императору 6 декабря 1890 г.: «Вашему Величеству известна лукавая и нелепая агитация, поднятая в Лондоне о защите евреев от мнимого гонения будто бы на них русским правительством... И в Москве безумный Соловьев вздумал собирать нечто вроде митинга для протеста против мер, принимаемых относительно евреев. Стали составлять адрес — сначала Толстой, а за ним, к сожалению, некоторые бесхарактерные профессора университета. Дело это в Москве остановлено, но можно было ожидать, что эти господа не уймутся, и вот уже в газете "Times" от 10 декабря появилась корреспонденция из Москвы, где напечатан текст этого протеста и подлинной переписки об евреях между министерствами иностранных и внутренних дел». Ответ Александра III, наложенный на письмо в виде резолюции, краток: "Я уже слышал об этом. Чистейший психопат". Последнее, понятно, относится к Соловьеву120.
Спустя десятилетия после смерти Соловьева русская интеллигенция без негодования не могла вспоминать об этом позорном шаге правительства. Профессор В. Сперанский в своих воспоминаниях подтверждает, что Александр III на доносе Победоносцева о том, "что безумный Соловьев" собирает особый митинг в защиту еврейства, собственноручно изволил написать "чистейший психопат"121. Но и Соловьев не щадил Константина Петровича — он называл его "Кощеем православья" и писал эпиграммы, вмиг расходившиеся по городу:
На разных поприщах прославился ты много:
Как евнух ты невинностью сиял,
Как пиетист позорил имя Бога
И как юрист старушку обобрал.
(1892).
335
С удовольствием сообщал он и всевозможные анекдоты об обер-прокуроре. Так, редкая запись из "фетовианы": "Ужасно трудно переводить с латинского на русский. В латинском слова все короткие, а в русском длинные, да еще одним-то словом не всегда обойдешься. Например, по-латыни стоит asinus (осел. — С. Д.), а по-русски пиши: Е-го Вы-со-ко-пре-вос-хо-ди-тель-ство Гос-по-дин Обер Про-ку-рор Свя-тей-ше-го Си-но-да"122.
История же петиции разными современниками воспринималась по-разному. Так, один из не особенно доброжелательных свидетелей, подчеркивающий психическую неуравновешенность Соловьева, его увлеченность оккультизмом, писал следующее: "Я был знаком с Вл. Соловьевым много лет и всегда искренне удивлялся изменчивости его натуры... В личных сношениях с людьми он был довольно приятный и обязательный человек, но, в сущности, в нем было немного внутренней теплоты и сердечной привязанности... Я помню следующий любопытный случай, который произошел на моих глазах с Вл. Соловьевым в 1890 или в 1891 году. В этот год по Петербургу ходила по рукам, для собирания подписей, петиция на имя государя о предоставлении евреям в России тех же гражданских прав, которыми пользуются коренные русские люди. Происходя по матери из еврейского племени (курсив мой. — С. Д.), Вл. Соловьев очень сочувствовал этому вопросу, принимал в нем горячее участие и через своих высокопоставленных знакомых всячески старался провести петицию в благоприятном смысле". Дальнейший рассказ имеет отношение к мистике. Автор приведенных выше воспоминаний как-то зашел в "Европейскую гостиницу" в Петербурге к Соловьеву именно в тот момент, когда туда приехал о. Иоанн Кронштадский. Увидев знакомые фигуры, отец Иоанн подошел к Соловьеву, благословил и осведомился о его житье-бытье. «Соловьев как будто несколько смутился и вдруг, как бы побеждая в себе некоторые колебания, сказал отцу Иоанну: "Мне бы очень хотелось, батюшка, узнать ваше мнение по одному делу, которое теперь всего меня занимает". "Что же это за дело?" — полюбопытствовал отец Иоанн и отошел с нами немного в сторону. "Это дело великой важности и касается очень, очень многих — я не могу сказать пока больше, но вы, отче, вы в силах сказать мне, удастся ли оно?" Отец Иоанн воззрился на Соловьева, который почему-то еще более смутился, под влиянием ли этого взгляда, или, может быть, в виду присутствия посторонних... "Нет, мой друг, ничего из твоей затеи не выйдет! — решительно произнес отец Иоанн. — Ты напрасно начал свою затею — все это построено на песке и никому от нее никакой пользы не жди..."»123
336
Действительно, из проекта Соловьева ничего не вышло, но мистического в этом ничего нет: просто о. Иоанн Кронштадский хорошо знал суть дела, которым занимался философ, не одобрял его, так же, как и его патрон в Синоде К.П. Победоносцев. Еще один штрих: Владимир Сергеевич был вызван к градоначальнику П.А. Грессеру, где ему было сказано, что повторение подобного приведет его к высылке из Петербурга... Какой-то остряк (может, и сам Соловьев, который любил экспромты) написал:
Ах, был в этот день цвет небес сер,
Когда вызывал его Грессер...
Сергей Игнатьевич Уманец (1859 — после 1915), журналист, историк, этнограф, в 90-е годы чиновник Главного управления по делам печати, был лично знаком с В. Соловьевым и, как мы видим, утверждал, что по материнской линии философ происходил "из еврейского племени"124. Это утверждение С. Уманца находится в противоречии с фактами, известными сегодня. Биограф В. Соловьева, его племянник С.М. Соловьев, подчеркивает славянское происхождение дяди, даже "чисто славянскую кровь"125. Однако по материнской линии Владимир Соловьев происходил из семьи украинско-польской, бабушка его, урожденная Бржесская, или, как писалось тогда, Бжесская. Кстати, знаменитый философ Григорий Саввич Сковорода приходился матери Соловьева двоюродным дедом или прадедом126.
Приблизительно то же сообщает Сигизмунд Либрович в своей книге127. Возможно, Уманец имел в виду польскую линию Бжесских. Как известно, польское дворянство было достаточно семитичным128.
Приведем письмо Владимира Соловьева ко Льву Николаевичу Толстому, имеющему непосредственное отношение к петиции (конец февраля 1890 г.):
«Дорогой и глубокоуважаемый Лев Николаевич, обращаемся к вам по очень важному делу. Здесь ходят слухи, в достоверности которых мы имели возможность убедиться, — о новых правилах для евреев в России. Этими правилами у евреев отнимается почти всякая возможность существования даже в так называемой черте оседлости.
В настоящее время всякий, который не соглашается с этой травлей и находит, что евреи такие же люди, как и все, признается изменником, сумасшедшим или купленным жидами. Все это, конечно, не испугает. Очень желательно было бы, чтобы вы подняли голос против этого безобразия. "Аще не об-
337
личиши беззаконника о беззаконии его, взыскати, имам душу от руки твоея". В какой фоме сделать это обличение — вполне зависит от вас. Самое лучшее, если бы вы выступили единолично, от своего имени. Если же почему-нибудь для вас невозможно, то можно было бы написать и коллективно.
Не будете ли так добры известить кого-нибудь из нас, что вы об этом думаете»129.
Вот текст самой декларации, вокруг которой развернулась ожесточенная борьба:
"В виду систематических и постоянно возрастающих нападений и оскорблений, которым подвергается еврейство в русской печати, мы, нижеподписавшиеся, считаем нужным заявить:
1) Признавая, что требования правды и человеколюбия одинаково применимы ко всем людям, мы не можем допустить, чтобы принадлежность к еврейской народности и Моисееву закону составляла сама по себе что-нибудь предосудительное (чем, конечно, не предрешается вопрос о желательности привлечения евреев к христианству чисто духовными средствами) и чтобы относительно евреев не имел силы тот общий принцип справедливости, по которому евреи, неся равные с прочим населением обязанности, должны иметь таковые же права.
2) Если бы даже и было верно, что, тысячелетние жестокие преследования еврейства и те ненормальные условия, в которые оно было поставлено, породили известные нежелательные явления в еврейской жизни, то это не может служить основанием для продолжения таких преследований и для увековечения такого ненормального положения, а напротив, должно побуждать нас к большой снисходительности относительно евреев и к заботам об исцелении тех язв, которые были нанесены еврейству нашими предками.
3) Усиленное возбуждение национальной и религиозной вражды столь противной духу истинного христианства, подавляя чувства справедливости и человеколюбия, в корне развращает общество и может привести его к нравственному одичанию, особенно при ныне уже заметном упадке гуманных чувств и при слабости юридического начала в нашей жизни.
На основании всего этого, мы самым решительным образом осуждаем антисемитическое движение в печати, перешедшее к нам из Германии, как безнравственное по существу и крайне опасное для будущности России"130.
Позиция Владимира Сергеевича ясна; особенно видна рука философа в пункте первом — о желательности добровольного крещения евреев, но Лев Николаевич на предложение написать собственное обращение ответил весьма уклончиво,
338
хотя и подписал общий протест. Не лишне отметить, что письмо отвозил Толстому человек, вполне заинтересованный — Файвель Гец.
В воспоминаниях В.Г. Короленко этот эпизод описан несколько иначе. В октябре 1890 г. он получил из Москвы письмо Вл. Соловьева с просьбой подписать петицию и сам текст, кое-где отредактированный. Короленко тоже был кое с чем не согласен, но не считал это принципиальным. Между прочим, несогласие было общее — и Соловьева, и Короленко. Речь шла о том, что по просьбе части подписавшихся (и в надежде на публикацию) в текст была вставлена фраза о германской природе русского антисемитизма. При этом следует заметить, что Соловьев чуть ли не первым в мире предостерег Европу от опасности крайне агрессивного национализма, источником которого был "германский гений".
Ко времени появления проекта у Короленко там уже стояли подписи многих представителей передовой русской интеллигенции: Льва Николаевича Толстого, профессора истории Владимира Ивановича Герье (1827-1919), профессора истории Павла Григорьевича Виноградова (1954-1925), профессора Клементия Аркадьевича Тимирязева (1843-1920), профессора-экономиста Ивана Ивановича Янжула (1846—1914), историка литературы Алексея Николаевича Веселовского (1838—1906), писателя Виктора Александровича Гольцева (1850—1906), византиниста Павла Владимировича Безобразова (1859—1918), профессора сравнительного языкознания Филиппа Федоровича Фортунатова (1848-1914) и его братьев — профессора истории Степана Федоровича Фортунатова (1850—1918), статистика, экономиста, профессора Алексея Федоровича Фортунатова (1856-1925), самого Владимира Сергеевича Соловьева, профессора, лингвиста и этнографа Всеволода Федоровича Миллера (1836—1913), профессора политической экономии Александра Ивановича Чупрова (1842-1908), будущего лидера кадетов, приват-доцента, историка Павла Николаевича Милюкова (1859-1943), педагога, историка, искусствоведа, заведующего историческим музеем Владимира Ильича Сизова (1840-1904), профессора юриста Юрия Степановича Гамбарова (1850-?), возможно, также и его брата, экономиста Петра Степановича Гамбарова (1846-?), общественного деятеля, публициста, политэконома и статистика, одного из создателей кадетской партии Митрофана Павловича Щепкина (1832-1908), историка судебной реформы Григория Аветовича Джаншиева (1851-1900), юриста и публициста Рудольфа Рудольфовича Минцлова (1845-1904), юриста и публициста Сергея Андреевича Муромцева (1850-1910), профессора физики Алексея
339
Григорьевича Столетова (1839-1896), профессора, юриста-международника, графа Леонида Алексеевича Ка(о)маровского (1846—1912), профессора философии Николая Яковлевича Грота (1852-1899).
По словам Короленко, "Соловьев очень горячо, даже страстно относился к этому литературному предприятию, стараясь соединить под заявлением видные имена литературы и науки, независимо от некоторых различий во взглядах по другим вопросам. На его краткую формулу должны были прежде всего отозваться люди, для которых религиозная и национальная терпимость составляет органическую часть общего строя убеждений" 131. В петиции есть одно провидческое место — о безнравственности антисемитизма и по существу — и как явления, "крайне опасного для будущности России". Но правители великой страны были слепы и глухи... Добавим, что Владимир Сергеевич прекрасно сознавал, что недостаточно сбора подписей для решения вопроса, более того, он также прекрасно понимал, что русская интеллигенция не всегда последовательна, а зачастую просто труслива. Именно об этом он писал Гецу: «Вы видите, что мое перо всегда готово к защите бедствующего Израиля, но то, что Вы пишете о моих "друзьях", фантастично. Один из названных Вами, пожалуй, в устной беседе и заявит гуманные взгляды, но, наверно, ни одного слова в пользу евреев не напишет и не напечатает, а другой (не хочу говорить, кто именно) почти серьезно доказывал, что всех евреев нужно подвергнуть известной операции, которая раз навсегда отнимет у них способность к размножению! Вот Вам и коллективное заявление в пользу евреев»132. Да, своих героев в романе "Перевал" писатель Боборыкин не выдумывал. Но все равно Соловьев в том же письме проводил мысль, что несмотря ни на что нужно решительно выступать против антисемитизма, ибо в конце концов эти протесты будут противовесом юдофобским "неиствовствам". Кстати, именно это письмо к Гецу содержит конспект статьи "Грехи России"; грехами России Соловьев считал три: еврейский вопрос, обрусение Польши и отсутствие религиозной свободы. Письмо к Гецу было вызвано тем, что статью Соловьева о еврейском вопросе "Московские Ведомости" отвергли, редакция этой газеты после смерти Каткова, по словам Соловьева, будет подражать покойному только "в дурном" и газета примкнет к юдофобам. Прогноз философа подтвердился: газета Грингмута и Тихомирова заняла достойное место в антиеврейской свистопляске. Здесь уместно напомнить о том, что Владимир Сергеевич ценил еврейскую журналистику. В одном из писем тому же Гецу он писал: "...я в последнее время имел случай убедиться,
340
что в действующей русской интеллигенции самый честный элемент есть все-таки еврейский"133. Заметим, что М.Н. Каткова Соловьев не любил за имперские взгляды; зато с удовольствием цитировал Михаила Никифоровича по еврейскому вопросу. Например, по вопросу благосостояния крестьян в черте оседлости, которое было неизмеримо выше, чем в "коренных" губерниях, где еврея-шинкаря днем с огнем не сыскать.
Вообще В. Соловьев неоднократно пытался перевести еврейский вопрос из области теоретической в область практическую, не останавливаясь при этом перед обращениями к сильным мира сего. Иногда он прибегал к удивительным аргументам, правда, вполне вписывающимся в его психологический образ. Так, в разговоре с С.Ю. Витте он апеллировал к следующему: "...беды и несчастья различных государств находятся в некоторой зависимости от той степени озлобленности и несправедливости, которые эти государства проявляют к еврейству: преследование нации, на коей лежит перст Божий, не может не вызвать высшего возмездия". Конечно, Витте разделял взгляды Соловьева на еврейский вопрос, но не в его силах было преодолеть сопротивление реакционеров134.
Весьма объективно к проблеме "Владимир Соловьев и еврейство" отнесся такой тонкий знаток человеческой натуры, как Яков Львович Тейтель (1850—1939). Действительный статский советник, юрист, на закате жизни он создал воспоминания, где нашлось место и Вл. Соловьеву. Для Тейтеля он не юдофил, в юдофилии еврейский народ не нуждается, он требует беспристрастности. Главными чертами характера Владимира Сергеевича были обаяние и доброта: «В самый разгар циркуляров о "кухаркиных детях", в темное время процветания человеконенавистничества и ярого преследования евреев, является B.C. Соловьев. Познакомился я с ним в Москве... Какое удовольствие и нравственное удовлетворение я получил от этого знакомства! Сама наружность B.C. была обаятельна. Чистая душа отражалась в его больших, детских и в то же время задумчивых глазах. B.C. считали "юдофилом". Он таковым не был (курсив мой. — С. Д.). Мы, евреи, не желаем иметь юдофилов, мы только желаем, чтобы в нас видели людей со всеми достоинствами и недостатками, присущими каждому народу. Если B.C. был юдофилом, то разве потому, что признавал за еврейским народом известные исторические заслуги, что относился с глубоким уважением к духу еврейской религии, этой "праматери" христианства. B.C. в своей частной и общественной жизни был до такой степени чист, что самые ярые юдофобы не смели на него клеветать и именовать его "еврейским наймитом"... B.C. много со мной беседовал по
341
еврейскому вопросу, по поводу преследования еврейских детей, стремившихся к знанию, удивлялся слепоте руководителей высшей политики. Как известно, B.C. на смертном одре молился Богу об облегчении участи евреев.
Преследования евреев всю жизнь удручали B.C. Соловьева — этого гостя с неба, пролетевшего метеором над русской землей»135.
Владимир Соловьев при всем своем филосемитизме пытался играть роль Arbiter elegantiae (Gaius Petronius Arbiter), о чем откровенно писал брату: «За мною здесь ухаживают, с одной стороны, "Новое время", а с другой — либералы, не говоря уже о евреях. Я веду тонкую политику и с теми, и с другими, и с третьими»136. Недаром в статье о поэзии А.К. Толстого он с удовольствием цитирует: "Двух станов не боец..." Конечно, нельзя допустить мысли о неискренности, ибо в том же письме он констатирует факт разрыва с официальной сферой: "Зато с казенной Россией я потерял всякое соприкосновение. Дивлюсь только издалека ее мудрости". Но его метания вызывали разные толки, скажем, у той же власти, которая была не склонна доброжелательно смотреть на одного из своих блудных сынов. В письме к своему учителю древнееврейского языка Файвелю Гецу Владимир Сергеевич писал: "Вы, вероятно, знаете, что я теперь претерпеваю прямо гонение. Всякое мое сочинение, не только новое, но и перепечатка старого, безусловно запрещается. Обер-прокурор синода П-в сказал одному моему приятелю, что всякая моя деятельность вредна для России и для православия и, следовательно, не может быть допущена. А для того, чтобы оправдать такое решение, выдумываются и распускаются про меня всякие небылицы. Сегодня я сделался иезуитом, а завтра, может быть, приму обрезание; нынче я служу папе и епископу Штроссмайеру, а завтра наверно буду служить Alliance Israilite и Ротшильдам... Наши государственные, церковные и литературные мошенники так нахальны, а публика так глупа, что всего можно ожидать..."137 Радлов в биографии Соловьева, чтобы подчеркнуть некоторую "надпартийность" философа, пишет, что либералы, среди прочего, не могли ему простить стихотворения на чудесное спасение императорской фамилии при крушении поезда в Борках. Зная христианский характер воззрений Соловьева, было бы странно, если бы он радовался, как другой поэт когда-то: "Твою погибель, смерть детей / С жестокой радостию вижу".
Вот малоизвестный факт. Выкрест Б. Бурдес по просьбе Соловьева привез ему из Парижа маленькую Тору с подписью главного парижского раввина об идентичности сувенира138. С этой книгой он не расставался до смерти. Здесь стоит сказать
342
несколько слов по поводу Бориса Павловича Бурдеса (1862-1911), журналиста и переводчика. Фигура столь колоритная, что он был увековечен в романах И. Ясинского и О. Дымова. Бурдес был хорошим лингвистом, знатоком богословия, занимался философией (перевел на русский язык книгу Канта "Грезы ясновидца"). С Владимиром Соловьевым вел бесконечные философские диспуты. Каким образом он крестился, трудно сказать, но все время мечтал вернуться в лоно иудаизма, однако сделать этого он не успел и был похоронен на Смоленском православном кладбище в Петербурге. Человек "с двойным дном": на цепочке его часов красовался брелок с портретом Теодора Герцля, а под жилеткой висел нательный крест. В углу квартиры стояла икона, а на столе лежали пожелтевший еврейский молитвенник и талес139.
Эта двойственность нравилась Соловьеву и, возможно, благодаря пропаганде Бурдеса Владимир Сергеевич отнесся к сионизму с интересом, но не принял его. Сионизм и Соловьев — это особая тема. Писатель В.А. Гольцев, с которым Соловьев дружил, отмечал, что они были солидарны в этом вопросе. Гольцев пишет: «Мне приходилось много раз беседовать о еврейском "вопросе" с дорогим для меня человеком, B.C. Соловьевым. Тут мы вполне сходились. Меня, как русского, глубоко возмущает травля евреев в нашей печати (имена известны). Сионизм, по моему мнению, глубоко симпатичное движение, но я не уверен в его практическом осуществлении. Возвратить нации ее территорию — благородная и справедливая мысль... я глубоко сочувствую этому движению»140.
Книга Теодора Герцля "Юденштадт" ("Еврейское государство") произвела на Соловьева сильнейшее впечатление. Будучи религиозным философом и сочувствуя самой идее, он будущее государство в Палестине представлял не иначе, как в теократической форме, с царем из дома Давидова или на худой конец в виде общины, руководимой первосвященником и Синедрионом141.
Борьба Владимира Соловьева за еврейские права иногда вызывала уважение даже его противников. Так, журналист "Нового времени" М.О. Меньшиков написал глубокую и проникновенную статью о нем: "Владимир Соловьев не мог не любить евреев уже как поэт и мыслитель; слишком уж волшебна по продолжительности и судьбе история этого народа, слишком центральна его роль в жизни нашего духа, слишком трагичен его удел. Но не только этим держалась тесная связь его с еврейством. Сколько я понимаю Соловьева, он сам, в благородном смысле этого слова — был еврей, по тайному, так сказать, тексту своей души, по ее священным напевам. Мягкая
343
славянская душа была в нем существенно преобразована библейскими началами христианства, и он мог назваться иудеем может быть, в большей степени, нежели многие современные евреи. Конечно, он был строгим православным, влюбленным в свою родную церковь, но именно дух этой веры в нем ничего не имел нового, современного и много — древнееврейского... B.C. Соловьев, христианин по имени, при всей кротости своего характера, бессознательно был евреем... Мы, часто враждебные евреям, презирающие их, не замечаем, что в самых священных областях духа своего мы им покорны... Не только отдельные лица, но и целые народы христианские живут еще принципами Пятикнижия, сами того не подозревая. Англия, например, гордится своим христианством, но на самом деле ее христианство — совсем еврейство"142.
Суммируя взгляды Владимира Сергеевича на национальный вопрос, Анатолий Федорович Кони подчеркивает мысль философа об истинной веротерпимости: "Соловьев находил, что истинная веротерпимость должна состоять в предоставлении каждому свободно и ненарушимо исповедовать учение, считаемое им истинным... Церковь, по его мнению, должна быть свободным союзом одинаково верующих людей, а не принудительным состоянием, выход из которого может грозить тяжкими карами, поражающими иногда самые священные узы"143.
Тонкий театральный критик В. Нелидов вспоминает, как в середине 80-х годов в России гастролировал великий немецкий актер Поссарт, кстати, еврейского происхождения, и имел необычайный успех в роли "Венецианского купца". Со времен Шекспира и до конца XVIII в. (до Гаррика) эту пьесу играли как "водевиль". Гаррик был первым, увидевшим в несчастном еврее трагедию. Поссарт играл самого Бога мести, именно не садиста, а мстителя. Его исполнение Шейлока вызвало ожесточенные споры в обществе. В этот момент в мемуарах появляется фигура Владимира Сергеевича Соловьева: «Я, тогда юноша, с несколькими своими товарищами были в одном доме, где об этих спектаклях беседовал сам Соловьев и молодой приват-доцент князь С.Н. Трубецкой. Мы, молодежь, слушали. Соловьев всегда к молодежи милостивый (мы его обожали за доступность и не боялись "учить его", что футбол, только что родившийся лаун-теннис, лапта и прочее "есть вещь", причем Соловьев любил это слушать), обращаясь к одному из нас сказал: "А вы что скажете?" и получил в ответ: "Злой он, противный, а его жалко". "Вот видите, — продолжал Соловьев разговор с Трубецким, — молодежь говорит "жалко", а не думаете ли вы, что еврейским вопросом, антисемитизмом мы обязаны католичеству? Оно евреев гнало и возбуждало их не-
344
нависть 2000 лет. Конечно, у евреев есть недостатки и даже пороки, как у всех. Они обращались с нами всегда по-еврейски, ну, а мы с ними никогда не по-христиански, — вот и выросла пропасть"»144.
Эта же мысль повторяется и в статье Соловьева "Христианство и еврейский вопрос". Нелидов обращает внимание на то, что мысль о вине католичества Соловьев высказывает, несмотря на свою известную тягу к католичеству. Мы же обращаем внимание на мелочь: "старику"-философу было в то время всего-навсего 33 года. Что же касается католичества, то его "вину" вполне может разделить и греко-православная ветвь христианства...
Нелидова эта мысль не оставляет: ведь тяга Владимира Сергеевича к католицизму известна, а вместе с тем философ обратил внимание на одну из самых темных сторон католичества. В чем дело? По мысли В. Нелидова, дух великого мыслителя не перенес "решения свободного и веры свободной" и готов был "вручить совесть" именующему себя Наместником Христа. «Странно и грустно, что и Соловьев не перенес "мучений свободы", предрекаемых людям "Великим Инквизитором"»145.
Владимир Сергеевич Соловьев прожил короткую и яркую жизнь. Он "был остановлен на бегу". Умирал он в подмосковном имении "Узкое" своего друга князя Петра Николаевича Трубецкого. Княгиня Прасковья Владимировна Трубецкая рассказывала, что Соловьев просил ее: «Не давайте мне засыпать... Заставляйте меня молиться за Израильский народ... Мы так виноваты перед ним". И стал громко и отчетливо читать псалмы по-еврейски. Последние его слова были "Шма Исроэль" ("Слушай, Израиль" — мистическая форма обращения к Богу; т. е. в этот момент Соловьев считал себя иудаистом). Те, кто знал Владимира Сергеевича и его глубокую любовь к еврейскому народу, поймут, что эти слова не были бредом"146.
Смерть Владимира Соловьева вызвала поток некрологов и статей в периодической еврейской прессе. Еврейство России с горечью оплакивало преждевременную смерть своего защитника. 12 ноября 1900 г. на собрании "Общества распространения просвещения между евреями" в синагоге был совершен молебен по умершему почетному члену Общества. Раввин, д-р философии А.Н. Драбкин, произнес речь, посвященную памяти усопшего. Речи произнесли также известный физиолог Н.И. Бакст и этнограф и историк М.И. Кулишер. Последний напомнил, что, принимая звание почетного члена Общества, Владимир Соловьев заявил депутации: "И настанет день, когда все народы пойдут за Израилем". Для увековечения памяти
345
B.C. Соловьева было решено учредить при училище 4 стипендии и повесить его портрет в рекреационном зале училища"147. Ф.Б. Гец обратился в журнал "Вопросы философии и психологии" с просьбой опубликовать статью об отношении Вл. Соловьева к еврейскому вопросу, которая и появилась в кн. I за 1901 г. Друг Соловьева и редактор журнала С.Н. Трубецкой ответил Гецу чрезвычайно любопытным письмом, которое мы приводим с факсимиле немецкого издания книги Геца о Вл. Соловьеве:
"Милостивый Государь.
Приношу Вам искреннюю благодарность за Вашу прекрасную статью, которая послужит истинным украшением нашего журнала и доставит величайшее удовольствие как всем друзьям B.C., так и всем друзьям еврейского народа. Статья Ваша не вызвала возражений со стороны цензуры, которая испугалась реферата B.C. за 1891 г. и задержала было книжку, но выпустила по приказанию Главного Управления.
Примите уверения в искреннем моем уважении и глубокой симпатии. Кн. С. Трубецкой"148.
Удивительно при этом, что одно из произведений В. Соловьева сыграло некоторую роль для становления мифа о жидо-масонском заговоре. Речь идет о "Трех разговорах", а точнее — о повести об Антихристе, включенной в "Три разговора". Менее всего Владимир Соловьев во время написания этого произведения думал, что оно может нанести ущерб народу Библии. Превратно понятая антисемитом С. Нилусом "Повесть об Антихристе" вошла в свод литературы, на которой основывается идея Нилуса о всесветном правительстве. Повторимся, вины Владимира Сергеевича в этом нет: творения художников зачастую живут автономной, независимой от воли автора жизнью149.
Любопытно, что в начале советской власти, видимо, стараниями А.В. Луначарского, Владимира Соловьева решили "не сбрасывать с корабля современности", а, более того, поставить ему памятник, как и ряду выдающихся революционеров, общественных деятелей, писателей, философов. Список, составленный Народным комиссариатом просвещения, обсуждался на заседании Совета Народных Комиссаров 30 июля 1918 г., где, естественно, среди прочих имя Владимира Соловьева было исключено150. Кстати, среди писателей на втором месте (после Л. Толстого) стоит Федор Достоевский, тоже нелюбимый большевиками, но оставшийся в списке, однако отсутствует "седовласая кающаяся Магдалина" — Тургенев. Из дру-
346
гих имен любопытно присутствие на 19 месте (всего было 20) масона Новикова, факт, знаменующий для неких кругов связь большевизма с жидо-масонством, а также Григория Сковороды (просмотрели комиссары — богослов и предок исключенного Соловьева), а из композиторов — Скрябина, вероятно, за попытку заглянуть в иной мир...
Нельзя сказать, что в годы советской власти имя Владимира Соловьева было совершенно предано забвению. Были некоторые публикации в начале 20-х годов, затем в "Литературном наследстве" печатались его письма, да вышел сборник стихов в большой серии библиотеки поэта в 1974 г. Под "хитроумной" рубрикой "Проблема научного атеизма" появилась весьма толковая статья в журнале "Философские науки"151. Ну и понятно, что история русского символизма без Соловьева не рассматривалась. Но в монументальную пропаганду в обход решения Совнаркома Владимир Сергеевич вошел спустя 50 лет. Тогда небезызвестный художник Илья Глазунов изобразил Соловьева на гигантском полотне под неудобопроизносимым названием "Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию". Панно было исполнено для здания Юнеско в Париже в 1980 г., и каждый мог убедиться в том, что вклад народов СССР был неравноценен. Русский народ представлен такими гигантами (в том числе и по размеру изображения), как Достоевский, Пушкин; украинцы — одним гением средней величины — Шевченко; литовцы — крохотным Чюрленисом; белорусов нет (то ли за неимением гения, то ли по отсутствию оной национальности); евреи — микроскопическим Шолом Алейхемом, представителем единственного народа, не имеющего союзной республики. Нашлось место и Владимиру Сергеевичу — средний портрет, меньше Чайковского, но равный Бунину.
В 1925 г. исполнилось четверть века со дня смерти Владимира Соловьева, и этот печальный юбилей был отмечен и в еврейской прессе. Обращают на себя внимание статьи профессора В. Сперанского и профессора В. Строева. В дополнении к своей статье профессор Строев приводит личные воспоминания об одной импровизации Владимира Соловьева на тему еврейской истории. Вернувшись домой, Строев по памяти восстановил текст, который, конечно же, грешит словесными неточностями и иногда хромает в размере. В любом издании стихотворений Владимира Соловьева мы бы поместили данную импровизацию в разделе Dubia. Вот небольшой рассказ В. Строева и само стихотворение: «Происхождение нижеследующего стихотворения таково. Как я имел случай указать (см.: Рассвет. Париж, 1925. № 50) в своем докладе о B.C. Соловьеве, он любил импровизировать в стихах из Библии и Ага-
347
ды. Я слышал его импровизацию на указанную тему и, вернувшись домой, по памяти восстановил ее. Я заполнил те пробелы, которые не мог запомнить, так что за буквальную точность ручаться не могу. Это стихотворение не вошло в число его напечатанных.
Проф. В. Строев.
Свершилось!.. Вышняго десница
Шалаим рассеяла во прах...
Давида древняя столица
И храм в языческих руках.
Тит повелел щадить святыни,
Но Аданой не то судил;
Когда низверглись все твердыни,
Он сам свой храм испепелил...
Взирает Тит на пепел черный,
И мыслит: "Казни день настал!..
Врагов Квирина жребий слезный,
Он сам их с неба покарал!
Что может Бог, их Бог презренный
Коль Он свой Храм не защитил..."
И властелина ум надменный
Одной победой полон был!..
Прелестный образ Беленики
В мечтах героя восставал,
Как грянул гром и глав великий
В громах и молнии вещал:
"Я Аданой царей властитель,
Созидатель всех существ земных,
Тебя смирю я, победитель,
Смирю малейшими из них!"...
Умолк!.. Опять лазурь сияет,
Опять настала тишина...
На солнце мошек рой играет,
И в ухе Тита вот одна...
Вскричал от боли вождь несчастный
И обессиленный упал...
Недуг мучительный, ужасный
С тех пор главу его терзал...
И взор прелестной Беленики
Уже его не утешал,
И до конца недуг владыки
Счастливый жребий отравлял.
348
Он дни свои влачил стеная...
И наконец, когда почил,
Задачу странную решая,
Владыки череп врач открыл...
Он видит: муха... из металла
Она имела ряд когтей...
Железный клюв и змея жало,
Взвилась и скрылась от очей...
Так совершилось наказанье!
Так Бог властителя смирил
И чрез ничтожное созданье
Свое величие явил!..152
Несколько комментариев. Речь идет о падении Второго Храма в 70 г. н. э., захваченного римскими войсками под руководством Тита. "Беленика" — Береника, дочь царя Ирода Агриппы I. Ее связь с Титом знакома читателям по роману Леона Фейхтвангера "Иудейская война". "Шалоим" — искаженное ивритское название Иерусалима. "Врагов Квирина": Квирин (Quirinus) - один из главных богов Рима. По талмудической легенде, смерть Тита наступила от насекомого, проникшего в мозг. Смысл легенды понимали как сожаление о содеянном и суровое воздаяние за грех. Все это вписывается в духовный образ Владимира Сергеевича.
Время подвести итоги. Чем был для русской интеллигенции Владимир Соловьев? Ответ — прост: "Для нас Соловьев — это была высшая истина, это было зеркало, в котором вместе с отражением событий преломлялся и смысл их". Эти слова принадлежат бывшему директору Императорских театров кн. Сергею Волконскому153. По единогласному мнению, Владимир Сергеевич Соловьев был первым русским мыслителем, заявившим, что "еврейский вопрос есть христианский вопрос". Для этого нужно было обладать мужеством и смелостью. Это требует расшифровки: именно с этого момента в русской политической практике надо было считаться с этим фактором, а по утверждению некоторых критиков, "идеологический антисемитизм" стал невозможен: «Он сорвал с него все маски и показал его антихристианский звериный характер. На чем бы ни строилась в дальнейшем "христианская политика", она не может не считаться с идеями Соловьева: совершенный им акт мужества изменил что-то внутри христианского мира»154.
Друг покойного Ф.Б. Гец дал оценку деятельности Соловьева во благо еврейского народа: "Можно безошибочно утверждать, что со смерти Лессинга не было христианского ученого
349
и литературного деятеля, который пользовался бы таким почетным обаянием, такой широкой популярностью и такой искренней любовью среди еврейства, как B.C. Соловьев, и можно предсказать, что и в будущем среди благороднейших христианских защитников еврейства, рядом с именами аббата Грегуара, Мирабо и Маколея, будет благоговейно, с любовью и признательностью упоминаться благодарным еврейским народом славное имя Вл. С. Соловьева"155. И в письме к тому же верному другу Соловьев писал о будущности еврейского народа, выражая уверенность, что оно незыблемо: "Я вполне понимаю и разделяю вашу жалость к частным страданиям ваших единоверцев в настоящем: но я уверен, любезный друг, что к этому чувству вы не присоедините никакого опасения за будущие судьбы вашего народа. Вы знаете также его историю. И неужели возможно хоть на мгновение вообразить, что после всей этой славы и чудес, после стольких подвигов духа и пережитых страданий, после всей этой удивительной сорокавековой жизни Израиля ему следует бояться каких-то антисемитов... И недаром Провидение водворило в нашем отечестве самую большую и самую крепкую часть еврейства"156.
Во время русско-японской войны произошел эпизод, обошедший всю русскоязычную печать. Во время Тюренченского боя (15—18 апреля 1904 г.) был ранен священник о. Щербаков. Обессиленного иерея под сильным огнем неприятеля с поля боя увели двое евреев, которые и спасли ему жизнь. Обычный фронтовой случай. Евреи в этот момент и не думали, что они спасают христианина, полкового священника. Ничего необычного. Оба были представлены к награде. И даже появилась литография, запечатлевшая трогательный момент единения всех сынов отечества. Но... вот тут-то и раздался вопль правой прессы. Этот эпизод был представлен как иллюстрация трусости евреев, бегущих с поля боя, прикрываясь ризой священнослужителя157. Так что пришлось вступаться за евреев самому генералу А.Н. Куропаткину, главнокомандующему на этой злосчастной войне.
Военные опасности и честное отношение к воинскому долгу неизбежно сближают людей. Когда началась погромная агитация во время первой мировой войны, несколько русских писателей начали издавать литературный сборник "Щит", впервые вышедший в 1915 г. под редакцией Леонида Андреева, Максима Горького и Федора Сологуба. В сборнике приняли участие самые разные люди, зачастую принадлежавшие к прямо противоположным политическим и культурным лагерям. Общей их целью была защита еврейства. И действительно, что
350
общего между эстетствующей парой Мережковских и донским казаком Федором Крюковым? Были здесь представлены и титулованные особы — князь Павел Долгоруков и граф Алексей Толстой, и даже потомок иерусалимского короля Болдуина, великий лингвист И. Бодуэн-де-Куртене. Все эти люди представляли цвет нации: Иван Бунин и Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов и Д. Овсянико-Куликовский, П.Н. Милюков и Максим Ковалевский, о. Сергий Булгаков и автор скандального "Санина" Михаил Арцыбашев, Константин Бальмонт и сын крестьянина, профессор духовной Академии Антон Владимирович Карташев. Но у них было одно общее — в свое время, 1913 г., они почти все подписались в защиту Бейлиса. А двое "щитоносцев" вообще были на переднем крае борьбы: Владимир Короленко и Владимир Бехтерев. Первый выступил в печати, второй был экспертом на процессе по кровавому навету, защищая честь русской науки от "экспертов" вроде психиатра И.А. Сикорского. Впрочем, разногласия между экспертами начались задолго до 1913 г. Еще в сентябре 1905 г. на съезде криминалистов в Киеве В.М. Бехтерев произнес речь, вызвавшую восторг присутствующих, всех, кроме Сикорского, призвавшего громы и молнии на голову "заигрывающего с еврейством" оратора. Вот красочное описание события одним антисемитом, имевшим ученую степень юриста и долгие годы работавшим судьей: «Не могу не привести следующего курьеза, который был бы смешон, если бы не был грустен: в то время, как на этом съезде академик Бехтерев в своей приветственной речи-лекции расшаркивался в упоении знатока перед прекращением занятий студентами, за что и был удостоен триумфа — несения на руках растроганной молодежи, после чего, однако, несмотря на принятую почтенным психиатром ванну и, кажется, даже ароматическую, от него долгенько-таки несло чесноком, — наш киевский профессор И.А. Сикорский в своей речи призывал даже проклятие на имя того, кто занес самое слово "забастовка" в учебный и ученый мир»158.
Спустя несколько месяцев после выхода в свет "Щита" было отпраздновано 60-летие Бехтерева. В "Биржевых Ведомостях" нашли нужным вспомнить ужасные дни 1913 г.: "Когда процесс Бейлиса грозил покрыть нашу родину несмываемым пятном исторического позора, В.М. бросает свою обширную практику, руководство клиниками, лекции и личные дела, и своей богатырской грудью отстаивает натиск черной рати, вступая во всеоружии науки и европейского авторитета в грозный поединок со средневековым фанатизмом.
Мне довелось близко общаться с В.М. в эту пору. Помню, с каким подъемом веры в торжество правды отправился он в
351
Киев на неравную борьбу с черной ратью, словно Илья Муромец с Идолищем Поганым. Как скорбел он скорбями еврейского народа, как радовался торжеству силы права над правом силы. Не корысть, не честолюбие влекли его на ратный подвиг, а любовь к человеку и тревога за судьбу нашей родины.
И какая награда ждала его по возвращении из Киева? Крупный гонорар? Он отдал его своему любимому детищу — психоневрологическому институту. Повышение в чинах и восхождение по лестнице бюрократических почестей? Но его подстерегала уже жестокая расплата — отказ министра народного просвещения Кассо утвердить его в звании президента психоневрологического института... Что же влекло его в пучину грозной борьбы с антисемитизмом? Тот же юношеский идеализм, та же пламенная вера в торжество правды и бережная любовь к человеку, которая заставила его поднять свой авторитетный голос в защиту прав человека и выступить с протестом против смертной казни"159.
В "Щите" академику Владимиру Михайловичу Бехтереву (1857—1927) принадлежат две статьи " Мне отмщение и Аз воздам" и "Из мрака к свету" (последняя помещена в 3-м изд. "Щита". М., 1916). В первой говорится о черте оседлости, во второй — о процентной норме. Обе проблемы решаются академиком в высокогуманном плане. Однако внимательное чтение сборника приводит к неожиданному открытию, имеющему отношение к началу этой главы. За подписью "Тихобережский" в нем было опубликовано стихотворение "Смерть раввина (Из событий на западном театре войны)". Вот его текст:
На поле бывшей грозной битвы
Забытым раненый лежал,
Он про себя шептал молитвы
И часа смерти ожидал.
Обратно шел отряд разбитый,
Его спешил раввин догнать,
Признав в нем пастора, забытый
Просил дать крест поцеловать.
Тогда раввин засуетился
И поспешив в соседний дом,
Вновь к раненому возвратился
С улыбкой бодрой и крестом.
"Забудь, — сказал он, — брат, про битву, —
Крест поднося к его губам,
Твори смиренную молитву
И внемли истины словам:
352
"Пред вечным Богом тот ответит,
Кто побудил людей лить кровь,
Над пострадавшими же светит
Господня милость и любовь".
И потекли от слов раввина
Из глаз больного капли слез...
Раввин, чела христианина
Слегка коснувшись, произнес:
"Страдальцу за страну родную,
Мой Боже, к небу путь открой,
Всели Ты в грудь его больную
И примиренье, и покой".
Внезапно залп раздался новый,
Закончил жизнь христианин,
И пал, прияв венец терновый,
О нем молившийся раввин.
Стихотворение, прямо скажем, не блещет литературными достоинствами (нечто от С. Фруга), но подпись привлекла мое внимание. Взглянув в известный словарь И.Ф. Масанова, я убедился, что священнический псевдоним "Тихобережский" принадлежал Владимиру Михайловичу Бехтереву. Таким образом, почтенный академик выступил в защиту еврейства и со стихотворением, в котором основная мысль ясна: мы дети одного Бога — несть эллина, несть иудея.
Вместе с тем сборник "Щит" был внимательно прочитан не только доброжелательными глазами. Раввин, выступающий в роли пастора или священника, не гнушающийся креста, задевал многих.
В 1942 г. в Тбилиси в издательстве "Заря Востока" были опубликованы новые "Невыдуманные рассказы о прошлом" Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) (1867—1945). Впервые "Невыдуманные рассказы" стали печататься еще в довоенное время и вызвали широкий резонанс в критике. Вероятно, это объясняется высоким качеством прозы. Выскажу еретическую мысль, что по художественным достоинствам — это лучшее из созданного писателем. Емкость, экономность и точность, ни единого лишнего слова — подлинный шедевр. Один из рецензентов (В. Викторов) писал об этих рассказах, что их "можно назвать маленькими трагедиями. Они потрясают скупым драматизмом, силой, беспощадным и верным слепком со старой российской действительности ...В них действительно нет ничего выдуманного, сочиненного". Бытует мнение, что Вересаев создавал их в 1935—1945 гг. Рискну предположить, что замысел одного из рассказов, описывающего события первой мировой войны, тематически перекли-
353
кается со стихотворением Бехтерева, а хронологически — со знакомством Вересаева с "Щитом". Вот эта миниатюра:
«Суббота
Во время первой империалистической войны. В госпитальной палате для тяжелораненых умирал солдат еврей с газовой гангреной. Метался и в тоске молил пригласить раввина для напутственной молитвы.
Сестра милосердия позвонила знакомой еврейке, — где найти раввина? Та дала ей телефон. Подошла жена раввина.
— Сегодня суббота, он не может приехать. Приедет завтра утром.
— Что вы такое говорите! Да больной не доживет до завтра!
Долго препирались, сестра настаивала. Жена пошла к раввину вторично.
— Он сейчас молится и приехать никак не может Завтра приедет рано утром.
В госпитале служили всенощную. Священник с крестом и кропилом обходил палату тяжелобольных, кропил лежащих святою водою и давал прикладываться ко кресту. Солдат еврей в смертной тоске протянул руки к священнику и коснеющим языком произнес:
— Дайте!.. Дайте и мне!
Солдаты испуганно зашептали священнику:
— Он еврей!
А тот протягивал руки и повторял:
— Дайте и мне!
Священник поколебался — и протянул крест. Солдат жадно схватил руку с крестом, припал губами ко кресту — и умер.
Назавтра рано утром приехал раввин. Сестра злорадно сказала:
— Больной вчера умер. А перед смертью приложился ко кресту. Раввин побледнел: что правоверный еврей по его вине приложился ко кресту, — это был огромный грех на его совести.
Я старался выяснить у знакомых евреев: неужели суббота запрещает даже такую "работу", как напутствие умирающего, спасение утопающего и т. п.? Мне ответили: может найтись такой фанатик буквы, но всего вероятнее — раввину просто не хотелось нарушить свой субботний покой» 160.
Можно предположить, что Вересаеву было известно стихотворение "Смерть раввина" или случаи, похожие на описанный. И ответ Смидовича на вопрос о возможности религиозного примирения — отрицательный. Да, бывший сотрудник "Сред" и "Знания", "легальный марксист", родственник известного большевика, сдержан. Он даже не обобщает. Приводимый факт убийствен. Но... Есть несколько "но". Начнем с того, что автор обращается к знакомым евреям за разъяснением. Трудно сказать, кто были его консультанты и почему они не сказали ему, что у иудеев отсутствует предсмертная исповедь и отпущение грехов. Кроме того, в христианстве имеется понятие "In extremis" — в последний момент, в крайнем случае. Смысл его сводится к тому, что в исключительном случае христианин любой конфессии, за неимением своего духовни-
354
ка, может принять причастие у любого христианина любой конфессии. Так, известен случай, когда православный путешественник принял причастие у пастора, ибо в пределах Индостана не было представителя православной церкви. Но, повторимся, в иудаизме этого не существует. А вот вопрос о "работе" в субботу вплоть до "спасения утопающего" подробно разобран в иудаизме. Если речь идет о спасении жизни, а тем паче души, существует понятие "пикуах нефеш", когда субботний отдых должен отступить перед требованием жизни. И это должен был объяснить писателю любой мало-мальски сведущий в иудаизме еврей. И еще одно "но". Я хотел бы найти такую "ребецину" (жену раввина), которая бы сняла телефонную трубку в субботу. Эта неточность полностью опровергает "невыдуманную" историю.
Любопытная деталь: подпись писателя Вересаева в защиту Бейлиса отсутствует, нет его имени и среди "щитоносцев", где так много его друзей. Случайность? Маловероятно. Пресловутая общая "прогрессивность" в еврейском деле иногда оборачивается негативной стороной. Ведь не подписали же в свое время редактор Н.А. Некрасов и критик самого передового журнала "Современник" Н.А. Добролюбов письма против антисемитской выходки "Иллюстрации". И еще одно: удивляет и настораживает факт публикации новеллы в 1942 г. Не слишком ли много совпадений?
Приведем один исторический пример гибкости иудаизма, приспособляемости его к нуждам жизни и посему опровергающий жуткую картину рассказа Вересаева.
Израиль Липкин-Салантер (1810—1882), выдающийся моралист и проповедник, основатель религиозно-этического учения "муссара", был "литваком", т. е. земляком корня Смидовичей. Суровый аскет, Израиль Салантер никогда не замыкался в религиозной скорлупе — для него страдания человека были на первом плане. Приведем пример его неординарного поведения. В 1848 г. в Вильно свирепствовала холера. Он заботился о том, чтобы люди не пали духом и помогали друг другу, не опасаясь заразы. Накануне Судного дня Салантер объявил, что не следует поститься и долго молиться, а необходимо находиться на открытом воздухе. В самый Йом-Кипур рабби после утренней молитвы взошел на амвон с печеньем в руке, произнес благословение и стал есть тут же, дабы все последовали его примеру, — образец поведения, в котором все подчинено не абстрактному Закону, а нуждам Человека!161
Будем справедливы к Викентию Викентьевичу: он много видел и запомнил. Например, годы учения в Дерптском университете, когда профессора, экзаменовавшие студентов,
355
делили их на группы по происхождению. Их глаза становились холодными, а голос ледяным при виде студента-еврея, хотя в этот университет евреев принимали легче, чем в российские162. Или упоминание о речи Вл. Соловьева против антисемитизма, произнесенной им 8 февраля 1887 г. в Петербургском университете, и о том, как она была освистана слушателями163. Или воспоминания о постановке юдофобской пьесы "Контрабандисты" в театре Суворина, или трогательная любовь к поэту Семену Надсону, чтение наизусть его стихов и поэмы "Гефсиманская ночь" Минского, или знакомство с художницей Кэте Кольвиц. Последнее уже входит в цикл "Невыдуманных рассказов о прошлом". В них есть и описание черносотенства в армии, и избиение еврейского солдата Финкеля унтер-офицером, и безымянный еврей-революционер. А в 1901 г. Вересаев участвовал в сборнике "Помощь евреям, пострадавшим от неурожая". Дал он туда очень актуальную вещь: маленький отрывок из "Трудов и дней" Гесиода. (Я употребил слово "актуальное" — оно относится к древнему поэту, а не к приведенному отрывку, в котором мы можем видеть намек на "вечную" действительность, вроде Экклезиаста, 66 сонета Шекспира и т. д.) И есть одна миниатюра, озаглавленная "Суд Соломона", впервые опубликованная в 1936 г. Она совершенно поразительна для атеистического времени. Не так часто на страницах тех лет появлялся благочестивый раввин, осуществлявший отнюдь не Шемякин суд. Приведем рассказ полностью:
"Суд Соломона
В Западном крае до недавнего времени еще существовали у нас патриархальные еврейские местечки, где раввин был для местного населения не только посредником между людьми и Богом, но был и судьею и всеобщим советчиком. Во всех спорах и ссорах благочестивый еврей прибегал к его суду.
Поссорились две еврейки, жившие в одном доме: сушили на чердаке белье, у одной пропало несколько штук, она обвиняла в пропаже соседку, та в ответ стала обвинять ее. Крик, гвалт, никто ничего не мог разобрать. Женщины отправились к раввину.
Старик раввин внимательно выслушал обеих и сказал:
— Пойдите и принесите сюда каждая свое белье. Женщины принесли. Раввин объявил:
— Пусть это полежит у меня до утра, а утром придите, и мы попробуем разобраться, в чем тут дело.
Утром пришли женщины, пришло и много других евреев, — всем интересно было поглядеть, как рассудит раввин это мудреное дело. Раввин сказал:
— Роза Соломоновна! Ревекка Моисеевна! Я знаю вас обеих как почтенных женщин и благочестивых евреек. Не может быть, чтобы которая-нибудь из вас пошла на воровство. Но, может быть, одна из вас по рассеянности сняла с веревки пару штук белья соседки. Переберите каждая еще раз, здесь, у нас на глазах, свою кучу и посмотрите, не попало ли в нее случайно чужое белье.
356
Роза Соломоновна гордо и уверенно стала разбирать свою кучу, вынула простыню, — вдруг побледнела, потом покраснела и низко опустила голову.
— Это... это не моя, — сказала она со стыдом.
— Вот ка-ак! Не ваша? — торжествующе воскликнула Ревекка Моисеевна. — А какой вы делали скандал, как позорили честных людей!
Судья приказал: смотрите дальше.
Краснея от волнения и стыда, Роза Соломоновна еще отложила в сторону полотенце, мужскую сорочку и произнесла упавшим голосом:
— Это тоже не мое.
— Тоже не ваше? Господин раввин, вы сами теперь видите... Раввин бестрастно прервал вторую женщину:
— Переберите теперь вы свою кучу и посмотрите, нет ли у вас чужого белья.
— Извольте. Только я заранее ручаюсь: чужого белья у меня не найдете. Я не из таких, мне чужого не нужно, оно мне бы жгло руки... Ну и конечно же! Вот. Ничего нет чужого. Все мое.
— Все только ваше?
— Только мое.
Судья обратился к первой женщине, горестно ждавшей позорного осуждения, и приказал:
— Переберите кучу вашей соседки и выберите из нее ваше белье.
Все были в изумлении. Первая женщина отобрала из кучи несколько штук и радостно сказала:
— Вот это мое. И это мое.
— Возьмите. Это и вправду ваше. Вторая женщина в негодовании завопила:
— Как — ее? Позвольте... Но судья строго сказал:
— В каждую кучу я ночью подложил по несколько штук моего собственного белья. Роза Соломоновна даже не побоялась осуждения и честно созналась, что белье не ее.
А вы, Ревекка Моисеевна, — если вы и мое белье объявили своим, то, значит, еще легче могли объявить своим и белье Розы Соломоновны" 164
Знаток отметит связь фабулы не только с библейским Соломоном, но и с Соломоном "Агады", с русским фольклором и, конечно же, с хасидскими рассказами о цадиках. Читал Викентий Викентьевич в русском переводе и Шолом-Алейхема, и Ицхока-Лейбуша Перетца, и Менделе-Мойхер Сфорима.
И все же даже в этом рассказе есть недоговоренность, незавершенность, некий обрыв. Ведь новелла "Суббота" имеет послесловие, где выражена авторская точка зрения. Здесь же она отсутствует. Морализирует раввин.
В нашем рассказе о Вересаеве тоже есть какая-то недоговоренность, незавершенность. Чего-то не хватает. Возможно, упоминания о знакомстве Викентия Викентьевича с Владимиром Михайловичем Бехтеревым. Современники и медики — их пути должны были скреститься. И они встретились. Было это
357
в 1898 г., когда заболела нервным расстройством жена Вересаева. Обратились к европейски знаменитому ученому и прекрасному диагносту Бехтереву. Их принял приземистый, сутулый, со втянутыми в плечи головою человек, с длинными косматыми волосами, падающими на лицо. С глазами недобрыми и нетерпеливами — портрет врожденного преступника, почерпнутый у Чезаре Ломброзо. Осмотр был бегл, никаких расспросов, только назначение валериановых капель. На замечание Вересаева, что жена их и без того пьет в невероятном количестве, профессор отрегировал резко — новых средств медицина не выдумала. Но гонорар в размере пятирублевого золотого был вручен. Выйдя на улицу, жена расплакалась. Никакого опроса больной, никаких записей; даже не спрошена фамилия. Возмущенный Вересаев пишет гневное письмо светиле, где высказывает свое негодование, подписываясь как ассистент больницы Боткина. К удивлению Вересаева, на Новый год, 1 января 1899 г., он получил письмо от Бехтерева с вложенной пятирублевкой, со ссылкой на загруженность и с упреком, почему Вересаев не представился. Увы, и второй визит, предпринятый семейством Вересаевых, носил тот же поверхностный характер, хотя Бехтерев уже знал, с кем имеет дело. Не это ли посещение подтолкнуло Вересаева к созданию "Записок врача" — настольной книги по медицинской этике?165
Автор хрестоматийного "Детства Темы" был современником Вересаева. Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (1852—1906), крестник императора Николая I, родился в семье военного, по профессии был инженером-путейцем. Собственно говоря, поначалу он учился на юридическом факультете Петербургского университета, затем перешел в Институт инженеров путей сообщения. В то время это открывало большие перспективы. Россия строила железные дороги: "Когда в далекую Корею катился русский золотой". И его профессия дала ему массу материала, часть которого легла на страницы его книг. Николай Георгиевич был, что называется, левым, давал деньги большевикам, напутствовал своих детей участвовать в революционной деятельности и, кроме того, был последовательным филосемитом.
Уже в одном из первых опубликованных произведений — очерке "Ицка и Давыдка", опубликованном в "Русском богатстве" (1892, № 4—5), повествуется о судьбе двух одесских бедняков-портных, мужского и женского. Влияние Глеба Успенского очевидно, но есть в этом рассказе юмор, тот добрый идишистский юмор, который всем знаком по Шолом-Алейхему или по еврейским анекдотам, которые рассказывают не антисемиты, а сами евреи. Интересно и то, что здесь героем яв-
358
ляется неизменный пристав, притча во языцех любого еврейского рассказа. Где писатель подсмотрел этот светлый юмор, трудно сказать. А критики встретили рассказ сочувственно. Они писали о большой наблюдательности писателя, о проникновении в человеческую душу, о гуманном отношении к окружающим; отмечали, не без влияния Салтыкова-Щедрина, что здесь изображены не еврейские Колупаевы и Разуваевы, которых среди евреев ничтожное меньшинство, и евреи не должны нести за них ответственность, а как раз нищие Ицки и Давыдки166.
Другой рассказ был написан специально для сборника "Помощь", издаваемого в пользу евреев, пострадавших от неурожая. Автор безоговорочно дал рассказ "Старый еврей" (написан 11 сентября 1900 г., опубликован в 1901 г.). Я употребил слово "безоговорочно" не случайно. Напомню, что когда обратились через В.П. Потемкина ко Льву Толстому, то великий писатель отказался дать статью, добавив, что он, конечно, возмущен погромами и бесправием евреев, но что еврейское дело для него стоит на восемьдесят первом месте167.
В рассказе "Старый еврей" речь идет о пресловутой черте оседлости. В нем описан действительный факт, о котором Гарин услышал в Самаре: старого еврея выселяют в покинутое им 30 лет назад местечко. Известно и имя этого старого тучного человека, комиссионера — М.Я. Платков. Об этом рассказала в воспоминаниях о Гарине Н.В. Михайловская168. Это же повторил и Тейтель в своей книге: "По своему обыкновению Михайловский взял действительный факт и художественно описал его, нарисовал душу старика-еврея, преследуемого полицией за неимением права жительства"169. Михайловский в рассказе ничего не приукрашивает, почти весь рассказ ведется от имени комиссионера, но особой выгоды антисемиты не могут извлечь из повествования. О себе старик говорит: "Жил, маклеровал при продаже имений, на проценты деньги давал... А разве русские не дают? Русский хуже еще: еврей трефного не ест, а русский всего сразу и с сапогами проглотит"170. Остается щемящее чувство, когда больного старика насильно выселяют от детей из своего дома.
Но есть у Гарина и некий святочный рассказ "Ревекка", выуженный самим автором из ранней редакции "Студентов" — о любви еврейки и русского художника — и имеющий посвящение мученикам любви. Рассказ, видимо, написан после 1895 г. и, как ни странно, обличает знакомство Гарина с "перлами" Литвина-Эфрона. Вот умирающий дед напутствует свою внучку чуть ли не в духе Всеволода Крестовского и даже Н. Вагнера: "Люди, Ревекка, думают только перед смертью...
359
Тогда они вспоминают закон Бога... В тебе кровь нашего рода. Ты мне напоминаешь мою молодость, то время, когда я был женихом твоей бабки, а моей двоюродной сестры. Я люблю тебя и тебе оставляю все мои богатства. Бог тебе дал сверх того красоту, ум, голос, от которого ангелы плачут на небе. Когда я умру... не плачь, Ревекка, я много жил, много видел неправды, я устал и рад буду уйти туда, где отец мой Иегова... Там ждет меня не последнее место, Ревекка... Наш царственный род от колена Давида... Ты одна из тех, кто подарит миру Мессию... Ревекка, ты не посрамила род, и не жаль мне оставить тебе все мое состояние. Господь наградит тебя больше, и прославится род твой в род. Ты одна осталась на земле от всего нашего рода. Не говори о сестре твоей! Пусть красота ее ядом иссушит проклятого гоя! Пусть он, проклятый, изменит ей и раздавит ей жизнь, как изменила она своей вере, своим предкам, своим братьям, которых бросила, когда Господь отвернул от них лицо свое... О! Нет казни той, которою не накажет он ее за это!.. Я простил бы ей все грехи... измену... убийство... Но ее грех хуже... я не могу простить — не в моей это власти: всем изменила... И ты, Ревекка, не смеешь... Слышишь, Ревекка? Слышишь ты Бога своего? Слышишь народ свой? Слышишь ты стоны его? Видишь ты пытки, костры и мучения? ...Видишь и слышишь ты наглый смех, издевательство их над народом... Ревекка? Кровью пусть сердце твое..."171 Немного странно и страшно для святочного рассказа... но это было опубликовано и под ним стоит доброе имя любимого писателя.
Погром в его рассказе представлен глазами мальчика. Погром был в Одессе в начале 70-х годов (точнее в 1871 г.). Не надо строить никаких иллюзий: власти не хотели беспорядков, но, как всегда, были бездеятельны — погрома хотели низы. Слухи несутся по городу: еще на Страстной кухарки и горничные знали — на Пасху будут бить жидов. Страх вошел не только в сердца евреев, но и в высшие слои общества: "Как-то переменились вдруг роли: прислуга чувствовала себя хозяевами, а мы зависящими от их расположения к нам". Прислуга делилась новостями: "Три дня назначено жидов бить, а потом и кой-каких других". Наконец, произнесено "Жидов бьют!". Это было на второй день пасхи. Возбужденная любопытством группка мальчиков-гимназистов Ришельевской гимназии выходит на улицу. Страшный гул толпы. Прекрасный весенний солнечный день и ...белый снег. Прошло какое-то время, и они поняли, что это не снег, это пух еврейских перин. И опять страшная толпа. Гарин использует древний образ, впоследствии зафиксированный на страницах Лютостанского и Нилуса.
360
Но этот образ относится не к еврейскому всесветному заговору: "Точно полз какой-то отвратительный, тысячеголовый гад, скрывая там где-то сзади свое туловище. И так противно всему естеству было это чудовище, так нагло было оно с налитыми глазами, открытой пастью, из которой несся вой, страшный вой апокрифического зверя, порвавшего свою цепь и почуявшего уже кровь"172. Из окон летели вещи, посуда, мебель, рояли. "Они падали, и последний дикий аккорд издавали лопавшиеся струны". Как известно, в Одессе была впервые организована еврейская самооборона. Некий ее вариант видел Михайловский, когда маленький гимназистик с револьвером в руке стоял у кровати с больным дедом и кричал, что он будет стрелять, если они тронут старика. Погромщик с налитыми глазами налетает на гимназистика, вырывает пистолет, дает затрещину и, слава Богу, на этом останавливается. Внук спас деда. Любопытная сцена у дома известного врача, бесплатно лечившего бедных. Толпа знает это и колеблется. Она принимает Соломоново решение: для порядка разбить в доме Айболита стекла, ибо: "А все-таки он жид?!"
Далее автор показывает растерянность властей, когда генерал-губернатор еле унес ноги. И вот важный момент. Pointe! Детей вовлекают в погром, предлагая им сигареты из разгромленной лавки: "Мы, смущенные, берем по папироске и улыбаемся этой толпе, а она ревет:
— Берите больше, все берите. На дом вам снесем. Ура!
— Христос воскресе!
И мы целуемся с ними".
Не правда ли, страшное единение под знаменем Христа?
А дальше все понятно: вот-вот войдут в город войска. Но пока евреи прячутся у знакомых. В дом к автору приходит еврей. Ясно: надо его спасать, но что скажет кухарка? Русский народ в ее лице на долгие увещания отвечает: "Ну, отстаньте от меня! Прячьте, коли охота с жидом возиться, — меня и себя под топор подводить". А увидев трясущуюся фигурку еврея, грозит ему кулаком: "У, дрянь, не стоишь, чтоб пропадать из-за тебя".
Наконец приходят войска и наводят порядок. Опять по-российски начинается массовая порка виновных и невиновных. И опять народ прячется по домам. И надо же быть такому случаю, что автор-гимназист, спасаясь от патрулей, попадает в еврейский дом, на улице, имеющей символическое название — Преображенская. Он один-единственный русский среди евреев. Передадим ему слово: «За кем-то я проскочил в подворотню.
Подворотня захлопнулась и я очутился во дворе, битком набитом евреями.
361
Двор как бы дно глубокого колодца.
Из раскрытых окон всех этажей этого колодца смотрели на меня глаза евреев.
Я один среди них русский, и ужас охватил меня.
Они теперь могли сделать со мной, что хотели: убить и бросить в эту ужасную помойную яму.
Может быть, кто-нибудь из них видал, как я курил папироску, поданную мне из разграбленного магазина. И меня схватят и вытолкнут на суд туда на улицу, откуда уже несутся раздирающие душу вопли. Просто со злобы вытолкнут... И я стоял, переживая муки страха, унижения, тоски.
Мгновения казались мне веками, и с высоты этих веков на меня смотрели из всех этих этажей тысячи глаз спокойных, терпеливых. Смотрели, понимая, конечно, мое положение, точно спрашивая:
"А ты, когда ты поймешь, почувствуешь наше?..»173
Пожалуй, так в русской литературе никогда не писали о погромах. И, действительно, как сказала со вздохом одна баба: "Вот и Пасха: из жидов пух, а из русских дух..." Это понятно, для верующего человека погромщик теряет свою душу.
Вообще сам Гарин был активным филосемитом, готовым к любой полемике по данному вопросу, что приводило иногда к удивительным результатам. Так, Тейтель писал, что с одиозным писателем В.В. Розановым он познакомился в доме сестры Гарина-Михайловского, Слободинской. Гарин специально завел разговор о евреях, желая "вызвать ...Розанова на поединок". «Розанов произвел на меня впечатление, какого я не ожидал. Ярый антисемит на столбцах "Нового Времени", он тогда в доме Слободинских по еврейскому вопросу высказал крайне корректные взгляды на историческую роль евреев в настоящее время, а также в будущем. Ни малейшей злобы, никакой вражды по отношению к евреям не наблюдалось. Но чувствовалось какое-то философское, оригинальное мировоззрение. "Евреи, — говорил он, — дали христианство, они еще много хорошего дадут"»174.
Гарин-Михайловский был старшим современником Вересаева. И о нем Вересаев оставил воспоминание, занимающее полторы страницы. Познакомились они в редакции "Русского богатства". Красавец с седыми волосами, удачник жизни, талантливый, богатый, имеющий колоссальный успех у женщин — таким рисует его Вересаев, не в пример запечатленному им образу Бехтерева. Викентий Викентьевич размышляет: "От каждого человека, которого мы знали не слишком близко, остается в памяти одно центральное воспоминание, в котором, как в фокусе, концентрируется общее впечатление от этого
362
человека"175. Так что же запечатлелось у Вересаева? Оказывается — обида, родственная обиде, нанесенной ему Бехтеревым: при случайной вокзальной встрече во время русско-японской войны щеголеватый и сытый Гарин не догадался пригласить тотчас же голодного и продрогшего врача на чашку чая...
Из всего океана советской литературы я выбрал два отрывка, наиболее ярких, показывающих еврейство не только как жертву насилия, но и мстителя, умеющего постоять за себя.
Николай Островский (1904—1936), прославленный советской пропагандой и действительно незаурядный человек, автор многократно изданного, иллюстрированного, экранизированного и театрализованного романа "Как закалялась сталь", был родом из местечка Вилия Волынской губернии.
И еврейскую жизнь знал не понаслышке. Он пришел в литературу из горнила гражданской войны. И его произведение, как ни странно, носит на себе следы ницшеанства в советском варианте. Это уже было отмечено критикой (А. Якобсон). Можно довольно легко проследить генетическую связь Павла Корчагина с героями Кнута Гамсуна и Джека Лондона. Начавшаяся в России перестройка и отказ от многих ценностей прошлого неминуемо должны отразиться на героях советских боевиков. Но как бы мы ни относиться к роману Островского, его главный герой привлекателен. Что же касается книги, то она интересна в первую очередь тем, что в ней показана история становления личности.
В романе описан петлюровский погром в Шепетовке. С точки зрения исторических фактов, этот рассказ мало что может добавить к книгам Гусева-Оренбургского или Чериковера176.
Но у Островского есть потрясающие детали вроде прошения парикмахера Зельцера и других несчастных евреев головному атаману с просьбой об "отмене погрома". Это страшные слова — "отмена погрома". Это нечто вроде просьбы об отмене крепостного права. Но "отмена погрома" не равнозначна упразднению юридического права или бесправия.
Описание погрома занимает несколько страниц: убийства, насилия. Был выставлен пулемет, и если бы рабочие решили помочь несчастным евреям, то их встретили бы свинцовым дождем.
Погром как погром. "Многим не забыть этих страшных двух ночей и трех дней. Сколько исковерканных, разорванных жизней, сколько юных голов, поседевших в эти кровавые часы, сколько пролито слез, и кто знает, были ли счастливее те, что остались жить с опустевшей душой, с нечеловеческой мукой о несмываемом позоре и издевательствах, с тоской, которую не передать, с тоской о невозвратно погибших близких.
363
Безучастные ко всему, лежали по узким переулкам, судорожно запрокинув руки, юные девичьи тела, истерзанные, замученные, согнутые"177.
Но... На страницах книги появляется библейский Самсон: "И только у самой речки в домике кузнеца Наума шакалы, бросившиеся на его молодую жену Сарру, получили жестокий отпор. Атлет-кузнец, налитый силой двадцати четырех лет, со стальными мускулами молотобойца, не отдал своей подруги.
В жуткой короткой схватке в маленьком домике разлетелись, как гнилые арбузы, две петлюровские головы. Страшный в своем гневе обреченного, кузнец яростно защищал две жизни, и долго трещали сухие выстрелы у речки, куда сбежались почуявшие опасность голубовцы. Расстреляв все патроны, Наум последнюю пулю отдал Сарре, а сам бросился навстречу смерти со штыком на перевес. Он упал, подкошенный свинцовым градом на первой же ступеньке, придавив землю своим тяжелым телом"178. Несмотря на трагедию, эта страница прекрасна, и ясно, на чьей стороне могли быть и были евреи во время гражданской войны.
Прежде чем перейти к следующей теме — встрече русского интеллигента с нацистской пропагандой, стоит привести один небольшой пример из замечательного рассказа Аркадия Гайдара (1904—1941) "Голубая чашка". Впервые опубликованный в 1936 г., он является предвестием недалекого будущего... Удивительная, мягкая тональность повествования неожиданно прерывается гневным рассказом о бытовом антисемитизме на детском уровне. Детское восприятие мира, конечно же, находится под сильнейшим домашним влиянием. Дети — это рупор родителей, но все же дети остаются детьми. Подрались двое мальчишек: Пашка и Санька. Первый обозвал второго фашистом. При разборе мальчишечьей драки выяснилось, что среди играющих была еврейская девочка из семейства политэмигрантов, появление которой объясняет Пашка: "Есть в Германии город Дрезден... и вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей. Убежал и приехал к нам. А с ним девчонка приехала, Берта. Сам он теперь на мельнице работает, а Берта с нами играет" 179. При неизбежных столковениях в детских играх произошел "конфликт" между Санькой и Бертой. Реакция мальчика была однозначна: "Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию провалилась". Несмотря на крики "филосемита" Пашки, призывающего приятеля "заткнуться", оскорбления продолжались. Девочка плохо знала русский язык, но слово "жидовка" уже было ею усвоено. Она безутешно заплакала. Такова незамысловатая фабула маленького эпизода. Маленького, но многозначительного. Трудно предположить, что Санька
364
призывал "дуру жидовку" вернуться в Германию. Вероятнее всего, он кричал: "Убирайся в свою Палестину". Кто не помнит старой русской поговорки: "Бери хворостину, гони жида в Палестину"? Антисемитизм мальчишки — домашний. Хотя и присутствует элемент закономерной связи доморощенной юдофобии с нацистскими идеями. Не будем гадать, что могло произойти с такими людьми, как родители Саньки, во время войны. Неизбежное должно было произойти, и русский интеллигент оказался лицом к лицу с нацистской идеологией.
Второй отрывок принадлежит крупному советскому писателю Юрию Герману (1910—1967), одному из основоположников отечественной медиа. Успех писателя у советских читателей абсолютно не соответствовал литературному дарованию Германа. Воспевая историю России или славные подвиги чекистов, он ни разу не мог выйти за рамки соцреализма, даже если это произведение посвящается памяти Евгения Львовича Шварца. Свою литературную карьеру Герман начал в 1926 г. В 1931 г. он опубликовал повесть "Рафаэль из парикмахерской", касающуюся еврейской тематики. Одно время Юрий Герман собирал материалы по Велижскому делу — кровавому навету времен царствования Николая I. Консультировал его сам Максим Горький. Впрочем, пролетарский писатель давал и другие советы, например, написать биографию Дзержинского для серии ЖЗЛ. По неизвестным причинам дальше задумки Велижское дело не пошло, а рассказы о железном Феликсе, напротив, украсили послужной список Юрия Павловича. Единственный раз в литературной биографии Германа природное дарование одолело материал и был создан шедевр — повесть "Подполковник медицинской службы". Но от своего лучшего детища в эпоху борьбы с космополитизмом он должен был отречься. (Публикация первой части романа в журнале Звезда" № 1 за 1949 г. была приостановлена.) В романе рассказана история болезни и смерти подполковника Александра Марковича Левина, который был начальником военного госпиталя на Северном фронте в одной из частей воздушного флота. Время действия — последний военный год. Сюжет трагичен — врач должен умереть от неизлечимой болезни и знает об этом. На фоне его душевных переживаний мы видим отнюдь не однозначное отношение людей к замечательному труженику. Конечно, влияние на повесть Германа толстовского рассказа "Смерть Ивана Ильича" безусловно. Но, как ни странно, задача Толстого проще: его герой не должен был решать весьма сложные проблемы. Жизнь Ивана Ильича и его карьера просто мизерны по сравнению с жизнью и трудами Александра Марковича. Впрочем, наша задача не пересказывать произве-
365
дение. Мы коснемся интересного для нашего исследования эпизода, возможно, лучшего в повести.
Над морем шел воздушный бой. Санитарный гидроплан подобрал сбитых раненых советских и немецких летчиков. Выуженный из воды немецкий ас на вопросы о состоянии здоровья не отвечал доктору Левину и что-то бормотал. Левин протянул руку, чтобы посчитать пульс, но немец отпрянул и сказал, что не желает никаких услуг от "юде".
«— Что? — сам краснея, спросил Левин. Он знал, что сказал этот человек, он слышал все от слова до слова, но не мог поверить. За годы существования советской власти он забыл это проклятье, ему только в кошмарах виделось, как давят "масло из жиденка", — он был подполковником Красной Армии, и вот это плюгавое существо вновь напомнило ему те отвратительные погромные времена.
— Что он сказал? — спросил Левина военфельдшер.
— Так, вздор! — отворачиваясь от немца, ответил Александр Маркович. Рот летчика дрожал. Поискав глазами, он нашел себе место на палубе у
трапа и сел, боясь, что его вдруг убьют. Но никто не собирался его убивать, на него только смотрели — как он сел, и как он выпил воды, и как он стал снимать с себя мокрую одежду. Ему дали коньяку, он выпил и пододвинул к себе все свободные грелки. Он не мог согреться и не мог оторвать взгляд от крупнотелого, белолицего русского летчика, который внимательно, спокойно и серьезно разглядывал своего соседа, изредка вздрагивая от боли.
— Товарищ военврач! — позвал крепкотелый.
Левин наклонился к нему.
— Мы в школе учили немецкий, — сказал летчик. — Язык Маркса и Гёте, Шиллера и Гейне — так нам говорила наша Анна Карловна. Я понял, что он вам... высказал, этот... гад... Но только вы не обижайтесь, товарищ военврач. Черт с ним, с этим паразитом. Вспомните Короленку и Максима Горького... как они боролись с этой подлостью. И еще вам скажу — будем знакомы, старший лейтенант Шилов...
Он с трудом поднял руку. Левин пожал его ладонь.
— Я так предполагаю, что вам надо забыть эту обиду. Начихать и забыть. Вот таким путем... Видите — смотрит на меня. Боится, что я его пристрелю. Нет, не буду стрелять, обстановка не та...
Облизав пересохшие губы, он медленно повернулся к нему и не без труда начал складывать немецкие фразы, перемежая их русскими словами:
— Ты об этом Jude vergessen! Verstanden? Immer... Auf immer... На веки вечные. Er ist... fur dich Herr доктор. Verstanden? Herr подполковник! Und wirst sagen das... noch, werde schiessen dich im госпиталь, — пристрелю дерьмо собачье! Das sage ich dir — ich, лейтенант Шилов Петр Семенович. Verstanden? Ясная картина?
— Ja. Ich habe verstanden. Ich habe es gut uerstanden! — едва шевеля губами, ответил немец*.
________________
* Ты об этом "юде" забудь! Понял? Всегда... Навсегда... Он... для тебя господин доктор. Понял? Господин подполковник! А если ты скажешь это... еще раз, я застрелю тебя в госпитале... Это говорю я тебе — я... Понял? — Да. Я понял. Я хорошо понял! (искаж. нем.)
366
...Шилова положили в пятую, немцу отвели отдельную — восьмую. Ночью у него сделалось обильное кровотечение. От Шилова и Анжелика, и Лора, и Вера, и Варварушкина, и Жакомбай знали, как в самолете фашист обозвал подполковника. Рассказали об этом и Баркану. (Хирург Вячеслав Викторович Баркан, вероятно украинец, находился в натянутых отношениях с Левиным. По мысли автора, они антиподы. — С. Д.)
Сердито хмурясь, он вошел в восьмую, где лежал пленный.
— Ich verblute, — негромко, со страхом в голосе заговорил лейтенант Курт Штуде. — Ich bitte um sofortige Hilfe. Meine Blutgruppe ist hier angegeben. - Он указал на браслет. — АЬег ich bitte Sie aufs dringlichste, Herr Doktor, Ihr Gesicht sagt mir, dass Sie ein Slave sind, ich flehe Sie an: wenn Bluttransfusion notwendig ist... dass nur kein Judisches Blut...*
Вячеслав Викторович Баркан строго смотрел на немца.
— Verstehen Sie mich? — спросил лейтенант Штуде. — Es geht um mein kiinftiges Schicksal, um meine Laufbahn, schliesslich um mein Laufbahn, schlesslich um mein Leben. Keineswegs judisches Blut...**
Баркан насупился.
— Haben Sie mich verstanden, Herr Doktor?***
— Ja, ich habe Sie verstanden! — сиплым голосом ответил Баркан. — Aber wir haben jetzt nur judisches Blut. So sind die Umstande. Und ohne Transfusion sind Sie verloren...****
Летчик молчал.
Баркан смотрел жестко, пристально и твердо. Он в первый раз в жизни видел настоящего фашиста: Господи, как это постыдно, глупо, как это дико, как это нелепо. Как будто можно разделить кровь на славянскую, арийскую, иудейскую. И это середина двадцатого века...
— Ich hoffe, das solche Einzelheiten in meinem Kriegsgefangenenbuch nicht verzeichnet werden. Das heisst, die Blutgruppe meinetwegen, aber nicht, dass es judisches...
— Ich werde mir das Vergniigen machen, alle Einzelheiten zu verzeichnen! — произнес Баркан. — Ich werde alles genau angeben.
— Aber warum denn, Herr Doktor? Sie sind doch ein Slave.
— Ich bin ein Slave, und mir sind verhasst alle Rassisten. Verstehen Sie mich? — спросил Баркан. - Mir sind verhasst alle Antisemiten, Deutschhaasser, mir sind verhasst Leute, die die Neger lynchen, sind verhasst alle Obskuranten. Aber das sind unnutze Worte. Was haben Sie beschlossen mit der Bluttransfusion?
— Ich unterwerfe mich der Gevalt! - сказал летчик и сложил губы бантиком.
— Nein, so geht es nicht. Bitten Sie uns um Transfusion beliebigen Blutes, oder bitten Sie nicht?
* Я истекаю кровью... Я прошу оказать мне экстренную помощь. Моя группа крови вот тут указана... Но я убедительно прошу вас, господин доктор, по вашему лицу я вижу, что вы славянин, я умоляю вас: если понадобится переливание... только не иудейскую кровь... (нем.)
** Вы понимаете меня?... Речь идет о моей будущей судьбе, о моей карьере, о моей жизни наконец. Ни в коем случае не иудейскую кровь... (нем.)
*** Вы поняли меня, господин доктор? (нем.)
****Да, понял!.. Но мы имеем сейчас только иудейскую кровь. Таково положение дел. А без переливания вы погибнете... (нем.)
367
— Dann bin ich gezwungen darum zu bitten*.
Баркан вышел из палаты. В коридоре он сказал Анжелике:
— Этому подлецу нужно перелить кровь. Если он поинтересуется, какая это кровь, скажите — иудейская.
Анжелика вопросительно подняла брови.
— Вы сделали эту штуку ради Александра Марковича! — басом воскликнула Анжелика. — Да, не отрицайте. Это великолепно, Вячеслав Викторович, это чудесно. Вы — прелесть. Я в восторге...
— Да, да, иудейская, — повторил Баркан. — Я в здравом уме и твердой памяти, но это сбавит ему спеси раз и навсегда.
— Очень рад! — буркнул Баркан» 180.
Это действительно блестящий диалог. И здесь Герман держит равнение на Толстого. Такого длинного текста на иностранном языке русская литература не знала со времен "Войны и мира". И любопытно, что немецкая речь не затрудняет чтение, наоборот, она позволяет читателю окунуться в атмосферу тех лет. В психологии немца — нет карикатуры. В свое время я читал этот отрывок нескольким фронтовикам: все в один голос подтвердили: такой немец не исключение, а правило.
В свете опубликованного отрывка вообще интересна тема: антисемитизма в Красной (Советской) Армии. Скудость материалов не позволяют ясно судить о том, что происходило в 20—30-е годы. В конце 20-х годов в Советском Союзе была проведена обширная кампания по борьбе с антисемитизмом. Из многочисленных статей, опубликованных в это время, явствует, что юдофобия отнюдь не отступила по сравнению с дореволюционным временем, но нет практически ничего, касающегося положения в армии. Удивительное дело, в одних из воспоминаний, вышедших в Воениздате, в разгар борьбы с сионизмом, неожиданно появляется знакомая тема. Автор совершенно спокойно рассказывает об антисемитизме в армии в 20-е годы. Суть рассказа такова, что политруком их части был Арнольд Литвак. Друзья-курсанты поселились у двух старушек — полек, которые обратились к постояльцам с просьбой помочь через политрука продать домашние вещи. Был разгар нэпа, и посему удивленные красноармейцы стали объяснять
__________________
* Надеюсь, что такого рода подробности не будут записаны в мою книжку военнопленного. Ну, группа крови — пусть, а вот это... иудейская... — Я доставлю себе удовольствие записать все подробности!.. Я запишу все решительно. — Но почему, господин доктор? Ведь вы же славянин. — Я славянин, и я ненавижу расистов. Понимаете меня?.. Я ненавижу антисемитов, германофобов, ненавижу тех, кто линчует негров, ненавижу мракобесов. Впрочем, это ненужные слова. Что вы решили насчет переливания крови? — Я подчиняюсь насилию!.. — Нет, так не пройдет. Вы просите нас перелить любую кровь или не просите? — В таком случае я вынужден об этом просить (нем.).
368
старушкам, что они обратились не по адресу: их товарищ к торговцам не имеет отношения. Но хозяйки не унимались: "Он же еврей, они друг другу помогают". Демидов (автор мемуаров) со своим другом, русским, зашли к Арнольду Литваку и задали ему соответствующий вопрос:
«— Наши старушки просят тебя помочь продать им барахлишко, — смеясь сказал ему Трофимов.
Литвак нахмурился:
— Что за шутки?
— Какие там шутки. Старушки от любви к тебе обращаются за помощью, — продолжал Трофимов в том же духе.
Арнольд взорвался, а потом достал из кармана несколько записок и подал Трофимову. Мы с ним вместе прочли: "Товарищ политрук, Литвак, что торгует красным товаром, ваш родственник?", "Товарищ политрук, почему все евреи торгуют?", "Говорят, что вы сын нэпмана".
— Где ты набрал этой гадости? — удивился Трофимов.
— В ротном ящике для вопросов, — ответил Литвак.
Мы втроем прошли к военкому школы, показали ему записки.
— Ответили? — спросил он Арнольда.
— Нет, мне стыдно было говорить об этом.
— Нэпманы Литваки ваши родственники?
— Конечно, нет.
— Так почему же не ответили? Кого испугались? — Комиссар разгневанно заходил по комнате, потом спросил у Литвака — Где и когда ваш отец работал?
— Всю жизнь в Таганроге на кожевенном заводе.
— Вот так же и скажите на первом же вечере вопросов и ответов, да погромче, стесняться нечего. Я приду и послушаю. А потом, если найдутся желающие, сводим их к нашим шефам на деревообделочную фабрику. Пусть поглядят там, как евреи работают».
Прекрасный отрывок и не менее прекрасная концовка новеллы, где на приглашение посетить фабрику откликнулись желающие:
"Надо сказать, что после очередного вечера, на котором Литвак ответил на полученные им анонимные записки, желающие пойти на фабрику нашлись, и многие из них потом громко выражали свое удивление тем, что, как оказалось, большинство наших шефов — евреи и что они отлично умеют строгать, долбить, клеить"181. Как этот отрывок мог проникнуть на страницы Воениздата — дело темное. Но мой опыт подсказывает, что это издательство все же имело некую автономию и именно среди воспоминаний, опубликованных в нем, я выудил массу любопытного материала, имеющего отношение к еврейской теме. Например, воспоминания маршалов Якубовского и Пересыпкина, знаменитого летчика Кожедуба и многих других.
369
ЕВРЕИ В ЖИВОПИСИ И МУЗЫКЕ
Еврейская тема в творчестве
В.В. Верещагина и Н.Н. Каразина
В нашу задачу не входит рассказывать о жизненном и творческом пути Василия Васильевича Верещагина (1842—1904) — биография художника достаточно хорошо известна.
Нас интересует узкий вопрос: еврейская тема, отразившаяся в работах мастера. Поэтому мы лишь минимально коснемся биографии Верещагина, пытаясь найти то, что повлияло на интерес художника к еврейству.
Подобно многим деятелям русской культуры, Василий Васильевич Верещагин готовился к военно-морской карьере. Он учился в морском кадетском корпусе. Весной 1860 г. под руководством знаменитого путешественника Ф.П. Литке состоялись выпускные экзамены. Верещагин окончил корпус первым, с общей суммой экзаменационных баллов 210 (второй ученик набрал 196!). 3 апреля Верещагин был выпущен гардемарином флота, однако сразу же стал добиваться увольнения, что вызвало яростное сопротивление не только начальства, не желавшего терять подающего большие надежды офицера (ему по окончании корпуса было всего 17 лет, он был младше всех на курсе), но и родных, считавших его стремление к живописи безумием. Впрочем, военная закалка, полученная в одном из лучших военных заведений России, впоследствии пригодилась Верещагину в его полных опасностей путешествиях.
Верещагин учился в Академии художеств, но требования ее не удовлетворяли его и, несмотря на несомненные успехи, он покинул здание на Васильевском острове. И это было еще до знаменитого бунта Крамского и его товарищей, выступивших против засилья классицизма. Под влиянием художника А.Е. Бейдемана, познакомившего Верещагина с художником Л.Ф. Лагорио, у него созрело желание посетить Кавказ и запечатлеть его в живописи. Он предпринял несколько поездок на юг, но после первой же выяснилось, что ему не хватает мастерства, и Верещагин едет учиться за границу.
Верещагин был принят во Французскую Академию художеств, где его учителем стал французский художник и скульптор Жан-Леон Жером (1824—1904). Чем же привлек Верещагина художник-академист? Оказывается, Жером был путешественником, и картины, привезенные из далеких странствий, резко отличались от его же салонно-академических парижских полотен. Ближневосточные работы Жерома полны жизни и
370
неподражаемого драматизма, что отметил В.В. Стасов. Несколько работ мастера — пейзажи Святой Земли — хранятся в Иерусалимском национальном музее.
Уже во время второй поездки на Кавказ проявились в творчестве Верещагина принципы, воспринятые от учителя. Возросли знание и мастерство.
Самые интересные серии кавказских картин составляют многочисленные портреты русских сектантов, в свое время высланных Николаем I на Кавказ. Можно сказать, что это единственная в своем роде галерея. В громадном большинстве высланные сектанты принадлежали к духоборам и молоканам. Лучшая работа Верещагина — портрет руководителя молокан П.А. Семенова: одухотворенное лицо убежденного в своей правоте раскольника. Посетил ли Верещагин субботнические общины на Кавказе, нам неизвестно (он был в местах их поселений), но и без того ясно, что внимательное прочтение Ветхого Завета, углубленное знание библейского текста и вместе с тем отнюдь не православное прочтение Евангелия явилось следствием общения художника с русскими сектантами — духоборами и молоканами, которые признавали примат Ветхого Завета и в той или иной степени отходили от ортодоксального христианства в сторону иудаизма182.
После каждой поездки в Россию В.В. Верещагин возвращался в Париж, где в общей сложности пробыл три года. Впоследствии враги называли его самоучкой, чем очень обижали мастера: профессиональное обучение его продолжалось восемь лет: два года рисовальной школы, три года в Петербургской академии и три года — в Парижской.
Летом 1867 г., будучи в Петербурге, Верещагин от своего друга А.Е. Бейдемана узнал, что в туркестанскую военную экспедицию приглашается художник. Наряду с военными специалистами генерал Кауфман, осуществлявший присоединение Средней Азии, включил в свою армию художников Верещагина и Н.Н. Каразина, о котором мы расскажем ниже, несколько талантливых ученых, в том числе зоолога Н.А. Северцева и горного инженера А.А. Татаринова; они-то и заложили основы серьезного изучения новоприобретенного края.
При знакомстве Верещагина с Кауфманом художник показал свои работы кавказского цикла, до некоторой степени близкие генералу по службе в тамошнем крае. Рисунки генералу понравились. Убедившись, что Верещагин учился в Петербургской академии и даже получил там отличие — 2-ю серебряную медаль, — Кауфман распорядился принять его в ряды экспедиционного корпуса в чине прапорщика, причем художник выговорил себе право не носить военный мундир и не получать
371
повышения — мода шестидесятников, демонстрирующих пренебрежение к официальной карьере. Художник и знаменитый генерал подружились, хотя взаимные столкновения предотвратить было невозможно, и о них мы расскажем позднее.
После утомительного и длинного путешествия осенью 1867 г. Верещагин добрался до Ташкента, где и поселился на несколько месяцев. Перед ним открывалась незнакомая жизнь, которую он пытался зафиксировать на бумаге. Восточная дикость в первозданном виде, изуверские порядки произвели на него отталкивающее впечатление, особенно же его потрясло положение женщин, неизмеримо худшее, чем даже в Персии и Турции.
Отношения художника с местным населением складывались благоприятно, особенно после удачного врачевания нескольких больных, но позировали люди неохотно, боялись дурного глаза: как только Верещагин брал в руки карандаш, туземцы разбегались.
В это время бухарский хан объявил священную войну (газават) русским, и Верещагин отправился вдогонку за войсками Кауфмана, который ускоренным маршем двигался на Самарканд. Как ни спешил Верещагин, он опоздал: неподалеку от Самарканда генерал успел разбить эмира и без боя вошел в Самарканд. Верещагин был огорчен, что не сумел принять участие в сражении, но судьба была к нему благосклонна. В описании дальнейшего мы следуем в основном за воспоминаниями художника.
Верещагин приехал в Самарканд 3 мая, на следующий день после капитуляции города. Сам Кауфман, оставив в самаркандской цитадели всего-навсего 500 солдат, да несколько сот раненых, покинул город, преследуя войска эмира, при этом он допустил несколько ошибок, главнейшая из которых заключалась в следующем. Длина стен цитадели равнялась 3 верстам. Многие места следовало отремонтировать, что и пыталась сделать работающая с прохладцей саперная рота. Городские сакли почти примыкали к ветхим стенам крепости — под их прикрытием можно было легко подойти вплотную к не менее старым воротам. Из соображений безопасности Кауфману следовало сжечь прилегающие дома, но, как пишет Верещагин, по доброте душевной он решил не наносить жителям ущерба.
Как только Кауфман с основной массой войск покинул Самарканд, в бывшей столице Тимура началось брожение: эмир был не только светским, но и духовным владыкой среднеазиатских мусульман. В городе началась антирусская агитация, подкрепленная появлением регулярных войск из Шахрисябского ханства. Художник обратил внимание на то, что многие
372
его знакомые, в том числе муллы, которых он рисовал и с которыми поддерживал даже приятельские отношения, стали отворачиваться от него.
Первыми вестниками назревшего восстания были евреи, которые, покинув свои кварталы и захватив семьи и скарб, появились внутри цитадели. К ним присоединились малочисленные индусы и персы, также не ждавшие пощады от мятежников. (Персы хотя и мусульмане, но шииты, в отличие от жителей Средней Азии, мусульман-суннитов). О судьбе части евреев, оставшихся в городе, мы расскажем в главе о Кауфмане. Семьи евреев разместились в тронном зале Тимура. Положение осажденного гарнизона было отчаянное. Он был отрезан от мира многочисленными отрядами мусульман, общая численность которых доходила до 50 тысяч! Шесть связных, посланных с уведомлением к Кауфману, были обезглавлены шахрисябцами, и только седьмой сумел добраться и передать отчаянный призыв о помощи.
Душой обороны стал находившийся под арестом на гауптвахте полковник Николай Николаевич Назаров. Посажен он был Кауфманом за "злоязычие". Что подразумевается под этим, мы легко можем сообразить, прочитав рассказ об обороне до конца. Сам Верещагин был в первых рядах защитников и неоднократно рисковал жизнью, спасая и увлекая за собой других — солдаты уважительно называли его Василием Васильевичем.
После отбития одной из многочисленных атак Верещагин и Назаров заглянули в Тронный зал. На самом троне Тамерлана расположилась еврейская семья, Верещагин хотел переместить ее в другое место. "Зачем, — отвечал Назаров, — еще и насрать велю!"
Далее Верещагин рассказывает, что евреев оказалось здесь "множество, разумеется с чадами и домочадцами; почувствовав свободу с приходом русских, они заважничали, стали носить кушаки вместо веревок, стали ездить на лошадях и проч., что им строжайше запрещено, и, конечно, были бы перебиты, если бы остались в городе. Как мне рассказывали, при сильной пальбе у нас они поднимали страшный вой, молились, били себя по щекам, трепали за пейсы!.. Все это, при нашем входе, бросилось спрашивать: что и как, благодарили, целовали полы платьев"183.
Возвращаясь к рассказу Верещагина о семидневном "сидении", укажем, что Кауфман, разбив бухарского эмира, быстрым маршем двинулся к Самарканду; мятежники были рассеяны. Правда, щадя мирное население, Кауфман дал женщинам и детям покинуть город.
373
Верещагин писал: "Генерал Кауфман, не говоря о многих других чудных его качествах, был еще человек высокой доброты: он не дал пальцем тронуть жителей, когда занял Самарканд, и, конечно, не мог решиться уничтожить треть города вокруг крепости и разорить столько народа, ничем еще официально не провинившегося, этим только и можно объяснить то, что он ушел вперед, не приведя крепость в тылу в состояние возможности обороняться..." И далее: "Добрейший Кауфман, понимавший, что надобно дать пример строгости, очевидно, нарочно провел предыдущую ночь, не доходя несколько верст, чтобы дать возможность уйти большему числу народа, особенно женщинам и детям..."184.
В туркестанской серии картин появляются первые известные нам живописные изображения среднеазиатских евреев. Всего известно пять рисунков Верещагина, сам он их перечисляет: "Евреи" (2 рисунка), "Мальчик-еврей", "Еврейка" (2 рисунка). Этюд "Евреи в Ташкенте" изображает группу из трех лиц, беседующих друг с другом. Все они одеты в халаты, по-видимому, самый пожилой — хахам (раввин), он представляет центр картины, к его словам прислушиваются мальчик с длинными пейсами и высокий еврей, как ни странно, в европейской шляпе. Местонахождение оригинала неизвестно.
Рисунок молодой еврейки с кольцом в носу и бусами на шее, исполненный в 1867 г., находится в Третьяковской галерее. Содержание и местонахождение других "еврейских" работ неизвестно.
В марте 1874 г. Верещагин познакомился с В.В. Стасовым. Эстетические взгляды Стасова вне сомнения оказали влияние на художника. Сохранилась их обширная переписка, частично опубликованная. Стасов был пламенным и открытым защитником еврейства, и это также оказало влияние на творчество художника. Впервые работы Верещагина Стасов увидел на Венской выставке в 1873 г., куда он зашел с Марком Матвеевичем Антокольским. (Картины Верещагина находились в русском отделе Всемирной выставки). И критик, и скульптор пришли в восторг от работ Верещагина. Впоследствии Стасов неоднократно защищал художника от нападок на него черносотенного суворинского "Нового времени".
К еврейской теме художник вернулся во время путешествия в Палестину в 1883—1884 гг. Поездка была предпринята для сбора материала к картине "Распятие на кресте"185. Верещагин рисовал не только руины и гробницы, он рисовал евреев, которые как раз в это время в больших количествах стали прибывать в Палестину. Он нарисовал "Портрет еврейского раввина (Раввин из западных губерний России)". "Евреи, особен-
374
но пожилые, — писал он, — приходят в громадном числе в Святой град, чтобы провести здесь остаток своих дней и быть похороненными в долине Иосафата, откуда, по их верованию, они будут призваны ранее других к будущей жизни. Еврейское население сильно возросло за последние годы. Турецкое правительство не на шутку встревожилось этим еврейским нашествием и поэтому воспретило евреям оставаться на Святой Земле более 30 дней и селиться здесь".
Любопытное наблюдение — это были годы первой алии. Раввинов Верещагин рисовал еще несколько раз, гонораром за позирование являлся ...стакан водки. Рисовал художник и арабов, отмечая, что часть из них — христиане лишь по названию: они охотно за мзду переходят из одной религии в другую. Это же подтвердил ему палестинский патриарх Никодим. "Денег мало, дайте больше денег, через десять лет я всю Палестину обращу в православие"186.
Мы уже указывали на незаурядные познания Верещагина в толковании Библии. Священное Писание для него — отправная точка при идентификации того или иного события. Позднее Верещагин при демонстрации картин и этюдов Палестинского цикла в "Американ Арт Галлери" написал каталог, где подробно объяснял, как он достигал исторической достоверности, и ссылался при этом на народные предания восточных народов, в первую очередь еврейские.
Перечень картин открывает "Гробница Авраама". Верещагин не только указывает географическое ее расположение, но гневно отмечает, что евреям и христианам туда входить запрещено. Вспомним, что лишь после Шестидневной войны все конфессии получили доступ к могилам патриархов. Вот что пишет Верещагин:
"Гробница Авраама... находится в Хевроне, одном из древнейших городов на свете. Здесь Авраама посетили три странника, предсказавшие ему рождение Исаака и гибель Содома и Гоморры. Тут же были погребены рядом с Саррой и Авраамом Исаак, жена его Ревекка и много других патриархов. Сюда же было перевезено из Египта набальзамированное тело Иакова, и, по всей вероятности, эта мумия еще и поныне хорошо сохранилась. Место это, где, несомненно, находятся могилы упомянутых лиц, пользуется глубоким почтением с незапамятных времен со стороны евреев, магометан и христиан. В верхней части находятся минареты позднейшего магометанского культа; только внизу, где камни почернели от времени, начинается стена времен Давида. Набросок сделан мною с крыши соседнего дома, позади гробницы; мне не удалось сделать более законченную картину, так как население здесь отличается
375
страшным фанатизмом и смотрит на всякую попытку снять рисунок, как на осквернение святого города. Нас забрасывали камнями. Христианам редко дозволялось входить в мечеть (принц Уэльский был допущен туда в 1862 г.), а в самую пещеру никогда еще не было дозволено войти ни одному христианину. Раввин Вениамин (Биньямин из Туделлы. — С. Д.), живший в двенадцатом столетии, утверждает, что он видел настоящие гробы патриархов"187.
Уже по этому одному видно, насколько подробно знакомился Верещагин с еврейскими источниками. Каждый пейзаж прокомментирован художником в соотношении с библейским текстом. Мертвое море вызывает воспоминание о Содоме и Гоморре. Моавитские горы связаны с местом, откуда Моисей увидел Землю Обетованную, Вефиль — там Яков увидел во сне лестницу, идущую к небу; Гробница Иосифа в Сихеме. Подробности клятвы, взятой с сыновей Израиля Иосифом: "Бог посетит вас и вы вынесите кости мои отсюда", "Кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Емор-ры, отца Сихемова" и т. д. Практический комментарий по ветхозаветной топографии, будь то гробница Самуила, призвание Саула на царство, пожелание Соломоном мудрости и многое другое — все это со ссылками на соответствующие места Священного Писания.
На основе этюдов, привезенных из Палестины, художник создал по два варианта картин "Стена Соломона" и "Гробница королей в Иерусалиме", причем на родине художника осталась лишь последняя в одном из вариантов. Она хранится в Русском музее и считается в художественном плане одной из вершин творчества художника. На картине изображена процессия закутанных в белые одежды женщин, выходящих из высеченных в скале ворот и спускающихся по массивным ступеням. На картине изображены также две женские фигуры в темно-красных с золотом костюмах, отдающие поклон процессии. Самое главное: благоговейное настроение процессии, направляющейся ко входу в гробницу со священными сосудами, передано эффектной игрой солнечного света, проникающего в ущелье, где господствуют холодные цвета. (Для меня эта картина — полная противоположность "Крестному ходу" И.Е. Репина).
Но высшим достижением художественного и идейного замысла художника стала картина "Стена Соломона". Как известно, евреев, молящихся у Западной стены, неоднократно изображали художники, путешествовавшие по Палестине. Из русских живописцев первыми рисовали стену братья Чернецовы, бывшие в Иерусалиме в 1843 г.
376
Верещагину в этой работе удалось проникнуть в самый дух иудаизма, картина — не этнографическое изображение экзотического зрелища, а сама трагедия рассеянного народа. Передаем слово художнику: «"Стена Соломона" — шесть нижних рядов этих великолепных камней, несомненно, относятся к временам Давида и Соломона, следующие ряды приписываются Ироду, а верхний и самый меньший ряд принадлежит к магометанскому периоду. Та часть великой стены, которая окружает храм, называется "местом сетований", потому что евреи в давно прошедшие времена имели обыкновение приходить сюда — сначала в годовщину разрушения Иерусалима (уплачивая при этом тяжелый налог мусульманским властям), а в позднейшее время столько раз, сколько хотели, — оплакивать свое прошлое величие и нынешнее рассеянье по белу свету. Едва ли можно увидеть что-либо более трогательное. Евреи обоего пола и всякого возраста приходят со всех частей света молиться и плакать с громкими рыданиями, буквально омывая слезами своими священные камни. По пятницам место это битком набито народом, стекающимся сюда из Палестины, Средней Азии, Индии, Европы, в особенности из России, — все пришедшие молятся самыми жалобными звуками, ударяя себя в грудь, раскачиваясь всем своим телом или неподвижно склоняясь к камням и плача, плача, плача! Евреи словно приносят к этому месту все свои горести и несчастья. Приближается женщина нетвердою поступью, бросается на стену и задыхающимся голосом умоляет Бога возвратить ей ее умершего ребенка... Вот сидит старый раввин в уголку на камне... и с глазами, полными слез, читает: "О Боже! Язычники вторглись в Твое достояние; они осквернили Твой Храм; они разрушили Иерусалим... Мы сделались позором для наших соседей, посмешищем для всех окружающих нас народов... Долго ли это продолжится, Господи? Будешь ли Ты на нас гневаться вечно? Будет ли Твоя ярость гореть, словно огонь?" (Псалмы 79:1—5). Нередко здесь поется нижеследующее:
Чтец: Потому что дворец опустел.
Народ: Мы сидим одинокие и плачем.
Чтец: Потому что храм разрушен,
Потому что стены сломаны,
Потому что величие покинуло нас,
Потому что драгоценные камни храма обратились в прах.
Потому что жрецы наши заблудились и сбились с дороги,
Потому что цари наши пренебрегли заповедями Бога.
Народ: Мы сидим одинокие и плачем.
377
Чтец: Умоляем Тебя, умилосердись над Сионом.
Н а р о д: И собери вместе сынов Иерусалима.
Чтец: Поспеши, поспеши, освободитель Сиона!
Народ: Говорите о мужестве Иерусалима.
Чтец: Да облачится Сион в благолепие и величие.
Народ: Покажи милость Иерусалиму.
Чтец: Да покажи, Сион, снова своих царей.
Народ: Утешь тех, кто оплакивает Иерусалим.
Чтец: Да возвратится мир и веселие в Иерусалим.
Н а р о д: Да произрастут и да расцветут Иерусалимские розы»188.
Палестинская серия картин, а особенно "Стена Соломона", пользовалась неизменным успехом на международной выставке. Проникновение в самую сущность еврейства не осталось не замеченным. Франц Лист189, весьма образованный теолог, вместе со скрипачкой Янкой Воль посетил выставку и пришел в восторг: "Верещагин — ...больше чем талант: это гений, он всегда поражает нас неожиданностью... В числе написанных им видов Палестины самая замечательная картина изображает стену Соломонова храма, у которого евреи оплакивают падение Иерусалима. Здесь каждый камень списан с натуры, а группы евреев так реальны, что им должен позавидовать сам Мункачи, лучший специалист по изображению еврейских типов..."190 Картина "Стена Соломона" была продана в Америке за 300 долларов, цена по тем временам немалая; где она находится теперь, неизвестно, но этюд к ней хранится в Киевской картинной галерее.
Что же касается евангельской серии картин, то большинство критиков сходятся на том, что там, где Верещагин изображает природу Палестины, еврейские типы, — все убедительно. Но там, где художник пытается подняться до больших философских обобщений, он терпит фиаско. Во всяком случае, при всех художественных достоинствах и недостатках, его картины на евангельские сюжеты вызвали дружный протест не только со стороны православной церкви, но и со стороны католической. То, что в России не могли появиться его работы, — это было ясно. Даже в 1914 г. цензурный комитет подтвердил запрещение распространять фотографические открытки из "евангельской серии". "Церковно-общественный вестник" признал картину "Святое семейство" страшной, а пояснения художника, носившие рационалистический характер, безумными. Венский кардинал Гангльбауэр требовал снять с выставки картины "Святое семейство" и "Воскресение Христа" как богохульные и святотатственные. Кардинал заклинал католиков не посещать выставку Верещагина. Верещагин выступил в ответ с саркастическим заявлением, в котором предлагал кардиналу собрать Вселенский собор для решения вопроса о дев-
378
ственности Марии191. На родине художника клерикальные круги нашли поддержку в суворинском "Новом времени", аккуратно перепечатывавшем каждый отрицательный отзыв на Западе по поводу творчества Верещагина.
Широкой поддержкой Верещагин пользовался в кругах, примыкавших к В.В. Стасову. Несомненно, что при тщательности, с которой готовился Верещагин к поездке в Палестину, он проштудировал некоторые критические труды Стасова, непосредственно относящиеся к его теме, мы имеем в виду статью "Еврейское племя в созданиях европейского искусства"192. В этой статье Стасов рассказывает о творчестве Александра Иванова и Марка Антокольского. Иванов, по словам критика, всю жизнь посвятил только еврейским сюжетам. По приезде в Италию он навсегда обратился к Библии, никаких других сюжетов не касаясь (что не совсем верно: у Иванова есть сугубо итальянские картины — жанровые и пейзажные). Рисунки Иванова на ветхозаветные сюжеты исполнены с каким-то древнеазиатским, по возможности еврейским характером. "От этой своеобразности, от этой исторической и национальной верности, в соединении с невиданной оригинальностью сверхъестественного элемента, и, наконец, с глубиною психологического выражения получилось что-то новое, своеобразное", — писал критик193.
Высоко оценивая творчество Антокольского в изображении еврейского народа, Стасов на первое место выдвигает скульптурный горельеф "Инквизиция" (точнее, "Нападение испанской инквизиции на евреев во время тайного празднования ими Пасхи").
Творчество Верещагина в Палестинской серии перекликается с творчеством Александра Иванова и Марка Антокольского. Марк Антокольский писал Стасову: «Вчера я прочитал первую хорошую статью в "Голосе" о выставке Верещагина. Так и хотелось обнять даровитого художника, которому, по-моему, нет у нас равного (исключая Репина)». В другом письме восторг первого русского скульптора достиг апогея: "Ай да Русь! Просто сердце радуется, что есть на Руси такие художники, как Верещагин..."194 В письме к Стасову от 28 декабря 1874 г. Антокольский называет Верещагина художником замечательным. "Почти никогда искусство не охватывало так цельно всего существа моего, как произведение Верещагина". На одной из выставок Верещагина Антокольский побывал трижды195.
Но и Верещагин относился с большим уважением к еврейским художникам. Он первый приобрел на выставке картину неизвестного тогда Левитана и впоследствии подарил ее Третьяковской галерее196.
379
Антокольский хотел, чтобы его ученик Илья Гинцбург сделал скульптурный портрет Верещагина. Дело помог уладить Стасов. Спустя многие годы Гинцбург оставил теплые воспоминания о Василии Васильевиче. Во время позирования произошел любопытный эпизод: Верещагин по памяти рисовал пейзаж. В академической мастерской было холодно, дуло от окна. «"Так вы простудитесь, — сказал Верещагин и, обернув меня газетной бумагой, перевязал веревками, чтобы бумага держалась под блузой. — В горах я таким способом спасался от холода", — сказал он, довольный своей выдумкой. Но вот в мастерскую зашел вице-президент Академии художеств граф И.И. Толстой197: "Что это у вас за газета торчит из-под блузы? Да еще "Новое время"! — "Это я его завернул, — ответил Верещагин. — Ведь ваша академия только замораживает художников"»198.
Работа Гинцбурга очень понравилась Верещагину, и среди немногих произведений других мастеров в доме Василия Васильевича стояла статуэтка "Верещагин за работой".
Заканчивая главку о Верещагине и еврействе, стоит добавить, что, по словам его сына, художник стал защитником Дрейфуса и горячим поклонником Эмиля Золя. Но ведь это для него было естественно.
На туркестанском фронте находился еще один художник — Николай Николаевич Каразин. Современный читатель почти ничего не слышал о нем, но было время, как говорится, когда его имя гремело по всей России.
В 60—80-х годах пышным цветом расцвела "провинциальная" литература. А.И. Мельников-Печерский воспел раскольничьи волжские углы, И.В. Омулевский, Д.Н. Мамин-Сибиряк, В.Г. Короленко, Г.А. Мачтет — певцы уральских заводов и сибирских деревень. К слову сказать, последние трое были воинствующими филосемитами. Василий Иванович Немирович-Данченко и К. К. Случевский писали о русском Севере. Немирович-Данченко писал и о Кавказе, у него нашлось место для описания горских евреев в самых теплых и щедрых тонах в повести "Воинствующий Израиль" (1880). На долю Каразина выпала честь пером и кистью воспеть "Русский Туркестан".
Николай Николаевич Каразин родился в ноябре 1842 г. в Ново-Борисоглебской слободе, Богодуховского уезда, Харьковской губернии в старинной помещичьей семье. Родился в тот самый день, когда умер его знаменитый дед Василий Назарович Каразин (1773—1842), государственный деятель конца XVIII — начала XIX в., учредитель в России Министерства
380
народного просвещения, многогранный ученый и изобретатель, основатель украинского филотехнического общества, основатель первого в Малороссии Харьковского университета. Задолго до уничтожения крепостного права дед-Каразин освободил крестьян. И вот этот "передовой" человек своего времени был присяжным антисемитом. Причем его антисемитизм проявлялся в области исторической науки, где он, вопреки фактам, утверждал зависимость малороссов в церковных делах от евреев. Незадолго до смерти он написал статью "Польский вопрос в 1839 г." (В названии статьи внутренняя полемика с маркизом де Кюстином "Россия в 1839 году"). В полемическом задоре Каразин утверждал, что польский народ "душой и телом есть русский", а шляхта есть наносный слой, вроде шведов в Финляндии и немцев в Прибалтике. Но это ничто по сравнению с выпадом против еврейства: "...церкви, покрытые соломой, — предмет посмеяния для поляков, отдавались на оброк жидам! Под страхом быть битым кнутом, несчастный христианин выторговывал у грязного обрезанника позволение войти в храм Божий и тот же, покрытый паршею жид (поверят ли этому?) — деспотически распоряжался браками, крещениями и всеми другими христианскими таинствами!"199 Это положение было неоднократно опровергнуто серьезными историками200. В последнее время в научных кругах вновь возникла полемика по этому вопросу.
Образование Николай Николаевич получил во 2-м кадетском корпусе. В 1862 г. он был выпущен офицером в Казанский драгунский полк. Сходство с биографией Верещагина становится полным, когда он в 1865 г. выходит в отставку в чине штабс-капитана и поступает вольнослушателем в Академию художеств. Учился он под руководством известного баталиста В.П. Виллевальде, но через год был исключен из Академии после конфликта с ректоратом. Суть конфликта описала многолетняя подруга Каразина художница Анна Петровна Шнейдер, суть эта настолько интересна, что историю эту следует привести полностью: «На их курсе была задана тема из Библии: "Посещение Авраама тремя ангелами". Каразин трактовал ее реально: нарисовал палатку, трех странников, сидящих у стола, Сарру, прислуживающую, и Авраама, беседующего с ними. За такую трактовку темы он получил от жюри следующее замечание, написанное на самом рисунке (он уже издали увидел эту надпись, проходя по выставке к своему рисунку): "Отчего Вы лишили ангелов подобающего им украшения — крыльев?" Каразин немедленно схватил карандаш и написал: "Потому, что считал Авраама догадливее академиков и, что если бы он увидел ангелов с крыльями, то тотчас же дога-
381
дался бы, кто они такие"»201. За дерзость Каразин был уволен из Академии в 24 часа. Набросок этой картины долго сохранялся у Шнейдер. На счастье молодого человека, в это время генерал К.П. Кауфман формировал Туркестанский корпус. Каразин получил чин поручика и командование ротой в 5-м туркестанском батальоне. Жажда странствий охватила художника: "Этот совершенно неизвестный мир, и его изучение было моей мечтой, и вот эта мечта осуществилась", — писал он впоследствии. Туркестанский линейный полк принял участие во всех боях Кауфмана, в том числе в сражении на Зауравланских высотах, запечатленных художником на полотне. Шумков пишет, что Каразин — честно исполнял свой солдатский долг и, участвуя в колониальной войне, не запятнал себя ни единым расистским высказыванием или жестокостью. Мягко говоря — это неправда! Каразин — человек своего времени, и его биография не нуждается в приукрашивании. Участник кампании, впоследствии военный министр, генерал А.Н. Куропаткин в неопубликованных мемуарах писал: "В нашем отряде очутились два известных художника: Василий Васильевич Верещагин и Каразин. Верещагин... решил остаться в Самарканде, прельщенный красотами его расположения и памятниками тамерлановской эпохи — мечетями. Каразин командовал в 5-м линейном батальоне. Его осуждали, что при объезде Кауфманом войск после боя Каразин стоял на правом фланге своей роты с шашкою в крови. Такую выставку своего участия в рукопашной схватке мы находили неприличной для уважающего себя и свое оружие офицера"202. Это свидетельство участника событий в свою очередь подхлестнуло автора монографии о Верещагине противопоставить своего "героя-гуманиста"-"кровожадности" Каразина, что тоже не соответствует действительности. Сам же Верещагин рассказывал, как во время "Самаркандского сиденья" он обучал солдат стрелять по мятежным сартам или как он же поджигал торговые ряды города203. Да и как иначе могло происходить, когда возле Верещагина было убито 40 человек, как врагов, так и друзей204.
Возвращаясь к Каразину, укажем, что в соответствии с инструкцией, полученной действующими войсками от Русского географического общества, он принял участие в ряде научных экспедиций. В 1870 г., в связи с ухудшением здоровья, после нескольких ранений Николай Николаевич вторично выходит в отставку в чине капитана и поселяется в Петербурге. В конце 1871 г. почти одновременно с этим он выступил в качестве беллетриста в журнале "Дело" романом "На далеких окраинах" и во "Всемирной иллюстрации" серией рисунков о Средней Азии. А.К. Лебедев, сравнивая работы Верещагина и
382
Каразина, отдает полное предпочтение первому. При всей остроте и броскости в профессиональном смысле Каразин уступает ученику Жерома. С другой стороны, Лебедев указывает на колониальный характер творчества Каразина, который главный интерес видит в передаче жутких, кровавых сцен. Будто бы в них нет и следа гуманизма Верещагина. Это, конечно же, преувеличение. Скажем, рисунок "Казнь преступников в Бухаре" можно трактовать как протест против изуверства, а не любование жестокостью Востока. Сам же Каразин писал об изуверстве мусульманских владык: "Не проходит ни одного базарного дня, чтобы на площадях, присутственных местах, отведенных для убоя скота, кровь несчастных, провинившихся перед шариатом, не смешивалась бы с кровью волов и баранов"205. Одна из лучших работ Каразина — исполненная тушью "Молитва в степи" (1882 г., Куйбышевский краеведческий музей), где именно "гуманистические" чувства охватывают зрителя, желающего присоединиться к одинокой фигуре молящегося... Во всяком случае, как иллюстратор Каразин достиг признания. Руководители многотомной серии "Живописная Россия", предпринятой исключительно энтузиазмом и под редакцией Семенова-Тянь-Шанского и вышедшей в издательстве Маврикия Осиповича Вольфа, предложили ему принять участие в ее иллюстрировании. Том, посвященный Средней Азии, почти единолично проиллюстрирован им. Впоследствии Каразин принял участие еще в нескольких экспедициях в Туркестан, каждый раз это давало толчок его творчеству. Александр Бенуа, художник диаметрально противоположного направления, заметил Каразина и дал его описание на одном из акварельных вечеров в Академии: «На другом углу, сочно посасывая сигару и при этом непрерывно рассказывая про свои баснословные похождения, "русский Гюстав Доре" — Н.Н. Каразин набрасывал черной тушью и белилами то тянувшиеся по степи караваны, то тройку, мчавшуюся по занесенному снегом лесу...»206 Как видим, в тексте титул "Русский Доре" звучит не иронически.
Что же касается литературного творчества, то его преимущество перед Верещагиным очевидно. (Я сравнил бы пару Верещагин — Каразин с парой Волошин — Богаевский, где очевидно превосходство каждого в своей области.)
В довоенные времена, когда советская критика называла иногда вещи своими именами, Каразин считался самым талантливым писателем колониального жанра. Каразин изображал купцов, предпринимателей, аферистов, искателей приключений, хлынувших в Среднюю Азию вслед за победоносными войсками Кауфмана. Их влекла легкая добыча. Приключенче-
383
ская литература, изобилующая мелодраматическими эпизодами в духе Брет-Гарта, неизменно привлекала подросткового читателя. Его повести, написанные специально для детей, не потеряли своего значения до сих пор, вроде книги "Андрон Голован" о приключениях мальчика в Сибирской тайге. До революции Каразин многократно переиздавался. Его собрание сочинений в 20 книгах (12 томов) вышло в Сойкинском издательстве в 1905 г. как приложение к журналу "Природа и люди". Николай Николаевич Каразин скончался 6 декабря 1908 г. Его популярность как художника пострадала в результате деятельности модернистов на рубеже веков. Но все же за год до смерти, в конце 1907 г., на заседании совета Академии художеств по предложению А.И. Куинджи "за известность на художественном поприще" Н.Н. Каразину было присвоено почетное звание академика.
Неизменными персонажами повестей и романов туркестанского цикла являются евреи — стяжатели и жулики. По правде говоря, они ничем не хуже господ Колупаевых и Разуваевых, с небольшой, но существенной разницей — в русской литературе, кроме вышеозначенных типажей, существуют Добросердовы и Миловановы, а герои-евреи остаются в своем непривлекательном виде в одиночестве. Русская литература проявляла удивительное единодушие в изображение евреев, что и отметили в свое время В. Львов-Рогачевский и Д. Заславский. Андрей Соболь так определил изображение еврея в отечественной беллетристике: трафаретный. И, конечно, Каразин не исключение. В романе "С севера на юг" (иногда эту вещь называют повестью) дано яркое изображение природы по пути перелета журавлей от Осташковых болот до Нила. Повесть в свое время была популярна. Один из ее героев — Абрам Моисеевич Мандельберг. Но так он назывался по-письменному, а "завсегда" его кликали Абрамка или запросто "жидюга-кавалер". По известному штампу Абрам имеет карикатурную внешность: роста самого малого, бегающие глаза и нос с горбинкой, борода (признак мужчины) отсутствует. Одет опереточно: зимой и летом в одном и том же ватном триковом пальто; шею всегда обматывал платком — очень боялся простуды. Разговор — скороговоркою и всегда держит собеседника за полу или рукав. От страха быть ограбленным — держал пистолет, но, увы, неисправный, и трех собак. Как попал в Казалинск Абрам Моисеевич? Оказывается, служил флейтистом в батальоне, который брал Ташкент. Дослужился до бессрочного и с этою бессрочно отпускной командой дотащился до Казалы. Команда ожидала в Казалах три месяца — вот нашему герою приглянулось это место и записался он в мещане сего гра-
384
да. Были у него два товарища, земляки из Гродно. Уговаривали они Абрамку идти домой: "Мало тебе? — говорил Мордко Бекштейн. — Две тысячи есть, чего ж тебе еще? Приедем, купцами будем!"
"Здесь помрешь, увидишь — помрешь!" — предсказывал Исаак Пуц. Но у героя голубая мечта — вернуться в Гродно королем: "Ты приедешь в Гродно и будешь только Исаак Пуц. Год пройдет, два пройдут — и все вы будете Мордко с Исааком. Я здесь остаюсь Абрамка, а приеду в Гродно... не скоро, может быть, приеду, но приеду... Увидите тогда, кто такой приедет в Гродно вместо Абрамки Мандельберга". Осуществляя план обогащения, Абрамка втерся в доверие к владельцу мельницы и хитростью приобрел у него ветряк. И хотя прежний хозяин жаловался, но документы были оформлены правильно. И вот что интересно. У прежнего владельца ветряк работал плохо, а у еврея — на славу: "И ловко же он эту мельницу перестроил. У другого, например, не силен ветерок, чуть-чуть ветряки помахивают, а то и просто стоят, а у него словно в бурю работают, так и свистит под жерновами". В тот год был богатый урожай, киргизы и поселенцы навезли горы зерна, и загреб Абрам Моисеевич деньгу немалую. Да вот еще что задумал он: перестал с киргизов деньги брать за помол, все в счет на книгу записал, а уж месяцев через семь, когда скотина подешевела, а деньги подорожали, все долги аульные собрал натурою еврей: пасся скот у тех же киргизов, но только с его тавром. Еще бы год-два, и был Абрам Моисеевич богатым человеком, но в повестях Каразина стяжатели не становятся богатыми. Прошла по степи болезнь "джюг" (падеж скота) и не стала разбирать, где чье тавро стоит. Приуныл было Абрам Моисеевич, но вскоре оправился. Энергии ему не занимать: «Всего не перечтешь, за что только не брался "кавалер-жидюга". Всюду его видели: и на базаре, и на рыбалках, и при казенных подрядах, и питейные заведения держал он, и все ему везде удавалось, со всего снимал пенку, да и не мало". Все думали, что он разбогател неимоверно, даже градоначальник думал, что за сотню тысяч перевалило у Абрамки. Но он энергично отнекивался. "Все врал, надо полагать". Жители Казалинска чувствовали, что Абрамка готов сорваться с места всегда и вернуться в Гродно. А какая же "голубая мечта" была у Мандельберга? Сам же Абрам Моисеевич так о себе думал: "Вот этот год доживу до теплого времени, значит весны, и довольно. Все продаю да сдаю — и домой. Лета мои уходят, вот говорят люди, что стареть начинаю, надо о жене да детях подумать". И представилось тут "жидюге", как он в Гродно приедет с капиталом, как посватает себе Руфь или Сарру какую-
385
нибудь, хорошую, красивую, и с капиталом тоже, как пойдут у него эти разные — Абрамки, Срулики, Исачки, и все будут около него вертеться, а он им носы утирать будет, учить уму-разуму, чтобы после, когда подрастут, так же, как отец, деньгу наживать умели»207. Но ему не дано было осуществить свою мечту: вернуться на родину и народить маленьких Разуваевых Моисеева закона: жажда наживы цепкой рукой держит "жидюгу" в богоспасаемом Казалинске — круглая сумма никак не округляется, и ненасытный раб приобретения навечно погребен в Туркестане. Возникает вопрос, откуда у флейтиста "первоначальный капитал"? Автор не дает ответа, хотя сумма, названная Мордко Бекштейном, внушительная — две тысячи рублей, а в руках солдата просто умопомрачительная. Кто читал внимательно произведения Каразина, легко обнаружит источник "накопления" — "баранта", почти узаконенная на Востоке форма грабежа. После занятия Самарканда и восстания русские солдаты стали грабить базар. Описание этого грабежа — одно из самых сильных мест рассказа Каразина "Ургут"208: «Попалось фарфоровое китайское блюдо — об пол его. "Нешто потащишь его с собою?" — говорил расходившийся солдат, глядя как звенят и прыгают по камням раскрашенные черепки. Здесь нашли чан с кунжутным маслом, туда лезут с ногами, чтобы несколько размякли заскорузлые от солнца и пыли сапоги. Там высыпана на улицу целая груда ярко-желтых и серебристых коконов. Тут разбита лавка с красными товарами: солдаты целыми тюками расхватывают пестрые ситцы и полосатые адрасы; размотавшиеся, неловко захваченные куски волочатся по грязной улице. В стороне два солдатика сворачивают громадные узлы, с усилиями стягивая концы ватного одеяла: они намерены тащить в лагерь, и дотащут, если какой-нибудь встретившийся офицер не прикажет бросить всю эту дрянь... Они тотчас же послушаются и еще расшвыряют ногой тугой узел, который они тащили версты полторы с таким громадным трудом. Все равно: они продали бы его за полтинник, много за рубль"209.
Евреи как подданные Российской империи проходили действительную службу наряду с православными подданными, зачастую процент служащих евреев был выше, чем у русских. Мы говорим не о печально знаменитых кантонистах. Конечно, контингент новобранцев был разношерстен, и можно понять командиров полков, которые, зная музыкальность евреев, определяли их в музыкальные школы. Известен другой факт, что во исполнение циркуляра военного министра (напомним, что директором канцелярии военного министерства был К.П. Кауфман) от 1862 г. было принято решение о создании в каждом
386
полку фельдшерской школы при лазарете, как один дивизионный врач приказал полковым врачам принимать в школу исключительно "еврейчиков", по-видимому не только, как считает автор воспоминаний, из симпатии к "нашей нации", а из рассуждений здравого смысла — евреи действительно "медицинская нация"210. И у Каразина в романе "Наль" появляется эпизодическая фигура фельдшера Айзика. Рота, в которой служил Айзик, попала в окружение, и, не желая оказаться в плену у мусульман, он, используя свои знания, вскрыл себе ланцетом вены. Комендант, услышав дурную весть, не то осуждающе, не то сожалея говорит: "Что поторопился?"211
Л.Н. Толстой на 5-м бастионе Севастополя, под гром бесконечных бомбардировок, увидел у одной батареи двух старых и одного молодого солдата "из жидов по наружности" (паспорта писатель не спрашивал). Они были не музыканты и не фельдшера и не трусы — под гром батарей они находили место для шуток212.
Имена еврейских солдат Каразин мог видеть на братской могиле, выгравированные на памятнике в Закаспийской области у Геоп-Тепе. Кроме музыкантов, фельдшеров и врачей, там лежали солдаты боевых частей213. В песках Закаспия они погибли в боях 1877—1878 гг., именно тогда Каразин вновь побывал в Средней Азии, в экспедиции, исследующей возможность строительства Туркестанской железной дороги.
15 мая 1888 г. железная дорога подошла к первому туркестанскому городу со стороны Закаспия — Самарканду. Художник Н.Н. Каразин в качестве почетного гостя прибыл на открытие Закаспийской железной дороги и проехал ее из конца в конец. Был составлен роскошный альбом рисунков, изданный в Париже фирмой Буассонад. Цикл Каразина так и называется "Постройка Закаспийской железной дороги". Многое запечатлел глаз художника, но он не увидел, что паровозный гудок не сам по себе разбудил трудовую стихию. Дорога строилась для оживления края, и "не подлежит сомнению, что именно евреи главным образом и содействовали его оживлению"214. И далее тот же Левинский пишет: "По их инициативе появились склады, конторы, торговые предприятия, вывоз сырья, ввоз мануфактуры, сахара и других товаров, поощрение хлопкоробам, сбор ценных трав, заводы и т. д."215 Действительно, энергия Мандельбергов способствовала развитию Туркестана (вспомним ветряк бывшего флейтиста). Утверждали, что все банки в крае, кроме Государственного и Волжско-Камского, находятся в руках евреев, частью крещеных (Иванов и Дмитриев в Ташкенте)216. Из отчетов о туркестанской сельскохозяйственной, заводской и кустарно-промышленной выставке
387
известно, что из 12 евреев, участвовавших в выставке, — шестеро получили медали, из них двое — серебряные. Остальные получили официальное одобрение и благодарность за развитие производства217. Первая женщина-врач в Туркестане была еврейка, к сожалению, мы не знаем ее имени. Она создала первую амбулаторию для туземных женщин и детей в Ташкенте. Значение этого факта для Азии трудно переоценить218. Знал ли Каразин о самоотверженном труде единственной женщины-врача? Да, знал! Но причудливо переплелись в творчестве писателя правда и вымысел. Мы говорим о повести Н.Н. Каразина "Тьма непроглядная", имеющей подзаголовок "Рассказ из гаремной жизни". Действие происходит в одном из туркестанских городов, можно предположить, что в Самарканде, по некоторым городским приметам, в доме богатого купца Суффи Казиметова. Дом его был одним из самых зажиточных и почтенных. У хозяина собственный караван-сарай на центральном базаре да две лавки с бумажным товаром. Суффи торговал русскими ситцами, но в России еще не побывал. Суффи пользуется уважением русских властей — в европейской части города его видели в одной коляске с генералом, который благосклонно с ним беседовал. Суффи — правоверный мусульманин, и в свои сорок лет уже совершил паломничество в Мекку, посему он носит почетное звание "хаджи". У него было четверо жен, старшая умерла, и всем хозяйством в семье заведует мать покойной — Улькун-Курсак, фанатичная мусульманка. Всем богат дом, да все девочки рождаются. Но вот взял себе в жены Суффи джугудку по имени Эстер, и она родила ему сына Шарипку. Откуда пришла в дом мусульманина еврейка — Каразин не говорит, может быть она была из семейства "чала"? Была Эстерка необыкновенно красива, "залюбуешься невольно, особенно когда мыться станет, и щеки красить не нужно, сами горят, словно жар, так и вспыхивают". И добрая — зла не помнит. Как можно догадаться, не взлюбили ее женщины дома Суффи, а особенно старуха Улькун-Курсак, ибо заняла в сердце хозяина то место, которое прежде занимала ее дочь. Потихоньку даже била жидовку, да та по доброте не жаловалась мужу. Но в дом пришла беда: заболел мальчик. И чего только не предпринимал отчаявшийся отец. Наконец на сцене появляется русская женщина врач Ольга Николаевна. Да-да, не единственная женщина врач в Туркестане еврейка, а русская. Она пытается спасти жизнь сына и заболевшей к тому времени матери, но фанатичное духовенство, озлобленное распоряжением властей провести на мусульманском кладбище необходимые санитарные меры из-за боязни эпидемии, убивают прекрасную "джюгудку" и ее сына. Как видим, рассказ
388
прост и вписывается даже в рамки соцреализма: почему-то в первую очередь вспоминается "Алитет уходит в горы". Но Каразин писал искренно, язык повести ясен и точен, писатель знает быт Востока не понаслышке. Стоит только воспроизвести сцену распространения слухов на базаре, чтобы почувствовать колорит места и времени. После лечения больных русской врачихой о чем говорят туземцы: «Ах, что делается... Что только делается! ...Джюгудке в нос пузырек засунули, а оттуда желтое пламя и змейки черненькие... Хозяин ей руки назад закрутил и крепко держит, а "эта" все у самого сердца зубами грызет, кровь высасывает...
— Ой-ой, Аллах многомилостивый! Пропадет бедная!
— Туда ей дорога!
— Воду кипятить приказали!.. Больше воды... Целый котел!
— Мальчика варить будут...
— Да что же мы стоим и молчим... Спасать надо... Идем, что ли!
— Разорвать в клочья эту русскую ведьму. Избить самого Суффи до полусмерти»219.
Можно смело сказать: никогда перо Каразина не поднималось на столь большую литературную высоту. Его сочувствие на стороне несчастной "джюгудки", и хотя сама героиня абсолютно типичная еврейская женщина, начиная от имени и до красоты — будем благодарны писателю, — в конце концов, это единственная бухарская еврейка — героиня дореволюционной беллетристики. Простим Каразину и то, что ее "сестра" Ольга Николаевна оказалась русской. Последний раз на "еврейском" горизонте Николай Николаевич Каразин появляется 6 июля 1902 г. на похоронах Марка Матвеевича Антокольского. Он находился в большой группе друзей покойного при выносе тела из Большой Петербургской синагоги: графа Ивана Ивановича Толстого, Ильи Ефимовича Репина, Василия Васильевича Матэ, Ильи Яковлевича Гинзбурга и многих других. Смеем думать, что он оказался среди них не случайно220.
Верила ли русская интеллигенция в мировой заговор? Столь общий вопрос может иметь лишь вполне определенный ответ. Да, в большинстве случаев верила. С оговорками или без оговорок, но верила.
С этой точки зрения интересны воспоминания художника Владимира Алексеевича Милашевского (1893—1976). В своих мемуарах, вышедших в "застойные времена", он умудрился прославить "серебряный век" и даже создать реквием ушедшему. Его гражданское мужество очевидно. Он указал на
389
страшную дату: "Девятнадцатый век кончился не в 1900 г., а летом 1914 года". "Скоро, скоро июль и начало бойни, начало эры человеческого самоистребления, которое будет длиться весь двадцатый век". И, конечно же, речь идет о революции. Ибо и XIX век начался не в 1800 году, а в 1789 г. взятием Бастилии и клятвой в "Зале для игры в мяч"221. Кстати, неизвестно, где находился во время гражданской войны сам Милашевский. Об этом ни слова в двух изданиях воспоминаний...
Символично, что Владимир Алексеевич эпиграфом взял слова Александра Бенуа о человеческой слепоте, величайшей загадке, когда люди не видят, хотя все ясно как день. И сам Милашевский сознается в своей слепоте и глухоте, когда уже звучала апокалипсическая труба Скрябина в "Поэме экстаза". Но эта же глухота и слепота продолжают жить на страницах его воспоминаний. Тонкость наблюдения и изящество анализа отказывают автору, когда речь заходит о еврействе. Интеллект не срабатывает. Для него еврейство — чуждая и враждебная сила, связанная с потусторонним злом.
Он первый в советской литературе упомянул еврейского художника Мане Каца. Отметил его талант: "Он обладал прирожденным хорошим чувством цвета", имел некоторый успех в Париже и был малообразован, что полностью соответствует действительности. Это же мне подтвердил израильский художник Александр Давидович Копелович, друг Мане Каца222.
При этом следует заметить, что сам Милашевский лишен и тени антисемитизма в обыкновенном смысле слова. Собственно, есть некоторая недоброжелательность по отношению к энергичному еврейскому характеру. Отсюда в советском издании некоторые эвфемизмы в изображении персонажей, будь то "гражданин Ефрон" (издатель энциклопедии) или комиссар искусства Артур Винцентович Лурье, или пересказ разговора с Львом Лунцем, теоретиком Серапионов (скрытым под двумя буквами Л. Л.), оказавшимся неподготовленным к дискуссии о живописи: "Культура слепых людей!.. Разговаривать было не о чем"223.
Но есть и собирательный образ некой Юдифи Израилевны. (Чего стоит одно отчество? А имя? Чехов в письме к А.С. Суворину от 15 ноября 1888 г. предлагал: «Давайте напишем трагедию "Олоферн" на мотив оперы "Юдифь", где заставим Юдифь влюбиться в Олоферна; хороший полководец погиб от жидовской хитрости...») Героиня предстает мрачной, уродливой особой, "мрачной хищницей". Слово "мрачность" повторяется несколько раз. Юдифь появляется на страницах как символ предчувствия политической катастрофы, и ее образ
390
безусловно связан с приближающимся катаклизмом: "На фронте неудачи... Что с наследником? Опять болен?.. Да, этот Бадмаев — личность загадочная. Григорий Ефимович? Ну, ну! Что-то будет? Земля гудит... подземные гулы!"224
Понятно, разговаривать с Юдифью Израилевной человеку, живущему на Архиерейской (символическое название) площади, просто не о чем. Зубной врач, мечтающая выйти замуж за некоего собирательного Эпштейна, владельца собственного кабинета не у себя на родине в Виннице, а на Екатерининском канале, у Казанского собора. "Целенаправленная и узкая психика зубного врача..."
Еврейство преследует Милашевского, и обычно это — иудейский тип, соединяющий в себе уродство и бешеную энергию. Такое восприятие случайностью быть не может, еврейство противно его художественной эстетике: «Она была некрасива, может быть, это и взрастило ее энергию, азарт жизни, честолюбие и жажду "торжества"».
«Напрасно думать, что есть какой-то единый "еврейский" тип лица. Эдакий вдохновенный семит, с утонченно-обостренными чертами лица, как его изобразил в образе Иоанна Крестителя Александр Иванов, или же острее и тоньше в том же образе он изображен у Пюви де Шаванна...
Лицо Надежды Евсеевны (Добычиной. — С. Д.) по внутренней сущности выражало что-то низменное, жадное, затаенно хищное, иногда скрытое ласковой улыбкой, совсем, совсем не родная сестра Иоанна Крестителя!» Далее от национальной окраски Милашевский отказывается, на мой взгляд, нарочито, чтобы избежать упрека в предвзятости. Но подобных антисемитских карикатур Милашевский немало перевидал: "Было и просто что-то бабье, без национальной принадлежности, даже деревенско-бабье, а по внешнему облику формы лица тяжело округлое, нечто неопределенно картофельное, глинистое, аморфное. Неповторимость лицу сообщал лягушачий жабий рот и серые глаза с четкими зрачками змеи или привычной ночной пьяницы!
Натан Альтман несколько польстил своей покровительнице"225.
Страшную брезгливость вызывает этот образ. Пресмыкающееся, рептилия — лягушка, жаба, змея, она же властительница художественной моды, от слова которой зависит судьба художника. Конечно же, она тайная пружина интриг: "Да, эта женщина была неким скрытым рычагом многих поворотов судеб художников, и не только никому тогда не ведомого Альтмана, а исконных, всеми корнями приросших к петербургской почве Бенуа, Сомова и т. д. и т. д."226
391
Надежда Евсеевна Добычина известна в русском искусстве. Она находилась в переписке со многими поэтами и художниками "серебряного века". Устраивала частные выставки. В 1915 г. она устроила аукцион в пользу "Еврейского комитета помощи жертвам войны". Многие художники дали свои полотна. Евреи как бы сами собой разумелись — им полагалось принять участие в выставке по призыву Мирового Кагала. Но вот "гоим" тоже участвовали, и в таком количестве, что и в каталог не успели внести их имена. Вот их перечень, и пусть о них плохо отзовется Милашевский: И. Репин дал "Агнца мира", проданного за 500 рублей; Богданов-Вельский — этюд, 315 р.; Белыницкий-Бируля — пейзаж, 303 р.; Николай Рерих — "Кавказский мотив", 230 р.; А.А. Борисов — "Морозный день", 200 р. Из малого народа участвовали: Илья Гинцбург, Н. Аронсон, Лаховский, Эм. Браз, Анисфельд, Воблевский и кто-то пожертвовал гипсовую головку работы М. Антоколького. В общем, соединенными усилиями "жидов и шабес-гоев" была выручена внушительная сумма в 11 тыс. рублей, капля в море еврейских слез...227
Вернемся к воспоминаниям Милашевского: «Скульптура Альтмана "Молодой еврей" сделана была талантливо, много лучше, чем его живопись. К виску молодого человека была прикреплена медная полоска, изогнутая спиралью. "Пейс!" — радостно угадывали все. Выглядело это безвкусно.
— А, пожалуй, без этой медяшки скульптуру бы отвергли, — язвительно сказал кто-то у меня за спиной. Медяшка служила пропуском в "авангард"». На этом можно было бы оборвать цитату. Но, чтобы подчеркнуть чуждость России и Европе "альтманов", Милашевский уточняет: "А за стенами мятлевского особняка простирался петербургский пейзаж с кристально точными пропорциями колонн, портиков... Пейзаж, созданный Захаровым, Воронихиным, Кваренги, Росси..."228 Об авангарде же говорится устами Александра Бенуа: "Это все дети пустыни, поклоняющиеся своему неумолимому и жестокому Богу — схеме! Им чужда самая душа изобразительного искусства". Милашевский резюмирует: "Я не стану размусоливать, комментировать эту фразу. Есть слова, которые слышны даже через пятьдесят лет после их произнесения"229.
По-видимому, это как раз и следует прокомментировать. Маловероятно, что слова, приписываемые Бенуа, действительно принадлежат Александру Николаевичу. Он всегда доброжелательно относился к еврейскому творчеству, и у нас о нем отдельный рассказ. Что же касается Милашевского, то, безусловно, эта фраза направлена против евреев: "дети пустыни" не метафора (возможно, он вспомнил рассказ Льва Лунца "В пу-
392
стыне", об исходе евреев из Египта) — "они" поклоняются ветхозаветному жестокому и мстительному Богу, "они" не могут изображать кумиров, "они" отвергают античную красоту, столь милую Милашевскому. И посему в искусстве у них единственный путь — абстрактное псевдотворчество.
«Четыре имени определяют Парижскую школу, и эти "парижане" даже не французы: Пикассо, Марк Шагал, Модильяни и Сутин»230. Лучше не скажешь: на одного испанца — три еврея. Точно цитата из Шмакова: "Русская" скульптура, кто ея творцы: Антокольский, Гинзбург, Аронсон, Бернштам, Синаев-Бернштейн. Все такие фамилии, что русскому хоть с моста да в воду"231. Но ведь и петербургское чеканное искусство отдано на откуп иноземцам: Кваренги и Росси далеко не русские. (Сомневающихся в происхождении Росси отсылаю к биографиям итальянских композиторов Соломона Росси и Джакомо Россини.)
Отношение к Натану Альтману недоброжелательное. Возможно, здесь присутствует и некая "idee fixe". Даже в вышеприведенном отрывке об Юдифи Израилевне общим местом происхождения служит не герой анекдотов город Бердичев, а родина Альтмана — Винница. Не исключено, что пером Милашевского движет неприязнь к конкуренту. Известно, что творческие современники зачастую с недоверием и ревностью относятся друг к другу. Но в данном конкретном случае Милашевский передергивает. Так, о великом портрете Анны Ахматовой сказано "лакированная кукла Альтмана"232. Он же передает свой разговор с Ахматовой, достоверность которого проверить невозможно: "Я не люблю этот свой портрет, сделанный Альтманом!".
«Я был удивлен этой ее фразой! Как?! Ведь "все же так в него поверили" (разумеется, не я), что увидели поэтессу "через этот портрет"»233.
Возможно, примешивается и зависть к счастливому сопернику. В свое время Анна Андреевна отвергла ухаживания Милашевского234. Этот эпизод описан в его воспоминаниях, где под именем Нины Аркадьевны выведена Ахматова. Не везло с женщинами Владимиру Алексеевичу: то Юдифь Израилевна, то некая брюнетка, "изнеженно-оранжерейная": «Казалось, что в ней "кондитерского" пирожного больше, чем простого хлеба!». Объяснение Милашевского, обязательно с восклицательным знаком: "В этом сказывалась какая-то доля еврейской крови!"235. Она была дочерью режиссера императорских театров. Жаль, что фамилия осталась нераскрытой. Затем идет некая вдова, немного теософка, вертевшаяся возле Распутина и желавшая рассказать Милашевскому об этом "потом", когда
393
они будут "ближе", что, впрочем, не состоялось... Затем крестьянская девочка лет 12-ти, обещавшая "дать" дяденьке и, видимо, не сдержавшая слово, и т. д.
А великая поэтесса посвятила Н. Альтману замечательные строки:
Как рано я из дому выходила,
И часто по нетронутому снегу,
Свои следы вчерашние напрасно
На бледной, чистой пелене ища...
...........................................................
Я подходила к старому мосту.
Там комната, похожая на клетку,
Под самой крышей в грязном, шумном доме,
Где он, как чиж, свистал перед мольбертом
И жаловался весело, и грустно
О радости небывшей говорил.
Как в зеркало глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым.
Теперь не знаю, где художник милый,
С которым я из голубой мансарды
Через окно на крышу выходила
И по карнизу шла над смертной бездной,
Чтоб видеть снег, Неву и облака, —
Но чувствую, что Музы наши дружны
Беспечной и пленительною дружбой,
Как девушки, не знавшие любви.
И далее
Смеркается, и в небе темно-синем,
Где так недавно храм Ерусалимский
Таинственным сиял великолепьем... 237
Или — о другом великом художнике: «Что это за рисунок висит у вас? — указал я на висевший рисунок в легкой раме.
— Ах! Это большая ценность: это — Модильяни! Это когда-то он рисовал меня в бытность мою в Париже!
"Ценность!" Ах, Анна Андреевна, вы решились указать мне на ценность в искусстве. Вы, вероятно, забыли, позабыли, какой я насмешник", подумал я про себя, не сказав ей ни слова.
Я приподнялся и подошел к рисунку в рамке, висевшему довольно высоко. На диване возлежала женщина, очевидно, Анна Ахматова, изображенная в виде какой-то пакостно-похабной жирной гусеницы.
394
Шикарные бедра шантанной этуали, на вкус пошляков, завсегдатаев слишком дорогих "заведений". Откуда взялись эти бедра? Мечта художника?.. Еле-еле, бездарненько выведенный профиль сомнительной схожести! Это было хуже, чем просто плоховатый, не меткий рисунок, оскорбительна была "похабщина" и какая-то клевета на тонкую, суховатую элегантность той Ахматовой, поэтессы первой своей книги "Четки". Ну, а уж об "интеллекте" модели говорить не приходится... "Ну, жалкий же ездок!" — как говорится о Молчалине...
— А футурист Рустамбеков вас не рисовал, Анна Андреевна?
— Нет, он меня не рисовал, — не поняв моего сарказма, сказала гениальная поэтесса»237.
Но и сам талант поэтессы ставится под сомнение. Сравнение Ахматовой с Михаилом Кузминым оказывается не в ее пользу: «Разве у ней есть стихи, равные "Георгию Победоносцу"? По этой оркестровке слов, по силе и мощи живописной пластики?!»238 Не потому ли, что Кузмин еще в 1905 г. вступил в Союз русского народа? И не пересмотрел бы Милашевский свое отношение к Кузмину, если бы знал, что в крови Михаила Александровича были "чернила": автор "Моих предков" "забыл" упомянуть о своей еврейской крови...239
Старших современников Милашевский не жалует, будь то Петров-Водкин, Бакст, даже Кустодиев или Валентин Серов. С последним у него свои счеты. На посмертной выставке, проходившей в здании Академии художеств и описанной мемуаристом с неподражаемым блеском, уходящая в прошлое империя оставляет в душе щемящий след. А великий художник, преждевременно ушедший в небытие, получает не совсем лестную характеристику, как часто у Милашевского, вложенную в чьи-то уста: "...ошеломляет меня чем-то, что не является слишком лестным для Серова. Поражает какая-то скованность движения, точно арестованный шествует под конвоем. Отсутствие внутренней свободы. Художник боится ошибиться, боится сбиться с ноги, идти не в ногу с конвойным. Это добровольное наложение каких-то вериг, каких-то кандалов вечности... Серовские кандалы точности убили в нем что-то драгоценное..."240 Но в первом издании воспоминаний есть удивительное послесловие, касающееся выставки Серова. "Некий эпилог", не случайно, как нам кажется, исключенный из второго издания. Волею обстоятельств Владимир Алексеевич, спустя несколько дней после окончания ретроспективы Серова, попал в канцелярию Высшего художественного училища, где он случайно подслушал разговор: «Перестань ныть, возьми себя в руки! Ты прекрасный рисовальщик, ты прекрасный живописец. Никто из людей, истинно чувствующих живопись, не будет тебя сравнивать с ним! — говорил бас.
395
— Да, но как раздули, какая помпа! Дошли до какого-то бесстыдства. Прямо Веласкез какой-то! Что за спина у мадам Гиршман в овале! Где у нее таз?! За такой рисунок меня бы с первого курса погнали! А бык?! Я нарочно измерил, голова два раза вмещается в туловище. Ну и чудеса! Веласкез! И мой кузен туда же лезет (Сергей Константинович Маковский, редактор "Апполона". — С. Д.), как бы не отстать от синедриона! Мог бы и помолчать... из корректности. А какая порнография эта Рубинштейн — костлявые коленки демонстрирует. А эта вуаль, как у девочки из "приятного дома" мадам Амалии. Как может рука повернуться у художника на такую безвкусицу! -лепетал тенор. — Что поделаешь! Родственнички до небес превознесли...»2^1 "Ноющий тенор" был художник Александр Владимирович Маковский, "утешающий бас" — инспектор классов Андреев. "Знатоки! Специалисты — мастера, завистники, конкуренты, инспекторы! Как хорошо, когда судьба художника не зависит от них!"242
...Знамение времени. Шестнадцатилетним пареньком останавливался Милашевский у витрин книжных магазинов. Что его интересовало? Оккультная литература. Блаватская. Вот и предшествие будущего Сатаны, всесветный заговор, "Протоколы сионских мудрецов", Нилус, дьявол и революция: "Папюс: Тайны оккультизма. Том первый" (сколько же их будет?). На титульном лице — фотография. Лицо толстого похотливого дьявола в обличье господина XIX в.
Это совсем не тот "интеллектуал", который беседовал с Иваном Карамазовым...
"Злой Адонаи", Беллерофонт!
Однако хороший "коктейльчик" составляется из Софьи Перовской и Беллерофонта!"243
Еще более удивительно отношение Милашевского к творчеству Павла Филонова. Допустим, он не любил этого художника. Это понятно. Гений и революционер был недосягаем для него. Но ценить? Оценить профессионально? Это было ему под силу: «В середине зала стоял огромный холст, размером с "Гибель Помпеи", метра два на три: какие-то вывороченные внутренности, требушина, глаза, вылезавшие из орбит, сделанные с точностью медицинского муляжа! Название вроде "Видение Будущего" или что-то в этом духе. Я позабыл фамилию этого художника, он промелькнул мимо меня, как метеор на небосклоне художественной жизни Петербурга... Более отвратительного, художественно-гадкого, какого-то тупого ремесленничества формы я ничего до тех пор не видел! Недавно мне напомнили его фамилию: Филонов. В рабочей среде существует словечко "филонить". Этот глагол обозначает: отлыни-
396
вать от работы, производить впечатление работы, а на самом деле ничего не делать. Но художник, написавший этот холст, менее всего "филонил". Это было какое-то исступленное рукоделие, гигантский труд, одержимость графомана! И в сочетании с этим трудом — какая безвкусица, какое отсутствие "чувства искусства"! Говорят, талант есть труд... хм... хм... Не всегда!»244 Эти строки неизбежно вызывают чувство неловкости. На весах времени имя иллюстратора Милашевского и новатора Филонова несопоставимы. В искренность Милашевского поверить трудно — его пером движет зависть, зависть ко всем: «Увидел "Террор Антикуус" Л. Бакста, вещь несомненно изящную, ни на что не похожую, богатую своими формами, но такую бесцветную, такую серенькую, что в натуре она как-то разочаровывала... Многие склонны думать, что цвет Петрова-Водкина — это цвет русской фрески. Вероятно, думают так только те, кто ни разу не видел гармоничного благовеста соцветий русской иконы...»245 И так до бесконечности.
Но перенесемся из "серебряного века" в 60-е годы, когда Владимир Солоухин приобрел скандальную известность "Письмами из Русского музея" (Молодая гвардия, № 9 и 10 за 1966 г.), где было сказано много брезгливых слов в адрес Исаака Израилевича Бродского (1884—1939), долгое время бывшего Президентом Всероссийской академии художеств. Здесь не место заниматься сравнением талантов Филонова и Бродского. И, пожалуй, трудно себе представить более разных людей по происхождению, дарованию и художественным устремлениям, чем Исаак Израилевич и Павел Николаевич, но выдержки из письма Бродского в редакцию "Красной газеты" в защиту гонимого и травимого Филонова весьма заслуживают внимания: «Я считаю — и это не одно мое мнение, что Филонов, как мастер-живописец, является величайшим не только у нас, но и в Европе и в Америке. Его производственно-творческие приемы — по краскам, подходу к работе и по глубине мысли — несомненно наложат отпечаток на мировую живопись, и наша страна может им вполне заслуженно и законно гордиться.
Я уверен, что дирекция Русского музея не понимает, что она делает.
От своего имени и от имени многих художников, которые согласны со мной, я прошу "Красную газету" поместить это письмо как голос в защиту выставки Филонова и в защиту его самого как человека»246. Так пишет о своем современнике всегда ревнивый художник, отдавая весьма неприятному человеку, но гению — должное. Действительно, очень далеко Милашевскому до Бродского, выступившего в защиту человека, у
397
которого уже были арестованы пасынки, часть учеников, а другие, вроде Кибрика, предали Учителя. К этому мы можем добавить, что и личные отношения Филонова и Бродского были не идеальны. А что стоит одно забвение Милашевским фамилии художника?
Из всего могучего потока русской живописи первой трети века Милашевский выделяет два имени: Бенуа и Добужинского.
Мстислав Валерианович Добужинский (1875—1957) родился в семье потомственного военного, генерала Валериана Петровича Добужинского. В семье царил дух веротерпимости, "несть эллина, несть иудея". Сын пишет: "...когда в Брест-Литовске был еврейский погром, возмутивший моего отца (он тогда был в генеральских чинах и являлся начальником Брестского гарнизона), он послал отряд солдат, чтобы прекратить безобразия, а перепуганные евреи, ища защиты, бежали укрываться в его гостинице..."247 В другом месте приводится вопиющий пример национального ущемления евреев в армии: «В батарее был такой случай: у отца служил высокий, красивый солдат-еврей по фамилии Нагель, которого отец за отличие произвел в чин "фейерверкера" (унтер-офицера), но произошел скандал: в приказе свыше был объявлен выговор полковнику, отличившему еврея! Как отец ни возмущался, этого Нагеля пришлось сделать из унтер-офицера бомбардир-наводчиком, с красными нашивками на мундире вместо золотых. Разумеется, редкое беспристрастие к иноверцу создало отцу в Кишиневе популярность и славу "либерала"»248. Добужинского-старшего по долгу службы бросало в разные концы империи. В конце 80-х годов он служил в Литве. Семья попала в "полуеврейское" местечко Ораны. Местечко было оживленное, и мальчик запомнил пестрые вывески, зачастую забавные, на домах — портных, парикмахеров. Это были анонимные предшественники Шагала. Воспоминания добродушны и юмористичны. Вот описание одной "допотопной" вывески: «Обнаженная согнутая в локте рука, из которой кровь бьет закругленным фонтаном, и надпись: "Здесь кровь отворяют и пиавки ставят". Эти "пиавки", извивающиеся в банке, тут тоже были изображены. Была еще замечательная надпись на воротах: "Здесь продается парное молоко и разные щетки"»249. В Кишиневе он заметил среди разноплеменного населения караимов, немцев, молдаван и евреев: «Евреи катили тележки, выкрикивая: "И яблок, хороших, виборных моченых и — яблок"»250.
В семье высоко ставили мастерство еврейских ремесленников. Память мальчика сохранила их имена. Арон Прусский, замечательный сапожник из Оран, "худой, рябой еврей с черной бородой... Отец ценил его искусство и вообще любил по-
398
кровительствовать этим ремесленникам. Всегда в Вильне заказывал фуражки Шлосбергу - этот хлопотливый, бородатый еврей был такого маленького роста, что, примеряя мне, великовозрастному, гимназическую фуражку, должен был становиться на стул. Отец с ним всегда шутил...". Однажды любознательные отец с сыном заглянули в синагогу, «посмотреть, как там молятся. Произошел переполох при появлении в синагоге "господина полковника". Принесли два стула — ему и мне, и вообще это явилось небывалым событием». Посидев немного, отец и сын вышли из синагоги: причина была в том, что находиться в головном уборе в храме отцу было непривычно. Это человеческое отношение сильного мира сего находило отклик среди забитого населения: "Разумеется, моего отца... евреи, можно сказать, обожали"251. Свой первый этюд с изображением старого еврея сын привез из Петербурга в подарок отцу, и тот повесил его в своем кабинете. Впоследствии он попал в Виленский музей252.
В Виленской гимназии четыре конфессии (православные, католики, лютеране, иудеи) были представлены интересными личностями. Учеников интересовало, о чем, собравшись вместе в учительской, могли беседовать четыре толкователя веры. Двое были евреями: у них, кажется, мог найтись общий язык...
Закон Божий для православных преподавал крещеный еврей из кантонистов, протоиерей Иоанн Берман. Он окончил Духовную академию и вел предмет интересно, но из-за придирчивости дети его не любили. Незадолго до смерти он удостоился неоценимой награды: получил высочайшее разрешение поменять фамилию на Медведева. Его сын Сергей, любитель-скрипач, учившийся в одном классе с Мстиславом, первым оценил талант Добужинского-карикатуриста.
Как и все учителя, носил вицмундир с золотыми пуговицами преподаватель иудаики "рыжебородый Вольпер". Наказанных гимназистов, кстати, собирали в самую скучную комнату гимназии — в класс "еврейского закона Божия".
По субботам и воскресеньям все без различия веры обязаны были ходить в православный собор. Все, кроме евреев.
Ближайшим другом Мстислава был первый ученик класса Юлий Залкинд. На дому его брата устраивались домашние концерты, непременным участником которых был повествователь. Впоследствии они встретились в Петербургском университете.
Наука веротерпимости передалась по наследству и сыну. Даже если он пишет неприятные вещи, вроде того, как сумасшедший косноязычный еврей, которого дразнили какие-то негодяи, дико мычал, и Мстислав по ночам от ужаса затыкал
399
уши. Начиная с ранних лет, в кишиневской гимназии, где было множество еврейских мальчиков, его посадили за одну парту с "рыжеватым Рабиновичем", с которым он подружился, затем эта веротерпимость позволила ему жениться на Елизавете Осиповне Волькенштейн, дочери общественного и финансового деятеля Ростова-на-Дону Осипа Филипповича Волькенштейна, и прожить в браке долгую и счастливую жизнь. Будет разумно отметить, что и на страницах воспоминаний Добужинского так же появляется "Юдифь Израилевна". Зовут ее Генриетта Леопольдовна Гиршман (1885—1970). Выше шла речь о ее портрете в овале, выполненном Серовым. Вместе со своим мужем она составила выдающуюся коллекцию антикварных предметов русской старины и современной живописи. Она приобрела множество картин Серова, дала ход Добужинскому. Именно покупка Гиршманами прямо на выставке одной из работ Добужинского стала началом его признания253. По словам художника, дом Гиршманов был одним из центров художественной и артистической Москвы. Там он познакомился с Юоном, Виноградовым, Переплетчиковым, Аполлинарием Васнецовым. Через Гиршманов Мстислав Валерианович попал и в Художественный театр, где он сделал Станиславскому знаменитые декорации для "Месяца в деревне". Валентин Серов создал знаменитый портрет Генриетты Леопольдовны, равно и Добужинский написал несколько ее портретов, местонахождение которых, увы, неизвестно. И ничего мистического и потустороннего в ее облике нет. Красота Гиршман носит вполне библейский характер, в чем каждый может убедиться, побывав в Третьяковской галерее.
Художественный мир по большому счету лояльно относился к еврейству. Конечно, не всегда была гармония между творцами пластических искусств. Наум Аронсон вспоминает о том, как в самом начале XX в. его пригласили принять участие в ежегодной весенней выставке, устраиваемой в Императорской Академии художеств в Петербурге. Скульптор надеялся, что приглашающие организуют для него право жительства в столице империи, по крайней мере на дни выставки. Как водится в России, никто не позаботился об этом: "Либеральные и образованные русские интеллигенты охотно забывали о позоре черты оседлости, ложившемся на них, как обвинение", — не без иронии писал Аронсон. За помощью обратились к вице-президенту Академии художеств графу Ивану Ивановичу Толстому, добрейшему человеку, филосемиту, кстати, автору книги "Факты и мысли. Еврейский вопрос в России" (в соавторстве с Ю. Гессеном). Напомним, что он воспротивился введению процентной нормы в Академии, а будучи некоторое
400
время министром народного просвещения, поставил на заседании Совета министров вопрос об отмене процентной нормы во всех учебных заведениях. Естественно, безрезультатно. В данном же случае он даже не смог устроить приглашение скульптора на законном основании: "Я в отчаянии, но мне не удалось ничего добиться". Выручил незадачливого ваятеля скульптор Владимир Алексеевич Беклемишев, предложивший ему поселиться прямо в Академии, скрыв смущение под шуткой: он надеется, что полицейские не произведут здесь облавы. Так оно и вышло: уже знаменитый скульптор в течение нескольких недель ночевал в здании Академии, защищенный престижем этого учебного заведения. Но на этом приключения бесправного еврея не кончились. Выставка имела успех, и решено было ее перевести в первопрестольную, поручив ее устройство Аронсону, рекомендовать которого было поручено не больше не меньше как Д.И. Иловайскому, который был "на ты" с хозяином Москвы, также известным антисемитом великим князем Сергеем Александровичем. Как ни странно, но историк охотно написал прошение на имя великого князя. В приемной произошел любопытный разговор Аронсона с секретарем канцелярии. Чиновник не без ехидства спросил, о какой выставке идет речь. Собачьей, свинячьей? Последнее носило издевательский характер, ибо ясно было, чем занимается Академия художеств. Разгневанный скульптор покинул канцелярию и решил посмотреть, что за рекомендация была написана историком. Среди прочего он прочитал: "Хоть Аронсон и жид, но очень талантливый человек". Итак, посланец Академии остался в полном смысле слова на улице. Был уже вечер, и Аронсон вспомнил о своем друге художнике К., который жил в Москве. Он бросился к нему и попросил разрешения переночевать: «Художник К. ответил мне буквально следующее: "Очень сожалею, но ничего не могу для вас сделать". Я немедленно ушел, не сказав ни слова. Это был единственный случай в моей жизни, когда я промолчал в ответ на ненависть к евреям или равнодушие к их судьбе. Я промолчал, потому что дело касалось меня самого. Когда дело касалось других евреев, я неизменно отвечал со всей горячностью своего возмущения на каждое оскорбление, на каждый укол»254. Приключения же злополучного скульптора продолжались несколько дней. Ему, как ни странно, помог полицмейстер Москвы, поклонник его творчества. Однако разрешить проживание в Москве он смог только на три дня. Об этой же истории вспоминает и другой мемуарист, приводя примеры из жизни Левитана и Аронсона. Похожая история произошла и с писателем Шоломом Ашем, имевшим разрешение только на трех-
401
дневный срок пребывания в Петербурге. Он прятался в доме приятеля на Черной речке, чтобы суметь закончить свои литературные дела255.
Так как разговор зашел о Науме Львовиче Аронсоне (1872—1943), получившем мировую известность, стоит вспомнить восторженную и забытую статью о его творчестве, принадлежащую А.И. Куприну. Тем паче что мы уже не раз упоминали имя Александра Ивановича. Писатель часто посещал ателье мастера в Париже. В этот раз его привлек слух о том, что скульптор создал необычный портрет Ленина. Но прежде всего в мастерской он обратил внимание на скульптуру мальчика в день бар-мицва, созданную на его глазах из глыбы мрамора: "Теперь это 13-летний еврейский мальчик. Он впервые надел молитвенную одежду и ремешком укрепил на лбу крошечную коробочку со священными письменами. Он уже полноправный член общины, человек, могущий по закону Моисееву вступить в брак и достаточно наученный, чтобы участвовать в богослужении, словом, муж разума и совета. И не потому ли, в сознании великой ответственности, так глубоко задумчиво и сурово его еще детское лицо?"256 И далее: "Вот и Ленин, вылепленный из слабо-зеленого пластилина. Это несомненно он. Именно таким я видел его однажды, глядя не по поверхности, а вглубь. Правда, преувеличены размеры его головы, как преувеличены: его алгебраическая воля, его холодная злоба, его машинный ум, его бесконечное презрение к спасаемому им человечеству, и полное отсутствие милых, прелестных человеческих чувств, подаривших миру и поэзию, и музыку, и любовь, и патриотизм, и геройство.
Голова Ленина совсем голая. Череп, как купол, и видно, как под тонкой натянутой кожей разошлись от невероятного напряжения больного мозга черепные швы. Рот чересчур массивен, но это рот яростного оратора.
Громадная, вдумчивая работа. Но я — косоглазый. Одновременно с бюстом Ленина я вижу висящий на стене давнишний, горельефный портрет Пастера. Там тоже человек, настойчиво углубленный в мысль. Но суровое лицо его прекрасно, и внутренний благой смысл его будет ясен каждому дикарю. Впрочем, и Ленин будет ему ясен. Как же не различить разрушение от созидания"257.
Определенный интерес для нашей темы представляют взгляды на еврейство одного из великих художников XX в. Речь идет о Василии Васильевиче Кандинском (1866—1944). Он учился вместе с Мстиславом Добужинским в Мюнхене в художественной школе Ашбе. Мюнхен — это город, в котором можно было выучиться не только живописи. Колыбель германского нацизма все-таки наложила отпечаток на мировоз-
402
зрение великого мастера. Правда, Кандинский находился в близкой дружбе с гениальным основателем теории и практики новой музыки — додекафонии — Арнольдом Шёнбергом. Кандинский высоко ценил музыкальное творчество своего друга, равно как и его живописный талант. Как известно, Шёнберг входил в художественное объединение "Blaue Reiter" ("Синий всадник"). Из писем Шёнберга к своему другу в начале 20-х годов несложно вычислить политические взгляды Кандинского. Кандинского и Шёнберга связывала многолетняя дружба, Кандинский даже приглашал композитора приехать в Веймар и основать там под эгидой общества "Баухауз" центр искусств. Однако до Шёнберга дошли слухи, что среди членов общества процветает антисемитизм. Часть ниже приведенных писем на русском языке публикуется впервые, в переводе г-жи Нины Фроуд, за что и приносим ей благодарность. Фрагменты писем были опубликованы в работе Г.М. Шнеерсона "О письмах Шёнберга" — "Музыка и современность". В письме от 20 апреля 1923 г. Шёнберг пишет художнику:
Медлинг, 20 апреля 1923.
Глубокоуважаемый господин Кандинский,
Получи я Ваше письмо год назад, я бы махнул рукой на все свои принципы, пожертвовал бы появившейся, наконец-то, возможностью свободно заняться композицией и очертя голову бросился на Ваш зов. Честно признаюсь, даже сегодня я на минуту заколебался, так сильно меня тянет преподавание, так легко я все еще заражаюсь интересными, смелыми замыслами. Но ничему этому не бывать.
Дело в том, что я, наконец, усвоил урок, преподанный мне за этот год, и теперь уже никогда его не забуду: я не немец, не европеец, и вообще, кажется, не человек даже (во всяком случае, европейцы ставят меня ниже самых ничтожных, но своих). Я — еврей.
Пусть так. Не хочу больше быть исключением. Я не возражаю, чтобы меня воспринимали как одного из толпы мне подобных, — я вижу, что на противной стороне (которая в других отношениях для меня отнюдь не образец) тоже все сбиваются в одну кучу. Я увидел, что тот, кого я считал равным себе, предпочел не выделяться и быть с толпой заодно. Я убедился, что даже такой человек, как Кандинский, видит в действиях евреев одно зло и это зло приписывает исключительно их еврейству; дойдя до этого, я оставил надежду на взаимопонимание. Это была всего лишь мечта. Мы — люди разного сорта. Определенно!
Так что, как Вы понимаете, я ничего не буду делать сверх необходимого для того, чтобы не умереть. Может быть, когда-нибудь после нас люди смогут позволить себе предаваться мечтам. Но я ни себе, ни им этого не желаю. Наоборот, я бы много отдал за то, чтобы мне выпало на долю способствовать пробуждению.
Я желал бы, чтобы Кандинский, которого я знал в прошлом, и сегодняшний Кандинский, каждый бы взял свою долю моего сердечного и искреннего приветствия.
Арнольд Шёнберг.
403
Вероятно, на это послание Шёнберг получил скорый и исчерпывающий ответ от Василия Васильевича, в то время еще не скрывавшего своих взглядов: время мимикрии было впереди. Уже 4 мая 1923 г. Шёнберг пишет пространное письмо:
Медлинг, 4 мая 1923.
Дорогой Кандинский,
Обращаюсь к вам таким образом, поскольку Вы пишете, что были глубоко тронуты моим письмом. Этого я и ожидал от Кандинского, хотя я не выразил и сотой части того, что должен представить себе сам Кандинский, если он желает быть моим Кандинским! Ведь я ничего не написал, например, о том, как я иду по улице, и каждый встречный приглядывается, еврей я или нет? Не могу же я всякий раз объяснять, что я такой еврей, которого Кандинский и некоторые другие считают исключением, хотя этот субъект Гитлер с ними, конечно, не согласен. Да и потом, от такого благожелательного отношения мне будет мало пользы, даже если я напишу об этом на куске картона и, чтобы все видели, повешу себе на грудь, точно нищий слепец. Кандинский должен был бы это понимать. Кандинский должен бы представлять себе, хотя бы в самой малой степени, каково мне было, когда я впервые за 5 лет освободил себе лето и выбрал тихое место для работы, но вынужден был прервать ее и уехать, и еще долгое время после этого не мог вернуть себе необходимого для работы душевного покоя. А все потому, что немцы не согласны терпеть в своей среде еврея! Возможно ли, чтобы Кандинский оказался, в общем и целом, на их стороне, а не на моей? Возможно ли, чтобы Кандинский хоть в чем-то разделял мнение этих существ, способных потревожить мой покой, когда я собрался работать? Разве можно вообще разделять подобное, с позволения сказать, мнение? И быть хотя бы в чем-то с этой публикой заодно? Можно ли допустить, что они были правы? Мне кажется, Кандинский даже в геометрии не способен придерживаться тех же взглядов, что они. Рядом с ними ему нет места — или же он стоит не на том, на чем стою я.
Я спрашиваю, почему об евреях надо судить по рыночным спекулянтам из их среды?
Разве арийцев тоже считают такими, как худшие из них? Почему об арийцах судят по Гёте, Шопенгауэру и т. д.? А почему же не говорят, что евреи — такие, как Малер, Альтенберг (Петер Альтенберг (1859—1919) — известный писатель. — С. Д.), Шёнберг и многие другие?
Почему сочувствие к людям Вы называете политикой? Или, по-Вашему, политик — это тот, кто пренебрегает людьми и занят исключительно интересами своей партии?
Каждый еврей выдает своим крючковатым носом не только свои собственные пороки, но также еще и пороки всех остальных крючконосых людей, которых в данный момент нет рядом с ним. А вот носы собранных вместе ста преступников-арийцев не выдают ничего, кроме их общего пристрастия к алкоголю, а в остальном это, выходит, достойные, почтенные люди.
И к таким вещам Вы присоединяетесь и "отвергаете меня как еврея"? Но разве я когда-нибудь набивался к Вам в друзья? Неужели Вы думаете, что такой человек, как я, позволит себя "отвергнуть"? Неужели Вы думаете, что человек, знающий себе цену, даст кому-нибудь право критиковать даже самые незначительные свои недостатки? Кем надо быть, чтобы иметь такое право? В
404
чем этот критик окажется лучше, чем я? Да, пожалуйста, критикуйте, но только у меня за спиной, позади меня найдется место для всех желающих. Но если я узнаю об этом, от меня последует расплата, и никакого снисхождения не будет.
Как может Кандинский одобрять наносимые мне оскорбления? Как он мог примкнуть к тем, чья политика направлена на исключение меня из естественной сферы моей деятельности? Возможно ли, что он не выступит против взглядов, ведущих к Варфоломеевской ночи, во тьме которой никто не разберет на двери надпись, объявляющую о моей неприкосновенности? Я, например, в аналогичном случае, если меня спросят, присоединюсь к справедливым взглядам тех двух-трех Кандинских, каких рождает мир за одно столетие, потому что другие взгляды мне не подходят. А погромы оставлю прочим — если, конечно, буду не в силах их остановить.
То, что я тоже оказываюсь жертвой антисемитского движения, Вы рассматриваете как прискорбный частный случай. Но почему люди не считают прискорбным частным случаем образ плохого еврея, а провозглашают его типичным? В тесном кругу моих послевоенных учеников почти все арийцы так или иначе сумели избежать службы в армии, устроившись на "тепленькие местечки". А вот почти все евреи, напротив, служили в армии и получили ранения. Как тут насчет частного случая?
Мой случай — не частный, вернее, он вовсе не только случай. Наоборот, тут все складывается в одну картину: не встречая уважения на обычной прямой дороге, я вынужден теперь итти дорогой долгой, кружной, через политику. Понятное дело, люди, у которых моя музыка и мои идеи вызывали одну досаду, будут только рады тому, что обнаружился еще способ на какое-то время избавиться от меня. Мой успех в искусстве не особенно меня волнует. Вы это знаете. Но оскорблять себя я не позволю.
Какое я имею отношение к коммунизму? Я не коммунист и никогда им не был. Какое отношение я имею к Сионским мудрецам? Для меня это всего лишь название сказки из "Тысячи и одной ночи" и не означает ничего такого, к чему можно было бы относиться всерьез.
Может, я тоже должен быть знаком с Сионскими мудрецами? Может быть, по-вашему, своими открытиями, знаниями, своим искусством я обязан еврейским интригам в высоких сферах? А Эйнштейн действовал по прямому заданию Сионских мудрецов?
Я не понимаю этого. Ведь все это совершенно не выдерживает серьезной критики. Разве во время войны Вам мало приходилось наблюдать, сколько лжи содержат официальные публикации? Вернее даже сказать, официальные публикации всегда лживы. Наш ум, стремясь сохранять объективность, перестает доверять даже правде. Неужели Вы этого не знали? Или знали, но забыли?
И забыли также, как много зависит от субъективного отношения? Вы разве не замечали, что в мирное время все приходят в ужас из-за железнодорожной катастрофы, в которой погибло четыре человека, а во время войны слышишь о ста тысячах жертв и даже не задумываешься о страданиях, боли, страхе и последствиях. И даже были люди, которые с удовольствием читали о потерях врага, чем больше убитых, тем лучше. Я не пацифист; возражать против войны бессмысленно, все равно что возражать против смерти. И та, и другая неизбежны, и та, и другая от нас практически не зависят. Это способы обновления человеческого рода, придуманы они не нами, а высшими силами.
405
Точно так же и за перемены в устройстве общества, происходящие в настоящее время, нельзя винить какого-то одного индивидуума. Это воля неба, неизбежный процесс. Средние классы слишком сосредоточились на идеальном и утратили способность к борьбе, вот почему нищие, но здоровые обитатели человеческого дна поднимаются на поверхность, чтобы образовать другой средний класс, лучше приспособленный к существованию. Это новые люди, которые будут голодать, но купят хорошую книгу, напечатанную на плохой бумаге. Так суждено и так будет — неужели можно этого не понимать? И всему этому Вы хотите воспрепятствовать? Да еще за происходящее выставить виноватыми евреев? Не понимаю!
Разве все евреи — коммунисты? Вы знаете не хуже меня, что это не так. Я, например, не коммунист, потому что понимаю: на земле слишком мало благ, которых алчут все, на всех не хватит, самое большее — на десятую часть человечества. А что есть в избытке — горе, болезни, скотство, бездарность и тому подобное — и так достается всем. Кроме того я знаю, что субъективное ощущение счастья не зависит от имущества: это загадочное свойство натуры, у одних оно есть, у других нет. А в-третьих, ведь земля наша — юдоль печали, а не место развлечений, то есть, иначе говоря, в намерения Создателя вовсе не входило, чтобы всем было одинаково хорошо, да не так уже это, по-видимому, и важно.
В наши дни достаточно высказать какую-нибудь глупость на научно-журналистском жаргоне, и даже умнейшие люди воспринимают ее как откровение. "Сионские мудрецы", а как же! Самое подходящее выражение для названия кинофильмов, для диссертаций, оперетт, мюзик-холлов, т. е. для любой сферы деятельности в современном интеллектуальном мире.
Евреи, являющиеся дельцами, и ведут себя как дельцы. Если они мешают конкурентам, те на них нападают, но не как на дельцов, а как на евреев. В качестве кого же им тогда защищаться? Я, однако, убежден, что они защищаются просто как дельцы, это только внешне выглядит, будто они защищаются как евреи. Их арийские конкуренты прибегают к точно таким же приемам, только слова используют, может быть, немного другие и их лицемерие, возможно, имеет несколько более привлекательные формы. На конкурентов-христиан еврейские дельцы нападают, потому что те — конкуренты, а не потому что христиане; точно так же действуют в бизнесе и арийцы, им тоже важно сокрушить любых конкурентов, и они точно так же готовы объединиться для этой цели и использовать любые аргументы. Сейчас — с позиций расовых, в другие времена — еще с каких-нибудь, уж не знаю, с каких. И с этим готов солидаризироваться Кандинский?!.
Крупные американские банки давали деньги на коммунизм. Они сами этого не отрицают. А знаете, почему? Мистер Форд понимает, что отрицать это — не в их интересах, могут вскрыться кое-какие еще более неприглядные факты. Если бы это было правдой, кто-нибудь уже давно доказал бы, что это ложь.
Все это мы знаем! Уж это-то мы знаем по собственному опыту! Троцкий и Ленин пролили реки крови (без чего, между прочим, не смогла обойтись ни одна из революций в истории), для того чтобы воплотить в жизнь некую теорию, разумеется, ложную, но, как и филантропические идеи прежних революций, исходившую из соображений добра. Дело это да будет проклято, за него еще с кого-то спросится, так как взявшийся за него не имеет права на ошибки. Но станут ли люди лучше и счастливее, если теперь, с тем же фанатизмом
406
и с таким же кровопролитием будут воплощены в жизнь другие теории, хоть и противоположного толка, но столь же неверные (ибо они, конечно, ложные, и только наша вера в них придает им от случая к случаю некое мерцание истинности, достаточное, чтобы нас же самих и обмануть)?
К чему может привести антисемитизм, если не к насилию? Разве трудно это представить себе? Сейчас вы, похоже, согласны с тем, чтобы у евреев были отняты гражданские права. Естественно, так вы легко избавитесь от Эйнштейна, Малера, меня и еще многих. Но в одном можно не сомневаться: никому не удастся истребить тех простых, рядовых членов племени, благодаря чьей выносливости еврейство выстояло и сохранилось на протяжении 20 веков, одно против всего человечества. Ибо эти люди изначально устроены так, чтобы выполнить задачу, возложенную на них Богом: выжить в изгнании не выродившимися и не сломленными и дождаться, когда наступит час избавления.
Антисемиты, в сущности говоря, — это те же суетливые реформаторы, лишенные проницательности и интуиции, что и коммунисты. Выходит, утописты — люди хорошие, а дельцы — плохие?
Я вынужден на этом остановиться, так как от машинки у меня разболелись глаза...
Я сделал вынужденный перерыв на два-три дня и теперь вижу, что допустил серьезную моральную и тактическую ошибку.
Вступил в спор! Отстаивал свою позицию!
Я забыл, что речь идет не о правоте и заблуждении, не о правде или неправде, понимании и слепоте, а о том, на чьей стороне сила. И в таких делах слепы все, ненависть, как и любовь, застит глаза.
Я забыл, что спорить бесполезно, что я все равно не буду услышан, потому что нет желания понять, а есть только желание не слышать, что говорит другой.
Прочтите, если будет охота, то, что я здесь написал; но прошу Вас, не присылайте ответа с возражениями. Не повторяйте моей ошибки. Я хочу удержать Вас от нее и для этого говорю:
Я не пойму Вас. Я не могу Вас понять. Возможно, несколькими днями ранее я еще надеялся, что мои доводы произведут на Вас впечатление. Сегодня я уже в это не верю. Мне кажется чуть ли не унизительным, что я пытался защищаться.
Мне захотелось ответить на Ваше письмо, чтобы показать Вам, что для меня Кандинский, даже в этом новом обличий, по-прежнему существует, и я не утратил к нему уважения, которое испытывал раньше. И если Вы возьмете на себя труд передать моему бывшему другу Кандинскому мой самый сердечный привет, я не удержусь и добавлю следующее:
Мы долгое время не виделись; кто знает, увидимся ли еще когда-нибудь; но если обстоятельства сложатся так, что мы все-таки повстречаемся, будет печально, если мы разминемся, как будто не узнав друг друга. Так что, пожалуйста, передайте мой самый сердечный привет.
Арнольд Шёнберг.
Это длинное письмо требует некоторого комментария. Взгляды Кандинского легко реконструируются из отповеди
407
Шёнберга. Шел лишь 23-й год XX столетия, но великий композитор сумел увидеть будущее. На страницах письма появляется зловещая фигура Гитлера. Варфоломеевская ночь XX в. еще впереди. Она будет называться "Ночь длинных ножей", или "Хрустальная ночь". Гекатомбы трупов, оправданные "Протоколами сионских мудрецов". Знак равенства поставлен между двумя тоталитарными идеями: большевизмом и гитлеризмом. Это тоже прозрение. Сравнение "Протоколов сионских мудрецов" со сказками "Тысячи и одной ночи" — почти точный пересказ мысли одного из критиков 20-х годов по поводу публикации "Протоколов" и тому подобных изданий: «Что такое, например, все эти "Книги Кагала", сочинения Нилуса и его немецкого единомышленника... выдержавшие ряд изданий, как не романы, вроде "Графа Монте-Кристо" с присовокуплением значительной доли злопыхательства? Но ведь им верят; всей этой невероятной фантастике готовы придать (и многие придают) чуть ли не характер документальной достоверности!»258
И последнее замечание. В Израильском музее имеется портрет молодого художника, сына купца из Одессы, который вряд ли прошел бы розенберговскую аттестацию на арийца... И действительно, когда наци пришли к власти в Германии, русский художник эмигрировал во Францию. А в Германии в 1937 г. под эгидой министерства культуры прошла выставка "Entartete Kunst" ("Дегенеративное искусство"), где, естественно, было представлено творчество и Кандинского. Наци догнали художника в Париже. По слабости здоровья он не смог сбежать в Америку, а как германский гражданин должен был пройти ариезацию. Как она прошла — об этом история умалчивает. И, кстати, что было делать Кандинскому с наци, если в своих книгах для объяснений теории абстрактной живописи он часто прибегал к масонской символике: треугольнику и пирамиде?258
Прислушаемся к голосу художника, воспевающего своего друга: "Он уже открыл россыпи новой красоты. Музыка Шёнберга вводит нас в новое царство, где музыкальные переживания являются уже не акустическими, а чисто психологическими. Здесь начинается "музыка будущего"2586.
Возвращаясь к Кандинскому, заметим, что отношения между ним и Шёнбергом были восстановлены. Вряд ли ценой отказа Василия Васильевича от своих взглядов. В свете этого небезынтересно прочитать о еврейском происхождении Кандинского в одной энциклопедии259. Больше нигде никаких упоминаний об этом факте его биографии нет. Если же взять этимологию фамилии "Кандинский", то легко обнаружить
408
ивритские корни: "Кан" — известная фамилия, происходящая от Ааронидов, первосвященников — "коэн"; вторая часть — "дин" — обозначает "суд". На польскую флексию не стоит обращать внимания. В тель-авивской телефонной книге легко обнаружить фамилии с близким правописанием: Кандинов, Кандино и т. п.
Если мы заговорили о дружбе между музыкантом и художником, то такая дружба существовала и между Модестом Петровичем Мусоргским (1839—1881) и Виктором Александровичем Гартманом (1834-1873). Гартман был крещеным евреем, талантливым архитектором и декоратором, получившим звание академика. "Милый Витюшка", так его называл Мусоргский. Гартман преклонялся перед гением композитора и был его незаменимым советчиком. Именно ему мы обязаны сохранением в Борисе Годунове "Сцены у фонтана". Со своей стороны, Мусоргский высоко ценил Гартмана как художника и увековечил в музыке его выразительные рисунки в своих "Картинках с выставки" ("Promenade"), где композитор представляет себя и своего покойного друга прогуливающимися по вернисажу. В тексте, которым Модест Петрович сопроводил свое произведение, есть мистический штрих — латинский текст — de mortuis in lingua mortua ("творческий дух умершего Гартмана ведет меня, взывает к черепам, черепа тихо засветились"). Одна из сценок — № 6 — имеет отношение к еврейству и названа "Samuel Goldenberg und Schmuele" ("Два еврея: богатый и бедный"). "Очень хорош и спор двух евреев, богатого и важного Соломона Гольденберга и бедного, бегущего за ним вприпрыжку, маклера Шлойме. Их музыкальная характеристика: тяжелый лающий, бульдожий голос богатого буржуа и переливчатый, умоляющий дискант бедного Шлоймы необыкновенно выразительны"260. Видеть здесь карикатуру на еврейство не следует. Все в рамках того времени. Вспомним М. Антокольского с двумя статуэтками: "Еврей-скупой" и "Еврей-портной". (Кстати, Гартман был дружен и с Антокольским. Ученик Марка Матвеевича, знаменитый Савва Мамонтов изваял "замечательный" бюст Гартмана.)
Мусоргский был глубоко потрясен ранней смертью друга и в письме к Вл. Стасову писал негодующе: "И зачем живут собаки, кошки... А гибнут Гартманы". А на утешение критика, что мастер остался жить в своих произведениях, Мусоргский отвечал резко: "Да черт с твоею мудростью... Нет и не может быть покоя, нет и не должно быть утешений..."261 Конечно, и Стасов, и Мусоргский преувеличивали художественное значение творчества покойного архитектора и художника. Кроме дружбы, их подкупало и то, что Гартман — еврей по крови —
409
был славянофилом и народником в искусстве, подобно им. На это обратили внимание давно. Впрочем, Гартман не единственный еврей — славянофил; напомним о двух видных русских фольклористах семитского происхождения — Александре Федоровиче Гильфердинге (1831-1872) и Павле Васильевиче Шейне (1826—1900). В память своего друга Модест Петрович написал и сюиту для фортепьяно.
Естественно, в нашу задачу не входит анализировать творчество Модеста Мусоргского. Отметим, что упомянутый в отрицательном контексте у Милашевского композитор и теоретик Артур Лурье в одной из восторженных статей писал, что лишь Мусоргский со своим "Борисом" — единственный, кто противостоит Р. Вагнеру и его школе. Народность ничего общего с национализмом не имеет. Лурье считает, что Мусоргский единственный русский композитор, способный стать в один ряд с выдающимися мыслителями XIX в.: Владимиром Соловьевым, Константином Леонтьевым, Федором Достоевским... И его жуткое юродство — единственная форма самозащиты. И в этом он близок Розанову, Белому, Шестову262.
Совсем немного известно о любви русского композитора к евреям и еврейству, о его жгучем интересе к еврейству, о его проникновении в еврейскую музыкальную стихию. Да, Мусоргский, действительно, не Вагнер. Конечно, в становлении личности композитора сыграл громадную роль Владимир Стасов, с которым Модест Петрович познакомился в 20-летнем возрасте.
В 1863 г. на сцене Мариинского театра была впервые поставлена опера "Юдифь" композитора А.Н. Серова. Сюжет взят из Библии, где рассказывается о героической борьбе маленького народа с могущественной Ассирией. Выше мы видели интерпретацию образа Юдифи у Милашевского.
Александр Николаевич Серов (1820—1871), композитор и выдающийся музыкальный критик, был еврейского происхождения; его мать — дочь сенатора Таблица, крещеного еврея и сподвижника Потемкина. По своим музыкальным пристрастиям Серов был ярым вагнерианцем. С Вагнером его связывали хорошие личные отношения. Существует полуанекдотический рассказ о том, что принимая супругов Серовых в субботу, Вагнер "тактично" заметил, что их приезд заставил его праздновать жидовскую субботу: "Что вы со мной делаете? Я пишу против еврейства, а вы заставляете меня праздновать шабаш"263. "Сверхтактичность", если учесть, что жена Александра Николаевича Валентина Семеновна — одна из первых женщин-композиторов, урожденная Бергман, еврейка. Их сын, Валентин Серов, таким образом, по еврейским законам тоже
410
еврей. С еврейством у Серова были сложные отношения. Он был убежден, что ему не дали преподавать в консерватории, так как не признали за своего. "Меня очень обозлила вот эта синагога, — промолвил он, указывая на соседнее здание (Серов прозвал синагогой консерваторию, так как преподаватели почти все были еврейского происхождения). — Ни одного русского не пригласили..."264 На похоронах Серова присутствовало несколько тысяч человек, и он удостоился титула "замечательного народного таланта", по которому скорбит петербургская интеллигенция. "Казалось, что память о покойном А.Н. Серове глубоко засела в сердцах всех Русских людей и никогда не иссякнет..."265 Но...
"Юдифь" имела большой успех, но ставилась редко — до революции 1917 г. последний раз в 1907 г.
В советское время "Юдифь" была поставлена в 1925 г. (Ленинградский театр оперы и балета), в дальнейшем она была снята с репертуара, поначалу за пропаганду Библии, а впоследствии из-за примитивного антисемитизма. В последний раз она шла на сцене Бурятского оперного театра (Улан-Удэ) в 1964 г.
(Надо сказать, что музыкальная цензура существовала и в царское время. Серову повезло. Другие оказались менее удачливы. Оперу Россини "Моисей" на библейский сюжет переименовывали в России неоднократно. Одно время, весьма непродолжительное, она шла под оригинальным названием, затем была переименована в "Магомета", а затем и это показалось чрезмерным и оперу стали называть "Зора". Есть экспромт, приписываемый Пушкину:
Ныне для России всей
Не пригоден "Моисей";
С разрешенья ж Филарета
Разыграют "Магомета").
Часть музыкальных критиков считали, что Серову удался "восточный колорит". Особо выделяют первый и последние акты, в которых с необыкновенной экспрессией показано состояние осажденных евреев в Ветуле. Мусоргского эта музыка не удовлетворила. По его мнению, характер музыки, пения и всей постановки псевдоисторический и псевдоеврейский. Мотивы, которые исполняет хор, взяты из церковных песнопений католического богослужения. В свое время еврейское богослужение и древнееврейская музыка оказали влияние на церковную. Но в данном случае использование католического канона неправомерно.
411
Свои взгляды на эту проблему Мусоргский изложил в письме к Милию Балакиреву: "...пора уже перестать превращать евреев в христиан и католиков". В этом же письме он критикует композитора Феликса Мендельсона-Бартольди за то, что он в еврейскую историческую оперу "Аталиа" ввел истинно католические мелодии. Впрочем, выговор внуку знаменитого философа выглядит странно. Удивительно, что Мусоргский, 20-летний юноша, до сего времени никогда не живший среди евреев (он родился в Псковской губернии), сумел разобраться в вопросах еврейского национального творчества. В январе 1867 г. он подробно пишет Балакиреву о характере еврейской музыки, без тени насмешки или предвзятости, столь характерной для русской публицистики того времени: "Евреи аж прыгают от воодушевления перед ...песнями своего собственного народа, которые переходят от поколения к поколению. Глаза евреев при этом загораются благородным, идеалистическим огоньком, и мне не раз пришлось быть свидетелем таких сцен. Евреи понимают больше, чем мы, славяне, т. е. русские и чехи, и ценят и лелеют национальные народные песни и именно простые евреи, наши белостокские, луцкие и невельские евреи, которые живут в грязных и бедных домиках своих"266. Откуда это проникновение в еврейскую жизнь? Дело, видимо, в том, что во время маневров Преображенского полка офицеру Мусоргскому пришлось побывать на летних учениях в еврейских местечках, где он наблюдал зажигательные пляски хасидов. Но не только. Его связывала тесная дружба с Мордухаем (Марком Матвеевичем) Антокольским. Не исключено также, что его связь с Владимиром Стасовым, автором многочисленных статей о еврейском искусстве и членом жюри по постройке новой большой синагоги, приводила любознательного музыканта на еврейские праздники в Петербурге.
Самое знаменитое творение в области еврейской музыки Мусоргского — это его композиция для соло и хорового пения "Иисус Навин" ("Стой, солнце!"). Обстоятельства, при которых была создана композиция, описаны неоднократно. Осенью 1874 г. Мусоргский проживал в бедном районе Петербурга, примыкающем к Сенному рынку ("места Достоевского"). В этом же районе в многоэтажных зданиях жило и небольшое еврейское население, имеющее право жительства: отставные николаевские солдаты, ремесленники... Одним из соседей композитора был бедный еврей-портной, в доме которого была молельня. Однажды во время праздника Суккот (Кущей) через открытое окно Мусоргский услышал канторское пение, которое совершенно очаровало его. И тогда он переделал одно из своих прежних сочинений для массового хора ("Боевая
412
песнь ливийцев" из оперы "Саламбо", 1876) и включил свежие мотивы, заимствованные из еврейских молитв. Средняя часть ("Плачут жены Ханаана") была полностью написана заново. Один из музыкальных критиков 1930-х годов определяет это произведение как основанное на народных израильских напевах. Так родилось одно из самых красивых произведений в русском хоральном искусстве и жемчужина в творчестве Мусоргского — кантата "Иисус Навин". Иногда композитор называл эту вещь "Про Иисуса Навина". Позднее сам композитор переделал это произведение в соло для рояля и с неизменным успехом исполнял на концертах. (На полях нот рукою Мусоргского проставлена дата — 2 июля 1877 г.)
Мусоргский неоднократно возвращался к истории создания "Навина" — он всегда говорил об этом с гордостью и воодушевлением. Этот эпизод был воспроизведен в воспоминаниях о Модесте Петровиче и Римским-Корсаковым, и Владимиром Стасовым267. Любопытно и то, что слова к кантате написал сам композитор. Спустя 30 лет слова были переведены на иврит и идиш и изданы с нотами для еврейских почитателей гения композитора. На иврит кантата была переведена великим поэтом Саулом Черниховским, а на идиш театральным деятелем Марком Семеновичем Ривесманом. Кантата исполнялась в 1912 г. в Петербурге "Обществом еврейской народной музыки". "Иисус Навин" посвящен Надежде Николаевне Римской-Корсаковой (урожденной Пургольд).
Издана кантата была уже после смерти Мусоргского в переложении, сделанном для голоса и фортепиано Римским-Корсаковым. На Западе издание вышло в 1909 г. с переводом на английский и французский языки.
Мусоргский добросовестно работал над еврейскими мелодиями, не считая зазорным получать прямые консультации у евреев. В письме своему другу Дмитрию Васильевичу Стасову (брату критика) от 14—15 июня 1877 г. он сообщает: «...пишу еврейский хор "Иисус Навин", если помните — в один из художественных вечеров у Вас, признанный чудесной M-me la baronne Hinzbourg за authentique .... В конце июня представлю 4-ю макабру, а быть может, и "Иисус Навин" к тому времени победит совсем ненавистных ему ананеев...»268. Публикацию письма осуществила дочь Дмитрия Стасова — В. Комарова, которая сделала соответствующий комментарий: «Упоминаемая в последнем письме — "M-me la baronne Hinzbourg" — баронесса Анна Гинцбург, жена известного петербургского банкира и филантропа Горация Осиповича Гинцбурга, приятельница семьи Стасовых и большая красавица, признала за "authentiques", т. е. за истинные древнееврейские мелодии, те темы,
413
которые Мусоргский положил в основу своего хора "Иисус Навин", которые, сколько я помню, он "заиграл" с голоса Антокольского, а также записал, слушая распевавшего во дворе того дома, где жил, еврея-портного»269.
Но это было не единственное произведение Мусоргского на еврейский сюжет. Так, еще в 1863 г. написан им "Царь Саул" ("О, вожди, если выйдет на долю мою"), названный им "Еврейская мелодия для голоса с фортепиано". Вообще-то были варианты авторских наименовании этого опуса: "Песнь Саула", "Песни Саула перед битвой" и "Песнь Саула перед боем". Использован текст Байрона в переводе П.А. Козлова. У Мусоргского был замысел инструментировать для оркестра эту вещь, но, к сожалению, он не успел этого сделать. И это произведение было переведено на французский и немецкий языки. Надо сказать, что Байрона много переводили на русский язык, и среди переводов — "Еврейские мелодии".
Спустя несколько лет, в 1867 г., Мусоргский написал еще две вещи на еврейскую тему. Первым произведением был хор с оркестром и вновь на слова Байрона "Поражение Саннехериба" ("Как стая волков голодных на нас враги набежали".) Вторым — переложение "Песни песней" ("Я — цветок полевой") на слова Льва Мея, Свое произведение Мусоргский окончил 12 июня 1867 г. Обращение к поэту Льву Александровичу Мею (1822—1862) не было случайным. Лев Александрович блистательно переложил на русский язык так называемые "Еврейские песни" из Песни Песней царя Соломона. Лев Александрович был пламенным филосемитом, и его переводы из Гейне — "Иегуда бен Галеви" и особенно стихотворение "Жиды" — в эпоху гонений на евреев были с благодарностью приняты страдающей стороной.
К сожалению, жизнь Мусоргского была коротка. Последние дни он провел в сухопутном госпитале, куда его устроил и где лечил лейб-медик Лев Бернгардович Бертенсон (1850—1929), еврей, принявший лютеранство.
После ранней трагической гибели композитора его друзья сделали все, чтобы создать достойный надгробный памятник. Первым заговорил об этом И.Е. Репин, незадолго до смерти композитора написавший знаменитый портрет Мусоргского в больнице. Весь гонорар за картину, приобретенную П.М. Третьяковым для галереи, был пожертвован на надгробие композитора. Был создан шедевр, до сих пор восхищающий посетителей Александро-Невской лавры. Стасов назвал его "талантливейшим и художественнейшим".
Римский-Корсаков отдал свой гонорар, который следовал ему от музыкального театрального общества. Архитектор Богомолов
414
отказался от всякого вознаграждения за проект памятника. Илья Гинзбург также отказался от вознаграждения за вылепленный в натуральную величину портрет-горельеф Мусоргского, высеченный потом из камня и помещенный вверху надгробия. Василий Васильевич Матэ, лучший русский гравер, отказался от вознаграждения за выгравированный им вид памятника и портрет Мусоргского (первый — офорт, второй — на дереве). Кроме того, посильное участие в создании памятника приняли композиторы Лядов и Глазунов, а также мастера Ботта и Винклер — первый делал работы в камне, второй — в железе.
Самое же оригинальное в памятнике — это нотное изображение музыкальных тем. Впервые это было сделано по совету Владимира Стасова на надгробии М. Глинки. Здесь же, опять-таки по совету Стасова, на решетке памятника Мусоргскому были выкованы из железа ноты. Первая тема (налево от зрителя) есть тема из хора "Иисус Навин":
Веленьем Иеговы
Сокрушить Израиль должен
Аммореев нечестивых... 270
Таким образом, из четырех тем, увековеченных на памятнике великому композитору, одна — еврейская. Выбраны наиболее значительные в музыкальном отношении темы. Вторая и третья взяты из "Бориса Годунова", четвертая принадлежит хору из "Калик перехожих" и содержит ветхозаветные реминисценции в знаменитом тексте:
Ангел Господень миру рек:
Поднимайтесь, тучи грозные!..
Полной противоположностью Модесту Мусоргскому был почти его сверстник П.И. Чайковский (1840—1893), питавший к нему "самую большую, даже несколько злобную антипатию"271. Конечно, демократизм Мусоргского претил Чайковскому. Мусоргский всегда ему казался грубым человеком, обожавшим грязь в искусстве.
Чайковский писал, что Мусоргский "отпетый человек", "по таланту он, может быть, выше всех предыдущих (т. е. кучкистов. — С. Д.), но это натура узкая, лишенная потребности к самоусовершенствованию, слепо уверовавшая в нелепые теории своего кружка и в свою гениальность. Кроме того, это какая-то низменная натура, любящая грубость, неотесанность, шероховатость". В свою очередь Мусоргский называл Петра Ильича "Садык-паша", намекая на польское происхождение "недруга". Имя Садык-паши принял польский авантюрист и
415
однофамилец композитора Чайковский после перехода в мусульманство. (Возможен намек и на "восточные пристрастия".)
Противостояние Чайковского "могучей кучке" достаточно известно, и в нашу задачу не входит анализировать эту проблему. (Интересный диалог произошел между М.О. Цейтлиным и Н.Н. Берберовой о соотношении талантов Мусоргского и Чайковского: оба писали о них романы. «Мой больше вашего! — воскликнул Цейтлин с довольной улыбкой, намекая на величие Мусоргского по сравнению с Чайковским.
— Конечно, больше, — отвечала я, — но с вашим в жизни никаких приключений не приключалось.
— И никаких случаев не случалось, — вторил Михаил Осипович со смехом, — или почти...»272
Можно с уверенностью констатировать, что Чайковский был человеком правых взглядов. В письме от 16 апреля 1883 г. из Парижа Чайковский полностью соглашается с женой железнодорожного магната: "То, что Вы говорите о коммунизме, совершенно верно. Более бессмысленной утопии, чего-нибудь более несогласного с естественными свойствами человеческой натуры, нельзя выдумать. И как, должно быть, скучна и невыносимо бесцветна будет жизнь, когда воцарится (если только воцарится) это имущественное равенство. Ведь жизнь есть борьба за существование, и если допустить, что борьбы этой не будет, то и жизни не будет, а лишь бессмысленное произрастание. Но мне кажется, что до сколько-нибудь серьезного осуществления этих учений еще очень далеко"273.
П.И. Чайковский окончил знаменитое Училище правоведения в Петербурге, оставившее неизгладимый след в его личной судьбе. О нравах этого заведения нелицеприятно рассказал известный юрист Владимир Иванович Танеев, брат композитора Сергея Ивановича Танеева, ученика Чайковского. Символично, что в этих воспоминаниях не нашлось места Петру Ильичу. Странная фигура умолчания274. Человеку правых и антисемитских взглядов, Чайковскому вполне естественно было обратиться за денежным вспомоществованием к всесильному К.П. Победоносцеву. Обер-прокурор Синода ему споспешествовал, рекомендовав лично императору Александру III и выхлопотав безвозмездно субсидию: "У меня решительно нет слов, чтобы выразить Вам чувства бесконечной моей благодарности..." — писал Чайковский Победоносцеву275.
Да, Петр Ильич был патриотом, сродни Победоносцеву: "Неужели прекрасная Венеция... дышит все-таки общею всем западным европейцам ненавистью к России". И далее в духе дневника Достоевского времен русско-турецкой войны
416
1877—1878 гг.: "Когда же кончится, наконец, эта ужасная война? Война, в которой такие относительно ничтожные результаты добыты такой ужасной ценой! А между тем, драться нужно до тех пор, пока в лоск не будет положен враг. Эта война не может кончиться компромиссами и взаимными уступками. Тот или другой должен быть подавлен". Требование войны до победного конца несколько снижает образ композитора, он спохватывается и оговаривает: "Но как совестно требовать такой борьбы до последней крайности, до последней капли крови, когда сам сидишь в уютной, хорошо освещенной комнате, сытый, обеспеченный от непогоды и от физического страдания!"276. Думал ли в этот момент Чайковский о химерах коммунизма и о серости равенства? И опять — ненависть к человеку, укравшему плоды российских побед, и незаметное скольжение в "антиджингоизм", обратную русофобию, аукнувшуюся спустя 100 лет: "Я с большим удовольствием прочел сатиру на Биконсфилда. Как я рад, что назло этому ненавистному еврею англичанам порядочно достается в Афганистане. К сожалению, сегодня в "Gazzetta d’Italia" имеется благоприятное для англичан известие с театра войны"277.
Известие о трагической гибели императора Александра II откликается в нем искренними и пророческими словами: "В такие ужасные минуты всенародного бедствия, при таких позорящих Россию случаях тяжело находиться на чужбине. Хотелось перелететь в Россию, узнать подробности, быть в среде своих, принять участие в сочувственных демонстрациях новому государю и вместе с другими вопить о мщении. Неужели и на этот раз не будет вырвана с корнем отвратительная язва нашей политической жизни? Ужасно подумать, что, быть может, последняя катастрофа еще не эпилог всей этой трагедии"278.
Истинно православный человек, П.И. Чайковский в одном из писем своей корреспондентке выговаривает ей за ее религиозный индифферентизм: "...Вы безвозвратно оторвались от церкви и догматических верований", — и советует ей поразмыслить над своим прегрешением (письмо от 21 ноября 1877 г.)279. Корреспондентка подлаживается под своего протеже. Поначалу объявившая себя поклонницей Писарева и Чернышевского, наивно предлагающая читать Некрасова, она постепенно попадает под влияние сильной личности и подыгрывает гению — на сцене появляются "жидовские цены", копание в генеалогии банкира Опенгейма и т. п. Сам же Чайковский все же чувствовал неблагополучие в своей стране. У него вырываются слова об ужасном времени, переживаемом Россией. Страшно заглядывать в будущее. С одной стороны, растерявшееся правительство, с другой — тысячи молодых людей, без суда ссылаемые туда,
417
"куда ворон костей не заносил". А самое главное — громадная инертность большинства населения. Впрочем, когда побеждает праведный суд (речь идет об оправдании Веры Засулич), он негодует, считая это игрой в либеральничанье. Слово "либерал" — для композитора ругательство. Немного вернемся назад, к князю Суворову. Прочитав воспоминания Валуева в "Русском Вестнике" о его пребывании в Остзейском крае, Чайковский замечает в письме к брату: "Тогда в этом крае царил Суворов, отчаянный дурак на либеральной подкладке. Дух Победоносцева в конце концов все-таки симпатичнее суворовского духа"280.
Может, кому-то покажется предвзятым наше отношению к гению. Но вот что сам гений пишет об этом, выдавая индульгенцию своим будущим биографам и критикам. Рассуждая о лицемерии Н.А. Некрасова, певца народного горя, "защитника слабых и угнетенных", демократа, "негодующего карателя барства" и одновременно сибарита, бросающего на ветер в картежной игре сотни тысяч рублей, и к тому же выжиги, в качестве издателя толстого журнала, умевшего чужими руками жар загребать не хуже Краевского, Петр Ильич пишет: "Очень может быть, что я ошибаюсь, да и, наконец, формулируя свое суждение о том или другом художнике, вовсе не следует иметь в виду его частные обстоятельства. По крайней мере, я нередко слышал, что смешивать в художнике его литературные качества с человеческими есть плохой и несправедливый критический прием. Из этого следует, что я плохой критик, ибо никогда я не могу отделить одну от другой эти две стороны в художнике"281.
У Петра Ильича было свое гнездо, своя "Ясная Поляна", свое "Абрамцево" — село Каменка. Но иногда оно его раздражало. Чем? Ответ мы находим в письме от 3/15 января 1883 г.: "...несмотря на всю мою привязанность к каменским родным, самая Каменка — это лишенное всякой прелести жидовское гнездо, очень мне стала тошна и противна"282. И это не случайно вырвавшаяся фраза. Он постоянно сетует на свою каменскую жизнь, ибо красоты природы не могут соседствовать со смрадом местечка: "Подумайте, милый друг, — ищет он сочувствия у Н.Ф. фон Мекк, — что мы живем там не среди зелени и не на лоне природы, а рядом с жидовскими жилищами, что воздух там всегда отравлен испарениями из местечка и из завода, что под боком у нас центр местечка, с лавками, с шумом и жидовской суетней"283. Историк подскажет, что еврейское местечко Каменка Чигиринского уезда, Киевской губернии получила привилегии от польского короля Августа III в 1756 г. В середине прошлого века оно насчитывало око-
418
ло 1 700 душ; по переписи 1897 г. жителей было 6 746, из коих евреев — 2 193. Родственник Петра Ильича как раз довольно тепло описывает это местечко: широкая главная улица с одноэтажными кирпичными строениями, которые принадлежат евреям, и в них размещены магазины с широчайшим выбором товаров. Конечно, все остальное выглядит малопривлекательно — еврейские лачужки в грязных улочках, синагога и хедер. Местечко как местечко. Но оно вошло в историю по многим причинам — тут и Хмельницкий, и декабристы, и Денис Давыдов, и Пушкин и, конечно, великий композитор. Вопреки письму к фон Мекк, Чайковский любил Каменку. Ибо здесь была история его любимого XVIII в., века Екатерины, и живая связь с боготворимым Пушкиным. И в письмах родственникам он сетовал, что не может часто посещать любимое село — как видно, евреи ему не мешали. Существует убеждение, что в Каменке Чайковский черпал малороссийские мотивы. Но это не так. "...несмотря на широко распространенное мнение о том, что Петр Ильич высоко ценил украинские народные напевы и многое из них взял для своих сочинений, в действительности его постигло большое разочарование. То, что он услышал в Каменке, было лишено оригинальности, а по красоте уступало великорусским песням"284. Понятно, что еще меньше он прислушивался к еврейским мелодиям...
Бытовой антисемитизм соседствовал с нормальными человеческими отношениями, когда Чайковский помогал ближнему. Вот он жалуется фон Мекк на импрессарио, главный порок которого — скрываемое еврейство: "...ко мне приставал и как тень ходил за мной некий г. Дмитрий Фридрих, выдающий себя за русского, а в сущности какой-то еврейский проходимец, концертный агент, преследующий меня своими письмами"285. Или он жалуется фон Мекк на неблагодарность некоего тенора Зильберштейна по отношению к Николаю Рубинштейну, что вполне справедливо, но "как жаль, что единственный тенор в консерватории — личность столь дрянная, как этот жидок!"286
Вместе с тем есть любопытный рассказ о его помощи некоему Бойцу. Это был весьма посредственный тенор, но так как он был "из Евреев ...предполагали у него способности к музыке...". Таковых у него было немного, и он не мог закончить курса консерватории, но Петр Ильич дал ему возможность получить диплом и устроиться на провинциальную сцену. Однако и в провинции он не преуспел и опять явился к Чайковскому, который пытался его устроить в Большой театр. А на замечания директора после прослушивания, что он никуда не годится и зачем Чайковский направил его к нему, полу-
419
чил ответ, чуть ли не со слезами на глазах: "Что же мне было делать? Вы только посмотрите, какой он жалкой..."287
В свете этого не могу не напомнить одного эпизода, связанного с А.С. Сувориным, который на протяжении десятилетий лил грязь на еврейский народ. Но и у него иногда "прорезывалась совесть". Надо заметить, что Суворин был безнравственным человеком. Его юдофобия шла не от сердца и не от разума, а от расчета. Ни капли идейности — и при этом он прекрасно сознавал, что натравливает русскую общественность на ни в чем не повинных людей. Однажды к нему обратились с просьбой добиться права жительства для одного бедного еврея. Он согласился, добавив, что, может быть, это частично загладит его вину перед еврейством...
Но не всегда евреи-певцы были бездарностями. Даже наоборот... В Москве в 1879 г. состоялась премьера оперы "Евгений Онегин", и надо же быть такому стечению обстоятельств, что Ленского "пел некто Медведев, еврей с очень недурным голосом, но еще совершенный новичок и плохо выговаривающий по-русски"288. Этот "некто Медведев" — впоследствии прославленный певец, педагог и организатор музыкальной жизни Михаил Ефимович Медведев, "в девичестве" Меер Хаимович Бернштейн (1858—1925), был еще студентом консерватории, когда вышел на сцену в "Евгении Онегине".
Вполне возможно, что некоторую роль в неприязни Чайковского к еврейству сыграл совершенно комический случай, когда некий петербургский музыкальный критик по фамилии Раппопорт написал так: «Консерваторский композитор г. Чайковский совсем плох. Правда, что его сочинение (кантата) написано в самых неблагоприятных обстоятельствах, по заказу, к данному сроку, на данную тему; но все-таки, если б у него было дарование, то оно где-нибудь порвало бы консерваторские оковы. Чтобы не говорить много о г. Чайковском, скажу только, что гг. Рейнталеры и Фолькманы несказанно бы обрадовались кантате и воскликнули с восторгом: "Нашего полку прибыло"» (Рейнталер и Фолькман считались образцами бездарности. — С. Д.)289. Но и сам Петр Ильич тоже не стеснялся в выражениях, правда не в печати...
Петр Ильич был о себе как о музыканте — и вполне справедливо — чрезвычайно высокого мнения. Нам уже не раз приходилось писать о ревнивом отношении современников, деятелей литературы и искусства, друг к другу. Но даже со скидкой на эту особенность, присущую многим, у Чайковского эта черта принимала болезненные формы, чего он не скрывал, называя свою зависть к успеху других большим самолюбием. Выше мы приводили его слова о Мусоргском. Но вот его вообра-
420
жаемый разговор с Брамсом: «В Вене первым музыкальным тузом считается Брамс. Для того, чтобы упрочить себе положение в венском музыкальном мире, мне, следовательно, нужно идти с визитом к Брамсу. Брамс — знаменитость, я — неизвестность. Между тем, без ложной скромности скажу Вам, что я считаю себя выше Брамса. Что же я ему скажу? Если я честный и правдивый человек, то я ему должен сказать: "Господин Брамс! я считаю Вас очень бездарным, полным претензий, но вполне лишенным творчества человеком. Я Вас ставлю очень невысоко и отношусь к Вам с большим высокомерием..."»290 Далее он отказывается ехать в Париж, ибо его затмевают тамошние композиторы — Лист, Верди, а он искренно убежден в своем превосходстве! (Так было не всегда. Позднее, на гребне своей европейской славы, он, побывав в Гамбурге, назвал Густава Малера гением, а его дирижирование "Тангейзером" — удивительнейшим!)
В этом же письме он откровенно говорит о своем учителе — А. Рубинштейне, "самом крупном виртуозном светиле нашего времени", "первом современном пианисте". Чайковский убежден, что ему при жизни не добиться и десятой доли успеха Рубинштейна. Здесь же он говорит о своей претензии к учителю, хорошо его знавшему, но не желавшему помочь ему, популяризировать его, "протолкнуть" на Запад. Рубинштейн, по словам мнительного Чайковского, всегда корректен и предупредителен к нему, но... но в глубине души Антон Григорьевич его презирает. Ряд исследователей (Л. Баренбойм, С. Мельник) ставят под сомнение это признание Чайковского. Известно, что Рубинштейн неоднократно дирижировал произведениями своего ученика и гордился его успехами. Речь может вестись об обратном. Путь к славе Антона Рубинштейна на Западе шел непросто. Были времена, когда великий пианист не ел по нескольку дней. Так было, например, в Вене. На его просьбу о помощи Ференц Лист ответил, что талант должен самостоятельно пробивать себе дорогу. Этого не пришлось пережить Чайковскому. Можно говорить лишь о трагедии братьев Рубинштейнов. Не в пример Листу, своего лучшего ученика Чайковского Рубинштейн рекомендовал в качестве преподавателя Московской консерватории, т. е. к своему брату. Кстати сказать, основанные Рубинштейнами консерватории — ни петербургская, ни московская — не носят их имен. Такова благодарная память современников и потомков — или цена еврейского происхождения обоих? Громадную роль в популяризации Чайковского в Западной Европе сыграл Николай Рубинштейн, который на Всемирной парижской выставке в 1878 г. дирижировал произведениями Петра Ильича. (2-й фортепианный кон-
421
церт, "Буря", серенада и вальс для скрипки), что, как считают историки, было поворотным пунктом в мировом признании композитора. "На жизненном пути Чайковского встречались люди, сыгравшие большую роль в его артистической карьере. К ним относятся А.Г. и Н.Г. Рубинштейны (в особенности последний, который был строгим судьей сочинений Ч., но вместе с тем и самым энергичным их пропагандистом)"291. В Женеве в 1879 г. Чайковскому попалась газета "Новое время" с дикими нападками на Н.Г. Рубинштейна. Музыкальный издатель Юргенсон был крайне раздражен, и Петр Ильич обратился с письмом к нелюбимому В. Стасову, что тот, как музыкальный критик "Нового времени", "не должен терпеть, чтобы в его газете систематически поносился человек, во всяком случае оказавший русской музыке огромные заслуги"292.
В одном из писем брату Петр Ильич, не стесняясь, оскорбляет Антона Рубинштейна. В этом письме прорывается ненависть и зависть. История уложила славу учителя и ученика на разные полки, но тогда... «Если можешь, то скажи Антону Рубинштейну: "брат велел Вам передать, что Вы сукин сын". Господи, как я этого человека с некоторых пор ненавижу! Он никогда, никогда не относился ко мне иначе, как со снисходительной небрежностью. Никто не оскорблял так моего чувства собственного достоинства, моей справедливой гордости (извини, Толя, за самохвальство) своими способностями, как этот петергофский домовладелец. А теперь еще он лезет с своими паршивыми операми, чтобы мешать мне! Неужели этому глупейшему и надутейшему из смертных мало его заграничной славы! неужели ему недостаточно Берлина, Гамбурга, Вены и т. д., и т. д. Если б не уголовное уложение и XV том, поехал бы в Петергоф и с удовольствием поджег бы его поганую дачу.
Теперь я излил злобу, и стало легче..."293
Из дневника: "Я ужасно боюсь сделаться таким писакой, как, например, Антон Рубинштейн, который считает как бы обязанностью потчевать публику ежедневно новыми творениями. В результате оказалось, что свой огромный талант он разменял на мелкую монету и что большинство его последних произведений суть медные пятаки, а не то чистое золото, которое он мог бы производить, если б писал умереннее"294. Чайковского шокировало поведение Антона Рубинштейна в момент смерти брата: "...мне пришлось... быть постоянным свидетелем странного, непонятного и оскорбляющего мое чувство поведения Антона Рубинштейна по отношению к смерти брата. Не хочу бросать в него камнем, ибо как войти в душу человека?"295 В подробном письме М.Н. Каткову о последних днях Николая Рубинштейна, понятно, отсутствуют инвективы
422
против Антона Рубинштейна, но в откровенном письме брату (с Модестом он был близок, как ни с кем) он писал еще более жестко, чем в дневнике: "При свидании расскажу тебе подробности про мои впечатления про Ант[она] Рубиншт[ейна], которого отныне я уже совершенно законно и основательно имею право презирать. Дрянная и пошлая душонка"296.
Но в общем Петр Ильич относился к учителю хорошо, особенно прилюдно. В 1889 г., в дни чествования 50-летней музыкальной деятельности Рубинштейна в Петербурге, Чайковский дирижировал хором, исполнявшим "Привет Рубинштейну" на слова Я. Полонского. А затем Чайковский дирижировал первым исполнением в России "Вавилонского представления" с хором в 700 человек. Стоит отметить, что Чайковский высоко оценил ораторию. Особенно он выделил "Хор семитов", "весь проникнутый меланхолически-нежным настроением, свойственным мелодиям этого племени. Трогательная, почти жалобная мелодия этого хора, удивительно верно рисующая тоску пришельцев по своей далекой и прекрасной родине, глубоко западает в душу слушателя". Здесь к месту отметить, что совсем юношей он познакомился с А.Н. Серовым и присутствовал на первых репетициях "Юдифи": "Она приводила меня тогда в восторг, и Серов казался мне человеком гениальным"297. (Сам же Петр Ильич был далеко не религиозным композитором. Библия и Евангелие не были для него вдохновляющим началом — я нахожу это не случайным. Правда, есть одно исключение: в 1878 г. он написал литургию св. Иоанна Златоуста — в золотой фонд его наследия она не входит.) Позднее он несколько пересмотрел свое отношение к "Юдифи", но все же считал ее выдающимся произведением. Самого же А. Серова Чайковский не жаловал, не замечая, что вызывающее поведение Александра Николаевича было зеркальным отражением самомнения Чайковского: непризнанность таланта и постоянные кажущиеся и настоящие интриги конкурентов сократили жизнь этим двум столь разным людям. Но подвижническая жизнь композитора Серова вызывала уважение Чайковского: "Вспоминаю, как этот талантливый, очень умный и универсально образованный человек имел слабость никого не признавать, кроме себя, как он завидовал успехам других, как он ненавидел всех, кто пользовался успехом и известностью в его искусстве, как он поддавался часто самым мелким эгоистическим побуждениям. С другой стороны, как хочется ему простить это ради всего, что он перестрадал до тех пор, пока успех не выручил его из нищеты, неизвестности, приниженного положения. И все это он переносил с мужеством и твердостью ради любви к искусству. Он мог бы по ро-
423
ждению, воспитанию и связям сделать блестящую карьеру на службе, но охота к музыке взяла верх. Как больно мне было читать в его письмах его жалобы на то, что в среде семейства он не только не встречал поддержки, одобрения, но насмешки, недоверие, враждебность к его попыткам выйти из торной чиновничьей тропинки на тернистый путь русского артиста. Господи! какая загадка человек, — есть над чем призадуматься!"298 Действительно, человек — это загадка, что в полной мере относится и к Петру Ильичу Чайковскому.
Очерк 6
"ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС" НА ОКРАИНАХ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
КРОВАВЫЙ НАВЕТ
«Многие народы вписали свои имена в тысячелетний мартиролог еврейства, но лишь немногие займут там такое видное — и, конечно, незавидное — место, как народ украинский. С середины 17-го века этот народ в моменты политической смуты исполняет "миссию" истребления еврейства с большим рвением, чем его предшественники в века крестовых походов. Самый последний подвиг его на этом поприще, совершившийся на наших глазах, превзошел по своим размерам все погромы и "резни" былых веков. Миссия Украины в истории еврейства, вероятно, еще не закончена...» Тяжелые и справедливые слова великого историка. И пророчество1.
Прочтем несколько строк Н.И. Костомарова, отнюдь не самого большого почитателя еврейства: "Убийства сопровождались варварскими истязаниями: сдирали с живых кожу, распиливали пополам, забивали до смерти палками, жарили на угольях, обливали кипятком, обматывали голову по переносице тетивою лука, повертывали голову и потом спускали лук, так что у жертвы выскакивали глаза; не было пощады грудным младенцам. Самое ужасное остервенение показывал народ к иудеям: они осуждены были на конечное истребление (курсив мой. — С. Д.), и всякая жалость считалась изменою. Свитки закона были извлекаемы из синагог: казаки плясали на них и пили водку, потом клали на них иудеев и резали без милосердия; тысячи иудейских младенцев были бросаемы в колодцы и засыпаемы землею. По сказанию современников, в Украине их погибло тогда до ста тысяч, не считая тех, которые померли от
425
голода и жажды в лесах, болотах, подземельях, и потонули в воде..."2
Я всегда испытываю неловкость, разговаривая с евреем-украинофилом. Пример тому — в поэме Михаила Светлова "Хлеб" (1927), где жертва погрома прощает погромщику смерть своих детей:
"Извиняюся, Либерзон,
За ошибку свою извиняюсь!
Был я очень уж молодым,
И к тому же довольно пьяным..."
......................................................
И стучит, стучит учащенно
Сердце старого Либерзона.
Эта речь его душу греет,
Словно дружеская услуга...
Извиниться перед евреем —
Значит стать его лучшим другом.
"Я очень доволен!
Я рад чрезвычайно!
Допускаю возможность,
Что погром — случайность,
Что гром убил моих дочерей,
Что вы — по натуре
Почти еврей...
.................................................................
Глухо стучит одинокий маятник...
Игнатий Петрович,
Вы меня понимаете?"
Только ветер и снег за окном,
И зари голубое зарево,
И сидят старики вдвоем,
По-сердечному разговаривая... 3
В последнее время наблюдаются попытки пересмотреть историю Хмельнитчины. "Защитники" украинцев указывают на тенденциозность еврейских хроник и документов, объясняемую, в частности, тем, что их авторы обращались к западным общинам за материальной помощью и потому-де сгущали краски. Действительность была намного лучше... Не вдаваясь в бесполезную полемику, приведем лишь краткое свидетельство нейтрального источника. "Отписка Вяземских воевод с вестями о событиях в Польше, о казацкой войне, о взятии казаками Гомеля" (6 июля 1648 г.): "...Да они ж де (казаки) взяли город Гомель, и в том де городе побили жидов человек с восьмсот, а с женами и детьми больши дву тысечь... Сведения эти
426
доставлены воеводе посадским человеком Федькой Вязниным, собравшим их в Дорогобуже, в Смоленске и в Могилеве"4.
Интересно в связи с нашей темой проследить биографию такого писателя, как Иероним Иеронимович Ясинский (1850-1931).
Человек, родившийся в польско-украинской помещичьей семье, в дворянской усадьбе, со всеми ее лубочными аксессуарами дореформенного времени, студент естественного факультета Киевского университета, увлеченный народничеством и экспериментами в области женской эмансипации, писатель так называемых передовых взглядов, становится на крайне монархические позиции, редактирует такой солидный орган, как "Биржевые ведомости" (1898-1902), публикуется исключительно в консервативной прессе, развлекается писанием скабрезных романов и повестей, занимается мистицизмом и увлекается модернизмом — и так вплоть до 1917 года. Что ж здесь удивительного? Мало ли кто начинал левым, а кончал правым лагерем? Тот же Федор Михайлович, например... Так оно, и не так. Нашего героя, когда ему было уже под 70 и он имел вполне устоявшийся социальный облик, "вдруг" озарил свет Октября (как он деликатно пишет в воспоминаниях, "внезапный большевизм"). И он верой и правдой, в меру своего скромного дарования, служит советской власти. "Грязный, злой старикашка" (по характеристике М. Горького) становится членом ВКП(б)! Это ли не метаморфоза?
Кстати сказать, "дьявольская власть" не всегда отвергала единомышленников Ясинского. Да, она расстреляла М.О. Меньшикова, но из того же монархического и юдофобского лагеря в своей постели, может быть и холодной, но своей, умерли и Д.И. Иловайский, и В.В. Розанов, и В.П. Буренин, и С.А. Нилус, и даже В.К. Саблер — лица с вполне определенной репутацией.
Имеются сведения об известной близости Ясинского к органам, а именно к отделу, курировавшему оккультные дисциплины5. Личность загадочная, колоритная, юродствующая, со странно-азиатской внешностью, склонностью к позерству и легендой о матери-калмычке. Последнее — ложь, как и позирование для картины Владимира Маковского "Вечеринка". Впрочем, находится мемуаристка, которая в общем с симпатией пишет об этом странном человеке6.
Старый хамелеон сотрудничает в советской прессе. Здесь и редактирование в Пролеткульте журналов "Красный огонек" (1918) и "Пламя" (1919), и написание "революционной" трагедии "Последний бой" (1919), где треск пулеметов заглушает здравый смысл, а если нужно родной партии, то он переведет и юношескую поэму Ф. Энгельса "Вечер" (1923). Выходят не-
427
сколько сборников стихотворений с доминантной марксистской фразеологией на исторические темы, названные одним критиком "бездарным стихотворным вздором"; хуже, намного хуже "революционного" творчества, скажем, К. Бальмонта времен первой революции. Короче, мастер на все руки. Обычно из его творчества последнего периода выделяют книгу мемуаров "Роман моей жизни" (1926), как бесспорно имеющую историко-литературное значение. Смеем думать, что и к этой книге следует относиться с большой осторожностью: хитроумный приспособленец и свое прошлое приспосабливает к коммунистическому настоящему. Любопытно, как он задним числом приписывает себе "большевизм", используя свои переводы из Ницше: "Печатал свои стихи, главным образом, переложения философских афоризмов Ницше, придавая его сверхчеловеку облик большевика". И это пишется без тени стыдливости или юмора7. Сейчас любят говорить о связи фашистской идеологии с коммунистической. Осталось только спросить "большевика" и "нациста" Фридриха Ницше, согласен ли он быть их идейным отцом?
Иероним Ясинский написал несколько антисемитских произведений. Что двигало пером писателя, трудно сказать. Может, дух времени. В романе "Юрьева могила" (1896) все подчинено очернению еврейства.
Стоит привести несколько шедевров: "...Шлемка не дурак, но жид, а нет очень умных жидов. Наш брат нравственнее жида, и только потому нам не все удается: а если бы мы наплевали на нравственность, о-е-ей — был бы жидам мат! Мало ли жидов передушил тот же Плугавин"8. Очаровательное эссе о преимуществе безнравственности! Или убежденность автора и его персонажа в особой любви евреев к золоту: «"Золото надо собирать", — печально и с убеждением произнес меламед». Ну и уж, конечно, вера во всемирное еврейское правительство, ставшая к этому времени — к середине 1890-х годов — общим местом, и болтливые евреи, с гордостью говорящие о своих успехах: «"Слыхали вы про еврейский всемирный союз?" — простодушно спросил Нохим». И дальше перечень сильных мира сего — евреев: тут и лорд Биконсфилд, не дающий покоя Федору Михайловичу, и Ротшильд (опять-таки по Достоевскому — "еврейская идея"), и Монтефиори, и барон Гирш, и прочие менее известные имена, но требование у всех одно: "Они утверждают, что не силою мы построим наши дома рядом с домами замечательных европейских государей, а процветающим золотым рогом!"
Собеседник Нохима, помещик Корицкий, подыгрывает "глупому еврею": "Он нам все жидовские секреты выложит. О все-
428
мирном союзе евреи скрывают". — "Глупо скрывать", — ответствует Нохим9. Наконец, задается сакраментальный вопрос: "А человеческую кровь евреи употребляют?" Собственно, весь роман подчинен этой теме: возможности ритуального убийства у евреев. Ясинский хитрит — ясного ответа нет, но он склоняет читателя в сторону такой возможности. Еврейский читатель был потрясен. Максим Белинский (псевдоним Ясинского, взятый по девичьей фамилии матери) считался писателем демократического лагеря, сотрудничал в "Отечественных записках". "Салтыков произвел вас из унтер-офицеров в капитаны, а Гончаров — в полковники", — сказал начинающему писателю А.И. Урусов, имея в виду литературных крестных отцов Ясинского10. Но со временем он меняет свои позиции. Правда, Оскар Грузенберг, специально отозвавшийся в литературной заметке о романе "Юрьева могила", обнаружил зачатки юдофобии и в предыдущих изданиях "блаженного Иеронима": "Жид и клубничка, клубничка и жид — таковы, по преимуществу, его литературные темы"11. При чтении этого романа испытываешь чувство неловкости: иногда кажется, что автор просто дурачит читателя, но нет, это слишком серьезные вопросы, чтобы заниматься шутовством. Конечно, герои этого творения — куклы, носители идей. Но это не значит, что сам автор плохо знает материал. Скажем, тот же самый помещик Корицкий вспоминает о "забавах" своего деда, склеивавшего расплавленной смолой бороды несчастных евреев. "Терпели", — удовлетворенно констатирует рассказчик. Да и автор не скрывает массовой резни, учиненной украинцами. Объяснение — социальный гнет. Естественно, Ясинский злоупотребляет словом "христианство". "С одной стороны, они (евреи) являлись пособниками польских панов в деле религиозного угнетения крестьян, а с другой — экономическими вампирами края"12. Гнет — гнетом, а убийство — убийством: на весах совести они не уравновешиваются. Кстати, это общее слабое место всех защитников "жидотрепания", и наш автор не исключение.
Любимый литературный прием Ясинского — это введение в текст наукообразия. Для этой цели в романе появляется профессор — этнограф и историк Павел Иванович Кленович. Вероятно, в его образе выведен историк Юго-Западного края Владимир Бонифатьевич Антонович (1834—1908) — поляк, принявший православие из-за "горячей любви к украинскому народу", как он объяснил в своей "Исповеди". В "Юрьевой могиле" есть одна ссылка на него. Возможно, имеются у этого героя и другие прототипы, например, два Леонтовича — Федор и Владимир. Федор Иванович (1833—1911) — историк
429
права, сотрудничавший и в еврейской прессе и писавший по еврейскому вопросу ("Что нам делать с еврейским вопросом", 1882). Кое-что из его идей заимствовано Ясинским, в том числе и постулат о том, что еврейская культура идет вразрез с бытом окружающих народов и что равноправие возможно лишь при условии отвержения еврейством своей "своеобразной культуры", на что потребуется много веков. Другой Леонтович — Владимир Николаевич (1866-?), украинский бытописатель. В пользу предположения о том, что именно они прототипы героя романа, говорит и созвучие фамилий. Имеется еще один претендент на эту роль. Ясинский был лично знаком с археологом и историком Адрианом Викторовичем Праховым, исследователям памятников старины на Волыни, в том числе и склепа князей Острожских. Ясинский о его трудах опубликовал статью в "Вестнике Европы" и оставил о нем воспоминания, где указал, что часть драгоценных вещей из склепа князей Острожских застряла в доме уважаемого ученого: "Предметы, описанные им в усыпальнице князей Острожских, заслуживали внимания и являлись, на мой взгляд, скорее всего достоянием государственного музея. Но золотые перстни древней флорентийской работы стала носить Эмилия Львовна, а великолепные серебряные канделябры, в рост человека, застряли в ее гостиной"13. Это та Эмилия Львовна, в которую был влюблен М. Врубель и образ которой он запечатлел в знаменитой "Богоматери".
Герой-профессор на многих страницах объясняет историю ритуального навета, в который он не верит, но все же... На вопрос старого помещика Кондратия Захаровича Корицкого, отрицает ли наука возможность совершения евреями ритуальных убийств, он получает пространный ответ: "Было время, когда у евреев существовали человеческие жертвоприношения. Обрезание представляет собою след древнего кровавого обычая. Во время исхода израильтян из Египта были истреблены первенцы у притеснителей избранного народа. Возможно, что среди евреев есть последователи фанатической старины — какая-нибудь секта вроде нашей хлыстовщины, имеющая отдаленную связь с жидовством, которое в форме антитринитарианства одно время сильно волновало южную Россию и Польшу. Но это только гипотеза. Как-то невольно цепенеет язык, когда поднимается вопрос об употреблении евреями человеческой крови. Дышит чем-то средневековым и варварским от таких разговоров. Мы вооружаемся против всех ученых, которые не только тенденциозно, а совершенно беспристрастно решились бы приподнять завесу с тайн еврейского быта и еврейских религиозных воззрений. Мы бессознательно помогаем еврейству
430
преследовать его врагов, причисляя к ним нередко и наших собственных друзей. Лично я, например, не верю в то, что евреи употребляют христианскую кровь. Но я помню один разговор свой с покойным Николаем Николаевичем Костомаровым. Он находил, что есть много исторических фактов, и даже почти современных нам, которые нельзя опровергнуть"14. Собственно, профессор, сообщая, что он не верит в кровавый навет, свои же собственные слова тут же дезавуирует, ссылаясь на нашего старого знакомого Костомарова (который, как мы помним, на эту тему, по свидетельству писателя Д.Л. Мордовцева, не любил говорить). Профессор начинает приводить "невыгодные факты", начиная от седой старины, когда существовала общая уверенность в питье крови младенцев и вплоть до новейших времен. Павел Иванович указывает на обвинение евреев в распинании детей еще в V в. в Сирии. Затем идет Прага XI в., когда шесть евреев были зашиты в мешки и утоплены за "иглоукалывание" младенцев. Перечислить все процессы ученый не в состоянии, он сообщает, что их были десятки; останавливается лишь на самых "замечательных". Вроде процесса в Вене в 1420 г., когда за убийство троих детей были сожжены 300 евреев. Кстати, евреи, по словам профессора, не брезговали также девицами и взрослыми. Чтобы усилить эффект, приводится ссылка на уличение крещеными евреями в злодеяниях своих бывших единоверцев. В подтверждение мысли, что в обвинениях против евреев "что-то есть", он отмечает общность в описании совершаемых убийств: исколотое тело, выпущенная кровь и труп, обычно находимый закопанным в лесу. Не обошли кровавые судилища и Польшу, хотя король Сигизмунд оправдал невинно осужденных и вообще, считая обвинения евреев в подобных преступлениях нелепостью, запретил проведение ритуальных процессов. Дело происходило во второй половине XVI в., но через несколько лет сам Сигизмунд казнил евреев за подобные преступления. Профессор неплохо проштудировал книгу Пикульского "Злость жидовская" (или Евангелие антисемитов от Ипполита Лютостанского), отсюда множество фактов из истории Западного края, включая историю младенца Гавриила. Равно и ссылка на Костомарова, приводящего "факт" вытягивания жил из студента Киевской духовной семинарии. Совсем дико выглядит случай в Житомире, уже в новое время, в 1753 г., когда по обвинению в убийстве трехлетнего мальчика были четвертованы евреи после вполне христианских пыток: тела шести из них обмотали смолистой пенькой, сожгли руки, вырезали три ремня из спины и т. д. После раздела Польши, как по мановению волшебной палочки, прекратились обвинения евреев в ритуальных
431
убийствах. Профессор сослался на высочайший указ императора Александра I, запретившего даже принимать подобные дела к дознанию. Но наиболее нашумевшие обвинения в XIX в., напоминает профессор, кончались осуждением евреев. Он рассматривает два дела: в Грузии ("Сурамское дело") 1850 г. и Саратовское дело 1853 г.
Надо отдать должное этнографу Кленовичу, который указал на двурушничество князя Воронцова по Сурамскому делу: с одной стороны, в письме к Мозесу Монтефиори он пытается выглядеть просвещенным европейцем, с другой стороны, убежденный в виновности евреев, отправляет в ссылку не только предполагаемых убийц, но и членов первой медицинской комиссии, которая сделала выводы в пользу евреев. Из письма М. Монтефиоре к Воронцову: "Лондон, 6 марта 1851 г. Его светлости, князю Воронцову... восемь самых ученых евреев... брошены были каждый в отдельную темницу и подверглись пытке, чтоб вынудить у них сознание; вследствие этой пытки двое из них умерли... Я далек от мысли, чтобы приписывать участие в этом деле Вашему благородному и человеколюбивому духу, но глубоко убежден также в невинности моих несчастных единоверцев (как оказалось на деле об ужасном обвинении дамасских евреев, которого полная несостоятельность была доказана до очевидности), и зная также, как легко подобные обвинения находят веру и как заразительно они распространяются, я почтительнейше, но усерднейше прошу Вашу светлость озаботиться, чтоб дело было вполне исследовано, и употребить Вашу высокую власть, чтоб дело приведено было к справедливому окончанию..."
Из ответа кн. Воронцова: "Сэр!... Я должен спешить... чтоб известить Вас о получении Вашего письма и поблагодарить Вас от всего сердца за благосклонные Ваши обо мне отзывы, к тому же я хочу объяснить Вам, что известия Ваши, полученные о Сурамском деле, не совсем точны. Никакая пытка не была и не могла быть употребляема относительно обвиняемых. Долг истины обязывает меня торжественно протестовать против этого обвинения. Пытка не только совершенно противна нашим теперешним законам, но была уничтожена еще при Екатерине, еще прежде, чем она была отменена во Франции Людовиком XVI... Наши законы о судопроизводстве полны снисхождения к обвиняемым... высшая администрация может только ускорить несколько производство. Это было сделано мною в деле сурамских евреев; и хотя я сам никогда не верил особенно в их виновность, но не имел права прерывать ход правосудия... Я продолжал настаивать на его ускорении и теперь меня известили, что никаких законных доказательств ви-
432
новности подсудимых не найдено и потому они оставлены в подозрении. Это решение дало мне право освободить обвиняемых, отдав их на поруки, что и было тотчас мною исполнено..."15
Из письма кн. Михаила Семеновича Воронцова к Михаилу Петровичу Щербинину:
"Санкт-Петербург, 13 декабря 1855 года.
Я очень любопытен знать, как у Вас окончилась история жидов из Сурама, обвиненных в том, что они по суеверию их секты умертвили ребенка... Во время моего двукратного пребывания в Боржоме, я удостоверился в действительности убийства, совершенного евреями; было бы жалко, если бы их оставили в Сураме или в окрестностях только под надзором потому, что кроме их преступления, присутствие их здесь — есть бедствие для крестьян, которые занимают у них деньги и становятся как бы их крепостными"16. И это пишет один из самых просвещенных людей России, в общем покровительствовавший евреям в Новороссии. Характеристика, данная Пушкиным, видимо, не может быть обжалована потомками Его Светлости...
Оппонент почтенного профессора, сын помещика Корицкого, Николай Кондратьевич, человек испытывавший мистическую тягу к еврейству, указывает, что инспирировал ритуальные обвинения против евреев орден иезуитов. И именно то, что после раздела Польши орден был запрещен, способствовало почти полному исчезновению подобных обвинений. Он же ссылается также на то, что и во времена средневековья на стороне евреев выступали лучшие умы Европы, например, Эразм Роттердамский, защищавший Талмуд от костров. Профессор подхватывает мысль своего противника и указывает, что Талмуд почти тысячу лет подвергался преследованию как светских, так и духовных властей, императоры и папы издавали декреты о его уничтожении, пока папа Климент V (начало XIV в.) не потребовал подробного разбора Талмуда, и лишь тогда выяснилось, что никто и никогда из христиан не читал этот "замечательный памятник народной мудрости"17. Именно благодаря папе были созданы кафедры еврейского, халдейского и арабского языков с целью перевести Талмуд на европейские языки. Но перевод не был сделан: ни христианами — из-за трудности текста, ни евреями — им "не было расчета знакомить христиан с Талмудом во всех его подробностях"18. "Беспристрастный эксперт" приводит два мнения: апостата Иоанна (Иосифа) Пфеферкорна (1469 — после 1521) и его
433
главного обличителя Иоанна фон Рейхлина (1455—1522), немецкого гуманиста и гебраиста, который первый ввел преподавание еврейского языка в университетах. Рейхлин считал Талмуд произведением "близких родственников Иисуса Христа". Преследуемый недругами, Рейхлин нашел защиту у крупнейших европейских гуманистов — Эразма Роттердамского, Ульриха фон Гуттена, Сикинтена и курфюрста Фридриха. Будет уместно добавить, что даже Пфеферкорн категорически отрицал наличие у евреев ритуальных убийств и требовал, чтобы это обвинение было снято с евреев официально и окончательно.
Здесь же можно, по крайней мере вкратце, рассмотреть отношение к ритуальным процессам русской православной церкви. К ее чести — ни в одном из нашумевших процессов вплоть до дела Бейлиса Синод никогда не выступал подстрекателем, в отличие, скажем, от католической церкви в Польше. Даже в деле Бейлиса религиозным экспертом выступил ксендз Пранайтис. Тем более интересно, что вопрос о кровавом навете неоднократно разбирался в церковной литературе. Так, в "Киевских епархиальных ведомостях" в погромном 1881 г. была опубликована анонимная заметка, присланная в редакцию из сельского прихода. Правда, надо добавить, что "Киевские епархиальные ведомости" выходили под редакцией профессора Ивана Игнатьевича Малышевского (1828—1897), крупного историка церкви, автора монографии "Евреи в южной Руси и в Киеве в X—XII вв." (1878), вполне научного и честного труда. Малышевский счел своим долгом в примечаниях указать, что "редакция надеется оказать услугу почтенным и самим сельским пастырям, давая видеть, что в их отношениях к низшим членам причта есть нечто такое, что настоятельно требует исправления". Туманность этого замечания вызвана явно цензурными причинами, а понимать его следует в том смысле, что сельские священники обязаны объяснять простому народу, что евреи не приносят человеческих жертв, и соответственно удерживать чернь от обычных пасхальных погромов.
Автор заметки указывает, что в мрачное средневековье в эту легенду верило не только низшее сословие. Бывали времена, когда подстрекателями против евреев выступали владетельные князья и короли, инспирируя крестовые походы и убивая тысячи ни в чем не повинных. Что же касается современности, то "и в настоящее время, по крайней мере в низших классах христианских обществ, эта легенда находит себе полную веру. Несмотря на все старания со стороны лиц, близко знакомых с иудейством, разъяснить эту легенду, доказать ее несовместимость с иудейским вероучением, строго запрещающим
434
употребление крови вообще, особенно же крови человеческой, несмотря на разъяснения следственных комиссий по делам этого рода, возбуждавшимся в разное время против евреев и всегда прекращавшимся по недостатку прямых улик, несмотря на все это христианские народы остаются в убеждении, что евреи питаются кровию их детей. Есть даже на русском языке специальные сочинения, доказывающие, что действительно закалывают в известное время (пред Пасхою) христианских детей и из крови приготовляются пасхальные блюда и проч."19. Объяснение этому факту автор видит в экономической эксплуатации евреями народных масс. Евреи, прозванные пиявками на народном теле, высасывающими все до последней капли крови, воспринимались народным сознанием буквально. Вероятно, сельский священник имел в виду определенный троп, метонимию, ибо дальше говорит: "Нужды нет, что буквально понятая легенда не находила себе оправдания, а напротив, постоянно опровергалась; ее внутренний смысл не только постоянно подтверждался, но и принимал все более и более осязательные и угрожающие формы. Если евреи не высасывают из христиан крови в буквальном смысле, которая им не нужна и противна, то без всякого сомнения, со сказочною алчностью вампиров, они высасывают нечто другое, похожее на кровь, не менее крови яркое и сверкающее и в нынешнем веке не менее драгоценное — христианское золото. Если евреи не трогают христианских детей в собственном смысле, как показывает эта легенда, то наши дети природы, доверчивый простой народ, без сомнения служат жертвами их кровожадности. Таким образом, вся легенда об употреблении евреями христианской крови есть не более как иллюстрация к русскому выражению: кровопийца и живодер. По своему смыслу она имеет ближайшее отношение к ветхозаветной притче (Притч. 30, 15) о пиявице, имевшей две дочери, из которых одну звали давай и другую давай, и никогда не имевшей дочери по имени: возьми"20. Любопытная защита от навета, недалеко ушедшая от юдофобских излияний "Нового времени". Все же мы должны взять в расчет, что эта статья явно была направлена в защиту от погромов. Добавим, что русские кулаки — господа Колупаев и прочие — грабили свой народ не менее, чем евреи. Но русский кулак всегда имеет фамилию; евреи же безлики, они едины в своей страсти к обогащению. Можно возразить, что бессовестная эксплуатация преследовалась и должна быть преследуема законом. И на этот закон вполне справедливо ссылается автор, не замечая, что алчность и бесчестная нажива сурово осуждается Библией, а значит и еврейством: «Есть род, у которого зубы-мечи, и челюсти-ножи, чтобы пожирать бедных на земле
435
и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери: "давай, давай". Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут довольно». (Книга притчей Соломоновых. 30:14, 15)
Другой вопрос, который поднимается в диспутах между этнографом и естествоиспытателем, — это вопрос о социанах (называемых также и "арианами"). Собственно, это вопрос, касающийся перехода христиан в иудаизм. Профессор связывает все течения антитринитариев с приматом в их религиозных представлениях Ветхого Завета. Польша — страна, в свое время, в XII в., приютившая спасшихся альбигойцев. Всевозможные религиозные движения находили в ней почву для своего существования. Перечислять все эти сектантские отпочкования от католицизма довольно трудно: отчет профессора в романе занимает несколько страниц. Для нас важнее следующее: Кленович считает, что часть социан, равно как и других сектантов, переходили в иудаизм. Причем он вынужден признать, что город Раков в Польше, столица социан, становится "Сарматскими Афинами". Они процветают как экономически, так и нравственно. Академия в Ракове опережает свое время на несколько столетий: наряду с общепринятыми науками, в ней преподаются различные ремесла — обязательные дисциплины для студентов! В 1602 г. там училось до тысячи юношей различного вероисповедания; была также устроена типография. В рассказ о социанах, кстати, вкраплена небольшая инвектива против Толстого и Бондарева: "Учение социан, помимо догматической стороны, сводилось к тому, что теперь Лев Толстой считает этикой: социане отрицали суд людской, объявляли недозволенным для своих последователей пользоваться властью и оружием, вести войны и казнить преступников и проповедовали физический труд"21.
Но, увы, огорчается этнограф, ввиду близости социанского догмата к иудейскому монотеизму несчастные социане стали "ожидовляться". Оказывается, евреи в Польше занимались прозелитизмом. Центром еврейской пропаганды становится Киев. Именно из него выехал с миссионерской целью на Русь Схария, основатель секты жидовствующих. То, о чем церковные историки и советские прагматики говорят глухо и сквозь зубы, у Ясинского сказано прямо. Да, не исчезли жидовствующие и в последующее время, они поддерживали связи с литовским еврейством. Писатель устами профессора без обиняков связывает последующих вольнодумцев с жидовствующими и социанами: Матвея Башкина, игумена Артемия, Феодосия Косого, Вассиана, Игнатия. Некоторым удалось бежать от репрессий в Литву. Особенно выделяется среди этой группы Феодосий Косой, признававший единого Бога и десять запо-
436
ведей, отрицавший Троицу, божественность Иисуса, считавший евангелистов и отцов церкви повествователями, отрицавший церковную иерархию, монашество и т. п. Церковные обряды Косой называл идолослужением и детскими комедиями, за иконами признавал в лучшем случае художественную ценность, обычно называя их идолами. Он шел еще дальше, как бы в будущее: храмы предлагал обращать в художественные музеи, больницы, гостиницы, публичные залы для чтения лекций. Отрицал он не только церковную власть, но и светскую. Отсюда неприятие войн, войска, рабов и господ как противоречащих самой идее того, что называется христианством. Призывал он и к социальному равенству, требовал веротерпимости по отношению ко всем конфессиям и т. д.
Эта форма "очищенного жидовства" и социанства быстро распространилась по территории Польши и Литвы. Не имеет смысла пересказывать историю протестантизма в этой стране. Ясинский отметил, что в конце XVI — начале XVII в. на территории Украины произошел значительный рост числа субботников.
Писатель останавливается на любопытной фальсификации — распространении вымышленного письма половца Ивана Смеры, который, согласно легенде, был якобы придворным врачом князя Владимира. Легенда гласит, что Смера был послан в Грецию для исследования вер. В Александрии он нашел совершеннейших христиан и принял их веру. В его отсутствие Владимир крестился по греческому образцу. Смера больше не вернулся на Русь, а послал письмо князю на болгарском языке, выбитое на медной доске. Доска была обнаружена в русской церкви св. Спаса неподалеку от Самбора во второй половине XVI в. В это время киевской митрополией ведал Онисифор Девочка, принадлежащий к тринитариям и под влиянием "медного" письма впавший в "совершеннейшее христианство", но "окончательно с еврейской окраской"22. В своих взглядах митрополит опирался на письмо Смеры, где было сказано, что наступит время, и славянский народ соединится для "похвалы и исповедованья Единого Бога Израилева, а с ними вместе и последний иудейский народ вместе с прочими народами познает учение Христа и получит спасение, потому что покорится воле Бога своего"23. Это уже близко к идеям Вл. Соловьева из "Трех разговоров".
Как бы то ни было, но еврейский рационализм был распространен во многих шляхетских фамилиях, например в семье знаменитого Немирича, во времена гетмана Ивана Выговского. Это уже конец XVII в. Рассказывает профессор и о Саббатае Цви и саббатианстве, сближая это религиозное течение с
437
социанством: "Основной догмат их был такой же, как и у талмудистов: спасется только Израиль, и только Израилю принадлежит мир"24. В следующем веке появляется Франк, учение которого профессор также сближает с социанским движением. Франкисты лишь наружно принимали христианство, но внутренне считали себя богоизбранным народом и тайно праздновали субботу. Далее лектор делает важнейший вывод: общение с евреями, даже поверхностное, приводит к тому, что христиане попадают под их влияние. В действительности же происходило обращение очень незначительного числа христиан в еврейство, а вот среди евреев было огромное количество насильственно крещеных. Многие шляхетские фамилии, точнее семейства малороссийских старшин, своим корнем имели еврейство: Герцики, Марковичи, Нахимовы (Нахименко), Скоропадские (через Герциков), Новицкие, Боруховичи, Модзалевские, Перекрестовы (Перекресты), Яценки и многие другие. Правда, в уста другого персонажа, еврея, вкладываются весьма корявые слова: "Гораздо легче ожидовлять христиан, чем охристианивать нашего упрямого лапсердачного племени". Сам писатель Иероним Ясинский недвусмысленно указывает на возможность своего еврейского происхождения от франкиста, "жидка, принявшего фамилию Ясинского"25. Для красного словца не пожалеешь и родного отца!26
Далее сюжет развивается следующим образом. В руки профессора попадает Евангелие, принадлежащее семейству князей Корицких, предков настоящего хозяина, а также хроника этой семьи, по-видимому, составленная образованным священником, испытывающим сильное влияние социан. Профессор подтверждает подлинность всех фактов, приводимых в рукописи, ибо они проверяются другими историческими документами. Хроника относится к середине XVI в. Замысел всего романа-хроники сводится к рассказу о социанских корнях семейства. Так, князь Ефстафий Корицкий, один из первых магнатов Волыни, примкнул к этому движению. Фамильный герб Корицких свидетельствует об их принадлежности к потомкам Рюриковичей. Начало материального упадка этой семьи как раз связано с кн. Ефстафием, который занимался чернокнижием, но был "светел умом", очень много помогал социанам — искателям истины, " а еще вернее "жидовствующим"27. Сам князь отрицал таинство Св. Троицы, божественность Иисуса и Св. Духа, бессмертие души и т. п. По доносу он попал под суд трибунала и две трети его имения оказались в руках правосудия, оправдавшего его.
Для нас значительный интерес представляет сын Eфcтaфия — князь Юрий. Он воспитывался за границей, где полу-
438
чил блестящее образование; "славился ученостью", пишет хроникер. Его готовили к военной карьере, но он принялся за изучение еврейского языка и кабалистики. Вернувшись на родину, молодой князь сдружился с евреями; его главными советчиками были раввины. Он тайно принял иудаизм и женился на еврейке, хотя до этого был женат на княжне Заславской и имел от нее сына. Хронист отмечает, что князь Юрий чаще бывал в синагоге, которую он богато изукрасил, чем в церкви. Его нетерпимость к официальной религии простерлась до того, что он приказал срубить в храме крест. Это несколько странно для человека, вышедшего из движения, требующего религиозного равноправия, но это противоречие не останавливает писателя. При этом, как принято в аналогичных случаях, повествуется о чуде, происшедшем в момент сокрушения креста. Его отец, прослышав о последнем подвиге сына, скончался от испуга. Сын оплакивал смерть отца по еврейскому обычаю, посыпав голову пеплом. Собрав раввинов в своем доме, он отпраздновал Пасху, скорбя, что иудеи не вполне признают его своим. Далее повествуется о благодеяниях князя Юрия евреям и, наоборот, об обременении народа непосильными податями и работами. Вероятно по доносу, а может быть с целью обогащения, "новые" судьи, которые "сообразили, что можно из тощих стать жирными", нагрянули в дом князя в пятницу "на шабас" в Каменный Брод. Был арестован сам князь и его незаконная жена-еврейка. Откупаться он не стал: князь предпочел мученический венец, стяжав себе равную славу на небесах вместе с Авраамом и Моисеем, к чему его склоняли евреи. На суде Юрий Корицкий вел себя с достоинством, не отрекаясь от своих взглядов. За переход в иудейство он был приговорен к сожжению на костре. Это было в 1550 г., почти одновременно в "Польской Украине и в Великой Польше" сожгли еще несколько шляхтичей, перешедших в иудаизм. Казнь знатных дворян и магнатов всколыхнула Польшу, и сейм в 1552 г. постановил, чтобы впредь обвинения в измене религии не могли быть возбуждаемы ни при каких условиях, дабы не нарушать шляхетскую вольность, а детям казненных было решено вернуть конфискованное. Последнее, впрочем, вряд ли было исполнено28. С этого времени род Корицких стал хиреть. А сын князя Юрия от первого брака Андрей стал палачом еврейского народа. О его жестокостях ходили легенды. Сам Наливайко дал ему прозвище Пила. Итак, отец был мучеником за иудаизм, а его сын стал мучителем евреев.
Соотнесемся со временем — середина XVI в. Да, действительно, 10 июля 1539 г. была обнародована обширная "Королевская грамота Литовской раде о содействии дворянам, от-
439
правленным для сыска в Литве отступников от христианской веры в жидовство и о предании их суду". Король Сигизмунд объявляет всем радам великого княжества Литовского следующее: до сведения короля дошло, что некоторые христиане, проживающие в Кракове и других польских коронных городах, перешли в еврейство и выехали в Литву, где "проживают среди евреев и придерживаются их веры". Далее указ угрожает евреям, принимающим в свою среду новообращенных, и требует от них содействия в поисках скрывшихся бывших христиан. Равно также указано на ряд злоупотреблений при отыскании пропавших — власти занимались вымогательством мзды с еврейских обществ. Спустя недолгое время, 30 декабря 1540 г., воспоследовал новый указ короля, защищающий литовских евреев от возведенной на них клеветы, будто они тайно обрезывают христианских младенцев. Эта королевская грамота интересна и тем, что она аргументирована юридическим расследованием дела. С другой стороны, евреям вменяется в обязанность ни в коем случае не принимать христиан "в свой закон, не обрезывать их, не держать их в домах своих, под угрозою смертной казни и конфискации всего имущества"29.
О связи еврейства и социанства косвенно свидетельствует наказ черниговских дворян послам на Варшавский сейм в 1665 г., где среди прочего сказано: "Страшное негодование возбуждает, если вспомнить, сколько злодеяний совершило безбожное еврейское племя, доказательства чему являются ежедневно, а как за подобные преступления арианская секта, состоявшая большею частью из братии наших, была изгнана, то нечестивые, исповедующие враждебную религию, должны быть по закону изгнаны из страны..."30
Католическая курия начала двойную атаку — и против сторонников Реформации, и против еврейства. Распространение протестанства объяснялось тлетворным влиянием евреев. Приверженцев Симона Будного (крупнейшего деятеля арианства в Литовской Руси XVI в.) церковь прямо называет "полужидами". В 1539 г. была сожжена на костре Екатерина Залешовская, уличенная в "склонности к еврейству". В связи с ее казнью по всей Польше разнесся слух, что "люди веры христианской к закону жидовскому приступили и обрезания сделали"31.
Со времени трагедии, рассказанной Иеронимом Ясинским, прошло без малого полтораста лет. В 1719 г. в городе Вильно был сожжен принявший иудаизм "сын Великого пана Польского", некий Потоцкий, взявший при обрезании имя Авраам бен Авраам (Абрам Абрамович)32.
Это, безусловно, исторический факт, ибо вплоть до революции во второй день Шевуот (Пятидесятницы) виленские ев-
440
реи чтили память Авраама бен Авраама в день годовщины его трагической смерти специальной поминальной молитвой. В день 9 Аба, в месяц Элул и в течение десяти покаянных дней место захоронения его пепла посещается евреями. На его могиле нет памятника, там растет лишь низкорослое дерево33. Единственным источником информации о "благочестивом гере" является анонимная еврейская рукопись. Заинтересовался ее содержанием польский писатель Иосиф-Игнатий Крашевский (1812—1887), занимавшийся еврейской проблемой. (Великий писатель в течение двух с половиной лет в газете "Gazeta Polska" отстаивал свои взгляды, несмотря на злобные упреки в пристрастии к евреям.) Приобрел эту рукопись писатель от анонима, пожелавшего остаться неизвестным и продавшего манускрипт "на вес золота, а может быть и того дороже". При помощи Александра Элленбогена Крашевский перевел ее на польский язык, выпустив несколько мест, касавшихся прямой критики христианства. В русском переводе их пропуск объяснен в духе времени: "...они касались по всему видимому папы и его действий и, вероятно, шокировали чувства католиков"34. История этого гер-цедека, т. е. благочестивого прозелита, вкратце такова. У одного из польских магнатов, графа Потоцкого, был сын, обладавший недюжинными способностями. Он был послан отцом в Париж для усовершенствования в науках. По стечению обстоятельств в то же время там же учился и некий Заремба, из небогатой жмудской шляхты, посланный за границу на средства меценатов из Вильно. (Среди меценатов был друг его отца гетман Тышкевич.) На чужбине земляки сдружились и однажды, прогуливаясь, увидели старого немецкого еврея, сидевшего над книгой. Любознательность толкнула их познакомиться с этим человеком. Он и объяснил им основы иудаизма. При этом старик старался укрепить у молодых людей веру их отцов. Однако юноши, в поисках религиозной истины, решили проверить истинность католической веры и поклялись, если она окажется ложной, принять иудаизм. Потоцкий переезжает в Рим и поступает в духовную академию, где его покровителем оказывается сам папа. Юноша разочаровывается в христианстве и бежит в Голландию, убежище всех преследуемых в то время. Напомним, что социане пустили глубокие корни в Нидерландах, особенно в Лейденском университете, где была большая колония польских студентов-ариан. В Амстердаме печатались главнейшие сочинения социан и оттуда они распространялись по Европе. В Амстердаме Потоцкий принимает иудаизм. Его же приятель Заремба, окончивши курс в Париже, возвращается на родину и, забыв свою клятву, женится на дочери гетмана Тышкевича. При этом богатый
441
Тышкевич сам выступает в роли свата, высоко оценив дарования будущего зятя. Заремба "стал велик между всеми панами. И все дела края зависели от его воли". Процветающий новый Иосиф вспомнил своего друга лишь тогда, когда распространились слухи об исчезновении Потоцкого из Рима. Происходит духовная драма: Заремба с семьей выезжает за границу и поселяется в Кенигсберге. Вот впечатление от немецкой жизни, несколько напоминающее инвективу Фета о Прибалтике: "И понравились им нравы людей прусских, что их сельские жилища красивее жилищ литовских и сельский житель там живет в лучшем доме, чем на Литве пан". Затем семья уезжает в Голландию. Заремба с сыном втайне от жены, покинув ее, принимают иудаизм. Обеспокоенная долгим отсутствием мужа и сына, она ищет их и узнает о поступке мужа. Кстати, в Амстердаме ей преподают урок религиозной толерантности, не прошедший для нее даром. В ужасе от случившегося женщина кричит: "Мой муж стал евреем". И посмеялись над нею люди и сказали ей: "Здесь вольно каждому поступать как ему угодно". Она выказывает необычайную силу духа и после подготовки принимает гиюр. Но даже в этот момент Заремба пытается разорвать связи с женой. Однако силой ума и интеллекта женщина преодолевает недоверие мужа и отправляется вместе с ним в Палестину. С этого момента пан Заремба сходит со страниц хроники.
А Потоцкий между тем переезжает из страны в страну: едет в Германию, в Россию и, наконец, неузнанный возвращается в Литву. Поселился он евреем среди евреев в местечке Илья. Происходит трагедия: отец мальчишки-шалуна, которого за озорство приструнил гер, доносит светским властям о наличии в местечке поляка, перешедшего в еврейство. Гер попадает в узилище, где его признают пропавшим Потоцким. Происходит суд, и несмотря на увещания родных, духовных и светских властей, Потоцкий отказывается возвращаться в лоно католичества. В Вильно, недалеко от Замковой горы, после ужасных пыток, он был сожжен со словами еврейской молитвы на устах. По законам жанра, помилование из Варшавы запаздывает на сутки...
Вероятно, трагическая история польского графа, ставшего гер-цедеком, была известна Ясинскому, который воспользовался рассказом Крашевского. В нашу задачу не входит анализировать влияние польского писателя на творчество Ясинского, но оно очевидно. В том числе — и увлечение мистицизмом. При внимательном анализе текста история, рассказанная Крашевским и не имеющая никаких документальных подтверждений, может рассматриваться не только как апология еврей-
442
ства, но и как реальность. Речь идет о трех польских семьях: Потоцкие, Зарембы, Тышкевичи. Выбраны эти имена не случайно. Конечно, допустимо рассматривать эти фамилии как символы, типа Иванов-русский, Петренко-украинец и т. д. Тем паче что в еврейском идишистском фольклоре граф Потоцкий — имя нарицательное ("Теперь осталось уговорить графа Потоцкого", — говорится в одном анекдоте о сватовстве.). Но не только в этом дело.
Потоцкие — старинный шляхетский род, герба Пилава, впоследствии ставшие графами. Нас интересует один из Потоцких, не граф, а герба Сренява, Вацлав Потоцкий (1621 или около 1623—1696), выдающийся польский поэт, родившийся в арианской семье, как сказано в одной из энциклопедий, принадлежащей к крайнему крылу Реформации. Учился он в школе социанов в Рациборске (неподалеку от Кракова). Долгое время жил за границей и в католичество перешел лишь в 1657 г., под угрозой полного изгнания из Польши и конфискации имущества. Внутренне Потоцкий не изменил своих взглядов. В его произведениях, большинство из которых не были изданы в свое время из-за церковной цензуры, доминирует гуманистический дух — забота о социальной защите крестьян, осуждение войн, преследований иноверцев, моральной деградации шляхты и паразитизма, испорченности и невежества духовенства. Во всяком случае, его близость к социанам несомненна, но, увы, годы жизни не подходят для идентификации этого Потоцкого с образом гер-цедека, да и капитуляция, даже внешняя, перед католичеством находится в противоречии с заданной темой.
Из других Потоцких для нас интересен Леон Потоцкий, русский посол при Неаполитанском дворе, женатый на внучке барона Петра Павловича Шафирова. Интересно и то, что две упомянутые фамилии — Потоцкие и Тышкевичи — были связаны брачными узами: граф Александр Станиславович Потоцкий (1776—1845) был женат на Анне Тышкевич (1776—1867), родственнице короля Станислава-Августа. Анна Тышкевич была, по свидетельству современников, образованнейшей и умнейшей женщиной своего времени. Род Тышкевичей был графский. Семья отличалась интеллигентностью — в ней были археологи, писатели, этнографы. Но назвать конкретно кого-нибудь из этой семьи, причастной к судьбе гер-цедека, затруднительно. Третий герой сказания — Заремба. Зарембы — старый шляхетский род, также много давший польской и русской культуре. Можно лишь утверждать, что арианство (социанство), пустившее глубокие корни в Польше, в первую очередь было движением интеллигенции, т. е. шляхетским по преиму-
443
ществу. Большинство видных семейств было затронуто этим движением и не исключено, что часть их (впрочем, очень незначительная) в поисках религиозной истины примкнула к иудаизму. История гер-цедека и Юрия Корицкого из романа И. Ясинского служит тому подтверждением.
У И. Крашевского все действующие лица этой драмы — люди из высших слоев общества. Спустимся ниже по социальной лестнице: в народной среде происходили истории не менее драматические, чем рассказанные выше. Если мы возьмем за точку отсчета истории гер-цедека 1719 г. (некоторые считают, что дело было в 1749 г., но это совсем маловероятно), то около этого времени за переход из христианства в иудаизм были казнены две женщины. Из следственного дела от 5 марта 1716 г. видно следующее: "Судебным инстигатором г. Дубно привлечены были к ответственности мещанка г. Витебска вдова Марина Давидова Сыровайцова и мещанка м. Мельца девица Марина Войцеховна по обвинению в принятии иудейства. На следствии первая показала, что она дочь витебского попа Охрима, вышла замуж за христианина Давида Сыровайца, с которым жила 10 лет, а после смерти мужа она задумала перейти в иудейство по собственной воле, без уговора с чьей бы стороны, так как она от отца своего — попа слышала, что вера иудейская лучше христианской, причем о переходе ее никто не знал; при переезде из Витебска в Дубно она пользовалась лошадьми от евреев, так как выдавала себя за еврейку; на другой же день по приезде в Дубно она была заключена в тюрьму, так что успела здесь только переночевать. На вопрос о том, не желает ли она опять перейти в христианство, она отвечала, что не желает и что готова погибнуть еврейкой за живого Бога потому, что вера христианская ложна. Допрошенная под пыткой и после 186 ударов она говорила то же.
Марина Войцеховна обвенчалась с евреем и взята была со свадьбы. Она показала, что на родине своей в м. Мельце она служила у какого-то еврея, что переехала в м. Лежайск, где и приняла иудейство по увещанию еврея Постернака и других евреев и евреек. Допрошенная три раза под пыткой, причем ей дано 66 ударов, она показала то же самое; и только после четвертого раза, когда ей дано было еще 40 ударов, она сказала: "Теперь я гнушаюсь еврейской веры, как прежде верила в распятого Христа, так и сейчас готова за него страдать и умереть... Исходя из постановлений общего права и Саксонского зерцала, по которому всякий отщепенец должен быть наказан огнем, суд приговорил вдову Марину Давидову к терзанию тела клещами и к сожжению затем живьем на костре; девицу же Марину Войцеховну — к обезглавлению и сожжению тела ее, как отступницы..."35
444
Рассмотрим еще один роман И.И. Ясинского — "По горячим следам", опубликованный в журнале "Труд" в 1892 г. Следует заметить, что Ясинский этот свой опус не переиздавал. Критика его едва заметила, только оскорбленные евреи кое-где опубликовали негодующие заметки. (С этой точки зрения странным выглядит замечание одного критика не только о "великолепных" образах евреев, созданных знатоком Южной Руси, но и о невозможности определить, "...что это: юдофильство или юдофобство?" Впрочем, далее критик весьма символически утверждает, что и сам автор не знает того, как не знал того Гоголь, изображая своего Янкеля36.)
Весь роман пропитан неиссякаемой ненавистью к еврейству. Но и противостоявшие евреям герои-христиане далеко не идеализированы. Роман начинается с описания жизни богатого еврея Айзика Пеца, служащего на водочном заводе (богатство его нажито неправедным путем: он поджег спирт, застрахованный на большую сумму — у евреев не может быть иных дорог к обогащению), в молодости судимого по обвинению в грабеже. Своим оправданием он обязан присяжному поверенному, который произнес блистательную речь в его защиту. Адвокатура, по Ясинскому, — вещь низменная: отсюда ирония по поводу тонкого знания адвокатами человеческой натуры и необыкновенного проникновения их в порочные души. Адвокат плакал от радости — Пеца выпустили на свободу и "жидки устроили ему овацию, как невинно пострадавшему еврейскому молодому человеку"37. И оканчивается роман традиционно, судом над евреями, обвиненными в ритуальном убийстве. И опять адвокат произносит блестящую защитительную речь, напирая на то, что были оклеветаны честнейшие люди. Присяжные заседатели оправдали всех. Адвокату была устроена бурная овация. "Евреи с гордостью показывали на него пальцами, когда он проезжал... в своем экипаже. Еврейки бросали ему цветы". Между этими двумя оправдательными приговорами почти 200 страниц посвящено возникновению ритуального навета в местечке Несвянцаны. Автор и здесь остается самим собой: никакой ясности нет — было ли убийство крестьянки Татьяны Драйцы убийством на ритуальной почве или уголовным преступлением. Каждый волен выбирать, что ему удобнее. Но Ясинский в общем подводит читателя к основополагающей идее: евреи — это раковая опухоль на теле человечества. А, следовательно, возможность позорного ритуала не исключена.
Одним из свидетелей обвинения выступает пьяница, отставной солдат Николаич, выполняющий роль "шабес-гоя". Его фантазия не имеет границ. Своей сожительнице он рассказывает о том, что еще 30 лет тому назад случайно подглядел, как
445
"жиды" совершали "убиение": «...выходят раввины, выходит народ, все больше и больше, и думаю я: верно неспроста! А между тем вижу, что они этакого прекрасного вьюношу на скамейку бросили, как теленка, раздели и надрезы на нем делают, кровь пущают, кровь пущают и говорят: "кошер, кошер!». И так на протяжении всей книги шельмуются евреи, конечно, устами персонажей — сам же автор прячется неподалеку и лишь подбрасывает новые вариации старого. Да и убийство в высшей степени театрализовано. Угрюмо зловещий фон, в грязной корчме с закопченными стенами, а шинкарка Лейка Хацкелес — страшная Баба-Яга, к тому же — слепая. Глаза ей выжгли "свои же", евреи, чтобы она не могла показать на убийц некоего богатого постояльца. Любил, наверное, Ясинский оперу, прямо описание декорации трактира из "Риголетто". И вот из этой корчмы исчезает прислуга, красавица Татьяна Спиридоновна Драйца, вступившая в связь с Мунькой Гаменсоном, внуком шинкарки Лейки Хацкелес. Мать пропавшей, крестьянка Ефросинья Драйца, показала на следствии, что ее дочь находилась в связи с Мунькой и что ее зарезали, чтобы не допустить принятия православия Мунькой. Накануне исчезновения Татьяны был найден замерзший труп ее отца, Спиридона. Вскрытие показало, что он был в сильном опьянении. Наконец, подо льдом реки было найден труп со связанными руками и ногами. Это было тело пропавшей девицы. Дело начинает обрастать новыми подробностями38.
Самый "порядочный еврей", Соломон Соломонович (?!) Калман — бывший доктор медицины, за злоупотребление некоторыми запрещенными медицинскими средствами потерявший диплом. Тоже прекрасный вариант — еврей, "убийца в белом халате". Еврей ли? Дело в том, что совершенно очевидно одно: писатель знал еврейскую жизнь весьма отдаленно, в противном случае уж никак не удвоил бы имя в отчестве. У евреев категорически не принято называть сына именем отца. Исключение может быть только в том случае, если ребенок родился после смерти отца. Случай, естественно, достаточно редкий. Соломон Соломонович — управляющий спиртного завода, где, конечно же, обманывает государство (еврей не может быть честным, даже если он обаятелен внешне).
Антисемитская пропаганда может вестись по-разному. Возьмем вопрос о равноправии евреев. Можно вложить в уста "симпатичного" персонажа утверждение, что евреям не нужно равноправие. Можно требовать этого права, ведь евреи являются "полезными" гражданами: без них, например, погибла бы торговля в Западном крае. "Зачем евреям права?" — насмешливо восклицает представитель "избранного народа". И
446
объясняет неразумному оппоненту, что ограничение евреев в правах лишь стимулирует их инициативу: приходится лучше всех учиться, чтобы получать дипломы, высшее образование. И вообще в столицах должны жить избранные, ибо столицы — мозг страны, а ничтожества должны коптеть в провинции. Черта оседлости прозрачна, и наши соплеменники без всякого труда преодолевают ее. И это говорится в 1892 г., после массового выселения евреев из Москвы!
Если вложить подобные высказывания в уста русского персонажа, то совершенно закономерно обвинение в антисемитизме. У Ясинского же болтливый еврей толкует неразумным "гоям" о паразитизме своей нации: "...еврейство это такая паразитическая масса, что она не может даже притвориться рабочею. Ремесло для еврея — это египетская казнь; и он стонет и требует прав паразита"39. Здесь же "мудрый" Соломон вполне в духе Брафмана объясняет роль Кагала, вновь и вновь подчеркивая, что евреи — это государство в государстве. И эти инвективы мало чем отличаются от мыслей из "Дневника писателя" Ф.М. Достоевского. Презрение к "гоям" со стороны евреев очевидно: "Белорусы ужасные негодяи", — заявляет тот же самый персонаж. И по воле писателя тот же Калман оказывается замешанным в деле об убийстве белорусской крестьянки.
Соломон Соломонович по капле выдавливает из себя, нет-нет, не раба, а "жидовство", "пархатость". Кстати, оскорбляющие евреев слова использованы так часто, что их невозможно все привести: на 200 страницах текста этих слов не менее 500! Не забудем, что речь идет не о какой-то мадам Шабельской, а о почтенном литераторе. А как, например, бороться с собственным культурным наследием? Очень просто: "...единственное, что он преследовал в квартире и изгонял, было жидовство: в его библиотеке не имелось ни одной еврейской книги, он совсем не выписывал еврейских газет и прислугу держал русскую". Был он сорокалетний холостяк, и для полноты картины ему придается любовница-полька. Панна Жозефина глупа, как пробка, и боится своего сожителя: "Чего-то я боюсь древнего Израиля", — восклицает девица. Чтобы совсем запугать ее, Соломон рисует ей будущее в духе Лютостанского: "Я положу вас в бочку с гвоздями и велю жидкам катать по двору, пока у вас не останется ни одной капли крови..." Но этого мало, д-р Калман в присутствии своих друзей-евреев продолжает "шутковать" над глупой сожительницей, объясняя ей, что евреи пьют кровь. Шутит и философствует: "Мы шутим, и вот каким образом делаются легенды о нашем каннибальстве. Это здоровый юмор, который свойственен нашей расе, породил
447
чудовищные слухи. Вы знаете, господа, что я сам начинал верить, что есть еврейская секта, употребляющая кровь"40.
Разговор в гостиной бывшего доктора носит не вполне нормальный характер — от кровавого навета к похабщине и рассказам идиотских еврейских анекдотов с коверканьем русского языка, в духе зубоскальных журналов, например "Будильника" (сотрудником которого Ясинский начинал свою карьеру) и "Стрекозы".
Между тем дело Татьяны Драйц ведется своим чередом и следователь по фамилии Розмалинский мечтает о быстрой карьере. Какой? Разоблачить всесветный заговор евреев. Его фантазии заимствованы из юдофобских книг и газет, вроде "Нового времени": "Стан его заселен евреями; евреи находятся в постоянных сношениях с громадным союзом, о котором он читал в газетах и средоточие которого находится в Париже. Еврейский союз занят тем, чтобы низвергнуть общественный и государственный порядок, заменив его неверием, коммунизмом и безначалием. Прежде всего евреи хотят везде ввести в обращение фальшивые денежные знаки, чтоб окончательно подорвать кредит... Проклятые жиды!.."41. Кажется, мы читаем конспект "Протоколов сионских мудрецов". В этом отрывке есть все: мировой союз с центром в Париже, ниспровержение существующего строя и замена его атеизмом и коммунизмом. Денежная реформа. Все это компоненты пресловутых "Протоколов". Существует новейшее мнение, что "Протоколы сионских мудрецов" были созданы в начале XX в. (1903 г.), вместо предлагаемой ранее даты — середины 90-х годов прошлого века. Инвектива Ясинского вновь возвращает нас к старой версии.
Волею обстоятельств Соломон Соломонович узнает об убийстве евреями Татьяны. Как сказано, убийство было спровоцировано тем, что сын хозяйки, некий Мунька, влюбившись в белорусскую девицу, готов был принять ради нее православие. И о чем думает в этот момент Калман? А вот о чем: "Хладнокровие покинуло его, злость разбирала при мысли о дикой дикости, мучила неизвестность, и он сердился на жидов, накликающих своими глупыми преступлениями несчастья на образованное еврейство. За какого-нибудь подлого Юдку Шапочника должен отвечать Соломон Калман"42. Бывший доктор доводит до сведения своих знакомых о преступлении, совершенном евреями, с поразительной откровенностью: "До жидовской пасхи еще далеко, а уж мои единоверцы пустили кровь какой-то Татьяне. Я до сих пор думал, что они приносят в жертву только младенцев..."43 На недоуменные вопросы о правдоподобности случившегося доктор, по воле Ясинского,
448
еще больше запутывает ситуацию: на сцену выходит круговая порука и неумолимость еврейства по отношению к своим собратьям: "В чем доля правды? В том, что зарезана девушка из мести, или в том, что она понадобилась для еврейского Молоха? Несмотря на мое желание поговорить на эту занимательную тему, я должен повесить на свой рот замок молчания. И без того, всякий из моих единоплеменников может уничтожить меня по требованию обстоятельств".
Попутно же он излагает теорию сословного неравенства среди евреев. Это действительно интересно как исторический экскурс, но не более того. Калман понимает сложное положение выкрестов в русском обществе: "По происхождению я плебей. Да, как ни странно, но жидовство имеет свою аристократию и демократию. С сословной жидовской точки зрения, Айзик Пец считает меня четвероногим скотом, потому что он морейне — патриций, а я амгаарец — сволочь, несмотря на мое образование и на презрение, которое я питаю к Айзику. Вы станете смеяться? Может быть, вы думаете, что я шучу? Но по основному еврейскому закону (какому? — С. Д.) я не могу быть посвящен ни в какую тайну, и талмуд позволяет разорвать меня как рыбу. Я гад, и не мог бы жениться на дочери Пеца или, может быть, Юдки Шапочника. Темное и проклятое племя!" Сила самоненависти у д-ра Калмана велика, такое существует не только у евреев. Но дело не в этом, а в диком невежестве писателя Ясинского. Откуда он все это выкопал? У еврейства, действительно, есть аристократия, но только одна: аристократия духа. Все остальное ложь. Достаточно вспомнить судьбу великого Гилеля! Но на самом деле у любого народа есть величие духа одних и низменность побуждений других. Ясинский сам выбрал свой стан.
Откуда у евреев плебеи? Задолго до Артура Кестлера мудрый и всезнающий Соломон Ясинского объясняет, не замечая противоречия в своих словах и продолжая самобичевание: "...я действительно бесчисленными нитями сопряжен с жидовством, когда я в себе самом сознаю жида; кроме человека, я еще жид! Очень возможно, что мои бесконечно отдаленные предки не были жидами: каких-нибудь торков или хазар раввины обратили в иудейство, и произошли амгаарецы. Но с тех пор израильская кровь сделала свое дело (выше он говорил о невозможности "смешанных" браков, но забыл об этом. — С. Д.)". Правда, не все в окружении Калмана ощущают оскорбительный смысл слова "жид". Бывший доктор вопрошает своего приятеля: "Скажите, пожалуйста... что вы испытываете, когда вас называют жидом? ...Вас не коробит при этом?" Ответ хуже вопроса — приятель, заливаясь смехом, говорит: "Нет, вы, как
449
всегда, невозможны! Бездна вашего юмора неистощима! Я ничего не испытываю"44.
Но продолжим. Сочувствующие знакомые и друзья Соломона Соломоновича предлагают ему выход — принятие православия, и вот тут-то доктор отказывается и объясняет свой отказ: «Православие все равно не вырвет меня из когтей иудейства... Я достаточно хорошо понимаю, как скверно звучит слово: выкрест. Интеллигентные жиды отшатнутся от меня, а русские люди по-прежнему будут шептать у меня за спиной "парх"... Я одинок, как Вечный Жид»45.
Бывшая подруга Соломона Соломоновича, культурная русская девушка, развивает тему Агасфера: "Когда-то мне нравилось именно то, что он жид. Его жидовство, несчастье... мне было его жаль! ...В судьбе евреев есть что-то трогательное. Они дали миру все лучшее; все идеалы, все человеческое родилось вместе с этим народом; они сокрушили языческую красоту, и Иерусалим стал сердцем вселенной. Если б не было Голгофы, как было бы пусто! Как жалки все философы в сравнении с кроткими учениями лучших евреев". Не правда ли, прекрасные слова? Но не будем спешить; красавица продолжает: "И подумать, что сами они, обогатив всех, остались нищими! Потеряв небеса, которые они отдали нам, они цепляются за жемчуг, за драгоценные камни, за золото. Их гонят из одной страны в другую — из Испании в Германию, из Германии в Польшу, из Польши в Америку. Никто не признает их своими; у них нет отечества. Они обречены на вечные страдания, потому что их всегда будут презирать, пока они останутся самими собою"46.
Детектив с продолжением в духе несравненной Шабельской развивается своим чередом. Схвачен невиновный, собственно, единственный "приличный" еврей среди ужасных монстров, выведенных в романе. (Правда, и русские, и поляки, и белорусы не лучше; отличие одно: христиане не устраивают ритуальных вакханалий.) Зовут его Авраам Зореб, он содержал почту (т. е. был балагула), поддерживая сообщение между двумя местечками: Несвянцанами и Подлесным, кроме того, он приходится дальним родственником Соломону Соломоновичу. Подрабатывал старик тем, что был бадханом на еврейских свадьбах. Ясинский объясняет: бадхан — это что-то вроде жонглера или фокусника. Дети его умерли, умерла и жена, и старик женился вторично на старой вдове. Его отношения с ученым и богатым родственником были однообразными — обычно он одалживал у него 20—30 рублей и аккуратно отдавал долг. "Совестливый" Соломон Соломонович из-за того, что арестован невиновный, потерял покой. Он пытается взять ста-
450
рика на поруки, но ему его не отдают. Русской подруге он весьма невнятно объясняет свое положение: "...меня могут убить мои братья, если я захочу той честности, без которой нет душевного равновесия. Самое ужасное, что даже вам я не смею сказать всего"47. Попутно писатель Ясинский сводит счеты с писателем Потапенко — в романе он выведен под именем Авдия Алексеевича Онуприенко, бездарностью и негодяем под стать своему двоюродному брату Павлу Онуприенко, который шантажирует несчастного Калмана. "Некоторые несправедливо утверждают, будто отец Авдия Алексеевича происходит из евреев. Дед его был потомственный дворянин, принявший сан дьячка..."48 Ясинский описывает характер Онуприенко, используя биографию Потапенко49. Павел Онуприенко мстит "архижиду", Соломону Калману, донеся на него, будто он причастен к убийству крестьянки, при этом Павел Онуприенко вынужден сознаться следователю, что брал взятки с евреев, стремящихся предотвратить донос. И на показаниях свидетеля обвинения отставного солдата Николаича, пьяницы, шабес-гоя и мерзкого жулика ("юмористический подлец", так называл его Калман) строится доказательство ритуального процесса. Кажется, что писатель Ясинский занимает объективную позицию, но это не так. Смысл вовлечения негодяев в дело прозрачен: разоблачение тайны сопряжено с трудностями, а осведомители не всегда чисты на руку, но от этого истина не тускнеет. Нечто подобное в будущем использовал Сергей Нилус, объясняя получение "Протоколов" из неведомого источника.
Доктор Соломон Калман допускает возможность совершения преступления, высказывая догадку, что, "...быть может, Айзик Пец страшный негодяй, быть может, он каннибал... Как медик, я знаю, что бывают извращенные наклонности, бывает некрофилия"50. То, что высказывает врач-профессионал, может являться важнейшим аргументом в опровержении мифа о кровавом навете. Выскажу мысль, что какая бы несовершенная полицейская служба ни была в средневековье, все же у нее были веские причины воздерживаться от огульных обвинений. Особенно это видно по средневековому ритуальному процессу в Тренто, когда папский престол категорически был против обвинения: имелись несомненные доказательства сексуального мотива преступления. Еврейская рукопись того времени недвусмысленно указывает на педофилию местного епископа.
Несчастный врач взывает к здравому смыслу, однако это глас вопиющего в пустыне: "Но кладя на одну чашку весов Айзика Пеца, а на другую Павла Онуприенко, я всегда скажу, что скорее можно поверить Айзику Пецу, чем господину Ону-
451
приенко. Я считаю его донос недобросовестным. Мне очень хотелось бы, чтобы и вы посмотрели на него теми же глазами"51.
И далее: «...если бы я вдруг учинил вам признание, что, мол, так и так, господин судебный следователь, я жид и по нашей жидовской вере занимаюсь христианским кровопролитием, как выражается Онуприенко, т. е. пью каждый день по маленькой рюмочке младенческой и даже девичьей крови, перед завтраком и перед обедом, то что бы вы мне сказали? Вы бы, конечно, сказали: "Пошел вон, сумасшедший!" Вы бы не поверили такому признанию... Я не лицо, обличенное официальной властью, но, по Божьему попущению, доктор медицины, известный в уезде человек, автор двух-трех ученых брошюр, управляющий майоратом, а между тем должен защищаться от странных обвинений только потому, что они не исходят от меня самого. Скажи я сам, что я душил Татьяну Драйцу, найдут, что это глупая шутка, и будут совершенно правы, а когда о том же говорят другие, я почему-то обязан представить доказательства своей невиновности. У меня нет доказательств ни виновности, ни невиновности моей»52.
Нейтральный читатель, прочтя эту филиппику, может подумать о беспристрастности писателя, но будьте покойны — он продолжает дурачить вас. И дотошный следователь говорит Калману, что, несмотря на все свои заверения об удаленности от еврейства, доктор "не чужд племенных симпатий". И абсолютно невинный человек должен попасть в узилище. И вот тут-то антисемит Ясинский берет реванш за здравый смысл предыдущей речи Калмана. Доктор "раскалывается", но исповедь его отнюдь не такая, какую ожидает утомленный читатель. Сейчас последуют проклятия своему народу. Он называет себя отщепенцем, дорого готовым дать, только бы не быть евреем. "Я никогда не пользовался привилегиями (? — С. Д.) жида, всю жизнь принадлежность к жидовству мне приносила вред. Ненавижу! Так можно ненавидеть только проказу или другую несносную болезнь, которая составляет часть твоего организма и, однако, не внушает тебе самому гадливое чувство... Когда впервые, еще крошке-мальчику, отец объяснял мне, что я амгаарец, еврейский плебей, ничтожная еврейская сволочь, на которую каждый шинкарь может наступить ногой и растереть, как мокрицу, я дал себе слово выбиться из гнусного положения и завоевать уважение честных людей, достигнув почестей, славы и богатства книжной премудростью, — конечно, только выйдя из еврейства! Я наплевал на талмуд, на еврейскую обрядность... В гимназии не было более усердного ученика. Я боролся с нищетой, с насмешками товарищей и учителей. Страшных трудов стоило мне отделаться от жидов-
452
ского акцента, по целым часам я просиживал перед кусочком зеркальца, преследуя в своей физиономии семитические черточки... В университете я был первым студентом и со скамьи держал экзамен на доктора медицины... Я подумывал о профессорской карьере"53.
В этой исповеди много истинного, кроме "амгаареца", невесть откуда взятого писателем, и некой "жидовской привилегии". Есть смысл в том, что отец объясняет сыну прописную истину: для еврея выбиться в люди — это значит быть первым учеником. Что, впрочем, относится не только к дореволюционной эпохе. Каждый, кто соприкасался с евреями, замечал нередко "остервенение" в учебе, проклятая процентная норма подстегивала их. Кто забыл об этом, может убедиться в том, что между отцом Калмана и отцом писателя Бабеля больше общего, чем можно предположить: "Какая нация ...жидки ваши, в них дьявол сидит", — говорит старик-экзаменатор в рассказе Исаака Бабеля "История моей голубятни". Но и этого мало: быть первым недостаточно, чтобы сделать профессорскую карьеру — нужно креститься, и многие крестились — от гебраиста Д.А. Хвольсона до знаменитого физиолога И.Ф. Циона. Для последнего это оказалось ловушкой — не его ли судьбу имел перед глазами Ясинский? А еврейский акцент, изгоняемый как бес из тела, становится idee fixe не только для новообращенного. Известно, сколько карьер погубил этот злосчастный акцент.
Проблема, стоявшая перед Калманом, была сложна: креститься или не креститься — быть или не быть, в известном смысле. И искусственно задавленный еврейский дух бунтует. Христианский Бог нисколько не пленял Соломона Соломоновича, а еврейский Бог ушел далеко. Пустота. И еврейская гордость подсказала: чтобы "не потерять лицо", крещением можно пренебречь, ибо кличка выкреста — это не для его гордой натуры. Перед его глазами вставали русские студенты, с которыми он учился: от них шло презрение к нему, бедному, покупающему подержанные учебники. Ему ставилось в вину и то, что он сидит на первой парте, а он страдал слабостью зрения. Они даже завидовали его частным урокам в богатых еврейских домах.
Теперь будем внимательны — следует важнейшее положение Ясинского, вложенное в уста его персонажа. Собственно, речь идет о еврейском заговоре. Переехав в Петербург, он встретился с космополитической еврейской средой, мечтающей заняться обновлением своего народа, чтобы "поднять его до степени первенствующего класса в государстве"54. Эти евреи шли к своей цели, основывая банковские конторы, открывая бога-
453
тейшие магазины, увеселительные дома, издавали журналы, газеты, книги, "лезли в науку, в литературу, подкупали деньгами и лавровыми венками русских, которые писали в их защиту статьи и целые трактаты, проникали в канцелярии, ухаживали за чиновниками и старались слить юдофильство с либерализмом. Впрочем, им удалось на некоторое время примазаться и к консервативному знамени. (По-видимому, речь идет о "Московских Ведомостях" М.Н. Каткова, издававшихся "на деньги Лазаря Полякова". — С. Д.) Они смело шли в лагерь жидоненавистников, объявляли себя их друзьями, делались для них необходимыми, распинались даже за православие, наполняли собою юдофобские редакции, а затем, став силою, переменяли курс"55. Калман становится, как он выразился, поклонником космополитизма, но не в том, вышеуказанном, смысле, а в узком, религиозном: "Ни русский, ни жид, ни Богу свечка, ни черту кочерга". Свой диплом врача он потерял после серии обличительных статей, направленных против порядков, царивших в больнице, где он работал. Персонал больницы состоял сплошь из евреев и немцев. Ему подготовили полицейскую ловушку, когда он делал нелегальный аборт: он пожалел молоденькую еврейку, совершившую "неосторожный шаг" — все было подстроено, и он потерял право практики. И вот перед разбитым Калманом появляется вариант Мефистофеля, или черта, искушавшего Ивана Карамазова, — представитель еврейства, который, как мы заранее знаем, провозглашает "истину": борьба с еврейством невозможна. Единственный выход из трудного положения Калмана — принять должность управляющего спиртовым заводом в Белоруссии. Там, находясь в тесном контакте с местными евреями, он видит массу преступлений, но он не в силах преодолеть круговой поруки, малейшее неповиновение грозит ему гибелью. И свою речь он заключает пророческими словами: "Судебная власть сильна, но сильнее еврейство"56.
Роман стремительно катится к концу. "Благородный Калман" добровольно уходит из жизни. Но половинчатость его натуры сказывается в его завещании. То, что он оставляет некоторую сумму дочери генерала, у которого он работал и которую любил, понятно; что он оставил большую сумму (30 тыс. рублей!) своей содержанке — тоже понятно. И то, что он единственному "порядочному жиду" Абруму оставляет пару тысяч — тоже не требует пояснений. Но последний пакет передается "морейне", председателю Кагала Пецу. На конверте надпись: "На Онуприенко".
И Кагал приступает к вызволению евреев-убийц. В дело идет все, но главным образом — шантаж и взятка. Примечате-
454
лен разговор посланца Кагала Лейбовича с товарищем прокурора Петром Аркадьевичем Огаревым. Лейбович оказывает на него давление, указав на архаичность ведения дела, что привело уже к одной невинной жертве — самоубийству Соломона Калмана. Он угрожает международным скандалом, который может повредить престижу страны. Тут же он указывает на сбор подписей в защиту евреев, попавших на скамью подсудимых лишь из-за исповедания ими Моисеева закона. Сбор подписей проводится по указанию некоего барона (конечно, речь идет о бароне Гинцбурге), и среди "подписантов" — представители русской интеллигенции, многие местные помещики, купцы и духовенство, как православное, так и католическое. Помощник прокурора Огарев произносит "историческую" фразу: "Можете передать еврейским баронам всего мира, что в России очень трудно склонить судебных чиновников к чему-нибудь предосудительному"57.
Но, конечно же, Кагал оказался сильнее правды. Кривда побеждает и не без участия некоторых "шабес-гоев". В одном из них мы легко узнаем великого русского философа. Без зазрения совести Ясинский шаржирует его образ: «Молодой профессор, русский, стяжавший себе репутацию девственника (в это время на берегах Невы господствовало девственное направление), стал ездить с адресом по столичным гостиным, по литераторам, по художникам, по певцам, по ученым и везде произносил вдохновенные речи за евреев, убеждал любить их, требовал расширения для них торговых прав, а главное, протестовал против "несвянцанских судебных драганад". В погоне за лаврами профессор иным знакомым дарил карточки несвянцанских мучеников. А вернее всего, он на самом деле считал Юдку Шапошника и Пеца мучениками. Легковерие и легкомыслие петербуржца ждут еще своего певца. Как бы то ни было, выпал такой месяц, когда вся русская печать заговорила о несвянцанском деле»58. Так ли уж был поверхностен Владимир Соловьев, как его рисует перо Зоила?
Постепенно выясняется содержание загадочного пакета, отправленного покойным Калманом Пецу с надписью "На Онуприенко". Деньги пошли на убйство шантажиста и доносчика Авдия Онуприенко. Евреи по отношению к нему используют старую, но верную приманку, новоявленную Юдифь.
"Правосудие" торжествует: Калман отмщен. И для читателя финал ожидаемый: Кагал победил, и убийцы Татьяны Драйцы освобождены за недостатком улик.
Роман "По горячим следам" имел некоторый успех, точнее, произвел шум в печати. О правой прессе не приходится говорить. Она, за неимением более или менее солидных имен,
455
должна была бы ссылаться на этот пасквиль. Но в общем роман канул в Лету, подобно роману Н. Вагнера "Темный путь". Напомним, что два мистика — Н.П. Вагнер и И.И. Ясинский — были знакомы и, кажется, взгляды их по еврейскому вопросу совпали. Еврейская пресса отреагировала пространной статьей Ос. Грузенберга с большим опозданием59. Причина понятна: человек испытывает чувство бессилия — невозможно отвечать на каждую клевету юдофоба. Но как бы то ни было, Грузенберг считал, что детище Ясинского займет в списке пасквилей на еврейство "наиболее выдающееся место". Но и этого не произошло — слишком бездарно сочинение. Конечно, это не Всеволод Крестовский, а нечто среднее между Вагнером, Шабельской и Рочестер. Но, с другой стороны: "Прочтя с невольною завистью семьдесят одну главу этого длинного романа, гг. Суворин, Озмидов, Пихно, Буренин и Житель со скорбью должны будут воскликнуть: ах, Иероним, Иероним, — какие мы в сравнении с тобою мальчишки и щенки!" Свой анализ романа Оскар Грузенберг заканчивает нотой о всесилии Мирового Кагала: "...мы не можем не поставить на разрешение крайне интересный, по нашему мнению, вопрос: почему еврейство, сумевшее в деле Татьяны Драйцы привлечь на свою сторону через обольщение и подкуп лучших людей русского общества, не постаралось завербовать в ряды своих защитников и г. Ясинского? Он хотя и не профессор, и не девственник, но все же грешный человек. Для лиц, желающих заняться этим вопросом, мы сообщаем еще несколько дополнительных сведений. Неподкупность литераторов основывается обыкновенно на одной из двух причин: одни из них неподкупны, потому что непродажны; другие непродажны, потому что они ничего не стоят. К какой категории принадлежит г. Ясинский — на это, при знакомстве с его литературного карьерою, можно дать безошибочный ответ"60.
Неподкупность настоящей русской литературы очевидна. Очевидна она была, как мы видели, и для современников Ясинского.
ТУРКЕСТАНСКИЙ ДНЕВНИК
XIX век дал России немало известных военных деятелей. Среди них одно из самых популярных имен — имя Константина Петровича фон Кауфмана. Он родился 19 февраля 1818 г. в семье выходца из Австрии генерал-лейтенанта Петра Федоровича фон Кауфмана. После окончания Главного инженерного
456
училища в Петербурге (где среди его сокурсников были писатели Ф.М. Достоевский и Д.В. Григорович, художник К.А. Трутовский, физиолог И.М. Сеченов, генералы Ф.Ф. Радецкий и Э.И. Тотлебен) молодой поручик в феврале 1839 г. был направлен в Западный инженерный округ, а в 1843 г. переведен на Кавказ, где в то время бушевала война под предводительством Шамиля.
Здесь К.П. Кауфман приобрел первый опыт общения с Востоком и выучил турецкий язык. К началу Крымской, или Восточной, войны 1853—1856 гг. он уже был боевым полковником, несколько раз раненным, награжденным орденами и золотым оружием за храбрость. Неоценимые услуги русской армии оказал Кауфман своими инженерными дарованиями при взятии Карса (одна из немногих побед России в той войне). Исполняя обязанности начальника походного штаба главнокомандующего, он не только обеспечил падение этого крупнейшего бастиона Оттоманской империи на Кавказе, но и выработал условия капитуляции крепости и всей Анатолийской армии противника.
В 1856 г. Кауфмана назначили исправляющим должность начальника штаба Его Императорского Высочества, генерал-инспектора по инженерной части, а затем ему был присвоен первый генеральский чин (генерал-майор). В мае того же года Кауфман стал членом совета Императорской военной академии и конференции Николаевской инженерной академии. Поражение России в Крымской войне создало неотложную проблему защиты юга империи, и Кауфман — один из лучших военных своего времени — блестяще справился с этой задачей, разработав систему укреплений Керченского пролива и реки Южный Буг. Следующее назначение — должность члена комитета по преобразованию заведений военных кантонистов в училища военного ведомства. Это было несколько неожиданным для военного инженера, но здесь, несомненно, определяющую роль сыграла дружба Кауфмана с выдающимся государственным деятелем России 60—70-х годов прошлого века, военным министром, "отцом" военной реформы и активным сторонником всех преобразований в царствование Александра II, Дмитрием Алексеевичем Милютиным (1816-1912)61.
К.П. Кауфман живо интересовался всеми инженерными новинками своего времени. К примеру, ему принадлежит идея оснащения русского флота подводными лодками (он даже с риском для жизни спускался под воду в первом таком сделанном в России корабле), а также использования в военных целях воздухоплавательных аппаратов62.
457
В апреле 1865 г. Кауфман, к этому времени уже генерал-адъютант, сменил на посту генерал-губернатора Северо-Западного края печально известного М.Н. Муравьева, получившего за свои действия по подавлению польского восстания 1861 г. мрачное прозвище "Вешатель". Под верховную власть фактического наместника императора в этом регионе попали Виленская, Ковенская, Гродненская, Витебская и Могилевская губернии; ему же подчинялись и войска Виленского военного округа. На этом посту, который он занимал до октября 1866 г., Кауфман впервые получил возможность отработать методы управления нерусскими территориями Российской империи. В данном случае речь шла о местностях с многонациональным населением. На долю Кауфмана, уже знакомого с этими местами по службе в 40-х годах, выпало проведение в крае крестьянской реформы, и генерал-губернатор старался, где только можно, увеличить земельные наделы и расширить права крестьян63.
Эти аграрные преобразования шли за счет местных польских помещиков, экономическую базу которых стремились подорвать русские власти после восстания. Во всяком случае, предшественник Кауфмана М.Н. Муравьев с похвалой отозвался о деятельности своего преемника: "Скоро надежды поляков рушились. Вновь назначенный начальник края, хотя с немецкой фамилией, но истинно православный и русский, решившись принять на себя тяжкую обузу управления северо-западным краем, дал себе твердый обет не отступать от введенной мною системы действий и во что бы то ни стало водворить в крае русскую народность и православие. Польская и немецкая партия, как в Петербурге, так и на местах, были изумлены, увидев, что действия нового начальника не оправдывают ожиданий, коими они себя льстили"64. Кауфман, однако, не угодил Петербургу и потому, отозванный из Вильны, находился два года как бы не у дел65. Очевидно, причиной отставки была чрезмерная ретивость, с которой Кауфман проводил русификацию края. После снятия Кауфмана с поста генерал-губернатора в Петербург посыпались жалобы на насильственный характер насаждения православия при его правлении.
Можно ли, впрочем, отстранение Кауфмана назвать "опалой"? Скорее это был тактический ход, уступка. Ведь уже в июле 1867 г. император Александр II лично назначил К.П. Кауфмана начальником Туркестанского края с нераздельной гражданской и военной властью и чрезвычайными полномочиями на право объявления войны и заключения мира от имени императора, на условиях, им самим признаваемых достойными.
458
Средняя Азия в ту пору представляла собой конгломерат эмиратов и ханств, и Россия, памятуя трагический исход прошлых экспедиций (гибель отряда А. Бековича-Черкасского, почти полностью вырезанного хивинцами в 1717 г., две экспедиции генерала В.А. Перовского в 1839—1840 гг., повлекшие за собой массовую гибель казаков и солдат), на этот раз приступила к делу с особой тщательностью: в 1858 г. в Афганистан направилась для разведки "научная" экспедиция Н.В. Ханыкова, а в Хиву и Бухару "дипломатическая" миссия Н.П. Игнатьева. Лишь после анализа результатов этих экспедиций русские войска двинулись на восток. В 1864—1865 гг. были взяты Чимкент и Ташкент, после чего армию возглавил К.П. Кауфман. В 1868 г. русская армия под его командованием разгромила бухарские войска на Сарыбулакских высотах, Самарканд был присоединен к России, а на завоеванных территориях образована Самаркандская область, включавшая в себя плодороднейшую Зеравшанскую долину. В 1873 г. Кауфман провел труднейший поход через пустыню против хивинского хана, завершившийся взятием Хивы. Первым актом победителя в покоренном ханстве была отмена рабства и освобождение всех невольников. Помимо прочего, Россия получила от хивинского хана контрибуцию в размере 2 млн. рублей. В следующем предприятии Кауфман разгромил кокандского хана и в феврале 1876 г. создал на захваченной территории Ферганскую область как часть Туркестанского генерал-губернаторства. Все эти завоевания были высоко оценены императором: Кауфман получил звание инженер-генерала, ордена св. Георгия и Белого Орла, а также шпагу с бриллиантами и надписью "За поражение кокандцев". Самое же главное: он получил титул "Туркестанский", который перешел и его потомкам.
Во вверенном ему крае Кауфман провел многочисленные и разнообразные реформы, приведшие в итоге к распаду укоренившихся феодальных структур и к подъему благосостояния населения.
Когда 7 ноября 1867 г. Кауфман въехал в Ташкент, перед ним предстал громадный пустырь без единого деревца, который городом можно было назвать лишь при наличии пылкого воображения. Введение суровых санитарных мер, энергичное строительство, прокладка шоссейных дорог, проведение арыков и посадка деревьев, положивших начало знаменитым ташкентским бульварам, — все это было сделано Кауфманом. Немало было сделано и в области образования и культуры. Кауфман открыл в крае около 60 светских школ, а в Ташкенте и в Верном (ныне Алма-Ата) — мужские и женские гимназии, организовал в Ташкенте публичную библиотеку66. Особое
459
внимание он уделял географическому изучению края: организованные им научные экспедиции сделали Туркестанский край самой исследованной (даже более, чем Европейская часть) областью Российской империи. Кауфман оказал широкую поддержку Чокану Валиханову и первым предложил поставить памятник казахскому путешественнику. На могиле Чокана в Кашгарии в 1881 г. был сооружен монумент67. Спустя 15 лет К.П. Кауфман оставил после себя вполне благоустроенный край — конечно, по колониальным меркам того времени. За заслуги на этом поприще Кауфман был избран почетным членом Императорского географического общества, а крупнейшей вершине Памира, по предложению вице-президента общества, известного путешественника П.П. Семенова-Тянь-Шаньского, было присвоено имя Кауфмана (впоследствии — пик Сталина, затем — пик Победы).
Константин Петрович Кауфман умер 4 мая 1882 г. Утверждают, что дни его сократило запрещение предпринять поход в Индию. "Очень жаль, что меня не пустили в Афганистан, — писал Кауфман. — Я ручаюсь головой, что непременно уничтожил бы англичан"68. Интересно в этом смысле высказывание М.Т. Лорис-Меликова: "На Востоке обаяние России непостижимо высоко. Я сам восточный человек и знаю, что понятие о силе, великодушии, щедрости соединяются с представлением о России, несмотря на наши временные неудачи. И в Индии тоже магараджа Пешавара и других ближайших к нам владений могут примкнуть к нам, если мы проникнем в Индию с враждебными целями. У них такое понятие, что солдат с николаевскими фалдочками принесет им всякие блага. Подложить англичанам жесточайшую свинью мы всегда в состоянии, — но зачем? — мы только разрушим, а своего внести не можем и не умеем"69. До революции этот вопрос "закрыл" генерал М.В. Грулев (кстати, крещеный еврей) в серьезной работе "Соперничество России и Англии в Средней Азии" (СПб., 1909), где камня на камне не оставил от этой химеры, имеющей длинную историю со времен Петра I и Павла. При этом нельзя сказать, что генерал Кауфман жил вне времени: в 1876 г. он подал военному министру докладную, где доказывал общность интересов России и Англии в борьбе с варварским мусульманским миром70.
Кауфман похоронен в ташкентском Спасо-Преображенском соборе. Надгробие генерал-губернатора было сделано по проекту известного скульптора М.О. Микешина. Ему же принадлежит проект памятника Кауфману, установленному спустя 30 лет в Ташкенте71. Естественно, после революции памятник был снесен.
460
Советские историки обычно неоднозначно оценивают деятельность Кауфмана. Действительно, Кауфману удалось без особого кровопролития и жестокости "умиротворить" край и поднять благосостояние всех слоев населения. Еще до революции образ незаурядного генерала привлекал литераторов. Так, в 1886 г. вышел роман Н.Д. Ильина "В новом краю", где Кауфман рисуется в положительном свете. Обращает внимание его разносторонняя образованность, таланты организатора, а также абсолютная честность, справедливость и доступность для "низшего сословия". Он был озабочен поднятием благосостояния края, его волновала страшная нищета киргизов и казахов. Более того, в 20-е годы, когда говорить что-либо положительное о деятельности царской администрации было невозможно, появилась весьма теплая статья о культурной деятельности Константина Петровича и о создании первой публичной библиотеки в Средней Азии. В ней приводится собственноручная запись Кауфмана на полях одного доклада: "Начало публичной библиотеки положено в 1867 г. купленными мною в Петербурге книгами по азиатской литературе, т. е. книгами на разных европейских языках об Азии. Тогда же было обращение мое в разные библиотеки в Петербурге и в Москве; в 1868 г. уже поступили книги от некоторых учреждений. С тех пор можно считать Ташкентскую библиотеку учрежденною"72.
Обладая неограниченной властью, генерал-губернатор умело пользовался ею, но не хотел ни с кем делить свою власть, а кроме того, не желал держать у себя под боком соглядатаев, и потому запретил во вверенном ему крае деятельность как православных миссионеров, так и жандармов73. Вместе с тем Кауфман прошел суровую школу кавказской войны и твердо усвоил себе правила поведения европейцев в отношении азиатских народов. Этим правилам он неотступно следовал даже в самых сложных ситуациях. Тому сохранился яркий пример.
Вскоре после завоевания Зеравшанской области Кауфман получил категорический приказ императора вернуть бухарскому эмиру захваченные территории. Ни минуты не колеблясь, Кауфман, вместо того чтобы исполнять приказ, немедленно выехал в Петербург. При этом он прекрасно знал о том, что рассчитывать ему следует только лишь на поддержку военного министра Д.А. Милютина. В своем дневнике (до сих пор полностью не опубликованном) Кауфман писал: «В сущности я был уже государственным преступником, ослушником моего царя... Неисполнение высочайшего повеления влекло за собою в лучшем случае удаление со службы, а не то разжалование, даже смертную казнь... На аудиенции император поинтересо-
461
вался исполнением приказа, на что я ответил: "Ваше величество, я не исполнил Вашего повеления и исполнить его не могу..." Наступила минута молчания, и в эту минуту на меня смотрел разгневанный царь. Вспоминая эту сцену, мне до сих пор представляется, точно говорил не я, а кто-то другой во мне, мой двойник. "Почему ты так поступил?" — "Ваше величество. Азия — страна своеобразная, она понимает и уважает только силу. Из раз завоеванного ей нельзя уступать ни одной пяди. Ваше великодушное намерение вернуть Самарканд Бухаре Азия объяснит единственно слабостью нашей и боязнью... Малейшая уступка, и нас не только перестанут уважать и бояться, но мы рискуем потерять все, чем завладели раньше, или будем вынуждены все опять брать с бою. Нас там мало, а Англия поможет подняться всему мусульманству против нас в Средней Азии"»74.
Этот случай позволяет четко представить себе позицию генерал-губернатора Туркестана по отношению к покоренным народам. Он отнюдь не открывал чего-либо нового. Один из его предшественников, генерал Г.И. Глазенап (1750-1819), продвинувший границы империи на 500 км вглубь казахских степей, писал, что для мусульман "мир означает робость и слабосилие", "на азиатцев человеколюбие и амнистия не производят ничего доброго: они принимают это как знак слабости и трусость"75. К такому выводу Глазенап пришел после предательского убийства генерала П.Д. Цицианова при капитуляции Баку в 1806 г.
Русские, столкнувшиеся на Кавказе с воинственными мусульманскими племенами, вовсю использовали силу. Кстати, среди кавказских народностей особо выделялись чеченцы. "Злой чечен" — не есть удачный или малоудачный эпитет великого поэта, это синоним мышления человека того времени. Вот что пишет А.И. Полежаев, не самый жестокий человек, сосланный, кстати, на Кавказ: "Кому не известны хищные, неукротимые нравы чеченцев. Кто не знает, что миролюбивейшие меры, принимаемые русским правительством для смирения буйства сих мятежников, никогда не имели полного успеха; закоренелые в правилах разбоя, они всегда одинаковы. Близкая неминуемая опасность успокаивает их на время, после опять то же вероломство, то же убийство в недрах своих благодетелей. Черты безнравственности... относятся, собственно, к этому жалкому народу"76. Из письма начальника штаба Кавказской армии генерала А.П. Карцова управляющему русской миссии в Константинополе от 23 августа 1863 г.: "...пятидесятилетний опыт убедил нас, что никакой мир невозможен с народом, который не имеет правительства и в котором не су-
462
ществует даже понятия о предосудительности воровства и грабежа"77.
В Средней Азии нормой жизни и приобретения средств к существованию кочевников были разбои. Грабеж купеческих караванов и судов, увод в неволю людей был делом обычным. Приведем пример из далекого прошлого, который может вызвать неожиданные ассоциации. Летом 1857 г. туркмены Гасан-Кулинского аула напали на две русские купеческие барки. Груз был похищен, часть экипажа убита, другая — уведена в плен. Начальник Астрабадской морской станции Лихарев предпринял репрессивные меры. Аул был укреплен и его пришлось брать штурмом. 8 ноября 1858 г. на имя министра иностранных дел A.M. Горчакова поступила реляция: "...аул наказан и не существует более... все двести кибиток, составляющие его, сожжены..."78.
К.П. Кауфман стал создателем целой военно-политической школы, из которой вышли такие известные русские военачальники, как А.К. Абрамов, Г.А. Колпаковский, А.Н. Куропаткин, М.Д. Скобелев, В.Н. Троцкий. Один из них, С.А. Носович (впоследствии иркутский губернатор), возглавлявший русское посольство в Бухару в 1870 г., из опыта общения с эмиром и его приближенными вынес те же впечатления, что и Глазенап, и Кауфман: уступки считаются на Востоке признаком слабости. "Ознакомившись несколько с характером бухарских властей, я не ошибусь сказать, что вся наша любезность и уступчивость, делаемая во имя дружбы и мира, существующего между соседями, признается за слабость и ничтожность, а потому будет понятно, если какая-нибудь более важная уступка, сделанная нашим правительством только из побуждения великодушия, будет истолкована самым невыгодным образом для нас. Для меня всегда была очевидна невозможность возвращения бухарцам взятых от них... городов; кроме мести и преследований, которые последовали бы для жителей, бухарские власти непременно приняли бы нашу уступчивость за бессилие, и нам пришлось бы снова брать те же города..."79
Итак, дважды на К.П. Кауфмана возлагалась верховная власть на захваченных Россией в то или иное время землях других народов. В обоих случаях он проявил себя умным, но жестким проводником не только имперских, но и русских национальных интересов (что особенно явственно проявилось в его деятельности в Северо-Западном крае). Здесь мы подходим к основной интересующей нас теме — взаимоотношениям Кауфмана с евреями.
Одной из ступеней военной карьеры Кауфмана было назначение его членом комитета по преобразованию заведений во-
463
енных кантонистов в училища военного ведомства. Там ему пришлось стать непосредственным и активным участником решения одного из аспектов той сложной и болезненной проблемы, какой являлось на протяжении веков положение евреев в России.
Во время работы в комитете К.П. Кауфман оказал протекцию еврейскому юноше из кантонистов Виктору Никитичу Никитину (1839—1908). Отданный ребенком в кантонисты и насильственно крещенный, Никитин никогда не забывал своего тяжкого детства. Переведенный в 50-х годах стараниями Ф.Г. Устрялова (брата известного историка) из Нижнего Новгорода в Петербург, он занялся усиленным самообразованием, и когда К.П. Кауфман в 1861 г. стал директором канцелярии военного министерства, он взял Никитина к себе домашним секретарем. Позднее В.Н. Никитин сделал весьма неплохую карьеру, к концу 90-х годов дослужившись до постов одного из директоров Петербургского тюремного комитета и чиновника по особым поручениям при Министерстве земледелия и государственных имуществ. Помимо службы Никитин уже в 1860-х годах занялся публицистикой. И сами сюжеты, затронутые им, и их раскрытие несомненно указывают на то, что автор не только глубоко переживал все тяготы и несправедливости окружающей действительности, но и никогда не забывал о своем происхождении. Это чувствуется и в принадлежащем ему одном из первых исследований тюремного быта "Тюрьма и ссылка" (1880), и в написанной с использованием обширных архивных материалов работе "Евреи-земледельцы" (1887). Быть может, это особенно чувствуется в носящей автобиографический характер книге "Многострадальные. Очерки прошлого" (1895), посвященной судьбе кантонистов. Своих покровителей Никитин вывел в ней под прозрачными псевдонимами (Устрялов — "Угрялов", Кауфман — "Бауфман"). По словам Никитина, Бауфман был неутомимым тружеником, работавшим с 9 часов утра до 3-4 часов ночи. "Жил он скромно, никаких пиров не задавал, характер имел ровный, добродушный, терпением располагал неистощимым, работал без устали, во все вникал, все изучал, все помнил".
Об отношении К.П. Кауфмана к евреям Северо-Западного края мы знаем в основном из интереснейших воспоминаний известного еврейского поэта и прозаика Йегуды-Лейбы Гордона, в годы пребывания Кауфмана на посту генерал-губернатора смотрителя казенного еврейского училища в Тельшах Ковенской губернии (Тельшяй)80.
Как-то Кауфман в сопровождении окружного инспектора Н.И. Новикова, известного юдофоба, посещал учебные заведе-
464
ния вверенного ему края. В Шавлях (Шяуляй) он отрешил от должности смотрителя еврейских училищ Загорского, поляка по национальности. Гордон получил телеграмму от директора еврейского училища в Шавлях М.В. Фурсова: "Стригите пейсы" (стрижка пейсов, по мнению русской администрации, была принципиальным оружием в борьбе с "властью кагала"). Но в училище, возглавляемом Гордоном, стрижка уже была произведена накануне. Исключение составили лишь несколько бедных мальчиков, которым их еврейские домохозяйки категорически запретили стричь пейсы. Этим ученикам Гордон разрешил не стричься, но велел в день ревизии в училище не являться. Вот тут-то чуть не разразилась катастрофа, поскольку некоторые из них, движимые любопытством, все-таки явились.
Вот как Гордон описывает визит генерал-губернатора: «Человек среднего роста, с сильной проседью, обошел ряды... Стоявшим возле меня ксендзам досталась головомойка за то, что они питают дух возмущения в народе. От них генерал перешел ко мне. Когда ему назвали мою фамилию с прибавкою "смотритель еврейского училища", он сказал: "Про вас я много слыхал хорошего"». Кауфман остался очень доволен постановкой учебных занятий, однако, обнаружив у нескольких учеников пейсы, приказал отдать под арест раввина Маргулиса, а на родителей нестриженных учеников наложить штраф по 5 рублей (сумма по тем временам немалая). Гордон ходатайствовал об освобождении раввина и сложении штрафа с учеников, что на следующий день было сделано. Позднее один из военных рассказал Гордону, что за обедом генерал-губернатор весьма положительно отозвался о его заслугах на ниве просвещения. Покидая на следующий день город, Кауфман приветливо попрощался с Гордоном, послав из своей коляски воздушный поцелуй81.
И впоследствии генерал сохранил теплое отношение к Гордону. Когда еврейского поэта в 1879 г. сослали в городок Пудож Олонецкой губернии, он обратился за помощью к Кауфману, находившемуся в ту пору в командировке в Петербурге, и тот, хотя и сам пребывал тогда, по собственному признанию, в опале, сумел вызволить Гордона из ссылки.
Существует мнение (отразившееся, в частности, в таком авторитетном издании, как "Еврейская энциклопедия"), что Кауфман покровительствовал известному ренегату, выкресту Я. Брафману. Нам представляется, что это мнение в целом лишено оснований. Генерал-губернаторство Кауфмана, напомним, длилось с апреля 1865 г. по октябрь 1866 г. Доносительская же деятельность Брафмана началась значительно раньше:
465
еще в 1858 г. он подал прошение по еврейскому вопросу императору Александру II, а в 1860 г. был вызван в Петербург в Святейший Синод и даже был представлен митрополиту Филарету. В бытность Кауфмана в Вильно Брафман опубликовал в "Виленском вестнике" несколько статей по еврейскому вопросу и тогда же был переведен в Вильно цензором еврейских книг. Нашумевшая же его "Книга Кагала" вышла лишь в 1869 г. А уже много позднее, в 1870-х годах, Кауфман рассказал Гордону, что несколько десятков экземпляров книги Брафмана были присланы ему для рассылки по присутственным местам. "Таким образом, — пояснил генерал, — чтение ее было для нас как бы обязательным". Следовательно, вряд ли можно говорить о покровительстве Кауфмана Брафману. Скорее напротив, умный царедворец, генерал-губернатор прекрасно оценил ту опасность, которую таило в себе возможное сопротивление деятельности ренегата, и счел более целесообразным держать его хоть под каким-то контролем, нежели безраздельно отдать его юдофобам82.
Интересны воспоминания Кауфмана о том, как он познакомился на практике с силой влияния "кагала". В Минске произошел опустошительный пожар. С целью помочь пострадавшим от пожара сразу же были составлены списки погорельцев, причем почему-то по вероисповедному принципу. Вскоре Кауфмана посетила депутация евреев с ходатайством выдать компенсацию не каждому еврею в отдельности, а целиком общине, а уж та распределит по справедливости деньги среди пострадавших. Царский чиновник не мог поддержать общину (кагал) ни под каким видом, а потому в просьбе было отказано. Однако члены депутации предупредили Кауфмана, что в случае отказа они соберут все деньги через синагогу и перераспределят их по своему усмотрению, что и было сделано. Когда Кауфман рассказывал эту историю Гордону, то заметил, что раввин при перераспределении не допустил никакой несправедливости. "Поэтому-то, — ответил генерал, — я и не дал ходу этому делу". И прибавил с удивлением: "Но, во-первых, откуда они узнали в первый же момент о том, что приехал чиновник и о том, что он привез деньги? Этого не знал еще никто из официальных лиц в городе. А во-вторых, какой русский, получив деньги, послушался бы попа и отдал бы ему эти деньги обратно; а евреи послушались поголовно... Я бы мог... привести еще несколько подобных примеров силы и влияния кагала". Надо отметить, впрочем, что генерал-губернатор имел на минских евреев "зуб", так как при пожаре 23 и 24 мая 1865 г. сгорело 147 домов, а в поджоге обвинялись евреи. Один из них, Ицка Борода, как доказано было след-
466
ствием, участвовал в поджоге по политическим соображениям. Кауфман имел неприятную переписку с императором и графом П.А. Шуваловым по этому делу, ибо в защиту минских евреев поступило несколько писем их соплеменников из Франкфурта на имя Государя. Тем паче достойно удивления объективное отношение губернатора к евреям. (Документы о пожаре в г. Минске и вся переписка по данному делу находятся в архиве III отделения.)
Возможно, благодаря знакомству с Гордоном Кауфман был в курсе борьбы "маскилим" с отжившими обычаями в еврейском обществе. В одном из писем Константина Петровича к М.Н. Каткову в 1865 г. подробно исследуется возможность наглядной имперской пропаганды при помощи театра: "Что ...касается еврейского общества, то на него театр может иметь сильнейшее влияние, чем на кого-либо, при его впечатлительности и страсти к зрелищам. Несмотря на борьбу старой еврейской партии с новою, евреи весьма охотно посещают театр, не исключая и шабашных дней, особенно если даются пьесы, относящиеся до их быта. Евреи очень мало читают русские книги, и для них театр есть наилучший проводник русского просвещения". И далее: «Через посредство театра можно вызвать брожение в еврейской массе, что будет содействовать к усилению новой, прогрессивной еврейской партии, тогда как умственный застой всегда усиливает только старую. Такие пьесы, как "Дебора", "Менахим бен-Израиль", "Уриель-Акоста", здесь были бы весьма полезны»83.
Итак, в Западном крае К.П. Кауфман предстает тонким дипломатом, распутывающим сложные узлы межнациональных отношений. Ведя борьбу против основного врага России на западных окраинах империи — католической церкви, по отношению к евреям он стремился вести себя тактично, хотя, конечно, никогда не шел вразрез с государственными установками.
Но, пожалуй, не менее сложный "узел" пришлось распутывать Кауфману в Средней Азии. Исторически среднеазиатский регион был тесно связан с Персией. По крайней мере вплоть до начала XVI в. общины Средней Азии, Персии и Афганистана представляли собой фактически единое целое. Происшедший позже распад был связан с комплексом политических причин. Помимо нескольких миллионов подданных-мусульман под почти неограниченной властью нового туркестанского генерал-губернатора оказались и местные, "туземные", так называемые "бухарские" евреи, численность которых составляла не более нескольких десятков тысяч человек, но чья история, уходящая своими корнями в глубокую древность и до сих пор остающаяся во многом загадочной, заставляет нас сделать пространное отступление.
467
Самоназвание бухарских евреев — "исроэль", но мусульманское население называло их "ягуди" ("евреи"), а чаще — "джухуды".
В справочном издании 1927 г. приведены следующие самоназвания среднеазиатских евреев: "иври", "яхуди", "джугут", "бухарские евреи"84. Этот перечень вызвал возражения З.Л. Амитина-Шапиро, по мнению которого "иври" употреблялось лишь незначительной частью еврейской интеллигенции, знакомой с древнееврейским языком, а основная масса называла себя "джувутами" (самоназвание, как кажется, выпавшее из приведенного выше перечня)85.
Большой интерес представляет языковая политика, проводившаяся в отношении среднеазиатских евреев в первые годы советской власти. Сейчас это может вызвать удивление, но в то время преподавание в еврейских школах велось на иврите. Более того, в 1920—1921 гг. в Ташкенте выходила "Газета РОСТА" на иврите, в которой, среди прочих материалов конференции среднеазиатских евреев-коммунистов можно было прочесть: "По жгучему вопросу о языке культуры конференция, констатируя полное отсутствие на таджикском языке как литературы вообще, так и в особенности учебников и преподавателей, постановила считать языком преподавания и культуры древнееврейский язык"86. А на объединенном заседании Еврейско-трудового профессионального союза и 4-го отдела РКП(б), состоявшемся 14 сентября 1919 г. в Самарканде, было принято постановление: «Протестовать против насильственного навязывания нежелательного пролетарско-еврейской массе языка "фарси" и требовать, ввиду приближения учебного года, немедленно изменить декрет в пользу еврейского языка "иврит", в противном случае ни один ученик в школу послан не будет». Однако под сильнейшим давлением европейских евреев из Совета по делам национальных меньшинств, видевших в иврите сионистскую опасность, победа досталась языку "фарси"87.
Земли, входившие в рассматриваемую нами эпоху в состав Бухарского ханства, были известны с глубокой древности. Так, после падения Самарии десять колен Израилевых были изгнаны ассирийскими владыками в свою империю и расселены "в Хлахе и в Хаворе, по реке Гозан и в городах Мидии" (Млахим IV — Книга Царств IV, 17:6). Местное предание отождествляет Хавор с Бухарой. По другим версиям, появление евреев в Средней Азии относится ко времени падения Первого Храма, а сами они считаются чуть ли не потомками выведенного из Иерусалима "колена Иудиного". Во всяком случае сами туркестанские евреи отмечают свою общность с горскими евреями
468
Кавказа, которые в их традиции отождествляются с Мидией. Очевидно и родство языка бухарских евреев с татским языком — языком горских евреев88.
Современные израильские ученые относят появление первых еврейских поселений в Средней Азии к VI в. н. э.; письменные свидетельства древних арабских историков датируют это событие VIII—IX вв.89 О независимых и воинственных иудейских племенах в тех краях упоминает и живший в XII в. известный еврейский путешественник Вениамин из Туделы90. Так, в Хиве (тогда именовавшейся Жиной) жило свыше 8 тыс. еврейских семей, а в Самарканде накануне падения халифата — до 50 тыс. евреев. Верными союзниками еврейских племен Средней Азии, заселявших страну "бней-огуз" (земли от Каспийского моря до Аму-Дарьи и по ее течению из Бухары до Балха), были огузы, предки туркмен. Венгерский путешественник и ориенталист еврейского происхождения Армин Вамбери (1832—1913) писал, что евреи жили в Бухаре еще до завоевания Средней Азии Чингиз-ханом в 1220 г. Во всяком случае, бухарская община, как считает А. Вамбери, стала известна приблизительно с 1220 г.91 По мнению академика В.В. Бартольда, евреи населяли этот регион еще в X в. Рассматривая проблему проникновения христианства в Туркестан, он указывает, что в ту эпоху в восточно-иранских областях — Хорасане и Мавераннахре — было значительно больше евреев, чем христиан. В.В. Бартольд пишет: «Географические названия свидетельствуют о существовании многолюдных еврейских общин в северной части Афганистана: достаточно упомянуть о городе Йехудии и о "воротах евреев" в Балхе»92.
Среди самих туркестанских евреев было распространено предание, согласно которому их предки еще при Чингиз-хане населяли Зальзамар (неподалеку от Мешхеда), а также жили на торговых путях в Мерв и Хиву, откуда были вытеснены в Самарканд. Российский историк О.А. Сухарева приводит две версии предания о приходе евреев в Бухару. Согласно одной, еврейская колония возникла здесь во времена Тимура, который вывез из Шираза десять еврейских семей, глава одной из которых умер в пути, а потому в Бухару приехало лишь девять семей. По другой версии, Тимур переселил из Багдада евреев-шелкопрядильщиков. Конкретные факты предания, вероятно, отражают исторические реалии, а сопоставление этих рассказов подтверждает авторскую теорию образования этнической группы среднеазиатских евреев в результате многократных и разновременных переселений, "причем не непосредственно с их родины Палестины, а из соседних с Средней Азией стран", в первую очередь — из Ирана93.
469
Приведем и еще одну версию появления евреев в Бухаре, по которой после разрушения в 1598 г. Самарканда Баби-Махмет-ханом большинство проживавших там евреев бежало в Бухару. Они пополнили "тамошнюю общину и настолько подняли торговое и промышленное значение Бухары, что она заняла первенствующее положение в Средней Азии"94. Наконец, среди бухарских евреев бытует совершенно фантастическая версия о переселении в Среднюю Азию через Северную Африку, Аравию и Персию испанских евреев, преследовавшихся инквизицией95.
Бухарские евреи очень гордятся тем, что из их среды вышли первые еврейские колонисты в Китае, подкрепляя эту версию наличием в молитвах китайских евреев персидских слов. Это нашло подтверждение в обнаруженном М.А. Штейном деловом письме, которое, по мнению расшифровавшего его оксфордского профессора Г.С. Маргулиса, было написано еврейскими буквами на персидском языке и отправлено из Табаристана (Северный Иран) в 708 г. н. э. Бухарские евреи вели обширную торговлю с Китаем вплоть до XVII в., когда товарообмен прервался под давлением шаха Аббаса. Большинство евреев вернулось из Китая в Бухару, а небольшая часть, получившая название "кайфынг-фо", осталась и вскоре, почти забыв иудаизм, практически ассимилировались с местным населением96.
К середине XIX в. численность евреев в Бухаре оценивалась различными путешественниками по-разному: от 800 семей до 500 взрослых мужчин. Наиболее близкой к реальности следует, по-видимому, считать цифру, приведенную А. Вамбери — 10 тыс. человек97. Еврейский квартал Бухары "Махаллайи кухна" ("Старая еврейская слобода") насчитывал в то время 250 домов. Население занималось торговлей, шелкопрядением, красильным делом (эта специальность в Средней Азии была "еврейской монополией"), строительными работами, плотницким ремеслом. Были среди евреев также сапожники и портные™. Более того, именно евреи научили коренных жителей Средней Азии многим ремеслам99. До нашего времени дошла купчая крепость на еврейский квартал г. Самарканда, относящаяся к 1259 г. хиджры (1843). Еще до войны этот документ хранился в Еврейском музее Самарканда.
В своих контактах с азиатскими государствами Россия нередко прибегала к посредничеству бухарских евреев100. В XVIII в., по всей очевидности, они вместе с мусульманами вели торговые дела с Россией. Во всяком случае среднеазиатские купцы были прекрасно осведомлены обо всех изменениях при дворе Екатерины II, в частности о смене фаворитов. В 1802 г. бухарский еврей по имени Биньямин Сет из Казыл-
470
Гара обратился к евреям Шклова с предложением завязать прямые, без посредников, торговые отношения101. Еврейским купцам-"азиатцам", в отличие от их европейских единоверцев, разрешалось появляться в губерниях вне черты оседлости, вступать в гильдии (1833) и приезжать со своими товарами на меновые дворы Оренбурга и Троицка (1842), а также на Нижегородскую ярмарку (1844).
Но у себя на родине среднеазиатские евреи были объектом постоянного изощренного угнетения. Правовое положение евреев в мусульманских государствах Средней Азии регламентировалось специальными ограничениями, известными под названием "Двадцать одно". Вот только часть этих унизительных законов, во многом предвосхитивших законы нацистов:
— евреи были обязаны жить только в определенных кварталах, гетто, и даже там были ограничены в постройках домов;
— евреям запрещались покупать дома у мусульман;
— евреям не разрешалось строительство новых синагог;
— евреям запрещался въезд в город после захода солнца;
— еврейский дом должен быть ниже мусульманского;
— на еврейских домах должна была висеть тряпка — знак отличия от мусульманского дома — не только ради унижения евреев, но и для того, чтобы (такова исламская казуистика!) нищие мусульмане не останавливались возле этих домов просить подаяния и не испрашивали на евреев Божьего благословения;
— евреи не имели права ездить в городе на лошади, а при особо рьяных правителях — и на осле;
— евреям запрещалось носить чалму, вместо которой им полагалось надевать четырехугольную шапку черного цвета;
— временами евреям приказывалось носить лишь черную одежду;
— евреям запрещалось обшивать края халатов шелком;
— евреям нельзя было появляться на улице, не подпоясавшись веревкой, и нельзя было прикрывать веревку халатом;
— место еврея-торговца за прилавком должно было быть устроено так низко, чтобы покупатель видел снаружи лишь голову продавца, а сама лавка должна быть на одну ступень (пол-аршина) ниже лавки соседа-мусульманина;
— евреи были обязаны платить поголовную подать со всех совершеннолетних ("джизья") обычно вдвое большую, чем мусульмане;
— еврей не имел права давать свидетельские показания на суде в отношении мусульманина (даже в его пользу) и т. д.102
«Идет дождь. Еврей не смеет выйти на улицу. Ведь капля с его одежды может попасть на правоверного мусульманина и
471
осквернить его. Много всадников гарцуют на улицах Бухары. Но среди них не увидишь еврея. Он может ездить только за городом, да и то на осле. Лошадь для еврея слишком благородное животное. И непременно грязная веревка ("нахи ланат" — "веревка проклятья", так она называлась) должна была опоясывать одежду каждого еврея. Без нее он не имел права выйти на улицу, ибо как же иначе могли бы отличить его от правоверного?» — так говорил Абулькасим Лахути на Антифашистском конгрессе писателей в Париже в 1935 г.103
Участник одной из разведывательных экспедиций, предпринятых Россией в преддверии завоевания Средней Азии, оставил любопытные заметки о бухарских евреях. Их угнетенное положение, судя по его описанию, бросалось в глаза. "Евреи составляют хотя небольшую, но давно водворившуюся часть народонаселения ханства. Наибольшее число их живет в Бухаре. Впрочем, кроме того, я видел их в Кятта Кургане, в Самарканде и Карши: везде в названных городах отведены им особые кварталы, из коих они выселяться не могут и, следовательно, не могут смешиваться с мусульманами. Права их необычно стеснены. Так, например, они не смеют носить чалмы, а должны покрывать головы свои небольшими шапочками из темного сукна, опушенные мерлушкой пальца в два ширины. Сверх того, они не могут носить других халатов, кроме алачевых, и отнюдь не могут подпоясываться широкими платками, а тем более шалями, а должны непременно употреблять для этого простую веревку, и для того, чтобы они не могли скрыть сего последнего отличия, им строго запрещается носить неподпоясанный халат сверх подпоясанного. Но самое главное и унизительное стеснение для иудеев, по деятельному их образу жизни, есть строгое запрещение ездить в стенах города верхом, как на лошади, так и на ишаке: это в Бухаре тем более чувствительно, что после небольшого дождя улицы делаются непроходимы от грязи не только для пешехода, но и для вершника. Кроме того, в городе каждый мусульманин может безнаказанно бить еврея, а за городом почти столь безнаказанно и убить. Все эти обстоятельства вместе взятые, заставляют их желать перемены существующего порядка вещей, и этому-то надо приписать то расположение, которое они оказывают всякому иностранцу, особенно христианину... Еврея, попавшегося в первый раз в каком-нибудь преступлении, не наказывают смертью, а заставляют выкупить жизнь переменою веры. Если он на это согласится, что всегда бывает, то его тотчас выводят из жидовского квартала, разводят с женой, если он женат, и весьма долго и строго наблюдают, точно ли он исправляет правила Корана, и за малейшее отступление от них наказывают смертью"104.
472
Постоянный страх перед насильственным обращением в мусульманство как Дамоклов меч висел над среднеазиатскими евреями. Опасаясь предъявления малейших претензий, евреи принимали все меры предосторожности, но это не помогало. Вся история общины протекла в обстановке постоянного сопротивления насильственной исламизации105. Лишь иногда обстановка несколько смягчалась (как, например, в XIV в. при хане Бузане)106, когда евреям позволили отстроить разрушенные синагоги. Особые усилия прилагали власти для обращения в мусульманство тех евреев, чьи таланты или богатство бросались в глаза. Так, только в середине XIX в. при Муззафар-хане хитростью или насилием подверглись исламизации владелец богатой ткацкой мастерской Довиди Ишри, знаменитый певец Борух Калхок и один из богатейших купцов Бухары Арони Кандин.
Новообращенных называли "чала" ("несовершенные", букв.: "ни то, ни сё"). Вынужденные покидать еврейские кварталы, они все равно селились неподалеку от них, жили замкнуто и заключали браки преимущественно в своей же среде. Большинство из них тайно соблюдали еврейские обычаи, представляя собой нечто подобное маранам в христианских государствах — только в восточном варианте. Сами бухарские евреи отмечали резкое снижение численности своей общины из-за насильственной исламизации. В Бухаре "чала" занимали квартал Эшони-пир ("Ишан-наставник"), в котором насчитывалось около 100 домов. Основным занятием "чала" была окраска и продажа хлопка-сырца; среди них были также мотальщики коконов: они скупали коконы, разматывали их, окрашивали пряжу и продавали ее. И также жили замкнуто, заключая браки внутри квартала. Несколько десятков семей "чала" жили в квартале Чор-каравансарай. Они занимались в основном торговлей, преимущественно крупной, — это был квартал богачей107. "Чала" поддерживали торговые связи с Афганистаном и Персией.
И в сельской местности некоторые кишлаки были заселены насильственно исламизированными евреями. Так, в 1887— 1888 гг. при строительстве Закаспийской железной дороги, соединившей Красноводск с Самаркандом, выяснилось, что в 30 верстах от станции Арчман находится кишлак Нухур, жители которого считают себя потомками евреев.
Интересные воспоминания о евреях и "джедидах" (персидский синоним "чала") Туркестана оставил служивший долгие годы в Средней Азии барон А.И. фон дер Ховен108. По его свидетельству, в Ахал-Текинском оазисе около Анау (в 15 верстах от Ашхабада) существовали целые селения евреев, обита-
473
тели которых, теснимые туркменами, приняли ислам и переселились в кишлак Нухур. С приходом русских "джедиды" вернулись к религии предков и, между прочим, "обрусили" свои фамилии. Для отправления религиозных служб они пользовались ввозившимися из России еврейскими книгами. Интересно, что "джедиды" к приходу русских были в прекрасных отношениях с туркменами, пользуясь репутацией честнейших торговцев: туркмены поручали им ведение дел, отдавали на хранение большие суммы денег109.
В отличие от "джедидов" потомки хивинских евреев не вернулись к иудаизму, когда русские появились в Хиве: видимо, исламизация евреев Хивы произошла в более отдаленные времена110.
Потомки среднеазиатских евреев не любят афишировать свое происхождение. Одним из немногих, указавших его, был известный таджикский поэт Пайрав (Атаджан Сулаймони, 1899—1933), дед которого принял мусульманство, но тем не менее был вынужден бежать из Мешхеда (Иран) в Мерв в самом начале XIX в., во время еврейских погромов. Внук родился уже в Бухаре111.
Естественно, такое положение заставляло среднеазиатских евреев с надеждой смотреть на наступающие русские войска. Следует учесть, что значительную часть торгового сословия Бухары составляли евреи или мусульмане еврейского происхождения. К.П. Кауфман писал Д.А. Милютину в одном из первых своих писем из Ташкента, что только евреи да индусы, считавшиеся ташкентскими париями, выказали преданность новой власти в противовес враждебности мусульман112. Такое отношение не только присутствовало в сознании бухарских евреев, с нетерпением ждавших русскую армию — "освободительницу", но исподволь поддерживалось прибывшими в Бухару имперскими эмиссарами. Тот же полковник С.А. Носович, побывавший с дипломатической миссией у эмира, встретился с местными евреями, дабы снискать их симпатии. Позднее он писал, что, несомненно, "кроме многочисленного угнетенного класса людей, т. е. рабов, евреев и индийцев, здесь немало купцов, очень богатых, которые желают прихода русских... Евреи, во время посещения их синагоги, на замечание, почему у них это здание так грязно и бедно, громко ответили, что им не позволяют иметь хорошие молельни, но что русские это сделают для них в скором времени"113.
Эти сведения полностью совпадают с другими источниками, даже из враждебного лагеря. Магомет Суфи, участник противорусского восстания, вспоминает: "У нас в Самарканде есть еврейский квартал, где живут только евреи. Мы их мало
474
того что не любим, но просто презираем. Они одеваются как мы, в халат и тюбетейку, но мы бреем головы, а у них на висках вьются пейсы. Кроме того, им запрещено носить пояса, как у нас: они обязаны подпоясываться веревкою. Вот по пейсам и по веревке их сейчас можно отличить от нас, даже издали. Они не смеют входить в наше общество и близко подходить к нам, но они умеют как-то все подсмотреть, подслушать, все знать, что у нас делается. Мы слышали, что евреи, узнав о том, что готовится восстание, бегали крадучись в крепость и предупреждали русских. Но русские не поверили евреям и прогнали их"114.
Свидетельство мятежника-мусульманина подтверждает одно: евреям не было бы пощады, если бы мусульмане ворвались в цитадель. Племянник Кауфмана Павел Михайлович в замечательной статье, посвященной великому делу своего дяди, писал, что "евреи, жившие в городе, разведали коварные замыслы населения и к вечеру заявили о заговоре, прося позволения перейти в цитадель, в случае нападения... В этот же день, вечером, множество евреев явилось к коменданту и убедительно просили его дать им место в цитадели. Получив согласие, они перевели в цитадель своих жен, детей и имущество"115.
Мусульманский источник говорит: "Возвратился генерал Кауфман... и послал войска пройти по городу, очистив улицы. Тут, говорят, были жаркие схватки... Опасно было ходить по городу, солдаты могли принять за мятежного сарта и пристрелить. Исключение было сделано только для евреев, их не трогали. Они, в то время как наши ополченцы и беки с сарбасами входили в город, успели-таки пробраться в крепость и заявить там, что евреи в мятеже не участвуют. Кроме того, они были полезны в крепости, работали там. Кстати, русские вспомнили их предупреждение.
Русские солдаты, обходя улицы города, не заглянули даже в еврейский квартал. Вместе с солдатами ходили и евреи. Они теперь гордо подняли головы и сбросили свои веревки"116. Нелишне здесь отметить, что при подписании мирного договора с бухарским эмиром Кауфман в статьях 8, 9, 12 обеспечил бухарским евреям право свободного приезда в русские пределы, торговли и возможность приобретения недвижимого имущества в России117.
Интересно проследить, используя семейные предания, как русское завоевание отразилось на судьбе той или иной семьи. Мы уже упоминали о насильственной исламизации калонтара (старейшины) бухарской общины и одного из самых богатых людей Бухары Арони Кандина. Согласно преданию, в его обращении в мусульманство роковую роль сыграла клевета, ис-
475
ходившая от другой богатой еврейской семьи, Сиени Нияза, главным образом от одного из сыновей Нияза, тоже по имени Арон. В еврейской среде укоренилась поговорка: "Арон погубил Арона" (букв.: "Арон съел голову Арона"). Все имущество Арони Кандина было конфисковано. Была обращена в ислам и младшая жена Арони, в то время как старшая со своими детьми избежала этой участи (в то время у бухарских евреев существовала полигамия, при русских она почти исчезла, хотя и дожила до советских времен). После принятия ислама Арони Кандин стал эмирским казначеем. Однако эмир не доверял ему и запретил покидать дворец. Так Кандин прожил десять лет. Подобно другим насильственно обращенным, он долго не мог привыкнуть к новой обстановке и втайне, насколько это было возможно, сохранял верность еврейским обычаям. Постепенно ему удалось завоевать доверие эмира, и ему было разрешено выходить из дворца в сопровождении охраны, как бы составлявшей его свиту. За эти годы эмирский казначей разбогател, используя свое высокое положение. Но никогда не покидало его желание вернуться к религии предков. Арони Кандин ждал... После смерти Муззафар-хана, при его преемнике Ахад-хане, его положение еще более укрепилось. Он сумел стать необходимым новому эмиру, сделав его компаньоном в своих весьма выгодных торговых операциях. Но когда наконец Арони по поручению эмира разрешили выехать из Бухары по торговым делам и вернули конфискованное имущество, он бежал в Самарканд и принял русское подданство.
История самаркандских евреев за последние 150 лет неотделима от истории семьи Калонтар. Моисей Калонтар служил при дворе эмира Насруллы Баттур-хана сборщиком налогов с еврейской общины. В 40-х годах прошлого века ему удалось купить участок земли, распланировать его и устроить на нем "махаллу" — еврейский квартал. До этого евреи жили вперемешку с мусульманами, что зачастую приводило к насильственному обращению в ислам. Во, время осады Самаркандской крепости большинству евреев удалось укрыться "под сенью" русских штыков. Оставшиеся были схвачены Джурой-беком. В их числе были уважаемые члены общины: раввин (хахам) Барух Фузаилов и Моисей Калонтар. Отказавшийся перейти в ислам Фузаилов был убит, а Калонтар отделался ранением и притворным переходом в мусульманство. Было это в июне 1868 г. Стремительное продвижение русских войск спасло его от гибели. Моисей Калантаров (так он переиначил на русский лад свою фамилию) сделался "аксакалом", т. е. представителем от туземцев и личным переводчиком Кауфмана. (Можно предположить, что русский язык Калантаров выучил
476
еще раньше, во время посещений России по торговым делам.) За верную службу он получил несколько медалей. Занимая эту должность, Моисей Калантаров, вернувшийся к религии предков, всегда стоял на страже еврейских интересов. При нем ни один еврей не был осужден. Моисей занимался благотворительностью, даже хоронил за свой счет бедных мусульман. Несколько лавок, принадлежащих ему, Калантаров завещал еврейской общине. Незадолго до смерти на его средства еврейское кладбище было обнесено каменной оградой. Наблюдая за работой, старик простудился и умер в 1878 г. Сооружение ограды было важным актом, так как мусульмане часто захватывали участки земли на еврейском кладбище. Сын Моисея, Давид, состоял аксакалом с 1891 по 1896 г. и за заслуги получил четыре золотые медали и личное почетное гражданство.
Итак, Средняя Азия была покорена Россией и на ее просторах рядом с вассальными Хивинским ханством и Бухарским эмиратом (проще было бы назвать их колониями) раскинулось Туркестанское генерал-губернаторство. В признании прогрессивности этих завоеваний в единый хор сливались не только голоса российских либералов и националистов, им вторили и с другого конца Европы. "По отношению к нравственности, законодательству и религии это (завоевание. — С. Д.) есть новый шаг к расширению области христианства, в замене гуманными его началами начал мусульманского изуверства и, следовательно, к освобождению человеческой личности от поглощения ее узкими требованиями ислама", — писал в конце века М.И. Венюков118. "Никогда ещё война против государя полудикой страны не была более справедлива и необходима", — констатировал в те же годы англичанин, герцог Аргайл119. Но вряд ли серьезно можно рассматривать завоевание Россией Средней Азии как культуртрегерскую миссию. Россия была движима идеей экспансии, а либеральные и даже "освободительные" методы ее реализации следует ставить в заслугу не России как таковой, а "главнокомандующему" русских войск К.П. Кауфману.
Завоевание русскими Бухары и приход к власти К.П. Кауфмана действительно облегчили жизнь бухарских евреев, но делалось это, конечно же, не ради них самих. "После завоевания Туркестана туземные евреи были единственными распространителями русских товаров во всей Средней Азии, а следовательно, и проводниками русского влияния в крае. Русское правительство, уясняя себе значение туземных евреев для укрепления своей власти, первое время заигрывало с евреями. Они были уравнены в правах со всем туземным населением края. В частности, евреи не знали ограничений в отношении приобре-
477
тения недвижимых имуществ. Богатое еврейское купечество фактически пользовалось даже более широкими правами, чем остальные туземцы"120. Именно в этот период множество насильственно исламизированных евреев вернулись к вере предков. Конечно, после смерти Кауфмана туркестанским евреям не удалось сохранить равноправия, однако именно благодаря его изначальному покровительству антисемитизм в Средней Азии вплоть до 1917 г. не достигал уровня Европейской России. Видимо, отчасти "воспитательной" политике Кауфмана следует приписать почти трагикомический факт: после волны еврейских погромов 1905 г. в империи "дисциплинированные" мусульмане обратились к начальнику Кокандского уезда с просьбой разрешить "вырезать евреев"!
Ранее мы ставили вопрос: как относился К.П. Кауфман к евреям? Все вышеизложенное, пожалуй, говорит само за себя. Тогда рождается естественный вопрос: почему Кауфман более чем либерально относился к народу, гонения на который были испокон веку чуть ли не возведены в ранг государственной политики? Ответ на него не прост. Прежде всего дело заключалось в масштабе государственного мышления К.П. Кауфмана, умевшего в сложной системе межнациональных отношений как в Северо-Западном крае, так и в Средней Азии выделить не только основных, наиболее сильных противников, но и найти сторонников.
Но есть и еще одно соображение. Оно не столь очевидно, но тем не менее представляется весьма существенным. Дело в том, что происхождение рода Кауфманов подернуто пеленой неясности. Попытаемся сопоставить некоторые факты. Для начала отметим, что дворянская приставка "фон" обычно связывалась с названием местности или родового владения, а потому сочетание "фон Кауфман" выглядит достаточно странно.
Любопытный случай произошел в Петербургском окружном суде. Кауфман, вызванный в суд свидетелем по одному делу, мог как генерал-адъютант дать показания на дому, но, желая поддержать только начавшую укрепляться в стране систему судов присяжных, лично явился в зал заседаний, чем, естественно, вызвал ажиотаж публики. Председатель А.Ф. Кони задал скромно, но с достоинством державшему себя Кауфману обязательные вопросы:
— Вы туркестанский генерал-губернатор генерал-адъютант Константин Петрович фон Кауфман?
"Да.
— Какого вы вероисповедания? Если лютеранского, то я должен привести вас к присяге сам, за отсутствием пастора.
— Я православный121.
478
Примечательность этого диалога заключается в том, что А.Ф. Кони, считая Кауфмана по фамилии и титулу остзейским (прибалтийским) немцем, задал вопрос о вероисповедании явно для проформы, и полученный им ответ был для него неожиданностью, поскольку для остзейских немцев переход в православие ради русской службы был совершенно не обязателен. Столь же необязательным был отказ от своей религии для выходца из католической Австрии. Во всяком случае произошла неловкость, за что Кони стал объектом гневных нападок одного из столпов русской реакционной публицистики М.Н. Каткова, да и в более высоких сферах остались недовольны "бестактностью" председателя суда122.
Наконец, весьма двусмысленной в этом контексте становится тональность беседы К.П. Кауфмана с И.Л. Гордоном в 1875 г. Писатель, живший в ту пору в Петербурге, узнал о приезде Кауфмана в столицу и послал ему письмо с напоминанием о себе, после чего на следующий день был весьма удивлен, получив на дом записку от Кауфмана со специально для этого направленным адъютантом. Поэт приглашался на прием к генералу. Он явился в назначенный час в заполненную военными и гражданскими лицами приемную генерал-адъютанта. Вскоре Константин Петрович вышел, окинул взглядом присутствующих и, заметив почти у самых входных дверей еврейского писателя, направился к нему. Кауфман «подошел ко мне с приветливою улыбкою и шутливым тоном спросил: "Что, Вы еще не приняли православия?" Я был несколько сконфужен этим неожиданным вопросом, но тут же нашелся и ответил: "Нет, Ваше высокопревосходительство, продолжаю еще пребывать в заблуждении". Он улыбнулся и сказал: "Хорошо, хорошо, мне приятно будет с Вами побеседовать, но... спешу ехать к Государю с докладом. Зайдите лучше завтра об эту пору". Я не успел поклониться, как он шепотом прибавил: "Впрочем, завтра Рождество... Лучше послезавтра"»123. Более того, у Гордона есть рассказ, в котором действует комендант большого города, который оказывается крещеным евреем. Фамилия ему дана Гейман, зовут Леопольд Михайлович. Как известно, храбрейший (так назвал его граф М.С. Воронцов) кавказский генерал В.А. Гейман был евреем и сделал военную карьеру, начав ее мальчиком-кантонистом. Гейман никогда не служил в Западном крае (возможно, он был родом оттуда, предположительно из Гродно). Ясно, что писатель воспользовался этой фамилией и сделал намек на Кауфмана. Литературный Кауфман — Гейман интересуется еврейским вопросом, читает еврейскую газету на русском языке "Рассвет"; он же помогает крещеному еврею вернуться в лоно иудаизма и тру-
479
доустроиться. Внешне генерал не походит на еврея: это объясняется тем, что его родители из Курляндии. Тайну его происхождения никто из окружения не знает. "Он из наших", — говорит еврей, герой рассказа124.
Во всяком случае известные современные антисемиты, сначала А. Дикий, а затем и Л. Корнеев, настаивают на еврейском происхождении Кауфмана. О еврейском происхождении Кауфмана пишет и Вл. Маевский125. Между тем автор многочисленных произведений на исторические сюжеты, печально прославившийся своим юдофобством Валентин Пикуль, сделавший Кауфмана одним из героев своего рассказа "Хива, отвори двери!", ни разу даже не намекает на его еврейское происхождение, хотя не упускает возможности расставить все точки над "i" в отношении отрицательных персонажей. Так, "горбоносый карлик" канцлер Нессельроде у Пикуля говорит с ужасным еврейско-немецким акцентом, а также министр финансов Канкрин, еврейского происхождения, постоянно плачется на недостаток средств126. Очевидно, о еврейском происхождении своего положительного героя автор не упоминает отнюдь не по незнанию (Пикуль — большой специалист по части генеалогии). Но почему? Хотя известно, что Герман Геринг на замечание о еврейском происхождении одного из высокопоставленных сотрудников министерства авиации гитлеровской Германии безапелляционно ответил: "Я сам решаю, кто у меня еврей!"
Несколько слов о семье Кауфмана. Его родной брат — Михаил Петрович (1821 или 1822—1902) также сделал блистательную карьеру, став генералом, начальником Николаевской инженерной академии (1860-1868), начальником Главного интендантского управления Военного министерства (1867—1879), товарищем генерал-инспектора по инженерной части (1879—1882), председателем Русского Красного Креста. Ему принадлежала высокая честь составить первый отряд русских сестер милосердия в количестве 3 тыс. человек. До революции его имя носила Санкт-Петербургская община сестер милосердия.
Титул "Туркестанский", как мы уже говорили, императорским указом от 19 сентября 1914 г. перешел к племянникам Константина Петровича, сыновьям Михаила Петровича — Петру Михайловичу и Алексею Михайловичу. Михаил Петрович фон Кауфман (1857-1926) — сенатор (с 1898 г.), в русско-японскую войну — главноуполномоченный Красного Креста, в 1906—1908 гг. — министр просвещения. Его деятельность на этом посту заслужила безусловное уважение прогрессивных кругов, особо отметивших его вклад в женскую эмансипацию. Во время мировой войны главноуполномоченный Красного
480
Креста при главнокомандующем. Имел репутацию "радикала". С.Ю. Витте писал о нем: "...Кауфман человек не глупый и весьма порядочный, что уже доказывается тем, что ни он не мог ужиться со Столыпиным, ни Столыпин не мог переварить его направления, чуждого полицейского сыска и полицейского воздействия, а потому Кауфман, против своего желания, должен был оставить министерство Столыпина"127. В 1906 г. составил вполне демократичный проект по еврейскому вопросу. Имел мужество направить письмо Николаю II, предупреждая последнего о приближении революции, чем вызвал гнев императора, исключившего противника Распутина из состава присутствующих членов Государственного совета. Михаил Петрович усиленно занимался историей, издав множество статей, где использовал богатые семейные архивы.
Второй сын Михаила Петровича — Алексей Михайлович (1861—1934), блестящий боевой генерал, генерал-лейтенант. Прославился на русско-японской войне во время защиты Таугогского перевала, когда во главе спешенных казачьих полков отбился от превосходящих сил противника. Награжден многими орденами, включая орден св. Георгия, а также золотым оружием за храбрость. Во время первой мировой войны командовал Уральской казачьей дивизией. Во время гражданской войны сражался в рядах Добровольческой Армии. В эмиграции занимал ряд почетных постов: председатель Гвардейского объединения, член Главного комитета Союза инвалидов, председатель Союза георгиевских кавалеров и председатель Союза пажей.
Наш рассказ о судьбах евреев в Средней Азии можно закончить, вспомнив одного из многих энтузиастов революции и безусловного филосемита A.M. Бабешко, пламенного защитника бухарских евреев. Его судьба — почти полное повторение судьбы литературного Павла Корчагина. О своей жизни он рассказал на страницах альманаха "Год семнадцатый", в издании, предпринятом стараниями Максима Горького.
Родился Бабешко в 1890 г. в Ташкенте, по национальности, видимо, украинец: "Мать моя упорная хохлушка". Отец — мастеровой, мать — прачка. Трудиться начал он в возрасте 12 лет в частной мастерской "еврея Розмана", учеником слесаря. Как выяснилось впоследствии, мастерская была местом явки политических. Поначалу был анархистом-коммунистом бакунинско-кропоткинского толка. Участвовал в нескольких экспроприациях. Настойчиво повторяет, что они старались обойтись без человеческих жертв и стреляли лишь в крайнем случае. С 1911 г. примкнул к большевикам.
Мобилизованнный во время мировой войны, он находился на румынском фронте, был близок к социал-демократам.
481
Освобожден из армии стараниями матери как незаконно мобилизованный (он был единственным сыном). Упоминается, кстати, о его личном знакомстве с братом А.Ф. Керенского, которого он знал хорошо и спорил с ним в кружке.
После освобождения из армии Бабешко прибывает в Ташкент, где вступает в ряды Красной гвардии. Затем в 1918 г. становится председателем профсоюзов. Работали большевики "на паритетных началах" с левыми эсерами. Во время левоэсеровского мятежа были расстреляны большевики-комиссары, но мятеж был подавлен, так как большинство рабочих оказались на стороне советской власти.
Во время гражданской войны Туркестан два с половиной года был отрезан от Москвы и вклад самого Бабешко в победу был огромен. Он организовал военное производство в мастерских при минимальных промышленных ресурсах. Жертвенность комиссаров привлекала симпатии рабочих и они шли вслед за ними: "...я одним из первых вышел добровольцем, как комиссар тяги, чтобы рабочие чувствовали, что комиссары тоже идут воевать, и за мной пошли остальные. Это было в 1919 г. Соорганизовался красный батальон ответственных работников, некоторых рабочие не пускали, а они плакали, просились на фронт". Жесточайшие бои у Аральского моря при 60-ти градусной жаре. В атаку шли так называемые курсанты ленинской школы и комсомольцы с развернутым знаменем, полностью изрешеченным пулями...
После окончания гражданской войны Бабешко — на чекистской и хозяйственной работе. В Ташкенте он был заместителем председателя ТурЧК и председателем Сыр-Дарьинской области. Его "перебрасывают" из одного района в другой. В 1922 г. его переводят в Москву на хозяйственную работу. Здесь в биографии некая заминка. Возможно, что Бабешко в профсоюзной дискуссии был на стороне Шляпникова, ибо он опять оказывается в Средней Азии. Следует рассказ о борьбе с троцкистами и вопреки устоявшемуся взгляду на малочисленность сторонников Троцкого выясняется, что большая часть партийных работников поддерживала Троцкого: "В то время председателем совета был Семенов, троцкист, который приехал из Ленинграда и работал подпольно. С ним пришлось бороться, а бороться с ним было тяжело. У него весь совет работал в пользу троцкизма, машинистка печатала (обращения, прокламации? — С. Д.), шофер развозил. И когда ему деваться было некуда, он заявил в окружкоме, что пойдет в Красновосточные мастерские защищать свою точку зрения... Мы знали, что у него большой авторитет, и Средазбюро командировало туда как противоядие и тоже авторитет меня... И вот в связи с этим ме-
482
ня избрали председателем совета... Работать было тяжело, весь аппарат был троцкистским. Я в Ташкентском совете работал два года".
Бабешко провел большую работу по европеизации старых районов. Он построил водопровод, чем улучшил санитарное состояние города. Провел электричество в рабочие кварталы. Затем его избирают заместителем председателя ЦИК Узбекской республики. Здесь он работал два года. Пытался бороться со средневековым отношением к женщине. Рассказы о несчастной доле мусульманских женщин — жуткие, с устрашающими подробностями: женщину, снявшую паранджу, зверски убивали, выкалывали глаза, вырывали язык и т. д.
В 1930 г. Бабешко получил орден Трудового Красного знамени. Среди своих наград он упоминает именное оружие, полученное за бой у станции Тугус. Были и такие странные для нашего времени знаки отличия, как награждение портсигарами, вероятно, серебряными. Все портсигары, впрочем, он отдал в Деткомиссию для продажи и использования полученных средств "для детишек".
Кроме того, А.М. Бабешко был одним из первых организаторов колхозов для бухарских евреев. Особый интерес для нас представляют удивительные совпадения с социальным устройством израильских кибуцев. Вот что он пишет: «Надо сказать, что имеется колхоз моего имени, имени Бабешко. Твердый колхоз, один миллион у них обороту, около 500 хозяйств. В нынешнем году колхоз этот первым сдал свои задания и правительственный план выполнил на 126 процентов. Колхоз им. Бабешко первый вышел в Средней Азии на красную доску. Должен сказать, что я все время держу связь с колхозниками и сейчас их не бросаю. В тяжелую минуту мне колхозники пишут, спрашивают, что им предпринять, как сделать. Еще до решения правительства относительно фонда на детские ясли и т. д. я им написал, чтобы они организовали для стариков-инвалидов, которые не могут работать и хлеба не дают, особый фонд, чтобы организовали особый фонд для детей, для старушек, которые не могут работать, и они это сделали. Я в нынешнем году в июне был там по их просьбе. Между прочим, в этом колхозе исключительно бухарские евреи, при эмире они жили в ужасных условиях.
Надо сказать, что борьба за этот колхоз была политическая. У нас было такое течение, что евреи могут только торговать, что на земле и на фабрике они работать не могут. И вот я на практике доказал правильность национальной политики. В начале организации этого колхоза было 14 хозяйств, набрана была самая беднота еврейская. Будучи заместителем председа-
483
теля ЦИК, я сам ездил на работы, чтобы они не падали духом, и как видите, сейчас там уже 500 хозяйств.
Теперь в Узбекистане имеется 14 еврейских колхозов, большой колхоз им. Зелинского, который я создал в Голодной Степи. Все эти колхозы действительно оказались передовыми. Я не теряю крепкой связи с ними и сейчас. Старики-колхозники выступают и говорят, что "Бабешко специально для нас евреев создал колхоз", и за меня богу молятся. Меня долго спрашивали — еврей ли я. Я говорю, что нет. Они себе никак не представляли, что я не еврей и за них так стою. Я организовал первый съезд ОЗЕТ в Узбекистане. Все это, конечно, не моя личная заслуга, а нашей партии...»128.
В возрасте 43 лет Бабешко уехал учиться в Промакадемию в Москву. Человеку, окончившему два класса, учиться было тяжело, особенно по математике, физике и химии. Колоссальным трудом — он спал 3—4 часа в сутки — ему удалось преодолеть пробелы в своем образовании. Он надеялся получить диплом инженера. На этом его автобиография кончается, и никаких следов этого, безусловно, привлекательного человека разыскать не удалось. Правда, в книге З.Л. Амитина-Шапиро "Очерки социалистического строительства среди Среднеазиатских евреев" упомянут A.M. Бабешко, но, увы, книга вышла в Ташкенте в 1933 г.
Приложения
"ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ"
(краткая справка)
"Протоколы сионских мудрецов" (ПСМ), литературная подделка конца XIX в., созданная по заданию тайной полиции России с целью "доказать" существование еврейского заговора для достижения мирового господства.
Структура и содержание. ПСМ известны в двух вариантах: более распространенный — в обработке С. Нилуса — обнародован в 1903 г., другой опубликован Г. Бутми де Кацманом в 1905 г. и отличается порядком нумерации протоколов и незначительными разночтениями.
Вариант Нилуса оформлен в стиле христианских изданий Библии; по замыслу издателя, это должно усиливать эмоциональное воздействие текста: перед читателем антиевангелие, или евангелие от Сатаны. Издание содержит 24 "протокола" якобы реальных подпольных заседаний еврейских представителей, обсуждающих стратегию захвата власти в мире; в конце концов управление миром должно оказаться в руках назначенного тремя "мудрецами" "царя Израильского" из рода Давидова. Царь будет самодержавно править человечеством, а в случае его смерти или серьезной болезни "мудрецы" передадут власть своему очередному избраннику.
В десяти первых протоколах излагается программа разрушения христианских государств. По замыслу заговорщиков, действенными способами развала общества являются пропаганда демократических свобод и прав человека, подкуп прессы, насаждение культа денег, установление монополий наряду с провоцированием экономических войн, поощрение тайной дея-
485
тельности масонов. Заговорщики призывают подстегивать гонку вооружений, способствовать росту армий и полиции, провоцировать войны между "гоевскими" государствами, пропагандировать анархию, вседозволенность и разврат. Орудием разрушения должны быть масоны, в своем большинстве не ведающие, что истинное назначение их лож — служить установлению еврейского "интернационального сверхправительства". По убеждению заговорщиков, демократические страны наиболее уязвимы для разлагающего влияния масонства.
В следующих 14 протоколах (с нелогичными повторами) описываются переход к всемирному самодержавию и новое государственное устройство. Самодержавная форма правления в противовес демократиям превозносится как идеальная.
Издание завершается "разъяснениями" от переводчика, где сообщается, что ПСМ подписаны "сионскими представителями" (имена не названы) и тайно извлечены из книги протоколов, находящейся в хранилище "Сионской главной канцелярии" во Франции; далее кратко излагается история еврейского заговора, начало которому положил Соломон с другими "мудрецами" в 929 г. до н. э.
Грамотный читатель обнаруживает в ПСМ, наряду с абсурдностью самой возможности программировать захватнические планы на столетия и даже тысячелетия вперед, полное отсутствие каких-либо следов еврейского "почерка": в них нет ссылок на Библию и Талмуд, в эсхатологических прорицаниях не упоминается ни о пришествии Мессии, ни об избавлении, а еврейская империя будущего метафорически трактуется как "апология божка Вишну". Однако на предубежденных людей именно топорность подлога вместе с довольно искусно обрисованной атмосферой конспирации и зловещей таинственности производят сильное впечатление.
Судя по содержащимся в ПСМ намекам на определенные события, время их составления — не ранее 1895 г.
Политическая предыстория создания ПСМ. Еще в средневековье призрак еврейского заговора витал в воображении христиан, с ним связан навет об отравлении евреями колодцев по приказу старейшин из Константинополя и Иерусалима. Распускались слухи о тайных совещаниях раввинов для подготовки ритуальных убийств и осквернения гостий. В Испании, Португалии, а затем и в других странах Европы аспект обвинений постепенно смещался от религии к политике; вероятно, тогда впервые возникла потребность в составлении подлогов, обосновывающих антиеврейские гонения. Так, в поддельной переписке стамбульских раввинов с испанскими евреями, датируемой 1485 г. (Париж, 1583), раввины советуют испанским
486
единоверцам, принуждаемым к принятию христианства, давать детям профессии торговцев, врачей, аптекарей, священников, адвокатов, чтобы вредить христианам и со временем поработить их. Эта подделка провокационно использовалась против новых христиан, а затем неоднократно переиздавалась в XIX в. во Франции и Германии.
Идея политического заговора евреев против христианских государств приобрела остроту после созыва Наполеоном I синедриона в 1807 г. С разных точек зрения она разрабатывалась в сочинениях А. Туссенеля, А.Р. Гужено де Муссо, Эд. Дрюмона, Е. Дюринга, А. Штеккера и других. С 60-х годов XIX в. в реакционных кругах Германии развивается мысль о сговоре евреев и масонов для совместного подрыва устоев христианского мира; она была подхвачена во Франции и сыграла значительную роль в деле Дрейфуса. В России в опубликованной Я. Брафманом в 1869 г. "Книге кагала" (3-е изд.: 1888) содержалось обвинение евреев в корпоративной эксплуатации христианского населения.
В 1873 г. вышел на немецком языке в Базеле трактат секретного агента русского правительства В.А. Осман-Бея (Ф. Милленгена) "Завоевание мира евреями"; в 1874 г. трактат появился на русском языке и впоследствии многократно переиздавался. По утверждению автора, истинное назначение евреев — мировое господство; диаспора была добровольной и преследовала цель подготовить наступление на род человеческий; планы захвата в свои руки прессы обсуждались на "всемирном еврейском соборе" в Кракове в 1840 г.
Идея еврейского заговора нашла "художественное" отражение в романе немецкого писателя Г. Гёдше (псевд. Дж. Ретклиф) "Биарриц-Рим" (1866—1870), ставшем одним из непосредственных источников ПСМ. Одна из глав романа — "Еврейское кладбище в Праге" — была переведена на русский язык в 1872 г. и многократно переиздавалась, в том числе под названием "Речь раввина". В ней описывается "очередное" секретное совещание у могилы "святого раввина" представителей 12 колен Израилевых; они обсуждают планы разрушения христианства и установления иудейского царства. Идеей всемирного заговора пронизаны также романы русских беллетристов В. Крестовского "Тьма египетская" (1881), Н. Вагнера "Темное дело" (1881; переизд. под названием "Темный путь") и др.
В 80-е годы в антисемитской прессе получила широкое распространение фальшивка "Письмо Кремье", помеченное 1874 г. В нем пророчилась скорая победа мирового еврейства: "Недалек тот день, когда все богатства земли будут принадле-
487
жать исключительно евреям". С этого времени основной мишенью антиеврейских нападок становится Альянс (Всемирный еврейский союз).
В 1879—1880 гг. в Москве вышел "труд" И. Лютостанского "Талмуд и евреи" (тт. 1—3), отразивший дремучее невежество автора. В 1882 г. в журнале "Век" был опубликован трактат "Великая тайна масонов", автором которого, вероятно, был О. Пржецлавский (в 1909 г. его сын опубликовал трактат отдельным изданием в Москве под названием "Разоблачение великой тайны франмасонов"). Сочинение содержит весь набор измышлений о жидомасонском заговоре, который позднее составил содержание ПСМ. До опубликования трактата его рукопись была передана для ознакомления высокопоставленным чинам империи, включая шефа жандармов А. Дрентельна.
В 90-е годы в архивах Министерства внутренних дел скопилось множество докладных записок и материалов, "изобличающих" еврейский заговор. Среди них — записка "Тайна еврейства" от 10 февраля 1895 г. из архива Департамента полиции, которую Г. Слиозберг опубликовал в приложении к книге Ю. Делевского "Протоколы сионских мудрецов: история одного подлога" (Берлин, 1923). Руководители охранки, желавшие использовать разворачивавшееся антисемитское движение в своих целях, затеяли фабрикацию "документа", который на понятном широким массам языке показал бы ведущую роль "мирового еврейства" в революционном движении России и дискредитировал лозунги оппозиционных партий. В записке "Тайна еврейства" ставилась задача бороться с революционным движением, "осветив печатно, в популярном изложении, тайные еврейские замыслы против всего христианского мира и России в частности". Было решено прибегнуть к провокационной мистификации.
Изготовление подделок было широко распространено в Европе со второй половины XVIII в.; часть их составлялась с политическими целями. Наибольшую сенсацию, близкую по времени и месту к созданию ПСМ, вызвала экстравагантная выходка французского писателя-антиклерикала Л. Таксиля. В 1885 г. он объявил о своем раскаянии и возвращении в лоно католической церкви и по поручению Ватикана написал ряд работ, полных самых нелепых измышлений о масонах (с "документальным подтверждением" их связи с дьяволом). Однако в 1897 г. Таксиль заявил, что все его антимасонские публикации — мистификация для разоблачения католического мракобесия. Другая подделка — якобы найденное в Кашмире фальсифицированное евангелие "Жизнь святого Яссы, наилучшего из сынов человеческих" — была опубликована по-французски
488
в 1894 г. (рус. пер.: 1895) агентом российской охранки Н. Нотовичем, автором антисемитской книги "Правда о евреях" (1889).
Литературные подделки практиковались и в России XIX в. Бурную полемику вызвала публикация анонимного "Польского катехизиса" (1863), где полякам, только что потерпевшим поражение в антирусском восстании, приписывалось стремление всячески вредить интересам России, проникая в высшие эшелоны власти, скупая имения, прибегая с этой целью к обману, клевете, лести, лицемерию и т. п. Знакомство авторов ПСМ с "Польским катехизисом" очевидно. Не исключено, что некоторые положения "Польского катехизиса" были использованы С.Г. Нечаевым при создании "Катехизиса революционера" (1869). По словам Энгельса, содержание 26 параграфов "Катехизиса революционера" сводится к тому, что "всеразру-шительные анархисты, которые хотят все привести в состояние аморфности, чтобы установить анархию в области нравственности, доводят до крайности буржуазную безнравственность". М.А. Бакунин в одном из писем говорит о С.Г. Нечаеве: "Он пришел мало-помалу к убеждению, что надо взять в основу политику Макиавелли и вполне усвоить систему иезуитов; для тела — насилие, для души — ложь..." Камень, лежащий в основании "Польского катехизиса" и "Катехизиса революционера", — макиавеллизм и иезуитские методы достижения разрушительной цели — с большой долей вероятности был заимствован создателями ПСМ.
Изготовление и первоначальное распространение ПСМ. Операция по изготовлению ПСМ была проведена с профессиональным соблюдением правил конспирации: никто из исполнителей не раскрыл тайны и впоследствии. Расследовавшие подлог Ю. Делевский, В. Бурцев, П. Милюков, С. Сватиков тем не менее обнаружили ряд фактов, связанных с созданием ПСМ.
У С. Нилуса есть указание на Францию, где изначально находилась рукопись ПСМ. По свидетельствам княгини Радзивилл и Хенриетты Херблет, агенты русской политической полиции М. Головинский и И. Манусевич-Мануйлов (последний — еврей, крещенный в раннем детстве) по заданию руководителя заграничной службы охранки Л. Рачковского (впоследствии вице-директора департамента полиции) готовили в Париже документ, изобличающий еврейский заговор. В Национальной библиотеке Франции сохранился экземпляр книги М. Жоли "Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье, или Макиавеллистская политика в XIX в." (1864) со специфическими пометами, сделанными, вероятно, авторами
489
фальшивки. Памфлет Жоли не касался ни еврейского вопроса, ни масонов; в нем в гротескной форме обличались тиранические устремления императора Наполеона III. Монологи в духе Макиавелли о стратегии захвата власти взяты авторами ПСМ за основу выступлений "Сионских мудрецов"; плагиат из книги Жоли составляет почти половину текста ПСМ.
Инициатором создания ПСМ был, по всей вероятности, П. Рачковский, большой мастер политической провокации. В молодости он был народовольцем и предложил использовать в качестве легального органа партии редактировавшийся им еженедельник "Русский еврей". Перейдя на штатную службу в охранку, Рачковский стал издавать при департаменте полиции и распространять черносотенные листовки; он был одним из инициаторов создания Союза русского народа. Непосредственным составителем ПСМ считается М. Головинский, профессиональный литератор, который по заданию охранки занимался слежкой за русскими эмигрантами в Париже. Журналист И. Манусевич-Мануйлов, многолетний сотрудник охранки, возможно, был посвящен в задание Головинского и оказывал ему помощь в работе. Исполнители подлога использовали для плагиата, наряду с книгой Жоли, другие произведения, в частности памфлеты апостата И. Циона (1842—1912, ученый-физиолог и консервативный публицист) против финансовой политики С.Ю. Витте. Предполагаемое некоторыми исследователями участие самого Циона в изготовлении ПСМ маловероятно: он сумел бы исполнить такой заказ с большим знанием еврейских реалий. Следует отметить, что среди лиц, тем или иным образом причастных к созданию фальшивки, было немало крещеных евреев (Рачковский, Надель, Секиринский, Литвин-Эфрон, Нотович, Мануйлов).
Чтобы доставить рукопись ПСМ в Россию, Рачковский воспользовался услугами агента охранки Юлианы (Юстины) Глинки. Был пущен слух, что Глинка сумела раздобыть сверхсекретный документ из тайного еврейского хранилища во Франции; эта версия изложена в повести выкреста С. Литвина-Эфрона (1849-1925) "Среди евреев" (Ист. вестник, 1896). Впоследствии нацистская пропаганда ссылалась на эту повесть как на доказательство "подлинности" ПСМ. О том, что на самом деле "парижской даме" вручил рукопись "документа" Рачковский, Нилус рассказал в 1909 г. посетившему его А. дю Шайла. Близкий знакомый Ю. Глинки А. Сухотин передал рукопись ПСМ своему другу Ф. Степанову. В 1927 г. Степанов сообщил, что сначала он отпечатал 100 экземпляров ПСМ на гектографе, а затем, в 1897 г., с помощью чиновника особых поручений при великом князе Сергее Александровиче
490
тот же текст — в одной из типографий Тульской губернии (без обозначения года и места издания). От Сухотина же копии рукописи ПСМ получили Нилус и де Буши.
Малотиражное издание Степанова прошло незамеченным, но публикации де Буши и особенно Нилуса получили со временем мировую известность.
Версия Нилуса с его предисловием впервые была опубликована в петербургской газете "Знамя" (28.8 — 7.9.1903) известным черносотенцем, подстрекателем кишиневского погрома П. Крушеваном под названием "Программа завоевания мира евреями". Осенью 1905 г. одновременно вышли в свет два издания ПСМ: в составе книги Нилуса "Великое в малом и Антихрист как великая политическая возможность", излагающей историю его "духовных поисков", и отдельной книгой в редакции Буши под названием "Корень наших бед". В предисловии ко второму изданию под новым названием "Обличительные речи: Враги рода человеческого" указана дата "перевода" рукописи — 9.12.1901; в примечании от имени переводчика говорится, что протоколы подписаны сионскими представителями, которых не надо смешивать с сионистами; однако издатель это примечание оспаривает. В 1911 г. выходит новое издание книги Нилуса под названием "Близ грядущий Антихрист". В предисловии издатель протоколов сообщает, что получил рукопись в 1901 г. и допускает мысль о недостоверности ПСМ: "Меня могут, пожалуй, упрекнуть — и справедливо — в апокрифичности представляемого документа". В 1917 г. Нилус вновь издает свою книгу под названием "Близ есть, при дверех", где объявляет, что он получил рукопись ПСМ от А. Сухотина и что протоколы — стратегический план завоевания мира, выработанный вождями еврейства и представленный Т. Герцлем на I Сионистском конгрессе.
Несмотря на отчаянные усилия распространителей, среди которых были и фанатики, и агенты охранки, ПСМ не нашли широкой поддержки в русском обществе. В 1902 г. Ю. Глинка пыталась уверить ведущего публициста "Нового времени" М.О. Меньшикова, отличавшегося крайне правыми националистическими взглядами, что планы заговора, начало которому положил царь Соломон, действительно похищены в "негласной еврейской столице" Ницце. Однако опытный журналист отнесся к ее сообщению весьма саркастически: «Помимо репутации Соломона, как умного человека, помимо крайней рискованности поручить выполнение столь хитроумного плана Бог-весть скольким поколениям суетливой, нервной, легкомысленной расы, — подлинность протоколов выдает их стиль. Я столько лет возился с рукописями, что сквозь стиль доволь-
491
но быстро угадываю, какой категории автор... В данном случае, стоило бросить взгляд на "протоколы сионских мудрецов", чтобы угадать и место, и время, весьма отдаленные от царя Соломона» (М. Меньшиков. Из писем к ближним. Новое время. 7.02.1902).
Распространители ПСМ не сумели заручиться и поддержкой двора. Правда, в разгар революции 1905 г. ПСМ были представлены Николаю II и он, по свидетельству жандармского генерала, исписал поля экземпляра ПСМ пометами: "Какая глубина мысли!.. Какая точность в осуществлении программы!.. Не может быть никакого сомнения в их подлинности..." и т. п. Сотрудники заграничного отделения охранки, "обнаружившие" ПСМ, были щедро вознаграждены. Однако когда деятели правого лагеря предложили проект широкого использования ПСМ для политической борьбы, председатель совета министров П.А. Столыпин велел провести секретное расследование и доложил царю о результатах, не оставлявших сомнений в подлоге. Николай II написал на проекте: "Протоколы изъять, нельзя чистое дело защищать грязными способами". Отрицательное отношение властей России к ПСМ проявлялось жестко: никаких ссылок на ПСМ не допускалось даже во время подготовки процесса М. Бейлиса.
Православная церковь в лице ее иерархов, "за исключением неученого Никона Вологодского" (слова видного богослова и историка церкви А. Карташева), с самого начала отнеслась отрицательно к изданиям Нилуса. Его эсхатологические сочинения, в которые он включал как составную часть ПСМ, носили выраженный оккультный характер и противоречили христианскому богословию. Достаточно сказать, что автор с полной уверенностью утверждал близкое пришествие Антихриста, а в последнем прижизненном печатном труде, озаглавленном "Письмо С.А. Нилуса Иеродиакону Зосиме 1917, Августа 6-го дня", он не только назвал предполагаемый конечный год земного исчисления — 1922, но и год явления Антихриста — 1918 и, самое поразительное, его имя — Давид-Ганнен-Феникс. Таким образом, Нилус попирает евангельские каноны: "О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один... (Мф 24:36); Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти... (Деян 1:7)".
ПСМ нашли некоторый отклик лишь в мистических кругах: есть ссылка на книгу Нилуса в магистерской диссертации П. Флоренского; в художественной литературе "антимасонскую" традицию поддержала Е. Шабельская романами "Сатанисты XX века" (1909) и "Красные и черные" (1911), где не-
492
мало страниц посвящено заседаниям еврейских заговорщиков, во главе которых стоит персонаж, напоминающий С.Ю. Витте; речи заговорщиков повторяют монологи "мудрецов".
В годы первой мировой войны ПСМ впервые вышли за пределы России: дядя царя, великий князь Николай Николаевич, командующий Кавказским фронтом, известный гонитель евреев, велел перевести протоколы на английский язык и распространить среди союзников; по воспоминаниям X. Вейцмана, ПСМ были популярны у британских офицеров на Ближнем Востоке.
1918 г. был переломным в истории ПСМ. Убийство революционными властями России царской семьи вызвало волну массового, мистически окрашенного интереса к антисемистской фальшивке. Известие о том, что следователи армии Колчака обнаружили в комнате императрицы Александры Федоровны подаренную ей за несколько месяцев до того книгу Нилуса "Великое в малом" (вместе с Библией и "Войной и миром" Л. Толстого) было воспринято в монархических и экзальтированных христианских кругах как завещание царицы-мученицы, указывающее на евреев — истинных виновников трагедии. Издания ПСМ появились в Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Харькове; к распространению их в белых армиях приложил руку известный антисемит В. Пуришкевич, служивший в отделе пропаганды Добровольческой армии. По свидетельству М. Новомейского и некоторых других, "жидо-масонский заговор" стал навязчивой идеей адмирала Колчака: новые издания ПСМ появились в Омске, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске. В белогвардейской печати также публиковался в разных вариантах "документ Цундера" (новая версия "письма Кремье"), найденный якобы среди бумаг командира Красной Армии. Пропаганда ПСМ и других фальшивок в белых армиях и войсках Петлюры спровоцировала жесточайшие погромы с невиданным прежде числом жертв.
После победы большевиков распространение ПСМ в России было запрещено, они имели хождение лишь в некоторых кругах националистического антисоветского подполья.
Однако завезенные в Европу белой эмиграцией ПСМ сыграли зловещую роль в становлении идеологии правых движений, особенно национал-социализма в Германии. Российское черносотенство с нацизмом объединил А. Розенберг, который приехал в конце 1918 г. из России в Германию, где стал официальным идеологом и философом нацистской партии. В 1923 г. А. Гитлер назначил Розенберга на пост главного редактора газеты "Фёлькишер беобахтер", в которой он опубликовал ПСМ, а затем активно содействовал их миллионным изданиям на немецком и других языках. (Первый перевод ПСМ на
493
немецкий язык под псевдонимом Готтфрид цур Беек издал в 1919 г. Мюллер фон Хаузен; второй — в 1920 г. — осуществил Т. Фрич.) Пропаганда, развернутая нацистами в связи с ПСМ, вызвала широкую антиеврейскую истерию и спровоцировала убийство министра иностранных дел В. Ратенау, которого объявили одним из "сионских мудрецов".
Трудно переоценить роль ПСМ в разработке планов "окончательного решения еврейского вопроса". Но несомненно их влияние и на основы идеологии нацизма: Гитлер и его окружение приняли как откровение начертанный в ПСМ абсурдный план заговора с целью достижения господства над миром и попытались сами его реализовать.
В Англии первый перевод ПСМ был опубликован в 1920 г. и выдержал пять изданий. В 1921 г. корреспондент лондонской газеты "Морнинг пост" В. Мароден выпустил новый перевод, также несколько раз переизданный. И в "Морнинг пост", и в "Тайме" появились статьи, утверждавшие подлинность ПСМ. В 1920 г. в Бостоне (США) ПСМ были опубликованы на средства автомобильного короля X. Форда тиражом в полмиллиона экземпляров; их пропагандировала также издававшаяся массовым тиражом его газета "Дирборн Индепендент". Мировое распространение получила книга Форда "Международное еврейство", развившая идею заговора.
Во Франции начиная с 1920 г. также публикуются различные переводы ПСМ. В течение 20-х годов и особенно начиная с 1933 г. появились и широко рекламировались переводы ПСМ (на средства Германии) на польский, шведский, финский, итальянский, венгерский, японский, арабский и другие языки.
Разоблачение фальшивки. Вакханалия вокруг ПСМ обеспокоила еврейские либеральные круги Европы и Америки: с протестами против распространения фальшивки и с разоблачениями выступили демократические круги русской эмиграции. В 1921 г. корреспондент лондонской "Таймс" в Стамбуле Ф. Грейвс обнаружил основной источник плагиата — трактат Жоли "Диалог в аду". Сопоставление текстов "Диалога" и ПСМ на страницах "Таймс", еще недавно рекламировавшей ПСМ, наглядно показало технику их изготовления. В 1921 г. журнал "Америкен хибру" опубликовал интервью с книгяней Радзивилл и Хенриеттой Херблет. В 20-30-е годы за границей появились на русском языке статьи и книги П.Н. Милюкова, А. Карташева, Ю. Делевского, Г. Слиозберга, В.Л. Бурцева, подробно исследовавших историю фальшивки; решительно осудил ее философ Н. Бердяев. Во Франции против распространения ПСМ выступил Т. Рейнак, в Англии — Л. Вольф. Против ПСМ организованно выступило еврейство США, по-
494
лучившее поддержку общественности. Конференция еврейско-американских организаций осудила фордовские публикации; протест был подписан В. Вильсоном, Т. Рузвельтом и еврейскими лидерами страны. Журналист X. Бернстайн (1876—1935) и финансист А. Шапиро возбудили судебные иски против Форда по обвинению в клевете и нанесению морального ущерба еврейской общине США. В 1927 г. Форд был вынужден заплатить штраф Бернстайну, принес извинения евреям страны в письме на имя Л. Маршалла и объявил об изъятии и запрете переиздания книги "Международное еврейство" (что, впрочем, не помешало выходу ее многотиражных изданий в нацистской Германии). Еще больший резонанс вызвали три заседания суда в Берне (ноябрь 1933 — май 1935 г.), рассмотревшего иск еврейских общин Швейцарии против местных нацистов, которые распространяли ПСМ. Суд, заслушав аргументы обеих сторон, рассмотрел вопрос о подлинности ПСМ и объявил их "подделкой, плагиатом и бессмыслицей"; нацисты Швейцарии были приговорены к штрафу. Бернский верховный суд в октябре 1937 г. отклонил кассационную жалобу обвиняемых.
Массовое распространение ПСМ. Судебные разбирательства в США и Швейцарии сумели остановить дальнейшее распространение ПСМ в демократических странах. Тем не менее антисемиты продолжали переиздавать ПСМ, переводить их на все новые языки. Усилилась тенденция связывать создание ПСМ с сионистским движением. Авторство монологов приписывалось Т. Герцлю, М. Нордау, а чаще всего Ахад-ха-Аму. В Германии распространение ПСМ было поставлено на уровень государственной задачи после захвата власти нацистами; в 1934—1945 гг. ПСМ изучались во всех школах страны. Была создана специальная служба "Вельтдинст" для издания антисемитских листовок, в которых, среди прочего, публиковались ПСМ на всех европейских языках. С началом немецкой оккупации ПСМ издавались огромными тиражами, внедрялись в сознание покоренных народов. Распространением ПСМ занимался и отдел пропаганды Русской освободительной армии генерала Власова.
После разгрома Германии и ее союзников мировая общественность узнала правду о Холокосте; Нюрнбергский процесс осудил практику нацистского геноцида. Публикации ПСМ были приостановлены. Однако вскоре распространением ПСМ занялись арабские националисты, заинтересованные в дискредитации сионизма. В Египте, Сирии, Саудовской Аравии и других странах ислама ПСМ неоднократно переиздаются. Призрак ПСМ появился и в коммунистических странах в конце 40 — начале 50-х годов, когда начались преследо-
495
вания еврейской интеллигенции (кампания против "космополитов", "дело врачей", процесс Сланского, "Крымское дело"), однако сама фальшивка не была тогда пущена в ход. Впрочем, в 1968 г. ПСМ открыто продавались в Польше в костелах, а вскоре в Советском Союзе вновь выплыла идея о "тысячелетнем заговоре" евреев — в книге Ю. Иванова "Осторожно, сионизм!" (М., 1969). С этого времени "борьба с сионизмом", трактуемая в духе ПСМ как борьба со всемирным заговором, стала одним из важнейших направлений в советской пропаганде. Нападки на масонов, развивающие идеи ПСМ, появились в работах Н. Яковлева, О. Михайлова, В. Пигалева и других; тему жидо-масонского заговора развивали беллетристы И. Шевцов и В. Пикуль. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 1975 г., объявившая сионизм формой расизма и расовой дискриминации, основана на идеях, получивших широкое хождение благодаря ПСМ. Инициаторами резолюции были исламские страны, где ПСМ стали частью официальной идеологии; их активно поддержали государства социалистического лагеря, в которых ПСМ вошли в практику официальной пропаганды "с черного хода".
ПСМ в конце XX в. Политический кризис, приведший к краху коммунистической системы, вызвал волну антисемитизма на востоке Европы. Еще в 70-е годы в антисемитских кругах Советского Союза распространялась изданная в Париже книга В. Емельянова "Десионизация", обильно цитирующая ПСМ и сеющая мистический ужас перед евреями. С середины 80-х годов в Москве, Ленинграде, Новосибирске, Свердловске и Минске лекторы "патриотических" обществ "Память" и "Отечество" читали избранные отрывки из ПСМ и сопровождали их комментариями, провокационно сопоставляя страшные реалии послеоктябрьской истории России с предсказаниями "мудрецов". В рамках антисемитского "самиздата" появилась новая фальшивка "Катехизис советского еврея" с традиционным образом еврея — злобного врага русского народа. Заново переизданные ПСМ свободно распространяются в перестроечной России, Белоруссии и других республиках. Перепечатки осуществляются и в периодической печати, сопровождаемые антисемитскими карикатурами. Интерес к ПСМ подогревается "респектабельными" органами массовой информации правых сил (журналы "Молодая гвардия", "Наш современник и др.), где заново дискутируется давно решенный вопрос о подлинности ПСМ и где намекают, что расстрел царской семьи в 1918 г. и геноцид крестьянства в 30-х годах являются "ритуальными убийствами", проведенными в соответствии с планами ПСМ.
496
Антисемитизм получает доступ к некоторым программам на радиовещании и телевидении, которые пытаются связать тяжелые экономические и политические неурядицы современной России со злонамеренной деятельностью "русофобов" в духе ПСМ. Многие издательства перепечатывают книги дореволюционных черносотенцев, в частности "Тайную силу масонства" А. Селянинова, "Еврейское равноправие или еврейское порабощение" Я. Демченко, изуверские статьи А.А. Столыпина (брата премьера) и т. п. Черносотенные и монархические идеи, заимствованные из дореволюционных изданий, оказались недостаточными. Распространяется чисто нацистская литература, включая библию нацизма "Майн кампф" А. Гитлера. Церковное возрождение в новых условиях (не всегда сопровождаемое религиозным просвещением) не является препятствием к популяризации ПСМ. Более того, некоторые церковные круги сами пропагандируют издания С.А. Нилуса, включающие "Протоколы", пытаются оживить обветшалый миф о ритуальных убийствах. Апологетов Нилуса не останавливает даже то, что его "пророческая концепция" является антихристианской (в целом) и антиправославной (в частности). Впрочем, кое-кто из них не только "неповинен" в богословских знаниях, но и никогда не читал полностью евангельские тексты.
Реанимация ПСМ происходит в странах Восточной Европы, переживающих период нелегких экономических и политических перемен, что вызывает активизацию националистических сил.
Осуществляются переиздания фальшивки и в исламских странах. Бесспорным отражением мифа, изложенного в ПСМ, явилось высказывание президента Ирака Саддама Хусейна: "Все западные лидеры — марионетки в руках сионистов" (октябрь 1991 г.).
ПСМ не забыты и в странах с демократическим режимом. Так, в США их используют некоторые руководители негритянского движения, в частности "черные мусульмане".
Извлеченные из небытия, ПСМ оказываются востребованными на фоне развала, насилия, политических потрясений, и, возможно, им еще предстоит долгая жизнь.
РОССИЯ И ИЕРУСАЛИМ
Проблема Иерусалима или, в более широком понятии, Святой Земли, в русской истории имела большое значение, как в области духовной, так и политической, что зачастую переплеталось друг с другом.
497
Получив христианство из рук Византии сравнительно поздно, русские княжества не смогли принять участие в общеевропейском деле — Крестовых походах, целью которых как раз и являлось освобождение Иерусалима от "неверных". "Все европейские народы шли вперед в веках рука об руку; и как бы ни старались они теперь разойтись каждый своей дорогой, — они беспрестанно сходятся на одном и том же пути. Чтобы убедиться в том, как родственно развитие этих народов, нет надобности изучать историю; прочтите только Тасса, и вы увидите их всех простертыми ниц у подножия Иерусалимских стен"1. Единственным исключением являлось паломничество игумена Даниила в Палестину как раз во времена второго крестового похода (1106—1108). Считается, что наряду с религиозными причинами путешествия имелись в виду и дипломатические цели. Во всяком случае во время своего пребывания в Иерусалиме (16 месяцев) он неоднократно встречался с королем Болдуином: "Он знал меня хорошо и полюбил, потому что он был муж благий и кроткий, и нисколько не гордый". Болдуин со вниманием отнесся к посланнику из далеких земель и даже ради него накануне Светлого Воскресения вскрыл Святую гробницу для того, чтобы Даниил смог поставить свечу ("Кандило") за "всю Русскую землю и за всех христиан Русской земли".
До Даниила в 1062 г. на Святой Земле побывал преподобный игумен Печерский Варлаам (в миру — сын боярина времен Ярослава Мудрого). И это были не единичные случаи.
Обычно русские "калики перехожие" собирались в дружины и ходили в Иерусалим через Балканский полуостров. Эти калики и занесли на Русь многие апокрифы своих соседей. Их и упоминает Даниил. Даже в русских былинах рассказывается о каликах, совершающих восхождение в Святую Землю, в "славный город Иерусалим". Можно смело утверждать, что путешествия на Восток стали "массовым явлением", что в XII в. церковные власти старались даже сдерживать ревностных паломников, считавших, что лишь поклонение Святому Гробу необходимо для душевного спасения (из вопросов Кирика новгородскому епископу Нифонту). Косвенное осуждение этого явления есть и в хожении Даниила, писавшего о чрезмерной гордости совершивших путешествие в святые места: "погубляют мзду труда своего", тогда как оставаясь дома, можно лучше послужить Богу...
Идея "Москва — Третий Рим", возникшая в XV в., входила в политические расчеты возрожденного русского государства. Но, обуреваемые христианским религиозным рвением, идеологи XVI в. создали "Книгу степенного царского родословия,
498
иже в русской земли в благочестии просиявших богоутвержденных скиптродержателей". В Степенной книге русский народ провозглашается исключительным, единственным: "Русь — Новый Израиль", русская история имеет вселенский характер. Собственно, это подмена еврейского мессианизма русским: «Яко же семя Авраамле, и Исаково и Израилево никто же не может исчести, тако и семя блаженного Владимера, Нового Израиля: по божественному Давиду "зело бо утвердишася владычествия их и паче песка умножатся"»2. Россия объявляется законной наследницей ветхозаветного народа, так как "от племени Авраамля, иже суть Израильтяне, мнози многажды заблудиша от Бога данного им закона, блаженного же Владимера богорасленый плод в роды и роды и доныне никто же не отпаде благодатьнаго Христова закона"3. И это было подкреплено утверждением патриаршества в Московии.
Здесь уместно сказать о иерархии в патриаршестве. Вселенский патриарх располагался в Константинополе, затем следовал Александрийский, который до VII в. именовался "папой" и носил титул "Судии вселенной", затем — антиохийский, носивший титул "Патриарха великого града Божия Антиохии и всего Востока", и наконец — Иерусалимский, "Патриарх Святого града Иерусалима и всей Обетованной земли".
Московский патриарх занимал место непосредственно за иерусалимским патриархом. Вместе с тем соотношения между святыми городами были не равнозначны. Ни Рим, ни Константинополь, не говоря уже о других городах, не могли претендовать на звание Святой столицы мира, и это ясно осознавалось всеми христианами. В русском фольклоре, в "Голубиной книге", сказано ясно:
Ерусалим - град — всем градам отец.
Почему Ерусалим всем градам отец?
Потому Ерусалим всем градам отец,
Что распят был в нем Исус Христос,
Исус Христос, сам небесный царь,
Опричь царства Московского4.
Первая политическая платформа в отношении Святой Земли была выдвинута первым Самозванцем, желающим войти в коалицию с Западом для освобождения Иерусалима и Святой Земли от неверных. Особую пикантность этому придает то обстоятельство, что его ALTER EGO — Лжедмитрий II был евреем из Шклова...
Усиление российского государства и утверждение патриархии приблизило Москву к Иерусалиму настолько, что патриарх Никон приказал основать Новый Иерусалим в окрестно-
499
стях столицы. В 1656 г. на берегу Истры был заложен храм, подобный Иерусалимскому храму Гроба Господня, вплоть до церкви св. Елены, находящейся на глубине, куда ведут 33 ступени — по годам жизни Спасителя. Воссоздание Иерусалимского храма для Никона было первостатейной задачей, подкреплявшей его основную мысль — священничество (духовность) — выше царства (светскости) — "в силу превосходства его задач и правомочий при сопоставлении двух величин"5.
В 1699 г. при подписании мирного договора в Карловицах, завершившего один из этапов многовековых русско-турецких войн, правительство Петра I впервые настояло на праве защиты со стороны России православных христиан, подданных Оттоманской империи. По специальному соглашению 1700 г. между Россией и Турцией русские паломники получили свободный доступ к Святым местам. В знаменитом подложном "Завещании" Петра I (пункт XI, по другим спискам — пункт XII) рекомендуется развить православную пропаганду среди многочисленных христианских сект в Турции, добиваясь признания России верховной покровительницей правоверного христианства6. Исторические фальсификации интересны не только сами по себе, но именно в связи с той целью, ради которой они созданы. "Завещание" как бы угадывает направление русской политической энергии.
В XVIII в. усиление России и борьба за выход к Черному морю привели к созданию "Константинопольского проекта". Автор проекта, Г.А. Потемкин, предполагал передать Святую землю под протекторат России. Заселение Палестины и Иерусалима должно было быть предоставлено евреям, которых следовало туда "депортировать". Потемкин даже пытался воссоздать еврейские вооруженные силы — "Израильский полк", первое еврейское воинское соединение со времен Древнего Израиля. Об этом повествует в своих воспоминаниях маркиз де Линь7.
Близки к этому были и проекты декабристов Дмитриева-Мамонова и Пестеля. Интересно и то, что, как видно из дела еврея Соломона Плонского, русское правительство внимательно следило за сношениями своих евреев, подданых Российской империи, с Иерусалимом: "...он как бы питает надежду на восстановление Иерусалима и на образование там еврейского государства", — писал всесильный Н.Н. Новосильцев в 1821 г. Александру I8. Подозрения русского правительства в отношении политических связей евреев с Турцией или Францией были беспочвенными, евреи были лояльными гражданами России, что и доказали во время войны 1812 г.
Когда мы говорим о Восточной (Крымской) войне, мы не должны забывать идеологическую причину конфликта. Собст-
500
венно, здесь Россия впервые выступила с чисто православной идеей освобождения Гроба Господня от неверных. В качестве одной из главных причин объявлялось то, что ключи от этого самого святого места христиан находятся в руках мусульман.
Нельзя сказать, что поражение России в Восточной войне обескуражило сторонников проникновения в Святую Землю. Наоборот, Россия с удвоенной энергией принялась за старую идею проникновения в Палестину. Как ни странно, но Парижский трактат только укрепил положение России в Палестине9.
В 1843 г., а затем и в 1847 г. в Палестину прибыл негласный агент Синода и одновременно Министерства иностранных дел архимандрит Порфирий Успенский, ставший в Иерусалиме официальным главой Русской духовной миссии. Начиналась планомерная закупка земель в Палестине, собирание памятников древности. Порфирий обнаружил "Синайский кодекс," относящийся к IV в. н. э. Среди сподвижников Успенского самым выдающимся был митрополит Антонин Капустин — духовное лицо, ученый (археолог и нумизмат), политический агент. В 1858 г. в России был создан Палестинский комитет, затем в 1864 г. Палестинская комиссия при Министерстве иностранных дел. Русское Православное Палестинское общество, учрежденное 21 мая 1882 г., с его безграничными финансовыми возможностями подкрепляло российские претензии. Капустину удалось приобрести в российскую собственность, при непрекращающейся конкуренции со стороны европейских правительств, турецких вымогательствах и мусульманской фанатичности, лакомые кусочки Палестины, вроде Мамрийского дуба Авраама в Хевроне. В Иерусалиме у абиссинцев был приобретен участок земли, непосредственно прилегающий к Храму Гроба Господня. На этом месте была построена церковь Александра Невского, а на месте раскопок был найден "Порог Судных врат". Так как турецкое правительство не признавало Палестинское общество в качестве юридического лица, то приходилось все купчие делать через подставных лиц или членов русской миссии. К 1914 г. Палестинскому обществу принадлежало три подворья в Иерусалиме, где можно было одновременно принять до 7 тыс. человек, Назаретское, до 1 тыс. человек и подворье в Хайфе.
Постоянно возрастал и поток русских пилигримов, где уже преобладали не евреи, а православные.
Одним из российских эмиссаров в Палестине был известнейший русский художник Василий Васильевич Верещагин. Ему принадлежат замечательные полотна, воспевающие библейский Иерусалим. Кстати, он был не первый русский художник, посетивший Палестину. Его предшественниками были
501
братья Захар и Никанор Чернецовы, побывавшие здесь дважды в 30 и 40-е годы XIX в. Современник Верещагина Поленов создал свои лучшие полотна также в Палестине. Но Верещагин оставил также замечательные путевые записки о своем путешествии. Он отметил большое число русских евреев в Иерусалиме 1883—1884 гг.: "Евреи, особенно пожилые, приходят в громадном числе в Святой город, чтобы провести здесь остаток своих дней и быть похороненными в долине Иосафата, откуда, по их верованию, они будут призваны ранее других к будущей жизни. Еврейское население сильно возросло за последние годы. Турецкое правительство не на шутку встревожилось этим еврейским нашествием и поэтому воспретило евреям оставаться на Святой Земле более 30 дней и селиться здесь". Любопытное наблюдение — это были годы первой алии. Кстати, пребывающий в Иерусалиме корреспондент "Нового времени" в свойственной этому изданию манере вступался за русских евреев, выселенных из Святого града Реуф-пашой: "...в Палестину не стали пускать русских евреев, снабженных нашими паспортами. Я помню, какой гвалт поднялся в Европе, когда одного английского еврея выслали из Петербурга, на основании закона, запрещающего жить евреям в столице долее известного срока; здесь без всякого закона губернатор своей властью сотни лиц русских подданных не пускает на турецкую территорию, хотя их паспорта визированы турецкими консулами... Неужели мы не можем заставить уважать права русских подданых, будь они евреи, армяне или татары. Нарушение же прав русского подданого затрагивает наше достоинство..."10 В еврейской прессе в это же время, правда в ироническом контексте, та же затаенная мысль о возрождении древней Родины при помощи России: «... не имели ли в виду Россию и прочие наши пророки, говоря, например, о возрождении Палестины... Вот найдется завтра какой-нибудь... и докажет нам, "что восстановление поруганной и т. д. Иудеи" русскими штыками в таком-то году предсказано там-то и там-то у Исайи или Иеремии»11. В разговоре с бароном Гинцбургом граф Н.И. Игнатьев, министр внутренних дел, мечтавший заселить отдаленные русские окраины, депортировав туда евреев (речь шла именно о депортации, именуемой тогда "переселенческим уставом"), чтобы поднять в культурном и экономическом отношении далекие окраины и, если евреи справятся с этой миссией, передвинуть их в новое завоеванное место, на вопрос собеседника: «Ну а как евреям надоест роль "вечного жида?"» — дал достойный ответ, важнейший для нашей темы: «Евреи от нас не уйдут... вот и выселившиеся в Палестину и Америку распевают, как говорят, "Вниз по матушке по
502
Волге". В Палестине евреи нам сослужат еще большую службу... Они явятся там нашим форпостом и помогут нам добыть ключи от гроба Господня»12.
Возвращаясь к Верещагину, напомним, что он рисовал несколько раз раввинов, а гонораром за позирование служил... стакан водки13.
Рисовал художник и арабов, отмечая, что часть из них — христиане лишь по названию: они охотно переходят из одной религии в другую. Это же подтвердил ему иерусалимский патриарх Никодим: "Денег мало, дайте больше денег, через десять лет я всю Палестину обращу в православие"14.
На рубеже веков выросло новое течение в иудаизме, пришедшее на смену "палестинофильству" — сионизм. Сын известного А.С. Суворина — А.А. Суворин, путешествовавший по святым местам и издавший роскошный альбом "Палестина" с иллюстрациями художников А. Кившенко и В. Навозова, обратил внимание на то, что в Иерусалиме к середине 90-х годов прошлого века было 28 тыс. евреев из общего 40-тысячного населения — неоспоримый аргумент в "споре о Сионе". Борис Борисович Глинский (1860—1917), историк и журналист, опубликовал в "Историческом вестнике" обширную статью о книге Суворина. Для него это было лишь предлогом проанализировать положение в Палестине. Собственно, ему принадлежит одна из первых статей о сионизме. Он говорит об исторической связи этого современного политического движения, корни которого лежат в археологии, преданиях и в исторической географии, «когда то, что мы разумеем в настоящее время в широком смысле "Палестина", была именно колыбелью иудейства, знаменитой родиной Авраама, Исаака и Иакова». Далее идет утверждение, не потерявшее своей актуальности и сегодня: "Поэтому я и позволю себе, говоря о тяготении современных народов к Палестине, по праву исторического первородства, поставить вопрос о евреях в Палестине и сионистское дело во главу настоящего очерка"15. Глинский анализирует положение евреев в современном мире, высоко оценивает созидательный труд еврейских колонистов и практически становится апологетом возрождения еврейской общины на Святой Земле. Он подчеркивает российско-еврейский элемент в новом движении, включая такой факт, как присутствие делегатов из Российской империи на Базельском конгрессе, — 55 человек из 204. Глинский в восторге от еврейских земледельческих колоний, создавших в Палестине виноделие и экспортировавших вино на рынки России, Германии, Англии, Франции. Восхищался созданием в Иерусалиме художественно-промышленной школы (предшественницы школы Беца-
503
лель), производившей поделки из оливкового дерева и перламутра, изделия светского характера — веера, художественную мебель, перочинные ножи и т. п. В это же время была построена железная дорога из Яффы в Иерусалим, способствовавшая притоку туристов. Их число превышало 20 тыс. человек в год. Конечно, не всегда русский путешественник или критик доброжелательно относился к поселению в Палестине. Тот же самый "Исторический вестник" спустя три года опубликовал статью "Паломничество в Палестину" Ивана Павловича Ювачева (1850 — после 1933), кстати, отца писателя Даниила Хармса и бывшего народовольца. Он также говорит о сионизме и о положении евреев в Палестине и в мире. Его собеседник — болтливый еврей (стереотип русской литературы), выдающий "великие тайны" и чаянья своих соплеменников. Над разговором витает тень всесветного заговора. Поначалу собеседник жалуется на турецкое правительство, воспрещающее еврейскую эмиграцию. Сам он каким-то образом обманул бдительность полиции. Затем разговор перешел на мечтания сионистов. Еврей оказался адептом идеи и высказал несколько "практических идей": "Чтобы выкупить Палестину, — говорил он, — надо считаться не с одними турками: вся христианская Европа слишком заинтересована в Святой Земле и, конечно, не позволит туркам продать ее евреям. Да и сами мусульмане ни за что не уступят нам свою святыню в Ель-Кудсе (Иерусалиме). Но, мне кажется, нам, евреям, и незачем выкупать землю. Господами ее мы сделаемся гораздо проще. Не сегодня-завтра Палестиной завладеют христиане, внесут в нее европейскую культуру, возделают голые скалы, как сад эдемский... Вот тогда придем и мы на готовенькое и возьмем себе львиную часть всех благ земли Израильской. Если теперь большая часть жителей Иерусалима евреи, то будьте покойны, тогда-то их будет еще больший процент..." Нарисовав привлекательную картину будущего, где смешаны типологические черты еврейского хвастовства, штампы и стереотипы антисемитизма (хитрость, изворотливость, отлынивание от тяжелой работы и т. п.), "типичный болтливый еврей" задает автору провокационный вопрос "Вы сомневаетесь?". Бывший народоволец не сомневается и рисует еще более ужасающую картину будущего в духе "Протоколов Сионских мудрецов": «Нисколько! Напротив, охотно присоединяюсь к вашему мнению, — поспешил я согласиться с ним. — Только я смотрю несколько шире на этот вопрос. Мне странно слышать, что евреи домогаются овладеть маленьким клочком земли, называемой Палестиной, когда они скоро завладеют всем земным шаром, всем миром. Ваши же пророки предсказали, что в последние дни евреи во-
504
зобновят свое прежнее царство в Иерусалиме, и им подчинятся все другие народы. Только... при одном условии: когда сыны Израилевы "обратятся и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего". То есть, когда они признают "Сына Давидова" за Мессию. Разве не очевидно, что евреи, принявшие христианство, царят теперь во всех отраслях торговли, искусства и политики. Статистики насчитывают евреев иудейского вероисповедания каких-нибудь восемь миллионов; но подсчитайте, какая масса евреев скрывается под видом немцев, французов, англичан и вообще всех народностей. Итак вопрос об еврейском царстве в последние времена разрешится сам собою». Настало время еврею-болтуну отвечать на эту инвективу, но: "Сначала мой собеседник порывался возразить мне, но потом, сделав большие глаза, вопросительно взглянул на меня искоса и, не сказав ни слова, медленно удалился"16. В свое время об антисемитизме в кругах народовольцев писали. (Отсылаю, например, к статье В. Свирского «"Народная воля" и еврейские погромы» в "Новом русском слове" от 10 июля 1991 г.)
Эту же эволюцию прошел и Лев Тихомиров, ставший корреспондетом С.А. Нилуса и уверенный в мировом еврейском зле. Ювачев, видимо, уже знаком с работой Вл. Соловьева "Три разговора" и с "самиздатовским" вариантом "Протоколов Сионских мудрецов". Так как работа Соловьева была опубликована еще в 1899 г., знакомство с ней очевидно. В "Краткой повести об Антихристе" как раз и говорится о последних днях, об обращении иудеев и, конечно, местом действия последний драмы является Иерусалим и его окрестности.
Введение в антисемитскую практику ссылки на "Протоколы Сионских мудрецов" стало нормативом еще в начале века. Приведем почти неоспоримый факт знакомства с "Протоколами" начальника московского охранного отделения. Указывая на успех своей деятельности в борьбе с "Бундом", Сергей Васильевич Зубатов почти дословно цитирует "Протоколы": "...среди них (евреев. — С. Д.) оказались лица, решившие твердо вступить на новый путь деятельности. Самодержавный идеал оказался им понятным; так как и самая еврейская религия учит верить в пришествие Мессии и восстановление еврейского государства с воцарением на престоле рода Давида, демократического же политический идеал является совершенно чуждым национальной политической мысли еврейства..."17 Сравните 14 последних "Протоколов", описывающих переход к всемирному самодержавию с главой — царем из рода Давидова. Самодержавная форма правления в противовес демократии превозносится как идеальная.
505
Если мы говорим об антисемитизме, то следует сказать и о филосемитизме. Можно даже говорить о психологии филосемитизма. Высшей формой филосемитизма, по моему мнению, является полная идентификация себя с еврейским народом, т. е. переход в иудаизм. Один из исследователей сектантства пишет о том, что отказавшись от Христа и христианства, русские люди отказались от своей народности и потому перестали быть русскими. Своей родиной они уже считают не Россию, а Палестину. Россию они называют не иначе, как Ассур, читая справа налево по-еврейски (Русса). Себя субботники признают в России узниками, евреев считают своими братьями. Молебствие они совершают в черных ермолках, носят тфилин и цицот. Все, что сказано в Библии в адрес Вавилона, Ассирии и Египта, субботники относят к России. И, наконец, они отказались приносить верноподданическую присягу18. Субботники в прогрессе техники XIX в. видят очевидные признаки приближающегося прихода Мессии, облегчающего евреям возможность скорее оказаться в Палестине. Прокладка железных дорог, рытье туннелей через горы, открытие Суэцкого и Панамского каналов — все должно помочь иудействующим быстрее собраться в Иерусалиме, где в долине Иосафата Господь будет судить народы19. Жидовствующие, проживавшие в селах Цареве, Пришибе и Заплавном Астраханской губернии, еще 80-х годах прошлого века решили переселиться на Святую Землю. Они вступили в переписку с бароном Ротшильдом, посылали ходоков в Палестину, собираясь в "круг", чертили на земле "плант" Обетованной родины... В 1903 г. жидовствующие Тамбовской и смежных губерний, распродав свое имущество, переехали в Палестину. Некоторые из них вернулись обратно, но эта часть не превышала обычной части еврейской "неширы", отсева. Но все-таки большинство прижилось и пустило корни в земле Израильской. Наиболее знаменита семья Иоава и Дины Дубровиных, родом из Астрахани, ставших "образцовыми сельскими хозяевами" в Палестине. Ныне их усадьба превращена в музей. В Музее диаспоры (Тель-Авив) вам расскажут о десятках еврейских семей, корнем которых были русские субботники: Эфрони ведут свой род от Нечаевых, Шмуэли от Протопоповых, Дроры от Куракиных, Яакоби от Матвеевых...20 Интересно описал свою встречу с герами поэт Довид Кнут. Он увидел типичного, прямо лубочного русского мужика Моше Куракина, который выполнял должность "габая" (синагогального старосты). При этом в поселке были и чистокровные евреи. Сын габая Куракина уже еле-еле говорил по-русски...21 О семействе Куракиных существует предание, что они княжеского рода, а один из Куракиных, будучи
506
священником, принял затем иудаизм и прибыл в Палестину. Предполагают, что Лев Николаевич Толстой именно с него писал своего Анатоля Курагина. Легенда красивая, но маловероятная. В сентябре 1997 г. один из потомков Куракиных — Йосеф Куракин, подполковник Израильской армии, командир спецотряда, погиб в Ливане...
Обычно миссионерские обозрения весьма сдержанно относятся к жидовствующим. Во всяком случае, прямая брань в адрес раскольников отсутствует. Тем удивительнее появление некой статьи в одном из сборников 1904 г. Автор в порыве негодования считает иудействующих предателями родины: "Ошибается тот, кто вздумает положиться на верность жидовствующих русской державе и русскому знамени!". Стремление к Палестине, по мнению автора, следствие не того, что их принуждают работать по субботам, а именно того, что они "жидовствующие". То есть, если мы расшифруем эту фразу, — неофиты желают выполнить свой религиозный долг и поселиться на Земле Обетованной. Автор признает, что большинство субботников люди состоятельные. Он злорадствует, что те из них, кто не не смог устроиться в Палестине, возвращаются, но возвращения в лоно православия, вероятно, не происходит — иначе этот факт был бы отмечен. Жизнь для европейца в Палестине всегда была тяжела. Это может быть сформулировано так: могущественное религиозное обаяние местности побеждает отвращение к жизни в этой среде.
Субботники собираются партиями в Одессе, ищут помощи у местного "кагала" и получают ее. Следующая инвектива весьма характерна: «Через доверенного барона Ротшильда, раввина И. Любецкого, получая "поддержку из Парижа", конечно, от Всеобщего Израильского Союза и франкмасонства, столь могущественного и в правящих сферах Франции, наши жидовствующие целыми партиями и переселяются в Палестину...»22 Да, действительно, некоторые субботники, движимые любовью к покинутой Родине, возвращались в Россию. Что их ждало? Есть совершенно изумительное воспоминание, относящееся к концу 30-х годов: «Думается, было в нем две души: старого новгородца-ушкуйника, эдакого русобородого и голубоглазого русича-богатыря и библейского древнего иудея, воина Гедеонова войска и, одновременно, мечтателя-псалмопевца. Инженер, специалист по огнеупорам, Неемия Элеазарович Палкин и был потомком новгородских жидовствующих. Первый и последний раз в жизни встретил я человека, который воочию, в наши дни, воскресил передо мною облик этих вот последователей мудрого рабби Схарии и родственных им в какой-то степени новгородцев-стригольников. Сионист, он
507
каким-то чудом вырвался в конце двадцатых годов из советского социалистического парадиза в Палестину. Очень музыкальный, он и на берегах не Иордана, а суровой Ухты напевал из глинковского "Князя Холмского":
Понесем в старый дом —
В Палестину...
Ну а в Палестине он смертельно затосковал по Волхову и Неве, по русским перелескам и русской песне.
— Представь, — рассказывал он мне, — ну никак не смог жить без Пушкина и Бородина... И вот черт дернул вернуться...
Семь или восемь лет (уже не помню) заработал он за эту тоску по "берегам отчизны дальной", и вот теперь, на Ухте, был главным инженером большого Ухтинского кирпичного завода...»23 Жидовствующий Неемия Элеазарович был мужественным и порядочным человеком; среди прочего он умудрился сохранить жизнь писателя Остапа Вишни. К этому следует добавить, что там же, на Ухте, пребывал и "кремневый сионист", инженер 3., специалист по переработке нефти: будучи отнюдь неверующим, он свято соблюдал субботу, несмотря на изолятор и другие издевательства тюремного начальства. Он считал, что исполнение всех требований иудаизма и еврейских традиций — непременное условие существование нации24.
Здесь уместно вспомнить, как русская художественная литература и, даже шире, русское искусство воплощало идеи жидовствующих. В XIX в. интерес был высок и вызывал не только отрицательные коннотации. Я хочу остановить внимание читателей лишь на двух произведениях: историческом романе И.И. Лажечникова "Бусурман" (1833) и драме Н.В. Кукольника "Князь Даниил Васильевич Холмский" (1840).
Иван Иванович Лажечников (1792—1869) был не только автором популярной и по сию пору исторической прозы (достаточно упомянуть роман "Ледяной дом"), но и крупным администратором, занимавшим значительные посты (вплоть до поста витебского вице-губернатора). Наблюдения за еврейской жизнью подсказали ему сюжеты некоторых сочинений, в том числе и написанной в 1849 г. пьесы "Дочь еврея". Роман "Басурман" повествует о времени "жидовствующих" и воссоздает перед нами трагическую историю казненных в Москве в XVII в. еврейского врача мессера Леона и врача — "немчина" Антона Эренштейна, Федора Курицына и главу сектантов еврея Схарию: "...в тогдашнее время не было выгодной должности, которую не брали на себя потомки Иудины. Они мастерски управляли бичом и кадуцеем, головой и языком... Особен-
508
но на Руси, несмотря на народную ненависть к ним, в Пскове, в Новгороде и Москве шныряли евреи — суконники, извозчики, толмачи, сектаторы и послы. Удача вывозила из Руси соболей, неудача оставляла там их голову"25. И далее: "Антона привез в Москву жидок. Воображал ли молодой бакалавр, что сам привозит в русский стольный город основателя секты на Руси. Извозчик его не иной кто был, как Схария. Правда он успел дорогой заметить в своем возничем необыкновенный ум, увлекательное красноречие, познания химические и редкую любознательность..."26 В этой весьма объективной характеристике чувствуется симпатия автора к своим героям.
Одним из главных действующих лиц пятиактной драмы Нестора Васильевича Кукольника "Князь Даниил Васильевич Холмский" является богатый псковский купец Захарий Моисеевич Ознобин, на деле оказывающийся главой секты жидовствующих Схарией. При ярко выраженном антисемитском характере драмы следует признать, что автору, безусловно, удалось отобразить серьезность ереси, да и описания сектантов и евреев выполнены не одной лишь черной краской (в частности, драматург подчеркивает широкую благотворительную деятельность Ознобина). Наконец, в уста его дочери Рахили Кукольник вкладывает проникнутую симпатией песню о Сионе:
С горных стран Загорит
Пал туман Заблестит
На долины, Свет денницы.
И покрыл И орган,
Ряд могил И тимпан,
Палестины. И цевницы,
Прах отцов И сребро,
Ждет веков И добро,
Обновленья. И святыню
Ночи тень Понесем
Сменит день В старый дом
Возвращенья. В Палестину27.
По словам самого Кукольника, эта песня, написанная в 1840 г. и для представления на сцене Александрийского театра положенная на музыку М.И. Глинкой, отражает "мистическое пророчество народа, жаждущего родины"28. "Песнь Рахили" стала большой удачей композитора. Кукольник писал: "...Жидовская песня, из Холмского, поразит каждого колоритом, энергией, правдой звуков и гармоническими достоинствами, которые и в рукописи были предметом справедливой похвалы многих"29.
509
Зачастую геры селились в Иерусалиме. Имеются интересные сведения, относящиеся к пребыванию неофитов в Иерусалиме и в Палестине между двумя войнами.
Переход в иудаизм в России происходил не только среди крестьян, но и в среде интеллигенции. Так, незадолго до первой мировой войны несколько семейств казаков на Кубани стали герами. Особенно любопытна судьба полковника Яковлева, который с большим трудом прибыл в Палестину и стал правоверным евреем, изучающим талмуд30.
Уверовавших ждал земной-небесный Иерусалим. В звучных виршах, напоминающих стихи Бенедиктова и капитана Лебядкина, а в будущем и Николая Заболоцкого, капитан Н.С. Ильин, основатель "Десного братства", писал "гимн всемирного Святителя Божия на вшествие бессмертных людей в вечный город Иерусалим на преображенной земле":
"Что за город, что за диво
Нам для жительства ты дал!
Как изящно, как игриво
И премудро ты создал!
Что за чудная природа,
Распрелестный вид садов!
Как затейлива природа
Разных фруктов и плодов!
..............................................
Над цветами хороводы,
Аллегорий вензеля,
Насекомые породы
Чудно строят из себя...
Сей город Иерусалим будет спущен с неба... Окруженный огромной стеною из яшмы с 12 воротами из 12 жемчужин, город будет иметь в середине дворец Иеговы... Из-под дворца будет протекать река по всем улицам, а по берегам ея расти фруктовые деревья. От еды этих плодов люди не будут стареться, а будут пребывать в возрасте мужчины — 34, а женщины — 16 лет. Войны здесь не будет, волк и ягненок будут пастись вместе; лев станет есть сено, а змея землю"31.
Замечательная картина будущего. Немного терпения, и мы войдем в бессмертие...
510
ВЕЧНЫЙ ЖИД
Когда пилигримы двигаются по Страстному пути, то напротив VI станции (там, где св. Вероника отерла лицо Господа) и оставляя позади место, где Симон Киринеянин помог нести крест Иисусу, чуть наскосок, находится дом Вечного жида. Лишь очень дотошный экскурсовод может показать это место.
Здесь, по преданию, остановился отдохнуть Иисус и, по контрасту с добрым жителем Кирены, находившийся рядом человек сказал: "Иди!". И в ответ услышал: "Теперь ты пойдешь". И человек пошел и идет, не останавливаясь, уже две тысячи лет. Имя его — Агасфер.
В принципе эта легенда поздняя, возможно, XII—XIV вв. Во всяком случае раннее средневековье эту легенду не знало. Эта легенда родилась почти в одно время с другой "вещественной" легендой — так называемой "Туринской плащаницей". Первое упоминание о Туринской плащанице относится к 1353 г. Корни обеих легенды восходят ко времени последних Крестовых походов, т. е. являются восточного, палестинского происхождения. Напомним, что в средневековье евреев называли "свидетельствующими", так как считалось, что Господь хранит евреев как живое свидетельство слов и деяний Иисуса. Крах идеи Крестовых походов немало добавил к перспективам установления Христова царства на земле. Вечный жид — это одно из проявлений "мировой скорби", охватившей европейский мир в это время. Миф, родившийся в муках поражения Святой Земли, находящейся во власти неверных, выдержал испытание временем. И в новое время легенда об Агасфере нашла свое место.
Первое упоминание об Агасфере зафиксировано у английского хрониста XIII в. Матиаса Париса. Он повествует о том, что в 1228 г. в Англию прибыл архиепископ из Армении и рассказал историю некоего Иосифа-Картафиле, бывшего привратника, присутствовавшего при страданиях Спасителя, оскорбившего Иисуса и обреченного на бессмертие, чтобы свидетельствовать об истине Воскресения. В этом изводе легко прослеживается связь с Евангелием от Иоанна (21:20—24): "И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет". Герой рассказа Матиаса Париса должен ожидать пришествия Христа для своего прощения. Раз в 100 лет на него нападает болезнь, кажущаяся неизлечимой, но затем он вновь становится здоровым и молодым, каким был в пору казни Иисуса, т. е. ему делается 30 лет. В нашу задачу не входит рассказывать о всех литературных воплощениях Вечного странника. Их было великое множество. Наиболее популярное изложение,
511
известное всем, это роман Эжена Сю. Иногда история Вечного странника перевоплощалась в легенду о долгожителе со всевозможными вариантами. Таковы "Шагреневая кожа" Оноре Бальзака, "Чудесная история Петера Шлемиля" Адельберта фон Шамиссо, "Сатанинская бутылка" Р.Л. Стивенсона и др.
И, наконец, Вечный жид становится метафорой или, может быть, синонимом вечности: вечности поиска, вечности мысли. "Мысль — вечный Агасфер, ей нельзя остановиться, ее пути не может быть цели, ибо цель — самый путь"1.
Свой вклад внесла и русская литература, много заимствовавшая из апокрифов. Средневековые легенды об Иуде и Пилате, Иосифе Аримафейском, Веронике и стражнике Малхе, которому Петр отсек ухо, распространялись по Европе, превращаясь в своего рода бродячие сюжеты. Исследователи считали, например, что легенда о чудесном спасении Иосифа Аримафейского близка к вышеприведенным. Имеется повод для сближения образа Агасфера с упомянутыми героями. Одно малороссийское сказание чрезвычайно близко к "изуродованной" легенде о Малхе-Иосифе-Картафиле. В продолжение четырех недель луна перерождается, с нею вместе перерождаются и евреи, которые распяли Спасителя и стояли на страже у гроба Господня в Иерусалиме. Они стоят там до настоящего времени и на вопросы проходящих: "Колы ты вродывся", — отвечают: "Вчера"; "Колы ты умрешь", — отвечают: "Завтра". А. Веселовский сближает эту украинскую притчу с мифом об Агасфере. Как Картафиль не может умереть, а болеет каждые 100 лет, чтобы снова возродиться, так и малороссийские Жиды возрождаются с каждым новолунием2.
Этой темой заинтересовался и А.С. Пушкин. Сохранился план поэмы, записанный приятелем Адама Мицкевича Ф. Мелевским со слов самого Пушкина: «19 февраля 1827... Пушкин. О своем "Juif errant"*. В хижине еврея умирает дитя. Среди плача человек говорит матери: "Не плачь. Не смерть, жизнь ужасна. Я скитающийся жид. Я видел Иисуса, несущего крест, и издевался...». Остался небольшой отрывок (жаль, что замысел не был завершен), датированный 1826 г. и названный "Агасфер" — быть может, это самое серьезное, что написал великий поэт о евреях:
В еврейской хижине лампада
В одном углу бледна горит
Перед лампадою старик
Читает Библию... 3
__________________
* Странствующий еврей (фр.)
512
Каролина Павлова также отдала дань этой теме, когда ее герой Калиостро говорит:
Я был в далекой Галилеи;
Я видел, как сошлись евреи
Судить мессию своего;
В награду за слова спасенья
Я слышал вопли исступленья;
"Распни его! Распни его!"
Генеалогию своего героя Павлова ведет с патриарших времен: он не Агасфер, он не Каин, он не провинился перед Богом — он просто свидетель дней минувших. Он, правда, как Вечный Жид, должен свидетельствовать о казни Христа и вообще о том, что толпа, чернь всегда неблагодарна к своим Благодетелям:
Толпу я знаю не отныне:
Шел с Моисеем я в пустыне;
Покуда он, моля Творца,
Народу нес скрижаль закона, —
Народ кричал вкруг Аарона
И лил в безумии тельца4.
Я.П. Полонский в своей поэме "Вечный жид" придерживается традиционной интерпретации: Агасфер наказан за черствость души:
Из гордыни, из боязни,
Я Христу не мог помочь,
В страшный день, на место казни
Крест тяжелый доволочь.
Я, как бы в угоду века,
Сострадать ему не смел,
Образ Богочеловека
Я в страдальце проглядел.
Бунт Агасфера робок: он вопрошает Всевышнего, почему он единственный должен нести ответственность за малодушие, трусость, черствость:
....................За что же
Проклят я один за грех
Безучастия?.. О Боже!
Этот грех лежит на всех!..5
У Вильгельма Кюхельбекера Агасвер (такова форма написания этого имени по поздней латыни — Ahasverus) — правовер-
513
ный еврей, оттолкнувший Иисуса от своего порога. Интересно, что толчком к созданию этой поэмы послужило знакомство с переводной испанской повестью "Таинственный жид". Время действия 1492 г., когда Торквемада изгонял евреев из Испании. В центре повести "вечный жид", схваченный инквизицией и приговоренный к сожжению. Из примечаний переводчика следует, что повесть была напечатана в Лейдене в 1569 г. под названием "Удивительное судопроизводство". У Кюхельбекера Агасвер, набожный еврей, верящий в приход Мессии и разочарованный его деятельностью, переживает духовный кризис и оскорбляет своего бывшего кумира:
... И Агасвер мечтает: "Ныне чада
Израиля провозгласят его;
Он снимет плен с народа своего!"
Увы, этого не происходит, Иисус является не грозным вождем, обращающим в бегство врагов, а всего лишь утешителем скорбящих, которому уготована позорная казнь:
В пути коснеют тяжкие стопы
Спасителя; под кровом Агасвера
Остановился он. Тогда грехов
Отступника исполнилася мера:
Хотел вещать — не может; но без слов
От прага оттолкнул немилосердный
Того, кто бы смягчил и камень твердый,
Кто шел на муку за своих врагов! 6
Тема для Кюхельбекера не была исчерпана: в романе "Последний Колонна" он вновь возвращается в "вечному жиду". Оригинальность мышления Кюхельбекера заключается в том, что он был убежден в историческом воплощении и перевоплощении Агасвера. Для примера он приводит трех религиозных мыслителей-мистиков, имеющих одну специальность — сапожник. (По одному изводу легенды, современник Иисуса как раз был "сандляром" — делателем сандалий, башмачником.) Годы рождения и смерти трех мыслителей почти совпадают: Ганс Сакс (1494-1576), Яков Бёме (1575-1624) и Георг Фокс (1624—1691). Кюхельбекер, много заимствовавший из немецкой литературы, в данном случае идет за Ф. Шиллером, автором "Духовидца" (1787—1789). Мы говорим не только о форме — оба произведения по жанру являются эпистолярными романами, а действие и в том, и в другом начинается в Италии. В мистическом романе Шиллера много ассоциаций и с Вечным жидом: загадочная фигура поначалу представляется армя-
514
нином (вспомним архиепископа из Армении). Одно из его перевоплощений — русский офицер: "Никогда в жизни мне не приходилось видеть лицо столь характерное... Как будто все страсти избороздили это лицо, а затем покинули его, — и остался только бесстрастный и проницательный взгляд глубочайшего знатока человеческих душ — взгляд, при встрече с которым каждый в испуге отводил глаза"7. Появление Вечного жида Кюхельбекеру кажется неестественным: "Много высокого и поэтического в этом сказании; но нет ему основания ни в книгах Нового Завета, ни в творениях святых отцов, ни в преданиях нашей церкви: итак, оно, оно — изобретение человеческое. Того, кто в наши дни вздумал представлять... Агасвера, считаю... обманщиком или сумасшедшим"8.
Вечный Жид двигался по планете. Русские интеллигенты искренне желали, чтобы путь Вечного странника завершился в России: "Пусть Агасфер воткнет свой посох в русскую землю и пусть посох этот пустит корни в родной земле и покроется цветом, и принесет плоды, и залечит раны, и успокоит душу, страданиями упитанную, долго и безмолвно томившуюся. Я верю в это будущее!"9 Но тщетно, Агасфер уходит из России. Обращение к образу Агасфера у Южакова связано с сионистской идеей, наложенной на страшный Кишиневский погром. Увлеченный личностью Теодора Герцля, Сергей Николаевич вместе с тем трезво смотрел на практическое осуществление заселения Палестины, требующее неимоверного труда. Но не только это заставляло его призывать евреев остаться в России. Русский патриот, он понимал, какой добротный человеческий материал теряет его родина. Он вопрошает: «Позволительно, однако, спросить, в самом деле необходимо ли это море человеческих страданий, утрат и кровавого труда? Действительно ли нет для еврея другого исхода, как снова брать в руки свой старый посох Аарона и Моисея, снова класть котомку на исстрадавшиеся плечи и снова брести в неведомую даль за неведомым, но несомненным страданием? Я понимаю ту душу, которая, словами двух великих поэтов, "страданиями упитана была, томилась долго и безмолвно"10. Я понимаю, признаю и уважаю и великий гнев, который переполняет эту душу, и твердую благородную решимость найти честный и достойный выход из нестерпимого положения. Я понимаю, признаю и уважаю эти чувства и так же думаю, что выход из этого положения, нестерпимого для евреев, недостойного и постыдного для христиан, должен быть найден во что бы то ни стало и какою бы то ни было ценою. Новый Exodus, однако, есть ли этот выход?» Далее Южаков дает историю скитаний еврейского на-
515
рода: "Сколько уже было этих Exodus'oв! Из Палестины в Египет, из Египта в Палестину, из Палестины в Вавилон, из Вавилона в Палестину, из Палестины на южные европейские полуострова, из Италии в Германию, из Испании в Англию и Францию, из Германии в Польшу, Литву и Западную Русь... И опять отсюда в Уганду? Если оставим в стороне насильственное выселение из Вавилона и южную Европу, остальные иммиграции были добровольные, были искомыми выходами из тяжелых условий. Что они дали, однако? После одного Exodus'a другой, третий и т. д. Когда же этот конец? Многострадальному Агасферу, вечному скитальцу по лицу земли, пора сказать себе: "довольно я странствовал по белу свету, гонимый человеческою неправдою, манимый миражем обетованной страны; довольно странствовать! В эту землю я погружаю мой страннический посох, на этой земле складываю свою котомку, здесь найду свое отечество и здесь, без нового и нового Exodus'a, сумею приобрести положение, достойное человека". Призыв Южакова: "Не в скитаниях исход, а в приобретении признания своих человеческих прав, в приобретении отечества, не химерической обетованной земли с химерическим мессией, а реального отечества, с которым вместе и страдается, и радуется"11.
Нельзя сказать, что эмоциональный призыв писателя не находил отклика. П.Ф. Якубович-Мельшин (1860—1911), народоволец и поэт, относился к идее сионизма скептически и предсказывал усиление антисемитизма "в мировом масштабе" после возможного создания еврейского государства в Палестине в ближайшие 30—50 лет (речь идет о начале XX в.). Мельшин же предсказывал, что ко времени осуществления идеи сионизма численность евреев в России достигнет 20 млн12. Но... впереди евреев вновь ждали погромы — "простые", мирного времени, погромы мировой и гражданской войн. Репрессии общие и национальные и, самое главное, впереди была страшная война, унесшая миллионы еврейских жизней — и не только еврейских. Не осуществилась мечта Якубовича-Мельшина — не будет в России 20 млн. еврейских тружеников. А Обетованная Земля обернулась Еврейской автономной областью.
В одной из неопубликованных статей В.И. Вернадского "Мысли за океаном", относящейся к 1913 г. (опубликовать, вероятно, помешала война), говорится приблизительно то же, что и у Южакова: Россия теряет лучшие интеллектуальные силы. "Сейчас идет все усиливающийся поток русской эмиграции в Америку... Несомненно, первые пути были проложены в Америку русскими евреями. Гонения и погромы, разорения и стеснения заставили их двинуться тысячами семей в Новый
516
Свет... Большая часть бежала от гонений, убийств и притеснений. Здесь, в Америке, особенно ярко видно, какую огромную творческую созидательную силу потеряла Россия в безумной политике антисемитизма в его диких формах, которые имели место у нас... В массе евреев, прекрасно устраивающихся в Новом Свете, поднимающих его национальное богатство, мы потеряли часть того капитала, который история дала России и которым должны были уметь воспользоваться его государственные люди (курсив мой. — С. Д.)"13.
Легенда о Вечном страннике дожила до XX в., и вариант ее рассказан в одном из "Писем к Ближнему" М.О. Меньшикова. В этом письме рассказывается о двух посетителях журналиста. Второй посетитель, точнее посетительница, в дом которой ему пришлось ехать, была, как можно судить, Юстина Глинка, предлагавшая для публикации документ, "выкраденный из масонского архива". Об истории этого посещения рассказано мною в "Истории одного мифа", посему оставим в стороне "всесветный заговор евреев". Поговорим о первом посетителе. Думается, что это не литературный персонаж. Автора посетил Некто, не имеющий ни имени, ни прошлого:
«С прошлой осени меня посещает от времени до времени таинственный старик, ни имени, ни фамилии которого я не знаю. Я был как-то один на своей маленькой даче, когда он вошел... окна были открыты и не принять незнакомца не было никакой возможности. Сколько я ни расспрашивал его о том, кто он, он утверждал, что у него нет никакого имени. По самой природе его лица, он просто "сущий", и как таковой — вне времени и пространства. Он сказал мне снисходительно, что он мой читатель, что лучшие мои статьи, лучшие мысли — внушены им, что он во мне видит одного из ревностных своих слуг и потому пришел, чтобы окончательно просветить меня и ввести в область абсолютной истины... В необычайно запутанных, темных выражениях, с видом глубокой тайны, он сообщил мне, что Христос уже сошел на землю лет как десять, с 1892 года. Он живет в России, что сроки приблизились и невероятно скоро, может быть не более как чрез две-три недели, настанет предсказанный Писанием Страшный Суд. Дело остановилось лишь за свидетельством от Святейшего Синода.
Я робко спросил, откуда он все это знает. С видом величайшего погружения в свою тайну мой посетитель объяснил, что он именно и есть Тот, кто должен восстановить престол Давида, отца своего. Даже больше: он именно и есть Сущий, альфа и омега, начало и конец. Я привык представлять иначе эти вещи. К чему эти белые перчатки и белый галстух, драгоценные перстни на руке, серебряный портсигар и сигаретка, которую
517
он только что просил позволения выкурить. Завязался на эту тему метафизический спор, не приведший ни к чему. Почтенный незнакомец мой, приезжающий ко мне по железной дороге "из Купины Неопалимой", цитатами из пророков, из Шиллера, из моих собственных статей и даже из тригонометрии доказывает, что он именно есть Тот и пр. Я, рискуя потерять предлагаемые мне "новое небо и новую землю", позволяю себе в этом сомневаться. Пьем чай... и мы дружески расстаемся до следующего свидания»14. Так как письмо связано одной идеей, что вынесено в названии письма, — "Заговоры против человечества", а во второй части выведена Юстина Глинка, то логично предположить, что Некто — это Сергей Александрович Нилус, утверждавший приход Антихриста, Страшного Суда и восстановление царства Давидова. Возможно, многих остановит слово "старик", отнесенное к 40-летнему. Но Нилус к этому времени выглядел вполне пожилым человеком, что видно на многих фотографиях. Что касается его психического состояния, то не требуется быть врачом, чтобы определить болезнь. Между прочим, в одном из рассказов И.А. Бунина появляется фигура, близкая Сергею Александровичу Нилусу. В одной московской захудалой гостинице герой встречает знакомого: «Внезапно одна дверь, пахнув на Казимира Станиславовича почти с ужасом, растворилась, на пороге ее появился старик в халате, похожий на плохого актера, играющего "Записки сумасшедшего", и Казимир Станиславович увидал лампу под зеленым колпаком и тесно заставленную комнату, берлогу одинокого, старого жильца, с образами в углу и несметными коробками из-под папиросных гильз, чуть не до потолка наложенными одна на другую возле образов... Неужели это был тот же самый полоумный составитель жизнеописаний угодников, что жил в "Версале" двадцать три года тому назад»15.
Вечный жид дожил до времен гражданской войны, но пережить ее не сумел. В веселой и умной книге Ильфа и Петрова есть одна удивительная вставка, совершенно выпадающая из рамок повествования.
В литерном поезде, заполненном журналистами, спешащими на очередную стройку социализма, едут два иностранца. Один из них венский журналист "свободомыслящей" австрийской газеты господин Гейнрих, другой — американец Хирам Бурман, сионист. Как блистательно доказали Майя Каганская и Зеев Бар-Селла, представитель Австрии — это ипостась великого поэта Генриха Гейне, работавшего в "Die Freie Presse" (обратный перевод с русского), где когда-то подвизался Теодор Герцль, второй — ипостась великого зодчего Хирама — вспом-
518
ним масонскую легенду. И вот ипостась великого поэта рассказывает историю человечества по Библии, со скрытыми цитатами из нее, историю об Адаме и Еве, о вечном круговороте истории: "Род проходит и род приходит, а земля пребывает во веки", "И возвращается ветер на круги свои". А заключает все неожиданной фразой, заимствованной уже у христиан: "И Вечный Жид по-прежнему будет скитаться на земле..." Повествование перебивается репликой Остапа Бендера: "Вечный Жид никогда больше не будет скитаться!" И дальше рассказывается легенда об Агасфере времен гражданской войны. Это, конечно, голос не Остапа, а авторский голос Ильи Арнольдовича Файнзильберга — Ильи Ильфа. Ибо то, что рассказано далее, мало вяжется с образом великого комбинатора. ("Какой национальности был Остап Бендер?" — был задан вопрос в одной из передач на русском телевидения. Думаю, что образ его не интернационален, а абсолютно национален. Фамилия Бендер — вполне еврейская. Так, известен интереснейший писатель Гирш Лейбович Бендер (умер 11 августа 1925 г. в Крыму), автор "Иудейской этики" (Рига, 1929) и "Евангельского Иисуса и его Учения" (Рига, 1930). Заглянув в "Российскую еврейскую энциклопедию", мы обнаружим еще пару Бендеров. "Сын турецкоподданного" не должен вводить в заблуждение — турецкий паспорт имели многие евреи Одессы, Иудессы, как прозвали этот город юдофобы — по причинам вполне понятным.)
Последним героем туркестанского дневника станет писатель Всеволод Иванов. И не только потому, что он уроженец этих мест. В своей автобиографии, вышедшей в 1926 г., он писал: «Родился в поселке Лебяжьем Семипалатинской области на краю Киргизской степи — у Иртыша. Мать Ирина Семеновна Савицкая, родом из ссыльно-каторжан польских конфедератов, позднее смешавшихся с киргизами... Отец, Вячеслав Алексеевич, "незаконнорожденный" сын туркестанского генерал-губернатора»16. Анна Ахматова всегда с уважением говорила о Всеволоде Вячеславовиче, не скрывавшем, что он приходится внуком царскому генералу. Когда это говорилось в глаза писателю, он несколько смущался, — понять можно: не то было время, чтобы хвастаться этим фактом.
Иванов, вероятно, подступал к Агасферу очень давно. В рассказе "Поединок. Подмосковная легенда" (1940) есть фраза, легшая в основу интерпретируемой легенды: "Гасил он жизнь... (чужую. — С. Д.), потому, что хотел свою жизнь сделать неугасимой, незакатной..."17
Работал Иванов над своим творением не менее 12 лет. На рукописи стоят две даты: 7 сентября 1944 года и 5 ноября 1956 18.
519
Необычность рассказа бросается в глаза сразу. Действие происходит летом 1944 г. в Москве, когда близился конец "тысячелетнего рейха". Рассказ ведется от первого лица. Герой — русский интеллигент. Контуженный на фронте, он находится на излечении. На фронте он познакомился с легендой об Агасфере, произведшей на героя сильнейшее впечатление. Вероятно, он был знаком с изданием З.И. Гржебина «Легенда об Агасфере, "Вечном жиде"», вышедшим в Петрограде в 1919 г. с предисловием Максима Горького, в свою очередь воспользовавшегося книгой А.В. Швырова "Легенды Европейских народов" (СПб., 1907), знание которой также было необходимо для работы Вс. Иванову. Необычно другое: после контузии интеллигент, пораженный мощным мифом, пишет сценарий "Агасфер" и предлагает его экранизировать московской кинофабрике. Многоопытный читатель, порывшийся в своей памяти, обнаружит нечто очень похожее. Некий Мастер предлагает московскому издательству роман об Иисусе Христе. Что из этого вышло — известно. Не собираясь специально сравнивать оба произведения, одно из которых получило мировое признание, а второе знакомо лишь небольшому кругу любителей, укажу, что в моем личном восприятии они неравноценны: повесть Вс. Иванова представляется мне шедевром русской прозы, роман же о Мастере... Кстати, Гёте в свое время жаловался Эккерману, что немцы странный народ, разделившийся на поклонников Шиллера и Гёте, вместо того чтобы радоваться, что есть у Германии "два таких молодца"...
Героя-интеллигента зовут Илья Ильич. Это не может быть случайностью. Синоним русского характера — Обломов, в данном конкретном случае, и это подчеркивается, борется со своей мягкотелостью, жалостливостью, инфантильностью, флегматичностью, в конце концов с русским "авось". А ведь противник необыкновенно серьезный. Это сам Агасфер, появляющийся ночью на пороге московской коммунальной квартиры. Интеллигент с бьющимся сердцем открывает дверь: ясно, кто может звонить в такое время суток, да еще в военное время. На вопрос, не москвич ли его нежданный гость, получает ответ, что он "космополит и не прописан нигде." Сам герой, получив столь удивительный отклик, не был поражен, ибо он объясняет, что это было задолго до антикосмополитической кампании, и поэтому он не придал этому значения.
Остановимся ненадолго. Илья Ильич не придал реплике значения. Но читатель настораживается, так как неизвестный представляется: "Видите ли, я, действительно, космополит Агасфер". По логике Агасфер — еврей, по изначальному изводу средневековой легенды — он тоже еврей. Но Вс. Иванов со-
520
здал иной образ Агасфера, совсем не похожий на своих предшественников. Агасфер Иванова — германец.
В дневниках Иванова времен войны (запись от 10 декабря 1942) есть одна удивительная подробность, передающая слова писательницы Ольги Форш. В свое время автор мистических романов и теософка высказалась о деятелях французской революции и германского нацизма почти в одних тонах: «Мне очень любопытно узнать, что происходит сейчас в Германии. Робеспьер, Демулен и прочие вожди фр(анцузской) революции родились в масонских клубах. Там получали они идеи, которые подали народу... Мне помнится, Штейнер ругал русских — "свиней, нуждающихся в пастухе". Где-то там, в теософских кругах, родился и воспитан этот истерик — марионетка Гитлер, за спиной которого стоят... не теософы ли?» Иванов добавляет: "Будучи в юности антропософкой, она и сейчас считает движение это мощным, и что из него можно вывести гитлеризм"19. Жалко, что филиппика Форш не полностью воспроизведена в собрании. Форш действительно близка к истине: для нацизма вообще была ненавистна идея Вечного жида, ибо Еврей стал для человечества одним из вечных символов. Гитлер верил в злую сущность Агасфера. Еврей — для Гитлера — худшее зло. Может быть, здесь лежит ключ к генезису Ивановского Агасфера. Трудно сказать, что подтолкнуло Иванова заняться этим сюжетом. Выскажем догадку, что писатель, размышляя об идеологии нацизма, наткнулся на один из вариантов легенды об Агасфере, перечитывая Рихарда Вагнера. Зверства фашистов и гибель европейского еврейства заставили его по-другому присмотреться к проблеме. Антисемит и будущий идол нацизма Рихард Вагнер обращается к образу Вечного Жида, для того чтобы подчеркнуть невозможность еврею уйти от собственного народа. "Для еврея сделаться вместе с нами человеком значит прежде всего перестать быть евреем... Принимайте же, не стесняясь, мы скажем евреям, участие в этой спасительной операции, так как самоуничтожение возродит вас! Тогда мы будем согласны и неразличимы! Но помните, что только это одно может стать вашим спасением от лежащего на вас проклятия, так как спасение Агасфера — в его погибели"20.
Вопреки традиции в рассказе Иванова Агасфер появляется в неправдоподобном виде. Начитанный Илья Ильич, борющийся с болезнью и потому находящийся в состоянии, в котором смешиваются реалии и фантазии, наслышан, что персонажи нередко приходят к своему автору. Собственно, двойник, точнее даже двойничество или раздвоение, — один из приемов мировой литературы. Явь сталинской эпохи стучится в дверь.
521
Изможденный и обтрепанный посетитель не может быть Агасфером. Он может быть шпионом, подлецом, провокатором, мерзавцем. В голове испуганного хозяина вертится страшная мысль советского обывателя: "Не ищет ли он ночлега, раз не прописан, не бежавший ли это из какого-нибудь концлагеря?.." Он вопрошает: "Если вы из арестованных... даже уголовник..." Как известно, кроме уголовников были еще политические. Заметим, что Илья Ильич и советские места заключения называет концлагерем. Пришелец успокаивает рассказчика.
Агасфер усаживается в комнате на кипах журнала "Русская старина". Несколько раз повторяется название этого старого издания. Здесь, вероятно, имеется некий намек, увы, не разгаданный мной.
Собственно, теперь незваный гость рассказывает свою историю, называя свою настоящую фамилию. Его настоящее имя — Пауль фон Эйтцен. Он же рассказывает генеалогию легенды: «Мне пришлось, видите ли, довольно долго и настойчиво вдалбливать это имя. Людская память ленива. Она любит брать то, что ближе ей. В Бельгии, например, меня пытались называть Исааком Лакедемом или, иногда, Григориусом. В Италии — Биттадие или брат Джиованно. В бретонских легендах вы и поныне найдете меня под именем Будедеса, что в переводе означает "толкнувший Бога". Я же упорно настаивал, что имя мое "Агасфер!". На последнем он настаивает, ибо имя "Агасфер" точно передает идею: "Агасфер! Ага значит по-турецки начальник, ну а сфера — вы знаете, что это такое. Начальник небес! Ведь небеса только могут — если могут вообще — распоряжаться бессмертием». Путем заклинаний фон Эйтцен превращается в Агасфера, в еврея, "в предка тех проклятых, кто во множестве живет сейчас на южной окраине Гамбурга". Но бдительный Илья Ильич разоблачает "нелепую" ономастику: Агасфер — испорченное древнеперсидское Ксеркс; по-еврейски — Ахашверош, и, самое главное, Агасфер значительно старше, чем хочет казаться. Мы уже говорили, что по достижении 100 лет Вечный Странник заболевает, затем выздоравливает, возвращаясь в цветущий возраст. Именно здесь писатель Иванов использовал варианты обретения долголетия из произведений Бальзака, Шамиссо или даже Стивенсона. Можно подменить себя или отдать свою смерть другому: "Наказание страшно. Пауль фон Эйтцен должен умереть, но беседа с каким-то человеком, думающем о нем, дает ему надежду на жизнь... Если ...человек будет недостаточно дальнозорок, он погибнет, снабдив Пауля фон Эйтцена новыми жизненными силами, и Пауль фон Эйтцен отправится в новое путешествие, в новые сто лет!" Русский вариант поиска
522
бессмертия: для приобретения бессмертия нужно вызвать к себе жалость и обменять жалость на жизнь, «ту российскую традиционную жалость, которая и каторжника, убийцу невинных детей и жен, способна назвать "несчастненькам", ту жалость, которую в наши дни, когда так много кричат о России и русских, вызвать особенно легко». Мне кажется, что когда Вс. Иванов говорит о "наших днях", он имеет конкретный адрес. Запись в дневнике от 19 апреля 1945 г. о немецких военнопленных: "Девушки, привозящие обед, рассказывают, что немцев моют в бане, бреют и дезинфицируют, — и они очень довольны. Особенно если они прочли статью Эренбурга"21. Но нацизм не умер. Герой на краю пропасти останавливается и напрягает свой интеллект: "Вот она снисходительность к врагу. Ты сам почти отдал ему все, что имел... Однако не все, раз я в состоянии бороться и думать, — однако отдано много... Что я мог сделать? Должен же я узнать — чем и как вооружен мой враг? И в конце концов, что такое моя жизнь, если враг всего человечества — побежден и ползает у моих ног?"
XVI век в Германии — век особый. Во многих странах уже победила Реформация, но вместе с тем процветали мистика, чернокнижие, поиски философского камня и бессмертия. Кто не знает истории доктора Фаустуса, а ведь он был историческим лицом, наряду с другими своими современниками, занимавшимися магией: Иоганном Третимиим, Теофрастом Парацельсом, Агриппой Нетесгеймским. О последнем написал роман Валерий Брюсов — "Огненный ангел". Роман Брюсова, несомненно, был известен Вс. Иванову. По одному изводу легенды о Фаусте, он, подобно фон Эйтцену, учился в Витенберге и получил там степень магистра богословия.
Жажда бессмертия двигает поступками фон Эйтцена. Он убежден в его существовании и оговаривается, что биологическое бессмертие невозможно, а возможно лишь в области искусства. Благородная мысль. Хотя позже выясняется, что пришелец из средневековья борется за биологию. Так ложь прикрывает истину. Но сейчас речь идет о любви. Древние греки достигали бессмертия благодаря богине любви Афродите. А на замечание Ильи Ильича о том, что "у нас есть богоматерь Мария" — Агасфер ответствует, что Богоматерь есть Богоматерь, а Афродита — богиня для всех: "Нет Бога, кроме Бога любви". На следующий вопрос москвича, какого Бога — плотского или духовного: ответ должен удовлетворить не столько писателя Иванова или его героя, сколько известного писателя, старшего современника Всеволода Вячеславовича: "Одно вытекает из другого, разделить этого нельзя, аскетизм — величайшее преступление". "Следовательно, плотская любовь выше всего? —
523
Если угодно, да!" Илья Ильич наверняка угадывает: "Ваши родители были евреи? — Вы — по Розанову?"
"Розанов" — это сигнал к размышлению. Писатель Василий Васильевич Розанов (1856—1919), пожалуй, наиболее одиозная фигура среди правых накануне революции. Он внес свою лепету в подстрекательство против евреев, в том числе своей убежденностью в существовании кровавого ритуала. Во времена процесса Бейлиса "Новое время" даже вынуждено было отозвать "энергичного" корреспондента и свои статьи этого периода он публиковал в черносотенной "Земщине". "Но... вместе с тем он парадоксально преклонялся перед этикой древнего Израиля. Это позволило одному критику даже заметить, что Розанова следовало бы рассматривать как одного из самых видных представителей если не формального, то внутреннего иудейского прозелитизма"22. Появление имени Розанова у Иванова связано не только с гимном плоти. Шла война, и Всеволод Иванов должен был знать, что правые в дореволюционной России были не только "жидоеды", но и германофилы, и Розанов — не исключение. Накануне гибели старого мира в 1912 г. он писал в статье «Возможный "гегемон" Европы»: «Я бы не был испуган фактом войны с немцами. Очевидно, это не нервно-мстительный народ, который, победив, стал бы добивать... Немец "en masse" или простак в политике, или просто у него нет аппетита — все съесть кругом. Вот отчего войны с Германией я не страшился бы... Я знаю, что это теперь не отвечает международному положению России, и говорю мысль свою почти украдкой, "в сторону", для будущего... Ну, а чтобы дать радость сорока миллионам столь порядочных людей, можно и другим народам потесниться, даже чуть-чуть кому-нибудь пострадать»23. После двух мировых войн эти утверждения Розанова выглядят по крайней мере странными. В попытке "потеснить" другие народы, как известно, "чуть-чуть" пострадали от "немецких простаков" 6 млн человек "богоизбранного народа" (по Розанову) и несколько десятков миллионов "народа-богоносца"...
Возвращаемся к рассказу "Агасфер".
Начинается идентификация Вечного Жида по национальности: все считают Агасфера евреем, и герой Иванова не исключение:
"— Агасфера все называют евреем.
— Меня тоже. Я даже сидел в гитлеровском концлагере, правда, недолго, мне ведь нельзя задерживаться на одном месте. Я иду".
Что же превратило магистра богословия в вечного странника. Ответ на поверхности: несчастная любовь, толкнувшая Пауля фон Эйтцена на преступление.
524
Рассказ Иванова строится в двух измерениях — прошлого и настоящего. Сегодня контуженный Илья Ильич влюблен в Клавдию Кеенову, ослепленный ревностью, он называет ее Гееновой. ("Ах, как нехорошо и плоско", — сам себе ставит оценку "вечно" сомневающийся интеллигент.) Интерес представляет и женское имя — Клавдия, по-лат.: хромая. Намек очевиден. И место работы Кееновой — почта, не случайно выбрано автором.
Почта — это связь с иными мирами. И, конечно, простая женщина из ведомства коммуникаций, приемщица телеграмм, оказывается банальной антисемиткой.
Рассказ Иванова носит резко филосемитский характер. Само по себе движение Вечного жида с его вечным преследованием лаконично обозначено в одном из диалогов:
— "Бросили бы вы думать об этом Агасфере.
— Да я уже от него отказался, от сценария то есть.
— А между прочим, почему?
— Не люблю я евреев.
— Вот те на! А что они тебе, Клава, сделали? — задал я вопрос, имеющий почти двухтысячелетнюю давность.
— Ничего. Да и я им. Впрочем, я и татар не люблю.
— А русских?"24
Диалог недвусмысленно определяет точку зрения автора и к тому же в то время, когда волна жуткого антисемитизма хлынула с бывших оккупированных территорий, из армии, да еще поддержанной кадровой политикой свыше. (Из личных воспоминаний И.А. Высокодворского, в начальный период войны работавшего шифровальщиком в Генеральном штабе: "После Сталинграда, в начале 43 года, евреев стали убирать из Генштаба, направляя в действующую армию. Короче, не осталось ни одного еврея; я не исключение". Профессор ошибается: остался один — заместитель начальника, а затем начальник Генерального штаба, генерал армии Антонов, изгнанный позднее, возможно, за сокрытие еврейского происхождения25.
Иванов задает вопрос о причинах антисемитизма. Ответ лежит в области иррациональной, ибо на протяжении тысячелетий не имеет разрешения. Тут же и тонкое замечание, что обычно антисемит — он же ксенофоб. Достаточно вспомнить "всечеловека" Федора Михайловича, не любящего, правда, в неравной степени "жидов", "мерзких полячишек", немцев, англичан, турок и других.
А параллельно ведется рассказ о преступлении фон Эйтцена. В прошлом подругу магистра богословия звали Клавдия фон Кеен — ипостась нынешней Клавдии Кееновой. Фон Эйтцен затащил свою Клавдию в притон и затем, наняв исполни -
525
телей, убил двух ее любовников. Само по себе убийство двух, пусть и похотливых богатых бюргеров — ужасно. Но далее следует рассказ, более относящейся к главе "Кровавый навет". Убийца забрасывает тела убиенных в гетто, обвиняя всех евреев квартала в этом ужасном преступлении. А лжесвидетелями выступают нанятые убийцы. Гетто пылает. И в огне зарождается легенда о Вечном жиде.
Гибель московского Агасфера происходит также в сочетании прозаических деталей и сказочных вариаций. Вечный Жид, преступник и нацист, кончает свою жизнь в лесу, неподалеку от деревни Толстопальцево. Русская сказка о Кощее Бессмертном находит удивительного повествователя. Собственно говоря, из всех чудовищ, населяющих волшебный край русских сказок, самый злобный — Кощей, равный Змию, возможно его ипостась. Он олицетворяет мировое зло, насилие, человеконенавистничество. Наиболее полный вариант дан в сказке "Марья Моревна" у Афанасьева. В народном воображении Кощей — насильник, коварный убийца с безобразной внешностью. По большому счету — идет борьба за обладание прекрасной женщиной, где на одной стороне сила добра и красоты, а на другой зла и безобразия.
Фантастический рассказ, а так называет свое произведение сам Иванов, сближает Агасфера и Кощея Бессмертного. По русской сказке, Кощей с устойчивым эпитетом бессмертный, кроме всего прочего, стяжатель. В подвалах у Кощея сундуки ломятся от нечестно добытого богатства: "Там царь Кощей над златом чахнет". Нечто средневековое из известного еврея-стяжателя, ростовщика, Шейлока. Один из исследователей образа Кощея пытается доказать социальную истинность антигероя. Это исследование необыкновенно интересно, но оно лежит вне нашего поиска26.
По сказке, победа над Кощеем дается положительному герою с неимоверными трудностями. Ибо его "бессмертие" находится в недоступном месте: на море-окияне, на острове Буяне, на высоком дереве (это обычно зеленый дуб), в кованном сундуке, охраняемом злыми силами. Но победа достижима. Кстати, народная мудрость отвергает биологическое бессмертие. Другое дело — долголетие. Это обыгрывается и Всеволодом Ивановым. Подмосковное болотистое пространство, сгнившие пни, покрытые зеленым мхом, и огромный в десять охватов дуб, рухнувший на глазах героя в результате стихийного бедствия. Сказочный сундук превращается в небольшой сундучок, более похожий на кожаный футляр. Выделка кожи — профессия родителей фон Эйтцена, и вожделенный кусок кожи, дающий бессмертие у Оноре де Бальзака в философской
526
повести, так и названной "Шагреневая кожа". Вместо ожидаемой живности (зайца, утки) из него выпадает дамская сумочка (кожаная?) и далее, точно по Афанасьеву, появляется небольшой меч и яйцо. Но фантастика низводится до прозаизма: ведь древний меч не может быть из нержавеющий стали: "Не кажется ли вам, что это некий антиквар, эвакуируясь от немцев, здесь и припрятал его...?" И гибель московского Агасфера и его подруги тоже прозаична: два грибника, мужчина и женщина, подорвались на мине, возможно немецкой.
Конец рассказа Иванова оптимистичен: зло наказуемо и в реальной жизни. Воскресший и обновленный Илья Ильич легко расправляется с хулиганами, наводнившими в это время Москву. Идет описание военной московской ночи: "Над переулком темное небо, как тирада из старинного сочинения... Переулок напоминал мне конец девятнадцатого столетия, томительная, как перед вынутием жребия, поэзия которого мне так мила. Я шел, читая про себя стихи и раздумывая об Агасфере".
Работал Иванов над "Агасфером" долгие годы. В черновиках — несколько вариантов развития сюжета. Менялся замысел и акцент — от положительного образа, старичка, творившего добро, до символа вечного зла. В комментариях Л. Гладковской меня привлек набросок: "Агасфер. Книга. Единственный экземпляр — расширенное сообщение итальянца — зверства Агасфера, его расизм, клевета и т. д.". Там же дан другой вариант, когда во время войны в Германии персонаж по имени Жердин — ипостась Вечного жида, изобличается в зверских преступлениях. Обилие нереализованных ходов огорчало писателя. На одном из машинописных листов помета от 1954 года: "Начало. Не продолжал. И жаль"27.
Интересную интерпретацию образа ивановского Агасфера дает Е.А. Краснощекова. Она говорит о гуманизации образа Агасфера, когда героем является обыкновенный человек. Это, конечно, не так. "Пауль фон Эйтцен" — человек тонкой душевной организации", — пишет критик28. Кстати, она упорно называет фон Эйтцена — голландцем. Иванов лишь сделал его родителей выходцами из Голландии, что вообще неверно: к XVI в. эту страну стали называть Нидерландами (в Древней Руси ее называли Подолией), да и приставку "фон" следовало бы заменить на "ван". Она же считает "самым большим грехом" этого "интеллигента" "надругательство над любовью"29. Здесь, вероятно, недоразумение — речь может идти о библейских заповедях и главной из них — "не убий". Вспомним преступления фон Эйтцена — это не только убийство любовников подруги, но и организация погрома евреев в Гамбурге, подстрекательство к кровавому навету. Кажется, эти преступле-
527
ния страшнее пресловутого "надругательства над любовью". Но сама по себе постановка вопроса "интеллигенция и нацизм" актуальна. Илья Эренбург на Нюрнбергском процессе встретился с Всеволодом Ивановым, и видимо, об этом шел между ними разговор в кулуарах: «Иванов был человек с куделями нерасчесанных мыслей и образов, с прямой и большой совестью. Он недоуменно меня спросил: "Как все это понять?"»30. Как понять, что в современном мире можно создать идеальную машину по уничтожению людей? И кто ее создал — люди, имеющие ученые степени и звания, те, которых мы по инерции зовем интеллектуалами.
Сам Иванов был безусловным филосемитом и в быту, и в литературном творчестве. Иногда его "филосемитизм" принимал даже "гастрономический " характер. Нам пришлось в свое время писать о еврейской пище и об отношении отдельных лиц к кулинарии, основанной на законах кошрута. У Всеволода Вячеславовича почти благоговейное отношение к приготовлению фаршированной рыбы, ставшей в какой-то степени символом еврейства, наряду с пресловутым "чесноком". В одном из поздних рассказов Иванова есть герой — геолог и зверовод Марк Осипович Фаерман (кажется, прозрачный намек на писателя Рувима Фраермана). Зверолов — подвижник и хвастливый охотник, нечто от Тартарена. Родом Фаерман из Киева. Упомянув о красоте Киева, Всеволод Вячеславович задает вопрос, не скучает ли он по родным местам? В советское подцензурное время он вкладывает в уста своего героя страшные слова: "Не манит ли меня в Киев? Куда манить! Родных у меня нет: все в войну перебиты. Да и воспоминания нехороши. Нет, не манит"31. А вот рассказ о том, как готовится фаршированная щука.
"Готовит ее Марк Осипович с наслаждением, восторгом даже. Наслаждение его усиливается еще и от того, что он чувствует, как окружающие изумляются его искусству.
— Лиля, гляди и учись, — говорит он, ловко разделывая щуку. — Чем лаптю кланяться, лучше поклониться сапогу.
Я подсаживаюсь, чтоб полюбоваться его работой... Вдруг Марк Осипович закричал с азартом:
— Лиля, фарш готов?
Фарш — из мякоти щуки с прибавкой моркови и свеклы, сорванных тут же в огороде. Лиля несет фарш Марку Осиповичу с воодушевлением и боязнью. Ей страстно хочется научиться фаршировать щуку.
— Щука-то, поди, развалится и упадет, когда мы ее понесем на сковородку, — говорит Лиля.
— Ну да! Ничего не развалится. И, кроме сковороды, мы еще — в кастрюлю; кастрюля лучше изнуряет рыбу. Развалится?! Весь фокус тут, чтобы приготовить удачный фарш... Ну давай набивать! Будет, знаешь, мое почтение! Яиц не пожалела? Яйца, знаешь, крепость фаршу дают. Та-ак, а пожалуй, маловато будет нам сковородки и кастрюли?
528
— Можно и две кастрюли?
— А что ж, хватит и на две. — Марк Осипович рассматривает огромную, метровую щуку"32.
Иванов имел гражданское мужество в 1949 г. в статье, посвященной жизни и творчеству Анатоля Франса, вменить в заслугу писателю выступление в защиту Дрейфуса. Указав суть обвинения, назвав национальность невинно осужденного и приведя название знаменитого памфлета Эмиля Золя "Я обвиняю", Иванов высказывает уверенность в победе прогрессивных сил. Это был акт гражданского мужества.
На вечере, посвященном 100-летию со дня рождения Шолом-Алейхема, Всеволод Вячеславович произнес речь. Это было отнюдь не формальное выступление. При этом уроженец Сибири удивительно много знает о еврейской литературе, перечисляя имена не только известного Менделе Мойхер-Сфорима, но и забытых — Линецкого, Гольдфадена. Он счастлив, что новое поколение продолжает читать Шолома-Алейхема: "Мир вам, Шолом-Алейхем. Вы хотели вселить мир в мирные души мирного и трудолюбивого народа, и вот, наконец, вы среди этого народа — друг наш и брат наш!"33
В последние дни войны Иванов попал на фронт. Волею обстоятельств его жизнь и жизнь его товарищей спас несчастный еврей из концлагеря: машина корреспондентов могла рухнуть в пропасть. Все спаслись, и шофер предложил выпить за старичка. В воспоминаниях Льва Славина приводятся подлинные слова Всеволода Вячеславовича: "Недаром я всю жизнь любил этот народ"34.
Менее известно, что образ Агасфера пытались воссоздать художники и скульпторы. Русское искусство также не осталось в стороне. Марк Антокольский незадолго до смерти вылепил эскизы Самсона и Вечного Жида. Работа была предпринята почти одновременно с окончанием Мефистофеля. Нельзя не увидеть преемственной связи между этими тврениями. Одной из своих корреспонденток он писал: «Я не знаю, насколько Вы одобряете мою задачу, что я, будучи сам евреем, воспроизвел Того, из-за кого пролилось столько еврейской и еврейской крови в течение 2 000 лет... Но виноват ли в этом Назорей? Я лично далек от всяких предубеждений, партий, вражды, фанатизма и патриотизма, которые постоянно тормошат человека. Все это вытекает из одного эгоистического источника "любить себя и своих, презирать всех других", вот общий девиз, господствующий до сих пор... При создании Назорея я руководствовался только истинными фактами, и убежден, что факты сами по себе до того просты и ясны, что не нуждаются ни в каких комментариях. Но как я слышал, оказывается, что это
529
не так. Московские фарисеи... толкуют о моем произведении так, как им хочется, и как для них лучше... Назорей явился, когда израильская нравственность начала падать, когда религия и власть стали злоупотреблять своими правами. Назорей хотел предупредить ту кровавую трагедию, которая разыгралась 100 лет спустя, но за это Назорей был варварски замучен... Евреи положительно могут гордиться, что Иисус принадлежит к потомкам Моисея, того великого пророка, который еще раньше восстал против насилия и рабства... Он восстал за народ, которого эксплуатировали, но, к сожалению, народ не понял Его чистых слов, и пролил Его кровь за то, что он горячо любил его до последней минуты жизни»35. Небезынтересно, что Антокольский иногда называл Иисуса — "Великим Исайей". Именно тогда, при работе над образом Иисуса, раздумьями над судьбами еврейского народа у Антокольского появилась мысль изобразить еврейский народ в образе Вечного Странника. Из письма той же корреспондентке, которая пользовалась его доверием: «У меня два сюжета, которые меня одинаково сильно занимают. Первый — это "Вечный жид" — исхудалая, жилистая фигура, насколько усталая, настолько же и энергичная. Оборванный, обросший, съежившись, идет он безостановочно против бури и ветра, который развевает остатки его лохмотьев. Это эмблема не только еврейства, но и всех угнетенных» (курсив мой. — С. Д.)36. Второй сюжет — святая мученица из времен раннего христианства: по-видимому, еще не римлянка, а еврейка. Увы, воплотить замысел мастеру не пришлось. Сам Вечный Скиталец умер вдали от Родины, которая ему была мачехой...
КАИССА И ВОТАН
Шахматный столик стоит в кабинете.
В партию Стейница впился отец.
Г. Шенгели
Шахматы — самая сложная интеллектуальная игра, которая в процессе своего развития настолько обогатилась элементами научного мышления и вместе с тем художественного творчества, что в настоящее время далеко переросла первоначальное значение игры.
Возникновение шахмат окутано легендами и сказочными преданиями. Можно считать доказанным, что их родиной
530
была Индия. Новейшие исследователи относят изобретение игры не ранее чем к III в. н. э. По-видимому, около VI в. они проникли в Персию. Историк шахмат Мориц Штейншнейдер (1816—1907) утверждал, что они попали в Персию позже, во времена первых Аббасидов (вторая половина VIII в.). Оттуда, благодаря еврейским факториям, расположенным по всему миру, шахматы проникли на Запад. На территорию Восточной Европы шахматы распространились через Хазарский каганат.
Первым известным еврейским шахматистом был перешедший в ислам Али, сын раби Саула из Табаристана, учитель врача ар-Рази (IX в.). Удивительно: он рекомендовал игру в шахматы в качестве целебного средства для развития интеллекта слабоумных1. Между учеником и учителем состоялся матч. Победителем стал ар-Рази.
В самом начале X в., в царствование халифа Муктафи (902—908), выдвинулся Абу Бакр Мухаммед бен-Яхья ас-Сули (умер в Басре в 946 г.), возможно, еврейского происхождения (имя бен-Яхья встречается как у евреев, так и у арабов), считавшийся сильнейшим мастером своего времени. Еще долго после его смерти бытовала пословица: "Он играет в шахматы, как ас-Сули".
Первым европейцем, упомянувшим в своем труде шахматы, был Раши (1040—1105) — знаменитый французский раввин, величайший средневековый библейский экзегет и истолкователь Талмуда. После Раши упоминал шахматы Моше Сфаради (1062—1106), родившийся в Испании, крестившийся в возрасте 44 лет (в день смерти) и более известный под именем Петрус Альфонси. В своей книге "Disciplina clericalis" он включил шахматное искусство в семь рекомендуемых рыцарству наук. Знаменитый еврейский философ Моисей Маймонид (1135—1204) запрещал играть в шахматы на деньги, что указывало на распространение игры среди евреев в то время.
К XIII в. шахматы были известны в большинстве европейских стран. Как известно, игра в шахматы довольно часто запрещалась церковными властями. Парижский Собор 1200 г. запретил эту игру, а затем Людовик IX подтвердил это запрещение. Тем удивительнее, что одновременно в книге "Сефер Хасидим", автор которой — знаменитый мистик, моралист и литургист Иуда Благочестивый (умер в 1217 г.), шахматы рекомендовались самым горячим образом. Некоторые средневековые легенды повествуют о том, как папа римский играл в шахматы с раби Симоном, который, к своему ужасу, узнал в римском первосвященнике собственного пропавшего сына, благодаря одному ходу, которому в свое время обучил его. Легенда имеет историческое основание: речь идет о раввине из
531
Майнца Симоне Хагадоле, жившем в начале XI в. (Вероятно, в сказании допущен анахронизм: "еврейский папа" — Анаклет II, занимавший папский престол с 1130 по 1138 г., по рождению принадлежал к богатой еврейской семье Леоне, принявшей христианство.)
В XII в. было написано поэтическое произведение на еврейском языке, воспевающее шахматы. Оно приписывается знаменитому поэту Ибн-Эзре Аврааму бен-Меиру (1092 или 1093—1167). Еще одно поэтическое произведение на эту тему написал в XV в. Ибн-Ехия.
В XVI в. Иегуда (Лео) из Модены (1571—1648) написал стихотворение — учебник шахматной игры на иврите, как пособие для обучения своих детей (Маадан Мелех). Правила, рекомендуемые им, близки к современным (превращение пешки, положение королевы в начале партии на клетке ее цвета и т. д.).
К XVIII в. сказания о евреях-шахматистах проникли в фольклор других народов. Так, мы находим рассказ о том, как в Польше времен Станислава-Августа сильнейшим шахматистом, защитившим честь Польши, был некий варшавский еврей, который сумел одолеть непобедимого англичанина. Ставкой в игре были пуговицы камзола. Понятно, англичанин теряет пуговицу за пуговицей и с позором покидает дворец короля. Конечно, король и пан Трембицкий, герой сказания, щедро награждают спасителя "ойчизны".
Страстным любителем игры был Моисей Мендельсон (Моше бен Менахем, 1729—1786), не раз игравший с Лессингом. Ему-то и приписывается выражение о том, что шахматы слишком серьезны для игры и слишком игра, чтобы быть серьезным делом. Высказывание, подобное этому, приписывалось и Мишелю Монтеню (1533—1592; напомним, что французский мыслитель был еврейского происхождения).
Одним из первых известных евреев-шахматистов в России был вице-канцлер П.П. Шафиров, неоднократно игравший с Петром I. Существует анекдот о золотой табакерке, подаренной царем Шафирову и проигранной вице-канцлером графу Апраксину, за что Петр учинил нагоняй проигравшему2. Сильнейшим шахматистом России конца XVIII—начала XIX в. был генерал-майор, писатель и драматург А.Д. Копьёв (1768—1846), дальний родственник Шафирова по линии жены. Алексей Дмитриевич Копьёв является героем шахматного рассказа одного советского писателя. Автор пишет: "Копьёв был не только драматургом, чьи пьесы пользовались большим успехом у столичного зрителя, но и слыл первым шахматистом в Петербурге"3. Звание сильнейшего в 1809 г. у него отнял в матче совсем юный А.Д. Петров.
532
Одним из самых первых поэтических произведений в России на шахматную тему была написанная на иврите поэма, — "Гакраб" ("Битва", 1840). Автор поэмы — Яков Моисеевич Эйхенбаум (1796-1861) — дед известного литературоведа Бориса Михайловича Эйхенбаума. Поэма была переведена на русский язык Осипом Рабиновичем в 1847 г. и издана в Одессе с параллельным текстом, а позже также была переведена на английский, французский, немецкий и другие европейские языки. Успех поэмы был полный. Только на русском языке она выдержала пять изданий. Добавим, что возрождение иврита как языка коснулось и шахмат: в Вильно в 1880 г. вышло шахматное руководство на иврите Иосифа Лейба Зосница (1837—1910). По этому пособию учился Акиба Рубинштейн.
Через более чем тысячелетнюю историю шахмат проходят вереницей еврейские имена. Число евреев-шахматистов, оставивших неизгладимый след в истории шахмат, столь велико, что шахматы практически, если можно так выразиться, превратились в еврейскую игру.
Естественно, все проявления тех или иных попыток "решения еврейского вопроса" не могли не коснуться шахмат. В этом смысле показательна история взаимоотношений двух великих шахматистов — Вильгельма Стейница и Михаила Чигорина.
ВИЛЬГЕЛЬМ СТЕЙНИЦ И МИХАИЛ ЧИГОРИН
К моменту знакомства Стейница с Чигориным, последний, если и не был широко известен в мире, то, тем не менее, был чемпионом России и сыграл к тому времени (1878—1881) девять матчей (с Шифферсом — 3:1, со Шмидтом 3½:½, с Алапиным 1:0 и др.).
Хуже обстояло дело на "международной арене".
Вильгельм Стейниц, подобно раби Иегуде Лива, создал Голема, имя которого Михаил Чигорин. Стейниц боролся с Големом и победил его. Можно лишь догадываться, по каким причинам был вызван на матч мало кому известный шахматист. По рекомендации варшавского еврея Шимона Винавера, познакомившегося с русским чемпионом в Петербурге, Чигорин участвовал в Берлинском международном турнире 1881 г., где разделил 3—4-е место с Винавером, что было достижением для новичка. На турнире в Вене в 1882 г., где состав участников был значительно сильнее, Чигорин провалился: среди 18 участников он разделил 12-13-е место (1-2 призы раздели-
533
ли В. Стейниц и Ш. Винавер). В Лондонском международном турнире 1883 г. Чигорин достиг 4-го места, но, увы, результат, был катастрофически ниже, чем у победителей. От Цукерторта Чигорина отделяло 6 очков, от Стейница — 34.
Еще хуже обстояло у него дело с матчами. Единственный, международный матч Чигорин сыграл на обратном пути из Лондона в Париже в 1883 г. против старого французского мастера Арну де Ривьера, в свою очередь игравшего с Морфи 25 лет тому назад. Чигорин еле выиграл: + 5, - 4, = 1. В эти годы Арну де Ривьер уже не представлял собой никакой шахматной силы. (Много лет тому назад В. Стейниц с трудом выиграл у Г. Берда. Сдавая последнюю партию, Берд выразил уверенность, что Пол Морфи без труда одолел бы Стейница. Что сказал Чигорину де Ривьер — история умалчивает.)
Современная система Эло, приложенная к поединкам шахматистов прошлого, покаывает, что Чигорин не входил даже в, первую десятку сильнейших шахматистов мира. Лишь после, матча со Стейницем и дележа 1—2-го места с Максом Вейсом на Нью-Йоркском турнире 1889 г. Чигорин переместился на 3—4-е место в мировой иерархии. Первое место занимал Стейниц, второе — Гунсберг. Мы видим, что шахматный талант Чигорина вывел из небытия Стейниц. Почему он к этому стремился? На этот вопрос чрезвычайно трудно ответить. Повторимся — Стейниц, подобно своему земляку раби Иегуде Лива бен Бецалелю из Праги, создал из небытия Голема. Создал и боролся с ним и победил. Невероятная аналогия, если бы она не подтверждалась фактами, вплоть до бунта "робота".
Смехотворно звучит утверждение советского мастера и известного шахматного автора В.Н. Панова, мягко говоря, не отличающегося особыми симпатиями к евреям, что "Стейниц морально обязан был встретиться в матче на мировое первенство с Чигориным"5. Смехотворно потому, что Стейниц, приглашая играть матч, обошел, по крайней мере, десяток западных мастеров, причем с частью из них чемпион имел отрицательный счет. Например с бароном Игнацием Колишом (евреем), внезапно умершим в 1889 г., но и до этого Стейниц не стремился играть с ним. Или с тем же Винавером, обогнавшим Стейница в Париже в 1867 г. и разделившим с ним 1—2-е место в Венском турнире 1882 г. и сыгравшим вничью матч за первый приз и к тому же блестяще взявшим первый приз в Нюрнберге в 1883 г. и т. д. Объяснение, которое дал Стейниц своему поступку, ровно ничего не объясняет. Стейниц говорит о стиле молодого Чигорина, восхищается этим комбинационным, ярким, энергичным стилем. Упоминает о своих встречах с ним и о своем отрицательном балансе +1, -3. Последнее
534
тоже не может быть принято в расчет. Так, у Ботвинника был катастрофический счет с Федором Богатырчуком — мастером иной весовой категории. И все. Конечно, Стейниц не только создал себе соперника, но и дал возможность Чигорину пройти в матче самую хорошую школу мастерства. (Мастер Панов, объясняя причины поражения Чигорина в первом матче со Стейницем, договаривается вплоть до того, что называет Михаила Ивановича "пожилым" человеком. Я не поверил своим глазам. Небольшой математический расчет показывает, что ведь Чигорин находился в цветущем возрасте — ему было 39 лет; напротив, Стейниц был на 14 лет его старше6. Один из современников объяснял проигрыш Чигорина Стейницу проще. Приведем это редкое свидетельство полностью: «В ту же эпоху началось и увлечение шахматами. Современным светилам-шахматистам, представителям этой чудной игры, я позволю себе сказать, что я знал лично тогдашнего короля шахматистов Чигорина, видел его игру, видел, как он "вслепую", т. е. не глядя на доску, из соседней комнаты, из 20 партий выиграл 18, а две закончил вничью. Чигорина приглашали в московские дома, очень им увлекались и были огорчены, когда не менее гениальный американец Стейниц обыграл его в Америке. Тогда в Новом Свете еще не действовал "трезвый закон". Чигорину он был не нужен. Он был алкоголик и потому победа Стейница была облегчена пороком нашего шахматиста»7. Надо добавить, что оба матча с Чигориным пришлись на тяжелое время жизни Стейница. В 1888 г. умерла его дочь Флора, а в 1892 г, после долгой и тяжелой болезни — жена Каролина. Но он сам неоднократно повторял, что "шахматный мастер имеет не больше права быть больным, чем генерал на поле битвы". В данном конкретном случае личные причины не должны приниматься в расчет. Есть еще одна сторона характера чемпиона мира, о которой обычно забывают: открытость Стейница и полное отсутствие лицемерия. Он не страшился играть с любым человеком, что его выгодно отличало от других чемпионов. Более того, давая своим молодым соперникам возрастную фору — Блекберну и Цукерторту не столь большую — всего 4—5 лет, но Чигорину уже 14, Гунсбергу — 18, а Ласкеру целых 32 года! Но и этого мало — он давал своим соперникам фору, играя подозрительные дебюты, и каждый из его противников этим пользовался. Стейниц был упрям в утверждении своих взглядов: твердо веря в защищаемость стесненных позиций, не имеющих слабостей, он принимал жертвы пешек, надеясь отстоять свой принцип. Так, играя против Исидора Гунсберга, Стейниц осведомился у своего соперника, ожидает ли Гунсберг, что он будет играть свою защиту в гам-
535
бите Эванса. Гунсберг ответил утвердительно, указав, что общественное мнение ожидает этого8. И Стейниц сыграл четыре партии, две из них благополучно проиграв. Если мы посмотрим на отношения Стейница к Чигорину, то увидим, что они всегда были не только дружеские, но и более того — отеческие. На склоне лет, получив уведомление о победе Чигорина в Будапеште и играя матч-реванш с Ласкером в Москве, он счел своим долгом направить Чигорину послание:
"10 ноября 1896 г., Москва.
Мой дорогой друг и глубокоуважаемый коллега! Примите мои сердечнейшие поздравления по поводу Вашей почетной победы в Будапеште. Ценители нашего благородного искусства будут искренне рады тому, что победил представитель России, которая сделала большой вклад в развитие шахмат, что является результатом Вашего гения и авторитета.
Разрешите заверить Вас, что из всех известных мне шахматных маэстро я желаю в дальнейшем наибольших успехов Вам.
С дружеским приветом, Ваш В. Стейниц"9.
Шимон Авраамович Винавер в свое время убедил Стейница помочь Чигорину выбраться из нищеты. Винавер уговорил устроителей турниров пригласить неведомого им шахматиста. Винавер познакомил Чигорина со Стейницем, и Чигорин очаровал чемпиона мира. Стейниц сделал все для того, чтобы Чигорин вошел в большой мир шахмат. Мы выскажем догадку, которую невозможно проверить, не находясь в России. Чигорин привлек внимание к себе необычностью своей судьбы. И, конечно, об этой неординарности знал Винавер, а через него узнал Стейниц. Отсылаю читателей к моей статье, где эта проблема подробно рассмотрена10. В дополнение к необычному поведению Стейница укажем на следующие факты. Стейниц решительно отверг притязания Джеймса Мэзона играть матч на первенство мира под предлогом, что у американца недостаточные турнирные успехи и неблагоприятный счет с чемпионом мира. Если сравнить "послужной список" Мэзона и Чигорина, то они просто несравнимы: к 1889 г. у него было несколько призов в международных соревнованиях (Вена, 1882, 3-й приз, позади Стейница и Винавера; Нюрнберг, 1883, 3-й приз, после Винавера и Блекберна) и победы в матчах с Г. Бердом и Дж. Блекберном. Счет личных встреч со Стейницем плохой, но против Чигорина к 1889 г. подавляющий — 4:1. Вообще турнирные встречи можно не принимать в расчет. Так, против Цукерторта в турнирах Стейниц набрал только очко из четырех! В двух же матчах счет был такой, что не вызывал сомнений: Стейниц одержал 17 побед и потерпел шесть пораже-
536
ний. Получив формальный вызов на мировое первенство от молодого Эммануила Ласкера, чемпион мира высказал пожелание, чтобы претендент показал себя в международном турнире. И это несмотря на многочисленные матчи, выигранные Ласкером, например у Блекберна (+6, 0 = 4), Берда (+7, —2, =3 и +5, -0, =0!) и т. д. Пришлось Ласкеру "показать" себя — на Нью-Йоркском международном турнире в 1893 г. он набрал 13 очков из 13 возможных! Аналогичных условий Стейниц не ставил перед Чигориным.
Благодарность Чигорина не имела границ: в царской России 28 января 1891 г. был принят устав возглавленного им "Санкт-Петербургского шахматного собрания", зарегистрированного в министерстве внутренних дел; причем в члены общества не допускались "лица нехристианского вероисповедания". Вероятно, имелись в виду многочисленные буддисты, мусульмане и язычники, населяющие столицу империи! Все было вполне, в духе времени Александра III. Реакционная пресса во главе с суворинским "Новым временем" восхваляла создание столь патриотического общества во главе с М.И. Чигориным. Зато журнал "Шахматное обозрение" (редактор и издатель Д.И. Саргин) выступил "резко против М. Чигорина именно в его походе (так в тексте. — С. Д.) против С.З. Алапина и Стейница, как евреев, находя что в Шахматах (курсив Д.И. Саргина. — С. Д.) все равны". Ряд других газет и журналов высказывались в том же духе: "Шахматная игра должна быть выше политики". Другие издания прямо писали, что "новым уставом в общество сильно затруднен доступ евреям..." или иронизировали по поводу моментальной перемены шахматных декораций на Петербургской Мойке, подчеркивая, что одна из целей этого Tour de Force заключается в изгнании из шахматного общества иудейского элемента. «Там же сказано, что "Шашечница" (журнал) скорбит об изгнании евреев...»11
Иностранные шахматные журналы "Stratege" и "Deutshe Chachzeitung" осудили "Петербургское собрание". В. Стейниц во время встречи с Чигориным высказал свою озабоченность создавшимся положением, имея в виду ограничительные меры в отношении доступа евреев в шахматный клуб, и привел свой разговор с русским чемпионом в газете "New York Tribune" от 6 декабря 1891 г., в котором Чигорин уверял его в отсутствии антисемитизма в русском обществе. М. Чигорин сознательно лгал чемпиону мира, утверждая, что раскол в "Петербургском" собрании носил личностный, а не национальный характер. Причина такого поведения Чигорина очевидна: ему грозил остракизм цивилизованного человечества, а "кормление" "Нового времени" было недостаточным. (В 1888 г. бра-
537
тья Суворины установили твердый оклад в размере 50 рублей за ведение им шахматного отдела. Затем, после второго матча со Стейницем, жалованье было увеличено до 75 рублей в месяц, а с 1896 г. — аж до 150!11а Напомним, что с Сувориным Чигорина связывали и личные отношения, он так же был в большой дружбе с шахматистом Михаилом Александровичем Шабельским, братом незабвенной писательницы Шабельской-Борк, автора "Сатанистов XX века". Именно Шабельский подстрекал Чигорина на юдофобские действия. В одном из некрологов указывается, что Шабельский начиная с 70-х годов прошлого века находился в ближайшем окружении Чигорина, что он являлся одним из самых крупных шахматных писателей и что как аналитик помогал Чигорину, обрабатывая для него иностранные источники12.
Лучшие петербургские шахматисты, выйдя из юдофобского клуба, образовали свой клуб, в ряды которого вошли сильнейшие петербургские шахматисты во главе с Алапиным, Шифферсом и др.
Черносотенная пресса особенно накинулась на С.З. Алапина, якобы предавшего интересы России, опубликовав анализы защиты в гамбите Эванса перед матчем Стейниц — Чигорин. "Алапина заклеймили, считают изменою своему отечеству (если он таковое признает). В данном случае можно, до некоторой степени, его поступок применить к войне, когда за выдачу неприятелю планов кампании изменников казнят13". В "Новом времени" под псевдонимом "Петербуржец" мог писать и сам А.С. Суворин. (См.: Словарь псевдонимов Масанова.) Досталось и либеральной газете "Новости" (издатель и редактор O.K. Нотович, крещеный еврей) за то, что она предоставила свой шахматный отдел Э.С. Шифферсу: «Попутно с трудами Алапина были посланы Стейницу и варианты Шифферса, редактора шахматного отдела в "Новостях". Воюя с "Новым временем" в Петербурге, "Новости" не прочь повоевать с ним в далекой Гаване, подставив ножек (так в тексте. Возможно, обыгрывается местечковый ломаный русский язык — предмет неумных насмешек черносотенной прессы. — С. Д.) редактору нашей газеты, изгнавшему евреев из "Петербургского собрания". За это-то вот изгнанные евреи ему и мстят. В этом изгнании и кроется настоящая причина всей этой гаденькой, хотя и маленькой шахматно-жидовской интриги... Цель и raison d'etre нового шахматного кружка заключалась в борьбе с русскими шахматистами и преимущественно с Чигориным, значение которого евреями всячески подрывается и которому евреи противопоставляют шахматистов-евреев, вроде Гунсберга или Тарраша, или вроде петербургских игро-
538
ков, как г. Алапин. Враждой евреев к Чигорину объясняются, между прочим, и вылазки против него в "Новостях"... "Новости" с их клиентами из шахматистов евреев могут недолюбливать г. Чигорина", но им все-таки не следовало интриговать против него за границей... Не усматривая, конечно, в выходке г. Алапина прямой измены отечеству, мы все-таки признаем эту выходку в высшей степени непорядочной... Хорошо еще, что Чигорин вовремя был уведомлен о жидовской интриге и успел защититься: не то плохо бы ему пришлось от Стейница, поддерживаемого петербургскими шахматными жидами». Поступок Алапина можно интрепретировать по-разному. В его защиту можно сказать, что свои варианты в гамбите Эванса он открыто пропагандировал на публичных лекциях в Петербурге еще задолго до матча Чигорина и Стейница — так что никаких "военных тайн" не было — они были разглашены, но... Думаю, следует сказать несколько слов о Шимоне (Семене) Захаровиче Алапине (1856—1923), имени, почти забытому в наше время. Он был одним из сильнейших шахматистов России конца XIX — начала XX в. Окончил институт инженеров путей сообщений. Никогда не был профессиональным шахматистом, т. е. практическим игроком. Вместе с тем как теоретик он был мирового класса и оказал влияние на А. Нимцовича. Существует дебют Алапина, система его имени в испанской партии и сицилианской защите. Алапин внес улучшения во французскую партию и в гамбит Эванса. Выиграл матчи у А. Берна, К. Барделебена и С. Левитского, а также свел вничью матч с Карлом Шлехтером. В 1907 г. занял 2-е место на первенство России, позади А. Рубинштейна; в Мюнхене в 1911 г. — был первым. Большую известность получил как журналист и пропагандист шахмат. Один из первых в мире читал публичные лекции на шахматные темы, которые пользовались неизменным успехом. Как практик он уступал М. Чигорину, но, по свидетельству современников, Михаил Иванович его побаивался. Самое же главное, отношения между Алапиным и Чигориным были восстановлены. Имеются прямые свидетельства этого факта. Так, один из близких друзей Михаила Ивановича спрашивал Алапина о самочувствии Чигорина: "Диагноз этого умного, всесторонне образованного человека, дружески расположенного к Чигорину, был для нас чрезвычайно интересен"14.
Другой современник писал: "Мое последнее воспоминание о Чигорине относится к тому турниру, который Шахматное собрание устроило в честь возвращения С.З. Алапина на родину (1906 г.); это был матч-турнир... Чигорин с легкостью разбил ...молодых шахматистов, но первенство должен был усту-
539
пить Адалину. В связи с участием в этом турнире Чигорина и Алапина были, кстати сказать, ликвидированы старинные, имевшие пятнадцатилетнюю давность неприязненные отношения между ними, возникшие в начале 90-х годов, когда Алапин накануне матч-реванша Чигорина со Стейницем послал последнему анализы одного особенно актуального в то время варианта гамбита Эванса... Я с удовольствием наблюдал, как за последние годы неприязненное отношение Чигорина к Алапину смягчалось. Их острая антипатия друг к другу, кажется, переходила в дружескую симпатию. Успех Алапина на этом турнире является одним из лучших во всей его шахматной карьере, и мне показалось, что своему многолетнему противнику Чигорин без горечи уступил в этом турнире первое место..."15
Следствием дружеских отношений и явилось то, что архив Чигорина его вдова передала именно Алапину. К сожалению, в огне войн и революций архив исчез. Панов называет Алапина "злым гением" Чигорина, его преследовавшим и отравившим ему жизнь. И даже считает оскорблением надпись на венке (по случаю переноса праха Чигорина в 1914 г. в Петербург), сделанную Алапиным. Оказывается, Михаил Иванович назван был талантом, в то время как его надлежало именовать гением.
И последнее. Довольно часто Михаил Иванович прибегал к помощи "сильных мира сего", для того чтобы добиться разрешения евреям-шахматистам, прибывшим из-за границы, Одессы или Западного края, получить право на жительство в столице империи на время соревнований16. К месту будет вспомнить тот пресловутый пункт из устава "Санкт-Петербургского шахматного собрания" о недопущении евреев в члены клуба. Не думаю, что Чигорин был доволен его формальным исполнением...
Прошло много десятилетий, а вопрос о "патриотизме" в шахматах не был снят. На XI шахматной олимпиаде в 1954 г. капитану советской сборной А. Котову "показалось" перед матчем с Израилем, что Е. Геллер, а возможно, и Д. Бронштейн "не сумеют сыграть в полную силу". Они были отстранены от игры. Сам Александр Александрович благополучно проиграл израильскому мастеру Алони. Единственный матч, который СССР не мог выиграть. Месть Каиссы утонченна...17
В XIX в., не без непосредственного влияния Рихарда Вагнера, возникло стремление тенденциозно характеризовать национальные особенности евреев, проявляющиеся в их творчестве. Для Рихарда Вагнера евреи лишены творческого начала, они — эклектики. Напомним, что Вильгельм Стейниц наткнулся на антисемитизм общества значительно раньше. Так, пре-
540
тендент на мировое первенство Иоганн Цукерторт в негодовании бросил Стейницу: "Вы не шахматист, а еврей!", на что незамедлительно получил ответ: "А вы ни то и ни другое!", намекая на полуеврейское происхождение Цукерторта. В конце жизни В. Стейниц опубликовал памфлет, направленный против антисемитизма: "Мой ответ антисемитам в Вене и где бы то ни было...", и работал над книгой "Еврейство в шахматах". Над ней он начал работать в Москве и, можно думать, неслучайно. Как известно, матч-реванш между двумя евреями — Ласкером и Стейницем — проходил в первопрестольной в 1896—1897 гг. Он затянулся из-за болезни экс-чемпиона более чем на два месяца. Как умудрились московские меценаты в вотчине великого князя Сергея Александровича обойти закон о праве на жительство — дело темное. Но зато Стейниц, помещенный в психиатрическую больницу, убеждая врачей освободить его, не без юмора предлагал им выслать его из Москвы как еврея, не имеющего этого права. Стейниц был верующим евреем и, конечно, ходил в московские синагоги, где его, безусловно, ознакомили с настоящим положением вещей. Впоследствии, в своей работе "Моя самореклама для антисемитов Вены и других мест", подписанной "Shacherjude" ("корыстный еврей")" (Нью-Йорк, 1900), он писал о России: «...в связи с известием о моей болезни и как свидетельство моего психического расстройства было ...объявлено, что до моей госпитализации я готовил к публикации памфлет в поддержку эмансипации евреев под названием "Das Judentum in Schach" ("Еврейство в шахматах"), и открыто выразил намерение сформировать комитет с целью обратиться с прошением к императору России по этому вопросу. Нет сомнений, что такой план должен был показаться весьма эксцентричным в стране, где антисемитизм был легализован до степени, позволявшей официально депортировать большую группу еврейского населения». Под "депортацией" (какое страшное слово из другого времени!) Стейниц подразумевал массовое изгнание евреев из Москвы в 1893 г.
В 1909 г. правый критик М.О. Меньшиков, запятнавший себя погромными статьями и впоследствии судимый и расстрелянный большевиками, был потрясен еврейским гением в шахматах. Будучи страстным любителем шахматной игры, он даже Царствие Небесное не представлял себе без шахматной доски. Ему принадлежит одно из первых сравнений шахмат с искусством: "...следить за чужой превосходной игрой — для меня истинное наслаждение — выше, пожалуй, оперы". Есть у него и удивительные определения: "Шахматы — безмолвны, как небо, как математика, как душа. В шахматах жизнь духа —
541
в ее элементарной свежести, как бы в химической чистоте... Шахматы напоминают игру атомов. Космическая страсть здесь во всей необыкновенной прелести ее изощрений и возможностей. В шахматной игре — поэзия отношений, красота зависимостей, глубина бесплотных сил, как в алгебре, поминутно исчезающих и возникающих. Несомненно, математика есть философия природы, но ведь шахматы — математический инструмент, вроде скрипки артиста... Шахматист — композитор..."18
Как раз в 1909 г. проходил в Петербурге международный турнир памяти М.И. Чигорина. Что поразило Меньшикова в Шахматном собрании? Сплошь еврейские имена: чемпион мира Эммануил Ласкер, ближайший претендент — "крон-принц" Акиба Рубинштейн из Лодзи, другой претендент, вскоре игравший матч с чемпионом мира, — Карл Шлехтер из Вены, затем Рудольф Шпильман, тоже венец, но почему-то представлявший Германию, Эрих Кон из Германии, Осип Бернштейн из Петербурга, Рихард Тейхман (Берлин), Якоб Мизес (Берлин), Савелий Тартаковер родом из Ростова-на-Дону, выступавший за Австрию, Лео Форгач (настоящая фамилия Флейшман) из Будапешта, д-р Юлиус Перлис, кстати, уроженец Белостока, но представлявший тоже Австрию, Григорий Сальве (Лодзь), Аврахам Спейер (Голландия). Всего участников турнира было 19 человек; из них 13 евреев.
В турнире еврейские имена заполнили верх таблицы — "Молодцы евреи, что касается шахмат!" — восклицал друг Суворина. Один из русских игроков жаловался Меньшикову, что поразительный успех еврейских шахматистов объясняется не столько талантами евреев, сколько осторожной манерой их игры. В то время как "арийцы" чрезвычайно ценят красоту игры, артистический риск, евреи побеждают мелочным расчетом, не брезгуя с сильнейшими делать ничьи, побеждая слабейших. Я полагаю, что этим "жалобщиком" был Ф.И. Дуз-Хотимирский. Это может вызвать некоторые возражения. Представителей России было всего семь человек: три еврея — Рубинштейн, Бернштейн, Сальве; из четырех остальных — Ненароков выбыл из турнира и его результаты были аннулированы. Е.А. Зноско-Боровский был филосемитом и не скрывал этого, о чем мы расскажем ниже; остаются два участника: фон Фрейман и Дуз-Хотимирский. Фрейман, кроме того что он, по-видимому, был немцем, ни в каких грехах не замечен. Что касается Дуз-Хотимирского, то он неоднократно сетовал на сухую игру, скажем, Рубинштейна, неспортивное поведение Нимцовича и имел крупный конфликт с Алапиным. (Алапин оскорбил Дуз-Хотимирского на турнире в Лодзи в 1907 г. и за
542
это был исключен из членов "Петербургского собрания".) У Меньшикова хватило здравого смысла объяснить слова русского мастера обыкновенным чувством зависти: "Мне кажется, в жалобе Арийцев (с большой буквы. — С. Д.) есть изрядная доля зависти. Большинство еврейских знаменитостей хорошо заслужили свою славу". Затем Михаил Осипович переходит от частностей к общему, пытаясь понять успехи евреев не только в шахматах, но и в обыденной жизни. Его выводы удивительны и иногда прямо противоположны его статьям, помещаемым в суворинской газете. Да и не всегда бывший мичман был ярым реакционером. Один из ревнивых еврейских мемуаристов отмечал, что в первой половине 80-х годов прошлого века, пребывая в Самаре, Меньшиков был поклонником Л.Н. Толстого, всегда корректно говорил о евреях и интересовался деятельностью евреев в городе, признавая их вклад в торгово-промышленной области. Увы, вскоре его взгляды необратимо поправели19. Сыграл ли роль в его жизни бытовой фактор: в первом браке он, подобно "Иванову" Чехова, был женат на еврейке? Между прочим, так считали некоторые его современники. Трудно сказать, но факт остается фактом — Меньшиков был талантливым журналистом, может быть, самым одаренным в небогатом дарованиями стане правых20. Меньшиков писал: "Евреи — народ из античной древности, как Японцы и Китайцы. Весьма возможно, что ум их устроен несколько иначе, чем у нас. Что касается расчета и комбинаций, в их породе больше было практики и сумма опыта их по этой части настолько велика, что начинает переходить в инстинкт. Уцелевшие древнекультурные народы, современники Египта и Вавилона, во многих отношениях должны превосходить европейцев"21.
ЭММАНУИЛ ЛАСКЕР И РАУЛЬ КАПАБЛАНКА
Из всех игроков Меньшикова больше всех интересовал Ласкер, чемпион мира. В его внешности — и это логично для Меньшикова — он находит мало еврейского, точнее восточноевропейского: Ласкер ему напоминает француза или итальянца. Впоследствии он вернется к этой мысли. Он его называет гением и подробно описывает манеру игры. А анализируя партию Мизес—Ласкер, он восхищается обоими партнерами: "Насколько я могу судить, партия... отличалась с обеих сторон классическим изяществом. Даже по внешнему виду легко отличить гениальную игру от бездарной. В первой ничего лиш-
543
него: общий секрет искусства. Фигуры связаны в организм и строго поддерживают друг друга, а не обременяют. Как в природе, на шахматной доске возникают и рушатся крайне разнообразные организации и по степени их красоты вы судите о скованной в них силе". Эти замечательные мысли схожи с теми, которые высказал Василий Васильевич Смыслов о гармонии в шахматах. Интересовал Меньшикова и претендент на мировое первенство — Акиба Кивелевич Рубинштейн: "О г. А. Рубинштейне много говорят. Это будущий король и, может быть, в своем роде такая же мировая слава, как некогда А. Рубинштейн в музыке. Дофин шахматной доски — юноша с мало интеллигентным лицом, почти необразованный, но небольшой лоб его ничего не говорящей физиономии хранит гениальную память на шахматные комбинации. Говорят, он знает наизусть все великие партии. Откройте сборник их на любой странице, он в любом месте партии угадает, когда она играна и кем. Феномен, изумительный самородок, и откопал его один русский полковник, основатель лодзинского шахматного клуба". Дополнением к статье "Игра царей" является небольшая заметка "Первые люди", где Меньшиков проводит мысль об аристократизме таланта, абсолютно независимом от социального происхождения. Посему современная аристократия (автор избегает слова "дворянство") замкнулась в крайне спорном определении благородства — в количестве записанных предков. "Посмотрите на этих небрежно одетых артистов шахматной игры. Видимо, люди очень небогатые, несмотря на мировую славу, и родились Бог весть в каких формациях общества. Но они — таланты! Божией милостию они первые в своем крайне трудном искусстве! И вот здесь, около столиков с шахматами, вы чувствуете на себе великое влияние таланта. Наблюдая за гениальной игрой, вы ощущаете, до какой степени она чудесно поднимает нашу бездарность до себя: не до творчества своего, конечно, — но все же хоть до понимания этого творчества"22. Прекрасные слова. Можно предположить, по Меньшикову, что если бы все евреи играли в шахматы, то и отношение к ним было бы иным. Но и это предположение оказалось неоправданным.
По поводу одного из сильнейших турниров начала века — Карлсбадского международного турнира 1911 г., где из 26 участников было 12 евреев, или почти 50 % (первые четыре места заняли Рихард Тейхман, Карл Шлехтер, Акиба Рубинштейн и Гирш Ротлеви), в шахматном отделе "Пестер Ллойд" появилась статья, принадлежащая перу чемпиона мира Эммануила Ласкера, посвященная вопросу о причинах большого числа евреев среди шахматистов. Объяснение Ласкера носит
544
социологический характер. Автор полагает, что вследствие тяжелых исторических условий у евреев получили сильное развитие фантазия и воля — компоненты, необходимые шахматисту. Кроме того, евреи бедны, многие работы для них недоступны, а отсюда — тяга к неординарным занятиям, таким, как игра на сцене, писательство и даже игра в шахматы. Последнее вряд ли можно отнести к профессиям, дающим определенный заработок, но шахматы дают возможность выделиться из толпы, а "бедность легче переносится, если чувствуешь свою незаурядность". Так как это статья никогда не была напечатана по-русски, то мы приведем ее полностью, тем паче что она является, по нашему мнению, зачином многих работ на аналогичную тему, в том числе и антисемитских. Последнее утверждение требует пояснения: в полемике часто используются аргументы противоположной стороны, с обязательной перестановкой акцентов. Итак:
«В Карлсбадском турнире из 26 участников 12 было евреев. Это не единичное явление. Множество евреев являются любителями шахматной игры. Это особенно заметно, если принять в расчет незначительность евреев по сравнению с общим числом населения земного шара.
Шахматами занимаются арийские, семитские и малайские народы во всех уголках известного нам мира. Это самая распространенная игра.
Хочется задать вопрос: "Почему среди всех народов евреи более других интересуются этой игрой? Имеются ли у них к этому особые способности или дарования?" Большинство, не задумываясь, ответят, что евреи, обладающие предрасположением к умственным занятиям, среди которых числятся и шахматы, предназначены к этому.
К этому добавляется, благожелательно или с пожатием плеч, в зависимости от степени симпатии к евреям, что у евреев в этой области превосходство над христианами. И на этом для большинства вопрос будет исчерпан. Однако это утверждение совершенно ошибочно и противоречит фактам.
Еврей, разумеется, не более интеллигентен, чем христианин. Он и не может быть таковым. Интеллигентность — понятие, равнозначное познавательным способностям, составная часть которых зиждется на двух элементах: памяти и воображении. В нашем уме собрано множество фактов, которые верно или неверно были восприняты. Если факты ясны и получены в правильном причинном порядке, то они [факты] служат достаточно хорошим материалом для правильных выводов. Но тот, кто не в достаточной степени или ошибочно усвоил явления, тот приходит к неверным результатам. У евреев в оши-
545
бочности видения фактов большой опыт. Гетто не было идеальным местом для наблюдений, а, следовательно, для выводов. Поэтому у евреев способности к правильной оценке фактов весьма слабы. Равно и их способности к анализу ослаблены и стоят на низком уровне. Эти недостатки будут существовать до тех пор, пока евреи не произведут писателя, который непредвзятым взором увидит человека и сумеет создать характеры, или появится скульптор, который будет правильно видеть физическую сторону вещей. Или среди них появятся люди, которые будут руководствоваться не измышлениями и идеями, а, главным образом, реалиями окружающего мира.
Второе свойство ума — воображение — чрезвычайно развито у евреев. Каждый угнетенный народ обладает большим воображением, чем угнетающий, потому что у первого больше причин для печали, чем у второго. Движущая сила воображения — воля. Любая нужда стимулирует фантазию; сытость, исполняемость желаний — не возбуждают воображение. Поэтому евреи, предки которых помногу голодали, и стремления которых часто не сбывались, как компенсацию за те лишения получили богатую фантазию.
Если ничто этому анализу не противоречит, то можно заключить, что интеллигентность евреев только в одном имеет превосходство, в другом — она недостаточна. Но та форма интеллигентности, которая присуща евреям, используется ими наилучшим способом. Они вынуждены к этому, потому что не могут получить достойной работы. Синекуры удерживаются за теми, к кому власти предержащие благосклонны, а к таковым евреи не принадлежат. Поэтому евреи бросаются на те характерные профессии, которыми новое время так богато: театр, варьете, литература, т. е. разновидность занятости, которая "витает в облаках" и которая, как непрактичная, избегается другими нациями. В эти непрактичные занятия внедряются потомки Иуды и добиваются кое-какого достатка. К таким шатким профессиям принадлежит турнирная шахматная игра. Едва ли можно назвать ее в полном смысле слова профессией, ибо она не приносит стабильного заработка для семьи. Но... она приносит известность. А бедность легче переносится, если чувствуешь свою незаурядность. Известность можно также использовать в деловых сношениях, она дает некий шанс для выбора других занятий, типа работы страхового агента или учителя, или дает возможность получить рекомендацию на получение легкой работы со сносным жалованьем.
Поэтому, мне кажется, экономическая нужда евреев может служить достаточным объяснением появления многочисленных еврейских мастеров по шахматам.
546
К этому следует добавить, что евреи как нация любят шахматную игру. Их сильная фантазия обнаруживается в легкой оживленной форме при создании комбинаций, во внезапных осложнениях, поражающих воображение, — здесь знание мира не нужно, здесь проявляется лишь идеальная способность к эксперименту в мире игрушечном. В этой комбинационной страсти еврейские шахматисты непревзойденны. Многие из них настолько сильны, что осмеливаются избрать профессиональный шахматный путь. Для этого многого не требуется. Чтобы просуществовать шахматами нужно лишь не намного превосходить любителей. Но, несмотря на это, немногие становятся мастерами, и именно те, кто испытывают непреодолимую тягу к этой игре.
Обыкновенно еврейские мастера терпят поражения вследствие недостатка объективности — "common sense" (здравого смысла. — С. Д.) согласно английскому выражению. Отягощенный наследственными иллюзиями еврей только в исключительных случаях может превзойти христианина, предки которого тысячелетиями держались привычных фактов. Это присуще и шахматной игре. Здесь рядом с элементом комбинации действует и элемент силы. Первый требует фантазии, второй — оценки. Если в ошеломляющей комбинации евреи могут быть учителями неевреев, то христиане гораздо больше наделены такими способностями, природная сила которых ломает сопротивление противника»23.
Выражение, написанное по-английски, кажется, более всего выдает авторство Эммануила Ласкера. "Common sence in chess" ("Здравый смысл в шахматной игре") было написано чемпионом мира по-английски и вышло в Лондоне в 1897 г. В социологическом плане правота Ласкера не требует больших доказательств, по крайней мере в отношении прошлого. В наш век шахматы стали чуть ли не заурядной профессией. А количество евреев отнюдь не уменьшается. Хотя в свободном западном и не только западном мире перед ними открыты многочисленные пути. Утверждение, что евреи обладают большими комбинационными способностями, весьма спорно. Достаточно сопоставить в этих отношениях двух современников — Боголюбова и Шпильмана, чтобы выяснить: оба они как бы слеплены из одного теста. А фундаментальность в одинаковой степени была присуща и Флору, и Карпову.
С. Г. Тартаковер в одной из своих статей писал о еврейском элементе русского Западного края, так много давшего талантов шахматному миру. Объяснение этому факту близко к ласкеровскому: "Вероятная причина этого явления таится в невозможности — ввиду ограничений гражданских прав (в цар-
547
ской России) — влиться иным образом в русло общественной жизни"24.
Ему вторит вдумчивый писатель и шахматный теоретик Е.А. Зноско-Боровский в статье "Евреи в шахматах"25: "Условия жизни еврейства во многих странах, и особенно в Восточной Европе, которая и поставляла за последнее время наибольшее количество шахматных мастеров, как известно, сложились так, что евреи стремились к наиболее либеральным и даже не вполне ординарным профессиям, где не ставился бы вопрос о национальности, где он не служил бы препятствием на пути к совершенствованию и к успехам. Да и сама игра по самому существу своему не может не быть близка складу еврейского мышления". По его словам, евреи занимают выдающееся положение на шахматном поприще: от чемпионов мира Стейница, Шлехтера, Рубинштейна, Нимцовича, Бернштейна, Шпильмана, Тартаковера, Рети и др. Далее он призывает с большой осторожностью выявлять специфические национальные черты. Для примера он берет Эм. Ласкера и его антипода, австрийского еврея Карла Шлехтера. И вновь повторяет: как можно объединять такие разные творческие личности, как Ласкер, Рубинштейн, Шлехтер или Нимцович. Евгений Александрович предвидит будущее, когда предупреждает: "Все сказанное убеждает нас, с какой осторожностью следует говорить о национальных особенностях в шахматном искусстве, не имеющем как будто никакой связи с грешной землей, с устоявшимся бытом, и в первую очередь эта осторожность должна быть применена в отношении еврейства" (курсив мой. — С. Д.).
Любопытно, что еще до Первой мировой войны на страницах "Нового времени" и журнала "Шахматный вестник" (январь 1914 г.) возникла полемика между Е.А. Зноско-Боровским и А.А. Алехиным по поводу шахматного стиля американского шахматиста П. Морфи. Невероятно, но Зноско-Боровский упрекал Алехина в солидарности со Стейницем. Алехин отвечал: "В. Стейниц был, несомненно, очень крупной фигурой, и до того, что он дал нашей царственной игре, теоретической стороне ее, в лучшую свою пору, — очень и очень далеко всем нашим доморощенным философам от шахмат..." В общем, А. Алехин придерживался взгляда В. Стейница на творчество Морфи: он "играл всегда позиционно в широком смысле слова"26.
Петербургский турнир 1914 г. вызвал невиданный ажиотаж, связанный с соперничеством чемпиона мира Эммануила Ласкера с восходящей звездой Хозе Раулем Капабланкой. Интерес был естественным, как естественна смена поколений — кубинец был моложе вельтмайстера на целых 20 лет. Это была же-
548
стокая борьба, где гений Ласкера проявился с необыкновенным блеском. Отставая на 1,5 очка после первой половины турнира, чемпион мира в восьми финальных партиях набрал семь очков, и не только отыграл потерянное, но и сумел обойти честолюбивого конкурента на пол-очка, выиграв у него сенсационную партию. Удивительно и то, что после предварительной половины турнира Ласкер в скрытой форме предугадал окончательный результат: "Мы с Таррашем отстоим от Капабланки на полтора очка. Наверстать это расстояние трудно, и нам придется много потратить энергии, чтобы выбиться на первое место... При таких условиях было бы совершенно бесплодно предсказывать результаты. Всякая, самая невероятная на первый взгляд комбинация может еще осуществиться. Если бы кто-нибудь хотел держать тысячу против одного за такой примерно порядок призеров: Маршалл, Алехин, Тарраш, Капабланка, Ласкер, то я, по крайней мере, без колебания принял бы это пари"27. Взглянув на таблицу этого турнира, мы можем обнаружить, что игроки в действительности расположились в обратном порядке приведенного списка, с незначительной перестановкой мест Алехина и Тарраша. Видимо, этот результат чемпион мира считал наиболее справедливым. Но русское общество в целом болело за Капабланку. И вновь интересную статью опубликовал М. Меньшиков, который внимательно следил за перипетиями борьбы, оставаясь на стороне кубинца, притом страстно болея за Алехина: "Что поделаешь, — объясняет Меньшиков, — чувство русского патриотизма нынче властно звучит даже в сердцах бесстрастных шахматистов, подавляющее большинство которых Евреи.
Они первенствуют в шахматном мире и количественно и качественно. За весьма редкими исключениями почти каждый шахматный маэстро — прямой потомок Авраама. Непобедимый Ласкер, Яновский, Рабинович, Рубинштейн, Нимцович — дети двенадцати колен Израилевых. Представители остальных наций допущены здесь самою судьбою не более чем в пятипроцентной норме. Израиль на шахматном поле нашел свое возмездие за тот ущерб, который он претерпевает на некоторых других поприщах. Некоторые так и объясняют обилие Евреев среди шахматистов тем, что куда же им деться, если их не пускают ни в военные доктора, ни в чиновники, ни в офицеры. Однако же и в тех странах, где никаких ограничений для Евреев не существует, шахматное поле остается за ними. И Ласкера, и Яновского загнала на их путь не черта оседлости, а внутреннее призвание. Очевидно, самая психология шахматной игры всего более соответствует национальным особенностям еврейского ума. Победа шахматиста всегда основана на
549
точности расчета, — можно ли удивляться, что победителем чаще всего остается Еврей, привыкший за два тысячелетия своих скитаний и торговой профессии все считать, учитывать и рассчитывать? А среди нас, Русских, так мало хороших шахматистов не потому ли, что мы вообще и за пределами шахматного поля как-то не привыкли в чем бы то ни было руководствоваться строгим расчетом и не грешим излишней предусмотрительностью в жизни. Чигорин и Алехин — редкое исключение, только подтверждающее общее правило"28. Любопытно следить не только за мыслью Михаила Осиповича, но и за правописанием. Он нас отодвигает к половине прошлого века, пользуясь орфографией, когда, скажем, Ф. Булгарин слово "Жид" или "Еврей" всегда писал с прописной буквы. Собственно, прописная буква должна обозначать не одного еврея, а понятие "еврейство". Таковы слова-понятия Меньшикова "Ариец" или "Русский". Конечно, меняется коннотация. Обилие еврейских фамилий вызывает у ярого сторонника черты оседлости ассоциацию с пятипроцентной нормой. Действительно, в Петербургском турнире 1914 г.: из 11 участников — семь евреев и только один русский (из четырех представителей России) — невелик процент. Но в отношении своих сородичей Меньшиков не прав — русский гений дал несколько чемпионов мира и несколько претендентов на мировое первенство, и их вклад в развитие шахмат вполне ощутим. Единственный русский Чигорин — это немало к этому времени (1914). Он официально был первым претендентом на мировое первенство и сыграл два матча со Стейницем.
Есть еще одна идея у Меньшикова — его убежденность, что евреи-шахматисты мало похожи на других своих соплеменников. Он внимателен, у Капабланки находит примесь негритянской крови. (Капабланка, как известно, был креол. Михаил Осипович был достаточно образован, чтобы подумать о возможности его марранского происхождения.) Вот его описание Ласкера: "Ласкер с пышною и густою шевелюрою, с острым профилем округленного лица, похож скорее на вдохновенного скрипача или виолончелиста, чем на шахматиста. В его фигуре так много вдохновения, что вероятно он умеет внести его даже в игру, основанную на расчете. Это поэт шахматного поля".
Турнир окончен. И к огорчению публики, в том числе и Меньшикова, не так, как предполагалось. Титан победил! Украл победу у "арийца", хоть и с примесью негритянской крови, но "арийца", и — Меньшиков проговаривается: в следующем "Письме к ближним" он объединил две статьи: "Жизнь под солнцем" и "Расовая борьба". Первая посвящена текущим
550
событиям, вызывающим ассоциации с новейшим временем: Дума и бюджет. Денег в казне нет и все живут старыми классическими рецептами: "заложить, продать, занять". Далее он пишет: "...чем глубже я вникаю в жизнь, тем для меня бесспорнее, что основным деятелем в каждой стране служит гений расы — главным образом гений правящего слоя. Если этот гений не глуп и трезв, то все в порядке: государственность делается деловитой, а с нею народ"^9. Затем — грустный анализ правящего слоя. Как принято у правых, тяготеющих к Германии, ссылка не только на расовые теории, но и на Бисмарка, упрекавшего славянство за "женственность". И это все накануне мировой катастрофы, до которой оставались недели. Но что делать с бюджетом, названным Михаилом Осиповичем шляхетским, расточительным, нетрезвым? Надо поклониться "жиду" с маленькой буквы или идти к тому же "Еврею" на поклон, под благовидным предлогом "привлечения иностранного капитала".
Рядом с этим печальным анализом — маленькая статейка "Расовая теория". В ней в "женственности" обвиняется уже не только славянство, но и арийская раса. Как пример развенчивания "арийцев" выбран международный шахматный турнир, итоги которого лишь укрепили репутацию еврейства: «Деревянная корона в этой высокоинтеллектуальной области носится уже давно, чуть ли не полстолетия, представителями еврейского племени. Еврея Стейница напрасно покушался победить наш богатырь Чигорин. Нынешняя претензия молодого Испанца развенчать Еврея Ласкера тоже осталась тщетной. Это было прекрасное восстание арийской расы, имевшее в лице г. Капабланки все шансы на победу, но она окончилась самым странным, нелепым и тем более плачевным поражением. Может быть, потому, что у Евреев нет своего политического царства, — судьба предоставила им территорию шахматной доски, и здесь, пред "царем иудейским" г. Ласкером должны еще раз склониться все деревянные величества квадратных, разлинованных на клеточки королевств.
Что ж греха таить? Вместе со всем Петербургом, всей Россией, всем арийским шахматным миром я был душой и сердцем за Капабланку, и не только потому, что он ариец, а его противник семит, а потому еще, что г. Капабланка молод, изящен, гениален и необыкновенно симпатичен, а д-р Ласкер человек с сединой в волосах и со стальной машинкой вместо сердца».
Далее идет инсинуация против Ласкера, связанная с тяжелыми предварительными переговорами по поводу матча. Увы, крон-принц Рубинштейн был далеко не "жидом" (по опреде-
551
лению Меньшикова), т. е. не обладал соответствующей практической хваткой. А вот "ариец" Капабланка, тот уж действительно — прагматик, шел к цели напролом и, в конце концов, сыграл желанный матч. Но это в будущем, а сейчас выпад против Ласкера, который не так безропотно идет на заклание: "Д-р Ласкер многих вооружил и возмутил против себя некорректною манерой вести кампанию против своего соперника не только на шахматном, но и на газетном поле. Чувствовалась попытка раздражить г. Капабланку, довести его молодую, впечатлительную натуру до состояния, близкого к потере равновесия. Этот прием, если он был в действительности (шахматный мир лучше об этом знает), не заслуживает оправдания. Что это, в самом деле, за турнир, когда два главных героя, два кандидата на мировую шахматную корону, не могут даже раскланяться друг с другом и пожать взаимно руку? В области искусства, как и рыцарского состязания, это недопустимо".
На чьей стороне Меньшиков, ясно. Но что касается манеры вести газетную войну, то асом себя показал Капабланка. Спустя семь лет он загнал альтмейстера в угол, причем не последнюю роль в травле Ласкера сыграли "арийцы". Причины, по которым Ласкер капитулировал под газетным и иным давлением, он сам объяснил в книге "Мой матч с Капабланкой"30. "В шахматной прессе 1912—1914 годов довольно часто высказывается утверждение, что я ни разу не решился подвергнуть свое звание чемпиона мира серьезному испытанию и лишь этим удерживаю его". Более полную картину воспроизводит А.Н. Кобленц, лично общавшийся с "д-ром Фаустом": «Не последнюю роль в травле чемпиона мира приняли антисемитски настроенные шахматные круги»31. Уместно привести конец цитаты, относящейся ко времени меньшиковских упражнений: «любопытная деталь: просматривая шахматные отделы немецкой газеты "Rigasche Rundschau" нашел заметку редактора, выразившего свое "возмущение" тем, что в прессе Ласкера, победителя Петербургского турнира гроссмейстеров 1914 г., называли немецким шахматистом: "Какой же он немец, Ласкер — еврей". Эти же круги воспротивились матч-реваншу Ласкера с Капабланкой, на который он имел моральные права, в силу принятой традиции (он играл матч-реванш со Стейницем), и фактические права после своей грандиозной победы в Нью-Йорке в 1924 г. Капабланка этого шанса своему маститому сопернику не предоставил. За бесчестность шахматы мстят. "Усыпив" Капабланку, Алехин не только выиграл у него матч на первенство мира, но и не согласился играть с ним матч-реванш — нравоучительная история для современных шахматных божков. (В наше время право на матч-реванш
552
было "украдено" у Ботвинника.) В послевоенные годы Ласкер жил в стесненных обстоятельствах. И даже сделал другой своей профессией карты: "Несколько человек поднялись из-за своих столиков и подошли к нам. Среди них прославленный шахматный экс-чемпион д-р Э. Ласкер. Оказалось, что он здесь ежевечерне играл в покер. В тот период он слыл крупнейшим арбитром по покеру, и покеристы всего мира считали его решение окончательным. Жилось ему в материальном отношении трудно, и этот "арбитраж" служил для него подспорьем»32. Увы, и здесь, на житейском поприще, Ласкер не сумел приспособиться. Не было у него "жидовского" таланта наживать деньгу.
Но это в будущем, а сейчас Меньшиков мечет громы и молнии: "Благодаря плохому характеру г. Ласкера, в шахматном клубе образовались как бы две грозовые атмосферы: одна арийская, сочувственная г. Капабланке, другая — еврейская, более благоприятная д-ру Ласкеру. Спор, наконец, окончен. Презренные ½ очка — подумайте! — всего пол партии! — заставляют весь свет еще раз признать мировым величеством д-ра Ласкера. Честь ему за это и слава! Крайне неискренне и с болью в сердце мы вынуждены ему аплодировать". Меньшикову в буквальном смысле слова приходится утешаться забытой ссылкой русского по поводу предыдущего турнира и победы в нем евреев на их хитрость. Слово "зависть" Михаил Осипович забыл: «Единственным утешением служит то, что кроме бесцветных, хотя и сильных партий, обыкновенно "ничьих" с большими игроками, д-р Ласкер дал все-таки доказательство и действительно гениальной игры — какова его решительная партия с г. Капабланкой... ведь то удивительно, что д-р Ласкер играл в этот раз с сокрушающей, ничем не преодолимой силой. Бык очень сильное животное, но в объятиях удава у него начинают трещать кости, и несмотря на отчаянные усилия, он постепенно превращается в ком мяса. Таково впечатление от этой ужасной партии». Сравнение грубое, жестокое.
Ничтожные пол-очка не означают для Меньшикова полного превосходства Ласкера над Капабланкой. Величие и красота таланта, по мнению Меньшикова, на стороне кубинца. И именно это влечение "арийца" к красоте в этот раз погубило юного претендента, как когда-то погубило Чигорина. Оставляя в стороне, кто гениальнее — это дело вкуса (для Ботвинника — Капабланка высшее проявление гениальности) — бросим взгляд на таблицу Петербургского турнира. Единственное поражение Ласкер потерпел от Осипа Бернштейна, находился в критическом положении против Зигберта Тарраша, с трудом спас пол-очка, сделал ничью с Ароном Нимцовичем. Зато ка-
553
кие изумительные победы он одержал над Алехиным в финале — обе они вошли в золотой фонд шахматного искусства. Два поражения Капабланке нанесли два еврея — Ласкер и Тарраш, а в последнем туре Алехин подарил очко своему тогдашнему другу Капабланке. На языке шахматистов это называется "сплавить" партию. А количество ничьих в игре Капабланки возрастут вплоть до признания ничейной смерти шахмат. Но это впереди. В прошлом же Михаил Иванович Чигорин с гневом писал о шахматных халтурщиках, перезжающих с турнира на турнир и делающих многочисленные короткие ничьи. На языке Чигорина эти ремесленники вполне справедливо назывались "бременскими музыкантами". Но и Чигорин, вопрошавший Макса Вейса, сколько он сделал ничьих в очередном турнире, забыл, что его матч с тем же Вейсом окончился четырьмя ничьими. И он сам объяснял отсутствие риска в этих партиях страхом потерять дележ первого приза. Оказывается, и "арийцы" могут быть практичными и умеют считать.
И последнее: Михаил Осипович возвращается к любимой идее, что евреи-интеллектуалы внешне не похожи на евреев: "Имея редкий случай наблюдать сразу полдюжины гениальных Евреев, я всматривался в них особенно внимательно. И вот что меня поразило: они вовсе не похожи на Евреев. Для Евреев они совершенно не типичны. Ни одного между ними нет, о котором вы в толпе сразу и уверенно сказали бы: это Еврей. Чемпион мира д-р Ласкер гораздо больше похож на Итальянца, нежели на Еврея. У него что-то корсиканское, наполеоновское в лице, и никак не бердичевское или шкловское. Д-р Бернштейн — типичный француз, д-р Тарраш смахивает на Малороса или Баварца. Г. Нимцович — совсем Поляк, как и похожий немного на Надсона г. Яновский. Молодой г. Рубинштейн мог бы назваться Англичанином или любым Арийцем. Это в самом деле любопытная черта: как только Еврей выдается талантом, например, Антон Рубинштейн, он оказывается не Евреем — и по типу, и, вероятно, по крови. Невольно припоминается утверждение Чемберлена, что чистых семитов среди Евреев — 5 %, чистых же Арийцев — 10 %, остальное — помеси. Если верен этот намек (до обобщения тут, конечно, далеко), то что же это значит? Это значит, что в великой борьбе рас мы растрачиваем не только пожитки, но и таланты, а Евреи вместе с чужою кровью приобретают их"33.
Idee fixe "объевреиванья" общества. Конечно, к началу XX в. интеллигентные круги Петербурга и, в чуть меньшей степени, Москвы были достаточно пронизаны еврейским элементом. Крещение и смешанные браки были явлением далеко нередким. Напомним, что массовые крещения кантонистов
554
привели к заселению бывшими евреями крупных городов. Если все население обеих столиц России по переписи 1897 г. составляло всего-навсего 2 млн. 300 тысяч человек, то количество бывших евреев в интеллигентной среде составляло весомый процент. Произошла, как я называю, "австриизация" России. Суть ее состоит в том, что «эти восходящие слои в немалой степени формировались из еврейских семей и евреев-пришельцев с окраин империи. Не в последнюю очередь именно еврейские круги следует благодарить за то, что здесь привилась любовь к музыке, были оценены такие музыкальные гении, как Густав Малер, Арнольд Шёнберг, Альбан Берг, Антон фон Веберн, за расцвет изобразительного искусства — вспомните хотя бы культурную жизнь в доме Витгенштейнов. И все же в еврейской традиции господствовало слово. Сознательное развитие еврейского ребенка начиналось с Ветхого Завета и священных книг, об этом подробно пишет Манес Шпербер в "Божьем водоносе".
У Меньшикова все принимает гипертрофированные формы. Так, в 1908 г. он разразился статьей в "Русском знамени" "Жид пришел", заимствовав название из знаменитой статьи "Нового времени" от 23 марта 1880 г. Поводом послужило чествование Ф.И. Шаляпина 24 ноября 1908 г. в связи с его гастролями в Петербурге. Среди публики было много евреев и наряду с русскими народными песнями знаменитый актер Николай Николаевич Ходотов исполнил популярную (до сих пор) песню на иврите "Хава нагила". Меньшиков с пеной у рта доказывал, что настоящая фамилия певца Ходотзон!34
Статья Меньшикова была замечена, и кадетский "День" ответил статьей, написанной Д.И. Заславским (под псевдонимом "Homunculus"), которая называлась "Равноправие на доске": "Евреи в России так угнетены, так исстрадались, такие терпят унижения, что, наверное, нуждаются в утешении, и кто из них хочет отдохнуть, хочет пожить хоть полчаса в атмосфере равноправия, пусть идет в шахматный клуб". Заславский иронизирует о наступившем времени мирового согласия: «Склонившись над евреем Ласкером, восторженно дышут ему в затылок свирепый юдофоб из "Голоса Руси" и елейно-подколодный Меньшиков». Далее идет знакомая картина с правом евреев на жительство: "Что, если бы в разгаре игры явился в клуб пристав и занялся бы проверкой документов у присутствующих евреев? Да Меньшиков ему бы горло перегрыз, да Меньшиков у себя на квартире устроил бы талантливого еврея-шахматиста, притворяющегося, будто он фармацевт". По поводу процентной нормы в шахматах фельетонист иронизирует: "Нет эллина и нет иудея для Меньшикова на шахматной доске, и это един-
555
ственный уголок, где так блестяще разрешен национальный вопрос. Это сладкая истина, но опасная. Как бы все евреи поголовно не записались в шахматисты, и как бы не возникла новая религия...". Далее Заславский описывает фантастическую партию, игранную Меньшиковым против Ласкера. Дебют ее известен под именем "дебюта доктора Дубровина" — председателя Союза русского народа. Конец партии известен: Меньшиков, который играет, конечно, черными (черносотенцами), жульничает при поддержке "союзников" и сметает с доски белые фигуры еврея Ласкера35.
"ФЛОРО-ФАЙНОВСКИЙ СТИЛЬ" РОМАНОВСКОГО
Прошло почти два десятилетия. В небытие ушла старая Россия. И на тему, интересующую Меньшикова, было наложено табу. Тем удивительнее, что идеи одной из теоретических статей 1937 г. Петра Арсеньевича Романовского поразительно совпадают с дореволюционными и с теми, которые были популярны в тогдашней Германии (правители Третьего рейха поощряли проведение турниров, объявив шахматы элементом арийской культуры). Статья П.А. Романовского «Некоторые творческие тенденции современности ("Технический" уклон)»36, конечно, не говорит о еврейских шахматах, заменяя это понятие эвфемизмом — "флоро-файновский стиль". Суть статьи сводилась к следующему:
1. У шахматистов этого стиля доминирующее значение придается дебютной теории.
2. Игра без создания в собственном лагере слабостей.
3. Отрицание жертвы как элемента борьбы и, наоборот, принятие ее при невозможности технически ясно учесть силу компенсации: "Я лично... предпочитаю жертвовать чужие пешки, а не свои" (С. Флор).
4. Придание исключительной значимости технической стороне борьбы и, следовательно, упорная тенденция к достижению результатов техническим путем.
Это настолько упрощенный взгляд на современные шахматы, что он не выдерживает критики. Возьмем, например, "гения комбинаций" Алехина. Его знание дебютов давало ему неоспоримое превосходство над противниками: из дебюта он обычно выходил белыми с преимуществом и часто решающим, а черными он получал по крайней мере равенство. Это можно доказать статистически. Что касается техники, то как бы выглядел Алехин в матче с Капабланкой без оной? А вот друго-
556
му "арийцу", Боголюбову, явно не хватало техники, и многие партии, доведенные им до выигрышного положения, например в первом матче с Алехиным, он не мог реализовать. Но бывало все. Да, Алехин любил атаковать, любил жертвовать, но играя с лучшими шахматистами мира, он, бывало, попадал в стесненные позиции и вел жесткую оборону. Целая глава в книге А. Котова об Алехине посвящена искусству защиты чемпиона мира. Одна из глав носит название "Чувство опасности" — иными словами — чувство безопасности, налагаемое как бремя вины на "евреев"37.
Вероятно, статья Романовского имела и скрытого адресата — она метила в М. Ботвинника, возможно, это было в ней главным. (В своих воспоминаниях М. Ботвинник указал, что П.А. Романовский критиковал его за обилие ничьих в матче с Флором. Ботвинник напомнил Романовскому "творческие успехи" в матче с гроссмейстером Е. Боголюбовым: —5 +1=6 ): "Петр Арсеньевич... Вы тогда, видимо, правильно играли с творческой точки зрения"38. Позже М. Ботвинник ответил П. Романовскому в книге "Одиннадцатое всесоюзное шахматное первенство" в предисловии, в главе "Очередная задача советских мастеров", где отставание советских мастеров от западных он как раз и объясняет недостатком позиционной техники и, в качестве панацеи, предлагал издать сборник партий Флора. Ботвинник восхваляет технику не только Капабланки, Файна, Флора, но и Алехина: "Техника позиционной игры заметно шагнула вперед; одно время последнее слово в этой области было сказано Капабланкой. Кое-что добавил Алехин, с большим искусством проводил некоторые позиционные партии Файн... Но мне кажется, что особенно много было сделано Флором. Флор наряду с Капабланкой, пожалуй, наиболее тонкий позиционный шахматист... мне думается, что если бы в СССР был издан сборник лучших партий Флора, это принесло... большую пользу..."39
Сам же С.М. Флор ответил "уважаемому мною заслуженному мастеру П.А. Романовскому" в статье, опубликованной в газете "64" под названием "Еще о творческих тенденциях современности (Ответ на статью П.А. Романовского)", где Флор сетует на то, что его попросту обругали, и он желает лишь защитить свои шахматные воззрения. Далее он касается так называемой комбинационной игры: "У П. Романовского есть в статье одно серьезное обвинение, характерное для мышления идейных представителей так называемой чистой комбинационной школы". Сравнение мастеров прошлого — Морфи и Андерсена — с современными мастерами неправомочно, и считать их самыми крупными тактиками в истории шахмат труд-
557
но. Современные мастера выдвинули таланты не меньшей силы, чем Морфи. По словам Флора, ему легче рассчитать комбинацию в 10 ходов, чем найти единственный стратегический ход. Своим лучшим творческим достижением Флор считает 6-ю партию из матча против Ботвинника: изумительная борьба двух слонов против двух коней. И, конечно, современный мастер не так ограничен, как его представляет Романовский. Надо сказать, что слова Романовского не на шутку обидели Флора, ибо в комментариях к одной из своих партий он иронизирует: «Мастер И. Рабинович очень предупредительный противник. К радости заслуженного мастера П. Романовского, он дает мне возможность закончить партию в "творческом стиле". Следует комбинация несложная, но доставившая удовольствие зрителям»40. Последнее выражение — это почти слова Капабланки, брошенные им С. Тартаковеру на Лондонском турнире 1922 г.: "Доставим удовольствие галерке".
В статье Романовского есть и неблагодарная футурология. Он считает, что Флору больше не достичь высот прошлых лет. Вероятно, этот же прогноз относился и к Р. Файну. Действительно, в 1938 г. Флор потерпел сокрушительное фиаско в Амстердаме, но сумел взять блестящий реванш в тренировочном турнире Ленинград — Москва 1939 г., где он занял чистое 1-е место выше С. Решевского, провалившегося Кереса и всех советских участников. Падение силы С. Флора в первую очередь связано с тяжелым положением в Чехословакии накануне пресловутого Мюнхена — он потерял Родину. Что же касается Р. Файна, то прогноз П. Романовского в отношении его оказался ошибочным: в Амстердаме он разделил 1—2-е места, а в двух советских турнирах в Москве и Ленинграде просто провел карательную экспедицию, легко завоевав 1-е место. А "фигура умолчания" — Михаил Моисеевич Ботвинник стал чемпионом мира. Но дело было не так просто.
Начало полемики, вероятно, лежит в предисловии Я. Рохлина к книге "Первенство Ленинграда 1932 года". Он пишет о противопоставлении идей старой, как он называет "черноземной", школы с творчеством Ботвинника. Он пишет: "Некоторым скептикам творчество Ботвинника не совсем импонирует, а кое-кому из ветеранов его успехи все кажутся следствием объективного турнирного счастья... Надо сказать, что у нас еще достаточно распространен дилетантский взгляд, что глубина шахматного творчества оценивается преимущественно числом жертвенных комбинаций... М.М. Ботвинник в шахматном отношении рос на наших глазах. Бесспорно, в его игре имеются еще недостатки: например, заметна некоторая склонность к схематической трактовке ряда положений, он явно недолюбли-
558
вает и избегает чересчур запутанных позиций; однако использовать эти недостатки практически очень трудно. Далее идет важнейший вывод: «Как тактик (и мы считаем необходимым подчеркнуть), Ботвинник не имеет себе равных в СССР. Вопрос только в том, какова глубина тактических комбинаций Ботвинника, по сравнению с другими советскими мастерами. Могучая плеяда старшего поколения, продолжателей "черноземного" искусства М.И. Чигорина — Романовский, Левенфиш, Богатырчук, Берлинский, — облекали свои тактические маневры в рамки "промежуточных комбинаций", так называемый Zwischenzug'oв, которые были в свое время бичом для молодого поколения. Это в особенности давало себя чувствовать в заключительной части миттельшпиля и в сложном эндшпиле. Каждый из новой плеяды советских мастеров испытывал горечь неудач и разочарований, когда в получавшихся выигранных позициях против того или иного мастера старшего поколения совершалась метаморфоза противоположного порядка. Сколько было таких партий проиграно... М.М. Ботвинник, несмотря на свою молодость, счастливо избег этих ошибок...»41
Но и для Ботвинника не все было просто. Отметим, что из "черноземцев" чигоринской школы двое были евреями. Все четверо были чемпионами СССР, а Левенфиш даже дважды, и для Ботвинника победить их было сложнейшей задачей. Очень чувствительным для самолюбия будущего чемпиона мира был матч на звание чемпиона СССР с 49-летним Григорием Яковлевичем Левенфишем, окончившийся вничью (+5,—5,=3). Общий счет с вышеупомянутыми "чигоринцами" (+14,—11,=20) скорее говорил о трудностях роста Ботвинника, чем о его превосходстве.
Будет уместно рассказать и о малоизвестном ответе Ботвинника на статью Романовского, который в свете будущего мог бы быть отповедью на юдофобскую инсинуацию Алехина. Причем, имя Романовского в ней не упоминается, но, безусловно, она имеет этот адрес. Речь идет о статье Ботвинника, приуроченной к 30-летию смерти М.И. Чигорина: "Почему Чигорин не был чемпионом мира?"42. Ботвинник отдает справедливость дарованию покойного чемпиона России, но считает, что, благодаря узости своего взгляда на шахматы, Чигорин не сумел перестроиться и полностью впитать новые веянья школы Стейница: «Стиль Чигорина ...претерпел некоторые изменения. Хоть на словах он горячо восставал против принципов Стейница и правил Тарраша, но на игре его самого все более заметным становится влияние "новой школы"... Но в основном Чигорин оставался верен себе и "старой школе".
559
Очевидно, что в шахматы можно играть любым стилем, — всякий стиль хорош, если он ведет к победе. Но чем шахматист разностороннее, тем больше у него шансов на победу, тем глубже и лучше он может сыграть за доской... По характеру своего творчества Чигорин в большей мере остался приверженцем "старой школы" и, может быть, поэтому он не стал чемпионом мира». Далее идет пассаж, который можно связать лишь с историей "Петербургского шахматного собрания" и пресловутым "флоро-файновским" стилем. Ботвинник вспоминает сборник партий Чигорина, изданный Е.Д. Боголюбовым: «Однако именем М.И. Чигорина иногда пользуются для целей, шахматному искусству совершенно чуждых; так, в предисловии к своей книге "Избранные партии Чигорина" Боголюбов пишет: "Я сам слишком ясно чувствую неразрывную связь своей игры с игрой М.И. Чигорина; то же сходство в стиле с М.И. Чигориным можно легко усмотреть и у А.А. Алехина; может быть, это сходство стилей должно быть объяснено общим нам славянским происхождением..."(!) (знак М. Ботвинника. — С. Д.)». Вывод Ботвинника почти неожиданен, если не принять во внимание привходящие обстоятельства: «Такое "объяснение" должно быть решительно отвергнуто. Видимо, уже в 1926 г. (когда была выпущена эта книга) Боголюбов был неравнодушен к расистским теориям фашизма, приютом которого он ныне пользуется». Конечно, Ефим Дмитриевич здесь ни при чем: он как раз был равнодушен к нацизму. Да и национальный характер играл и играет определенную роль в становлении личности и вряд ли Михаил Моисеевич мог обижаться на "Гомера шахматной доски", как раз писавшего о различиях характера внутри одного народа: «...оба маэстро представляют собою два в корне различные характера своего народа: Алехин-аристократ... Боголюбов — сын крестьянина... Один — охваченный вечным мятежом духа, другой... — воплощающий русское "ничего!"» И далее в духе евразийских теорий: "Пусть стратегия Алехина ослепляет как солнечный свет, молнии остроумия Боголюбова часто ярко блещут из мрака! Оба они передовые борцы сокрушающей шахматной силы Востока"43. Нет, не Боголюбова и даже не Чигорина имел в виду Ботвинник!
Будем справедливы, Романовский резко пересмотрел свои взгляды и в прекрасной книге "Миттельшпиль" почти полностью становится на позиции "флоро-файновского" стиля. Думаю, что не последнюю роль в этом сыграла печально известная статья Алехина, естественно вызвавшая у него негодование. Одна из глав книги у Романовского называется: "Две победы Вильгельма Стейница, их творческая и техническая
560
сущность". Он пишет: "Обе партии отличаются ясной, целеустремленной мыслью. Игра Стейница говорит в них сама за себя. Тем не менее нам хочется еще раз напомнить в заключение этой главы-увертюры, с каким искусством Стейниц оперировал пешками и как экономно расходовал энергию фигур. Минимум усилий, максимум достижений! Повторяя этот творческий лозунг Стейница в плановой игре, призывающий к бережному отношению ко времени, измеряемому в шахматах темпами, можно сказать, что и в наши дни он написан на творческом знамени шахматного искусства"44. Вместе с тем Петр Арсеньевич высоко оценил работы Я.И. Нейштадта, восстанавливающего историческую справедливость. (Сообщено автору Я.И. Нейштадтом.)
"АРИЙСКИЕ" И "ЕВРЕЙСКИЕ" ШАХМАТЫ АЛЕХИНА
Интеллектуальная добыча нацистской Германии была невелика, но она была. Престарелого Кнута Гамсуна норвежцы судили. Не украсило биографию и Рихарда Штрауса сотрудничество с нацистами. В фашистском рейхе жил Герхардт Гауптман, жаловавшийся впоследствии, что Геббельс ему вывернул руки. Можно найти еще несколько имен — и это, кажется, все. Что касается Алехина, то надо сказать, что он единственный выступил с декларацией и нацистская пропаганда прекрасно ею воспользовалась. Можно спорить о степени подневольности Алехина, но в нейтральной Испании, в сентябре 1941 г. он дал два интервью, в которых настойчиво повторял, что первым попытался рассмотреть шахматы с расовой точки зрения45.
За несколько месяцев до того, используя некоторые положения довоенной работы Романовского, чемпион мира А.А. Алехин опубликовал статью под названием "Arisches und jüdisches Schach" ("Арийские и еврейские шахматы"), помещенную в оккупационной немецкой газете в Париже46, затем перепечатанную и другими нацистскими изданиями — "Deutsche Schachezeitung" и "Deutsche Zeitung in den Niederland"*, где подверг шельмованию еврейских шахматистов — Вильгельма Стейница, Эммануила Ласкера, Давида Яновского, Карла Шлехтера, Акибу Рубинштейна, Арона Нимцовича, Рихарда Рети, Ройбна Файна, Соломона Флора и др.
_________________
* Русский перевод, опубликованный в журнале "64" (1991, № 18—19); почему-то поменял в названии арийцев и евреев местами и назывался "Еврейские и арийские шахматы".
561
Исключение составил Михаил Ботвинник, о котором А. Алехин высказывается весьма сдержанно, возможно, предвидя в будущем матч с ним (из упомянутых в этом перечне А.А. Алехин имел отрицательный счет личных встреч с Эм. Ласкером, К. Шлехтером, Р. Файном, М. Ботвинником, равный с С. Решевским, минимальный перевес против Д. Яновского и Р. Шпильмана). "Арийцы" — Е. Боголюбов, Э. Элисказес, П. Керес, и вообще "мелкоскопический" Ф. Земиш, выставляемые в качестве эталона шахматной игры, имели при этом катастрофический личный счет с чемпионом мира (например, сильнейший из перечисленных Керес +1, -5, не считая ничьих). Алехин выступает в качестве оракула, предрекая, что Ласкер был последним из евреев чемпионом мира.
Еврейская шахматная мысль, по Алехину, представляет собой следующее:
1. Материальные приобретения любой ценой.
2. Оппортунизм, доведенный до крайности, который стремится устранить всякую тень потенциальной опасности и потому раскрывает идею (если вообще можно назвать ее идеей) защиты как таковой. Еврейские шахматы сами себе выкопали могилу.
Парадокс заключается в том (и это явствует из статьи Алехина), что если из шахмат выкинуть всех евреев, то вообще не останется истории шахмат. Ведь говорил великий Стейниц: "Я не историк шахмат, я сам кусок шахматной истории, мимо которого никто не пройдет".
Некоторые "защитники" Алехина всегда ссылаются на подневольность чемпиона мира, находившегося на оккупированной нацистами территории. Да, но мы знаем примеры иного толка: Эйве, "ставленник мирового еврейства", не играл в нацистских турнирах. (Исключение — матч с Е. Боголюбовым. Эйве объяснил этот матч желанием рассчитаться за поражения в двух предыдущих поединках и ссылкой на невозможность в будущем играть на равных с пожилым экс-претендентом. Кстати, этот матч нацистская пропаганда использовала в своих целях. И Эйве, наверно, пожалел, что даже таким образом сыграл на руку Геббельсу.) Пауль Керес, хотя и играл в турнирах, но не занимался политическими декларациями и даже отказался от чести играть матч на первенство мира с Алехиным, справедливо считая такой матч несвоевременным. Даже Боголюбов не писал ничего подобного, а его положение было намного хуже, чем положение чемпиона мира — он был германский подданный. (О его тяжелой жизни при нацистах рассказал Ф. Богатырчук, подчеркнувший, что Ефим Дмитриевич ненавидел нацистов из-за преследования евреев, среди которых у него была масса друзей.)
562
Говорить о слабости характера Алехина не приходится — дело не в этом. Один из эмигрантов, который был на "ты" с Александром Александровичем, отметил, что чемпион мира был человеком больших страстей, но с надрывом. Причины следует искать в крушении старого мира, к которому он принадлежал по рождению. Отсюда желание приспособиться — будь то кандидатский билет в члены ВКП(б) или участие в масонской ложе, антисоветские высказывания и, наоборот, приветствия советским шахматистам по поводу годовщины Октябрьской революции, наконец, сотрудничество с нацистами. «Алехин считал себя не только первым шахматистом, на что он имел все права, но и вообще человеком громадного, всеобъемлющего ума, которому, естественно, подобает возвышаться над прочими смертными. "Такой человек, как я", "при моих данных" и т.д. часто вырывалось у него47». Алехин — человек своего времени, выросший на ницшеанской ниве начала века (романы Пшибышевского, Кнута Гамсуна и Арцыбашева), вряд ли испытывал угрызения совести: палец о палец не ударив, чтобы спасти "бедного Ландау и моего друга Оскама" (М. Эйве). Оскорбления, нанесенные им, например, Эйве, могли быть объяснены даже не личным письмом, а каким-нибудь иным путем — за все четыре года им не было предпринято ни одной попытки извиниться или объясниться — посему послевоенную отписку Алехина голландский чемпион не принял. Другой современник писал, что победа Алехина в 1927 г. была воспринята русской прессой как национальный триумф, «но не следует забывать, что к чисто русским чертам своего характера Алехин приобщил то, что в противоположность "славянской душе" принято называть западноевропейским реализмом. Отмечу с прискорбием, что реализм Алехина стал переходить в наивный оппортунизм. Это сослужило ему роковую службу во время последней войны48».
В свете этого легко проследить зигзаги Алехина по отношению, например, к Арону Нимцовичу. В книге, вышедшей в 1932 г., Алехин писал о почти 100 % результате Нимцовича в Дрезденском турнире 1926 г., где Алехин был вторым: "Я дал в Дрездене много ценного, но Нимцович дал еще больше, должно быть потому, что проявил еще больше воли к этому. Его великолепная победа заслуживает всеобщего признания и наряду с карлсбадской победой 1929 г. является самым блестящим его достижением"49. Или вспомнить серию из шести статей, посвященных Карлсбадскому турниру 1929 г. и опубликованную в "еврейской столице мира" Нью-Йорке. Там Алехин делил шахматистов на две категории: играющие на результат и не считающие шахматы искусством (Капабланка, Мароци,
563
Видмар, Эйве — в будущем все "Арийцы"), и творческие шахматисты (Брейер, Рети, Нимцович, Земиш, Колле — первые четверо в будущем — "Евреи"). Чего больше, если сам Алехин признал права Нимцовича на матч с ним50. И сравните с насмешками над "Арнольдом Нимцовичем", изготовившим визитные карточки с претензией: "Арнольд Нимцович, претендент на титул чемпиона мира".
И еще один страшный аспект. Известно, что личные отношения Алехина с Нимцовичем были испорчены с еще довоенных времен, главным образом из-за инцидента во время матча за первое место в турнире мастеров. (Кстати, матч окончился вничью. Второй мини-матч в Нью-Йорке в 1927 г. тоже окончился вничью.) И вот в своей парижской статье Алехин обвиняет Нимцовича в славянофобии! Упор сделан на словах Sklave — раб и Slawe — славянин, которые-де обыгрывал Нимцович в одном частном разговоре. Трудно в это поверить, ибо Нимцович всегда отзывался о Чигорине с пиететом, об Алехине с уважением, равно и об Ефиме Боголюбове. А сравнение славян с рабами всецело принадлежит германской культуре и было использовано нацистской пропагандой неоднократно. Этот эпизод в пронацистской статье Алехина выглядит очень странным. Но не менее странны и другие пассажи чемпиона мира. (Пикантность данному обстоятельству придает следующий исторический экскурс. Еще до революции вышла небольшая брошюра об истории шахматной игры, которая несомненно была знакома Алехину. В этом научном издании, автор которого, кстати, русский, утверждается, что славяне ознакомились с игрой при помощи волжско-каспийского пути. Он делает упор, что работорговля славян способствовала этому. Читаем черным по белому: "Кроме торговли, в вопросе о непосредственности заимствования (в том числе и шахмат. — С. Д.) следует принять во внимание и рабство... Есть очень давние и многочисленные сведения о рабах-славянах, славяне встречались везде — в Хорассане, в Византии, в Италии, видимо, издревле славились как хорошие рабы и были для торговцев желанным товаром. В Испании из них были образованы целые колонии, своего рода товарные склады. Ибн-Хаукал (IX в.), а также Мукадцаси (X в.) и Ар-Раккин свидетельствуют, что славяне-евнухи представляют собою испанский товар, торговлю им вели евреи. Но и сами славяне не пренебрегали торговлей..."51 Оборвем цитату — далее идет развернутое подтверждение массовости рабства славян. Да, есть что-то обидное в суждении этого историка. Впрочем, к Нимцовичу это не имело никакого отношения...
Вдумаемся в алехинские строки: "...Ласкер был естественным преемником Стейница, величайшего шута, которого ко-
564
гда-либо знала шахматная история". Я думаю, что эта фраза буквально взбесила Романовского — его ответ на этот пасквиль приведен выше. А теперь слово самому крупному оппоненту Стейница — "арийцу Чигорину", отвечавшему на вопрос своего друга, "нововременца" Шабельского: "Это (о Стейнице. — С. Д.), несомненно, гениальный шахматист и, что я больше всего в нем уважаю, высоко оценивающий шахматы именно как искусство... Борьба с ним за шахматной доской заставляла меня переживать и минуты высокого наслаждения, и периоды упадка духа. Стейниц, несомненно, один из величайших шахматистов, до сих пор появлявшихся..." Если бы на этом мы могли оборвать цитату, то, само собой разумеется, она опровергала бы ужасные слова Алехина. Но не все так просто. Чигорину не нравится стейницевский преувеличенный догматизм, но и это не все: только что назвавший своего противника гением и подсчитавший минусовый баланс своих встреч с ним, а ведь в конце концов это самый весомый аргумент, "скромный" Чигорин — называет себя Моцартом, отводя Стейницу роль Сальери!52
"Ласкер совершил плагиат по отношению к великому Морфи", — пишет Алехин. С логикой здесь непорядок. Словарь иностранных слов поясняет: "plagium" (лат.) — литературная кража, присвоение чужого авторства, наконец, выдача чужого произведения за собственное. Но известно, что Пол Морфи не писал ни шахматных статей, ни учебников. Его мысли "расшифровал" Стейниц, так что при всем желании Ласкер не мог присвоить трудов Морфи. Вспомним самого Алехина, который неоднократно восхищался игрой Эммануила Ласкера. Вот два фрагмента. Первый относится к 1934 г., когда в Цюрихе Ласкер был, наконец, обойден чемпионом мира и, что важнее, выиграл единственную партию у 65-летнего старика. Алехин с восхищением пишет в турнирном сборнике (эти слова он произнес и на заключительном банкете): "Эммануил Ласкер был моим учителем. Без него я не был бы тем, кем я стал. Нельзя представить шахматное искусство без Эммануила Ласкера". После Ноттингема Александр Алехин писал: "Я считаю для себя почти невозможным критиковать Ласкера — так велико мое восхищение им как личностью, художником и шахматным писателем. Я могу только установить, что Ласкер в свои 67 лет, благодаря своей молодой энергии, воле к победе и невероятно глубокой трактовке вопросов шахматной борьбы, остается все тем же Ласкером если не как практический игрок, то как шахматный мыслитель. Ласкер должен служить примером для всех шахматистов как нынешнего, так и будущих поколений"53.
565
Воистину сказано: "Когда толпа Учителя распяла — где был лучший ученик?" Он был первый и недобросовестный распинатель! Ну а как смотрится обвинение Ласкера в том, что он избегал встреч с сильнейшими шахматистами, если его и сопоставить с поведением рыцаря без страха и упрека Алехина. Ласкер, исключая период становления, никогда не играл в слабых турнирах, подобных тем, где брал первые призы Алехин. В книге Н.И. Грекова "История шахматных состязаний" (М, 1937) турниры, в которых принял участие Ласкер, 15 раз отмечены звездочкой — знаком турниров мирового класса, у Алехина — тоже 15, у Капабланки 12 (можно добавить еще один турнир — Амстердам 1938 г.). Так вот Ласкер брал в таких турнирах 1-е места 8 раз, Алехин и Капабланка по пяти. Еще более разительны результаты матчей: на первенство мира Ласкер сыграл 8 матчей: 6 выиграл, 1 свел вничью, 1 проиграл. Капабланка всего сыграл 2 матча — выиграл и проиграл, Алехин сыграл 5 матчей — 4 выиграл и один проиграл. С чемпионами мира прошлого и настоящего Ласкер сыграл так: против Стейница: +28, —8, +12; против Капабланки: +2, —6, =16; против Алехина: +3, —1,=3; против Эйве: +3; против Ботвинника: —1, +0, =3. При этом надо учесть, что кроме Стейница, другим чемпионам мира он давал большую возрастную фору: Капабланка был младше его на 20 лет, Алехин на 24 года, Эйве на 33 и Ботвинник на 43! И был у него неплохой счет с "арийцем" Чигориным: +8, —1, =4. И даже "принудительный" матч, игранный гамбитом Раиса, ненамного улучшает результат. Правомерно задать вопрос: «А как Учитель относился к "первому" ученику»? В высшей степени благожелательно. Кроме похвал — ни единого плохого или критикующего слова! Не в правилах Ласкера было отзываться о ком-то плохо. Иногда есть сдержанность, и только. Но к Алехину — лишь восхищение.
Алехин выдвигает в своей статье "арийский" ряд выдающихся шахматистов: Филидор, Лабурдоне, Андерсен, Морфи, Чигорин, Пильсберри, Маршалл, Капабланка, Боголюбов, Эйве, Элисказес, Керес. "Еврейский урожай", как он выражается, за тот же исторический период весьма скуден. По его мнению, кроме Стейница и Ласкера, в период 1900—1921 гг. заслуживают упоминания три фигуры: Яновский, Шлехтер, Рубинштейн. Спорить по "арийскому" ряду не приходится — все они большие шахматисты, за исключением Э. Элисказеса, затесавшегося в эту компанию исключительно потому, что он чемпион " Великогермании". (Два раза играл Элисказес в супертурнирах — оба неудачно. В Москве 1936 г. — он благополучно разделил последние места, и в Земмеринге 1937 г., где
566
он разделил предпоследнее место, проиграв евреям: Решевскому — обе партии, и одну против Флора.) И вообще, если его выключить, то "германский сумеречный гений" представлен весьма скромно, в единственном числе (А. Андерсен). "Еврейский ряд" малочисленнее, но и популяция евреев неизмеримо меньше: нечто, выраженное сотыми процентов к населению земного шара.
Много некрасивых слов сказано Алехиным в адрес Давида Яновского и много лестных слов в адрес "арийца" Фрэнка Маршалла. Но ведь любой мало-мальски образованный шахматист укажет на родство талантов обоих. Это родство прослеживается даже в катастрофических результатах матчей с корифеями — Ласкером, Таррашем, Капабланкой. М.И. Чигорин очень любил творчество Яновского и симпатизировал ему. Причем, ничего личностного в свое суждение о Яновском Чигорин не внес. Даже то, что он имел весьма посредственный счет с этим уроженцем гродненской губернии. Более того, Яновский лишил Чигорина вполне заслуженной победы в Гастингсе. Но это не помешало Чигорину превозносить Яновского. Вот свидетельство поэта В.А. Пяста: «Чигорин говорил официальным и важным тоном, но все-таки как-то страстно. "Яновский этот матч проиграл, но... сейчас же послал вызов Маршаллу на новый матч, причем предложил ему три партии вперед. И выиграет!" — закончил Чигорин. Из последнего обстоятельства я неопровержимо заключил о симпатии, которую питал Чигорин к действительно незаурядному таланту Яновского... Нелюбовь к турнирным "половинкам" — вот что было симпатично Чигорину у Яновского»54.
Сам же Алехин в иные времена вспоминал Давида Маркеловича Яновского добрым словом. Кстати, Яновский имел две великолепные победы против Алехина (минимальный перевес Алехина (2,5:3,5) — вполне почетный для обеих сторон). Алехин в свое время не погнушался прокомментировать блестящую победу Яновского над эталонным "арийцем" Ф. Земишем из Мариенбадского турнира 1925 г. и выразить восхищение игрой престарелого маэстро. Еще больше впечатляет один рассказ Алехина о Давиде Маркеловиче: «Я расскажу вам одну короткую и весьма занимательную историю... Как-то раз у французского богача Лео Нардуса сошлись Капабланка, Маршалл и Яновский. Они сели за бридж, и при этом каждый из них играл еще с хозяином по партии вслепую. Когда Нардус проиграл все три партии, Яновский неожиданно сказал Маршаллу: "Знаете, если бы ваш соперник взял бы не слоном, а ферзем, он мог бы выиграть". Гроссмейстеры бросили карты и подошли к шахматной доске. Оказалось, что Яновский прав... Его
567
богатая фантазия и способность к длительной концентрации внимания позволяли ему одновременно с бриджем играть не только свою партию, но и следить за двумя другими! Причем настолько хорошо, чтобы заметить ход, которого не видел ни один из его коллег»55. Добавим, что Алехин охаивает богача еврея Нардуса за протежирование Яновскому. Да, Яновский и Нардус были друзьями и, выражаясь современным языком, Нардус "спонсировал" матчи Яновского и Ласкера. Но... Если бы только Еврей помогал Еврею. На самом же деле Нардус вполне бескорыстно помогал "арийцу" Фрэнку Маршаллу, в чем каждый может убедиться, просмотрев воспоминания американского чемпиона56.
Отнесение Карла Шлехтера к евреям в примечаниях к алехинской публикации редакцией расценивается как недоразумение. Но в данном случае Алехин не ошибся — Карл Шлехтер был евреем, возможно крещеным57. Да и Е.А. Зноско-Боровский, лично знакомый со Шлехтером — они играли в одних турнирах, — тоже причислял его к евреям. Впрочем, в определении национальностей у Алехина есть другие ошибки. Что же касается Карла Шлехтера, то, по словам того же Алехина, в период с 1900 по 1910 г. он добивался наибольшего количества первых мест. Это так. Восемь раз завоевывал первые призы Шлехтер, в том числе одержал труднейшую победу в Остенде в 1907 г. В эти годы он был в зените. А личный счет Алехина против Шлехтера совсем плохой: они встретились дважды, и обе партии "ариец" проиграл. Отнесем это не за счет "еврейской хитрости", а за счет молодости будущего чемпиона. (Вот связь времен — со Стейницем у Шлехтера небольшой перевеса +3, —2, =2; с Чигориным: +8, —5, =11; с Ласкером: +5, —5, =4 — он был достойный претендент.)
Пожалуй, больше всех достается в статье Алехина Акибе Рубинштейну. Одна из глав статьи носит совершенно чудовищное название «Воспитанный в ненависти к "гоям"». Оказывается, получивший традиционное еврейское образование Рубинштейн чуть ли не с пеленок возненавидел иноверцев. Он "с начала своей карьеры был одержим тем, чтобы истолковать свою склонность к шахматам как своего рода миссию". Отсюда его прилежание в изучении теории шахмат. Его рост как шахматиста, утверждает Алехин, шел во времена декаданса, когда царствовала венская школа, "основанная евреем Максом Вайсом". Пропагандистами этой школы было "еврейское трио": Шлехтер—Кауфманн—Фендрих. Последние фигуры прилеплены Алехиным, вероятно, из почитания сакрального числа.
В становлении шахматиста Рубинштейна сыграл роль, как писал Меньшиков, некий русский полковник. Чувство небла-
568
годарности не обязательно должно быть присуще каждому, как, скажем, Алехину. Правдой является то, что Рубинштейн научился играть в шахматы поздно, в 14 лет. Учился он по учебнику на древнееврейском языке, изданному И.Л. Зосницем в Вильно в 1880 г. Насмешки над образованием Рубинштейна неуместны. Он, действительно, не получил светского образования и, в отличие от других, не заканчивал училища правоведения. Но в своей области, области религиозной, его знания были обширны и вряд ли уступали выпускникам Петербургской Духовной академии. Кстати, знаниями языков он вряд ли уступал чемпиону мира. Посетившему его в 1961 г. польскому журналисту он предложил говорить на любом языке: польском, русском, немецком или французском. Добавим сюда идиш и иврит, и мы будем иметь представление о его лингвистических познаниях. Считается, что Рубинштейн никогда не писал на шахматные темы, за исключением комментария к нескольким партиям. Но мной обнаружена небольшая статья Рубинштейна в первом номере ивритского журнала по шахматам58. Статья объясняет начинающим принцип быстрого развития фигур и занятия центра. Что же касается личного счета между чемпионом России 1912 г. и чемпионом мира, то он вполне объясним возрастом и усиливающимся психическим заболеванием Рубинштейна. Насмешки над болезнью никогда никого не украшали. Итак, из 5 довоенных встреч Алехин выиграл 4 при одном поражении. Особенно впечатляет победа Рубинштейна в Вильно в 1912 г., когда в открытом варианте испанской партии — стихии Алехина, черным цветом, молодой человек был сокрушен отнюдь не шаблонным образом. После войны роли переменились: Алехин одержал шесть побед при одном поражении и двух ничьих. Итого: +8 —5, +2» Счет, весьма почетный для Рубинштейна, если учесть привходящие обстоятельства. (Добавим, что из 15 игранных между ними партий — 13 результативных — тоже говорит о многом.) Что же касается творческого блеска, то он в достаточной степени был присущ Рубинштейну. Так, в турнире в Теплиц-Шенау в 1922 г. он получил четыре приза за красоту! Это мировой рекорд. Добавим к этому, что Акиба Рубинштейн был непобедим в матчах, выиграв в том числе и у "арийцев" Маршалла и Боголюбова.
Несколько гнусных слов в статье Алехина сказано в адрес Рихарда Рети, человека, "раздвинувшего шахматные возможности". О его творчестве на турнире в 1924 г. в Нью-Йорке самим Алехиным было сказано, что Рети его превзошел. Вообще в одном предложении Алехин все поставил на свои места: "У меня создалось впечатление, что не только Ласкер и Капаб-
569
ланка, но и Рети выиграли больше хороших партий, чем я"59. В другой раз Алехин выразился о Рети еще более хвалебно — по его словам, Рети единственный шахматист, нередко ошеломляющий его своими неожиданными замыслами60. Много раз встречались за доской Рети и Алехин. Самая знаменитая алехинская комбинация была создана в соавторстве с Рети (Баден-Баден, 1925 г.). Общий счет почетен для Рети: —3,+1,+4 ничьих. Одна из этих ничьих стоит многих побед (Вена, 1922 г.). Для дискредитации идей Рети Алехин в своей статье прибегает к помощи старого мастера Рихарда Тейхмана, назвавшего дебют Рети "двойной дырой". Алехин называет Тейхмана "арийцем", но это ошибка: Тейхман — еврей, к тому же сведший матч вничью с самим Алехиным в 1921 г.: +2,—2,=261. Между прочим дебют Алехина впервые был применен московским евреем Михаилом Герцовичем Кляцкиным и введен в международную практику Алехиным именно под влиянием Рети (фигурное влияние на центр).
Итак, по Алехину: "Все яснее становится единство разрушительной, чисто еврейской шахматной мысли (Стейниц — Ласкер — Рубинштейн — Нимцович — Рети)". По пути потерялась промежуточная инстанция — Карл Шлехтер.
Далее Алехин переходит к современникам — первый на очереди С.М. Флор, продукт "боязливой оборонительной идеи", почти по Романовскому. Флор преемник Стейница и Рубинштейна. Отличие от последнего — Флор физически и психически здоров. У Алехина удивительная способность забывать: его матч на звание чемпиона мира с "продуктом еврейской мысли" должен был состояться в 1938 г., и тогда Алехин считал Флора достойным претендентом. Здесь может быть только два объяснения. Первое: Флор удобный партнер для Алехина и почему бы со слабейшим не сыграть беспроигрышную партию, или второе: Алехин — лицемер. Первый пункт не должен обманывать никого, а чемпиона мира тем паче: было известно, что у Капабланки до матча 1927 г. он вообще не выиграл ни одной партии. Что же касается турнирных успехов Флора, то он часто обгонял Алехина, первым нарушив гегемонию чемпиона мира (Гэстингс, 1933—1934 гг.).
С другими конкурентами — намного хуже. Это два американца и советский гроссмейстер. Добиться с ними перевеса Алехину не удалось. Агрессивность Ройбна Файна и Михаила Ботвинника объясняется их коммунистической идеологией. С Ботвинником это ясно, но с Файном явная натяжка. Туманное рассуждение о стиле Файна приводит к едва прикрытой мысли: присущая евреям трусость толкает их на активность, чтобы скрыть врожденный страх. Поразительный троп. Жаль, что
570
Александр Александрович не дожил до времен Михаиля Таля. Что бы он сказал о нем? А было время (1933 г.), когда он писал о молодом Файне: "...я беру на себя смелость предсказать 19-летнему нью-йоркцу Файну совершенно исключительную (выделено Алехиным. — С. Д.) шахматную будущность..."62
Самуил Решевский — дутая величина, по Алехину, вундеркинд. Сколько уже было у евреев этих несостоявшихся юных гениев. Вот появился и в шахматах. "Бедная Америка", восклицает Алехин. Но в статье 1933 г. о Решевском сказано немного по-другому: "Мальчик этот... был на самом деле подлинным шахматным вундеркиндом; поражала не только сила его игры... но, быть может, главным образом скорость и острота мышления". Затем вундеркинд исчез, предварительно неплохо заработав ("они" всегда умеют устраиваться!). Он должен был получить образование, и решение родителей было мудрым. Все ждали с нетерпением, состоится ли бывший вундеркинд. Да, состоялся, но не в шахматном плане: «Скажу прежде о "человеческом" впечатлении от общения с ним — оно было самое благоприятное. Ни тени заносчивости». Но стиль Решевского ему не нравится — оправдывая будущую оценку — он употребляет слово "бездарность"63. Эта уничтожающая оценка никогда не могла быть произнесена, а тем паче написана Эм. Ласкером в любой адрес — иная мораль, иной такт. Впрочем, "бездарность" добилась в будущем неплохого результата с гением комбинаций. Общий счет их ничейный. Да к тому же эта "бездарность" обгоняла Алехина в ряде соревнований — Ноттингем (1936 г.), Кемери (1937 г.), а в АВРО-турнире (1938 г.) они стали вровень.
О Ботвиннике сказано особо. И совсем другим тоном, кроме одной фразы, вылезающей как уши Мидаса. Ботвинник силен, очень силен. Неоднократный победитель чемпионатов СССР, где уровень очень высок. (Следил Александр Александрович за шахматной жизнью в России. Обратил внимание на молодого Смыслова, указав на одну его ошибку в анализе.) Но и Ботвинник и Капабланка — исключения из правил. Ну, а где уши Мидаса? Пожалуйста. Смехотворное сравнение побед советского чемпиона с победами Элисказеса и тут же: "Тем не менее большинство партий Ботвинника производит впечатление сухих и бездушных". На основании чего это сказано? Опыт встреч с Ботвинником должен был показать, что до сухости очень далеко. Если проигранную Ботвиннику партию в Амстердаме можно выдать за проведение плана "удавного кольца", то ничья в Ноттингеме, где Ботвинник пожертвовал две фигуры и вынудил противника свести партию вничью — этого никак не скажешь, красочно и романтично, в духе той далекой
571
партии с Рети в Вене. А что сказал Алехин по поводу партии Ботвинника с Капабланкой? Выразился в том смысле, что он, конечно, проиграл Ботвиннику, но не так, как Капабланка. У Капабланки мнение было противоположное — победу над Алехиным Ботвинника он оценил выше, чем свое поражение: у каждого свой вкус, да и к тому же речь идет не столько о Ботвиннике, сколько о взаимных счетах. А ведь партия Ботвинника против Капабланки признана "лучшей" за всю писанную историю шахмат. И действительно, чудо: жертвуется поначалу на ферзевом фланге слон а3, а потом на другом краю доски — конь h5, а потом — победный бросок пешки. Но не безропотно погиб Капабланка — может, будет вечный шах? Король белых перемещается под шахами к демаркационной линии. Но вечного шаха не оказалось. Ботвинник все предусмотрел. Захватывающая драма.
Но все же алехинская характеристика Ботвинника отличается от других нелестных отзывов. Гадать о причинах сдержанности можно. Среди них можно предположить два момента: Ботвинник — его соотечественник, внешне сухой, немногословный, подтянутый, интеллигентный, в высшей степени корректный, джентльмен (случай с остановившимися часами Боголюбова: в Ноттингеме Ефим Дмитриевич несильно нажал на кнопку часов, и его часы не шли. Ботвинник обратил внимание партнера на это обстоятельство), намного младше Алехина. Никаких личных счетов между ними нет — молод. Не вписывается в образ карикатурного жида-коммуниста. Играет здорово и комбинационно. Партия против Раузера или против Чеховера. Первый приз за красоту против Тартаковера, приз за партию против Видмара. А победа над Боголюбовым? Да и вот этот шедевр в Амстердаме. Приемлем.
Второй момент политический: это время действия пакта Риббентропа—Молотова. Негоже хулить союзника. А так, пожурить немного... Ведь писал Александр Александрович после победы над Капабланкой: "Мастерство в нашей области есть просто пробный камень для несовершенства других" (Выделено Алехиным. — С. Д.).
Почему-то в обойму критики попал престарелый Якоб Мизес, яркий шахматист, любивший творчество Чигорина и ценимый самим Чигориным. И мастер, без амбиций. Никогда не боролся за шахматную корону. Видимо, добавлен для счета. Вот что писал о нем Чигорин в 1907 г.: «Мизес — один из немногих постоянных участников международных турниров, не стесняющихся выбирать дебюты, ведущие к более или менее оживленным партиям. Едва ли мы ошибемся, если отчасти этому обстоятельству припишем его успех в последнем турни-
572
ре. Одни из его противников уже "отвыкли" от оживленной и обоюдоострой игры, а другие к ней еще не "привыкли"...право!"64 Но и Мизес в свою очередь был самого высокого мнения об игре российского чемпиона: "Ни у кого шахматы не были более искусством и творчеством, чем у Чигорина"65.
Затем шельмуется Рудольф Шпильман, "поселившейся сейчас в Стокгольме". Видите ли, почему-то не захотел попасть в лапы нацистов и сгореть в Освенциме, как другие евреи, — вот и поселился в нейтральной стране. Шпильман имел неплохой счет с чемпионом мира, да и играл в открытые шахматы, меньше всего заботясь об очках. Был теоретиком. Написал много теплых слов в адрес М.И. Чигорина, полные пиетета и уважения. Шельмует его Алехин и за отсутствие в книге "Теория жертвы" так называемой интуитивной жертвы. Но и это присутствует в работе Шпильмана. Каждый может открыть учебник и убедиться. Ибо победитель Земмеринга сам любил интуитивные жертвы. В книге разобрана его партия с А. Рубинштейном из Сан-Себастьянского турнира 1912 г., где была пожертвована целая ладья и расчет вариантов был бессмыслен, надо полагаться на интуицию. Черным по белому Шпильман пишет: "Ее (комбинацию) нельзя было точно рассчитать, но я чисто интуитивно ее оценил и всецело на нее положился"66. Есть еще грехи за Шпильманом. Ну, например, он выиграл матч в 1932 г. у Ефима Дмитриевича и мог бы сыграть матч на звание чемпиона мира, возможно, не хуже Боголюбова. Факты? Пожалуйста. В Киссенгене в 1928 г. и в Карлсбаде в 1929 г. Шпильман нанес два рядовых поражения Капабланке. Или еще более разительный пример: он сыграл тренировочный матч с Максом Эйве накануне завоевания последним звания чемпиона мира у Алехина. И счет был неплохой: +6, —4, =467. Грех напоминать об этом. Но в 1932 г. в "Wiener Schachzeitung" Шпильман опубликовал открытое письмо А. Алехину "Я обвиняю!", где прямо высказал мысль, что чемпион мира воспротивился участию в соревнованиях ряда шахматистов, малоудобных чемпиону мира. Например, не были приглашены Капабланка и Нимцович в те турниры, где играл Алехин (Лондон и Блед). «Что до меня, бедного шахматиста, похоже, и я превратился в "нежелательного конкурента"». В этой статье имеются две аллюзии. Первая — бросающаяся в глаза связь со знаменитой статьей Эмиля Золя "Я обвиняю" в защиту Дрейфуса. Вторая, более скрытая — использование статьи Алехина "Нью-Йоркский турнир 1927 г. как пролог к борьбе в Буэнос-Айресе за мировое первенство", где экс-чемпиону мира предъявлены те же самые обвинения в подборе удобных участников. В турнир 1927 г. не были приглашены
573
экс-чемпион мира Эммануил Ласкер, гроссмейстеры Ефим Боголюбов, Акиба Рубинштейн, Рихард Рети и др. Мы со своей стороны можем отметить, что неприглашение этих мастеров было одинаково выгодным и Капабланке, и Алехину. (Одно время планировался параллельный европейский турнир с участием Ласкера, Боголюбова, Рубинштейна, Рети, Тарраша, Тартаковера — жаль, что он не состоялся.) Всего один раз после этого встретились за шахматной доской Алехин и Шпильман — в 1938 г. на турнире в Маргете. Чемпион мира был первым, несостоявшийся претендент — вторым, партия между ними закончилась вничью. Шпильман старался как никогда: в этом турнире он не проиграл ни одной партии! И это-то при его стиле...
К 10 арийцам Алехин приписал еще трех: Мароци, Харузека и Видмара. Увы, первые двое — евреи. Да и Мароци, и Видмар перекочевали из его нью-йорской статьи в разряд творческих из разряда шахматистов, играющих на результат. Но, может быть, эта "справка" Алехина об арийском происхождении и спасла Гезу Мароци во время войны. Ведь за ним тянулся старый грех — участие в Венгерской революции 1919 г. Но Бог или случай спас68.
Рудольф Харузек (1873-1900) родился в Праге, так много давшей австрийской культуре, умер совсем молодым от туберкулеза. Он считал себя учеником Чигорина, и Михаил Иванович высоко чтил "пантеру Харузека". В романе Мейринга "Голем" (1915), действие которого происходит в Праге, выведен бедный и полусумасшедший студент по фамилии Харузек, говоривший шахматными категориями: случайное совпадение исключается.
Далее Алехин рассуждает о величии арийского духа, но... Морфи пришел слишком рано, Пильсберри родился слишком поздно. А ведь психическое заболевание Пола Морфи сродни болезни Акибы Рубинштейна. Но если первому у Алехина есть оправдание, то над вторым Алехин просто насмехается.
Что же касается Пильсберри, то утверждение Алехина о том, что он мог выиграть матч у Стейница, плохо прогнозируется. Стейниц был стар, и, вероятно, его уже могли победить, кроме Ласкера, и Чигорин, и Тарраш. С последним у него был очень плохой счет. Но случай с Пильсберри уникален. Дело не в счете +5, —4, +4 в пользу альтмейстера. (В книге Е.А. Мансурова ошибка — там дан счет 5:5 при трех ничьих.) Исследователи объясняли этот случай психологической несовместимостью. Так, на матч-турнире 1896 г. в Петербурге старик разбил молодого со счетом +4, —0, =2! Очки стали приходить к Пильсберри тогда, когда Стейниц был на пороге смерти. Тот
574
же Мансуров подсчитал результаты Пильсберри против сильнейших. Оказывается, он не имел перевеса даже против пожилого Чигорина. Исключение — Д. Яновский, против него разница в два очка. По меткому замечанию Мих. Левидова, Пильсберри догонял себя времен Гэстингского турнира 1895 г. Другие шли вперед. Да к тому же он был неизлечимо болен. Сам же американский гроссмейстер, лишенный каких-либо расовых предрассудков, считал себя учеником Стейница и был очень дружен с ним69.
Любопытна новелла Алехина об Андерсене. О его рыцарстве и признании себя проигравшим Морфи без оправдывающих ссылок. Морфи — гений, он сильнее. Это известно. Но профессионал-Алехин утверждает, что Андерсен в матче с американцем был в плохой форме. В иные времена — и счет был бы иным. К сожалению, история не знает сослагательного наклонения. Хотя я тоже думаю, что результаты Морфи были бы иными не только с Андерсеном, но и с Луи Паульсеном, Левенталем или Колишем. Увы, это нельзя проверить, как нельзя проверить результаты матчей Фишер—Карпов или Фишер—Каспаров. А жаль... Кстати, о "еврее" Кизерицком. Возможно, он и не еврей. (Не исключена и абберация памяти Алехина. На V Всероссийском первенстве в 1907 г. в Лодзи играл некий Р.К. Кизерицкий; вероятно, он же играл и в Петрограде в 1922 г.) Но не это главное. Мы говорили выше о результатах Андерсена. Мало кто знает, что в легких партиях Альфред Кизерицкий разбил гения комбинаций и счет был +9, —5, +2. Среди них были и красиво выигранные, но... навеки останется "бессмертная партия", также сыгранная в этой серии. Кто помнит личный счет Льва Полугаевского с Нежметдиновым? Никто — все знают "чернопольную симфонию" татарского гения! Так и в этом случае. Мысль об Андерсене совершенно профессиональна и может служить дополнительным доказательством авторства статьи. Но и Андерсен не оправдал и не защитил "арийцев". Проиграв матч Стейницу, он на полвека определил победу "еврейства". Все это, конечно, по Алехину. К счастью, объективная история шахмат к борьбе евреев с гоями не сводится. И один из современников М.О. Меньшикова и А.А. Алехина в прекрасной строфе подчеркнул космополитизм древней игры:
Вам, шахматы, хвала, священная хвала!
Хвала премудрому сплетенью комбинаций.
Вы — царство чистоты, где нет добра и зла,
Торжественный язык, единый сотням наций;
Вы — бесконечный мир, где краскам нет числа,
Где самодержец Ум воздвиг чертог для граций... 70
575
По мнению Алехина, Михаил Иванович Чигорин тоже стал жертвой международной еврейской плутократии, которая содержала русского чемпиона на положении крепостного. Именно крепостного, а не раба, подчеркивает Алехин, он получал на жизнь ровно столько, чтобы просуществовать. Кажется, претензии не по адресу, их следовало бы отнести на счет русского общества, государства или даже на счет семьи Сувориных, слабо раскошеливавшихся на "русское дело". Далее идет смехотворное утверждение, ибо оно противоречит вышесказанному и практике самого чемпиона мира Алехина. А именно то, что Стейниц был самозванцем, провозгласив себя чемпионом мира: "Впрочем, еще одно доказательство невероятной еврейской наглости — впредь самому выбирать себе матчевых противников" (курсив Алехина. — С. Д.) Ну и Стейниц выбрал безвестного Чигорина, находившегося в ту пору в депрессии: хорошо была поставлена еврейская разведка. Но и русская — неплохо: как сказано выше, Стейниц тоже находился в депрессии — болели и умерли в это время его дочь и жена.
В главке о Пильсберри вспоминается Маршалл, которому тоже не повезло: Ласкер воспользовался его душевным спадом и, вероятно, только поэтому выиграл у претендента с неслыханным счетом для матчей на мировое первенство: +8, =7, без единого поражения. Эти спады повторялись у Маршалла только тогда, когда он встречался с корифеями. Аналогичный счет был у него и с Таррашем и с Капабланкой. С другими было полегче...
Себя же Алехин провозглашает Великим Борцом против еврейства. Расправу он начинает с "паршивого торговца сигарами" Кагана, превратившегося в мецената и издателя."Кто такой Каган и что плохого он сделал, в том числе и Алехину?"— вправе спросить современный читатель.
Бернард Каган (1866—1932) создал в Берлине шахматное издательство и журнал "Kagans neueste schachnachrichten"(1921—1932) и субсидировал многие турниры 20-х годов. В голодные годы Первой мировой войны поддерживал русских интернированных шахматистов, в том числе и "арийцев" — Е. Боголюбова, П. Романовского, А. Селезнева и других, попавших в "трибергское сиденье" (русские шахматисты, приехавшие летом 1914 г. на шахматный конгресс, были интернированы. Их поселили в маленьком немецком городке Триберг, где они провели все годы войны: фактически их единственным "кормильцем" был Каган). В 1921 г. Каган издал на немецком языке книгу Александра фон (так!) Алехина о шахматной жизни в России. С.Г. Тартаковер писал: "Исключительной удачей известного берлинского издателя Б. Кагана следует считать то,
576
что он смог привлечь гроссмейстера и шахматного экс-диктатора Москвы (курсив мой. — С. Д.) Александра Александровича Алехина для описания его собственной полной приключений судьбы и дополнить книгу рядом ценных материалов при подготовке немецкого издания. За это ему будет благодарен весь шахматный мир"71. И этого-то человека очернил А. Алехин в своей статье! Для него нет понятия благодарности, и в послевоенной Европе, после победы рейха он — бывший шахматный диктатор Московии — собирался стать шахматным диктатором мира!
Обращает на себя внимание язык алехинской публикации. Автор предисловия к ней указывает, что этот язык позаимствован у ежедневной нацистской пропаганды. Это так и не совсем так. Алехину было проще обратиться к своей феноменальной памяти. Ведь падение Алехина началось задолго до второй мировой войны. Алехин — продукт своего времени, человек, который читал литературу типа газеты "Земщина", в которой провозглашалось, скажем, следующее: "...сейчас не время и не место повторять общеизвестные доказательства еврейской бездарности, еврейского жестокосердия, узкого фанатизма и расовой ненависти семитов ко всем другим расам и нациям" и далее: "Мы ненавидим их за то, что они вонзили свое чужеродное тело в наш арийский организм, мы отвечаем ненавистью на их ненависть, мы начинаем сознавать наше коренное несходство с семитами, мы начинаем сознавать, что не можем быть здоровыми, пока на нашем теле паразитирует еврейский народ"72.
Факты, наиболее компрометирующие Алехина как антисемита, воспроизведены в воспоминаниях О. Грузенберга. И речь идет о дореволюционном времени, когда Алехину не надо было прибегать к мимикрии. Автор мемуаров — известный юрист и общественный деятель Оскар Осипович Грузенберг, умер в 1940 г., т. е. еще до пресловутой публикации Алехина в нацистской прессе. Грузенберг рассказывает о своей попытке выехать из Одессы при большевиках в 1919 г. Он обратился к соответствующим инстанциям: "Устройте мне выезд за границу... Это зависит от нашего товарища Алехина, ...фактически зависит от усмотрения Алехина. — Алехин? — шахматист? Он бывал в Петербурге у моей дочери. Он кичится своим черносотенством. Его переход к вам, да еще на начальственный пост, противоестественен. Тяжело идти на поклон к маскарадному интригану"73. Ответ комиссара убийствен: "Тем более чести Алехину, что он сумел разобраться в историческом явлении, к чему оказались не способными вы. Но каково бы ни было ваше мнение об А. [Алехине], без него, если хотите
577
уехать, не обойтись". Грузенберг пришел на комиссию и, естественно, не подал руки Алехину. Ему отказали в выезде...
Был еще один темный период в биографии будущего чемпиона мира. Есть указания, что Алехин работал в деникинской контрразведке, в лапах которой погиб известный шахматист А.М. Эвенсон, знакомец и партнер Алехина. В книге, вышедшей в Берлине в пресловутом издательстве Кагана, об этом сказано глухо и туманно. Ниже мы приводим это место.
Александр Моисеевич Эвенсон (1892-1919), русский шахматист. Окончил житомирскую гимназию, в 1909 г. переехал в Киев и закончил юридический факультет университета. В 1917 г., находясь в действующей армии, участвует в съезде армейских делегатов юго-западного фронта. К какой партии принадлежал до 1918 г., не ясно. Во всяком случае, с оружием в руках защищал против деникинцев поезд, подвергшийся нападению по пути в Харьков. Работал в киевской ЧК следователем военно-революционного трибунала. Расстрелян ворвавшимися белогвардейцами. Шахматы в его жизни занимали не главное место, но благодаря своему таланту он заслужил репутацию одного из самых многообещающих мастеров. Так говорили виднейшие авторитеты того времени: Х.Р. Капабланка и А. Алехин. Постоянный партнер Эвенсона по Киеву, мастер Ф. Богатырчук, писал о Ботвиннике, что его стиль напоминает ему игру покойного Эвенсона74. Главнейшие успехи: 1-е место в турнире любителей (1913); в международном турнире по молниеносной игре с участием сильнейших шахматистов мира занял 2-е место позади Х.Р. Капабланки, выше Эм. Ласкера, А. Алехина и др. В 1914 г. в Киеве занял 1-е место, выше Е. Боголюбова. В 1916 г. сыграл с Алехиным две (а не три, как написано в "Шахматной энциклопедии") показательные партии с результатом: +1, —1. Есть предположение, что Алехин палец о палец не ударил, чтобы спасти жизнь своему другу-сопернику. Отвечая на заданный или не заданный вопрос, Алехин в 1921 г. писал: "В 1919 году дошла до Москвы весть о смерти молодого и многообещающего мастера Александра Моисеевича Эвенсона, расстрелянного деникинцами при их отступлении из Киева; дело в том, что с одной стороны, он был ответственным советским служащим (как юрист он был призван большевиками на службу в качестве следователя военно-революционного трибунала), с другой — имел несчастье быть евреем. Шахматные успехи Эвенсона восходят, как известно, к киевским соревнованиям, относящимся к 1912— 1913 гг., а вершиной его достижений стал триумф в Петроградском турнире любителей, где он завоевал первый приз без единого поражения. Допущенный вслед за тем во Всероссийский
578
турнир мастеров 1914 г., Эвенсон снова блестяще подтвердил свой мастерский класс, завоевав VIII приз и опередив таких матадоров, как Боголюбов (который тогда, правда, еще не был нынешней величиной, но уже был достаточно силен!), Сальве, Алапин, фон Фрейман, Левитский, Таубенгауз и др.
Образцом оригинального и элегантного стиля Эвенсона может служить его партия с Левитским из этого турнира, которая триумфально обошла всю русскую и иностранную шахматную прессу. Поскольку талант Эвенсона находился еще в стадии развития, не вызывает никакого сомнения, что в случае более счастливой судьбы ему было бы суждено занять одно из первых мест на русском шахматном Парнасе. Мир его праху!"75 Спустя 20 лет вряд ли Алехин нашел бы для Эвенсона единое доброе слово...
Алехин — русский интеллигент, со всеми плюсами и минусами. Интеллигенция поступала на государственную службу, исполняла обязанности, налагаемые службой, и втайне жила и прошлым и будущем — в зависимости от обстоятельств. Это вело к двойному гражданству.
Вот два письма А. Алехина в советские инстанции:
«24.VII.1936 г.
в редакцию "64"
Мне будет глубоко радостно посредством сотрудничества в Вашем журнале после стольких лет опять принять участие в шахматном строительстве СССР.
Пользуюсь случаем, чтоб от всего сердца послать привет новой, стальной России.
А. Алехин» (передано через С. Флора.)
И второе:
«Лондон. 1.IX. 1936 г.
в редакцию "64"
В связи с вопросом о возможности моего сотрудничества в Вашем журнале считаю своим долгом сделать следующее заявление:
1. Для меня было бы огромной радостью вновь принять посильное участие в шахматном строительстве СССР.
2. Надеюсь, что мои ошибки в прошлом, ныне вполне осознанные, не окажутся непреодолимым препятствием к названному участию.
Ошибки эти заключались:
а) в непростительном — непротивл. отношении к освещению моего полит, лица межд. противосоветск. печатью...
б) в неправильном и тенденцизном ... толковании фактов шах. строительства в статьях и частью словесных выступлениях...
579
Я тем глубже жалею об этих ошибках, что за последние годы равнодушн. отношение мое к гигантскому росту сов. достиж., преврат. в восторженное.
Доказать это отношен, на деле было бы, повторяю, мне велич. удовлетворен.
А. Алехин».
Федора Богатырчука трудно заподозрить в симпатии к советам и, вероятно, евреям. В своих воспоминаниях, названных "Мой жизненный путь к Власову и Пражскому манифесту" (Сан-Франциско, 1978), Богатырчук писал об Алехине с большим уважением, но и его он потряс дважды: в 1919 г., при демонстрации Ал. Ал. партийного билета: "...по тогдашней молодости был потрясен этим зрелищем пролетарского перевоплощения Алехина" и во второй раз в связи с публикацией статьи в нацистской прессе. Как и в первом случае, Богатырчук объясняет капитуляцию Алехина внешним давлением, но с оговорками: "Почему Алехин согласился уступить — никому не известно, и всякие догадки о мотивах были бы плодом досужей фантазии. Зная Алехина, я могу лишь высказать уверенность, что будучи любящим свободу космополитом (курсив мой. — С. Д.), он никак не мог разделять гитлеровских расистско-тоталитарных тенденций". Думаю, что прочитав все вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что увы, Алехин- космополит и шахматист Божьей милостью разделял расистские теории. Но заключительные слова Ф. Богатырчука справедливы: «Так или иначе, но его статья в нацистском журнале "Евреи и шахматы" лила воду на мельницу бредовых идей Гитлера»76.
И все-таки это не все. По воспоминаниям очень многих шахматистов-евреев (Флор, Лилиенталь и др.), Александр Александрович лично относился к ним отечески и много помогал. Меня потряс один рассказ Арнольда Денкера о судьбе чемпиона мира. Эйве, как писал Денкер, считал, что Алехин во время войны много пил и на него воздействовали, с одной стороны, посулами и обещаниями, а с другой — угрозами. Сам же Денкер разрывался на части, ибо не кто иной, как Алехин в тяжелейшие годы Великой депрессии изо всех сил помогал никому неведомому мастеру, относясь к нему как к "крон-принцу", и даже избрал его своим спаринг-партнером. "Он стал моим героем, моей путеводной звездой в шахматах. И вот теперь я оказался среди толпы, бросающей в него камни, оплачивая горы его добра дешевой монетой недоказанного обвинения". И все-таки нашелся человек, лейтенант армии де Голля Картье, который публично выступил в защиту Алехина и затем один, против толпы, кричащей "Распни его, распни его!", со-
580
бирал пожертвования для обреченного гения. У этого офицера в 1911 г. в Ростове-на-Дону погромщики убили родителей. В гражданской жизни этого человека звали Савелий Григорьевич Тартаковер, гроссмейстер мирового класса, претендент, входивший в первую десятку сильнейших в конце 20 — начале 30-х годов, участник и победитель многочисленных состязаний и, увы, немногочисленных побед над чемпионом мира, искатель новых путей в шахматах и крупный теоретик77.
В 40—50-е года борьба с космополитизмом в СССР коснулась и шахмат. Во-первых, из истории шахмат исчезла Хазария как транзитный пункт для ознакомления Восточной Европы с шахматной игрой. Вместо Хазарии — стал употребляться эвфемизм: "Волжско-Каспийский путь" (точная аналогия с исчезнувшей ересью "жидовствующих", замененной "московско-новгородской ересью"). Подвергались нападкам за догматизм В. Стейниц и, особенно, З. Тарраш, занявшие то же самое место в шахматах, что в биологии занимали Вейсман и Морган. На недосягаемую высоту был поднят "истинно творческий шахматист" М. Чигорин, несмотря на печальный результат его обоих матчей со В. Стейницем. Мастер Василий Панов, до войны утверждавший, что борьба М. Чигорина против В. Стейница — это борьба дикаря с луком против человека, вооруженного винчестером, полностью отказался от своих слов и в многочисленных книгах превозносил М. Чигорина, унижая и В. Стейница, и З. Тарраша, и С. Алапина, публикуя в своих трудах юдофобские карикатуры. Только с изданием трудов крупнейшего шахматного историка Я.И. Нейштадта было достигнуто некоторое равновесие78.
Будет справедливо указать, что в националистической вакханалии приняли активное участие и евреи, с пеной у рта доказывающие отечественный приоритет и в шахматах — каждый может ознакомиться с трудами И. Романова, М. Юдовича, И. Линдера и др.
Антисемитизм в шахматах, к сожалению, не изжил себя, а пожалуй даже вышел за рамки "узкой специализации". Во времена гласности была опубликована статья А. Алехина, вызвавшая оживленную полемику не только в бывшем СССР, но и в Израиле79. Вероятно, последняя точка в дискуссии по моральной оценке статьи А. Алехина была поставлена публикацией в 1994 г. воспоминаний О. Грузенберга, где указано, что он еще в дореволюционные годы кичился своим черносотенством. Существует еще один рассказ об антисемитизме Алехина. В турнире в Подебрадах в 1936 г. Алехин отставал от идущего впереди него Флора. Столкнувшись в туалете (месте, располагающем к откровенности) с латвийским мастером Владимиром
581
Михайловичем Петровым, он дружески посоветовал тому: "Выиграй у этого жида!". Удивленный и огорченный Петров передал свой разговор с Алехиным Флору. (Сообщено автору Я.И. Нейштадтом. Нейштадт долгие годы общался с С.М. Флором и на прямо поставленный вопрос: "Был ли Алехин антисемитом?" — получил вместо ответа вышеупомянутый рассказ. В Подебрадах Алехин и Флор конкурировали за первое место. Партия между ними окончилась вничью, партию против Петрова Флор выиграл и в итоге обогнал Алехина на пол-очка.)
К 100-летию со дня рождения Алехина были опубликованы множество статей и книг о творчестве чемпиона мира. Как ни странно, его антисемитские взгляды, ранее бывшие фигурой умолчания (например, в книге А. Котова), в новое время приобрели апологетов. Среди них первенствуют Ю.Н. Шабуров80, а затем В.А. Чарушин81. Однако рекорд побил некий Валерий Дмитриевич Чащихин, который на двух языках — русском и английском — издал брошюру под названием "Алехин. Моя борьба" (М., 1992), где без зазрения совести пишет, что следует "очистить бриллианты мысли от грязи пропаганды"82. Как мы видели выше, это сделать практически невозможно — вся статья пронизана ненавистью, и уже легче согласиться с мнением М. Ботвинника, считавшего, что Алехин специально состряпал ахинею, чем пытаться выудить из моря грязи здравые мысли.
Совсем недавно и совершенно неожиданно высказались два экс-чемпиона мира — Бобби Фишер и Борис Спасский. Речь шла не более не менее, как о мировом заговоре сионистов. За Бобби Фишером (который, как известно, еврей!) числились и грешки похуже: он расклеивал антисемитские лозунги на бамперах машин, за что был задержан полицией. Что же касается Бориса Васильевича Спасского, то в 1990 г. он слово в слово повторил нацистские бредни Алехина83.
582
Примечания
Очерк 1
1Фурман Д. Е. Выбор князя Владимира // Вопросы философии. 1988. № 6.
2 Гатцук Ал. Евреи в русской истории и поэзии // Сион. Одесса, 1861. № 5. С. 165.
3 Агеев A.M., Устинов Е.Ф. Военная организация и военное искусство Киевской Руси (IX—XII вв.) // Военно-исторический журнал. 1987. № 12. С. 74.
4 Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1987. Ч. 1. С. 139-140.
5 Пархоменко В.А. Киевская Русь и Хазария (Роль хазарского торгового капитала в истории Киевской державы) // Slavia. Praga. 1927-1928. Т. 7. S. 380-387.
6 Летопись по Лаврентьевскому списку: Изд. Археогр. ком., СПб., 1872. С. 66; см. также анализ древнерусской торговли: Рыбаков Б.А. Торговля и торговые пути // История культуры Древней Руси. М., 1948. Т. 1. С. 315-369.
7 Готье Ю.В. Железный век в Восточной Европе. М., 1930. С. 70.
8 Предварительные критические исследования Густава Еверса для Российской истории. М., 1825. Кн. I. С. 207-208.
9 Golb N., Pritsak О. Khazarian Hebrew Dokuments of the Tenth Century. Ithaca; London, 1982. P. 44-50.
10 Ibid. P. 50.
11 Толочко А.П. [Рец.]: Голб Н., Прицак О. Хазарские еврейские документы X века // Вопросы истории. 1987. № 12. С. 144-146.
12 См.: Емельянов В.Н. Десионизация. Париж, 1978. С. 1—2.
13 Прозоровский Д.И. О родстве св. Владимира по матери // Зап. Имп. Академии наук. 1864. Т. V. С. 17_26; Срезневский И.И. О Малуше, милостивице в.к. Ольги, матери в.к. Владимира // Там же. С. 27—33.
14 Летопись по Лаврентьевскому списку... С. 67—68.
15 См.: Срезневский И.И. Указ соч.
16 Летопись по Лаврентьевскому списку... С. 74. Перевод звучит так: «И послал к Рогволду в Полоцк сказать: "Хочу дочь твою взять себе в жены". Тот же спросил у дочери своей: "Хочешь ли за Владимира?" Она же отвечала: "Не хочу разуть сына рабыни, но хочу за Ярополка"». Разувание мужа в знак покорности новобрачной было частью свадебного обряда.
583
17 Членов А. На родине Добрыни Никитича // Дружба народов. 1975. №11.
18 Там же. С. 198.
19 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956. Т. 2. С.595
20 См. примеч. к кн: Прокопович Ф. Сочинения. М; Л., 1961. С. 477.
21 Вельтман А.Ф. Романы. М., 1985.
22 См.: Хлебников В. Дохлая луна. М., 1913.
23 Рапов О.М. Официальное крещение Руси в конце X века // Введение христианства на Руси. М., 1987. С. 102-103.
24 Барац Г.М. Библейско-агадические параллели к летописным сказаниям о Владимире Святом. Киев, 1908. С. 39—48.
25 См.: Фурман Д.Е. Указ. соч.
26 См.: Готье Ю.В. Указ. соч. С. 72.
27 Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962. С. 197.
28 Еврейская энциклопедия. СПб., б. г. Т. IV. Стлб. 774.
29 См.: Там же. СПб., б. г. Т. IX. Стлб. 117.
30 Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872. С. 178.
31 Лучинский Г. Хозары // Энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1903. Т. XXXVIIa. С. 485.
32 Хлебников В. Стихотворения. М., 1986. С. 67.
33 Хизриев Х.А. [Рец. на кн.]: Фахрутдинов Р.Г. Очерки по истории Волжской Булгарии. М, 1984 // Вопросы истории. 1986. № 6. С. 122.
34 Подробнее о роли татар в генезисе русского дворянства см.: Каратеев М. Арабески истории. Буэнос-Айрес, 1971.
35 Витсен Н. Путешествие в Московию, 1664-1665: Дневник. СПб., 1996. С. 140.
36 См.: Малышевский И.И. Евреи в Южной Руси и Киеве в Х-ХП веках. Киев, 1878. С. 65-70; Даревский И.А. К истории евреев в Киеве. Киев, 1907. С. 53-58.
37 Цит. по: Перетц В. Евреи в Древней Руси // Северный курьер. 1899. № 58.
38 Летопись по Лаврентьевскому списку... С. 147.
39 Малышевский И. Указ. соч. С. 56.
40 Там же. С. 56-57.
41 Цит. по: Барлен Д. Русские былины в свете тайноведения. Париж, 1932. С. 63—64. Та же самая былина, изданная в серии "Библиотека поэта", имеет несколько сглаженный вид. См.: Былины. Л., 1967. С. 324-333.
42 См.: Клепатский П.Г. Очерки по истории Киевской земли: Литовский период. Т. I // Зап. имп. Новороссийск, ун-та: Ист.-филол. ф-т. Одесса, 1912. Вып. V. С. 432.
43 См.: Загоскин Н.П. Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетровской Руси. Казань, 1875. С. 155.
44 См., например: Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI века. М.; Л., 1955.
45 Голицын Н.Н. История законодательства о евреях (1649-1825). СПб., 1886. Т. I. С. 642.
46 См.: Клибанов А.И. Духовная культура Средневековой Руси. М., 1994.
47 См.: Колесов В.В. Комментарии к "Посланию старца Филофея" // Памятники литературы древней Руси: Конец XV — первая половина XVI века. М., 1984. С. 735-736.
48 Казакова Н.А., Лурье Я.С. Указ. соч. 1955. См. прил.: Источники. С. 239, 242. См. также: Соколов М.В. Очерки по истории психологических воззрений в России в XI-XVIII веках. М., 1963. С. 130-131.
49 Буткевич Т.Н. Обзор русских сект и их толков. Харьков, 1910. С. 385.
50 Бонч-Бруевич В.Д. Чемреки: Ответвление старого Израиля. Пг., 1916. С. 193.
584
51 См.: Корецкий В.И. К вопросу о социальной сущности "нового учения" Феодосия Косого // Вестн. Моск. ун-та. 1956. № 2. С. 105—124.
52 Кальнев М.А. Русские сектанты, их учение, культ и способы пропаганды. Одесса, 1911.
53 Цит. по: "Иудействующие" в русском сектантстве // Пережитое. 1911. № 3. С. 241.
54 Цит. по: Мельников-Печерский А.И. Письма о расколе // Полн. собр. соч. СПб., 1909. Т. 6. Примеч. на с. 227.
55 Е.-в. Секта последователей Моисеева закона, или Иудействующих, в Воронежской губернии // Прибавления к Воронежским епархиальным ведомостям. 1877. № 7. С. 269.
56 Дело о сожжении отставного морского флота капитан-поручика Александра Возницына за отпадение в еврейскую веру и Вороха Лейбова за совращение его (1738) // Пережитое. Приложение. СПб., 1910. № 3. С. 7.
57 Цит. по: Берхин И. Сожжение людей в России в ХШ-XVIII вв. // Русская старина. 1885. Янв. С. 187.
58 Цит. по: Голицын Н.Н. История... С. 33—34.
59 См.: Анна Иоанновна // Еврейская энциклопедия. СПб., 1908-1913. Т. II, стлб. 593-594.
60 Кантемир А.Д. Сатира IX. К солнцу. (На состояние света сего) // Избран-ные сатиры. СПб., 1892. С. 54.
61 Там же. С. 60, примеч. к с. 33.
62 Соловьев Вл. Забытые тексты: "...Положения к чтению Владимира Соловьева в психологическом обществе о причинах упадка средневекового миросозерцания" // Опыты. Литературно-философский сборник. М., 1990. С. 279.
63 Блюхер Г. С Василием Константиновичем Блюхером — шесть лет // Воен.-ист. журнал. 1990. № 1. С. 80. Какие-то личные ассоциации, возможно, возникли у него при чтении романа...
64 Буткевич Т.И. Указ. соч. С. 368-387.
65 См.: Чистович Я.А. История первых медицинских школ в России. СПб., 1883. С. 603-604.
66 Буткевич Т.И. Указ. соч. С. 387-388.
67 Подробно о его жизни и учении см.: Дудаков С. История одного мифа. М., 1993.
68 См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. 4. С. 353: «"Субботствовать", црк. стар. праздновать день субботний, как поведено ветхозаветникам. Аще веруете в Сына Божия, то почто жидом последуете, субботствуете, постящеся в ню, и опреснок жрете?»
69 Варадинов И.В. История министерства Внутренних дел: 8-я доп. кн.: История распоряжений по расколу. СПб., 1863. С. 89; Буткевич Т.И. Обзор русских сект и их толков. Харьков, 1910. С. 388.
70 Варадинов Н.В. Указ. соч. С. 29.
71 См.: Еврейская энциклопедия. Т. VII, стлб. 785.
72 Варадинов Н.В. Указ. соч. С. 92.
73 Там же.
74 Там же. С. 93.
75 Там же.
76 Буткевич Т.И. Указ. соч. С. 91.
77 Там же. С. 94-95.
78 Там же. С. 95.
79 Военная энциклопедия. СПб., 1912.
80 См.: Шипов Ник. История моей жизни // Карпов В.Н. Ник. Шипов: Русские мемуары, дневники, письма и материалы. М.; Л., 1933. С. 452 и др.
81 Варадинов Я.В.Указ. соч. С. 96-97.
585
82 Там же. С. 97.
83 В.Т. Село Верхние Острожки // Воронежские епархиальные ведомости. 1885, № 2-3. С. 82-83; 139-141.
84 Варадинов Н.В. Указ. соч. С. 7-98.
85 Буткевич Т.И. Указ. соч. С. 393.
86 Там же. С. 394.
87 Воронский А.К. Бурса. М., 1966. С. 28-29.
88 См.: Бонч-Бруевич В.Д. Сектантство и старообрядчество в первой половине XIX века // Избр. соч. М., 1959. Т. 1. С. 299.
89 Уложение о наказаниях. Ст. 219 // Свод законов. Т. XV. См. также: Мельников-Печерский А.И. Указ. соч. С. 227.
90 Устав о предупреждении и пресечении преступлений. Ст. 84—86 // Свод законов. Т. XIV. Цит. по: Мельников-Печерский А.И. Указ. соч.
91 Мельников-Печерский А.И. Указ. соч. С. 229.
92 Там же.
93 Новый энциклопедический словарь. Пг., 1911-1916. Т. 26, стлб. 238.
94 Эпитафия к повестям Печерского и к новой "Северной пчеле" // Щербина Н.Ф. Избранные произведения. Л., 1970. С. 289; примеч. с. 573-574.
95 Лесков Н.С. Народники расколоеды на службе // Собр. соч. М., 1958. Т. 11. С. 39.
96 Цит. по: Мельников-Печерский А.И. Указ. соч. С. 229.
97 Молоствова Е.В. Иудействующие в русском сектантстве // Пережитое. 1911. № 3. С. 242-244.
98 Мельников-Печерский А.И. Указ. соч. С. 223.
99 Архимандрит Григорий. Появление жидовствующих в Московской губернии и меры к прекращению этой секты в 1827 году // Чтение в Обществе истории и древностей Российских. 1874. № 2. С. 68.
100 Там же. С. 74-75.
101 Там же. С. 72.
102 Там же. С. 75.
103 Е.-въ. Секта... С. 270.
104 См.: Г.В. К истории молоканской (жидовствующей) секты в Астраханской губернии. (Из записок сельского священника села Балыкленского пятидесятых годов) // Астраханские епархиальные ведомости. 1889. № 4.
105 Е.-въ. Секта... С. 274-275.
106 Варадинов Н.В. Указ. соч. С. 280-281.
107 Островский Ю. Сибирские евреи. СПб., 1911. С. 11.
108 Меримзон М. Рассказ старого солдата // Еврейская старина. 1913. № VI. С. 83.
109 Там же.
110 Грузенберг О.О. Вчера. Париж, 1938. С. 18.
111 Надеждин П.П. Кавказский край. Природа и люди. Тула, 1895. С. 114.
112 Максимов С. За Кавказом (Из дорожных заметок): Субботники // Отечественные записки. 1867. Т. 172. С. 353.
113 Будущность// Современная летопись: Хроника. 1902. № 8. С. 146.
114 Крестовский Вс. Вдоль Закавказской границы (Дорожные заметки) // Собр. соч. СПб., 1900. Т. VII. С. 200.
115 Там же. С. 209-210.
116 Там же. Примеч. на с. 209.
117 Там же. Примеч. на с. 210.
118 Там же. Примеч. на с. 211.
119 Там же. С. 211.
120 Там же. С. 212.
121 Русские сектанты, их учение, культ и способы пропаганды. Одесса, 1911. С. 152.
586
122 Пругавин А.С. Религиозные отщепенцы: Очерки современного сектантства. СПб., 1904. С. VII.
123 Ан-ский С.А. Среди иудействующих. Из путевых заметок // Собр. соч. СПб., 1915. Т. 3. С. 305.
124 В.Т. Село Верхние Острожки (Козловка) // Воронежские епархиальные ведомости. 1885. № 2. С. 83-84.
125 Максимов С. За Кавказом... С. 334-336.
Очерк 2
1 Молоствова Е.В. Иеговисты: Жизнь и сочинения кап. Н.С. Ильина. Возникновение секты и ее развитие. СПб., 1914. С. 119.
2 Цит. по: Молоствова Е.В. Апостол общечеловеческой религии любви // Вестник Европы. 1912. Февр. С. 191.
3 Цит. по: Лесина В.И., Коршикова Н.С. Евграф Грузинов // Вопросы истории. 1965. № 7. С. 95.
4 Цит. по.: Молоствова Е.В. Иеговисты... С. 24.
5 Брафман Я. Еврейские братства, местные и всемирные. Вильна, 1868. С. 9.
6 Цит. по: Клибанов А.И. Народная утопия. М, 1994. С. 186.
7 Впрочем, следует оговорить, что о непосредственном взаимовлиянии взглядов Ильина и философии Федорова речь не идет.
8 Чернышевский Н.Г. Что делать? // Полн. собр. соч. М., 1939. Т. XI. С. 197.
9 Молоствова Е.В. Иеговисты...
10 Цит. по: Молоствова Е.В. Иудействующие в русском сектантстве // Пережитое. 1911. № 3. С. 254-256.
11 См.: Молоствова Е.В. Иеговисты... С. 96.
12 Там же. С. 81-82.
13 Молоствова Е.В. Апостол... С. 199.
14 Пругавин А.С. Религиозные отщепенцы: Очерки современного сектантства. СПб., 1904. С. 250.
15 Там же. С. 250.
16 См.: Короленко В.Г. История моего современника // Собр. соч. М., 1955. Т. 7. С. 176.
17 Молоствова Е.В. Иеговисты... С. 82.
18 См.: Зейдель Л. Евреи на Урале // Еврейская старина. 1910. С. 425—426.
19 Пругавин А.С. Религиозные отщепенцы... С. 251.
20 Максимов СВ. Сибирь и каторга. Т. 2: Виноватые и обвиненные. СПб., 1891. С. 295.
21 Там же. С. 296.
22 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. М., 1951. Т. 2. С. 474.
23 Молоствова Е.В. Иеговисты... С. 108.
24 Цит. по: Косвинцев Е.Н. После Каракозовского выстрела // Красная Нива. 1926. № 18. С. 21.
25 Молоствова Е.В. Иеговисты... С. 134.
26 Dixon W.H. Free Russia. London, 1870. Vol. I. О Н.С. Ильине см.: p. 230-241.
27 ibid. P. 161.
28 Молоствова Е.В. Иудействующие... С. 257.
29 Там же.
30 См. подробнее: Флисфиш Э. Кантонисты. Тель-Авив. Б. г., гл.: Отречение от православия. Судебные процессы за обратный переход в Иудейство. С. 280-288.
31 Гордон Л.О. Оторванные, рассказ нотариуса // Еврейский ежегодник на 5663 г. СПб., 1902; см. также: Отчет о деле Алексея Антонова, он же — Мовша Шлемов Айзенберг, слушанное в Петербургском окружном суде 17 января 1880 г. // Русский Еврей. 1880. № 4, стлб. 137-138.
587
32 Молоствова Е.В. Иудействующие... С. 250-251.
33 Молоствова Е.В. Иеговисты... С. 173.
34 Там же. С. 171.
35 Пругавин А.С Религиозные отщепенцы... С. 239.
35 Цит. по: Молоствова Е.В. Иеговисты... С. 261—262.
37 См.: Сионская весть // Брокгауз и Ефрон. СПб., 1900. Т. XXX. С. 153.
38 Молоствова Е.В. Иеговисты... С. 262.
39 Молоствова Е.В. Апостол... С. 205.
40 Прибульская Г. Репин в Петербурге. Л., 1970. С. 146.
41 Репин И.Е. Далекое близкое. М., 1964. С. 264-265.
42 К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. М.; П 1923. Т. 1-2. С. 499.
43 Чуковский К. Дневник. 1930-1969. М, 1995. С. 407.
44 Молоствова Е.В. Апостол... С. 207.
45 См.: Косенков Е.Н. Указ. соч. С. 21.
46 См.: Кальнев М.А. Русские сектанты, их учение, культ и способы пропаганды. Одесса, 1991. С. 86.
47 О последнем см.: Дудаков СЮ. История одного мифа. М., 1993. С. 96 и сл.
48 Поэты 1820-1830-х годов. Л., 1972. Т. 2. С. 366. (Библиотека поэта).
49 Там же. С. 376.
50 Молоствова Е.В. Иеговисты... С. 126—127.
51 Там же. С. 129-130.
52 Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. М., 1991. Т. 2. С. 278-279
53 Лебедев А. Чаадаев. М., 1965. С. 235-236.
54 Молоствова Е.В. Иеговисты... С. 130.
55 Молоствова Е.В. Иудействующие... С. 263.
56 См.: Молоствова Е.В. Апостол... С. 210.
57 Косенков Е.Н. Указ. соч. С. 21.
58 См.: Обтемперанский A.M. Иеговисты // Кальнев М.А. Русские сектанты. С.89
59 Там же. С. 89.
60 Там же. С. 90.
61Там же.
62 Там же.
63 Буткевич Т.И. Обзор русских сект и их толков. Харьков, 1910. С. 532.
64 Там же. С. 540.
65 Там же. С. 541.
66 Там же. С. 542-543.
67 Цит. по: Цинберг С. Шклов и его "просветители" конца XVIII века // Еврейская старина. Л., 1928. Т. XII. С. 32.
68 Там же.
69 См.: Еврейская энциклопедия. Т. 7. Стлб. 665-666; Заменгоф Л. К биографии д-ра Людвига Заменгофа. Саратов, 1918; [Некролог] // Еврейская жизнь. 1917. № 14-15.
70 Цит. по: Степняк-Кравчинский С.М. Сочинения. М., 1958. Т. 2, примеч., с. 573.
71 Засулич В.И. Штундист Павел Руденко // Засулич В.И. Статьи о русской литературе. М., 1960. С. 123.
72 См. подробнее: Бонч-Бруевич В.Д. Избранные сочинения. М., 1959. Т. 1. С. 299-301.
73 См. например: Калугин В.М. Современное религиозное сектантство, его разновидности и идеология. М., 1962.
74 См.: Семенов-Тянь-Шаньский П.П. Путешествие в Тянь-Шань в 1856-1857 гг. М., 1948. С. 75.
75 Астырев Н. Субботники в России и Сибири // Северный вестник. 1891-№ 6. С. 67.
588
Очерк 3
1 Письмо Бондарева к Л. Толстому от 1 декабря 1885 г. // Л.Н. Толстой и Т.М. Бондарев. Переписка / Сост. А.А. Донсков. Мюнхен, 1996. С. 27. (далее: Переписка).
2 Русские писатели, 1800-1917: Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 309.
3 Смиренский В.В. Где родился Т.М. Бондарев? // Толстовский сборник. Тула, 1964. С. 306-307.
4 Моложавенко В. Был и я среди донцов. Ростов н/Д., 1984, примеч. на с. 86.
5 Клибанов AM. Народная социальная утопия в России. М., 1978. С. 284.
6 Цит. по: Шохор-Троцкий К.С. Сютаев и Бондарев // Толстовский ежегодник. СПб., 1913. С. 12-13.
7 Барашков-Эпчелей Ив. Тимофей Бондарев // Сибирские огни. 1958. № 5. С. 153.
8 Минокин М.В. Тимофей Михайлович Бондарев // Зап. Хакасск. научно-ис-след. ин-та языка, литературы и истории. Абакан, 1951. Вып. 2. С. 22.
9 Цит. по: Владимиров Е.И. Тимофей Михайлович Бондарев и Лев Николаевич Толстой. Красноярск, 1938. С. 16.
10 Белоконский И.П. Тимофей Михайлович Бондарев (Из сибирских воспоминаний) // На Сибирские темы. СПб., 1905. С. 272.
11 Там же.
12 Там же. С. 272-273.
13 Минокин М.В. Указ. соч. С. 26.
14 Бугенко Н. Тимофей Бондарев, сибирский крестьянин-публицист // Дальний Восток. 1961. № 6. С. 168.
16 См.: Переписка... С. 105.
16 Локтев А. Торжество земледельца // Отчизна. 1991. № 2. С. 22.
17 Барашков-Эпчелей Ив. Указ. соч. С. 153.
18 Косаванов А. Тимофей Бондарев и Лев Толстой. Абакан, 1958. С. 12.
19 Владимиров Е.И. Тимофей Бондарев и Лев Николаевич Толстой. Красноярск, 1938. С. 28.
20 Белоконский И.П. Указ. соч.
21 Моложавенко В. Был и я среди донцов (Судьба крепостного философа). Ростов н/Д., 1984. С. 87.
22 Локтев А. Торжество земледельца. С. 22.
23 Книга: Исследования и материалы. Сборник. М., 1974. ХХЩб). С. 162.
24 См. подробнее: Нейман ИЛ. О субботниках на Амуре // Еврейская старина. Пг., 1916, январь-март. С. 183-185.
25 Л-ъ Л. Евреи на Дальнем Востоке в пределах Российской империи и Маньчжурии // Восход. СПб., 1904. Стлб. 38-43.
26 Украинский Л. Субботники (Новые евреи). Ковно, 1912. С. 16.
27 Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1966. С. 206—207.
28 Максимов С.В. Сибирь и каторга. СПб., 1891. Т. 1. С. 287.
29 Белоконский И.П. Указ. соч. С. 269.
30 См.: Китанина Т.М. Хлебная торговля России в 1875—1914 гг. (Очерки правительственной политики). Л., 1978, примеч. на с. 31.
31 См.: Войтинский Вл.С. Горнштейн А.Я. Евреи в Иркутске. Иркутск, 1915. С. 182.
32 См.: Кон Ф.Я. За пятьдесят лет. М., 1936. Т. 1.
33 Там же. С. 467.
34 См.: Попов И.М. Минувшее и пережитое. Воспоминания за 50 лет. Сибирь и эмиграция. Л., 1924. С. 243.
35 Зябрев А. Борус Яснолобый // Сибирские огни. 1975. № 9. С. 117.
589
36 Гарин-Михайловский Н.Г По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову // Собр. соч. М., 1958. Т. 5. С. 8.
37 Некрасов НА. Кому на Руси жить хорошо? // Собр. соч. М., 1965. Т. С. 179.
38 В пореформенное время из средней полосы России центр производства зерновых переместился в районы степного Юга, заволжских степей, Предкавказья и Западной Сибири. См.: Китанина Т.М. Указ. соч. С. 28.
39 Некрасов Н.А. Дедушка // Собр. соч. М., 1965. Т. 3. С. 12.
40 Бондарев Т.М. Трудолюбие, или Торжество земледелия // Русское дело. 1888. № 2. С. 46.
41 См.: Митрополит Евлогий. Путь моей жизни. Париж, 1947, примеч. на с. 83
42 Варшавский B.C. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 30.
43 Костомаров Н.И. Исторические произведения: Автобиография. Киев., 1989. С. 575
44 Толстой Л.Н. Собр. соч. М.; Л., 1933. Т. 60. С. 74.
45 Один из сосланных народовольцев бросил Феликсу Кону: "После Чернышевского что может сказать Маркс" (Кон Ф.Я. Указ. соч. С. 370).
46 См.: Владимиров Е.И. Тимофей Михайлович Бондарев и Лев Николаевич Толстой. Красноярск, 1938. С. 61—64.
47 Там же.
48 Там же.
49 Рубакин Н.А. Грамотность // Энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., Т. 14, стлб. 700-715.
50 Владимиров Е.И. Указ. соч. С. 27.
51 Косаванов А. Указ. соч. С. 13.
52 Минокин М.В. Указ. соч. С. 34.
53 Максим Горький. Из литературного наследия: Горький и еврейский вопрос / Авт.-сост.: М. Агурский, М. Шкловская. Иерусалим, 1986. С. 120.
54Горький М. Детство // Собр. соч. М., 1962. Т. 9. С. 68, 71.
55 Минокин М.В. Указ. соч. С. 34-35.
56 Цит. по Владимиров Е.И. Указ. соч. С. 17.
57 Белоконский И.П. Указ. соч. С. 274.
58 Косаванов А. Указ. соч. С. 17.
59 Лозинский С.Г. Вступление // Яновский С.Я. Труд в жизни евреев. Пг.,
1918. С. 1.
60 Бондарев Т.М. Трудолюбие и Тунеядство, или Торжество земледельца. СПб., 1906. С. 21.
61 Там же. С. 36.
62 Там же.
63 Там же. С. 40.
64 Там же. С. 54.
65 Там же. С. 54-55.
66 Там же. С. 56.
67 Там же. С. 63.
68 Там же. С. 30.
69 Владимиров Е.И. Указ. соч. С. 79.
70 Белоконский И.П. Указ. соч. С. 275.
71 Малиновский И. Л.Н. Толстой и крестьянин Бондарев // Речь. 1912. 9 (22) февр.
72 Шур ЕА. Школа и труд по Талмуду. Одесса, 1889. С. IV.
73 Там же. С. 32.
74 Там же. С. 32-33.
75 См.: Еврейская энциклопедия. Т. XIV, ст. Симон бен Лакиш. Стлб. 241-242; см. также: Цирк // Там же. Т. XV. Стлб. 817.
590
76 Шур Е.А.Указ. соч. С. 33—34
77 Там же. С. 36.
78 Там же. С. 37.
79 Бондарев Т.М. Трудолюбие... С. 19.
80 Шур Е.А. Указ. соч. С. 39-40.
81 См.: Евреи-земледельцы. Историческое, законодательное, административное и бытовое положение колоний, со времени их возникновения и до наших дней. 1807-1887. СПб., 1887.
82 Каган М. Евреи-земледельцы в Новороссийском крае: Исторический очерк. СПб., 1880. С. 25.
83 О необходимости земледельческого труда для евреев. СПб., 1886. С. 3-4.
84 Бондарев Т. Трудолюбие... С. 16.
85 Белоконский И.П. Указ. соч. Примеч. на с. 278.
86 Там же. С. 282.
87 Там же. С. 283.
88 Там же. С. 283-284.
89 Владимиров Е.И. Указ. соч. С. 80.
90 Амфитеатров А.В. Лев Толстой // Современники. М., 1908. С. 37.
91 Там же. С. 37-38.
92 Цит. по: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1934. Т. 63. Примеч. на с. 435-436.
93 Амфитеатров А.В. Указ. соч. С. 38.
94 См.: Еврейская энциклопедия. Т. XV, стлб. 419-420.
95 Цит по: Белоконский И.П. Указ. соч. С. 288; см. также: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 63. С. 278.
96 См.: Косаванов А. Указ. соч. С. 18.
97 Успенский Г.И. Поли. собр. соч. М., 1951. Т. XIII. С. 363.
98 Иванчин-Писарев А.И. Хождение в народ. М.: Л., 1929. С. 391.
99 См.: Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой (материалы к биографии с 1881 по 1885 год). М, 1970. С. 429.
100 Сибирская газета. 1884. № 27. Стлб. 688-690.
101 Письмо до сих пор не опубликовано. Я цитирую по статье: Пруцков Н.И. Сибирская утопия Т.М. Бондарева "Торжество земледельца..." // Очерки литературы и критики Сибири (XVII—XX вв.) (Материалы к "Истории русской литературы Сибири". Новосибирск, 1976. С. 145.
102 Впервые очерк Г. Успенского "Трудами рук своих" был опубликован в "Русской мысли" (№ 11, 1884).
103 См.: Салтыков-Щедрин М.Е. Письма. 1845-1889. Л., 1924. С. 279-281.
104 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 68. С. 62.
105 Успенский Г.И. Полн. собр. соч. М., 1951. Т. XIII. С. 448.
106 Владимиров Е.И. Указ. соч. С. 20-21.
107 См.: Л.Н. Толстой и Т.М. Бондарев: Переписка / Сост. и ред. А.А. Донскова. Мюнхен, 1996. С. 138.
108 Шохор-Троцкий К. Сютаев и Бондарев: Биографические данные и материалы к их характеристике. Толстовский ежегодник. СПб., 1913. Примеч. на с. 13. Вероятно, имеется в виду статья в "Биржевых ведомостях" № 13639 за тот же 1913 г.
109 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1958. С. 257. Т. 90. Интересна история этого письма. Впервые оно было опубликовано Е. Владимировым в его книге. Печаталось по копии, снятой в 1911 г. А.В. Прибылевым (Корбой) (1857 — после 1934, деятель "Народной воли", затем эсер) с оригинала, хранящегося у народного учителя Веселовского, жителя Тыштыпской станицы Минусинского округа. Копия хранилась в Красноярской краевой публичной библиотеке. Не исключена возможность находок новых материалов, касающихся жизни сибирского мудреца.
591 dav
110 См.: Китанина Т.М. Указ. соч. С. 42.
111 Фет А.А. Воспоминания. М., 1983. С. 278-279.
112 Толстой в воспоминаниях современников. М., 1968.
113 См.: Остроумов Н. Константин Петрович фон-Кауфман, устроитель Туркестанского края. Ташкент, 1899. С. 133.
114 Цит. по: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М; Л., 1934. Т. 63. С. 126.
115 См.: Шкловский В.Б. Лев Толстой. М., 1963. С. 582-583.
116 Толстой в 1880-е годы: Записки И.М. Ивакина // Литературное наследство. М., 1961. Т. 69, кн. 2. С. 54.
117 Переписка... С. 19.
118 См.: Петров Н. Сибирский корреспондент Л.Н. Толстого // Не забудь их, моя Россия. Омск, 1984. С. 174.
119 Переписка... С. 21.
120 Там же.
121 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 63. С. 434.
122 Там же. С. 353.
123 Венгеров С.А. Златовратский Н.Н. // Энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1911-1916. Т. 18. Стлб. 744.
124 Тейтель Я.Л. Из моей жизни. За сорок лет. Париж, 1925. С. 87.
125 См.: Златовратский Н.Н. Воспоминания. М., 1956. С. 361. Письмо дочерям из Самары датируется 1886 г.
126 Белоконский И.П. Дань времени. Воспоминания. М., 1928. С. 349.
127 Косаванов А. Указ. соч. С. 17.
128 Белоконский И.П. Указ. соч. С. 292.
129 Переписка... С. 114.
130 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 25. С. 463-475.
131 Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой (материалы к биографии с 1881 по 1885 год). М, 1970. С. 442.
132 Русское богатство. 1884. № 12. С. 698.
133 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 63. С. 275.
134 Там же. Т. 85. С. 242.
135 Бондарев Т.М. Трудолюбие... С. 64.
136 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 64. С. 137.
137 Там же. Т. 86. С. 115.
138 Там же. Т. 64. С. 149.
139 Русское дело. 1888. № 12.
140 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 64. С. 149.
141 Русское дело. 1888. № 13.
142 Цит. по: Гусев Н.Н. Указ. соч. С. 444-445.
143 Бирюков П.И. Л.Н. Толстой: Биография. Берлин, 1921. Т. III. С. 540.
144 Владимиров Е.И. Указ. соч. С. 44.
145 Там же. С. 45.
146 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 64. С. 158, 159.
147 Там же. Т. 51. С. 58.
148 Там же. Т. 65. С. 123.
149 Косаванов А. Указ. соч. С. 32—33.
150 Бутенко Н.Тимофей Бондарев... С. 172.
151 Переписка... С. 127.
152 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 71. С. 438.
153 Михайловский Н.К. Критические опыты: Граф Л.Н. Толстой. Десница и шуйца Гр. Льва Толстого десять лет спустя. СПб., 1887. С. 144.
154 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 68. С. 74.
155 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1954. Т. 68. С. 101-102.
592
156 Русанов Г.А. Поездка в Ясную Поляну // Толстовский ежегодник. М., 1912. С. 72; также: Толстой Л.Н. Государственный литературный музей. М., 1976. С. 188.
157 Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. СПб., 1897. Т. 5. С. 448-453.
158 Там же. С. 188.
159 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 69-71.
160 Там же. Т. 64. С. 12-13.
161 Владимиров Е.И. Указ. соч. С. 42-44.
162 Переписка... С. 74-77.
163 Письмо Бондарева от 30 апреля 1894 г. // Переписка... С. 81.
164 Переписка... С. 81.
165 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 67. С. 160.
166 См.: Маковицкий Д.П. Яснополянские записки: У Толстого // Литературное наследство. М., 1979. Т. 90. С. 538-539.
167 Переписка... С. 95.
168 Там же. С. 98.
169 Там же. С. 101.
170 Жемчужников A.M. Лев Николаевич Толстой.
171 Переписка... С. 115.
172 Там же.
173 Там же.
174 Там же. С. 118-119.
175 Там же. С. 56.
176 Мильтон Дж. Потерянный рай. СПб., 1871. С. 385-386 (пер. СИ. Писарева. Возможно, именно это издание читал Бондарев).
177 Байрон Дж. Каин. Акт первый, сцена первая. Перевод Ивана Бунина. Самому И. Бунину также принадлежит стихотворение "Каин".
178 Бодлер Ш. Авель и Каин / Пер. В. Левика // Бодлер Ш. Лирика. М, 1966. С. 157—158. Мы специально приводим более поздний перевод. Бондарев же мог знать перевод Д.Д. Минаева. Французская литература вообще много поработала в этой области. Гюго, Леконт де Лиль, Ипполит Тэн. Обобщающий анализ на русской почве образа Каина произвел И.М. Нусинов в книге "Вековые образы" (М., 1937).
179 Переписка... С. 57.
180 Там же. С. 58.
181 Там же.
182 Там же. С. 59.
183 Там же.
184 Там же. С. 61.
185 Там же. С. 63.
186 Там же. С. 64.
187 Там же.
188 Там же.
189 Там же. С. 96, 97.
190 Там же. С. 101.
191 Горький М. Лев Толстой // Собр. соч. М., 1963. Т. 18. С. 73.
192 Клибанов А.И. Указ. соч. С. 303.
193 Переписка... С. 116, 117.
194 Моложавенко В. Указ. соч. С. 93. Посылка бюста, впрочем, другими источниками не подтверждается.
195 Цит. по копии снятой для Л.Н. Толстого со вставками, пропущенными по цензурным соображениям. См.: Шохор-Троцкий К.С. Указ. соч. С.36-39.
593
196 Гусев Н. Предисловие // Владимиров Е.И. Указ. соч. С. 12.
197 См.: Пугачев в Среднем Поволжье и Заволжье / Сост. А.Н. Лозанова. Куйбышев, 1947. С. 156, 158.
198 Амфитеатров А.В. Лев Толстой // Современники. М., 1908. С. 37.
199 Горощенко К.И. Тимофей Абрамович Бондарев. (Из личных воспоминаний) // Ист. вестник 1913. Т. 133. № 7. С. 213—214. Любопытно, что и здесь вкралась ошибка — "Тимофей Абрамович", — так он себя не называл: по официальным документам Тимофей, в быту и для себя — Давид Абрамович. Да и нечего "благородить" название села — Юдино, ну Юдино, а никак не Иудинское.
200 Белоконский И.П. Указ. соч. С. 290.
201 Там же. С. 290-292.
202 Владимиров Е.И. Указ. соч. С. 71—72.
203 там же. С. 80.
204 там же. С. 49.
205 там же. С. 66.
206 там же. С. 54.
207 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 71. С. 519.
208 там же. Т. 42. С. 416.
209 см.: Горький М. Соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 28. С. 358.
210 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1937. Т. 55. С. 212.
211 См.:Маковицкий Д.П. Указ. соч. С. 125, 136.
212 Письмо от 23 января 1911 г. на имя хранителя Минусинского музея Н.И. Трапина // Владимиров И.Е. Указ. соч. С. 103.
213 Сетов Л. Беседа с читателем // Труд. 1916. № 22. 2J4 Краткая лит. энцикл. М., 1964. Т. 2. Стлб. 975.
215 Письмо от 23 февраля 1928 года // Горький М. Полн. собр. соч. М., 1955. , Т. 30. С. 73-74.
216 Зазубрин В. Два мира. Иркутск, 1980. С. 395-396.
217 Там же. С. 317-318.
218 Там же. С. 118.
219 Там же. С. 388-389.
220 там же. С. 389.
221 Там же. С. 390.
222 Горький М. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 27. С. 267.
223 Зазубрин В. Указ. соч. С. 386.
224 Заболоцкий Н.А. Избранное. Уфа, 1975. С. 79.
225 Синельников И. Молодой Заболоцкий // Воспоминания о Заболоцком. М., 1977. С. 115.
226 Заболоцкий Н.А. Указ. соч. С. 15.
227 Заболоцкий Н. Огонь, мерцающий в сосуде... М., 1995. С. 9.
228 См.: Мочульский В. Историко-литературный анализ стиха о голубиной книге. Варшава, 1887.
229 Голубиная книга сорока пядей // Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М., 1958. С. 269.
230 Заболоцкий Н.А. Указ. соч. С. 34-35.
231 См.: Воспоминания о Заболоцком. М., 1984. С. 181, 199.
232 Зги строки очень нравились В. Маяковскому, который шутливо восклицал "Неужели это не я написал?" См.: Некрасов Н.А. Собр. соч. М., 1965. С. 91, 423.
233 Заболоцкий Н.А. Указ. соч.
234 Теплинский М.В. Творческая история поэмы Некрасова "Современники" // Некрасовский сборник. М.; Л., 1956. Т. 11. С. 302.
235 Жизнеописание... С. 105.
236 Муравьев М.Н. Успех Британской музы. К В.П. Петрову // Стихотворения. Л., 1967. С. 172—173. Бондарев интересовался Мильтоном, Заболоц-
594
кий — Попом. Имена двух англичан сближены в труде М.П. Алексеева "Русско-английские литературные связи (XVIII век — первая половина XIX века) // Литературное наследство. М., 1982. Т. 91. С. 525-526. Речь идет о кругах, близких Батюшкову, Муравьевым, Чаадаеву.
237 См. подробнее: Арефьев В. В поисках правды // Вестник Всемирной истории. 1901. № 11.
238 Минокин М.В. Указ. соч. С. 57.
239 Барашков-Элчелей Ив. Тимофей Бондарев // Сибирские огни. 1958. № 5. С. 157.
240 Минокин MB. Указ. соч. С. 57.
Очерк 4
1Советиш геймланд. 1989. № 3. С. II—III.
2 Вел. кн. Александр Михайлович. Книга воспоминаний. Париж, 1933. Т. 1. С. 90-91.
3 Там же. С. 91.
4 Полный хронологический сборник законов и положений, касающихся евреев, от Уложения Царя Алексея Михайловича до настоящего времени (от 1649-1873 г.). СПб., 1874. С. 549.
5 См.: Витте СЮ. Воспоминания. М., 1960. Т. 1. С. 39-40, 429; Т. 2. С. 229. Т. 3. С. 268.
6 Бенуа А.Н. Мои воспоминания. М., 1980. Т. 2. С. 401-402.
7 См.: Когут А. Знаменитые евреи — мужчины и женщины в истории культуры человечества. Одесса, 1902. Т. 2. С. 366-367.
8 Розенгейм М.П. Книга // Русская муза. СПб., 1904. С. 254.
9 Мордовцев Д.Л. Господин Великий Новгород // Полн. собр. соч. СПб., 1914. Т. 1.С. 136.
10 Из "Истории" Петра Петрея. Цит. по: Регесты и надписи. СПб., 1899. Т. I (80 Г.-1800 г.). С. 301.
11 Подробнее о формировании русского дворянства см.: Дудаков С. Петр Шафиров. Иерусалим, 1989.
12 Гельвиг Г., фон. Русские избранники. Берлин, 1907. С. 68.
13 Более подробно см.: Дудаков С. Петр Шафиров; Дудаков С.Ю. Шафиров и его потомки // Тарбут. Иерусалим, 1983. № 2. С. 123—144.
14 См.: Валишевский К. Петр Великий. М., 1908. С. 74.
15 Регесты и надписи. СПб., 1910. Т. II (1671-1739). С. 96-97.
16 Бринкен Ю. Секта иудеев-согаристов в Польше и Западной Европе: Иосиф Франк. Его учение и последователи. СПб., 1892. С. 171.
17 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. IX, т. 17—18. М., 1963. С. 458.
18 Русский архив. 1903. № 7. С. 384.
19 Мордовцев Д.Л. Царь и гетман // Собр. соч. СПб., 1901. Т. 12. С. 10-11.
20 Регесты и надписи. СПб., 1910. Т. II (1671-1739). С. 276.
21 Голицын Н.Н. История русского законодательства о евреях. СПб., 1886. Т. 1. С. 48.
22 Подробно о взаимоотношениях прославленной императрицы и еврейства см.: Дудаков С.Ю. История одного мифа. М., 1973.
23 Слиозберг Г.Б. Барон Г.О. Гинцбург. Его жизнь и деятельность. Париж, 1933. С. 34-35.
24 Дудаков С.Ю. Шабтай Бен-Йегуда: Цадик и антисемит // Возрождение. Иерусалим; Шамир, 1989. № П. С. 210.
25 Липкин С.И. Квадрига. М., 1997. С. 541.
26 Миркович Ф.Я. Император Николай и король Фридрих-Вильгельм в 1840 г. Из записок // Русская старина. 1886. Т. 51. № 8. С. 315-317; см. также: Еврейская старина. 1913. Т. 6. С. 542.
595
27 Шильдер Н.К. Император Николай Первый, его жизнь и царствование. СПб., 1903. С. 68.
28 Чуковский К.И. Дневник: 1901-1929. М., 1991. С. 40-41. Впрочем, статуя Грозного была приобретена императором.
29 См.: Николай Александрович // Новый энцикл. словарь. Т. 28. Стлб. 581-582.
30 Зайончковский П.А. Александр III и его окружение // Вопросы истории. 1966. № 8. С. 130; Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М, 1970. С. 39-40.
31 Воспоминания Е.М. Феоктистова. За кулисами политики и литературы, 1848-1896. Л., 1929. С. 217.
32 Граф М.Т. Лорис-Меликов // Кони А.Ф. Собр. соч. М., 1968. Т. 5. С. 201.
33 Зайончковский П.А. Александр III. С. 132.
34 Там же. Примеч. на с. 132.
35 Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960. Т 2. С. 210.
36 Крыжановский СЕ. Воспоминания. Берлин, 1938. С. 9.
37 Там же. С. 186-187.
38 Переписка Николая II и Марии Федоровны // Красный архив. 1927. Т. III(22). С. 169.
39 См.: Богучарский В.Я. Из истории Политической борьбы 70-х и 80-х гг. XIX века. М., 1912. С. 220.
40 Переписка Н.А. Романова и П.А. Столыпина // Красный архив. 1924. Т. 5. С. 106.
41 Там же. С. 105.
42 Дневники императора Николая II. М., 1991.
43 Кони А.Ф. Николай II (Воспоминание) // Собр. соч. М, 1966. Т. 2. С. 379.
44 Вел. кн. Александр Михайлович. Указ. соч. С. 138.
45 Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 1. С. 201.
46 Зайончковский П.А. Российское самодержавие... С. 52.
47 Зайончковский П.А. Александр III... С. 135.
48 См.: Мартынов А.П. Моя служба в отдельном корпусе жандармов: Воспоминания. Стенфорд, 1972. С. 56-57.
49 Вермель С.С. Московское изгнание: 1891-1892 гг.: Впечатления, воспоминания. М., 1924.
50 Там же. С.11.
51 Гольдовский О. Евреи в Москве (по неопубликованным документам) // Былое. 1907. Сентябрь.. С. 153—168; Вермель С.С. Указ. соч.
52 Павлов И.Н. Жизнь русского гравера. М., 1963. С. 106. Отец Ивана Николаевича был еврей-кантонист.
53 Зайончковский П.А. Российское самодержавие... С. 49.
54 Цит. по: Осетров ЕМ. Предисловие // Константин Романов. Избранное. М., 1991. С. 13.
55 Цит. по: Зайончковский П.А. Александр III... С. 135.
56 поэты 1880-1890-х годов. Л., 1972. С. 458.
57 Лев Толстой. Литературное наследство. М., 1961. Т. 69. Кн. 1. С. 135.
58 Литературное наследство. М., 1934. Т. 15. С. 160-162.
59Кони А.Ф. Собр. соч. М., 1969. Т. 8. С. 177.
60 Поэты 1880-1890-х годов... С. 685.
61 Цит. по биографии К.Р., опубликованной в: Поэты 1880-1890-х годов... С. 459.
62 Данилов В. К.Р. Царь Иудейский // Исторический вестник. 1914. Т. 4. С. 303.
63 К.Р. Царь Иудейский. СПб., 1914. С. 33.
64 Там же.
65 Там же. С. 134-135.
596
66 Там же. С. 135.
67 См.: Шавельский Г.И. Воспоминания последнего протопресвитера Русской Армии и Флота. Нью-Йорк, 1954. Т. 1. С. 25.
68 Подробнее о постановке см.: Великий князь Гавриил Константинович. В мраморном дворце: Из хроники нашей семьи. Нью-Йорк, 1955. С. 205-206.
69 Вариавин Н. Критические беседы // Прямой путь. СПб., 1914. Вып. II. С. 150.
70 См.: "Артаксерсово действо": Первая пьеса русского театра, XVII в. /
Подготовка текста И.М. Кудрявцевой. М.; Л., 1957.
71 Вариавин Н. Указ. соч. С. 148.
72 Там же. С. 149.
73 Столыпин А. Предисловие // К.Р. Полн. собр. соч. Париж, 1967. Т. III. С.10.
74 Леонидов Л.М. Прошлое и настоящее. Из воспоминаний. М., 1948. С. 120-122.
75 Вариавин Н. Указ. соч. С. 147.
76 Вольский А. Лучший из Романовых. Историческая справка // Еврейская трибуна. Париж, 1921. № 74. С. 5.
77 Там же.
78 Там же.
79 Там же.
80 К.Р. Царь Иудейский. С. 87.
81 Вольский А. Указ. соч.
82 См.: Слиозберг Г.Б. Указ. соч. С. 70-71.
83 Витте СЮ. Указ. соч. Т. 2. С. 41-42.
84 О его еврейском происхождении см.: Маевский Вл. Дореволюционная
Россия и СССР. Мадрид, 1965. С. 282-283.
85 См.: Шавельский Г.И. Указ. соч. Примеч. на с. 245-246.
86 Вольский А. Указ. соч.
87 Витте С.Ю. Указ. соч. Т. 1. С. 328.
88 К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. М.; Пг., 1923. Т.1, пт. 2. С. 843.
89 Грузенберг О. Вчера. Бред войны. Париж, 1938. С. 64.
90 Мариенгоф А.Б. Роман без вранья. Л., 1991. С. 39.
91 Брусилов А.А. Мои воспоминания. Рига, 1929. С. 152.
92 Образцов И.В. Российские офицеры. Офицерство и нация // Военно-исторический журнал. № 2. 1994. С. 43—49.
93 Деникин А.И. Путь русского офицера. Нью-Йорк, 1953. С. 283.
94 См.: Еврейская делегация у ген. Деникина // Рассвет. 1923. № 17—18.
95 Деникин А.И. Указ. соч. С. 284.
96 Лещинский Н.Е. Старый кантонист. М., 1931.
97 Деникин А.И. Указ. соч. С. 285.
98 Клин Н. Нерусские русские // Исторический сборник. СПб., 1910. С. 300. Речь как раз идет о происхождении фамилий.
99 Гончаров И.А. Литературно-критические статьи и письма. Л., 1938. С. 341 (письмо К.Р. от 13-15 сент. 1886 г.).
100 Лошиц Ю. Гончаров. М., 1977. С. 341.
101 Из письма С.Ю. Витте к вел. кн. Константину Константиновичу от 13 октября 1914 г. Цит. по: Кони А.Ф. Сергей Юльевич Витте // Собр. соч. М., 1968. Т. 5. С. 277.
102 См.: Грузенберг О. Указ. соч. С. 51-95.
103 Бонч-Бруевич М.Д. Вся власть Советам. М., 1964. С. 25—26.
597
104 Грузенберг О. Указ. соч. С. 83.
105 См. подробно: Самойло А.А. Две жизни: Воспоминания генерал-лейтенанта в отставке. Л., 1963. С. 92, 166-167.
106 См.: Филиппов Б.М. Всплывшее в памяти. Лондон, 1990. С. 211, 212.
107 Витте С.Ю. Указ. срч. Т. 3. С. 91.
108 Шавельский Г.И. Указ. соч. С. 233-234.
109 Воспоминания генерала А.С. Лукомского. Берлин, 1922. Т. I. С. 88.
110 См.: Чебышев Н.Н. Близкая даль. Париж, 1933. С. 200-216.
111 Вопросы истории. 1967. № 4.
112 Подробный анализ романа см.: MacKehnan J., Klubinov Y. (S. Dudakov) The image of the jew in contemporary Soviet historical prose // CROSSROADS. Jerusalem, 1982. № 8. P. 235-252.
113 См. подробности: Нейман И. Как прикрепили сибирских евреев к местам прописки. По личным воспоминаниям // Еврейская старина. 1915. С. 381-385.
114 Зайончковский П.А. Кризис самодержавия... С. 335.
115 Дневник Е.А. Перетца (1880-1883), М.; Л., 1927. С. 141.
116 Карпович М. Памяти гр. П.Н. Игнатьева // Новый журнал. Нью-Йорк, 1945. С. 347.
117 Худяков С.Н. История танцев. СПб., 1913. С. 92.
118 Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. М, 1959. Т. 1. С. 126.
119 Там же. С. 86-88.
120 Советиш геймланд. 1989. № 3. С. III—IV.
121 См.: Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб., 1840. Т. 2. С. 128.
122 См.: Регесты и надписи. СПб., 1913. Т. III. С. 217.
123 См.: Гельвиг Г., фон. Указ. соч. С. 420.
124 Днепровский С. К истории еврейской общины в С.-Петербурге // Недельная хроника Восхода. 1893. № 35—36. Под псевдонимом скрывался врач и публицист Самуил Осипович Грузенберг, родной брат юриста Оскара Грузенберга.
125 Каплун М. Светлейший князь А.А. Суворов // Русский еврей. 1882. № 6, стлб. 219-220.
126 См. примеч. С.Я. Штрайха в кн.: Дельвиг А.И. Полвека русской жизни. М., 1930. С. 569.
127 Еврейская старина. 1913. № 6. С. 339-342.
128 Цит. по: Гессен Ю. История еврейского народа в России. М.; Иерусалим, 1993. Примеч. на с. 21.
129 Демидов Сан-Донато П.П. Еврейский вопрос в России. СПб., 1883. C.VI-VII.
130 Троицкий Н.А. Процесс "20" // Советское государство и право. 1982. № 8.
131 См.: Прокламация Земли и Воли // Еврейский вестник. 1922. № 3, стлб. 25.
132 Демидов Сан-Донато П.П. Указ. соч. С. 55. 33 Там же. С. 82-83.
134 Цит. по: Русский еврей. 1883. № 20, стлб. 21.
135 Уварова Н.П. Евреи и христиане. М., 1988.
136 Там же. С. 9-10.
137 Там же. С. 10.
138 Там же.
139 Там же. С. 11.
140 Там же.
141 Там же. С. 14.
142 Там же. С. 17.
598
143 Там же. С. 21.
144 Там же. С. 26.
145 Там же. С. 29.
146 Там же. С. 34-35.
147 Дневник государственного секретаря А.А. Половцева. М., 1966. Т. 2. С. 440.
148 Русская эпиграмма второй половины XVIII - начала XX в. Л., 1975. С. 497; Поэты "Искры". Л., 1987. Т. 2. С. 146 ("Б-ка поэта").
149 Письмо Вл. Соловьева к М.М. Стасюлевичу, декабрь 1886 года. Цит. по: Стасюлевич М.М. и его современники в их переписке. СПб., 1913. Т. V; С. 338; см. также письмо к Стасюлевичу, октябрь 1886 года.
150 Там же. С. 496.
151 Цит. по: Недельная хроника Восхода. 1888. № 4, стлб. 78.
152 Дубнов С.М. Книга жизни. Воспоминания и размышления. Рига, 1934. Т. 1. С. 163-164.
153 Лесков А.Н. Жизнь Николая Лескова. М., 1954. С. 466.
154 См.: Чуковский К.И. Дневник. 1901-1929. М., 1991. С. 45.
155 Кауфман А.Е. Указ. соч. С. 341.
156 Голицын Н.Н. Употребляют ли евреи христианскую кровь? Замечания по поводу спора Н.И. Костомарова с проф. Д.А. Хвольсоном. Варшава, 1879. С. 4.
157 Палеолог С.Н. Около власти. Белград, 1929. С. 20—21.
Очерк 5
1Державин Г.Р. Сочинения. СПб., 1872. Т. 7. С. 245.
2 Там же. С. 246.
3 См., например: Державин Г.Р. Стихотворения. Л., 1957. Примеч. на с. 370-372.
4 Заславский Д. Евреи в русской литературе // Еврейская летопись. Пг., 1923. Сб. 1.
5 Из Кишиневского дневника. 1821 г. // Пушкин А.С. Собр. соч. М., 1962. Т. 7. С. 304.
6 Достоевский Ф.М. Дневник писателя 1877 г. (гл. 2, "Еврейский вопрос") // Полн. собр. соч. М., 1983. Т. 25. С. 75.
7 Пушкин А.С. Собр. соч. М., 1962. Т. 10: Письма. С. 309.
8 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 129.
9 Там же. С. 130.
10 Там же. С. 130-131.
11 Там же. С. 102.
12 Там же.
13 Там же. С. 387-388.
14Переписка А.С. Пушкина. М., 1982. Т. 2. С. 307.
15 Лермонтов и Рембрандт // Учен. зап. Моск. гор. пед. ин-та. М., 1946. Т. VII. С. 61—73; Белкин Д. Еврейские сюжеты в "Лермонтовской энциклопедии" // Советиш Геймланд. 1983. № 1.
16 См.: Фурман М. "Ты сам на свете был гоним" // Наука и религия. 1981. №9. С. 31-36.
17 См.: Guenther H.S.R. Rassenkunde des judischen Volkes. Miinchen, 1931. S. 82.
18 Гончаров И.А. Собр. соч. М., 1954. Т. 7. С. 202.
19 Розенкранц И. Лермонтов и евреи // Рассвет. Берлин, 1926. № 38. С. 12-15.
20 Лазарев Л.И. Мимоходом: По поводу одного юбилея // Новый Восход. 1915. № 1. Стлб. 52-55.
21 Гроссман Л.П. Лермонтов и культуры Востока: "Испанцы" и Велижское дело // Литературное наследство. М., 1941. Т. 1. С. 715-735.
599
22 Гроссман Л.П. Лермонтов и Рембрандт... С. 73.
23 Пастернак Л.О. Рембрандт и еврейство в его творчестве. Берлин, 1923.
24 См.: Надир М. Тайна Лермонтова // Наша страна. Тель-Авиз, 1983. 28.1; 30.1; 4.2.
25 Лермонтов М.Ю. Собр. соч. М.; Л., 1962. Т. 2. С. 356.
26 Армфельдт Г.М. Встреча с Суворовым в 1799 году // Русская старина. 1893. Март. С. 698.
27 Пушкин А.С. Собр. соч. М., 1962. Т. 7. С. 282-283.
28 Грановский Т.Н. Сочинения. М., 1892. Т. 1. С. 148.
29 Там же. С. 149.
30 Станкевич А. Тимофей Николаевич Грановский (Биографический очерк). М., 1869. С. 41.
31 Кони А.Ф. Собр. соч. М., 1968. Т. 6. С. 78.
32 См.: Дневник В.Ф. Одоевского от 10 янв. 1860 г. // Литературное наследство. М, 1935. Т. 22-24. С. 103, 259.
33 Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 148, 147.
34 Чаадаев П.Я. Указ. соч. С. 504-505.
35 Толстой А.К. Собр. соч. Стихотворения. М., 1963. Т. 1. С. 144.
36 Одоевский В.Ф. Текущая хроника и особые происшествия: Дневник, 1859-1869 гг. //Литературное наследство. М., 1936. № 25—26. С. 147.
37 О "Польском катехизисе" см.: Дудаков СЮ. История одного мифа. М., 1993. С. 96-98.
38 Иван Сергеевич Аксаков о еврейском вопросе. Почаев, 1911. С. 7.
39 Там же. С. 10.
40 Приношу благодарность Израилю Малеру и Анатолию Рубашову за содействие при получении данного материала. Впервые опубликовано: Дудаков СЮ. Заметки по истории филосемитизма // Jews and Slavs. Jerusalem, 1995.
41 Кеппен Петр Иванович (1793—1864), русский статистик и этнограф. Автор книги "О пространстве и населении России".
42 Цит по: Ч-въ. Михаил Леонтьевич Магницкий: Новые данные к его характеристике //Русская старина. 1875. Ноябрь. С. 435.
43Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. М., 1961. Т. II: 1865-1876. С. 381.
44 Толстой А.К. Собр. соч. М, 1964. Т. 4. С. 259.
45 Из баллады "Змей Тугарин", 1867 г.
46 Толковый словарь живаго великорусского языка Владимира Даля. М., 1882. Т. 4. "Р-У". С. 392.
47 Лесков А. Жизнь Николая Лескова. М., 1954. С. 465.
48 Цит. по: Печерин B.C. Замогильные записки. М., 1932. С. 6. См. введение Л.Б. Каменева.
49 Цит. по: Штрайх С. B.C. Печерин за границей в 1833-1835 годах // Русское прошлое. 1923. С. 97.
50 См.: Русское общество 30-х годов XIX в.:.Люди и идеи: Мемуары современников. М., 1989.
51 Печерин B.C. Замогильные записки / Под ред. Л.Б. Каменева; Подгот. М.О. Гершензон. М., 1932. С. 151-152.
52 См. например, роман Н. Вагнера "Темное дело" и анализ его: Дудаков С.Ю. История одного мифа. М., 1993.
53 Достоевский Ф.М. Дневники // Собр. соч. М., 1900.
54 Костомаров Н.И. Иудеям // Основа. № 1. 1862. С. 43, 47, 48.
55 См.: Еврейская энциклопедия. Т. IX. Стлб. 789.
56 Цит. по: Хомяков А.С. Стихотворения. Л., 1969. С. 564.
57 Цит. по: Там же. С. 564—565.
58 См.: Церковно-историческая критика в XVII веке // Костомаров Н.И. Рас-
600
кол. М., 1994. С. 272-273.
59 Там же.
60 Щеглов Д. История социальных систем от древности до наших дней (1889). Цит. по: Остроумов Н. Константин Петрович Кауфман. Ташкент, 1899. С. 104-105.
61 Еврейская старина. 1915. С. 366.
62 Герцен А.И. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 28. С. 326.
63 Русское общество 30-х годов XIX века... С. 189.
64 См.: Форш О. Современники // Соч. М., 1956. Т. 1. С. 388, 390.
65 Левитина В. Русский театр и евреи. Иерусалим, 1988. Т. 2. Прил. 3.
66 Цит. по: Берлин П. Русская литература и евреи // Новый журнал. 1963. №71. С. 25-26.
67 Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома // Полн. собр. соч. Л., 1972. Т. IV. С. 94.
68 Овсянико-Куликовский Д.Н. Воспоминания. Пг., 1923. С. 65—66.
69 Толстой А.К. Богатырь // Собр. соч. М., 1963. Т. 1. С. 238, 240.
70 Там же. Т. 4. С. 260.
71 Письмо к Б.М. Маркевичу от 26 апр. 1869 г. Пер. с фр. // Там же. С. 278.
72 Письмо Б.М. Маркевичу от 24 мая 1869 г. // Там же. С. 298.
73 Там же. С. 273.
74 Письма Б.М. Маркевича к графу А.К. Толстому, П.К. Щебальскому и другим. СПб., 1888. С. 114.
75 Там же. С. 75.
76 Толстой А.К. Собр. соч. Т. 4. С. 133, 134.
77 Каганович Л. Памятные записки. М., 1996. С. 527-533.
77 Толстой А.К. Собр. соч. Т. 4. С. 121-123.
78 Нестеров М.В. Воспоминания. М., 1985. С. 343-344.
80 Толстой А.К Собр. соч. Т. 1. С. 107-108.
81 Там же. Т. 4. С. 97.
82 Там же. Т. 1. С. 115.
83 О С.А. Бейме см.: Еврейская энциклопедия, 1908-1912. Т. IV. Стлб. 41-42.
84 Цит. по: Гордон Г.И. Сионизм и христиане. М., 1902. С. 9—10.
85 Боборыкин П.Д. Перевал. Собрание романов, повестей и рассказов. СПб., 1897. Т. 7. С. 59.
86 Грузенберг О. Литература и жизнь // Восход. 1894. № 3. С. 19.
87 См.: Белый А. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 93.
88 Там же. С. 62.
89 См.: Вермель С. Московское изгнание (1891-1892). Впечатления, воспоминания. М., 1924.
90 Боборыкин П.Д. Перевал. С. 58.
91 Там же. С. 59.
92 Там же. С. 60.
93 Боборыкин П.Д С убийцей // Собрание романов. СПб., 1897. Т. 7. С. 218. Современный автор, психиатр Д.А. Черняховский придерживается аналогичного взгляда на проблему. См. подробнее: Черняховский Д.А. Глазами психиатра // Кон Н. Благословение на геноцид. Миф о всемирном заговоре евреев и "Протоколах Сионских мудрецов". М., 1990. С. 220-246.
94 Будущность. 1900. № 44. С. 885.
95 Подробнее см.: Дудаков С.Ю. История одного мифа. М., 1993. С. 108-116.
96 См.: Там же. С. 242-258.
97 См.: Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 7. С. 124.
98 Филиппов Б.М. Михаил Михайлович Филиппов // Филиппов М.М. Мысли о литературе. М., 1965. С. 323.
99 См.: Филиппов М.М. Лессинг: Его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1891. С. 38-39.
601
100 Там же. С 88.
101 Русские писатели о сионизме // Будущность. СПб., 1902. № 31. С. 624.
102 См.: Дудаков С.Ю. История одного мифа. М., 1993. С. 86-87.
103 Лебедев К.Н. Из записок сенатора Кастора Никифоровича Лебедева // Русский архив. 1910. Т. 8. С. 497.
104 Рихард Крафт-Эбинг (1840—1902) — знаменитый немецкий психиатр, особую ценность имеют его работы о половых извращениях; предшественник 3. Фрейда.
105 Филиппов М.М. Ритуальные убийства и половая психология // Будущность. СПб., 1900. № 50.
106 Будущность. 1901. № 8. С. 143-144.
107 Там же. № 5. С. 5.
108 Цит. по: Филиппов Б.М. Тернистый путь. М., 1969. С. 164.
109 Лосский Н.О. В защиту Вл. Соловьева // Новый журнал. Нью-Йорк, 1953. Т. 33. С. 234.
110 Кони А.Ф. Владимир Сергеевич Соловьев (Публичное заседание Академии наук 21 января 1901 г.) // Собр. соч. М., 1969. Т. 7. С. 338.
111 Ямпольский П.А. Слово, произнесенное Киевским раввином д-ром П.А. Ямпольским... после заупокойного богослужения по покойном русском мыслителе-философе Владимире Соловьеве. Киев, 1900. С. 8—9.
112 Гёц Ф.Б. Некоторые воспоминания об отношении B.C. Соловьева к евреям // Будущность. СПб., 1960. № 63. Стлб. 30-35.
113 Гёц Ф.Б. Об отношении Вл.С. Соловьева к еврейскому вопросу. С приложением. Изд. 2-е. М., 1902. С. 9.
114 См.: Еврейская энциклопедия. СПб., 1908-1912. Т. 4. Стлб. 445.
115 Письма B.C. Соловьева. Спб., 1909. Т. 2. С. 144.
116 Конспект лекции B.C. Соловьева впервые опубликован в журнале: Русский еврей. 1882. № 9. Стлб. 344-345.
117 Цит по: Берлин П.А. Русские мыслители и евреи: Вл. Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Струве, В. Розанов // Новый журнал, 1962. № 70. С. 232.
118 См.: Дубнов СМ. Furor judophobicus в последние годы царствования Александра III // Еврейская старина. Пг., 1918. С. 32—34.
119 Письмо Ф.М. Дмитриева, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, от 2 марта 1882 г. Цит по: К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. М.; Л., 1923. Т. 1, пт. 1. С. 278.
120 Там же. Т. 1, пт. 2. С. 937-938.
121 Сперанский В. Владимир Соловьев о еврейском вопросе // Рассвет. Париж, 1929. № 5. С. 14; Кизеветтер А. Победоносцев // На чужой стороне. Берлин; Прага, 1924. № 4. С. 279.
122 Соловьев Вл. Письма / Под ред. Э.Л. Радлова. Пг., 1923. С. 111; см. также: Благой Д.Д. Афанасий Фет — поэт и человек // Фет А.А. Воспоминания. М., 1983. С. 16.
123 Уманец С.И. Мозаика (из старых записных книжек) // Исторический вестник. 1912. Т. 130. № 12. С. 1032-1034.
124 Этот текст см.: Еврейская старина. 1915. Т. 3. С. 415-416.
125 Соловьев С.М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 31.
126 Там же. С. 33—34; Радлов Э. Вл.С. Соловьев. Биографический очерк // Собр. соч. Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1907. Т. IX (дополнительный). С. III.
127 Либрович С. Нерусская кровь в русских писателях. СПб., 1908. С. 81-82.
128 См.: Антошевский И.К. Евреи-христиане: Историко-генеалогические заметки. СПб., 1907; Mieses M. Z rodu zydowskiego. Warszawa, 1991.
129 Переписка Толстого с B.C. Соловьевым // Литературное наследство. М.,
602
1939. № 37-38. С. 269-270.
130 Короленко ВТ. "Декларация" B.C. Соловьева (К истории еврейского вопроса в русской печати) // Короленко В.Г. Полн. собр. соч. Пг., 1914. Т. 9. С. 257-258.
131 Там же. С. 258.
132 Письма Владимира Соловьева. СПб., 1909. Т. 21. С. 150-151.
133 Там же. С. 134.
134 См.: Маор И. Русский философ Владимир Соловьев // Панорама Израиля. 1985. 6 февр. С. 11; Он же. Владимир Соловьев: Человек с идеями // Шдемот (Поля). 1981. С. 87 (на ивр.).
135 Тейтель Я.Л. Из моей жизни: За сорок лет. Париж, 1925. С. 96—97.
136 Цит. по: Соловьев СМ. Указ. соч. С. 242-243; см. также: Соловьев B.C. Письма. СПб., 1911. Т. 4. С. 604.
137 Там же. С. 258; Письма. Т. 2. С. 142.
138 Дымов О. Что я помню. Нью-Йорк, 1943. Т. 2. С. 83 (на идиш).
139 См. подробнее: Кауфман А.Е. За кулисами печати // Исторический вестник. 1913. Т. СХХШ. С. 118-120.
140 Гордон Л.И. Сионизм и христиане. М., 1902. С. 17.
141 См.: Строев В. Вл. Соловьев и еврейство (К 25-летию его кончины) // Рассвет. Париж, 1925. № 49.
142 Кауфман А.Е. Друзья и враги евреев. СПб., 1908. С. 57-58. Абрам Евгеньевич Кауфман свою книгу посвятил "Светлой памяти Владимира Сергеевича Соловьева".
143 Кони А.Ф. Владимир Сергеевич Соловьев. С. 359.
144 Нелидов В.А. Театральная Москва (Сорок лет Московских театров). Берлин; Рига, 1931. С. 321.
145 Там же. С. 321-322.
146 Трубецкой С.Н. Смерть B.C. Соловьева 31 июля 1900 г. // Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 294; см. также: Сперанский В. Указ. соч. С. 12; Величко В.Л. Владимир Соловьев: Жизнь и творения. СПб., 1902. С. 201; Мочульский К.В. Владимир Соловьев: Жизнь и учение. Париж, 1951. С. 268; Соловьев СМ. Указ. соч. С. 405.
Для людей, интересующихся генеалогией, напомним, что ближайшие друзья Соловьева — князья Трубецкие, так много давшие русской культуре, были также отдаленными потомками евреев, а именно — барона П.П. Шафирова и его жены А.С. Копьевой — восьмое поколение.
147 Общее собрание членов Общества распространения просвещения между евреями // Будущность. 1900. № 46. С. 929; см. также: Некролог // Будущность. 1900. № 31. С. 622.
148 Goetz F. Der Philosoff W. Solowiow und das Judentum. Berlin, 1927. S. 8.
149 См. подробнее: Дудаков С.Ю. Владимир Соловьев и Сергей Нилус // Russian Literature and History. Jerusalem, 1989. P. 163-169; Он же. История одного мифа. М., 1993.
150 Интересующихся этой проблемой отсылаю к кн.: Борьба за реализм в изобразительном искусстве 20-х годов. М., 1962. С. 56—57.
151 Рышков Е.П. Критика "христианского гуманизма" Вл. Соловьева // Философские науки. 1968. № 5. С. 101-109.
152 Рассвет. Париж, 1926. № 9. С. 15.
153 Волконский С.М. Мои воспоминания: Родина. Берлин, 1923. С. 76.
154 См.: Мочульский К.В. Указ. соч. С. 150.
156 Там же. С. 151.
156 Соловьев B.C. Письма. Т. 2. С. 171-172.
157 См. например: Россов С. Еврейский вопрос. СПб., 1906. С. 61.
158 Туткевич Д.В. Что такое евреи. Киев, 1906. С. 124-125.
159 Эта статья принадлежит С. Грузенбергу. Цит. по: Еврейская жизнь. 1917.
603
№ 4. Стлб. 14.
160 Вересаев В.В. Собр. соч. М., 1961. Т. 4. С. 448-449.
161 Об Израиле Липкине-Салантере см.: Еврейская энциклопедия. Т. XIII. Стлб. 827-830.
162 Вересаев В.В. Воспоминания // Собр. соч. М, 1961. Т. 5. С- 302, 312.
163 Там же. С. 281-282
164 Вересаев В.В. Собр. соч. Т. 4. С. 374-375.
165 См.: Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом // Собр. соч. Т. 4. С. 309-311.
166 См.: Гарин-Михайловский Н.Г. Собр. соч. М., 1957. Т. 3. С. 638.
167 Тейтель Я.Л. Указ. соч. С. 101.
168 См.: Гарин-Михайловский Н.Г. Собр. соч. М., 1958. Т. 4. С. 708.
169 Тейтель ЯЛ. Указ. соч. С. 101.
170 Гарин-Михайловский Н.Г. Собр. соч. Т. 4. С. 507.
171 Гарин-Михайловский Н.Г. Ревекка // Собр. соч. Т. 4. С. 54—55.
172 Гарин-Михайловский Н.Г. Еврейский погром // Собр. соч. Т. 4. С. 642.
173 Гарин-Михайловский Н.Г. Собр. соч. Т. 4. С. 646.
174 Тейтель ЯЛ. Из моей жизни. За сорок лет. Париж, 1925. С. 83.
175 Вересаев В.В. Собр. соч. Т. 5. С. 376-377.
176 Гусев-Оренбургский С. Книга о еврейских погромах на Украине в 1919 году. Петербург; Берлин, 1921; Чериковер И. Антисемитизм и погромы на Украине 1917—1918 гг. (К истории украинско-еврейских отношений). Берлин, 1923 (предисл. СМ. Дубнова).
177 Островский Н.А. Как закалялась сталь // Соч.: В 3 т. М, 1967. Т. 1. С. 90.
178 Там же. С. 90-91.
179 Гайдар А. Голубая чашка // Собр. соч. М., 1964. Т. 2. С. 280.
180 Герман Ю. Подполковник медицинской службы // Собр. соч. Л., 1976. Т. 4. С. 96-98.
181 Демидов М.И. Мои армейские товарищи. М., 1972. С. 128—129.
182 Позднее вышла его заметка о кавказском путешествии: "Верещагин В.В. Духоборы и молокане в Закавказье". (М., 1900. 90 с).
183 Воспоминания художника В.В. Верещагина: Самарканд в 1868 г. // Русская старина. 1888. Сент. С. 631.
184 Там же. С. 642-643, 645.
185 Мы говорим, что целью поездки была подготовка к работе над сюжетами из Библии и Евангелия. Но западные источники довольно часто называли Верещагина русским агентом, посылаемым с разведывательной целью в ту или иную страну. Так, в одной венской газете писалось: "Верещагин — славянин; он русский до мозга костей. О чем думают, что чувствуют, чего хотят в обширной империи, то отражается... в его произведениях... Его кисть идет в Индию впереди русских штыков... Что и Палестина включена в будущие русские планы, тому давно служит свидетельством русский госпиталь в Иерусалиме... Побывав на священной почве Палестины, художник подчинил своему искусству эту землю и ее людей". Цит. по: Лебедев А.К. В.В. Верещагин: жизнь и творчество, 1842—1904. М., 1972. С. 341. Некоторое основание к этому подозрению есть. Чем, например, можно объяснить появление Верещагина в Японии за несколько месяцев до войны? Предупреждение Верещагина об опасности военного конфликта и даже возможности поражения не были приняты во внимание.
186 Воспоминания художника В.В. Верещагина: На Дальнем Востоке, в Палестине // Русская старина. 1889. Авг. С. 439.
187 Цит. по: Булгаков Ф.И. В.В. Верещагин и его произведения. СПб., 1905. С. 152.
604
188 Цит. по: Там же. С. 158.
189 Франц Лист весьма двойственно относился к еврейству, что не мешало ему поддерживать еврейских музыкантов. При посещении Венской синагоги, куда он специально пришел слушать своего друга, величайшего кантора XIX в. Соломона Зульцера, он высказал свой взгляд на прошлое и будущее еврейского народа, причем в некоторых местах его высказывания были близки к комментариям Верещагина к картине "Стена Соломона": "Редко приходилось испытывать столь могучее потрясение, захватившее все струны религиозного чувства и всю глубину сочувствия... Казалось, что каждая из этих грудей представляет темницу, из глубины которой рвутся звуки, прославляющие Господа Бога в дни бедствия и плена, призывающие Его с неколебимой верой, с глубоким убеждением в будущем избавлении от бесконечно долгого рабства, в будущем триумфальном возвращении на родину перед лицом изумленных народов, которые будут поражены невиданным великолепием этого триумфа. Ни одна женщина не присутствовала в этом священном кругу, словно для совершения этой молитвы необходимы были мужественность и сила, и все слабейшее должно быть исключено из беседы избранного народа с его грозным и вечным ему Богом. Казалось, что псалмы, подобно духам огня, реют над нами, склоняясь перед Всевышним, чтобы быть ступенями для стоп Его. И невозможно было не слиться всеми симпатиями души с великим призывом этого хора, который вынес на своих плечах бремя стольких ужасов и наказаний и такой непоколебимой надежды" (цит. по: Ламм Л. Франц Лист, как филосемит // Еврейская мысль. 1918. № 26. С. 14).
190 Верещагин В.В. Собрание писем. М., 1981. С. 341.
191 Там же. С. 224-225.
192 Еврейская библиотека. СПб., 1873. Т. 3.
193 Стасов В.В. Еврейское племя в созданиях европейского искусства // Еврейская библиотека. СПб., 1873. Т. 3. С. 312.
194 Марк Матвеевич Антокольский. Его жизнь, творения, письма и статьи / Под ред. В.В. Стасова. СПб., 1905. С. 135, 139.
195 Там же. С. 200, 204.
196 Лаховский А. Исаак Левитан // Гадегел. Харбин. 1940. № 19. С. 17.
197 Иван Иванович Толстой (1858—1915), вице-президент Академии художеств, пламенный защитник еврейства; выступал в защиту Бейлиса, издал работу "Антисемитизм в России"; встречался с Т. Герцлем и был сторонником его идей.
198 Скульптор Илья Гинцбург. Л., 1964. С. 104.
199 См.: Каразин В.Н. Польский вопрос в 1839 году// Русская старина. 1870. Сентябрь. С. 310.
200 См. например: Талант И. Арендовали ли евреи церкви на Украине. Киев, 1909.
201 См.: Шумков В. Жизнь, труды и странствия Николая Каразина, писателя, художника, путешественника // Звезда Востока. 1975. № 6. С. 209.
202 Лебедев А.К. Указ. соч. С. 66.
203 Воспоминания художника В.В. Верещагина. Самарканд в 1868 г. С. 628, 629.
204 См.: Верещагин В.В. Избранные письма. С. 128.
205 Шумков В. Указ. соч. С. 210.
206 Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1980. Т. I. С. 618-619.
207 Цит. по: Каразин Н.Н. С севера на юг // Полн. собр. соч. СПб., 1905. Т. 7. Глава XXXVIII. С. 151-152.
208 Каразин Н.Н. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 108.
209 там же. С. 118.
210 См.: Меримзон М.И. Рассказ старого солдата // Еврейская старина. 1913.
605
С. 221.
211 Каразин Н.Н. Наль // Полн. собр. соч. Т. 5. С. 191.
212 Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. М, 1960. Т. 3. С. 215.
213 Ахун И. Евреи-врачи в русской армии // Новый восход. 1945. № 12-13. С. 42.
214 Левинский М. К истории евреев в Средней Азии // Еврейская старина. 1928. С. 316.
215 Там же.
216 Там же. С. 332.
217 См. Еврей. Корреспонденции. Ташкент, 4 апреля // Недельная хроника Восхода. 1887. № 18. Стлб. 476.
218 Там же.
219 Каразин Н.Н Тьма непроглядная. Рассказы из гаремной жизни // Полн. собр. соч. СПб., 1905. Т. 7. С. 25.
220 См.: Марк Матвеевич Антокольский... С. LI.
221 Милашевский В.А. Вчера, позавчера. Воспоминания художника. Л., 1972. 1-е изд. С. 112.
222 Там же. С. 116.
223 там же. С. 188-189.
224 там же. 2-е изд. М., 1989. С. 129.
225 там же. С. 120.
226 там же. С. 120-121.
227 см.: Гинцбург И. [Гинзбург И.Я.] Художники беженцам-евреям // Новый Восход. 1915. № 10-11. Стлб. 49-50.
228 Милашевский В.А. Указ. соч. 1-е изд. С. 200-204.
229 там же. 2-е изд. С. 174.
230 там же. С. 111.
231 Шмаков А.С. Международное тайное правительство. М., 1912. С. 510.
232 Милашевский В.А. Указ. соч. 2-е изд. С. 165.
233 там же. С. 166.
234 см.: Там же. С. 202-205.
235 там же. С. 200.
236 Ахматова А. Стихотворения и поэмы. Л., 1976. С. 325.
237 Милашевский В.А. Указ. соч. 2-е изд. С. 298—299.
238 Там же. С. 164.
239 Иванов Г. Петербургские зимы. Нью-Йорк, 1952. С. 136.
240 Милашевский В.А. Указ. соч. 2-е изд. С. 96—97.
241 Там же. 1-е изд. С. 92-93.
242 там же. С. 93.
243 там же. 2-е изд. С. 188.
244 там же. 1-е изд. С. 81-82.
245 там же. С. 79.
246 Красная газета. 25 нояб. 1939. Цит по: Авангард, остановленный на бегу. Л., 1989; см. также: Мислер Н., Боулт Д.Э. Филонов. М., 1990. С. 161.
247 Добужинский М.В. Воспоминания. М., 1987. С. 96.
248 Там же. С. 78.
249 Там же. С. 88-89.
250 Там же. С. 74.
251 Там же. С. 96.
252 Там же. С. 133-134.
253 там же. С. 216-217.
254 Аронсон Н.Л. В царской России // Новоселье. Нью-Йорк, 1943. № 6. С.35
255 См.: Ясинский И.И. Роман моей жизни. М.; Л., 1926. С. 269.
256 Статья А.И. Куприна о Н.Л. Аронсоне впервые напечатана в "Русской га-
606
зете". Цит. по: Рассвет. Париж, 1926. № 9. Стлб. 9.
257 Хам же.
258 Кугель А.Р. Листья с дерева: Воспоминания. Л., 1926. С. 56.
258а Becks-Malomy U. Wassily Kandinsky, 1866-1944 // The Jomey to abstraction. Koln, 1944. P. 176-178.
258б Кандинский В.В. О духовном в искусстве. Берн, 1962. С. 47.
259 Grobe Judishe National // Biographic. S. Wininger. 1928. V. Ill, Cherneuti.
260 См.: Цейтлин М.О. Пятеро и другие. Нью-Йорк, 1953. С. 288.
261 Цит. по: М.П. Мусоргский: К пятидесятилетию со дня смерти. М., 1932. С. 175.
262 Лурье А.С На тему о Мусоргском // Новоселье. 1943. № 1. С. 72-77.
263 Серова B.C. Серовы, Александр Николаевич и Валентин Александрович: Воспоминания. СПб., 1914. С. 131.
264 Там же. С. 10.
265 Могила А.Н. Серова // Древняя и новая Россия. 1879. Т. XV. С. 154.
266 Цит. по: Гинзбург С. Знаменитый русский композитор и его любовь к еврейским мотивам // Еврейская жизнь. Харбин, 1937. № 48. Стлб. 11.
267 См.: Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1932. С. 69.
268 Мусоргский М.П. Письма к Д.В. Стасову // Радуга. Альманах Пушкинского дома. Пг., 1922. С. 235.
269 там же. С. 240.
270 Стасов Вл.В. Памяти Мусоргского // Исторический вестник. 1886. Март. Цит. по кн.: Стасов В. Статьи о М. Мусоргском. М., 1922. С. 96.
271 Пшибышевский B.C. О Чайковском // П.И. Чайковский Переписка с Н.Ф. фон Мекк. М., 1935. Т. I: 1876-1878. С. XIII (далее: Переписка).
272 Берберова Н.Н. М.О. Цейтлин. [Некролог] // Новый журнал. 1950. С. 210-211.
273 Переписка. Т. 3. С. 173.
274 См.: Танеев В.И. Детство. Юность. Мысли о будущем. М., 1959. С. 399-401; см. также: Суворин АС Дневник. М., 1992. С. 31.
275 К.П. Победоносцев и его корреспонденты. М.; Пг., 1923. Т. I, пт. 1. С 236.
276 Письмо от 18 ноября 1877 г. // Переписка. Т. I. С. 86.
277 там же. С. 495.
278 Переписка. Т. 2. С. 484. (Письмо Н.Ф. фон Мекк от 3 марта 1881 г.)
279 Переписка. Т. 1. С. 88.
280 См.: Чайковский П.И. Письма к близким. Избранное. М., 1955. С. 496.
281 Переписка. Т. I. С. 252.
282 там же. Т. 3. С. 135.
283 там же. Т. 2. С. 387. См. также: с. 183.
284 Давыдов А.В. Воспоминания. Париж, 1982. С. 26.
285 Переписка. Т. 3. С. 509.
286 там же. Т. 2. С. 32.
287 В.А. Из воспоминаний о Н.Г. Рубинштейне и Московской консерватории // Русский архив. 1897. Кн. 3. С. 469.
288 Чайковский П.И. О музыке, о жизни, о себе. Л., 1976. С. 113.
289 В.А. Указ. соч. С. 466.
290 Переписка. Т. 1. С. 268.
291 Соловьев Н. Чайковский // Энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXXVXXX, пт. 75. С. 375.
292 Переписка. Т. 2. С. 33.
293 Чайковский П.И. Письма к близким... С. 112.
294 Чайковский П.И. О музыке, о жизни, о себе. С. 130.
295 Там же. С. 137.
607
296 Чайковский П.И. Полн. собр. соч. М., 1966. Т. 10. С 74.
297 Переписка. Т. 1. С. 243 (из письма фон Мекк от 7 марта 1878 г.).
298 Там же. С. 244-245.
Очерк 6
1 См.: Дубнов СМ. Третья гайдаматчина // Чериковер ИХ. Антисемитизм и погромы на Украине. Берлин, 1923. Т. 1. С. 9.
2 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописании е< главных деятелей: Малороссийский гетман Зиновий - Богдан Хмельницкий. М., 1991. Т. V. С. 243-244.
3 Светлов М.А. Стихотворения. Л., 1965. С. 156—157.
4 Регесты и надписи: Свод материалов для истории евреев в России (80-1800). СПб., 1899. Т. 1. С. 402.
5 См.: Шишкин О. Исчезнувшая лаборатория. Оккультизм и ОГПУ — странные пересечения // Огонек. 1995. № 34. С. 70.
6 См.: Алтаев АА. Памятные встречи. М., 1959. С. 289—253.
7 Ясинский И.И. Роман моей жизни. М.; Л., 1926. С. 322.
8 Там же. С. 22.
9 Там же. С. 29:
10 Измайлов АЛ. Литературный Олимп. М., 1911. С. 402.
11 Грузенберг О.О. Литература и жизнь // Восход. 1895. № 2. С. 32.
12 Ясинский И.И. Роман моей жизни. С. 89.
13 Там же. С. 218.
14 Там же. С. 30.
15 Переписка князя М.С. Воронцова с М. Монтефиори, публикация И.Я. Черного // День. 1871. № 5. С. 75.
16 Русский Архив. 1870. № 12. Цит по: Разоблачение великой тайны франкмасонов. М., 1909. С. 114-115.
17 Ясинский И.И. Роман моей жизни. С. 34.
18 Там же.
19 Откуда вышла легенда об употреблении евреями христианской крови // Киевские епархиальные ведомости. 1000. № 14—15. С. 16.
20 Там же. С. 17.
21 Ясинский И. И. Роман моей жизни. С. 56.
22 Там же. С. 58.
23 Там же.
24 Там же. С. 127.
25 Там же. С. 128.
26 Ясинские происходят из Каменец-Подольска и Буска, где крестился Шимон Ясинский с женой и детьми. Род этот очень многочисленный. См.: Антошевский И.К. Евреи христиане. СПб., 1907. С. 27-28: Mieses M. Z rodu zydowskiego. Warszawa, 1991. Еще во время работы Ясинского в "Отечественных записках" его родословной интересовался М.Е. Салтыков-Щедрин. См.: Ясинский И.И. Роман моей жизни. С. 159.
27 Ясинский И.И. Роман моей жизни. С. 139.
28 Там же. С. 140-141.
29 Регесты и надписи: Т. 1. С. 117, 168-169.
30 Там же. Т. 1. С. 466.
31 Лозинский С.Т. Социальные корни антисемитизма. М., 1929. С. 138.
32 Еврейская энциклопедия. Т. VI. Стлб. 429-430.
33 Еврейская библиотека. СПб., 1872. № 3. С. 229.
34 Там же.
35 Регесты и надписи... СПб., 1910. Т. 2 (1671-1739). С. 207-208.
36 Измайлов А. Указ. соч. С. 404.
608
37 Ясинский И.М. По горячим следам // Труд. СПб., 1892. Т. 13. С. 2.
38 Там же. Т. 8. С. 271, 483.
39 Там же. Т. 2. С. 258-259.
40 Там же. С. 484-487.
41 Там же. С. 496.
42 Там же. Т. 4. С. 36.
43 Там же. Т. 5. С. 246.
44 Там же. С. 264. У Там же. С. 247. 4$ Там же. С. 250.
45 Там же. С. 270-271.
48 Там же. С. 274.
49 И.Н. Потапенко — действительно сын сельского священника, бывшего ранее уланским офицером. О еврейском происхождении Потапенко см.: Глубоковский Н.Н. Высокопреосвященный Смарагд (Крыжановский), архиепископ Рязанский. Его жизнь и деятельность. СПб., 1914 (примеч. на с. 38
50 Ясинский И.И. По горячим следам // Труд. СПб., 1892. Т. 6. С. 505.
51 Там же. С. 505.
52 Там же. С. 506.
53 Там же. Т. 7. С. 1-2.
54 Там же. С. 2.
55 Там же. С. 4.
56 Там же. С. 5.
57 Там же. Т. 8. С. 245.
58 Там же. С. 246.
59 Восход. 1893. № 3. С. 66-82.
60 Там же. С. 82.
61 Недаром остряки из великосветских салонов обыгрывали фамилию Кауфмана ("Кауфман" — по-немецки "купец") и купеческое происхождение Милютина, называя Константина Петровича "купцом из милютинских лавок". См.: Попов АЛ. Из истории завоевания Средней Азии // Исторические записки. 1940. № 9. С. 215.
62 Подробнее см.: Эвальд А.В. Воспоминания о К.П. Кауфмане // Исторический вестник. 1897. Т. 70. № 10. С. 184-199.
63 Подробнее см.: Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. М., 1958. С. 380-381.
64 Муравьев М.Н. Записка о мятеже в Западной России // Русская старина. 1883. Т. 37. С. 164.
65 Скальковский К.А. Наши государственные и общественные деятели. СПб., 1890. С. 194.
66 Насколько разнообразной была деятельность К.П. Кауфмана на педагогическом поприще, можно судить по одной любопытной истории. В императорской семье произошел скандал, получивший большую огласку: один из великих князей, Николай Константинович, украл семейные бриллианты и даже ободрал золотой оклад с иконы у постели своей матери, а кроме того "лишил" нескольких ценных вещей саму императрицу (подробнее см.: Валуев П.А. Дневник. М., 1962. Т. 2. С. 309, 310, 314, 343, 344, 512; Милютин Д.А. Дневник. М., 1961. С. 152, 153, 157, 212). Александр II счел необходимым отправить племянника на "перевоспитание" в Ташкент к Кауфману (что еще раз подчеркивает доверие к нему царя). Светлейший хулиган и тут продолжил было свои выходки (то, угрожая нагайкой, заставлял свою жену бегать в одной сорочке по саду, то спустил в колодец старика-еврея, чудом уцелевшего), но генерал-губернатор нашел к нему "педагогический подход", просто посадив — и, по-видимому, не без удовольствия — велико-
609
го князя под домашний арест (см.: Свирский А.И. История; моей жизни. М., 1956. С. 454, 455). Другой случай рассказан одним из сподвижников Кауфмана: речь идет о присвоении великим князем лошади у хивинского хана. Хан в слезах умолял вернуть лошадь. В резкой форме генерал потребовал вернуть скакуна владельцу, что и было сделано. При этом императорское высочество могло потерять и шпагу. Источник добавляет, что Кауфману приходилось трудно с Николаем Константиновичем (см.: Богданович А.В. Три последних самодержца: Дневник. М.; Л., 1934. С. 135). Там же рассказано и о других "художествах" этого Романова. Но великий князь уважал Константина Петровича, возможно, единственного человека, сумевшего его приструнить.
67 См.: Валиханов Ч. Воспоминания современников. Алма-Ата, 1964. С. 207.
68 Остроумов Н. Константин Петрович Кауфман, устроитель Туркестанского края. Ташкент, 1899. С. 83.
69 Цит. по: Кони А.Ф. Собр. соч. М, 1968. Т. 5. С. 201-202.
70 См.: Бартольд В.В. Сочинения. М., 1963. Т. 2, ч. 1. С. 418.
71 Фонды личного происхождения. Фон Кауфманы и фон Кауфманы-Туркестанские // Центральный государственный архив СССР в Ленинграде. Л., 1956. С. 384, 385.
72 Буров Н.А. Историческая справка о времени основания Ташкентской Публичной Библиотеки // Бартольду В.В. Туркестанские друзья, ученики и почитатели. Ташкент, 1927. С. 124.
73 См.: Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1963. Т. 2. С. 342.
74 Толбухов Е.М. Устроитель Туркестанского края // Исторический вестник. 1913. С. 904-906.
75 Другой предшественник Кауфмана, генерал-губернатор Западной Сибири Г.Х. Гасфорд (1792—1874), присоединивший к империи часть Средней Азии, обратил внимание на поверхностный уровень религиозности среди казахов и киргизов. Гасфорду пришла в голову мысль создать для степняков новую религию. Эту новую религию он решил создать на базе иудаизма, "очищенного от талмудических толкований". Свой проект он предложил Николаю I, который, хотя и ценил боевые и административные способности генерала, наложил резолюцию: "Религии не сочиняются, как статьи свода законов". См.: Семенов-Тянь-Шаньский П.П. Путешествие в Тянь-Шань в 1856-1857 гг. М., 1948. С. 75.
76 Полежаев А.И. Стихотворения и поэмы. Л., 1957 (примеч. на с. 124).
77 Цит. по: Берже Ад.П. Выселение горцев с Кавказа // Русская старина. 1881. Т. XXXIII. С. 169.
78 Попов АЛ. Из истории завоевания Средней Азии // Исторические записки. 1940. № 9. С. 205.
79 Носович С.А. Русское посольство в Бухару в 1870 году // Русская старина. 1898. Т. 95. С. 631, 632. Иного современного читателя, вполне возможно, покоробит "колониальный" язык XIX в. Но вспомним, к примеру, известную балладу о Востоке и Западе Редьярда Киплинга. Если прочесть ее внимательно и беспристрастно, мы обнаружим такую коллизию: вождь мятежных пограничных племен (по принятой ныне в определенных кругах версии — руководитель национально-освободительного движения) Камал выкрал у полковника британских войск лошадь. Бросившийся в погоню сын полковника попадает в плен к мятежникам, и ему грозит смерть. Вместо унизительных просьб о пощаде он вразумляет Камала угрозой мести. "Какой ценой пограничный вор оплатит шакалий обед? Скормят коням хлеб на корню, люди съедят умолот. Крыши хлевов предадут огню, когда перебьют ваш скот" (пер. В. Потапова. Цит. по: Киплинг Р. Рассказы. М., 1976. С. 367, 368). И эти аргументы оказываются действенными... В их дей-
610
ственности и актуальности автор книги сумел убедиться во время пребывания в Ливане в 1982-1983 гг.
80 См.: Гордон И.Л. Мои встречи с Константином Петровичем Кауфманом (Посмертные воспоминания) // Еврейская библиотека. СПб., 1901. Т. IX. С. 380-381.
81 Там же. С. 125, 128.
82 См. также: О подлинности "Книги Кагала" // День. 1870. № 29. С. 473.
83 Цит. по: Остроумов Н. Указ. соч. С. 106.
84 Список народностей Союза Советских Социалистических Республик / Под ред. И.И. Зарубина. Л., 1927. С. 21.
85 Амитин-Шапиро З.Л. Очерки социалистического строительства среди среднеазиатских евреев. Ташкент, 1933. С. 12.
86 Там же. С. 69.
87 Там же. С. 69, 100.
88 См.: Вайсенберг С.А. Евреи в Туркестане // Еврейская старина. 1912. № 4. С. 392, 393.
89 См.: Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим, 1976. Т. 1. Стлб. 566.
90 Вениамин из Туделы предпринял свое путешествие в 1160-1173 гг., за 100 лет до экспедиций Плано Карпини и Марко Поло. Некоторые исследователи полагают, что целью Вениамина Тудельского было выяснение возможности переселения угнетенных европейских евреев в независимые еврейские княжества Аравии или даже в Среднюю Азию. Подробнее см.: Цетлин М.Н. Средневековый путешественник Вениамин Тудельский // Страны и народы Востока. М., 1964. Вып. III. С. 164-174; Успенский В.И. Путевые записки Вениамина из Туделы // Анналы. Пг., 1923. С. 5-20.
91 См.: Левченко Я.П. Евреи в Туркестане // Еврейская мысль. 1918. № 26. Стлб. 10.
92 Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1963. Т. 2. С. 220; Он же. История Туркестана // Там же. С.122
93 См.: Сухарева О.А. Бухара XIX — начала XX в.: Позднефеодальный город и его население. М., 1966. С. 166, 167.
94 См.: Левченко Я.П. Указ. соч. Стлб. 9—11. См. также: Кантор Л.М. Туземные евреи в Узбекистане. Самарканд; Ташкент, 1929. С. 5. Исторической подоплекой этой версии является прибытие в конце XVIII в. из Иерусалима через Багдад в Бухару некоего Йосефа бен Моше Маймона — еврея родом из Тетуана (Марокко), отсюда и его прозвище "Муграби". Он приехал собрать деньги для евреев Святой Земли, но, застав бухарскую общину в состоянии глубокого кризиса, принял на себя тяжелую задачу — возродить духовную жизнь бухарских евреев. Именно благодаря ему бухарские евреи оставили персидские заимствования в молитвах и стали следовать сефардскому канону из Италии. Йосеф Маймон также выписал из Европы еврейские книги. К началу XX в. большая группа бухарских евреев считала себя потомками этого Маймона. См.: Среднеазиатские евреи // Народы Средней Азии и Казахстана. М., 1963. Т. И. С. 611.
95 Левченко Я.П. Указ. соч.
96 См.: Вайсенберг С.А. Евреи в Туркестане // Еврейская старина. 1912. №5. С. 394, 395.
97 См.: Левченко Я.П. Указ. соч. Стлб. 11.
98 Сухарева О.А. Бухара XIX — начала XX в. ... С. 166 // Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары. М., 1976. С. 74—79.
99 См.: Вайсенберг С.А. Указ соч. С. 398. Красочные фигуры евреев часто служили моделью для художников, попавших в Среднюю Азию в 20-е годы XX в. См., например, коллекцию картин в галерее Нукуса. Большим мастером этой темы была Елена Людвиговна Коровай (1901-1974): "Кра-
611
силыцики", "Портные. Бухара", "Парикмахер" и др.
100 Некий Сенька Жидовин, родом из Астрахани, представлявшийся послом царя Алексея Михайловича, проник в Среднюю Азию и через Бухару добрался до Индии. Оказавшись при дворе Великого Могола, он неожиданно принял ислам и перешел на службу к правителю Индии. Никакой пересказ не в состоянии передать аромат языка подьячего из приказа XVII в., а потому процитируем отрывок из донесения толмача (переводчика) русского посольства Магомета Исупа Касимова о его злоключениях: "В 183 годы (1675 г. — С. Д.) приехал он, Мамед, в Индейский город Кабыл... И Мамет Исуп того Кабыла города воеводе говорил многожды по наказу, что послан он от великого государя к Индейскому шаху с ево государевою грамотою... И воевода Мекремет Мамет Исупу сказал: шах де ево к себе пропустить не указал и государевой грамоты принять и впускать не изволил... а в прошлом де в 167 годе (1659 г. — С. Д.) приходил в Индейскую землю русский посланник, Сенкою зовут, родиною Жидовин, и пришел в индейский город Кабыл бил челом шаху, чтобы его пожаловал в службу и учинил начальным человеком. И шах де ево пожаловал в службу и учинил ево у пяти сот головою и жалование учинил де ему учинил большое. И буде он Мамет Исуп похочет служить шаху, и ево де шах пожалует... И Мамет Исуп говорил, что он государев верноподданный и послан к шаху о их государских общих надобных дел, а шаху служить не будет. А Сенка де Жидовин своровал, забыл страх Божий и ево великого государя милость, ему великому государю изменил, назвался посланником, а он Сенька — торгового человека Шемахинца садовник купленой человек, и приехал из Астрахани для торгового дела с торговыми людьми в Бухары, а из Бухар в Индию, и назвался посланником, а то он Сенка своровал, его великого государя с Индейским шахом ссорил, и для того чает шах, что будто и он Мамет Исуп также облыгается, а он же подлинно прислан от великого государя, а не облыжно". Цит. по: Раскольников Ф.Ф. Россия и Афганистан // Новый Восток. 1923. № 4. С. 15, 16.
101 Написано оно было, естественно, на иврите. Это письмо неоднократно публиковалось. См., например: Пережитое. СПб., 1910. № 2. С. 274—280.
102 Иногда "еврейский" налог был единственной формой государственных доходов, поскольку собирать налоги с "правоверных" считалось несправедливым. Так было, к примеру, в конце XVIII в., во время правления Шах-Мурада. См.: Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана... С. 280
103 См.: Международный конгресс писателей в защиту культуры. Париж, июнь 1935. М., 1936. С. 295; см. также: Эренбург И.Г. Сочинения. М., 1967. Т. 9. С. 67.
104 Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843. С. 71, 72.
105 Краткая еврейская энциклопедия (Иерусалим, 1976. Т. 1. Стлб. 566) ошибочно датирует первое массовое обращение среднеазиатских евреев в мусульманство серединой XVIII в.
106 См.: Бартольд В.В. Очерки истории Семиречья // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1963. Т. 2. С. 76.
107 в числе кварталов "чала" О.А. Сухарева называет также Ходжа Халим, Ислам, Мир Масуд, Аменбей и северо-западную часть квартала Арабон. Как видим, обращенных было весьма немало. См.: Сухарева О.А. Бухара XIX - начала XX в... М., 1966. С. 178.
108 См.: Ховен А.И., фон дер. О средне-азиатских евреях // Будущность. 1900. № 23. С. 468-470; № 26. С. 530, 531; № 36. С. 733-735. Воспоминания проникнуты глубоким уважением к еврейскому народу, содержат интереснейшие легенды о происхождении среднеазиатских евреев и подробности их быта. Автор, Александр Иванович фон дер Ховен (1843-1901), воен-
612
ный историк. Он же оставил записки и о горских евреях.
109 См.: Вайсенберг С. Евреи в Туркестане // Еврейская старина. 1912. № 4 С. 403, 404.
110 См.: Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. С. 374.
111 Массовое бегство евреев из Персии произошло в начале прошлого столетия. Общее число исламизированных в Мерве достигло 200 семей. Множество их жило в других городах Туркестана и Афганистана (см.: Вайсенберг С. Указ. соч. С. 403, 404). Это же подтверждает и А.И. фон дер Ховен.
112 См.: Попов АЛ. Указ. соч. С. 216.
113 Носович С.А. Указ. соч. С. 638.
114 Симонова Л.Х. Рассказы о завоевании Самарканда // Исторический вестник. 1904. Т. 92. С. 8-63.
115 Кауфман-Туркестанский И.М. Русское знамя в Средней Азии // Исторический вестник. 1899. Т. 87. С. 82-83.
116 Симонова Л.Х. Указ. соч.
117 Еврейская энциклопедия. Т. 7. Стлб. 207.
118 Венюков М.И Поступательное движение России в Средней Азии // Сборник государственных знаний. СПб., 1877. Т. 3. С. 58.
119 Цит. по: Попов А.Л. Указ. соч. С. 240.
120 См.: Левинский М. К истории евреев Средней Азии // Еврейская старина. 1928. № XII. С. 321.
121 См.: Кони А.Ф. Собрание сочинений. М., 1966. Т. 2. С. 248, 249.
122 в дневнике народовольца Н.В. Клеточникова, служившего "для пользы дела" в III отделении, есть следующая запись: "Председатель Окружного суда Кони за обращение свое с Кауфманом (свидетелем по делу Ландсберга) признан весьма неблагонадежным лицом". См.: Архив "Земли Воли" и "Народной Воли". 1930. № 11-12. С. 213.
123 Гордон И.Л. Указ. соч. С. 129.
124 См.: Гордон Л.О. Оторванные (Рассказ нотариуса) // Еврейский ежегодник на 1663 год. СПб., 1902.
125 См.: Дикий А. Евреи в России и СССР: Исторический очерк. Нью-Йорк, 1967. С. 69; Корнеев Л.А. Классовая сущность сионизма. Киев, 1982. С. 23; Маевский Вл. Дореволюционная Россия и СССР. Мадрид, 1965. С. 282-283.
126 См.: Пикуль B.C. Миниатюры. Л., 1983. С. 272.
127 Витте СЮ. Воспоминания... Т. 3. С. 348-349.
128 Бабешко A.M. Промакадемия // Год семнадцатый: Альманах 3. М., 1938. С. 369.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Россия и Иерусалим
1 Чаадаев П.Я. Первое философическое письмо // Полн. собр. соч. и избр. письма. М., 1991. Т. 1.
2 ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21: Книга степенная царского родословия. Ч. I. С. 133.
3 Там же. С. 134-135.
4 Древние Российские стихотворения собранные Киршею Даниловым. М.; Л., 1958. С. 274.
5 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Париж, 1959. Т. 2. С. 195.
613
6 См.: Данилова Е.Н. "Завещание" Петра Великого // Труды Историко-архивного института. М., 1946. Т. 2. С. 20; Клебанов Я. Борьба международных влияний в Сирии и Палестине // Рассвет. 1915. № 2. Стлб. 11.
7 Карташев А.В. Укааз. соч.
8 См.: Аскенази Ш. Первый польский "сионист" // Пережитсе. 1910. № 2. С. 790.
9 См.: Клебанов Я. Указ. соч. Стлб. 10-14.
10 Русский еврей. СПб., 1882. № 12. Стлб. 21.
11 Отголоски печати // Недельная хроника Восхода. СПб., 1888. № 47. Стлб. 1143.
12 Кауфман А.Е. За много лет // Еврейская старина. СПб., 1913. Т. VI. С. 341.
13 Верещагин В.В. На Дальнем Востоке, в Палестине. // Русская старина. 1889. Авг. С. 439.
14 Там же.
15 Глинский Б.Б. Палестина и тяготение к ней разных народов// Исторический вестник. 1899. Январь. С. 239.
16 Ювачев И.П. Паломничество в Палестину // Исторический вестник. 1902. № 11. С. 680.
17 Новое о зубатовщине // Красный архив. 1922. № 1. С. 293.
18 См.: Буткевич Т.Н. Обзор русских сект. Харьков, 1910. С. 394-395.
19 Там же. С. 405.
20 См., например: Прокофьев Дм. Русский Израиль // Столица 1990. № 2.
21 См.: Кнут Д. Альбом путешественника // Гадегель. Харбин, 1939. № 2—3. С. 8.
22 Тифлов М. Из записок и дневников. О переселении сектантов жидовствующих в Палестину // Миссионерское обозрение. Духовный полемико-апологетический журнал. СПб., 1904. № 5. С. 537.
23 Филиппов Б.М. Всплывшее в памяти. Лондон, 1990. С. 230—231.
24 Там же. С. 233.
25 Лажечников И.И. Басурман. М, 1961. С. 100.
26 Там же. С. 283.
27 Кукольник Н.В. Сочинения. СПб., 1852. Ч. 2. С. 415-416.
28 Поэты 1820-1830-х годов. Л., 1972. Т. 2. С. 750.
29 Кукольник Н. Прощание с Петербургом // Художественная газета. 1840. 1/IX. С. 10.
30 Миго Э. Русские "герим" в Палестине // Гадегель. Харбин, 1940. № 18. С. 16-20.
31 Обтемперанский А.И. Иеговисты // Русские сектанты, их учение, культ и способ пропаганды / Под ред. М.А. Кальнева. Одесса, 1911. С. 87-88.
Вечный жид
1 Брюсов В. Истины // Собр. соч. М, 1975. Т. VI. С. 57.
2 См.: Веселовский А. Легенды о Вечном Жиде и об императоре Траяне // Журнал министерства народного просвещения, 1880. № VII. С. 89; Он же. К вопросу об образовании местных легенд в Палестине // Там же. 1885. № V. С. 166—183 (в последней статье довольно подробно объяснены корни легенды о Вечном Жиде).
3 См.: Пушкин АС. Собр. соч. М., 1960. Т. 3. С. 404-405; примеч. на с. 534-535.
4 Павлова К. Разговор в Трианоне / Павлова К. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1964. С. 141, 142.
5 Полонский Я. Полн. собр. стихотворений. СПб., 1896. Т. 2. С. 185, 187.
6 Кюхельбекер В. Избр. произв.: В 2 т. М.; Л., 1967. Т. 2. С. 83, 86.
614
7 Шиллер Ф. Собрание сочинений. М, 1956. Т. 3. С. 544.
8 Кюхельбекер В. Сочинения. Л., 1989. С. 374.
9 Южаков С.Н. Политика // Русское Богатство. 1904. № 9. С. 168. Сергей Николаевич Южаков (1849-1910), известный публицист, по рождению принадлежал к военной аристократии: его отец генерал от кавалерии.
10 Говоря о великих поэтах, С.Н. Южаков имеет в виду Байрона и Лермонтова. См.: Лермонтов М.Ю. Еврейская мелодия // Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. Л., 1979. Т. 1. С. 93. Следует иметь в виду, что по названию и отдельным мотивам это произведение совпадает с "Еврейскими мелодиями" Байрона.
11 Южаков С.Н. Указ. соч. С. 166-167.
12 Гордон Г.И. Сионизм и христиане. М., 1902. С. 15.
13 Цит по: Кумок Я. Пять лет жизни // Огонек. 1988. № 00. С. 23.
14 Меньшиков М. Письма к ближним. Письмо XVIII. М, 1902. С. 223.
15 Бунин И. Собр. соч. М., 1966. Т. 4. С. 345.
16 Писатели: Автобиографии и портреты современных русских прозаиков / Под ред. Вл. Лидина. М, 1926. С. 125.
17 Иванов Вс. Собр. соч.: В 8 т. М., 1975. Т. 5. С. 43.
18 Там же. Примеч. на с. 682.
19 Иванов Вс. Из дневников и заметок разных лет // Собр. соч. М, 1978. Т. 8.
20 Вагнер Р. Еврейство в музыке. СПб., 1908. С. 36.
21 Иванов Вс. Указ. соч. Т. 8. С. 347.
22 Селивачев А. Психология юдофильства // Русская мысль. 1917. Кн. II. С. 49.
23 Цит по: Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М.. 1990. Т. 3. С. 139.
24 Иванов Вс. Указ. соч. Т. 5. С. 380.
25 См.: Джилас М. Разговоры со Сталиным. Мюнхен, 1972. С. 160-161.
26 См.: Аникин В.П. Русская народная сказка. М., 1959. С. 143-151.
27 Подробнее см.: Иванов Вс. Указ. соч. Т. 5. Примеч. на с. 682-685.
28 Краснощекова Е.А. Художественный мир Всеволода Иванова. М., 1980. С. 300.
29 Там же. С. 302.
30 Эренбург И. Указ. соч. С. 29.
31 Иванов Вс. Указ. соч. Т. 8. С. 57.
32 Там же. С. 69, 70, 72, 75.
33 Там же. Т. 8. С. 172.
34 Всеволод Иванов — писатель и человек: Воспоминания современников. М., 1970. С. 166.
35 Письмо Ел.Гр. Мамонтовой 1974 года из Рима. Цит. по: Марк Матвеевич Антокольский... С. 128-130.
36 Там же. С. 523.
Каисса и Вотан
1 См.: Steinschneider М. Schach bei den Juden. Ein Beitrag zur Kultur-und Literatur-Geschichte. В., 1873.
2 См.: Коган M.C. Очерки по истории шахмат в СССР. М.; Л., 1938. Примеч. 96. С. 362.
3 См.: Гербстман А.О. Рассказы о белом слоне. М., 1959. С. 97-99.
4 Таблицы турниров и матчей см.: Греков Н.И. История шахматных состязаний. М., 1937; Feensta Kuiper P. Hundert Jahre Yachturniere, 1851-1951. Amsterdam, 1964; Idem. Hundert Jahre Sachzwei Kampfe, 1851-1950. Amsterdam, 1967.
5 Панов В. Михаил Иванович Чигорин, его друзья, соперники, враги. М.,
615
1963. С. 59
6 Там же. С. 70.
7 Нелидов В.А. Театральная Москва (сорок лет московских театров). Берлин; Рига, 1931. С. 26-27.
8 См. подробно: Нейштадт Я.И. Первый чемпион мира. М, 197.. С. 177—178.
9 Васюков В. и др. Михаил Чигорин. М., 1972. С. 203.
10 См.: Дудаков С. Евреи в шахматах // Левидов М. Вильгельм Стейниц. Иерусалим, 1987. С. 24-25.
11 См.: Шахматный журнал. 1891. № 6. С. 119-120.
11а См.: Коган М.С. Чигоринский Петербург // Шахматы в СССР. 1937. № 3. С. 91; № 4. С. 121.
12 См.: Шахматное обозрение. 1909. № 83-86. С. 271-273.
13 Эти слова принадлежат М.И. Чигорину; их приводит "Петербуржец" в статье "Маленькая хроника": Новое время. 1892. № 5701. С. 3.
14 Ге Гр. Из воспоминаний о М.И. Чигорине. Цит. по: Греков Н.И. М.И. Чигорин — великий русский шахматист. М., 1947. С. 522.
15 Пяст В.А. Чигорин в начале девятисотых годов // Греков Н.И. Указ. соч. С. 523-524.
16 Велихов Л.А. Воспоминания об М.И. Чигорине // Греков Н.И. Указ. соч. С. 511.
17 Малкин Ф.Ф. Вся жизнь и семь дней Александра Котова, шахматиста // Александр Котов. М., 1984. С. 57-58.
18 Меньшиков М.О. Игра царей // Письма к ближним. СПб., 1910. С. 139-144.
19 См.: Тейтель Я.Л. Из моей жизни. За сорок лет. Париж, 1925. С. 81-83.
20 См.: Кауфман А.Е. За много лет: Отрывки воспоминаний старого журналиста // Еврейская старина. СПб., 1913. Т. VI. С. 334.
21 Меньшиков М.О. Игра царей // Письмо к ближним. СПб., 1910. С. 139-144.
22 Там же. С. 139-145.
23 Цит. по: Wiener Schachzeitung. 1911. Nov.-Dez. № 21-24. С. 333-335.
24 Тартаковер С.Г. Встреча с гигантами // 64. 1983. № 14, примеч. на с. 14.
25 Рассвет. 1930. № 40-41.
26 См.: Юдович М. История одного спора // На первенство мира. 1957. № 4-5.
27 Левидов М. Эммануил Ласкер. Иерусалим, 1987. С. 60.
28 Меньшиков М. Бой титанов на клетчатом поле // Новое время. 1914. 11 апр.
29 Меньшиков М. Письма к ближним // Новое время. 1914. № 13707.
30 Ласкер Э. Мой матч с Капабланкой. Л., 1925. С. 13.
31 Кобленц А.И. Воспоминания шахматиста. М., 1986. С. 77.
32 Луначарская-Розенель Н.А. Память сердца. М., 1975. С. 170.
33 Меньшиков М. Письма к ближним.
34 См.: Ходотов Н.Н. Близкое-далекое. М.; Л., 1962. С. 219-220.
35 См.: День. 1914. 14 апр.
36 См.: 64. 1937. № 13, 15, 19.
37 См.: Котов А. Шахматное наследие А.А. Алехина. М., 1958. С. 131-215.
38 Ботвинник М. К достижению цели. М., 1978. С. 49.
39 Ботвинник М. Одиннадцатое первенство СССР. М.; Л., 1939. С. 21-22.
40 Гроссмейстер Флор. М., 1983. С. 97, 169-171.
41 Первенство Ленинграда 1932 года. Л.; М., 1932. С. 9-10.
42 Шахматы в СССР. 1938. № 1. С. 7-8.
43 Тартаковер С.Г. Русские диоскуры // Тартаковер С.Г. Ультра-современная партия. М.; Л., 1926. Ч. 1. С. 30.
616
44 Романовский П. Миттельшпиль. План. М., 1959. С. 77.
45 См.: Уинтер Э. Александр Алехин // Шахматный вестник. 1992. № 9 С. 36-38.
46 Pariser Zaitung. 1941. 18-23. Miirz.
47 Любимов Л. На чужбине. М., 1963. С. 178.
48 Тартаковер С Г. Встреча с гигантами. Из шахматных воспоминаний // Но-воселье. Нью-Йорк, 1950. № 42-44. С. 81.
49 Алехин А. На пути к высшим шахматным достижениям. М, 1991. С. 87.
50 См.: Нью-Йорк тайме. 1929. 1, 20, 21, 25, 28, 30 авг.
51 См.: Савенков И.Л. К вопросу об эволюции шахматной игры: Сравнительно-этнографический очерк. М, 1905. С. 109—111.
52 Эвенсон М.С. Чигорин на Киевском турнире 1903 г. // Греков Н.И. Указ. соч. С. 530—531. М.С. Эвенсон — отец расстрелянного белогвардейцами мастера A.M. Эвенсона, о котором речь пойдет ниже.
53 Цит. по: Алехин А. Ноттингем. 1936. М., 1962. С. 236-237.
54 Пяст В.А. Чигорин в начале девясотых годов // Греков Н.Н. М.И. Чигорин. С. 523.
55 Цит. по: Воронков СБ., Плисецкий Д.Г. Давид Яновский. М., 1987. С. 402. Сам рассказ заимствован из книги воспоминаний К. Опоченского.
56 См.: Маршалл Ф. 50 лет за шахматной доской. М., 1998. С. 11.
57 См.: Еврейская энциклопедия. СПб., 1908-1912. Т. XV. Стлб. 922; см. также: The Jewish Encyclopedia. Vol. IV. P. 19
58 Ха-Шахмат. 1923, осень. Иерусалим: изд. клуба им. Э. Ласкера. Ред. Л.О. Могилевер.
59 Алехин А.А. На пути к высшим шахматным достижениям. М., 1991. С. 9.
60 Романов И. Рети // Шахматный словарь. М., 1964. С. 318.
61 О Еврейском происхождении Тейхмана см.: Еврейская энциклопедия. Т. XV. Стлб. 923.
62 Алехин А.А. Наша смена // Шахматы в России. 1996. № 3.
63 Там же.
64 Новое время. 1907. 29 янв.
65 Греков Н.И. Указ. соч. С. 541.
66 Шпильман Р. Теория жертвы. М.; Л., 1936. С. 123.
67 Макс Эйве. М., 1979. С. 81.
68 О еврейском происхождении Г. Мароци см.: Биншток В.И. Указ. соч. С. 29.
69 Шифферс Э. Шахматный турнир-матч в Петербурге // Нива. 1895. № 50. С. 1204.
70 Пяст В.А. Поэма в нонах (1908) // Пяст Вл. Встреча. М., 1997. С. 200 (курсив в тексте мой. — С. Д.).
71 Шахматный вестник. 1992. № 1. С. 36.
72 Куликовский А. (Тиняков А.) Грозовая заря // Земщина. 1913. 4 окт.
73 Грузенберг О. Страницы воспоминаний // Вестник Еврейского университета. М.; Иерусалим, 1994. № 3 (7). С. 234.
74 См.: Эвенсон A.M. Галерея выдающихся шахматистов // Шахматы в СССР. 1938. № 10. С. 480-481.
75 Александр фон Алехин. Шахматная жизнь в Советской России. Берлин, 1921 // Шахматный вестник. 1992. № 1. С. 36-37.
76 Богатырчук Ф. Мой жизненный путь к Власову и Пражскому манифесту. Сан-Франциско, 1978. С. 163.
77 См.: Денкер А. Человек, победивший Алехина // Шахматы в России. 1996. № 12.
78 Нейштадт Я.И. Первый чемпион мира. М., 1971.
79 См.: Дудаков С. Об "арийских" и "неарийских" шахматах // Евреи в культуре русского зарубежья. Иерусалим, 1992. Т. 1. См. также: Там же. Т. 2.
617
Иерусалим, 1993.
80 Шабуров ЮН. Александр Алехин — непобежденный чемпион. М., 1992.
81 Чарушин В.А. 226 коротких партий Александра Алехина. Нижний Новгород, 1992.
82 Чащихин В.Д. Алехин: Моя борьба. М., 1992. С. 44.
83 См.: Шамкович Л., Васильев В. Синдром элите // Время и мы 1984. № 78; Васильев В. Синдром "эксов" // Время. 1993. 8 февр. О еврейском происхождении Спасского см.: Ribalow H.U. The Great Jewish Chess Champions. N. Y., 1986. P. 28, 35.
618
Указатель имен
Абба бар Земина 128
Абба Гошеа 128
Абба Умна 128
Абрагамсон 284
Абрамов А.К. 463
Абрамович 264, 265
Абрамовы (Афанасий и Козма) 41
Абу Бакр Мухаммед бен-Якья ас-
Сули 531
Аввакум, протопоп 156, 160
Август III 227, 418
Авраам 46, 73, 439
Агеев A.M. 531
Агриппа Нетесгеймский 523
Агурский М.С. 538
Адельсон Н.О. 255
Адрианов А.А. 258
Айрумян А. 92
Акива 128
Аксаков И.С. 151, 296, 298, 299, 300,
303, 304, 308, 310
Аксаков К.С. 298, 300
Аксаков СТ. 300
Аксаковы 20
Алапин С.З. 533, 537-540, 542, 579,
581
Алдан-Семенов А.И. 202
Александр, архимандрит 68, 69
Александр I 34, 233-235, 287, 432, 500
Александр II 44, 67, 70, 76, 84, 138,
235, 237, 247, 256, 274, 297, 303,
311, 314, 334, 417, 457, 458, 466, 609
Александр III 77, 135, 140, 142, 153,
161, 162, 222, 225, 235-237, 239,
241, 242, 246, 256, 257, 276, 320,
335, 416, 537
Александр Михайлович, великий
князь 221-223, 234, 236, 239, 244,
260, 595, 596
Александр Невский 501
Александра Федоровна, императрица
240, 493
Алексеев М.И. 595
Алексеев Я.А. 96
Алексей Михаилович, царь 224, 595
Алехин А.А. 548-550, 552, 554, 556,
557, 560-582, 617
Али 531
Алони 540
Алтаев А.А. 608
Альберг П. 404
Альтман Н.И. 391-394
Амитин-Шапиро З.Л. 468, 484, 611
Амфитеатров А.В. 141, 142, 191, 198,
591, 594
Анаклет II 532
Андерсен А. 557, 566, 567, 575
Андреев 396
Андреев Л.Н. 262, 350
Андреев Я. 32, 41
Андрей Боголюбский 307
Андроников И.Л. 292
619
Аникин 99
Аникин В.П. 615
Анна Иоанновна, императрица 23,
232, 585
Анисфельд 392
Аннинский Л. 282
Ан-ский С.А. 53, 587
Антокольский М.М. 235, 374, 379,
389, 392, 393, 409, 412, 529, 605
Антокольский П.Г. 211
Антонов 525
Антонович В.Б. 429
Антошевский И.К. 602, 608
Апраксин 532
Аракчеев А.А. 34, 47
Аргайл, герцог 477
Арефьев В. 595
Аркадий Казанский 67
Армфельдт Г.М. 294, 600
Аронсон Н.Л. 392, 393, 400-402, 606
Ар-Рази 531
Ар-Раккин 564
Арсеньев К.А. 247
Арсеньева Е. 292
Артамонов М.И. 15, 584
Артемий, игумен 436
Арцыбашев М.П. 351
Аршеневские 228
Аскенази Ш. 614
Астырев Н. 588
Ауэр 284
Афанасьев А.Н. 526, 527
Ахад-ха-Ам 495
Ахад-хан 476
Ахматова А. 66, 393, 394, 519, 606
Ахун И. 606
Ашем Шолом 401
Бабель И.Э. 453
Бабешко A.M. 481-484, 613
Баби-Махмет-хан 470
Багратион-Мухранский К.А. 262
Бажанова 3. 211
Байрон Дж. 179, 180, 414, 593, 615
Бакст Л.С. 307, 395, 397
Бакст Н.И. 345
Бакунин М.А. 489
Балакирев М.А. 412
Бальзак О. 512, 522, 526
Бальмонт К Д. 351, 428
Балясников 43
Бар-Ада 128
Барац Г.М. 584
Барашков-Эпчелей Ив. 589, 595
Барделебен К. 539
Баренбойм Л. 421
Барклай де Толли М.Б. 27
Барлен Д. 584
Бар-Селла 3. 518
Бартенев П.И. 308
Бартольд В.В. 469, 610-613
Баттур-хан Насрулла 476
Батюшков К.Н. 595
Башкин М. 436
Башкирцева М. 308
Беек Г. 494
Безобразов П.В. 339
Бейдеман А.Е. 366, 367
Бейлис М. 239, 264, 265, 351, 355,
434, 492, 524, 605
Бейм С.А. 316, 317, 601
Бекетов А.Н. 319
Беклемишев В.А. 401
Беклемишев Н.С. 292
Бекович-Черкасский А. 459
Белинский В.Г. 123
Белкин Д. 599
Белл 269
Белов 140
Белоконский И.П. 95, 97, 99, 100,
103, 122, 138-140, 194, 589-592,
594
Белый А. 319, 410, 601
Белыницкий-Бируля 388
Бендер Г.Л. 519
Бенедиктов В.Г. 79, 510
Бенкендорф А.Х. 78
Бенуа А.Н. 223, 383, 390, 392, 398,
595, 605
Берберова Н.Н. 416, 607
Берг А. 559
Бергман B.C. 301, 410
Берд Г. 534, 536, 537
Бердяев Н.А. 91, 323, 494
Берлин П.А. 601, 602
Берман Г. 272
Берман (Медведев) И. 399
Берман СИ. 399
Берн А. 539
Берне Л. 292
Бернстайн X. 495
Бернштам 393
Бернштейн М.Х. см. Медведев М.Е.
Бернштейн О. 542, 548, 553, 554
Вертело П.-Э.-М. 322, 324
Бертенсон Л.Б. 414
Берхин И. 585
Бестужев А.А. 288
Бехтерев В.М. 351, 353, 354, 357, 362
Бёме Я. 514
620
Биконсфилд, лорд см. Дизраели Б.
Биншток В.И. 617
Биньямин из Туделлы (Вениамин)
376, 469
Бирюков И.И. 159, 162, 592
Бисмарк О., фон 551
Бичурин Н.Я. (о. Иакинф) 105
Благой Д.Д. 602
Блекберн Дж. 535—537
Блиох 284
Блок А.А. 78, 238, 319
Блондес 325
Блюхер В.К. 25
Блюхер Г. 585
Боборыкин П.Д. 247, 319, 321, 340,
601
Богаевский 383
Богатырчук Ф. 535, 559, 562, 578, 580,
617
Богданов 99
Богданов-Бельский 392
Богданович А.В. 610
Боголюбов Е.Д. 547, 557, 560, 562,
564, 566, 569, 572-574, 578, 579
Богомолов 414
Богуславский 284
Богучарский В.Я. 596
Бодлер Ш. 180, 593
Бодуэн де Куртене И. 351
Бойнитович Ф. 26
Болдуин, иерусалимский король 351,
498
Бондарев В.Д. 197, 202
Бондарев Давид Абрамович (Тимофей
Михайлович) 91-99, 104-106,
108-128, 130-188, 190-204, 206-
208, 215-218, 589-593
Бондарев Д.Д. 93, 98, 158, 202
Бонч-Бруевич В.Д. 22, 36, 89, 264,
584, 586, 588, 597
Бонч-Бруевич М.Д. 262, 264
Борис Годунов 17, 140, 409
Борисов 99
Борисов А.А. 392
Борисов М.И. 202
Борман Ж. 220
Борода И. 466
Бородин А.П. 508
Борух (Ворохов, Борухов) Лейб 23, 24
Борхович С. 286
Ботвинник М.М. 535, 553, 557-562,
566, 570-572, 578, 582, 616
Ботта 415
Боулт Д.Э. 606
Брабец, братья 220
Браз Эм. 392
Брамс И. 421
Брафман Я. 61, 279, 465, 466, 487, 587
Брет-Гарт см. Гарт Ф.Б.
Бржесская (Бжесская) 337
Бринкен Ю. 595
Бриньоль Т. 145
Бродские 284
Бродский И.А. 66
Бродский И.И. 397, 398
Бронштейн Д. 540
Брусилов А.А. 257, 258, 597
Брюсов В.Я. 247, 351, 523, 614
Будный С. 440
Будрин И.И. 60, 65
Бунда Ю. 285
Булгаков М.А. 203
Булгаков С.Н. 351
Булгаков Ф.И. 604
Булгаковы 17
Булгарин Ф.В. 302, 550
Бунге Н.Х. 267
Бунзен 330
Бунин И.А. 215, 347, 351, 518, 615
Бурачек С.А. 56
Бурдес Б.П. 343
Буренин В.П. 261, 427, 456
Буров Н.А. 610
Бурцев В.Л. 489, 494
Бутенко Н. 589, 592
Буткевич Т.И. 30, 34, 584-586, 588,
614
Буши Г.В. (де Кацман) 485, 491
Вагнер Н.П. 322, 359, 456, 487, 600
Вагнер Р. 237, 410, 521, 540, 615
Вайсенберг С.А. 331, 611, 613
Валиханов Ч. 460, 610
Валишевский К. 595
Валуев П.А. 298, 301, 418, 600, 609
Вамбери А. 469, 470
Варадинов Н.В. 44, 585, 586
Вардаланов В. 65
Варлаам, игумен 498
Варнавин Н. 251-253, 597
Варшавский, тайный советник 284
Варшавский, член суда 284
Варшавский B.C. 590
Василий II Темный 306
Василий III 23
Васильев В. 6)8
Васильковская А.Л. 321
Васильковский Л.С. 321, 322
Васнецов A.M. 400
Вассиан, епископ 75, 436
621
Васкжов В. 616
Веберн А., фон 555
Вейнер 284
Вейс М. 534, 554, 568
Вейсман 581
Вейцман X. 493
Веласкес Диего 91, 396
Велиехов Л. А. 616
Великанов П.В. 121, 191
Величко В.Л. 603
Вельтман А.Ф. 13, 584
Вельяминовы 20
Венгеров С.А. 38, 155, 156, 166, 167,
198, 592 593
Венери 307
Венусов Я. 43
Венюков М.И. 477, 613
Верблюнер 284
Верди Дж. 421
Вересаев В.В. 353-358, 362, 363, 604
Верещагин 266
Верещагин В.В. 370-376, 378, 380-
383, 501-503, 604, 605, 614
Берлинский 559
Вермель С.С. 246, 596, 601
Вернадский В.И. 214, 516
Веселовский А. 227
Веселовский А.Н. 339, 512, 614
Веселовский И. 227
Веселовский Ф. 227
Веселовский Я. 227
Видмар 564, 572, 574
Виктория, английская королева 76,
239
Викторов В. 353
Виктор-Эммануил, итальянский ко-
роль 274
Виллевальде В.П. 381
Вильсон В. 495
Винавер Ш.А. 533, 534, 536
Винклер 415
Виноградов П.Г. 339
Виноградов, художник 400
Виньи А., де 318
Виссариан 123
Виссарионов 284
Витгенштейн, князья 255
Витзен 225
Витсен Н. 532
Витте СЮ. 220, 222, 225, 236, 239,
241, 244, 245, 257, 265, 320, 341,
481, 490, 595-598, 613
Вишня О. 508
Владимир Мономах 8, 11—19, 307,
314, 437, 583
Владимиров Е.И. 104, 143, 144, 146,
169, 170, 191, 217, 589-594
Власов А.А. 495, 580
Воблевский 392
Возницын А. 23, 24, 232, 585
Возницын П.Б. 23
Войтинский Вл.С. 589
Войцеховна М. 444
Волгины 65, 68, 78
Волгин П. 65, 68, 78
Волгужев И. 156
Волконский СМ. 603
Волошин М.А. 383
Воль Я. 378
Волькенштейн Е.О. 400
Волькенштейн О.Ф. 400
Вольский А. 255, 256, 597
Вольтер 324
Вольф Л. 494
Вольф М.О. 383 ;j
Вормс 307 ,,
Воронин Е. 33 ;•:
Воронихин 392 ,|
Воронков СБ. 617
Воронский А. К. 35, 586
Воронцовы 20
Воронцов М.С 433, 479, 608
Врубель М.А. 430
Врублевский 325
Вульф Л. 275
Вульф Г.П. 232
Вульф Н.И. 232
Вульф П.Г. 232
Вяземский П.А. 291
Выговской И. 437
Высокодворский И.А. 525
Вязнин Ф. 427
Габер Л., фон 223
Габер (Габерт) С. 222, 223
Таблиц 301, 410
Гагарины 224
Гаден Д. 224
Гайдар А. 364, 604
Талант И. 553
Гальперин 284
Гальске 220
Гамбаров П.С 339
Гамбаров Ю.С 339
Гамсун К. 363, 561, 563
Гангльбауэр, кардинал 378
Ганнибалы 232
Гарден М. 292
Гарин-Михайловский Н.Г. 109, 358—
363, 589, 604
622
Гаррик 344
Гарт Ф.Б. 384
Гартман В.А. 409, 410
Гасман 284
Гасфорд Г.Х. 90, 610
Гатцук Ал. 8, 583
Гауптман Г. 561
Ге Г. 616
Геббельс Й. 561, 562
Гегель Г.В.Ф. 330
Гедиминовичи 224, 225
Гейман 257
Гейне Г. 366, 414, 518
Гейне В.К. см. Фрей В.
Геккер Н.Л. 107
Геллер Е. 540
Гельвиг Г., фон 595, 598
Гельмгольц 330
Генкель 329
Геннадий, архиепископ Новгород-
ский 23
Гербстман А. О. 615
Гердер И.-Г. 150
Геринг Г. 480
Герман Ю.П. 365, 368, 604
Гернет М.Н. 587
Герц 330
Герцен А.И. 303-305, 307, 601
Герцль Т. 343, 491, 495, 515, 518, 605
Гершельман С.К. 255
Гершензон М.О. 548
Герье В.И. 339
Гесиод 356
Гессе Н.П. 255, 256
Гессе П.П. 255, 256
Гессен Ю. 400, 546
Гец Ф.М. 333, 339, 340, 342, 346, 349,
550
Гёдше Г. см. Ретклиф Дж.
Гёте И.-В. 366, 404, 520
Гилель 128, 449
Гиллель ха-Закен 137
Гильфердинг А.Ф. 15, 301, 410
Гинзбург Е. 233, 237, 284
Гинзбург Ж. 269
Гинзбург С. 607
Гинцбург А. 413
Гинцбург Г.О. 413
Гинцбург Д.Г. 334
Гинцбург И.Я. [Гинзбург И.Я.] 380,
389, 392, 393, 606
Гиппиус З.Н. 78
Гире Н.К. 256, 257, 284
Гирш Г.И. 257, 284, 428
Гиршель 295
Гиршман 284
Гиршман Г.Л. 396, 400
Гитлер А. 292, 408, 493, 494, 497, 521
Гладковская Л. 527
Глазенап Г.И. 462, 463
Глазунов А.К. 248, 251, 415
Глазунов И.С. 347
Глинка М.И. 415, 509
Глинка Ю. 490, 491, 517, 518
Глинский Б.Б. 503, 614
Глиэр Р. 248
Глубоковский Н.Н. 609
Глумберг 309
Гоголь Н.В. 445
Голб Н. 10, 531
Голенищев-Кутузов А.А. 99, 247, 261
Голицын А.Н. 24, 58
Голицын Н.Н. 283, 584, 585, 595, 599
Голль Ш., де 580
Голубинский Е.Е. 8
Гольденвейзер А.Б. 112
Гольдовский О. 596
Гольдфаден 529
Головинский М. 489, 490
Головины 225
Гольцев В.А. 339, 343
Гончаров И.А. 247, 260, 261, 292, 429,
597, 599
Горвиц М. 300
Гордон 284
Гордон Г.И. 601, 615
Гордон И.Л. 464-467, 479, 611, 613
Гордон Л.И. 603
Гордон Л.О. 72, 587
Горнштейн А.Я. 589
Горощенко К.И. 97, 187, 192, 594
Горчаков A.M. 256, 463
Горький М. 119, 120, 187, 198, 199,
203, 208, 247, 262, 350, 365, 366,
427, 481, 520, 590, 593, 594
Готье Ю.В. 10, 583, 584
Грановский Т.Н. 295, 296, 303, 304,
600
Гревс И.М. 214
Грейвс Ф. 494
Грегуар 350
Гредингер 284
Греков Н.И. 566, 615-617
Грессер П.А. 337
Гржебин З.И. 520
Григорий, архимандрит 41, 586
Григорий V 288
Григорович Д.В. 247, 457
Григорьев В.В. 325
Гридневы 33
623
Гриднев Г. 33
Грингмут 340
Гроссман В.А. 292
Гроссман Л.П. 292, 293, 599
Грот Н.Я. 340
Грот Я.К. 236
Гроций 42
Грузенберг О.О. 46, 47, 319, 325, 429,
456, 577, 578, 581, 586, 597, 601,
608, 617
Грузенберг СО. 598, 603
Грузинов Е.О. 58
Грулев М.В. 258, 259, 269, 460
Грумберг (урожд. Овсянико-Куликов-
ская) Е.Н. 309
Гунсберг И. 534-536, 538
Гурвич О.Я. 51
Гурвич П.И. 57, 87
Гурко И.В. 237
Гусев Н.И. 591, 592, 594
Гусев-Оренбургский С. 363, 604
Гурлянд И.Я. 284
Гурович 284
Гуттен У., фон 434
Гюго В. 593
Давид, царь 17, 251, 287, 360, 375,
377, 485, 505, 517, 518
Давидов К.Ю. 301
Давидович 287
Давыдов А.В. 607
Давыдов Д.В. 419
Даль В.И. 13, 143, 178, 213, 584, 585
Даль В.Ф. 301, 325
Даниил Заточник 160
Даниил, игумен 498
Данилевский Н.Я. 162
Данилов В. 596
Данилова Е.Н. 561
Даревский И.А. 584 .
Де-Виер А. 227
Делевский Ю. 488, 489, 494
Дельвиг А.И. 272, 598
Делянов И.Д. 162
Демант С.Л. 273
Демидов 369
Демидовы 272
Демидов М.И. 604
Демидов Н. 274, 275
Демидов П.А. 275
Демидов П.Н. 272
Демидов П.П:, князь Сан-Донато
272-274, 276, 277, 282, 299
Демидов С.С., князь Сан-Донато 598
Демулен К. 521
Демченко Я. 497
Деникин А.И. 259, 260, 597
Денкер А. 580, 617
Деньгин, сектант 78
Деппинг Г.Б. 296
Державины 17
Державин Г.Р. 187, 285-287, 295, 599
Джаншиев Г.А. 339
Джилас М. 615
Джура-бек 476
Дзержинский Ф.Э. 365
Дидро Д. 232
Дизраели Б. 417, 428
Дикий А. 480, 613
Диксон В. 70
Длугош Я. 15
Дмитриев, ташкентский банкир 387
Дмитриев, волостной голова 43
Дмитриев Ф.М. 602
Дмитриев-Мамонов М.А. 500
Дмитрий Донской 307
Днепровский С. 598
Добролюбов Н.А. 355
Добрыня Малкович 11, 12, 14
Добужинский В.П. 398
Добужинский М.В. 398-400, 402
Добычина Н.Е. 391, 392
Долгорукие 224
Долгоруков В.А. 67, 245, 246
Долгоруков П. 351
Долгорукова (урожд. Шафирова)М.П.
225
Донсков А.А. 147, 152, 175, 589
Донское Ф. 26
Доре Г. 383
Достоевский Ф.М. 80, 82, 83, 91, 123,
158, 170, 247, 281, 288, 305, 306,
333, 346, 410, 427, 428, 447, 457,
525, 600, 601
Драбкин А.Н. 345
Драгомиров М.И. 265
Дрейфус А. 269, 380, 487, 529
Дрентельн А. 488
Дроры см. Куракины
Дрюмон Эд. 487
Дубенский М.М. 108
Дубнов СМ. 234, 267, 282, 334, 599,
602, 604, 608
Дубровина Д. 506
Дубровин И. 506
Дудаков СЮ. 285, 585, 588, 595,
599-603, 616, 617
Дуз-Хотимирский Ф.И. 542
Дымов О. 343, 603
Дынин Д. 233
624
4
Дюринг Е. 487
Зябрев А. 109, 589
Дюринг Е. 487 Зябрев А. 109, 589
Евлогий, митрополит 590
Екатерина II 21, 23, 232, 242, 271,
286, 470
Елена Павловна, великая княгиня 70,
297
Елец Ю.Л. 100
Елизавета 60
Елизавета Петровна, императрица 232
Емельянов В.Н. 11, 496, 583
Ерошин И. 217
Ершов И.К. 102
Жабин С. 33
Жебунёв Л.Н. 141, 153, 169
Жемчужников A.M. 154, 593
Жемчужников Н.М. 316
Жегулин, крестьянин 27, 29
Жером Ж.-Д. 370
Житель 456
Жоли М. 489, 490, 494
Жолтовский И.В. 313
Жуковский В.А. 235
Заболоцкий Н.А. 208-216, 510, 594
Загоскин Н.П. 584
Зазубрин (Зубцов) В.Я. 203, 204, 208,
594
Зайончковский П.А. 236, 237, 245,
247, 267, 596, 598, 609
Залешовская Е. 440
Залкинд Ю. 395
Заменгоф Л.Л. 56, 87, 88, 588
Замятин Е.И. 203
Заремба 441—443
Заславская, княжна 439
Заславский Д. 287, 295, 384, 599
Засулич В.И. 89, 418, 588
Захаров А.Д. 392
Захарьин Г.А. 257, 284
Зейдель Л. 117, 587
Зелинский A.M. 35
Земиш Ф. 562, 564, 567
Земмеринг 573
Зенгер Г.Э. 253, 254
Зильберштейн 419
Златовратский Н.Н. 145, 155, 156,
164, 197, 592
Зноско-Боровский Е.А. 542, 548, 568
Золя Э. 380, 529, 573
Зосниц И.Л. 533, 569
Зотов В. 300
Зубатов СВ. 503
Зувижимов (Бувижимов) А.Е. 95
Ибн-Хаукал 564
Ибн-Эзра Авраам бен-Меир 532
Ибн-Эхия 532
Иван III 20, 21, 23, 223, 257, 306
Иван IV Грозный 37, 223, 224, 310
Иванов 387
Иванов А. 224, 257, 307, 379, 391
Иванов А.Ш. 102
Иванов Вс.Вяч. 203, 519-529, 615
Иванов В.А. 353, 519
Иванов Г. 554
Иванов Н.И. 256, 262
Иванов Ю. 496
Ивановский 83, 85
Иванчин-Писарев А.И. 144, 146, 591
Игнатий 436
Игнатьев А.А. 266, 267, 269, 270, 598
Игнатьев А.П. 267
Игнатьев Н.И. 502
Игнатьев Н.П. 267, 459
Игнатьев П.Н. 267, 268
Игнатьевы 266
Игорь, князь 9
Иегуда из Модены 532
Иегуда Ливо бен-Бецалель 533, 534
Измайлов А.А. 608
Изяслав Ярославич 17, 57
Иларион, митрополит киевский 16,
57
Иловайский Д.И. 334, 401, 427
Ильин Н.Д. 461
Ильин Н.С. 55-90, 510, 587
Ильина А.Н. 65, 68
Ильина Н.Н. 65
Ильф И.А. 518, 519
Иоанн Александр, царь Болгарии 15
Иоанн Безземельный 296
Иоанн Кронштадтский 336, 337
Иосиф Волоцкий 20
Иосиф, игумен Волоколамский 23
Иосиф Картафил 511
Иохельсон В.И. 106, 107
Ирина, императрица 15
Исмаил Гаспрский 186
Искра 227
Ипсиланти А. 288
Иуда Благочестивый 531
Ицхак 128
Ишри Д. 473
Июдина А.М. 100
Июдины 100
Йегошуа 128, 131
625
Йегошуа бен Хананья 128
Йегуда бен Илай 128
Йосе бен Халафта 128
Йосеф 128
Йосеф бен Моше Маймон 611
Йоханан-Сандлар 128
Кавелин К.Д. 235
Каган Б. 576, 578
Каган М. 591
Каганович Л.М. 312, 601
Каганская М. 518
Казакова Н.А. 584
Казариновы 8
Казимир III Великий 15
Калонтар (Калантаров) М. 476, 477
Калугин В.М. 588
Калхок Б. 473
Кальнев М.А. 22, 23, 533, 536, 614
Ка(о)маровский Л.А. 340
Каменев Л.Б. 600
Каменский И.В. 325, 326
Кандин А. 473, 475, 476
Кандинский В.В. 402-408, 607
Кан-Крейн, раввин 233
Канкрин Е.Ф. 233, 284, 480
Кант И. 87, 343
Кантемир А.Д. 24, 585
Кантор Л.М. 611
Канторовичи 35
Капабланка Х.Р. 543, 548-558, 563,
566, 567, 572-574, 576, 578
Капгер 284
Каплун М. 598
Капустин А. 501
Капфиг Ж.Б. 296
Каразин В.Н. 322, 380, 381, 605, 606
Каразин Н.Н. 322, 370, 371, 380-388
Карамзины 17
Карамзин А.Н. 274
Карамзин Н.М. 280, 281
Каратеев М. 532
Кардапалов, фельдшер 67
Карл I 179
Карл XII 55
Карпини П. 611
Карпов А. 547, 575
Карпов В.В. 585
Карпович М. 598
Карташев А.В. 351, 492, 494, 613
Картье 580
Карцев А.П. 462
Касимов М.И. 612
Каспаров Г. 575
Катков М.Н. 245, 281, 311, 340, 422,
454, 467, 479
Кауфман А.Е. 274, 599, 603, 614, 616
Кауфман A.M., фон 480
Кауфман К.П., фон 371-374, 382, 383,
386, 456-461, 463-467, 474-480,
609, 610
Кауфман М.П., фон 480, 481
Кауфман П.М., фон 475, 480, 613
Кауфман П.Ф., фон 456
Кац М. 390
Кац (Кацалов) Я. 72
Кваренги Дж. 392, 393
Кельсиев В.И. 88
Кеппен П.И. 299, 600
Керенский А.Ф. 482
Керес П. 558, 562, 566
Кестлер А. 449
Кившенко А. 503
Кизеветтер А.А. 602
Кизерицкий А. 575
Кизерицкий Р.К. 575
Кий 10
Кинарейкин Л. 43
Киплинг Р. 610
Киреевский И.В. 302
Кирик 498
Кириллов Н.В. 108
Китанина Т.М. 589, 590, 592
Кишиневский М.В. 220
Клебанов Я. 613, 614
Клепатский П.Г. 584
Клеточников Н.В. 613
Клибанов А. И. 21, 92, 187, 584, 587,
589, 593
Климент V 433
Клин Н. 597
Кличко Ф.Н. 26
Ключевский В.О. 9, 583
Кляцкин М.Г. 570
Кнут Д. 506, 614
Кобленц А.И. 552, 616
Ковалевский М.М. 351
Коган М.С. 615, 616
Когут А. 595
Кожедуб И.Н. 369
Козлова 272
Козлов Н.И. 31, 282
Козлов П.А. 414
Колебошин К.Ф. 43
Колесов В.В. 21, 584
Колиш И. 534, 575
Колле 564
Колпаковский Г.А. 463
Колупаев 435
Колчак А.В. 493
626
Кольвиц К. 356
Комарова В. 413
Кон Н. 601
Кон Ф.Я. 106-108, 154, 589, 590
Кондратьев 43
Кони А.Ф. 235, 236, 247, 248, 280,
296, 332, 344, 478, 479, 596, 597,
600, 602, 603, 610, 613
Кониар 284
Константин V 15
Константин Константинович, вели-
кий князь (Константин Романов,
К.Р.) 139, 244, 246-255, 257, 260,
262
Константин Николаевич, великий
князь 247, 298
Кончаков Е. 33
Копелович А.Д. 390
Копшицер М.И. 78
Копьев А.Д. 532
Копьева А. С. 603
Корецкий В.И. 585
Корнеев Л.А. 480, 561
Корнилов А. 214
Корнуолл Б. 317
Коровай Е.Л. 611
Короленко В.Г. 247, 248, 308, 334,
339, 340, 351, 366, 380, 587, 602
Коршикова Н.С. 587
Косаванов А. 164, 589-592
Косвинцев Е.Н. 587
Косенков Е.Н. 588
Костомаров Н.И. 112, 305-307, 314,
328, 425, 590, 599, 600, 608
Котельников Е.Н. 27
Котов А.А. 540, 557, 582, 616
Кох Э. 542
Кочубей В.Л. 227
Кошут Л. 70
Краевский 418
Крамской И.Н. 370
Краснов А.Н. 214, 264
Краснов Петр Н. 264
Краснов Платон Н. 264
Краснов, купец 32
Краснощекова Е.А. 527, 614
Красный-Адмони Г.Я. 120
Крафт-Эбинг Р. 326, 328, 329, 602
Крашевский И.-И. 441, 442, 444
Кремье 487, 493
Крестовский В.В. 48-52, 100, 359,
456, 487, 586
Кржижановский Г.М. 154
Кроль М.А. 107, 108
Кромвель О. 179
Кроненберг 284
Кропоткин П.А. 70, 103, 589
Крушеван П. 491
Крыжановский СЕ. 240, 241, 596
Крылов И.А. 140
Крюков Ф. 351
Кугель А.Р. 607
Кузмин М.А. 395
Кузьмин В.И. (Вл. Сагайский) 164
Куинджи А.И. 384
Кукольник Н.В. 509, 614
Куликовский А. 617
Кулишер М.И. 345
Кумберландские, герцогини 237
Кумок Я. 615
Куперник Л.А. 35
Куприн А.И. 308, 402, 606
Куракины 506
Куракин Й. 507
Куракин М. 506
Курицын Ф.В. 20, 257
Куропаткин АН. 254, 350, 382, 463
Кустодиев Б.М. 395
Кухенрейтер 274
Кэнц Р. 220
Кюстин А., де 381
Кюхельбекер В.К. 294, 513-515, 614
Лабзин А.Ф. 58
Лабурдоне 566
Лаврентьев, мещанин 144
Лагарп Ф.С., де 234
Лагорио Л.Ф. 370
Лажечников И.И. 508, 614
Лазарев Л.И. 292, 599
Лалетин А.С. 60, 66, 67
Ламм Л. 605
Ласкер Э. 535-537, 541-544, 547-556,
561-571, 574, 576, 578, 616
Лаховский Я. 392, 605
Лахути А. 472
Лебедев А.К. 382, 383, 588, 604, 605
Лебедев B.C. 141, 143, 148, 152, 158,
169
Лебедев К.Н. 325, 602
Лебядянский И. 33
Лев IV Хазар 15
Лев XIII 316
Леванда В. 135
Левенсон И.Б. 135
Левенталь 575
Левенфиш Г.Я. 559
Леви А. 292
Левидов М. 575, 616
Левин 29
627
Левин A.M. 365, 366
Левинский 387
Левинский М. 605, 613
Левитан И.И. 380, 401
Левитина В. 307, 549
Левитский С. 539, 579
Левченко Я.П. 611
Лейбов Б. 585
Лейбович 455
Лековет де Лиль Ш. 593
Ле Корбюзье Ш.-Э. 313
Ленау (Стреленау) 318
Ленин В.И. 89, ПО, 112, 154, 203, 323,
402, 406
Леонидов Л.М. 597
Леонтович В.Н. 430
Леонтович Ф.И. 429
Леонтьев К.Н. 410
Лермонтов М.Ю. 291-294, 600, 615
Лесина В.И. 587
Лесков А.Н. 599, 600
Лесков Н.С. 38, 282, 283, 298, 302,
335, 586
Лессинг Г.Э. 324, 349, 532
Лещинский Н.Е. 597
Лжедмитрий II 499
Либединский Ю.Н. 203
Либрович С. 337, 602
Лилиенталь 580
Линдер И. 580
Линецкий 529
Линь, де 500
Липкин-Салантер И. 355, 604
Липкин СИ. 595
Лист Ф. 378, 421, 605
Литвак А. 368, 369
Литвин-Эфрон С. 359, 490
Литвинов М.М. 257
Литке Ф.П. 370
Лихарев 463
Лобзовский 100
Лозанова А.Н. 594
Лозинский С. Г. 124, 590, 608
Локтев А. 589
Ломброзо Ч. 358
Лондон Дж. 363
Лондон, профессор 284
Лопатин Л. 332
Лорис-Меликов М.Т. 236, 460
Лосский Н.О. 602
Лощиц Ю. 261, 597
Лука Жидята 17, 18
Лукомский А. С. 598
Луначарская-Розенель Н.А. 616
Луначарский А.В. 203, 346
Лунев Ф.С. 96
Лунц Л. 392
Лурье А. С. 410
Лурье Я.С. 584
Лучинский 584
Львов-Рогачевский В. 384
Любарский З.Я. 220
Любецкий И. 507
Любимов Л. 616
Людовик Венгерский 15
Людовик IX 531
Лютостанский И. 360, 431, 447, 488
Л-ъ Л. 589
Лядов А. К. 415
Магницкий М.Л. 301
Маевский Вл. 480, 597, 613
Мазепа И.В. 227
Майков А.Н. 247, 261
Маймонид 531
Макаров А.В. 227
Макиавелли Н. 489, 490
Маклаков В.А. 264
Маклаков Н.А. 264
Маковицкий Д.П. 164, 185, 197, 199,
593, 594
Маковский А.В. 396
Маковский В. 427
Маковский С.К. 396
Маколей Т.Б. 350
Максимов СВ. 48, 54, 69, 586, 587
Мал, князь 12
Малер Г. 404, 407, 421, 552
Малер И. 600
Малиновский И.А. 200, 590
Малк Любечанин 11
Малкиель С. 12
Малкин Ф.Ф. 616
Малуша 11, 13, 14
Малышевский И.И. 18, 434, 584
Мамин-Сибиряк Д.Н. 380
Мамонтов СИ. 409
Мамонтова Ел.Гр. 615
Мансуров Е.А. 574
Манус 284
Манусевич-Мануйлов И. 489, 490
Маргулис Г.С 470
Маргулис, раввин 465
Мариенгоф А.Б. 597
Мария Николаевна, великая княгиня
235
Мария Федоровна, императрица 229,
596
628
Маркевич Б.М. 301, 311, 312, 601
Маркс К. 366, 590
Маркс М.О. 108
Мароден В. 494
Мароци Г. 563, 574, 617
Марсикани А.Д. 309
Мартынов А.П. 596
Мартьянов Н.М. 105, 106, 108, 109,
140, 141, 143, 148, 169, 191, 200
Маршалл Л. 495
Маршалл Ф. 549, 566-569, 576, 617
Матвеевы см. Яакоби
Масанов И.Ф. 353
Матэ В.В. 389, 415
Мацкевич И. 265
Мачтет Г.А. 309, 380
Маяковский В.В. 594
Медведев М.Е. 420
Меир 131
Мей Л.А. 317, 414
Мейер 284
Мейер В. 330
Мейербер Дж. 312
Мейринг 574
Мекк Н.Ф., фон 418, 419
Мелевский Ф. 512
Мельник С. 421
Мельников П.И. см. Мельников-Пе-
черский А.И.
Мельников-Печерский А.И. 36-38,
247, 380, 585, 586
Менделе Мойхер-Сфорим 357, 529
Менделеев Д.И. 319, 323, 331
Мендель Г. 239
Мендельсон М. 532
Мендельсон-Бертольди Ф. 412
Мендельсон М. 318, 324
Меньшиков А.Д. 227
Меньшиков М.О. 240, 343, 427, 491,
492, 517, 541-544, 549-556, 569,
575, 615, 616
Мережка Ф. 261
Мережковский Д.С. 261, 351
Меримзон М. 44, 45, 534, 553
Мешковский А. 253
Мещерские 280
Мещерская Е.А. 219, 221, 224, 225,
266, 280, 281
Мещерская М.Э. 273
Мещерская Н.Н. 268
Мещерский В.П. 280-283
Миго Э. 562
Мизес Я. 542, 543, 572, 573
Микешин М.О. 460
Милашевский В.А. 389, 390-393,
395-398, 410, 606
Миллер В.Ф. 339
Мильтон Дж. 140, 179, 593
Милюков П.Н. 339, 351, 489, 494
Милютин Д.А. 97, 457, 461, 474, 609
Милюхин 30-32, 37
Милюхин А.А. 119
Минаев Д.Д. 281, 317, 593
Минин К. 307
Минокин М.В. 97, 120, 122, 206, 589,
590, 595
Минский Н.М. 249, 253, 261, 334, 356
Минцлов P.P. 339
Мирабо 350
Миркович Ф.Я. 234, 595
Миронов П.Г. 325
Миронов Я.И. 102
Мислер Н. 606
Михаил Николаевич, великий князь
67, 314
Михаил Олелькович, князь 20
Михайлов О. 496
Михайлов 27-29
Михайловичи (Романовы) 222
Михайловская Н.В. 359
Михайловский Н.К. 112, 144, 145,
165, 166, 592
Михаэлис 324
Михоэлс СМ. 234, 267, 270
Мицкевич А. 512
Могила А.Н. 555
Модильяни А. 393, 394
Моисей 17, 18, 25, 27-29, 31, 33, 34,
38, 47-50, 54, 59, 63, 73, 75, 269,
279, 280, 289, 299, 302, 338, 376,
402, 439, 515, 530
Моложавенко В. 589, 593
Молоствова Е.В. 89, 272, 586-588
Молотов В.М. 313, 572
Монтень М. 532
Монтескье Ш.Л. 489
Монтефиори М. 428, 432, 608
Морган 581
Мордвинов Н.С. 292
Мордовцев Д.Л. 223, 227, 306, 318,
431, 595
Морозов П.Т. 101
Морфи П. 534, 548, 557, 558, 565, 566,
574, 575
Мочульский В. 594
Мочульский К.В. 603
Муззафар-хан 473, 476
Мукаддаси 564
Муктафи 531
629
Мулятин И.М. 26
Мункачи 378
Муравьев М.Н. 458, 594, 609
Муравьев-Амурский 101
Муравьевы 595
Муромцев С.А. 339
Мусоргский М.П. 210, 409-416, 420
Муссо А.Р. (Гужено де) 487
Мэзон Дж. 536
Мясины 104
Мясоедов С.Н. 262-266
Набоков В.В. 31, 282
Набоков Д.Н. 267
Навозов В. 503
Надеждин П.П. 586
Надель 490
Надир М. 600
Надсон С.Я. 249, 261, 323, 356
Наживин И.Ф. 199, 200
Назаров Н.Н. 373
Наполеон I 233, 487
Наполеон III 490
Нардус Л. 567, 568
Нахман 284
Нейман А. 271
Нейман И. 101
Нейман И.Л. 589, 598
Нейштадг Я.И. 561, 581, 582, 616, 617
Некрасов Н.А. 109, ПО, 112, 211, 212,
296, 355, 417, 418, 590, 594
Нелидов В.А. 340, 341, 603, 615
Немир 15
Немирич 437
Немирович-Данченко В.И. 380
Немировский А.О. 284
Ненароков 542
Нессельроде К.В. 233, 257, 284, 480
Нестеров М.В. 315, 601
Нестор 57
Нетметдинов 575
Нехемья 128
Нечаев С.Г. 276, 489
Нечаевы см. Эфрони
Никитенко А.В. 303, 304
Никитин В.Н. 135, 464
Никифоров И. 40
Никодим, патриарх 375, 503
Николай Александрович, великий
князь 235, 236, 596
Николай Константинович, великий
князь 557, 610
Николай Михайлович, великий князь
222, 223
Николай Николаевич, великий князь
251, 257, 259, 262, 265, 493
Николай I 38, 42, 90, 98, 233, 234,
244, 284, 358, 365, 371, 610
Николай II 106, 225, 239, 241, 243,
244, 254, 255, 257, 269, 481, 492,
596
Никон Вологодский 492
Никон, патриарх 69, 499, 500
Нил Сорский 21
Нилус С.А. 346, 360, 396, 408, 427,
451, 485, 489, 490-493, 497, 505,
518
Нимцович А. 538, 542, 548, 549, 553,
554, 561, 563, 564, 570, 573
Нифонт, епископ 498
Ницше Ф. 428
Нияз А. 476
Нияз С. 476
Новиков Н.И. 286
Новиков Н.И., окружной инспектор
464
Новокрещенские, боярский род 19
Новомейский М. 493
Новосильцев Н.Н. 500
Нордау М. 495
Норденшельд 108
Носович С.А. 463, 474, 610, 613
Нотович O.K. 284, 489, 490, 538
Нусинов И.М. 593
Ньютон И. 63
Оболенский Л.Е. 157, 159
Образцов И.В. 258, 545
Обтемперанский А.И. 85, 588, 614
Овсянико-Куликовский Д.Н. 309,
351, 601
Овсянико-Куликовский Н.Н. 309
Огарев Н.П. 307
Ограновичи 19
Одоевский А.И. 271
Одоевский В.Ф. 296-302, 600
Ожегов СИ. 213
Озмидов 456
Окрейц С.С. 233
Олег, князь 11, 12, 16
Олег Константинович, великий князь
262
Ольга, княгиня 11, 12, 14, 16
Ольга Федоровна, великая княгиня
222
Ольговичи 306
Ольденбург С.Ф. 214
Омулевский И.В. 380
Онисифор Девочка 437
630
Опенгеймер 417
Опоченский К. 617
Оршанский И. 135
Осетров Е.И. 596
Осколков М.И. 95, 118
Осман Бей В.А. (Милленген Ф.) 487
Оссман 312, 313
Островский А.Н. 247
Островский Н.А. 363, 604
Островский Ю. 586
Острожские, князья 430
Остроумов Н. 592, 611
Оттоленги Дж. 259
Ошанский А.И, 269
Павел I 21, 285 286, 460
Павлов И.П. 246, 247, 596
Павлова К.К. 312, 513, 614
Пажес А. 163
Пажес Э. 163
Пайрав (Атаджан Сулеймони) 474
Пален К.И. 282
Палеолог С.Н. 599
Палицын А. 69
Палкин Н.Э. 507, 508
Палладий, иеромонах 43
Панов В.Н. 534, 535, 540, 581, 615
Папюс 396
Парацельс Т. 523
Парис М. 511
Пархоменко В.А. 9, 583
Пастер Л. 402
Пастернак Л.О. 293, 599
Паткуль В.Г. 55
Паткуль И.-Р. 55
Паульсен А. 575
Пелка 15
Переплетчиков 400
Пересыпкин И.Т. 369
Перетц В.Н. 584
Перетц Е.А. 267, 284, 598
Перетц И.-Л. 357
Перлис Ю. 542
Перовская CJL 396
Перовский В.А. 459
Перовский Л.А. 326
Пестель П.И. 500
Петлюра СВ. 493
Петр Николаевич, великий князь 251
Петр 1 170, 223, 228, 229, 231, 232,
236, 284, 298, 460, 500, 532
Петров АД. 532
Петров В.М. 581, 582
Петров Е.П. 518
Петров Н. 592
Петров-Водкин К.С. 395, 397
Петровский-Погорельский 310
Петрус Альфонси см, Сфаради М.
Печерин B.C. 303, 307, 600
Пигалев В. 496
Пикассо П. 393
Пикуль В. 266, 480, 496, 613
Пикульский 431
Пилат, Понтий 251, 254
Пильняк Б.А. 203
Пильсберри 566, 574, 575
Пирогов Н.И. 309
Писарев Д.И. 307, 417
Пифагор 59
Пихно 456
Платков М.Я. 359
Платон 59
Плещеев А.П. 82
Плисецкий Д.Е. 617
Плонский С. 500
Плугавин 428
Победоносцев К.П. 77, 88, 153,
237-239, 245, 247, 256, 282, 335,
337, 416, 418
Пожарский Д.М. 307
Позен 284
Полежаев А.И. 462
Поленов В.Д. 502
Поливанов А.А. 257
Поло М. 611
Половцев А.А. 245, 256
Полонский Я.П. 15, 247, 248, 261,
423, 513, 614
Полугаевский Л. 575
Поляков Л.М. 245, 246, 272, 454
Поляковы 245
Поп А. 214
Попов А.Л. 557, 558, 613
Попов И.И. 108, 589
Попов М.П. 177
Попов Н.Р. 101
Поппер К. 309
Порфирий, архимандрит 80, 81, 83
Поссарт 344
Потанин Е. 200
Потапенко И.Н. 451, 609
Потемкин В.П. 359
Потемкин Г.А. 270, 410, 500
Потоцкие 443
Потоцкий А.А. 440-443
Потоцкий А.С. 443
Потоцкий В. 443
Потоцкий Л. 443
Пранайтис, ксендз 434
Прахов А.В. 430
631
Прахова Э.Л. 430
Пржецлавский О.А. 322, 488
Прибульская Г. 588
Прибылев А.В. 200
Прицак О. 10, 11, 531
Прозоровский Д.И. И, 12, 583
Прокопович Ф. 13, 584
Прокофьев Д.М. 562
Проппер 284
Просвердов 329
Протопопов К.А. 60, 67
Пругавин А.С. 53, 587, 588
Прусский А. 398
Пруцков Н.И. 591
Пуришкевич В.М. 493
Пушкин А.С. 13, 91, 140, 147, 187,
232, 247, 270, 285, 287-291,
294-296, 308, 411, 419, 433, 508,
512, 599, 600, 604
Пфеферкорн И. 433, 434
Пшибышевский Б.С. 563, 607
Пяст В.А. 567, 616, 617
Пятковский А.П. 108, 328, 330, 331
Рабин З.Б. 287
Рабинович И. 549, 558
Рабинович О. 533
Радецкий Ф.Ф. 457
Радзивилл, княгиня 489, 494
Радищев А.Н. 94, 95, 113, 140, 286
Радлов Э. 342, 602
Райпли В. 331
Раков И. 33
Раковский Л.И. 25
Рапов О.М. 14, 584
Рапопорт 420
Раскольников Ф.Ф. 612
Распутин Г.Е. 393
Ратенау В. 494
Раузер 572
Рафалович Н. 269
Рачковский С. 489, 490
Раши 531
Рейнталер 420
Рейнак Т. 494
Рейхлин И., фон 434
Рембрандт 91, 293
Репин И.Е. 77, 78, 235, 283, 376, 379,
389, 392, 414, 588
Рерих Н.К. 392
Рети Р. 548, 561, 564, 569, 570, 572,
574
Ретклиф Дж. 487
Реуф-лаша 502
Решевский С 558, 562, 567, 571
Риббентроп Й. 572
Ривесман М.С. 413
Ривьер А., де 534
Римская-Корсакова (урожд. Пур-
гольд) Н.Н. 413
Римский-Корсаков Н.А. 413, 414, 607
Робеспьер М. 521
Рогволд 583
Рогнеда 12
Рогов М.С. 95, 96
Розанов В.В. 137, 240, 362, 410, 427, 524
Розенберг А. 319, 493
Розенберг П.Л. 282
Розенгейм М.П. 595
Розенкранц И. 292, 599
Розовские 255
Ролан Р. 204
Романовы 226, 229, 244, 246, 251, 253,
255, 256
Романов И. 581, 617
Романовский П.А. 516-561, 565, 570,
576, 616
Росси К..И. 392, 393
Россини Дж. 393, 411
Росси С. 393
Ростопчин Ф.В. 266
Ротлеви Г. 544
Ротшильд 76, 304, 305, 308, 342, 428,
506, 507
Рохлин Я. 558
Рочестер 456
Рубакин Н.А. 590
Рубашов А. 600
Рубинштейн А.Г. 237, 238, 247, 301,
421-423, 554
Рубинштейн А.К. 533, 539, 542, 544,
548, 549, 551, 554, 561, 566,
568-570, 573, 574
Рубинштейн И. 396
Рубинштейн Н.Г. 301, 419, 421-423
Рузвельт Т. 495
Русанов ГА. 164, 593
Руссо Ж.Ж. 56
Рустамбеков 395
Рюриковичи 10, 12, 224, 225, 245, 246,
296, 297, 438
Рыбаков Б.А. 583
Рышков Е.П. 603
Саблер-Десятовский В.К. 302, 427
Савенков И.Т. 617
Савицкая И.С. 519
Сакс Г. 514
632
Саломон 284
Салтыков-Щедрин М.Е. 145, 151, 359,
429, 591
Салтыковы 225
Сальве Г. 542, 579
Сальвини 253
Самарин 284
Самойло А.А. 264—266
Самуил Иудейский 42
Самуилов М. 232
Санин И. 20
Санхес А. 22
Сапожников В.В. 200
Саргин Д.И. 537
Саул 531
Сватиков С. 489
Сведенборг Э. 37
Светлов М.А. 426, 608
Свирский А.И. 609
Свирский В. 505
Святослав 9, 11, 16
Северцев Н.А. 371
Секиринский 490
Селезнев А. 576
Селивачев А. 615
Селивский М.И. 159
Селянинов А. 497
Семащковичи 19
Семенов 482
Семенов П.А. 371
Семенов-Тян-Шанский П.П. 284,
383, 460, 588, 610
Семирадский 315
Симон Хагадол 532
Сен-Мартен Л.К. 37
Сенька Жидовин 612
Серафим Саровский 91
Сервантес М. 91
Сергей Александрович, великий
князь 244, 245, 247, 319, 320, 401,
490, 540
Серно-Соловьевич 307
Серов А.Н. 301, 410, 423
Серов В.А. 395, 400, 411
Серова B.C. 607
Сет Б. 470
Сетов Л. 201, 594
Сеченов И.М. 457
Сигизмунд, польский король 431, 440
Сидоренко 320
Сизов В.И. 339
Сикинтен 434
Сикорский И.А. 351
Сильва X., де 22
Сильвестр, священник 69
Сименс 220
Симеон Бекбулатович 69
Симон Кириенянин 511
Симонова Л.Х. 613
Синаев-Бернштейн 393
Синельников И. 594
Синявин И.А. 23
Ситников И. 33
Скальковский К.А. 609
Скобелев М.Д. 463
Сковорода Г.С. 337, 347
Скопин-Шуйский М.В. 307
Скорняков-Писарев Г. Г. 227
Скрипицын В.В. 325
Скрябин А.Н. 347, 390
Славин Л. 529
Сланский Р. 496
Слиозберг Г.Б. 488, 494, 595, 597
Слободинский 362
Случевский К.К. 380
Смера И. 437
Смиренский В.В. 92, 589
Смыслов В.В. 544
Снигирев И. 67, 68
Соболь А. 384
Соколов М.В. 584
Соколовский В.И. 79, 80
Соллогуб В.А. 296
Соловьев B.C. 25, 151, 162, 248, 272,
281, 282, 303, 324, 331-347, 349,
350, 356, 410, 437, 455, 505, 588,
595, 599, 602, 603
Соловьев Н. 607
Соловьев О.А. 227
Соловьев СМ. 603
Соловьевы 227
Сологуб Ф.К. 262, 350
Соломон 58, 133, 251, 376, 377, 414,
491, 492
Солоухин В.А. 397
Сомов К.А. 391
Сорокин 315
Спасович В.Д. 325
Спасский Б.В. 582, 618
Спейер А. 542
Сперанский В. 335, 347, 602
Спиноза Б. 292
Срезневский И.И. И, 13, 583
Сталин И.В. 90, 312
Станислав-Август, король 443, 532
Станиславский К.С. 253, 400
Станкевич Н.В. 303, 600
Станюкович К.М. 247
Стасов В.В. 247, 371, 374, 379, 380,
409, 410, 412-415, 422, 605-607
633
Стасов Д.В. 413
Стасюлевич М.М. 235, 248, 599
Стейниц В. 533-541, 548, 550, 551,
559-562, 564-566, 568, 570,
574-576, 581
Стейниц К. 535
Стейниц Ф. 535
Стеллецкий Д.С. 248
Степанов Ф. 490
Степняк-Кравчинский СМ. 88, 89,
588
Степняк Ф. 88
Стефан Пермский 21
Стивенсон Р.Л. 512, 522
Столетов А.Г. 340
Столыпин А.А. 497
Столыпин П.А. 242, 244, 253, 284,
481, 492, 596
Страхов Н.Н. 91, 163
Строев В. 347, 348, 603
Струве П.Б. 323
Суворины 538, 576
Суворин А.А. 503
Суворин А.С. 356, 390, 420, 456, 538.
542, 607
Суворов А.А. 271, 272
Суворов А.В. 270, 271, 294, 418
Суворов М. 74
Суриков В.И. 315
Сусанин И. 307
Сутин X. 393
Суфи М. 474
Сухарева О.А. 469, 611, 612
Сухомлинов В.А. 262, 266
Сухотин А. 490, 491
Сушкова Е.А. 292
Сфаради М. 531
Схария 436, 507, 509
Сыровайц Д. 444
Сыровайцова М.Д. 444
Сю Э. 512
Сютаев В.К. 145, 191, 199
Таксиль Л. 488
Таль М. 571
Тан-Богораз В.Г. 106, 107
Танеев В.И. 416, 607
Танеев СИ. 416
Тарраш 3. 538, 549, 553, 554, 559, 567,
574, 576, 581
Тартаковер С.Г. 542, 547, 548, 558,
572, 574, 576, 581, 616, 617
Тарфон 129
Тасс 498
Татаринов А.А. 371
Татищев В.Н. 295
Таубенгауз 579
Тейтель Я.Л. 156, 284, 341, 359, 362,
540, 604, 616
Тейхман Р. 542, 544, 570, 617
Теляковский Л.К. ПО, 117
Тенчинская 55
Теплинский М.В. 594
Тиверий 15, 254
Тиде О.Е. 56
Тимирязев К.А. 339
Тимур 372, 373, 469
Титов Г. 221, 236
Тифлов М. 614
Тихомиров Л. 340, 505
Тихонов Н.С 211
Толбухов Е.М. 610
Толочко А.П. 583
Толстая А.А. 163
Толстая А.Л. 200
Толстая С.А. 150
Толстой А.Н. 203, 351
Толстой А.К. 297, 281, 310-312. 314.
316, 317, 342, 600, 601
Толстой Д.А. 76, 161
Толстой И.И. 389, 400, 605
Толстой Л.Н. 47, 80, 91, 94, 98, 112,
113, 116, 119, 121, 132, 136, 141,
144-156, 158-177, 184-187, 190-
192, 197-201, 206, 207, 214, 243,
247, 248, 267, 323, 337, 338, 346,
359, 387, 388, 436, 493, 507, 543,
589-594, 596, 601, 606
Толстой М.Д. 242
Толстой Н.М. 41
Тотлебен Э.И. 457
Третимий И. 523
Третьяков П.М. 414
Троицкий Н.А. 598
Троцкий В.Н. 463
Троцкий Л.Д. 257, 406, 482
Трубецкая Е.П. 273
Трубецкая П.В. 345, 346
Трубецкой С.Н. 344-346, 603
Трутовский К.А. 457
Труханова Н. 268
Тургенев И.С 161, 346
Тургеневы 17
Турчанинов П.И. 270, 271
Туссенель А. 487
Туткевич Д.В. 603
Тырков А.В. 106
Тышкевич А. 443
Тышкевич, гетман 441, 443
Тэн И. 179, 593
634
Тютчев Ф.И. 271, 290, 307
Уварова (урожд. Горчакова) Н.П.
277-280, 282, 598
Уинтер Э. 616
Украинский Л. 102, 589
Уманец СИ. 337
Уманский 3. 27, 28
Урусов А. И. 429
Урусов Л.Д. 158
Успенский В.И. 611
Успенский Г.И. 143-147, 155, 157,
158, 163, 164, 200, 357, 591
Успенский Л. 8
Успенский П. 501
Устинов Е.Ф. 583
Устрялов Ф.Г. 464
Утин 284
Ушаков А.И. 24, 83
Уэльский, принц 376
Фавишевич О.Б. 31
Фадеев А.А. 203
Файн Р. 557, 558, 561, 562, 570, 571
Файнерман (Тенеромо) И.Б. 150
Фальц-Фейн 309
Фахрутдинов Р.Г. 584
Феодора (Сарра), болгарская царица
15
Федоров Н.Ф. 62, 587
Федянин Г.П. 120
Федянин Д. Г. 120, 121
Фейхтвангер Л. 349
Фелейзен 284
Фендрих 568
Феодосии 17, 57
Феодосии Косой 22, 436
Феоктистов Е.М. 236, 237, 267, 596
Феофилакт Лопатинский 23
Фет А.А. 56, 149, 150, 247, 253, 261,
442, 592, 602
Филарет, патриарх 40, 306, 315, 466
Филидор 566
Филипп Красивый 296
Филиппов Б.М. 601, 602, 614
Филиппов М.А. 321, 322
Филиппов М.М. 321-326, 328, 331,
332,601,602
Филонов П.Н. 396-398
Фишер К. 330
Фишер Р. 575, 582
Флавий Иосиф 233
Флисфиш Э. 587
Флобер Г. 47
Флор СМ. 547, 556-558, 561, 567,
570, 579-582
Флоренский П.А. 492
Фокс Г. 514
Фолькман 420
Фомин 313
Фонсека Д., де 22
Форгач (Флейшман) Л. 542
Форд X. 406, 494, 495
Фортунатов А.Ф. 339
Фортунатов СФ. 339
Фортунатов Ф.Ф. 339
Форш ОД. 308, 521, 601
Франк 233, 438
Франк Е. 233
Франкль Л. 318
Франс А. 529
Франц-Иосиф, император 142, 155
Фредерике В.Б. 284
Фрей В. 214
Фрейд 3. 550
Фрейман, фон 542, 579
Фридрих-Вильгельм 434
Фридрих Д. 419
Фридрих II 324
Фрич Т. 494
Фроуд Н. 403
ФругС. 261, 283, 353
Фузаилов Б. 476
Фурман Д.Е. 8, 583, 584
Фурман М. 547
Фурсов М.В. 465
Хабалов 254
Хазановы 35
Халдеевы 8
Хануков А.П. 258
Ханыков Н.В. 459, 612
Хармс Д.И. 504
Харузек Р. 574
Хаузен М., фон 494
Хвольсон Д.А. 453, 599
Херблат X. 489, 494
Хизриев Х.А. 584
Хилков 243
Хирам 519
Хия 129
Хлебников В.В. 14, 210, 213, 216, 584
Хмельницкий Б. 321, 419
Хованские 224
Ховен А.И., фон дер 473, 612
Ходотов Н.Н'555, 616
Хозаровы 8
Холодеин Ф.П. 101
Хомяков А.С 53, 290, 306, 548
Худяков И.И. 96
635
Худяков С.Н. 598
Худеярова 44
Хусейн С. 497
Цвейг С. 292
Цви Саббатай 437
Цейль СВ. 260
Цейтлин М.О. 416, 607
Цетлин М.Н. 611
Цинберг С. 588
Циолковский К.Э. 323
Цион И.Ф. 453, 490
Цицианов П.Д. 462
Цукерторт И. 534-536, 541
Цундер 493
Чаадаев П.Я. 82, 83, 288-291, 297,
303, 588, 595, 599, 613
Чайковский М.И. 423
Чайковский П.И. 247, 248, 347, 415—
424, 607
Чаманский А.Д. 284
Чаплин Ч. 292
Чарушин В.А. 582, 617
Чацкий И.А. 300
Чащихин В.Д. 582, 617
Чебышев Н.Н. 598
Чемберлен 554
Чериковер 363, 604, 608
Чернецовы 376
Чернецов 3. 502
Чернецов Н. 502
Черниховский С. 413
Черный И.Я. 608
Чернышевский Н.Г. 63, 111-113, 138,
311, 417, 587, 590
Черняховский Д.А. 601
Чертков В.Г. 158, 160
Чехов А.П. 233, 247, 248, 390, 543
Чеховер 572
Чигорин М.И. 533-540, 542, 550, 551,
553, 554, 559, 560, 564-568,
572-576, 581, 616
Чижов Ф.В. 304
Чиликин 30, 31
Чингиз-хан 469
Чистович Я.А. 585
Членов А. 12, 584
Чудновский С.Л. 107
Чуковский К.И. 78, 588, 596, 599
Чупров А.И. 339
Шабельская-Борк Е.А. 450, 456, 492,
538
Шабельский М.А. 538
Шабуров Ю.Н. 582, 617
Шаванн П., де 391
Шавельский Г.И. 251, 266, 597, 598
Шагал М.З. 393, 397
Шайла А., дю 490
Шаляпин Ф.И. 555
Шамиль 457
Шамиссо А. 318, 512, 522
Шамкович Л. 618
Шапиро А. 495
Шарапов С.Ф. 127, 160, 161, 319
Шарри 3. 71, 72, 74
Шафиров М.П. 227
Шафиров П.П. 219, 224, 225, 227,
257, 274, 275, 280, 284, 443, 532,
603
Шафировы 232
Шахматов А.А. 248, 319-321
Шах-Мурад 612
Шаховской Д.И. 214
Шацилло К.Ф. 243, 266
Шварц Е.Л. 365
Швыров А.В. 520
Шевцов И. 496
Шевырев СП. 297
Шейн П.В. 410
Шекспир В. 91, 164, 247, 305, 344, 356
Шенгели Г. 530
Шептаев В. 65
Шептаевы 68
Шереметев СД. 335
Шернваль А.К. 272
Шестов Л.И. 410
Шешет 128
Шешковский 287
Шёнберг А. 403, 404, 407, 408, 555
Шиллер Ф. 253, 297, 366, 514, 518,
520, 614
Шильдер Н.К. 596
Шимон бен Лакиш (Реш Лакиш) 129
Шипов Н. 585
Шифферс Э.С 533, 538, 617
Шишкин О. 608
Шишман И. 15
Шкловская М. 610
Шкловский (Дионео) И.В. 107, 592
Шлехтер К. 539, 542, 544, 548, 561,
562, 566, 568, 570
Шлоссер 330
Шляпников 482
Шмаков А. С. 393, 606
Шмидт 533
Шмидт М.А. 155
Шмит Э. 145
636
Шмуэль 506
Шнеерсон Г.М. 403
Шнейдер А.П. 381, 382
Шнербер М. 555
Шнеур Залман бен Барух 286, 287
Шолом-Алейхем 357, 358, 529
Шолохов М.А. 203
Шопенгауэр А. 404
Шохор-Троцкий К.С. 185, 200, 589,
591, 593
Шпильман Р. 542, 547, 548, 562, 573,
574, 617
Штейман 3. 208
Штейн М.А. 470
Штейнер Р. 521
Штейншнейдер М. 531, 615
Штеккер А. 487
Штернберг Л.Я. 107
Штиглиц А.Л. 256, 284
Штифтер А. 20
Штрайх С.Я. 598, 600
Штраус Р. 268, 561
Штроссмайер, епископ 342
Шувалов П.А. 76, 267, 467
Шумков В. 382, 605
Шур Е.А. 127, 129, 130, 590, 591
Эльтедин М.К. 166
Эльазар 128, 132
Энгельгардт А.Н. 151, 155
Энгельгардт М.А. 150, 152
Энгельгардт Н.А. 151
Энгельс Ф. 427
Эразм Роттердамский 433, 434
Эренбург И.Г. 523, 612, 615
Эстерка 15
Эсфирь (Есфирь) 252, 278
Эфрони 506
Эфрон 334
Ювачев И.П. 504, 505, 614
Юдин Г. В. 100, 217
Юдин К.Д. 100
Юдин О.П. 100
Юдина А.И. 100
Юдович М. 581, 616
Южаков С.Н. 515, 516, 614, 615
Юнг-Штиллинг И.-Г. 37, 59
Юнг Э. 37
Юон К.Ф. 400
Юргенсон 422
Юстиниан II 15
Ющинский А. 252
Щеглов Д. 601
Щербаков 350
Щербальский П.К. 601
Щербина Н.Ф. 38, 586
Щербинин М.П. 433
Щепкин М.П. 343
Щепкин М.С. 35
Щуко 313
Эвальд А.В. 609
Эвенсон А.М. 578, 579, 617
Эвенсон М.С. 617
Эверс И.-Ф.-Г. 10
Эйве М. 562-564, 566, 573, 580
Эйнштейн А. 292, 405, 407
Эйтцен П., фон 523-527
Эйхенбаум Б.М. 533
Эйхенбаум Я.М. 533
Эйхман 220
Эккартсгаузен 37
Эккерман 520
Элисказес Э. 562, 566, 571
Элленбоген А. 441
Элпидин 307
Яакоби 506
Ягужинский П.И. 227
Якобсон А. 363
Яков 46, 60
Яковлевы 27, 28, 29
Яковлев 510
Яковлев Б. 27
Яковлев И. 28
Яковлев Н.Н. 496
Якубович-Мельшин П.Ф. 516
Якубовский И.И. 369
Ямпольский П.А. 602
Янжул И.И. 339
Яновский Д.М. 549, 554, 561, 562,
566-568, 575
Яновский С.Я. 590
Янушкевич Н.Н. 257
Ярополк 11, 531
Ярослав Мудрый 16, 17, 19, 314, 498
Ясинский И.И. 318, 319, 343, 427-
430, 436-438, 440, 442, 444-449,
451-453, 455, 456, 606, 608, 609
Ясинский Ш. 556
Яценко (Яковлев) 227
637
Dudakov S. 598
Goetz F. 603
Golb N. 583
Guenther H.S.R. 599
Klubinov Y. 598
MacKelman J. 598
Mieses M. 603
Pritsak O. 583
Дудаков СЮ.
Д 10 Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России: Очерки. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. 640 с.
ISBN 5-7281-0441-Х
"Евреи в России", "еврейский вопрос в России" — этим темам посвящена новая книга израильского ученого. Первая — "История одного мифа" (М., 1993), рассказывающая об истории возникновения идеи о "всемирном еврейском заговоре", хорошо известна отечественному читателю. В настоящей книге на обширном историко-культурном материале автор рассматривает взаимодействие и переплетение филосемитских и антисемитских настроений в российском обществе, их развитие и влияние на общественно-культурную жизнь.
Для широкого круга читателей.
ББК 63.3.(0)
Научное издание
ДУДАКОВ Савелий Юрьевич
Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России
Очерки
Редактор
О. Б. Константинова Художник
М.К. Гуров Технический редактор
Г.П. Каренина Корректоры
М.Е. Побережнюк
Т.М. Козлова
Н.В. Москвина Компьютерная верстка
Г. И. Гаврикова
Лицензия ЛР № 0202 19 от 25.09.96 Подписано в печать 28.03.2000 Формат 60 х 90 1/ 16 Усл. печ. л. 40,0 Уч. изд. л. 43,0 Тираж 1000 экз. Заказ 1972
Издательский центр Российского государственного гуманитарного университета 125267, Москва, Миусская пл., 6 (095) 973-42-00
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в ППП «Типография «Наука» 121099. Москва. Шубинскнй пер., 6