Борис Петрович Екимов
Малая проза в «Журнальном зале»
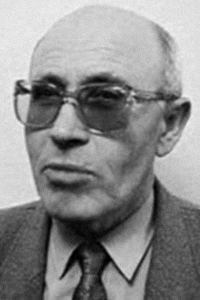
http://magazines.russ.ru/authors/e/ekimov/
содержание
§ Набег
§ Последний рубеж
§ Зять
§ Сосед
§ Белая дорога
§ Фетисыч
§ Миколавна и «милосердия»
§ На распутье
§ Возле стылой воды
§ В снегах
«Отцовский двор спокинул я…»
§ Проснется день…
§ Похороны
§ Итоги «тринадцатой пятилетки»
§ Наш старый дом
Житейские истории
§ «Не ругай меня…»
§ У забора
§ «Звездочка ясная…»
§ Возле старых могил
§ Возвращение
§ В степи
§ Пиночет
Житейские истории
§ Про чужбину
§ Сирота
§ На льду
§ У теплого моря
§ Десять лет спустя
Память лета
§ Степная балка
§ Каймак
§ Лазоревый цвет
§ Живая жизнь
§ Рыба на сене
§ От огня к огню
§ Голос неба
§ Надейся лишь на себя
Житейские истории
§ Мишка
§ Уголок Гайд-парка в Калаче-на-Дону
§ Провожаю
§ День до вечера
Прошлым летом
§ Подарок
§ Возле дерева
§ Смертельно
§ Дед Федор
§ Новое начало, или на колу — мочало
§ Размышления о «земле» и «воле»
На хуторе
§ Приезд
§ Поздний завтрак
§ Кудбовая
§ «Сколь работы, Петрович…»
§ Рахманы
§ Легкая рука
§ Тюрин
§ В полдень
§ На усадьбе
§ В займище
§ Люди и земля
§ Дорога на калач
§ Пасхальный рассказ со взрывом
§ Перед праздником
§ Охота на хозяина
§ Четвертая сила
§ Оставленные хутора
§ Ралли
§ Теленок
§ Хука
§ За окном
§ «Не надо плакать…»
§ Прощание с колхозом
§ Под высоким крестом
Родительская суббота
§ Конец старого дома
§ Ранний приезд
§ Родительская суббота
§ Домовая птица
§ По законам старого дома
§ Яблоня
§ Просто — соседи
§ Летняя кухня
§ Самые счастливые
§ Праздник
§ Марьяна
§ Боль старого дома
§ Юрка
§ Возле дома
§ Из далекого края
§ Гнезда
§ Сироты
§ Мимоходом
§ Музыка старого дома
§ «Слухай сюда!..», или щи рыбные
§ Человек в шляпе
§ Собеседники
§ Долгая осень
§ «Язык наш свободен»
§ «Говори, мама, говори…»
§ Каргины
§ «Ты не все написал…»
§ На воле
Набег
1
Поздним июльским утром через хутор Найденов проехал черный мотоцикл участкового милиционера Листухина. По хутору он промчался быстро. У колхозной кузни, где народ толокся как обычно, не остановился. Видно, спешил.
— Либо где украли чего?— вслух подумал кто-то из мужиков.
— Похмеляться летит, в Ярыжки, к Мане Хромой.
Вторая мысль была интереснее, но имела изъян, который тут же выплыл наружу.
— А то бы он ближе не нашел похмелку… Любые ворота настежь.
Мотоцикл Листухина, перебравшись через плотину за речку, не прямо покатил к Ярыженскому хутору, а взял круто правее, к займищу, и скоро скрылся в прибрежной зелени.
Здесь, на давно неезженной, затравевшей дороге, скорость пришлось сбавить. Мотоцикл тащился порою шагом, продираясь в сомкнувшихся над дорогой ветвях; лишь на полянах прибавлял он ход. А ведь еще недавно колея была набитая: за сеном ли, за дровами, зимой и летом ездили лошадьми. Чаще ночами, таясь, потому что за речкой начинались угодья лесхозовские, куда хуторянам заказан был путь. Но жизнь велела свое. Потаясь косили, рубили.
Теперь лежали поляны некошеные, забитые сухим старником. Никому не надо: ни лесхозу, ни колхозу, ни добрым людям.
Дорога в конце концов выбралась из займищной уремы и весело запетляла меж березовыми с осиной колками. Пахнуло скотьим духом, пресной водой. На речном берегу, на песчаном сухом угоре, открылся летний баз, обнесенный жердями, да рядом, под раскидистыми вербами, немудреное человечье жило: землянка, летняя печка, стол под навесом.
— Здорово живешь! Живой-крепкий?— сойдя с мотоцикла, приветствовал Листухин хозяина, Николая Скуридина, немолодого, худощавого мужика, который растапливал печь.
— Слава богу,— ответил Николай.— Вовремя поспел. Щербу будем хлебать.
— За тем и спешил,— усмехнувшись, ответил Листухин.
Окинув взглядом жилье, скотий баз и приречную луговину, он похвалил:
— Хорошо устроился. А скотина где?
— Внук пасет.
Листухин всю жизнь прослужил колхозным участковым милиционером, имел на плечах погоны лейтенанта и по окрестным хуторам ведал все и обо всех. Про скуридинского внука он знал, что состоит тот в райотделе на учете, имеет три привода и к деду на хутор его отослали родители подальше от греха.
— Вот и хорошо, пусть при деле ума набирается, чем на станции гайды бить,— наставительно сказал Листухин.— А сам так и не пьешь?
— Нет,— мотнул головой Николай.— Язва желудка. Не имею права.
— Она у тебя всю жизнь,— напомнил Листухин.
Николай лишь вздохнул, а потом добавил:
— Выпил, видать, свою бочку.
— Не одну,— уточнил Листухин.
Ему ли было не знать, сколько выпил Николай Скуридин на своем веку. И ловил он его, по пьяному делу, на воровстве зерна и дробленки, и привлекал вплоть до пятнадцати суток. В райцентр приходилось возить. Всякое бывало.
— Правильно делаешь, что не пьешь,— похвалил Листухин.—Я тоже скоро завяжу. Возраст.
Слова участкового Николай понял и поднялся, сказав:
— Сейчас принесу.
— Погоди,— остановил его Листухин, вспомнив, зачем приехал.— К тебе не надъезжали чужие?
— Надъезжали.
— Черные?
— Они.
— И чего?
— Продажнюю, мол, скотину ищем.
— Ищут. Где плохо лежит. Гляди а оба,— построжел Листухин.— На Борисах пять голов гуляка увели. На Кочкаринском — две коровы, телка и бычок. Под Исаковом — двадцать пять голов, ночью, как сквозь землю. А ты — на отшибе. Не дошумишься. Сколь голов у тебя?
— Полторы сотни.
— Да своих, да лесничего, да директора лесхоза, да элеваторских штук пять,— пронзительно глядя на Николая, считал Листухин.— Точно?
— Вроде того…— уклончиво ответил Скуридин.
— Это дело ваше, меня не касается. Тем более новая политика: там — хозяин, там — фермер. Ты еще не фермер?
— Нет. По договору с колхозом.
— Гляди. Нынче же ружье попроси на хуторе. У Зрянина, у Кривошеева. Ружье и патроны. Когда приезжали гости?
— На той неделе. Вроде в субботу.
— Вот и жди. Приценились — теперь карауль. Ночьми. И днем вназирку скотину держи. Парня упреди. Понял?
— Понял,— ответил Николай и спросил: — И никого не поймали?
— Поймаешь…— ответил Листухин.— Хвост — а хворост, и нету их.
Окончив разговор, он одернул голубую форменную гимнастерку и причмокнул. Николай понял его, о закуске спросил:
— Малосольного или молочка кислого?
— Огурец.
Участковый Листухин, при исполнении обязанностей находясь, выпивал всегда одну и ту же меру — граненый стакан. При гульбе — дело иное. а при исполнении — лишь стакан и катил дальше. Под началом его лежала целая страна, когда-то двенадцать хуторов, теперь — поменее, но земли остались те же: полста километров вдоль Бузулука и двадцать — поперек. Еще в давние времена, из сынишкиной географии, Листухин выяснил, что подначальный район его по площади почти равняется европейской малой, но все же стране под названием Люксембург. Ом этим очень гордился и часто говорил: «Равняюсь стране — и везде воруют». И если в райотделе его упрекали, ответ был один: «А я равняюсь целой стране».
Вот и сейчас, опрокинув стакан и закусив, Листухин сказал:
— Упредил. Оружием пользуйся. И надейся на себя. У меня сам знаешь: целая страна — и везде воруют. В Дубовке аккумуляторы сняли, в Вихляевке — резину, в Клейменовке у бабки Лельки пуховый платок унесли.
Листухину можно было и уезжать. Но сладостно расходилась по крови вонючая отрава и все вокруг: близкая речка, летняя зелень, покой,— казалось таким сердцу милым.
— Взять отпуск и к тебе на неделю, порыбалить,— помечтал он.— Тут никто не найдет.
— Приезжай,— пригласил Николай.
— Приедешь…— горько посетовал Листухин.— Голова кругом. Все по-новому. Раньше торгуешь с рук — спекуляция. Привлекаем. В колхозе не желаешь трудиться — тунеядец. Привлекаем. Властям поперек идешь — приструним. А ныне кто во что горазд. К примеру, тебя взять. Пасешь на лесхозной земле. Привлекать? Земля-то лесхозная, трава, речка. Надо бы привлекать, а тебя беречь требуют. А ты к зиме миллион огребешь.
Николай стал оправдываться:
— Люди набрешут. Концы бы с концами свесть. Колхоз мне сам навязал этих бычков, дохлину. Они дышали через раз.
Но Листухин его не слушал и, поднимаясь, повторил прежнее:
— Возьми ружье. И стереги. Чуть чего, стреляй. Разрешается.
Черный мотоцикл участкового резво взял с места и покатил. Николай постоял у дороги, пока не смолк гул мотора, а потом пошел к своему жилью.
Землянка была выкопана на пригорке, под раскидистой вербою. Чуть не в человеческий рост она уходила в землю; стены обложены сухим камышом, им же — накрыто. У стен — два топчана. Под одним из них, в брезентовом грубом мешке, туго запеленутое, лежало ружье. Николай достал его, повесил у входа, на гвоздь.
Солнце между тем поднялось высоко, к полудню. От близкого колка показался гурт. Скотина не торопясь брела к водопою. Перегнав ее, проскакал к речке всадник и, сбросив одежду, кинулся в воду.
Речка была невеликой, с песчаной отмелью на этом берегу, с глубиною и камышами — на том. Туда и поплыл купальщик. И скоро донесся крик:
— Деда, ведро неси!
Николай поспешил к берегу. От камышей, с той стороны, летели друг за дружкою раки, шлепаясь на берег и в воду, на песчаную отмель. Внук нырял и нырял, шаря в камышах.
— Будет!— сказал Николай.— Полведра уже. Вылазь, Артур!— и стал подворачивать скотину к базу, где за жердевой огорожей, в тени тополей и навеса, отдыхали бычки, пережидая полуденную жару.
Оставив промысел, Артур из воды не вылез, а призвал к себе собаку и плавал с нею наперегонки. Николай успел коня расседлать, оживив огонь, поставить на печь казанок для раков, накрыть нехитрый обед себе и внуку: уха, вареная рыба с картошкой, яйца да зелень; собаке — хлебово. Тут и они прибыли: Артур и Волчок.
Внуку исполнилось шестнадцать лет. Он выдался рослым и крепким, волосы носил длинные, до самых плеч — черной волной. После купанья они были мокры и спутанны. Он тряс головою, брызги летели в стороны, словно с Волчка, который рядом отряхивал серую короткую шерсть.
Всегда Николай пас скотину с собакой, приучая к делу с первого года.
Волчок — не чистая в породе, но овчарка — пастушил третий год.
— Кто приезжал? — спросил Артур.
— Участковый.
— Мент? — переспросил Артур, настораживаясь.
— Наш, Листухин. Упредил. Скотину воруют. Кавказские вроде, чечены. В Борисах, в Исаковом увели,— передал он услышанное.— Надо беречься. К нам же подъезжали усатые. Может, приглядались.
Народ кавказский в здешних местах появился в последние годы, селясь на пустых хуторах. Водили скотину, колхозных порядков не признавая.
— Приглядятся,— продолжил свою мысль Николай.— Где пасем, где ночуем. Тут и днем, коли рот разинешь, могут шайку от гурта отбить, в лес ее — и ищи-свищи. А ночью тем более. С хуторов угоняют, с ферм, а тут — воля…— повел он рукой, словно отворяя немереный простор: прибрежные луга, колки, лес, уходящий к чужим хуторам.
— Я им пригляжусь! — вскинулся от еды Артур.— Я их на станции изучил… Наглые рожи… Ружье нынче с хутора привезу.
— Есть ружье,— сказал Николай.
— Где? Покажи! — вскочил из-за стола Артур.
— В шалаше висит.
Артур кинулся к шалашу и вернулся с ружьем, переламывая на ходу стволы, щелкая курком.
— Нормальный ход,— одобрил он.— Патроны чем заряженные? Надо волчиной дробью да жаканом. У них шкуры толстые. Я им кое-что еще придумаю. Кое-какие подарочки,— пообещал Артур, откладывая двустволку и возвращаясь к еде.
— Ты не балуй с ружьем,— предупредил Николай.— Это на крайний случай. И чего случись, не по людям стрелять, а лишь пугнуть.
— Пугну, пугну. Я их пугну,— пообещал Артур, и в голосе его прозвучала такая холодная злость, что Волчок поднял голову от миски с едой.
Опустили в кипящую воду раков. Острый укропный дух поплыл над становьем.
Артур хорошо ел: вареные яйца, рыбу, помидоры, картошку. Лишь молодые зубы посверкивали. Николай же страдал желудком, язвою, и не всякая еда была ему впору, да и годы уже к еде не манили. Клюнешь того-сего — и шабаш. Тянет к куреву, которое, по-умному, бросить давно пора. Да все не получается.
Внук тоже курил. Но вначале он раков съел, деля добычу с Волчком, который с хрустом грыз и глотал.
Раков прикончили. Волчок улегся в тени. Артур задымил сигаретою.
Николай не ругал его: какой прок? Сам в его возрасте баловал.
— Пасутся хорошо,— докладывал деду Артур.— Не бзыкают. Ложиться я им не давал. Пускай кормятся, наедают мяса. Звездарь ногу еще волочит, но помене. Шварцнегер Жеваного гонял. Алка Пугачиха все куда-то стремится. Ревет и целится убежать.
Все быки, которых пасли Николай с Артуром четвертый месяц уже, не враз, но заимели клички. Звездарь, Гусар — нарекал Николай по характеру ли, по виду. Артур лепил имена посерьезней: могучего быка звал Шварцнегером, горластого — Алкой Пугачевой, были у него и Марадона — приземистый черный бычок, и неразлучные Горбач да Ельцин, Рэмбо, Менторез…
Николай согласно кивал, слушая доклад внука. Потом Артур заснул на телогрейке, в тени, рядом с собакою. Николай же, собрав грязную посуду, спустился к речке.
Вода на береговой отмели была тепла. С пологого берега, с лугов, стекал осязаемый полуденный жар. Помыв посуду, Николай было задремал, прямо на берегу, на солнце, но быстро очнулся. Что-то кольнуло сердце, заставило подняться к становью.
Мирно подремывала на базу скотина, укрывшись в тени тополей, под навесом. Дремал Волчок, верная собака. Раскинувшись, спал Артур.
Лицом и статью внук похож был на всех Скуридиных во младости: такой же рослый, бровастый, черные жесткие волосы, словно конская грива. Остричь бы его, чуб напустить из-под фуражки, по-старинному, по-казачьи,— вылитый с карточки дед и прадед, покойники. Николай хотел, чтобы первого внука назвали по деду Михаилом. Но премудрый зять удумал какого-то Артура. Теперь-то привыкли, а прежде язык ломали. Вроде не имя, а кобелю кличка.
Привыкли… Внук вырос у деда с бабкою. Смальства и в хуторскую школу ходил. Уже большого забрали его родители, в райцентре осев, когда намыкались с переездами. Все искали они длинный рубль да божий рай, где не сеют, не пашут. На севере да на юге. Крым да рым…
Но лучше бы пацана не забирали. На хуторе он рос как все, учителя и соседи не жаловались. А за три года райцентровской жизни Артур в милицию на учет попал, курить, выпивать научился, бросил школу. Да и в чем парня винить, если под родительским кровом мира нет, а всякий день лишь ругня да пьянка.
В подножии старой вербы, на корневище, было у Николая удобное сиденье, словно кресло. Нагретое солнцем дерево хорошо держало тепло. И видно было далеко вокруг: вилючая дорога, луговина, лес, летнее небо над ними.
Участковый приезжал не зря. Теперь надо глядеть и глядеть. Вспомнились слова Листухина о деньгах: «Осенью миллион огребешь». Покатилась теперь молва. В чужом кармане люди умеют считать. А курочка-то пока в гнезде. И какое яичко снесет она, знает лишь бог. И сроду не взялся бы за это дело Николай, когда бы не внук, не Артур. Для себя совсем иную жизнь придумал он нынешней весной, когда вернулся из больницы.
2
Николай Скуридин вернулся на хутор из районной больницы в начале марта. Он приехал попутной машиной и три дня носа со двора не казал. Но его углядели. На четвертый день, поздним утром, объявился в скуридинском доме сам Чапурим — колхозный хуторской бригадир.
— Здорово живете… С прибытьем!— поприветствовал он с порога и здесь же, на кухне, сел, далеко протянув большие длинные ноги.
— Слава богу,— ответил ему хозяин, откладывая в сторону нож и картошку, которую чистил, готовясь обеденные щи варить.
Из боковой спаленки выглянула жена Николая — Ленка и, наскоро покрыв нечёсаную голову большим пуховым платком, трубно загудела, жалуясь:
— Да, ему, куманек, все слава богу… В больнице лежал-вылеживался цельный месяц. А я тута одна-одиная. Туды-сюды кинусь. Он пришел — как жених, а я — некудовая.
Толстомясая Ленка сроду была ленивой, а нынче, старея, и вовсе к домашним делам охладела, колхозных же не знала век. И тот месяц, что лежал Николай в больнице, показался ей годом, хоть на базу у Скуридиных коровы не было, лишь козы да овцы, поросенок да десяток кур.
— Он — курортник, а меня — в гроб клади,— подступала она к мужу и бригадиру.
В свои полсотни лет гляделся Николай незавидно: худой, черноликий, вечная седая щетина, зубов половины нет. А из больницы приходил подстриженный, чисто бритый и ликом светел. Какой-никакой, а отдых: спи день напролет, кормят три раза, пьянки нет и за курево ругают. Нынче тем более резать его не стали — и так исшматкованный: не желудок, а гулькин нос — подлечили таблетками да уколами.
— Он жених! А у меня ноги не ходят, руки не владают, в голове…
— Вот теперь и отдохнешь,— уверенно пообещал бригадир и спросил Николая: — На работу когда думаешь?
— Вовсе не думаю,— усмехнулся Николай.— Пока — больничный, а там — может, куда на легкую… Доктора велели.
— Доктора…— махнул большой рукою Чапурин.— Им абы сказать. Где она — легкая? На печи лежать? А семью поить-кормить кто будет?
Привычный бригадирский довод Скуридин отмел легко:
— Откормил, слава богу.
Чапурин даже удивился: ведь и вправду откормил. Пятерых Николаю Ленка родила. Сама не работала. Все — на нем. Прошлой осенью последнюю дочь выдали замуж. А казалось, недавно кипел скуридинский двор мелюзгой.
— Да-а…— задумчиво протянул бригадир.— Вот она, наша жизнь…
Подумалось о своем: сын и дочь тоже взрослые, внуки уже. Но в сторону убирая лишние теперь мысли, он сказал:
— Все равно — работать. До пенсии далеко.
А Николая вдруг осенило:
— Ты мне не ту сватаешь дохлину, какую вчера гнали?
Он на базу прибирался и видел, как тянулся по вихляевской дороге гурт скотины, еле живой.
— Бычки,— сказал бригадир.— Головские.
— Лягушата,— ответил Николай.— Половина в грязь ляжет.
Чапурин тяжко вздохнул. Нечего было ответить. Он отпихивал этот гурт, сколько мог. Навязали.
— Там, в Головке, и вовсе ни людей, ни кормов, ни попаса,— объяснил он.— Там точно передохнут. У нас все же…
— У нас тоже недолго проживут,— сказал Николай.— Им два дни до смерти.
— Значит, не хочешь?
— Нет. Пока на больничном, а там видно будет.
Чапурин поднялся, к порогу шагнув, сказал:
— Ты все же подумай… Дома не усидишь. Надойди завтра в контору, Поговорим. Условия хорошие. Договор дадим… Заработаешь хорошие деньги.
Бригадир нагнулся под притолку низковатого для его роста скуридинского дома и вышел.
Николай похмыкал, головой покрутил, на жену поглядел внимательно. Та поняла его по-своему и завела прежнее:
— Чисти, чисти картошку. Цельный месяц гулюшкой жил, вольничал, а я тута руки обрывала, последнего здоровья лишилась.— От жалости к себе Ленка заслезилась и подалась в спальню, долеживать.
Тридцать лет прожили. Пятерых детей подняли. Привык Николай слушать жену и не слышать ее, делая и думая свое. Чистил он картошку, капусту крошил для щей, а на плите, в кастрюле, уже кипело.
Была у Николая мысль, которая появилась в больнице, а теперь все более пленяла. Очень простая мысль: не работать в колхозе. Послать всех… И сидеть на своем базу. От своего огорода, скотины, конечно, никуда не денешься. Иначе ноги протянешь. А на колхозную работу не ходить. Он — человек больной. Это все знают. Отработал свое честно, тридцать с лишним годков при скотине. Хоть на базар стаж неси. Работал, детей поднимал. Теперь вдвоем остались. И много ли им надо? Прокормят огород, козий пух. Еще бы корову, чтоб молочную кашу варить. И больше ничего не надо. На себя трудиться. А колхозное — с плеч долой. Спокойно пожить. Порыбалить на пруду, на речке. Николай любил с удочкой посидеть. Но редко удавалось.
И еще один был резон, очень весомый. Николаю пить надоело. Водочку эту, пропади она… Смолоду — весело. А нынче стало уже тяжело. В больнице полежал, трезвый, и как-то особенно ясно понял: хватит пить. Как вспомнишь на трезвую голову, даже за сердце берет: то ли стыдно, то ли жалко себя. Жизнь уже на краю, на излете. А чего в ней видал, в этой жизни? Скотина, ферма, навоз… Стылый ветер — зимою, летом — пекло. От темна до темна. Круглый год одна песня, из года в год. В отпуске ни разу не был. То подмены нет, то копейку лишнюю стараешься сбить. Пятеро детей — не шутка. Одежда, обувка… И чем старше, тем больше надо. А женить ли, замуж выдавать — вовсе пожар. Последнее улетает. Но теперь, слава богу, все позади. А себе ничего не надо. Лишь покоя просит душа.
Такие вот мысли бродили в голове Николая Скуридина. Пришли они в больнице. А теперь все более забирали.
Три дня потихонечку прожил, из двора не выходя. И был рад этому. Не торопясь на базу управлялся. За месяц скопилось дел. Но никто не гнал. Можно было и посидеть на мартовской весенней воле, где за день — сто перемен. То припечет солнце по-летнему, то вдруг — ветер, туча, метель, сумятица снежных хлопьев, соседские дома тонут в сумерках. В дом уйдешь, там — тепло. А на воле тем временем снова — солнце. И тугой, ровный ветер несет и несет с полей дух парящей земли и первой зелени, особенно сладкий после больничной неволи.
Так прошел день, другой, третий. Чапурин, хуторской бригадир, объявился и пропал. Жене Николаевы планы пришлись по нраву: при муже-домоседе она могла спокойно болеть и болеть, не отвлекаясь к делам домашним.
В конце недели, в полуденную пору, подъехал к скуридинскому дому новый гость — главный зоотехник колхоза, молодой еще мужик, белобрысый, улыбчивый. Он в хату зашел, поздоровался, спросил у Николая:
— Ружье где?
— Какое ружье?— не понял Николай.
— С каким ты жену сторожишь. В конторе так и сказали: Николай Ленку с ружьем от миланов охраняет.
Николай усмехнулся. А в спаленке-боковушке заскрипела кровать, и неожиданно резво выбралась к мужикам сама Ленка, успев на голову цветастый платок накинуть.
— Бесстыжие… Наплетут… Языки бы у них поотсохли…— принялась корить она хуторских брехунов.
Но эта небыль пришлась ей по душе, взбодряя вялую стареющую кровь.
— А чего…— не унимался зоотехник, прощупывая ее взглядом и ободряя.— Ничего еще.
Круглое лицо Ленки оживело. Взбодрил ее голос и вид молодого мужика, усатого, белозубого, с охальным взглядом. Она таких любила. И прежде приход этого белобрысого кончился бы лишь одним. Теперь пора ее миновала.
— У нас наплетут… Лишь слухай…— опуская глаза, оправдывалась Ленка.
— Наплетут. Вы сами такое сплетете — не вырвешься,— посмеивался зоотехник. А потом Николая спросил: — Чего домоседуешь? Хвораешь?
— Да так себе…— пожал плечами Николай.— Хвалиться дюже нечем, а гориться не с руки — живой.
— Не хочешь гурт принимать?
— Дохлину?
— Это точно,— признал зоотехник.— Довели до ручки. Но можно поднять.
— Он уж отподымался,— встряла в разговор Ленка.
— Точно?— весело хохотнул зоотехник, намекая на стыдное.— Отподымался? При такой бабе? Не верю. Ленка засмущалась, довольная.
— Кто об чем… Вы, мужики, вечно об своем.
— Дело житейское,— оправдался зоотехник и посерьезнел.— Разговор к вам, к тебе, Николай, и к супруге. Тот гурт, конечно, дохлина, один день до смерти. Но на нем можно хорошо заработать. Скотину ты знаешь, всю жизнь при ней, не мне тебя учить, лучшего скотника колхоза. Ты сможешь его поднять. И дома ты все равно не усидишь. Бери этот гурт на договор. Ныне ли, завтра переважим. Весь привес при сдаче твой. Оплата — по сложившимся ценам. Какие осенью будут, по тем и платим. Корма, какие возьмешь,— с тебя. Остальное — в твой карман.
— Их половина передохнет,— сказал Николай.
— Отбракуй. Вовсе некудовых мы сактируем, спишем. Лишь бы остальных поднятъ.
— Это вы ему новую казню придумали,— враз определила Ленка.— Новый хомут, какой для дураков.
— Всем нам, Елена Матвеевна, в новый хомут лезти,— поскучнев, сказал зоотехник.— Сами видите, слышите. Телевизор галдит и газеты. Указ президента, постановления. Новая метла метет. Куда деваться. А для вас дело предлагаем выгодное. Бычата плохие, но были бы кости, а мясо Николай сумеет наростить. Не впервой. За него и получит.
— Кто-то за него получит,— впрямую залепила Ленка.— Начальнички получат, а дураку — лишь взашей.
— Нет!— твердо сказал зоотехник.— Все как на ладошке! Переважим бычков, подпишем договор, и они в твоей воле: хочешь — в колхозе корма бери, хочешь — на базаре, нас не касается. Сдаточный вес наберут — примем по сложившимся ценам. Какие будут. А управляйтесь сами. Сладишь — один работай. Захочешь — возьми напарника. Зятьев призови, сынов. Апрель, май…— считал зоотехник.— Семь-восемь месяцев впереди. Таких можно быков выкормить — по пять центнер. Не меньше ста тысяч заработаешь.
— Заманивать мастера…— не поверила Ленка.— Набрешете — кобель не перепрянет.
— Пишу расписку,— с ходу предложил зоотехник.— Если Николай при сдаче получает меньше ста тысяч, я доплачиваю из своего кармана. Писать?
— Чего это ты добрый такой?— спросила Ленка.
— Я не добрый, я считать умею. Не выйдет сто тысяч, доплачу. Но…— погрозил он.— Если будет выше, то все, что сверху, отдашь мне. Вторую подпись тоже поставь. Ясно?
Такой поворот Ленке не понравился, она поглядела на мужа вопрошающе.
Николай лишь сидел и вздыхал, слушая зоотехника да жену. Он понимал, что взнуздывают его и хотят запрячь, а потом придется везти. Не хотелось.
Наработался он за жизнь. Наломался.
А деньги что… Денег, если припомнить, было и перебыло в руках. Но проку от них? Не денег хотелось — покоя. И потому ответил он зоотехнику прямо:
— Не пойду. Ищите других, помоложе.
И, провожая гостя на волю, к машине, повторил еще раз:
— Не пойду. Лишь из больницы. Не оклемался. Врачи велели полегче тянуть.
Вечерний автобус из райцентра прогудел у амбаров и покатил на Вихляевку. Видно, дорога совсем обсохла.
Николай с Ленкой гостей не ждали, а они уже были рядом, пройдя от автобусной остановки задами, через гумно.
Стукнула дверь, и объявились. Старшая дочь Анна шагнула через порог:
— Хозяева дома? Живые? Здорово дневали!
За спиной ее, возвышаясь над матерью, стоял Артур, без шапки, черные волосы до плеч.
— Здравствуйте,— тихо промолвил он.
Николай поднялся навстречу. Ленка заохала, выбираясь из кровати.
Упреждая вопросы, дочь объявила:
— Я тем же автобусом — назад, шофер скоро подъедет. Привезла вам сыночка, пусть перебудет хоть месяц. Иначе в тюрьму посадят.
— Языком болтаешь…— хмуро проговорил Артур, подсаживаясь к печке.
Курточка на нем была легкая, а под ней — тонкая футболка с портретом девки ли, парня с длинными волосами.
— Замолчи!— возвысила голос Анна.— Спасибо тетке Таисе, ее Лешка — в милиции, передал. На хутор его отправьте, к дедам. Взорвали киоск у армян.
— Ты знаешь?! Я его взрывал?!
— Замолчи! Тот вечер от тебя и вправду гребостным несло, какой-то гарью. А раньше мопед украли.
— Я украл?— зло спросил Артур.
— Замолчи! Тягали-тягали с этим мопедом. Потом с мотоциклом. Участковый замучил. То подрались возле клуба с чеченами. Тетка Таиса так и сказала: тюрьма по нем плачет. Пусть на хуторе перебудет месяц-другой.
— Ага… Буду я тут два месяца сидеть… Жди…— угрюмо пообещал Артур.
— Замолчи! Будешь сидеть.
Толком и не успели поговорить. Лишь собрали дочери картошки, луку да сала, как засигналил автобус, и она уехала.
Артур в хлопотах участия не принимал. Как сел у печки, так и сидел.
Николай внука жалел, но с горечью понимал, что на хуторе тот долго не просидит, хорошо, если выдержит неделю-другую. И запылит. А там, в райцентре, снова те же дружки, те же дела. И днем раньше, днем позже, а тюрьмы не миновать. Нынче вывернулись — завтра попадутся. Посадят, и сгубится там навовсе. А жалко… Так жалко… Виделся внук маленьким, ласковым. Он и сейчас был неплохим. В больницу к Николаю ходил, печенье приносил, мягких булок, домашних блинцов. В плохое не верилось, а оно уже подступало. И как его отвести…
Наутро Артур долго спал. Вчерашняя злость прошла. И вправду стоило отсидеться на хуторе, пока утихнет весь шум и гам вокруг этого паршивого киоска.
В хате топилась печь. Шкворчала яичница с картошкой и салом. Дед Николай, увидев, что внук проснулся, спросил с улыбкой: «Выспался?» Все же хорошо было у деда на хуторе: тепло, сытно и никто не ругался. Не то что дома.
Потом во дворе разбирались в сарае, вытягивая оттуда всякий хлам. День был не больно погожий, порой моросило; но одели Артура в шерстяной, пополам с козьим пухом, вязаный свитер да телогрейку, на ногах — сапоги, теплые носки, в портянках. После сытного завтрака, в доброй одежке весенняя морось лишь свежила молодое лицо.
Вытащили рассохшиеся бочки, разломали мазаный плетневый хлебный ларь. Отыскались два старых облупленных мопеда, на которых катался Артур, когда рос у деда на хуторе. Эти железяки он сам из хлама собирал, налаживал, и они ездили, к удивлению Николая.
— Может, подделаешь?— спросил Николай.
— Народ смешить. Люди на «Явах» летают, а я буду на драндулете.
Николай ответил просто, как думал:
— Заработай и купи «Яву».
— Заработай…— желчно передразнил Артур.— Уже раз заработал, хватит.
Прошлым летом он устроился в райцентре на местный заводик. Месяц честно трудился. Получил копейки.
Сам Николай когда-то в таких годах мечтал о гармошке да хромовых сапогах.
Он вынул кисет с табаком, какой успел с утра насечь и высушить. Артура угостил, тот не отказался, но спросил;
— Ты же бросил? В больнице не курил?
— Брошу,— пообещал Николай и сказал главное: — Можно заработать на «Яву». Есть одно дело.
— Знаешь, сколько сейчас «Ява» стоит?
— Я говорю, можно заработать,— повторил Николай. И продолжил: — Меня сватают на гурт. Но скотина плохая, дохлина. Бригадир приходил, за ним — зоотехник. Я отказался. Тяжело. Напарника взять? Кого? Челядинского зятя? Или Кирюшку? Работать на них? Не хочу. А вот с тобой вдвоем я бы взялся. Ты — молодой, в силах. А главное — свой. Если хорошо потрудимся, на мотоцикл заработаешь, я — на корову.
— На какую корову?
— Коровка нужна. Я же — молошный. Тем более язва. Надо заводить. А добрая корова, из хозяйских рук, нынче в цене. Не меньше пятнадцати тысяч, а к осени — вовсе дороже. Денег нет, все на Таисину свадьбу ушли. Потом болел. Так что гляди. Согласишься, с тобой я возьмусь. Гурт тяжелый. Много работы. Особенно попервах, пока на ноги поднимем да зеленка пойдет.
— А точно заработаем?
— Чего бы я брался?
— Это же до осени?
— До осени. В сентябре — октябре сдавать.
— Деньги мне лично отдашь?— по-прежнему не верил Артур.
— Договор будем вдвоем подписывать. Получать всяк свое, на руки. Алый мотоцикл… Стройное его тело, теплое, живое, дрожащее от нетерпения… Скорости просит, бешеной гонки, полета… Как он желал его. Не надо еды, тряпок, джинсов этих поганых, кроссовок, курток. Лишь мотоцикл. Сияющую краской и никелем красавицу «Яву».
— Ты меня не обдуришь, дед?— тихо спросил Артур, глядя недоверчиво, исподлобья.— Не обдуришь?
— Тебя дурить — значит себя дурить. Паспорт имеешь на руках, сам договор подпишешь. Работа пополам. Барыш пополам. Бухгалтерия мне твоих денег и не даст. Не положено, по закону.
— Тогда берем,— так же тихо сказал Артур.
— Тяжелый гурт,— еще раз упредил Николай.— Тощак. Работы с ним много. А я из больницы. Больше на тебя надежа. Гляди, парень.
— Берем,— громче повторил Артур и добавил твердо: — Я сказал: берем!
— Берем так берем.
3
Пережидая полуденную жару, скотина отдыхала на базу, в тени, чтобы снова пастись дотемна. Бычки за лето отъелись: тяжелые лобастые головы, могучие загривки, просторные спины, хоть гуляй на них; короткая шерсть атласно светила. Скотина не помнила, какой была она по весне. Но Николай помнил, как пришли они с Артуром и колхозным начальством на скотный баз и как тяжко было глядеть на колченогих задохликов в сбитой шерсти, в грязных сосулях. Острые кабаржины спины, крестцы и ребра — наружу, потухшие глаза. Ни голову, ни хвоста не поднимут. Теснились бычки в затишке, а десятка два вовсе лежали под крышей, во тьме, отдыхая после долгого перехода, а вернее, готовясь к новому, в мир иной.
В этот день председатель колхоза, говорливый Липатыч, слова поперек не сказал, принимая все условия Николая: цены покажет время, так и записали: «по сложившимся на октябрь — ноябрь ценам»; пять голов, какие уж почти не дышали, сразу оформили актом как падеж.
Председатель подписал договор и уехал; раз-другой наведался и с тех пор везде говорил: «Требуют из района, чтоб перешли на новые формы работы. Вот и переходим. Скуридин у нас на полной свободе».
Чего-чего, а свободы Николаю за глаза хватало. Особенно на первых порах, когда оказался он с пустыми руками да полудохлым гуртом, которому для поправки были нужны не солома да кислый силос, а добрая еда.
Свободы нынче и впрямь хватало.
Два десятка доходяг из гурта переправили домой, на свой баз. Артур там хозяйничал, трижды в день готовил для бычков горячее пойло, запаривал свеклу, картошку.
Зоотехник, ветврач помогли лекарствами. А корма добывали сами.
Освежевали овечку и в обмен из райцентра с мельницы привезли две машины мучных отходов. Добыли свеклы и патоки. Лесничему отвез Николай большого сизопухого козла, на него вся округа завидовала. И сговорились быстро: два воза сена взаймы, а главное — лесхозовская земля. Снег сошел — и паси там: сначала старая трава, а потом зеленка пойдет. Лесхозовскому директору Николай выделил двух бычков из списанных, всю скотину лесничего взял до осени под свою опеку. Наука была простая и верная ты — мне, я — тебе.
И теперь лесхозовские угодья, отрезанные от иных земель огромной речной дугою, были в Николаевой власти. Над речкой поставил он летний баз, землянку и ранней весной ушел из хутора со скотиной и молодым помощником — внуком.
Жизнь потекла вроде прежняя: паси да гляди; лишь на хуторе пошли разговоры, что Скуридин колхоз обманул и осенью огребет миллион.
Но до осени еще нужно было дожить. В полях царило лето зеленое. И выпущенный Николаем гурт неторопливо вытекал с база на волю.
Чуткий Волчок тут же поднялся и рыкнул, будя молодого хозяина. Тот быстро собрался — коня подседлал, взял в сумку харчей и прогарцевал мимо Николая: старая шляпа надвинута на лоб, черные жесткие волосы — до плеч, ружье — за спиной.
— Ты, гляди, не балуй,— предупредил Николай.— А то зачнешь сорок стрелять.
— Порядок, дед, порядок… Стрелять будем нужных.
Артур пришпорил коня и поскакал, обгоняя гурт. Верный Волчок бежал, чуть отставая от лошади.
У Николая же были свои заботы. С майской поры косил и косил он, набирая сено. Разжился конной косилкой да граблями. Выбирал хорошие поляны в займище, в лесу. Косил, сушил, ставил копны. Отдал долг лесничему. Свое сено на хутор свозил. И снова косил, сушил, запасая.
На займищных полянах, в безветрии, томился сухой жар. Но дышалось легко.
Николай летнюю пору любил. Все хвори уходили, прогревались кости и жилы, настывшие за долгие зиму да осень, в слякоти, на ветру, под зябким небом, когда защита одна — заношенный серый ватник да стакан-другой вонючего самогона. Летняя жара была Николаю в подмогу, бодря остывающую кровь. Работалось в такую пору легко. Тем более нынче, когда вилами ворочал он скошенные вчера и уже подсохшие легкие валы сена.
Прошел час и другой. Солнце стало клониться к вечеру. Пора было внука подменить, отправив его за харчами на хутор.
У стана Николай не задержался, лишь коня заседлал и поехал к гурту.
Скотина паслась в просторной луговой падине, перед лесом. Еще издали Николай услыхал девичий смех и не удивился. Напрямую, через речку, до хутора было верст десять. И давно уже, с самой весны, прибегала к Артуру зазноба, как и он сам, зеленая девчонушка.
Заметив Николая, молодые вышли навстречу из-под сени дубков.
— Надбеги на хутор,— приказал Николай.— Хлеба, картошки возьми, яичек, другого чего.
Артур деду ружье передал, девчушку подсадил на коня, задирая сарафан донельзя, и сам в седло уместился.
— В тесноте, да не в обиде,— с усмешкой проговорил Николай, провожая их взглядом.
Гурт пасся, вольно рассыпавшись зеленою луговиной. Николай взглядом его обошел и слез с коня. Верный Волчок, проводив молодого хозяина взглядом, к Николаю поднял глаза, словно сказал: конечно, хотелось бы пробежаться до хутора… Но понимаю, работа… Дневная жара спадала. Близился вечер. От желтого солнца тянулись длинные тени. Как всегда, по прохладе бычки начинали кормиться истово, жадно, словно стараясь наверстать упущенное во дню.
Легкий земной ветер шелестел маковками дубов и берез на опушке. Ветер небесный гнал и гнал полегоньку несчетные стада далеких, белью сияющих облаков. Над приречным зеленым займищем, над лугами летнее небо лежало так просторно, что лишь малую часть его охватывал взгляд и бродил там от близкой лазури, голубизны к далекой, за лесом клубящейся сини.
Покойно клонились к вечеру земля и небо, баюкая людскую душу миром и тишиной.
В который раз уже Николай, усмехаясь, думал, что больничные мечты его нежданно-негаданно стали явью. Хоть и работать пришлось — куда ж без работы?— но никто не шумит и пьянки нет, а с ней — ругни. Текут дела, дни бегут. Вот он — август. Месяц-другой — и работе конец. И о дне завтрашнем можно думать спокойно, прикидывая так и эдак. Сенцо есть, дробленка и жмых. Можно телят купить осенью, поездив по хуторам. И поставить в зиму на своем базу. Но уже та скотина будет своей. Коли приходит новая жизнь, чего бояться ее. Может, она и лучше будет, чем колхозная. Там ведь сроду хозяина нет и товар плачет.
Поздно вечером, когда уже остывали высокие розовые облака, вернулся Артур. Волчок прежде хозяина услышал мягкий топот копыт, насторожился, на Николая глянул.
— Чего?— спросил Николай.
Волчок взвизгнул от нетерпенья, подаваясь навстречу Артуру, но прося дозволенья.
— Беги встревай,— разрешил Николай,— и ворочайся сюда. Будем ставить скотину на баз.
Волчок унёсся стремглав к молодому хозяину. Тот был уже близко, сворачивая к жилью.
У землянки Артур быстро спешился, снял мешки с харчами и, поглядев в густеющую тьму, туда, где был Николай, отвязал от седельной луки дерматиновый школьный ранец. Его он унес и схоронил с глухой стороны землянки, под камышовой крышей. А уж потом поскакал к деду, гнавшему быков на ночлег.
Скотину заперли на ночь. Поставили чайник. И только здесь, в неверном свете печного огня, Николай углядел, что за плечами внука новое оружие.
— Это что?— спросил он.
— Мелкашка. Сгодится,— сказал Артур, снимая винтовку.— Нас ведь двое, а ружье — одно. Пусть только сунутся. Я им покажу… Я им устрою,— грозил он, жалея, что нельзя похвалиться привезенным в дерматиновой сумке. Лучше утаить до поры.
Зато содержимое харчевых мешков он выложил без утайки. Николай привозил из дома хлеб, крупу, старое сало да огородную зелень. Артур — свежесбитое масло, сметану, пирожки да пышки — словом, тещины гостинцы.
— Не зря тебя кормят…— посмеивался Николай.— На Покров быков сдадим да засватаем.
— Меня «явочка» ждет, дорогуша… Сил набирается,— отнекивался Артур.
— А то гляди… Прадед твой, мой отец… его быки женили. Пора пришла, девка по нраву есть, а свадьбу играть не на что. Нет денег. И тут пропадает пара быков. После уборки. Какая беда… туда-сюда кинулись, искали-искали. Нет быков, свели. А к Никольской ярмарке вдруг объявились. Да такие рогали: откормленные, аж блестят. Оказывается, отец их угнал тайком через Мартыновский лес, к Дону, в самую глухомань, от жнивья далеко. Там остров есть, просторный, с травой. На остров переправил, там и паслись. Корм хороший, отъелись они; потом лист падал, зажирели. На ярмарку их пригнали, в станицу. Купец Чертихин из Москвы как увидал, аж затрясся. Двести шестьдесят пять рублей сразу дал. Продали, себе купили худых быков, за сто семьдесят рублей. Остальные деньги — на свадьбу. Вот тебе и быки… Женили. И тебя — тоже…
— «Явочка» меня ждет…— твердил Артур, посмеиваясь над добрым, но непонятливым дедом.— Летать будем. В-ж-жить!— и на хутор. В-ж-жить!— и на станции. В-ж-жить!— и на краю света. Ты понял?— счастливо жмурился Артур. Он видел и чуял себя в седле, на дорогой сердцу «Яве».
Рев и скорость!
А когда, отужинав, ушел он в шалаш и уснул, то во сне видел то же, что наяву: алый мотоцикл, летящий теперь уже по иным, небесным, дорогам. Провожал его раскатистый громовой грохот; звездная пыль отлетала прочь. Сердце обмирало не от испуга — от счастья.
Грохот и разбудил его посреди сладкого ночного сна. Что случилось, он понял не вдруг. Но грохнул другой выстрел. И пришло пониманье.
Выбежав из шалаша и не забыв про мелкашку, он крикнул в темноту:
— Дед! Ты где?
— Здесь я…— ответил Николай, невидимый во тьме.
Артур припал на колено, вглядываясь в брезжущую темь августовской ночи, и в тишине услышал голос уходящего автомобильного мотора.
— Уезжают, дед?!— громко спросил он.
— Вроде…
Тогда Артур кинулся по белеющей во тьме дороге. Пробежав десяток метров, он поднял винтовку и выстрелил в уходящий звук, тут же вспомнив, что коробка с патронами в шалаше.
— Куда побег?!— окликнул его дед.— Догонять, что ль?
Артур вернулся и не сразу углядел Николая. Тот, стоял во тьме, сливаясь со стволом дерева, подле самого база. Рядом рвался с поводка Волчок.
— Куда побег?— повторил Николай.— Стой здесь. Может, кто притаился.
Артур не послушался, но уже крадучись, с оглядкой сбегал в шалаш за патронами. Он и потом к деду не вернулся, а, присев с винтовкой наизготове, стал вглядываться. Глаза обвыклись. Слух обострился, но ловил лишь ропот листвы да нетерпеливое повизгивание Волчка.
До утра еще было далеко. Звездного света хватало, чтобы увидеть темные купы деревьев, горбылевую огорожу, дальше сгущалась мгла.
Артур только что не повизгивал, как Волчок, но била его крупная дрожь нетерпенья. Внагибку он подбежал к Николаю и спросил негромко:
— Чего было?
Николай, Насторожив ухо ладонью, вслушался во тьму:
— Не слыхать?
— Нет.
Николай отдал ружье внуку:
— Оба ствола заряжены. Сиди здесь, а я пойду погляжу,— и добавил громко: — Чуть чего, стреляй картечью! Бей напрямую!
С собакой на поводке, с мелкашкой наперевес, Николай пошел вдоль городьбы база, проверяя ее. Встревоженная скотина сбилась темной кучею. Обошли почти всю городьбу, но в дальнем углу, возле навесов, Волчок вдруг рыкнул и натянул поводок.
— Со мной…— приказал Николай и громко спросил: — Кто здесь? Артур!— крикнул он.— Держи на мушке!— И снова спросил: — Кто здесь?
— Лупану! Лишь шумни!— отозвался Артур.
В сумраке скотьего навеса ничто не шевельнулось. Волчок продолжал тянуть от база. Николай с трудом держал его, приказывая: «Со мной…» Миновав стену навеса, Николай вынул фонарик, зажег его и, вернувшись, прошел прежний путь, освещая горбылевую огорожу желтым лучом. Все было цело.
Не до конца поверив, что опасность ушла, Николай вернулся к Артуру, сказал ему: «Присядь» — и сам устроился радом, в подножии дерева, стал рассказывать:
— Ты уснул. Я прибрался. Волчка привязал тут, у база. Хотел лечь. А потом думаю, дай посижу покараулю. Далеко, услыхал, машина гудит. Гудит и гудит. Вроде идет к нам, а света не видать. Из леса выехала, должен быть свет, а нету его. Хотел тебя будить, а машина смолкла, остановилась. Но от нас вроде далеко. Я жду, а ее — нету, молчит. Молчит и молчит. А потом Волчок как кинется… Я кричу: «Кто идет?» Молчат, а Волчок рвется. Тогда я и пальнул; не дюже низко, скотину боялся задеть. Пальнул — и чую, кто-то побег. Убегает. И вроде не один. Я еще пальнул. Бегут. А потом машина завелась.
— Надо бы не верхом. Надо бы напрямую их, гадов,— сказал Артур.
Прислушались. Ночная тишина молчала. Шумно вздыхали быки. Ветер шелестел в маковке дерева. Стрекотали сверчки.
У-гу! у-гу! у-гу!— прокричала за рекою птица.
Первые петухи начинали петь далеко, на хуторе.
Посидели еще, подождали. И теперь уже вместе, Николай с собакою впереди, пошли к дальнему углу, где рвался Волчок.
И снова он потянул от городьбы в сторону.
— Стой здесь, я пройду,— сказал Николай.
Прошли недалеко. Волчок кинулся и схватил что-то темное.
Это была кепка. Уже потом, на свету, разглядели ее: большая серая кепка, новая, но уже сальная от грязи на подкладке, по ободу околыша. Пахло от нее одеколоном.
Остаток ночи не спали. Когда развиднелось, сходили дальше и нашли след машины, разворот ее.
4
С утра Николай отослал Артура на хутор с наказом:
— Кум Петро вечером пускай надъедет, с ружьем. Передай ему, что и как, но чтобы не болтал. Узнает начальство, заставит на ферму вернуться. А там не привесы пойдут, а отвесы.
Артур ускакал, Николай пас быков, стараясь держать их дальше от леса.
Он курил за цигаркой цигарку, боясь задремать, и слушал, не раздастся ли гул мотора, редкий в этих местах, а теперь и опасный.
Но тихо было в лугах. Лишь трель жаворонков, щебет ласточек да быстрые скворчиные стаи с шумом проносились над головой.
Гул автомобильный все же появился. Машина шла по займищному лесу, от Ярыженских лугов, от хутора, а значит, была колхозной. Но Волчок насторожился, и Николай, тревожась, вглядывался в зелень уремы: кого еще бог несет?
Наконец из займища выбрался «УАЗ». Добежав до первого пригорка, он огляделся с него и покатил прямиком к гурту. Машина была колхозной. У Николая от сердца отлегло. Волчок еще порыкивал, тревожась, пока хозяин не успокоил его;
— Свои, Волчок, свои…
Машина остановилась недалеко, и Николай пошел к ней, встречая председателя колхоза — Липатыча, Алексея Липатыча, для кого как.
Липатыч два десятка лет уже начальствовал в колхозе, поседел здесь. А прозвище имел Медовучий — за сладкие речи.
— Здравствуй, здравствуй, хозяин,— выходя из машины, с улыбкой приветствовал он Николая, жал ему руку.— Хозяин, настоящий хозяин. Скотина, попасы — все вокруг твое,— разводил он руками.— Кузьма Скоробогатый. Вы все теперь — хозяева. А Липатыч — на подхвате. Достань, добудь, обеспечь. Вот мои функции.
Николай переминался, смущенный.
— Такая жизнь пошла,— продолжал председатель.— Спасибо, что в шею не гоните. А то ли еще будет? Да, уже сейчас… Вчера в пять часов дня подъезжаю к комбайнам, они просо убирали. Комбайнеры домой собираются. Конец рабочего дня. И я им — не указ. Ты, например… С хутора увеялся, и слуху о тебе нет. Где ты, что… Может, половины гурта уж нету. Воровство вокруг.
Липатыч лил и лил свои речи, гурт обходя и оглядывая бычков.
— Но за тобой как в затишке. Ты — человек надежный,— хвалил председатель.— Тем более не пьешь теперь. Не пьешь ведь?
— Не имею права. Язва,— объяснил Николай.— Да и годы…
— Таких людей мы всегда поддержим,— обещал Липатыч.— А то едут из города, землю им подавай, новым хозяевам. Бычка от телки, пшеницу от ячменя не отличат… Дай землю! Будем жаловаться! И жалуются…— сокрушался Липатыч и тут же строжел: — Но мы у них в поводу не пойдем. Мы своих людей будем поддерживать, таких, как ты. Быков вырастил на завид! Они, считай, подыхали. Я помню весну, когда их из Головки пригнали. Вот ты — настоящий хозяин. И внук при тебе, молодые руки. Хоть сейчас берите любую ферму. На Соловьях — золотое место. Ферма, вода рядом, попасы. Сдашь быков, пиши заявление. Своим людям, какие колхозу жизнь отдали, мы всегда пойдем навстречу. А пришлым… Извините. Колхоз разбазарить легко. А кто потом страну кормить будет?
Когда гурт обошли и возвратились к машине, Липатыч сказал:
— Просьба к тебе. Не приказ, а большая просьба. Приказывать я тебе не могу. Договор подписан, ты — хозяин. Но прошу убедительно. Выбери пяток быков на продажу. Денег в колхозной кассе нет. Ни людям заплатить, ни купить чего. Плохо с деньгами.
— Самый нагул, привесы идут,— принялся объяснять Николай.— Тут и на погляд видать, не меньше килограмма в день прибавляют…
Липатыч остановил его:
— Все верно. Я сам по специальности зоотехник, понимаю: не время под нож пускать. Но положение безвыходное. Пустая касса. Надо… Понимаешь такое слово: надо.
Николай знал, что нельзя отдавать быков. Не их, а деньги свои он отдаст, заработанное. Но извечная привычка, покорность ли вязали язык и волю. И он лепетал:
— Самое время… привесы…
— Ни по-твоему, ни по-моему,— постановил Липатыч.— Не пять, а три бычка. Я это не забуду. При расчете мы тебя не обидим. Надо… Пойми…
Мягкие ладони Липатыча сжимали Николаевы руки. Голубые глаза тонули в лучистых морщинах, светили тепло.
— Надо… Понимаешь?
И Николай понимал: надо.
Вместе с Липатычем и шофером выбрали и отбили от гурта трех быков. Шофер их и погнал напрямую, через речку, к хутору. Липатыч сел за руль и покатил обратной дорогой, оставив Николая в немалой досаде: он знал, что грешно в такую пору скотину забивать, лишая себя заработанного.
Умная собака Волчок глядела то вослед уходящим быкам, то на хозяина, ожидая команды. Стоило тому лишь промолвить: «Заверни», и Волчок помчался бы и мигом вернул уходящих к гурту. Но Николай лишь вздыхал.
Бычки неторопко тянули через луг, пытаясь на ходу кормиться. Но властно подгонял их новый хозяин: «Геть-геть! Геть-геть!» Миновали низинный, заливной, луг, через речку перебрались по мелкому и пошли набитой, конной да человечьей, тропой сквозь густые талы.
Артур встретил их на полдороге. Он спешил от хутора к деду, подгоняя коня, но издали услыхал: «Геть-геть! Геть-геть!» Сразу подумалось нехорошее. Нынешняя ночь была на уме. Коня он придержал, перейдя на шаг, вглядываясь с высоты седла, и наконец увидел трех быков и пешего человека. Быков он узнал сразу же: могучего Шварцнегера, Звездаря с белой отметиной на лбу, глупого Дубаря. Человек был незнакомым. Выехав из кустов поперек пути, Артур спросил:
— Куда быков гонишь?
— Тебе какое дело?— ответил председательский шофер.
— Мои быки,— твердо сказал Артур.
— Сопли под носом твои! Зеленые!— вскипел мужик.— А ну, геть с дороги!
— Шварцик, Дубарь! Гоп-гоп, пошли!— Артур тронул коня, винтовку положив поперек седла.— Гоп-гоп! Звездарь, ходом!
Знакомый голос и лик убедил быков. Они разом повернули и потрусили обратной дорогой.
— А ну верни!— закричал шофер.— Верни, отвечать будешь! Ответишь!— Он пробежал недолго и стал.
Артур развернулся. На коне, с винтовкой поперек седла, плечистый и неулыбчивый, гляделся он серьезно. Председательский шофер, сплюнув, сказал:
— Сам пригонишь… Сам!— И пошел той же тропою к хутору, матерясь на ходу.
Николай заметил быков и внука издали.
— Либо убегли?— встревожился он и пошел навстречу.— Убегли быки?!— крикнул он.— Ты где их перенял?
— Тебя надо спросить,— подъезжая, ответил Артур.— Ты караульщик. Убегли они или их украли?
— Кто их крал? Человек их погнал, на хутор. Липатыч приезжал, председатель, попросил… Говорит…
Артур, не слезая с коня, выслушал и решил:
— Ты лопух, дед. Сам говорил: привес пошел, кормить и кормить, потом — дробленка, жмых. Чтоб как на ярмарку, чтоб блестели. Сам говорил, а теперь? Мало что твой председатель напоет. Только слушай. В два счета растянут. Останемся на бобах. Ты без коровы, я без «Явы». У нас договор есть? Он подписан?
— Подписан.
— Ну и пошли они!!— заорал Артур, так что быки шарахнулись в сторону.— Сволочье! Сегодня — председатель, завтра — заместитель! Тут на велосипед не останется! С таким лопухом, как ты!
Артур спрыгнул с лошади и встал перед Николаем, напружиненный, злой:
— С тобой уговор был, что работаем вместе и деньги пополам?
— Был.
— Я работал? Сачка не давил?
— Работал.
— Я ночами не спал!— снова закричал Артур.— И день напролет от них не отходил! Варил да кормил. У одного — дристун, у другого — запор. Я все делал, а теперь…— Он шумно выдохнул, раз и другой, словно спускал лишний пар, а потом сказал спокойно: — Теперь я ни на шаг от гурта. Не чеченов, а тебя да твоих начальников надо бояться. От вас сохранять.
К сену Николай нынче не поехал, чтобы внука одного не оставлять. На базу, где гурт ночевал и дневал, под навесом устроил он сиденье ли, лежанку, чтобы ночью быков стеречь; потом щи варил и ждал председателя.
Липатыч приехал к обеду. Сам за рулем. Из машины вышел, разулыбался, словно готовился доброе сказать. Николай встал из-за стола навстречу. Артур сидел, дохлебывая из миски.
— Ты думаешь, я удивился?— спросил Николая Липатыч.— Нет. Я привыкаю. Говорил же я тебе, не председатель в колхозе хозяин, а — люди. Ты, внук твой,— показал он на Артура.— С тобой договорился о бычках, а молодому хозяину не доложил. Он — в обиду и все поломал. Так и живем. Называется — демократия.
Улыбка на лице председателя гасла. Голубые глаза притухали, темнея.
— Да,— продолжал он.— Демократия. Что народ решит. Не один, не два человека, не ты, да я, да твой внук, а девятьсот восемьдесят семь членов колхоза. Понятно? А вот они говорят, что я неправильно тебе гурт отдал, с нарушением колхозных законов. И те пять бычков… Они же не сдохли. А числятся — падеж. Тоже грубейшее нарушение. И чем ты кормил бычков? Люди говорят: воровал. Да-да… Месяц — на хуторе, на ферме, а по документам они лишь дышали. Ни соломы для них ты не брал, ни силоса…
— Все знают, чем я кормил,— сказал Николай.— Тут нет секретного. Сено я…
— Погоди,— остановил его председатель.— Я не разбираться приехал. А сообщить, что народ требует собрать правление и переиграть все это дело. И вот мой сказ,— закончил он жестко, выпрямляясь и строжея. Стоял уже перед Николаем не Липатыч по прозвищу Медовучий, а председатель в темном костюме, при галстуке, в седине.— Сказ такой: сейчас твой внук,— указал он пальцем на Артура,— отгонит на хутор и сдаст управляющему пять быков. Повторяю: пять. Иначе сегодня же соберем правление.
Он повернулся, сел в машину и уехал.
Солнце стояло в полудне. Мягок был зной его.
В огородах, в садах нынче все спеет и зреет. И если бы он, Николай, не пошел по весне к быкам, не связал себя, то теперь самая пора: живи и живи.
На мгновение Николай словно забыл, где он и что с ним: грело солнце, слепила глаза сияющая склянь реки — доброе лето, о каком мечтал он зимою в больничной палате.
Он очнулся. Надо было возвращаться к обеденному столу и к внуку. Два шага всего…
Спасение было, он знал его. Пойти в землянку и выпить залпом стакан водки. Сразу полегчает. Потом еще выпить. И все станет к месту: жалость к себе, гордость и бесшабашная удаль. А потом все утонет в беспамятстве и само собой поплывет и покатится, как бог велит; и чем горше, тем, может, и лучше. Будет о чем плакать во хмелю. Так было всегда. И нынче манило выпить. Но глядел исподлобья, глазами жег, словно связывал, внук молодой.
— Ну что, дед?— не выдержав, спросил он издали.— Давай отбирать каких получше. Да не пять, а десять бычков отгоним, порадуем начальство. А то и всех… Тебе похвальную грамоту дадут. Еще одну к стенке на кухне прилепишь.
Николай молча прошел к столу, уселся остатнее доедать. А внук корил и корил его:
— Вы как овечки. Бригадира, председателя, участкового — всех боитесь. А вот чечены никого не боятся и потому живут. Армяне на станции тоже никого не боятся. Ларьков наоткрывали, торгуют внаглую. Не боятся — и правильно делают. А вы, как кролы, день и ночь труситесь.
Николай поднял голову, кротко спросил:
— Чего ты запенился?
— Но ты же гнать собрался быков. Я вижу… Начальник приказал. А что договор подписан, там все указано, на это наплевать. Знают, что ты — слухменный.
— Охолонь…— остановил его Николай.— Волчок дремет, и ты подреми. Скоро скотину подымать.
Артур поглядел на деда недоверчиво, но послушал его: лег, кинув на землю телогрейку. Сквозь смеженные веки глядел он, как дед взбодряет огонь, ставит чайник. А потом ресницы тяжко сомкнулись, пришел долгий сон.
Полуденная жара спадала. Николай отворил ворота база, пуская скотину на пастьбу. Понемногу, за шагом шаг, уходили от становья и крепко спящего внука.
Артур проснулся, когда вербовая тень давно ушла в сторону, по-вечернему удлиняясь. Он вскочил в испуге. Показалось ему, что проспал он все на свете: скотину и деда, который недаром не разбудил его.
Сердце на мгновение замерло и застучало отчаянно. Забыв о коне, Артур побежал прочь от становья. Он мчался быстрей и быстрей, стараясь увидеть впереди Николая и быков или понять, что потерял их навсегда. Он миновал один колок, другой. И, уже задыхаясь, отчаиваясь, увидел наконец пасущийся вдали скот и деда. Увидел и побежал еще быстрее. Теперь уже хватало сил и дыханья.
— Родные!!— закричал он, подбегая к гурту. Так счастлив он был, словно потерял их и снова нашел.— Родненькие! Гусарик! Купырь!
Одного на ходу он погладил, с другим поборолся, ухватив за короткие рога, третьего боднул в мягкий бок.
— Шварцик! Кулема! Звездарь!— звал он любимцев своих. И они мчались на зов, неуклюже кидая в стороны задними ногами.— Алка!— кричал он.— Запевай!
Му-у-у! му-у-у! му-у-у!— послушно отозвался бык.
Гурт ожил, сбиваясь возле молодого хозяина на зов его, как всегда с той давней поры, когда день за днем он кормил их, поил, спасая от горького.
Память животины крепка.
Артур баловал, убегая от Шварцика, потом оседлал его, лежа на просторной спине. И снова теребил всех подряд: Тихоню, Рэмбо, Горбача.
Объявился Волчок, и вовсе завертелась карусель.
— Либо кнутом вас разгонять?— с усмешкой издали спросил Николай, глядя, как озоруют внук, Волчок, скотина.
Но молодые игры взбодрили его. Подумал, что в конце концов все образуется. Председатель отступит. Ведь сколько сил положено. И вот они, быки, как из теста лепленные.
В оставшийся день, словно сговорившись, дед и внук не вспоминали нынешнего, будто и не было ничего.
Вечером ждали подмогу. Стемнело. Кум Петро не ехал.
— Ложись и спи,— приказал внуку Николай.— Потом сменишь меня. Чего вдвоем сидеть?
Артур было отнекивался, не желая деда оставлять одного. Но тут издали, из-за речки. стала пробиваться песня:
Из-под то…
Из-под тоненькой блузочки!
Тяжело моему сердцу страдать!
Кум Петро добирался до стана долго. Он пел и пел, голос медленно приближался.
Из-под то…
Из-под тоненькой блузочки!
Взбодрили в костре огонь, чтоб заметил.
И наконец объявился помощник, пьяненький, с велосипедом, через плечо — ружье.
— Вот он и я!— торжественно объявил кум Петро, бросая велосипед и раскрывая объятья.— Ты приказал — я прибыл. Потому что мы с тобой — годки, родились вместе, возрастали и вместе служили, значит — полчки, односумы и кумовья… Самая родня из родни!
Артур посмеялся и ушел спать. Он лег не раздеваясь и, засыпая, слышал, как грозил Петро: «Посекем их на капусту… Учуяли… Посекем…», и песню пел:
Ворошиловский стрелок
Промаху не знает!
Потом была ночь. И резкое пробужденье. Голос деда: «Вставайте!» — выбросил Артура из постели. В этот раз не было ошаленья. Он вскочил, словно не спал, все сознавая.
— Дед?!— крикнул он в темноту.
— Буди Петра, ружье берите,— сказал Николай.— Гости едут.
Артур сдернул Петра с кровати: пусть очухивается со сна да похмелья, а сам ухватил ружье и хоть и во тьме, но внагибку пробежал за шалаш и вынул прихороненный ранец с припасом, который берег до поры.
Николай дежурил в самом базу, под навесом. Но когда услышал машинный гул, выбрался на волю и пристроился, как и прошлую ночь, возле тополя.
Машинные фары нынче светили. Дальний прожекторный свет их, повиливая, выхватывал из темноты деревья, городьбу база, уходил далеко за речку.
— Не хоронятся!— громко сказал Николай и приказал Артуру: — Ты возле шалаша будь, а Петро — по правую руку.
— Иду, иду…— бормотал в шалаше Петро.
Машина остановилась рядом с базом и смолкла. Но фары ее светили.
Щелкнула, отворяясь, дверца. Кто-то вышел.
— Уезжай, будем стрелять!— крикнул Николай.— Нас много!
— Хозяин! Слушай меня!— раздался от машины громкий голос.— Слушай хорошо! Даю пятьсот тысяч! Вы спите до утра! Проспали! Ничего не знаете! Кто угнал, куда угнал! Ты понял, хозяин?! Пятьсот тысяч!
— Уезжай! Будем стрелять!— ответил Николай.
— Думай хорошо! Пятьсот тысяч!
— Уезжай!— повторил Николай и перебежал в сторону, к другому дереву.
Свет машины погас. Голос смолк. Затаясь, сидели и слушали, надеясь: может, уедут?..
— Я как штык!— выбрался наконец из шалаша кум Петро.— Тут, парень…
Недоговорил он и рухнул на землю, услышав выстрел за выстрелом. Затрещала городьба. Николай вскинул ружье, ударил на треск. Скотина шарахнулась.
Артур побежал от шалаша внагибку, прижимая к себе сумку. Укрывшись за стеной навеса, он пробрался вдоль нее и, глянув из-за угла, во тьме не увидел, а скорее почуял людей, их движенье. Вынув из сумки ракету, он дернул шнурок. С шипом ракета ушла в небо и там, высоко, взорвалась багровым свеченьем, озаряя степь, скотий загон, трех незваных гостей, их машину, разломанную городьбу.
— Держите, тараканы!!— крикнул Артур, швыряя взрывпакет.— Огонь!
Грохнуло. Зазвенели стекла. Истошно завопили. Ломая городьбу, скотина кинулась прочь. Но вопль Артура перекрыл все звуки:
— Недолет!! Заряжай!! Держись, тараканы усатые!! Огонь!
Еще один взрывпакет полетел. Снова грохот. Сомкнулась багровая тьма.
— Заряжай!!— снова крикнул Артур.
Николай, ничего не поняв, лишь чуя и видя взрывы за базом и голос Артура, бросился к внуку:
— Ты где, Артур?! Ты — живой?
— Здесь я!— громко отозвался Артур.— У миномета! Уезжают…— проговорил он тише, услыхав гул мотора.
Николай, еще не веря, во тьме ощупывал внука:
— Ты — живой? Живой?
— Убегают!— крикнул Артур.— По щелям!
Он уже не прятался.
— Это ты — в них?— спрашивал Николай.— Из чего?
— Из пушки,— ответил Артур.— Из гаубицы, прямой наводкой. Погоди, дед. Я и тебя научу. Будешь артиллеристом…
Кум Петро объявился и шепотом сообщил:
— Чуток меня не убило. Как пчела прожужжала. Возле уха. И я враз трезвый сделался.
Как-то сразу поверили, что опасность ушла. Стали собирать разбежавшуюся скотину.
— Волчок, сгоняй!— приказал Николай.
Собака умчалась во тьму, чтобы, делая за кругом круг, сбивать испуганную скотину в кучу.
— Шварцик! Шварцик! Рэмбо! Тихоня! Алка!— звал Артур, и быки спешили на голос.— Звездарь! Гусарик, Гусар! Кулема!— звал и звал он своих.
Собирали быков, чинили разломанную городьбу, провожая ночь и встречая новое утро.
Только-только управились и проводили кума Петра, как увидели: с той стороны, от речки, мчится на велосипеде Артурова зазноба.
— Деда Коля! Артур!— издали закричала она.— К вам едут! Гурт отымать!
Она подкатила и упала бы вместе с машиной, но Артур подхватил ее.
— Едут…— повторила она.— Председатель, участковый, бригадир. Вчера было правление. Сказали: отберут. Нынче с утра приедут.
Платье на девушке было мокрым. Видно, через речку брела по глубокому.
Артур приголубил ее:
— Молодец…
— Спешила…— Девчонка рассияла и принялась расправлять мокрое платье.
Артур твердо изрек:
— Я им, дед, быков не отдам. Я их так шугану!— В глазах его загорелось бешенство.— Я их… Остались еще подарки… Не отдам!
— Не отдашь, не отдашь…— повторял Николай, еще не понимая, как быть им, но чуя, что внук может наделать беды.
И вдруг Артур, мгновенно остывая, сказал:
— Уходить надо, дед. Давай уйдем на тот остров, где прадед Миша быков хоронил. Он далеко?
— Далеко.
— Людей возле нет?
— Там и в старые годы их не было. А нынче и вовсе.
— Вот и уйдем. Схоронимся. Ты помнишь дорогу, дед?
— Помнить-то помню…— ответил Николай.
— Дед, погнали…— заторопил Артур.— Я им не отдам быков. Все равно не отдам. Я их, как усатых, учить буду. У меня есть чем…— снова начал он злиться.
И, видя горячечный блеск в глазах и чуя решимость внука, Николай согласился:
— Гони… Они с утра обещались?— спросил он у девушки.
— С утра.
— Бери харчей и гони. На брод, а потом вдоль речки к Мартыновскому лесу. На Бабской протоке вернешься на этот берег и пойдешь старой дорогой, она уже заросла, но найдешь… До озера, до Култука, доберешься и там меня жди. Я тебя нагоню. Пока сбираюсь, пока гостей встрену.
— А чего ты им скажешь?
— Найду чего сказать. Гони! Ты чуток его проводи,— сказал он девушке.— И — на хутор. Мы дадим тебе знак.
Гурт уже вытекал от толоки, к пастьбе. Наскоро собрав харчей, Артур сел на коня и поскакал, догоняя скотину. Равняясь с ней и уходя вперед, он стал подгонять быков, звать их за собой.
— Гоп-гоп, пошли! Ходом!
Тяжелые бычки, молодые, но тушистые, с короткими рогами, окружая всадника, спешили за ним.
— Вперед, ребятки, вперед. Очкарик, Дубарь! Прожора, гоп-гоп! Успеешь налопаться!
Он был хорош на коне: в седле сидел крепко, черные волосы — до плеч, надвинутая шляпа, ружье — за спиной.
— Гоп-гоп, красивые!— торопил он.— Родненькие, ходу!
Гурт уходил быстро и скоро скрылся в займищной зеленой уреме.
Оставшись один, Николай стал собираться, навьючивая на лошадь мешки да сумки. Жаль было покидать обжитое и кое-что из нажитого: стол, скамейку, топчаны не заберешь с собой. Собрался он ко времени, стал ждать и наконец услышал машинный гул.
Председательский «УАЗ», привычной дорогою подкатив к стану, выпустил из тесной кабины не только Липатыча да шофера, но участкового Листухина, хуторского бригадира Чапурина, заведующего фермой Кривошеева. Долговязый Чапурин, выбравшись на волю, охал, разминая занемевшие ноги да поясницу.
— Приехали тебе сообщить,— с ходу начал Липатыч.— Вчера собиралось правление колхоза, вот выписка его решения,— показал он бумагу.— Договор с тобой считать недействительным. Скотину изъять и поставить на колхозный баз. Прочитай, ознакомься.
Николай от бумаги отмахнулся, сказал:
— Нету скотины.
— Как нету?— не понял председатель.— Пасется…
Николай выложил разом:
— Чечены тут нападали. Сломали городьбу. Еле отбились от них. Решили мы скотину в надежное место угнать, подальше от греха. А вы пустого не топочите. У нас был договор, руку приложили, с печатью. Комар носа не подденет. Ко времени вся скотина будет на месте,— пообещал он.— Сдадим по головам и по весу. Все, бывайте здоровы,— закончил он и стал отвязывать лошадь.
Приезжие, не поверив и не поняв, переглянулись. Шофер, ухмыльнувшись, присвистнул.
Между тем Николай уже был в седле.
— Погоди…— шагнул к нему бригадир.— Ты чего задумал? Ты — в уме?
— Пьяный,— махнул рукой председатель.— И не проспался. Скотина где?
— Вы меня слухали? Или лишь глядели?— поворачивая коня, спросил Николай.— Я вам по-людски сказал: скотину не увидите и вам она не нужна. У нас договор. Ко времени пригоним, сдадим. И ни один прокурор нас не тронет. Договор!— весомо повторил он, трогая коня.
— Стой!— закричал Липатыч и участковому приказал: — Арестуй его! Стой, говорю!— побежал он догонять Николая.— Стой! Отвечать будешь!
При костюме и галстуке как-то неловко было гнаться. Два шага пробежав, председатель встал, оглядываясь и призывая помощников:
— Вы чего глядите?!
— Да он вернется… Куда он денется…— неуверенно проговорил участковый Листухин.
— Николай!— пошел вослед всаднику бригадир.— Погоди! Надо полюдски! Чего ты бзыкаешь?! Не молоденький…
— Не троньте нас!— оглядываясь, зло проговорил Николай.— Не доводите до греха. А то мы чеченам гурт отдадим. Вот тогда ищите его. Ни вам, ни нам.
Обвешанная сумками да мешками лошадь уходила от летнего база и стана, от людей, которые глядели вослед: кто растерянно, кто недоуменно, а кто и угрюмо.
Николай спешил, догоняя внука.
1993 год
«Новый Мир», №12
Последний рубеж
Казачью донскую песню при известной сноровке «играть», как у нас говорят, можно до бесконечности. Есть побаска о том, как казак едет с ярмарки на быках, возвращаясь на хутор. Чтобы не скучать в дороге, он еще на станичной околице песню завел простецкую:
Гво-о-о-о-о… Гво-о-о-о-о…
Ой-ды гво-о-о…
Тянется за верстою верста. Час проходит, другой. Песня не кончается. Порой казак мурлычет, задремывая: «О-о-о-ой… Ой-ды… гво-о-о…» И лишь когда въедет на свое подворье, тут песне конец:
Ой-ды гво-о-здик!
Когда писал я свои заметки «В дороге»[1], казалось мне, что впереди еще долгий путь, а тянуть монотонное: «Ой-ды гво-о-о…» мне надоело. Поставил точку. Но, пройдя осенними дорогами по знакомым местам, не в одночасье, не озареньем я понял, что конец пути — рядом. Но вначале — дорога.
Ранним сентябрьским утром шел я из хутора Клейменовский на Вихляевку. День разгорался теплый, погожий. Одна и другая машины прогудели, обгоняя меня по асфальту. Мне спешить было не с руки. Пешочком, неторопливо шел я и шел, а потом и вовсе асфальт оставил, поднимаясь на Вихляевскую гору дорогой полевой.
Нежное курлыканье слышалось впереди. Это журавли кормились на горе, на поле. Милые птицы меня не боялись, подпустили близко. Поднявшись на вершину горы, я стоял и глядел. Внизу, в утренней дреме, лежала тонущая в садах Вихляевка, на озере плавала пара ослепительно белых лебедей. Далеко-далеко уходила земля с ее полями, лугами, лесами. Вихляевский луг, Ярыженский луг, Дурновский луг, Мартыновский луг, Мартыновский лес, Озера, быстрый Бузулук, светлые воды его. А надо мной — просторное чистое небо, свежий ветер, курлыканье журавлей.
На следующий день в станице Дурновской, в тамошней школе, сказал мне кто-то из учителей: «Спасибо, что приходите в наш Богом забытый край…» — «Не забытый, а обласканный,— возразил я.— Богом ли, природой, но обласканный…» А в дне вчерашнем в Мартыновской станице, тоже в школе, говорил я ребятам, ничуть не кривя душой: «Вы — счастливые, потому что родились и живете в одном из самых красивых мест на земле. Поверьте, что это именно так. Бывал я в дальних краях. И в Европе, и в Азии, и в Африке, и в Америке. В памяти моей — многое. Но одна из самых светлых страниц — эти края: округа Мартыновская, Вихляевская, их земли и воды».
Так говорил я, а теперь добавлю, что эти края забыты не Богом, не природой, а властями высокими.
Каждый год я бываю здесь. Стою на горе Вихляевской. Спускаюсь в хутор, брожу по его улочкам. И помню еще хутор живой: Дом культуры с кинозалом, библиотеку, школу, почту, фельдшерский пункт, три магазина. А ныне все гуще вскипает зелень садов, полоня хутор. Спелые груши висят и падают, устилая землю. А людей нет. Одного-другого старика встретишь, поговоришь — и все. Закрылись магазины, заброшена школа, разбит Дом культуры. И даже асфальтовая дорога не помогла. На всю Вихляевку три работника осталось. Зеленая пустыня.
Старый учитель Павел Михайлович Соснин который уже год мне жалуется:
— Баню не хотят открывать. Сколько лет бьюсь, пишу, говорю… Должны же мы хоть под конец жизни в бане помыться…
Милый Павел Михайлович, не будет бани. В райцентре баню никак не наладят, а у вас теперь уж точно не будет.
В станице Мартыновской тамошняя школа в прошлом году отметила свое девяностолетие. Многих и многих она учила и выучила. И теперь идут дети по утрам в то самое деревянное здание, которое было построено девяносто лет назад.
— Место для новой школы уже выбрали,— говорили мне учителя.— Проект был, колышки забили. А теперь…
Не будет новой школы в Мартыновской. Столетие будут отмечать в том же здании, коли не рухнет оно.
О каких новых бане ли, школе мечтать, когда гуляет над этим зеленым миром смерч разорения.
В хуторе Клейменовском разломаны клуб и бывшая школа; и медпункт, еще вчера живой, уже пустыми глазницами зияет, развалена печка — конец медпункту.
В этом хуторе я ночевал, вел горькие разговоры.
— Людям деньги за работу не платят. Они вовсе не хотят работать. Раньше мы как-то воздействовали,— говорит бригадир Виталий Иванович.— А ныне… Иди, говорят, да сам делай. Вот и все.
— Все дорого. А денег нет,— объяснил мне кто-то.— Ничего у людей нет: ни шифера, ни стекла. Вот и норовят украсть.
— Сено нынче не заготовили. Коров будем соломой кормить.
Зарплату не дают. А дитя надо в школу собирать. Продали платок, купили ботинки. Продали еще два платка, куртку купили.
И длинный монолог старого моего знакомого Ивана Бочкова:
— К чему идем? К чему нас ведут? Получаю зарплату пятьдесят тысяч и тех не вижу. А уголь для топки одна тонна стоит сто пятьдесят тысяч. Мне нужно три тонны. Где брать? Опять, как в старые годы, пеньки в лесу вырубать? Было такое.
И как не поймут, что хоть тяжело, но без угля мы проживем. А вот без хлеба как? В тридцатые годы и после войны, когда не было хлеба, враз стали пухнуть и помирать. А теперь говорят: хлеб ничего не стоит, самое дорогое — это горючее и газ. Неправда.
«Не пойму… Не знаю… К чему нас ведут?» — вот главные вопросы не только Ивана Бочкова, но всех, с кем встречался я.
После Клейменовского да Вихляевского ушел я через луга и займищный лес к Дурновской станице, оттуда выбрался к Павловской. А жизнь, разговоры, вопросы — одни и те же. Названия у колхозов хорошие — «Возрождение» да «Восход», но дела везде быстро спешат к закату.
Возле Павловской станицы помню я поля: здесь был эспарцет, здесь — подсолнечник, здесь — пшеница. Сейчас — пусто. Нечем пахать, нечем сеять. Нет лемехов, нет горючего, нет масла. Не на что купить. В прошлые годы мы говорили об упадке животноводства, об уничтожении свиноводства как отрасли. В хуторе Ольховском были свинофермы, в Павловской — все это день вчерашний, а в нынешнем и зерноводство дышит на ладан. Нечем работать, да и некому. Зарплату в «Восходе» не получают с сентября 1993 года. Целый год! И о чем говорить, о каких таких стимулах к труду. Зарплаты нет. Цена буханки хлеба в два раза выше, чем в городе. Магазин практически закрылся. Да и торговать нечем. И покупатели с худым карманом.
Опять про ту же топку, про уголь. Пятьсот тысяч рублей — за три тонны. Где, у кого такие деньги? С одним я поговорил, с другим. Уголь не смогут взять, будут обходиться дровишками.
Но чем все-таки жить, когда нет колхозной зарплаты? Обычно отвечают: усадьбой, подворьем, всем, что есть там. Держать скотины побольше, мясо продавать.
Но чтобы купить те же три тонны угля, нужно продать двух хороших бычков, прокормив каждого из них по два года. 700 рублей платят сейчас скупщики за 1 кг живого веса. 400 кг по 700 рублей — получается 280 тысяч. Удвоим — и получается лишь на уголь для одной зимы. А на все остальное?.. Да еще попробуй продай это мясо. Не сразу получится. По 1.200 рублей за килограмм убоины предлагали раньше перекупщики. А теперь и этого не дают.
Что же делать? Как жить?!
Еще одно хозяйство, бывший совхоз, ныне производственный сельскохозяйственный кооператив «Голубинский». Вновь к нему возвращаюсь, потому что это малая частица, модель всего нашего села. Путь его, к возрождению или к гибели, должны пройти все, одни раньше, другие позже, потому что одна у нас страна, а значит, порядки, законы и беззакония одни. И производственные отношения одинаковы: земля, а на ней — люди.
В позапрошлом, 1993-м году, тоже осенью, подводил «Голубинский» итоги, повторю их: «Долгов к 1 января 1994 будет 250 миллионов рублей… Долги будут расти… К уборке 1994 года долги увеличатся до одного миллиарда рублей… Впереди просвета не видно».
Прошел год. Убрали новый урожай, получив по 4 центнера с гектара. Всего — около трех тысяч тонн. (Прежде бывали годы, когда лишь государству сдавали до двадцати тысяч тонн.) Одних кредитов — более 800 миллионов рублей. Если посчитать все иные долги и проценты по кредитам, то к 1 января 1995 года отдавать надо около 2,5 миллиардов рублей. А что впереди? Никакого просвета. Заготовили только пятую часть сена, потребного для скота, силоса нет, соломы и той не будет.
Нынче — конец сентября. Зарплату людям отдали лишь за апрель. Теперь отдают за май, но не деньгами, которых нет, а овцами. За июнь — июль тоже будут платить скотом, крупным рогатым. Правда, не все на это согласны, ждут денег.
«Идем ко дну и всплывать уже не будем»,— заявил корреспонденту районной газеты Ю.Ю.Барабанов, председатель «Голубинского». А заканчивалась эта заметка явным намеком: «По всему видать, в ближайшее время предстоят «Голубинскому» большие перемены. Откладывать их уже нельзя».
Но перед моим приездом прошло правление хозяйства, на котором решили: жить и работать по-прежнему вместе. Как работать?
— Поехал я на днях на вспашку зяби,— говорит Ю.Ю.Барабанов,— а механизаторы — пьяные в стельку. Коллектив большой, пятьсот человек, за всеми не уследишь, да и нет с этими пьяницами никакого сладу…
Планы на будущее у руководителя хозяйства простые: поголовье скота резко снизить, чтобы хоть впроголодь, но продержать оставшуюся скотину до весны. И по-прежнему брать кредиты: на зарплату, на покупку горючего, запчастей — словом, на жизнь. Снежный ком долгов растет и растет.
В прошлом году, в такую вот пору, надеялись на будущую уборку. Помню, как без запинки читал свою бумажку главный агроном: «Должны повысить… расширить… ожидаемый доход — один миллиард сто миллионов рублей…» Два миллиарда получили. Убытков. А нынче и вовсе надеяться не на что: лето и осень — без единой капли дождя, озимые не взошли, скотина зимовать будет без кормов. Кто виноват? Худые работники, «пьяницы» и «воры», которые тянут все подряд? Корма, скотину, запчасти, а то и целые трактора; разбирают постройки до самого фундамента: брошенные кошары, помещения полевых станов.
А как жить, если полгода, а то и год не получаешь зарплаты?
Нынешним летом услышал я от колхозного механизатора точные слова:
— У меня две коровы, три головы гуляка, десять свиней. Я обязан их обеспечить, чтобы с голоду не помереть. Это моя зарплата, доплата за «классность», за стаж, доплата по результатам года и мои дивиденды на паи — словом, жизнь. Другой платы я не дождусь…
Теперь уже в давние годы, в тогда еще социалистической Венгрии, мне в тамошнем Министерстве сельского хозяйства внушали: «Управлять производством надо не криком, не угрозами, а форинтом (по-нашему рублем). Мало в стране молока — накинь на закупочную цену форинт, оно потечет живее. Много молока — сбрось форинт».
В нашей стране в прежние времена такая мудрость не приживалась. А теперь?
Еще в прошлом году, осенью, председатель «Голубинского» Ю.Ю.Барабанов говорил: «Не надо мне ваших кредитов. Они нас задушат. Отдайте деньги за шерсть, за мясо, за хлеб, и мы вывернемся». Не отдали. Тянули целый год, пока рубль не превратился в копейку. И даже теперь нищему, утонувшему в долгах «Голубинскому» снова не отдают денег за сданное мясо. И потому платить зарплату нечем. А значит, надейся мужик на «ловкость» свою, когда не день, а ночь кормит.
Еще один колхоз. У него лишь 3 тысячи гектаров пашни, на которых трудятся 43 механизатора. Из 1.000 га зерновых половину они не убрали. А вспахать сумели лишь 1.500 га. А рядом 4 работника звена С.И.Гавры из «Верхнебузиновского» тоже обрабатывают 3.000 га земли и получают по 30 центнеров зерна с гектара.
В том колхозе, где 43 механизатора, шло собрание, четвертое за полгода. Разбирались:
— Механизаторы в разгар уборки пьянствуют…
— Послали луг косить, а они исчезли на несколько дней.
— Воруют все…
После собрания, которое в очередной раз постановило: «Будем работать вместе», прозвучали слова: «Колхоз у нас плохой, а мы живем хорошо. Скотины хватает, сена полно, с дровами не бедствуем…»
Это горькая, но правда. Не хуже других живут. Не хуже Станислава Ивановича Гавры из Верхней Бузиновки. И не хуже работников из «Волго-Дона».
О «Волго-Доне» я уже писал. Прикидывал прошлой осенью, что 1993 год хозяйство закончит с прибылью в три четверти миллиарда. Но этих денег ему не отдадут. И потому придется влезать в долги. Так оно и случилось.
Прежде «Волго-Дон» заслуженно величали всесоюзным лидером, маяком. И ныне поголовье мясного и молочного скота не снижено. Средний удой — четыре с лишним тысячи литров на корову, среднесуточный привес мясного скота 600 граммов, урожайность овощей — 400—500 центнеров с гектара. Из месяца в месяц «Волго-Дон» дает по 800 тонн молока, 100 тонн мяса, полностью обеспечивая себя кормами. 10 тысяч тонн томатов, 20 тысяч тонн капусты, лук, кабачки, морковь, огурцы.
По интенсивности производства, по производительности «Волго-Дон» остался лидером области и страны. Но все нынешние беды села его не минули.
Летом «Волго-Дон» был должен 1,5 миллиарда рублей. Хотя ему должны были больше: 790 миллионов — покупатели, 550 миллионов — государство, 570 миллионов — переработчики. Арифметика говорит: все в порядке. Но какой прок от денег, которых не отдают годами? И не отдадут.
Но жизнь продолжается. А жизнь — это люди: 2.300 работников хозяйства, 700 пенсионеров, их семьи. Всю огромную социальную сферу «Волго-Дон» содержит сам. Жилье, школы, детские учреждения, отопление, газификация, связь, дом быта с парикмахерской, швейной мастерской, ремонтом техники — все содержит хозяйство. Открыли новую баню с сауной. Только на ремонт школы истратили 300 миллионов рублей. Из государственного бюджета «Волго-Дон» ничего не получает, потому что он — сильный, сам справится.
Вот и выходит, что в нынешнее время экономически и чисто житейски быть «Волго-Доном» невыгодно.
Вот она, горькая для страны правда. Если поставить селянина из «Волго-Дона», чьими трудами получен урожай пшеницы в 40 центнеров с гектара, удой на корову почти 5.000 литров, а рядом с ним — его собрата, который урожай отправил под снег, из 140 телят погубил 120, то по внешнему виду никто этих людей не различит: одеты одинаково, и золотых перстней не видно. И домашний достаток у них одинаков: подворье, жилье, мебель. Машинешка одна и та же — побитые «Жигули». И может быть, у хорошего труженика зарплата будет меньше.
Если «Волго-Дон» из своих доходов примерно треть тратит на социальные нужды, то бедолажные хозяйства ничего не тратят. Детские сады они давно закрыли и даже окна-двери повыдергивали. Про баню забыли. О школе да медпункте «нехай государство горится». Оно и «горится», направляя бюджетные средства «бедолагам», а «Волго-Дону» не достанется ничего.
«Волго-Дон» ежедневно поставляет продукцию, а значит, платит немалый НДС и налог на прибыль с тех самых сотен миллионов рублей, которые ему неизвестно когда отдадут. И отчисления в пенсионный фонд. Деньги для этого приходится брать в кредит под знаменитые банковские проценты. А значит, платить за все вдвое и втрое дороже.
Хозяйства же «бедные» почти ничего не производят, а значит, с них и взятки гладки. Они порою зарплату своим людям не платят по полгода и более. И никто от голода не умер, принцип тот же: «Колхоз у нас плохой, а мы живем хорошо». Но, кроме разорительности для страны, для земли, такие хозяйства — еще и дурной, разлагающий пример соседям. Зачем нужны свиноводство, молочное животноводство и мясное, какие-то пары, севообороты, племенное дело — словом, труд и труд? Ведь можно по-другому: «Надеемся, что что-то украдем».
Надеемся… Но на одном из колхозных собраний все же прозвучало горькое:
— А когда воровать уже нечего будет? Как тогда жить?
Как жить?.. «Голубинскому» ли, который потерял всякую надежду, 800 миллионов долгов, миллиард ли… Все равно нет зарплаты, и нет урожая, и дохнет скотина — словом, все наперекосяк. Как жить «Волго-Дону», который уже в сентябре имел 2 или 3 миллиарда долгов? Хотя по бумажным расчетам он вроде бы процветает.
Как жить тем сотням и тысячам хозяйств, которые в «голубинскую» нищету еще не влезли и до «волго-донских» богатств им далеко? Как дальше жить миллионам и миллионам селян-колхозников?
«В 1993 году хозяйствами всех форм собственности было получено только централизованных кредитных ресурсов на сумму 62,7 млрд. руб. Из этого кредита они могут вернуть не более 8,5 млрд. руб.» — цитирую документ областного комитета по сельскому хозяйству — «Состояние сельскохозяйственного производства в области».
Значит, вернули чуть более десятой части. И это в 1993 году, когда погодные условия позволили получить урожай поистине небывалый.
«Потребность же области,— продолжу цитату,— в централизованных капитальных вложениях на 1994 год… составляет 126 млрд. руб. …» А сколько из них вернут?
Этот документ читал я внимательно, понимая его как программу выхода сельского хозяйства области из нынешнего кризиса, но ничего нового для себя не вычитал, кроме обычного: «Обратиться к президенту РФ… с требованием о необходимости корректировки и изменения курса реформ… изыскать… выделить льготный кредит… установить ставку в размере 25% годовых…»
А вот что делать тем хозяйствам области, которые уже не в состоянии ни вспахать, ни посеять, из программного документа не видно. Что делать «Волго-Дону»?
Строки из письма: «Ассоциация крестьянских хозяйств (бывший колхоз им. …) просит оказать помощь в реорганизации хозяйства по нижегородскому методу… большинство работников пока не осознали себя настоящими собственниками… в итоге: невысокая производительность труда, низкая рентабельность… правление ассоциации не видит другого пути, кроме глубокого реформирования. Специалисты хозяйства самостоятельно не могут провести эту работу… просим помощи…»
Не называю адресанта. Таких хозяйств нынче немало. И дело не в нижегородском методе. Про опыт нижегородцев авторы письма слышали в «Вестях» по телевидению. Письмо это просто крик отчаяния: «Помогите! Гибнем!» И еще одно немаловажное: «Самостоятельно — не можем… просим помощи».
Какую же помощь им предлагают?
На уровне района: «На базе АО «Советское» провели семинар руководителей хозяйств района и главных зоотехников».
— О чем речь?— спросил я.
— Привесы плохие. По сто граммов в сутки. Это в летнюю пору. Надо поднимать.
— После семинара привесы поднимутся?
— Да, может, совесть проснется.
На уровне области: «Совещание по вопросам животноводства в Елани».
На уровне России: Вице-премьер Заверюха «совершил облет полей области. Посетил одно из лучших хозяйств».
Такие «семинары», «облеты», и даже «лично за штурвалом комбайна»,— до боли знакомые картины прошлого. Все учим и учим. «Ученого учить — только портить», «Его учить — вдвое кнут ссучить» — разные пословицы, но верные.
Недавно прочитал я воспоминания старого человека о том, как на хуторе Ильевка в годы коллективизации пытались сделать доброго хозяина. Бедняцкой семье, состоящей из семи душ, людей уже взрослых и живущих в землянке, выделили «кулацкий» просторный дом и корову. Но доброе житье продолжалось недолго, лишь до осени. Не смогли хозяева сена заготовить и дров запасти. Горевать не думали. Корову зарезали и съели. Дом продали, так как его топить «дров не настатишься». Вернулись в прежнюю свою мазанку. Там — теплее.
Сейчас время иное. Но политика очень похожая. Время кнута кончилось. Но всех сделать хорошими хозяевами не удастся, даже если выделить им по хате и по корове. И не помогут 120 миллиардов и даже триллионов рублей, если отдать их нынешним «беднякам», которые сумели из 140 телят сохранить лишь 20, а из 1.000 га зерновых всем миром убрали лишь половину. Там самая зрелая идея: «Кому бы землю отдать в аренду?» Чтобы лежать на боку и получать «дивиденд».
Куда же идет нынче наше российское колхозное крестьянство, богатое и бедное, «Волго-Дон» и «Голубинский», «Восход» и «Возрождение»? На мой взгляд, все они идут прямым ходом к государственному капитализму или, если попроще, к прежним совхозам.
В 1993 году в нашей области они из 63 миллиардов кредита вернули лишь десятую часть. В нынешнем 1994 году долги многократно возросли, а возврат будет еще меньше. В 1995 году положение ухудшится, так как летом и осенью 1994-го не было дождей, а значит, озимых хлебов не будет, предстоит пересев, огромная весновспашка.
А если говорить прямо, то возврата кредитов, как прошлых, так и нынешних, не будет никогда. Уже в нынешнем, 1994 году государство отсрочит долги, видимо, до двухтысячного года. Другого выхода просто нет. Но долги не отдадут и к трехтысячному году!
Так что лучше списать все уже сейчас, чтобы не морочить голову.
А то, что нынешние кредиты даются под залог колхозного имущества: построек, техники, скота — все это несерьезно. Положим, через год-два «Голубинский» ли, «Восход» объявят банкротом, и государство заберет в свои руки трактора, сеялки, машиноремонтную мастерскую, коровник со стадом. Значит, надо все это содержать, то есть нанимать тех же самых хуторских людей. Словом, на колу мочало, начинай сначала. Это произойдет в том случае, если государство по-прежнему не будет иметь четкой, экономически выверенной программы реорганизации сельского хозяйства.
Но нужны не лозунги. Лозунгов хватает. Один из них — Указ от 27 декабря 1991 года и Постановление правительства «О порядке реорганизации колхозов и совхозов». Вот строки из них: «Земли передаются или продаются… на аукционах гражданам и юридическим лицам…
Предоставить крестьянским хозяйствам право залога земли в банках.
Колхозы и совхозы, не обладающие финансовыми ресурсами для погашения задолженности по оплате труда и кредитам, объявляются несостоятельными (банкротами) и подлежат ликвидации и реорганизации в течение первого квартала 1992 года».
И разъяснение правительства: «Мы твердо поддерживаем фермерское движение, рассматриваем его как… будущее сельского хозяйства».
В станице Павловской самым первым и удачливым фермером стал Валентин Степанович Соловьев. Еще в прошлом году он был полон надежд, брал землю у пенсионеров, расширяя свое дело. Но нынче настроение у него иное.
— От пенсионерских паев мне дохода нет,— говорит он.— Я с людьми за этот год рассчитался зерном, сеном, соломой. Они довольны. Но, видимо, придется от них отказаться. Ценовая политика такая, что землей заниматься невыгодно. Продал я в прошлом году двадцать тонн подсолнечника. На эти деньги купил лишь дизельного топлива, один бензовоз и две бочки масла. Нынешней осенью озимую пшеницу я не стал сеять. Погожу, посмотрю, землю отдавать не буду, в колхоз не вернусь, потому колхозу явная гибель пришла. Но и мне расширять хозяйство, жилы рвать нет резона. Сейчас я со своим зерном, подсолнухом никому не нужен. Привожу зерно на элеватор, а там на меня и не глядят. Так что прошлый мой оптимизм кончился.
На страницах журнала рассказывал я о Шаханове, Чичерове и Ляпине.
Нынче осень 1994 года. У Шаханова в день моего приезда кобель сбежал. «Не выдержал фермерской жизни»,— смеется Шаханов. А если всерьез, то проблемы, заботы все те же, что и в первый год: вода, электричество, техника, деньги. Впору бросить все.
Если у Шаханова земли лишь два гектара и навыков крестьянских негусто, то Ляпин — прирожденный механизатор, бывший бригадир полеводства, а Чичеров — бывший совхозный экономист. Работать и считать они умеют. Земля есть. Желания — не занимать. Потому и писал я раньше: мол, скоро вот здесь, на своей земле, у Ванюковой балки поднимутся дома… Три года прошло. Как жили в вагончиках, при керосиновой лампе, так и живут. Электролиния — в далеком проекте. Собирались заняться семеноводством. Тоже деньги нужны. Своих не хватает. А брать кредит под такие высокие проценты не рискуют. Тем более государство расплачивается неаккуратно. И в прошлые годы, и сейчас. Нынче продали 160 тонн пшеницы, получили за нее лишь треть положенного. Остальное неизвестно когда.
В.И.Штепо — бывший директор «Волго-Дона», дважды Герой Труда, нынче — хозяин самостоятельный. Не побоюсь сказать: лучший хозяин в районе. Не я, а главный агроном сельхозуправления, отвечая мне, говорит: «Пары у него лучшие в районе… Всходы лучшие в районе…»
Нынешним летом, 1994 года, В.И.Штепо с сыном и зятем получили 860 тонн пшеницы, 100 тонн ячменя. Как посчитал Виктор Иванович, продав эту пшеницу, можно купить один комбайн «Дон». При условии, что они не будут брать денег на зарплату, на горючее, на все остальные расходы. Словом, живи святым духом, им же кутайся. Тогда на доход от 500 га купишь один комбайн. Можно ли так работать на земле? При такой вот немыслимой экономике? Но В.И.Штепо пока отступать не собирается, не тот человек. И остановиться он не может: ведь трактора и машины не должны зимовать под снегом. Пришлось взять кредит для строительства крытой стоянки, мастерских. Но хватит ли этого кредита? Вряд ли… А проценты? И это у самого Виктора Ивановича Штепо. А что до остальных, скажу: если еще в прошлом, 1993 году, весною, в земельном комитете Калачевского района на мой вопрос: «Кто из фермеров просит еще земли?» — ответили: «Все», то нынче сказали: «Никто. Наоборот. Сдают землю».
Значит, нахозяйствовались. На собственной шкуре поняли, что все обещания правительства — пустые слова. А на деле — стремление задавить: налогом, прямым обманом в расчете за хлеб, когда задержка платежа на полгода и более сводит на нет все заработанное. Инфляция… Это слово теперь колхозник ли, фермер ли ощутил на собственном опыте.
И еще одно, одинаково страшное для колхозов и для фермеров,— день завтрашний: что завтра в Москве придумают, куда повернут?..
«Колхозы и совхозы… подлежат ликвидации».
«К весне решить вопрос о роспуске…»
«Фермеры страну не накормят!»
«20 процентов хозяйств-банкротов ликвидировать».
То строгие слова указа, то «записка из канцелярии», то вскользь, но отчетливо сказанное перед телевизионным экраном.
А чтобы поверили, год за годом грабеж среди бела дня: зерно, мясо, молоко берем, но деньги заплатим через год, когда кровавым потом заработанный рубль станет копейкой.
Такие методы — это «китайская пытка», когда раз за разом капля воды бьет по голому темечку.
Последняя многозначительная новость, которая птицей пронеслась по области, «радуя» фермеров: представитель президента попросил составить список лучших коллективных хозяйств области, якобы для того, чтобы распространять их опыт. Всем понятно, что это не его собственная инициатива, в Москве что-то опять придумали…
Так и живем. Хорошо еще, что время от времени нас подбадривают: «положение стабилизировалось», «падение производства прекратилось…». Как тут не почувствовать себя счастливыми?..
Каждый год в пору июльскую, когда поспевают хлеба, еду в Задонье: через мост, недолго — по асфальту на Голубинку, а потом — влево, дорогами полевыми на Липологовский, Фомин-колодец, Осиновский, Большую Голубую и дальше вдоль речки Голубой до самого Дона.
Так было и нынче. Спозаранку выехал, не торопился, останавливаясь там и здесь: на убранном поле озимки, возле низкого ячменя, у ослепительно желтых подсолнухов, глядящих на встающее солнце. На стану уже опытных фермеров Горячева и Железнякова послушал привычное: «Обрубают руки по самые плечи… Зерно, говорят, не нужно… А на технику какие цены!..» Вместе повздыхали. Поехал дальше.
Где-то в девятом часу утра приехал на Фомин-колодец, когда-то хутор Зоричев, он же Лукьянкин. Походил-побродил и стал подниматься на курган, с вершины которого бьет мощная родниковая струя. Еще издали слышен рокот трехметрового водопада. Вот и он: щедро льет сияющую на солнце воду в просторную за годы и века выбитую каменную чашу. Поднялся я выше, вдоль бурливого ручья. Задонская степь. Сухое лето. Выгоревшие травы. И земное чудо: три бормочущих, голосистых ключа, серебряных, чистых, невладанных, как у нас говорят, а значит, врачующих тело и душу.
Стоял я на вершине холма. Просторный Калинов лог огромным распахом лежал предо мной. Внизу зеленели брошенные дикие сады давно умершего хутора. Насколько хватало глаз — поля и степь. Бронзовела озимая пшеница, серебрился ячмень, желтело убранное поле напротив — картина будто красивая, а на душе было горько. И в прошлом году бывал я на этих полях, и ныне их объехал, знал хозяев. Издали, сверху, картина красивая, а вот рядом…
Тощий ячменишко, сорные поля, порой и не поймешь, что сеяли; или вовсе стоит прошлогодняя трава-старник, ее сухие будылья; или как в Липологовской балке, где новый землевладелец, вчерашний овцевод, осенью на непаханые бахчи кинул семена, на укоры ответив: «Никуда не денется, вырастет!» Выросло… Только вот что? А много ли лучше поля Бударина, Найденова?.. А ведь вот она — Россошь, которая испокон веку была кормилицей всей голубинской округи. Вот она, живая вода, которую где-то ищут, скважины бурят, роют каналы, строят водоводы. А здесь, как говорится, Бог дал, только бери!
В Калаче-на-Дону живет рядом со мною уроженка Фоминколодского, женщина уже пожилая. Старая мать ее за несколько лет до смерти стала просить:
— Давай вернемся на хутор.
— Куда возвращаться?— отвечала ей дочь.— Там нет ничего.
— Все там есть: вода и земля родная, золотая. Они нас прокормят.
Земля родная… Стирается ли твоя позолота?.. Скудеет щедрость твоя?.. А может, хозяина да работника нет? Не о том ли бормочут, спешат рассказать серебряные ключи Фомин-колодца… Но кто их услышит? На многие километры — пустая степь.
Потом я проехал через Осиновку и Осинов лог, где постоянный житель один — больная старая женщина.
В полях — тишина. Редко-редко увидишь комбайн. Встречных машин нет. А ведь хлеба поспели, уборочная страда. Не суета мне нужна. Но горько глядеть на хлеб, который скоро начнет осыпаться. Горько глядеть на поля, где и осыпаться нечему: сплошной осот.
А потом был хутор Большая Голубая. Этот хутор — единственный в своем крае еще живой и жилой. Табунок детишек резвится на улице. Можно сказать, что Большая Голубая — это последний рубеж. Падет он — безлюдье ляжет на многие десятки верст. Лишь бедолаги фермеры будут по лету копошиться возле вагончиков. «Разбогатевшие», вроде Горячева, начнут саманные дома ставить.
— Здесь родилась, с тринадцати лет пошла трудиться, всю жизнь на колхозной работе. Теперь пришла старость… А что у меня есть? Что за жизнь заработала?— вопрошает моя собеседница.— Нынче печурку во дворе слепила, как в старые годы. Кизяками топлю. Старик ругается: «Кружишься весь утр, а завтрак никак не сготовишь». Кизяки плохо горят. Дров где найдешь? Газ раньше был, плита, привыкли. На нем — все скоро. Теперь никому не нужны. Лишь хлеб привозят три раза в неделю, с тележки продают; а макарон захочешь, или крупы, или чего из одежи, тогда на тележку просись. Посадят — тряси старые кости пятьдесят верст, до станицы. Трактор тележку тянет. А уж оттель — как знаешь. Захвораешь — опять на тележку просись. Тот же трактор, те же пятьдесят верст. Ни фельдшерицы, ни магазина у нас не стало.
Хутор Большая Голубая, Калачевский район. Анна Георгиевна и Виталий Федорович Дьяконовы говорят о жизни:
— На нашем отделении было 4.000 га пашни. Хлеба получали по 3—4 тысячи тонн. Держали до двенадцати отар овец. Сено заготавливали с естественных угодий и сеяли люцерну, житняк, овес. При новых порядках, когда нас продали «Сельхозводстрою», в первый год собрали 400 тонн зерна, на другой — меньше, а нынче и убирать нечего. 209 га ячменя весной посеяли, его потравил скот соседнего хозяйства. Уборки нет.
Еще один собеседник — Рудольф Генрихович Мокк, беженец из Киргизии, перебравшийся в Большую Голубую в мае 1992 года.
— Мы приехали сюда не наобум,— говорит он.— Сначала жена приезжала, чтобы разузнать о жилье и работе. Нам все было обещано здешним руководством. Сказали, что здесь будут молочное, мясное животноводство, переработка. Нужны люди. Обеспечим жильем. Нас приехало пятнадцать семей. С жильем вроде устроились, хотя пришлось восстанавливать из разбитого. Но сделали, стали работать, жить. Заработки были очень плохие. А теперь нам сказали: работы совсем нет. И не будет. Получили последнюю получку за май. И все. Я — шофер, сын — тракторист и жена остались без работы. Живем на пенсию тещи. Что я буду делать? Откровенно сказать, не знаю. Я не ожидал, что нас обманут. Почему мы уехали из Киргизии и как уезжали, все бросая и отдавая за бесценок нажитое, теперь всем известно, не надо и объяснять. Сюда я приехал, потому что мне твердо пообещали главное — работу. Нас обманули. А куда-то еще ехать мы уже не можем. Не на что. Не знаю, как жить…
Хутор Большая Голубая лежит в просторной долине речки с красивым названием — Голубая, которая течет к Дону. До станицы Голубинской, тамошней школы, больницы, сельской администрации, а главное, до асфальта — 50 километров. В дожди, осеннюю да весеннюю распутицы, в снежные метельные зимы здешняя дорога трудна. До Калача-на-Дону, районного центра,— 80 километров.
Окрэга Большой Голубой: на многие версты — степь да степь, холмы да балки. Места диковатые, притягивающие своей красотой. Издавна жили здесь люди, занимаясь мясным скотоводством, овцеводством, сеяли хлеб. В прежние годы хутор славился водяными мельницами. Их было пять. Но это — давняя память.
Нынешняя беда к Большой Голубой подкрадывалась давно. Умирали хутора близкие: Осиновский, Зоричев, Тепленький, Евлампиевский. Большая Голубая держалась, но была самым трудным отделением бывшего совхоза «Голубинский», последний же всю жизнь был бельмом на глазу района. Задонье, бездорожье, безлюдье, земля скуповатая.
И потому, когда появилась возможность, здешние земли начали раздавать с облегчением налево и направо: железнодорожникам, корабелам, строителям, летчикам — всем подряд.
Земли Большой Голубой понравились в ту пору мощной организации — волгоградскому тресту «Сельхозводстрой». Ему и передал район большую часть земель, вместе с жильем и работниками. Тогда плохо ли, хорошо, но работали хуторской магазин, фельдшерский пункт, транспортная связь с центральной усадьбой, обеспечивая хуторян необходимыми для жизни услугами, а все это потому, что работали земля и люди. Пусть не с должной эффективностью, но работали, получая хлеб, мясо, шерсть.
Некомпетентные в сельском хозяйстве и в экономике люди задумали создать в Большой Голубой агрофирму со свиноводством, мясным и молочным животноводством, переработкой сельхозпродукции. Они обещали построить дорогу с асфальтом, жилье, производственную базу. Пригласили пятнадцать семей из Киргизии, обещали им пусть не златые горы, но работу и нормальную жизнь. Люди поверили и приехали. Кое-как их расселили.
Началась новая жизнь у старожилов и у приезжих, с новыми хозяевами. В зерноводстве в первый год получили 400 тонн, во второй — меньше, а нынче убирать нечего. И на будущий год, видимо, также. Пары заросли. Есть трактора, но нет горючего, масла. Вся техника давно стоит.
С животноводством тоже не ладится. Помещений для крупного рогатого скота не было, но приобрели 150 голов симменталок и 150 абердинов. Телят практически не получили.
— Я говорил: не надо спешить,— вспоминает В.Ф.Дьяконов.— Полсотни голов взять, помещения оборудовать, корма заготовить. Тогда видно будет… Симменталок забрали, к осени заберут остальной скот. Животноводство кончится.
— Ремонтной базы нет, техника разваливается, три месяца не получали ни одного литра бензина. Денег не дают, людям платить нечем,— сказал М.И.Чернов, управляющий подсобным хозяйством.— Когда организовывались, обещали все. А получилось…
А получилось горькое. «Сельхозводстрой», в прошлом трест, а ныне, как и все вокруг, предприятие реформированное и акционированное, понял, что Большая Голубая ему не по силам. Часть земли взяли «городские фермеры», работники «Сельхозводстроя». Пахать да сеять, живя в Волгограде, куда как сподручно.
Работникам же в Большой Голубой платили жалкие гроши: по 5 и по 10 тысяч рублей в месяц. Так было в 1993 году, так продолжалось и в 1994-м. Сельскохозяйственное производство практически остановилось. В начале лета из Волгограда пришел приказ о переводе большинства работников в долгосрочный неоплачиваемый отпуск.
Как сказал М.И.Чернов, без работы и без надежды на нее на хуторе остаются около тридцати работоспособных тружеников. Чем сейчас живут? Пенсиями своих стариков. И в семье Мокка, и в семье Сердюка, и у всех других надежда теперь лишь на пенсии дедов да бабок, но не на руки свои. Ну еще — огород, корова, десяток кур.
Когда я спросил у районной администрации, что думают они о судьбе хуторян далекого селения, мне ответили: «Пусть берут землю и работают».
Что ж, как говорится, в духе времени. Волгоградские хозяева Большой Голубой в нынешнем году объявили своим работникам, что каждый может взять землю и хозяйствовать на ней. Если бы этот ход удался, то «Сельхозводстрой» разом решил бы все проблемы. Они себя землей уже обеспечили. Осталось — избавиться от людей, от поселка, от плохих земель.
Агитацию провели, в райцентре объявили, заявления были написаны, представитель земельного комитета приезжал, и даже все бумаги готовы. Словом, берите и владейте. Но не едут, не берут. Как сказал один из них: «Мы реалисты, предлагают мне на семью 170 га плохой земли, мела. От хутора далековато. Техники у меня — лопата да мотыга».
— Будем обрабатывать вашу землю своей техникой,— сказали в «Сельхозводстрое».— Плата по льготному тарифу.
— Это сказки…— вздохнули люди.— Видим мы эту технику. Она возле наших дворов стоит. Чтобы хлеб привезти, горючего нет. Какая уж обработка земли.
Избавиться от работников путем перевода их в фермеры не удалось. Стали их практически увольнять: долгосрочный неоплачиваемый отпуск. 50 километров до станицы, 80 — до райцентра, 140 до Волгограда. Куда подаваться?
Фельдшерица уехала, похоронена хуторская медицина. Закрыли магазин. Теперь людей лишили работы. Что будет дальше, совершенно ясно: люди должны покинуть хутор. Уже начали покидать. А хутор разделит судьбу тех горьких селений, которые когда-то были рядом: Тепленький, Зоричев, Осиновский, Евлампиевский. Их не счесть. А умер хутор — значит, умирает земля. Никакими десантами с центральной усадьбы, никакими фермерами из Волгограда ее не оживишь. Вон они — и все хорошие люди — в Осиновском и Фомин-колодце, в Евлампиевском, в Большом Набатове. Юристы, летчики, рыбаки… Порою честные, старательные, только жалко на них глядеть. А на землю, которая уже забывает шелест хлебных колосьев и снова превращается в Дикую степь, смотреть и горько и страшно…
Окрестные хутора уже погибли. И восстанут ли? Большая Голубая выжила в самые трудные годы, хотя, конечно, должна была умереть. Но выжила. Честь ей!
— Я жене сто раз говорил: уедем, пока в силах. А она твердит: родная земля, здесь родилась, здесь могилки…— жалуется В.Ф.Дьяконов.
Он жалуется, а я низко кланяюсь Анне Георгиевне и готов целовать ее тяжелые черные руки, которые спасли эту землю, этот хутор.
— С тринадцати лет работаю… Теперь нас кинули. Пенсию получаем. Но деньги не будешь грызть. А сил уже нет…
Хутору Большая Голубая помогло наше общее большое несчастье: развал страны и горе миллионов беженцев. Пятнадцать семей приехало на хутор. Не какие-нибудь «перелетные», не условно освобожденные, за какими милиционера нужно приставлять, а рабочие, трудовые семьи, которым цены нет. К их беде, к их нелегкой судьбе отнестись бы сочувственно, тем более что они приехали сюда, поверив обещаниям руководителей «Сельхозводстроя».
Теперь они без работы.
Из разговора в районной службе занятости:
— Если они принесут нам трудовые книжки со статьей об увольнении, мы будем платить им по четырнадцать тысяч. Но два раза в месяц они должны приезжать и отмечаться.
(Пояснение от автора. Этих четырнадцати тысяч рублей хватит как раз для двух поездок в райцентр.)
— А может быть, мы организуем там новое производство с рабочими местами…
(Снова мои комментарии. Очень трудно будет «организовать новое», лучше не рушить старое.)
Из разговора в районной администрации:
— Там — сплошные убытки. Там — растащили скот. Там — запустили земли.
(И снова мои комментарии. Кто запустил землю? Кто развалил производство? «Плохой» народ или «хорошие» руководители?)
Ведь на той же земле получали самые высокие в совхозе «Голубинский» урожаи ячменя. С тем же «народом».
За погубленную человеческую жизнь судят высшей мерой. Как же надо судить за погубленный хутор?!
Каждый погибший хутор, селение — это наш шаг отступления с родной земли. Мы давно отступаем, сдавая за рубежом рубеж. Похоронным звоном звучат имена ушедших: Зоричев, Липологовский, Липолебедевский, Тепленький, Вороновский, Соловьи. Края калачевские, голубинские, филоновские, урюпинские, нехаевские — донская, русская земля.
Не провели семь ли, двадцать километров дороги… Закрыли магазин. Не захотели возить детей в школу. Пожалели копейку для фельдшера, а для учителя — литр молока. Обидели невниманием старых. «Реформировали».
И вот уже разошелся хутор. Умирает земля: на Россоши, на Саранском, в Зимовниках, на Козинке — на щедром, дорогом сердцу поле — вместо пшеницы поднялся седой осот да желтеет сурепка; и говорливую речку, Быстрицу ли, Панику, Ворчунку, полонит камыш, а пруд зарастает тиной и ряской. Так умирает Вихляевский ли, Помалин или милый Кузнечиков. Так постепенно умирает родина, у каждого она малая, своя, но для всех одна.
Уходим. Бросаем за хутором хутор, оставляя на поруганье могилы отцов и дедов.
Сколько будет длиться этот позорный марш отступления? Ведь уже вслух говорят и кричат, что не мы, а иные народы — хозяева донской степи, нашей матери.
Не ведают, что говорят. А мы ведаем, что творим?!
Хутор Большая Голубая.
осень 1994 года
1995 год
«Новый Мир», №4
Зять
В райцентре, в его конторах, когда рядом, в подмогу, был умный человек, Мартиновна ничего не страшилась, все бумаги подписывала. И в машине, когда возвращались на хутор, она раз за разом повторяла:
— Я — хозяйка… Я — в своем праве. А он — пришей-пристебай! Решил: бабы — глупые, зажмурки живут, обведу их, как серка, за уши. А мы и впрямь — хуторские овечки…— призналась она и добавила: — Но кое-чего соображаем…
Главная подмога Мартиновны, Лельки-бригадирши брат, бухгалтер колхозный — головочка умная, лысая, недаром еще смолоду его Плешкой величали, он рядом, в машине, за рулем сидел и поддакивал.
— Они нахалтай привыкли, чужими джуреками свою родню поминать. А тут — коса на камень…— хохотнул он довольно.— Прищемили. Теперь налицо будет, кто глупый. Ты жизнь на колхоз поклала!— возвысил он голос.— А он прибег на белые буханки. Земли ему захотелось. Воспрещен проезд! Земля наша. Мартиновны и Макуни. Они на этой земле загорбатились. А он забогатеть решил, на чужой шее. И — в Америку, на ихних курортах скрыться: с деньгами там примут. Абы деньги. И будет смеяться издаля над дураками. А вы тут свистите в кулак.
Приехали на хутор. Плешка ссадил Мартиновну прямо у ее двора, на прощание подбодрил:
— Чуть брыкнет, ты шуми сеструшке, она при телефоне. И мы его враз определим. За высокий забор. Я участковому дам знать. Пристроим, где был. Там место еще не остыло.
Плешка убыл. Мартиновна осталась одна. И хоть лежал вокруг родной хутор, а рядом — родной двор и дом и сама Мартиновна была бабой не робкой: с тяжелой поступью, крепкими руками, низким, мужичьим голосом, но, конечно, боялась она своего зятя-«затюремщика». С первого шага, когда пришел он из лагеря, лишь ступил во двор, старая мать Мартиновны, бабка Макуня, сразу сказала: «Он людей резал». А старая ворона зря не каркнет. И потом, хоть целых пять лет под одной крышей прожили, а как сощурит глазоньки, процедит: «Ты не в свои дела не лезь… Понятно?..» Это «понятно» огнем ли, холодом, но обжигает до самого нутра. Так что не сразу вздохнешь.
Конечно, она боялась. Но страх перемогала. И повторяла про себя: «Я хозяйка. Я — в своем праве. А он — пришей-пристебай. Копеечку бабью, сиротскую не дам отнять. И пусть даже убьет,— на крайнее решалась она,— зато внуки с сумой не пойдут и дочка не будет век слезы точить. Пускай убивает. А может, и не убьет,— думалось.— Может, унесет его Господь, как и принес. Может, даст покою. Галдят все: Мартиновна, Мартиновна двух мужиков стоит… Сколь накосила Мартиновна… Сколь накопала картошки… Словно все это с неба валится: сено, дрова, картошка… Кто бы знал, что у Мартиновны руки уже ни вил, ни лопаты не держат. А внутри все скрипом скрипит, видать, проржавело. Пора бы и отдохнуть. Наработалась, слава Богу. Сложить бы крестиком руки да сидеть на лавочке возле двора, семечки лузгать и басни тачать. Может, и приведет Господь…— теплилась в душе надежда.— Все же копеечка неплохая…»
Мартиновна вслух сказать боялась. Шутка ли — целых семьдесят миллионов. Отнимался язык. Хотя по хутору и округе про семьдесят челядинских миллионов трезвонили кому не лень.
Это началось летом, когда хлеб убирали. Челядинское поле озимой пшеницы по пятьдесят центнеров с гектара давало. Удалась пшеничка: зерно к зерну. А народ нынче грамотный. Считать умеют. Особенно в чужом кармане. Прикинули. Получалось, что семьдесят миллионов рублей получит за эту пшеницу челядинский зять. Вот тебе и «затюремщик» и лодырь.
Челядины на хуторе жили всегда. Но с мужиками им не везло. Бабка Макуня в войну овдовела. Мартиновну оставил муж с годовалой Раисой на руках. А в годы вошла Раиса, и ей Бог счастья не дал. Дружечка ее сгорел в одночасье. Так и жили бабьей артелью, пока не послал им Господь в зятья Костю-«затюремщика».
На погляд Костя был похож на военного: высокий, поджарый, в короткой стрижке, с железными зубами. А взгляд — неморгающий, строгий.
Челядины зятя приняли, хотя вначале не больно верилось, что он приживется — чужой гусак среди свойских: всегда бритый, с одеколонным душком, а не с водочным перегаром.
Колхозный бригадир Чапурин определил челядинского зятя в лодыри. Костя в скотниках побывал, в кочегарах на ферме, в плотниках. А потом приладился шофером на старую машину. Летом он собирал да разбирал ее возле двора, изредка ездил. Зимой машина стояла.
А в семье примаком были довольны: не пьет, не гуляет, как другие. Раиса мальчика родила. Хотя по меркам хуторским в тридцать лет бабе не рожать, а внучат надо пестать. Но родила. И этому радовались. Как говорят, не любовь сведет, так дите спутает. Костя прижился, получив твердое имя: челядинский зять. И все шло хорошо, когда бы не дурь эта с землей, а потом с миллионами.
Мартиновна после райцентровской колготы да машинной езды не сразу пришла в себя. Плешка уехал, а она стояла, опасаясь во двор родной идти.
Но все пока было спокойно. Хутор лежал в теплой сентябрьской тиши. Деревья в садах еще не желтели. Лишь кое-где тронуло багрецом маковки груш. В палисадниках алели гроздья калины; пестрели, доживали летнюю пору простые цветы: астры, петуньи, высокие георгины.
Словно на казнь, со вздохом, крестясь, Мартиновна ступила в свой двор. Здесь, за высоким крепким забором, в безветрии, было и вовсе по-летнему тепло. Старая бабка Макуня в пуховом платке, валенках и плюшевом жакете сидела возле кухни с хворостиной, внука стерегла. Вовка лез во все углы, куда не положено. Бабка, а вернее, прабабка стращала его:
— Шелужиной тебя… неуемный…
Мартиновна, словно наскучав по внуку, подхватила на руки этот теплый дорогой комочек, проговорила:
— Жалюшка моя…
И разом стало ей легче: не для себя — для малого внука старалась, для него и для дочери.
А дочь Раиса выглянула из кухни, спросила у матери:
— Ты где блукаешь? Увеялась — ни слуху ни духу…
— Плешка в район ехал. Я прицепилась, насчет пенсии. Дурят нас. Солонечихе боле моего принесли.
От дочери Мартиновна правду таила. Раиса не в нее удалась: покорная овца, обмануть ее — раз плюнуть. Тем более — ночная пристежка: под чьим боком греется, с тем и песни поет, про завтрашнее не думает.
— Солонечихе принесли на две тысячи боле моего!— возвысила голос Мартиновна, потому что, еще не увидев зятя, почуяла взгляд его.— Бесстыжие! У меня стажу — хоть на базар неси! Я — почетный колхозник!
Зять сидел возле сарая, рыболовные снасти ладил. Любил он это дело.
— Я им вложила ума!— опуская внука на землю, закончила Мартиновна и ушла в дом, чтобы переодеться да от зятя укрыться. Он ведь, словно колдун, прищурится и все насквозь видит.
Обедали в летней кухне. Мартиновне кусок в горло не лез. Понимала она, что шила в мешке не утаишь: не ныне, так завтра Костя обо всем узнает. Что будет тогда? Уж точно — в последний раз за одним столом сидят: Раиса с внуком, Костя; мальчик тянется к отцу, мешает ему — привычное, семейное, сердцу дорогое.
Слава Богу, заглянула соседка, Раисина сверстница. Обедать она не стала, но ушла не вдруг. Жаловалась на колхоз, в котором с весны не платят. А на работу ходи, коров не бросишь. Завидовала вслух Раисе, хвалила Костю, что из колхоза не побоялся уйти. Речи были обычные после нынешней уборки, когда про миллионы узнали.
— Копейку начислят — и той не дождешься,— жаловалась соседка.— Потом да потом… На вас поглядишь — завидно…
Под эти разговоры Мартиновна быстро доела и в огород ушла. Завидовали нынче многие. А вот было ли чему?
Сколько пережили, сколько пролили слез, когда Костя из колхоза решил уйти. Он и работал-то в колхозе без году неделю. Да и работал ли? В скотниках — не захотел. На дробилке — пыльно. В плотниках — мало платят.
А потом вдруг надумал и объявил: «Из колхоза надо выходить, пока не поздно». Сколько слез было… А он стоял на своем: «Уходить надо, пока другие в затылке чешут. Тарасов не зря ушел». Мартиновна плакала в голос: «Тарасов в тракторе зародился. Он и спит в нем. И сын — весь в него. А у нас? Сейчас ли в колхозе не жить?! Бери чего хочешь, никто слова не скажет. Хоть сено, хоть зерно. Огрузись…» — «Потому и надо уходить, через год-другой все растянут». Неожиданно его поддержала Раиса, сказав: «Он — мужик. Он — в силах». Мартиновна сдалась. Дочери в ту пору пришло время рожать. Как спорить с ней? Тем более с глазу на глаз сказала Раиса матери: «Либо ты не видишь? Он попивать начал. Нудится. Пускай к делу прислоняется. Сладит он».
Написал заявление. Бумаги ездили оформлять Костя с Мартиновной. Где нужно, Мартиновна кулаком себя в грудь стучала: «Два ордена! Почетный колхозник! Имею право!» И Костя не промах был: подмазать умел, с людьми разговаривать. Он и прежде, надо ли огород вспахать, сено привезти, обычно говорил: «Организуем. Готовьте горючее».
Но одно дело — погреб выкопать, тележку зерна привезти, другое — триста гектаров земли, кус немалый Челядины выхватили.
На хуторе, когда узнали, головами качали да посмеивались: «Бабка Макуня будет пахать». Колхозный бригадир Чапурин — он по соседству жил — спросил Костю напрямую:
— Зачем берешь землю? Людей баламутить?
— Попытаем,— спокойно ответил Костя.
— Чего пытать? Ты же в земле ни бум-бум. Лишь червяков копаешь для рыболовства.
— А я у добрых людей совета спрошу,— так же спокойно ответил Костя.— У тебя, например. Ты ведь подскажешь, когда пахать да когда сеять,— и, помолчав, добавил: — А кто на хуторе может? Турчок? Шаляпин? Сытилин? Ванька Махно?— считал он хуторских пьяниц.— Ну, кто?
Чапурин вдруг понял, что нечем ему ответить. Давняя то была беда. И он досадливо рукой махнул, смяв разговор. А у себя дома бурчал: «Землероб… В тракторе сроду не сидел…» На что жена его, Лелька, ответила сразу: «А он в него и не сядет, в трактор. Либо у нас пьяниц мало? Они всей бригадой колхозную землю бросят, а ему будут пахать за поллитру».
Тракторами, иной техникой челядинский зять обзавелся. Но в кабину, за рычаги, как мудрая Лелька вещала, он не полез. За поллитру ли, за что еще, но земля его была вовремя вспахана, где надо — засеяна. И сам бригадир Чапурин помог ее щедро удобрить.
Скотные дворы колхоза на хуторе не убирались который уже год. Это когда-то были «отряды плодородия», районная «Сельхозтехника» помогала, а теперь лишь изредка сдвигали навоз, нагребая за курганом курган вокруг фермы. Потом и вовсе бульдозер сломался. Нечищеные базы тонули в навозе.
Как-то летом Костя пришел к бригадиру, сказал:
— Не против? Я навоз заберу с базов.
— Как заберешь? Куда?— не сразу понял Чапурин.
— Себе на поля. Под озимку.
— Молодец. А чем ты его вывезешь? Мартиновну запряжешь?
— Мое дело,— уклончиво ответил Костя.— У тебя коровы на базах плавают по брюхо. К осени тонуть начнут. Я вычищу. Тебе благодарность объявят за чистые базы.
— Забирай, агитатор,— недолго думая согласился Чапурин.— Я погляжу, как ты его вывезешь.
На следующий день на колхозных скотьих базах урчали бульдозер да скреперы, шеястый экскаватор. Могучие самосвалы один за другим потянулись на челядинское поле.
Отряд районного автодора, что недалеко от хутора асфальтовую дорогу вел, одним махом с навозом разделался. Чапурин лишь завистливо глядел на эту картинку, прикидывая, как ему придется отбрехиваться в правлении колхоза. Скажут, что продал навоз.
А вечером бригадира ругала жена:
— Всю жизнь работаешь, ни днем ни ночью покоя нет… А чего заслужил? Медаль? Внукам играть? Затюремщик деньги будет грести, а ты слюнки глотай. Или — к нему, внаймы, на старости лет.
Чапурин лишь вздыхал:
— Жизнь такая пошла.
— А к ней применяться надо, к этой жизни. Навоз ему задарма отдал?
— Сумел человек. Молодец. Почистил базы.
Он и Костю при встрече похвалил:
— Молодец. Сколько же ты им поставил, дорожникам?
— Коммерческая тайна,— усмехнулся Костя.
Поле, на которое навоз свезли, отпаровав, засеяли озимой пшеницей. И следующим летом, в июле, стоял возле него Чапурин и глядел.
В солнечном полудне лежало пшеничное поле червонным золотым слитком — колос к колосу, не войти в него. А через ложбину — колхозное, жиденькое, словно клеваное, в зеленых островах вьюнка, в седых — осота.
Тогда и прикинул Чапурин вслух:
— Пятьдесят центнеров… Элита… По семьдесят тысяч… Не меньше семидесяти миллионов. Вот тебе и Костя.
В ту пору не было никого рядом. Но словно ветер слова его разнес.
То один, то другой приставал:
— Забогатели? Семьдесят миллионов. Куда же девать будете?
— Плетите…— отмахивалась Мартиновна.
— А ты не боишься?— шепотом спросила ее хуторская ворожея Солонечиха.— Жизни решат.
— Столько и не пропьешь…— посочувствовал вечно хмельной Шаляпин.
Партийная Макарьевна при встрече сказала строго:
— Коммунисты все одно победят. Сибирь просторная,— предупреждала она.— Гляди не загреми на старости лет.
И что-то тронулось в душе. Мартиновна была бабой большой, тяжелой, пожившей. Но и мшистый камень-валун, коли его бить и бить, не сразу, а треснет.
В земельные дела Мартиновна прежде не лезла. Теперь пришлось. При дочери за ужином завела она разговор:
— В била забили: миллионы да миллионы… Волочат молву. Взаправду, что ль, за пшеницу хорошо заплатили?
Против ожидания зять ничего не скрыл.
— Цена хорошая. Но у нас и пшеничка…— гордясь, сказал он.— Клейковина высокая. Пятьдесят миллионов уже перечислили. Остальные — обещают. А чего?— спросил он.— Взаймы просят?
— Да нет… Думала, может, напраслину кидают…— проговорила Мартиновна и смолкла.
Если прежде она верила и не верила, то теперь ее словно жаром осыпало, перехватило дух. А немного в память войдя и вздохнув свободней, она с ходу решила:
— Презир надо денежкам дать. На книжку положить. На Володю и на Раису. Там проценты пойдут. Да-да,— убеждала она.— Так все делают.
— Э-эх, мать…— по-доброму посмеялся Костя.— Не забивай себе голову. Это кажется, что много. А их еще бы столько — и не хватило. С кредитом надо рассчитаться. Новый трактор нужен, КамАЗ с прицепом, горючее, запчасти. И если получится, то надо будет ехать в Словакию.
— Куда-куда?..
— В Словакию, за границу. Хорошие там есть комплексы: мельница, рушилка, пекарня — все вместе,— говорил он необычно мягко и глядел на жену, на сына, который тянулся к нему с рук матери, а та его не пускала.
— Пекарня?— спросила Мартиновна.— Хлеб будешь печь?
— Будем печь,— ответил Костя.
— Да его чуть не каждый день возят.
— Наш будет лучше и дешевле,— объяснил Костя и повторил, с чего начал: — Не забивай себе голову, мать. Я уж сам разберусь.
На том и кончили разговор.
Со старой матерью, с бабкой Макуней, говорить было без толку, она лишь отзывалась эхом.
— Либо он брешет все?— спросила у нее Мартиновна.— Обманет?
— Абманат, абманат… Он в тюрьме сидел,— согласно кивала бабка.
— А Володю жалеет и Раису не обижает.
— Мне пряников привез из станицы,— похвалилась бабка.— Сладкие.
Вот и поговори с ней. А поговорить было надо. Мартиновна ночь не спала, пытаясь понять то богатство, что рухнуло на ее баз. Сколько там… в этих миллионах. В гаманке ли, в кармане не уместить. Грезились они каким-то курганом. Всю ночь этот курган виделся. До сна ли?..
Утром Мартиновна к Раисе приступила всерьез.
— Моя доча,— начала она ласково,— об жизни надо загад делать. Это нам с бабкой дорога короткая — на кладбище. А тебе еще на веку, как на долгом волоку, всего придется перевидать. А время — надежи нет. И люди не зря про черный день копеечку сбивают.
— Ты об деньгах?— поняла ее Раиса.
— Об них,— призналась Мартиновна,— об вас с Володей мое сердце кровит. Такая страсть — миллионы. А он их — в распыл.
— Ой, мама…— вздохнула Раиса.— Я ему говорила. А он: нужны в дело. Трактор, машина, пекарня…— повторяла Костины слова.
— Набрешет — конем не перепрянешь,— в сердцах оборвала ее Мартиновна.— А ты вослед за ним едешь, ночная пристежка. Повадили его… Хозяин… Я тебе всегда учила: для каждого дружка держи камень за пазушкой. И для сердечного — тоже. Сколь дурили тебя… Ныне он — милый, а завтра — постылый. Кинет — и осталась с дитем на руках. А он парень клеваный, крым и рым прошел.
Раиса слушала мать не переча. Эти пятьдесят ли, семьдесят миллионов и у нее на сердце лежали. Сколько разговоров вокруг… Но первым про деньги Костя сказал, когда лишь начали пшеницу сдавать. Она испугалась, стала говорить про лихих людей, про сберкнижку. Костя посмеялся, потом сказал: «Шубу тебе, если хочешь, купим. Тряпки нужны — скажи. А в остальное не лезь. Тут моей голове болеть». Она поверила, вздохнув облегченно. Мужик — он хозяин.
И теперь верила Косте, привыкнув к нему. Но материнскую боль понимала. А чем ей ответить? Лишь вздохами да слезами. Такой был характер, далекий от материнского.
— Телушка…— в сердцах обругала ее Мартиновна.— Тебя лишь почухай — и хоть на бойню веди.
Она махнула рукой на дочь и на старую мать, понимая, что, как и прежде, надеяться надо на себя.
Идти нужно было к Лельке, к бригадировой жене. Та — грамотная и при власти; брат ее Плешка и вовсе в конторе с младых ногтей. А жили всегда рядом. Правда, когда Челядины из колхоза ушли, меж соседскими дворами словно сквозняком потянуло. Не ругались, не ссорились, а чуялся холодок.
Теперь нужно было идти. Хочешь не хочешь, а больше некуда.
Мартиновна подгадала ко времени. Бригадирова жена Лелька сидела на солнышке, на крылечке, пуховый платок вязала.
— Я к тебе, Леля, с бедой,— открылась Мартиновна сразу.
— Деньги?..— поняла ее Лелька.— Миллионы?
— Они…
— Не отдает?
— И слухать не хочет. Не забивай, мол, голову. Туды да сюды. Трактор купить. Да еще за границу надо, какую-то турунду везти. Вроде пекарню…
Ростом невеликая и телом худая, Лелька мудрой была, даром что баба.
— Заграница?— спросила она шепотом и потянула Мартиновну в дом, подалее от чужих глаз и ушей.— Вот оно и открылось!— объявила она.— Все так делают. За границу — и хвост в хворост. Чтоб наша милиция не поймала. А ихнюю подкупит. По телевизору каждый день объявляют. Ты либо не глядишь?
— Лишь кино, «Марию».
— А надо все глядеть!— Глаза Лельки загорелись желтым огнем.— Всякий день про это гутарят. Украл денежку — и на побег, в Америку, на ихние курорты. Там раздолье ворам. Ты сама пойми: зачем ему, с миллионами, возле вас галтаться? Чего он забыл здесь? Там он во дворце будет жить. Шалашовки найдутся — не нашим чета. Потому и намылился, к сладкой жизни. Об вас не думает. А если бы по-умному…
— Вот я и говорю,— пожаловалась Мартиновна,— положи деньги на книжку. На Раису, на Володю. Вырастет дите — копеечка есть.
— Правильно раскладаешь,— одобрила Лелька.— Шутка ли, семьдесят миллионов. Завтра чего случись… А ты их по щелям распихай. На дитя положи. У дитя да у старика власти не отымут. Домик на станции купи. Там — газ. Там — тепло. Об угле да дровах голова не боли. Там хлеб и молоко в магазин кажденно возят. Горя не знают люди, живут. А он увеется, все подгребет… Вы останетесь яко наг, яко благ. Семьдесят миллионов… Такая страсть…
Это была и вправду страсть. Что Мартиновна?.. Даже у премудрой Лельки все в голове мешалось, когда думала она об этих деньгах.
Добрые люди век отработали. Чапурин в бригадирах ни дня ни ночи не знает, весь хутор на нем. А денежки огреб «затюремщик», какой голым-босым лишь вчера на хуторе объявился.
— Ты — в своем праве!— убеждала Лелька.— Земля твоя, материна, Раисина — а он ей завладал. И техника твоя, на тебе все записано, ему бы и не дали ничего, он у нас без году неделя. Ты в своем праве. Я ныне же братушке позвоню. Прищемит он затюремщику хвост. Лишь ты не молчи. А то привыкли слезы точить. Счастья не упусти… Оно раз в жизни досталось. Тебе счастье, Раисе и внуку… Счастье!
Телефон на хуторе был один. Днем он трезвонил в конторе, вечером да в выходные — на дому у бригадира, через дорогу от Челядиных. Когда Косте звонили из райцентра, бригадирова жена Лелька кричала от своего двора:
— Ко-онста-анти-ин!!
Нынче она голосила особенно старательно. Мартиновна, из огорода услышав этот призывный клич, сердцем почуяла: вот оно, начинается. Не ожидая хорошего, она бросила лопату и пошла к дому медленно, нехотя.
Встретились посреди двора, Костя против ожидания был вовсе не сердит. Остановившись, он улыбнулся растерянно и спросил:
— Ты чего, мать, сделала? Ты с ума сошла?
Мартиновна привыкла к зятю строгому, жесткому. А теперь его словно подменили. И, разом поняв его слабину, а свою силу, она ответила тоже мягко:
— Ага-а… Прищемила. Хотел — виль хвостом. Не вышло?!— Осознав победу, торжествующе возвысила голос: — Абманат… Абманат ты и есть! Погубить нас хотел?! Завладать денежкой! В Америку, на побег потянуло?! С большим гаманком! Вот теперь и лети в свою Америку! Со своим нажитком! Какой из тюрьмы принес! Перо тебе в зад!
— В какую Америку? Ты чего плетешь?
— А вот и плету… Прищемила хвост! Прищемила!!
— Не орать,— холодно приказал Костя.
В прищуренных глазах Мартиновна увидела то страшное, чего всегда боялась. Но нынешняя отвага, но страсть пересилили.
— Бей! И убей!!— закричала она, зная, что услышат ее.— Убивай!! А сиротскую копеечку не отдам! И дочерю не пущу по миру!!— Она кричала не видя, но зная, как выбирается из кухни старая мать ее, как дочь спешит, оставив мальчонку, как досужая бригадирова Лелька заглядывает во двор.
— Мама… Костя… Господи, помоги… Чего там у вас?— смешались разом три бабьих голоса.
Костя шагнул, Мартиновна охнула. Но зять прошел мимо, быстро пересек двор и так же быстро стал спускаться к леваде, к одичавшим садам, к речке.
Проводив зятя взглядом, Мартиновна процедила:
— Хоть бы ты потонул там. Дал покоя.
Покоя искал и Костя, когда, оборвав ругню, заспешил прочь от Мартиновны. Бабья слепая дурь ошеломила его, и он испугался, что полыхнет в ответ такая же злость в душе собственной. Он быстро прошел узкой тропкою через старый сад и возле речки разом остыл, словно оставил житейское там, за чащею сада, на хуторе.
Синела быстрая вода Ворчунки, на том берегу начинал желтеть тополевник. Скоро он вспыхнет свечным мягким пламенем в осеннем пасмурном дне. Потом листва ляжет на землю, и сразу станет над речкой просторно, далеко видать. На берегу, по земле, уже поднималась мягкая трава, вторая отава. Первую недавно скосили. И как всегда, охапку сухой травы оставили на берегу, чтобы Косте сидеть, когда он рыбачит.
Он сел, минуту-другую бездумно глядел в текучую воду, успокаиваясь и все более понимая, как просчитался, когда два года назад, затеваясь с землею, оформил хозяйство на тещу. В том решении были свои резоны: ему могли в земле отказать, Мартиновна — почетный колхозник, сорок лет стажа, два ордена за труды. Тараном вел ее Костя по районным кабинетам, добиваясь земли. Добился. Мирно, покойно жили. Не взял в расчет лишь бабьей глупости да людских завистливых слов: «Миллионы… Миллионы…»
Неостывшее начало подниматься в душе: боль и горечь, бессилие, злость… Но легкий ветер пахнул, пробежала по воде рябь — стало легче.
Вода уже день ото дня холодела. Но Костя купался каждое утро. И сейчас он поплавал, понырял под левым глубоким берегом. Вроде полегчало. Он вспомнил, как первый раз, приехав на хутор, прямо из лагеря освободившись, пришел сюда, к речке. Лежал в траве, словно в покойной колыбели. Был день первый, потом второй, третий — здесь, на этом берегу. Зелень, текучая вода, тишина. Тогда он решил остаться на этом хуторе. В лагере, за колючей проволокой, грезилось ему: речка, лес, тишина. И он нашел их.
А теперь… Словно обухом по голове.
Костя долго сидел на берегу, думал, но ничего придумать не мог. Конечно, теща не сама на это решилась. Посоветовали да помогли доброхоты. Вбили ей в голову: «Семьдесят миллионов!» И закружилась голова у старой дурехи.
Нужно было говорить с женой. Когда землю брал, она свое слово сказала. Должна понять и теперь.
Клонился день к вечеру. Костя сидел на берегу. Теперь уже не в раздумье, а словно в отрешенье. Всегда его завораживали быстрая вода, зеленый берег, небо и тишина, врачуя душу. Помогло и нынче.
А тем временем, пока Костя вечера ждал, окрыленная легкой победой, Мартиновна клевала и клевала дочь:
— Нечего слезы лить, телушка глупая… Для тебе стараюсь! Я — не вечная, помру… Домик в райцентре купишь… Володю в детский садик, в школу… И человека найдешь не хуже его… Дитя в люди выведешь и сама… Наша земля, наша денежка…
Раиса пыталась перечить, но не могла. К тому же какая-то правда чуялась ей в словах матери. Семьдесят миллионов… Хотелось хорошего: для себя, для сына. Ведь люди живут. И детишки с белыми бантиками в школы ходят. А не на тракторной тележке, по грязи, за двадцать верст. Деньги уйдут… Болтали про какую-то бабу из районного банка, чуть не директоршу, вроде видали с ней Костю… Увеется… И мать не вечная. А без нее страшно подумать, как жить.
Ужинали порознь. Рано спать легли. В постели Раиса слушала Костины слова, верила им и не верила, плакала, говорила в слезах: «С мамой поговори… Она жизнь прожила… Она нам добра хочет…»
Костя твердил свое: про мельницу, про пекарню, про завтрашний день. Но слов его Раиса будто не слышала. А может, и вправду не слышала. Уснула ли, притворилась ли спящей.
Костя полночи просидел на крыльце. И ни свет ни заря уехал в райцентр.
Все получалось, как говорили ему: в единый час он оказался лишним. Теперь он шага не мог ступить без подписи Мартиновны. В фермерском союзе и банке Косте сочувствовали, но разводили руками: «Разбирайтесь по-семейному…»
С чем уехал, с тем и на хутор вернулся. Поставил машину. Во дворе было пусто. Лишь куры бродили, сонно татакая, да топырил крылья петух. А на подворье соседском — вовсе тишина. Костя прошел туда. В соседях жила старая одинокая женщина. С ней сговорились, в сельсовете бумаги оформили и на ее просторном базу поставили склад-ангар. Здесь же намечал Костя ставить мельницу и пекарню, объединив два подворья в одно огромное, где хватит места всему: новому дому, на который проект был готов и обещали для стройки льготный кредит, с рассрочкой на пятьдесят лет, то есть задаром. Дом Костя задумал на городской манер. С ванной, с парной, с гаражом в этаже цокольном. Первый этаж, второй, да еще мансарда…
А что теперь?.. Теще в глаза заглядывать. Или плюнуть на все и снова — рыбачить, охотиться, бродя по окрестным озерам. Но уже набродился.
Вот он стоит, сияя белою арочной крышей, ангар. А рядом хотел…
Не будет покоя. Это словно зараза, чума ли какая. Наверное, он всегда был азартен. В юности верховодил окрестной шпаной. После первой отсидки не по чужим карманам лазал, а вагонами, платформами угоняли с завода нужное. И в лагере, в заключении, бригадирствовал, строил, словно для себя. Это — азарт.
И здесь, на хуторе, за это короткое время уже привык к уважительному вниманию. Сначала его боялись. Потом иное пришло. На хуторе и во всей округе. И даже в райцентре — в банке да в фермерском союзе. А теперь все — прахом? Нет! Лучше уйти. Но куда? Прошлое отрезано. И что в нем, в том прошлом?
От этих мыслей стало нехорошо. А потом пришло отчетливое: надо, пока не поздно, действовать. Думать и делать, а не вздыхать, словно красная девица.
Он поднялся с ветхого крыльца и пошел — сухощавый, высокий, прямой. Лишь поднялся — сразу пришло разуменье, что к чему и как. Рисковое… Но было что ставить на кон. А главное, нет выбора.
Костя зашел домой, взял ключи от склада-ангара, предупредил:
— Не расходитесь. Собрание буду проводить.
В складе он пробыл не очень долго — дверь оставил распахнутой — и, вернувшись к себе во двор, позвал:
— Пошли со мной. Все пошли, все… И ты, бабуня…
Решительно шагала Мартиновна, ступая тяжко; рядом ковыляла иссохшая от жизни Макуня, костыликом подпираясь; Раиса шла с мальчонкою на руках. И Костя — чуть в стороне и сзади, словно старшина, неулыбчивый, строгий. Казалось, вот-вот раздастся команда: «Ать-два! Ать-два! Левой!»
Дверь склада была открытой.
— Заходи!— приказал Костя.
Вошли. Костя последним. Он запер дверь, накинув крючок. Вспыхнули яркие лампы. И Мартиновна охнула:
— Губить будет…
Она первой углядела лестницу, табуретку и веревку с петлей под поперечною балкою. Никакая Лелька тут не услышит, никакой участковый. Видно, пришла пора помирать. И когда поняла это Мартиновна, то ватными сделались ноги, онемел язык.
— Значит, я — абманат?— спросил Костя.— Обмануть вас хочу? Миллионы украсть? Забирайте эти миллионы!— возвысил он голос.— Набирайте золота, дом купите, нового зятя… и отца ему.— Он шагнул к сынишке, к Володе, которого держала на руках растерянная Раиса, поцеловал его и так же ровно пошел к табурету, влез на него, надел петлю на шею, качнулся и вышиб из-под себя ногой опору.
Табурет покатился к стене, а сам Костя, тело его начало биться. Он вытягивал и вытягивал шею, словно что-то еще хотел сказать, но уже не мог. Страшно открылся и запенился рот в немом раздирающем крике. Выпученные глаза безумно таращились. Судорога ломала жилистое тело, изгибая и вытягивая его в предсмертной корче.
— Грех… Грех…— заплакала старая Макуня, шагнула и, упав, поползла на четвереньках.
— Мамка!— закричала Раиса и, уронив с рук сына, кинулась к Косте, стала ловить ноги его и кричала: — Ма-амка!!!— потом к табурету — и снова к Косте и дико орала: — Ма-амка!!
На амбарной стене висели друг возле дружки четыре косы. Мартиновна, ухватив самую малую, задыхаясь, спеша, полезла по лестнице и с первого раза, с потягом, пересекла веревку над головою зятя.
Костя рухнул на асфальтовый пол. Раиса бросилась к нему, все так же крича: «Мамка!» А потом смолкла, упав на колени, приникла к груди мужа и слушала: колотится ли еще гулкое Костино сердце?
1995 год
«Новый Мир», №12
Сосед
Середина августа. Жарко. Больше месяца нет дождя. С вечера желтое слепящее солнце тонет в багровом закатном дыму. Утром оно поднимается в том же багровом тревожном мареве и начинает палить.
Земля пересохла. Вечером, в огороде, льешь и льешь воду. Назавтра, к полудню, грядки — словно и не поливал их. Никнут свекольные листы, помидорные; картофель вянет, желтеет. Льешь и льешь воду. Иссохшая земля пьет ее жадно, со всхлипом.
Новый сосед мой, видно, выпросил на работе выходной. С утра и далеко за полдень перетаскивал он уголь от ворот в сарай. На неделе этот уголь купили. Возят его шахтеры из Донбасса ли, из Ростовской области. Говорят, что зарплату им выдают не деньгами, а углем. Вот они и возят. Без топки не обойдешься. Зима все равно придет.
Соседова жена на днях жаловалась:
— Восемьдесят тысяч за тонну. Так дорого… А пришлось три тонны купить…
— Куда деваться…— как мог, успокоил я ее.— Через неделю будет дороже. В Филоново уже по сто пятьдесят тысяч. Так что не горюйте.
Теперь сосед перетаскивает свой уголек. Сынишка его, подросток, насыпает лопатою ведра. Сосед носит. До сарая не близко. Ведра объемистые, цебарки, как у нас их называют. Больше пуда потянет каждая, с углем-то. Два ведра — два пуда. Таскает. Жара. На голом теле — разводы пыли и пота.
Потом он копал возле бани яму для стока. Копал и копал, уходя все глубже в прохладную землю. А вечером, как и все, мотор завел. Началась огородная поливка.
Уже ночью, во тьме, мотор гудел и гудел, стучал насос. Я вышел в огород, когда совсем стемнело. Гремел оглушительный хор садовых сверчков. Узкий месяц желтел. В соседском огороде, во тьме, слышимо лилась из шланга вода. Светил красный огонек сигареты.
— Воскресный отдых заканчивается!— громко сказал я.— Теперь можно и на работу.
— Еле на день выпросился,— ответил сосед.— Там тоже спешка.
Со степи потянуло свежестью. Я пошел к дому. Красный огонек сигареты в соседском дворе вспыхивал и притухал. Во тьме человека, нового моего соседа, не было видать. Но я знал, что глядит он куда-то выше земли, словно в небо — не в небо, а куда-то далеко. Взгляд рассеянный, пустой. Так глядят старые люди на исходе жизни. Куда-то в дальнюю даль, нам неведомую. Но новый сосед мой далеко не стар, ему и сорока еще нет, наверное.
Появился он весной. В начале апреля я приехал на разведку из города — поглядеть, не пора ли на лето перебираться в наш старый дом. Приехал, гляжу — кто-то в соседнем огороде копается. «Новые квартиранты»,— подумалось мне.
В соседнем доме доживает век одинокая женщина, тетка Клава. Муж ее, мой приятель Фомич, любитель зимней рыбалки и целебных трав, помер три года назад. С той поры тетка Клава, в просторном доме живя, пускает в летнюю кухоньку, что рядом с домом построена, квартирантов за квартирантами и тут же гонит их. Старый человек, нелегкий характер: то — не так, другое — не эдак. А на любое жилье нынче спрос великий. Военных прислали в соседний поселок, целых три полка: из Германии, из Чечни, из Баку. Все — бездомные. И беженцы едут и едут со всех краев: Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Кавказ. Живем по соседству. Вот к нам и бегут. Любому углу рады. Лишь бы прислониться.
С новым соседом тогда, весной, мы поздоровались, и только. Он сгребал огородный мусор. Я оглядывал дом да подворье: как они тут без меня зимовали? Оглядывал, двери-окна отворял, чтобы выветривалась зимняя стылость. К огороду и саду я не спешил. Все это еще впереди, когда переедем.
День стоял апрельский, солнечный, хотя и поздней весны. В огороде, в саду голо, серо. Лишь в затишке, на солнцепеке, полезла крапива да распустил резные листы чистотел. Вот и вся весна. Новый сосед мой греб и греб прошлогоднюю ботву, палый лист. Последние годы старый Фомич был не в силах огород обработать, а тетка Клава и вовсе обезножела. Появлялись помощники: соседи, родня, потом квартиранты. Год от года, в стариковских да чужих руках, земля дичала; засыхали яблони, вишни. В огромный, на добрую сотню метров, длиннющий огород пришло запустенье. Лепились возле дома две-три стариковские грядочки, десяток рядов картошки, а дальше — бурьян.
Теперь новый квартирант корчевал и греб, метр за метром очищая землю. А ее было много, ой как много… Он работал, порою курил, опершись на лопату. Ко мне интереса не проявлял. Поздоровались — и ладно. Когда курил он, то глядел куда-то далеко и непонятно куда: поверх земли, огородов, серых заборов, голых деревьев. Курил и глядел. А потом снова работал.
Я уехал в город, решив погодить с переездом. Поздняя стояла весна, холодная.
Теперь вот лето, считай, позади. Больше месяца нет дождей. Но вот-вот должна погода ломаться. Третий день то с юга, то с запада в пору вечернюю идут высокие облака, роняя скупые капли дождя.
Везде копают картошку. Наши поместья делят заборчики легкие, через них все видать. У новых соседей не огород получился, а огородище. С весны я глядел, как они копают, сажают за грядкою грядку, все дальше уходя от кухни и бани к земле, где и в добрые годы ничего не росло. Обычно там посадит Фомич арбузы да дыни. Они вырастут в кулак или вовсе посохнут. Новые соседи и клочка пустой земли не оставили. И теперь просторный их огород — его и глазом не окинуть — словно пестрая ярмарка: россыпь красных помидоров, фиолетовые баклажаны, белые тушки кабачков, бледной зелени кочаны капусты, луковые, чесночные гряды — всего много.
С ранней весны и до поры теперешней соседи лишь с работы придут, сразу — в огород. До темной ночи там. Лопата, мотыга, поливальник… Пропалывай, окучивай, рыхли — дело известное. Не будешь гнуться — значит, все заклекнет, засохнет, травой порастет.
Новый сосед мой на работу уходит рано. Встану на заре, во двор выйду — табачным дымком наносит. В десять минут седьмого он пошел. И вернется лишь затемно, около десяти вечера. Утром я вижу, как он уходит: в руках сумка с харчами. Вначале, еще зимой, он устроился работать на одном из наших заводиков, в поселке. Но нынче песня везде одна: работы мало, сокращение, денег месяцами не платят. Тогда он ушел на стройку. В тридцати километрах от поселка корейская ли, турецкая фирма строят военный городок. Но руки, в основном, наши. К ним сосед и устроился. Рабочий день — от зари до зари. Выходных не дают. К сроку хотят успеть, выполнить договор.
— Деньги лопатой гребете?— как-то спросил я.— Доллары?
— Нагребешь…— невесело ответил сосед.— Сорок центов в час.
— А сверхурочные по двойной оплате да выходные?— вспоминал я свое давнее, заводское.
— Этого у них нет,— ответил сосед.
— А как же профсоюз?
— Ничего нет. Работай и молчи. Чуть чего — до свидания. За воротами — очередь, новых возьмут.
Чуть свет он уходит, возвращается затемно. Начинает жене помогать. Так что видимся редко. С женой его — чаще. Она с утра, до работы,— в огороде. На обед прибежит — снова туда. Вечером гнется дотемна. Иногда перекинемся словом: что как растет.
Колья для подвязки помидорных кустов соседи поставили высокие, шнуры натянули — ряд за рядом — в человеческий рост. А помидоры нынче уродились не больно завидные. Холодная стояла весна.
— У нас,— вспомнила со вздохом соседка,— помидоры росли выше головы. Сорт «Де барао». Гроздьями висят.
Она, как и муж ее, небольно разговорчива. Лишь порою уронит:
— Баклажаны у нас росли… в локоть… А лук — в два кулака.
Старая хозяйка, тетка Клава, совсем обезножела. Кое-как выберется на крыльцо, квартирантов корит:
— Так не делают… Помидоры надо поливать так-то вот: сбоку и помаленьку. Мы всю жизнь так делали. Ты не обижайся, я всегда правду в глаза говорю. И капусту вы неправильно посадили. А я упреждала…
Все понятно: старость, болезни и характер — не приведи Господь. Со стариком своим тетка Клава ругалась до самой смерти его. Квартирантов за три года несчетно перебрала. Все неймется.
Ей неймется, а жить возле нее тяжко.
— Цветки надо гуще сажать, у меня завсегда…
— Пятнадцать лет мы дачу держали,— кротко вздохнет в огороде квартирантка.— Одних роз больше десяти сортов: «Таврида», «Пионерка», «Купер», «Илона», «Рубин»…
Росту новая соседка невеликого, а кажется еще меньше. Всегда у грядок, у земли, гнется. Взгляд, как и у мужа,— поверх всего.
И дети у них какие-то смирные, тихие. Девочка — невеличка; подросток-мальчик же не по годам деловой, рукастый.
Летнюю тетки Клавину кухоньку — жилье квартирантов — теперь не узнать. Старый Фомич в ней летовал и зимовал, прокурив ее дочерна. После него, три года подряд, приходили и уходили чужие люди.
Теперь летняя кухонька стала нарядной: промазанные и белилами крашенные переплеты окна, голубые ставенки, коричневые доски подзора, такой же карниз, свесы. Все это мальчик делал, старательно, день за днем. Потом он принялся за баньку. Крохотная банька в огороде стоит. Она вовсе сиротой гляделась: сто лет не мазанная, не беленная. А теперь — словно голубая игрушечка. Молодец паренек… Он там и спит теперь, в этой бане. Кухнешка-то тесная. К Фомичу я часто заходил. Там печка, стол, кровать, сундук. Свободного места — в ладошку. Как они зимой там поместятся?.. А теперь, по теплу, больше возле бани толкутся, где мальчик ночует. В огороде работают; возле бани, у порога ее, порою сидят, негромко беседуют. Девочка там же в куклы играет, читает вслух цветистые книжки.
Мальчик на глаза тетке Клаве старается не попадаться. Не поладил он с ней.
— Ты, гляди, дружков ко двору не приваживай,— строго читала ему тетка Клава.— Ныне народ пошел… А молодые и вовсе. Кинут кирпич в окно, потом стекла вставляй.
— А железяки тянуть во двор не надо…— услышал я в другой раз.— Хлама и так хватает. Понатянешь… кто будет выкидать…
— Велосипед он хотел собрать,— со вздохом объяснила мне мать его, в огороде.— Он умеет… На свалке раму нашел, колеса. Он мопеды сам собирал, в кружке занимался. Они картинги делали, ездили на них, соревновались. Его хвалили.
— Скрозь зубы здоровкается… и в глаза не глядит…— выговаривала тетка Клава.— Генерал… А я правду завсегда напрямки говорю, я люблю правду. А они не любят.
Время летнее, теплое. Ходить тетка Клава не может. Лишь выберется на крыльцо и сидит. В доме, одной, вовсе скучно.
Уже близко осень. Темнеть стало рано. И прежде не больно часто видел я новых соседей, теперь и вовсе. Хозяин уходит на рассвете, приходит впотьмах.
Сейчас вот я ухожу в дом, а он — в огороде. Гудит мотор, стучит, хлопает ремнем старый насос, еще покойником Фомичом слаженный в старые-престарые годы. Время шло. Во всех дворах такое старье давно выкинули. «Кама» ли, «Агидель». Кнопку нажмешь — потекла вода. Фомич до смерти остался верен допотопному своему детищу, которое ветшало вместе с ним. Старый пароходный механик, он всякий день чинил и налаживал своего скрипучего друга, угощая его солидолом, машинным маслом, канифолью, вбивая там и здесь клинышки, ставя укосины. Мотор, привод, насос — все это вместе превратилось в махину сложную, подвластную лишь хозяину.
Теперь с ней мучается новый квартирант под ворчание тетки Клавы:
— Всю жизнь поливали… Люди завидовали… У кого руки крюки, оно конечно. Тогда надо мастера пригласить.
— Надо выбросить эту рухлядь,— как-то сказал я новому соседу.— И поставить нормальную помпу. Привезти сварочный аппарат. И не будет муки.
— Сделаешь, деньги затратишь,— сказал сосед,— а она меня завтра прогонит.
Он смолк и стал глядеть мимо меня, как обычно.
Девочку, дочку своих квартирантов, тетка Клава по-доброму отличала, угощала конфетами.
— Тут играйся, во дворе,— говорила она и глядела, как девчушка забавляется с куклою, напевая и баюкая ее. И сама тетка Клава начинала что-то напевать вполголоса, может быть, вспоминая свое детство.
К концу лета у нас появился котенок. Приблудился он к квартирантам, наведывался и ко мне — рыбки откушать, когда случалась она. Милый котенок, серенький, пушистый.
Тетка Клава заметила его не вдруг.
— А котенка этого нам не надо,— сказала она.
— Он хороший,— заступилась за любимца своего девочка.
— Гадят везде. А потом в домах вонь. Не отмоешь.
Девочка смолкла.
На следующий день, в пору полуденную, копался я в саду, когда рядом у соседей, возле бани, послышался голос девочки:
— Не ходи… Ну не ходи туда. Поживи здесь немножко… Маленький мой, серенький, не ходи туда… Ладно, не пойдешь. Я тебя побаюкаю…
И она запела странную песню, которую я слушал затаясь:
Мы скоро все отсюдова уедем,
Мы сядем на поезд и быстро-быстро поедем.
Мы быстро поедем к себе домой.
А там уже война кончилась и никто не стреляет.
Квартиру нашу починили и крышу сделали,
Наша квартира уже не разбитая.
Мы снова будем в ней жить.
Песня кончилась, но девочка говорила и говорила:
— Ты нашу квартиру не видел, серенький, увидишь — так удивишься. Она большая-пребольшая, красивая-прекрасивая. Моя комната, Васина комната, папина-мамина комната, а еще есть зал, кухня, коридор, кладовка и лоджия. Много места. Где хочешь, там и будешь жить. Я буду в школу ходить и в балетную студию. А ты на лоджию выйдешь, серенький, а я тебе рукой помашу: не скучай. А летом поедем на дачу. Мы всегда летом на даче живем. Я сплю на балконе, и ты со мной будешь спать. А потом снова поедем в квартиру, я опять в школу пойду. Познакомлю тебя с подружками: с Валей, Земфирой, Вероникой…
Голос девочки дрогнул. Потом она смолкла. А я замер.
Она молчала. Я видел, как сидела она возле бани, обняв и прижав к себе серенького котенка. Взгляд ее был устремлен выше земли и утомленных жарою деревьев, выше домов, серых крыш. Что-то далекое видела она, завтрашнее ли, вчерашнее. Замерла и глядела.
Скоро осень. Обычно сентябрь стоит у нас теплый. Лишь ночи холодные. Порою приходится в доме протапливать. Но это уже не для нас. Мы уедем, оставив старый дом свой до новой весны. Мы уедем, и придет зима — стылая, ветреная, скупая на снег. Лишь в январе он ляжет, где-нибудь в середине.
1995 год
«Новый Мир», №12
Белая дорога
Вот и осень. Ночи стали холодными. Пора с летом прощаться, собираясь в город, на зимние квартиры.
В последнее воскресенье августа поехали мы к озеру Некрасово. Дорога туда не больно длинная, но без асфальта: колдобины, объезды, а потом и вовсе сыпучие пески. Редкая машина пройдет.
Добрались. Молодые мои спутники остались у воды, с удочками. Я ушел в Пйски. Пйски их у нас называют, хотя правильней, конечно, Пески.
Огромные песчаные пустоши тянутся левым берегом Дона на многие десятки верст. Они порой отступают от берега, порой подходят к воде. Песчаная страна, считай, пустыня; желтые бугры — кучугуры, редкая зелень: солянка, молочай, желтый бессмертник, ползучий чабер. Вечный ветер. Свистит и свистит. Безлюдье на десятки верст. Машины сюда не забираются. И делать нечего, и застрянешь в песках.
Редкий жаворонок вспорхнет из-под ног; редкий коршун проплывет в вышине; ящерка прошуршит — и все. Тишина. И просторное небо.
Люди здесь тоже редки. Но порой встречаются белые дороги, неведомо кем проложенные в сыпучих песках… Эти белые дороги завораживают. Будто и знаешь округу: там — Рюминский хутор, в той стороне — Старая Сокаревка, за ней — Песковатка. Но к хуторам ведут дороги езжие. А эти? Белая колея петляет меж песчаных холмов, порою взбегая на них. Кто ее проторил, эту дорогу, и куда?..
Нынче лето кончается. Солнечный день. Но взойдешь на бугор — нижет до костей ветер. Под ногами похрустывает сухой молочай; кое-где доцветает сиреневый чабер; трава «бескоренка» — черная, словно мороз ее опалил. Коршун поднялся и стоит в воздухе, крылом не махнет. Ветер. Белая дорога ведет куда-то.
Вспомнил о Степе. О нем и рассказ. Где-то здесь, в этих песках, он умер. Шел и шел белой дорогой. Потом лег ли, а может, упал и умер.
Степу я, конечно, не знал. Он жил задолго до моего рожденья. Осталась память, рассказы. Мой нынешний — один из них.
В округе станицы Голубинской, что на среднем Дону, на всех ее хуторах, далеких и близких: в Усурах, Липолебедевском, Каменнобродском, Тепленьком, Липологовском — Степу-глухого знал каждый, от старого до малого. Степа чинил обувку. Годы были тяжкие — двадцать первый да двадцать второй: голод, разруха, только что война прошла.
О новой обуви в ту пору никто не помышлял. Перебивались ношеным старьем. И Степа-глухой был спасеньем для всякой семьи, даром Божьим. Во-первых, он брался чинить всякую рвань, ничего не отвергая. Лишь сокрушенно покряхтывал да головой качал и лепил латку к латке. А во-вторых, он не требовал за труды свои плату, работая лишь за харчи.
Откуда он взялся такой, малахольный ли, умом тронутый, толком никто не помнит. Своего пристанища, дома он не имел. Мешок за плечами — все имущество. Жил и кормился Степа в том доме, куда приходил работать. Жил, пока всю обувку не перечинит. На Степу-глухого была очередь, и в других домах уже ждали его и порой нынешних хозяев упрекали:
— Он вам пилы точит, а люди босые ждут.
Перечинив обувку, Степа собирал свои пожитки, шел в другой дом, никакой платы не прося.
Бумажными деньгами в ту пору игрались дети да старухи обклеивали ими крышки сундуков. Но Степа был «тронутым», и потому ему порой, может, для очистки совести, вручали за труды эти пестрые бумажки. Он брал их на полном серьезе, складывал в кисет.
— Сколько денег накопил, Степа?— порой подсмеивались над ним.
— Чего? — не слышал ли, не хотел ли слышать.
— Сколь у тебя денег?
— Много.
— Ну, сколь?
— Сто тысяч и еще два раза,— такой был всегда ответ.
Одежда на Степе была поношенная, но всегда чистая, аккуратно заштопанная, петли обметаны, пуговицы крепко сидят. А заплаты подобраны и посажены — как влитые. Тут уж хозяйки одна перед другой старались.
Будь Степа помудрей, поразумней, он мог бы прожить и лучше, выбирая дома с достатком. Пусть хлебом богатых в ту пору сыскать было трудно, но были семьи, у которых всю зиму картошка не переводилась, кукуруза, тыква да свекла. Степа любил запеченную на легком духу тыкву, нарезанную кусочками, когда они, подрумянившись, становятся сладкими. Степину слабость знали. И в домах, где тыква водилась, прямо на рабочий стол ставили сковороду с кусочками оранжевой тыквы. Он работал и порой сладился, причмокивая.
Сапожному мастеру можно было прожить. Но Степа хозяев не выбирал, сытно живут или впроголодь; он шел, куда звали. И порою неделю-другую сидел на голых желудевых лепешках. В таких семьях обычно и детишек больше, и обувка — дыра на дыре. Всегда худой и морщинистый, тогда он и вовсе усыхал, зубы от желудей чернели, но не уходил, пока последнюю пару ношеных-переношеных чириков не починит. За это его уважали, называя порой святым человеком, какие не от земли, а от неба.
Очень любили Степу-глухого ребятишки. Для них начинался праздник, когда он приходил в дом. Сапожник открывал свой мешок, детвора возле него сбивалась.
На низенький столик, за каким работал, из мешка выкладывал Степа деревянные обувные колодки, сапожные ножи, вар, конопляную дратву. Возле столика валили горой старую обувку. Степа обглядывал ее, размачивал в корыте с водой. Готовил сапожные шпильки. Березовые кружки под его рукой ловко кололись на пластинки, потом заострялись. И вот уже тонкие шпильки-гвоздики сыплются из-под ножа. Для ребятишек разве не чудо?
А между делом для ребячьей забавы Степа-глухой нарежет пахучих деревянных кубиков да колесиков, тележку смастерит, вырежет острым ножом куклу, солдатика, игрушечное ружье.
Детишки возле него с утра до ночи кружатся, порой толкают, мешают. Но он их никогда не гнал. Все можно было трогать и брать на Степином столе. А малышам — забираться к нему на колени.
Степа никогда не смеялся, даже не улыбался, но в такие минуты он светлел лицом и шумно вздыхал. Говорили, что Степина семья, дети погибли ли, померли от войны, голода ли, болезней. Целые хутора тогда вымирали.
Но толком о нем никто и ничего не знал. Степа, как все люди глухие, был молчуном. Отработает — и уйдет в другой дом, а то и на другой хутор. Подолгу ему не давали засиживаться, напоминая:
— Вы Степу долго не держите, он другим нужен.
И вот он пошел со двора. Мешок — за плечами. Детвора до ворот проводит, и все. Останутся деревянные игрушечные тележки да куклы и чиненая обувка — не страшны теперь грязь, холода.
А потом Степа пропал. Не видно и не слышно о нем. Стали спрашивать. Никто толком не знает. Последний раз был у Калмыковых, на хуторе Усуры. Оттуда ушел на Песковатку. Сам Калмыков его и перевозил через Дон на лодке.
Но в Песковатке Степу не видали. Не появлялся он и в рядом лежащих хуторах — Рюмино, Сокаревке, Вертячем.
Лишь осенью, на исходе лета, Степу нашли в Пйсках. Видно, пошел он от Дона не кружной, торной дорогой, а напрямую, через Пйски. Такой вот белой дорогой, что тянется сейчас передо мной меж песчаных бугров. Прилег ли он на обочину или просто упал? И умер. Ни птица, ни зверь его не тронули. Так и лежал, пока не нашли его сухие мощи.
Где-то вот здесь он умер. Тут, в Пйсках, и нынче безлюдье на многие версты. Ветер шуршит в сухом молочайнике, в острых листах солянки. Вечный ветер. Осень. Мне пора идти, возвращаться к воде, к займищу, где молодые мои спутники надергали окуньков и варят уху. Скоро вечер. Надо уезжать, прощаясь надолго — до следующего лета.
Какое просторное небо над Пйсками… Взглядом не окинешь. Глубокая, за жаркое лето выгоревшая синева, и перистые облака, словно белые каменистые гряды, тянутся из края в край.
Снова о Степе думаю.
А может, и вправду он был святым, каких посылает Бог на помощь в горькие годы. А если так это, то, оставив не тело, но мощи свои на белой дороге, в Пйсках, ушел Степа тоже белой дорогой, но иной, высокой. Вот она тянется по блеклому осеннему небу легкой перистой грядою, из края в край.
1995 год
«Новый Мир», №12
Фетисыч
Время — к полудню, а на дворе — ни свет, ни тьма. В окна глядит си-за наволочь поздней ненастной осени. Целый день светят в домах по хутору электрические огни, разгоняя долгие утренние да вечерние сумерки.
Девятилетний мальчонка Яков, с серьезным прозвищем Фетисыч, обычно уроки готовил в дальней комнате, там, где и спал. Но нынче, скучая, пришел он на кухню. Стол был свободен. Возле него отчим Фетисыча, Федор, маялся с похмелья: то чай заваривал, то наводил в большую кружку иряну — отчаянно кислого «откидного» молока с водой. Тут же топала на крепких ножонках младшая сестра Фетисыча — кудрява Светланка.
Мальчик пришел с тетрадью и задачником, устроился за столом возле отчима.
— Места не хватило?— спросил его Федор.
— Я вам не буду мешать,— пообещал Фетисыч.— Вроде меня и нет. А за тем столом мне низко. Я наклоняюсь, и осанка у мен портится.
— Чего-чего?— переспросил Федор.
— Осанка. Это учительница говорит. Можешь спросить, если не веришь.
Федор лишь хмыкнул. К причудам пасынка он привык.
Вначале сидели молча. Фетисыч строчил свою арифметику. Федор пил чай и, скучая, глядел в окно, где сеялся мелкий дождь на серые хуторские дома, на раскисшую землю. Сидели молча. Малая Светланка таскала из ящика за игрушкой игрушку: пластмассовую собаку, мячик, куклу, крокодила — и вручала отцу с коротким: «На!» Федор послушно брал и складывал это добро на столе. Горка росла.
Фетисыч скоро от уроков отвлекся.
— Хочу тебя обрадовать,— для начала сказал он отчиму.— Ты же вчера был пьяный, не знаешь. А я пятерки получил по русскому и по арифметике. По русскому — одну, а по арифметике — две.
Федор лишь вздохнул.
— Ты не думай, это непросто,— продолжал Фетисыч.— Одну пятерку по арифметике — за домашнее задание, а другую — по новой теме. Я ее понял, к доске вышел и решил.
— Заткнись,— остановил его Федор.
Фетисыч смолк. Снова повисла тишина. Светланка, мягко топая, таскала и таскала игрушки отцу. Горой они на столе лежали. Потом, заглянув в ящик, сказала: «Все» — и развела руками. И теперь пошло наоборот: подходила она к столу, говорила отцу: «Дай». Федор молча вручал ей игрушку, которую дочь несла к опустевшему ящику, и возвращалась к столу с требовательным: «Дай!»
Они были похожи, родные дочь и отец: кудрявые волосы — шапкой, черты лица мелковатые, но приятные. Отца старила ранняя седина, мятые подглазья, морщины — пил он в последнее время довольно крепко и быстро сдавал. А малая Светланка, как и положено, была еще ангелочком в темных кудрях, с нежной кожей лица, с легким румянцем — красивая девочка. Мальчишка же, Яков, что по характеру, что по стати был для Федора кровью чужой. Фетисычем его звали за разговорчивость, за стариковскую рассудительность, которая приходилась то кстати, а то и совсем наоборот. Как теперь, например, когда Федору с похмелья и без разговоров свет был не мил. Фетисыч понимал это, даже сочувствовал. Углядев, как отчим косит глазами на жестяную коробку с табаком-самосадом и морщится, он сказал:
— Хочу тебе предложить. Ты вот болеешь сейчас с похмелья. А ты наберись силы воли и брось сразу курить. Помучаешься, зато потом тебе будет хорошо.
— Это ты сам придумал?— спросил Федор.
— Конечно.
— Значит, дурак.
Пришла с работы, с коровника, мать Фетисыча — Анна, женщина молодая, но полная, с одышкой. Через порог шагнув, она присела на табурет, укорила:
— Сидите? Дремлете? А мамка ваша — вся в мыле. Опять на себе тягали солому и силос. Вся техника стоит.
— А бригадир чего же?— живея, спросил Федор.
— От него проку… Ходит — роги в землю, ни на кого не глядит.
— А Мишки Холомина «Беларусь»? Он — гожий.
— Мишкин трактор теперь один на весь хутор. За ним, как за стельной коровой, глядят. Говорят, на случай. Кто заболеет… Или за хлебом. Тетка Маня правду гутарит: надо быков заводить. Бык — скотина беспогрешная. Ни солярки ему не надо, ни запчастей. На соломке попрет.
Анна пришла в себя скоро: недолго посидела, прислонившись к стене, пожаловалась и, поднимаясь, спросила строго:
— А даже из печки не выгребли? Меня ждете? И угля нет?
Фетисыч, не дожидаясь, пока погонят его, резво подался в сарай, за углем. Вернулся он, как всегда, с новостями:
— Набирал уголь… Там глыба такая огромная. Я молоток взял и ка-ак ударил ее! Со всех сил! И вдруг — взрыв такой! Все осветилось!— Он вскинул руки. Глаза его сияли восторгом.— Там же темно. И вдруг — огонь! Синий такой!
— Ты, может, спичкой чиркнул? Поджег?— тревожно спросила мать.
— Нет. Я глыбу ударил — и сразу такой взрыв!
Федор молчком сходил в сарай и сразу вернулся.
— Чего там?— спросила жена.
— Как всегда, брешет,— махнул рукой Федор, а пасынку сказал: — Ты на рожу на свою погляди в зеркало, взрывник.
Но Фетисыч еще не все рассказал. Он вынул из кармана телогрейки четыре куриных яйца и сказал матери:
— Ты меня не ругай, ты прости меня. Я одно яйцо разбил нечаянно.
— Это уж как положено. Хорошо, хоть не все кокнул.
— Зато я сделал доброе дело: тетку Шуру обрадовал. Я из гнезда забрал яйца, там их десять было. Пять темных и пять белых. Я сообразил: у нас все куры красные, они темные яйца несут, а у тетки Шуры — белые, значит, ее куры у нас снеслись. Правильно я сообразил? А тетка Шура как раз во дворе была. Я ее и обрадовал, отдал пять яиц и сказал, что всегда буду белые яйца ей отдавать. Правильно я сделал?
Федор ухмыльнулся.
— Тебя кто за язык тянул?— досадуя, спросила у Фетисыча мать.— Тебе кто велел лезть в эти гнезда? Темные, белые… Грамотей. Либо тебе куры докладывают, какие они яйца несут? Знахарь… Она своих кур сроду не кормит. А мы вволю сыплем. Вот они и бегут на чужбинку. А ты ей — яйца. И она взяла, бесстыжая. А ты вечно суешь свой нос куда не просят.
Фетисыч все понял и молча убрался из кухни. Добро, что дом был немалый: три комнаты кроме кухни. Самая дальн — его. В невеликой этой комнатке стол да кровать помещались, на стене — красочный плакат улыбчивого мускулистого мужика с квадратной челюстью и короткой прической, по фамилии Шварценеггер. Фетисыч когда глядел на него, то напрягался и зубы скалил. Но на Шварценеггера он был не очень похож. Во-первых, девять лет от роду. Во-вторых, стричься было негде. Отчим Федор мудрил порою над ним с машинкой да ножницами, оставляя челку на лбу и голый затылок. Получалось не очень внушительно: челка светлых волос, вздернутый нос, круглый подбородок — далеко до силача. Но Фетисыч тренировался. В школе на турнике подтягивался на пятерки целых шесть раз.
Через комнаты глуховато, но слышно было, как ругается мать:
— Это вы вчера рамы с медпункта пропили? Доумились?
— Разведка доложила?
— Доложила. Вот участковый прищемит — назад потянете. Курочат все подряд. Все на пропой, на пропой. А нам край надо бы возле кухни затишку постановить, как у кумы Таисы. В затишку — печку. Летом так расхорошо, не жарко. И курник стоит раскрытый. Шифера бы листов пять или досок, хоть горбыля. Люди во двор тянут, для дела, а ты…
— Пузырь поставь — и к тебе притянем.
— Да уж все растянули. Свинарник какой расхороший был, сколь шиферу, сколь досок. А в клубе, говорят, и полов уж нет.
— Полов… Вспомнила. Уж потолки снимают.
— Либо Рабуны? Они же кухню строить задумали. Рядом живут. Хозяева. А у нас курник раскрытый.
— Пузырь. И все будет!— оживился Федор.
— Да если в дело, я два поставлю.
— Это уже разговор.
— Бесстыжий… Дл дома, для семьи, а ты готов…
— Это не разговор,— перебил ее Федор.
— Разговор, не разговор. Засели, как баглаи. Только и глядите, где бы чего украсть и пропить. Нет чтобы на ферму прийти да женам помочь,— корила Анна.— Бабы — в мыле, а мужики прохладничают.
— Вы задарма горбитесь — и мы пойдем рядом с вами. Коммунистический труд? Пошли они.
— Вот и пошли… А водку кажеденно глотать…
Укоры были те же, что и вчера, и позавчера, и всю долгую осень.
А у Фетисыча уроки были сделаны, можно и в школу отправляться. Хоть и рановато, но веселее там.
Через кухонную толкотню, где суматошилась мать, понемногу наливался похмельною злостью отчим, и лишь кудрявая Светланка жила своей детской счастливой жизнью. Через все это Фетисыч пробился быстро и выбрался на волю.
Уже пошел декабрь, но долгая поздняя осень, словно грязная злая старуха, бродила по хуторам. Низкие набухшие тучи, морося, ползли и ползли, а то и висели над хутором, цепляясь сизым провисшим брюхом за маковки старых груш. По теплу, по лету, хутор тонул в садах. Теперь же через голые ветви все насквозь было видать: от далекого Заольховского кута, который упирался в лесистое займище, до самого озера, с белым песком на берегу, с желтыми камышами. Весь хутор словно на ладони: серые нахохленные дома, сараи, базы, высокие сенники, просторные огороды. И тихо было на хуторе, пустынно: ни людей, ни машин. Одно дело — зябкая слякотная осень; другое — работы нет. Свиней давно на мясокомбинат сдали, овец раньше продали, коров один гурт неполный остался. Тут еще плотницкую да кузницу на зиму закрыли. А дороги развезло, и хлеб печеный не возят. То хоть возле кузни да плотницкой с утра народ толокся, на бригадный наряд в контору ходили, потом у магазина собирались бабы да старики, ожидая хлеб. Нынче все по домам сидят.
От дома Фетисыча видна была и школа. Она лежала на въезде, вначале длинной, через весь хутор, улицы, по которой стояли бывшие клуб, медпункт, детский садик, почта, баня да магазины. Напрямую, дворами да проулками, до школы можно было добраться в два счета. Но обычно Фетисыч не спешил, выходя на улицу главную, мимо подворья многодетного Капустина, где день и ночь мотались на веревке детские штаны да рубашки. Фетисыч свистел, заложив пальцы в рот. И тут же во всех окошках появлялись расплющенные о стекло ребячьи носы. Шестеро детей было у Капустина. Старшей — девять лет, ребятам-двойняшкам — по восемь, дальше — вовсе горох. Еще один свист раздавался возле дома Башелуковых, дл первоклассницы Маринки с прозвищем Кроха. И все. Башелуковы жили на углу. Отсюда лежала по главной улице прямая дорога до самой школы.
За долгие годы улицу выездили, посередке тянулась глубокая лужа. Старый брехун Архип божился, что в разлив в эту лужу из озера карась заходит и можно его ловить. Лужа и летом не высыхала, зеленея. А уж теперь словно море была, топя заборы. Правда, заборов на главной улице почти не осталось. Дома казенные, брошенные, заборам ли уцелеть.
Всякий день на пути в школу Фетисыч наведывался в эти руины прошлого. Добро, что двери да окна в домах брошенных — настежь, а чаще — чернеют пустыми глазницами.
В бывшем медпункте, где и теперь пахло лекарствами, Фетисыч садился в высокое блестящее кресло. Оно вращалось. Крутнешься раз-другой — и дальше пошел. Клуб еще год назад стоял на запоре. Нынче — все раскрыто. Сцену разобрали, выдрали полы. Дед Архип ободрал дерматин с кресел и шил из него чирики. Красный цвет, он приметный. Полхутора в этих чириках щеголяли. В бывшем магазине можно было залезть в большой холодильник, прикрыть дверцу — и вроде тюрьма. Там же лежал на боку тяжелый запертый сейф. Его курочили, но так и не открыли.
Хуторская школа — длинное дощатое здание на высоком кирпичном фундаменте — когда-то была восьмилеткой. Директор, завуч, завхоз, учителя… Школьники с трех хуторов сходились. Ныне старая учительница Мари Петровна пестала, кроме главного своего ученика Якова, трех Капустиных да Маринку Башелукову. В просторной школе топили одну печку на две комнаты: класс и еще одну рядом, под названием «спортзал», со шведской стенкой, трапецией да перекладиной. Уроки начинали по-своему, к полудню. Некуда было спешить.
Первым приходил Яков. Забирая ключ у технички, молоденькой тети Вари, которая напротив школы жила, он первым делом спрашивал:
— Натопила?
— Натопила, натопила… Иди проверяй, завхоз.
У школьного крыльца стояли корыто с водой и большой сибирьковый веник, чтобы сапоги отмывать. Хотя потом в школе и разувались, меняя обувь, но на крыльцо грязь не тягали. За этим Яков следил. Он был официально назначен старостой и помощником старой учительницы и в школе чувствовал себя свободней, чем дома.
Пустое длинное здание с длинным коридором встречало тишиной и гулким эхом шагов. Две комнаты с общей печкой были хорошо натоплены, в классе зеленели горшки с цветами, пестрели на стенах рисунки, аппликации да вышивки — детское рукоделье. Три светлых окна глядели на хуторскую улицу.
Яков проверил печку и, усевшись за учительский стол, стал ждать. Голоса Капустиных, как только вываливала орава из дома, звенели без умолку, приближаясь. Школьников у Капустиных было трое, но обычно прихватывали довеска — шестилетнего Вовика, который ревм ревел, в школу просясь. А коли не брали его, то убегал из дому и приходил самостоятельно.
Шумно прибывали Капустины. Школа оживала. Вслед за ними, опаздывая, медленно поспешала первоклассница Маринка Башелукова — махонькая девчушка с большим красным ранцем за плечами. По теплому времени старые люди выходили глядеть на нее, когда она горделиво несла через хутор белые пышные банты на аккуратной головке. Глядели и вздыхали, вспоминая былое.
Так было и нынче. Яков через отворенную форточку приказывал:
— Сапоги чисто промывайте! Не тягайте грязь!
Собрались. Расселись за партами. Учительница Мария Петровна запаздывала. Как всегда в таких случаях, Яков открыл журнал посещаемости.
— Башелукова.
— Здесь,— тонко пискнула девчушка, поднимаясь. Она всегда была с белыми бантами в косичках, с белым отложным воротничком — словно городская первоклассница.
— Капустина.
— Здесь.
— Капустин Петр… Капустин Андрей.
— И я здесь,— отметился Капустин-младший, довесок.
В журнал его не положено было записывать, а хотелось — как все.
Марии Петровны не было. Яков решил сбегать к ней. Но прежде, чтобы не теряли зря времени, он дал задания: кому примеры, кому упражнения. А малышу Капустину вручил лист бумаги и велел рисовать. Все это было для Якова делом привычным. Старая учительница порой хворала, порой уезжала к дочери в райцентр, оставляя надежного помощника — Фетисыча. Он старался.
А жила учительница недалеко, в старом домишке, в каком жизнь провела. Яков отворил калитку и сразу почуял неладное: настежь были открыты все двери — коридорная, кухонная, сарая.
— Мари Петровна!— заглядывая в дом, позвал Яков.
В доме горел свет. Но никто не ответил.
— Мари Петровна!— окликнул он во дворе.
Старая учительница была в сарае. Она стояла навалившись на угольный ящик. В полутьме Яков не сразу ее заметил, а потом бросился к ней:
— Мария Петровна…
Учительница была мертва и стала валиться на мальчика, как только он тронул ее. Яков с трудом, но не дал ей упасть. Ледяная рука, окостеневшее тело все сказали ему. Он прислонил мертвое тело к стене сарая и бросился вон.
Потом, когда к учительнице поспешили взрослые, он издали глядел, как ее заносят в дом. Он поглядел и пошел к школе. Он чувствовал, что озяб. Пробирала дрожь. У крыльца, отмывая в корыте грязные сапоги, он решил, что о смерти учительницы в классе говорить сейчас не станет. «Про уроки забудут,— подумалось ему.— День пропал, его не вернешь»,— повторил он слова учительницы. И еще что-то, более важное, останавливало его: он не до конца поверил в смерть, какая-то последняя надежда теплилась — может, еще оживет.
В классной комнате было тепло, зелено от цветов и все — за партами, даже Капустин-младший.
Обычно, когда учительница, уезжая, оставляла Якова старшим, ребятишкам под началом его приходилось туго. Старался Фетисыч. Лишний раз не скажи, перемены — короче, точно в срок. Но нынче в тягость была чужая ноша.
Брать Капустины примеры по математике решили, и Яков добавил им еще одно упражнение. Маринка Башелукова, Кроха, тихо окликнула:
— Яша… У меня кончилось.
— Что у тебя кончилось?
— Букварь.
Яков подошел к ней. Все верно. Мари Петровна твердый знак с ней прошла. Хитрые слова «сел» и «съел». И как это бывало ранее: сначала — с ним, в прошлом году — с братьями Капустиными,— Яков сказал громко, повторяя слова учительницы:
— Давайте все вместе поздравим Марину. Она закончила свою первую книжку-букварь. Молодец, Кроха. Поздравляем тебя! Теперь ты человек грамотный.
— Ура-а!!— вылетели из-за парт братья Капустины — невеликие, крепенькие, горластые.
— Ура!— поддержал их младший Капустин.
— Перемена!— объявил Яков.— Десять минут,— и первым было кинулся в класс соседний — спортзал, чтобы кольца занять и покувыркаться. Но опамятовался, когда старшая Капустина, его одногодка, тоже Марина, спросила:
— Яша, а Мария Петровна не придет?
— Не придет.
— Я к ней схожу. Может, сварить надо. Ладно?
Марина Капустина — старшая дочь в большом семействе — в девять лет уже хозяйкой была, помогая в делах домашних и учительнице, когда та хворала. Добрая девочка, рослая, чуть не на голову выше Якова, ровесника своего.
— Подожди,— остановил ее Яков,— уроки кончатся.
К перемене второй, «большой», как ее называли, на горячую плиту печки ставили чайник, а в жаркий духовой шкаф — блинцы ли, пышки, пироги — кто что из дома принес. Чайник запевал свою нехитрую песнь, закипая, и кончался второй урок. Накрывали клеенкою учительский стол и рассаживались вокруг. Так было всегда. Так было и нынче: пахучий чай с душицей, зверобоем да железняком. Варенье — в баночках. Домовитая Марина Капустина, словно добрая мамка, всем поровну делит:
— Тебе — блин, тебе — блин, тебе — блин, тебе — сладкий пирожок, тебе — пышку с каймаком. Ты же каймак любишь…
— Люблю,— тихо призналась Кроха.— У нас тоже Катька не ныне-завтра отелится.
— Когда отелится, гляди, ничего из дома не давай три дня,— наставительно сказала Марина-старшая.— А то узнает ведьма и загубит корову. Для них коров губить — первое дело.
— А кто у нас ведьма?— так же тихо спросила Кроха, теперь уже пугаясь.
— Раньше Карпиха ведьмачила,— ответил Яков.
— Карпиха,— подтвердила Марина-старшая.— Мамка рассказывала. Летось корова отелилась и мычит, бесится, куда-то рвется. Позвали деда Архипа, он в этом деле понимает. Архип молозиво на сковороду и — на огонь. Помешивает и молитву читает. А мамке приказал: «В окно гляди. Кто пройдет мимо и его будет корежить, это — ведьма». Мамка глядит — точно, идет Карпиха и ее вправду корежит: то остановится, топчется, то кинется назад, то опять ко двору. Как кружёная овца. Значит, точно она.
Кроха слушала, про пышку и каймак забыв; зато братья Капустины под разговоры полбанки варенья опорожнили, накладывая кто больше, пока сестра не пригрозила им.
— Карпиха точно ведьмачила,— подтвердил Яков.— Она и померла по-своему. В самую пургу ушла к ярам. Туда ее черти призывали. Там и померла.
— А теперь кто у нас ведьма?— спросила Кроха.
— Кто-нибудь да есть,— твердо ответил Яков.— Надо приглядывать. Ведьмы грома боятся. Порчу наводят. В свежий след сыпет и приговаривает. И человек ли, скотина сразу на ноги падает. Ведьма в кого хочешь обернется. Вот тут,— показал он на печку,— на загнетке, на ножах перевернется — и в другой облик. Захочет в белого телка, или в рябую свинью, или в зеленую кошку. А через черную кошку,— добавил он,— всякий может невидимым стать. Хоть я, хоть кто другой. Рядом пройду — и ты меня не увидишь.
На него воззрились удивленно.
— Надо поймать черную кошку, но чтобы жуковая была, без подмесу,— учил молодых Яков.— Посеред ночи поставить казан на перекрестке, костер развести и варить ее. Да, кошку. Лишь по сторонам не гляди, а в котел. Вся нечистая сила слетится, будет шуметь, свистеть, кричать по-звериному. Не оглядайся. По имени тебя будет звать, вроде мамка твоя зашумит: «Петя!» А ты не оглядайся. Оглянулся — конец,— предупредил Яков.— А ты вари и помешивай, вари и помешивай. Нечиста сила вокруг воет, ревет, а ты свое дело делай. Останется в казане лишь мала косточка. Ее надо ощупкой, не глядя брать. Берешь и кладешь меж губ. Сразу тихота настанет. Нечистая сила — по сторонам. А ты сделаешься невидимым. Вовсе невидимым. В любой дом заходи, куда хочешь. И тебя не увидят.
— А у деда Архипа черная кошка,— сообщил самый младший Капустин-»довесок».
— Точно!— в один голос подтвердили его братья и переглянулись.
— Это все неправда,— поняв их мысли, сказала Марина-старшая.— Неправда ведь, Яша?
— Старые люди говорят…— пожал плечами Яков.— Перемена кончилась,— объявил он.— Давайте по местам.
Снова пошли уроки. Яков словно забыл о смерти учительницы: непросто было глядеть за ребятами, давать им задания, объяснять да и свое делать. После третьего урока Яков сказал Крохе:
— Марина, можешь домой идти.
Но Кроха, как всегда, отказалась. И стала готовить домашнее задание, на завтра. В школе было веселее, чем дома. В куликалки будут играть, прячась в пустых классах. Может, картошку напекут.
А за окном тянулась поздняя осень. Дождь временами переставал, а потом снова сеялся, и тогда затягивало серой невидью высокий курган за хутором, крутую дорогу через него. Лежала под окнами пустая улица, за ней — вовсе пустое поле на двадцать пять верст до центральной усадьбы, станицы Ендовской. А в край другой, через займище, десять километров до богатого хутора Алешкина, который при асфальтовой дороге стоял. Но те десять километров были длиннее: лежало поперек пути лесистое займище, да две глубокие балки — Катькин ерик и Кутерьма, да еще речка нравная — Бузулук. Будто и рядом хутор Алешкин, но брызнет дождь — на тракторе не проедешь, зимой в снежных переметах утонешь. А тут еще объявились ненашенские, с рыжим подпалом, волки, вроде из Чечни прибежали. Там стреляют, вот они и подались, где потише.
Про чеченских волков говорил не только старый брехун дед Архип, но сам лесничий Двужилов. Он видел этих волков не раз: поджарые, с рыжиной на брюхе.
И когда неделю спустя Яков надумал идти в хутор Алешкин, мать пугала его:
— По такой погоде… Черти тебя поджигают. Тем более — волки. Чеченские… Враз голову отхватят.
Яков стоял на своем:
— Пойду. Десять километров. Обернусь к обеду. Там наша Галина Федоровна, она всех знает, она найдет нам учительницу. А то так и будем сидеть.
— Натурный…— ругалась мать.— Бычок упористый… Потонешь в Катькином ерике… Там вода верхом идет. Переждал бы дождь… Люди поедут, я поспрошаю.
Яков слушал ее, но сделал, как всегда, по-своему: он ушел рано утром, лишь засерело. Поверх пальто от дождя натянул старый материн болоньевый плащ. И пошагал. А от волков отчим Федор дал ему две ракеты. Дернешь за шнурок — она стрельнет.
От хутора, мимо фермы, напрямую до самого займищного леса Яков продвигался вприскочку: пробежит — и пойдет потише, снова пробежит — и опять отдыхает на ходу. Нужно было скорей добраться в Алешкин, поговорить и успеть вернуться в свою школу, к ребятам, которые будут ждать его.
Хоть и умерла Мария Петровна, но каждый день в школу сходились. Выбирался Яков из дома, свистел возле Капустиных и Башелуковых. Техничка тетя Варя топила печь. И уроки шли, как и раньше: по расписанию, с переменами. «Чем по домам сидеть, лучше в школе,— так Яков решил.— А то пропустим, нам же и догонять». Все было как прежде, лишь без Марии Петровны. И нужно было искать ей замену.
Дорога была не раз хоженная и езженная: займищный лес, который то подходил к обочинам, и тогда остро пахло горькой корой и листвой, то отступал, пропада в серой невиди. Порою вспархивали почти из-под ног куропатки с обрывающим сердце треском. И снова — тихо, угрюмо. Лишь дождевые капли шуршат по плащу. В пору погожую, хоть и колесит дорога, обходя низины да мочажины, хутор Алешкин виден издали на высоком берегу. Теперь — лишь серая мга, короткий окоем. Бурые травы, угрюмая зелень сосняка, раскисшая, налитая водой дорога, скользкие обочины — долгим кажется путь. И грезится всякое: какие-то серые тени в вербовой гущине, колыхнулись — и холодок в груди. Ищет рука картонный кругляш ракеты. Может, волки?..
Опять колесит дорога. Нынче ее не спрямишь, шагай и шагай. То обочиной, то колеей, выбирая, где легче.
* * *
Школа в Алешкине стояла посреди хутора, на речном берегу. Поднялся на бугор — и вот она: кирпичная, с высоким строением спортзала. При входе — раздевалка, а возле нее сидит уборщица и платок пуховый вяжет.
— Ты куда?— сразу признала она чужого.
— К Галине Федоровне.
— Она на уроке. Лишь начался урок,— сказала уборщица и воззрилась на сапоги пришедшего.
Но сапоги Яков до блеска отмыл у входа, придраться не к чему. Лишь с плаща капало.
— А вызвать ее можно? Я по делу.
— И она не гуляет. Жди,— постановила уборщица.
Коридор алешкинской школы был просторный и нарядный: много зелени, на стенах большие стенды с фотографиями. Но ждать было не с руки. Урок — чуть не час, а дом Галины Федоровны — рядом. Туда Яков и подался.
Стара баба Ганя признала его и встретила, как родного:
— Моя сынушка… Откель? Весь промок. Либо пешки?
— Пешком, баба Ганя, пешком.
Баба Ганя не изменилась, той же живостью светили за стеклами очков глаза.
— Ты либо с матерью пришел, в магазин?
— Один, баба Ганя. Мне Галина Федоровна нужна.
— Скоро надойдет она. Кончится урок, надойдет. Раздевайся. Сушись. Грейся у печки. А я скотине задам, будем завтракать.
— Я помогу,— сказал Яков и, не дожидаясь согласья, снял с вешалки рабочую телогрейку.— Ты лишь говори, баба Ганя, где у вас чего…
— Моя сынушка, да ты прямо хозяин…— поспешая за молодым помощником, нахваливала баба Ганя.
Якову же домашние заботы были в привычку: курам — зерна, корове да козам — сена, свиньям — запаренного корма. Тем более что подворье директорши было устроено: не плетневые катухи, а кирпичные, под шифером стойла в один ряд. Вода — из крана. Сенник, закрома, скотья кухн — все рядом. И не лужи да грязь на базу, а бетонные дорожки. Так что труды были невеликие. Управились скоро.
Баба Ганя накрывала на стол, а Яков дом успел осмотреть, комнаты его: кабинет с книжными полками во всю стену, горницу с креслами и диваном, с телевизором и видиком.
За завтраком он выкладывал старой женщине хуторское:
— Тетка Варя и бабка Наташа живые. Дед Андрей в больнице лежал, на станции. Но еле ходит. А Мария Петровна наша померла,— сообщил он главную новость.
— Какая беда… Да как же…
К той поре поспела и директорша школы, Галина Федоровна. Услыхав о смерти учительницы, она даже всплакнула:
— Господи… Как мы ее любили… Так вас и пестала до последнего. А схоронили где?
— В райцентре, дочка забрала,— сказал Яков и повернул на свое, ради чего и шел: — Она померла, а мы остались ни с чем. Пятеро учеников: трое Капустиных, Башелукова, я. А учить нас некому. Может, вы нам поможете, найдете учительницу?
Завтракали и слушали Якова.
— Как она померла, сообщили в сельсовет, оттуда в районо. Там велели перевести нас в Ендовку, на центральную усадьбу. Мы и поехали туда с дядей Витей Капустиным. У него трое в школу ходят, и Вовке на тот год идти. Поехали. Трактором едва добрались. Думали в интернат устроиться. Там большой интернат, двухэтажный. А его закрыли.
— Сейчас их везде закрывают,— вздохнула Галина Федоровна.
— Закрыли и там. В школу нас берут, пожалуйста. А как добираться? Колхоз не будет возить. Горючего нет, и вся техника поломана. Говорят, становитесь по квартирам. А квартиры в Ендовке — с ума сойти. Сдурели хозяйки. По сто тысяч требуют. Капустин как услыхал, за голову схватился. Он где такие деньги возьмет? Тем более за троих. Опупеть можно. У него зарплата — сто тысяч не выходит. И тех не дают с лета. Плюнул. Пусть, говорит, дома сидят. А Маринка Башелукова, та и вовсе — кроха. Куда ее отпустят родители? Она у них одна при двух бабках. Те сразу с ума сойдут. Вот и все… И как хочешь… Учительницу бы нам найти,— попросил он.
Галина Федоровна, оставив еду, слушала. Она была еще молодая, но полная, при золотых очках, коса на голове короной — настоящая директорша.
Возле дома затарахтел мотоцикл и смолк.
— Отец наш приехал,— объявила Галина Федоровна.— Завтракать.
— Галина!— раздался из коридора голос.— Я пойду со скотиной управлюсь. Ты не давала им?
— Нет.
— Управились мы, управились в четыре руки с помощником,— горделиво сообщила баба Ганя.— Накормили и напоили.
— Молодцы! Кто у тебя в помощниках?
Муж у Галины Федоровны был тоже нестарый, но при черной бороде — по новой казачьей моде.
— Это чей такой? Либо землячок?
— Угадал.
— Спасибо, земляк. Мне легче жить.
— Предлагаю вам красную лампочку ввернуть в курятник,— сказал Яков.— Я в журнале читал, в «Науке и жизни». Куры лучше несутся при красном свете.
— О!— удивилась Галина Федоровна.— В «Науке и жизни»? Надо попробовать.
— Ввернем,— пообещал ей муж.— Какие еще будут предложения по ведению хозяйства?
— Козам пора гречишной соломы понемногу класть,— шутки не принимая, сказал Яков.— Скоро пух щипать. От гречишной соломы коза пух хорошо отдает.
— В журнале, что ли, прочитал?
— Дед наш всегда так делал. А без гречишной соломы потом трудно пух щипать.
— Правильно гутарит,— поддержала баба Ганя.— Делали так.
— Что ж, привезем гречишной соломы. А то ведь и вправду щипать их несладко.
Отзавтракали. Хозяин присел на корточках возле устья печки, подымить. Якову сварили напоследок кружку пахучего какао, печенья да пряников положили.
— Мария Петровна умерла,— сказала мужу хозяйка.— Школу у них закрывают. Нет учителя. А у нас в Филоновской никого нет?— задумчиво спросила она не столько мужа, сколько себя.— Татьяна Петровна на пенсии, она не пойдет. Надо из молодых. Тамара Максимова в Михайловке в педучилище, на каком курсе? Ее мать как-то спрашивала меня про место. Надо поговорить с ней. У них отца нет, сестренка младшая. На заочное можно перейти и работать.
— Не могла наша Петровна чуток потерпеть,— со вздохом попенял Яков.— Конечно, старая. Но хоть бы до зимних каникул доучила. А не… Неделя прошла. Так и месяц пройдет, и зима. На второй год оставаться?
Так искренне было это мальчишечье, детское огорчение, что баба Ганя пожалела:
— А ты живи у нас. Школа — рядом. И мне будет с кем погутарить.
Предложение было неожиданным. Яков вскинулся и поглядел на Галину Федоровну и мужа ее.
— Живи,— подтвердил приглашение хозяин.— Лампочку красную в курятник ввернем, куры усиленно занесутся, харчей хватит.— Ему понравился этот мальчишка. Свои сыновья этой осенью в город уехали: старший — в институт, младший — в техникум. Стало в доме непривычно пусто.— Живи,— повторил он.
Мальчик не мог ничего ответить, лишь глядел на Галину Федоровну, понимая, что последнее слово за ней. Она поняла его, сказала мягко:
— Живи. Комната свободная есть. С матерью я поговорю.
У Якова сердчишко колыхнулось от неожиданной радости. Поселиться в доме директорши, учиться в настоящей школе со спортзалом, где и зимой в футбол играют. А уж народу там… Школа сво вдруг увиделась в настоящем свете: пустой дряхлый дом со ржавою крышею, один-разъединый класс, Капустины да Кроха. Алешкинская школа — дворец. А дом Галины Федоровны… Это не пьяный да похмельный отчим да мать с ругней: «Замолчи… Прикуси длинный язык…» Здесь — книг полная комната, все стены в полках.
— Я обещал к обеду вернуться,— сказал Яков.— Мамка ждет.
— Конечно, конечно,— одобрила Галина Федоровна.— Сходи. Матери скажи. Я напишу ей записку.— И мужа попросила: — Ты куда едешь? Может, подбросишь его?
— До хутора не пробьюсь. Через ерики не пройдет мотоцикл. Там круто и развезло теперь.
— Не пройдет,— подтвердил Яков.
— Но до ерика довезу. Собирайся.
До Катькиного ерика — глубокой, с крутыми склонами балки с мутным ручьем по дну — могучий мотоцикл «Урал» докатил быстро. А далее, перебравшись через ерик, Яков словно на крыльях летел. Ни дождь, ни грязь не были помехой. Дорога к хутору была уже дорогой к новому, к завтрашнему, дню, когда он уйдет в Алешкин, в тамошнюю школу, к Галине Федоровне.
По-прежнему моросило. В займищном голом лесу было тихо. Даже воронье убралось к жилью человеческому, к теплу. До ночи, до своей поры дремали на лежках сытые кабаны. Рыжий, уже выкуневший лисовин, издали заметив мальчика, замер и не таясь переждал, пока он пройдет. Пара тонконогих косуль легкими скачками ушла от дороги. По мокрой земле и листве скачки были бесшумными. Мелькнули белые подхвостья — и нет их.
Яков по сторонам не глядел. Он на хутор спешил, где ждали его.
Через дом родной он промчался, не успев похвалиться. Мать с отчимом на базах управлялись со скотиной. Ухватив сумку, Яков подался в школу, гадая: как там без него? И если в долгом пути на хутор ничто не омрачало нежданно свалившегося на него счастья, то теперь пришло на ум иное: он уйдет, а Капустины с Крохой останутся. Что будет с ними? И что со школой? Радость гасла. А уж о том, чтобы в школе похвалиться, и вовсе не стоило думать. Молчать надо было до поры. Но до какой?
В классе все были на месте и, будто за делом, ждали, что скажет он.
— С Галиной Федоровной повидался,— доложил Яков.— Обещала найти учительницу. Есть у нее на примете.— И разом перешел к учебным делам: — Кто должен заполнять настенный календарь природы? Капустины, ваша обязанность? Почему не заполнили? И разом давайте тетрадки по природоведению. Задано было: живая и неживая природа зимой. Жизнь домашних животных, жизнь диких животных, труд людей… Все вопросы страницы пятидесятой и пятьдесят первой. У Маринки погляжу домашнее — и вас буду проверять и спрашивать. Надо учиться, а не сидеть зря. Придет новая учительница, а все отстали. А цветы не политы,— попенял он старшей Маринке.— Совсем свяли. Вон в алешкинской школе сколько цветов… Они не забывают.
Ворчливым упрекам своего старшего ребята даже обрадовались. Без Якова было пусто. А теперь по-прежнему все пошло: класс, уроки, строгий Фетисыч, словно смерть учительницы ничего не изменила в их жизни.
— А что отмечать?— забурчали братья.— Дождь да дождь.
— Вот и отметьте условным знаком дождь и температуру проставьте.
Легко поднялась старша Капустина, стала поливать цветы. Затаив дыхание дожидалась у раскрытой тетрадки с домашним заданием первоклассница Кроха. Ждала, когда Яков подойдет к ней и сядет рядом. Все пошло по-обычному.
Но гость редкий, нежданный — колхозный хуторской бригадир Каледин — уже обмывал возле крыльца сапоги. Из класса его увидели — и стали ждать.
А бригадир вначале обошел школу, пустые ее комнаты, где стояли столы и скамейки, висели на стенах портреты писателей да ученых, настенные планшеты, стенды: «Наши отличники», «Колхозные ветераны», «Они защищали Родину». Каледин когда-то учился здесь, и дети его через эти стены прошли, а с фотографии глядели лица знакомые. Кто-то теперь повзрослел, постарел, а кто-то и умер. Но жили вместе и долго.
Наконец бригадир пришел в класс. Навстречу ему поднялись все разом.
— Сидите, сидите,— махнул он рукой и похвалил: — Тепло у вас, хорошо. Цветки цветут.
Он снял долгополый намокший плащ, телогрейку, оставшись в пуховом, домашней вязки, свитере. Яков было пошел от учительского стола к своей парте, но бригадир остановил его:
— Сиди. Ты же теперь за старшего. Учитесь?— спросил он.
— Учимся,— ответили нестройно.
Бригадир был человеком суровым, немногословным, его в хуторе боялись.
— А может, вам у Башелуковых собираться?— спросил он.— Хата большая, теплая, и они не против.
У Якова перехватило дыхание.
— А библиотека?— бледнея от волнения, показал он на шкафы с книгами.— А наглядные пособия? А уроки физкультуры? Комиссия какая приедет, и будем не числиться. А беженцы, какие места ищут? Подъехали. Есть школа? Вот она,— убеждал он бригадира.— Значит, можно жить. А увидят замок — и развернутся.
— Верно, верно…— успокоил Якова бригадир.— Это я так, попытал… Будет Варя топить, приглядать. Дров напилим. А там учительницу найдем.
Бригадир и в прежние годы не больно разговорчивым слыл, а ныне, когда все вокруг прахом шло, он и вовсе стал молчуном. На людей не смотрел, ходил — «роги в землю». Но здесь, в школьном классе, глядя на ребятишек, на кипенно-белые банты в косичках крохотной Маринки Башелуковой, он как-то оттаивал, теплело на сердце. И ничего ребятишки от него не требовали, как все иные: ни работы не просили, ни денег, а просто глядели на него. И было приятно.
Карапуз Капустин вылез из-за парты с листом бумаги, не торопясь подошел к бригадиру и показал ему свое художество, сообщив:
— Это я сам нарисовал.
— Здорово…— похвалил бригадир, разглядывая рисунок с цветами, деревьями и красным трактором.
Отогревшись, он стал одеваться. На прощание Якову руку пожал.
— Держись, Фетисыч. Учительницу найдем. А пока на тебя надёжа.
Он ушел. На воле по-прежнему моросил дождь и не было просвета. В окне класса желтел электрический свет. Он помнил, как два года тому назад закрыли детский сад. Но целых два месяца, пока не настали холода, ребятишки собирались в пустом доме, играли. Они ведь привыкли — гуртом, словно телята.
В школе ребята, как обычно, пробыли четыре урока. потом все вместе ушли, расходясь не сразу. Проходили не улицей, а через разбитые дома, что тянулись вдоль улицы. На воле — дождь. А там, хоть и окон-дверей нет, а потолки еще целы, не каплет. Покрутиться на вращающемся железном кресле в медпункте, залезть в глухую пещеру пустого холодильника, что стоял в магазине. А в клубе поиграть в прятки, хоронясь в будке киномеханика, в библиотечной комнате, в длинном коридоре. Помаленьку, но приближались к хатам своим.
Вернувшись домой, Яков вдруг понял, что день кончается, а все осталось как прежде: ни матери не сказал, ни ребятам, что уходит в Алешкин. С матерью было легче. А вот с ребятами…
Дома все было как обычно: тихая Светланка, не пьяный, но крепко выпивший отчим, потом с фермы вернулась мать.
У Якова позади лежал долгий день, и его морило, тянуло ко сну. Он прилег, чтобы вздремнуть, и разом уснул, мать его с трудом растолкала к ужину. За столом он сидел молча.
— Тебя ныне бригадир видел?— спросила мать.
— Он в школе у нас был.
— Охваливал тебя. На ферму пришел, не ругался. Либо выпил чуток… Мы к нему приступом, а он головой покачал: «Бабы, бабы,— говорит.— Я бы сам закричал по-пожарному и убег не знаю куда…» Тебя по двух раз похвалил…— И вдруг она вспомнила главное: — В Дубовке колхоз распускают. Районное начальство приехало, говорят, все, забудьте про колхозную кассу, расходитесь и сами об себя думайте. Спасайтесь своими средствами.
— И правильно,— одобрил Федор.— Поделить все.
— Вы уже поделили… Шалаетесь, как бурлаки… Все тянете. Колхоз хоть плохой плетешок, а все — затишка. Обещают овечками выдать зарплату. Может, дадут…
— Куда этих овечек. Сено травить?
— Резать да на базар.
— Сама повезешь.
— А вот Виктор Паранечкин возит. Берет у людей по дешевке и везет, торгует. Паранечка им не нахвалится.
— Перо ему в зад. А мне гребостно на базаре стоять. Мне лучше сутки в тракторе, безвылазно… Чем стоять кланяться всем.
— А шалаться — не гребостно…
Для Якова эти разговоры были известными. Кончались они одним — ругней. От стола он ушел к телевизору, потом возил маленькую сестру на закорках, изображая коня. Ржал он по-настоящему, на всю хату. А потом снова потянуло его ко сну.
Он уснул и проснулся уже ночью, во тьме. Словно ударило его. Он видел во сне день прошедший: школа в Алешкине, директорша Галина Федоровна, бородатый муж ее, баба Ганя. Вроде виделось доброе, а проснулся в испуге. Они ведь ждать его будут, а он не придет. Прийти он не мог, потому что нельзя было оставить свою школу. Тогда там все кончится, рухнет. Не будет уроков, повесят замок, цветы померзнут. А через неделю — это Яков знал точно — школу разгромят. Сначала вынут стекла. Говорят, они дорогие. Потом снимут двери, окна выдерут. И пойдут курочить. Первое время — по ночам, таясь. А потом среди бела дня, наперегонки, кто быстрее успеет. К Новому году от школы останется лишь пустая коробка с черными проемами. Так растаскивали клуб, детский садик, медпункт. Так будет и со школой.
Без него все пойдет прахом. Ни Марина Капустина, ни братья ее, ни тем более Кроха без Якова ничего не смогут. Лишь он знает, как тетради проверять, ставить отметки. Его Мария Петровна учила.
То, что прежде было гордостью мальчика, стало вдруг горем. Потому что нельзя было уйти в Алешкин, к Галине Федоровне. И от бессилья что-либо изменить Яков заплакал. Он плакал редко. «Бычок упористый…» — говорила мать. А теперь хлынули слезы, и казалось, не будет им конца. Горячие, волна за волной, они накатывались из груди. И мальчик плакал и плакал, пока не уснул.
Снова снилась ему школа, теперь своя, но такая похожая на алешкинскую: с просторными светлыми коридорами, с плетучей зеленью по стенам и потолку, со стеклянной оранжереей. И будто он, Яков, вел по школе и показывал ее своей старой учительнице, Марии Петровне. Учительница ахала, удивлялась и хвалила Якова: «Молодец…» А вокруг шумела детвора. Много ребят. И за стенами школы, на хуторской улице, было людно. Просто кипел народ, как на базаре. Голова от людей кружилась. А Мария Петровна все хвалила Якова и хвалила: «Молодец, молодец…» — и гладила его по голове горячей ладонью. Было сладко на душе от этих похвал, слезы подступали. И Яков не сдержался, заплакал. А горячая ладонь гладила голову мальчика и лицо, вытирала слезы, и добрый голос шептал и шептал: «Ну чего ты, сынок… Ну чего ты плачешь… Ну проснись, не плачь…» И горячие слезы сушили слезную влагу.
Это мать, сердцем почуяв тревогу и боль, услышала и пришла, сидела на краю постели сына и не хотела резко будить его, боясь испугать, и шептала:
— Я здесь, мой сынок… Не плачь… Ну не плачь…
А за окном менялась погода. С вечера прежде обычного смерклось. Дождь пошел сильнее, гулко барабаня по крышам. Но с вечера же явственно потянул холодный северный ветер. И вдруг в ночи застучала по окнам ледяная крупа. Не та снежная, белая, словно пшено. А ледяная склянь. Это шел дождь и замерзал на лету. Секло и секло по окнам, словно шрапнелью. А потом пошел густой снег. К утру насыпало его по колено.
К рассвету прояснилось. Зар вставала уже зимняя, розовая. Хутор лежал вовсе тихий, в снегу, как в плену. Несмелые печные дымы поднимались к небу. Один, другой… За ними — третий. Хутор был живой. Он лежал одиноко на белом просторе земли, среди полей и полей.
1996 год
«Новый Мир», №2
Миколавна и «милосердия»
Который год уже по утрам в зеленой глухой чащобе вишен и слив, что стоят вдоль забора, поет садовая славка. Солнца восход. Прохлада и тишина. И вот зажурчала негромкая птичь песнь. Это — славка. Голос ее негромок, словно тихий ручей, журчит и журчит. Комочек легкого пуха: с ветки на ветку, с ветки на ветку, что-то склюнет — и снова журчит. Никто ее не тревожит.
Окраина поселка. В нашем дворе — покойно. В соседском и вовсе глухая тишь. Там старая Миколавна живет одиноко.
За высоким забором, за зеленой стеной деревьев ни с улицы, ни с нашего двора Миколавну не видать. Тем более что ходок из нее — никакой. Телом тучная, тяжелая, с трудом она движется на подпорах: костыль да клюка, а чаще — табурет, который толкает перед собой, на него опираясь. Горе — не ходьба. И потому дороги ее коротки: от дивана, на котором ночует и днюет — то лежа, то полулежа,— до кухонного, обеденного же, стола. А если по летнему времени на волю захочется из жаркой комнатной духоты, то с кряхтеньем и стонами выбирается Миколавна на крыльцо, надежно укрытое от сквозняков стеклянными рамами и дверями. В летнюю пору она подолгу сидит в этом стеклянном прогретом скворечнике, вздыха и охая, порою что-то мурлычет. Песни ее — словно птичьи, слов не понять. И сама она будто большая старая птица, облезлая, обескрылевшая, еле живая, прячется, словно в дупле, в глухой огороже стен, высокого забора, густой зелени.
Только я слышу ее. Порой она меня окликает:
— Милосердию мою не видал?
— Не видал,— отвечаю ей.
— Увидишь, перекажи, пусть зайдет. Все мыкается.
«Милосердия» — это Дуня ли, тетка Дуня, а для молодых — давно уже бабка Дуня, которая живет против нас, через улицу. Она — казак вольный, в вечных походах. Ранним утром торопливо шлепают ее просторные калоши через улицу, в соседский двор.
— Миколавна!— окликает она.— Живая?..
— Слава Богу, дышу… А всю ночь промучилась. Лишь чуток комариным сном задремлю — и враз меня жаром осыпает…
И пошли речи известные, стариковские: о ночных хворях да недобрых снах.
С веранды моей видна лишь крыша дома соседского да верх стены. Все остальное заслоняет высокий забор да зелень. Но голоса и речи ясно слышны. И словно вижу картину привычную: на крыльце, на низкой скамеечке,— больша оплывшая Миколавна в просторной ночной рубахе, а рядом — тетка Дуня, худая и востроносая, словно воробей. Она не присядет. Костлявые черные ноги в просторных калошах покоя не ведают, с утра тем более. Сучит тетка Дуня ногами, уже занудившись. Соседкиным жалобам сострадает участливым быстрым говорком:
— Кака беда… Какая беда… Это надо… Беда так беда.— И успевает новости выложить и собственное, больное: — Таиса Абрамкина своего прогнала. Капеля он, говорит, и боле никто. Поросенок опять не жрет, гад. Била его, била. Кобель гавкать не стал. Ночью, слыхала, кто-то возле двора шалался, а он, сволочь такая, молчит. Нажрался и спит, нет ему горя. Ныне дам ему порки.
Беседа течет обычная, она не смолкает. Но слышится по двору шлепанье тетки Дуниных калош. Помойное ведро убрать, свежей воды принести. Летят короткие приказы с крыльца:
— Постановь… Прибери в сарай. Ведрушку — на крылец. Подотри… Подай…
Шлепанье калош убыстряется. Вихревыми кругами носится тетка Дуня по двору и скоро убегает, на ходу взахлеб передавая дела предстоящие:
— Макарьевна из проулка, ты ее знаешь, они кур помногу держали, вроде помирает, надо бежать глядеть. Мишка вчера бутылок привез два мешка, а в нашем магазине их не берут. Сваха переказала…
И вот уже калоши зашлепали вон со двора. Снова тишь. Лишь Миколавна в голос бурчит:
— Прозвонила — и нет ее… Коза комолая… Черти ее поджигают, лётом летит… Милосердия называется.
Это уже — для меня, чтобы я посочувствовал.
Спуст час ли, другой услышу я зов:
— Покличь мою милосердию… Увеялась…
Но где ее сыщешь, бегучую тетку Дуню? Надежный замок на воротах. Кобель хрипло лает, видно, пошла впрок наука. Хозяйка же — вольный ветер.
— Милосердия называется…— желчно цедит в своем дворе Миколавна.— Денежки любит получать.
— Не глядел?— порой снова окликает меня.— Нету ее?
— Не видать,— отзываюсь я.
«Милосердия» — это тетки Дунина официальная должность при хворой соседке. Миколавна — человек одинокий. Таким людям с недавних пор собес нанимает помощниц. Оплата — сущие копейки, отсюда и круг забот: заглянуть раз-другой в неделю, хлеба купить да молока; ина полы подотрет — спасибо и на этом. Но старые люди мудрят: всяк — свое. Отсюда и споры. Обязана «милосердия» с огородом помогать или не обязана? Щи варить?.. В хате прибирать?.. Обязана — не обязана… Деньги им платят.
У Миколавны за короткий срок этих «милосердий» сменилось трое или четверо. «Обязана… Не обязана»…
— У людей милосердия грядки поливает,— сообщала тетка Дуня.— А твоя процедит скрозь пальцы — и ушла.
— У людей — стирают, а тво — с маникюром, культурная.
Кончилось это понятным; других отстранив, тетка Дуня заступила на должность при Миколавне: носить из магазина хлеб, молоко, получать хоть и малую, но копейку. Выслушивать укоры:
— Ушла и в тину села. Не дошумишься. Так и скачешь, так и скачешь.
Тетка Дуня и впрямь скачет весь день, словно воробей, промышляя. Востроносая, ростом невеликая; из-под заношенного платка быстрый глазок ее шныряет туда да сюда, словно воробьиный, ища поживу.
— Тетка Дуня!— окликнешь ее.— Тебе не надо…
— Надо, надо…— не даст она и закончить и скачет ко двору.
Траву ли скосишь, яблоки-паданки некуда девать, вяленая рыба год провисит на чердаке, пожелтеет, старую крупу шашель поточил, арбузные корки ли, капустные листья — все тетке Дуне идет.
— Кабан пожрет,— говорит она.— Куры поклюют.
Порою и не зовешь, она сама углядит:
— У тебя терновка падает, либо не нужна? Я заберу,— и тащит к себе еще зеленую кислую ягоду.
— Картошку старую заберу… Мелкую тоже заберу…
Выйдешь ли за двор, на улицу, глядишь — волокет чего-нибудь. С мешком ли гнется, на тачке везет.
— От Ильченки,— сообщает.— Груши падают, черномяски. Порежу да посушу. У меня груш нету, негде приткнуть.
— От Лаптевых… Огурцов у них нарастает, не успевают сбирать. Мне и желтяки сойдут. Своих бы насажала, да негде.
А уж от Миколавны с пустыми руками не выйдет. Какую-нибудь плошку ли, банку несет. Старые щи, засохший хлеб… Залежалось ли что, прокисло — все впрок птице Божьей.
К вечеру тетка Дуня устает. Долог день летний. Устанет — уже не скачет. Годочки свое берут. А их уже — семьдесят. Ширк да ширк калошами — к Миколавне бредет.
Миколавна же порой вечерней, когда в стеклянном скворечнике дышать нечем, спускается во двор на волю. За день она выспалась, отекла ли, припухла ото сна. Но сидит гоголем, рассказывает про телевизор: что показывали да как. Главное, конечно, кино. Сначала была «Мария», потом «Роза», теперь «Тропиканка». Миколавна глядит эти фильмы дважды: утром и вечером. Помнит их наизусть. А тетке Дуне всегда недосуг. Утром — в бегах, а вечером — засыпает. Включит телевизор — и заснет перед ним. Порою за полночь светят синим ее окошки. Это — включенный телевизор. А хозяйка спит. Все проспит, а узнать любопытно: про Марию, про Розу — они ведь, считай, свои. Спасибо Миколавне, она доложит в подробностях, кто, как и с кем.
Течет неспешный рассказ.
Просторная скамейка возле крыльца. Во дворе — вечерние тени. Тетка Дун сидя тут же задремывает под мерный рассказ. Голова ее клонится, клонится, и даже храп раздается.
— Ты чего не слухаешь, спишь?!— окликает ее Миколавна.
Тетка Дуня вскидывается и говорит в свое оправдание:
— Ныне, гутарят, така и смерть будет: поснем все — и конец.
— Кто гутарит?
— Люди. В магазине, в очереди.
— Брешут они. А в каком магазине?
— Возле станции.
— Ты и туда добралась?
— С бутылками. Мишка два мешка притянул. Говорит, сдай. А в нашем магазине не берут их. И на площади не берут. Пришлось туда переть.
Мишка — это сын тетки Дуни. У нее две дочери, сын. Все отдельно живут.
— Здоровье у тебя хорошее,— говорит Миколавна,— вот ты и прешь.
— Откель?— слабо протестует тетка Дуня.— Ныне с утра под лопатку ширяет. Ширь да ширь, ширь да ширь.
— Мало ширяет. Надо бы — до болятки,— свое гнет Миколавна.— Не жалься. Хорошее у тебя здоровье, прямо кониное.
Это уже — обида. Трудно ее стерпеть. Но приходится. Тетка Дуня терпит, горько вздыхая, склоняя седую голову.
— Кониное…— бьет и бьет ее Миколавна.— У меня вот здоровья нет, дома сижу. А ты — как на шильях, с утра до ночи скачешь и скачешь.
— Сравнила…— дрогнул тетки Дунин голос.— Меня нужда гонит. Кабы не нужда…
В этом вся суть: Миколавна — богатая, а тетка Дуня — бедная. Потому и носит чужие горшки. Это понятно всем.
— Денег мне хватит,— при случае говорит Миколавна.— И еще останутся.
Наши люди и впрямь живут небогато, но еще и прибедниться не прочь, чтобы не гневить Бога. Миколавна же напрямик режет: «Мне денег за глаза… Еще и останутся».
Вся улица знает: так оно и есть. В голодные годы, после войны, Миколавна работала в столовой, при хлебе. Потом всю жизнь торговала. Тогда это называлось спекуляцией. Так ее за глаза и величали — «спекулянтка проклятая». Теперь это дело обычное: поехать в Москву, тряпок купить, в поселке их продать подороже. Прежде такое занятие осуждалось и даже преследовалось по статье уголовной. Миколавна кого надо из милицейских кормила да поила. Берегли ее. И она ездила в Москву, в Ленинград, в Прибалтику, привозила оттуда ковры, обувь, одежду. В нашем старом доме до сих пор висит немецкий ковер с оленями. Покупали у Миколавны. Еще, я помню, долго носил зеленые шаровары «с начесом». Тоже из ее рук. Наши магазины в поселке были бедны, а уж про хуторские, окрестные, нечего и говорить. По хуторам Миколавна и ездила. Откуда у колхозников деньги? У них — трудодни. Она и «благодетельствовала», меняя привезенное добро на масло, сало, козий пух, пряжу, яички. Пряли на нее и вязали. Теплые перчатки, носки, пуховые платки, береты ехали с Миколавной на край света, на Север, к людям денежным. Оттуда везла меховые воротники. Не в поселок наш, Богом забытый, а к грузинам, в Тбилиси. Оттуда — товар иной. Колесом шли дела, ходором.
Другая статья дохода — огород. Он у Миколавны — немереный. Была в силах, то справа, то слева у соседей прихватывала, в задах прирезала немалый кус. Покойный мужик ее на этой земле все долгое лето мытарился. Одной картошки до двадцати мешков накапывали; помидоры да огурцы первыми на продажу везли. Туда же — яблоки, абрикосы, виноград. Но умер старик, у Миколавны ноги стали отказывать. Тут она и осела. Началась обычная старость. Но вся улица знала: Миколавна богатая.
А тетка Дуня всегда считалась бедной. Работала уборщицей, муж — шоферил, двух дочерей и сына они растили. Овдовев и пенсию уже получая, тетка Дуня подрабатывала там и здесь: мыла полы в конторах, топила печи. Дело в том, что огород у тетки Дуни — две грядочки да пара рядов картошки. Это по-настоящему изъян великий. От земли живем. А уж старики-пенсионеры тем более. Круглый год своим кормятся: картошка, капуста, лук, огурцы и прочее. Кормятся, да еще и на базар несут — к пенсии добавка. У тетки Дуни земли — с гулькин нос, вот она и скачет, и к Миколавне прилепилась, вначале вроде по-соседски, а теперь — «милосердия». Какая ни на есть, а копейка.
— Мою милосердию не видал? Увеялась — и знаку нет.
Днем бывает по-всякому. Но рано утром и к вечеру шлепают через улицу тетки Дунины калоши — «милосердия» прибыла.
— Любит она со мной завтракать и ужинать,— не таясь, объявляет Миколавна.
Тихий вечер. Тишина смыкается над дворами и улицей. В зарослях смородины, вишен да слив густеют ранние сумерки. В соседнем дворе готовятся к позднему чаю. Недвижная Миколавна: круглое пухлое лицо ее, словно летняя луна большая. Короткие команды:
— Столик ближе подвинь. Еще чуток.
— Каймак в холодильнике. Там щи старые, себе забери.
— Булки принеси.
— Колбасу. И яички вареные. Поем, а то в желудке нехорошо. Весь день не было аппетита.
— Молоко неси, забелить.
Тетке Дуне дважды повторять не надо. Она — скок да скок, шлеп да шлеп калошами: в коридор, в хату, к холодильнику. Все она знает. Не первый день при Миколавне, не первый год.
— Гляди крутым кипятком заваривай. Да ополосни.
— А булки принесла столешние.
— Истинный крест, Миколавна: только сгрузили, машина лишь подъехала, и я взяла,— оправдывается тетка Дуня.
— Закоржанелые. Топором не урубишь. Ты же все заторопом да лётом. Мясо купила — одни мослы. Лишь кобелю грызть. И ты не обижайся, я правду говорю. Я привыкла правду — в глаза.
— Истинный крест, Миколавна. Я вроде глядела…
— Не знаю, куда ты глядела, а мослов набрала.
Угодить Миколавне трудно.
— Так и сыскивает, так и сыскивает ежеминутно… Свекруха…— жалуетс порой тетка Дуня.
Люди сторонние, уличные, ей сочувствуют, зна Миколавнин характер. Свои же, родные, отвечают просто: «Сто раз говорено: хватит чужие горшки выносить. Чего тебе не хватает? Пенсия есть. Живи себе». Тетка Дуня молчит, лишь вздыхает. И чуть свет спешит к Миколавне:
— Ты живая?
— Да вроде… А ночь не спала.
Миколавна — человек одинокий. Поразмыслив, решила она искать опору: «Чтобы было кому воды поднесть…» Родня ее — седьмая вода на киселе: двоюродная племянница с детьми да со стороны покойного мужа — такие же внучата. Но уж какие есть. Других на базаре не купишь.
Надо заметить, что Миколавне повезло. Как говорится, кому — война, а кому — мать родна. Новые времена пришли: цены полезли дуром, а тут еще беженцы со всех сторон — на дома поднимают цены. Раньше, бывало, помрет человек одинокий, в хате ставни закроют, и стоит она, никому не нужна. Нынче любая хибара — в драку, миллионы за нее дают. За родительские дома дети дерутся да судятся, ссорятся навек. У Миколавны дом завидный: кирпичный, высокий, под шифером, на улицу — три окна. Богатство немалое, если продать. Тем более что усадьба богатая — земли много.
Сговорились с племянницей: она ухаживает, докармливает Миколавну — дом берет после смерти. Съездили к нотариусу, бумагу подписали.
Толстая, поперек себя шире, племянница хорошо, если в неделю раз прибредала к тетке. Приходила, охала, жалуясь на здоровье. Миколавна потом весь день бурчала:
— Помогальщица… Слезы лить… Обещали стирать, полы банить. Потонешь в грязи с такими помогальщиками.
Тетка Дуня подпевала ей:
— Непочетники… Такое счастье им в руки, такое богатство… В ножки бы, в ножки всякий день кланяться да Бога молить. А если ты больная, зачем соглашалась, подписывала документ? Дом тебе нужен, а старый человек — хоть помри… А в огороде — глядеть тошно. Одни бурьяны растут.
— Она и приходит лишь с проверкой: может, я подохла,— догадывалась Миколавна.
— Непочетники…— страдала за Миколавну тетка Дуня.— Ты — больная. А дочка твоя — кобыла здоровая. Почему не прийти?.. Такое богатство ей… Непочетники… В проулке Вера-хромая живет, на чужих записала дом. Они ей кажеденно везут слаженого да соложеного. Потому что почитают. А твои — непочетники, лодыри. Такой огород пустует, столько земли… Лишь работай.
Племянница скоро была отставлена. На место ее явились претенденты новые, тоже неблизкая родня ли, свойство, но люди молодые — супружеская пара с детьми.
— Нотариуса привозили. Племянницу ликвидировали. Теперь все на этих будет, на новых. Они — хозяева,— сообщала тетка Дуня народу любопытному.
Во дворе нашем, поглядывая на забор, она шептала с горечью:
— Обдурят они ее, обдурят… Повыманят все, а бабку — в дурдом. А мне что?.. Не век чужие горшки выносить. Да еще сыскивает. Мне дочери давно говорят: бросай. И кину. Пойду в собес, заявлю: снимите колоду. Чужие хвосты заносить несладко. Вечно чего-то плетет. То банки у нее пропали, то навоз. Брошу и буду спокойно жить.
К Миколавне тетка Дуня стала ходить реже, отвечая на ее укоры: «У тебя теперь есть помогальщики». Но к нам во двор стала прибегать чаще. И не столько нас проведать, сколько к соседям заглянуть.
— Как там? Новые-то…— И, не дожидаясь ответу, кралась к забору, приникая к щелям его: — В огороде чего сажают?
Новые хозяева ли, наследники приезжали на машине порой вечерней, после работы. Не всякий день, но бывали. Посадили картошку, другие овощи. Приезжали обычно с детьми, и в соседском дворе делалось шумно. Но ненадолго. Ведь у них был свой дом, свой огород, свои заботы. Так что подолгу у Миколавны они не рассиживались, навещая и помогая набегом. И потому в скором времени тетка Дуня стала наведываться к соседке. Хлеб из магазина несла, молоко, чаевничала, передавала новости — все, как прежде. В речах не скрывала осужденья:
— Уж не хотела теб расстраивать, а душа не терпит. Разве так картошку сажают? От рядка к рядку хоть аукайся. Подсказала бы им…
— Я подсказывала…— оправдывалась Миколавна.— Они рукой машут.
— В ножки бы поклониться…— вздыхала тетка Дуня.— Такое добро. И обязаны слухать тебя. Ты — хозяйка. Такое поместье, такая земля пропадает задаром.
Тетка Дуня уходит и приходит, шлепая калошами. Речи все те же:
— Не приезжали? Вот так никому мы не нужны. Огород сохнет, травой зарастает… Чего вырастет?
— Вроде воду качали…— заступается Миколавна.— Толклись там.
— Вот то-то и оно, что толклись… Чужое, оно чужое и есть… Капусту червяк поел, морковку трава забила.
День ото дня вечерние речи горше и откровеннее:
— Глядела я… Полы моет. Лужей нальет. Журчит вода под плинтуса. И чего это будет? Погниет все.
— Машина эта… То заедет, то выедет — всякий день. Скрип да скрип ворота, скрип да скрип. А потом — оторвутся. Будем со всем белым светом жить: все собаки — наши, все кошки, все алкаши, какие по улицам бродят, все цыгане… Отбейся тогда от них.
— Желудок у тебя слабый, больной. А они в тебя — котлеты да котлеты, котлеты да котлеты… Это до поры.
И самое главное — про огород:
— Не хотела теб расстраивать, а душа не терпит. Какое богатство, а все — в распыл. Картошка еле дышит, лишь взошла, а желтая, вощаная. На помидорах и цвету нет. Огурцы вылезли и стоят. А люди уже на базар несут, и цены хорошие. А тебе на погляд нету, еще и покупать придется, от пенсии копеечку отрывать. Да-да! Зато травы, бурьянов развели — темный лес. Волков водить. Потому что ты молчишь, а они — бессовестные…
— Я подсказывала,— оправдывается Миколавна.— Они рукой машут.
— Потому что бессовестные… Такое поместье испоганили, такое богатство… Скрозь пальцы течет…
Вечерние песни, они не нынче, так завтра свое берут: «Не хотела теб расстраивать, но как промолчать… Ты сама потом будешь упрекать».
В середине лета помогальщики ли, наследники от огорода были отставлены напрочь. К Миколавне они стали ездить реже, в огород — ни ногой. Хозяйничала там тетка Дуня. И теперь калоши ее шлепали к соседскому двору в час вовсе ранний. Шлеп-шлеп-шлеп — мимо Миколавны, прямиком в огород. А тот огород лишь доброму трактору под силу.
Тетка Дуня же словно век земли не видала:
— Поздней капусты посажу…
— Помидоры семечками…— взахлеб спрашивала ли, извещала она Миколавну.
— Сажай. Меньше мыкаться будешь.
— Сажай. Может, прищемишь хвост.
Тетку Дуню торопило время — месяц июль и словно молодой азарт поджигал: наверстать упущенное.
На пустой земле уже поднялась, крепко укоренясь, сочная лебеда, жиловатая конопл — хоть прячься там. Тетка Дуня дергала траву руками с корнем, отвоевывая за пядью пядь.
— Баклажанов… На зиму закрутить.
— Картошки… Она успеет…
А нынешнее лето — сухое, знойное. Термометры день ото дня стараются: тридцать четыре да тридцать пять. Это — в тени. На солнце и вовсе пекло.Тетке Дуне и жара не помеха. Шлеп да шлеп калошами. За неделю она вовсе высохла, почернела и сделалась словно галка.
Дети стали ругаться:
— Тебе это надо? Годы свои хоть считаешь?
— Земля-то гуляет,— вначале оправдывалась она.— Помаленьку копаюсь. Что мне, перину мять?— А потом на приступ пошла: — Жалельщики! Сами зимой летите три раза на дню: «Ой, мама, томату дай… Ой, мама, у тебя огурцы расхорошие». Дай да дай.
Дети от нее отступились, а Миколавна ругается:
— Милосердия называется… Огородница… Проскакала — и нет ее. Ни здравствуй, ни прощай.
Миколавна ругается, колотит костылем по ведру — знак условный. Ведро громыхает и катится. А тетка Дуня — далеко, в конце огорода, не слышит ли, не хочет слышать.
— Делучая… Вот не дам воды, будет знать,— пугает Миколавна.
С водой в соседском дворе беда. Старинный качок еле чвиркает, добыва за каплей каплю. У всех теперь электронасосы «Камы» да «Агидели», шланги да трубы змеятся по огородам. Нажал кнопку — и бьет струя.
Тетка Дуня ведрами поливает. Утром, когда еще в силах, таскает по два ведра, вечером одно еле волокет. Все же семьдесят лет — это возраст. Тем более — такая жара.
Вечерние посиделки в соседском дворе теперь короче.
Миколавна, как и прежде, рассказывает о жизни далекой, из телефильма:
— Она к нему имеет симпатию, а он — женатый, детный…
Тетка Дуня дремлет под мерную речь, порою всхрапывает, сразу просыпаясь. А въяве не чужие страсти ее тревожат, а свое, огородное. И она вставляет невпопад:
— Новая напасть: зеленый червяк на капусте. Лист — как кружево.
Миколавна смолкает, ей нужно время, чтобы перебраться из жизни киношной в свою.
— Тертым табаком попытай,— советует она и продолжает прежний рассказ: — Он — детный, у ней — никого нет, а молодая, в соку…
Тетка Дуня снова задремывает, голова ее беспомощно валится на грудь.
— Спи иди…— говорит ей в конце концов Миколавна.
— Пойду,— соглашается тетка Дуня.— Так ныне заморилась, так заморилась…
— Заморилась она. Дур напал. В дощеку высохла, а жадаешь. Все тебе мало. Значит, здоровье хорошее. По такой жаре…
— Какое здоровье… Ныне полола. И враз в глазах — темная ночь, и все цветками пошло: красный, зеленый… Плывут и плывут. Белого света не вижу. На карачках к бане подлезла, в тенек, там отдыхалась, в память вошла. Так, видно, и помирают,— раздумчиво сказала она.
Миколавна поверила, укорять не стала. Мысли ее разом ушли в годы давние:
— Мы с мамочкой, бывало, на хуторе… Работаем, работаем. Огород — большой, не сравнить. Работаем, работаем, а потом упадем под грушинку, в прохладу. Я падаю и по-мертвому сплю. Проснусь, а мамочки нет, она работает. И я — к ней. Девчонкой была…
Забыты страсти телевизионные: мексиканская любовь, война в Чечне — все в сторону. Рассказ о своем, о годах далеких, в которых — хутор Ерик, мамочка, большой огород. А при советской власти на хуторе сделали коммуну, забрали коров и раз в неделю давали детям молоко. Мамочка из него молочную кашу варила. Маленькая Миколавна любила такую кашу. Однажды спешила с молоком от фермы, споткнулась, упала, и крынка вдребезги. Долго плакала, потому что не будет молочной каши. И мамочка плакала, обещала: «Молочную козу заведем… Козу не возьмут в коммуну».
Так далеко это все. Но так памятно и так горько.
Потом тетка Дуня уходит. Миколавна долго сидит одна, что-то мурлычет, поет. Печально звучит ее голос в покойном вечереющем мире.
А по утрам в густых зарослях вишен и слив поет садовая славка: журчит и журчит ее нехитрая песнь. Потом торопливо шлепают через улицу калоши. Это тетка Дун спешит, по прозвищу Милосердия.
— Миколавна, ты живая?
Начинается день.
1996 год
«Новый Мир», №2
На распутье
Думаю, многим памятен кремлевский «пир победителей» в конце 1993-го, после выборов в Думу. Назначали его загодя, в твердой уверенности, что победу одержит и обретет большинство «Выбор России» и те, кто рядом. Все шло по-намеченному: дармовое шампанское, музыка, сияющий светом зал. Не хватало только результатов выборов. Их ждали с минуты на минуту. И наконец объявили. Победили, как оказалось, не те.
Тогда и произнес в негодованье ли, в неудоменье один из участников пира:
— Россия… Ты одурела!
Сказано это было на весь мир. И долгим эхом повторялось и повторяется во всех концах: «Россия одурела… Одурела…» Одурела — и весь сказ. Для одних это — радость, для других — боль, для третьих — просто отгадка. Что ж, не впервой такие слова, еще и довольно мягкие.
Россия велика и поныне: тысячи и тысячи верст из конца в конец — путь долгий, тем более если мерить его дорогами полевыми, от селенья к селенью.
Мой путь — короче: он — в родных краях. Но это — тоже великая Россия, нынче — край ее.
В Волгограде, в палящей июньской жаре, в бегах да в делах, захотелось пить. Подошел к одному киоску, к другому: бутылку бы минеральной — «Волгоградской», «Ергенинской» или какой другой. Нашлась лишь вода австрийская, в пластмассовой бутылке. Спасибо ей, утолила жажду. Но когда пил, среди городской жары, раскаленного камня и асфальта, вдруг вспомнил о наших родниках в Задонье: Калинов-колодец, Фомин-колодец, родник у кургана Хорошего, у Маяка, на Мордвинкином поле… Немало их — ключей, родников, колодцев. Но было больше.
Такое вот вспомнилось в жарком городе, когда пил я австрийскую воду. И тогда решил: надо ехать к Белому ключу.
В Калаче-на-Дону, в моем городке районном, в редакции тамошней газеты, сговариваясь о поездке, встретил знакомого. Тот поведал мне радостно, что здесь уже целую неделю гостит американский миллиардер. Визит его — деловой: объезжает калачевские земли, осматривает, а потом пришлет группу специалистов.
— Цель?— спросил я.
— Составить план, по которому мы должны выйти из нынешнего развала в сельском хозяйстве,— ответили мне.
— Дай Бог, дай Бог…
А что еще сказать? Бизнес-планы да бизнес-проекты, желательно с привлечением иностранного капитала. Протоколы о намерениях… Умные разговоры под русскую водочку или без оной. Сколько их…
Назавтра была дорога, довольно тяжкая. Асфальтом, а потом дорогой полевою выбрались к Осиновскому стану. Когда-то был хутор Осиновский, потом разошелся. Разобрали часовню, в которой молились, школу, в которой учились. Но бывшую школу привезли сюда, сладили из нее помещение для жилья механизаторов. Назывался — Осиновский полевой стан. Рядом ток. Потом и полевой стан забросили, выломав окна, полы и двери.
Но нынче подъехали мы, а полевой стан — живой. Навешены новые двери, еще не крашенные. Окна — целые. Под крышей, в комнатах,— застеленные кровати. А людей не видать. Живого человека наконец углядели в стороне, он полол мотыгою заросшую арбузную бахчу.
Тимофей Константинович Пономарев, семидесяти лет от роду. Росту, стати, сложению его можно позавидовать и теперь. Могучий уродился казак на хуторе Тепленький в 1924 году. В свою пору он отвоевал с 1942-го по 1945-й. А потом жил и работал на хуторе Осиновском шофером, трактористом, бригадиром тракторно-полеводческой бригады. Хутора уже нет, но осталась просторная усадьба Пономаревых: задичавший сад, колодец, остатки фундамента.
Тимофей Константинович в 1984 году ушел на пенсию и перебрался в райцентр. Одолели приезжие: чеченцы, иные кавказцы. У них законы другие: скот пасем на хлебах, темная ночь год кормит. А непривычному к таким порядкам бригадиру на непрестанные укоры его ответ ясный: «Договоришься… Научим жить».
Пономарев вышел на пенсию и уехал, как и другие его земляки. Хутор остался во власти пришлых.
Теперь — год 1995-й, кончается жаркий месяц июнь. День-другой — и начнется уборка хлебов. Но есть ли что убирать?
Стоим, озираем округу. Она — просторная. С холма на многие версты видно. И лишь три малых лоскута бронзовеющих пшеничных полей. Справа — поле Пономаревых, прямо, за балкой,— поле Карасевича, поле Каледина. Вот и все.
Пономарев и бывший агроном отделения на память знают окрестные поля, называя их: «370… 120… 112… 136…» Это было когда-то: 370 гектаров да 136 гектаров пшеницы ли, ячменя. А теперь все брошено: не пахано и не сеяно. Вон там огромное, на 500 гектаров, поле Таловое, одно из самых лучших полей округи — каштановые почвы. Только что были на нем, букеты собирали: ромашка, осот, молочай — весь ботанический атлас. Только хлебного колоса нет.
— Раньше здесь на току семь полотен хлеба насыпали,— вспоминает Пономарев.
Семь полотен — это семь хлебных «бунтов» на семи подготовленных площадках. Так было когда-то.
В 1984 году Тимофей Константинович переехал с семьей в районный центр, а вернулся сюда, когда начали давать землю. В ту пору его сыновья — Анатолий и Владимир Тимофеевичи,— оба механики по сельхозмашинам, работали в райцентре. Но начались перемены, нелады с зарплатой, неуверенность в дне завтрашнем. Решили взять землю на родине, возле хутора Осиновский. Теперь хозяйствуют. Семьи — в райцентре, в Калаче. А работа здесь. Здесь 300 гектаров земли, а теперь еще 100 прибавили. С нынешней весны выпросили у «Голубинского» — бывшего совхоза, ныне коллективного хозяйства — вот этот полевой стан, хозяйству уже ненужный и разбитый. С ранней весны Тимофей Константинович, хозяйничая топором да пилой, новые двери навесил, настелил полы — словом, навел порядок. Теперь здесь можно жить, трудясь на своей земле.
— Как живем и работаем…— отвечает на мой вопрос Пономарев-старший.— Особо нечем хвалиться. Один у нас трактор ДТ. А как в семье одно дите — не дите, так и один трактор — не трактор. В две смены на нем работаем. Передых ему — лишь в обед. Тогда я рукава засучаю, смазку ему, кое-чего подтяну, подделаю. И снова в борозду. Кричи, а нужен другой трактор. Но где его взять? Комбайн один на пятерых хозяев. Культиватор — чужой. Хромаем на обе ноги. Как не хромать, если со всех сторон за зебры ухватили и душат. Спасибо, у сынов жены терпеливые, своими зарплатами их держат. А то бы вовсе конец. Землю получили запущенную, сплошной осот. Два года ее чистили. Нынче думали хороший урожай озимки взять. Посеяли числа двадцатого, в августе. И через день дождь пошел. Духом воспряли. А теперь вот такая сушь стоит.
Добавлю к рассказу Тимофея Константиновича, что «озимка» его в краях голубинских, по словам специалистов, самая лучшая. И хоть долгая жара ее «подсушила», но по 15 центнеров с гектара должна дать.
Но и нынче Пономаревы не разбогатеют, даже если вовремя уберут свои 200 гектаров озимой пшеницы. Долго они думали, но заключили контракт с корпорацией, взяли кредит и купили комбайн. Иначе вся их пшеница могла остаться неубранной.
— От земли не станешь богатый, а будешь горбатый,— говорит Пономарев.— Работаем все. Внуки уже помогают, за рулем, за штурвалом. Но богатства не видно. И все здесь такие хозяева, тутошние фермеры.
Беседуем с Тимофеем Константиновичем, а внизу, под бугром, в зелени балки, льется сияющая под солнцем струя Белого ключа. Прежде ключ был обделан камнем. Сейчас торчит железная труба, льется вода. Вкус у нее — особенный. Говорят, что она — серебряная, целебная. Пьешь — не напьешься.
Вспомнил другие ключи, которых теперь уже нет. Тут нет загадок. Земля смыкает уста, еще вчера цедившие влагу, чувствуя, что эта вода уже не нужна пастуху, косарю, пахарю, просто путнику. В Задонье их все меньше и меньше.
Но еще остались у земли работники. Вот он, передо мной. Рослый, большерукий, в замасленном картузе и такой же спецовке. Четыре года отвоевал, а все остальное время на земле работал. Ему семьдесят лет. Чего ему надо? Богатства великого? Он точно знает, что его не будет. Сейчас вот мотыгою арбузы пропалывает. Завтра — горячая пора уборки. Он и помрет когда-нибудь здесь, ткнувшись головой в пашню или жнивье. И не надо гадать, почему этот семидесятилетний ветеран, пенсионер не сидит в райцентре на скамеечке, в карты не играет, водочку не пьет, не ходит по начальственным кабинетам, выбивая себе «ветеранские льготы».
И если бы государство поступало по-доброму, с далеким заглядом, с мудрым экономическим расчетом, обеспечив кредитом для покупки техники ту же семью Пономаревых, то они бы и 1.000 гектаров потянули. Конечно, кредит не под 213 процентов и не на два-три года, а на пятьдесят, на сто лет. Под залог ли земли, по-иному ли. Придумывать тут не надо, существует мировой опыт, в том числе и наш, российский, например времен Столыпина.
Но у нас, сверху и снизу, какая-то надежда на чудо. Вот американский миллиардер в Калач-на-Дону приехал. Как много нынче надежд на американских миллиардеров! Есть ли время о Пономаревых думать, помочь им? Да и запросы у Пономаревых не масштабные. Разуверившись в помощи значительной, просят они три сотки земли возле Осиновского полевого стана. Здесь их техника, здесь их жилье. Два года лежит разобранный склад-ангар. Негде его поставить. Но земля принадлежит коллективному хозяйству. «Дашь им клочок — они потом все оттяпают,— боится правление.— Отказать!» Склад поставить негде, а значит, некуда зерно ссыпать. Кто поможет? Государственные мужи заняты великим: референдумы, выборы, новые партии, блоки, кремлевские свары и ко всему еще и война. До пахарей ли…
— В фермерство в первые годы пошли многие лучшие люди села, можно сказать, элита,— поделился как-то со мной своими выводами опытный сельский руководитель, прошедший школу председателя колхоза.— Пошли агрономы, инженеры, экономисты, которым надоели плохая работа, вранье, показуха. Они поверили государству, которое их обмануло.
Не только инженеры и агрономы, добавлю я, но и часть лучших механизаторов — таких, как Пономарев. И свои двести ли, триста ли гектаров земли они бы всегда обработали, с доброй помощью в начале пути.
Во времена прежние, когда в крестьянской России делились семьи, отец сыну не только клочок земли давал, но и тягло, инвентарь, семена. Чтобы не по миру сынок пошел, а сразу в работу. Нынче — иное. На словах высокая власть ратовала за фермерство: «Наше будущее! Наш завтрашний день!» А что кроме слов? Лишь обман за обманом.
Они ведь не только хотят, они умеют на земле работать. Пономарев, Дубовов, Каледин. Они не чета тем «фермерам» — лодырям и пьяницам, которые землю брали, чтобы… бурьян разводить гуще, чем в совхозе. Вот они, их поля, по колено в осоте. Хлебных же полей, повторю, лишь четыре: Пономаревых, Каледина, Карасевича да совсем малое — Дубовова. Четыре клочка, словно четыре родника в жаркой пустыне.
Нет, не приезду американского миллиардера надо радоваться, а тому, что живет и работает возле Белого ключа русский пахарь Тимофей Константинович Пономарев с сыновьями и внуками. Дай ему Бог здоровья и долгих лет. Без него пересохнет тот невеликий ручеек, который течет год от года.
* * *
Было время, когда здесь, возле хутора Большой Набатов, на донских берегах, в летнюю пору — не протолкнуться: машина — возле машины, палатка — возле палатки. Отдохнуть, покупаться в Дону, рыбки отведать, арбузов и прочих овощей да фруктов съезжались москвичи и ленинградцы, волгоградцы и ростовчане, украинские шахтеры и тюменские нефтяники. Нынче же — тишина и безлюдье. Лишь наша машина ночевала на донском берегу.
Тихое утро. Поднимаюсь на высокий прибрежный курган. С него далеко видать. Для подмоги — бинокль. Предо мною в ложбине, в устье речки с милым названием Голубая, лежит хутор. Вокруг него — курчавая зелень займищного леса, зеленые поляны, луга.
Хутор дремлет в утренней тишине. В огородах кое-где копошатся люди. Старый Вьючнов поливает из шланга картошку. Огород у него просторный. А годы немалые — за восемьдесят. Вижу, как по пустынной улице идет от дома бригадир, направляясь к машинному двору. Хотя «машинный двор» понятие для этого хутора условное. На выгоне грудится техника, ломаная и гожая. Там же — цистерна для топлива. Пустая. Может, лишь на донышке — неприкосновенный запас, «для крайнего случая». Там же крохотная, полуразваленная мастерская — кузня, как их раньше называли.
Время — месяц июль, позднее погожее утро. Хлеба поспели: бронзовеет пшеница, серебрится ячмень. С горы все поля видны: набатовские, евлампиевские. Тишина и покой. Зелень, желтизна поспевших хлебов, синева тихого Дона.
На хлебных полях, у колхозной скотины, возле кузни — никого. Бригадир, один-одинешенек, сидит, ждет.
Вчера мы с ним долго разговаривали. Он — здешний, хуторской. Считай, всю жизнь прожил в Большом Набатове. Тракторист, комбайнер, теперь — бригадир.
— Как жить… Как работать…— вздыхал он.— У нас один комбайн. Начал сегодня молотить, комбайн сломался. Чиним. А чем ремонтировать? За два года ни одной запчасти не получили. А теперь и вовсе: за долги электричество в машинно-тракторной мастерской, на центральной усадьбе, отключили. Пора уборки.
Во время нашего разговора вдали поднялся столб дорожной пыли. Это гусеничный трактор катил, с культиватором.
— С поля?— спросил я.— Солнце вон где. Пять часов времени, еще работать и работать.
— Наработались,— ответил мне бригадир.— Вон и другой работник пылит. В четвертом часу выехали.
— Рано,— сказал я.— По холодку.
— В четвертом часу дня,— уточнил бригадир,— еле выгнал их. Уже наработались. А сколько наработали? Спросите их. Сейчас подкатят «орлы».
Подкатили и вправду «орлы» — молодые ребята.
— Чего приехали?— спросил их бригадир.
— Шестой час. Конец рабочего дня.
— Да он у вас и не начинался, рабочий день.
— Мы ремонтировались.
— Ну так и работали бы. Чего ездили зря?
— Конец рабочего дня. Надо, сам поезжай… А мы…
Пошли речи известные.
За два дня двумя тракторами «орлы» прокультивировали 37 гектаров паров. Норма же на смену одной машиной — 40 гектаров.
— Как работать, как жить…— сокрушался бригадир.— Ведь мы же от результатов работы и получать будем. А что получать? Завтра не пущу их на поле. Пусть стоят. Тракторы будут целей и горючее, чем такая работа.
Это было вчера. Нынче — воскресный день. Пора уборки. В полях — ни души.
В этом коллективном хозяйстве с января по день нынешний, июльский, работникам платили один раз по 30 тысяч рублей, к празднику. И — все. В прошлом, 1994 году осенью расплачивались овцами да коровами. Денег не было. Одни долги.
В начале года договорились платить каждой бригаде по результатам сделанного. Собрал урожай — получи 10 процентов от него. Вырастил скот — получи 10 процентов от привеса и от полученных телят.
Плохо ли, хорошо, но что-то посеяли. Теперь пришла пора убирать урожай. Жаркое лето. Плохие хлеба, но поспели они, и других не будет. Девять часов утра, а в поле — тишь. Но я привык мерить все старыми мерками: хлеб поспел, дни жаркие, ни ячмень, ни пшеница долго стоять не будут, осыпятся. Какие тут могут быть воскресенья!
Потом, во второй половине дня, я возвращался в Калач. Пятьдесят километров пути. Ни одного комбайна не увидел. Ни одна машина с хлебом мне не встретилась. Поистине глухая пора уборки.
По дороге попадались лишь легковушки. Это селяне возвращались с райцентровского базара. Кто-то продавал там мясо, кто-то — творог, сметану, яйца. Жить-то надо. Повторю: за шесть месяцев лишь единожды получили они по 30 тысяч рублей.
* * *
На хутор Павловский, в Алексеевский район, к давнему знакомцу Николаю Милованову нынче прибыл я ко двору вместе с сеном. Но если в прошлом году я с радостью помогал ставить скирд ли, стог, то теперь за вилы браться не хотелось. То ли сено, то ли дрова? Будылья осота чуть ли не в руку толщиной, седые головки пуха-семян. Поднимешь навильник, по ветру — туман. Летит пух.
— Такое сено лишь козам класть,— говорит Николай.— Чего-то обгрызут, остальное — в печь. Тем более что угля на топку второй год не покупаем, денег нет. Двести тысяч рублей с лишним за тонну просят. Мне нужно на зиму три тонны. Значит, шестьсот тысяч. Это как раз столько, сколько я заработал за два года: девяносто четвертый и девяносто пятый. Но денег этих я не видел, лишь обещают отдать. Вот и приходится топить, как в старые годы, кизяками.
Итак, два года здесь не платят зарплату, записывая ее на бумажках в колхозной бухгалтерии. Порой в счет этой «зарплаты» дают постное масло или килограмм-другой колбасы (в колхозе пустили свой колбасный цех).
Денег в колхозной кассе давным-давно нет. А когда они и появляются, то идут на нужды первоочередные: горючее для техники, запчасти. Но всего этого — внатяг. И потому хорошо, если треть колхозной пашни кое-как, но обрабатывается. На остальной — не первый уже год растет всякий бурьян. К зиме — кормов нет. Покупать не на что. Придется, видимо, свиноферму закрыть. Того же колхоза когда-то огромный свинокомплекс в соседнем хуторе уже закрыт, помещения и оборудование растаскиваются. Остаются коровы и молодняк. Для них кое-какие корма на зиму запасают. Но жить они будут явно впроголодь.
Грядущая бескормица для скота — беда не только этого колхоза. Во всей округе и во всей области поголовье крупного рогатого скота и нынче значительно уменьшится. Нет кормов. И если прежде, при засухе, везли солому не только из Ставрополья и Краснодара, но даже из Прибалтики, то нынче помощи ждать неоткуда. Крупный рогатый скот, коров, маточное поголовье, будут вырезать. В сентябре — октябре сдать скот на мясокомбинат будет очень трудно. И потому уже сейчас, загодя, дальновидные хозяева начнут забой.
Такая вот жизнь. Не больно укладывается она в привычные понятия: два года зарплату не выдают людям, а ведь зарплата не та, что у шахтеров, нефтяников, железнодорожников. За два года лишь 800 тысяч «набежало» у свинаря Милованова. Не отдают их. А это значит, что работал и работает он бесплатно, как и другие здешние колхозники.
На хуторе Павловский живут не только колхозники, но и фермеры. Два ли, три года назад, когда фермерство лишь начиналось, прикидывали мы с председателем здешнего колхоза: кто может работать самостоятельно? Таких было немного. Братья Березневы, Иванов с товарищами. Прошло время. И оказалось, что даже они не смогли. Почти все снова вернулись в нищий колхоз… Не от хорошей жизни!
* * *
Название села — Громославка. Но особо громкой славы оно не обрело. Лишь в последние годы приходилось слышать: «…в Громославке колхоз разошелся», «…в Громославке весь скот перерезали…».
И вот она, Громославка Октябрьского района. Обычное наше степное селение: в низине, над речкой, в зелени садов. На самом въезде — пекарня и запах свежего хлеба, людская толчея. Тут же, под одной крышей,— хлебный магазин. Подъезжают, подходят. Не «четвертушками» да «половинками» берут, а две, три, четыре буханки. Как и обычно на селе.
Слава Богу, хлеб есть. Хотя пекарня и магазин при ней уже не колхозные, а частные. Три года, как нет колхоза в Громославке.
Но жизнь продолжается. В школьном дворе ребячий галдеж — последние дни учебы. На улице, возле магазинов и помещения сельской администрации — тоже народ. Утренние заботы.
А поодаль стоит двухэтажное здание бывшего правления колхоза. Возле него — пусто. Лишь забытый стенд с заголовком: «Колхоз «Дружба» в 12-й пятилетке».
В 1929 году был создан колхоз «Дружба». В 1989 году он отпраздновал свое шестидесятилетие. Работали в колхозе около 500 человек. Пахали землю, сеяли хлеб. Овец было 12 тысяч голов, крупного рогатого скота — до трех тысяч, свиноферма, птицеферма — все как положено. Урожаи, надои, привесы были средние. Но вот вопрос, который задал мне П.И.Дубровченко, бывший чабан, скотник, учетчик, колхозник с 1953 года:
— Откуда возьмет страна то мясо, молоко, шерсть, которое давал наш колхоз? Из-за границы?
Вопрос резонный. Потому что овец в Громославке практически не осталось. А было, напомню, 12 тысяч. Свиноферма, птицеферма, молочнотоварная ферма — все ушло, ничего нет.
На выезде из Громославки, возле дороги,— остатки одной из кошар, где размещались овцы. Капитальную кошару кирпичной кладки поделили бывшие колхозники на погонные метры и развезли по домам.
Вот один из новых хозяев долбит ломом, разбивая свой кусок стены,— три или пять метров кладки ему досталось. Разбивает, разбивает по кирпичику, кидает в кузов грузовика, говорит: «Дома сгодится. Не пропадать же добру». Шиферную крышу тоже поделили. Но больше, говорят, побили.
Собеседник мой — шофер, механизатор, тоже бывший колхозник:
— Разошлись… Да не разошлись, разогнали нас. Приехало начальство из района, говорит: расходитесь, колхозной кассы больше не будет, живите сами. Вот мы и разошлись. Говорят, сбивайтесь кучками. Нас сбилось двенадцать человек, земли около девятисот гектаров. Но при дележе имущества техники нам, считай, не досталось. Нечем землю обрабатывать. Ходим, у людей просим: «Дай вспахать…» Ждем, пока они свое посеют, потом нам дадут. А сроки прошли, сорняк поднялся, все забил. За два года мы ничего не заработали и разбежались. Сейчас у меня паи лишь жены, сестры, матери. Семьдесят пять гектаров. Долгов — шесть с половиной миллионов рублей. Брал кредиты на горючее и запчасти. Плачу проценты, а зерно, будет или не будет,— лишь летом девяносто шестого года. Сейчас у меня пары. О чем говорить, чего с колхозом сравнивать? Я — хозяин? Чего хозяин? Долгов или трех метров кирпичной стены, которую я колупаю? А ведь строили… И была тут животина. А начали дележ — передохла, разворовали, ничего не осталось.
Колхоз «Дружба» разваливался по сценарию, для тех лет обычному. Действие первое: из колхоза выходит какой-нибудь главный специалист, но не один, а с группой лучших механизаторов. В 1990 году ушел из «Дружбы» экономист В.М.Комлев, с ним семь механизаторов. Земля есть, техника есть. И нет колхозной обузы — «социалки» (школа, медпункт, детские ясли, водопровод и т.д.), которая забирает уйму денег, нет животноводства, которое убыточно, нет кучи управленцев, нет лодырей и пьяниц. И потому «выходцы» в первый же год если не «Жигули» да «Волги» покупают, то явно выделяются своими доходами. На хуторе ли, в селе — все это как на ладони. На следующий год, вдохновленная их примером, уходит из колхоза новая группа людей, притом не худших. Так было и в «Дружбе». В 1991 году второй волной ушли шоферы, механизаторы. И колхозу пришел конец.
— Лично мы стали жить лучше,— говорит молодая женщина, жена механизатора.— И другие тоже. Люди машины купили. Но пенсионерам, конечно, хуже. И всему селу хуже стало. Были все вместе, а теперь каждый за себя. Друг у друга воруют…
Еще один собеседник, тоже механизатор с солидным стажем:
— Работать сейчас мне намного легче. Даже сравнить нельзя. Нас четверо, обрабатываем девятьсот гектаров земли, техники хватает, купили в свое время комбайн, «Беларусь». В долги не лезем и о завтрашнем дне думаем, наперед запасаем горючее, запчасти. Если бы с нами нормально рассчитывались за хлеб, то жаловаться грех.
В ночь перед моим приездом украли изгородь из металлической сетки — возле мастерских по ремонту техники. Не метр, не десять, а добрые сотни метров сняли и увезли. В мастерской разломали «пускатель» точила в эту же ночь.
— Хозяина не стало в селе,— говорит один.— Делим, ломаем, разваливаем все подряд.
— Сколько труда, сколько лет!— сетует другой.— А теперь тащат, ломают. Да хоть бы на дело, а то — на пропой. Украл — пропил, украл — пропил…
Неподалеку от разломанной кошары — огромный комплекс молочнотоварной фермы с капитальными помещениями, с выгульными базами, родильным отделением, кормоцехом. Бывший комплекс. Теперь здесь не коровий мык, а воробьиное чириканье да великий разор. Вынутые двери и рамы, разобранные и рухнувшие крыши, выломанные стены, пустые силосные траншеи. Пронесся здесь смерч разорения.
Откуда же возьмет страна мясо и молоко, повторю я тот же вопрос, если нет теперь в Громославке 12 тысяч овец, 3 тысяч крупного рогатого скота, тысячи свиней? И за год-два все это не восстановишь. Потому что разгром продолжается.
Колхоз был один — «Дружба». Потом поделились сначала на 11 «колхозов», а сейчас их — 110. Это — дело естественное. Сверху приказов нет. Хочу — работаю с Иваном, а хочу — с Петром. А поругаюсь — сам буду хозяйствовать, а может, разорюсь.
«Двадцать человек в селе будут жить хорошо, а остальные — горе мыкать»,— такой я услышал прогноз.
— Кто нахапал, тому хорошо! А нам с бабкой куда?!— гневно вопрошал пенсионер.— Я в колхозе жизнь отработал, колхоз мне помогал. А нынче кто мне поможет?
О чем еще поведать? О детском садике, в котором прогнили полы, не работает водопровод? О висячем мостике, по которому дети ходили в школу и который сломался, а теперь некому его починить?
Зачем собирать горькое… Зачем об этом писать, зачем тревожить чужую боль?..
Потому что боль эта — общая, как и забота.
Великая крестьянская Россия двинулась в новый поход. И если в 1929 и 1930 годах повели или погнали ее в коллективизацию не ведавшие сомнений «двадцатипятитысячники», то теперь и вести некому — спасайтесь сами.
Но почему новая жизнь должна начинаться с «красного петуха»? С закрытой пекарни, с разгромленного детского садика, с растащенной столярной мастерской, спаленного склада запчастей, с зияющих черными глазницами клуба, медпункта? Почему нужно по кирпичику растаскивать молочнотоварную ферму, кошару?
Неужели не больно? Ведь не помещичье — свое. Не заморский дядя подарил, а от скудного трудодня отделяли, сбивая копейку к копейке. Не в год и не в два, за десятилетия, но построили клуб, медпункт, детский сад; теплые кошары да фермы, где не течет и не дует; вместо прокопченной кузни — ремонтные мастерские со станками, кран-балкой; купили автобус, чтобы ребят в школу не в тракторной тележке возить; радовались новой пекарне, кондитерскому цеху, парикмахерской, где можно кудри завить, и собственной «швейной»; водопровод вели, газ… Своими руками и для себя, чтобы жить и работать «как люди».
А теперь своими руками разрушить, потому что пришла новая жизнь. Но пришла ли она?
«Не суди в три дни, а суди в три года»,— говорят у нас старые люди. Пять лет назад были обнародованы первые правительственные указы и постановления о реорганизации сельского хозяйства, от колхозно-совхозного — к частному, к фермерскому, как назвали его, это название прижилось. Первые указы — и первые смельчаки, уходящие в новую жизнь. Братья Епифановы, братья Гришины, братья Двужиловы… Все они — воистину двужильные. Приходилось им очень несладко: лбом прошибали стену, которая мощней Берлинской и даже Великой Китайской. Старую привычную жизнь прошибали, спаянную воедино от хутора Мартыновского до кабинетов Москвы. «Какие-то они…— говорил мне глава районной администрации.— Больные, что ли… Чуть что, они аж трясутся и на губах — пена». А как не запениться… Осень 1991 года. Двужиловы вырастили хороший подсолнух, а убирать его нечем. Своего комбайна нет. В колхозах окрестных не дают, да еще и смеются: «Вы же — хозяева…» В райцентре и области лишь пожимают плечами. Весь урожай погиб. Тут не запенишься, тут с ума сойдешь.
Но все это теперь позади. Двенадцать тысяч фермеров было в нашей области на январь 1995-го, 1 млн. гектаров земли, пятая ли, шестая часть всей площади. Это, конечно, впечатляет. Но… На каждого фермера приходится 0,5 трактора, 0,5 автомобиля, 0,2 комбайна, одна корова, одна свинья. Урожайность у фермеров в среднем ниже, чем в колхозах. А главное, по подсчетам специалистов и по жизненной практике, для того чтобы заниматься зерном в наших краях (а фермеры наши пока занимаются только зерном), нужно иметь в хозяйстве не менее 400 гектаров земли. На январь 1995 года лишь 318 хозяев из 12 тысяч имели надел свыше 300 гектаров.
Появление свободных от колхоза крестьян — это несомненный факт. Вот он, Ляпин из села Мариновка, живет без колхоза пятый год. Не помер и даже не похудел. Такие Ляпины ли, Двужиловы, Вьюнниковы есть почти на каждом хуторе. Но появление новых Ляпиных сейчас практически невозможно. Во-первых, потому, что первопроходцы выходили в начале 90-х, когда у нас в области, не дожидаясь законов общероссийских, власти силой отняли у колхозов 10 процентов земель и отдали их новым хозяевам. Каждый получал от 100 до 400 гектаров, на семью — даже больше. Потом появился указ о «справедливом» дележе. Поделили. Теперь земли нет. Возможны лишь хитрости, просьбы и прочее. Просит Пономарев 0,03 га, чтобы амбар поставить. Колхоз дружно который уже год отвечает: «Накось выкуси».
Договорился было В.И.Штепо взять у пенсионеров в Тихоновке их земельные паи. Штепо — лучший хозяин в районе, земля была бы в надежных руках. Но как только об этом прослышало руководство колхоза, приняли энергичные меры: пенсионеры дружно отказались от своих обещаний.
Значит, первое — земли нет. Причина вторая: первые выходцы получали от колхоза имущественный пай в виде тракторов ли, комбайнов, плугов, сеялок, семян, а от государства — денежный кредит на льготных условиях, чтобы докупить необходимую технику и обустроиться. Правительственное постановление от 25.09.1993 года льготные кредиты отменило. А теперь их и вовсе нет. С имущественными паями — тоже проблема. Сам председатель облагропрома во всеуслышание заявил: «Паев нет». Великая подмога хранителям колхозного добра! И вот уже отвечает председатель колхоза выходцу, просящему свои паи: «Забирай кровати со склада, там их пятьсот».— «Мне бы трактор, пахать надо».— «Трактор не дам. Бери кровати и портреты членов Политбюро, целых три комплекта. Ха-ха-ха-ха!»
Нет земли, нет денег, а третье — уже названный живой пример. Если на хуторе Павловский братья Березневы и другие вернулись из фермерства в колхоз, который два года зарплату не выдает, значит, не больно сладко и на воле.
Земля. Вопрос первостепенный. Где земля? В чьих она оказалась руках? У нас будто и много земли, но скажи сейчас хорошему колхозному механизатору, который работает, но год зарплаты не видит: «Чего ты ждешь? Берись сам хозяйствовать. Выходи из колхоза».— «С чем?— спросит он.— Земли-то нет. Пай в шестнадцать гектаров? А надо в десять, в двадцать раз больше». Он прав. Еще в первых своих очерках, когда все лишь начиналось, писал я о том, что делим мы землю по-справедливому, по-социалистически, но не по-хозяйски: сельскому почтальону, сельскому милиционеру, учителю, продавцу, пенсионеру, крепкому рукастому механизатору, агроному, парикмахеру, инженеру — всем одинаковый пай, 16 ли, 20 гектаров. Учитель, милиционер да пенсионер какую-то копеечку, но от своей профессии имеют, они живут на нее. А полученный земельный пай лишь головная боль: куда бы его получше пристроить? А вот для механизатора, агронома земля — хлеб насущный. Но получил он ее с гулькин нос. Что ему делать? С вилами идти на тех, кто как собака на сене на своем пае сидит?
Теперь, во всяком случае в нашей области, это поняли (хотя еще вчера на всех собраниях призывали: «Не обижайте пенсионеров, учителей и т.д. Выделяйте им паи!»). Понять-то поняли, но снова забирать землю и вновь делить ее — безумие. И вот появляется документ, пока характера рекомендательного:
«3. При формировании вновь создаваемых коллективов в них могут не включаться земельные паи работников социальной сферы, пенсионеров и других, которые не будут работать в сельскохозяйственном производстве…
5. Пенсионерам, работникам хозяйств и социальной сферы, которых не возьмут во вновь созданные сельхозпредприятия, будет предложено продать свои земельные паи или сдать в аренду с правом последующего выкупа».
Раздали — теперь прикидываем: как отобрать?
Но все это пока лишь теоретические поиски, причем не до, а после драки, после дележа земли. При нынешнем же порядке: отсутствие земли, полное отсутствие каких-либо кредитов на обзаведение для начинающих (за первое полугодие 1995-го фермеры области не получили ни копейки), неприемлемые для начинающего хозяина цены на сельскохозяйственную технику, а также вновь восстановленный приоритет коллективного способа хозяйствования: «Фермеры страну не накормят!» — все это делает невозможным дальнейший рост жизнеспособных фермерских хозяйств. Вдогон этой мысли цитата из доклада одного руководителя области: «Позвольте также обратиться к присутствующим в этом зале представителям органов правосудия и прокуратуры с просьбой подойти очень внимательно при принятии решений о выделении стоимости имущественных паев членам, выходящим из коллективных хозяйств. Дело в том, что… все имущество хозяйств заложено под централизованные государственные кредиты и фактически его нет, то есть нет и самих имущественных паев. Из чего же их тогда выплачивать?»
Указание прямое. Правда, и признание страшное. К смыслу его мы еще вернемся.
А теперь, чтобы закончить с разговором о фермерстве на селе, вспомним о братьях Гришиных. Они хозяйствуют пять лет, у них 800 гектаров хорошей земли. Начинали они во времена, когда фермерство поднимали на щит. Но главное в том, что много помогал им в первые годы их отец — бывший секретарь обкома КПСС по сельскому хозяйству. С его энергии, знаний, связей все и началось. А сыновья, тоже специалисты с высшим образованием, оказались земледельцами умелыми.
В хозяйстве Гришиных весь набор техники, подведено электричество, построены склады-ангары. Урожайность «озимки» в 1993 году — 41,5 центнера, в 1994-м — 43 центнера. Подсолнечник, гречиха — тоже высокие урожаи. В нашей области братья Гришины если не лучшие, то в первой пятерке лучших самостоятельных хозяев-земледельцев. Но даже они говорят: «Перспектива — туманна. В России в целом не отработана система фермерства. Кабальна налоговая политика. Теперешние начинающие фермеры — это смертники. Нам в 1990 году начинать было легче. Но много, очень много проблем. В этом году исполняется пять лет нашему фермерству. Этот юбилей прибавляет к налогам, которые платили, еще два — подоходный, на землю. Наверное, подсчитаем — прослезимся».
А если уж Гришины «прослезятся», то какими слезами плакать всем остальным фермерам?
Нынешний фермер, для того чтобы продержаться, должен кроме земли иметь какой-то заработок на стороне. Один открывает киоск с ходовым товаром: спиртное, жвачка, сигареты. Другой едет за дешевым углем в Донбасс, а привезет, продаст — вот и барыш.
Реально на фермеров можно рассчитывать лишь в будущем. Фермерство пока лишь пятилетний ребенок-сирота, который для всех обуза. На мой взгляд, его просто терпят как знак перемен.
* * *
Итак, на сегодняшний день главный производитель, а точнее, единственный производитель сельхозпродукции — все тот же колхоз. Порою сменивший вывеску, но тот же по сути, что и десять, и двадцать, и пятьдесят лет назад. С той же организацией: председатель, главные специалисты, бригадиры, учетчики, рядовые труженики; и с той же заинтересованностью: «Не мое!» В районном центре — районное управление сельского хозяйства (оно каждый месяц меняет название, вывески писать не успевают), там — тоже «спецы», 15 ли, 20 легковых автомобилей, все при деле.
Захожу в районное сельхозуправление, спрашиваю:
— Как дела?
— Давим… руки выкручиваем, но чтобы пары в каждом хозяйстве не менее… Потому что пары — это…
— Давим… Чтобы сеяли и сеяли… Чтобы подсолнух… Чтобы горчицу… Чтобы просо…
Снова захожу. Опять без дела не сидят. Руководителей «Голубинского» уму-разуму учат: председателя, главного агронома, экономиста.
— Заводите коров. Корова — это молоко, это…
— Заводите свиней. Свинья — это…
— Заводите птицу…
— Не думайте, спокойной жизни вам не будет. Будем давить и давить.
Ухожу, вздыхая. Милые мои «давильщики», дорогие учителя… Разве вы давите? Это лишь так, слова. До вас были давильщики посерьезней: отбирали партбилеты, лепили за «вредительство» сроки. А проку? Чего ж о нынешнем дне говорить…
В областном центре — в пять этажей управление. И там тоже без дела не сидят. В Москве и вовсе умных голов хватает. Оттуда руководить труднее, но справляются: проводят «выезд на место», «встречи с тружениками полей и ферм», всероссийские селекторные совещания-«накачки». На одном из таких «селекторных» то ли министр, то ли вице-премьер потребовал: «Надо работать так, чтобы у людей появился блеск в глазах». Смеялись собравшиеся на «узле связи» руководители хозяйств и «спецы» дружно. А потом, при встрече, приветствовали друг друга: «Как с блеском в глазах?»
Пишу об этом вовсе не для того, чтобы посмеяться, позлорадствовать. С уважением отношусь ко многим и многим сельским руководителям, специалистам, которые делают все, что могут, и так, как научены: образованием, опытом работы и жизни. Многие из них — искренни, некоторые — самоотверженны. Вот только проку от всего этого мало.
Колхоз, как уже говорилось, остался прежним «колхозом», порою только сменил вывеску. И законы в нем те же, вековечные: огород — мой, значит, в нем — «все как цветик стоит», растет и пышет, ухоженное, политое; дом — мой, значит, он побелен, покрашен, забор — крепкий; корова — моя, значит, она напоена и накормлена; и в любую засуху в доску расшибется хозяин, ночей спать не будет, в кровавых мозолях будут даже крестьянские, привычные руки, но стог сена будет стоять на подворье. Потому что это — мое.
А вот это — в двух шагах, рядом, но колхозное. Колхозное — не мое. Это было, и это осталось.
То, что рассказываю я о коллективных хозяйствах,— не злонамеренный отбор «негатива» для создания устрашающей картины. Вернусь к словам начальника Главного управления сельского хозяйства и продовольствия нашей области. Сказаны они были в марте 1995-го не с глазу на глаз, а с трибуны:
«На сегодняшний день практически все имущество хозяйств (речь о коллективных хозяйствах области.— Б.Е.) заложено под централизованные государственные кредиты и фактически его нет»…
Признание исчерпывающее. Ведь «имущество хозяйств» — это тракторы, комбайны, автомобили, производственные помещения всех видов: молочнотоварные фермы, машинно-тракторные мастерские со всем оборудованием; это — весь скот: коровы, свиньи, овцы.
Когда в прошлых своих заметках я писал: дело кончится тем, что, выдавая кредиты, возврата которых не будет, государство окажется владельцем колхозного имущества, то не думал, что этот процесс произойдет так скоро. Но вот он — финал. Все, что нажито трудом нескольких поколений за полвека,— пропало, исчезло, «его нет».
Для людей, далеких не только от села, но и от простой экономики, объясню, что называется, «на пальцах». Представьте себе, что имели вы дом, автомобиль, мебель, посуду. Случилась нужда, стали в банке брать деньги, естественно, под залог этого имущества, потому что «за красивые глаза» деньги дают лишь известным дамам. Брали за миллионом миллион, истратили, к сроку вернуть не можете. Что вас ждет? Конфискация имущества за долги.
В таком вот положении оказалось все наше коллективное сельское хозяйство. Признание было сделано в марте. Потом были новые долги: на проведение весеннего сева, на проведение уборочной. Год выдался засушливый. Урожай — никакой. С него не только с долгами не расплатишься, а в новые влезешь: проводить сев озимых, осеннюю пахоту, зимовку скота, ремонт техники, весенний сев и т.д.
Мне скажут: засуха — стихийное бедствие. А я отвечу: засуха — дело естественное, она в наших степных краях была и будет. Но ведь семь лет, один за другим, погода нас баловала: вовремя — дожди, вовремя — вёдро. Годы были на удивление. Недаром говорили: «Бог перестройке помогает». И что же за эти годы припасли, насколько разбогатели? Весной было сказано: «Имущества фактически нет». А значит, не засуха нас разорила, не слепая безжалостная природа, разорены мы тем же самым традиционным для нас социалистическим методом хозяйствования, умноженным ли, усугубленным безграмотным проведением реорганизации в сельском хозяйстве.
В предыдущих своих заметках писал я: «Долгов своих колхозы не отдадут и к трехтысячному году, их придется списывать».
Что называется, чернила не успели просохнуть, пошло списывание: сначала — в августе, более масштабное — в конце года. Списывали набежавшие проценты на долги, а потом и сами долги, давали долговременную отсрочку, которая не что иное, как списывание долгов. Когда нынче, несколько смутившись тем, что все колхозное имущество уходит за долги и его фактически нет, не желая в это поверить, оставил я свои письмена и пошел в районное управление сельского хозяйства к тамошнему главному экономисту, тот мои резоны с ходу отверг. «Глупости все это,— сказал он.— Ничего мы не должны… Ну, почти не должны. Рассчитались».— «Как не должны?— не сдавался я.— Здесь два миллиарда кредита, здесь — три. А у тебя прочерки?» — «Это все списано».— «Это не списано, а лишь отсрочено. Позднее, пусть через десять лет, но нужно будет платить».
Мудрый экономист, по прозвищу Гайдар, наставительно сказал мне: «Раз отсрочено — значит, списано. Мы про эти долги уже забыли».— «Тогда, конечно, все в порядке»,— согласился я. «Конечно: все в порядке. Это вы все шумите: черная дыра да черная дыра…»
Конечно, не так все просто, и не дай нынче Бог никому руководить колхозом. Добыть деньги, даже свои, кровные, за произведенное молоко ли, мясо, овощи, ох как не просто! И потребитель по копейке отдает. Если отдает. И государство «доить» трудно. Привычной стала картина просящего председателя колхоза: «Горючего — ни капли. Тракторы в борозде стоят. Мазута — ни грамма. Школу и больницу закрывать, что ли…» Все это — картина уже привычная. Не от хорошей ведь жизни людям по два года зарплату не платят. Привыкаем к попрошайничеству, к нищете, к тому, что бесплатно работаешь, за бесплатно продукцию свою отдаешь, а потом тебе что-то «выделяют», а потом — «списывают», в забвение всех и всяких, самых элементарных, экономических правил, на которых зиждется человеческая жизнь. И зачем работать? Зачем добиваться, чтобы хозяйство крепло? Выгодней поскулить, поплакаться, чтобы щедрей была милостыня-дотация. А потом все спишется и всем простится.
Такая «экономическая» политика — это развращение работников сильных и развал всего сельскохозяйственного производства страны. Это принцип: «После нас — хоть потоп». Потому что нищие колхозы проедают уже завтрашний и послезавтрашний день, обрекая на еще большую нищету тех, кто будет жить на этой земле после них.
Во-первых, они губят землю, выводят ее из хозяйственного оборота. Из 6 млн. гектаров в нашей области, где еще вчера колосилась пшеница, уже около 1 млн. гектаров просто брошено. Не по силам обработать. Но и оставшиеся 5 млн. гектаров в плачевном состоянии. Идет интенсивное истощение земли. В последние годы пашня практически перестала получать минеральные удобрения, так как они дороги, не по карману нищим колхозам и фермерам. Даже навоз от колхозных ферм, как это было всегда, на поля уже не вывозится: дорого горючее и техники нет.
Идет интенсивное засорение полей сорняками. Использование гербицидов для борьбы с ними полностью прекратилось: нет денег. Культивация на парах сведена до минимума. Приведу пример показательный: взяв землю еще пять лет назад, те же Гришины, чтобы очистить ее от сорняка, проводили до пятнадцати культиваций за сезон, да еще и гербициды применяли. В колхозах нынче проводят одну-две культивации. Зеленый сорняковый потоп — ныне картина обычная.
Потому и скатываемся мы сегодня к урожайности послевоенных времен. Это — в полеводстве. В животноводстве положение гораздо серьезнее. Если зерноводство все последние годы было рентабельным, то есть приносило доход, то животноводство оказалось убыточным, особенно у хозяев не больно радивых. Каждый литр молока приносил хозяйствам не прибыль, а убыток. Переработка была в чужих руках, и ее хозяева диктовали свои цены. А торговать на стороне не сразу научились, да и государство не позволяло.
Вспоминаю хутор Бобры, тамошний колхоз имени Свердлова. Есть молоко, есть спрос на него в райцентре, который рядом и где цены дают хорошие. Но районное начальство торговать не велит. Сдавай на молочный завод, они без тебя продадут. И без тебя положат деньги в свой карман. А колхоз опять останется без копейки. То же самое происходило и с мясом: отдай его за бесценок переработчикам, мясокомбинатам, да еще жди месяц ли, два, а то и год, а бывало, и больше, когда тебе заплатят. За месяцы ожидания инфляция «съедала» заработанные рубли, превращая их в копейки. Началось массовое обвальное вырезание молочного скота, мясного — свиней, овец. В нашем, Калачевском, районе в лучшие годы поголовье крупного рогатого скота доходило до 50 тысяч, сегодня — в два раза меньше; овец было до 100 тысяч, а сегодня в шесть раз меньше; свинью мы практически потеряли. И все это — за какие-то пять лет неразберихи. По всей области «результаты» примерно такие же. По количеству скота мы теперь ниже уровня 1916 года.
Есть у нашей читающей публики один успокоительный довод, который в газетах живет уже долго: не лейте, мол, слезы о колхозных буренках да хавроньях, нас не они кормят, мол, основное количество молока, мяса и овощей поступает с личного подворья крестьян, а оно, нынче раскрепощенное, расширяется. Вот цифры нашей областной статистики: с личных подворий поступает 52 процента мяса, 37 процентов молока, 100 процентов яиц. Но и без всякой статистики, без подсказки ее, живя летом в Калаче, иду я за мясом, молоком, сметаной, яйцами на базар. Впрочем, и зимой, в Волгограде, тоже… на Центральный рынок. Но так же точно я знаю, что на хуторе Камыши хозяева держат на подворье от двух до шести коров только потому, что еще жив родной колхоз «Нива». Без его тракторов и комбайнов, без горючего и запчастей, без колхозных полей, без его сена, соломы, зерна, силоса 5 коров, 20 свиней, 100 кур да уток не прокормишь. Личное подворье колхозника, личная скотина содержатся за счет колхоза. Вот он — колхоз. В нем два хутора, две молочнотоварные фермы. В Ильевке за пять месяцев надоили по 1.120 килограммов на корову, в Камышах — 650, в два раза меньше. Почему? Потому что в Камышах издавна, с тех пор как появился базар ли, рынок, держат в два-три раза больше личных коров. Вот и вся простая отгадка.
Знакомый мой, в нашем же районе, будучи колхозником, содержал более десяти голов крупного рогатого скота, но как только ушел в фермеры, уже на другой год всех перерезал. Нечем кормить. Так что не будем обманываться: личное подворье крестьянина содержит колхоз.
Уничтожение животноводства в стране — процесс пока продолжающийся. Вырезали скот — за недолгие годы. А ведь восстанавливать все равно придется! Думаю, что десятилетиями. Во-первых, уничтожено маточное поголовье, зачастую элитное. В свое время везли породистых телок, быков, свиней, овец из Англии, Дании, Голландии, занимались собственным элитным воспроизводством. А теперь? Нынче простая коровка стоит около трех миллионов рублей, поросенок — 150—200 тысяч. Откуда такие деньги нынешние колхозы возьмут?
А если вдруг чудесным образом деньги найдутся, то некуда будет эту скотину поставить. Как только вчера ли, позавчера коровник ли, свинарник опустел, его тут же начали растаскивать и разламывать, снося под самый фундамент.
Рассказывал я о Громославке, где на погонные метры поделили кирпичную кладку стен, разбили и развезли по дворам. Так было и в Попереченке, и в других местах, где колхоз распался. Но и там, где не распался, а просто помещение опустело,— картина та же.
Уничтожаются не только животноводческие помещения, но и вся производственная структура. Какие были полевые станы… Не убогие вагончики на колесах — капитальные помещения с кухнями, столовыми, душевыми, комнатами отдыха. Где они теперь? В той же Громославке ворота машинно-тракторной мастерской вывернул новый земледелец, притащил на подворье и порубил на дрова. «Мне тепло будет, а там нехай думают»,— сказал он.
Но кому, скажите, будет «тепло», когда закрывают и сразу до основания разносят и разбивают котельную, которая отапливала весь поселок, когда сравнивают с землей вчера еще работавший клуб, фельдшерский пункт, магазин, детский сад, школу? Хутора Вихляевский и Клейменовский, Большой Набатов и… Счету им нет.
На день сегодняшний в жизнеспособном состоянии еще сохраняются коллективные хозяйства, во главе которых умные, волевые, что называется, «крепкие» руководители. Но таких немного. Большинство плывет по течению, ругая власти и время, выбивая дотации, зная, что спишут их, и ожидая новых времен, когда придут «наши» и «реанимируют» село. Кто эти «наши», они порой и сами толком не знают: коммунисты ли, аграрии. Лишь бы «пришли», «повернулись лицом к деревне», то есть дали денег, просто дали, а дальше «мы сами с усами», не успеете, мол, оглянуться, как потекут молочные реки и в высоких хлебных да мясных берегах. Забыто все: как при достаточном финансировании ревели некормленые коровы, десанты «доярок» привозили из райцентра, десанты механизаторов — из центра областного, десятилетиями не повышалась урожайность,— все забыто или отложено в далекую память, осталось одно: дайте денег! А в этом ожидании год от года трудовые коллективы, без руля и ветрил, без зарплаты, постепенно превращаются в кучу людей с одним лишь твердым убеждением: он должен, хоть кое-как, для видимости, работать в колхозе, чтобы иметь право взять ли, украсть зерно, силос, дробленку, лист шифера, две доски — все, что нужно для жизни, а иным — для пропоя. Пьянства становится все больше, и оно — откровеннее, наглее, потому что нечем его остановить. Воровство уже не считается воровством. Человек просто «берет», потому что ему не платят, а жить надо.
Деградация трудового коллектива и деградация крестьянина — страшнее деградации почвы. А она — налицо.
С таким коллективом порой ничего не может сделать и неглупый руководитель. Свалить его — пара пустяков. Справедливости ради надо отметить, что, стараясь как-то поддержать нынешние колхозы, руководители и сельхозначальники всех рангов, особенно «внизу», спасают село от окончательного развала. Если сейчас мы потеряли более половины животноводства, то без их усилий могли бы потерять все. Если сейчас на селе еще живы детские сады, школы, больницы, фельдшерские пункты, то могли бы рухнуть и последние. Потому что наше «реформирование села» начало проводиться новыми большевиками чисто по-большевистски: «…разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим: кто бы ничем, тот станет всем».
И ведь, знаете, получилось. Среди моих «сельских» бумаг — набросков, заметок, статей — в этой же папке лежит фотография Акулины Арьковой, престарелой пенсионерки с хутора Большой Набатов. Снимок обычный: хатка-мазанка, ветхий забор, опершись на него, стоит старая женщина. Она осталась одна. Знаю ее давно. И прежде если не навещал, то справлялся: «Как там бабка Акуля?» — «Мы ей помогаем»,— отвечали мне. А нынче летом приехал, спросил тоже, а мне в ответ: «Чего ей не жить? Миллионерша. Пенсию получает».
Вот так и получилось на пятом году реформы, что бабка Акуля с грошовой пенсией стала самой богатой на хуторе Большой Набатов и ей завидуют молодые, работящие, умелые ее земляки.
Реального реформирования бывших колхозов, конечно же, не было, потому что его начало — в главном вопросе: «Кому принадлежит земля?»
«Конституция уже все определила,— время от времени сообщают сверху.— Крестьянин просто не понимает, что он уже давным-давно владелец своей земли». Опять мужик виноват: «не понимает».
Статья 36 Конституции: «Граждане… вправе иметь в частной собственности землю». Но… «если это… не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона».
Думаю, напротив: все прекрасно понимает мужик. Что это за «собственность», которую нельзя продать, заложить, подарить? Это не собственность, а лишь красивые слова. Недаром бумажки «на право владения» (лишь «на право») стопами лежат в районном земотделе. Не спешат за ними «хозяева земли». Федерального закона ведь по-прежнему нет. В нашу областную Думу областная же администрация внесла два проекта закона: «О залоге земель» (ипотека), «О порядке прекращения прав на землю». Оба закона были немедленно, в первом же чтении, отвергнуты. Судьба российского «Закона о земле» известна всем. Одна из главных причин — ожидание: «Может, наши придут».
Вопрос другой в том, что нынешние колхозы, их производственные базы создавались в расчете не на одного-двух работников, а на большие коллективы и мощное производство: не коровник, а комплекс на три тысячи голов, не свинарник, а свинокомплекс на десять тысяч, не птичник, а птицефабрика. Как все это поделить, применяясь к одной крестьянской семье? Не разнести на куски: тебе — шифер с крыши, мне — полы, а поделить для работы? Кто подскажет? Пока помочь не может никто. В «Рассвет» Ленинского района приезжали специалисты из Москвы, помнится из Института экономики сельского хозяйства. В беседах личных они признавались честно, что проку от их рекомендаций быть не может, но им приказали ехать. Результат дележа — свезенный на бойню скот, разрушенные фермы. Так делить можно и без Института экономики.
Настоящее реформирование — дело тяжкое. Если начнутся настоящие реформы, то более половины селян останутся без привычной работы. Когда будет своя земля и придут настоящие хозяева, то вместо десяти механизаторов за глаза хватит трех, но работящих, непьющих. То же будет и в животноводстве. А уж кладовщики, учетчики, бригадиры, конторская служба и вовсе никому не будут нужны. Перелом жизни, перелом судьбы. Теперь пусть плохо, но живем, на завтра надеемся. А уйдет привычное, куда податься?
Понятно, что селу понадобятся, они и теперь нужны, парикмахер и сапожник, мастер по ремонту бытовой техники, портной. Небольшой ресторанчик — непременная деталь всякой европейской деревни. Наконец, уже сейчас нужен сезонный наемный работник — на пахоту ли, на сев, на сбор овощей, для ремонта техники. Строители нужны. А в общем, хорошие трудовые руки.
Но ведь это — целая программа социального переустройства нашей деревни, без которой все равно не обойтись, но заниматься этим правительство не хочет или не может, видимо уповая, что все само собой утрясется, потому что селяне — не шахтеры, слава Богу, молчат.
Тем более со всех сторон уверяют нас, успокаивая: «спад остановлен», «налицо стабилизация», «рубль крепнет». «Оснований для паники нет».
Успокаивает правительство. Успокаивают мудрые ученые люди. Институт экономики Российской академии наук, сектор макроэкономической стратегии (стратегии!), устами своего заведующего, доктора экономических наук А.Френкеля в «Известиях», не просто в заметке, а в «прогнозе развития российской экономики на 1995 год», заявляет: «…на ситуацию, складывающуюся в растениеводстве, можно смотреть с большим оптимизмом, чем это делается в средствах массовой информации. Возможен рост производства растениеводческой продукции по сравнению с 1994 годом. Так зерна в 1995 году будет произведено 85 млн. т, что составит 105 процентов к уровню 1994 года». Это говорится 27 июля, когда было ясно: засуха погубила урожай. И двумя днями раньше «Российская газета» написала: «Засуха охватила 25 территорий Центрального, Центрально-Черноземного, Поволжского и Уральского районов… Погибло около 2 млн. га озимых… »
Коли не веришь средствам массовой информации, которые «вечно» врут, просто выйди на волю. Ведь и в Москве стояла жара редкостная.
Нет, это — не дикий непрофессионализм. Это — очень точное профессиональное угадывание «зорь» и «вершин» теперь уже капитализма в местах и сроках, указанных начальством, которое платит.
На той же газетной полосе «Лаборатория аграрной политики ИЭППП» (расшифровать сие затрудняюсь) сообщает: «…тяжелое финансовое положение сельского хозяйства прошлого года не оказало предсказываемого самими аграриями депрессивного воздействия на весенне-полевые работы».
Неправда, мои хорошие. И к тому же бездоказательно. Цифр нет, хотя бы необязательных. По данным же нашего областного АККОРа, более тысячи фермеров в этом году ничего не сеяли весной и не пахали, потому что не было обещанных кредитов на горючее и семена. О положении в коллективных хозяйствах я уже много говорил. Добавлю, что и сегодня, в сентябре 1995-го, ясно, что пахота и осенний сев в полном объеме не проведены. Засеяли по области лишь половину озимого клина, зяби вспахали — тоже половину. Причина — не только погода. Хлеб убрали и вывезли на хлебозаготовительные пункты в июле, денег за него нет. А значит, нет горючего, запчастей. Сроки сева ушли. Какого урожая ждать в 1996 году?
Листаю записи, вспоминая год проходящий, встречи с людьми:
— Если еще год не придет власть, значит — конец.
— В Ельцине разочаровались все, а коммунистов не допустят другие страны.
— За кого же голосовать будете?
— Кто ее знает… Это вы все делали, там, на съездах, разваливали, а теперь… (Хутор Вихляевский, июль 1995-го.)
— Как бы сделать по-старому? Чтобы порядок был. (Хутор Дурновский, июль 1995-го.)
— А чего вам Жириновский даст?
— Хуже нынешнего все равно не будет. (Станица Голубинская, февраль 1995-го.)
От такой вот несладкой жизни, когда разваливается колхоз, нет работы, нет зарплаты и завтра, по всему видно, будет еще хуже, тут не только за Жириновского — тут за черта лысого проголосуешь. И не надо лукавить: не дешевой водкой этих людей покупают. Вы слышите, чего они просят? Порядка.
* * *
Сегодняшняя наша деревня, ее люди, их работа и жизнь — это сплошная боль. А когда день ото дня не легче, когда в глазах темнеет от боли, тогда и вправду дуреешь. Тогда уж не ведаешь, куда податься: к врачам ли, к знахарям, к Пантелеймону-шаману с Чукотки, возлюбившему наши края,— к любому, кто руку протянет и скажет: «Исцелю».
Грядут новые выборы, наши беды и боль остались теми же. И значит, снова кто-нибудь возгласит на весь мир: «Россия, ты одурела!» Винить мужика, который прячется, не желая своих генералов кормить,— такая ли уж это новость…
Крестьянская Россия, теряя последние силы, который уже год топчется на распутье. Перед ней — две дороги. Но старого камня стерлись письмена. Кто напишет их вновь понятными для мужика словами: «Налево пойдешь… Направо пойдешь…» Видно, перевелись на Руси грамотеи. А ругать нас — все великие мастера. На это большого ума не надо.
Калач-на-Дону
сентябрь 1995 года
1996 год
«Новый Мир», №6
Возле стылой воды
Приметный, с желтым кузовом «газик» районной рыбоохраны катил от райцентра по замерзшему Дону, шершавому белесому льду его. Катил и катил, неторопливо, но без остановок, другой уже час. Незачем было останавливаться.
С самого утра по Дону мело. Тянула низовая кура. Лениво, волна за волной, тащились белесые дымы поземки. Под черными ярами правого берега было тихо, на левом, луговом,— вьюжило; по льду замерзшей широкой реки дуло, словно в трубе, несло старый крупитчатый снег.
По стеклам машины скребло, шуршало. На воле лицо сразу начинало гореть, и глазам было больно от снежного чичера.
И, конечно, людей на льду не было. Лишь возле Калача сидели несколько рыбаков, прячась в жесткие брезентовые плащи с куколем да целлофановые мешки. А дальше, в долгом пути,— вовсе никого. В устье речки Кумовки обычно толокся народ городской, с электрички. Нынче — пусто. Возле Пятиизбянской — тоже никого.
Неторопливо ехали и ехали, пробираясь к конечной цели — к хутору Рычковскому, что на Цимле. Там ждали их. Но по дороге, службу неся, нужно было ухватить каких-нибудь рыбаков — нарушителей правил подледного лова. Обычно с этим было просто: крючков больше положенного, снасть не та. Но нынче километр за километром тянулся пустынный замерзший Дон. Кое-где ледовая дорога была обозначена вешками, обходя места опасные — полыньи да майны на быстром течении. Чернели, обдутые ветром, береговые обрывистые холмы. Луговая сторона тонула в снежной замяти. Дымила поземка. Секло по стеклам машины. Шуршало по фанерному ее верху. В кабине было тепло, даже жарко. Сидели там двое: шофер и инспектор рыбоохраны, похожие друг на друга, крепкие, круглолицые мужики, в теплых тяжелых полушубках.
— Никого…— со вздохом сказал шофер.— Собаку хозяин не выгонит по такой погоде… Надо бы хоть пару квитанций выписать. А то опять начнется: ездите…— передразнил он начальника рыбинспекции.— Бензин жгете… Бьете машину… Свои делишки…
— Надо бы,— согласился спутник.— Придется на Цимле погонять. Там из города едут.
— Нежелательно,— ответил шофер.— Подвижка была. Трещины. Перемело. Залезешь и не вылезешь.
Так и катили. И уже близок был железнодорожный мост через Дон, за ним — просторная Цимла, водохранилище, и хутор на берегу — конечная цель пути.
Справа, у берега, увидели темную на заснеженном льду фигуру человека.
— Поворачивай, сетку поднимает.
— Да это же Сашка,— сказал шофер.
— Ну и ладно. Квитанцию выпишем.
— Да он же — дурак, бич. А сетка — смех один.
— Выпишем для отмазки. Чем искать кого-нибудь.
Шофер пожал плечами и, свернув, подъехал к сидящему на корточках человеку, который и впрямь выбирал из проруби рыболовную сеть, выпутывая и бросая рядом рыбешку. Это был Сашка. С приехавшими он поздоровался, поднимаясь и вежливо кланяясь:
— Здравствуйте.
— Здорово, здорово… Как рыбалишь?
— Плохо,— ответил Сашка и стал выбирать последние метры невеликой сетчонки, местами рваной, местами связанной узлами.
Поймал он и вправду немного: пяток подлещиков, двух красноперок и увесистого толстоспинного рыбца. На белом снегу только что поднятая из воды рыба нежно розовела.
— Почему закон нарушаешь?— строго спросил инспектор.— Кто разрешил сетью ловить? Браконьерствуешь.
Сашка слушал приезжих и, конечно, не понимал ничего. Он был бездомным придурком: резиновые сапоги, заношенная телогрейка, худое, темное от мороза и ветра лицо. Он жил здесь в убогой землянке, на берегу, вдали от людей. На ближнем хуторе знали о нем.
— Сеть изымаем. Какие еще есть запретные снасти? Пошли проверим.
Инспектор, а за ним — шофер зашагали по набитой тропке к берегу, к землянке под обрывом. Они прежде ее видели лишь издали. Теперь шли к ней, с удовольствием разминаясь и продыхиваясь после долгой езды и прокуренной душной кабины. Бедный Сашка тащился позади незваных гостей, удивляясь, взмахивая руками, что-то бормоча.
Землянка пряталась в обрыве холма, на выходе балки. Устроили ее когда-то шахтеры с Украины, обычно отдыхавшие в этих краях при воде и рыбе. Устроили для жилья летнего. Снаружи в обрыве была видна лишь горбылевая дверь, кое-как обитая толем, да торчала из земли труба.
Любопытствуя, инспектор открыл дверь, чиркнул спичкой и позвал товарища: «Погляди… Во зверье как живет…» Но тот отмахнулся. И вправду, чего было смотреть: земляные закопченные стены, железная печурка, дощатый топчан да стол. Била в нос кислая вонь нечистого жилья, сажи, дыма.
А Сашка стоял рядом, все так же что-то бормоча себе под нос и взмахивая руками. Рядом с крепкими, щекастыми мужиками в полушубках, шапках да валенках Сашка гляделся какой-то птицей-заморышем: вязаная шапочка на голове, хлопающие по тощим икрам резиновые сапоги, на худом, обрезанном лице лишь сизый нос да больные воспаленные глаза.
— Рыбка плохо ловится…— бормотал он.— Холодно…
И впрямь было холодно на ветру.
— Составляем акт, рыбка…— оборвал его инспектор.— Изымаем орудия лова.
Возвратились к машине, к проруби, к сетке, которая уже обмерзла под ветром на льду. Ее отодрали комом и бросили в кузов. Туда же — пешню. Составили акт и сунули Сашке под нос:
— Читай и расписывайся. Не хочешь? От подписи отказался.
С тем гости и укатили, оставив на льду бормочущего Сашку. Теперь их дорога была коротка: перед мостом объехали припорошенную снегом майну, с ледостава обозначенную пучками желтого чакана, нырнули под мост. Вдали виден был хутор, где ждали их. Машина, словно сама собой, побежала скорей.
Сашка же постоял на льду, глядя вослед уходящей машине, все так же бормоча и взмахивая руками. Потом он вернулся к землянке, колом подпер дверь и заспешил вдоль берега, к разъезду, к хутору, к рыбакам — единственным людям, которые знали его и жалели.
Сашка появился на разъезде ранней осенью. Сейчас по свету бродит людей немало: одних война да горе тронули с места, другие — всякая пьянь да рвань,— почуяв волю, полезли наружу. Так что бродягами никого не удивишь, ни в городе, ни в селе.
Объявился Сашка еще по теплу. По хутору он не шлялся, глаза никому не мозолил, с первого же дня прибившись к рыбакам. Хутор стоял на берегу просторного водохранилища. Сюда, в места рыбные, наезжали колхозные рыбаки с верховьев Дона, с Иловли да Калача. Возле них кружился всякий народ. Помогали невод тянуть да с сетями управляться, за труд получая кров, харчи, а главное — пойло. Такой народ появлялся и пропадал. К этому привыкли.
Прибыл Сашка неизвестно откуда. Еще нестарый. На лицо — темный, словно чугун. Непьющий. Но явно с дурью, не в себе человек. Появился он в тюбетейке, рубашке и кедах на босу ногу. Пристроился к рыбакам. Его приодели: нашлась старая телогрейка, резиновые сапоги. Стал он жить, старательно рыбакам помогая. А потом исчез. Но его видели порой у хуторского магазина, где он менял рыбу на хлеб. И уходил к Скитам. Было такое место вверх по течению: обрывистые холмы, меж них — лесистые балки. Там он устроился в землянке, летнем приюте отпускников-горожан. Помаленьку рыбу ловил, кормился ею, никого не трогал. Ударили холода. А он так и жил в своей норе. Больной человек, дурак — какой с него спрос. Никому не мешает, и слава Богу.
Порой он навещал рыбаков. Они его привечали. Ведь страх было глядеть, как он в дырявых резиновых сапогах, считай на босу ногу, среди зимы бедует. В портянки его одели, в носки, оставляли жить. Дары он принимал, но уходил к себе.
И теперь, когда его обидели, куда было податься? Лишь к рыбакам. И Сашка заспешил к ним вдоль берега, отмеряя привычный путь от холмистых Скитов, чье название восходило ко временам давним, монастырским,— от Скитов к хутору.
Рыбаки квартировали в казенном доме железнодорожного обходчика, над самой водой. Они только что пришли со льда, от сетей, еще не сняв клеенчатые оранжевые робы. В санях была рыба, и Сашку встретили весело:
— За ухой пришел, рыбачок? Или свою сдать хочешь?
Сашка сразу подошел к Михалычу, немолодому рыбаку, человеку дружелюбному, и начал жаловаться:
— Приехали, обидели Сашку… Сетку забрали, пешню… Я не воровал. Я сетку нашел, чинил ее. Они забрали,— показывал он пальцем на «газик» с желтым верхом, стоявший у соседнего дома.
Михалыч все понял.
— Рыбинспекция. Придурки,— сказал он.— Справились. Либо пьяные,— и пошел к соседнему дому, где шла гульба.
Он пробыл там недолго и вернулся злой.
— Подлянки…— ругался он.— Погань… Топить таких надо.
— Надо, надо!— горячо поддержал его Сашка.
— Ладно,— вздохнул Михалыч.— Найдем тебе сетку и пешню. Не горюй. Пойдем, с нами пообедаешь.
Сашка понял, что Михалыч ему не поможет. Он покрутился еще между рыбаков, жалуясь:
— Забрали… Моя сетка… Пешню я нашел… Я не украл…— убеждал он.— Сашка не ворует. Чужое не берет.
Его звали в дом, к горячему обеду. Но Сашку жгла такая обида, что было не до еды.
— Зачем забрали сетку? Плохие, злые.
Он заглядывал в людские лица, пытаясь найти ответ. Глаза его горели болезненно.
В дом, под теплую крышу, он так и не пошел. Поглядел на желтый вездеход, погрозил ему пальцем и двинулся в обратный путь.
Начался легкий снегопад. Ветер все так же тянул вдоль реки. И теперь уже не волны белой поземки бежали по льду, а вовсю гуляла снежная замять.
Сашка возвращался в землянку не рекой, а своей тропою, под высоким берегом, затишкой. Метель ему не мешала. Он быстро шел, бормоча: «Плохие… Сашка не ворует… Плохие…»
По-зимнему, по-ненастному рано стало смеркаться. Белесые сумерки прежде поры накрывали безлюдную округу: придонские холмы, замерзшую реку, далекий простор лугового берега,— все укрывалось и пряталось в быстро сереющей мгле зимнего ненастья.
Возле землянки Сашка вдруг остановился и замер. В горячечной сумятице мыслей человека больного и обиженного внезапно начало проясниваться: шелухой отлетало пустое и остались лишь слова доброго рыбака Михалыча. Михалыч всегда говорил правильно, и все его слушались, хотя он и не был бригадиром. Но он давно рыбачил, давно жил и поэтому все знал. Он правильно сказал Сашке, он велел ему… И пришла пора исполнять сказанное. Вечерело.
На разъезде, в доме, где гостевала и бражничала рыбинспекция, с полудня зажгли свет и потому снегопад, метель и вечер не сразу заметили. Лишь настенные часы боем своим подсказали, что пора в дорогу.
Засобирались. Радушный хозяин оставлял ночевать. Но нынче и завтра — дни рабочие. Нужно ехать. Тем более, что дорога — не длинная. А метель — не помеха. Решили, что по льду минуют лишь мост, а потом свернут на берег. Там — асфальт до самого райцентра.
Погрузили в кузов мороженых судаков да лещей, припасенных хозяином, и распрощались.
Инспектор, который не отказывал себе за столом, был пьян и поэтому сразу улегся на заднее сиденье, пробормотав: «До дому не кантовать…» Шофер был хмелен в меру. Он выехал со двора, за хутором спустился на лед и покатил знакомой дорогою.
Стемнело. Мело. Желтый свет фар упирался рядом с машиной в зыбкую кисею снежной замяти. Но дорога была накатанной, можно прибавить газу.
Не увидев, а почуяв смутную тень железнодорожного моста, шофер сбросил газ и вовремя углядел вешки — камышовые пучки с правой стороны, где из года в год река не замерзала, а лишь схватывалась льдом на стремнине. Эту майну он знал, сто раз мимо ездил, и что-то шевельнулось в хмельной голове: вдруг почудилось, что вешки стоят не так, должны стоять левее.
Машина ушла под лед на скорости, ломая непрочное корье колесами и выбив закраиной лобовое стекло. Вода хлынула в кабину, помогая шоферу открыть свою дверцу. Инспектор, спящий на заднем сиденье, повернулся, хотел крикнуть и сразу захлебнулся. Шофер выбрался из кабины, но поздно, когда машина мягко стала на дно. Он угребался и сумел выплыть, но ниже спасительной полыньи, ударившись головой в лед. Он стукнулся раз, другой, третий, потом дважды хватнул теплую подледную воду. И все кончилось. Поднимались, бурля, воздушные пузыри из машины, желто светили фары ее.
А Сашка сидел возле своей землянки другой уже час, ожидал. Наконец он услышал гул машины, треск проломленного льда. Криков не было.
Недолго переждав, он пошел к полынье. Но поглядел на нее лишь издали. Темнело окружье воды и ломаного льда.
Сашка переставил на прежние места камышовые вешки, промочив их снизу водой, чтобы примерзли и ветром не сдуло.
Он почуял, что коченеет, от ветра и холода промерзнув до самого нутра, до костей.
Обжитая землянка не была спасеньем, но лишь от ветра затишкой. Сашка разжег огонь в печке и раз за разом стал набивать дровами ее невеликое железное чрево. Прямая труба гудела. Дрова занимались огнем и прогорали быстро. Сашка подкладывал и подкладывал новые. Бока железной печки засветились малиновым светом, и жар поплыл, волна за волной.
Печной огонь освещал землянку неверным, мерцающим светом. Дощатая лежанка с тряпьем, дощатый же стол, жестяные банки…
Сашка глядел вокруг, силясь понять, что это и откуда… И почему он здесь? Да и он ли это? Он что-то хотел вспомнить, и что-то вспоминал, и, отходя от печки, разглядывал убогое ложе, жестянки на столе, трудно понимая, что это — немудреная, но посуда.
В землянке было тихо, лишь дрова потрескивали да пламя гудело в трубе. Осторожно, словно впервые, Сашка приоткрыл дверь и сначала выглянул, а потом вышел наружу.
На воле снегопад кончился, разветривало, порою светила круглая луна, яркая, режущая глаз. Казалось, светило все: сияющие высокие облака, заснеженная земля, лед замерзшей реки. Обморочная тишина накрывала пустынную округу.
Сашка все видел и понимал. Он знал, что в нескольких километрах отсюда — людское жилье. А здесь — лишь замерзшая река, пустые берега ее. Он будто все понимал, кроме единственного: как попал сюда и зачем.
Болела голова. Вернувшись в землянку, он почуял, что его клонит ко сну. Лег и уснул.
Страшно было утреннее его пробужденье: он лишь открыл глаза — и тут же его словно подбросило. Выскочив из землянки, он побежал к реке и по льду ее, где стояли желтые камышовые вешки, ограждающие полынью. Все было явью: обычно ровная наледь со снежицей нынче была взбуравлена ломаным льдом.
Значит, все это не привиделось — здесь утонули с машиною люди.
Сном было другое, теперь очевидное: его детей, его жену и его самого топили отсюда далеко. Там не было льда.
Он распахнул телогрейку, раздвинул рубаху, пальцами пощупал, а потом посмотрел на два шрама, два сиреневых пулевых рубца.
— А-а-а-а!— громко закричал он.
Но все осталось по-прежнему: замерзшая река, снежная пустыня вокруг.
Медленно, еле волоча ноги, он пошел к землянке, сел возле нее на скамейку. А потом вдруг вскочил и что было сил ударил с размаху по скамейке. Руку пронзило болью, лопнула кожа, и полилась кровь. Сашка лизнул ее: соленая.
Рука болела, и кровь текла, а вокруг ничего не изменилось: заснеженные холмы, ледяная река, тот берег в белесом тумане. Пробужденье не приходило. А значит, все было явью.
Не заходя в землянку, он пошел той набитой тропою, которой ходил много раз: берег, снег, белокорые осокори, колючие кусты шиповника с сухими ягодами.
В жидких серых облаках над снежной белью поднялся и повис оловянный зрак солнца. Вчерашняя метель местами вовсе схоронила тропу рифлеными переметами снега. Но путь был известный, хотя и странный: словно не был здесь никогда, но много раз во сне проходил этой дорогою. А теперь узнавал знакомое, удивляясь.
На разъезде рыбаки уже поднялись. Михалыч стоял во дворе.
— А-а, Сашка…— сказал он.— Греться пришел?
— Где Сашка, где?
Михалыч опешил, потом произнес мягко:
— Ну, ты — Сашка. Кто же еще?
— Я — Сашка… Верно…— опамятовал пришедший.
Он не был Сашкой. Сашкой звали сына его. Но какая теперь разница. Тем более, что во сне ли, наяву и его теперь Сашкой величали. Пусть будет так.
— Замерз я, замерз…— поежился он.
— Заходи, грейся,— пригласил Михалыч.— Чайник вскипел.
В свою землянку Сашка не вернулся, оставшись у рыбаков. В первый же день он натопил баню, помылся, постирал белье. И стал жить с бригадой, каждый день выходя на лед и получая из улова свою малую, но долю.
Уже на третий день нашли потонувший «газик», в нем — инспектора рыбоохраны. Дело было понятное: пьяные, метель — вот и влезли в майну. Не первый то был случай и не последний.
Шла зима. Сашка у рыбаков прижился, отъелся на вольных харчах, оделся по-человечески и стал глядеться обычным молодым еще мужиком, на лицо довольно приглядным. К тому же — и работящим, без дела не сидел. Научился работать иглицей, сети чинил. Перебрал разбитый бригадный мотороллер, и тот стал бегать.
Но оставалось в нем странное. Мог говорить с человеком нормально, а потом вдруг вскидывался, умолкал, и глаза его горели тем больным огнем, что и прежде. Несколько раз ночами он будил рыбаков отчаянным криком, кого-то звал по именам. Когда включали свет, он сидел на постели белый как полотно и ничего не понимал. С трудом приходил в себя.
Случалось это не часто. Обычно жил как все: днем работал на льду с пешней, с сетями. Дома печь топил, прибирал, готовил еду. Порою оставался полным хозяином, когда рыбаки уезжали к семьям. Про себя он так ничего и не рассказал — кто и откуда. Даже Михалычу, с которым подружился. А Михалыч и без расспросов кое-что понимал. Хватало ему Сашкиной тюбетейки, в которой тот прибыл, свежих, недавно затянутых пулевых шрамов, ночных бормотаний и криков, а еще того, о чем всякий день галдели газеты да телевизор и рассказывали беженцы из краев южных.
И потому Михалыч старался с Сашкой говорить лишь о дне завтрашнем: «Сделаем паспорт тебе… На весеннюю путину пойдем, сделаем через милицию паспорт, прописку. В колхозе будешь рыбачить. Ты — работящий, непьющий. Найдешь бабу, будешь жить помаленьку…»
Так и текли дни. Прошел холодный и ветреный январь, когда на льду возле сетей морозились: трескались и кровили руки и губы, чернели лица. В феврале стало теплей, и, как всегда, работы прибавилось: рыба ловилась хорошо, быстро прибавлялся и день. А в конце февраля Сашка вдруг исчез, никому ничего не сказав.
Вся бригада на два дня уезжала в райцентр, на собрание: перед весенней путиной начальство собирало. Вернулись — Сашки нет.
Ушел ли, уехал… Ждали день, другой, третий… Не было. Понемногу стали забывать о нем. Больной человек. Стукнуло ему что-то в голову, он и подался.
Одному лишь Михалычу не давало покоя Сашкино исчезновение. Тем более, что был нехороший знак: когда вернулись после отлучки, а Сашки не нашли, то кое-кто начал проверять тряпье да невеликие деньги, оставленные в заначках. Ничего не пропало. Но в изголовье кровати Михалыча появилась новая картинка: плотина гидроэлектростанции, высоченная стена ее, стиснутая горами, синяя вода. Все комнаты жилья рыбаков были обклеены цветными картинками: полуголые бабы, артисты, певцы да певички. А вот картинки гидростанции раньше на стене не было. Хотя прежде видел ее Михалыч. И крепко ее запомнил.
В один из вечеров Сашка просматривал старые журналы. Михалыч рядом сидел с крючком и дратвой — валенок подшивал. Шуршали, шуршали листы, а потом стихло. Михалыч поднял голову. Сашка завороженно глядел на цветной снимок, где снята была высоченная плотина гидроэлектростанции в горах, просторное водохранилище. Место незнакомое. Свои-то плотины вот они: на Дону — Цимлянская и Волжская рядом. А эта где-то в горах. Высоченная, даже глядеть страшно.
— Сколько же высота у нее?— спросил Михалыч.
— Триста метров.
— Это да…— удивился Михалыч.— А воды держит?
— Десять с половиной кубокилометров,— четко ответил Сашка.
— Написано?
— Я там работал,— спокойно сказал Сашка.
Михалыч удивился признанию, но занимала его плотина. Она была очень высокая, даже страшно глядеть. И оттого какая-то ненадежная: хоть и бетонная, но стеночка, а за ней — махина воды.
— Возьмет она да рухнет,— вслух подумал Михалыч.— Чего тогда будет…
— Всем им тогда конец,— твердо ответил Сашка.
— Кому?
— Всем… И тем, кто стрелял, и кто не стрелял… И кто резал, и кто посылал их… Никто не спасется.
— Кто стрелял, кого резал?..— спросил было Михалыч, но вовремя опомнился.— Пошли-ка лучше, дружок, покурим, чем голову забивать,— забрал он из Сашкиных рук журнал и отложил его.— Пошли…
Сашка послушался. Но на улице, возле дома, в неверном свете фонаря он снова стал говорить быстро, горячечно:
— Рухнет, и всем — конец… Всех вода догонит и всех схоронит… Не надо искать. Никто не убежит, ни Сафар, ни Абдулла…
— Погоди, погоди…— останавливал его Михалыч, но тщетно.
— Всех накроет вода, всех достанет. И тогда ты правильно сказал. Топить. Не пикнули. Нет их и не будет. Я знаю, я работал там, я смогу…
Михалыч с трудом успокоил Сашку. Увел в дом. Сидели у телевизора, в карты играли. И будто прошло. А ночью Сашка кричал:
— Таня! Где Лена?! Спрячь ее! Сашку спрячь!
Его будили. Он сидел бледный, в поту. А через час снова кричал:
— Оставьте детей! Лена где?!
Намучились с ним.
И когда Сашка исчез, оставив странный подарок — журнальную картинку на стене: высоченная плотина, вода, горы,— Михалычу стало грезиться всякое.
И однажды отправился он в Скиты, к землянке, где прежде жил Сашка.
Кончался февраль. Придонские холмы оттаяли и почернели. У берегов появились закраины, поднималась вода.
Сашкина землянка была пуста, чернея отворенной дверью. Конечно, он не вернулся сюда. Скамейка возле землянки была просторная. Михалыч сел на нее, закурил, и его разморило. Одет тепло, и желтое февральское солнышко хорошо грело.
Возле ног, в глубокой промоине, чуть слышно журчал ручеек вешней воды, стекающей из балки к Дону. На холме, на черных оттаявших проплешинах, хрипло кричало воронье.
От землянки Михалыч пошел не берегом, а Доном, выбравшись на ледовую дорогу, что тянулась по реке. По ней уже не ездили, боясь ненадежного льда, весенних промоин.
Полынья возле моста открылась. И торчали сбоку дороги обтаявшие камышовые вешки. Возле первой из них Михалыч остановился, вздохнул, вспоминая утопших. Шофера так и не нашли. Теперь лишь поздней весной где-нибудь всплывет. А может, и не найдут. Михалыч знал этого человека. Глупая гибель. Двое детей осталось. Еще нестарый.
Досадуя, Михалыч пнул ногою подножие вешки. Пучок камыша отлетел в сторону и рассыпался. Михалыч удивился и подошел к следующей вешке. И она поддалась, рассыпаясь по льду. И третья — тоже. А четвертая, пятая, шестая стояли намертво.
Большим рыбацким ножом Михалыч разгреб основание последних вешек. Сомнений быть не могло. Три первые стояли как и положено: пучки камыша, вмороженные в лед. Три ближние к полынье были срезаны, а потом их просто приткнули. Но они были обрезаны, а значит, переставлялись. Потому и ушла машина под лед: ее направили в полынью, переставив три вешки правее.
Метель, ночь, хмельная голова и обманные вешки. Потом их поставили на место, приткнули, но не вморозили. Михалыч все понял.
* * *
В бригадном жилье он убрал со стены картинку плотины. Глядеть на нее не мог. Грезилось: взрыв… рушится все… вода идет валом, смывая на своем пути людей, дома.
Вечерами — чего не было ранее — Михалыч стал глядеть телевизор, последние новости. Будто ждал чего-то. И холодело под сердцем.
Сказать кому-нибудь он не решался. О чем и о ком говорить? О словах больного человека? И про вешки молчал. Теперь не поможешь. А таскать будут.
Февраль прошел. В марте началась весенняя путина. Самая трудная пора: холод, ледяная вода, рыба идет. Жили на катерах, в тесных железных кубриках. Там уж — не до телевизора. Но радио Михалыч все равно каждый день слушал. Чаще — вечерами. Спать ложатся, он включит приемник, слушает. Слушает и боится. Вот-вот объявят. Не объявляли, слава Богу. Пока…
1996 год
«Новый Мир», №10
В снегах
Зима нынче, слава богу, снежная. Давно таких снегов не бывало. Вот и февраль пришел, а все сыплет, метет. Хорошо глядеть из окошка на снежную замять. Соскучились по снежку. Не грех и прогуляться по белой дороге ли, тропке. Вовсе хорошо, когда едешь заснеженной белой степью. Сечет по окнам машины, ленивая поземка перебегает дорогу. По обочинам — стайки хохлатых жаворонков. Им — снег ли, метель — надо кормиться. Травы в степи нынче замело. В колено снег да в пояс. Вот и подались жаворонки к дороге.
Нынешний снег нашим людям в радость. Вспомнила наконец о нас небесная канцелярия, спохватилась. Ведь все прошлое лето — словно пйкло: с весны до осени — ни дождинки. Засуха, какой давно не бывало. Ко всем напастям еще и эта.
«…Обращаем Ваше внимание на катастрофическое положение в сельском хозяйстве, которое сложилось в результате диспаритета цен… и в связи с жесточайшей засухой».
Все верно: и диспаритет налицо, и засуха. Но нынче разговор о другом. Разговор о колдунах. Один из них живет в рабочем поселке Быково, в степном Заволжье. Виктор Андреевич Парчак, сорока трех лет, родом сельский, образование высшее, отец троих сыновей, до 1991 года трактор и комбайн не водил, пахать и сеять не умел. Работает со своим родственником Петром Николаевичем Смутневым, тоже начинающим хлеборобом, на 400 гектарах земли. В 1995 году, в жесточайшую засуху, получил по 32 центнера озимой пшеницы с гектара. А рядом, на той же земле, по 2—3 центнера наскребали.
— Колдун,— объяснили мне.— Везде — сушь, а над ним дожди идут. Значит, умеет колдовать.
Что ж… Познакомиться с колдуном всегда интересно. Но не зря говорят, что внешность порой обманчива. Виктор Андреевич оказался отнюдь не богатырем с плечами в косую сажень. Роста среднего и в плечах узковат. И все его хлеборобские успехи — это лишь работа.
И начало было обычным. 1990 год. Огляделись, подумали и поняли, что прежней жизни пришел конец. Надо начинать новую. Четыре мужика, связанные родством и свойством, во главе с В.А.Парчаком взяли 1.000 гектаров брошенной земли совхоза «Волжский».
— Неудобья… Это мягкое слово ничего не говорит,— вспоминает Парчак.— Эти земли более пяти лет не пахались. Осот там был выше человеческого роста и в руку толщиной. Там косули водились.
— Кто-кто?..— удивленно переспрашиваю я.
— Косули. Я сам удивился. Но ведь лес стоял осотовый, глушь, они и прижились. И уходить не хотели. Мы рубим осот… Буквально топорами рубим… Они уходят вглубь. Это были джунгли, а не пашня. С ранней весны мы начали чистить землю, пахать…
Но прежде чем пахать, был первый решительный шаг: несколько дней раздумий, а потом три месяца тяжкой маеты.
— Обдумали и решили, и правильно сделали,— вспоминает Парчак.— Заниматься землей — значит, надо иметь свою технику, а не ходить с протянутой рукой. Взяли кредит более двухсот тысяч рублей. 1990 год. Тогда это были великие деньги. Кое-кто за голову хватался: «С ума сходите?! Наберите старенького, подлатайте. На первое время сойдет». Мы взяли кредит. Техника тогда была недорогая, но купить ее было негде. За три зимних месяца я исколесил полстраны, а в области могу и сейчас нарисовать план всех райагроснабов. За три месяца я потерял одиннадцать килограммов веса, но к весне у нас была вся техника, нужная для работы. И брал я ее не внатяг, а с запасом, чтобы первые, самые трудные, пять лет быть во всеоружии.
С первых теплых дней Парчак с товарищами взялись за землю. До июня они сумели вспахать лишь 400 гектаров из тысячи, хотя работали по двенадцать — четырнадцать часов. И сутки, и двое, и трое могли не уходить с поля. Это была изнурительная, тяжкая работа.
2 и 3 июня 1991 года шел дождь. Его Парчак помнит и нынче. После этого дождя посеяли просо на отвоеванных 400 гектарах. Получили урожай — 600 тонн. Реализовали. Цена тогда была хорошая, получили деньги и разделились.
Не ругались, не спорили, не упрекали друг друга, а просто поняли, что вместе — не по пути. Разные по характеру, по жизненным взглядам люди. Одни считали, что нельзя тратить себя, «надрываясь» в работе на пределе. Парчак считал, что нужно. И он остался вдвоем со своим нынешним напарником П.Н.Смутневым. Полученные деньги пошли на погашение кредита, на удобрения, на горючее — словом, на жизнь для земли и себя, это едино.
— Многие из начинающих земледельцев,— говорит Парчак,— работают на барыш, а не на урожай. Для урожая, для земли нужно покупать удобрения. А для барыша можно и обойтись год-другой. Это уже психология: «Как это я из кармана живые деньги выну, отдам, а неизвестно, что будет…» Мы же работаем на урожай сегодняшний и завтрашний.
Приехал я в Быково, искал Парчака, спрашивал о нем.
— Это который колдун? Над которым дожди идут?
— Это который везучий?
Может, и вправду колдун ли, везучий?
— Ни одного дождя за лето, как и у всех, на поле у Парчака не было,— сказал мне человек знающий, начальник районного сельхозуправления.— Первые капли упали во время уборки и пошли во вред. Про везение и тем более про колдовство — это басни да бабьи сплетни. Человек работает не жалея себя. И не просто «на дурака прет», а соблюдает все требования агрономической науки. У него были не хорошие и даже не отличные, а идеальные пары. Для наших краев это — в любую засуху спасенье. У него были отличные семена. Он вовремя отсеялся. Он применял удобрения. Отсюда и результат.
В 1995 году Парчак и Смутнев с 200 гектаров озимой пшеницы получили по 32 центнера, а с 200 гектаров проса — по 15 центнеров с гектара. Первый за лето дождь пошел во время уборки, и потому проса собрали меньше, чем могли бы.
Нынешнее лето. Жестокая засуха. Хлеба буквально «горели». Актировали, списывали, гоняли комбайны, собирая крохи. Соседние с Парчаком колхозные поля дали по 2,5 центнера с гектара пшеницы.
— Почему?— спрашиваю я у Парчака.
— Все просто,— отвечает он на мое недоумение,— и ничего не нужно придумывать! Тем более что я и придумать ничего не смогу, я не агроном. Трактористом и комбайнером прежде не был. Надо делать так, как говорит наша агрономическая наука. Точно и твердо выполнять все ее предписания. Вот и все.
На мой взгляд, это главная причина успеха Парчака. Он не «выдумывал велосипеда». Он точно, со старанием выполнял все агрономические требования, все, что до него уже десять раз проверили и доказали многолетним опытом, наукой и практикой не на какой-нибудь, а на нашей волгоградской земле. К примеру, в первый год на парах он проводил более десяти культиваций за сезон.
Пахота ли, сев, культивация — для Парчака все важно и все главное.
— Обойду всех агрономов,— говорит Парчак,— посоветуюсь. Литературу читаю. Все выполняю в точности. У меня день уходит, чтобы войти в работу, отрегулировать агрегаты. На какой глубине идут лапка, сошник, норма высева, заделка семян в почву — все важно и все должно быть так, как положено. После пахоты, боронования, культивации, сева любой клочок моего поля можно проверить. Даю сто процентов гарантии: никаких отклонений от нормы.
И прежде, а в последние годы особенно много приходится видеть на полях наших горького. Зеленая трава стоит по колено, а убеждают: «Это — черный пар. Припоздали с культивацией, но не беда, успеем…» Успеют. Только проку от такого «черного пара» нет. Скачет сеялка за трактором, того и гляди оторвется. Пашня, считай, не бороненная. «Ничего,— машут рукой.— Дожди пройдут, все прибьется, вырастет». Конечно, вырастет, только вот что? Осот, розовый вьюнок, полевая ромашка.
За годы своей работы Парчак и Смутнев получили и реализовали три тысячи тонн зерна. Всего лишь на 400 гектарах. Иные колхозы на десяти тысячах гектаров получают зерна в два раза меньше.
Но… «от земли не будешь богатым, а будешь горбатым» — не мною придумано. Живет Парчак в том же доме, в каком жил и раньше. «Мерседесов» и даже «Жигулей» не купил. Все полученные деньги вложены в производство. Провели к своему участку дорогу из бетонных плит, построили склад для техники, семян, удобрений. Протянули электролинию, смонтировали подстанцию. Скважина, водонапорная башня, склад горюче-смазочных материалов. Государство помогало мало, а главное, с опозданием на полгода. Тогдашняя инфляция эту помощь «съедала».
Позади пять лет работы. Самой трудной, потому что это было начало. Что впереди?
— Для меня стало ясно,— говорит Парчак,— что на наших землях можно получать по сорок — пятьдесят центнеров озимой пшеницы на парах. Так я и буду работать.
Но, отработав пять трудных лет и получив около трех тысяч тонн зерна, Парчак не разбогател. Не все планы его сбылись. Он хотел на своей земле построить хороший большой дом, и, может быть, с бассейном, что при нашей жаре вовсе не роскошь. Хотел разбить сад и парк. Хотел построить свой элеватор для зерна. Не вышло. И не его в том вина. Пусть государство не выполнило свои обещания: дом для фермера и прочее. Но самое горькое — год 1993-й, когда 700 тонн пшеницы отдали государству и ждали денег за нее целый год. При тогдашней инфляции деньги обратились в дым. Год жизни. Год тяжкого труда.
И когда говорит Парчак: «Страна должна повернуться лицом к крестьянину», он имеет в виду только одно: «Честно расплачивайтесь за мою пшеницу, за мой труд. Чтобы я не ждал и не выпрашивал свои деньги месяц, два, три, а то и год. А еще — цены должны быть сообразными: за железку, за хлеб, за горючее».
Конечно же, не обошли мы в наших разговорах темы общие и насущные: колхоз и фермер.
— Поработав фермером, а потом объединившись в колхоз, я буду уже другим,— сказал Парчак.
— Вы вернетесь в колхоз?— изумленно спросил я.— Зачем?
— Конечно, не в прежний,— ответил мой собеседник.— Но объединяться мы все равно будем, рано или поздно. На других принципах. Это необходимость. Потому что я зерно получил и отдал его чужому дяде, который смелет его, испечет хлеб, сделает макароны и получит доход больший, чем я. Значит, нужна своя переработка. Но в районе четыреста фермеров. Не заводить же нам четыреста пекарен, четыреста мельниц. Это — деньги на ветер. Надо объединиться. На какой основе, тут надо думать. Но объединяться все равно будем.
Мы говорили о многом. В конце разговора я спросил у него:
— У вас трудное позади. Но если бы сейчас вам предложили еще тысячу гектаров земли, такой же запущенной, джунгли, в которых кабаны и косули. Вы бы взяли?
— Взял бы. Мы бы смогли ее обработать. Подросли сыновья, племянники. Они уже работают на тракторе, на машине.
— А пять тысяч гектаров?— загорелся я.— Взять и отвечать за эту землю, чтобы и она могла по тридцать, по сорок центнеров с гектара давать? Пусть с сезонными работниками, с наемными. Но смогли бы?
— Можно,— твердо ответил Парчак.
— А десять тысяч гектаров?
— Все можно при желании.
— Но где вы возьмете людей? Ведь в колхозе работники нынче известные.
— Будут работать. Даже те, кого из колхоза выгоняют. Со мной бы работали. Им ведь «папа» нужен. Колхоз приучил к «папе». Без него не могут. Но о чем сейчас говорить, когда и нынешние двести гектаров мне не принадлежат. Я просил — не дают. А если бы я знал, что эти двести гектаров — это моя земля, моя и моих сыновей, то я бы сейчас не сидел сложа руки, я бы со всей округи навоз возил от ферм. Колхозам навоз не нужен, не до него. А я бы возил. И в следующем году получил бы по шестьдесят центнеров с гектара. Но чья эта земля?.. Непонятно.
Так вот, не больно весело, закончился наш разговор.
Возвращался я в город. Заволжье — край пустынный. Нынче — и вовсе. Вон кошара овечья, но возле нее — ни сена, ни соломы. Значит, нет и овец. Вон еще одна такая же. А там — бывший животноводческий комплекс на десять ли, на двенадцать тысяч голов. Хорошо, если сотня-другая коров в его стенах осталась. Хоть и глубокий снег, но видно, что тянется и тянется вдоль дороги непашь. Почти полтора миллиона гектаров остались в области с осени невспаханными. Почти третья часть. Это — по всей области. А здесь, в глухом Заволжье, в Быковском районе, больше половины земли не пашется. Времена нынче — трудные.
Все понимаю. Но почему работящий умелый Парчак, отец трех сыновей, не может получить эту брошенную землю? Ведь тогда на ней не бурьян будет расти, а пшеница. И урожай будет не 5 центнеров с гектара, а 30 и 40.
Почему в другом, но тоже нашем краю такие же толковые хлеборобы Чичеров и Ляпин не могут получить столько земли, сколько им по силам? Там ведь тоже сыновья уже поднялись.
Почему о земле с тоскою говорят братья Пономаревы и могучий их батя? Почему Виктор Иванович Штепо не может осуществить планы свои? А ведь все они — наши кормильцы. Не горстями зерно дают, а тысячами тонн.
Тянется вдоль дороги заметенная снегом непаханая земля, молчит. Но уже пригревает солнце, скоро весна. Что она принесет нам? А что она может принести?!
Вот строки из обращения к руководству нашей области Аграрного союза и профсоюза агропромышленного комплекса:
«В агропромышленном комплексе Волгоградской области сложилось катастрофическое положение.
…во многих хозяйствах не отапливаются школы, детские сады, ремонтные мастерские.
…остановлен ремонт техники.
…идет сброс скота, растет падеж, падает продуктивность».
Во всем этом много и много правды. Но не вся она здесь. Есть правда иная.
В Калачевском районе бывший совхоз, а ныне коллективное сельскохозяйственное предприятие «Советское» не выделяется какими-то особыми землями. Дожди и снега, степные ветры и летнее солнце — такие же, как у всех. И люди — обычные селяне ли, хуторяне. Проблемы — все те же: неплатежи. Молокозавод задолжал, мясокомбинат задолжал, плодоовощные базы не платят. А пахать, сеять, урожай убирать и жить надо.
Но, в отличие от многих других, в коллективном хозяйстве «Советское» вся земля вовремя вспахана, засеяна и урожай убирают неплохой. Озимой пшеницы собрали в 1995 году по 16 центнеров с гектара, ячменя — по 9,5. С поливных земель получили 1.200 тонн овощей.
Если в области и в районе сокращается поголовье скота, то в «Советском», напротив, понемногу растет. Если везде падают надои, то здесь они поднимаются. В 1995 году получили в среднем по 3.180 килограммов молока от каждой коровы. Привесы скота тоже год от года не уменьшаются. Падеж в 1995 году по сравнению с 1994-м значительно снижен.
Как ни крути, а показатели — упрямая вещь. Получается: не хозяйство, а оазис благополучия среди всеобщей разрухи.
Год 1995-й закончили пусть с невеликой, в 600 миллионов рублей, но прибылью. Средняя зарплата работников — 340 тысяч рублей. Задолженность по зарплате есть. Но она такая, как у администрации района: в феврале ждут ноябрьской получки.
Но «благополучный остров» в нынешней сельской разрухе — факт сомнительный. Сомневался и я. Не раз приезжал в хозяйство, приглядывался, спрашивал.
Нынешний мой рассказ о том, что и сегодня в сельском хозяйстве можно держаться на плаву. Не вырезать скот, не губить землю, не разрушать производственную структуру, не лишать работы людей. Трудно, но можно. Пример тому — коллективное хозяйство «Советское».
На мой взгляд, как и прежде, всякий дом хозяином крепок. Недаром говорили: «Без хозяина товар плачет», «Не купи села, купи приказчика», «Без хозяйского пригляду одни муравьи плодятся».
Таким вот рачительным хозяином ли, приказчиком является в «Советском» Николай Петрович Мелихов. Человек он еще молодой, но хозяйственник опытный, специалист, умеющий работать с людьми.
Ничего нового, мне кажется, он не придумал. Технология в полеводстве, в животноводстве вековечна: досыта корми корову — она молока даст; вовремя вспаши, вовремя посей — получишь урожай.
Но в нынешнее время великий труд и умение руководителя заключаются именно в том, чтобы коровы были накормлены, а земля вспахана. Не рыдать, не бить себя в грудь на высокой трибуне, не ждать, когда «наши придут», обрекая хозяйство на развал, а людей на нищету. Работать. Думать. Находить наилучшие хозяйственные решения.
В «Советское» не течет ручей бесплатной солярки или бензина. И запчасти для тракторов и автомобилей с поклоном сюда не несут.
— Мы делаем все,— говорит Николай Петрович,— чтобы работа в поле, на ферме не останавливалась. Потому что любой простой — это разложение коллектива. У нас не хватает топлива, а у кого-то, у железнодорожников, у военных, не хватает мяса, молока, овощей. Вот и выход.
В других хозяйствах округи давно забыли лозунг: «Навоз — на поля!» И, кажется, резонно: бензин дорогой. В «Советском» вывозят ежегодно на поля около двадцати тысяч тонн навоза. И, наверное, поэтому во многих хозяйствах скотина и соломке рада, а здесь заготовили сено, сенаж и силос. А значит, постоянно текут «молочные» деньги. Средняя цена реализации литра молока была в 1995 году 800 рублей, себестоимость — 400 рублей. Вот она — прибыль.
С овощных полей тоже идет доход. Получили хороший урожай и удачно продали перец, баклажаны. Нашли покупателей на семена томатов. Капусту не продали всю осенью, когда она стоила 500 рублей за килограмм, а заложили в хранилища. И теперь продают по 1.500 рублей.
Постоянно в 30 магазинов Волгограда сейчас везут из «Советского» лук, капусту, морковь.
Вот и собираются понемногу доходы молочные, овощные, зерновые, с подсолнечника. За год таких денег набежало три миллиарда. Покупали горючее, запасные части, ремонтировали животноводческие помещения и построили два новых. Готовили к зиме гараж, МТМ, где сейчас, зимой, идет ремонт техники. Понемногу, но хозяйство строит жилье, каждый год сдавая по одному дому.
А в строительстве жилья своими силами в 1995 году явное оживление: 38 человек взяли участки под застройку. Конечно, хозяйство им посильно поможет.
Такую тяжкую ношу, как стройка, не взваливают на себя люди вовсе безденежные. Уже упоминал я, что средняя зарплата в прошлом году была 340 тысяч рублей в месяц. Но это — средняя. От «уравниловки» в хозяйстве давно отказались. Оплата на всех участках сдельная, стимулирующая высокие результаты труда. Например, за январь 1996 года одной доярке начислено 550 тысяч рублей, а другой — 322 тысячи. То же — у телятниц, у скотников. Сколько надоил молока, сколько получил привеса — столько денег и получи. И зарплата руководителей всех рангов, специалистов напрямую зависит от результатов труда возглавляемых ими служб. Бригадир животноводов, к примеру, получает 1,7 среднего заработка своих подчиненных.
Но кроме зарплаты денежной работники хозяйства получают весомую прибавку в виде натуроплаты. 720 тонн зерна выдано в 1995 году. По ценам очень умеренным люди получили муку, капусту, помидоры, лук, подсолнечное масло, корма для личного скота. Выделялась земля для посадки картофеля, обрабатывалась, поливалась.
Если во многих хуторах и селах нынче закрываются детские сады, то в «Советском» в прошлом году построили еще один за свой счет. Обед в столовой в январе стоил 1.000 рублей. Работает Дом быта с парикмахерской, обувной и телемастерской. Клубная самодеятельность — одна из лучших в районе, участник и победитель многих областных и зональных конкурсов. Поют и пляшут не только взрослые, но и дети. Этим гордится Н.П.Мелихов, и его можно понять. Коллективное хозяйство, сохранившее за эти трудные годы не только производственную базу, землю, технику, но и социальную сферу, достойно уважения. Оно доказало свою жизнеспособность.
В нынешнем году наметили получить от реализации молока, зерна, овощей 6 миллиардов рублей. И это не пустые планы. Построили цех для охлаждения молока. А значит, за хорошую цену будут продавать молоко и летом. Смонтировали коптильную установку, чтобы и мясная продукция стала прибыльной. На овощных плантациях будут выращивать лишь то, что имеет цену и спрос. Расширятся площади под баклажанами, болгарским перцем. Томаты пойдут в основном на семена. Капуста выгодней поздняя, с закладкой на хранение, чтобы продать зимой, когда поднимутся цены. Появится засолочный цех, а значит — прибавка к доходам. И поиски новых покупателей, партнеров, новых возможностей.
— И подъем производства,— подчеркивает Н.П.Мелихов.— Непременно. С теми же людьми, на тех же площадях. Земли нам никто не прибавит. Резервы у коллективных хозяйств огромные. Простой пример. В этом году мы справились на уборке зерна и овощей своим автотранспортом, а прежде привлекали до ста машин со стороны. Люди должны быть материально заинтересованы: больше сделано, больше и получи. Нынче на закладке сенажа у нас зарабатывали до восьмидесяти тысяч рублей в день. За девять дней заложили сенаж. А лодырь останется без зарплаты. Пьянка, хищение тоже строго наказываются. Не директором, а всем коллективом.
Но под руководством директора ли, председателя, добавлю я. Потому что если доярка отвечает за своих коров, телятница — за телят, то председатель и за одних, и за других, и за третьих. Как глава большой колхозной семьи. За нынешний день и за завтрашний. Потому и идут в округе разговоры о строгости Н.П.Мелихова. Но когда я об этой строгости колхозников спрашивал, они отвечали одинаково: «Сейчас так и надо. Чем жестче, тем лучше. Иначе все развалится и все разворуют. Он жмет, но не пережимает».
У Н.П.Мелихова, как говорится, голова на плечах, а еще — немалый опыт: совсем недавно он руководил в Казахстане целым районом. Уехать оттуда пришлось по причинам всем известным. Который уже год бегут оттуда русские люди.
Так что «Советскому» очень повезло с руководителем. Но и это хозяйство — не сказочный остров посреди нынешнего шторма. Это скорее прочный корабль с хорошим капитаном, умелым, мудрым, в меру строгим. От времен нынешних, рыночных, Н.П.Мелихов не требует поблажек, но лишь честного партнерства: плати деньги за товар вовремя. Своевременные расчеты позволили бы «Советскому» и людям его сносно жить. На вчерашний, на сегодняшний доход в 200 ли, 500 миллионов рублей можно было бы обновить машинно-тракторный парк, строить, покупать удобрения. «Неплатежи» по-прежнему подтачивают колхозную экономику. Это опасно даже для прочного корабля.
«Советское» и его руководитель не требуют пустых «вливаний», но ищут партнерства. Целевой ли кредит, лизинг, по которому в нынешнем году покупают комплекс для уборки кормов за 700 миллионов рублей. Это не от жиру, это — для жизни.
На мой взгляд, коллективное хозяйство «Советское» умело и потому без особых потерь миновало тяжкие годы сельских перемен. Миновало и выжило, не утонув в долгах, не развалив производство, а, напротив, пусть понемногу, но наращивая его.
День завтрашний зависит не только от Н.П.Мелихова и его товарищей по труду. Не на острове они живут и работают, а в России, в году от рождения Христова 1996-м, к тому же и високосном.
Год високосный, по приметам, нелегок всегда. Нынче и вовсе доброго ждать не приходится. Теперь вот письмо пришло с хутора Большой Набатов. На этот хутор езжу я в пору летнюю, по суху и теплу. Хутор лежит возле Дона, хорошо здесь рыбачить. И речка Голубая петляет по балке. Помню, под вечер мы купались в ее теплых омутах. Рядом с нами — городские ребятишки-гости. Родители звали их. Пора было ехать в Волгоград, дорога туда — больше сотни верст. Со слезами детишки поехали. Потом уехал и я. А товарищ мой — Александр Адининцев — остался, он живет там, на родном хуторе, где родился. Он — старожил, но и новосел. Как и большинство его земляков, окончив школу, он уехал в Волгоград, получил специальность, работал, жил.
К возвращению стал готовиться задолго до пенсии: ремонтировал родительский дом, обложив его кирпичом, поставил летнюю кухню, гараж, сараи, пробил скважину для воды. В пятьдесят пять лет закончив путь трудовой, сначала он на хуторе лишь летовал, потом поселился окончательно, заведя хозяйство: корову (и не одну), кур, огород и прочее. Прошлым ли, позапрошлым летом помню разговор на его дворе о жизни сельской да городской.
— Все равно в городе легче,— настаивала его жена.— Уедем.
— Никуда не уедем,— махнул рукой Александр.— Лишь галдишь. Сама ведь хуторская…
Александр Адининцев, его возвращение на хутор родной — это сейчас не редкость. В том же Большом Набатове можно насчитать с десяток людей, которые приехали из райцентра, из города. Одни летом живут. Другие и на зиму остаются. Это и новые фермеры, и крепкие еще «молодые пенсионеры» в пятьдесят да шестьдесят лет. Прежний управляющий колхозным отделением в разговоре со мной назвал их как-то дачниками.
Но они вовсе не дачники, они — работники. У всех есть скот. И бывает голов до десяти. А это уже — великий труд. У всех у них — огороды, картофельники. Опять — труд. А кое у кого — земля. Например, у Лысенко, который живет рядом с Большим Набатовом, в Евлампиевском хуторе. Живут вдвоем с женой. Который уже год зимуют. Сеют, пашут, держат скотину, имея свою технику. В прошлом году купил в Набатове дом известный в округе Коньков, и тоже взял землю. Это — не говоруны, это — хозяева. Разные причины привели их сюда: трудности городской жизни; тяга к земле, к родине; стремление создать свое дело и заработать. Для многих и многих мест, для хуторов погибающих, при развале колхозной жизни эти люди — новая кровь и спасение.
Но вот письмо, которое нынешней зимой направил А.Адининцев, назвав его «Обращением к администраторам всех рангов». Его напечатала районная газета под рубрикой «Крик души».
Это истинный крик, истинная боль: «В хуторе Б-Набатов проживают более 120 жителей… разрушился клуб, закрыта школа и почтовое отделение… не доставляют газеты… магазин работает 2 раза в неделю и продают только хлеб… 2 месяца нет воды, прогнили трубы в водонапорной башне, за водой ходят на Дон или тают снег. 17 декабря погас свет и только 5 января зажегся…»
Прочитал я это письмо, решил ехать. Конечно, не «администратор» я, не начальник и вряд ли чем, кроме сочувствия, помогу. Но края-то родные. Поехал. В районном центре, в Калаче, попросил машину надежную — вездеход, чтобы пробиться в Набатов. До станицы Голубинской — асфальт, а дальше — снега. Нынче сыплет, метет.
В Большой Набатов мы не пробились. Мучились, мучились — и встали. Я вылез из машины и пошел пешком на гору. Дорога — сплошной снежный перемет. А в сторону шагнешь — вовсе по пояс. На гору все же поднялся. Где-то там, впереди, за немногими уже верстами, за двумя холмами, лежал Большой Набатов, в метели, в снежном плену, отрезанный от живого мира. «Да мы перемрем все, и никто не узнает»,— вспомнил я слова жителя хутора Большая Голубая. До того и вовсе — пятьдесят километров. А тут — почти рядом. Но доберись попробуй.
— Почту в Большой Набатов возить не будем,— сказали мне по телефону из районной почтовой связи.— До Голубинской довезем, а там — как знают…
— Хлеб возим и пока будем возить,— сказали в районной администрации.— Но у райпо за год триста миллионов рублей убытка от доставки хлеба на такие хутора. Новые коммерсанты туда ведь хлеб не повезут, невыгодно.
До Большого Набатова я не добрался. Вернулся в Калач, потом — в Волгоград. Теперь вот думаю, пишу. «Не дайте умереть хутору» — назвал свое обращение «к администраторам всех рангов» А.Адининцев.
Мое обращение не к властям, к хуторянам. К набатовским и малоголубинским, что на Дону, к вихляевским, к павловским, что на Бузулуке. У всех судьба одинаковая: «не дайте умереть».
Если говорить честно и прямо, то вы никому не нужны. И хоть перемрите вы в Большом Набатове, властям спокойнее будет. Вы ведь не стучите касками на площади возле Дома правительства в Москве. Не грозите заморозить города. Не останавливаете поезда и заводы. И уж тем более не захватываете родильные дома, больницы. И потому не к вам спешат высокие «согласительные комиссии» во главе с премьерами да вице-премьерами. И сотни миллиардов рублей, и десятки триллионов рублей, и теперь уже миллиарды долларов пойдут не вам. Хотя вы порою не три месяца, а три года не получаете копеечной зарплаты. И бесплатно порой отдаете мясо, молоко, а потом месяцами и годами выпрашиваете свои рубли. И ваши нужды порою горше шахтерской ли, другой иной. Но вы — крестьяне. В этом вся отгадка и весь ответ. Ваша судьба — крестьянская, она вековечна.
Вот выписка из записок княгини М.К.Тенишевой, 1916 год: «Твердые цены установили только на хлеб и на скот, т.е. на то, что крестьяне производят, а на то, что они покупают, нет твердых цен, и с них дерут за все три шкуры». Как видите, те же проблемы, для деревни — вечные.
Так что же вам делать? На мой взгляд, если честно и коротко — надеяться на себя, только на себя.
Вот хутор Большой Набатов. Колхоз ли, совхоз в нем развалился окончательно. Это вы знаете лучше меня. И теперь, если застрянет в снегах и не пройдет к вам сельповская машина с хлебом, поедет Лысенко на своем тракторе и привезет хлеб. И заболевшего в станицу или покойного на кладбище опять везти ему. Или Адининцеву — на «Ниве». Колхоз рухнул. Но вам — жить. До Москвы — далеко. Не приедут оттуда чинить водопровод. Ушел с хутора колхозный управляющий, с которого требовали: «Дай воду… Дай трактор…» Но ведь осталась сельская администрация, глава ее — в станице. И на хуторе должен быть староста ли, атаман. А кого выбрать — «пешку» или хозяина,— зависит от вас.
Когда ехал я в Большой Набатов, завернул в сельскую администрацию, к главе. «Поехали,— говорю,— в Набатов».— «Некогда»,— отказался он. Из разговоров с вами узнал я, что даже видите его редко. Значит, такого выбрали. Сейчас не те времена, когда из райкома «кота в мешке» привозят.
Нынешней осенью в Малоголубинском и в Голубинской рубили пойменный лес. Его и осталось-то с гулькин нос. Осокори, вербы — спасение нашего Дона и наша жизнь. Но валили, рубили. Сельская администрация или казачье правление хозяйничали? Ни одни, ни другие ни единого кустика в округе пока не вырастили. А рубить — мастера. И ведь рубили на глазах у станичников да хуторян. А те лишь охали: «Рубят! Рубят…» Рубили, везли мимо школы, которая нынче без дров. Вдове ветерана войны «расщедрились» — за 100 тысяч рублей продали пару лесин.
А ведь прежде, в настоящие казачьи времена, за такие дела пороли. Тогда если рубили сухостой или талы на плетни, то извещали всех и выезжали на рубку в один день и час. Это было — по-казачьи, по совести.
На хуторе, на селе, как никогда ранее, нужен сейчас настоящий глава ли администрации, атаман. Мудрый, совестливый и энергичный. Выбрать есть из кого. На селе — безработица. А толковыми людьми наша земля никогда не скудела.
Учительница из Малоголубинского вспоминала колхозного бригадира ее молодости — Митрофана Степановича Макеева.
— Он придет, поклонится мне,— говорит Галина Михайловна.— Мне, четырнадцатилетней соплюшке, в пояс кланяется, по батюшке величает: Михайловна, приди, пожалуйста, на уборке хлеба помоги. Да за одно такое обращение день и ночь будешь работать. Сноп пшеницы с поля привезет, говорит: «Женщины… глядите, какой хлеб уродился хороший. Давайте все вместе его убирать».
Как говорится, были люди. Но есть они и сейчас. Надо лишь выбирать по-настоящему, для своей, а не чужой жизни.
И, надеясь лишь на себя, объединившись вокруг хорошего старосты ли, атамана, многое можно сделать. А беды у всех общие.
Не только в Большом Набатове остались люди без воды. Был колхоз, он содержал хуторской водопровод. Нынче насос ли, электродвигатель — это миллионы, которых у нищего колхоза нет. Значит — забота общая: по дворам ли бурить скважины или заботиться о хуторской. Прежде ведь электрик включил насос и запил. Течет ли, сгорело — все на колхоз спишется. Теперь нет колхоза. Но остались люди, их жизнь.
В малоголубинскую школу дров не привезли. Кто виноват? Партократы или демократы? От нее же, от школы, украли два звена штакетника. А в Большой Голубой весь забор ночью от школы унесли. В Малоголубинской уволокли, явно трактором, тяжеленные лаги, приготовленные для мостика через ручей. Весной да осенью как теперь в школу детишки пойдут? А старые люди в магазин, за хлебом? Кто опять виноват? Государственная или областная Дума?
В старые годы хуторским атаманом в Большом Набатове был знаменитый Финака, полностью — Финоген. Он не кричал, не шумел, но власть его помнят и теперь, почти век спустя. Как он семьи мирил, как усмирял пьяниц, как следил за дорогами, водопоями, общественными попасами и сенокосами. Словом — хуторской атаман.
Вот и выберите себе, набатовцы и голубяне, нового Финаку. Посмотрите, каков он на своем дворе, в своей семье. Таким будет и в общем деле. И не ждите каких-то далеких сроков. Ваше дело отлагательств не терпит. Потому что сегодня вам хлеб еще возят, пусть два раза в неделю. Завтра могут не привезти. А ведь пекарни теперь, даже в райцентре, на каждом шагу. Может быть, Коньков что-нибудь придумает? Он ведь уже показал себя деловым человеком. Снабжал окрестные хутора мукой, керосином.
Надо думать о начальной школе. Без нее, рано ли, поздно, хутор вымрет. Закрыть школу районные власти в свое время сумели. Закрывать — дело нехитрое. А вот открыть обещают уже десятый год. За это время старая школа сгнила и клуб развалили. Сейчас в Набатове можно найти дом. Обычный дом для начальной школы. Ведь учеников немного. Нынче они лишь числятся в Голубинской школе. В своей, пусть неказистой, хоть читать да писать научатся. И за то слава богу. А то ведь уже на хуторе у молодых родителей получается враскорячку семейная жизнь: отец с хозяйством — здесь, мать с сынишкой — в городе, при школе. Надолго ли такое?
И, конечно, нужна дорога. Ведь до станичного асфальта — рукой подать. Про асфальт на Большую Голубую мечтать нынче бесполезно: пятьдесят верст. Малая Голубая и Набатов — с асфальтом рядом. Для этих хуторов, для их жителей — это дорога жизни. Всего десять — пятнадцать километров, но такие важные. За них надо бороться. Раньше это была обычная глубинка России, нынче — ее граница, передний край. Оставлять эти земли и воды преступно. Другого Тихого Дона у нас нет.
Итак, в Большой Набатов мы не добрались, застряли в снегах. Малоголубинский хутор миновали, полезли в гору, а там — ветер сильнее, заносы выше, пробивали их с разгону, один да другой. Но застряли, принялись откапываться, чтобы назад спуститься.
А внизу, в глубокой просторной балке, лежал хутор Малоголубинский в зимней тиши, в снегах. Рядом с дорогой — начальная школа. Туда я и пошел, когда в хутор вернулись.
Славная школа. Невеликая: сени, коридор да класс. Домашняя чистота и домашний уют. На стенах удивительные картины ли, изделия из обычных тыквенных, арбузных семечек, зеленых и желтых горошин, из птичьих перьев, из донских ракушек. Из всего обыденного — того, что рядом. Но фантазия учительницы, Галины Михайловны Будановой, и ее ребятишек превращает обыденность в красоту.
Здесь же, на стене, под заголовком: «Гордость школы» фотографии тех, кто когда-то учился здесь, а теперь — уже взрослый. Но для учительницы все они — гордость и радость: те, кто были, и те, кто сейчас за партами.
Кудрявый Дима Чекунов, которого родители в школу не пускали, говорили, что рано, а он просился, плакал. Теперь учится. А вот Володя — умница, смышленый мальчишка. Хотя от роду ему лишь восемь лет, но он эту школу, три класса ее, закончил и начал было учиться дальше, в станице. Но школьные интернаты теперь — в прошлом, школьные обеды и завтраки отменились. Поездил на машине месяц да другой, потрясся в ее кузове. В восемь утра уходит, к вечеру возвращается. Зима нынче суровая. В станичной школе холодно. А ведь он — малыш, хоть и светлая головка. Поглядели на него, повздыхали и решили: пусть снова идет в начальную школу, в родную свою, к Галине Михайловне.
Учатся. Двенадцать учеников. Из них — восемь ребят. Дима, Арслан, Володя, Казбек, Артем… Донские казаки, аварцы, лезгины — пока детвора.
— Примета есть, что, когда много мальчиков,— говорит учительница,— это плохой знак, к войне. А у меня их вон сколько… Не дай бог.
Все мы сейчас об одном думаем, в городах ли, на хуторах. У всех тревога на сердце. Но верю я: этих мальчишек минует судьба горькая. Не солдаты нужны этой земле, а добрые пахари, хозяева.
Снова вернусь к строкам «аграрников», к их «обращению к главе администрации области»:
«Общая задолженность предприятиям сельского хозяйства… на 01.12.1995 г. составила 1.160,3 млрд. рублей… 1,3 млн. гектаров не вспаханы… Растет падеж… вынуждены обратиться к Вам и попросить помощи для… спасения деревни».
И подписи: председатель Аграрного союза…
председатель обкома профсоюзов…
Все тут верно. Но есть и другая правда. Парчак, Штепо, Ляпин, Чичеров, Пономаревы не спасения просят, а земли. Двенадцать тысяч фермеров в Волгоградской области. Из них — целая тысяча уже крепко стоит на ногах. Спасать их уже не надо. Другое дело — не мешать и помочь, потому что пять лет — не возраст, а лишь начало.
Земли просит и коллективное хозяйство «Советское» во главе с Н.П.Мелиховым.
Земли. А воли, наверное, уже всем хватает.
февраль 1996 года
1997 год
«Новый Мир», №1
«Отцовский двор спокинул я...»
Проснется день…
Зима. Январь бредет к середине, но день еще прибывает скупо. Восемь часов утра, а в небе луна светит белой ледышкою. В глухой западной стороне — синяя тьма, желтеет и розовеет заря на востоке, поднимая день.
Снега. До самого Крещенья сыпало и мело. Хату занесло по окна, а глухую стену — вовсе до крыши. Так теплее. Но темно в доме, словно в берлоге.
Первым, впотьмах, чтобы не тревожить жену и внука, поднимается старый куряка Пономарь. Сунув ноги в сухие высокие валенки и накинув полушубок, он спешит на волю, дымит там, кашляет, глядит погоду.
Ластится к хозяину кудлатая большая овчарка Найда — последняя сторожиха. Тобика и Жучку — обычных дворовых шавок, заливистых, глупых,— тех волки унесли.
— Живая?— спрашивает хозяин.— Сторожишь или от волков хоронишься?
Найда молчит, она зря не лает, не визжит. Подойдет к хозяину, морду поднимет — значит, рада.
Слава богу, ночью не сыпало и не дуло, снег чистить нет нужды. Руки отваливаются грести его да кидать. Заборы перемело. По двору к сараям, к базам тянутся целые траншеи, широкие и узкие, где какая нужда. Но сегодня — тихо.
Первый поход из дома для Пономаря — недолгий: покурить, покашлять, поглядеть, все ли в порядке. И снова — под крышу, в тепло.
Вошел в дом, а навстречу, с кровати, кубарем, внук Сережа, младший Пономарь, глаза аж круглые:
— Не появился еще?!
— Кто?— будто не понял дед.
— Кто — кто… Мой жеребенок!
— Вроде нет.
— А ты и не глядел?
— Не слыхать… Пойдем корму задавать, разглядим до дела.
Мальчика подгонять не надо, он одевается быстро.
— Умойся,— напоминает бабка.
— Потом, когда завтракать,— отвечает внук и торопит деда: — Ты чего?.. Я уже оделся.
— Ты — молодой, вот и быстрый,— оправдывается дед.— А я — старый.
Мальчик не ждет его, он уже за порогом, в темном коридоре, потом на воле. И всякое утро встречает его, вскидываясь, и порой валит мохнатая Найда, норовя лизнуть горячим языком. Хоть и в привычку, но со сна это всегда неожиданно, когда валится на тебя пушистая громада и дышит жаром в лицо. Мальчик не обижается, лишь досадует:
— Погоди, игручая… Пошли поглядим.
И они спешат наперегонки к конюшне. Найда, большая и с виду будто неловкая, в шерсти словно овца, в два мягких прыжка поспевает. А потом ждет, потому что не умеет запор открыть.
Жеребенка опять нет. В теплой конюшенной тьме кобыла Дарья шумно вздыхает, словно винится перед мальчиком.
— Ладно…— говорит он.— Это лучше. Теплеет. А то приморозишь.
Услыхав человечий голос, гусак Василий гогочет и шумно бьет крылами за дощатой перегородкой. И сразу же, по соседству, курлычет индюк Игорь, названный мальчиком неспроста, а в честь старшего заносистого братца, который, слава богу, живет не здесь, а в городе, при отце с матерью.
Мальчик быстро отворяет лазы всей птице. И когда выходит из дома дед, крылатое воинство уже бушует на невеликой толоке, от снега расчищенной. С гоготом, распустив крыла, мчатся по кругу гуси. Индюк Игорь злится на них, багровеет, стращая, скрежещет жестяными крылами; услужливые индюшки поддакивают, заполошно курлыча: «Позор-позор… Какой позор…» А на всех вместе нагло орет рыжий петух Чубайс. Это не мальчик, это дед назвал, раз уж мода такая пошла. Петух молодой, но жилистый, настырный, двух старых забил. А уж горло — луженое. Дед назвал, и теперь, когда настоящего Чубайса по телевизору видели, радовались и говорили: «Наш…»
Бушует птица недолго. Мальчик приносит из амбара ведерко зерна и рассыпает его желтыми дорожками по снегу, а остатки — веером. И сразу — тишина. Лишь слышно, как прожористые утки стригут, словно ножницами, все подряд, со снегом. Да и гуси от них не отстанут. Порою птицы ссорятся. Но мальчик приносит еще ведерко. Хватает всем.
— Нет жеребенка,— сообщает мальчик деду.
— Нынче нет, значит, завтра будет. Никуда не денется.
Внук соглашается, со вздохом. Хочется поскорей.
Без лишних разговоров начинаются привычные дела. Дед, отворяя двери катухов, выпускает на выгульные базы, расчищенные от снега, летошних телок да бычков, коров, которые стоят отдельно. Скотина на волю не торопится. Старый Пономарь чистит ясли на базах и в стойлах, выбирая вилами объедья и подгребая роненое. Внук его, малый Пономарь, тащит легкие деревянные санки к гумну; но прежде отворяет козий катух и кличет:
— Лукашка, Микитка!
Из сумеречной тьмы стойла светят зеленые огни козьих глаз. Два малых козленка кидаются к молодому хозяину. Они уже слышали голос его и ждали и теперь с меканьем тычутся под ноги и убегают вперед, к гумну, к сену.
Сено — прессованное, в тюках. Мальчик наваливает тючок на санки и катит к деду. Свалил — и покатил за другим. А уж разваливать тюки, набивать сено в ясли — забота деда.
Прошла с подойником жена хозяина. Коров было немало. Но доили лишь трех, для себя. К остальным подпускали телят.
Неторопливо вершились всегдашние утренние заботы. День обещал быть безветренным, не больно холодным. Туманилось, на ветках деревьев — мохнатый иней-куржак. Солнце поднялось розовое и быстро остыло, освещая просторную степную округу: пологие холмы, крутые обрывы, разлатую речную долину, размах которой скрадывала снежная бель. Снег и снег, куда ни глянь,— до самого горизонта.
Лениво кружит в небе орлан-белохвост, ища ранней поживы. Снежная пустыня мертва. И птичий зоркий глаз с высокого поднебесья видит то же: на многие километры, на десятки верст — лишь снег и снег, белая степь и степь. По теклинам, в балках, в долине над речкой — черные деревья: тополя, вербы, дубки, груши по-зимнему голые. Маковки занесенных снегом тернов, шиповника, боярки. И на всем огромном белом просторе, который лишь ветру мерить, единое гнездо человечье. Под высоким холмом, в укрыве, и тоже в белом плену, но живое. Там шевелятся. Там есть пожива.
Первые утренние заботы не больно длинны: корма задать скотине, птице, свиньям — на базах, в закутах, в сараях. В четыре руки мужики управляются скоро. Потом уходят в дом, где уже горит печка, чайник кипит, сладко пахнет печеным. Это для внука бабка оладушков напекла. Он любит оладьи. С медом, со сметаной, с вареньем. Старый Пономарь поутру хлебает щи.
— Ты неправильно делаешь,— учит его внук.— Щи — это обед. На завтрак надо яичницу и оладьи.
— Это по-городскому…— оправдывается дед.— А я — колхозник. Мне горяченького похлебать. Так заведено.
— Ты не колхозник. Мы — фермеры,— поправляет его внук.
На воле — светло. В хате — свет электрический. Окошки малые, снегом заметены. Дед хлебает щи вяло. Бабка понукает его:
— Хлебай, хлебай. Может, оладушков покушаешь?
— Не хочу.
Он не больно хороший едок. Зато внук за двоих старается. Съел яичницу с двумя оранжевыми «глазками», а теперь с оладьями управляется: накладывает на масленый ноздреватый кругляш горку густой сметаны, ложкой ровняет ее, а сверху — варенье, яблочное, с твердыми дольками. Ест, жмурится, ему вкусно.
— Ты, дед, расти не будешь. Я тебя перегоню.
Бабка усмехается:
— Уже, считай, догнал.
— Правда? Сегодня будем меряться.
Это — забава занятная: стать с дедом спиной к спине и «меряться». Мальчику шесть лет, он — рослый. Деду подпирает к шестидесяти. Он не больно высок, ногами короток, телом еще силен, кубоват, горбится и гнется в пояснице. Когда они «меряются», мальчик тянется вверх, ему кажется, что очень скоро, вот-вот он деда догонит ростом.
Теперь — недосуг. Будь за столом один, старый Пономарь давно бы поднялся. Но он знает, что следом вскочит и внук. И потому ждет. Пусть ест мальчишка. Ему в радость еда и в пользу. Привезли его из города осенью, хворого, тощего. На глазах поправился. Подрос, лицо округлилось. Во всю щеку румянец горит на морозе. Любо глядеть. И все хвори пропали.
Глядя на внука, дед свои щеки потрогал, небритые.
— Побрейся,— сказала жена.— Прямо старец. Тем более на люди.
Возрастом она — с мужем вровень, хотя кажется много моложе: свежее лицом, телом пышнее. А муж ее — в недельной седой щетине, морщинистый.
— Ехать?— понял он жену.
— Без хлеба сидим.
За хлебом ездили на соседний хутор, за десять верст. Хоть и трактор в помощь, но — снега, метельные переметы. Не всякий раз проберешься. Да и привезут ли хлеб из станицы, с центральной усадьбы. Тоже — дорога неблизкая, без асфальта, снега, метель. Обязаны-то два раза в неделю возить. Но кто нынче кому обязан? А без хлеба нехорошо. Привыкли к хлебцу.
— Ладно, поеду.
— Ура! Поедем!— обрадовался внук.
— А ты при чем?— спросила бабка.— Без тебя никак?
— Без меня никак,— серьезно ответил внук.— Я — рулевой.
— Перевернетесь еще. Не давай ему руля.
— Ладно. Напоим — и поехали. А то расхватают.
Хлеба привозили немного. Припоздаешь — значит, прокатился зазря.
От базов и подворья до заметенной снегами речки путь недалекий. Не торная дорога — но снежная сакма, пробитая трактором да скотьими копытами. Коровы, бычки да телки идут не спеша; все, на подбор, черные тушистые «абердины», мохнатые, в шерсти, словно в шубе. Зима им — нипочем. За ними вослед тянутся овечки. Коз выпускают позже, они с меканьем мчатся вперед. Лезут на обочину, в снег, лишь бы раньше других поспеть. Такая у них натура.
Старый Пономарь с пешней и дырчатой лопатой ушел вперед, чтобы прочистить проруби и ледовый желоб. Молодой помощник позади скотины, с ним — Найда. Собака бросается в сторону, бороздя рыхлый снег, шумно нюхает, роется, вздымая снежную пыль. Порою она берет след и тогда глухо лает. Это след волчий.
Скотина идет неторопливо. Черная рать на белом снегу.
Скотина сама идет, ее уже подгонять не надо, но утренняя радость брызжет из детской души. Утро погожее, светит солнце, а впереди — дорога на большой хутор… Чем не жизнь. И как не запеть:
Проснется день красы моей,
Зарей раскрашен свет…
Это песня деда, любимая, тот ее не часто поет.
Я вижу горы — небеса…
Я вижу чудо — чудеса!
Везде большие чудеса!
Все вижу, вижу я!
А здесь уже дед ни при чем. Это мальчик сам сочинил, для себя, потому что у деда совсем иное. А по-своему лучше.
Везде большие чудеса!
Все вижу — вижу я!
Все вижу — вижу я!
Ар-ря! Ар-ря!
Ему нравится эта песня и этот клич.
— Ар-ря! Ар-ря! Бырь-бырь!— подает голос мальчик.
— Ар-р-ря!!— разносится звонкое над индевелыми старыми грушами, что тянутся по долине, отступая от речки далеко.
Здесь, меж пологих холмов, когда-то лежал немалый хутор. Он тянулся над речкой и под горою двумя порядками. Усадьбы стояли не теснясь, просторно. Базы, огороды, немереные левады, сады и даже свои родовые кладбища — все с размахом, чтобы хватало на жизнь и на смерть. А потом все не вдруг, но ушло: люди, дома, иные постройки — вся жизнь. От богатого былого хутора лишь память да два брошенных черных дома.
В пору летнюю еще можно сыскать старые фундаменты из дикого камня, заплывшие ямы погребов, желтые глинища на месте лепленых кухонь — знаки прошлой жизни. Лишь донские груши-дулины живут долгий век. Могучие дерева в безлюдье, в покое поднимают и ширят просторные кроны, словно храня до поры обжитое место. По осени, когда поспевают желтые «баргамоты», сочные «черномяски», «ильинки», в пору плодов, приезжают старые хуторяне, их наследники, собирая на своих усадьбах сладкую дань. Больше, конечно, для памяти. Новые насельники — чеченцы — порою пытались гнать их: «Это — наше…» — «Ваше знаете где?!— вскипала казачья кровь.— Ваше там, где вы сажали. А тута мой прадед…»
Потом, вослед за угасшим колхозом, с его отарами, гуртами, кормами, с волей на чужбинку, понемногу ушли и чеченцы. В последний перед окончательным опустением год, когда стали землю давать и разрешили вольно хозяйствовать, без колхозов, приехал и стал жить на хуторе старый Пономарь с женою. То было пять лет назад.
На речке, для водопоя, держали две проруби, прикрывая их камышовыми матами. В ледяные корыта вода шла своим ходом, лишь прочищай наледи.
Пока скотина не торопясь пила, успевали поднять и проверить два сетчатых вентеря. Попадались щурята, окуни, увесистые красноперки. На уху да малую жареху хватало.
— Геть, геть!— гнали скотину домой.— Ар-ря! Ар-ря! Бырь-бырь! Кызь-куда!
* * *
Синий трактор на высоких колесах быстро катил, оставляя четкие зубчатые следы. Дороги не было видно. За неделю все замело, сровняло. Белой скатертью лежит чистое поле.
На обратном пути мальчик будет рулить по проторенному следу. А сейчас лишь дед видит дорогу, по своим приметам. Он знает ее повороты, опасные места, промоины, в которые того и гляди сверзнешься, кувыркнешься. Дед знает, куда рулить. Трактор бежит и бежит. И вот уже позади замыло белью дом и высокие груши. Ничего не видать.
Если ехать так час и два, то можно добраться до центральной усадьбы, до станицы; а за три-четыре часа — до самого райцентра. До города на тракторе не доберешься, город — далеко. Там квартира мальчика, его родители, старший брат. Там — дома и дома, машины, троллейбусы, трамваи, много людей, толчея. А здесь — пустое белое поле, речка, занесенная снегом, по-над речкой — урема: голые деревья, кусты. Справа и слева, сторожа долину, вздымаются высокие курганы: Кораблев, похожий на корабль, островерхий Маяк, Трофеи, где можно и теперь отыскать оружие, мины, снаряды. На самом верху Трофеев — могила генерала, погибшего в войну.
Солнце стоит невысоко и светит холодной белью. Далеко все видать, да глядеть нечего: снег и снег.
— Вот он…— говорит дед.— Не спешит. Знает, что ружье забыли.
По обочине, впереди трактора, неторопливо бежит заяц, повиливая светлым «фонарем» похвостья. Потом он уходит к речке.
Далеко, в распахе долины, зачернелся лес. Там — большая река Дон. Там и хутор. Его высокие печные дымы видны издали. Но еще ехать и ехать, катить и катить, оставляя рубчатый след и спугивая с придорожных кустов боярки и шиповника стайки снегирей, свиристелей, щеглов. Иногда птицы не улетают. Придорожный куст словно цветет красными ягодами и алой, синей, розовой, желтой пестрядью птичьего оперенья.
Недалеко от хутора, под горою,— просторные скотьи строения: кирпичные, под шифером, с железными оградами базов. Они пустуют. Но там, возле ферм,— черная фигура человека. Он стоит, ожидая трактора. До хутора — шагать и шагать. Лучше подъехать.
С попутчиком в кабине становится тесно.
— Сторожуете?— спрашивает его дед.
— Сторожуем. Кинулись, когда окна-двери повынули.
— Шиферу много.
— И шифер уже снимают, стропила пошли…
— А вы для чего?
— Разве углядишь?!. Такую страсть понастроили.
— Старались…— вздыхает дед.
— Из города все возили,— вспоминает спутник.— До тебя еще. Везут и везут. Людей понагнали… Как в Китае… Комплекс будет, комплекс. Начальство приезжало, красную ленту резали. В газетах, по телевизору… И все прахом. Лишь тебе отдать.
— Нет,— отказывается дед.— Мне такого не надо. Тут целая фабрика, завод.
И верно, что фабрика: проплывают мимо кирпичные корпуса, один за другим. Словно город.
— За хлебом?— спрашивает попутчик.
— За ним.
— Должны привезти. Обещали.
У крайних домов хутора сторож выходит.
С бугра, сверху, в отвычку, таким огромным кажется хутор: дома, сараи, заборы; и все — рядом, тесно, даже в глазах рябит. И дорога пошла езжая. Трактор катит по ней легче, быстрее.
Большой кирпичный магазин с огромной стеной-витриной не работает, на замке. Хлебом торгуют прямо из машины, из дощатой будки. Но она еще не приехала.
Рядом с магазином — старая школа: дом без окон. Напротив школы, через улицу, живет человек знакомый, старого Пономаря приятель — Майор. «Пенсионер Министерства обороны!» — обычно представляется он. И одежда на нем всегда военная: зеленого цвета рубашка, брюки, зеленая теплая куртка и шапка с эмблемой.
Майор встречает гостей на улице, кричит мальчику:
— Здорово, земеля! Живой-крепкий?! Молодец!
«Земеля» — потому что у Майора квартира в городе, как и у мальчика, но живет он здесь.
— Какую я щуку поймал! Крокодил! Иди сюда!
В гараже Майора — куча мороженых окуней, щук, бершей, а отдельно — и впрямь не щука, а пятнистый крокодил с разинутой зубастой пастью.
— На жерлицу. Забирай. Бабка котлет накрутит. Вчера ходил, двух зайцев взял,— хвалится он старому Пономарю.— Одного — в садах, другого на Большом Демкине с лежки поднял.
Майор со старым Пономарем знаются с давних лет, они — земляки и почти одногодки. Правда, глядится Майор много моложе Пономаря: мордатенький, без морщин, как говорят, «в силах» мужик. И говорливый.
— Земеля, в дом заходи,— приглашает он мальчика.— А мы с дедом лишь глянем. Еще две у меня отелились,— сияет он радостью,— таких бычков принесли… Любо-дорого!
Они возвращаются в дом, когда мальчик уже разделся, сидит за столом, угощается ватрушками. На мужа хозяйка ворчит:
— Большая радость… Всю ночь в катухе просидел. Отелились, на мою голову. Куда их столько? Скоро в хату приведем коров и телят. Ничего мне не надо: ни кур, ни гусей, ни телят. Все брошу и уеду. Кохайся тут…
— Р-р-разговорчики в строю!— весело окорачивает ее муж.— Поднеси нам по рюмке за новорожденных. Под зайчатинку. Любишь зайчатинку, земеля? Не пробовал? Вот это дед у тебя, охотник называется. Сейчас отпробуешь.
Дом у Майора просторный. Не с печкой, а с водяным отоплением. На кухне — газовая плита. Окна большие, в комнатах светло и без электричества. Жена Майора, мужу под стать, глядится, словно сдобная пышка. Она приветлива, гостеприимна, скучает на хуторе, никак не привыкнет.
Пока греется на плите зайчатина, сообщают новость печальную:
— Бабу Мотю убили. Васька Курунин, Петра сынок. Денег не дала бабка на бутылку. Может, попугать хотел… Стрельнул через окошко — и конец.
— Уеду я, уеду…— говорит жена Майора.— Он же к нам приходил, тоже просил денег, но мы не дали. Петро на неделю уехал и всем наказал: денег не давайте. Он приходил, просил, мы проводили. А потом слышали выстрел. Как раз кино сели смотреть, слышали выстрел. Но плохого не подумали. Мало ли кто стрельнет. А уж на другой день к вечеру кинулись — бабки нет. То зайдет, или в окно ее видишь. Кинулись — окошко разбитое, и она лежит. Уеду, я сказала, уеду…— всхлипнула жена Майора.— Пристрелят тут, и никто не узнает. Будешь лежать.
— В городе быстрей прихлопнут,— хмыкнул муж.— Там мастеров…
Мужики выпили по рюмке, поспела зайчатина.
— Говоришь, волки…— оживился Майор.— Значит, надо устроить засаду. Приморозим дохлину, засядем…
— Сами приморозитесь,— встряла жена.— Как та дохлина.
— Нашла кого заморозить… Нет, мы их поучим.
Разговор старших об охоте да жалобы женщины быстро наскучили мальчику, тем более что вокруг лежал людный хутор.
— Пойди, земеля, побегай,— заметив его нетерпение, сказал Майор.— Хлебовозку увидишь, шуми. К Вьюркам сбегай, у них весело.
— Очень весело… Приходила нынче Вьюркова за солью. Жалится: плохо без колхоза. Раньше старших — в школьный интернат, на всю зиму, там их и одевают и кормят, голова не боли. А младшим — с фермы дробленки. Кашу на всю орду. А нынче — интерната нет, в школу не ездят, ферму закрыли, дробленки нет. Вот и плачет…
— Молодые, здоровые…— горько вздохнул Майор.— Мне бы их годы, полон двор бы скотины навел.
— Кто о чем…— укорила его супруга.
Но муж не слышал ее:
— Такие молодые… Сарай на дрова сожгли. Жалобы пишут Ельциной. Раньше Терешковой писали, нынче Ельциной… Грамотные. А работать не хотят. Колхоз кончился — по миру пошли… Где выпросят, где украдут. У тебя — быка, у меня телушку… Чечены… Сами стали хуже чеченов. Все прут.
Мальчик оставил старших с их разговорами и заботами и вышел во двор. К Вьюркам идти не хотелось. Там — все кричат, все орут, грязь и вонь. Он просто выбрался из дома и со двора, завернул за медпункт и с пригорка, от разбитого клуба, стал глядеть в ту сторону, где меж холмами, совсем недалеко, лежала тоже снежная бель, уже не земная. Это был Дон, большой и широкий, от меловых обрывистых круч на этом берегу до густого леса на том. Издали, даже через снежный покров, мальчик, казалось, видел прочный панцирь зеленоватого прозрачного льда, от берега к берегу. Под ледяной толщей — темная немереная глубь с рыбами. Не той мелочью, что попадается в вентеря на своей речке. Щука плывет, как бревно. Сомы — еще больше. Они уток живьем глотают. Придет лето, и они с дедом приедут сюда рыбачить. Возьмут у Майора лодку и поплывут. За Доном, в лесу,— глубокие озера. Теперь они тоже под снегом, под толстым льдом. В темной воде — рыбы, но другие. Мальчик видел их: больших золотистых карасей, дремлющих в зимнем покое.
— Сына…— окликнули его.— Моя сынушка… Ты либо первый за хлебом?
Очнувшись от грез, мальчик увидел старую женщину, укутанную в большой теплый платок.
— Первый. А за мной — Майор,— ответил он.
— Буду за вами. А привезут хлеб?— Женщина щурилась, разглядывая мальчика, а потом спросила: — Ты чей же будешь? Не угадаю?
— Борисов,— ответил мальчик свою фамилию.
— Борисы?.. Не накину умом…
— Мы живем на Теплом хуторе.
— Догнала, догнала… Пономаря внучок. За хлебом приехал? Волки вас там не поели?— серьезно спросила она.
— Нет. Они наших собак поели, Тобика и Жучку. Дед их пугает. Стрельнет, стрельнет, и они убегут. А на тот год у нас будут другие собаки, от Найды, большие. Они с волками сладят…
Понемногу стекался народ, занимая очередь. Потом пришла жена Майора с известием:
— Выехали из Малой Голубой. Хлеба везут много.
— Дал бы бог, доехали… Набраться бы… Надоели джуреки.
Когда синяя будка машины-хлебовозки показалась на холме, народ взволновался: стали делить хлеб, прикидывая, по сколько буханок давать в одни руки.
— Тот раз первые похватали, а картулевские припоздали и с таком ушли.
— Не будут дремать…
— Надо по норме: три буханки на руки, мало — становись снова в очередь.
— Будем кружиться, как овечки?
— Умом рухнулась. Три буханки. Мы за присест две съедаем.
— Тогда на вас пекарни не хватит. Свой хлеб заводи.
Машина подъехала. Выстроились в очередь, готовя мешки. Кричали:
— По три на руки!
— По пять!
— Вволю давайте!
— Не шумите! Всем хватит!— успокоил шофер.— Еще и назад повезу.
Он открыл двери будки, пахнуло хлебным духом. И хотя видел народ полные лотки, но ворчал, глядя, как старый Пономарь держит мешок, а в нем, как в прорве, пропадают за буханкой буханка:
— Восемь… десять…
— Хорош!
— Двенадцать, тринадцать…
— Все готовы сглонуть… Помещики… А с Картулей подъедут…
Старый Пономарь молчал. Майор заступился:
— Не шумите, человек издаля приехал.
Мешок хлеба набрали, отнесли в трактор. А пока то да се: с Майором и женою его прощались, забирали мороженую огромную щуку, которая в кабину не помещалась, пришлось ее сзади привязывать.
— Прибуду,— обещал Майор.— Днями прибуду. Устроим засаду. Всех выбьем. А потом гульнем, песняка поиграем. Верно, земеля?— подмигнул он мальчику.— Нашу сыграем. «Проснется день красы моей,— воздел он руку.— Ой-ды, просне… Ой-ды…»
Пока собирались, прощались, очередь у хлебовозки растаяла. Последние нагружались уже без крику и шуму, под завяз.
Старый Пономарь подъехал к хлебовозке, спросил:
— Еще дашь? Ко мне ребята надъезжают, Калмыков Алексей, Зимаков, какие в землянке живут, на Есауловском провале. Они просили…
— Забирай под гребло. Ждать никого не буду. Значит, им не надо, картулевским. Поднимется сипуга, застряну.
Начинало и впрямь понемногу мести. Ветер шел с Дона. По склонам холмов дымила низовая поземка.
Набрали еще мешок. Шофер попросил:
— Вы не спешите. Я поеду, погляди, пока я на бугор заберусь. Резина — лысая, цепей нет, гальмует. Застряну, а трактора где? Нету.
Он поехал. Синий фургон осторожно карабкался по белой горе и белой дороге. Синий трактор ждал, пока он взберется. Потом тронулись. В кабине сладко пахло хлебом.
— Бабка наша обрадуется,— сказал дед.— Да еще два письма везем.
— От кого?
— От твоих и от Маши.
— Дай поглядеть.
Дед хмыкнул и, вынув из кармана, подал ему два конверта. Мальчик повертел их, даже понюхал и вернул деду, сказав:
— Ладно, вечером прочитаем.
За хутором, на пробитой утренней колее, еще не заметенной поземкой, мальчик попросил:
— Дай порулить.
— Садись,— сказал дед.
Поменялись местами. Старый Пономарь помог выжать сцепление, а скорость мальчик сам включил. Покатили. Трактор шел мягко и споро. На прямой дороге не было нужды руль крутить. Но мальчик пробовал: туда да сюда. Трактор послушно вилял.
Небо понемногу затягивала непогода. Солнце глядело тусклей и тусклей, словно меркло. И округа: поле, холмы — все подвигалось ближе, смыкаясь с близкой далью и сизыми небесами.
Внезапно посыпал снег, крупными хлопьями и густой, что называется — стеновой. Не то что дороги, выхлопной трубы не видать, а она — за стеклом, перед носом. Остановились. Снег был недолгим. Словно разом рухнуло — и все. Обычный серый зимний денек: порхающий снег, дорога, белая долина, холмы, засыпанная снегом речка, черная чащоба деревьев.
Помаленьку доехали. После хутора, его домов и домов, обитель своя: невеликий флигелек, потонувший в снегу, базы да сараи занесенные, лишь крыши торчат,— все это показалось таким малым.
Но выбежала навстречу Найда, кинулась к трактору. Сразу хорошо на душе: домой приехали.
Хозяйка была хлебу очень рада.
— Молодцы… Какие молодцы…— хвалила и хвалила она.— Как удачно съездили. На морозе с ним ничего не сделается. Потом в полотенце и паром — как свежий будет. Немного сухариков посушим.
Она брала за буханкой буханку, выкладывая из мешка на стол. В электрическом свете буханки сияли золотистой солнечной желтизной. Хлеб в тепле согревался, наполняя дом сладостью и кислиной свежего печева. Хозяйка взяла нож и отрезала щедрую горбушку. Ноздреватая мякушка засветила, словно медовые соты, хлебный дух поплыл явственно и дразняще, щекотал ноздри.
— Мне горбушку,— попросил мальчик.
— И мне давай,— со вздохом сказал дед, усаживаясь к столу.
Взяли по ломтю и молча ели.
Соль и сахар, сметана и масло, варенье в баночке — все было на столе, под рукой, но ничего не тронули. Ели хлеб, наскучав по нему за неделю. Пышки, конечно, хороши, и оладьи — тоже, и блины, а хлеб все же лучше. Он сладко пахуч, и чуется языком и нёбом дрожжевая ли, хмельная кислина. Все в нем впору и в меру, не надо и сдабривать, тем более — свежий.
Как говорится, нйвидя, в охотку съели буханку.
— Разговелись,— сказала хозяйка.— Слава богу.
Разговелись и подались к делам привычным: хозяйка — в доме, мужики — на базах, у скотины. Чистили да вывозили навоз, стелили в стойлах. Вилы, скребки, лопаты… Деревянный короб на полозьях, навоз вывозить. Черный баз на задах. Гумно. Пахучая солома. Пшеничная — на подстилку. Сыпучая просяная — в ясли. Работали… Шустрые козлята, Лукашка с Никиткой, скачут рядом с мальчиком, под ноги суются, тычутся в руки горячими носами. «Кызь-куда!— окорачивает их молодой хозяин.— Все бы они игрались!» Козлята прыснули в сторону, тревожа гусей, которые дремлют, головы — под крыло. Лишь гусак Василий всегда настороже. Га-га-га…— упреждает он и норовит щипануть непоседливых. Индюк Игорь наливается злостью. Позор-позор… Позор-позор…— подзуживают индюшки. Натопырив жесткие крылья, индюк, словно броненосец, движется на козлят. Спасенье — возле молодого хозяина, который индюка не боится.
Свиной закут. Тяжелым хавроньям и хряку — зерна и воды. Бокастую жеребую кобылу Дарью — на баз, пусть промнется. Ее стойло мальчик чистит только сам, не доверяя деду. Дочиста выскреб и настелил ворох соломы, чуть не в пояс, чтобы жеребенку, коли появится он, было тепло и мягко. Дарье — сытного пойла из дома, хорошего сенца.
Кудлатая Найда что-то учуяла на черном базу, позади катухов, шумно нюхала, азартно гребла снег.
— Либо ночью лиса сюда приходила?— спросил старый Пономарь.— Слабину пытает.
По всему видать — рыжая. След и дух волчий собака встречала сдержанным глухим рыком, понимая серьезного зверя. С лисами Найда управлялась ловко: давила и рвала их. Лишь одну премудрую, видно старую, не могла взять. Та уже забиралась в курятник через крышу. Спасибо, петух Чубайс поднял крик, Найда успела на помощь. Лишь двух кур зарезала лиса и убежать успела. Спасибо, двух. У Майора — двадцать пять, всех, что были, вместе с петухом порезала, в кучу сложила и присыпала сверху соломой. У деда Вьючнова — тоже два десятка. Теперь, видно, сюда метила, к старому Пономарю.
— Гляди,— приказал Найде хозяин.— Бабка нам не простит.
Снежная зима. На десятки верст пустая округа. Глухие лесистые балки. Непролазные терны над речкой. Раздолье для зверя. Заячьи тропы. Мудреная вязь «петель». По красноталам — жировки. Лисьи «цепочки» там и здесь пересекают округу. В глубоком снегу нелегко мышковать.
Всем трудно. Волчий, будто бы одинокий, след возле жилья человечьего, скотьего вдруг распадается веером: один, два, три, четыре, пять, шесть. Волк с волчицей да «прибылые». Зимний быт нелегок для всех.
Прежде на каждом хуторе, на отлете,— молочные фермы, свинарники, гурты овец. Редким крапом по степи — чабанские «точки». Отары на Калиновом, на Фомин-колодце, на Хорошем, на Осиноголовском… В одном лишь колхозе — три десятка отар. И все не больно путевые. Одной дохлины всем хватало: и волкам, и лисам. А нынче — пустые кошары, базы. Лишь скотий дух, а им сыт не будешь. Зверю надо кормиться.
Прежде от охотников не было отбоя: свои, райцентровские, городские, начальство и простецкий люд. Брали красного зверя флажками, выгоняли из балок, делали засады на падаль, машинами гнали, расстреливали с вертолетов. Нынче все стало дорого и недоступно: охотничьи припасы, бензин — не по карману баловство. А уж вертолеты — тем более.
Вот и плодится зверь, смелеет. Глупых дворняжек уносит с порога, из конуры вынимает. Тобика с Жучкой волки утащили еще в начале зимы. Тут же, на бугре, разорвали, оставив лишь клочья рыжей да черной шерсти.
Умная Найда на стаю одна не пойдет. Она и ночует в старом курнике, возле хаты. Волков учуя, голос подает. Всякую ночь приходится выходить и стрелять. И, конечно, следить, чтобы крепки были запоры и заплоты.
Зимний быт — снега, метели, холод. Всем нелегко: людям и зверям.
Обедали. Тут уж ни деда, ни внука уговаривать не приходилось. Наперегон ели прозрачный крутой холодец, окисленный помидорным да огуречным рассолом, хлебали жирный борщ, принюхивались к тому, что шкворчит на плите, в чугунной жаровне.
— Утка?— отгадал внук.— Я люблю утку…
Лишь сама хозяйка-стряпушка, которая, как известно, «сыта с покушки», больше подкладывала, чем ела, про письма рассказывала, какие привезли.
— Отец с матерью пишут: может, скучает…
— Некогда нам скучать,— ответил внук ее же словами.
— Пишут, в сентябре в школу. Игорь будет готовить тебя…
— Какой Игорь? Индюк?
— При чем тут индюк? Брата забыл…
— А он тоже — индюк. Еще хуже нашего. Учитель нашелся. Только и знает, что в угол ставить.
— Какой ни есть, а брат родной, старший… И нельзя так.
Слова внука, пусть и не больно вежие, были по сердцу бабушке. Прожили вместе с осени, приросла душой. Каким привезли его: весь в хворях, синий, как снятое молоко. А нынче не дитё — а спель, лишь нажми — сок брызнет. И растет — на глазах. Не сглазить бы, тьфу-тьфу…
Отобедали. Дед отдыхал, отсыпаясь за неспокойную ночь. Мальчику времени и без того не хватало. До сна ли…
Из сарая дров привезти, готовясь ко дню следующему, сложить их в сенях. Проведать «детвору» — малых телят, которые до поры жили в «теплушке», невеликой мазаной хатке с печуркою — «грубкой». В холода «грубку» протапливали. Телят поили молоком, понемногу приучая и к сену, привязывая зеленые травяные веники. Душистый корм, едовый. Телята помаленьку хрумтели. Они были еще маленькие, тонконогие. Когда гладишь, то чуется непрочная детская плоть. Но росли быстро.
А еще нужно было покататься с горы. Сразу за гумном шел крутой подъем. Взобраться можно было высоко, а потом катиться. Не в санках. У них полозья проваливались. Катались в большом алюминиевом тазу. Мальчик и Найда. Собака любила эту забаву и помогала взбираться вверх по склону, легко волоча своего спутника, который цеплялся за ошейник.
На первый раз поднимались невысоко: в четверть ли, в полгоры. Садились. Мальчик, а потом — Найда.
Летели по накатанному желобу вниз. Собака порыкивала и, пугаясь ли, балуясь, выбрасывалась на ходу и мчалась вдогон с лаем. И снова лезли наверх. И наконец поднимались на самую вершину.
Внизу лежал дом, сараи, базы — все малое, все в снегу утонувшее. И насколько глаз хватало — все снег и снег. Если долго смотреть, то вдали начинало чудиться что-то не больно доброе. Темное пятно будто шевельнулось. Уж не волк ли?..
Сверху мальчик катил один. Глаза закрывались от снежного вихря. Гудело в ушах. А потом утишался бег, по ровному, все медленней, мимо гумна, до самой дороги. Найда глядела сверху, а потом мчалась к мальчику огромными прыжками. Она словно летела: прыжок — и лёт, прыжок — и снова лёт. И наконец догоняла.
Выходил после отдыха старый Пономарь. Снова начинали возить с гумна сено, солому для вечерней дачи. Кормили птицу, свиней. Помаленьку подступал вечер.
В дни пасмурные сумерки приходили скоро. Зато в дни ясные алое солнце садилось в розовые снега. И луна поднималась, словно яйцо пасхальное.
Всякий вечер, прежде чем в дом уйти, мальчик с дедом обходили живность, крепко запирая все стойла на ночь.
— Лукашка, Никитка, марш спать! Василий, ты — главный сторож. Гляди не засни.
О-го-го…— гордясь немалым доверием, отвечал из тьмы птичника гусак.
У кобылы Дарьи мальчик задерживался дольше. Он гладил ее по теплому бархатному боку, даже прикладывал к нему ухо, снимая шапку. Что-то урчало в просторном чреве кобылы.
— Ты поскорей,— говорил мальчик.— Я по нему соскучился. Да и ему там надоело. Тут лучше.
Во тьме конюшни мальчику виделся жеребенок, не настоящий, а зыбкий призрак. Чудо ли, сказка… Даже не верилось, что он будет настоящий, живой. А так хотелось.
Вечер собирал под одну крышу всех. Долгий вечер, неторопливый ужин, спокойные дела.
Не в пример скотьим катухам, загонам и базам жилье хозяйское было невелико: горенка да кухня. В первой — просторная кровать, малый диванчик, шкаф с одеждою да стол с телевизором и видеомагнитофоном. На кухне теснее, там — печка, стол обеденный, горка с посудой, у порога — одежда, да обувь, да всякая снасть хозяйская, которая нужна под рукой: подойник, молочные фляги, сепаратор, маслобойка. В углу — выгородка, где обсыхают новорожденные телята, козлята, ягнята.
На кухне же — яркая лампочка у потолка и рядом, в подмогу, лампа керосиновая. Здесь — теплая печка, сытый дух теста, еды, пряных и горьких трав, что пучками висят под низким потолком. Здесь все дела вечерние, мужичьи, бабьи: крутится колесо самопряхи, сучится нить, вяжется пуховый платок ли, надвязываются пятки драных шерстяных носков мужа и внука, подшиваются валенки да чирики и вполглаза, через широкий дверной проем, глядятся по телевизору новости. «Тропиканку» — долгий фильм с продолжением — хозяйка идет смотреть ближе к телевизору.
Мужики на кухне сидят. Дед греется у теплого бока печки. Без теплой одежды, он будто усыхает: костлявые плечи торчат, острые коленки. Он греется и что-нибудь ладит да чинит: худые валенки или карбюратор мотороллера «Муравей».
Нынче разложены на полу железки. Жена ворчит, а ведь надо. Скоро уж лето.
Мальчик у деда в помощниках. Помогает и торг ведет:
— За это ты научишь меня на мотороллере ездить. Ладно?
— Научишься. Дело нехитрое.
— Чтобы перевернулся…— осуждает из горницы бабка их планы.— Потакай ему.
— А в моем возрасте уже ездят на мотороллере,— сообщает внук.
«В твоем возрасте…» — обычная бабкина погонялка: «в твоем возрасте пора соображать», «в твоем возрасте люди уже…». Вот и пригодилось присловье.
— Дед в моем возрасте уже ездил.
— На быках,— отвечает бабка.— Цоб да цобе.
— Быки, они тоже транспортное средство,— усмехается дед.— Не всякий сладит. У нас, бывало, сеструшка Ганя…
За стенами дома, рядом со входом его, залаяла Найда и смолкла.
— Не волки?— спрашивает внук.
Каждый вечер стали приходить к дому, к усадьбе волки. Старый Пономарь отгоняет их выстрелом-другим из ружья. Но это еще не они.
— Лиса…— говорит дед.— Волкам рано. А вот раньше волчат прямо из нор брали. Я сам лазил. Как ты вот был. Степан с Осеем приметят нору с выводком. Приглядят, когда волчица уйдет, тогда идем туда. Меня за ноги привяжут, я лезу в нору.
— Прямо к волкам? Один?
— Братья большие, им не пролезть. А я — в самый раз. За ноги налыгачим — и полез. Длинная нора, да еще с отнорком. Ухватишь в обе руки и ногами дрыгаешь. Братья тянут. Отдашь и снова лезешь. Пока всех не заберешь. Надо лишь пораньше, пока они совсем малые. А побольше станут, черябают, кусают. Все руки погрызут.
— И ты не боялся?— спрашивает мальчик.
— Здоровые дураки, дитя засовывали,— из горницы осуждает бабка.— А если б волчица там? Враз бы голову откусила.
— Волчица за своих не кидается,— возражает ей дед.— Если видит, что берут, уходит и не подойдет. А за волчат хорошо платили. Либо по пятьдесят рублей, не упомню. Из России, из Тамбова, приезжал к нам человек каждую весну. Он по-волчьи умел подзывать.
Мальчик слушает дедовы сказки. Даже имена тогдашние, сестер, братьев деда, звучат таинственной музыкой: Ганя, Степан, Осей, Ефрем, Фотей, Федора.
— Малые волчата, лисята, их не отличишь. А подрастут — видно. А лисята людей не боятся. Матери нет, не прячутся, бегут, вроде играться хотят.
— И ко мне бы подошли, близко?— не верит внук.
— Прямо к ногам. Весна будет, логово рядом есть. Там всегда лисята. И мы, бывало…
От времен давних к сегодняшним возвращает своих мужиков хозяйка. Отглядев очередную серию «Тропиканки», она приходит на кухню, говорит задумчиво:
— Что у них, что у нас… Одинаково. Кому бабка Мотя мешала?— вспоминает она убитую в соседнем хуторе старуху.— Она же его нянчила. А он ее за бутылку застрелил. И вроде мальчишка неплохой, всегда здоровался. А такая страсть. И бабку погубил, и себя. Расстреляют?— спросила она мужа.
— Вряд ли,— ответил он.— Несовершеннолетний. Он же школу не кончил.
— Значит, в тюрьме сгниет. Вот и нажился. Ничего не видал. Растут дикашами,— горько сказала она.— Без школы… Шалаются…— Она вздохнула, пристально поглядела на внука, будто почудилось ей что-то неладное и в его судьбе, что-то не больно доброе. А потом продолжила уверенно: — Городские дети, для них — все. Им ума вкладают.
— По мусорным ящикам лазят да по подъездам, сама говорила,— напомнил внук бабкины же слова.
— А это уж кто как. Это от родителей зависит. В детские садики. Там — воспитатели, они плохому не научат.
— Позакрывались твои детские садики.
— Есть и открытые.
— А в тех дорого. Чем платить? Папин завод не работает. Вот так!— победно заключил мальчик. Он уже понимал, куда бабка гнет.
— Найдем деньги для родного внука.
— Детские садики твои…— не сдавался мальчик.— «В лесу родилась елочка… Разбейтесь по парам»,— передразнил он воспитательницу.— Вроде я — маленький.
— А то какой…
— Нет. Я — большой,— твердо ответил внук.— Я же не реву, когда ты меня по заднице хлыстанешь. Больно, но я терплю. Потому что я — казак.
Разговор становился серьезным. Недоброе крылось в бабкиных словах. Мальчик на деда поглядел, шагнул к нему.
— Казак, сынушка, казак…— успокоил его дед.
Мальчик сразу ободрился.
— В детсад…— повторил он немилые бабкины слова.— А кто будет сено на санках возить? А скотину гонять на речку? А за Никиткой, Лукашкой глядеть? Все — дед? Один дед, да?— гневно вопрошал он.— А дед уже старый. У него рука болит и спина. Я же тебе помогаю, деда? Ты же сам говорил, без меня как без рук?
— Помогаешь, сынушка, еще как помогаешь,— успокаивал мальчика дед и на жену поглядел выразительно: «Молчи».
И вдруг мальчику вспомнилось главное — его жеребенок, который вот-вот на свет появится. Расстаться и не увидеть… Это было так обидно и больно — выше сил. Мальчик побледнел.
— А жеребенок…— прошептал он.— А он… А я…
Дед понял, положил на плечо мальчику руку.
— Не бери всерьез,— сказал он.— Бабаня шуткует.— И чувствуя, как бьет тело мальчика нешуточная дрожь, стал говорить: — Нам без тебя — никак. А весной — тем более. Скотину приглядишь, сеять поможешь. Воду подвезть, семена. Лошадку запрягем, и пошло дело. А уж косить начнем, там и вовсе. Траву ворочать, сушить. Тюки возить, скидывать,— считал и считал он будущие труды.— А на бабкиной плантации кто помогать будет? А новый баз ставить?
Чем больше он находил дел, тем спокойнее становилось у мальчика на сердце. И бабушка уже глядела с улыбкой на своего помощника и дедовы слова подтверждала, сдаваясь: «Без тебя как без рук», но с горечью понимая, что жизнь все расставит. Скоро, скоро с внуком придет пора расставаться: в школу пойдет — и все. И быстро забудет хутор. А они опять останутся вдвоем, одиноко. Особенно по времени теплому, когда надо бороновать да сеять, сено косить, хлеб убирать, пахать, снова сеять. На заре муж поднимется — и нет его. Целый день одна. В стенах ли дома, на базах у скотины да птицы, на огородах. Одна и одна. Не с кем перекинуться словом. Муж подъехал в обед, поел и снова уехал. И опять — одна, теперь уж до ночи. На подворье еще можно собаке, курам что-то сказать. А в огороды уйдешь — там вовсе. Рыхлишь ли, пропалываешь… Разогнешься, глядишь — зеленая пустыня вокруг. Все молчит. И близко, и далеко. Ряды за рядами: белесая капуста, сизый лук, темная зелень картошки, помидорные гряды, по берегу речки — вербы, за ними — холмы, степь, а выше — небо. И все молчит. Лишь редких птиц голоса. Просвистит иволга в вербах и смолкнет, прилетит горлица и будет стонать и стонать. Трактор мужа где-то гудит далеко. Порою такая находит тоска: работаешь — и слезы льются. Начинаешь вслух мужа корить, далеких детей: «Бессовестные… Хоть бы приехали, поглядели… Подохнешь тут, и никто не узнает…» Кто бы послушал, сказал бы: с ума сошла.
Так что внук хоть и малый, а великая радость, душе подмога. Нет нужды с фотокарточками говорить. Но скоро заберут его. Была бы школа. Мальчику нравится тут. А в городе нынче радости мало. Работы нет, получают копейки. Привезли его — глядеть тошно. А здесь окреп, вырос. Была бы школа поближе. До станицы — далеко.
— Школу не надумали открывать?— спросила она у мужа.
Который уже год шли разговоры про начальную школу. Прежде колхоз возил ребятишек на центральную усадьбу всякий день. Нынче все кончилось: колхоз, его автобус. Кто ушел на квартиры, а кто и дома сидит.
— Не было про это разговору,— ответил ей муж.— Какие раньше были школы… Что у них, что у нас. Да наша еще лучше.
Он помнил. Как не помнить ее… Деревянной постройки, с большими окнами, на высоком фундаменте, школа стояла на въезде в хутор, с левой руки, под бугром. С высокого крыльца ее весь хутор видать. Два учителя, муж с женой: Иван Павлович, Мария Васильевна. Он — фронтовик, капитан, на аккордеоне хорошо играл. Аккордеон — трофейный немецкий красавец с перламутровыми клавишами. Сядет в коридоре, играет. Все слушают.
— Где-то фотокарточка есть,— сказал старый Пономарь.— Возле школы снимались.
— Покажи… Где? Давай я найду… Я знаю…
Мальчик кинулся в горницу, принес старый школьный портфель, в котором хранили фотографии. И вот они легли грудой и веером на кухонный стол: годы прошлые, давние и нынешняя пора, где дети и внуки, их жизнь. Милые карапузы, школьники, свадебные пары. Милые лица, цветные снимки. А вот это снял заезжий фотограф из райцентра: хуторская школа, крыльцо ее, Иван Павлович с аккордеоном, Мария Павловна, ребятишки.
— А где ты? Ты где, дед? А где бабушка?
Ребятишки. Крыльцо. Колодец с «журавцом». Деревья. А дальше — дома, крыши.
Надев очки и с трудом сыскав, он показал внуку себя, лупоглазого. А потом стал глядеть на снимок уже без очков, которые будто мешали. Он глядел, щурился, лица расплывались. Но виделось ему много больше, чем уместил снимок. Весь хутор. Дома и дома. Народ и народ родной. Люди, которых нынче уж нет: мать, крестные, дядья, тетки, соседи. Длинные хуторские «порядки» ли, улицы, колхозное правление, клуб с кино и танцами, председатель в тачанке, амбары, хлебные тока с бунтами и бунтами хлеба, быки с арбами, прицепные комбайны «Сталинец», тракторы «СТЗ-Нати», покосы на Змеином рыну, на Таловом, бахчи на Чиганаках, молочная ферма, конеферма, свинарник, птичник — везде люди и люди, народ и народ. С утра до ночи. Зимою и летом.
И куда все это делось, ушло?.. Целый хутор словно уплыл вешней водой. Лишь одна хата за бугор зацепилась.
Фотографии посмотрели, вздыхая о старине и о нынешнем. В тесном домике, под низкою крышей стало как-то невесело. Жена сказала: «Сыграл бы, что ли…» Внук мигом принес из горницы гармошку.
Хозяин взял в руки свою облезлую трехрядку, усмехаясь, вздыхал: «Где наши годы…» А потом заиграл, клоня голову, слушая и будто сам удивляясь: как могли его большие, изломанные долгой работой руки, его пальцы — эти узловатые корявые корневища, как могли они… Они ведь и не гнулись почти. Лопату, топор еще держали, а что помельче — даже ложку и ту с трудом. Казалось, что меха растянуть — еще ладно, получится, а вот отыскать на планках малые кнопочки, нажать нужную, сделать «перебор», легонько пробегая снизу доверху, и не сбиться…
Но молодели пальцы ли, душа. Всякий раз, склонившись над мехами, старый Пономарь ничего не видел и ни о чем не думал: сможет, не сможет. И свершалось чудо. Гармошка играла. Нежные певучие звуки ладно сходились и звучали порознь. Музыка, простая музыка, брала за душу, тревожа да радуя,— на то была гармониста воля.
«Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь…»
Фотокарточка тому виной, разговоры, память или музыка «Снова замерло все…». И он идет по уснувшему хутору во главе молодой гурьбы, из конца в конец. «Может, радость моя недалеко…» Гурьба редеет. Проулки, левады, укромные места… Отстают и пропадают во тьме парочки. Глохнут шаги их. И вот уже остались вдвоем. Смолкла гармонь. Молчит летняя ночь. Не надо ни слов, ни музыки. Старый Пономарь смотрит на жену свою. Господи, как недавно все было и как памятно. Только плакать не надо. И, резко меняя напев, гармошка к иному кличет:
Не играй, милый, в гармошку,
Холодно твоим рукам.
Подойди к мому окошку,
Я перчаточки подам.
Не умеешь припевать,
Не берись подсказывать.
Твоим длинным языком
Трактора подмазывать.
На такой призыв обычно откликаются даже козлята за выгородкой, в углу. Заслышав музыку, они стучат по полу копытцами, словно каблуками.
Гармошка играла, пока на воле не залаяла Найда. Теперь это был именно тот лай, которого ждали. Оставив гармошку и взяв ружье, старый Пономарь вышел на волю. Собака стояла у порога и лаяла редко, со сдержанным рыком. Услышав подле себя хозяина, она посунулась вперед, словно показала в сторону огородной калитки и тьмы за ней. Хозяин шагнул туда, поднял ружье и стал вглядываться, пытаясь найти зеленые огни волчьих глаз. Их не было. Тогда он стрельнул во тьму и прислушался, силясь поймать шорох убегавшего зверя. Но такое было лишь в пору снежного наста да гололеда. А теперь — тишь. Он стрельнул еще раз в ту сторону, куда обычно уходили волки,— в пологий распадок.
Внук выскочил в коридор.
— Ты попал? Попал? Пошли поглядим, может, попал.
— Попал. Помирать побежали.
Он вошел в дом, оделся, зажег фонарь. Конечно, не убитого зверя шел он искать, а обойти последним дозором хозяйство, осмотреть запоры. Теперь уже до утра.
А пока он ходил, мальчик, как обычно, ложился спать. Он засыпал быстро, но старался дождаться деда. Не волки ему были нужны, к ним привык. Если дожидался, то спрашивал в полусне:
— Нет еще?
— Нету. Спи.
— Может, завтра?
— Может, и завтра.
Мальчик ждал жеребенка.
Бабка сходила в горницу, поглядела на внука, вернувшись, сказала с улыбкой:
— Спит наша краса, ни о чем не горится. Дитё есть дитё… А учить все равно надо,— добавила она со вздохом.— Никуда не денешься.
— Может, откроют школу. Детей много.
— Это не учеба…
Замолчали. Старый Пономарь вспомнил о горьком:
— Мы своих разве не учили? Все кинули ради этой учебы. Учитесь, детки, набирайтесь ума. Либо забыла?..
Она не забыла, как уходили с этого хутора, еще живого и людного, в тот год, когда власти закрыли хуторскую школу. Тогда у них дом был — не чета нынешнему: пятистенок, рубленный из пластин, под железной крышей, а какие скотьи постройки, базы… Какая усадьба была! Но школа закрылась, и потек народ с хутора. Ушли и они в райцентр, все бросили. Сами — темные, детям хотели судьбы.
— Либо не учили?— повторил старый Пономарь.— Все — на мыльный пузырь. Какой прок от ихней учебы, от институтов?
— Жизнь такая пошла,— ответила жена.— Разве не видишь! Везде так. Не нужны инженера, доктора…
— К ней надо применяться, к жизни, а не сидеть как врытый. Я бы тоже сел и сидел, не дюже пекло: квартира есть, дача есть. Работы у всех нет. Мы же рискнули. Кидали умом, кидали, а все же решились.
Тогда, пять лет назад, когда землю стали давать, а в райцентре, где жили они, с работой, с зарплатами стало худо, старый Пономарь не вдруг, но решился на перемену судьбы. Жену уговорил. Тем более братья обещали поддержать его. Три дома, три последних подворья стояли еще на родном хуторе. Как раз для трех братьев. Силы еще были у всех, и дело привычное: пахать, сеять, скотину водить. Конечно, надеялся на братьев. Одному — трудно. Потом уже отступать было поздно: кредит в банке взял, купил технику, скот на обзаведенье.
— Возле собеса лучше сидеть с протянутой рукой?— спросил он жену.— Властя ругать, последнюю копейку учитывать хорошо на старости лет? Нет,— ответил он сам себе.— Слава богу, сыты, одеты-обуты, никому не должны. Живем да еще и другим помогаем. А работа, чего ее считать, век работали. Так и помрем.
— Работа, ладно. Живем как бирюки…
— Будут люди,— твердо ответил старый Пономарь.— Придут. Сколь нынче бездомных, сколь без работы. Все равно придут. Места у нас вольные. Жили век. Работали, жили… Есть что вспомянуть. С малых лет так. И теперь уж до смерти. Слава богу, здесь, не в чужом краю помирать придется.
И, чужой край вспомянув, он снова гармошку взял, потихоньку, еле трогая кнопки, запел:
Проснется день красы моей,
Зарей раскрашен свет.
Я вижу горы, небеса,
А родины тут нет.
Песня была старинная. Покойница мать рассказывала, что отец эту песню пел, а может, сам и придумал, когда их раскулачили и увезли в края северные. Все забрали, все отняли, гнали пешком до станицы, оттуда до станции, потом повезли в вагонах. И оказались в краях чужих, далеких. И будто приладились там. Но тосковали. Мать вспоминала: отец эту песню пел и плакал.
Заноет сердце, загрустит:
Не быть, не жить мне в том…
Не быть, не жить мне в том краю,
В котором я рожден.
А быть и жить мне в том краю,
В котором осужден.
Отцовский двор спокинул я…
Отец пел эту песню, плакал и однажды умер, не допев. Там его и схоронили, в холодной земле. И мать тогда же, в войну, никого не спросясь, вернулась сюда, на хутор, с детьми. Ведь все равно погибать. Она вернулась, и ее не тронули. Хутор был еще людный. Колхоз Буденного. Старики, бабы, детишки. Война. Немцев только прогнали. Хатенку слепили. Никто не тронул. Тем более Степан, да Осей, да Ганя начали работать. Старый Пономарь хоть и маленький был, но помнит сладкую печеную тыкву, какой угощали его, да сладкие пышки из сухого паслена. Не дали помереть.
Стали жить. А потом понемногу строились. Росли друг за другом: Степан, Ганя, Осей, Ефрем, Фотей, Федора…
А вот когда пять лет назад старый Пономарь в другой раз сюда вернулся, то — словно в пустыню. Все — гольная правда в словах песни:
Отцовский двор спокинул я,
Травою зарощен.
И он травой, он муравой,
Он белым горьким полыном,
Он горьким,
горьким полыном,
Родной мой, зарощен,
Родной двор зарощен.
Недаром отец плакал и умер, не допев. А нынче старый Пономарь пел, но слез не было. Жена сидела рядом, внук посапывал за перегородкой. Что-то снилось ему, наверное, жеребенок. В хате было тепло, пахло хлебом, которого, слава богу, привезли нынче.
Старый Пономарь поднялся, положил гармошку.
— Пойду покурю,— сказал он,— да и спать.
— Оденься да застегнись хорошо,— напомнила жена.
Она тоже поднялась. Надо было стелить постель.
Старый Пономарь вышел во двор. Найда подошла, села рядом. Небо лежало чистое, большое и все в звездах. Округа — в зимнем покое. Ночная тишь. Но этот покой был не кладбищенский, мертвый, в котором душе невольно становится страшно, а живой: рядом тепло дышала скотина. В скотьих стойлах, во тьме,— живые звуки: шуршанье соломы, вздохи, хруст сена. Под снегом, в полях,— живые озими. В лугах, тоже в тепле, под снегом, ожидали весны корни и семена трав. Весной они вырастут. Старый Пономарь любил пору весны, молодого лета, сенокос. Конечно, нелегкое время, но как-то душа радуется: сочная зелень, яркий цвет, медовый дух, терпкость травного сока, аромат свежего сена. Он и сейчас кружил голову, когда вспомнил.
Такую же славную пору, но только явно, во сне, видел внук его. Мальчику снилось, что скачет он на своем жеребенке по сияющей цветущей земле. Стелются под копытами красного жеребенка алые тюльпаны-лазорики, золотые облачка медуницы, высокий пахучий донник, звездные россыпи зверобоя… И какие-то еще цветы и травы, волшебные, радужные. Только горькой полыни нет под копытами жеребенка. Она — лишь в прадедовской песне да в жизни. А в детских снах не бывает горечи.
Похороны
Обычно на поминках, родного человека схоронив, его близкие невольно, но чувствуют облегчение.
Позади долгие ли, короткие дни болезни, смерть, трехсуточное бдение, хлопоты, потом — кладбище, горькое прощание. На поминках будто все отгорает, притупляется боль. И, оглядывая людей, стол поминальный, близкие думают уже о том, что, слава богу, все обошлось по-хорошему: как положено покойника обрядили и обед поминальный удался — не в чем себя упрекнуть.
Не так получилось на хуторе Малый Колодезь, в доме старой Дизелихи, умершей три дня назад в такой же, как нынче, январский метельный день.
Поминальный стол устроили в горнице. С кухни, от печи Дизелихины дочери носили тарелки с борщом, роняя в горячее варево слезы. За столом, даже после второй рюмки, ели молчаком, вздыхая, и быстро разошлись, оставив в доме двух дочерей старой Дизелихи, тоже немолодых, вдовых, да соседа, мужика по кличке Гулый, не больно путевого, хотя все вроде было при нем: руки-ноги. Но вот прилипло еще смолоду — Гулый. Значит, с изъяном.
По-зимнему, по-ненастному быстро стемнело. В низкой хате весь день горел свет. По окнам шуршала метель. Последними уходили свои да родные, дочерей покойной успокаивая: «Не переживайте… Завтра, завтра уж…»
В доме — лишь дочери да Гулый. Он выпил и тоже говорил:
— Завтра… Завтра с утра лично сам пойду в Большой Колодезь прямо к утреннему наряду. Бульдозер на ходу. Дадут. Гарантия. Дело такое — похороны. Тем более — почетная колхозница. Лишь скажи — Дизелиха. Дадут, никаких разговоров. Наряд — в восемь. Председатель к сроку приходит, и я — как штык. Пригоню, схороним как положено. А вас никто не осудит. Стихея. Погода разорилась.
Пожилые, но еще крепкие дочери Дизелихи, похожие на покойную мать — приземистые, широкие в кости,— мыли посуду, слушали и вздыхали, не держали слез: «Да как же она одна… В степи…» Гулый возле них кружился, выходил на улицу курить и возвращался с известием:
— Метет. Но вы не горюйте. Вашей вины нет. Завтра в шесть часов.— Он добавлял поминальную чарку-другую, особо не пьянел, лишь говорил больше: — Схороним. Такого человека не схоронить… И не ревите, не горьтесь. Стихея. С Богом не будешь судиться.
Старая Дизелиха померла три дня назад, прожив на белом свете восемьдесят лет и три года. Умерла она легко, считай, в одночас, не болея. А вот с похоронами получилось неладно.
Нынче, как и положено, во второй половине дня повезли покойную на кладбище, но схоронить не сумели. Всю неделю сыпал и сыпал снег, мело. А кладбище лежало от хутора на отлете, да еще на бугре. Трактор «Беларусь» с тележкой, на которой гроб везли, лишь съехал с асфальтовой дороги — и застрял. Бился, бился и сполз в кювет, вовсе зарываясь в снегу. Пригнали еще один трактор-колесник, но к кладбищу так и не пробились. А гусеничные тракторы да «Кировцы» — техника могучая нынче только на центральной усадьбе, в Большом Колодезе, за пятнадцать верст. Темнело. Поднимался буран. Назад же, к дому, покойника везти не положено: грех и примета дурная. Пришлось оставить гроб там, где застряли: на окраине хутора, в тракторной тележке, в придорожном сугробе.
Оставили. А поминальный обед прел на печи: борщ да мясо с картошкой, пышки с каймаком, сладкий взвар. Хочешь не хочешь, а надо поминать.
— Слезы не точите,— твердо говорил Гулый сестрам.— Утром пойду к наряду и трактор пригоню.
На воле мело, секло по окнам, гудело в трубе.
Ой да горькая наша мамушка,
Ой да как же ты там одна лежишь,
Посреди степи, посреди пурги…—
запричитала одна из сестер, а следом заревела в голос другая:
Ой да родная ты наша кровиночка…
Пожилые, седые, морщинистые, они сели на скамейку возле окна, глядели во тьму, в снежную невидь и голосили:
Ой да обрядили тебя в тонкую рубашечку,
Да одели тебя в легкую платьицу,
Да положили тебя в холодную кроватушку,
Думали, будешь в могилке ночь ночевать,
Там укроет тебя родная земелюшка,
Укроет земелюшка, да пуховый снежок укутает…
А получилось-то не по-нашему…
Не по-нашему, не по-доброму.
Ты лежишь одна, всем открытая,
И лихим людям, и диким зверям…
— Какие еще звери?— не выдержал Гулый.
— Да ныне люди хуже зверей. Пьяный какой дурак.
— И волков много. Прыгнет в тележку.
— Крышку хорошо прихватили,— успокоил Гулый.— Не скинет.
— Не скинет, а будет сидеть. Грызть зачнет. У них зубищи-то…
Слезы полились в четыре ручья.
Ой ты горькая наша жалюшка…
— Не ревите… Ради Христа…— сказал Гулый.— Пойду и погляжу. Попроведаю. Ружье возьму и пойду.
Ружье у него и вправду было. Зайцев стрелял.
— Заблудишься…
— Ну да… Либо лес густой?..
Одевшись по-зимнему — валенки, телогрейка да ватные штаны — и выйдя на волю, Гулый особого холода не почуял. Ветер мягко толкал в спину. Перед глазами — сплошная белая муть земли и неба. Шуршит и шуршит снег. Повернешься — сечет лицо. Дорога заметена в колено. Близкие хуторские дома еще видны серыми тенями. Ветер гудит в деревьях.
На хуторском магазине, над входом, тускло горит фонарь. Словно бабочки на огонь, на фонарь и мимо несется нескончаемый белый рой. С крыши метет, раз за разом обрушивая волны снега. За магазином два дома брезжат тусклыми, красноватыми зрачками. Дальше — степь. Дальше — белая муть. И ничего кроме.
Ветер мягко толкает в спину, словно гонит. Лишь ноги переставляй. Телеграфные столбы вдоль дороги еле видны. А холода нет, его не чуешь.
Тракторную тележку с гробом Гулый пропустил, не заметив ее. Загудел и завыл ветер в придорожной лесополосе. А значит, дорога к кладбищу мимо прошла. Пришлось повернуть назад.
И вот тут он почуял метель, а скорее — буран. Именно почуял, потому что видеть, глядеть было нельзя. Вихристый ветер резкими снеговыми порывами больно сек лицо, забивая глаза словно мокрой порошью. Лицо разом дубенело, ресницы смерзлись. Дышать было трудно и больно, летучий снег забивал дыхание. И, десяток шагов не пройдя, Гулый повернулся к ветру спиной, чтобы продышаться и отдохнуть. Лицо горело. Ресницы пришлось раздирать, снимая наледь.
Отдышавшись, он снова пошел, но теперь уже пробирался навстречу бурану задом да боком, прикрывая лицо рукавом, чтобы дышать и видеть.
На тележку с гробом Гулый наткнулся. С наветренной стороны ее уже занесло по самый борт мягким, сыпучим снегом. Немудрено, что не заметил ее.
Но все было на месте: закрытый гроб, деревянный крест.
Гулый забрался в тележку, присел под бортом, в затишке, не сразу, но прикурил.
И, дымнув, спросил со вздохом:
— Лежишь, Матвеевна?
Под ветром, в теплой одежде, сидеть было вовсе не холодно. Тем более с цигаркой, которая грела нутро, да еще с легким хмелем в голове и теле.
— Лежишь… Ничего тебе не надо.
Гулый глядел на занесенный снегом гроб, а видел покойную, которую знал всю жизнь. Она была обряжена в смертную одежду: темное, в мелкий цветочек платье, ненадеванный новый платок. И лежала руки сложив. А всю жизнь была на ногах, бегучая, могутная баба.
Прозвище свое Дизелиха получила давно, после войны. Как-то мазала она колхозный коровник. Подъехал на бричке председатель с проверкой. Поглядел, как работает. С маху могучими руками вбивала она в обрешетку стены куски мокрой глины, промешанной с навозом и соломой. Кусок за куском, шматок за шматком. И каждый — в полпуда.
Только слышалось глухое: бух-бух! бух-бух! Большие руки сновали, словно маховики. Бух-бух! Бух-бух!
— Не баба, а дизель!— восхитился председатель.
Кличка прилипла.
Она и впрямь была словно не человек, а машина. Добрые люди от работы устают, отдыхают, особенно жаркой летней порой. Кислый ирян пьют, пережидают в тени зной полдневный. Дизелиха никаких передыхов да перекуров не ведала. Она сидела лишь зимой, за прялкой и вязаньем. А в теплую пору от утренней зари дотемна, да еще в потемках, знала лишь перемену работы: колхозная да своя, своя да колхозная. Копала ли землю, косила траву, скирдовала солому, доила коров, кормила их, чистила базы, мазала к зиме скотьи постройки — во всякий час могучие руки да ноги ее были в непрестанном движении. Ни выходных, ни проходных, ни болезней. В колхозе выходной — на своем базу дел полно. Неможется — значит, надо «разойтись до сугреву». Одно слово — Дизелиха. Лишь душа у нее была бабья, жалостливая.
Еще одну сигарету запалив, Гулый сидел возле гроба и вспоминал давнее.
Дизелиха была ему не родней, лишь соседкой, но звала «сынушкой». Гулый рос сиротою, возле недужной матери, в бедности. Дизелиха увидит его за плетнем, зовет, ласково так: «Сынушка…» Время послевоенное, голод. У Дизелихи своих двое. «Иди, сынушка, с нами покушай». «Польское» ли хлебово, с пшеном и толченым салом, «рванцы» — галушки да «затируха», ржаная саламата с нардеком. Да еще сунет пышку, яичко, жареных семечек, морковку, яблочко.
В иных дворах, если дело к еде, мальчонку мягко, но выпроваживают: «Ступай, ступай домой…» Дизелиха кричит через плетень: «Сынушка, поди сюда,— и к столу ведет: — Похлебай с нами горяченького».
Теперь она лежала посреди степи, в белой метели. Сыпучий снег прикрывал ее гроб.
Гулый поднялся, чуя, что начинает зябнуть. И вдруг вошло в голову: на нем — теплое белье, рубаха, козьего пуха «вязанка», телогрейка, и все равно стынет. А Дизелиха — лишь в тонком платье, теперь она до самых костей заледенела. И жалко, так жалко стало старую соседку, хоть плачь.
Обратный путь к хутору, к дому покойной, был долог. Встречный ветер и снег забивали дых, глаз не открыть, сыпучий снег по колено. Но помаленьку добрался. И в теплом доме, раздевшись, он вытряхивал снег из валенок, из карманов, из пазухи.
— Какие там волки, какие люди…— говорил он дочерям покойной.— Там страсть божия, света не видать. Лежит…— вздохнул он.— Молчит. Не жалится. Но завтра мы ее схороним. Не я буду, схороним.
Назавтра, затемно, в Большой Колодезь отправились дочери покойной, вдвоем.
— Мы по-бабьему,— объяснили они Гулому.— Покричим, поплачем. Нам не откажут. А ты пригляди за гробом, за тележкой. Еще упрут. Ныне с живого и мертвого тянут, а тут — дорога.
Они ушли затемно, задолго до света. Дорога тяжелая. А к планерке надо успеть. Потом разбегутся — ищи-свищи.
Они ушли. Гулый проводил их. Кургузые, укутанные в платки да шали, сестры торопливо, вперевалку пробирались по снегу. И сразу пропали во тьме. Впереди была белая степь, сизая ночная мгла, пятнадцать километров пути, если по занесенному снегом, но асфальту. А напрямую, через Мышков ерик и Солдатов лог,— вдвое короче. Но что там теперь, в степных логах да ериках, после метели.
Гулый остался домовничать. Он затопил печь. А потом его разморило, уснул и проснулся, когда в окошки глядело позднее утро. Не столько позавтракав, сколь похмелившись, Гулый оделся и пошел выполнять наказ: сторожить покойную. Он сунул бутылку водки в карман, повесил ружье через плечо. С водкой было понятно. А вот ружье… Для серьезного вида ли, с похмелья. Белый день стоял, волков не сыскать.
Позднее зимнее утро понемногу переваливало в ненастный день. Но хутор словно бы спал еще в снежных заметах. В былую пору, в колхозную гудели бы теперь трактора, расчищая дороги к фермам, к гумну, амбарам. Но колхоз нынче еле дышал. Свиней да коров в Малом Колодезе не осталось. И некуда теперь тракторам да людям спешить. Да и где они, трактора?.. Лишь на центральной усадьбе.
Поздним утром шел Гулый хуторской улицей, первые следы торя по глубокому снегу.
А тележка, гроб — все было на месте, снегом заметено с бортами вровень. Но тут уж Гулый потрудился: сначала наверху все выгреб и вымел. Стало чин чином: гроб на старенькой ковровой дорожке, на нем — венок из бумажных цветов, крест в головах. Словно вчера, когда вынесли из дома. А потом он долго разгребал и чистил снег вокруг тележки, освобождая колеса, тележное войе, чтобы подогнать трактор: сунул чеку — и поехали. Тут и езды-то…
В белом поле, в снегах кладбища не было видать. И в той стороне, откуда прибудет подмога, тоже пустынно. Во все края лежал белый снег да низкое небо.
Все дела обделав, Гулый поднялся к гробу, сказал, обращаясь к покойной:
— Потерпи чуток. Должны вот-вот подъехать. По темному еще ушли твои дочушки. Схороним нынче, будешь ночевать по-хорошему. Потерпи.
А трактора не было. Пришлось на хутор сходить, поглядеть, как печка топится, уголька подкинуть. Соседям Гулый сказал: «Не знаешь, чего и думать, ушли по темному. Может, где завалились. Кидай тут умом… Не накинешь. Был бы телефон, позвонить: дошли — не дошли».
Телефон прежде на хуторе был. Нынче вышел. Столбы, провода имелись, но аппарат молчал с осени. Говорили, вроде колхоз уже не в силах платить, а может, просто сломалось. Теперь никому не нужно, никому не пожалишься.
Он ждал и ждал, всякое в голове перебирая. С тележки глядел в сизую даль, разговаривал с покойной: «Приедут. Конечно, приедут. Схороним тебя, не горься. Будешь ныне в новой хатке своей ночевать. Там — теплочко и покойничко. Намерзлась?— вопрошал он, чувствуя, что сам зябнет.— Скоро уж, скоро… Потерпи чуток. Ты у нас терпеливая.— Самому ему согреться было нетрудно — лишь вынуть из-за пазухи бутылку. Что он и делал, оправдываясь перед покойной: — Тоже ведь не молоденький. Зябну. А греться не пойдешь. Велели быть при тебе. Дочушки твои приказали. Неотлучно, мол. Пригонят они трактор. Сама знаешь, ныне какой колхоз: на обе ножки хромает. Тракторов на ходу сколь осталось? Все стоят. Запчастей нет, горючего нет,— рассказывал он.— Но для тебя сыщут. Может, из последнего собирают, заслуженную колхозницу схоронить. А как же… Ты заслужила. Сколько проработала? Всю жизнь. Орден Трудового Знамени и две медали. Восемьдесят лет, а ты еще на ток ходила, зерно гребла. Бригадир призовет — ты идешь. Такого человека, да не схоронить. Самолучший трактор пошлют!— возвышал он голос.— Скажут, все кинь, езжай, Дизелиха ждет. И это правильно, потому что ты заслужила. Двух дочерей воспитала, обе — труженицы, тоже на колхоз жизнь поклали. Работницы из работниц. Всяк скажет».
Так он сидел да ходил возле гроба, говорил с покойной, порою глоток-другой выпивал из бутылки, согреваясь.
Наконец показался трактор. Гул его он услышал издали. Потом увидел темное. Разглядел: трактор с бульдозерной навеской неторопко шел, расчищая дорогу. Медленно, но приближался. Волочил впереди себя груду снега, оставлял ее на обочине, снова греб.
Он подъехал, с ходу развернувшись задом к тележке, чтобы зацепить ее дышло. Из тесной кабины выбрались дочери покойной, и непонятно, как они там умещались, непомерно толстые, в зимней одежке, в платках.
— Слава богу, добрались… Слава тебе господи… Уж не думали…— запричитали они.— Как тут мамушка наша, дождалась?
— Поехали, поехали…— заторопил тракторист.— Цепляйте, и поехали.
Дочери покойной неловко, через борт, по колесам, полезли к матери в тележку. Гулый нахваливал себя:
— Все я расчистил, все подготовил…
Подняв тележное дышло, он прицепил его к трактору со словами: «Трогаемся, с богом…» — и полез было в кабину. Но тракторист остановил его с досадою:
— Погоди… Кажется, председатель.
— Молодец,— похвалил его Гулый.— Уважительный. Все же приехал.
— Будет сейчас уважение…— пробурчал тракторист.
Председатель остановился рядом. Но, выйдя из кабины, из-за руля, он и головой не повел на тележку, на дочерей покойной.
— Кто велел сюда ехать?— спросил он тракториста.— Кто велел? Тебе что было сказано?!
— Да вроде… Да ведь… Ревут…— спотыкаясь на каждом слове, пытался оправдаться тракторист.
Гулый вторил ему так же сбивчиво:
— Дизелиха… Другой день уже лежит, не проедем.
— Ревут… А скотина ревет, ты ее не слышишь,— процедил председатель.— Лишь поллитры сшибаешь. Отцепляй!— приказал он.
Он стоял невысокий, тушистый, на бритом лице — отчужденье. Меховая шапка надвинута на лоб, глаз не видать.
— Да рядом тут кладбище… Управимся скоро…— объяснял Гулый.— Ничем не пробьемся.
— Пробьетесь. Чего я тебе сказал?!— возвысил голос председатель.
— Да горькая наша мамушка!— по-дикому закричала одна из дочерей.
Гулый от крика вздрогнул и сдернул с плеча ружье.
Бухнул выстрел. Шапку сдуло с головы председателя.
— Еще одна команда — и получишь в лоб,— твердо сказал Гулый.
— Ты… Ты…— сквозь трясущиеся губы пытался продавить слова председатель и шагнул было к своей машине.
— В трактор!— властно приказал Гулый.— Поехали хоронить. Шаг в сторону — побег. Ясно?!
В какие-то мгновения он вдруг изменился: холодно глядели глаза и слова были жесткими, ледяными. Никогда так не говорил.
Председатель поднял шапку и полез в трактор. Гулый, с ружьем наперевес, встал в тележке, у переднего борта.
Тронулись. Могучий «ДТ» с навескою шел не торопясь, сгребая и громоздя перед собой груды снега. Тележка катилась легко. Дочери покойной навзрыд плакали, припав к закрытому гробу. Гулый открыл его. Крышка была лишь прихвачена гвоздями. Открыл, поглядел на покойную и снова встал у переднего борта с ружьем наперевес.
Летел из-под гусениц снег, качало, но Гулый стоял возле борта, возле креста.
Добрались до заметенного кладбища. Торчали из снега зубцы забора, кресты, звездочки пирамидок. Могильных холмиков не было видать.
Дизелихина могильная яма была прикрыта горбылем и толем. Скинули снег. Снизу пахнуло не холодом, а земным теплом.
Странные получились похороны. Всё молчком и глаз не поднимая: расчищали, снимали гроб, ставили возле ямы. Дочери плакали. Но о чем?
— Речь держи,— сказал председателю Гулый.— Чтобы по-людски.
Председатель было вскинулся, произнес:
— Ты…
— Речь!— жестко приказал Гулый, шевельнув плечом.
И председатель, набычившись, начал говорить:
— Сегодня мы провожаем в последний путь одного из старейших работников нашего колхоза… Начав свой трудовой путь в далекие годы…— Председатель вначале говорил трудно, а потом слова покатились словно сами собой, по привычке: — В тяжелые годы войны она с честью трудилась на трудовом фронте, заменяя ушедших мужчин. В нелегкие годы послевоенной разрухи… и в последние годы… Таким образом, можно сказать, что вся ее жизнь была отдана колхозу и людям. И мы ее не забудем. Прощай…
— Траурный митинг закрываю,— объявил Гулый,— произведем салют,— и грохнул из ружья в сизое, озябшее небо.
Покойная Дизелиха ни слов его, ни выстрелов не слыхала. Она была глубоко под землей, в тишине, покое и наконец в тепле. Зима нынче словно в прежние времена: в декабре на мокрую землю лег снег. Потом сыпало и мело. Земля не промерзла. В ней достало тепла, чтобы согреть старую Дизелиху.
А люди живые остались наверху, в заснеженном холодном мире. Им долго ждать тепла: январь, февраль, март. И неизвестно еще, какой весна будет.
1997 год
«Новый Мир», №3
Итоги «тринадцатой пятилетки»
Советские «пятилетки» — нынче уже история, но по времени близкая. Конечно, выцвели, обветшали, но еще висят кое-где в провинции плакаты, на каменных стенах не стерлись «письмена»: «Планы пятилетки — в жизнь!» И вот еще одна позади — тринадцатая, официально не объявленная,— число несчастливое, годы 1992—1996-й.
Какой была она для сельской России? Говорить о России в целом легче «от имени народа», как выражаются — «народ не поймет», «народ не простит». Грешат этим не только правители, депутаты, но все подряд. Вот хороший, милый актер, которого многие любят по прежним фильмам, сообщает нам: «Я знаю, как живут и что думают люди во Владимире, Рязани, Калуге, те, кто работает на земле, и те, кто уехал от нее. Недавно президент издал указ о праве на землю. Есть надежда, что вырастет урожай».
Детская — до седых волос — наивность хорошего актера из хорошей московской семьи понятна и по-своему мила. Попросят — поговорим о земле; попросят — о куриных бульонных кубиках. Столь же честно, сколь и наивно.
О рязанской, о владимирской, о калужской земле говорить не буду. Пытаюсь вглядеться в ту, что рядом: Донщина, Нижняя Волга — свои края. Тем более, что позади «пятилетка аграрной реформы».
Началась она с указа президента Российской Федерации «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» от 27 декабря 1991 года и постановления правительства «О порядке реорганизации колхозов и совхозов».
«Местной администрации организовать продажу земель фонда по конкурсу…
Предоставить крестьянским хозяйствам право залога земли в банках…
Разрешить с 1 января 1992 года гражданам, владеющим земельными участками на правах собственности, их продажу…
Невыкупленные участки земли продаются на аукционе…
Колхозы и совхозы, не обладающие финансовыми ресурсами для погашения задолженности по оплате труда и кредитам, объявляются несостоятельными (банкротами) до 1 февраля и подлежат ликвидации».
Год 1996-й. Жаркий июньский день, солнечный, ясный. И триста километров дороги. Не асфальта и даже не грейдера, а просто — пути полевые, чаще — неезженые, затравевшие или размытые недавними ливнями. Места — задонские, не больно людные во все времена, а ныне и вовсе. Птица живет здесь непугано: редкие в иных местах стрепеты, коршуны, лебеди, стаи розовых скворцов, а смелые жаворонки, когда потревожишь их на дорожном сугреве, бросаются на машину, воинственно раскрылатившись. Вперевалку, лениво уходят с дороги суслики. Кабаний след, волчий; лисица охотится среди бела дня.
Поля, луга, курчавые заросли балок с холодными родниками. Ковыль, пахучий чабер, бессмертник на песчаных взгорьях. И высокое море трав колышется под ветром, духом своим щекочет ноздри, пьянит. Степное наше Задонье после дождей и ливней цветет и зеленеет на удивление.
Но не ради красот природы — хотя они стоят того — колесили мы целый день от поля к полю вместе с начальником земельного комитета Калачевского района Виктором Васильевичем Цукановым. Здесь, на землях бывшего совхоза «Голубинский», теперь шестьдесят самостоятельных хозяев, коллективное хозяйство «Голубинское» да несколько подсобных, от предприятий, городских. У всех главное ремесло — земля. Вот мы и ездим, глядим. Хозяев встречаем нечасто, но поле честнее хозяина — оно все скажет. Недаром с детства помнятся строки:
Только не сжата полоска одна…
Грустную думу наводит она.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Знал, для чего и пахал он и сеял,
Да не по силам работу затеял.
Вот он вылез из землянки, хозяин ли, работник, рассказывает:
— Живем… Курятник кирпичный строим, лисы одолели. В кирпичный не проберутся. Обкладываем кирпичом коровник. Волков много. Собаку унесли зимой.
Действительно, курятник почти готовый, кирпичная кладка — у коровника. Но я на жилье гляжу человечье: низкая крыша над землей, ступени ведут вниз. А там — земляной пол, земляные стены. Печка, керосиновая лампа, горький запах дыма.
— Здесь и зимуете?
— А как же… Скотину не бросишь. Тепло здесь, хорошая печка. Четыре-пять ведер угля — и жарко. Думаем, стены чем-нибудь закрыть, будет получше.
На лице моем, видимо, написано все, что думаю, потому хозяин начинает убеждать:
— Тепло, хорошая землянка. А скоро баню построим, у нас колодец есть, своя вода. Сосед вон без воды мается. А у нас хорошо.
Доехали до соседа. Он — человек молодой. Землянка, в которой зимовал, завалилась после недавних ливней. Но есть вагончик. А вот скотина и птица по-прежнему в полуподземных убежищах. Так проще строить, так теплее.
Попутно с проверкой, с доглядом, привезли мы хозяину «привет» от президента России — его обращение к собственникам земли. Вот строки из него: «Жители России — собственники земли! Ваша земельная доля — это огромная ценность. Это реальное воплощение лозунга «Земля — крестьянам!». Это — награда за ваш труд».
— Вот кто бы указ издал, чтоб нас отсюда прогнать…
Чистое поле; обрушенная землянка; вагончик; полуподземные скотьи и птичьи базы. Раскиданные, а может, разложенные повсюду железки — «чермет» или запчасти.
В.Ф.Федоренко — молодой мужчина в замасленной спецовке («Какой он был раньше, когда землю брал,— вспомнит потом со вздохом мой спутник,— богатырь. А сейчас одни кости. Вот она, земля…»).
Земли у Федоренко 500 гектаров, из них — 300 пашни.
— Не было солярки, нет денег,— объясняет он.— Теперь взял кредит у корпорации, начну пары обрабатывать. За пять лет от земли, от зерна доходов нет: все идет на горючее, на запчасти. Спасает скот: от мяса — хоть какие-то деньги. Молоко девать некуда — базар далеко. А уходить куда? Назад, в поселок, откуда пришел,— там работы нет, все предприятия закрылись. В пяти километрах — хутор, там — колхоз, люди по пятьдесят тысяч рублей в месяц получают. На буханку хлеба в день не хватает. Так что уходить некуда, надо работать.
Мы уезжаем, он остается.
А может, это начало новой жизни? Пять лет разве возраст?
В краях иных, в Европе ли, в Америке, по-иному. Помню деревню в Венгрии, обычное подворье, рассказ хозяина:
— Фундамент и «низы» дома — это от прадеда, деда. А мы с отцом подняли выше, второй этаж. Я сам уже оборудовал отопление, ванную, построил бассейн, чтоб внучата летом купались.
И без рассказа было видно, что подворье — дом, все службы — не в один день построены, и не в один год, и даже не в один век.
У нас в России, и здесь вот, в Задонье, сколько раз зорили гнезда крестьянские: Гражданская война, раскулачивание, Отечественная война, послевоенная разруха, потом, когда немного оправились, грянуло: «Долой неперспективные хутора!» Снова бросай все и где-то начинай лепить новую жизнь. Нынче, вот уже пять лет кряду, громим колхозное: капитальные кирпичные животноводческие фермы, кошары, дома при них, полевые станы — все по кирпичику растаскиваем, до ровной земли. Словно идет на нас враг и нельзя ему оставлять ничего, кроме руин.
И вот снова начинаем с землянок. Значит, долог наш путь.
А путь наш сегодняшний — от поля к полю: Барсов, Ляхович, Шамин, Бобров, Белько,— но разница малая.
— Не пойму: это чистый бурьян или что-то сеялось?
Выходим из машины, глядим, вздыхаем:
— Чистый.
А дальше и выходить не надо, из машины видать, что бурьян без подмесу.
За курганом — курган, за балкой — балка: Зорина, Осиновская… За полем — поле.
И такая радость, когда увидишь высокую, чистую озимку,— редко, но случается. Возле хутора Осиновский прекрасное поле.
— Молодцы, ребята,— хвалит Цуканов.— Молодые, а могут. Надо поговорить, может, еще земли возьмут.
Ближе к хутору Большая Голубая неплохая пшеница у Старовойтова, Романова, Харьковского, Молчанова; они из Волгограда, городские люди, но сумели.
Но больше картин горьких: зеленое половодье сорняка.
По целине, по залежам, перелогам, по балкам и теклинам такие травы стоят, что дух захватывает. Колосится, цветет аржанец, синеют разливы горошка, розовеет вязиль. Травы, травы и травы… Но ни людей, ни скота, ни рядов скошенной травы, ни копен сена. Зеленая, но пустыня.
На хуторе Большая Голубая молодые ребята-механизаторы жаловались:
— Без зарплаты сидим. Спасибо детским пособиям да стариковским пенсиям.
На этом далеком и горьком хуторе спросил у одного, у другого:
— Сколько скотины держите?
— Корова с бычком…— отвечали мне.
Часом позже, на другом хуторе, на Евлампиевском, Борис Павлович Лысенко — человек немолодой, недужный и статью не богатырь — ответил на мои сомнения:
— Хорошо, хоть одну корову держат. А ведь есть молодые, здоровые — и вовсе ничего на дворе нет: это ведь труд, работать надо.
Одна корова — круглый год забота, две — вдвое больше. Четыре ли, пять, десять — уже не позорюешь, и телевизор надо забыть в пору летнюю, горячую.
Еще одна беда нашей земли и жизни — добрых работников мало. После раскулачивания десятилетиями людей провеивали: какие потолковей, тех в город выталкивали, чтобы «человеком стал», какие похуже — «нехай быкам хвосты крутят».
Вот и получилась картина нынешняя: триста километров пути, чуть не сотня хозяев, а хорошего мало.
— Завтра буду весь день акты писать для комиссии, для наказания,— сказал Цуканов, а потом добавил: — Когда из десяти новых хозяев за нерадивость, за упущения в использовании земли штрафуешь одного-двух — это естественно. А когда из десяти — всех, то это уже ненормально. Значит, не только люди виноваты, но и государство, его подходы.
А в конце пути еще одна встреча.
На границе района, за речкой Голубой, возле хутора Большой Набатов, встретили мы В.Н.Конькова. Брал он землю понемногу — сначала два десятка гектаров, потом попросил еще и еще. Выращивал арбузы, дыни и — всем на удивление — огурцы на богаре, то есть без полива. А в прошлом году решил взять большой участок не клочками, а в одном месте. Выделили ему 350 гектаров. И вот встреча. Коньков — за рулем машины отвозит своих работниц с бахчи домой, в станицу.
— Проверяйте, наказывайте,— весело согласился он.— Но платить штраф буду после уборки урожая.
Объехали мы земли Конькова, поглядели: неплохие пары, бахчевые и теперь уже фирменные огурцы на богаре.
— Здесь был сплошной бурьян из года в год,— рассказывал Цуканов.— Из рук в руки земля переходила — и не было проку. А Коньков за осень и весну порядок навел. Будет прок.
Дай Бог!.. Ночью, как всегда это бывает после долгой дневной дороги, снилась мне та же задонская земля в июньском цвете. Ковыль, чабер и, конечно, высокая густая пшеница и сладкие пахучие травы. А еще снились задонские хутора. Не мертвые, а живые: Зоричев, Липологоловский, Осинологовский, Тепленький да Малый Набатов. Но это были лишь сладкие сны.
Ныне это сплошная агония: на колхозных, на совхозных руинах кое-кто еще порой шевелится, не получая зарплаты, а добывая ее натурой: зерном, соломой, теленком, парой досок, колесом от трактора, пятью листами шифера с крыши пустующей молочнотоварной фермы, кирпичной стеной от нее же (разбить, отвезти на свой двор, там пригодится). Скотину всю вырезали, или подохла она от бескормицы, земля — в бурьянах. 70 тысяч гектаров земли было в «Голубинском», 50 тысяч овец, 5 тысяч крупного рогатого скота. Теперь — пустые базы, миллиардные долги и вывеска на двухэтажной конторе. Все, конец совхозу. Но не всякому.
На этой же задонской земле, полсотни километров по асфальту отмерь, а напрямую — поближе, такие же хутора: Лобакин, Киселев, Второй Попов. Они входят в колхоз имени Ленина; председатель — Иван Варфоломеевич Петров. Первое, что удивит приезжего человека,— колхозная контора: неказистое приземистое здание давнишней постройки.
Уже привыкли мы к другим правлениям — двухэтажным, с широкими лестницами, просторными кабинетами. Дворцы! Есть села и хутора, где и колхоз разошелся, а контора стоит словно памятник архитектуры.
В колхозе имени Ленина 18 тысяч гектаров пашни, четыреста человек работающего народа, крупного рогатого скота — 6.500 голов, из них 1.500 — коров; свиней — 7.500 голов. Если рядом и поодаль, по району и области, скотину изводят, то здесь поголовье увеличивается. В прошлых феврале и марте получали в колхозе по 500 граммов ежесуточного привеса. А рядом и вокруг «от засухи» дохла скотина. Рядом же, два года назад, прекратил существование свиноводческий совхоз, потому что «свинина сейчас нерентабельна». В колхозе же у Петрова поголовье свиней за «пятилетку» увеличилось на 68 процентов. Постоянно работает свой комбикормовый завод и две линии кормоцеха. Оттого и сытая скотина, привесы, рентабельность производства.
Средняя зарплата в колхозе в 1995 году составила 300 тысяч рублей. Получают ее люди из месяца в месяц постоянно, без задержек. Кроме денежной оплаты колхозники получают зерно, сено, солому бесплатно, но по труду, на заработанный рубль.
О «рубле заработанном» надо сказать особо. Весомую прибавку к нему, до 50 и даже до 100 процентов в уборочную пору, получает ежемесячно каждый работник, если у него нет нарушений трудовой дисциплины: опозданий, прогулов, брака в работе. Насколько весома будет прибавка, решает по результатам прошедшего месяца совет бригады, который есть в каждом подразделении. Товарищам по работе виднее заслуги и грехи каждого. Решение бригадного совета подтвердит авторитетная комиссия при правлении колхоза.
Итак, в колхозе имени Ленина сохранили главное — сельскохозяйственное производство. И что еще важнее и мудрее — сохранили животноводство: за пять тяжелых лет поголовье не снизили, а увеличили (напомню, что в среднем по области поголовье крупного рогатого скота за последние пять лет снизилось почти вдвое).
Для наших дней это почти сказка: действующий здесь комбинат бытового обслуживания шьет и спецодежду для колхозной работы, и платья, и брюки. Удобно людям, хорошо и мастерицам-швеям: без работы, а значит, без зарплаты не остаются (200 да 250 тысяч в месяц).
В том же Доме быта — парикмахерская, где можно сделать завивку, маникюр или просто подстричься. Рядом — массажный кабинет.
Попробуй отстирай дома спецовку ли, телогрейку механизатора. А здесь, в прачечной, цена малая — 360 рублей за килограмм.
Сохранили в колхозе и все три медпункта — в каждом из хуторов. Самый большой, конечно, на центральной усадьбе — профилакторий. Его заведующую, Марию Семеновну Нагорную, я попросил рассказать о житье-бытье.
— Работы много,— сказала она.— Вызовы к больным, приемы, физиотерапия; одних ребятишек четыреста человек. Лекарств и перевязочных средств хватает. Колхоз помогает во всем, отказа не знаем, как и прежде.
В колхозном профилактории просторные чистые кабинеты, зал ожидания ли, отдыха с телевизором, запах лекарств, тишина, покой. А рядом с профилакторием — колхозный же Дом культуры… При хуторской школе, как и прежде, работает интернат для школьников (питаются они в школьной столовой).
Понимаю, что для кого-то мой рассказ скучноват. Эка невидаль: колхозный детский сад, своя пекарня, где хлеб продают на 30 процентов дешевле, парикмахерская, швейная, баня, зарплата вовремя, новый баян для Дома культуры, школьный интернат.
Для столичных теоретиков колхозное хозяйство — вчерашний день. Но и сегодня колхоз колхозу рознь.
Заволжье. Быковский район готовится к зимовке скота — того, что еще остался. Конец осени 1996 года. Выписка из районной газеты:
«В прошлом году к этому времени кормов было заготовлено гораздо больше: силоса в 2,5 раза, сена в 1,6 раза. Но и тогда зимние рационы кормления были на грани выживания животных. Отход скота от падежа и забоя оказался очень большим».
А вот еще одна выписка — про ту, прошлогоднюю, зимовку в колхозе «Пролейский»:
«Имевшееся поголовье (388 голов КРС, из них дойных коров — 211) было все оставлено в зиму. Хотя уже тогда знали, что в сенниках и закромах запасов хватит в лучшем случае на треть зимовки. Итог вот он: из 388 голов на сегодняшний день едва наберется чуть более тридцати скелетов, обтянутых кожей. Побывав на ферме, впечатление от увиденного осталось самое ужасное. Еле держащиеся на ногах животные грелись на солнце. В темном углу коровника пиршество крыс на горе окоченевших трупов телят… Жалкое мычание упавших и не поднимающихся вторые сутки трех буренок. Рабочие фермы сказали: «Сами видите: коровы падают, телята дохнут»».
Это картина прошлой зимовки. А что теперь, когда в два раза меньше прошлогоднего по району кормов заготовили? Для того чтобы корова прожила зиму, нужно ей 25 центнеров условных единиц кормов, раньше стремились иметь 30. А если сейчас в «Пути к коммунизму», где 2 тысячи голов скота, имеется лишь по 2,8 центнера условных единиц кормов, то есть в десять раз меньше? Скажите, какая будет зимовка? Кто выдержит такую «кормежку»? Ясно ведь — передохнут. А по району в среднем кормов на бедную пока еще живую скотью голову заготовлено лишь 30 процентов от нужного. За восемь месяцев, с января 1996 года, стадо коров в районе уменьшилось на 45 процентов, свиней осталось во всех хозяйствах района лишь 76, из них 11 свиноматок. За то же время пало 15 тысяч овец, забой — 20 тысяч. Остаток — около 50 тысяч. На весь район. Прежде такое поголовье в одном совхозе держали. Сколько останется скота после нынешней зимовки, знает только бог. Районная же газета сообщает:
«С подобным запасом кормов остается лишь надеяться на то, что природа смилуется над нашей бедностью».
…«Этим летом,— писала областная газета,— хроническая растащиловка в «лежачих» быковских хозяйствах не раз срывалась в штопор обвального грабежа. За ночь, случалось, пустел машинный двор колхоза, случалось, что разбирали и саму мастерскую. «Будьте людьми,— уговаривала колхозников районная администрация,— имущество и земля ваши, но завершите полевой сезон, вспашите, посейте и тогда делитесь по справедливости».
И вот осеннее собрание в «Степном». Долгов — 2,5 миллиарда рублей, продукции нет. Коров почти не осталось, овец — две отары.
Говорили откровенно. Председатель: «Тащили все, и я тоже». Агроном: «Молочнотоварного комплекса уже нет, кошар нет. Все растянули. Железняков останавливал, ему морду набили. Кому еще охота? И как я остановлю, когда сам как все. А не привезешь (в смысле «не украдешь».— Б.Е.), детей голодными оставишь»».
Кажется, все ясно: полностью развалилось и растащили хозяйство.
…Прежде в своих заметках говорил и повторю еще раз: при нынешнем положении села, которое по-прежнему катится вниз, абсолютное большинство колхозов, как бы они нынче ни назывались — АО, АОЗТ, КСП и т.д., пойдут путем горьким и закончат его одинаково.
Абсолютное большинство — но не все.
Вернемся в то же Заволжье. Да, это — далекая глубинка. Да, во всем нашем российском хозяйстве развал, разброд — это и слепые видят. А хозяйство сельское и вовсе в положении аховом: диспаритет цен, отсутствие рынков сбыта, жестокая конкуренция с Западом, обман со стороны государства, обман со стороны предприятий переработки, которые годами не отдают деньги за поставленное колхозами молоко, мясо, овощи. Все верно.
Но в том же сухом далеком Заволжье, на тех же землях, в условиях того же «диспаритета цен» и «неплатежей» живет и здравствует ОПХ «Россия» во главе с Зинченко. Здесь 9 тысяч гектаров пашни, и вся она — в работе. Здесь три тысячи голов крупного рогатого скота и полторы тысячи свиней, и скотина не голодает и тем более не дохнет, а плодится и доится. Коптильный цех, крупорушка, мельница, пекарня, на очереди — производство по глубокой переработке молока на сметану, сыр, масло. Машинно-тракторный парк ремонтируется и пополняется десятками единиц. Построен кукурузокалибровочный завод, он уже работает, принимая в сутки до 350 тонн початков. Производится и продается не только в свою страну, но и за рубеж зерно, молоко, картофель, мясо, семечки тыквы, семена кукурузы. Зарплата людям выплачивается без задержки, больше того, выдаются ссуды на покупку или строительство жилья, на приобретение автомобилей. Работают детские сады, магазины, стоматологическая поликлиника. Словом, идет нормальная трудовая жизнь.
А рядом СПХ «Дружба» — 5 тысяч гектаров земли. Прошлой весной засеяли 826 гектаров горчицы, 170 — ячменя, 800 — ржи. Что же получили осенью? Всю горчицу списали — неурожай. Ржи получили по 5 центнеров с гектара, ячменя — по 3 центнера. Сколько сеяли, почти столько и собрали. Лишь гробили технику, жгли горючее, тратили время впустую, ну и «тянули» кто сколько мог.
За последние годы случаи воровства достигли небывалых размеров. Тащили, конечно, и раньше, но на фоне относительного изобилия это было не так заметно. Теперь же с сельскохозяйственной техники снимается все, что можно открутить или отломать: резина, ступица, шланги, сошники. «Не украдешь — детей голодными оставишь…» Это не от жиру, это «для жизни». Это естественная реакция брошенных на произвол судьбы людей. «Впихнули в рынок, а как жить в нем — не научили»,— это жалоба искренняя. Но кто услышит ее?
Две «картинки» одной и той же земли, расстояние между хозяйствами — полсотни километров. Разница — земля и небо. Да что полсотни верст… В поселке Суровикино лишь забор делит два невеликих предприятия переработки сельхозпродукции — молочный завод и хлебоприемный пункт. Первое вчистую разорило себя и владельцев коров, которые ему молоко сдавали. Итог — потеря производства, рабочих мест, невыплаченная зарплата, долги и привычное: «Поддержите отечественного товаропроизводителя». А хлебоприемный пункт благодаря своему умному и энергичному руководителю не только стал зерно молоть, хлеб печь, производить макаронные изделия, но и разводить коров, свиней, кур, открыл кафе, магазины, производит кондитерские изделия, мороженое. Кормится сам и кормит других безо всяких стонов.
Всеобщее разорение, падение производства, голодный скот, разбитые, заросшие навозом фермы, надои по 800 литров в год, словом — козьи, непаханая земля, забывшие о зарплате люди. Но сверните с «московской» трассы на хутор Кузьмичи: на молочнотоварных фермах доярки в белых халатах, средний надой на корову 5.300 килограммов молока, элитное стадо. «Нерентабельное» везде молоко дает 1,5 миллиарда рублей прибыли в год, а всего прибыли — 4 миллиарда.
«За последние пять лет производство сельхозпродукции сократилось наполовину. Падение продолжается: уменьшается стадо, рушится материальная база, снижается плодородие земли, стареет машинный парк. И просвета не видно. Одна из причин — диспаритет цен. За пять лет цены на зерновые культуры возросли в 2.500—3.800 раз, на мясо крупного рогатого скота — в 1.581 раз, на молоко — в 2.000 раз. В то же время на электроэнергию (за киловатт-час) — в 11 тысяч раз, на бензин А-76 — в 9 тысяч раз, на дизтопливо — в 19 тысяч раз»,— выписка из констатирующей части «круглого стола» в Главном управлении сельского хозяйства и продовольствия нашей области.
Все верно. Но за последние пять лет стало очевидным, что разорение, гибель или жизнь колхоза зависит не от того, где он расположен — на бугре ли, в низине, близко от города или далеко, песчаные у него земли или чернозем. Главное, какая у него «голова», у председателя или директора. Счастье для всех, если умный, энергичный и достаточно жесткий, умеющий держать в узде свой коллектив, потому что соблазнов много (особенно в начале перестроечной «пятилетки»): продать «невыгодных» коров, свиней и овец, все поделить и «забогатеть»; «ликвидировать», «пустить на зарплату», «людям раздать»…— их много, было и есть, лукавых соблазнов, заставляющих забывать о дне завтрашнем, послезавтрашнем. Живые, рентабельные нынешние колхозы — это прежде всего их «головы» — руководители, понявшие законы и беззакония сегодняшнего дня и сумевшие вывести свои колхозные корабли с разноликой командой на нужный, единственный путь выживания.
О фермерстве, о новых хозяевах нынче много рассказывается хорошего и худого. Начал я нынешние записки с полей новых хозяев земли придонской — там картина не больно веселая.
Передо мной сводка. В графе «Наличие заявок на получение участков земли» — сплошные прочерки, считай, по каждому району. На всю огромную область лишь 27 заявок. Большинство из них явно беженцы: деваться некуда, счастья пытают. Три года назад от желающих взять землю не было отбоя. Сейчас же нормальные, обстоятельные люди в вольные земледельцы не пойдут. Причины — на виду.
Главная — та сотня ли, больше фермеров, которая сейчас крепко стоит на ногах, начинала в 1991—1992 годах, когда государство давало не только землю, но и весьма приличный кредит под условные 8 процентов при тогдашней гиперинфляции. Кто хотел хозяйствовать на земле, обзавелся техникой и работал. В конце 1993 года кредит можно было взять под 213 процентов. Его давали под залог той сельхозтехники, которую на этот кредит покупали. В 1994 году и эта отдушина была закрыта. Выходцы образца 1994-го и более поздних годов — люди, мягко говоря, рисковые, они и теперь мыкаются возле своего участка земли, не зная, что с ним делать,— в руках у них лишь лопата.
В 1993 году вышел указ президента от 27 ноября №1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России». Один из пунктов гласит: «Отменить с 1994 года обязательные поставки и другие формы принудительного изъятия сельскохозяйственной продукции в государственные ресурсы». Казалось бы, радуйся, хозяин: на дворе свобода. Но оказалось, что крепостная зависимость от государства была для большинства желанней и выгодней. Рынок быстро понял, что продукция новых и старых хозяев дорога, некачественна, продать в магазине ее трудно. Раньше государство забирало все «под метлу», еще и строго наказывало за укрывательство. Теперь дешевле и проще закупить масло в Финляндии, курятину — в Америке, Дании, Франции. Даже картофель и капуста завозятся из Италии, Польши. Хозяйствовать стало труднее.
Если в первые годы реформ фермерство было объявлено в качестве главного направления, то позднее появился лозунг «Фермерство страну не накормит», со всеми вытекающими последствиями: разные дотации, инвестиции, товарные кредиты потекли в коллективные хозяйства.
Тут и выяснилось, что не всякий желающий может стать хорошим хозяином. Говорил я о том, как важно иметь в колхозе «голову». Нужна она и в фермерстве. И не только голова, но и образование, опыт хозяйствования, практика. Хорошо идут дела, когда глава крестьянского хозяйства — «спец», имеющий профессиональный опыт.
При нынешнем отношении властей к фермерству его укрепление, мягко скажем, проблематично. Доказательство — жизнь: с 1994 года заявок на получение земли практически нет. Но… Кое-кто из сильных, уже состоявшихся хозяев не прочь и теперь добавить себе земли. Брать он будет не всякую землю, а лишь ту, что рядом с его участком, с его уже обустроенным полевым станом, где сосредоточена техника. Такие просьбы есть, и они будут. «Земля уже поделена на паи,— отвечают им.— Мало ли чего хочется». Вот зачастую и весь разговор.
А наш разговор пора заканчивать. Он долог. И может быть бесконечным, хотя оправдание этому есть: земля, хлеб, воля — разве не главное в человеческом житии?..
Вспоминаю последние дни прошлогоднего ноября. Холодов нет, в полях — тишина. И не потому, что там нечего делать. Пахать бы еще и пахать. Но почти месяц без горючего стояли трактора по всей области: денег у хозяйств не было. Кредитов тоже. Прежде занимали у Агропромбанка, но не возвращали долги, и банк разорился. Потом была создана в области «Агропромышленная корпорация», она выручала деньгами, а в основном товарными кредитами: горючим, техникой. Весной 1996 года корпорация выдала 332 миллиарда рублей аванса — осенью возвратили ей лишь половину,— вот и нет горючего. Стоят трактора. И людей колхозы распускают до весны, в долгий отпуск.
А весною лучше не будет. В проекте бюджета страны на 1997 год на сельские нужды выделяется денег на 40 процентов меньше, чем в году минувшем. «Товарные кредиты на проведение весенних полевых работ в 1997 году выделяться не будут»,— сообщил заместитель министра финансов. Денежный ручей государственной поддержки все жиже и жиже. «Это еще мы не падали,— горько сказал как-то старый колхозный агроном,— это мы еще штанами да рубахой за ветки цеплялись. Ветки кончились, теперь полетим».
Куда же еще лететь, хорошие мои… За «тринадцатую пятилетку» наша область потеряла 540 тысяч голов крупного рогатого скота (45 процентов), коров — 130 тысяч (36 процентов), 580 тысяч свиней (60 процентов), 1.227 тысяч овец и коз (65 процентов). За период коллективизации теряли: крупного рогатого скота — 57 процентов, свиней — 67 процентов, овец и коз — 67 процентов. Это — с 1928 по 1933 год. Во время Великой Отечественной (это у нас была Сталинградская битва, и не только в городе, но по всей земле) потеряли: 35 процентов крупного рогатого скота, 69 процентов свиней, 50 процентов овец и коз.
Третий раз нажитое теряем. И в какой короткий срок. Горькая моя родина…
Коров да свиней еще посчитать можно. А ведь уничтожается на глазах материальная база колхозов: молочнотоварные фермы, свиноводческие комплексы, овечьи кошары, машиноремонтные мастерские… Труды и труды, деньги и деньги. В одном из колхозов как-то посчитали, что молочнотоварный комплекс, который еще числится, но разграблен, разбит, один лишь он стоит 6,5 миллиарда рублей. По области, по стране это — триллионы и триллионы рублей. А восстанавливать — словно после войны — все равно ведь придется. Но тяжко будет снова начинать с нуля, с той землянки, в которой нынче живет и держит скот Федоренко и его сосед в задонской степи. Словно век назад и словно не было его, этого века труда и труда, обращенного в дым.
Реорганизация сельского хозяйства… Это понятие появилось не сегодня, а пять лет назад в правительственных постановлениях. «Мы будем настойчиво рекомендовать изменить форму хозяйствования,— говорил тогда министр сельского хозяйства В.Н.Хлыстун,— для быстрейшего реформирования сельского хозяйства». Он и сегодня министр, и сегодня он говорит о том, что «аграрная реформа будет продолжена. Я имею в виду глубокое реформирование отношений собственности на селе».
Но на практике, под эти разговоры, с Хлыстуном и без него, сельское хозяйство страны развалено, потому что права старая истина: ломать — не строить, на это большого ума не надо. А вот для того, чтобы строить, надо хотя бы знать, что ты хочешь построить: саманную хатку или кирпичный дом в три этажа. Надо прикинуть, сколько сил у тебя, сколько средств. И старый свой кров — пусть это просто землянка — не рушить, пока над головою иной крыши нет, иначе ведь останешься под открытым небом, руины — не спасенье.
Не спасенье и туманно-теоретические разговоры: мол, рынок, мол, капитализм, все образуется. Не «образовалось»!
…Как же нужно реформировать село, сверху ли, снизу, чтобы меньше терять?— этого и теперь не знает никто. Порою вспыхнет какой-нибудь «нижегородский метод», потом угаснет. В Орловской области, по словам Е.Строева, разработали собственную программу, сейчас на практике проверяют «8—12 всевозможных аграрных, аграрно-финансовых, аграрно-промышленных образований». А время идет, что было, разваливается — порою до основания.
А что до опыта нашего, теперь уже многолетнего и во многом горького, то не грех бы собрать десяток-другой председателей колхозов, которые выжили, и новых хозяев, которые сумели на ноги встать. Пусть они разработают основные правила перехода села к новым экономическим формам, которые, возможно, лишь подзабытые старые. Пусть именно эти люди подготовят указ и постановление от имени президента и правительства. Такие указы будут реальными, останется лишь долгий и тяжкий труд — их выполнить.
Но все это — лишь мои сладкие грезы. Не будет ни мудрого собора, ни мудрых указов. Продолжится развал колхозов, разгром всего, что нажили за долгие годы; продолжится падение сельскохозяйственного производства — видимо, до основания. А затем — на руинах — начнет развиваться новая жизнь, по законам естественным. Но сколько за всем этим горя и боли, ведь на дно идут «люди теплые, живые». Крестьянин умирает тихо, не тревожа ранимые души борцов за права человека и прочей «общественности».
Не только в Москве, Питере, Волгограде, но и в Калаче-на-Дону великим подспорьем для людей небогатых стали «ножки Буша» — не что-нибудь, а курятина. Значит, пришел и на нашу улицу праздник.
Калач-на-Дону, Волгоградская область
1997 год
«Новый Мир», №5
Наш старый дом
повесть
Теплый июньский полудень. Как чиста нынче высокая небесная синь, освеженная прохладным северным ветром… Белейшие облака плывут и плывут, медленно, неторопливо, как и положено кораблям воздушным. Солнечный жар мягок. Зелень листвы сочна. Плещет листва под ветром, играет, слепя солнечными бликами. Шелест ветра, стрекотанье кузнечиков, редкий посвист птицы.
В легком полотняном кресле, в глубине двора, сижу и сижу, ни уйти, ни подняться не в силах. Да и зачем… Ветер, синева, зелень, солнечный щедрый жар… Лето голубое, зеленое, золотое — лето жизни моей — в старом доме, в невеликом селенье на донском берегу.
Конечно, городское наше жилье не в пример удобнее: вода, тепло, плита электрическая и место приглядное, жаловаться грех — берег Волги. Утром проснешься — видишь, как солнце встает. Выйдешь прогуляться — ни машин, ни уличного шума, а сквер прибрежный, перед глазами — речной простор, далекий заволжский берег. Но зимою нет-нет и вспомнится наш старый дом, а весною и вовсе тянет туда.
Год нынешний весна была поздняя. Лишь в апреле потеплело. На утренних прогулках, всякий день по весне, прежде всего не на Волгу гляжу я, а спешу к абрикосовым деревьям, что растут под стеной соседнего дома, на сугреве и в затишке от ветра. Слежу, как с каждым днем набухают багрово-фиолетовые цветочные почки.
И вот как-то пришел, вижу — белые цветки. Одна всего лишь веточка, возле теплой стены, три цветка на ней. Но раскрылись. И сразу расхотелось мне за газетой идти и гулять. «Поеду,— с ходу решил я.— Надо разведать».
Сел в машину и поехал. Благо, что дорога близкая, всего семьдесят километров. Солнечно и тепло было в городе, в дороге и в поселке — тоже. А в нашем старом доме за зиму нахолодало. Открыл я настежь двери и форточки, чтобы к вечеру дом согрелся. Печку топить не хотелось. С нею — возня, грязь и дым.
Во дворе, в огороде — скучно, черно, повсюду — хлам и дрям, как всегда это бывает по весне, когда сходит снег. Поехал в степь, в Березовый лог. Там — в разгаре весна. Черная ольха отпылила, уронила на землю сережки. Талы — отцвели. Остро пахнет горькой ивовой корой, тополевыми почками, прелым листом, молодой полынью. Как хороши пронизанные светом сквозящие тополевники, заросли ольхи… Там — пенье птиц. Выше их — сизый и белый дым летящих по ветру облаков.
Вечером солнце село в тучу. Поднимался ветер. Остался я ночевать в нетопленом доме. Заснул, но скоро проснулся. Ветер ломит. Деревья шумят.
В городе мне обычно мешают стуки в соседних квартирах. Наладится колотить какой-нибудь «мастер» — долбит и долбит. И по ночам — собачий лай за окном, где допоздна выгуливают овчарок, бульдогов да прочих сторожей квартирных.
В городе я обычно мечтал, как буду спать в старом доме, где — покой, тишина и никто не скачет над головой, «застольную» не ревет среди ночи.
А теперь вот проснулся. Ветер, деревья шумят. И кто-то воет и стонет на чердаке ли, на крыше. Стучат ветхие ставни. Какие-то еще непонятные стуки и скрипы. Деревья шумят и шумят. Разом выдуло дневное непрочное тепло. Зябко, сыро. Мыши скребут где-то рядом. За зиму развелись.
На воле — ветер. Старый дом мой — словно старый человек в непогоду, ему неможется: он охает, стонет, тяжко вздыхает, жалуясь, и порой потихоньку плачет.
Долго лежал я во тьме, слушая вой ветра, ночные шорохи, стуки, мышиную возню. Задремывал, засыпал и просыпался. Утром проснулся под шум дождя. Поднялся, вышел на крыльцо: пасмурно. В доме неуют: ни горячей воды, ни электроплиты, на которой все скоро — чай и прочее. А здесь умыться, побриться — уже проблема.
Но перемогся, приладился, печь затопил. И понемногу потекло новое житье ото дня ко дню, от весны к лету.
Начало
Вечереет. Нынче — время тревожное. Неделю назад снова вдвое дороже стал хлеб. Газет лучше в руки не брать: воюют, убивают, грозят… Возле Чечни опять взяли в заложники целый автобус людей. Там — женщины, дети. Подавай выкуп, миллионы долларов. Вроде сговорились, а потом — взрыв. Погибли четверо или пятеро. Кровь и слезы… Слава богу, телевизор не включаю. Там одна и та же горькая песнь. Летом нам телевизор не нужен. Чего ради сидеть и глазеть в душной комнате. На воле лучше.
Вечереет… Нет в мире ничего, кроме летнего покоя. Теплынь… Рядом — сад и огород. Зеленые кусты помидорные, на них — тяжелые гроздья плодов; острые луковые перья; шершавые, даже на взгляд, листья огурцов, в их сени — пупырчатые крепыши; высокие зонты укропа, желтоватые, спеющие. Чуть далее — отягченная краснобокими плодами яблоня «яндыковка». Время от времени — глухой стук упавшего яблока. Тишина. Выше яблони — просторное вечернее небо с розовеющими облаками. Они остывают ли, разгораются. Садится солнце или уже закатилось?.. Его заслоняет густая вишня, не в красных, а в черных ягодах от переспелости и ввечеру.
Вечерний покой. Пестрая бабочка пролетела, не тронув тишины. И странно было бы сейчас думать о ценах и деньгах и прочем. Об одной лишь жизни думается, о прекрасной жизни, что неслышно течет теперь летним покойным вечером, уходя к ночи.
К покою, к ночи готовится старая мать моя. Вот она, согбенная, малая, словно дитя, иссохшая от лет и годов, пробирается из огорода тропкою к дому. Походка ее неверна. Идет, оступается на нетвердых ногах. Вот встала и замерла, будто кто-то окликнул, позвал ее из вечернего сумрака, что густеет под яблоней, в зарослях смородины. Почудилось… Дальше пошла… оступаясь. Седые редкие волосы, узкие худые плечи под выгоревшим ситцевым платьем. Старый одуванчик. Снова встала — видно, снова почудилось. Чьи-то шаги, голос, взмах руки, чье-то лицо пригрезилось в сумерках. Их тут много, во дворе и в доме, старых видений — родных людей, которые долгий век жили рядом, теперь — ушли.
Мать уходит к ночному покою. В доме она будет долго молиться, поминая живых и мертвых. Вторые ближе ей: раба божия Анна, и раб божий Петр, и еще один Петр, тоже покойный, и еще один, но этот, слава богу, живой; покойные Коля, Слава и Ниночка, Михаил Николаевич — этого всегда с отчеством, как было в жизни. Молитва долга: для ушедших просит покоя, для живых — судьбы.
Потом она долго будет укладываться, заснет; и во сне к ней придут те, о ком она горячо просила в своей молитве: Нюра, Петя и другой Петя, Слава, Николай, Ниночка…
— Опять Нюру видела,— скажет она утром,— и мамочку с Ниной, они меня звали куда-то. Опять Славочку, Колю…
Но теперь — вечер. Старая мать моя молится в нашем старом доме. Я — на воле.
Низко и медленно летит на ночлег с полей черное воронье. Тянутся долго, кричат. Снова — покой. Высоко в небе — щебет ласточек. Там же, но выше, в самой глуби,— нежный переклик щуров. Щур золотистый… Это — в небе.
На земле же, рядом со мной,— старая летняя кухонька. Стены ее облупились, потрескались, шиферная крыша замшела. Сарай и вовсе убог. Зимний буран содрал его ненадежную кровлю. Весною приехали, на скорую руку набросали сверху старые жестяные листы, кирпичами их придавили. Стоит наш сарайчик. Рядом же — погреб; верх просел, а внутри выпирает пузом кирпичная стена. Скоро рухнет. Время, время… Когда его копали, этот погреб?.. Теперь и не вспомнить.
Старая кухня, старый сарай, старый погреб… На старый наш двор пришла пора запустенья. Мелкая трава «гусынка», почуяв волю, полонит двор. Зарастают даже тропинки. Остались лишь простые цветы: петуньи, ноготки, бархотки, астры. Петуньи теперь цветут фиолетовым, белым. Вечером нежно пахнут. Позднее, ближе к осени, распустятся махровые астры.
Но трава, трава… Полонит двор, и нет с ней управы.
Все гуще, просторнее расползается виноград. Когда-то он затенял лишь веранду, а теперь его зелень закрывает полдома. Смородина, задичав, палисад полонила.
Нет, это не просто дворовая зелень: лебеда и «гусынка», виноград, вишеньё, смородина. Это трава забвенья полоняет наш старый дом.
Когда подходишь или подъезжаешь ко двору нашему с улицы, дома не видно, он потонул в зелени. Соседские — на виду. А наш год от года все горбится, усыхает, уходит в землю, словно старая мать моя — последняя хозяйка старого дома. Они умрут вместе — мама и старый дом. Она умрет, я уйду, а дом рухнет. Я знаю все его немощи: глухая стена год от году выпирает внутрь, особенно на венцах нижних; прогнил потолок, местами пальцем можно проткнуть. Полы уже много лет грызет древоточец. По ночам я слышу, как он скрипит, пробивая новые и новые ходы.
Старый дом наш, старый двор — это старая жизнь, с которой настала пора прощаться, потому что нет в мире вечного.
А в пору прежнюю, давнюю, дом наш в уличном порядке стоял горделиво: деревянный, из пластин рубленный флигель в два окна. И разве можно было его равнять с землянками да мазанками наших соседей: Коротковых, Иваньковых, Сурковых, других Коротковых, Мирошкиных. Тогда, сразу после войны, ладили не строенья, а лепленья да норы: земляные да глиняные стены; крыша — она же и потолок — вербовый плетень, промазанный глиной с навозом; земляной, тоже глиной промазанный, пол; жалкие оконца — куски стекол, вмазанные без рам и переплетов. Летом наши мазанки да землянки бугрились, словно грибы «подпесочники», которые лишь поднимают землю, наружу не выбираясь; зимой снега и метели напрочь хоронили это бедное жилье. Из школы вечерней порой возвращаешься, после второй смены,— не поселок — снежная пустыня. Лишь кое-где из сугробов помаргивают мерклые огоньки керосиновых ламп.
Война постаралась. Сталинградская битва. Поселок наш — у самого Дона, на переправе. Досталось ему от чужих и своих. Говорят, пуля — дура. Но ведь снаряды — не умней. Поработали, постарались. Сейчас сижу, вспоминаю, кто из моих товарищей, из соседей как жил. Сплошные землянки да мазанки. Горкушенковы, Ниумирухины, Чапурины, Варениковы… Все подряд. Лишь кое-кто начинал привозить с окрестных хуторов дома. На месте разберут, быками везут в поселок, здесь собирают, ставят. Так приехал и наш дом с хутора Рюмино-Красноярский. Хозяева привезли его, поставили, но жить почему-то не стали.
Мы же первые три года после приезда в поселок мыкались по чужим углам, снимая квартиры. Последний наш домок и сейчас живой. Он нам нравился: домик невеликий, но деревянный, с крохотной верандой. И соседи хорошие. Хозяева продавали этот домик, но цена оказалась для нашей семьи непомерной — семь тысяч рублей. У нас работали все взрослые: дядя Петя, опытный инженер с высшим образованием, получал семьдесят рублей; мать моя заведовала детским садом с окладом пятьдесят ли, шестьдесят рублей; тетя Нюра сторожила контору за тридцать рублей в месяц. Денег хватало лишь на житье. И в то же время углы снимать вшестером — уже Николай родился — было несладко.
Тогда и купили мы нынешний свой дом за четыре с немногим тысячи и к тому же с долгой рассрочкой. Это был черный прокопченный сруб в одну комнату, даже без сеней. Для меня это память лишь зрительная. А для старших поначалу сердечная боль. Мать моя и сейчас вспоминает, и тетя Нюра до смерти говорила, как тягостно было входить в новое жилье.
Но семья наша к тому времени уже столь натерпелась в жизни… Смерть моего отца, дяди Петины тюрьмы и ссылки, общие мытарства за кусок хлеба, за угол. Для того моя мать с тетей Нюрой и съехались, сбились под одну крышу, чтобы вместе пережить трудные времена, которые как начались в тридцать восьмом году, так и не кончались. Из далекого Забайкалья, с Приморья, из Игарки, через казахстанские ссылки в пустыне — и наконец в Россию, в малый поселок на берегу Дона. И здесь — по чужим углам. И вот этот сруб посреди голого двора. Даже забора не было. Окошки — маленькие, внутри — темно и черно. Квартировал там бобыль-инвалид с деревяшкой вместо ноги.
Но все же — свой угол после стольких лет и годов мытарств. Взрослым уже под сорок, а все — чужие углы. Мне — шесть лет. Я — самый счастливый. Старшим — долгие труды и труды: отскоблить дом, переложить печь, коридор пристроить, поставить летнюю кухню, сараи, катух для коровы, курятник, закут свинье, выкопать погреб, колодец, заборишком хотя бы ледащим, но обнести двор и огород.
Для старших — долгие труды, которые не были для них внове. От первого дома, родительского, в Самаринском Затоне, на реке Шилке, тетя Нюра и мать моя сменили столько углов, им счета нет. Порой начиная с голой земли, как в Майеркане, среди казахской степи, в Или, где вовсе пустыня. Игарка, Дудинка, Бурлю-Тюбе, Балхаш, Хабаровск, Благовещенск. Из края в край гонял НКВД семью врага народа, японского шпиона. Сам «шпион» и вовсе на тюремных да лагерных нарах Хабаровска, Алма-Аты, Архангельска.
Теперь — снисхождение. Пусть «без права жительства в областных центрах», пусть занесенный донскими песками поселок, надзор НКВД. Но все вместе и вроде никуда не гонят. Работать разрешили. И наконец — свой домишко. Может, даст бог покоя…
Спасибо. Дал. На этом дворе, на своем, дядя Петя прожил двадцать лет и умер, упав возле яблони. Я перенес его на веранду, бросился за врачом — добро, что больница недалеко. Но он умер. Вначале лицо стало черным, потом посветлело. А на том же самом месте, во дворе, под яблоней «яндыковкой», на двадцать пять лет мужа пережив, упала и тетя Нюра. Но умерла не сразу, а еще больше недели, целых девять дней, отходила. И умерла.
Воскресные пирожки
Домашний дух для меня — это воскресные пирожки, их сладкое благоухание. В детстве каждое воскресенье просыпаюсь и сразу чую: тетя Нюра пирожков напекла. Позднее, приедешь из города в день воскресный — дом родной встречает духом печеного. Калитку отворяешь — и радуешься: тетя Нюра пирожков напекла.
Вот они — золотистые, в поджаристой корочке, подъемистые, пышные. Разломишь ли, откусишь — и открывается ноздреватая плоть печеного и сочная, дразнящая нюх начинка. Когда стали получше жить, нечасто, но появлялись пирожки с мясом да ливером. А прежде — с картошкой да капустой, летом — с яблоками свежими, зимою — с сушеными. Но разве дело в начинке…
Позднее поездил я по России, по Советскому Союзу, по всему белому свету. Недурно приходилось едать в иных краях. Жаловаться грех. Но тети Нюрины пирожки — единственные, таких нет и не будет.
Вспоминать тетю Нюру для меня легко, хотя, конечно, печально. Пять лет, как умерла она, раз за разом отмечаем горькие годовщины. Но порою мне кажется, что тетя Нюра где-то рядом. Не могу отвыкнуть. И это понятно. Долгих пятьдесят лет — и пять всего лишь. Это — разница. Полвека прожила она в нашем старом доме. Не просто часть его — а душа.
На старых, довоенных фотографиях тетя Нюра красива на редкость: прямой нос, темные глаза, брови — дугой, густые длинные волосы, в косе да в короне. А в памяти моей — пожилая полная женщина, ростом — невеликая, голова — в седине, лицо — в морщинах. Алексеевна ли, Лексевна, Нюра, тетя Нюра да бабушка Нюра — для кого как.
Лицом и телом — полная. «Хлебушка много ем,— говорила она.— И кашу — с хлебушком, и чай — с хлебушком, а без хлебушка не могу…»
Можешь, тетя Нюра, можешь. В казахстанской ссылке, в жаре, в пекле пустыни, шла на весь день арыки копать, пустых щей из лебеды похлебав, а пайку хлеба свою оставляла сыну, ему — расти. И целый день лишь воду пила. Работа тяжелая, земляная. Сорок градусов в тени, на солнце — под шестьдесят. Долог день летний! А поздно вечером — снова щи из лебеды.
Помню себя совсем малого, но уже «мудрого», от голодухи конечно. Завтрак. Морковный чай. Хлеб. Каждому — пайка. Сто граммов ли, сто пятьдесят. Забыл уже. Дядя Петя и мать на работе. Слава — в школе. Я — за столом.
— Чай остался,— показываю тете Нюре стакан.— А хлеб уже кончился,— жалуюсь.
Тяжкий вздох — и появляется хлеба кусочек. От себя, от своей пайки.
А потом, уже здесь, в нашем доме, разве не то же было: карточки, буханка в день на шестерых.
Это уж позднее, при вольном хлебе, стала говорить: «Не могу без него, без хлебушка. И борщ, и кашу с хлебушком. А могу и так: с сольцой да водичкой. Хлебушка ломоть — и сыта».
Слава богу, хоть хлеба наелась на краю жизни.
В голодные годы она умудрялась печь из отрубей, из картофельной кожуры, собранной на госпитальной помойке, из жмыха, из муки желудевой, из травы. Так что потом, когда настоящая мука появилась, стало ей много легче нас накормить. Напечет пирожков с картошкой да капустой, блинов. Едят и похваливают. Все — сыты. У хозяйки душа не болит. Мясо нашей семье, как и всем другим, было не по карману. Каши приедались. А тети Нюрины пирожки — никогда. И потому первое, что покупалось,— мука. Есть мука — значит, все сыты.
Любила она, когда хвалят ее изделье. Напечет, спросит: «Ну, как?..» — «Хорошие…» Соседей всегда угощали. Это принято было.
Тетка Паня шумит:
— Твои пирожки — золотые! Либо ты колдуешь?! Их жалко есть. Глядел бы на них да нюхал. Какое тесто! Подъемистое! А я заведу… Яиц — не жалею, масла — целую пачку вбухаю. А получается — баламука. Джуреков напеку — лишь кобелю грызть. А у тебя — золотые! Ешь — не уешься…
Тетя Нюра довольна и сразу вспомнит:
— Это мамочка меня научила. Мамочка наша была мастерица. На людей пекла, всем угождала. А я ей помогала, с четырех лет — возле плиты, на подставке. Мамочка меня хвалила: «Помощница,— говорит,— моя…» Она много работала, наша мамочка. Семья — большая, детей — пятеро. А еще — по людям стирала, по ночам хлеб людям пекла.
Тети Нюрина жизнь… Словно вижу ее, весь долгий путь: далекое Забайкалье, Самаринский Затон на быстрой Шилке-реке. «Наша мамочка…» Всегда не мамой звала покойницу Евдокию Сидоровну, а лишь мамочкой. Раннее сиротство. В двенадцать лет — уже хозяйка в доме, старшая в семье, а значит, и главная работница. Обеды варить, стирать, штопать, полы мыть, хлеб печь. «И на людей работала. Стирала, полы мыла. Хлеб жала, снопы вязала со взрослыми женщинами наравне. Сама хозяйка, Кочмариха, меня хвалила: молодец, говорит, вся — в мать».
В нашем доме, когда я рос, взрослых было трое: дядя Петя, тетя Нюра да мать моя.
Вот обычное утро: позавтракали — и спешат, всем некогда. Скорей! скорей! В детский сад, в школу, на работу. Скорей, скорей… Тетя Нюра остается. Она — домохозяйка. Некуда спешить. Лишь дом и двор: корова, поросенок, куры, огород, картофельник да бахча, обеды, завтраки, ужины, грязное белье, стирка, починка, шитье на машинке «Зингер».
Тетя Нюра поднимается утром первой: корову доить, в стадо ее проводить, накормить. Завтрак приготовила, будит: «Пора, вставайте…»
Завтрак. Короткая утренняя суматоха: скорей! скорей! Разлетелись. Немытая посуда на столе; порой — неубранные постели. Тете Нюре некуда спешить, она все приберет.
— Мою работу никто не видит,— иной раз вздохнет она.
Прибралась, и пошло-поехало: домашние заботы цепляют одна другую. Если нет стирки, найдется малая постирушка: рубашки, платки, носки. Домашняя животина своего просит. В магазин надо за хлебом сходить и заниматься обедом. Да еще выбрать время, пошить на старенькой швейной машинке «Зингер». Вся наша одежда той поры: рубашки, трусы, курточки, платья, ночные сорочки, наволочки,— все она шила. И теплые ватные одеяла тетя Нюра «стежила», набивала подушки, собирая по перышку.
Конечно, ложилась она позднее всех. Последние заботы — о детях: поглажены ли рубашки, алый пионерский галстук, носовые платки, брюки.
— Они сами должны все делать…— сердится дядя Петя.— Полночи будешь топать.
Конечно, должны. Но забывают. А тетя Нюра помнит. «В школе поглядят, скажут: такие родители». На нас не скажут. Мы — это Слава, я да Николай. Каждый — в свой черед. Наглаженные рубашки, брюки «со стрелкой», все пуговицы — на месте, носки заштопаны, башмаки начищены, носовые платки — в карманах. Мальчишки — народ забывчивый, тетя Нюра все помнит.
Только теперь, в пору взрослую, понимаю я долгий день ее, во трудах.
— Наша мамочка весь день работала,— вспоминала она,— а ночью надо хлеб печь для себя и для людей. Ночью печка свободная. Мы же в бараке жили. Кухня — общая, печь — одна на всех. А днем мамочка у людей стирает. Устанет, сядет на пол, голову наклонит и сразу заснет. Минут на десять, не больше. Очнется и говорит: «Теперь ночь моя».
В середине дня тетя Нюра всегда спала, тоже недолго, порою сидя, но обморочно-глубоко, даже с храпом. Захрапит и сразу вскинется, скажет: «Вот и хорошо. Теперь ночь моя».
И может допоздна шить, штопать чулки да носки, латать локти рубашек и курток, обшлага — работа тихая. А я рядом пристроюсь, возле света,— книжку читаю, но чаще слушаю неторопливые рассказы о жизни прежней: детство, Самаринский Затон, люди его — вразнобой, что на память к случаю придет. Сегодня — о том, как ездили в гости в Россию, на родину, в Вятскую губернию. Это было во время Первой мировой войны. «Они в деревне бедно жили. Бабушка мне потаясь печеное яичко давала». Один вечер — начало века, другой — к нынешнему дню поближе. О том, как с ледяных гор катались на бычьей шкуре. Про богача Штейна, главной радостью которого была пожарная команда Сретенска, он содержал ее на свои деньги. Могучие «пожарные» лошади, блестящие медные каски; и сам Штейн — в каске, впереди. Потом его расстреляли. Про ссыльных поляков, которых еще при царе в Забайкалье сослали: столетний Неделяк, лысый Липакевич. И про других поляков, тоже ссыльных, но уже в наше время,— их привезли в Казахстан. Про огородников-китайцев. Они свои лавочки держали. Долгая у тети Нюры жизнь, долгие и рассказы. Она что-то шьет ли, чинит, вяжет; я — слушаю.
Из этих рассказов и сложилась для меня жизнь тети Нюры — от малых лет до времен нынешних. А в годы последние она как-то разом одряхлела, много плакала, жаловалась всем: «Не могу работать… Хочу, а не могу. Лопату не держат руки — большая, тяжелая. Иголку тоже не держат — маленькая. Столько вокруг работы, а я ничего не могу…» Жалуется и плачет.
Но это — уже много позднее. А в детстве — долгие вечера с рассказами о жизни всякой, какая была. Я слушать любил. Допоздна сидел, пока спать не прогонят. А тетя Нюра потом еще ставит тесто и не раз за ночь к нему поднимется, подобьет, укутает.
— Чего ты все сигаешь,— сердится дядя Петя.— Спать не даешь.
Утром она первой поднялась, стараясь не греметь, почистила печку и затопила ее, готовит завтрак, потом нас будит:
— Вставайте, пора.
День начинается. Надо спешить. Одним — в детский сад, в школу, другим — на работу. Лишь тете Нюре торопиться некуда. Она — домохозяйка.
В воскресенье мы спим дольше обычного, а тетя Нюра пирожки печет.
Праздники — для тети Нюры лишние хлопоты. Ко дням рожденья шьется какая-нибудь нехитрая обновка и печется знаменитый слоеный торт «наполеон», рецепт изготовления которого записали все соседки, но удается он лишь тете Нюре.
А уж Первомай, Октябрьские, Пасха, а особенно Новый год… Здесь и ночь — не ночь.
Вечерами делали елочные игрушки: рисовали смешные рожицы на пустой, но целенькой яичной скорлупе; клеили цветные гирлянды, вырезали серебряные звезды, белые снежинки. Тетя Нюра весь год собирала листки цветной бумаги, фольгу от чая, складывая все в особую «новогоднюю» коробку.
Новогодние карнавальные костюмы для нас, ребятишек,— тоже ее забота. Немногие родители в нашем поселке о таких вроде бы пустяках заботились. Тем более время нелегкое: накормить бы детей — и слава богу. Да и не умели.
У тети Нюры — особый «карнавальный» коробок, где хранятся вырезки из журналов, рисунки, выкройки. Из маскарадных костюмов старшего брата помню «Обезьяну». Настоящая шкура на пуговицах, с длинным хвостом. Вроде сейчас — из Африки. Вся школа сбежалась ее глядеть.
Остались фотографии, детсадовские, школьные, где я — «Русский богатырь» с мечом и щитом, в кольчуге, в остроконечном шлеме, а еще — сказочный принц в короне, звездочет-волшебник, клоун в колпаке с бубенцами.
Какая радость, когда оденут тебя принцем, богатырем. Все глядят на тебя, завидуют. А потом ты получаешь «приз» — книгу с надписью: «За лучший карнавальный костюм».
Позднее другие матери, глядя на нас, стали перед Новым годом приходить к тете Нюре, советоваться. Она всем помогала. Порой и не просили ее. Помню, пришел соседский мальчишка, он сиротою возле деда с бабкою рос. Стоит у порога, глядит, как меня наряжают в «Богатыря». Конечно, завидно.
Тетя Нюра все поняла, говорит:
— Давай и тебя обрядим.
Буквально в минуту сыскала она старый полосатый халат, казахстанский, подвернула, подстрочила полы и рукава, кушаком мальчишку подпоясала, обмотала голову пестрой тряпкой, подрисовала усы, мочальную бороденку подвесила. И уже не соседский пацан стоял, а какой-то восточный хан с серебряной саблей на боку. Это было — чудо.
С девочками было еще проще: марля, вата, серебряная фольга, «золотая» корона — вот и «Снежинка», «Снежная королева», «Ночь», «Осень». Все было в тети Нюрином картонном коробке: багряные кленовые и желтые тополевые листья, сухие цветы — золотистые шарики иммортелей, бессмертники. Волшебный коробок, памятный.
Тетя Нюра на всех детсадовских и школьных елках была Дедом Морозом. В высокой красной шапке, в шубе, с бородой и усами.
— Здравствуйте, детки!— басит Дед Мороз.
А я вижу глаза. Не Деда Мороза, тети Нюры. Их не скроет ни шапка, ни мохнатые ватные брови.
— Здравствуйте… Я пришел к вам издалека…
Она рассказывала, как в молодости отличалась на карнавалах у себя на родине, в Сретенске да Самарзатоне.
— У богатых — бархат да шелк,— вспоминала она.— А я из простого… «Смычка города с деревней» — один костюм назывался. Тогда это было в моде: смычка рабочих и крестьян. Взяла обычное платье. Половину, сверху донизу, железной стружкой украсила. В мастерские пошла и набрала у токаря красивую стружку. Другую половину — хлебными колосьями. На одной ноге — лапоть, на другой — сапог. На голове — венок из колосьев со стружкой и серп и молот из картона. Мне дали первый приз — отрез на платье. А когда жили во Владивостоке…
Они и теперь где-то пылятся, на чердаке, в сарае, тети Нюрины заветные коробки с надписями, чтобы не спутать: «Костюмы», «Игрушки». Сколько радости было, когда открывали их… А вечерами мастерили черепашек из картона и ореховой скорлупы, пушистых цыплят из ваты, хлопушки. И у кого больше радости — у нас, у тети Нюры?
Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
. . . . . . . . . . . . . .
Стали дни коротки,
Солнце светит мало,
Вот пришли морозы,
И зима настала.
Наша тетя Нюра была, в общем понимании, человеком малограмотным. Наверное, в «личном деле» ее, в графе «образование», стояла запись «н/н», то есть незаконченное низшее. Она успела проходить в школу, кажется, одну лишь зиму, а на другую, в январе, умерла ее мать, моя бабушка, Евдокия Сидоровна, не дожив до тридцати лет. Тетя Нюра осталась в семье старшей, младше ее — трое. У отца рука не сгибается, считай, калека. Значит, тетя Нюра — хозяйка. Все на ее плечах: стирка, уборка, еда. Один лишь хлеб столько сил отнимал: заведи, поставь, промеси, испеки.
— Мамина квашонка большая. Тяжело. Никак не могу тесто промесить. Попросила соседа Вавилова, он мне сделал поменьше квашонку. С ней управлялась. А в школу — некогда. Пробовала ходить, тогда по дому не успеваю,— вспоминала она.— Папа молчит, а я вижу… Не стала в школу ходить. А учительница меня любила. Она папе говорила: ей надо учиться обязательно, у нее способности.
Тетя Нюра рассказывает, вздыхает. Она и на склоне лет помнила много стихов. И все — хорошие. Посмотрит, бывало, зимой в окно и начнет:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь…
Особенно ей по душе были последние строки:
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно…
Она лукаво улыбается и пальцем грозит.
То ли память у тети Нюры была лишь на хорошее, а может, тогдашние буквари были поумней, но декламировала она Пушкина, Тютчева, Некрасова, Никитина — только светлую классику.
Вот моя деревня;
Вот мой дом родной…
. . . . . . . . . . . . . . .
И друзья-мальчишки,
Стоя надо мной,
Весело хохочут
Над моей бедой.
Лицо ее просто сияет, лучится добрыми морщинами. В строках этих для нее и радость, и грусть, потому что детство вспомнилось.
— У нас в Затоне каждую зиму снежные горы устраивали, высокие… С них все катались: и стар, и млад…
Обычно стихи ей приходили на память по временам года.
В марте:
Зима недаром злится,
Прошла ее пора…
И не запнется, ни единой строчки не пропустит, даже в старости, уже в восемьдесят лет.
Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя…
Весне и горя мало…
В апреле:
Травка зеленеет,
Солнышко блестит…
Особенно памятны мне — тоже апрельские — строки. Я эти стихи сразу запомнил, на всю жизнь. В детстве мы их вдвоем с тетей Нюрой декламировали:
Полюбуйся, весна наступает,
Журавли караваном летят…
Обычно в эту пору мы на огороде, в земле копаемся: грядки, борозды, рассада. Или в логах, за поселком, картошку сажаем. Солнышко, тепло, одуванчиков желтый цвет. И такая радость от стихов, потому что все в них правда. Тетя Нюра негромко читает, а я во все горло ору:
В ясном золоте дни утопают!
И ручьи по оврагам шумят!
Весна… лето пришло… Как не радоваться.
С легкой руки тети Нюры я стал знаменитым чтецом-декламатором в детском саду и в школе, потом и актером в пьесах Розова, Корнейчука и Островского. Островского тетя Нюра любила. В молодости в своем клубе она была завзятой артисткой.
— «Царь Иоанн Грозный»,— вспоминала она.— Богатая была постановка. «Без вины виноватые», «Бесприданница». После работы все в клуб бежим. Старый Липакевич — в массовке, а все равно сидит. В полку выступали, в Матакане. Нас любили.
Самаринский Затон на быстрой реке Шилке… Недолгое тети Нюрино детство, молодость, комсомольская ячейка, ликвидация неграмотности… «Я в люльке качаю ее ребенка и учу ее…» Первое радио в клубе. «В Москве будут говорить, а мы услышим…» Свекровь Мария Павловна… «Какой человек хороший, ее все любили…»
Пароходы на Амуре, на которых работала. Повара-китайцы Иван да Миша. «Такие работящие. Они меня любили. Я им колпаки постираю, накрахмалю…»
Москва… Общежитие института, где учился муж Петя. «Жили за ситцевой занавеской… Дружно… Все вместе…» После института — Хабаровск, новая жизнь. Квартира в бараке. «Такие хорошие люди… Старый механик Бушнев с женой…»
Потом начались годы страшные. Арест мужа. Высылка. Она за ним могла не ехать. НКВД объяснил, что может остаться в квартире, тем более сын Слава — маленький и сама на седьмом месяце беременности. Но такой и мысли не было: оставить мужа. Только с ним. Поехали в одном эшелоне: «враги» в первых вагонах, под надзором охраны, семьи «врагов» — за ними, без охраны.
Начинались тяжкие годы: Майеркан, Бурлю-Тюбе, Балхаш, Или… Новый арест мужа. Приговор: высшая мера. «И вам недолго ходить,— сказали ей.— Приготовьтесь».
За себя она не боялась. Жалела сына. Тогда они и съехались, стали жить вместе с родной сестрой Тосей — вдувой моей матерью, тоже с сыном, со мной на руках. Одну арестуют, другая останется при детях. На крайний случай — младшая сестра Нина, у нее муж в НКВД.
Семья врага народа. Нет ей житья. Из санитарок, из больницы, уволили. «Может отравить…» В сберкассе поработала лишь неделю уборщицей. Тоже нельзя. Там — «материальные ценности». Уволили. Больше не принимали никуда. Нанималась за людей на трудработы: арыки в степи копать, у людей же стирала, полы мыла у начальства, немного шила, вязала из шерсти варежки. Слепили мазанку на краю поселка, сажали огород, ловили рыбу, даже завели козу.
А после войны наконец этот поселок в России, на Дону. Дядя Петя вернулся из лагеря. Стали жить и даже свой домик купили. Вот этот — наш старый дом. Тетя Нюра была душой его — хозяйкой и главной работницей.
Обмазывать дом глиной и белить его, изнутри и снаружи, всякий год по весне. А если сильные дожди, то подмазывать да подбеливать. Мыть, красить, чистить дымоходы; за печкой следить, подбеливать, чтобы гляделась она всем на завид: белая, словно курочка. Летняя кухня во дворе. Та же песня: глиной мажь и бели. При ней кухня стояла нарядной игрушечкой. Это теперь облезла и покосилась. Пока не запретили корову держать, о ней забота. Свинья, куры — у всех свои хатки. И требуют рук и рук.
А огород, бахчи, картофельные деляны. Везде — лопата, мотыга; летняя жара, комар с мошкой. Конечно, и мы работали, помогая. Но было у тети Нюры присловье:
— Чем вас просить, я лучше сама сделаю.
Когда осенью резали свинью, не пропадало ничего. Тетя Нюра все кишочки промоет, наделает колбас: кровяную, ливерную. «Мамочка меня всему научила…» Добела промоет и проскребет требуху, свернет ее в трубочки, перевяжет шпагатом, сварит и вынесет на мороз. К обеду порежет колечками, заправит томатной подливой… Вспомню, слюнки текут.
Обеды, ужины, завтраки, дела домашние, огородные, о скотине да птице забота. А еще — все лето готовить к зиме припасы. Варенья варить, компоты. Ни одна ягодка, ни одно яблочко не пропадет. Клубника, вишня, смородина, алыча, абрикосы, сливы, груши… Банка за банкой. На жарком солнцепеке — просторные противни. Сушатся нарезанные фрукты для зимних компотов-взваров. На солнце же сохнет пастила: сливовая, яблочная. Маринуются помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки. Готовятся и тоже закрываются в банки салаты с репчатым луком, алым болгарским перцем. Густые томатные да перцовые заправки, без которых борща не получится, а лишь бледные «больничные» щи. Наш борщ пламенеет в тарелке. От запаха — голова кругом: укроп и чеснок, петрушка, белые корешки ее и ажурные листики.
За банкою банка уходят в прохладную тьму погреба и подполья.
А осенью квасятся и солятся в высоких бочках капуста, помидоры, огурцы, мочатся крупный «калеградский» терн и «яндыковские» яблоки в ржаном сусле, в соломе.
Все это — тетя Нюра, ее руки. И все съедалось. Картошки сварит, достанет пахучих огурчиков в укропе да миску щекастых алых помидорчиков в смородиновом да вишневом листе, с хренком для запаха. Сели к столу. Хрумтят да почмокивают. Наелись.
За зиму все уходило. Пустели погреб, подполье. Летом все начиналось сызнова. Едоков хватало. Гости приезжали: тетя Нина, дядя Миша, Анатолий, Жанна, Харитоненки с Украины, Славин друг Сема, детдомовский сирота, подолгу живал. На лето тетя Нюра сшила ему белые брюки, рубашки. «С первой получки,— обещал Сема,— куплю вам отрез на платье». Сколько их было, этих обещаний! Конопатый Генка соседский — тоже сирота. Рубашку ему сошьет. «Вырасту, с первой получки…» Она всех жалела, особенно сирот. А для меня — так вовсе защита.
У дяди Пети, человека много перенесшего и больного, характер был очень нелегкий: часто ворчлив, придирчив по мелочам и вспыльчив до бешенства. А я с малых лет не больно уступчив. Вот и доставалось порой. Защита моя — тетя Нюра. Помню, в детский сад я еще ходил. С утра заупрямился: старшие добивались, чтобы я сам чулки пристегнул к резинкам. Нехитрое приспособление — петля да шпенек. А я говорю: «Не могу… Не умею…» Слово за слово… Дядя Петя хватает кусок провода и начинает стегать меня, все более ожесточаясь. Мать кудахчет: «Правильно… Надо учить, надо учить… Чтоб не упрямился». Хорошенькая учеба… Спасибо тете Нюре. Она была в огороде, услышала крик, прибежала и отняла меня.
Было, всякое было. Но когда на меня поднималась нелегкая дядина рука, защитой была тетя Нюра. Порой ей за это доставалось, и довольно крепко. Она плакала, но стояла на своем: «Ругать — ругай… Но бить — не смей».
Спасибо, тетя Нюра. За все…
Она умерла пять лет назад. Схоронили и помянули как положено: на девятый день, на сороковой. Потом пошли годовщины.
Умерла. Но долго казалось мне, что тетя Нюра где-то здесь: в огороде, в летней кухне, в сараях — словом, в привычных заботах. И вот сейчас она выйдет, покажется… Вот-вот…
Она не вышла, она умерла. И старый дом наш стал быстро дряхлеть. Стены его остались теми же, но словно вынули из нашего дома душу. А без нее всякой жизни недолгий срок. У людей, у вещей и у нашего дома.
1997 год
«Новый Мир», №7
Житейские истории
«Не ругай меня…»
Старый наш дом размерами невелик: кухонька в одно окошко, по обе стороны кухни — тесные комнатки. Дверные проемы — с нехитрыми шторками. Секретов за ними не удержать.
Обычно, во времена прежние, в холодную пору, вся жизнь текла на кухне, возле теплой печки да обеденного стола. Там готовят еду, там обедают, ужинают, там и гостей принимают в будни: соседка забежит, кто-то заглянет мимоходом.
У меня в старом доме — место насиженное: в горнице стол. На нем бумаги да книги. Перед глазами — два окна на улицу. Вижу, кто к нам идет, а кто мимо проходит. За спиной — кухня, там — жизнь обыденная. Слышу ее, порой вмешиваюсь.
Два случая. Между ними — срок долгий, почти жизнь.
Первый — совсем давний. Тогда наш Петя был маленьким. Учился в третьем, а может, в четвертом классе. Ждали его к обеду. А главное, для какого-то дела. Уговорились заранее, что в этот день он вернется из школы сразу после уроков, нигде не задерживаясь. Ждали да ждали, а его нет и нет. Как говорится, все жданки проели. Я уж начинаю злиться. А матушка моя — человек и вовсе серьезный. Пети нет, она меня точит:
— Это ты виноват. Приучил, он никого не слушает. Никакой ответственности. Надо с детских лет. Надо…
И прочие слова. Она их много знает.
Ждем его и ждем, ждем да поджидаем.
Наконец вижу: мчится наш ученик. Понимает, что к сроку давно опоздал, и спешит.
— Летит…— сообщил я матери.
— Я ему сейчас устрою прилет,— говорит она.
По голосу понимаю, что дело серьезное. И конечно, она права. Взрослые ждут. Специально ведь предупредили. А он, видите ли…
Калитка — настежь, быстрые шаги на крыльце. Я навстречу ему не поднялся, остался в горнице, за столом. Пускай мать встречает, она это умеет лучше меня.
— Тебе что было велено…— начала было мать, но перебил ее, конечно же, виноватый, с захлебом голос:
— Не ругай меня, пожалуйста, ладно?..
И такая была в этом голосе наивная просьба, что я невольно улыбнулся, поднялся из-за стола, чтобы мать немного, но сдержать. Она порою ругаться мастер. Особенно под горячую руку. А мне жалко стало — уж больно он хорошо попросил: «Не ругай, пожалуйста…» — не испуг, а лишь искренняя просьба. Мальчишеская, детская: «Не ругай».
Я поднялся и вышел на кухню. Стояли друг против друга строгая мать моя и маленький Петя, взъерошенный воробьишко: пальто — нараспашку, волосы — дыбом, на лице и в глазах — наивная детская просьба: «Не ругай». Все так ясно было, что помощи моей не понадобилось.
— Не ругай…— повторила мать и тоже улыбнулась.— Ну, ладно. Тогда не будем ругать.
Я вернулся в горницу, к своему столу.
Прошло много и много лет. Тот случай, конечно, давно забылся. Сколько было всего, и доброго, и несладкого,— жизнь течет. Матушка моя состарилась, Петя вырос. В старом доме теперь мы проводим лишь теплое лето. А чуть заосенеет, сразу переезжаем на городскую квартиру.
И вот похолодало, месяц — сентябрь. Пора «на крыло». Сборы наши недолгие. Обычно все оставляем. Но пожилого человека с места насиженного стронешь не вдруг. Вот и мать наша собирается будто навсегда. Этот узелок у нее с больничной одеждой. «Вдруг меня в больницу заберут,— пугает она.— Тут все приготовлено: халат, белье». Другой узел серьезнее — «смертный». «Начнете искать… А здесь все готовое: нижнее, верхнее, платок, чирики». И еще один узел похоронный: красная материя на гроб, черный креп, полотенца, на каких гроб нести, платки, какие раздавать,— все как положено.
Словом, для матери переезд — дело серьезное. Готовится к нему долго. А тут еще надо со всеми прощаться: Фрося да Лида, Гордевна да Шура. Ко всем зайти, поговорить напоследок. Может, и увидеться уже не придется. Долгая зима, а жизнь — на излете.
Поэтому с переездом получается так: похолодало, собрались, уехали, а мать еще два ли, три дня, а то и неделю на старом месте копошится. Потом за ней приезжаем. Тогда уж и дом на запор.
Вот и нынче — уехали, матери назначили срок. Петя — человек уже взрослый, закончил институт, работает, на машине рулит. Подъезжаем с ним в назначенный день. Мать на нас машет руками: «Не собралась, не успела, куда вы меня торопите…» Отложили отъезд. Бог с тобой, собирайся спокойно.
Через день — та же песня: «Гордевну не видала, к Фросе не заходила… И кой-чего надо…» Я молчу, привык, а Петя ее поругивает: мол, копошишься, два халата не сложишь, так можно и до снега, с работы другой раз отпрашиваюсь. Поворчал он, мать признала вину. Но отъезд все же отсрочили.
И вот новое утро. Подъезжаем. Пасмурно уже, зябко. Дом нахохлился. Кое-где у соседей дымки из труб. Подтапливают. Осень.
Вошли в дом. А у матери только-только самые сборы. Опять все богатства свои разложила. Без слов видно, что не готова.
Я лишь головой покачал, охнул. А Петя, он молодой, горячий. И ведь верно: у него — работа, а он бабку каждый день возит-возит и никак не увезет. Раскрыл он было рот, да, слава богу, ничего сказать не успел.
Мать наша стоит, маленькая, виноватая, голову подняла и попросила робко:
— Не ругайте меня, пожалуйста.
От тихих слов ее, видно, не только мое дрогнуло сердце. Петя вздохнул и сказал неожиданно мягко, с усмешкой:
— Ладно, не будем тебя ругать.
Господи, как же она постарела, наша мать! Высохла, согнулась. А какая была… И ростом, и статью. А характер… Куда что делось. Человек я — тоже немолодой. Повернулся, ушел в настывшую горницу, сел за стол, пустой и непривычно просторный, стал глядеть в окошко.
Вот она, жизнь. Вроде и не больно короткая, а все равно на один огляд.
У забора
Он появился три ли, четыре года назад, стал жить у вдовой нашей соседки. Приняла она его, значит — примак. Так и зовут: «Нюрин примак».
Мужику — за семьдесят. Телом — крупный, на лицо, как говорится, сытый, но какой-то рыхлый, сырой. Все же возраст: кряхтит, охает, бережет поясницу.
Появился, живет, никому не мешает. Помаленьку узнали: он — с дальнего хутора, вдовый, вроде учителем работал. Оно и заметно, что образованный человек. Все знает. Про болезни, про лекарства, а главное — про политику. Газету выписывает, и не районную, а повыше. Это редкость теперь. Все знает и все объяснит, растолкует, голоса не повысит. Объясняя, будет помахивать большой мясистой ладонью.
Собеседников ему хватает. Через один забор — пенсионеры, через другой — тоже. Заботы — одни: в грядке покопайся, разогнись, поругай жука колорадского, луковую муху, начальство, какое «страну довело». Погутарил — и снова к делам: сажай, пропалывай, поливай.
Тихий поселок. Старые люди. О чем разговоры? Конечно, о пенсии. Опять ее вовремя не принесли. А ведь вроде обещали. А если и принесут — тоже задача. За электричество, за радио заплати. Газ в баллоне кончается. Тоже надо. И про зиму, про топку нельзя забывать, понемногу денежку откладывать. Уголь и дрова. А куда денешься? И кое-что покупать надо: без хлеба не обойдешься и молочка хочется. Крупа, макароны, сахар да соль. Так и течет копеечка. И детям надо помочь. У них — вовсе беда!— нет работы.
Есть о чем поговорить, когда разогнешь спину и отдыхаешь от дел огородных.
Новый сосед, он все объяснит, растолкует, спокойно и без крика.
— При советской власти разве было возможно, чтобы пенсию вовремя не принесли или зарплату не заплатили?— не убеждает он, а лишь спрашивает собеседника.
И тот совершенно резонно отвечает:
— Никогда. У нас на авторемонтном аванс — пятнадцатого, а получка — четвертого. Всю жизнь.
— Ну вот. А медицина при советской власти? Разве было возможно, чтобы со своими подушками, с одеялом, с матрацами шел человек в больницу? И лекарства свои нес?
Он вопрошает спокойно, ни на чем не настаивает, просто ждет ответа. Сразу видно: грамотный человек. Это — не Юрка, который глотку рвет: «Режим Ельцина! Преступники! Уничтожение народа!»
Нет, от Нюриного примака крика не услышишь. Не тот человек.
Мы с ним порой разговариваем о делах сельских — как и что. Он знает, что я пишу. Кое в чем он не согласен. Но возражает спокойно, мягко. Примерами старается убедить.
Вот наш разговор, последний. Довольно долго мы простояли. Он — в своем огороде, я — в своем. Меж нами — легкий заборишко.
Дело вечернее. Жара спадает. Солнце лишь закатилось. Высокие облака горят.
— Был у своих…— так начал мой собеседник.
«У своих» — это значит на хуторе, где дочка, зять, внуки.
— Ужас какой-то…— прижмурился он и голос понизил до шепота. Не потому что боится кого-то, а потому что «ужас». Это бы Юрка заорал: «Развал! Преступление!» Чтобы весь поселок слыхал. А этот… Зачем орать?— Ужас…— повторил он.— Уборка идет, воруют зерно в открытую. По домам везут машинами, тракторными тележками. Прямо от комбайнов. Не в амбар, не на ток, не государству — а каждый себе. Ужас. Никого не боятся. Растащиловка.
И тут же, для примера, он вспомнил и рассказал два случая из своей прежней хуторской жизни. О хлебе, о зерне. Как оно раньше доставалось, с каким трудом. А без него ведь не проживешь, без зернеца. Свиней надо кормить, гусей, кур. Словом — жить.
Итак, случай первый.
Подъехали как-то ночью ребята. Зерно — дело ночное. Подъехали, спрашивают: «Будешь зерно брать?» — «Конечно!» Высыпали у порога — и ходу. Надо быстрей прятать. Куда? Сараи, катухи, птичники — все это на виду. Пусть и ночь на дворе, но машину могли заметить соседи. Кто-нибудь доложит. Придут — где первым делом искать начнут? В сараях. Вот и попался. Подумал-подумал, пришла мысль. Снял полы в летней кухне. Отодрал все доски. Засыпал туда зерно и снова полы прибил. Все это — ночью, во тьме и без света. Какой свет? Люди могут заметить. Доложат куда надо. Так впотьмах и трудился, все руки побил. Но все зерно под половицы не ушло. Немного осталось, а тут уже рассветает. Быстренько ссыпал его за печку там же, на летней кухне. До вечера пусть лежит. Там — занавеска. Задвинули ее. Все в порядке.
Утром пришла соседка. Как раз сидели, завтракали. Она пришла, присела. Тары да бары. Хозяин глянул за печку, где зерно, и ахнул. Занавеска короткая, не до пола, и вроде зерно видать. Сердце оборвалось: сейчас соседка заметит, она — глазастая. Уже и завтрак не в завтрак. Все кажется, будто именно туда она и глядит. Насилу дождался, пока она уберется. Даже пот прошиб. Ушла. Быстрей-быстрей занавеску надстрочила жена, чтобы до вечера никто не увидал.
А под полами зерно так и хранилось до самой весны. Хорошо придумал. Когда надо, половицу поднимешь, наберешь ведерко — и доску на место. Так зиму и прожили.
Правда, потом весной, когда зерно кончилось, увидели, что мышей набежало в подпол — божья страсть. Весь фундамент — в норах, словно пчелиные соты. Изгрызли напрочь. Пришлось переделывать. Но это уже — ерунда. Главное, что зиму прожили спокойно.
И сразу — второй случай, о том же.
Встречают Новый год. Тогда большие компании собирались: родня, свойствбо, друзья. Тридцать первого вечером с женой нарядились, отправились. Пришли на гулянку. Там — елка, стол накрыт, музыка, песни — словом, праздник. И вдруг часов так в десять, а может, в одиннадцать хуторской участковый милиционер пальцем поманил в сторону и говорит потихоньку: «Зерно в доме есть?» — «Ну, есть…» — «Иди убирай, на тебя — сигнал, написали». Сразу сердце ушло: «сигнал» есть — значит, в любую минуту могут нагрянуть. Им праздник не праздник. А зерно в самом деле есть. Как без зерна… Приедут, найдут — сразу посадят.
— Жену — за хвост, и рысью домой, на ходу все рассказываю. Поднимаем детей, они помогают. Насыпаем зерно в мешки. Мотоцикл завел, гружу мешки и увожу в поле. Скирда стоит недалеко. Вожу, в скирду прячу, соломой прикрываю. Всю ночь возил. Под утро попадали и заснули. Утром проснулся, сижу завтракаю. А в окно вижу эту скирду. Далеко стоит, но вижу. Снега еще не было. Овец выпускали пастись по жнивью. Завтракаю и вижу: отара прямо к этой скирде идет. Подходят овечки и лезут в скирду, гребут. Чай не допил, бросил. Бегом к этой скирде, отару отгонять. «Бырь!— на них.— Бырь!» Вроде о колхозной соломе забота. Еле отогнал. А ночь пришла — опять на мотоцикл, грузить мешки с зерном и возить их аж на Дальнее поле. Там — хоронить. И до самой весны туда наведывался. С ружьишком, вроде на охоту. Притянешь полмешка. Остальное — лежит.
Рассказал сосед эти две истории. Сделал вывод на личном, так сказать, опыте:
— Дисциплина была. Потому что боялись. Обнаружат зерно — десять лет получишь, без разговоров. А ныне — в открытую: бери, вези… Растащиловка.
Он вздохнул, я вздохнул.
А вечер стоял хороший. После долгой дневной жары повеяло прохладой, хорошо дышалось. Но пора было к домам прибиваться. И ему и мне. Попрощались. Он пошел было к летней кухне, к вечернему чаю, да вдруг остановился, сказал: «Еще вспомнил». Не поленился вернуться к забору и третью историю рассказал:
— В соседях у меня жили колхозные специалисты — зоотехник и инженер. Дом построил колхоз. Под одной крышей, но два входа, на два хозяина. Базы, сараи, конечно, у каждого свои. А вот черный баз, куда от скотины навоз выбрасывают, он — общий. И вот эти мужики, молодые, чего придумали. Чтобы зерно не прятать, не хоронить, а потом не трястись, что кто-то доложит, приедут, обыщут, найдут, чтобы спокойно спать по ночам, они вот что придумали. На черном базу была у них большая навозная куча. Она всегда была. По очереди, то один, то другой, привозят зерно и выгружают его прямо в эту навозную кучу. Высыпал, вилами перемешал, забуровил.
Сосед, рассказывая, вспоминая, даже засмеялся и похвалил:
— Умные ребята. Свиней не держали. А птицы — море. Гуси, куры, утки, индюки. И все в этой навозной куче роются. Они зерно сыщут. Птица гребется — значит, все хорошо. Клюет, сытая. Прошло время. Выгребли. Твоя очередь, вези. Привезти ведь нетрудно. Тем более — начальство. Техника и зерно в руках. А вот спрятать — это задача. Это — главное дело: чтобы не увидели, не доложили, чтобы не приехали с обыском да не нашли. Тогда ведь это первое было дело: хищение социалистической собственности. Сразу — десять лет. И никаких разговоров. Вот и тряслись все. Без зерна — никак. Надо ведь кормиться. А значит, хорони его да трясись. А у этих ребят — порядок. Привезли, в навозную кучу высыпали, перебуровили — и концы в воду. А птица выгребет, сыщет. Умные были ребята.
Он закончил рассказ посмеиваясь и пошел к себе, шаркая калошами. Старый человек, участник войны, историю, кажется, он преподавал в сельской школе и даже директором был.
А историй житейских у каждого из нас много. Долгая жизнь. Особенно когда раздумаешься, вспомнишь.
«Звездочка ясная…»
Семейные альбомы. Толстые фолианты, битком набитые фотографиями. Нынче они понемногу из жизни уходят, как старый век. В нашей семье у каждого был свой альбом. Его еще в детстве дарили. Понемногу он полнился. Листаешь, перебираешь фотографии — и видишь воочию свою жизнь: от голопузого малыша до времен последних. Свою жизнь и тех, кто рядом был: родные, друзья детства, потом — взрослой жизни.
Прежде — я это хорошо помню — каждое воскресенье все вместе смотрели семейный альбом, осторожно переворачивая его картонные листы. Выберется свободный час, кто-то предлагает: «Давайте альбом поглядим». Гостям обязательно альбом показывали. Но в своем кругу — лучше.
В горнице садимся вокруг стола. Альбом — посередине. Подолгу глядим. Каждая фотография — это жизнь, дни ее, память. Младшие то и дело спрашивают: «Кто это? А это?» Иногда просто какое-то имя скажут. А порою текут рассказы. Истории порой удивительные. Вот одна из них, о Зине Поповой.
Подруги моей матери далеких тридцатых годов — стриженые рабфаковки да студентки. Мать училась на рабочем факультете, а потом — в институте. Одна из близких подруг — Зина Попова. С нею вместе росли в Самаринском Затоне, что возле Сретенска, в Забайкалье. Вместе росли, окончили школу, потом учились в Иркутске, правда в разных институтах. Мать моя — в пушном, Зина Попова — в юридическом.
Надпись на фотографии: «Тоня! Как крепка память о днях, проведенных в детстве…»
Со снимка глядит милая молодая женщина с коротко стриженными легкими волосами. Она красива. Мать моя и сейчас говорит: «Она такая красивая была». Высокий гладкий лоб, прикрытый легкой прядью. Большие глаза, прямые брови, мягкий овал лица. Даже сейчас с фотографии словно лучится ее теплый взгляд.
— Она такая хорошая была, такая добрая,— вспоминает мать.— Так она много пережила в детстве.
Далекое Забайкалье. Город Сретенск на быстрой реке Шилке. В двух ли, трех верстах от него, по реке выше, Самаринский Затон — малое селенье на устье Самаринского ручья. Десяток-другой домов и семей. Одни — крестьянствуют, другие — работают в судоремонтной мастерской. А у Зины Поповой отец и старший брат воровали скот в окрестных деревнях. После одной из краж, спасаясь, они убежали в Китай. До границы — рукой подать. И порядки тогда были иные. Сбежали они и сгинули.
Осталась Зина Попова с матерью и младшей сестренкой. Жили в отчаянной бедности. Зарабатывали на хлеб тем, что латали мешки для склада. Мать моя помнит: «Толстые мешки, грубые. Иголки большие. У Зины всегда были пальцы исколоты, даже напухали. Платили им мало. За молоком мы вместе с Зиной всегда ходили. Я — с бидоном, она — с кружечкой. Немножко они молока покупали, лишь чай забелить».
Зина Попова была красивой смладу, но косил у нее правый глаз. Ее дразнили: «Косой заяц». А еще «воровкой», из-за отца и брата. Здесь усердствовал ее одноклассник Блинов — «общественник-активист», как их тогда называли, то есть активный комсомолец.
— Эту воровку надо из школы гнать!— усердствовал Блинов.— В комсомол таких не принимаем. Отец и брат — враги!
В комсомол ее, конечно, не взяли. Но училась Зина хорошо, была отличницей. С младшими ребятишками возилась. Они любили ее, ходили за ней гурьбой. Даже дома: она на полу сидит, мешки штопает, а ребятишки — вокруг. Она им что-то рассказывает, песни вместе поют. А тот же «активист» Блинов ее на собраниях разоблачает: «Эксплуатирует детский труд!»
В клубе она была заводилой. У нее голос красивый. Хорошо пела. Мать моя и теперь помнит песни ее.
Ванька — слесарь на заводе —
Полюбил глаза одни.
Темной ночью на свободе
Повстречалися они.
Звездочка ясная,
Звездочка красная
Им улыбалась с высоты.
— А потом этот Ванька-слесарь в Красную Армию пошел и вернулся с наградой.— Мать не помнит всех слов и объясняет: — А конец такой: «Звездочка ясная, звездочка красная горела на его груди». Такие вот тогда песни были.
Зина Попова заканчивала учебу в школе, и тут ей повезло: приехал в Сретенск глазной врач, который сумел сделать ей операцию — и косоглазия как не бывало. Стала Зина вовсе красавицей, какой и глядит сейчас с фотографии.
Она на «отлично» закончила школу и поступила в юридический институт в Иркутске. Там ею тоже были довольны: умная головка. А из Самаринского Затона во все концы, и конечно в институт, пишет и пишет «активист» Блинов: «Она — враг. У нее связь с заграницей. Она не должна в институте учиться». Но там, в институте, видят ее, ценят и не дают в обиду.
Зина продолжает учиться, а потом встречает любимого. Она его звала не Иваном, не Ваней, а только Ванбюшкой. «Мой Ванбюшка… Мы с Ванбюшкой…»
— Они были такие красивые,— вспоминает моя мать,— и так друг друга любили. Все на них любовались. Такая пара…
Институт был закончен. И была свадьба с Ванюшкой. Все горькое осталось далеко позади: бедное детство, косоглазие, обидные прозвища.
Началась новая жизнь, в которой, словно в песне,
Звездочка ясная,
Звездочка красная
Ей улыбалась с высоты.
Где-то в тридцать пятом или тридцать шестом году, когда мать моя уже работала на Севере, Зину Попову арестовали как врага народа. Больше о ней никто не слышал. Осталась лишь фотография в альбоме матери: красивая молодая женщина с доброй, какой-то лучезарной улыбкой. Скоро не будет и фотографии.
1998 год
«Новый Мир», №3
Возле старых могил
Когда подъезжали мы к старинному кладбищу станицы Голубинской, что на Дону, в Калачевском районе, то мельком, сквозь планки забора, увидел я девушку, сидящую возле одной из могил. Мы обогнули просторное кладбище, подъехали к воротам. А потом долго бродили между старых могил, разглядывая замшелые плиты, кресты, вырубленные из тяжелого камня песчаника: «1870 год… третьего дня декабря…» Полустертые временем даты и письмена. А рядом — могилы новые, вчерашнего дня и нынешнего. Вспомнил о девушке, которую видел сквозь забор. Вспомнил — и пошел к тому месту. Но не было на кладбище живой души, кроме нас. Лишь — могилы, кресты, надгробья. Кладбищенская трава, кладбищенский покой. И высокое донское небо.
Может, померещилось? Но вроде ясно видел: сидела. Видимо, ушла — слава Богу, живая.
Живы и мы. И потому так тягостно говорить и слушать печальное. Вот и нынче: доброжелатель мой — газетный редактор, прочитав материал, позвонил и попросил: «Давай изменим заголовок. Поставим: «Возле старого погоста». А то «могилы» как-то нехорошо звучат». Что ж, изменим — значит, изменим. Бумага стерпит, как и прежде терпела.
А вообще-то писать очерки ли, заметки о сегодняшнем дне русской деревни — занятие неблагодарное, горькое. Таким оно было, таким и осталось. А ведь как естественно наше стремление к доброй солнечной жизни, как хочется тепла душе и телу, пусть не сегодня, так непременно завтра. Сегодня уж как-нибудь перетерпим. До вечера — недолго. А вечером в «Новостях» прямо рукой показывают — могучей властной рукой, пусть в воздухе, но рисуют,— как плавно закончились все невзгоды и наконец вывезла нас кривая к иной жизни, вверх и вверх потянула. Разве не хорошо? Особенно — к ночи. А утром проснешься, возьмешь газету — на первой странице неглупый вроде человек, писатель, да еще и доктор сообщает, «что в опубликованном интервью с министром сельского хозяйства и продовольствия Хлыстуном сказано, что Россия наконец-то будет не покупать зерно, а, наоборот, может быть, продавать. Впервые с 1963 года!».
Славно-то как… Дожили.
Выписка из протокола правления коллективного сельскохозяйственного предприятия «Победа Октября» от 7 июля 1997 года: «…озимая пшеница пропала почти полностью по неизвестной причине, горючего нет из-за отсутствия финансов, корпорация горючего не дает из-за большой задолженности 1995 и 1996 годов. Постановили: 1. Продать за наличный расчет что можно… 3. Просить районную администрацию об отсрочке погашения задолженности… за 1997 год».
Что это? Грязное пятнышко на фоне подъема, который… «впервые с 1963 года!»? Склочный характер автора? Ведь не лень было ехать, время убивать, жечь дорогой бензин, гробить машину. Искать худое, когда рядом… И ведь верно: не в «Победу Октября» недавно министр сельского хозяйства приехал и премьер-министр. А куда же? Куда ездили, гостя на волгоградской земле, все высокие руководители — Хрущев, Горбачев и иже с ними. Конечно же — в «Волго-Дон», хозяйство могучее, славное, орденоносное.
Не отстанем от них и мы. В «Волго-Дон» подадимся. Но не вместе с высоким начальством. Пораньше ли, попозднее, без шума и грома.
Всякий раз, когда приезжаю я в «Волго-Дон», бывший совхоз, ныне, как и все, реформированный в некое «коллективное предприятие», то в начале рабочего дня иду в гараж. Там — утренняя планерка, там — все руководители. И прежде, когда «Волго-Дон» был одним из самых могучих хозяйств в стране, и ныне, когда времена иные, начало рабочего дня в гараже завораживает. Гаражом это подразделение хозяйства называют по привычке. Это — целый автокомбинат: проходная, диспетчерская, один за другим выбираются из ворот тяжелые грузовики. Им счету нет: могучие «КамАЗы», самосвалы, молоковозы. Идут и идут. И это естественно — «Волго-Дон» не какой-нибудь колхозишко с сотней буренок. Одного лишь крупного рогатого скота — 6.500 голов. 2.300 — коров. Более 1.000 тонн мяса произвел «Волго-Дон» в 1996 году, сдавая могучих бычков, каждый по 420 килограммов весом. Молока произвели 7.330 тонн. В среднем по 20 тонн в один день надаивали. Это половина молочного и мясного производства такого мощного района, как Калачевский, где 12 коллективных хозяйств. «Волго-Дон» произвел в 1996 году около 25 тысяч тонн овощей. Годовая реализация всей произведенной продукции составила 22 миллиарда рублей. Показатели не просто большие — могучие. Не то что какие-то коллективные хозяйства, целые районы могут позавидовать такому производству.
«Волго-Дон» колхозом назвать язык не повернется: это — завод по производству мяса, молока, овощей, зерна. 20 тысяч гектаров пашни взглядом не окинешь. Откормочные площадки, фермы, теплицы — везде работа, но не всегда шумная, заметная. А вот здесь, у проходной гаража, в утренние часы осязаемо видна мощь производства, живого и деятельного.
Если в «Волго-Доне» один скотник обслуживает до трехсот голов скота, одна доярка доит сотню коров, если с одного гектара земли получают до пятисот центнеров овощей, то понятно, что главная сила хозяйства — техника: 200 автомобилей, 100 комбайнов, 349 тракторов. Если эти машины завтра встанут, то не будет ничего: ни мяса, ни молока, ни овощей. И потому еще прежний руководитель «Волго-Дона», В.И.Штепо, старался создать наилучшие условия для содержания и ремонта техники. И потому у «Волго-Дона» не какие-нибудь мастерские, не убогие «кузни», а могучий завод с просторными, оснащенными цехами. Вот механический цех, где одних лишь токарных станков насчитал я десяток, вот цех с конвейером, где ремонт ведется по узлам, аккумуляторный цех, два сварочных, кузнечный, по ремонту топливной аппаратуры, цех по ремонту автомобилей. И все эти цеха находятся в рабочем состоянии. Пусть не все оборудование сейчас в деле, но оно — на месте. В помещениях стекла не побиты, крыши и стены целы. А значит, мощь ремонтной базы сохранена.
Склад запасных частей — бесчисленные стеллажи, конечно, не былое богатство, но для большинства селян и нынешние запасы «волгодонцев» — на великую зависть. Вот колеса к трактору «Беларусь», цена одного — два миллиона семьсот тысяч рублей. Вот склад металла. Он тоже не пустует. Потому и работает «Волго-Дон», что шесть сотен его машин, шесть сотен моторов — в ходу, в деле.
Но вот вывеска: «Опытное проектно-конструкторско-технологическое бюро по механизации овощеводства». Это бюро — знаменитое, единственное в стране. В былое время работало в нем до тридцати специалистов, а в придачу — целый цех, где создавались машины и внедрялись в производство непосредственно на полях «Волго-Дона». Овощеводство — дело трудоемкое. И в помощь человеку нужна умная машина. Здешнее бюро создавало сеялки, культиваторы, бороны, уборочные машины — для лука, томатов, капусты, огурцов. Эти машины нужны были не только «Волго-Дону», но и другим хозяйствам области, страны. Их охотно брали Средняя Азия, Краснодарский край, Астраханская область. Но это в прошлом. Нынче специалистов почти не осталось и производство практически остановлено. Хотя даже сейчас, как сказал руководитель бюро, можно начать серийный выпуск машин. Можно… Но при условиях, которые известны всем: гарантированные заказы с оплатой. Их нет.
Наша область по-прежнему остается овощеводческой. В отличие от прошлых времен, на прополку овощей и на их уборку обком орду бесплатных работников из города не пришлет. А значит, машины для овощеводства будут нужны. Пока еще уникальное производство этих машин в «Волго-Доне» возможно. Но что завтра?
О дне завтрашнем мои собеседники из «Волго-Дона» говорили вяло:
— Не знаем… Все как в тумане.
И тут же сбивались на день вчерашний. Николай Николаевич Андреев, слесарь-ремонтник и механизатор, тридцать пять лет отдавший совхозу, светился радостью, вспоминая:
— Я сюда переехал из Кумылженского района, уже пятнадцать лет отработал. Приехал, рот разевал от удивления. Суббота и воскресенье — как в городе, отдыхай. Спортивные соревнования на стадионе. В клубе — концерт. Весь народ вместе. А хочешь — поезжай в город: в театр, в цирк. Автобусы и билеты бесплатно. На машину денег скопил — пожалуйста, в том же месяце на машине. А теперь какие копейки и заработал, не дают. Завтра? Тошно и думать.
Женщины-овощеводы, проработавшие в совхозе не один десяток лет, тоже сбивались на прошлое: работали от души. И зарплату давали в срок. Тринадцатую зарплату — тоже в срок. Премию по результатам года — вовремя. А теперь хоть криком кричи — кто услышит?
— Я недавно спросила: когда зарплаты дождемся? Отвечают: ты живая, мы лишь на похороны даем.
Вчерашний день. Прославленный, орденоносный «Волго-Дон»: детские сады, школа, Дворец культуры, больница чуть ли не лучше обкомовской — с зимним садом, двухместными палатами, профилакторий с «соляными шахтами», плавательным бассейном. И ведь все не с неба падало, все по труду. Пять с лишним тысяч килограммов молока — средний надой на корову. Килограммовые привесы на откорме. 500 да 600 центнеров — овощные урожаи. Все это было, было.
Но жить памятью о вчерашнем может лишь человек доживающий, у которого все в прошлом, а будущее — лишь мир иной.
В «Волго-Доне», в его селеньях, живут 2100 работников хозяйства да еще дети, их немало. Около шести тысяч народу в поселках. Пенсионеров — 700. Остальным жить бы да жить, жить да работать. Значит, нужно думать о дне завтрашнем.
Алексей Петрович Киршин, тридцатидвухлетний бригадир овощеводов, четко знает, что его бригада выращивает на 100 гектарах капусту, на 60 гектарах томаты, огурцы, морковь, перец. Но вот что будет завтра с «Волго-Доном», ему неясно. Твердо знает, что надо работать. Но…
Звеньевые Екатерина Михайловна Мазайкина и Люция Павловна Кузнецова, овощевод Александра Михайловна Иванченко, проработавшие в «Волго-Доне» по пятнадцать и по двадцать лет, тоже уверены, что их основное дело — посеять, прополоть, вырастить овощи и собрать урожай.
— Но ведь и в прошлом году,— спрашиваю я,— вы посеяли, пропололи, вырастили и заработали неплохо, в среднем по пятьсот тысяч рублей в месяц. И в нынешнем — заработки неплохие. Чем недовольны?
— Где они, эти деньги? Когда получим? Они лишь на бумаге. Задержка заработной платы подпирает к году.
— Но ведь вы акционеры, хозяева, вот и думайте, как дело вести.
Тут начинаются вздохи: «Ничего не знаем».
— Надо бы и своего реализатора, чтобы он продавал,— предложил кто-то из женщин.
Ее остудили:
— Начальство не разрешит.
— Придумали какие-то трудодни… Не поймешь. За четыре дня я заработала два с половиной. А что это такое, никто не знает.
В тот же день на животноводческой ферме мне жаловалась телятница:
— Взяла молока, колбасы под запись. Осталась еще должна. Восемьдесят четыре тысячи в месяц, а остальное — потом. Кто придумал?
И здесь та же песня: «Наше дело — работать. Остальное — начальства».
Песня привычная: колхозник ли ты, рабочий совхоза или, как теперь говорят, акционер, то есть собственник земельного и имущественного пая,— все одно: «Наше дело — работать, а начальство нехай думает». И еще: «Конторские все равно обманут».
Песня вечная. Сто лет назад писано: «…трудность состояла в непобедимом недоверии крестьян к тому, чтобы цель помещика могла состоять в чем-нибудь другом, кроме желания обобрать их…» И еще: «…разговаривая с мужиками и разъясняя им все выгоды предприятия, Левин чувствовал, что мужики слушают при этом только пенье его голоса и знают твердо, что, что бы он ни говорил, они не дадутся ему в обман». Это писал Лев Толстой — не только писатель, но волею судьбы земледелец, помещик, а волею совести и разума — радетель о своих мужиках.
Сто лет прошло. И будто ничего не изменилось. Только барин другой — «контора». «Конторские все равно нас обманут» — вот самый уверенный прогноз на день завтрашний.
…«Волго-Дон» и теперь остается мощнейшим производителем овощей, молока, мяса, зерна. 20 тонн молока ежедневно получали здесь в 1996 году и поставляли в город, к нашему столу. За год — более 7 тысяч тонн; мяса — тысячу тонн за год; овощей — 25 тысяч тонн. Повторяю еще раз: такое количество сельскохозяйственной продукции не всякий район способен произвести. В «Волго-Доне» по-прежнему работают 2100 человек, и никто не потерял работу. В поселках «Волго-Дона», где живут 6 тысяч человек, в домах действуют отопление, водопровод, канализация. Работают три детских сада, три дома культуры, профилакторий, комбинат бытовых услуг с парикмахерской, швейной и телемастерской. В школе — столовая, где дети питаются по льготным ценам, а многие — бесплатно. На всю социальную сферу затраты составили 9 миллиардов, то есть более трети всех годовых доходов. Районный бюджет помощь оказал, но очень малую. Взять на себя, как это нынче положено, всю социальную сферу «Волго-Дона» районные власти не могут. А значит, по-прежнему огромная доля доходов от производства идет на «социалку». Это груз тяжкий. Потому что эти миллиарды повышают себестоимость продукции, ее конкурентоспособность.
Сейчас у нас, жителей городских, великая тревога: правительство постепенно ликвидирует субсидии на содержание жилья. А вот «Волго-Дон» давно и сполна за себя платит. Это доля крестьянская. Но она тяжелее год от года. Она лежит не только на «конторе», но и на каждой семье.
Задержки (до двух лет) с расчетом за произведенные овощи, несообразные закупочные цены на мясо не дают возможности вовремя выдавать работникам заработную плату, иметь оборотные средства для поддержки на нужном уровне производства. А это не проходит даром. Сегодня среднесуточный надой — 6 килограммов. А ведь был и вдвое больший, и даже 17 килограммов. Это помнят. Потому что раньше заготавливали одного лишь силоса 60—70 тысяч тонн. Не только себе хватало, но и соседние хозяйства из года в год снабжали, заготавливали достаточное количество отличного сена, гранул, фуража. Не тот стал полив, не хватает средств на удобрения, семена, соблюдение технологии. Одно другое цепляет, а результат — потеря продукции. Надои и привесы в «Волго-Доне» еще пять лет назад были почти в два раза выше. И урожаи овощей доходили до 700 центнеров с гектара. Нынче — чуть не вдвое ниже.
Ежемесячная заработная плата в «Волго-Доне» была в среднем за 1996 год — 500 тысяч рублей. Она выросла по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — ежемесячно надо платить один миллиард рублей.
— Как жить?— спрашивает молодая женщина.— Шестьдесят тысяч надо уплатить за квартиру, да еще столько же за детей в детский сад. А определили — восемьдесят пять тысяч в месяц.
Действительно, как?
Не укладывается наша жизнь, особенно сельская, в простую арифметику. Живут люди.
На коллективных фермах и базах «Волго-Дона» 6500 голов крупного рогатого скота. А сколько их в личных сараях и сарайчиках огромного «шанхая», как называют его, что растет год от года на окраине поселка?
Подсчитать не сможет никто. Но говорят, что частного скота не меньше, чем общественного. Значит, около семи тысяч? Сенных угодий вокруг «Волго-Дона» нет. Значит, весь этот скот кормится за счет хозяйства: его земель, техники, вложенных средств. Энергичный, ловкий человек может держать и до десяти голов. Никакие запоры на гумне, никакая охрана не преграда. Корма «уходят» к своим буренкам, колхозные — жуют солому. Если прежде воровали «по совести», чтобы прокормить поросенка, десяток кур для семьи, то теперь «можно» красть и для «хорошей жизни», чтобы купить, например, машину.
И теперь несут, как раньше говорили, а точнее, воруют все, что есть в хозяйстве: на молочной ферме — молоко (и не баночку, детям на кашу, а уже десятками и сотнями литров); на овощных плантациях — не помидорку-другую и не кочан капусты, а десятками килограммов. Приходится ставить охрану. Да не киношного деда с берданкой, а «спецов» из города. Но и они не справляются…
В прошлом году ли, в позапрошлом, когда такая охрана была в новинку, здешние работники возроптали: «Как? Наше кровное… от кого охраняют? Наши деньги тратятся… придумала контора… убрать!»
Убрали. Лишь на сутки. И за эти сутки, за день и ночь, украли с поля не килограммы, а тонны лука, потеряв на этом многие миллионы рублей.
Потеряли все вместе, весь коллектив, который эту землю пахал, засеивал, день-деньской гнулся, полол, поливал — словом, целый год трудился. А «нашли» люди не сторонние, не из Москвы и не из Волгограда приехавшие,— «нашли» свои, но ловкие, беззастенчивые, корыстные.
Остановить их невозможно. Они сегодня оправдывают себя морально: «Зарплату не дают! А надо себя и детей кормить!» Органы милиции, прокуратура, суд ничего с ними не делают. Ведь крадет человек с фермы ли, с поля не государственное молоко, лук, капусту, а свое. Он — акционер, а следовательно, хозяин «Волго-Дона», его полей, скота, угодий. В тюрьму его не посадишь, морально на таких людей не воздействуешь. «Воруй, как мы, воруй с нами, воруй лучше нас!» — это правило ширится, разъедая механизм коллективного хозяйства и подрывая его экономику.
Повторю: не луковицу крадут, не кочан капусты. Совхозный пенсионер рассказывает: «Каждый день вижу в окно, как с дойки идут. У всех — ноша. Особенно одна себя не жалеет. В обеих руках по канистре по двадцать литров. Плечи у нее — как у штангиста».
Лучше теперь живут не самые работящие, а бесстыжие и наглые.
— А если я не могу воровать?!— слышу я не впервые.— Физически не могу! Что мне делать?
В последнее время, когда бываю в «Волго-Доне» и гляжу на поселок, на многоэтажные дома его центральной усадьбы, то грезится мне недоброе. Вспоминаются страшные мертвые города, которые приходилось видеть в степях Казахстана, в Сибири: там жили люди, работали, а потом ушли, все бросив. Истощился рудник ли, шахта, не нужна стала воинская часть. И теперь стоят пустые дома. Свистит лишь ветер в оборванных проводах.
Не хочется думать, что такая судьба ждет «Волго-Дон», не хочется. Но ведь и в нашей области уже есть селения, где вчерашняя котельная — лишь коробка с трубой, вчерашний детский сад — без дверей, без окон, вчерашний коровник — руина.
«Волго-Дон» внешне еще могуч. Но его «внутренности» разъедают многие язвы. А как говорится, большой падает с большим грохотом, потому что на плечах его — груз великий. Постепенная деградация очевидна. За последние годы надои в «Волго-Доне» упали с 5500 килограммов до 2500. Привесы — с 900 граммов в сутки до 300—400. Урожаи овощей — с 600—700 центнеров до 300. Долгов у «Волго-Дона» на июль 1997 года — 16 миллиардов рублей.
Процесс разложения, падения самого мощного, самого производительного хозяйства в области очевиден. И если его, бывшего директора, дважды Героя Социалистического Труда В.И.Штепо, сместили в 1990 году вполне демократично — с помощью инициативных групп, митингов, голосования,— то нынче последние главные специалисты уходят сами.
Уходят они не к сладкой жизни, не к какой-нибудь коммерческой кормушке. Опоздав на пять-шесть лет, они спешат в фермерство. А точнее — убегают от «волго-донского» колхоза, где год от года все тошнее и горше, тем более людям, хорошо помнящим лучшие времена.
А в фермерстве пример им, конечно же, Виктор Иванович Штепо, их бывший директор. Это к нему в прошлом августе привезли нашего премьера, чтобы показать новый фермерский «товар» лицом. Показывать есть что.
У Виктора Ивановича Штепо я стараюсь бывать каждый год. Человек он интересный и мудрый, но более того: судьба дважды Героя Социалистического Труда, ныне фермера — это судьба страны, вчерашний день ее, нынешний, а главное — залог завтрашнего.
Когда в давние годы молодой Штепо возглавил совхоз «Волго-Дон», там были лишь бараки бывшего лагеря заключенных. «Начали строить…» — вспоминает он. Построили один из лучших в стране совхозов, с высочайшей технологией сельскохозяйственного производства, с достойным бытом и отдыхом людей.
Но пришли нелегкие перемены. И Виктор Иванович, уже в годах немолодых, пенсионных, начал новое дело — и опять с нуля. Вернее сказать, дело-то старое, каким занимался всю жизнь: земля, хлеб,— но условия новые. Не огромный коллектив, не тысячи гектаров земли, а лишь свое. И уже в первую осень Виктор Иванович и два его соратника получили 2 тысячи тонн зерна.
Годы начала земельной реформы — 1991-й, 1992-й — для многих новых хозяев оказались золотыми. Государство давало весьма льготные кредиты фермерам, но зачастую эти деньги доставались не земле, а превращались в доходные магазины, автомобили, в еще большие деньги.
Виктор Иванович повторял свой прежний путь земледельца. Но если раньше создавался совхоз «Волго-Дон», предприятие государственное, с немалыми государственными же затратами, то теперь — хозяйство Штепо и его семьи. Принцип оставался прежним: все для земли, все для урожая, все условия для самостоятельного хозяйствования.
В прежние свои приезды видел я сначала проекты, потом — начало работы, ход ее, а теперь, летом года 1997-го, стоит на окраине Береславки целый комплекс фермерского хозяйства Штепо.
Просторная высокая мастерская для ремонта тракторов, комбайнов, автомобилей. Кран-балка, небольшой механический цех с токарным и сверлильным станками. Аккумуляторное отделение, сварочное, компрессорное. Склад запасных частей. И все сделано аккуратно, с умом, по-хозяйски. Везде чистота и порядок. Это — Штепо. Это его характер. В огромном ли «Волго-Доне». Или здесь, у себя.
Тут же — гараж для сельскохозяйственной техники. У Штепо под открытым небом машины ржаветь не будут. Так было в совхозе. Так и у себя.
Неподалеку расположился комплекс жилой — для людей, для скота. Но если дома обозначены лишь фундаментами, то помещения для коров, свиней, сенник, склад зернофуража уже готовы.
Еще одно строение показал мне Виктор Иванович — пекарню.
И опять это не пекарня-времянка, не сараи, каких нынче много развелось, когда выпечка хлеба стала очень рентабельной. Это — не на час, чтобы барыш сорвать. Это — навсегда. Технологическая цепочка: склад муки, за ним — помещение, где будут стоять сита, далее — тестомесильные машины, шкафы для выпечки, склад готовой продукции.
Встречи с Виктором Ивановичем — это всегда не только разговор о гектарах да центнерах, о Береславке да Калаче, но и о времени, о нынешних путях России, о дне вчерашнем, который порою так похож на сегодняшний. Просто забывается старое, и кажется, что нынешнее — новь, какой не бывало.
Виктор Иванович вспомнил Николая Лескова, его «Загон», где пишется будто о сегодняшнем, когда порою бездумное реформаторство, слепое копирование «на английский манер» для сторонних людей — смех, а для крестьянина — горе.
Посетовал Виктор Иванович, что не может в книжных магазинах сегодня привычно отыскать достойного чтения. И молодых жалко: почитай-ка всю эту дурь, что на прилавках,— недолго и свихнуться. Примеры налицо: взял автомат — и всех подряд уложил, словно в боевике да в триллере. Молодая душа — словно весенняя пашня: что посеешь, то и вырастет…
В общем, Черномырдина не зря к Виктору Ивановичу привозили. Премьер был доволен: руку жал, обнимал, спрашивал о заботах.
— Земли бы надо,— отвечал Штепо.— Бурьяном зарастает, а не дают.
— Там, где бурьяны растут, все бери, паши,— разрешил премьер.
Вольно было обещать. За расширение своих земельных угодий Штепо бьется давно и безуспешно: не дают. И, видимо, не дадут даже после высокого визита. Объясняют: «Не можем нарушить закон. Да, земля плохо используется. Но отобрать ее у законного владельца мы не имеем права». И получается — ни себе, ни людям.
Увы, фермерские успехи Штепо не правило — исключение. Двенадцать тысяч фермеров в нашей области. А крепких хозяев по-прежнему на пальцах можно перечесть. Остальные мыкают горе, кое-как сводят концы с концами, разоряются.
В нашем районе недалеко от Штепо земля А.Б.Колесниченко и Н.Н.Олейникова, работники — каких поискать: молодые, энергичные, образование — высшее агрономическое. Опыт — все тот же прославленный «Волго-Дон», где отработали более десяти лет на нерядовых должностях. Фермерствуют самостоятельно уже пять лет, увеличивая свои земли за счет аренды. В этом году единственные в районе получили продовольственную пшеницу. Словом — смотри и завидуй. Главная проблема — старая-престарая техника, «латка на латке». Новую купить не в состоянии, даже при хороших урожаях. Эти люди — одни из немногих, которые входят в невеликую «золотую сотню» из двенадцати тысяч фермеров области. А что ж говорить про остальных?
Едешь по бывшим землям колхоза «Голубинский» — глядеть уже не горько, а страшно. Хозяйство развалилось, на смену ему пришло… как и назвать, не знаю. По бумажным отчетам — фермеры. По сути — голытьба. Говорить про них тошно.
Спроси в райцентре у любого сельхозначальника или в Голубинском округе у встречного-поперечного: «Кто у вас из фермеров? От кого прок есть?» Спроси, и назовут, как таблицу умножения: «Пушкин, Коньков». Что один, что другой — работяги. У Пушкина — четверо сыновей: младшему — 11 лет, старший сельхозинститут заканчивает. «Трудятся как муравьи, от темна до темна»,— говорят соседи. Коньков занимается бахчевыми культурами. Но назвать их уже состоявшимися фермерами, а их хозяйства хотя бы приблизительно похожими на хозяйства Штепо — язык не поворачивается. Это — лишь начало. Самоотверженное, героическое начало очень долгого пути. У Пушкина — 200 гектаров, у Конькова — столько же. Но ведь у «Голубинского» было 40 тысяч гектаров земли, на которых не 20 бычков Пушкина паслись, а тысячи голов крупного рогатого скота и десятки тысяч овец. И не только арбузы да дыни Конькова отсюда увозили, но и хлеб.
А теперь из края в край — дикое поле.
Районный отдел статистики сообщает: «…сохранилась тенденция к сокращению поголовья скота и снижению производства продукции. Поголовье коров уменьшилось на 7%, свиней — на 10%, овец — на 16%. На сельхозпредприятиях, в крестьянских и личных подсобных хозяйствах произведено скота и птицы в живом весе 2694 т (93,5% к уровню соответствующего периода 1996 года), молока — 13406 т (85% к уровню 1996 года)».
И это — лучший район области.
Итак, осень 1997 года — можно «считать цыплят». Щедрая осень: дождей летом хватало и урожай — очень хороший, не в пример двум прошлым годам.
Но… Во-первых, если «Бог дал», то не в амбар, а на поле. Два месяца длилась уборка хлебов в районе. Ну, ладно. Убрали, каждый — свое. Вопрос второй: насколько разбогатели от хорошего урожая наши хозяева? Прокормятся ли до нового?
Из истории да хорошей художественной литературы все мы знаем, что, если хватало у крестьянина своего хлеба до «новины», значит, крепкий хозяин. А те, кто после Рождества шли взаймы просить,— голытьба.
Наши нынешние коллективные хозяева — все до единого!— если и рассчитаются с долгами, которых набрали за год у областной «Агропромышленной корпорации», то лишь затем, чтобы немедленно, уже в сентябре, брать в кредит у той же корпорации горючее, запчасти и прочее для сева озимых, вспашки зяби, то есть лезть в долги в счет 1998 года.
Но вот если колхоз распустить, то для большинства настанет горькая жизнь. Пусть было у них 10 тысяч гектаров пашни. В наших краях, для того чтобы заниматься зерноводством, фермеру нужно не менее 500 гектаров земли. Значит, вместо колхоза — 20 хозяев, которые будут нанимать на сезонную работу около 50 работников. Итак, всего — 70 человек. А в колхозе их было 500. Куда податься остальным? На что жить? Ведь ни в Волгоград, ни в Сибирь, ни в Австралию не переселишься. Они останутся на том же хуторе, но без всяких средств к существованию. Это уже катастрофа, и люди ее нутром чуют. Поэтому даже в самом завалящем, погрязшем в долгах колхозе дружно проголосуют: «Работать вместе!» Во-первых, трезвый расчет: без колхоза — гибель. Во-вторых, хорошая память: они родились в колхозе, выросли в нем, всю жизнь проработали. Он давал им гарантированную (пусть невеликую) зарплату и еще позволял кое-что «уносить» для жизни. Колхоз строил жилье для работников и давал его бесплатно, содержал детишек в детсадах да школах, лечил хворых в своих больницах; со своими бинтами да простынями, как нынче, в больницу не ходили. А в общем, колхоз обеспечивал сегодняшний и завтрашний день, в который глядели без особой опаски. Лишь работай, слушай, что прикажут, и выполняй. Потому прошлые годы для большинства крестьян — это сладкий сон золотой. Так что колхоз, даже сегодняшний,— строение крепкое. Он долго будет «держаться», «терпеть», «выживать», «надеяться»; «должно наконец правительство понять», «должны наконец повернуться лицом к деревне»…
…Повторю: рассказ мой в основном об одном из лучших районов области. В других по пять лет уже зарплаты не видели. По пять лет! Понятно, что это за коллективные хозяйства, какие в них хозяева и до чего они доработались.
Подчеркну: сельское хозяйство нашей Волгоградской области наряду с Краснодарским краем, Ставропольем, Ростовской областью — одно из самых крепких и производительных в России. Нельзя даже сравнивать — и прежде, и теперь — наши края с Севером да Нечерноземьем. Нынешний год заглянул в один из районов Тверской области. Поговорил в тамошнем сельхозуправлении: положение — «страшней войны». У нас хоть областную «Агрокорпорацию» придумали, она — в помощь. Да прежние нажитки доедаем. У тверяков и этого нет.
Но разговор нынче о наших краях как части крестьянской России, бедственное положение которой начинают понимать наконец московские власти. Не зря ведь ездил Черномырдин по сельским районам Кубани, Ставрополья, Волгоградской области, не зря горестно разводил руками.
Что нужно сельской России? Почему плачет она возле старых могил, вспоминая как сон золотой даже свои прежние несладкие годы?
Прежде всего нужен тот, кто, во-первых, понятно объяснит, что колхозные времена кончились навсегда и жизнь давно потекла по-новому. А во-вторых, понятно и доступно начнет учить новой жизни. Потому что этого не знают не только скотник и тракторист, но и колхозный председатель, даже руководитель района и области. У тех лишь: «Держаться, выжить, перетерпеть…» Это незнанье понятно: родились, выросли, воспитаны советским колхозным строем, получили образование в областном сельхозинституте да заочной совпартшколе. Другой жизни не ведали. Откуда же взяться иному опыту?
Новый опыт, иные знания должны прийти в виде четкого плана переустройства колхозной страны. Чем позже это свершится, тем хуже. Деревенские страсти, борьба за жизнь, дикий рынок разрушают и могут до основанья разрушить десятилетиями созданную материальную базу села: землю, производственные помещения, технику, ремонтную базу, поголовье скота. И начинать придется снова от деревянной сохи и урожая в 6 центнеров с гектара, который нынче и получили в коллективном хозяйстве «Голубинское», что возле старых могил.
1998 год
«Новый Мир», №5
Возвращение
В пору зимнюю или ранней весной, когда свои припасы на исходе, а до смерти захочется вдруг сладкой тыквенной каши, горькой редечки или жгучего перца «гардала» — приправы для хлебова,— куда правиться… К бабке Наде. Там уж точно не будет отказа и скупых отговорок, когда отводят глаза: «Было, да вышло…» Баба Надя ли, баба Надежа — она и есть «надежа».
Весной идут к ней за семенами да рассадой. Легкая рука у бабы Надежи. Соседи идут, а родня да свойство — словно в дом свой. Порой копеечку надо занять, на хлеб. Опять — к бабе Надеже.
Домик у нее — хозяйке под стать — ветхая скворечня. Словно на курьих ножках, стоит на какой-то шаткой подставе. Дунь — улетит вместе с хозяйкой, которая все больше говеет. А там уж, по правде, и говеть нечему — живые мощи: под старой кофтенкой — узкие худые плечики, за ними — горб; иссохшие плети рук с большими ладонями и шишковатыми пальцами; под белым платком теплится, словно свеча, беззубая улыбка. Она — для всех.
— На провед?..— радуется любому гостю.— Спаси Христос… Не забывают люди добрые. Кто с нуждой, а кто меня поглядеть, трухлю старую. Соседи идут, родненькие, свои. Мы все тута посплелися, как плетень. Гостинцы несут. А мне какие гостинцы, я говею.
Она говеет. Великий пост да Рождественский, Петров да Успенский, среды да пятницы.
— Покушай моей тыковки,— угощает она гостей жданных и нежданных.— И свеколку я нынче парила, сладимая свеколка…
На черном листе противня светят оранжевые кусочки печеной тыквы. Они душисты, сладки даже на погляд, в коричневых каплях и подтеках пахучей сахарной патоки.
Знаменитые тыквы ее громоздятся, заполняя невеликую хатку. Они — под кроватью, под столом, вдоль стен: серые, словно мраморные валуны,— «русские», ярко-желтые, праздничные «костянки», дольчатые «ломтевки».
Печеная тыква для старой женщины — это баловство, на заедку, а больше — для гостей угощенье. Еда ее — вечные казачьи щи: картошка, кислая капуста, красная помидорная да капустная заправа.
— Казачура…— посмеивается над собой баба Надя.— Щи всему отвечают. У нас, бывало, на хуторе и в завтрак — похлебаешь, в полудни — само собой, и вечером: «Давай, мать, горяченького…» Такой адат.
В доме пахнет сладостью щей, печеной тыквы, кислиной яблочной кулаги, горькими травами, что висят за печкой, и, конечно, старостью.
Лет бабке Наде много и много.
— Была бы сучкой, давно бы повесили,— простодушно объясняет она свои годы.— Всякий день молюсь Господу, Богородицу всякий день прошу… Богородица — моя заступница…— подслеповато жмурясь, обращается она к божнице, крест кладет.— Всякий день прошу: «Дай покою. Изработалась, устала…» — жалуется она Богу и людям, гостям своим.— Так устала, жилочки нет живой. Смерти прошу. Не дают. Надо покоряться.
— Не помирай,— говорят ей.— Как без тебя. Ты — первая огородница. Семена да рассаду где будем брать?
Окраина малого степного поселка. Невеликие дома, просторные огороды, от них — жизнь. Долгое лето, жаркое солнце. Зимой поселок засыпан снегом. Осенью чернеет заборами да нехитрым строеньем. Летом вскипает цветом и зеленью, словно рай.
В пору теплую, от светлого апреля до черной осени, жилье у бабы Нади царское: над головой — небо, под ногами — теплая земля и сочная зелень вокруг. С утра до ночи старая женщина в трудах: сажает, рыхлит, поливает; недолго, по-стариковски, спит где-нибудь в меже, кинув на землю дерюжку. Подремлет, очнется — и снова за дело.
Летом ее хатенка пустая стоит, двери — настежь. Гости придут, ищут:
— Баба Надежа! Ты где?! Хозяйка!!
— Аюшки…— тихим эхом отвечает она из огородной чащобы.
— Где схоронилась?!
Она не хоронится, она живет в огородной зелени, словно плеть огуречная, тыквенная. Кипень головного платка, словно белый цвет, порой всплывает над зеленью ботвы.
— Баба, ты где?!
— Аюшки… Тута…
Зимой — тесная хатка. Печь, железная кровать, стеганое одеяло, серая телогрейка — на гвозде, возле двери. Закопченный чайник — на плите. Хата — словно пещерка. В малые оконца еле цедится непогожий день. В переднем углу — божница: Спаситель и Богоматерь, Никола, Иоанн Златоуст. Иконы старинного письма, староверские, от дедов. Они и во тьме светят. А когда погожий день заглянет в окошко или лампочка вспыхнет, тогда сразу праздник: густая киноварь, медовая желтизна, лазурь — иконы словно новехонькие. И будто раздвигаются стены. Не хатка, а храм Господний.
Баба Надя — не только огородница, она и перед Богом заступница: блюдет посты, знает молитвы. К огороднице бегут за тыквой да свеклой, за пахучей мятой да капустной рассадой. К заступнице, когда приходит иная нужда: болезнь ли, беда. В трудную дорогу человек соберется, просит: «Помолись, баба Надя…» Она молится: «…нехай едет и легкой ногой ворочается, сохрани его… ему — нужда…» О служивых нынче душа болит: то Чечня, то иная казнь. «Помолись, баба Надя…»
Далекий степной поселок. Окраинная улица. Ветхий домик с шатким скрипучим крылечком. Порой по нему поднимаются чередом: родные, внуки да правнуки, соседи. Все — с нуждой. А порою словно отрежет. Никого нет. Особенно в непогоду. Но старой женщине не скучно. Она не торопясь потрудится, помолится, отдохнет. Пригреется на кровати: так покойно, так тихо, словно в могилке.
Иногда в домике бабы Нади живет девочка. Далекая, но родня. Как запьют отец с матерью, девочка к бабе Наде стучится: «Можно я пока поживу?» — «Живи, моя хорошая»,— ей в ответ. Она и живет. Школьный портфель при ней. Спит на сундуке. Покойная девочка, тихая, старательная. В тетрадках пишет, по книжке зубрит, рисует картинки и лепит их на стены. На картинках — цветы, нарядные дома, а еще — простое зверье, кошки да собаки, со странными, все понимающими глазами. На серых стенах хатенки рисунки глядятся хорошо.
Девочка живет. Потом за ней приходит мать — печальная, усталая женщина. «Прости, Христа ради»,— кланяется она бабе Наде. «Бог простит»,— машет рукой старуха и, провожая гостей, одаривает их тыквой, свеклой, хрусткой морковкой, а то и сунет немного денег — на хлеб. И снова остается одна. Грех говорить, но одной — легче. Старому человеку все в тягость. Покоя просят тело, душа. Особенно когда неможется, в непогожие дни.
В непогожий осенний день, как раз перед Анной-зимней, пришла беда. Как всегда, порой утренней старая женщина, выйдя во двор, копошилась позади хатки своей, возле сарая: дров набирала, секла топором хворост на разжижку, нагребала уголь. Слышала она от старости плохо и глазами не больно хорошо видела, но что-то почудилось: какие-то шаги, движенье у крыльца ли, у калитки. Она откликнулась:
— Аюшки! Тута я!
Но никто не ответил.
В хату она вернулась не вдруг, копошась по-стариковски неторопливо. А когда вернулась, то сразу почуяла неладное.
Во дворе стояла осенняя сумеречь, а в хате — и вовсе тьма. И пахнбуло каким-то смрадом. Словно не в родную хату вошла, а в чужой дом, давно брошенный.
Она щелкнула выключателем. Тусклая лампочка, подчиняясь приказу, лишь обозначила желтый зрак, сумерек не рассеяв.
Еще не видя, старая женщина все поняла и шагнула к тому углу, перед каким молилась. Она шагнула и стала руками обшаривать стены, глазам не веря.
Угол был пуст. Осталась лишь липкая паутина, пустые гвозди. И не было икон. Все ушли: Спаситель, Богоматерь, Никола, Иоанн Златоуст. Сухие цветы и цветки бумажные, прежде украшавшие иконы, теперь валялись на полу.
Раздетая, в тонкой кофточке, неверными шагами, шарясь перед собой в воздухе, словно слепая, старая женщина вышла из дома, спустилась с крыльца и, ухватившись руками за планки калитки, пыталась увидеть ли, услышать чей-то след, чей-то голос, а потом попросила: «Христа ради, Христа ради…» Ей ответил лишь ветер. Осенняя непогожая улица, темные дома и заборы молчали.
Она вернулась в дом и словно заведенная, по вечной привычке, затопила печь, поставила чайник. А когда он запел, закипая, достала мешок с травой, стала ломать и сыпать, накладывать в клокочущее чрево узкие листы, розовые цветы, обломки граненых стеблей. Пряная горечь клубами растекалась по хате. Рука привычно потянулась к кружке. Но вдруг, опомнившись, старая женщина упала на колени и поползла к пустому углу:
— Прости, Христа ради… Прости… Не уберегла…
Она не молилась, она просто плакала, припав к дощатому полу. По-женски, по-детски наивные слова лились чередой, невнятно, со всхлипом. Потом она замерла, словно ожидая ответа. А не дождавшись, почуяла, что озябла, устала. Добралась до кровати, легла, но не заснула, а просто лежала, отдыхая и приходя в память.
Но день требовал своего. За печкой нужно глядеть, чтобы не прогорела. И маковой росинки не было во рту.
За полдень объявилась девочка. Как всегда, она поскреблась у двери, встала у порога, тихо спросила:
— Бабушка, можно я у тебя поживу?
— Живи, моя хорошая… Живи,— ни о чем не выспрашивая и все понимая, ответила баба Надя, хотя нынче ей было не до гостей и тем более не до жильцов.
Сразу вспомнилось, что ничего не варила, а дитя нужно кормить.
Девочка лишь глаза подняла, узрела пустой угол.
— А иконы где?
Баба Надя лишь руками развела:
— Были — и нету… Унесли… Ныне… Не углядела…
— Без иконок плохо,— сказала девочка.— Они красивые.
Старая женщина лишь вздохнула: кому что…
Вместе принялись готовить обед: картошку чистили да капусту крошили, поставили в духовку противень тыквы, запечь. С молодыми руками дела правились побыстрее.
— Иконы в магазин принимают, за деньги,— объяснила девочка.— Объявление было в газете.
— Это — грех, большой грех,— осудила баба Надя.
И тут же припомнилось ей, что кто-то из своих, из молодых, приглядывался, словно приценивался к иконам. Но кто?
— В милицию нужно пойти,— твердо сказала девочка.— А с милицией — в магазин. Пусть отдадут. Ты же угадаешь свои иконы?
Старая женщина подумала над словами девочки и отказалась со вздохом:
— Нет-нет… Это я, грешница, виновата. Не сберегла. Вот и ушли мои заступники. Спокинули. К другим людям ушли,— объясняла она.— Там — нужней. А мне чего… Я и так, встану да помолюсь. В хате, и в чистом поле, и в темном лесу. Везде молилась, и всегда меня Господь слышал, помогал, вразумлял.
Она объясняла это себе и девочке, верила своим словам. Но потом, помолчав, пожаловалась:
— Только помирать без Богородицы трудно. Она у меня в головах так бы и стояла. Упокоила. И душеньку мою к месту бы отвела. Так было бы расхорошо…
И она заплакала, словно лишь теперь осознав всю горечь утраты. Этой горечи было столь много, что в одной душе она не вместилась. И потому — со старой женщиной плакала девочка, уже не о смерти страдая, но о жизни: своей, короткой, не больно сладкой, и той долгой, что еще теплилась рядом, в старом, изношенном, но таком добром теле бабушки Надежи.
Они были схожи: худенькая нерослая девочка и старая женщина, высохшая от жизни. И плакали одинаково: крупными белыми слезами.
Недолго поплакав, они принялись за обед. Пахучие свежие щи девочка хлебала истово. Старая женщина радовалась, понимая, что юное тело просит сытости, словно молодой росток в огороде. Сытости и тепла.
— Хлебай, моя родная,— ласково говорила она.— Хлебай… Щи, они… для здоровья. На хуторе завсегда: и утром, и в обедах, и вечером — щи отвечают. Казачье хлебово.
Пришел ранний и долгий предзимний вечер. Свои заботы были у старой женщины: ощупкой, помаленьку, но шерсть пряла. Девочка занималась школьными уроками, тесно разложив тетрадки да книжки на малом столике, возле окошка. Каждый занимался своим.
Но когда уходит из дома родная душа, о ней вспоминают, говорят. Так было и нынче. Икона Богородицы прожила с бабой Надежей долгий век. Под ней крестили, ею благословляли к венцу.
И потому не вдруг, но вспоминалось об ушедшей иконе, а значит, о прежней жизни на хуторе, где жили за веком век. Степные селенья: Зоричев, Еруслань, Ластушенский, Затон-Подпесочный, Плесистов…
— Свой родненький хутор и ныне вижу как на ладонке, и буду видеть, покель глаза землей не покроются,— рассказывала баба Надя, радуясь своей счастливой памяти.— Наш хутор, он — на бою, правишься от станицы шляхом через Малую Донщинку, через речку — бродом. И вот он, хуторок наш. Возле него — гора. С нее весь белый свет видать. Там мы век прожили, и Богородица нас берегла, сохраняла. Бывало, такая страсть…
Отуманенный памятью взгляд старой женщины уходил далеко, через темное стекло окошка, в прошлые годы.
— Ныне он помер, этот человек, на Суровикином доживал. Помер, такой ему и помин. Господь ему судья. Но пять человек доразу посадил. Сколь осиротил деток. Шепнул кому надо: они, мол, зерно крали с тока. Забрали всех. И нашего Тимофея Фетисыча. Всех сравняли, по десять лет всем. И осталась я с тремя на руках. Все — горох. Куда кинешься? В речку. Богородице помолилась. И выжили. Не сослали нас, из хаты не тронули. Работала, как об лед билась. Днем — на колхоз, ночью — на себя. Так и прожили без хозяина. А потом — война… Уходили да хоронились по степи, по балкам. А потом — вовсе. Немцы все хозяйство раздергали. Какая техника… Быкам справы нет. Ни ярма, ни войца, ни занозки. Мужики — на войне. Меня бригадиршей поставили. Бабы, говорю, давайте все вместе помолимся Богородице и будем трудиться. Богородица нам поможет. Так и выжили… Утром до света на работу бежишь. А поля — далекие. Теплый рын, Калиново… Везде — пбешки. Какой хлебушко есть, детям оставишь. А сама — колос ухватишь, пошелушишь. В карман немного насыпешь, ребятишкам. Так и выжили. Богородица сохранила. Никаким судом меня не судили: ни сельским, ни колхозным…
Старая женщина привычно поднимает глаза к своей избавительнице, забывая, что нет ее под этой крышей.
Девочка, закончив уроки, стала рисовать. Склонившись над столом, она слушала повесть далекой жизни и рисовала. И появлялась на белом листе бумаги синяя речка, желтое хлебное поле, зеленая гора, а под боком ее — дома, возле домов — палисадники с яркими цветами.
— Работали и работали…— вздыхает баба Надя.— В колхозе стали хорошо получать, зерном… И деньги давали. Но много трудов. Огород большой. Помолюсь — и работаю. Картошка, капуста, тыковка. Спаси Христос, все остались живые, здоровые… Повыросли…
Девочка отдала законченный рисунок бабе Наде. Та глядела, глядела и признала:
— Это наш хутор. Смысленое мое дите… Умудрил Господь. Вот она, гора, наше поле и речка — все дочиста наше.
Спала девочка на сундуке, возле печки, теплая кладка которой не остывала всю ночь.
С вечера, когда погасили свет, баба Надя еще долго шепотом молилась, поднимая лицо к пустому углу. Молилась, потом плакала во сне. Девочка слышала молитву и слезы, сострадая им. Она знала цену слезам, жалея старую женщину, в доме которой было так хорошо: ни разу здесь не укорили ее ни углом, ни куском хлеба. «Живи, моя хорошая… Хлебай, моя сладкая, сил набирайся… Бери, моя родная…»
Утром баба Надя поднялась с трудом. Провожала девочку в школу, сокрушалась:
— Чего-то неможется… Либо погода…
— Давай я тебе врача вызову, «скорую помощь».
— Ушла моя помощь… Спокинула,— горько вздохнула баба Надя и напомнила, вручая деньги: — Хлебца нам купи. А себе — пирожок в переменку возьмешь. Уроки-то долгие.
Уроки были не больно долгими. Но после них девочка не сразу вернулась домой.
Выйдя из школы, она медленно, словно нехотя, побрела к невеликой поселковой площади, которую обступали магазины. В одном из них с недавних пор покупали у людей иконы.
Невысокое крыльцо в три ступени, стеклянная большая витрина, за ней — электрический свет. Набираясь храбрости, девочка долго стояла у дверей и шмыгнула в магазин лишь вослед за кем-то из взрослых.
Икон в магазине не было. Обычные товары: платья, рубашки, что-то еще — под стеклом, за прилавками. Немолодая продавщица с пуховым платком на плечах.
— Вы иконы покупаете?— выдавила из себя девочка.
— Игорь!— позвала продавщица.— К тебе!
Выглянувший из задней комнаты мужчина поманил девочку:
— Иди сюда.
Комната была тесной, заставленной ящиками, несколько икон — на полу, рядком.
— Показывай. Чего у тебя…— сказал мужчина.
Искоса, но пристально глядя на иконы, стараясь признать их, девочка стала сбивчиво объяснять: про бабушку Надю, про ее Богородицу, про воров…
Не дослушав, мужчина сказал твердо:
— Мы краденого не берем. Так и скажи тем, кто послал тебя!
Она не заплакала только потому, что боялась заплакать, и не помнила, как очутилась на воле. Лишь там она немного всплакнула и, недолго подумав, опять пошла не домой, не к бабе Наде, но тоже к недалекой милиции.
Короткий путь она одолела не вдруг и не сразу, но стало грезиться ей доброе: как приходит она в милицию, все объясняет, и тут же, в единый миг, летят с сиреной машины, люди с овчарками весь магазин обшаривают, все коробки, находят иконы, везут и водружают на место. Такая у всех радость…
Худенькая несмелая девочка, с испуганным взглядом, в вязаной шапочке и сером пальтишке, не сразу сумела пройти через железную вертушку к окну милицейского дежурного, пытаясь протиснуться против хода. Кто-то помог ей. Вовсе растерянная, она принялась рассказывать про бабушку, про иконы.
Ее выслушали, сказали:
— Иди в школу, девочка. Взрослые без тебя придут и разберутся. Иди в школу.
Ненастный день декабря, перевалив за полдень, торопливо спешил к ночи. Темные тучи тянулись низко, задевая маковки тополей да вязов. В тесных улочках, в глухих переулках гнездилась сизая мгла. Желтели окна домов; редкие машины зажгли свои неяркие фары и пробирались осторожно, словно ощупкой. На улицах — безлюдье: ни стариков, ни детишек. Все сбились к теплу.
К теплу спешила и девочка. В одной руке — портфель, в другой — пакет с хлебом, от него — сладкий дух корочки. Хорошо ею похрумкивать вприкуску с горячими щами. При этой мысли захотелось есть. Ноги быстрее пошли, даже вприпрыжку. Девочка знала: щи уже на печке стоят, ее дожидаются. Так всегда было, когда она жила у бабушки Нади.
Так было и ныне. Горячие щи да жареная картошка — на плите. Крепкие пахучие огурчики, щекастые алые помидоры — на столе, в миске. В духовке — сладкая тыква. И вечное: «Хлебай, моя сына… Уроки-то долгие, наголодала… Зубки у тебя вострые. Жуй да жуй, жуй да расти…»
Сама баба Надя не встала с кровати.
— Что-то неможется. Печь затопила, чуток повозилась — и нет мочи. Лежу… Гляжу на твою картинку.
Вчерашний рисунок девочки висел на стене, возле кровати.
— И поле наше, гора тоже наша. И цветки… У нас красивые цветки в палисадах: алилея, индюшина, жар-уголь… эти как угольки горят, а еще цветок ваня-да-маня зовется. Пестренький такой, пахучий… Ваня-да-маня… Ты их тоже нарисовала. Ведь не была у нас, а все наше. Умудрил Господь…
— Вот лето придет,— продолжила старая женщина речь,— мы Тимофея попросим, он отвезет нас на хутор. Поедем, поглядишь. Такие места расхорошие. Родина…
— Мы летом огород будем сажать,— напомнила девочка, уплетая сладкие оранжевые дольки печеной тыквы.— Тыквы много насадим.
— Конечно, всего насадим,— пообещала баба Надя.— И тыквы, и свеклы, и картошки-моркошки. У тебя глаза молодые, вострые. И спина гнется.
— Конечно гнется… Я буду все делать, ты лишь подсказывай,— сказала девочка.
— Помолимся и будем работать. У нас на хуторе, я завсегда…
Баба Надя нынче была говорливей обычного, хотя с кровати не поднималась и часто просила пить.
— У тебя, наверно, температура,— сказала девочка.— Ты болеешь.
— Неможется, моя сына,— легко согласилась старая женщина.— Годы я свои выжила, мне бы помереть. А теперь и вовсе заступницы моей нет. Жила возле нее как дите, горя не знала. А ныне и помирать страшно. Как без нее…
Отобедав, девочка помыла и прибрала нехитрую посуду, села за уроки. Баба Надя будто задремала, что-то порою шепча в забытьи.
Ранняя ночная тьма наглухо закрыла окошки. От печки, от чугунной плиты ее и духовки, наплывало тепло. Неяркий свет лампочки с трудом освещал бедные стены.
Девочка готовила уроки, потом принялась рисовать, достав из портфеля не обычные карандаши, а заветную коробочку с красками, еще прошлого года подарок. Она берегла их: кисточки и пахучие тюбики, в которых таились и яркая весенняя зелень, и ослепительный летний свет, и небесная лазурь.
Девочка рисовала огород: зеленые листья, алые, оранжевые плоды и солнечно-яркий подсолнух на жилистом стебле. Но это был не обычный подсолнух, а прозревший. Из сияющей желтизны его цвета смотрели глаза. И как всегда это у девочки получалось, глаза необычные: у зверей, у людей. Совсем живые. В них — печаль и радость, а еще — что-то большее. Словно многое знают, многое видели. И хотят рассказать свое знанье, предостеречь, ободрить — словом, помочь.
Девочка рисовала, забывшись. Была она не в тесной хатке, за стенами которой — промозглая осень, а в мире ином: летнем, солнечном и счастливом, где пахучий вей и полуденный жар. И чьи-то теплые руки легли ей на плечи, обнимая.
— Родная… Нарисуй мне иконочку,— это баба Надя стояла рядом за спиной.— Моя сына,— просила она,— нарисуй маленькую. Ты — безгрешная душа, ты сладишь. Мне без иконки тяжко. Всю жизнь с Богородицей. Я ныне, может, помру. Нарисуй…
Девочка поднялась, сказала:
— Я не смогу, баба. Не сумею.
— Сможешь, моя родная…— убеждала старая женщина. Глаза ее горячечно блестели; обычно восковое лицо розовело от жара.— Нарисуй, моя сынушка,— со слезами просила она.
Девочка поняла, что отказаться нельзя, и сказала:
— Хорошо, баба, я попробую. Но ты ложись, ты болеешь.
— Неможется, моя сына. А помирать нельзя без иконки.
— Ложись. Я попробую, постараюсь.
Она отвела старую женщину к постели, уложила; сама же вернулась к столу, недолго смотрела на свой рисунок с огородом и подсолнухом, потом убрала его и, достав чистый лист, стала карандашом, легко, едва касаясь бумаги, рисовать женщину с покрытой головой и скрещенными на груди руками. Она рисовала долго, стирая резинкой и снова начиная и все более понимая, что ничего у нее не выходит.
— Господи, помоги…— беззвучно шептала на кровати старая женщина.— Господи, помоги ей…
А девочка, понимая свое бессилие, вдруг озябла. Она подошла к печке и присела возле нее на низенькой скамеечке, сразу почуяв, как вливается в ее тело живительное тепло.
— Господи, помоги ей…— прошептала старая женщина.
Девочка повторила за ней:
— Господи, помоги…
Глаза ее вдруг остановились на кухонной полке, где сушились миски, ложки и прочая нехитрая снасть. Там же висели две небольшие некрашеные доски, на которых всякий раз крошили капусту, морковку да лук. Доски были скобленые, мытые, явственно проступали на них мягкие линии древесной текстуры. И на одной из досок, той, что висела справа, девочке почудился живой образ. Боясь спугнуть это зыбкое видение, она подалась вперед, чтобы вглядеться пристальнее. И увидела отчетливо, ясно, среди зыби линии увидела лик женщины. Он проступал все отчетливей: мягкий рисунок лица, складки большого платка, лицо обрамляющего, выпростанные из платка руки, бережно держащие спеленутого младенца.
Не дыша и не спуская с образа глаз, девочка взяла краски и, опустившись на колени, начала осторожно работать, закрепляя и упрочивая насовсем только ей видимое на темном дереве.
Коричневый цвет и охристый, золотистый… Багрянец и лазурь… Одна кисточка, другая…
«Господи, помоги…» — пробормотала на кровати своей старая женщина. Очнувшись от забытья, она с трудом приоткрыла глаза и увидела что-то большое и светлое. Не было тесной хатки, низкого потолка ее, а лишь — золотой теплый свет, который не слепил, а словно врачевал глаза. Но она все равно зажмурилась. «Может, горим…» — подумалось ей. Но свет был не от земного огня. Кто-то стоял, высокий, в золоте ли, в серебре, а может, в снежной сияющей бели. И старая женщина разом поняла, что она умирает и Господь прислал за нею высокого гонца. «Слава Тебе…» — прошептала она, теряя сознанье.
А когда через время старая женщина очнулась, уже не было огня и света, лишь электрическая лампочка желтела под потолком. А вокруг — старые стены, родная хата. Но у дальней стены, у печки, лежала на полу девочка, и старая женщина позвала ее: «Сына… Чего с тобой?..» Позвала — и неловко сползла с кровати, на неверных ногах шагнула раз и другой, протянула руки.
Девочка была теплая и живая. Она подняла навстречу бабушке лицо с сияющими счастливыми глазами.
Но вдруг другие глаза увидела старая женщина. Глаза, светлый лик… Возле них жизнь прожила. Глядела со стены Богородица. В ее глазах — нежность, страдание и раздумье. И радость возвращения. Свет исцеляющий в потупленном взгляде ее.
— Господи, слава Тебе…— прошептала старая женщина, опускаясь на колени.
За стенами, за малыми темными окошками тянулась долгая ночь. Для людей — время покоя.
Наутро в хате все было как прежде. Лишь из переднего угла, украшенная сухими и бумажными цветами, глядела Богородица.
А еще — всю неделю в хатке стояло тонкое благоухание. Люди заходили и, почуяв его, спрашивали:
— Чем это?.. Так хорошо.
— Цветок зацвел,— объясняли им.— Зима, а он зацвел.
Потом понемногу этот запах пропал. Осталось лишь прежнее: старости дух, горечь сухих трав, кислина щей да яблочной кулаги да сладость пареной тыквы, которую любила девочка, как все дети.
1998 год
«Новый Мир», №10
В степи
По старому казачьему шляху ли, грейдеру, что напрямую ведет к станице Клетской, не ездил я уже несколько лет. Асфальтом хоть и длинней, но надежней. Нынешним летом решил я спрямить, поехал.
Утренняя дорога пустынна, тем более здесь. Встречная машина не прогудит, не замаячит впереди попутная. Поднималось солнце. В низинах истаивал легкий розовый туманец. На буграх сияла, переливаясь, утренняя роса. В открытое окно машины тянул и тянул встречный ток прохладного пахучего ветра. Можно было закрыть глаза, чутьем понимая, что пролетает мимо: горькая ли полынная залежь, хлебное поле или просто пашня, влажная от росы. Пусто было в степи, словно в морских просторах.
Тридцать верст резво отмахал я по ровному набитому грейдеру, свернуть с которого нужно было возле хутора Салтынский, а уж там и до места — рукой подать.
Дремать за рулем я вроде не дремал. А вот нужный поворот пропустил. Обычно едешь, слева на бугре, еще издали, белая водонапорная башня маячит, чуть ниже — строения молочной фермы. Это — знак поворота.
Нынче я проскочил мимо, да, спасибо, еще вовремя опомнился. Сам хутор Салтынский — за бугром, его с дороги не видно. А ферма пупом торчит: водонапорная башня, кирпичные строения под шифером, городьба базов. Словом, не проглядишь. А теперь — ничего нет. Один лишь бугор. Все остальное будто корова языком слизала.
Проехав нужный поворот и все же вернувшись к нему, приглядевшись, увидел я на бугре жалкие остатки молочно-товарной фермы: кучи мусора, следы фундамента. И лишь в одном месте поднимался над землей обломок стены.
Картина эта по нынешним временам знакомая и уже привычная: колхоз развалился или еле дышит, коров ли, свиней, овечек перерезали, а скотьи строения разломали, по кирпичику разобрали и развезли ко дворам. Пригодится в хозяйстве. Все это ныне привычно, но все равно горько. И потому глядел я, охал. А потом и вовсе встал, свернув на обочину.
Несмотря на ранний час, возле остатков стены коровника копошился человек. Видно, торопился свое добрать. Припоздал, бедолага.
Вышел я из машины без цели. Просто поглядеть, недолго побродить на руинах, словно на кладбище, повздыхать, вспоминая былое. На этом хуторе и на этой ферме бывал я прежде.
Из машины вышел, размял занемевшую поясницу, а приглядевшись, немало удивился и пошел напрямую к остаткам стены коровника и к человеку, что возился там. Почудилось мне, что он… Нет, не почудилось: человек действительно не доламывал стену, но поднимал ее. Жалкий остаток старой кирпичной кладки продолжила кладка новая, но уже самородного камня — песчаника. Когда-то, в годы старые, он был в ходу под названием дикбой камень.
Картина была странная: невеликая груда камня, вязкой глины замес, пара саженей новой каменной кладки на глине да столько же старой, кирпичной… А вокруг — великий разор. Остатки фундамента, обломки серого шифера, осколки кирпича, щепа да клочья минеральной ваты, которой утепляют крышу, обрывки черного рубероида. Словно смерч ли, Мамай ли прошел — все смел, оставив лишь мусор.
И на этом пустом бугре, возле остатка стены орудовал мастерком живой человек. Он набрасывал глиняный раствор, ровнял его, а затем клал за камнем камень, подстукивая, чтобы плотнее ложились в глиняную постель.
— Здорово работали…— подойдя ближе, приветствовал я странного трудягу.
Он поднял голову, охотно ответил:
— Слава богу…
Но дела своего не оставил, пока не доложил ряд, камень за камнем. Класть его не больно сподручно: не ровный кирпичик, а дикая булыга. Гляди да прикидывай, как ловчее пристроить.
Человек был вида обычного: ростом невелик, худощав, поверх легкой одежды — линялый серый халат, какие прежде дояркам да телятницам выдавали для работы.
— Ломали, ломали…— сказал я, окидывая взглядом разоренье.— Теперь строим.
— Меня не было!— гневно ответил мужик.— Я бы с ружьем засел и никого бы не подпустил! Такое богатство враспыл пустить!
— Да, ферма была хорошая,— согласился я.
— Какая ферма?..— обиделся он.— Ферма была при мамке-покойнице, при колхозе Буденного, я помню. Плетневые стены да крыша из чбакана. Это называется ферма. А в совхозе тут настоящий комплекс был. Иди за мной! Гляди…— уложил он последний камень и, оставив работу, быстро пошел.
С трудом поспевал я за своим провожатым.
— Я здесь вылупился и возрос возле коров,— объяснял он на ходу.— С мамкой-покойницей, она всю жизнь при скотине. И я отсюда не выводился. Помогал, чистил, доил. Плетни были да загбаты. Соломы и той не досыта. Зимой не доили. Весной на веревках тянули коров. Вот это ферма была. А уж потом, при совхозе, строили да строили… Все по науке. Гляди сюда! Вот она, вот тут была родилка!— широко развел руками.— И называлась как у людей — родилка. А тут, рядом, помещение для теляток. У них — теплочко. Обогрев работал да горели лампы. Где они, эти лампы?!— гневно вопросил он.— Не с ружьем, с пулеметом бы засел, кабы знать… Из больницы бы убежал и засел! Никого бы не подпустил! Акционеры! Хозяева! Умом рухнуться надо! Все порушить!— кричал он в голос, и яростным темным огнем горели глаза его.— Гляди сюда!— звал он меня далее.
Я послушно шел по пустому бугру. Под ногами хрустело крошево битого кирпича да шифера.
— Комната отдыха!— торжественно объявил, останавливаясь, мой провожатый, и лицо его будто посветлело, разгладились морщины.— Телевизор, диван, два кресла, не считая стульев. На окнах — занавески с цветами. Зеркало! Бабам чапуриться. Умывальник…— Он темным сухим перстом указывал мне, незрячему и потому ничего не видящему, кроме следов разоренья.— На стенах картины! Три богатыря — на конях и Аленушка возле воды сидит, вискби распустила. В рамах картины.
Он показывал, и я послушно поворачивался туда да сюда.
— Тут вот дверь… Тут коридорчик. Тут кладовка. А тут — вот они, коровки, стоят!
Лежала вокруг пустая мусорная земля: осколки, обломки, обрывки, битое стекло да всякая ржа. А счастливый спутник мой видел иное: «Компрессорная! Охлаждение! Моечная с горячей водой! Молокопровод!» А вокруг — лишь мусор да скотий дух, который долго живет даже на летних стойлах. Здесь и подавно.
— Автопоилки! Вся скотина под номерами, в книгу заносится!— возглашал провожатый.— А как же… Завели симменталок. Стали коровок породить… Только искусственное осеменение. Плохих не держали… Роза, Ромашка, Фиалка… Ведерницы… По пять, по шесть тысяч давали… Калина… Мальва… Бабы им такие имена давали, как цветкам,— снисходя к женским слабостям, улыбнулся он и добавил: — Они и были не коровки — цветки лазоревые.— А потом посуровел: — Сроду, до смерти своим не прощу, что мне в больницу не переказали. Промолчали, как тут хозяинуют. Да я бы…— стал наливаться он черной кровью.— Я бы не с пулеметом, я бы с пушкой засел! И минные поля вокруг. Не подходите, гады! Я жизнь на скотину поклал! До крови, до поту трудился! Мамка моя померла!— Снова яростью горели глаза его, на губах пена вскипала: — Акционеры! Хозяева! В бога… в креста…— матерился он.— По метру кладки, по три листа шифера поделили! Щей с говядиной! Холодца наварили! Из гаубицы бы стрелял! Прямой наводкой!!
Я уже понял, что передо мной человек больной: сбивчивая, с горячим захлебом речь, худоба, в глазах — огонь нездоровый. Я все понял. Сделалось не по себе. Пустой бугор, до хутора — не близко. Конечно, не страх я испытал, а нечто иное: жалость и горечь. Надо было уйти и уехать. Но как…
— Таких коровок сгубить! Астра, Былина, Майка… Такое богатство! Сколь труда! Либо они коммунистками были, эти коровы?!— яростно вопрошал он.— Либо у них красное молоко?! И горчей полына?! Ядовитое?! За это — на бойню?! Не-е-ет… Все это мы восстановим,— уже без крика, но твердо обещал он.— Стены складем, крышу накроем. Родилку, телятник… А потом и комнату отдыха. И зеркало возвернем,— пообещал он.— Знаю, кто его упер, вместе с умывальником. Картины сами нарисуем и повесим.
Конечно же этот человек был тяжко болен. Недаром и о больнице поминал. Я слушал его, кивал головой и думал, как мне половчее распрощаться и уехать.
Избавление мое было близко.
По дороге от хутора, а потом к нам напрямую на стареньком позвякивающем велосипеде катила немолодая женщина с корзиною на багажнике. Темный платок на голове. Платье велосипедною рамой вздернуто, выказывая бель незагорелого тела.
Подъехав ближе и заметив меня, женщина спешилась, оправила платье, позвала:
— Иди! Покушай…
— Вот и жена приехала…— обрадовался мой собеседник.— Подзавтракаем.
На дощатом ящике, прикрыв его неструганую плоть белой тряпицей, женщина разложила простую снедь: порезанное крупными дольками свиное соленое сало, розоватое, с прозрачной, даже на вид хрусткой корочкой, парящую вареную картошку в трещинках развара, пару крупных яиц, большую белую чищеную луковицу, разрезанную в четверть, увесистую краюху хлебного каравая.
Усевшись возле еды, мужик радушно пригласил меня:
— Подзакусим со мной.
— Садитесь…— предложила и жена его.— Картошка горяченькая.
Голос у нее был тихий, платок на лицо низко опущен. Она пригласила, сама же осталась стоять возле мужа, который докладывал ей, хрустя на закуску луковицей:
— Погляди. Ныне два ряда выложил. Человек вот подъехал… Подзавтракаю, третий ряд буду класть. Камень этот доложу,— указал он на невеликую груду,— и подамся новый бить. Тут рядом, своими силами камень добываю.— Это было для меня объяснение.— Лом да ковалда… Клинья да опять ковалда. Наше дело такое…— похрумкивал он сочной луковицей, сало жевал, облупливал белое яичко короткими узловатыми пальцами.— Клинья, ковалда… Ныне буду бить и возить на тачке. Солнышко… Жарко будет,— поднял он к небу глаза и успокоил: — Нам не привыкать, наше дело такое.
Женщина заплакала, ниже опуская голову, видно стыдясь чужого человека, но совладать с собой не умея. Она плакала тихомолом. А муж ее успокаивал:
— Не реви. Все восстановим. Я же не реву. А мое, родное, все погубили. Жизнь поклал. И мамка… Сердце день и ночь кровит. Закричал бы слезьми вот такучими,— показал он яичко.— А я креплюсь. Слезьми не поможешь. Я не реву, а тружусь. Трудиться надо бесщадно. Трудиться… И все восстановим. Коровкам, теляткам… И комната отдыха будет. Телевизор, може, не осилим. Дорогучий, черт. Да и некогда глядеть. А зеркало будет. Умывальник… Наладим.
Лицо его, темное, морщинистое, обрезанное худобой, светило улыбкой. Мягко сияли глаза, к жене обращаясь:
— Не реви… Все восстановим…
Попрощавшись, я пошел к машине, чтобы поскорее уехать.
1998 год
«Новый Мир», №10
Пиночет
повесть
1
Новый год обернулся двойным праздником: Катерина — родная сестра хозяина — приехала погостить из далекой Сибири, правда ненадолго, проездом. Корытин сам ездил на станцию, к поезду, ее встречать и привез прямо к накрытому столу.
Сестра на родине не гостила давно. Было о чем поговорить. Вот и просидели у елки далеко за полночь, пели и даже танцевали под музыку.
Но по привычке и обычаю людей немолодых сестра хозяина все равно проснулась довольно рано. За окном лишь синело, а в доме горел электрический свет. На кухне хозяйка мыла посуду после праздничного стола.
— Разбудила тебя?— спросила она гостью.— Вроде старалась не шуметь.
— Тоже рано встаю,— ответила ей невестка.— Всех ведь надо поднять, накормить, проводить и самой на работу. А братушка мой спит?
Хозяйка невесело усмехнулась:
— Братушка твой и не ложился, считай. В пять часов укатил.— И, рассеивая недоуменье, объяснила: — На дойку, на фермы, как всегда.
Гостья уже подзабыла колхозные председательские обычаи, но даже вспомнив, все равно удивилась:
— И даже сегодня?
— Каждый день,— со вздохом ответила хозяйка.— Ни выходных, ни проходных. А в праздники — вовсе. В котельных не напились бы. Все заморозят. Времена такие…— Оборвав себя, она смолкла, поглядела в окно: не едет ли?
За окном, синея, занималось утро нового, молодого дня.
Не торопясь женщины мыли посуду, пили чай, говорили о жизни, о детях. У гостьи и у хозяев они уже были взрослыми. А жить нынче непросто. Раньше молодым одно твердили: старайся, учись. Закончишь институт — станешь человеком. Нынешнюю гостью, сестру хозяина, в свое время, после медицинского института, направили в Сибирь. Там она замуж вышла, там обжилась, теперь уж навек. А нынче — иное…
Пока разводили тары да бары, на улице развиднелось. Потом розовое солнце поднялось из белых снегов. Наконец подъехал и жданный. Рыкнула машина, выскочил навстречу ей лохматый кобель Тришка. Но хозяину нынче был недосуг с ним баловать, он в дом спешил.
— Сеструшка!— громко позвал он, лишь на порог ступив.— Ты — живая?! Головочка не болит с похмелья?
Они заспешили друг к другу, словно не было встречи вчерашней там, на вокзальном перроне. Корытин обнял сестру, нежно целуя. И она прижалась к нему щекой. И через морозный и терпкий бензиновый и скотий запах, исходящий от Корытина, и через пахучую сладость и горечь женской косметики они оба чуяли их навеки роднящий дух близкого человека.
Корытин и гостья его были не просто братом и сестрой, но еще и близнецами.
Большие серые глаза — наследство матери,— рисунок бровей, губ, прямого носа, мягкого подбородка, каштановые, в крупное кольцо, волосы… Они были очень похожи, особенно в юности. И прежде, и даже теперь природа старалась сблизить их настолько, насколько это позволял разделявший их пол. Всегда была заметна некоторая резкость черт у сестры, излишняя мягкость — у брата.
От рождения они были вместе. Десять лет отсидели за одной партой в школе. Потом пути разошлись: сельхозинститут — у Корытина, у сестры — медицинский. А потом она уехала в Сибирь и осталась там. Последние годы вовсе не виделись.
То ли завтрак это был поздний, то ли ранний обед, но сидели за столом долго. Рассказывали, расспрашивали, глядели друг на дружку при дневном уже свете. Конечно, годы брали свое: сорок пять лет — не шутка. Но и брат и сестра смотрелись хорошо. Особенно Катерина. Время смягчило резкость черт, сделав лицо женственней. У брата секли лоб морщины, появилась редкая, но седина. Однако он оставался все тем же: густая копна волос, глаза, улыбка — девкам присуха, бабий баловень — Корытин.
Наконец встали из-за стола. День разгорался ясный, солнечный, с легким морозцем. Прямо на заказ: новогодний подарок — не день.
— Поехали,— со вздохом сказал Корытин, и сестра поняла его: к родителям, на кладбище.
Поняла и быстро сыскала в своих вещах привезенный букет искусственных цветов.
Председательская «Нива» стояла возле дома. Корытин ее сам водил. Дорога на хуторское кладбище была расчищена, хоронили и зимой.
Доехали, оставили у ворот машину. Могилки были заметены снегом. Все кладбище — вровень, лишь кресты да пирамидки торчат. Но расчищать, тревожить кладбищенский покой не стали. Прошли, постояли, поглядели на портреты, Катерина всплакнула. Как давно ушла мама… Ее молодою хранила память. Отец помнился на больничной койке, исхудавший вконец. А здесь — при костюме и галстуке, и лицо еще нестарое. Были — и нет их. Даже могилки — под снегом.
Постояли, повздыхали, прикрепили к портретам яркие неживые цветы, покрошили и сыпанули вокруг печенье для птиц, каких вовсе и не было. Все исполнили, как хотели и как было положено, и ушли.
А в машине Корытин спросил:
— Может, на хутор сбегаем?
— Да-да, поехали…— согласилась Катерина, потому что это было так кстати: проведав покойных родителей, проведать родину — хутор Зоричев, где родились и жили когда-то в ранней младости.
Проехав окраиной, выскочили в степь. Черная, прямая как стрела лента асфальта лежала меж снегов. Белая степь, под солнцем, слепила глаза.
В невеликом хуторе Зоричев когда-то начинали жить, там — детство. Он и сейчас был таким же, этот степной хуторок: на краю темнели постройки, базы колхозных ферм; дома — редкой россыпью; старые почерневшие вербы над заметенной снегами речкой. Вся округа — в снегах. А виделось: зеленая степь с лазоревыми цветами, кудрявые вербы, светлая вода.
Посреди хутора — магазин да клуб, кучка домиков. Магазин — новый, кирпичный, а клуб — старый, где кино глядели.
— А где школа была, ты помнишь?— спросил Корытин.
— Возле клуба,— ответила Катерина.
Остановили машину и вышли из нее. Глухая тишина стояла над заметенным снегами хутором.
И откуда она взялась, эта старуха? Выкатилась из соседнего дома, раздетая, простоволосая. Выскочила из калитки, кинулась к председателю и упала перед ним на колени:
— Прости Христа ради…
Корытин поднимал ее, а она не хотела вставать и кричала:
— Прости! Прости мою дочушку! За-ради Нового года! Прости дочушку за-ради Христа… За-ради деток ее…
Седые всклокоченные волосы… Пьяные ли, горькие слезы…
Корытин держал старуху крепко и говорил:
— Иди в хату, тетка Прося. Иди в хату.— Он говорил и через ее голову глядел на дом: может, выйдут, помогут.
Старуха вывернулась и снова упала на колени, теперь уже перед Катериной:
— За-ради гостьи твоей дорогой прости…
Пришлось поднимать и вести старую женщину в дом. А она не хотела идти:
— За-ради Христа… За-ради детей…
Корытин молча провел ее двором, приказал:
— Иди в хату.
Из дома так никто и не вышел.
Корытин вернулся к сестре.
— Что это?— спросила Катерина.— О чем она?
— Пьяная,— коротко ответил Корытин.
— Это вижу… О чем просит? Какая дочь, дети? За что простить?
— Дочь — свинарка. Поросят с фермы украла. Поймали, наказали,— неохотно и коротко объяснил Корытин.
Сели в машину, поехали вдоль хутора.
Если для Корытина этот случай был пусть не больно приятным, но рядовым, то для сестры его — нежданное огорченье. Жалела она брата: и нынче, в такой праздник, нет ему покоя.
Двоюродная сестра отца, тетка Клава, жила, как и прежде, в старой своей хате. Когда вышли из машины, Катерина спросила о ее детях:
— Живые?
— Живые. Зовут ее. Она не идет. Говорит, пока в силах.
Поднялись по шатким ступеням крылечка, через холодный коридор прошли.
Боже, боже… Как убоги дома нашего деревенского детства, когда через долгое время, привыкнув к иному, ступишь через древний порог: ситцевая занавеска, небеленая печь, железная кровать, облупленная клеенка на столе, малые оконца, запыленная электрическая лампочка на шнуре…
— Да жалкая моя… Да как тебя не признать… И глазочки, и бровочки — все ее… Откель? Либо Дед Мороз привез из краев холодных?
Все было как всегда и у всех: радость и слезы… Воскрешенная память, в которой не только дни счастливого детства, но и боль утрат: покойные родители, ушедшие годы — в меру всего, как в жизни.
Посидели, чаю попили, теперь уже забытого, с травой «железняк». Посидели и поднялись. Старая женщина, обрядившись в теплый платок да ватник, вышла провожать их, прощаясь и благодаря:
— Спаси вас Христос… Спаси… И ты меня не забыла, а мой сынок и вовсе…— Старая тетка с прежних времен величала Корытина «мой сынок».— Мой сынок надбегает… И сальца, и сметанки везет…
Поехали, оставляя позади малую хатку на заметенной улице и старую женщину в темном.
Свернули прежде поры.
— Гляну,— коротко сказал Корытин и объяснил: — Новый год.
Миновали ворота скотного двора, проехали и остановились меж длинных приземистых коровников. Корытин ушел ненадолго, вернулся. Снова ехали и снова останавливались. Корытин исчезал в темных зевах проходов и возвращался.
Когда они уезжали с хутора, магазин был открыт. С его высокого крыльца по ступеням осторожно спускалась женщина. Движения ее были неверны: вот-вот упадет. Корытин притормозил у крыльца. Но женщина, оскользнувшись, все же на ногах удержалась и, повернувшись на гул машины, увидела Корытина и закричала:
— Пиночет! Пиночет проклятый!— Искаженное хмелем и злобой морщинистое беззубое лицо старухи было страшным.— Пиночетина!! Чтоб тебя!..
Корытин нажал на газ, машина рванулась прочь от старухи, криков ее, магазинного крыльца и хутора. Впереди чернела асфальтовая прямая дорога, разрезая снежное поле до самого горизонта. Горизонт белесо туманился, переходя в белесую же небесную синеву.
— Стой!— крикнула Катерина.
Корытин остановил машину.
— Давай вернемся. Ну прости ты ей… Давай вернемся. Прости…— Голос сестры дрожал. Она чуть не плакала, конечно жалея не старуху и дочь ее, а родного брата.
Корытин машину не выключал. Повернувшись к сестре, он через силу улыбнулся, покачал головой и поехал. Вперед и вперед. К сизому туманцу далекого горизонта, к дому.
Катерина глядела туда, вперед, но видела лицо брата. Ни на какого Пиночета он, конечно, не был похож. Какой еще Пиночет?.. При чем тут этот генерал? При чем далекая страна и диктатор ее?.. Брат ее — вовсе другой: сероглазый, с мягким рисунком губ, улыбчивый, добрый — недаром девчата его любили. Таким и остался. Какой еще Пиночет?..
Она говорила и говорила себе. Но иное не оставляло: это ведь не старуха в сегодняшней хмельной злости придумала брату кличку… Старуха и не знает, кто это и что это за Пиночет. Нет, не старуха… Другие, которые поумней.
Внимательно стала глядеть Катерина, искоса, но внимательно, стараясь увидеть и понять то новое, что не знала о брате. Но не увидела ничего.
Когда подъезжали к дому, Катерина сказала вслух:
— И зачем ты сюда, братушка, вернулся…
— Сдуру, как с дубу,— честно ответил Корытин.
2
Его возвращение три года назад в родной колхоз было и вправду не всем понятно. И если еще вслух, в кругу начальственном, официальном, говорили: «Отцовское дело продолжает, корытинское… Наследство…» — то меж собой люди понимающие лишь головами качали: не те времена, чтобы в колхозный хомут лезть, оставляя теплое место… ох не те…
Корытин-младший, была б его воля, никогда бы в этот колхоз не сунулся, будь он ему хоть трижды родным. Он ушел оттуда давно, молодым еще, сначала в соседнее хозяйство, потому что работать под рукой отца-председателя было в ту пору неловко: называли это «семейственностью». Ушел он в соседний колхоз, а потом — в райцентр, на повышение. Работал — и горя не знал, наведываясь к отцу лишь в гости. Должность у Корытина-младшего была хорошая, в семье — порядок, жить, слава богу, есть где. И дочери, которая замуж выскочила, успел дом построить. Сын в институте учился. Оставалось понемногу стареть, рыбачить да охотиться, ругая меж своими новую власть. Так бы и жил, но все поломал отец.
Корытин-старший, не оставлявший своего председательства в колхозе и в возрасте пенсионном, вдруг «не ко времени» заболел.
— Не ко времени…— жаловался он сыну.— Такая пора. Вожжи внатяг надо держать, а я по больницам шалаюсь.
Сначала не думали о серьезном. Корытин-старший лежал в больнице раз да другой. Съездил на курорт. Вроде ему полегчало. А потом снова подступила болезнь, забирая все круче. Увезли старого Корытина в больницу, в областной центр, приказали лежать. А там он не только своей хворью маялся, но душой и сердцем о колхозе болел:
— Все — враспыл… По-доброму не посеют… Сена не запасут… Готовить надо комбайны…
Из больницы, за сто с лишним верст, пытался он руководить колхозом: звонил непрестанно, писал и передавал наказы. Да не в одну страницу: «Главному агроному…» — и список дел; «Главному зоотехнику…» — еще столько же. А порой не выдерживал и срывался в колхоз на день-другой. В последний раз вывезли его «скорой помощью».
Корытин, конечно, понимал отцовскую боль, но как помочь… Он мягко корил, уговаривал:
— Чего ты изводишь себя… Какие тут доктора могут помочь. Лечиться — значит, лечись. Выздоровеешь, накомандуешься.
Отец вначале повторял привычное, будто извинялся:
— Такая жизнь… Сам знаешь… Без хозяина дом плачет. Бывало, на неделю уедешь, и то звонишь: как там?.. А ныне… Такие времена… Сенокос… И комбайны… Уборка заходит…
Тревога и боль были в словах и в глазах старого Корытина. Начинал он сердиться:
— Либо ты не понимаешь? Всю жизнь наживали, а теперь там… Жизнь поклал. Такие труды…— говорил он горячечно.— За двадцать лет всего два раза был в отпуске. Вас, детей своих, толком не видал. А теперь — все без призору…
— Там люди остались, твои спецы…— уговаривал Корытин-младший.
Отец не верил ему:
— А то не знаю, какие они хозяева. Лишь за моей спиной. Нет в них…— Он сжимал костистый кулак.— Вот тебя бы туда, ты бы совладал…— закидывал он удочку.
Корытин-младший откровенно посмеялся. Отец смолк. А через день после этого разговора снова сбежал в колхоз. Там ему стало хуже. Привезли. Откачали. И снова пошли те же речи.
— Какая меня может взять лека?— с горечью говорил старый Корытин.— Поглядел — душа вянет. За два дня хоть разгону им дал. Будут крутиться.
— Надолго ли…— остудил его сын.
Старый Корытин смолк. В самую точку сын попал. Старик поморгал, словно от яркого света, прикрыл худыми ладонями лицо, потом повернулся на бок к стене, будто подремать решил. Корытин-младший стал выходить из палаты, осторожно, на цыпочках, но уже на пороге услышал странный звук: тоненький, скулящий. Тихо вернулся к кровати отца. Да. Старый Корытин, этот суровый мужик, отвернувшись к стене и закрыв от белого света лицо большими ладонями, по-детски, по-щенячьи плакал, неумело, со всхлипами, до боли стыдясь своей слабости и не умея совладать с нею.
— Папа… папа…— мягко произнес Корытин-младший, не утешая, а лишь напоминая, что он рядом.
Отец повернулся, стал подниматься. Лицо его, искаженное стыдом и болью, было словно чужим.
— Христа ради…— просил он.— Побудь месяц-другой. Уборка заходит. Удержать… Все возвернется… Лишь удержать до весны…
Корытин-младший обнял отца, уложил его в постель и сказал:
— Ладно. Будет по-твоему. Только лечись.
— На совесть?..— не вдруг поверил отец.
— На совесть. Лечись.
И тогда отец поверил, выдохнул облегченно, сказал:
— Гора с плеч. Спасибо, сынок.
И вправду с плеч ли, с души старого Корытина словно гора упала. В день-другой он переменился, успокоясь. А тут еще дочь приехала. Стало и вовсе хорошо. Старик словно умылся живой водою: стал улыбаться, играл в шахматы, врачам не перечил. И то, что сын к нему приезжал совсем редко, не огорчало, а, напротив, успокаивало.
Так он и умер, спокойно, во сне. Схоронили его на хуторском кладбище, рядом с женой. Там они и лежали, на вечном покое. Сейчас, зимой, кладбище, хутор, вся округа тонули в снегах. Белым-бело. И тихо.
3
Подъехали к дому, остановились, вышли из машины. И Катерина, и брат ее чувствовали себя не больно ловко. Что-то встало меж ними, непонятное, недосказанное.
А от крыльца, навстречу хозяину, выскочил большой пес в длинной золотистой шерсти: узкая морда, длинные уши, умные глаза.
— По моде завел…— глядя на красивую собаку, засмеялась Катерина.
— Кто его заводил…— ответил Корытин.— Приблудный. По степи осенью ехал, он бежит, замухоренный, страшный. Кто-то бросил. Остановился, он — в машину. Это теперь отдыхался да отъелся, стал на собаку похож.
Рыжая блестящая, волнами шерсть, длинная, с навесом. Сильные ноги. Крупные коричневые глаза.
Приласкали собаку, и она, от избытка энергии и чувств, кинулась прочь от хозяина и гостьи, помчалась, делая круг, по просторному заснеженному двору большими прыжками, почти ныряя порой в глубокий сухой снег, ныряя и выбираясь наружу. Хорошо было глядеть, как мчится по белому снегу рыжее, золотистое пламя.
— Большое у вас поместье,— оглядываясь, сказала Катерина.— Много земли, огород…
— Какой огород, кому с ним управлять,— отмахнулся Корытин.— Мне — некогда, она — на работе и прибаливает. Да и кому это нужно! Дети выросли. А мы… уж как-нибудь найдем пучок моркошки да луковицу. Сад — еще отцов. Гляжу помаленьку. Но тоже… Некогда.
Пока у крыльца стояли, подкатила машина с гостями: дочь с зятем приехали из райцентра и привезли на погляд главный подарок — внучку, маленькую топотунью, голосистую, говорливую. Завертелась в доме веселая коловерть: праздничный стол, праздничный дух, шумные разговоры. Так бы и провели время, семейно, да внучка вдруг заявила:
— У вас елка плохая, маленькая, и Деда Мороза нет.
— Ах, плохая…— обиделся Корытин.— А ну пошли…
И подались чуть не всем гуртом в колхозный Дом культуры, который строили в прежние времена, при Корытине-старшем, с размахом. Там было все: просторный зал, огромная нарядная елка, Дед Мороз, Снегурочка, ребятишки и взрослые, музыка, хоровод и подарки — словом, веселый праздник.
Семейство Корытиных заметили сразу. Первым подбежал рыжеватый мальчишка и сообщил Корытину:
— Докладываю: все в порядке. Подарки раздали. Всем хватило, еще остались. Кто болеет, потом отдадим. Скоро театр приедет, уже звонили. А тебе нечего со взрослыми…— решительно забрал он корытинскую внучку.— Пошли к Деду Морозу, он тебе подарок даст.
Девочка послушно отправилась с мальчиком к Деду Морозу и елке.
— Чей это?— спросила Катерина.— Комендант…
— Наш…— с усмешкой ответил Корытин.— Наш Ваня.
— Чей — наш?..— не поняла его сестра.
Корытин понизил голос и сказал только Катерине:
— Про какого говорят, что наш с тобой брат.
— Это он?..— охнула Катерина.
— Он самый. Помощник председателя. Отцов, теперь мой.
— Неужели правда, а?— шепотом спросила Катерина.— Я и не разглядела. Вроде не похож… Рыжий… А глаза какие? Неужели правда?..
Корытин пожал плечами. Об этом болтали давно: вдовый председатель; безмужняя молодая баба; мальчишка, который дневал и ночевал при старом Корытине, не выводился из конторы правления, ездил в машине с председателем и в доме был своим.
— Неужто правда?— еще раз спросила Катерина.
— Не знаю. Отец просил: не гони.
— А откуда не гнать?
— Ну, от конторы, от себя. Помощник председателя. Весь район знает.
Так оно и было. Началось при Корытине-старшем. Сначала над этим посмеивались, потом привыкли. Мальчишка еще в школу не ходил, рыжий карапуз, а уж прилип к старому председателю. Пришел и заявил:
— Я вырасту — буду вместо тебя председателем колхоза.
— Может, лучше летчиком,— отговаривали его.— Или врачом. Лечить нас будешь. Или — космонавтом.
— Председателем колхоза,— твердо стоял на своем Ваня.
То ли это польстило старому Корытину, то ли вдовел он да жил одиноко и просила душа тепла, а может, и в самом деле был грешен… Теперь не узнать. Но Ваню он пригрел. Мальчишка стал своим человеком в конторе, бегал на посылках, ездил в машине с председателем по бригадам да фермам.
И когда три года назад летним днем, прямиком от больного отца, молодой Корытин приехал на хутор, то у конторы колхозного правления встретил его именно Ваня.
Этого рыжего мальчишку Корытин и прежде видел, но мельком. Волосы не стрижены, закрывают лоб; одет в заношенные до блеска спортивные брюки с надписью «Puma» да застиранную маечку. Плечи, ключицы, локти — все косточки острые, птичьи. И движенья по-птичьи быстрые. Рассусоливать не привык.
— Пошли, нечего рассиживать,— приказал он Корытину и понесся.
Когда Корытин вышел из конторы, мальчик уже сидел в машине.
Корытин завел мотор и, не слушая указаний юного провожатого, поехал было своей волей и памятью: как-никак немало здесь прожил. Но далеко не уехали: скоро наткнулись на вал и ров посреди улицы.
— Я тебе чего говорил?!— гневно вопросил мальчик.— Тебе говорят — ты слушай. Тут уже целый год не проедешь, никак не закопают.
— Прости,— кротко ответил Корытин.— Не расслышал. А почему не закапывают?
— Трубы нет. Привезли, положили и ночью украли. Теперь канаются, кому трубу покупать.
— А кто же украл? Куда?
— Куда, куда!..— рассердился мальчик.— В Америку! Не знаешь куда… В дело. В хозяйство. Пригодится. А может, алкаши Вахе отвезли. Он возьмет. Разрезать — на поилки пойдет.
— Какому Вахе?
— Нашему, чечену. Ему поилки нужны. У него скотины дополна.
— Сколько?
— Весной пять-десять голов. А осенью — пятьдесят. И больше. Я у него спрашиваю: «Ваха, откуда скотину набрал?» — а он говорит: «Размножается». Это мы с ним так шутим. Он веселый, наш Ваха.
— Ну что ж, поехали к веселому Вахе. В Зоричев?
— В Зоричев!— одобрил Ваня.— Мы всегда первым делом в Зоричев ездим. Здесь — под носом, а там — рукой не достать, вольничают.
В колхозе было два хутора: Староселье — центральная усадьба с конторой, гаражом, мастерскими и Зоричев — в двадцати километрах.
— Я со всеми езжу… Я все знаю…— говорил и говорил мальчик.— Сколько голов, надои…
— Ну да…— не поверил Корытин.— И какой же надой?
— Где? На какой ферме?— уточнил мальчик.
— На Зоричеве.
— Тысяча восемьсот.
— А на центральной?
— Почти три.
— Правда, что ли?— повернулся Корытин к мальчику.— А почему разница такая?
— Тебе говорю, здесь — под носом. А Зоричев не углядишь. Тянут больше.
Миновали хутор, выехали на прямую дорогу, асфальтированную и потому недолгую. Поднимешься на увал — и вот уже маячат вдали маковки старых верб да осокорей, светит белью водонапорная башня возле скотьих дворов, на краю хутора.
Вначале поехали к свиноферме.
— В свинарнике чего не работать…— сказал Ваня, провожая глазами встречный мотоцикл с коляской.— Кашу бери, пожалуйста, хоть два ведра, хоть три. Корми домашность свою. Тем более при колесах…— проводил он взглядом еще один мотоцикл.— Корма вольные, поросят берешь…
— Как это берешь?— возразил Корытин.— Они ведь колхозные.
— Колхозу тоже достанется. Так положено,— убеждал Корытина мальчик.
Когда вошли они в свинарник, им навстречу попалась пожилая женщина с полными ведрами.
— Борисовна, здравствуй!
— Здорово, Ваня.
— Скажи, Борисовна, ведь положено свинаркам поросят забирать? Она же работает?
Борисовна поглядела на гостя и, усмехнувшись, ответила мальчику:
— Ты у нас, Ваня, как старичок. Все знаешь.
Ваня раскрыл было рот, но что-то почуял во взгляде и в голосе своей собеседницы, что-то понял и промолчал. Хотя через короткое время все же не выдержал и убежденно сказал:
— На свинарнике хорошо работать. Я мамку ругаю: меньше пей, говорю, просись на свинарник. Я на велике буду кашу возить. Заведем свиней, будем щи со свининой есть, сало — на всю зиму, а лишнее — продадим.
На свиноферму, на ее территорию, въехали как добрые люди, через ворота, а выезжать можно было, как говорится, на все четыре стороны. Высоченная, с острыми пиками поверху железная огорожа была там и здесь целыми пролетами повалена и вдавлена колесами в землю.
— Мы этот забор в Волгограде, в аэропорту, купили,— со вздохом сказал мальчик.— Там новый забор ставили, бетонный, а этот — не нужен. Мы с председателем его взяли, за одну свинью обменяли. Понял?
— Понял,— ответил Корытин, разглядывая набитые уже дороги от кирпичных свинарников в заборные проемы.
— Раньше лишь в ворота ездили,— объяснил Ваня.— Никаких дыр. Только через ворота. А если в корпус идешь, к свиньям, то дезинфекция. А если в родильное отделение, то белый халат надеваешь и обувь меняешь. Понятно?— явно гордясь, спросил мальчик.— Не веришь? Кто хочешь скажет. Чего мне брехать…
— Верю, верю…— успокоил его Корытин. Он знал, он помнил прежние порядки. Но как быстро они ушли! На нынешние глядеть было не больно сладко.
Хорошо, что мальчик был рядом. Он говорил и говорил:
— Дояркам чего не работать… Комбикорм бери, молоко — тоже бери. На сепараторе перегонишь — сливки. А из снятого — творог. Каймаки делай, откидное. И — на базар. Кто с машиной — вовсе легко. На машине можно много увезти. Я мамку ругаю: меньше пей, говорю, просись в доярки. Я на коляске приеду, хоть целый бидон увезу. А зимой на салазках еще больше упру. Будем жить…
Свернули и поехали к скотьим дворам, к базам и фермам, которые раскинулись просторно на краю хутора — целый город: белого кирпича постройки, шиферные крыши, высокая ограда из бетонных плит, распахнутые железные ворота.
Синий пикап, выехав из ворот, катил неторопливо, тормозя на колдобинах. Он медленно проехал мимо и прибавил ходу. За рулем сидела баба.
— Конечно… В «Москвича» можно много грузить,— завистливо проговорил Ваня, провожая машину взглядом.— Но я бы и на тележке упер, а на салазках — тем более. Еще как. Мамка глупая…
Он говорил и говорил, этот мальчонка, пел, словно птица. И словно птичью нехитрую песнь, лишь звуки детского голоса слышал Корытин. Понимал он теперь, зачем отец брал с собою в машину этого мальчонку. Колхозные заботы, обычные нелады, ругня там и здесь. А он звенит и звенит, детский голосок, утишая душу.
А что до слов, то слова были Корытину не нужны. Он тут родился, вырос, работал, навиделся всякого, и не только здесь, и не только такое, а вовсе горькое, особенно в последние годы. И теперь не слепым он был и не зажмурялся, а все видел. Хотя смотреть было несладко. Как быстро, как легко все катится под гору, когда хозяина нет! А как трудно все наживалось… Годами, десятками лет.
Большие, утробистые, черно-пестрой масти коровы стояли на базах. Телок привозили из Англии. Отец сколько здоровья потерял, пока добился их. Как он радовался, как холил, как болел душой за новое стадо. Зимою в растёл даже ночевал здесь, никому не доверяя. «Золотом платили,— оправдывался он перед женой.— Из-за моря везли…» «Забогатеем…» — радовался он и строил новые коровники, телятники, родильное отделение, кормоцех, сеял люцерну, клевер, эспарцет. «У коровки молоко на языке…— повторял он.— Забогатеем…» И вправду забогатели: молочный комплекс, элитное стадо, высокие надои, ордена, награды — все было.
И будто все осталось: коровники, скотина… Но Корытин видел другое: расхлебененные ворота, черные дыры окошек, нечищеные базы — а ведь лето. И коровы словно другие. Прежние под солнцем сияли, словно картинки. Пегая масть: черное пятно, белое пятно — все светит. А нынче — грязные сосули висят.
Все было понятно: долгая болезнь отца, старость, глаза и руки не те, а тут еще — время…
Приехали на гумно. Оно было просторным, словно аэродром. Силосные траншеи пусты. Сенные скирды стоят, уже нынешний укос. Но — мало. На зиму явно не хватит. Обнесено было гумно не просто забором, но тяжелыми бетонными плитами. «Кремлевской стеной» когда-то этот забор величали. Теперь эта крепостная стена была в нескольких местах пробита, словно побывала в осаде. Просторные проемы, проезды. Бродила по гумну живность явно не колхозная, гуси, овечки да козы и добрый гурт скотины: коровы, быки, телята.
— Вахины… Он богатый, наш Ваха,— горделиво сказал мальчик, словно о собственном нажитке шла речь.
И хотя Корытину еще командовать не пришла пора, но он не выдержал и погнал скотину:
— Ар-ря! Ар-ря! А ну пошла!
Неожиданно стал помогать ему оборванный мужичок:
— Пошла! Пошла!
А тут и Ваня помог:
— Ар-ря! Ар-ря!
Он гнал и громко укорял пастуха:
— Ленишься, Сережа! Рано еще на гумне пасти!
Укорял и объяснял Корытину:
— Они у Вахи все — Сережи. Он их всех Сережами зовет.
Скотину с гумна прогнали.
— Лезут… Не удержишь…— оправдывался пастух и попросил: — Не найдется курить?
Корытин не курил, но держал в машине табак, угощал. Не отказал и «Сереже». Дал ему сигарету, щелкнул зажигалкой, хотел попенять, но лишь рукой махнул. Черный морщеный лик, черные пеньки зубов, пустые глаза. О чем говорить с ним?.. Да и скотину прогонять было лишним: отъедешь — она снова здесь будет. Гурт немалый и не какой-нибудь разномастный, а словно в хорошем колхозе: черно-пестрые и могучие черные абердины, мясная порода, каких лет десять назад тоже завозили в один из соседних совхозов, кажется, из Голландии или даже из Аргентины.
Позднее, объезжая хутор, добрались до владений чеченца Вахи. Жилье у него было незавидное — старый дом. Но скотьи базы: огорожи, навесы, дощатые сараи, загаты из соломенных тюков — надежная от ветра защита,— все это широко раскинулось на вольной хуторской окраине, спускаясь к речке, к леваде с одичавшими садами, к вербовой да тополевой чащобе, к непролазным цепучим тернам.
Возле дома остановились. На гул мотора кинулись огромные собаки-волкодавы чуть не в машину величиной. Но мальчик бесстрашно выбрался из кабины, крикнул собакам:
— Молчать! Место!
Собаки послушно улеглись, окружив машину.
Выглянула из дома женщина. Потом вышел хозяин — улыбчивый усатый Ваха.
— Какие гости!— радушно приветствовал он, признавая Корытина.— Таким гостям сразу двух баранов надо резать…
— Мы твою скотину с гумна прогнали,— сообщил мальчик.— Рано еще на гумно. В степи много корма.
— Молодец, Ваня!— горячо поддержал его хозяин.— Это Сережка ленивый. Будем его наказывать.
— Конечно…— продолжил Ваня.— Если сейчас сено травить, на зиму не хватит. Тем более у тебя много скотины.— Серьезные речи он кончил и пошутил: — Откуда у тебя скотина берется? Весной было десять, а сейчас пятьдесят. Размножается?
— Размножается, Ваня… Размножается…— с улыбкой ответил Ваха.— Молодец! Все знаешь…
Шутили. Но когда Ваня хотел еще что-то сказать, Ваха остановил его:
— Люблю Ваню. Надо его в помощники взять.— И пригласил Корытина: — Прошу. Мы гостей любим, мы гостей уважаем…
— А мы гостить любим…— посмеялся Корытин.— Но не сегодня. Дела…
Они уже отъезжали, когда на хорошей скорости, поднимая шлейф пыли, подкатила машина — красная «тойота», резко затормозив. Собаки бросились к ней, но без лая, а, напротив, ласкаясь к двум молодым чеченцам, вышедшим из машины, один был вовсе пацаном.
— Вахины…— объяснил мальчик.— Крутые… На «хондах» гоняют,— вздохнул он.— Ваха — веселый, а они — задавучие, крутяки.— И, понижая голос и оглядываясь, будто могли услышать его, добавил: — У них — оружие.
— Чего?— спросил Корытин.— У них?
Мальчик кивнул головой:
— Пистолеты. Они умеют стрелять. Их все боятся.
Корытин хмыкнул. Все это было не очень великой новостью для него: чеченцы, их повадки, скотина, которая «размножалась»: купленные за водку колхозные телята или просто украденные в другом колхозе, оттуда — сюда, отсюда — туда,— вот и «размножение». Хитрость невеликая. Но прежде отец чеченцев в свои хутора не пускал, зная их. Да они сюда и не стремились. Колхоз — крепкий, председатель — в силе, значит — поживы нет. Теперь объявились.
Потом ездили по полям, просто смотрели. Пшеницу, которая уже наливалась, желтея; серебристый ячмень и зацветающий подсолнух. Особенно хорошо все это гляделось с высоты, с увала ли, с кургана. Просторная земля переливалась под солнцем, словно праздничный плат: сияние ячменных полей, темное золото пшеничных, сочная зелень кукурузы, фиолетовая чернота паров.
4
Уезжали неблизко, а поломалась машина посреди хутора. К магазину подъехали — и загромыхало. Слава богу, поломка оказалась не больно серьезной. Но нужны были болты да гайки.
— К Моргуну!— решительно сказал мальчик.— Он — рядом, и у него все есть.
Потихоньку доковыляли до моргуновского двора. Хозяин был дома: приехал на обед и уже сидел за столом, возле летней кухни.
— Пообедаем, потом будем глядеть,— сказал он как отрезал.
— Садитесь, садитесь…— приглашала хозяйка.— Щей ныне наварила со свининой. Нашенские щи, хуторские, покушайте.
Пахучие огненные щи в белом обводье тарелки пламенели от помидоров, красного болгарского перца, кружили голову духом молодой капусты, морковной и луковой заправы, свежей зелени, переливались тяжелыми разводьями жира, не дающего быстро остыть вареву.
Хлебали и хлебали молча, до пота. Спасибо, на ветерке стол был накрыт, под развесистым кленом.
А потом ели золотистую нежную утятину из черной жаровни. И шкварчащие горячие вареники в желтом коровьем масле. А на закуску — тонкие кружевные блинцы с каймаком. И холодное, лишь из погреба, кислое молоко белыми глыбками.
Гости от стола отвалились еле отдыхиваясь. А хозяин встал как ни в чем не бывало.
— Теперь жальтесь. Чего за беда?
Корытин объяснил.
— Пошли глянем,— сказал Моргун. Он был ростом невелик, телом кубоват, ходил вперевалку.— Поглядим, может, и найдем.
Миновали чистый прибранный двор, потом — скотьи базы, просторное гумно, сенник да дровник. А дальше… Словно здесь размещалась какая-то база ли, склад. Штабеля строевого леса, досок, аккуратно накрытые рубероидом. Стопы шиферной кровли, оконные переплеты, дверные коробки, стеновые блоки, бетонные плиты, перемычки, трубы, рулоны металлической сетки и какие-то коробки, ящики на подставках, тележки, вагончик на колесах, трактор и даже автокран.
Корытин приостановился, потом догнал хозяина.
— Ну, ты даешь…— восхищенно проговорил он.— «Сельхозтехника», «Агроснаб», «Сельхозстрой» — все вместе.
— Сгодится…— добродушно помаргивая, сказал хозяин.— Дети строиться будут, внуки — все в дело пойдет.
— Откуда напер?
— Нет-нет… Ни грамма не воровал,— упреждая упреки, открестился Моргун.— Вот тебе крест святой. Лишь брошенное забирал. Ныне его по степи… В «Октябре», в «Пролетарии», в «Комсомольце»,— называл он окрестные, близкие и далекие, колхозы.— Все покидали. Ничего не нужно. Кошары, полевые станы, фермы. Раньше строили, теперь — не к рукам. Забирай под гребло.
— А техника? Автокран?
— Ныне черта можно за поллитру купить. Заводы свои подсобные хозяйства бросают. Не нужны. А эти фермеры-мелмеры… Кидаются очертя голову, а потом…
— Вот ты бы и шел в фермеры.
— Не с нашим умом,— отмахнулся Моргун.— Твой батя, еще попервах, правильно сказал: «Не с вашим умом туда лезть. Живите как жили. Работайте — и все у вас будет». Он это правильно говорил.
Все нужное, конечно, сыскали. И все сделали.
А во дворе, провожая гостей, радушная Моргуниха словно слышала и теперь повторяла мужние слова:
— Работаем и не жалимся… Я работаю, и он работает, сын, и дочь, и сноха — все работаем, трудимся. Такая наша жизнь.— Она провожала гостей не с пустыми руками: — Варенички тут, блинцы… Берите, берите. Куда вас ныне бог припутит, день долгий.
Проводили гостей за ворота: приземистый Моргун, крепкий еще мужик, с пузцом, словно кормленый паучок, хозяйка — на голову выше, опрятная приглядная баба, в чистом переднике, цветастом платке; она всегда была чистохолкой: на ферме ли, при коровах, и дома.
— С утра ездит,— сказала Моргуниха.— У свиней был и у нас, на ферме.
— Видно, по работе…— вслух подумал Моргун.— А может, отец просил поглядеть. На смертной доске, а об колхозе душа болит.
— А может, он в председатели, заместо отца?
— Нашла дурака,— хмыкнул Моргун.— Ни клят ни мят сидит.
— А мальчишка с ним,— усмехнулась Моргуниха.— Как со старым Корытиным. Может, и правда корытинский?
— Бог знает. В ногах у них не стояли. Да и не нашей голове об этом болеть. Ты ведь тоже на машину жалилась?— вспомнил он.— Чего?
— На малых оборотах глохнет.
Моргуниха ездила на работу на стареньком синем пикапе, удобная машина. Она и сейчас стояла здесь, у ворот, рядом с колесным трактором самого Моргуна.
— Погляди… А я побегу, молоко надо откинуть.
И сразу про гостей забыли, погружаясь в дела обыденные, свои.
А гости, отъехав, поминали хозяев.
— Напоролся…— похлопывая себя по округлившемуся животу, говорил мальчик.— Неделю можно не есть. Моргуны богато живут. Новые «Жигули» купили. Да еще старые есть и мотоцикл «Урал». И Моргуниха на «Москвиче» рулит. Хорошо живут…
Он говорил и потихоньку задремывал, голова клонилась на грудь. Апотом в сторону повело, и он ткнулся в руку Корытина, не доставая до плеча. Заснул.
Корытин смотрел на дорогу, чуял тепло мальчика, приникшего к нему, и думал: «Может, и вправду — братишка, младший…» А потом вспомнился синий пикап, который поутру встретился, когда подъезжали к молочной ферме. Пикап ехал не пустой — пригруженный. А за рулем была Моргуниха.
Мальчик спал до самого хутора, разомлев. И на хуторе, едва разлепляя глаза, указал путь к своему дому. Корытин подвез его ко двору:
— Приехали. Просыпайся.
На гул мотора выглянула из двора мать мальчика и спросила:
— Наработался? Не проснется никак…
Мальчик зевал, жмурился.
— Ничего. Ваха быстро разбудит. Завтра, а может, и ныне приедет, заберет.
Мальчик вскинулся, глаза округлил, не понимая:
— Куда заберет?
— В пастухи. Некому, говорит, скотину пасть. У него много: гуляк, овечки, козы. Да свиней развел…
Корытин вышел из машины, спросил:
— Это у которого были?
— Он…— кивнул головой мальчик.
А мать его, словно оправдываясь, стала говорить:
— Чем гайды бить у конторы, пусть попасет. Ваха наличными обещал деньгами. Хоть обувку с одежкой к школе купить. От колхоза не дождешься.— Она была еще не старой, но траченной вином и жизнью. Она перед Корытиным или перед белым светом оправдывалась: — Сказали бы — не работаю, а ведь стараюсь, никто не укорит, телята у меня сроду хорошие. Пишут в конторе по триста да по четыреста тысяч. А где они, эти тысячи? На хлеб не выпросишь. А нас трое…— Она вздохнула, погладила сына по голове, спросила: — Попасешь?.. Ваха, он — добрый. Наличными, сказал, заплатит, по сто тысяч.
— Пацаны его задавучие,— опустил голову мальчик.— Крутяки.
— Чего тебе пацаны… В степи будешь пасти.
— Ты не знаешь…— жалобно проговорил мальчик, в глазах его плеснулся нешуточный страх.— Они — наглые, их все боятся… Они…
— Ну, не съедят тебя…— отмахнулась мать и предложила гостю: — Окрошкой вас накормлю. С квасом. Похлебайте холодненького.
— Спасибо. Лишь откушали.
— Мы у Моргунов ныне обедали,— похвастал мальчик.— Утятина, вареники, блинцы с каймаком… От пуза.
— Моргуны… Не нам чета.
— А я тебе говорю: иди в доярки, я сам буду молоко возить, на велике. А зимой — на санках. Я флягу запросто упру. Вот и заживем…
— Мели, Емеля…— остановила его мать.— Болтаешь языком.— И у Корытина спросила: — Отец-то как?
— Хорошего мало.
Женщина опустила глаза.
— Хоть квасу попейте. Свежий квас. В погребе стоит. Ваня, достань кваску. Заходите…
Корытин вошел во двор. Почудилось ему в голосе собеседницы не праздное любопытство, но сердечная боль об отце. Наверное, все же не зря шли по хутору поголоски о старом Корытине, об этой женщине, о сыне ее.
Подворье было обычным, с аккуратными грядами сизого лука да кружевной моркови, высокой картофельной ботвой. Возле дома — навес; под ним — стол и скамейки. Все прибрано.
Ваня принес из погреба четверть с квасом. Женщина обтерла кружки чистым полотенцем, налила питье и снова спросила:
— Значит, плохой, не поднимется?
Корытин в ответ лишь вздохнул.
— Господи, господи…— проговорила женщина.— Как жили…— Она была еще не старой, со следами былой миловидности.— Как жили при нем… Горя не знали. Хату колхоз построил. Детсадик бесплатно, в школе тоже бесплатно кормили. Правда что — коммунизм. Лишь не знали про это. А ныне… Скоро и работы лишимся.
— А проку тебе от этой работы?!— еще издали вступила спешащая к разговору соседка.— Здорово дневали! Я тебя враз угадала,— сказала она Корытину.— Издаля кинула глазами — и угадала. Горится она об работе! Лишимся… Да черт бы ее хорошил, такую работу! Другой год зарплаты не видим. Хоть криком в конторе кричи, слезьми плачь, ответ один: ты — живая, даем лишь на похорон.
— А вовсе закроют, куда идти?— спросила хозяйка.— Ныне хоть со слезьми, а иной раз в конторе выклянчишь на хлеб копейку. Мукой тот год выдавали, маслом. Да, может, еще получшеет после уборки. Обещают. А если вовсе лишимся работы? Тогда хоть в петлю… Тебе чего жалиться. Утебя — мать, с пенсией. Каждый месяц живая копеечка.
— На мамку молимся,— согласилась соседка.— Говорим ей: гляди не помирай. И у всех так: молятся на стариков. Дожилися…— И, переменив тон, возвышая его, она, словно на митинге, принялась убеждать Корытина: — Правильно говорят: был у нас коммунизм! Работали и как сыр в масле купалися… Кипели в масле… А ныне все пухом-прахом идет. Работай, а денег не платят. Привезли из района бумаги, прямо на ферму. Ставь подпись и бери бумагу, с печатью, с гербом с этим! Землей владай! А мы их ногами потоптали, эти бумаги. Потому что хотят обдурить! Налоги сбирать! А земля нам задаром не нужна. Зубами ее грызть не будешь! От огорода руки не владают. На черта она, эта земля?! Не землю, зарплату дайте, как раньше! За надой, за привес, за теляток, премию — чтобы за все копеечка шла. А земля наша лишь на кладбище. И ты от нас не отпихивайся! Ты — наш, не набежный. И мы об тебе с надежой… С батей твоим горя не знали, а ныне…
Корытин с трудом выбрался со двора и, продолжив путь, заглянул в ремонтные мастерские, в гараж, к амбарам съездил, поглядел на тока, которые уже чистили, готовясь к новому хлебу.
5
К отцовскому дому он прибился к вечеру, в колхозное правление так и не завернув, хотя знал, что его там ждали; загнал машину во двор и, не отпирая дом, сел на крыльце. Кончался день, долгий июньский день. На хуторе было тихо, а в отцовском дворе — и вовсе, даже кошка куда-то сбежала. Раньше были цветы. Теперь — пыльная лебеда, конопля. И в доме — пусто. Заходить туда неохота.
День кончился. Красное солнце садилось за деревьями. Редкие высокие облака, рассеянные по небу, загорались розовым. Корытину ни о чем не думалось, ничего не хотелось. Так бы сидел и сидел на теплых ступенях, словно подремывая. А когда прервется эта спокойная дрема, надо будет что-то решать окончательно.
Сюда, на хутор, Корытин приехал с твердым намерением исполнить волю отца. Эта воля — предсмертная. Тем более, что слово дал. Но если прежде просто-напросто не хотелось ему лезть в председательский колхозный хомут, это было естественно для человека взрослого и знающего, что творится в стране и здесь, рядом. Он и в добрые годы к председательству не стремился. Знал ему цену. А теперь — и вовсе: никому ничего не надо, никто ничего не знает, никто ни за что не отвечает. Сегодня — социализм, завтра — капитализм, послезавтра — может, иное… А у него была спокойная работа, положение и даже наперед добрый загад: новая организация появлялась в областном центре, и Корытина туда звали, обещая хорошую квартиру, хорошую зарплату и кое-что сверх того. Все это бросить? Ради чего?.. Тем более, что, проехав нынче и поглядев, Корытин совершенно отчетливо понял, что даже отцовский колхоз, который считается крепким, лучшим в районе, даже он расползается как тришкин кафтан. И уже не залатаешь: нечем и не к чему лепить — все прелое, все само собой рвется. Была огромная система, называлась «колхозный строй». Снизу был фундамент, со всех сторон — крепкие связи, поддержки, подставки — словом, здание. Оно рухнуло. И как теперь в одной ли, в двух уцелевших комнатках жить? Бежать надо из этих комнат, пока цел.
Корытин это понимал и прежде — сколь об этом говорено-переговорено!— а теперь вовсе убедился. Все так и идет. Но как объяснить отцу? Не объяснишь. Один выход: сказать, что начальство против. Такое отец, может, и поймет. Мол, против — и все. И разговаривать не хотят. Начальственное слово, начальственную дурь отец всю жизнь на своей шкуре испытывал и цену этому знал.
«Против начальство…», «Иди им и докажи…» — повторял и повторял про себя Корытин. И чем более повторял, тем более убеждался: это — единственный выход. Отец должен поверить. Тогда не нужно будет бросать все налаженное и ехать сюда.
Так он сидел на ступенях отцовского дома, пока не окликнул его девичий голос:
— Крестный! Ты где хоронишься?!
Стукнула калитка. Корытин поднялся. К веранде шла его крестница, старшая дочь двоюродного брата Степана.
— Здравствуй, крестный. Мы тебя в обед ждали. Пошли ужинать. Ибаню натопили.
— Здравствуй, здравствуй…— заулыбался Корытин.
Все печальные мысли его разом пропали, и лишь одно думалось: «Как быстро растут, как скоро взрослеют чужие дети…» Еще вчера девочка-школьница, нынче крестница его обернулась зрелой красивой девушкой. Высокая, статная — это в отца!— с длинными светлыми волосами, схваченными лентой. Легкое летнее платье не скрывало в меру полных, женственных плеч и рук. Лицом крестница тоже была хороша: ясноглазая, белозубая.
— Баня — это здорово,— одобрил Корытин.— Пошли.
Путь был недалек: лишь два двора миновать.
— Крестный, мамка с папкой не велят. Ты им можешь сказать? Они тебя послушают…— быстро-быстро, взахлеб стала говорить девушка.— Скажи им, пожалуйста, ведь это же не позорно — работать манекенщицей. Какой это позор? По телевизору показывают. Это ведь такая профессия. Так ведь? А они всяких глупостей наслушались. Мамка кричит, а папка молчит. Уперлись — и все. Меня приглашают…
— Погоди, погоди…— Корытин повернулся к девушке: — Кто тебя приглашает? Куда?
— Было объявление по телевизору. Я послала фотографию, и меня пригласили. А мамка — ни в какую… А папка — молчит. А мамка кричит: не смей. Они не понимают, что есть такая профессия. Им все кажутся всякие глупости… Наслушались…
Корытин не сразу сообразил, о чем речь, настолько это было неожиданно. А поняв, он чуть отступил, пропуская вперед себя крестницу и оглядывая. Она была хороша: высокая, статная, с милым лицом, в молодой, цветущей поре. Но то, о чем она говорила, было и для Корытина неожиданным и диковатым.
— А кому ты фотографию посылала? Откуда вызов? Какой город?
— Я по адресу посылала. Я покажу тебе, крестный.
— Покажи. Я погляжу.
Они уже подошли ко двору.
— Только не давай мамке. А то она все порвет.
Перед домом, за решетчатым штакетным забором, яркий палисадник красовался цветочными грядами, клумбами: анютины глазки, крупные, в ладонь, ромашки, синие васильки, бархотки, кусты алых и кремовых роз. Сразу было видно: здесь невесты живут.
За палисадом — крепкие ворота.
— Не отдавай мамке. Ладно? Пусть у тебя будет.
Ворота распахнулись.
— Крестному еще голову забей! Здорово живешь, кум. С приездом тебя. Проходи,— приветствовала гостя хозяйка и тут же дочерью занялась:— Тебе сказано было: забудь! Голову сверну, как куренку! В погреб посажу, под замок, и не выпущу! Учат дураков, не научат. Артистки нашлись, модельницы! Одна намоделилась, не ныне завтра на кладбище понесут.
— Я вовсе не собираюсь за границу. Я — в наш город, в Ростов. Я буду работать!
— Замолчи! Овечка глупая… Зарабатывальщица… Сиди где сидишь!
— Правильно! Лучше сидеть! И драные чулки да колготки штопаные носить! Да чирики! Чтобы все смеялись…
Девушка заплакала и убежала в дом.
Во дворе сразу сделалось тихо.
Стоял у ворот Корытин, рядом — хозяйка, а две ее младшие дочери испуганно глядели на них.
— Растишь, растишь этих детушек…— горько проговорила мать.— На свою голову… Прости, кум, что так встречаем,— со вздохом обратилась она к Корытину.— А вы чего встали?— спросила она у дочерей.— Не знаете дела?..
— Погоди,— с улыбкой остановил ее Корытин.— Дай хоть поздороваюсь с ними да погляжу.
Девчушки были славные, тоже — в отца: рослые, светловолосые, с разницей в два ли, три года.
— Гостинца вам не привез,— извинился Корытин.— В машине — жарко, конфеты расплываются. Возьмите, купите чего надо. Поделите на троих, не подеретесь?— шутливо спросил он, протягивая полусотку.
— Поделим, крестный!— радостно ответили девочки.— Мы купим…
— Покупайте чего хотите…— отмахнулся Корытин.
— Коз да корову не забудьте перевстренуть, покупальщики…— напомнила им мать.
— А Степан где?— спросил Корытин.
— Топлю…— подтвердил Степан.
Он стоял за воротцами база, все видел и все слышал.
— Стоит как столб!— возмутилась жена.— Молчит! Вроде он — сторонний. Тут замрачается ум,— пожаловалась она.— Про Кирееву дочку не слыхал, кум, бригадира нашего? Тоже вот такая, нотная. Я не я — буду зарабатывать. Все мыкалась за тряпками, за границу ездила. Возит, продает, снова едет. А потом ее чуть живую привезли. Да еще, спасибо, братья ездили, вызволяли. Какая девка была… цветок. Ныне — на смертной доске. Мать рядом с ней в дощеку высохла, во слезах…
— Ладно…— стал успокаивать ее Корытин.— Не забивай голову прежде поры. Я погляжу на бумаги, позвоню, разузнаю. Ты на нее не шуми, она — взрослая. Тоже про жизнь думает. Поспокойней надо.
— Какой тут покой, куманек. Ночи не сплю, стерегу. Вдруг убежит.
— Не убежит. Только не шуми. Сговоримся.
Крестницу он тоже успокоил, посидев возле нее недолго в доме. А потом ушел в баню, отмывал дневные пыль и пот, а когда вернулся во двор, там было тихо и мирно.
Солнце село. Небо, его высокие облака, догорали алым. Пахло жареной рыбой.
— Степан,— спросил Корытин,— ты когда ловил, где?
— Он наловит…— хмыкнула хозяйка и добавила горделиво: — Девки у меня — на все руки.
— Рыбачат?— удивился Корытин.
— Еще как… До зари летят. И будить не надо.
Сели за ужин. Хозяева расспросили о старшем Корытине, повздыхали, поохали.
— Не ко времени слег, не ко времени…— сказал Степан.
— А то бывает болезнь ко времени,— фыркнула жена.— Доумился. Она тебя спрашивать будет, болезнь.
Так было всегда в этом доме: хозяин — мужик рослый, телом большой, в кабину трактора с трудом умещался, говорун не больно великий; зато хозяйка — не помолчит, сыпет и сыпет. Как и ныне:
— Болезнь, она… С ней судиться не будешь. Тоже бегаем до поры, а — годы… Там — колет, там — нудит. Некогда по врачам ездить, а то бы…
Корытин в охотку похрумкивал жареными карасиками, девок хвалил:
— Ну и рыбачки… Кормилицы. Чего отцу с матерью не жить!
— Только и надежа на карасиков,— вздохнула хозяйка.— В январе получили двести тысяч — и все. Как хочешь, так и живи. Лишь ведомости пишут в конторе. А чего там пишут, и когда мы эти деньги увидим…
— Обещают после уборки,— сказал Степан.— Мол, зерно продадим…
— Брешут! Не будет никакого зерна!— решительно ответила хозяйка.— Разворуют, растянут, на нет сведут. Суслачины… В прошлом году та же песня была: зерно, подсолнушек продадим… А чего увидали?
— Сушь…— коротко оправдывался хозяин.— Да еще черепашка напала да жук-кузька.
— Этих кузек да черепашек, им — счету нет. Кузька…— желчно процедила супруга.— Как уборка зайдет, эти кузьки да черепашки со всего белого света летят. Машина на машине… Лишь отъезжать успевают. Кузьки… Все подберут. Нам лишь азадки оставят. Дуракам. Вот и живи карасиками.
Хозяйка всегда была говорливой, но нынче в словах ее прорывалась нешуточная боль. Перед гостем она сдержалась, стала потчевать:
— Кушай, кум, кушай. Помажь сметанкой карасиков. Девчата мои со сметанкой любят. Потому и гладкие, как репки.
Девчата лишь посмеивались. У них нынче был свой пир: пластмассовая бутыль фанты, какие-то сладости в ярких обертках. Успели сбегать купить. По возрасту разные, они были похожи статью, светлыми волосами — сразу видно, что одного гнезда.
— Девки что надо…— похвалил Корытин.— Тем более рыбачки.
Хозяйка улыбнулась: как матери не гордиться! Но потом, когда отужинали и сидели сумерничая, она сказала:
— Девчат своих не корю. Везде помогают. Но вот как их до ума довести. Ты успел своих выучить,— позавидовала она.
— Учится еще,— сказал Корытин о сыне.
— А наши вовсе лишь оперяются. Одну лишь учим. Ей суем и суем. Ито недовольная,— вспомнила мать слова старшей дочери о драных колготках.— Ну и что, если подштопано. Это разве позор? А тут еще двое! Вшколу не знаешь как собрать. Мамка, у всех — куртки! Мамка, у всех — костюмы! На какие шиши их брать? К свекрови бежишь на хлеб занимать. Стыду…
Корытин молчал, оглядывая просторный двор, сараи, базы. Хозяйка, словно поняв его, сказала:
— Конечно, джуреки не грызем. Две коровки. Но ведь и нас шестеро, со свекровью. Бычков держим, поросят, козы… Но все — лишь на прокорм, на базар нечего отвезть. Раньше пух был в цене, платки. Девчата мои вяжут как огнючки. Ныне — хоть даром отдавай. Не берут. А где копеечку взять?.. Кормиться мы кормимся. Огород хороший. Картошки, капусты, закруток на весь год хватает. Но без копеечки тоже нельзя. Сами пообносились… Двести тысяч в январе дали. И все. Лишь ходит на работу, обувку рвет. Добрые люди…
— Ну, хватит…— остановил речи своей хозяйки Степан.— Иди…
— Вот и хватит.— Она будто послушалась его, поднялась и пошла, но напоследок бросила: — Люди цветут, а мы…
— Замолчи!— прикрикнул Степан неожиданно резко.
Его услышали дочери, смолкли. К ним и ушла хозяйка, принялась им что-то вычитывать. А хозяин, словно лишний пар спустив, сказал задумчиво:
— Туда-сюда кидаешь умом. И везде, парень,— решка.
— Вы перед другими еще козыри,— возразил ему Корытин.— Другие колхозы разве сравнить? У них все порезано, коровьего мыка нет, стены доламывают.
— И мы того не минуем,— твердо ответил Степан.— Вот-вот зашумим: спасайся кто как может. Мы вниз летим, но пока за ветки цепляем штанами да рубахами, а ветки кончатся — тогда ой как загудим.
Он помолчал, а потом неожиданно улыбнулся, вспомнил:
— Мы когда переехали сюда из Кумылги, прямо не верили: чудо какое-то. Каждую неделю — выходные. В клубе — концерт, артисты приехали. А хочешь, в город поезжай, в цирк, на своем автобусе. И все — бесплатно. На стадионе — соревнования, тренировки. Я в городки играл. По области всех побивали.
Он сидел большой, чубатый, ручищи — могучие, для таких городошная бита — игрушка. Корытин помнил, как одним ударом сбивал Степан фигуры. Ахнет — и смел. Ахнет — и новую ставь.
И вдруг этот богатырь пожаловался негромко, оглядываясь на жену:
— Ну, не могу я воровать. Понимаешь, не могу.
Но жена услышала:
— Надо у людей учиться, а не слезы точить. Техника — в руках. Люди при технике…
— Замолчи!— крикнул Степан и снова стал говорить Корытину, жалуясь, негромко: — Ну, не могу. Не привык. Мне стыдно. Я сроду колхозного пальцем не тронул. Я работал. Я этого зерна по двадцать, по тридцать тонн зарабатывал. Девать было некуда. И деньгами хорошо зарабатывал. Каждый месяц получал, потом — премии: за уборку, по результатам года, тринадцатая зарплата. Мы раньше даже свиней не держали. Надо, осенью покупаем тушу. На курорты ездили, по путевке. В Германии были, в Польше, в Болгарии, на Золотых Песках, в Прибалтике. Я работал и зарабатывал. Зачем мне воровать? И я не привык. У меня и батя всегда говорил: работать надо. Я с ним с тринадцати лет. В тринадцать лет, в первую уборку, больше трех тонн заработал. Ну зачем мне было воровать? И поэтому я не могу. Мне кажется, что все видят, глядят. Мне стыдно… Ты веришь, братушка, мне стыдно… И красть стыдно. И стыдно, что семью не могу обработать. Вот и кидай умом. И везде получается — решка. Другая жизнь пошла. К ней не применишься. Сломался трактор, идешь к механику, шестерню ли, подшипник какой, и ответ один: «Сам ищи». Где искать, кто мне где положил? Весь чермет, все свалки десять раз перебрали. А он свое: «Ищи!— И весь сказ.— Тебе работать, значит, ищи. Покупай. Денег нет? Значит, станови трактор, иди домой». Вот и все разговоры.
Корытину все дела колхозные, все беды были известны. Но думалось прежде, что колхоз отцовский все же покрепче. Он и был крепче: земля обработана, скотина — живая. Но что проку…
— Ты лучше кума поспрошай, может, у них кому машину нужно. Все же — район…— сказала хозяйка.
— Чего?— не поверил Корытин.— Машину продаете?
— Приходится,— нехотя отозвался Степан.
— Ты чего?.. Это какую за уборку получил? Награда?
— Она самая. Конечно, жалко. Но обойдемся мотоциклом.
— Награды… За наградами тоже приезжали. Продай да продай,— сказала хозяйка.
— Ордена?
— Да. Приезжают. Чужие спрашивали. И свои — сынки Вахины. Ведь узнали. Два ордена Ленина, говорят, и этот… Революции. Это большой какой. А откуда узнали? Кто им доложил?
— А чего узнавать,— объяснила одна из дочерей.— В школе папкина фотография, большая. Там он со всеми наградами.
— Ну вот! Весь белый свет знает. Залезут и упрут. Может, и вправду лучше продать? По сколько они обещали?
— За Ленина пятьсот, за Октябрьскую революцию тоже пятьсот тысяч.
— Негусто,— усмехнулся Корытин.— А за медали и вовсе…
— Те вовсе негожи. А их чуть не десяток.
— Семь,— подсказала одна из дочек.— А почетных грамот и дипломов шестьдесят три и у мамки — двенадцать.
— Вот бы чем торгануть,— засмеялся хозяин.
А Корытин спросил его:
— Может, тебе землю взять? Три, даже четыре пая у тебя. Поздновато, конечно…
— Не хочу и думать об этом,— решительно отказался Степан.— Чем ее ковырять, эту землю? На гранях отведут, за тридцать верст. Один тракторишко если и выделят, то — утиль. А семена, горючее, удобрения? Где брать? На какие шиши покупать? Это — одни слезы… Кто попервах выходил, те еще дышат, но тоже через раз. А у нас в колхозе, сам знаешь, неплохо жили и никто в эти фермеры не стремился. Работайте, твой батя говорил,— и все будет. И не суйте нос… Оно и верно, кум. Тот же банк. Скакой стороны к нему подходить? Там бумаги, там надо расписываться за все. Обдурят. А продавать зерно? Какие из нас купцы? Облапошат. Нет, не с нашим умом. В колхозе выросли, с колхозом и помирать.
Хозяйка издали, через двор, но разговор услышала и попросила, тревожась:
— Не надо, кум, его туда пихать. Последней хаты лишимся. Да-да… Отымут. Были такие случаи. Отведут глаза, подпись поставишь, а потом милиция все забирает, вплоть до хаты. Это — истинная правда, кум. Нашего брата всяк норовит обмануть. Уж лучше по-старому, в колхозе. Тебя — в председатели, заместо отца.
— Это кто придумал?— спросил Корытин.
— Идут поголоски…— пожал плечами Степан.— Всякое говорят. Может, возьмешься? Берись,— попросил он.— Ты все же при власти и в силе, голова варит. Иначе нам точно решка. Без хозяина — вовсе конец. Поставят абы кого… Вон в Грачах. Поставили бабу — и за ночь разнесли мастерскую. Все дочиста. Вплоть до ворот.
— Сами же разнесли,— сказал Корытин.
— А то кто же, сами…— подтвердил Степан.
— И правильно сделали,— постановила хозяйка.— Хоть чем да поджились. Иначе бы председательше в карман утекло. Она всю скотину за месяц на север отправила. Дуракам глузды забила: там — цены, там — цены… И ни скотины, ни цен никто не увидал. Зато сынок ее в городе магазин открыл. Вот и радуйтесь… Всяк норовит обдурить. Такое время.
Корытин стал прощаться. Уже стемнело. Проводили его до ворот.
— Может, и правда, кум,— попросила хозяйка.— Как мы хорошо жили при твоем бате! Может, и ты возьмешься?..
Что мог Корытин ответить, что обещать?
Проводили гостя за ворота. Вечер еще не принес прохлады. Веяло теплом, ароматом цветов, которые росли в палисаднике.
— Цветы у вас красивые,— похвалил Корытин.— Молодцы, девчата.
Он постоял возле палисадника. Время было позднее. Но еще не погас в мире летний призрачный свет. И без огня виделась улица, дома.
Хозяйка подала узелок.
— Тут — рыба, сметана, пышечка. Позавтракаешь.
А младшая из ее дочек успела нарвать букет цветов.
— Возьми, крестный,— сказала она.— У тебя же нет, а у нас — много. А хочешь, мы и тебе цветов насадим. Они еще успеют, вырастут.
— Спасибо, мои хорошие. Рук не хватит донесть ваши подарки.
— Мы поможем!— ответили ему хором.
Помогли. Проводили все трое. И пока шли, старшая говорила и говорила:
— Крестный… Мамка сама жалуется: нет денег, спасибо, бабушка пенсию получает, ее обираем, папку ругает каждый день… Но их ведь и не будет в колхозе, денег. А жить надо. Ну, кончу я техникум, получу диплом. А куда с ним идти? А манекенщица — это специальность. У нас в городе есть дом моделей. Может, у меня получится. Жить-то надо.
Она говорила и говорила до самого дома, пока Корытин не зажег на веранде свет и не сказал:
— Спасибо, что довели до места,— и добавил, для старшей: — Я постараюсь все узнать как можно скорее. И тогда мы с тобой поговорим.
6
Когда Корытин остался один, первое, что он сделал,— поставил цветы в воду. Нашел стеклянную банку, набрал воды и поставил букет посреди веранды, на стол. Даже в электрическом свете хорошо было глядеть на яркую пестрядь голубого, зеленого, алого, желтого. Садовые ромашки, васильки, лилии…
Корытин глядел на цветы и видел свою крестницу, милое лицо ее. Как объяснишь, что приглашают, что зовут ее не к доброму? В Греции ли публичный дом, в Турции или в Германии — вот и весь выбор.
На свет, а может, на цветочный дух на веранду стали слетаться ночные мотыльки да бабочки, кружась возле абажура и освещенного букета. И тут же объявился гость — старый агроном Петрович, такой же, каким был всегда: сухонький, шустрый, вприскочку ходил ли, бегал в заломленной кепочке. Как воробей он всегда наскакивал, сухим перстом грозил провинившемуся трактористу: «Ты — неграмотный, да?! Глубина заделки?.. Кто такой — глубина заделки? Ты не понимаешь?!» Или дома, собственную жену вразумлял: «Горячие должны быть щи! Горячие! Потому что это — щи! Ане больничный супчик!»
— Чего глаз не кажешь?!— с ходу попенял он.— Ждешь приглашения?
— Лишь к базу прибился…— оправдался Корытин.— Хату открываю.
— Нечего ее и открывать! Какой прок! Там — ни выпить, ни закусить. Одни дохлые мухи. Пошли!
Отнекиваться или возражать было бесполезно. Петрович уже развернулся и заспешил со двора, твердо зная, что его слово — закон.
А в доме своем, еще со ступеней веранды, он крикнул:
— Бабы!— и объяснил Корытину: — Телевизор. Опиум для народа. Не религия, а именно телевизор,— подчеркнул Петрович.— Вечернюю дойку коров в колхозах сдвигают, потому что доярки хотят смотреть «Просто Марию». Ты понял?
Сели на веранде, у стола, который тут же стал обрастать едой и закусками. Накрывали стол двое: жена Петровича и молодая темноглазая женщина, которую Корытин признать не мог.
— Не угадываешь?— спросил Петрович, перехватывая взгляд гостя.— Володькина дочка, Таня.
Корытин лишь руками развел. Володю он еще помнил, а уж дочку его…
Когда, по мнению Петровича, стол стал глядеться пристойно, он скомандовал бабам: «Все! Исчезли!» Сам же заспешил к своим ухоронам за питием. Пока он ходил, жена Петровича спросила о старом Корытине, поохала. Хозяин и без расспросов все знал. Первую рюмку он поднял, сказав: «Помоги ему бог». И больше об этом речей не было.
— Как?— спросил Петрович, опорожняя рюмку и глядя на гостя, который, зная обряд, понюхал питье, пригубил, почмокал, а уж потом выпил.
— Марка…— одобрил Корытин.— Фирма.
— Но ты не знаешь. Настаивать нужно лишь неделю. Не больше. И сразу отцедить. Иначе весь букет пропадет, останется горечь.
Водку Петрович делал сам. Двойная перегонка, тройная очистка, потом — коренья да травы. На пенсию он ушел давно. Время позволяло и свою водку делать, и заниматься хозяйством.
Все было на столе: провесной балычок и копченая утятина, мясо, вареники, блины с каймаком.
— Листовка!— объявлял Петрович и наполнял рюмки прозрачной, с прозеленью настойкой, которая пахла смородиновым листом.— Огурчиком ее закусим. С хрустом!
— Хреновка!
Эта настойка была вовсе светлой, но дышала остротой только что натертого хрена.
— Ты чего приехал?— теряя вдруг пыл, скучно спросил Петрович.— Батя послал? Точно? Илью Муромца… Лети, мол, спасай. Уборка! Зимовка! Без догляду!— Он пригибался над столом, заглядывая в глаза Корытину. Тот молчал, потому что знал: Петровичу ответ пока не нужен. Не выговорился.— Послал… Чую… Сам уже не может шашкой махать, значит, молодого — в атаку.
Петрович замолчал и сказал с печалью, но твердо:
— Уезжай, родный. Не ломай себе жизнь. Сила пришла, какую шашкой не возьмешь. С ней и пушкой не сладишь. Гаубицей.
— С кем?— спросил Корытин.
— Антанта!— воздел сухой перст Петрович.— Новая Антанта, я ее так зову. Мировая мощь. И с большим умом. Старая была дураковатей. «Навалимся… гужом… задавим…» А с Россией так нельзя, силой. Это пробовали не раз. Дубиной, но отмахаемся. Живота не пожалеем, но отстоим. Новая Антанта все учла. Весь опыт. Поставила задачу: взломать изнутри. Зачем идти войной, губить территорию, рабочую силу. ЦРУ работало. Внедрить. Подкупить сто человек, самую верхушку. Их руками все сделать. Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев… Все продумано, все расписано, лишь исполняй. И все исполнено: Союз развалили. Первый этап. Начали второй, по сценарию. С новыми людьми: Ельцин, Гайдар, Чубайс… Эти — для России. Чтобы ее доконать. Умные люди. Все по сценарию. Для каждой страны свой план. Для Германии — план Маршалла. Для Японии — план Макартура, для Советского Союза, для России авторы пока в секрете. Но все выполняется точно и в срок. А ты приехал, Илья Муромец… Испугались они тебя, аж трясутся… ЦРУ! Точная работа. Каждый объект на учете. Мы раньше, после войны, удивлялись немецким картам. Там каждый хутор, вплоть до дома, обозначен. Каждый полевой стан. И даже — отдельное дерево. У ЦРУ — то же самое. Все в плане учтено. Развал должен быть окончательный. Каждый колхоз, каждая молочно-товарная ферма должны быть уничтожены до фундамента. Каждая кошара!..
Корытин за эти годы наслушался и начитался всякого, ничему не удивляясь. Это раньше втихую поругивали власть. А нынче — свобода. С утра до ночи шуми. Работа ли, совещание, новый человек или старый друг — об одном речь, потому что боль одна. Хотя понять происходящее ума не хватало. Один хорошо говорит — ему веришь, другой — еще лучше. И врут не краснея, хоть плюй в глаза. Голова кругом идет.
— Ограду на фермах, на гумне ЦРУ повалило?— спросил Корытин.— Трубу, посреди хутора лежала, они уперли?
— Конечно!— подтвердил Петрович.— Все — по плану. Вон они, сидят…— кивнул он.— У телевизора. Что старый, что малый, не оторвешь. Три программы. На всех — одно и то же: украл завод, украл город, убил, зарезал, украл. Один три миллиарда упер, другой поотстал, лишь два с половиной. А вчера — все ровные, при семидесяти рублях. И они — не воры. Ни в коем случае! Приватизаторы! Умнейшие люди! Профессора, академики… А какие вовсе бандюги с обрезом, это — наше будущее. Они награбили и стали — цветки лазоревые, почетные граждане. Вот так нас и убедили. И все теперь знают: воруй все подряд, что под рукой. Газпром — значит, Газпром. Норильск плохо лежит. Его прикармань. Далеко до Норильска? И ума не хватает? Значит, хватай поросенка с фермы. И говори, что приватизация, третий этап. Воруй как можно больше. Потому что за портянку с забора участковый может сграбастать. А за миллион — побоится, за два — честь отдаст. Это уже все знают, убедились. Либо не так?!— вскинулся он, ожидая ответа.
Что мог ему Корытин сказать?.. Спорить давно уже не хотелось. Что проку от пустых споров?.. Тем более с людьми старыми. Их жалеть надо. И потому он лишь улыбнулся, головой покивал, соглашаясь.
И Петрович тоже выдохнул, словно выпуская пар. Выдохнул, наполнил рюмки и, подняв свою, держал ее в сухой, но крепкой руке, разглядывая на свет питие.
Но говорил о том же, спокойно и с горечью:
— Да, много дураковали партийные власти. Командовали кому не лень, умничали. Все о Никите да о кукурузе галдят. А кукуруза — в помощь. Без нее бы скотины не было. Спасибо Никите. А дурости было много, всякой. Но помаленьку в гору шли. А в последние годы и вовсе. Какие фермы построили для скотины, какие мастерские, полевые станы, кошары… Зачем все это разламывать? В «Комсомольце» комплекс по переработке овцы, ты знаешь, за валюту купили. Полная переработка. Загоняешь овцу, на выходе — мясные консервы, костная мука, дубленка. Все растащили, за гроши распродали… В «Пролетарии» холодильник на двадцать пять тонн разбили, медяшки выдирали на металлолом. Лабораторию разгрохали — спирт искали. Все разбить, разгромить, скотину вырезать, поля вконец испоганить… Нет!— убежденно сказал он.— И в Америке, в этом ЦРУ, тоже дураков хватает. Зачем громить? А потом начинать с землянки, по кирпичику снова собирать. Тут они недодумали, перестарались.
— Может, на нас понадеялись?— спросил Корытин.— Что мы сами сообразим.
— На нас какая надежда? Дураки в третьем поколении. Точно! На это и обижаться не надо, это же — белый день. Революция. Красные, белые. Кто — белый? Кто покрепче, побогаче, кто побольше трудился. Их посекли или за море выпихнули. Остались: Петя-Галушка, я помню его, избачка Гугниха и Мотя — партейный глаз. Они — главные. Потом — коллективизация. Опять сливки сняли: Mужиков, Акимов, Секретёв, Челядин, братья Сонины — самые работяги, все оперенные, у Сониных даже трактор был. Всех — в Сибирь. Последние, кто чуток с головой да с руками, после войны ушли да когда паспорта дали. Остались азадки: глупой да пьяный. Какой спрос… Скажут: «Паси!» — пасу, скажут: «Паши!» — пашу. Слухай бригадира да преда и живи, горя не знай.
Петрович замолчал, видно вылив самое горькое. Он помолчал, а потом спросил, поднимая на Корытина по-детски недоуменный взгляд:
— Неужели там, наверху, не поймут, что губят крестьянство — значит, губят Россию? Чужой горбушкой сыт не будешь. Должны ведь понять и повернуть…
— Ничего не вернешь,— тысячу раз обдуманное повторил Корытин.— Ни царя-батюшку, ни прошлую нашу жизнь. Что с возу упало, тому — конец. Это — главное, что надо понять. А другое…
— Не может того быть!!— взорвался Петрович.— Скинут их всех! Придет человек! Хозяин придет!
Вышла из дома хозяйка, не в пример Петровичу баба спокойная. Она оглядела стол: всего ли хватает? А потом уселась рядом с супругом своим и голосом густым, низким, легко перекрывая мужа, сказала:
— Бывало, сберутся добрые люди, выпьют по чарке, песняка играют. А ныне лишь пенятся, как в телевизоре: Ельцин… Гайдар… Чубайс… Татьяна!— позвала она внучку.— Иди на выручку! Такой у нас гость, дорогой, желанный. А дед его своими баснями кормит. Гитару неси. Он — мастер, я помню…— засмеялась она добрым воспоминаниям.
Молодая женщина вышла на веранду.
— К нам приехал, к нам приехал…— улыбаясь, пропела она, а потом подошла к гостю, села рядом.
Улыбкой нежною, гитарой семиструнною,
Глазами серыми пленил ты душу мне.
Когда мы встретились…
Теплая волна колыхнулась и поднялась в душе Корытина. Гитара, голос молодой женщины, улыбка ее, тихий вечер, покой, старый Петрович — все было так близко сердцу, так мило.
Когда мы встретились с тобой
в ту ночку лунную,
Сирень шептала нам в ту пору о весне…
Гитара плакала…
Нет, гитара вовсе не плакала, даже в песнях печальных. Не успевая остыть, она переходила из рук Татьяны к Корытину и обратно. Пели порознь и вместе: жена Петровича и молодая женщина, ее внучка, Корытин, даже старый Петрович шевелил губами:
Ночь светла. Над рекой
Тихо светит луна…
Милый друг, нежный друг,
Помни ты обо мне…
А потом был чай. Молодая женщина, перебирая струны, напевала негромко Корытину незнакомое:
Серый денек,
Белый летит снежок.
Сердце мое…
Сердце мое…—
повторила она и смолкла, глядя на деда:
— Тебе плохо?..
Петровичу было и вправду нехорошо. Его увели в дом, уложили, дали лекарство.
А гостя провожали до ворот и на улицу. Говорила о Петровиче супруга его, жалуясь:
— Так близко все к сердцу берет. С телевизором с этим, пропади он… А из дома уйдет — еще хуже. В контору ли, в магазин… Там — новости. А доброго — ничего. Придет, расстроится, таблетки глотает. Все тебя ждал…
— Меня?..— удивился Корытин.
— Вас! Так ждал!— горячо подтвердила Татьяна высоким певучим голосом.— Он приедет, говорит, наведет порядок. И многие так говорят на хуторе: вот приедет…
Корытин же о дневном, о колхозном, будто вовсе забыл. Иное было в душе: теплый вечер, молодая женщина, певучий голос ее, сердечная доброта. Давно уж такого не было. «Серый денек…» — вспомнил он и пропел, промурлыкал негромко:
— Серый денек, белый летит снежок. Сердце мое…— и споткнулся, сказав: — Я эту не знаю, не слыхал. Новая…
— Сердце мое…— повторила вослед за ним молодая женщина и рассмеялась.— Споем еще…— пообещала она.
Распрощавшись, Корытин ушел. А потом в пустом душном доме раскрыл настежь окна, впуская ночную прохладу.
Он заснул скоро, но успел почуять свежесть воздуха, а перед смеженными глазами пошел медленный хоровод дневного: Ваня, мать его, Моргуны, кум Петро с дочками, яркие цветы палисадника, хуторские дома, речка с вербами, пестрое стадо коров, пшеничные, ячменные поля, легкое серебро их, струистый след ветра… Будто вернулся в детство ли, в юность.
Он заснул крепко, и снились ему молодые жаркие сны. А разбудил поутру не только урочный час, но петушиный крик, стон горлицы и негромкий людской говор…
Соседский петух дважды прокричал и смолк; горлица где-то рядом стонала убаюкивающе и сонно: спи да спи; а вот говор людской тревожил непонятностью: кто-то разговаривал совсем рядом. Это была явь, утро.
Корытин поднялся, вышел из комнаты на веранду. Там его ждали ранние гости: старый учитель Зотич, в очках с толстенными стеклами, фельдшерица Клавдия, давняя соседка Тимофеевна, с ней еще на Зоричеве рядом жили. Встретили его с мягким, но укором:
— Зорюешь долго, председатель.
— Ждем тебя, ждем…
— Господь с вами,— открестился Корытин.— Какой я вам председатель? Кто придумал?..
Договорить ему не дали:
— Не отпихивайся…
— Ты — при власти, в районе…
— Всем — об стенку горохом!
— Наши как печенеги сидят, хучь варом на них лей…
Корытин понял, что спорить и доказывать — бесполезно.
— Родные!— громко сказал он.— Не галдите. Чем могу, помогу. Жальтесь по порядку.
Выслушав одного да другого, он со вздохом сказал:
— Пошли в правление. Там сподручней.
Колхозная контора ждала Корытина уже другой день. Он пришел. В отцовском кабинете, который пустовал без хозяина, со стариковскими заботами худо ли, бедно разобрался. Настало время иного.
Не сговариваясь, по одному сошлись в председательский кабинет старого Корытина помощники, «спецы». Давнишний заместитель по прозвищу Личный. «Лично Корытин приказал… Сам лично проверит…» — пугал он непослушных. Со стуком, на костылях, пришагал одноногий главбух Максимыч. За ними — агроном да зоотехник, кто-то еще из конторских. Понемногу собрались, расселись на стульях, вдоль стен кабинета. Словно обычная планерка вот-вот начнется.
Корытин поглядел, все понял. Напрямую отказаться было вроде неловко, да и отец об отказе узнает. И потому разговор пошел, как говорится, вокруг да около.
— Слыхал — рушилку отдаете? Зачем?
— Без толку лежит,— объяснили ему.— А за нее обещают долги погасить по электричеству и вдодачу — векселя. Горючего возьмем, запчасти.
— Какими векселями? Областными? Значит, дисконт — наполовину. И за горючее по векселям шкуру сдерут. Это вы зря придумали. Добрые люди нынче, наоборот, переработку покупают. На ней выжить можно. От проса ногой отпихиваются, за так не берут. А пшено можно продать военным, железнодорожникам, на горючее обменять. Так что рушилку зря отдаете. Чем так торговать, как говорится, лучше уж воровать. И с молоком, гляжу, дело у вас не клеится. Надои все ниже. А коровки — хорошие. Но у коровы молоко на языке… Корма… Да и какое есть молоко без толку молзаводу, а ведь можно…
Корытин говорил и говорил слова верные. Но в кабинете поскучнели, по тону поняв, что в председатели вместо отца он не пойдет. А что до слов, до советов… Их много и много было слышано в этих стенах от людей приезжих, начальственных, которым сверху и со стороны, конечно, видней.
— Молоко можно либо напрямую продавать, с машин, в городе, либо договориться, тоже напрямую, с городским хладокомбинатом. Со своей стороны я вам, конечно, буду оказывать помощь, но и вы должны энергичней работать, время нынче такое…
Корытин говорил мягко, с улыбкой, он умел это делать.
Зазвонил телефон. Корытин поднял трубку и услышал голос отца:
— Ты, сынок?.. На месте уже? Работаешь? Слава богу. Спасибо тебе…— Отец глубоко вздохнул. Через телефонный провод явственно был слышен этот вздох облегчения.— Спасибо тебе, сынок. И прости меня Христа ради. Ты пообещал, уехал, а я, старый грешник, не поверил. Думаю: это пустая говоря, потом увильнет, чего-нибудь придумает… Спасибо тебе, мой сынок… Спасибо…
Корытин слушал опустив голову и прикрыв ладонью глаза. А когда отцовская речь оборвалась и телефонная трубка запела гудком, Корытин не опустил ее. Держал, слушал, словно ждал иного. И наконец положил трубку, потом отвел от лица ладонь.
Глаза его глядели холодно. После недолгого молчания он сказал, ошеломляя уже в иное поверивших людей:
— Тянуть нечего и некогда. Завтра — собрание. Всех — не созывать. Лишняя галда. С утра пусть во всех подразделениях выберут уполномоченных. Протоколы оформлять как положено. Чтобы потом никто не придрался. В шестнадцать ноль-ноль соберемся. Сегодня в четырнадцать всем руководителям бригад, ферм и прочего быть у меня. Определим, кого выбирать.
Голос звучал скучно, скрипуче, словно через силу.
Назавтра Корытина-младшего выбрали председателем колхоза. Единогласно. Голосование — тайное, как и должно быть.
Повторись эти выборы даже неделю спустя, такого бы не случилось.
7
Ранним утром в Староселье и Зоричеве, считай, в одночас загромыхали по кочкастым хуторским улицам просторные телеги-стоговозы, прицепленные к могучим тракторам «Кировцам»; вослед им — рогатые стогометы.
Днем раньше в бригадах, на фермах было объявлено, что хорошее сеяное колхозное сено — житняковое, эспарцетовое,— какое в сенокос по дворам растащили, надо вернуть. Объявленное послушали, похмыкали. Мало ли нынче слов…
Но ранним утром загромыхали по улицам пустые телеги-стоговозы, зарычали тракторы, идущие друг другу вослед. Нашествие началось.
На хуторе Зоричев далеко ехать не пришлось, встали у первого же двора. Из одной кабины вылез Степан — кум нового председателя, из другой — участковый милиционер Максаев. Хозяйское гумно размещалось рядом, за крепкими жердевыми воротами. Их широко отворили, зашли. Стог эспарцетового зеленого сена красовался на самом виду. На защиту его бежал от дома хозяин, крича:
— Куда лезете?! Чего на чужом базу потеряли?!
Степан, глядя поверх головы хозяина, что при его высоком росте было нетрудно, заученно проговорил:
— Правление постановило. Эспарцетовое и житняковое сено со дворов свезть на ферму.
— Со своего гумна и вези!— зло ответил хозяин.
— Свез,— коротко объявил Степан.— Вчера. Две телеги. Жена досе ревет. Утром и завтракать не дала.
Пока собеседник моргал, переваривая услышанное, Степан махнул рукой, запуская на гумно стоговоз и стогомет. Хозяин, опомнившись, кинулся закрывать им дорогу.
— Назад!— кричал он.— Не имеете права! Я покупал сено! Лично!
Могучий Степан легко оттеснил его в сторону, где участковый милиционер Максаев, человек не молоденький, тертый, перехватив крикуна, стал ему спокойно внушать:
— Документ есть? Купли-продажи? Предъяви. Нету. Нечего предъявлять. Тогда чего шумишь? Наш колхоз сеяного сена никому не выдавал. Значит, ты сам его взял, не спросясь. А о чем тогда крик? Спасибо скажи, что не пишу протокол, не привлекаю.
— Не дам… Я лучше сожгу его!
— Жги…— спокойно ответил участковый и поднял глаза, огляделся.— Жги. Как раз ветерок к твоей хате.
Ветер и вправду с утра шумел, серебря маковки тополей, легко пригибая их.
— Жги, родный…— мягко повторил участковый.— Сам — в тюрьму, домашние — по соседям. Если те уцелеют.
Тем временем стогомет, ловко подхватывая снизу длинными железными рогами слежавшееся плотное сено, поднимал его, натужно урча, чуть не стогом и укладывал на просторную платформу тележки. Потянуло острым сенным духом, сенная пыль запершила.
Со двора, на помощь хозяину, спешили его домашние: жена да отец-старик, в бороде, с костылем наперевес, словно с пикой.
— Помогитя-а-а!!— истошно вопила хозяйка.— Грабя-ат! Люди добрые!! Чего рот раззявил!!— кричала она мужу.— Отец! Отец! Ружье неси! Пужани их! Имеешь право! Грабя-ат! Помогитя-а-а!!
Но поздно было кричать. Стогомет со своим делом справился ловко. На месте высокого аккуратного скирда остался лишь светлый знак его; с писком разбегались по сторонам, ища укрыва, юркие мыши-полевки.
Как говорится, лиха беда начало. Дальше поехало и пошло. Проверяли за двором двор.
— Правление постановило…— заученно, не глядя в глаза, повторял Степан.
— Документ есть?— допрашивал участковый.— Наш колхоз сеяного сена никому не давал. Откуда взялось? С неба упало? Давай справку от небесной конторы. Нету? О чем тогда разговор? Молись богу, что не составляю протокол, не привлекаю. А ведь могу и привлечь.
Весь долгий день висел над хутором сенной острый дух, словно в июньскую сенокосную пору. Громыхали пустые телеги. Тяжко катили груженые.
И весь долгий день взрывался по хутору то один, то другой двор криком да руганью, бабьим плачущим воплем:
— Чтоб тебя лихоман забрал, бесстыжая морда!
— Чтоб тебе сохнуть и высохнуть в мышиные черева!!!
— Набрать полон рот слюней да харкнуть! Чтоб ты захлебнулся!!
— Ой, люди добрые!.. Сладили, сладили со вдовой!
— Берите! Везите! Корову сводите со двора! И детву забирайте! Будете их сами кормить! Колхозом!
— Чтоб тебя!..— а дальше шло «в бога», «в креста», родителей поминали, живых и покойных. Первым от таких поминаний икалось, вторые — в гробу ворочались.
А порой — лучше бы матерились.
— На чужом сенце не расцветете. Оно вам поперек горла станет.
Доставалось всем. Но более всего — Степану.
— Родный… Ты чего уж так стараешься нас кулачить? Рогами землю роешь?— спросила с горечью одна из баб.— Корытин пыль собьет и увеется. А тебе — жить, и детям твоим…
— Вот именно…— угрюмо подтвердил Степан.
— Чего именно?
— Жить!— с каким-то остервенением сказал Степан.
Баба испуганно отшатнулась. А потом убеждала всех: «Их дурниной опоили! Дурниной… Всех! Они — бешеные!»
Для Степана слово «жить» осталось в памяти, отпечаталось из недавнего разговора, когда Корытин сватал его на нынешнее поганое дело. Корытин тогда собрал людей, объяснил: колхозное сено надо вернуть, иначе — ни молока не будет, ни телят. А значит — денег. Надо вернуть растащенное.
В словах председателя все было правдой. Степан сразу сказал:
— Со своего база сам привезу,— и также твердо добавил: — А людей кулачить не буду. Ищи другого. Мне стыдно. Не могу.
— Ах, не можешь?.. Стыдно?..— проговорил Корытин и, поиграв желваками, рубанул сплеча: — А перед своей семьей, перед девками своими тебе не стыдно?! Нарожал, а кормить кто будет? В драных чулках ходят. И это тебе не стыдно?
Степан побледнел, пытался что-то сказать.
— Молчи!— остановил его Корытин.— Твоих детей обижают. Обкрадывают. По миру пускают. А добрый стыдливый папа лишь руками разводит. Раз стыдно, значит, не держи своих девок под замком. Чему быть, того не миновать. Нынче старшую отправляй к туркам, пока в соку. А следом — других!! Раз папа у них стыдливый. Нехай едут.
Корытин сказал — словно ударил. Мертвенная желтизна разлилась по лицу двоюродного брата. Сжались тяжелые кулаки.
Корытин гадал: ударит, нет?
Степан не ударил, вытерпел. А Корытин, перемолчав, добавил:
— Ты пойдешь. Сено, какое растянули, свезете. А после уборки примешь бригадирство на ферме. Будешь там работать. Будешь деньги получать,— подчеркнул он,— семью содержать. На ферме будешь, пока дочь не выучится и не сменит тебя. Чтобы она училась спокойно и твердо знала: есть у нее отец, есть надежа, есть место в жизни. Давай, брат, работать,— помягчел он.— Это старый кобель сидит на косогоре, жмурится и ждет, когда его повесят. А нам еще рано сдаваться.
Самому Корытину такие разговоры были очень несладки. Но как по-иному?..
К старому Петровичу в дом он ходил еще до собрания, сказал словно решенное:
— Пойдешь ко мне заместителем. Чувалы с зерном тягать не заставлю. По полям мыкаться тоже не будешь. Верный глаз нужен. Сиди и приглядывай.
Петрович моргал растерянно. Разом запричитали жена и внучка:
— Он еле пекает… Вовсе здоровья нет. На таблетках сидит. Помрет…
— Помрет?— переспросил Корытин.— Мы все помрем. Второго веку не будет. Но помирать легче со спокойной душой. А не в слезах да в соплях, из-за плетня выглядая да слушая, как колхозная скотина с голоду ревет. Работать надо,— постановил он,— а не под бабьей юбкой сидеть. У меня у самого — сердце,— признался он.— При деле оздоровеем, при людях. Они не дадут нам дремать да хворать. Наши люди, они…
Люди и впрямь не давали дремать.
В короткие дни центральная усадьба и Зоричев зашевелились, гудя, словно растревоженный улей:
— Не имеет права…
— Будем жалиться…
— Нынче, парень, не те времена…
Но сено свезли с подворий на колхозные гумна, поставили скирды.
— Вахину скотину кормить,— при Корытине сказал кто-то вслух.— Вот кому — жизнь, при любой власти. Аж завидки берут.
Корытин ответил недобро:
— Не завидуй. Нечему завидовать.
Свезли сено. На гумнах, возле коровников и свинарен работали автокраны и люди, поднимая могучие ограды. Поверх оград в три ряда протянули колючую проволоку. Оцинкованную, новенькую, она под солнцем сияла. Болтали, что электрический ток по ней пущен.
— Оборону будем держать…— похмыкивал кое-кто.
Восстановили ограды; на проходных за железными воротами уселись караульщики. Доярок да скотников пропускали на фермы лишь пешими. Вся личная «техника», вплоть до велосипедов, оставалась снаружи.
— Концлагерь…
— Надо жалиться — в газету писать.
— Профсоюз куда глядит…
— Куда и раньше: в рот заглядает.
— А если прокурору? Прокурор не похвалит…
У Корытина ответ был один для всех:
— Забудьте всю эту болтовню про газеты и прокуроров. Их нет. А я — вот он, сами выбрали, единогласно. Кому не нравится, дорога на все стороны. До самой Америки, до Израиля. В двадцать четыре часа. И никаких прокуроров.— Глаза у него делались холодные, прямо ледяные.
— Но это смотря кого…— говорили уже за спиной, шепотом.
Корытин и без чужого шепота знал, без намеков, где чирей сидит.
А подсобить мог — хоть и душа к тому не лежала — лишь Ваня, тот рыжий мальчонка, помощник старого председателя, а нынче — чеченца Вахи пастух.
Ваню Корытин встретил в степи, колеся по округе.
Отара овец, две большие мохнатые собаки, в руках мальчишки — чабанский посох-герлыга.
— Возьми лучше меня в колхоз на работу,— просил мальчик.— Я с гуляком управлюсь, хоть — пеше, хоть — на коне. Могу и в свинарнике…
Корытин, думая о своем, спросил:
— Ночуешь у Вахи?
— В вагончике,— ответил мальчик,— все работники там спят. Ваха — добрый, а вот пацаны его…
— Потерпи…— попросил Корытин.— Недолго. И приглядайся. Что там и к чему. Осторожненько. Может, и впрямь есть оружие. Пригляди…— Он говорил и недоговаривал.— Нам будет нужно. А кроме тебя некому. Гляди, осторожно гляди, заметишь — молчи до срока. Я дам знак.
Корытин говорил через силу, перебарывая себя. Он понимал, что научает мальчонку неладному. Но по-иному как? Серьезный нужен крючок, чтобы не сорвалось. Капкан нужен волчий. Чтобы попал и не выдрался.
Он поговорил, уехал, досадуя на себя, совестясь, но и надеясь. Мальчишка — смышленый.
Быстро пролетела неделя, за ней — другая. Погода стояла жаркая. Спели хлеба.
8
Уборку начали празднично. Прямо в поле Корытин речь держал, поздравляя. Потом комбайны вышли в обкошенные хлебные делянки. Стоял полудень. Бронзовела пшеница. Стрекотали жатки. Первые копны легли на стерню, и повеяло хлебом: горячим духом пшеничной соломы, зерна.
Корытин уехал с поля не сразу. Вместе и порознь с агрономом и бригадиром ходили и ездили от комбайна к комбайну, от копны к копне, проверяя, как обмолачивается колос, порой останавливая машины, подлаживая их, как это всегда бывает в первый день жатвы и молотьбы. Полнились бункеры; потекло зерно тяжелыми струями в кузова машин, тележки тракторов. И вот уже поднялись над степью длинные шлейфы пыли: первый хлеб повезли на ток.
Уехал туда и Корытин, чтобы проверить и поглядеть. Он так и мыкался целый день, от поля к току — и назад. И лишь к вечеру сказал: «Поехал на хлебоприемный». Но это уже было лукавством. В районном центре на хлебоприемный пункт он даже не заглянул. Иным был занят.
В путь обратный он выехал ночью. В его машине сидел человек в погонах. Позади катила другая машина, с дюжими ребятами при оружии, в пятнистой форме.
На центральную усадьбу прибыли в полночь. Но их ждали. В колхозной конторе окна не светили, но на гул машин вышли два человека: взрослый и мальчишка. Разговор был не больно долгим. Мальчик говорил торопливо, взахлеб, его останавливали:
— Понятно… Понятно… И это понятно. Это — точно? Понятно. Хорошо. Вопросов нет. Ты останешься дома. Сделал свое, молодец.— И короткая команда: — Скотовоз и «КамАЗ» бортовой к Вахе. За рулем — Молчанов и Чинегин. Полная заправка, путевые листы.
И снова поехали, теперь уже на хутор Зоричев, который крепко спал во тьме густой июльской ночи. Лишь на окраине желтели тусклые огни скотьих ферм, да во дворе чеченца Вахи ярко светили на высоких столбах огромные лампы, к которым со всей округи слеталась летучая тварь и кружилась возле огня, словно метель мела.
Подъехали к самому дому, долго сигналили, из машин не вылезая.
— Кого надо?— спросил из тьмы сиплый голос.
— Хозяина!
Вышел полуодетый Ваха.
Долгих разговоров не было. Испуганно и спросонок моргали понятые — соседские мужик с бабой.
Ваха не сразу в себя приходил, потому что гости были серьезные: не свой участковый, не райцентровская милиция, а офицер в защитной форме и ребята с ним — не шутейные. Они быстро перетряхнули дом, все кладовки его, нашли автомат, пистолет, две гранаты. Работников, которые ночевали в вагончиках, подняли и велели пригнать с дальнего база, от речки, двенадцать бычков-абердинов черной масти. В просторном сарае курганом лежало свежеобмолоченное зерно. В бетонированной яме, возле свиных загонов,— тоже зерно.
Закончив обыск, работников-бичей заперли в вагончик. На улице под фонарным огнем писались протоколы обыска. Ваха принялся было за привычное:
— Дорогой… Погоди… Зачем спешишь? Мы — люди…
Но ему приказали:
— Молчать.— И еще раз: — Молчать! Или рот заткнем.
Он хотел было к дому пройти, но сказали:
— Стоять.
Молчаливые ребята в пятнистой форме были строги. Вахиных сынков они успокоили мигом.
Наконец окончили бумажную писанину, отпустили понятых, сели тут же, на воле, втроем, под яркой лампой: Корытин, военный чин и хозяин. Ваха снова открыл было рот. Его остановили:
— Когда спросят, ответишь. А сейчас слушай внимательно. Краденое колхозное зерно, порядка десяти тонн. Двенадцать голов скота, украденных в Иловлинском районе, колхоз «8 Марта». Порода абердино-ангусская, клейма повреждены. Незаконное хранение огнестрельного оружия. Теперь — ваше слово. Коротко.
— Дорогой, так не надо: ночью, я думал, грабят, дети, жена… Мы разберемся, меня все знают. Я звоню нашему старейшине… Он подъезжает. Мы разбираемся. Какое зерно, кто меня обманул, указываю, у кого покупал, при свидетелях. Какое оружие… Это игрушка, ребята нашли, не успели отдать… Молодые, глупые… Завтра поедем в райцентр…
— Сегодня поедем,— поправили его.— И не в райцентр, а подальше, вместе с твоими сыновьями.
— Я могу…
— Ты ничего не можешь. Уясни это. А мы можем еще и могилку раскопать.
— Какую могилку?
— Ты не знаешь какую?
— Бичи… Пьяницы…— начал сбивчиво объяснять Ваха.— Помирают… Хороним…
— Смотря как помирают. Но это — к слову.
Случайно или нарочно звякнул металл наручников.
— Все будет сегодня, сейчас. Слушай председателя.
Корытин продолжил речь:
— Слушай внимательно. Или тебя с сыновьями они забирают,— кивнул он в сторону военных,— или другой вариант. Называешь адрес за пределами нашей области. Забираешь скот, кроме этих бычков. Забираешь семью, имущество, и тебя везут по твоему адресу. Прямо сейчас. Выбирай. Времени на раздумья у тебя нет.
И, подтверждая слова Корытина, ко двору, к его яркому свету, медленно подползли два автомобиля — огромный скотовоз и бортовой «КамАЗ».
Ваха снова пытался что-то говорить, несвязное. Его оборвали:
— Три минуты на раздумья. Грузись — или увозим.
Ребята в камуфляжной форме, словно занудившись, стали прохаживаться. В такт шагам позвякивали наручники, пристегнутые к поясам.
— Бумаги отдаете мне?
— Бумаги в надежном месте. Мое слово — гарантия,— ответил Корытин.
Ваха шумно и коротко вздохнул, переводя взгляд с Корытина на офицера и обратно, сказал:
— Уезжаю.
Машины, утробно рыча, вползали во двор. Выпустили из вагончика работников-бичей. Началась погрузка с мычаньем да блеяньем.
Той же ночью, еще до рассвета, груженые машины ушли из хутора.
Корытин с помощниками и понятыми успел проведать на хуторе еще один двор. Нашли зерно. Составили акт.
Корытин спать не ложился. Рано утром на поле, возле комбайнов, собрали всех: комбайнеров, штурвальных, шоферов, ремонтников. Корытин держал речь:
— Первый день уборки. Воровство. За хищение зерна Ваха с семьей выселен из пределов области.— Это уже было не новостью. Разлетелось.— Ворованное зерно обнаружено у Моргунова. Дело передано в прокуратуру. Краденое изъято. Пре-ду-пре-ждаю,— громко, раздельно и внятно сказал Корытин,— воровства зерна не допущу. Ни от комбайнов, ни при перевозке, ни с тока. Зерно — это жизнь колхоза. В целях сохранности точно определены и будут охраняться маршруты движения машин с зерном от комбайнов на ток. За малейшее отклонение от маршрута — немедленное увольнение.
— А если поломка какая, дорогу уступить, свернуть…— зачастил один из шоферов, поглядывая на своих коллег и ожидая поддержки.
— Говори, говори…— приказал ли, одобрил Корытин.— Говори сразу…
— Если чуток в сторону, указателей нету… Там — лесополоса, там — сверток…
— Говори, говори…
— Вот я и сказал.
— Все сказал?
— Все.
— Спасибо за честность,— поблагодарил Корытин и бригадиру приказал: — С машины его снять. Сажайте моего шофера. Вечером разберемся. Начинайте работать!— возвысил он голос.— И помните: дитё мамку сосет, оттого и живо, но сиськи у нее не откусывает! А кому новины, новой пшенички захочется, то уже по итогам первой недели заработанное зерно можно выписывать. Доставка на дом. Начинайте работать,— закончил он.— И пусть нам поможет бог.
Расходились молча. Без обычных в таких случаях разговоров, галды. Затрещали движки, один за другим расползались комбайны от ночной стоянки. И скоро потянулись машины, пыля, от поля к току, с тока к полю.
Но сегодня на этом привычном пути неторопливо колесили два «жигуленка», в их кабинах сидели чужие люди — молодые, крепкие ребята в короткой стрижке. Порою их видели в придорожной лесополосе, возле хлебных полей, в дозоре.
В последние годы, лишь начиналась уборка, на свежее зерно, словно воронье на падаль, слетались большегрузные, да еще и с прицепами машины. Слетались и кружили возле комбайнов, дожидаясь своей поры. Расплачивались они сразу и наличными.
Нынче в первый же день несколько таких машин перехватила новая охрана и поставила «на прикол» в колхозном гараже, до выяснения.
Еще одна новость: участковый милиционер всех владельцев машин объехал и лично объявил:
— Две недели, пока уборка идет, со двора не выезжать. Иначе обещаю…— Понятно, что обещал.
На току в тот же день новая охрана вытрясла все бабьи сумки с зерном. Начавшийся было гвалт остановил Корытин.
— Не голод,— твердо сказал он.— Хлеб — в магазине. Зерно еще заработать надо. Малейшая попытка будет караться строго. И долго,— пообещал он.— У кого слабинка, лучше дома сидите. С сумками на работу не ходить. От греха.
Повздыхали — с тем и разошлись. Уже потом, через время, старая женщина попеняла Корытину.
— Бывалочка, батя твой…— вспомнила она.— Уборка подошла, он со снопом хлеба по людям, по дворам идет. Глядите, говорит, люди, какой хлебушек уродился. Разве можно такое добро упустить. Милости прошу на поле, на ток. Давайте потрудимся. А ныне под конвоем да под обыском.
— Шаг влево, шаг вправо считается побегом,— подсказал кто-то из молодых.— Конвой применяет…
Корытин ничего не ответил, но на молодуху поглядел так, что она язык прикусила. Потом повернулся и ушел.
9
В зимнюю пору недолгие дни летят быстро. Тем более — в гостях. Будто вчера Катерина приехала, а уж пора собираться.
В один из последних дней она решила пройтись по хутору, встретить, а может, и заглянуть к кому-то из старых подруг. Еще день-другой — и дальше надо катить, и когда придется снова приехать, и придется ли, при нынешних временах, об этом знает лишь бог.
Стоял солнечный, с легким морозцем день. Искрился радужными переливами свежий снежок на крышах домов, сараев, на пригорках. Детвора гомонила на воле, радуясь каникулам.
Катерина, женщина уже немолодая, мать троих детей, выйдя на улицу, почуяла себя чуть не девчонкой. Она и гляделась неплохо: хорошо пошитое пальто облегало полную фигуру, высокие сапожки ладно сидели на ноге. Песцовый воротник, песцовая шапка… В пушистом обрамленье лицо Катерины, гладкое и ухоженное, словно помолодело, разрумянившись на морозе.
И показалось вдруг Катерине, что за плечами у нее не годы и годы, не трое уже взрослых детей, а что она снова молода и, приехав на институтские каникулы, летит повидаться с кем-нибудь из подружек.
Ее не узнавали. Одну давнюю знакомую встретила, потом — другую. Казались они много старше. А глядя на Катерину, завидуя ей, ровесницы охали да ахали, еще более поднимая настроение.
Толокся народ у магазина. Катерина шла мимо, направляясь к школе. Конечно, сейчас — каникулы. Но кто-то в школу приходит, и можно встретить старых педагогов, подруг, в школе работающих. В магазине ей делать было нечего, но завернула туда из любопытства. Как и везде, главный торг шел возле магазинных стен. Две машины, на капотах разложен товар, веревки протянуты с цветным тряпьем. Тут же притулились железные киоски, за их стеклами пестрят яркие обертки да наклейки. Все как везде.
Катерину заметили, глядели на нее. Женщина фигуристая да еще — при мехах. Это в Сибири песцами не удивишь, а здесь — редкость.
Она поздоровалась и уже проходила мимо, да вдруг увидела старинную свою подругу: когда-то с ней в школе учились. Она бы ее не признала вовсе, но, постарев и подурнев, подруга стала похожа на мать свою, покойную тетку Варю. И если бы Катерина не знала, что тетка Варя умерла, она бы ее и окликнула. Но то была уже не мать, а дочь. Катерина подошла к ней, поздоровалась и, не сумев сдержаться, сказала:
— Господи… Как ты изменилась… Все мы изменились,— мягко добавила она, жалея подругу.
— Изменишься,— резко ответила та.— Братушка твой поедом ест. Загрызает… Тут изменишься. В гроб вгоняет.
— Как?— не поняла Катерина.— Почему?..
И женщина вдруг закричала:
— Потому, что зверюка он, не человек! Пиночетина! Всех готов загрызть!— И без того заветренное, морщеное лицо женщины потемнело, сузились глаза. Она с ненавистью глядела на Катерину, которая была виновата не только родством с вражиной Корытиным, но всем своим видом: сытым лицом, мехами, сладким запахом парфюмерии. Тоже чью-нибудь кровь пьет, порода одна.— Ненавистные…— процедила женщина.— Но бог накажет…— не договорив, опомнившись, она резко повернулась и зашагала прочь.
А Катерина растерянно оглядела тех немногих людей, что стояли у торга. Ничем ответить она не могла, да и не смогла бы, потому что душили подступившие от обиды слезы. Она повернулась и быстро-быстро, почти бегом, пошла от магазина, напрочь забыв, куда и зачем собиралась. Она спешила по улице и чуяла, что вослед ей глядят, и казалось, вот-вот раздастся еще что-то обидное и больное.
Скорей, скорей унести бы ноги…
Не помня себя, она добежала до дома. И лишь за порогом, дверь прикрыв, вздохнула облегченно.
— Чего так скоро?— спросила из кухни невестка и, не дождавшись ответа, вышла в прихожую.— Чего?..
Катерина сидела одетая, как вошла: лицо закрыто руками.
— Что с тобой? Что случилось?..
Волей-неволей, а пришлось рассказать.
— Господи…— заохала невестка.— Нашей кровушки мало попили, так на тебя кидаются. Ни стыда, ни совести… А ты не бери к сердцу… Народ ныне извадился. Совести нет, а дури — конем не наедешь…
Она помогла раздеться; на кухне чайник поставили. Катерина вроде отошла, со вздохом попеняла:
— Надо братушке как-то помягче быть. Все же люди…
— А мы — не люди?— горько спросила невестка.— И капканы на него ставили. И машину подломали, вверх торманом в балку летел. Спасибо, бог спас. И поджигали…
— Вас?
— А кого еще?.. Спасибо, сосед углядел под утро, так загорелось…
— Господи… За что?
— Есть за что. Заворовались да запились. Тянули все подряд. А он обрезал. Да по рукам… А кое-кого…— Не больно разговорчива была невестка.— Ладно. Давай чаю попьем…— сказала она.
Чаевничали на кухне. За чаем понемногу и мысли, и речи потекли иные: о нынешней славной зиме, о доброй памяти прошлых зим, совсем давних, из детства да юности.
Но нынешний день еще не кончился. И он готовил для женщин новый подарок.
Телефон в доме Корытиных звонил лишь по вечерам. Днем обычно молчал. Знали, что хозяин дома не сидит. А тут вдруг позвонили, попросив Катерину. Хозяйка удивилась:
— Тебя…— и добавила в сторону от трубки: — Видно, подруги прослышали.
Удивилась и Катерина, трубку взяла:
— Слушаю…
— Вы по профессии — врач? Правильно?
— Да. А что случилось? Помочь надо?
— Надо. И причем срочно.
— Кому помочь? Где?
— Брату своему помогите.
— Что с ним?!— крикнула Катерина.— Где он?
— В конторе. С ума сошел.
— Не пойму…
— И мы — тоже. Но вы — врач. Идите, пока не поздно. Он там портреты членов Политбюро продает. Его вот-вот скрутят и в дурдом увезут.
Голос в телефонной трубке смолк. Катерина, растерянно поглядев на невестку, не знала, что сказать. Но и молчать не могла.
— Что-то случилось…— вымолвила она.— Пошли.
Все было будто во сне. Какие-то лекарства схватила. Хотя неизвестно, что брать. Набросила пуховый платок и помчалась. Невестка за ней бежала, повторяя: «Что случилось?.. Что случилось?..» То рядом, то обгоняя женщин мчался, повизгивая, торопя, словно чуял недоброе, рыжий кобель Тришка. Хорошо, что колхозное правление недалеко. Добежали. Запыхавшись, поднимались по лестнице. Все было тихо и спокойно в конторском коридоре. Слишком тихо. У Катерины сердце оборвалось: «Опоздали…» Сразбегу ударившись в дверь кабинета, она распахнула ее. Корытин сидел за своим столом; рядом — люди.
Женщины ввалились в кабинет и встали.
— Что случилось?— поднялся Корытин.— Алена, Михаил, Танюшка?..— перебирал он имена близких, дорогих людей.
— С тобой что?— спросила Катерина и, не дожидаясь ответа, заплакала, уронив из рук сумку с лекарствами.
Вернулись домой на машине. Женщины пили валерьянку. Корытин добрую стопку водки опрокинул. У Катерины вначале и слов не было. Она лишь глядела на брата так, что он чуял этот взгляд и спрашивал:
— Ну что? Ну давай я пойду ей морду набью? А что еще я могу сделать? Моя уж ко всему привыкла,— кивал он на жену.— А тебе внове.
— Уж ты бы как-нибудь с ними помягче. Меньше бы ругался. И отдал бы трактор. Ведь себе дороже.
Корытин лишь вздыхал. Женские, бабьи резоны. Как им ответишь? Чем возразишь? Даже толком рассказать не получится. Как расскажешь про эту жизнь, в какой он варится? Со стороны, может, и просто.
Он ведь сегодня и не ругался. Он объяснял. Обычный день, обычный разговор. Правда, потом привычная ругня пошла. Грозились властям жаловаться: в область, в район, в газеты — чтобы все знали. Ведь об этом в кабинете был крик: «Ты вовсе с ума сошел! Я всем властям позвоню и во все газеты! На тебя пальцем будут указывать! Тебя в дурдом заберут!»
А начинали разговор нормально. И люди были не с улицы, а свои, всем известные Моргуны. Сам Моргун — старинный механизатор, с малых лет — на технике; жена до недавних пор на молочной ферме трудилась; дети — тоже в колхозе. Моргуниху при нынешнем председателе с фермы убрали, дома сидела. А ныне решили Моргуны из колхоза уйти. «Пока не поздно…— объясняла всем мудрая Моргуниха.— Пока не растабанили все… Пока…»
Что ж… нынче вольному воля. Хотя Корытину это было не по нутру. Во-первых, знал он, что когда рядом колхозное и свое, то колхозному это не в пользу. Утекает горючее, всякие железяки от трактора да комбайна вдруг исчезают, зерно не туда идет. Тем более Моргуны — хозяева, у каких все к рукам липнет.
А еще не нравились разговоры. Лишь собирались Моргуны заявление подавать на выход, а уже вся округа до точности знала, какие богатства они из колхоза заберут. Потому что «положено». Трактор заберут новый, грузовик, сеялки-веялки да еще скотины чуть не десять голов. Потому что «имеют право», «по закону». А еще потому, что первым, кто рано встает, тем бог и государство — в помощь. «Пока не растабанили колхоз… Пока есть что делить…— Моргуниха везде и всем это не таясь объясняла.— Акто спит, тем азадки…»
Моргуниха молола языком, за ней повторяли. Кое у кого слюнки течь начинали. И, конечно, мысли: «Не опоздать к дележу…» В соседнем районе по суду получил из своего колхоза бывший главный инженер зарплату за год и пай — неплохие деньги. Через неделю в суде лежало триста заявлений. Через месяц колхоза не было. Не успели опомниться, все тракторы, автомобили, комбайны проданы на сторону с аукциона. Как всегда, потом поумнели: «Возвернуть надо! Абманаты! Жалиться надо!»
Об этом Корытин помнил, своих «выходцев» поджидая.
И те пришли наконец. Моргун, как всегда молчаком, вошел в кабинет, разом споткнулся да так и остался стоять у порога, лишь слушал, покряхтывая да потея. Зато супруга его ступала, словно гоголушка, горделиво. Кожаное пальто да высокие сапоги с бляхами, норковая шапка, и губы накрашены. Не кто-нибудь, а сама Моргуниха.
Людный председательский кабинет ее не смутил.
— Здорово живете!— громко молвила она и процокала каблуками к столу.— Примите заявление. Выделяйте землю, имущественный пай на всю семью. Слава богу, тридцать с лишним годков отработала, а он — поболе, да сын, да дочь. Мы все посчитали, слава богу, грамотные. Выделяйте два трактора, ДТ и колесный, комбайн, прицепные, а еще коров возьмем. И не тяните, число там указано, согласно указу — в течение месяца. Иначе мы прямиком к прокурору. Ныне, знаете сами, не дадут в обиду.
Народ, какой был в кабинете, примолк.
— Все выделим, и раньше месяца. Чего тянуть,— успокоил Моргуниху Корытин и пригласил: — Садись. Зовите бухгалтера и народ, какой там есть, зовите. У нас — не диктатура, а колхоз. Сейчас и решим сообща. Зовите всех. Кто там есть в кабинетах, в коридоре. Всех — сюда.
Моргуниха уселась, несколько удивленная, но показывая всем видом: ну, сядем… ну, послушаем… мы — не трусова десятка…
Собрали чуть не полный кабинет: конторские люди, две доярки с фермы, правленческие шофера, ко случаю поспевшие пенсионеры.
— Вот он — народ,— бодро начал Корытин.— Коллективный хозяин. Что он решит, так и будет. А мы лишь подпишем. Кроватей сколько возьмете? Бери десяток.
— Какие кровати?— опешила Моргуниха.
— Богатые. Полуторки, с сетками, никелированные грядушки…— нахваливал Корытин.— Шик-блеск! Новые! Для детского лагеря закупали.
— Зачем мне кровати?
— Как зачем?.. Семья большая, да еще прибавка будет. В семье кровати всегда сгодятся. А можно продать.
Народ слушал не больно понимая.
— Ты чего изгаляешься? Ты еще горшки ночные детсадовские мне навяжи.
— Горшки у нас на складе числятся?— с ходу спросил Корытин у бухгалтера.
Тот плечами пожал.
— Горшков нет,— отказал Корытин.— Только что провели полную инвентаризацию. Кроватей — двести. Еще есть три комплекта портретов членов Политбюро. В рамах!— нахваливал он.— Масляная краска! С орденами!
— Какого Политбюро?
— Память у тебя короткая. Политбюро ЦК КПСС. Вместе ведь в партии были.
— Их тоже мне?
— Возьми хоть пяток.
— Ты пьяный или с ума сошел?!— не выдержала Моргуниха.
— Сердишься?..— понял Корытин.— А зря. Ты, конечно, умная. Хвалю. Выходите из колхоза, берете все нужное: гожий трактор, комбайн, хороших коров. А что нам оставляете? Вот ему? Наш колхозный нажиток — это и коровы, и кровати, и тракторы, и стулья. А ты хочешь как в сказке делиться: себе корешки — репку, а нам, медведям,— одни листья. Митрич?— спросил он у своего шофера.— Ты согласен отдать трактор, а на свою долю оставить кровати? Ты не хмыкай, ты прямо скажи.
Митрич, немолодой мужик, не сказал, а показал Моргунихе очень выразительно.
— А кто хочет кровати, портреты, клубные стулья, трибуну для выступлений? Кто? Отвечайте?— обвел Корытин взглядом кабинет.— Сегодня у нас — колхоз. Завтра — неизвестно что. Если ты трактора заберешь, нам одни портреты и останутся. И всякая рухлядь. Разве это справедливо? Давай делиться по-честному. Тем более,— возвысил Корытин голос,— вы на свободу уходите. Кормить будете лишь себя. Дороги, по которым все ездим, нам ремонтировать. Водопровод — опять нам на шею. Школа, детский садик, медпункт — все это нам, на колхозную казну. Вы пять лет налогов не будете платить. А мы — кряхтим, но платим. Армия, больницы, все государство… Все — колхозу. И малые, и старые. Гроб сделать — колхоз, на кладбище отвезть — колхоз. Так что давай по-честному. Но если народ сейчас скажет, чтобы все отдать тебе, как ты просишь, я отдам. Спрашивай у людей, я — не хозяин.
В кабинете народ был разный, но глядели все одинаково. Корытин понял, сказал:
— Можно расходиться.
Затопали, заговорили все разом:
— Продуманные… Рогали.
— Раздиктовала, скорохватая…
— Ты свою долю давно уперла, днем и ночью с фермы везли. Покуда не спешили…
— Оторвали от титьки…
— Уходят — значит, отрезать им водопровод. За мотор три миллиона плочено.
— А электричество? Новый купили… этот… как его?..
— Моргуниха премудрая… Любит нахалтай…
Кабинет стал пустеть. Тут Моргуниха опомнилась. Начался ор:
— Ты — больной! Тебя лечить надо! Я всем позвоню! В область! Во все газеты!! Членов Политбюро — на пай! Раскладушки заместо трактора! До Москвы дойду!! На весь свет опозорю!
К шуму и крику за немалую свою жизнь Корытин привык. Слушать несладко. Но привык.
Правда, не думал он, что нынче достанется не только ему. И теперь он понимал, как больно сестре, и чуял свою вину не столько за короткий испуг, когда бежала она от дома к конторе, сколько за то, что не может Катерина всего понять, а он объяснить ей не в силах нынешнее и вчерашнее.
Объяснить было трудно, почти невозможно, как всякую чужую жизнь. А для сестры эта жизнь стала чужой давным-давно.
Но хотелось оправдаться. Кончались короткие дни свиданья. А потом снова, может, на годы расстанутся. Будет душа болеть у него, у нее.
Готовились обедать. Жена собирала на стол. А Корытин сестру приголубил, обнял ее за плечи, подвел к широкому окошку, за которым лежал зимний день. Хороший был вид из окна: дома, улица — все снегом прикрытое, словно принаряженное. Не улица, а новогодняя открытка. Глядя туда, на волю, и обнимая сестру, Корытин пропел негромко:
Серый денек,
Белый летит снежок.
Сердце мое…
По голосу, по сердечному тону, по лицу и глазам брата — что-то в них чудилось!— Катерина поняла и прошептала:
— Братушка, зачем ты сюда приехал? Уезжай.
— Поздно, сестра.
— Господь с ними, пусть живут как хотят…— уговаривала она.
— Не получится. Это ведь детский сад, детишки, как их оставишь. При спичках… Хату сожгут. Помнишь, мы в детстве сарай сожгли. Отец нас выпорол. А нам ведь хотелось интересного: не думали сарай жечь. Верно ведь?
— Конечно.
— А сожгли. Так и здесь. Детвора… Ныне будем пряники есть, конфетами закусывать. А завтра от голода заревем. В Бударинском колхозе племенную ферму, тысячу двести коров, за неделю на мясо порезали, продали. И весь район им завидовал: забогатели, на свадьбах гости по миллиону жениху с невестой «на блюдо» клали. Чем завтра будут жить — об этом загаду нет. И у нас такие же. Лишь отвернись, все порежут, все растянут. Одни — на пропой, другие — на шоколадки. Детвора… Хоть и взрослые люди. Пойди к Петровичу, он тебе про дураков в третьем поколении расскажет.
— Так зачем же ты сюда приехал?
— Потому что сам — дурак. Умный человек не полез бы в такой хомут.
— Нет, братушка, ты — не дурак,— искренне сказала Катерина.
— Спасибо, сестра,— улыбнулся Корытин.— Тогда, значит, мой ученый сынушка прав. Он поет, что я — коммунист. И ведь не отбрешешься. В пионерах, в комсомольцах выросли. Помнишь? Как стремились туда! Старались… Тимуровцы. Чтобы старым помогать. В школе отстающих подтягивать, чтобы звено не позорили, отряд. Все было. Не скинешь с руки. Вот и теперь… Жалко… Понимаешь такое слово? Скотину жалко. Такие коровы у нас… Землю жалко. Сколько с ней пестались: севооборот, пары… Все кинь, завтра — дикое поле. А понастроили: фермы, мастерские… И все в дым: растянут, разломают, сожгут. Детвора… С папой привыкли жить, в семье. Прикажут: «Паси»,— значит — паси; «Коси!» — буду косить. А без папки хоть помирай. «Туды-сюды кидаю…— передразнил он.— Умом не догоню… Как жить!»
— Думаешь, спасибо скажут?— спросила Катерина.
— Дождешься!— прежде мужа презрительно хмыкнула невестка.— Тебе нынче сказали спасибо, это — за него.
— Слыхал, слыхал…— отозвался Корытин.— Доложили. Это тебе еще мало досталось. Такой кусок отобрали. Триста литров молока умножь хотя бы на две тысячи рублей,— начал считать он.— Шестьсот тысяч получается. Хотя бы трижды в неделю. Это уже два миллиона в карман. За месяц — почти десять. Вот так она бригадирствовала, твоя подружка. Выгнали. Конечно, я виноват. За это не ругать, а стрелять впору.
— Еще дождемся,— с горечью сказала Корытину жена.— Как Васю Аникеева, прямо при детях. Землю не дал дураку.
— До смерти?— не поверила Катерина.
— Наповал.
— Это какой Аникеев? Рыжий, зоричевский, тетки Матрены сын?
— Он самый… Председателем был в колхозе Калинина. Долго не женился. Будто знал, что сиротами оставит. А детей любил… Сыновья у него — близнята. Господи, за что…
— Обедать мы ныне будем или слезы точить?— пытаясь обрезать горестное, спросил Корытин.
Катерина его не слышала, не хотела ли слышать.
— Но так нельзя…— с болью сказала она.— Так же нельзя жить, чтобы тебя все… чтобы тебя все… ненавидели,— смогла наконец она выговорить самое горькое слово.
Корытин поморщился.
— А как можно?— спросил он.— Такое нынче время, сама видишь. Все я понимаю не хуже тебя, не хуже моего сынка ученого, не хуже сватьев. Но у вас — слова, а у меня — живые люди. Их держать надо внатяг, иначе все пухом-прахом пойдет! Держаться надо нам, понимаешь, держаться!— Корытин уже кричал, но вдруг опомнился, подошел к сестре ближе: — Все меня точат, и все меня ругают. Пожалей хоть ты меня, Катя.
Разговор он обрезал. Но сердцу ли, душе не прикажешь. Обедали, считай, молча. А потом — каждый к своему. Хозяин уехал по делам. Жена его на кухне прибиралась. Гостья же, подумав недолго, стала одеваться.
— Куда?— спросила ее хозяйка.
— На кладбище схожу,— ответила Катерина.— Одна схожу. Чего-то мне…— недоговорила она.
Хозяйка в ответ лишь вздохнула.
10
День-другой мело и пуржило. Выйдешь из дома — белая мгла, ничего не видать. Потом погода утишилась.
В день отъезда утром светила луна. Солнце встало в белесой мути. Поднимался день светлый, но дул и дул стылый восточный ветер, обжигая лицо. Снежок перепархивал.
К станции, к полуденному поезду, ехали загодя. Причиной тому — председательские заботы: сначала путь лежал в Зоричев, потом в соседний колхоз «Пролетарий», а уж оттуда — на станцию.
— По-другому не выходит,— объяснял Корытин.— А одну отпускать тебя не хочу. Проветришься.
— Проветрюсь…— легко соглашалась Катерина.
Последние дни тянулись долго. И ведь не ругались, но легла меж сестрой и братом какая-то неловкость. Разъехаться бы и вздохнуть свободно. Какие ни родные, но у каждого — свое.
И вот он пришел, последний день, последний путь. Из дома поехали к правлению колхоза, где уже стояли три больших скотовоза — «КамАЗа». Тронулись впереди их, возглавляя колонну, но быстро оставили позади тяжелые машины. «Нива» спешила к хутору Зоричев, к тамошним фермам.
В машине молчали, лишь порой переглядывались, чувствуя все ту же стену отчуждения, которую трудно сломать.
В Зоричеве, на скотьей колхозной ферме, проехав через ворота проходной, встали возле коровников и базов.
— Выходи. Промнешься…— сказал сестре Корытин.— Я тут кое-чего…
Катерина вышла. Рядом, за железной огорожей, возле кормушек с сеном, у высоких соломенных куч, разложенных по базу, стояли и бродили коровы, все до единой черно-белой пятнистой масти, словно близнята. Они были хороши на погляд: тяжелые, утробистые, чистая шерсть, большие глаза, горячие струйки пара из темных пещер ноздрей. Катерине сразу вспомнилось давнее: своя корова, которую в детстве в стадо прогоняла, встречала, а зимою ждали от нее теленка.
— Телята есть?— оживляясь, спросила она у брата.
— А как же без телят…— засмеялся Корытин.— Еще не растел, но есть. Поглядеть хочешь?
— Очень.
— Пошли.
Под крышей телятника из калориферных труб легко веял теплый ветер. Ярко светили низко опущенные белые кварцевые лампы. И милая скотья детвора — телята — покойно дремали в своих клетках или задумчиво тянули из ясель зеленые былки сена, порою взбрыкивали, играясь, мягко стуча копытцами по засыпанному опилками полу.
— Лобаны…— горделиво похвалил Корытин, останавливаясь возле клетки.
А сестра его, протягивая через огорожу руки, доставала и гладила бархатные головки, горячие носы, нежную молодую шерстку — детскую плоть.
Как давно она не видала телят! А когда-то… Снова вспомнилось детство. Здесь, на хуторе. Сколько было всего: цыплята, гусята, игручие козлята, телята… И сама — теля малое, а рядом — братец, бычок лобастый. Каким он был смешным, славным. Катерина объявилась на свет божий первой и потому всегда считала себя старшей, а брата — меньшим. Она по-матерински опекала его, заботясь. Привыкли к этому. А теперь, через время, отвыкли. Но сейчас прошлое так ясно вспомнилось. Она поглядела и будто снова увидела того давнего, совсем молодого брата, мальчишку. Нынче он поседел, погрузнел. Но все — прочь! Такой же добротой и любовью светят глаза его. И душою он тот, прежний, дорогой сердцу братец. А все остальное — неправда.
Она качнулась, прижимаясь к брату плечом, потом тронула, погладила его по щеке. Корытин понял и принял ее ласку.
— Лобанок…— с улыбкой повторила Катерина.— Лобанок ты мой, лобанок…
Одним разом все было забыто: непонимание, недавняя ссора. Все ушло. Не торопясь они прошли по тихому телятнику, глядя на скотью малышню, а вспоминая и вздыхая о своем: о прошлом, о нынешнем.
На воле дул стылый ветер, обжигая лицо после тепла и затишки. Возле машины Корытин говорил и говорил провожавшему его бригадиру:
— Привезут… Через час-другой первая машина придет. И до последнего, чтобы все на месте. Никому не уходить. Разместить, напоить тепленьким. И пусть отдыхают. Фельдшер подъедет, он сделает свое. Я сам к вечеру буду. Ни одной головы не потерять. Привезли — значит, уже на нашей шее. Немного овсяной соломки, немного сенца. Пускай отойдут, обвыкнутся.
Поехали от скотных дворов и хутора по заснеженной степи. После недавней метели на обочинах громоздились снежные увалы. По дороге мело. Даже в тепле машины чуялась стылость январского ветреного дня. Хохлатые жаворонки, что искали поживу по краям асфальта, распушили перья, спасаясь от стужи.
Белое солнце порою проглядывало оловянным слепым зраком. Белое поле стлалось и стлалось, туманясь белесо у близкого горизонта. Навстречу машине бежала и бежала поземка дымными змеистыми струями.
Катерина глядела на брата, сердцем, душой вдруг почуяв близкое расставание. Вот сейчас кончится дорога. А там — станция рядом. И все. Когда и где теперь встретятся? Недавняя размолвка казалась такой обидной. Горько было сознавать, что пустая ссора отняла часы и минуты, о которых столько мечталось. И потому Катерина, повернувшись, глядела и глядела на брата. Он тоже порой поворачивался от руля, от дороги, спрашивал с улыбкой:
— Чего?..
— Ничего,— кротко отвечала Катерина.— Просто на братушку своего гляжу.
Серый денек…
Белый летит снежо-ок…—
негромко запел Корытин, глядя вперед и вперед.
Серый денек,
Белый летит снежо-ок…
Сердце мое…
За машинным стеклом все было именно так: не больно взрачный зимний день, солнца не видно, лишь порою белый диск обозначится — и все. И редкий снежок. Под ветром, наискось, летел и летел.
Сердце мое…
Корытин мурлыкал, Катерина слушала и глядела на брата, порою переводя взгляд на дымную от поземки дорогу, на белый простор впереди и вокруг. Так и ехали.
И наконец открылось с бугра селенье, куда въезжать не стали, свернув к скотьим дворам: возле них чернели на снегу три колхозных «КамАЗа», с которыми начинали путь.
Подъехали. Встали.
— Полчасика — и на станцию…— пообещал Корытин.— Хочешь, выйди, промнись.
— Конечно,— легко согласилась Катерина, открывая дверцу машины.
Она выбралась из кабины и встала, ошеломленная.
Рядом, откинув на землю задние борты-трапы, стояли «КамАЗы». Возле них кучей теснились страшные, на коров не похожие скотиняки: рога, череп, проваленные глаза, грязная, в сосулях, шерсть, острые хребты, ребра, маклаки — все наружу, лишь кожей обтянутое. Коровы сами лезли на трап, по которому подняться у них сил не хватало, и они падали и ревели, вытягивая тощие шеи, видя и чуя совсем рядом пахучую солому, настланную в кузовах. Люди поднимали коров, пропуская под брюхо брезентовые ремни, волокли в кузов, укладывая на подстил. Коровы тут же начинали яростно грызть сухие будылья соломы. А те, что еще оставались внизу, на земле, истошно и тонко мычали, лезли и падали, пытались подняться и не могли. И тогда принимались реветь, задирая голову, словно предсмертно. Висел над базами, сливаясь и впереклик, неумолчный вопль.
Катерина стояла, не смея ли, боясь ли сдвинуться с места. Она глядела не веря. Зажмурилась и снова открыла глаза.
Белый день до боли ясно высвечивал все ту же картину: кирпичные коровники, черные проемы дверей, ископыченный баз, по которому там и здесь валялись рогатые коровьи головы, ноги, шкуры, припорошенные снегом; в дверях же, в проеме,— гора коченелых телячьих трупов, на ней — большие серые крысы, с писком ныряющие в проеденное скотье нутро.
Мужик в крытом большом полушубке, заметив Катеринин испуг ли, ужас, набился с разговорами, охотно сообщив:
— Лисапеты… Наши лисапеты… Я их так называю.
И впрямь: рога да костлявый остов — похоже на велосипед.
— Как же это…— выдавила из себя Катерина.— Колхоз… такое…
— Колхоза нет,— внушительно объяснил мужик.— Акционеры. Закрытого типа. Чтоб никто не влез. Да наши еще живые,— успокоил он Катерину и даже похвалился: — Через раз, но дышат. У Корытина откормятся, еще и молоко, глядишь, будут давать. А в «Комсомольце» гурт навовсе поморозили. Стояли как статуи. Поезжай погляди. Изо льда ноги досе торчат. Как топорами рубили…
Он что-то еще говорил о колхозе, о жизни, Катерина же слышала лишь скотины недужный рев и крысиный писк. Ей сделалось нехорошо. Она залезла в машину, затворила дверь и сидела опустив голову.
Мужик пошел с докладом к Корытину. Тот заспешил к сестре:
— Чего с тобой?
Катерина подняла голову, проговорила:
— Глядеть не могу…
Корытин понял, сказал со вздохом:
— Без привычки… Конечно. Прости. Сейчас поедем.
И потом, в машине, когда отъехали от коровника и скотины — от всей этой беды,— Корытин увещевал сестру:
— Чего переживаешь?.. Везде нынче так. Развал. А то не видишь. А у вас разве лучше? Свою работу возьми…
— Не в привычку…— оправдывалась Катерина.— А эти коровы, они у тебя выживут? Они не подохнут? Ты их зачем берешь?
— По дешевке купил,— ответил Корытин.— Кормов хватает, место есть. Перезимуют, мяса наростят, продадим. Вот и барыш…— улыбнулся он.— А как же… Такая нынче жизнь.
На станцию приехали вовремя. Спокойно разместили вещи в купе и вышли из вагона. Стали прощаться.
Катерина плакала, обнимая брата и целуя его холодное лицо. Обнимала — и не могла разнять рук. И снова целовала.
На вокзале все можно. Здесь встречаются люди после долгой и долгой разлуки: прощаются, расставаясь порой тоже надолго, а порой — навсегда.
Потом, в поезде, у вагонного окна, Катерина глядела и глядела на волю. Кончился поселок, дома его, открылась белая степь. Чернели голые деревья вдоль полотна дороги, туманился горизонт белой мглой. И вспомнились слова песенки: «Серый денек… Белый летит снежок… Сердце мое…» А вот дальше Катерина не могла вспомнить. «Сердце мое…»
Мама… Мамочка умерла молодой, от сердца. Брат так похож на нее лицом и характером. Весь в маму. Не дай, не дай бог…
Серый денек,
Белый летит снежок.
Сердце мое…
Она заплакала, прислонясь к окну, и шептала: «Зачем, зачем ты туда вернулся, братушка…»
1999 год
«Новый Мир», №4
Житейские истории
Про чужбину
В конце декабря объявился на хуторе Вася Колун. Он всегда старался подгадать к празднику: Рождество ли, масленица, Пасха, Троица, когда сам Бог велит погулять. Околачивался Вася в последние годы в райцентре да в городе: шоферил, чем-то торговал (не от себя, конечно), машины ремонтировал. Словом, на все руки. Как, впрочем, и многие нынче. Колхозам — конец. В городах заводы стоят. Вот люди и применяются. Тем более молодые.
А Васе Колуну — лет тридцать. Разведенный. Сам себе голова. Где-то мыкается; порой к матери приезжает. Поживет — и снова нет его. Бывает и при деньгах, шикует. А чаще материнский загашник проверяет да отъедается на деревенских харчах.
Нынче Вася под Новый год подгадал. Как раз приморозило, снег выпал. Он и объявился. Приодет: новая зеленая куртка-пуховик, такая же шапка с козырьком и наушниками, высокие ботинки со шнурками. А морда, словно у кота, круглая. Сразу видно: не голодал.
Автобус из райцентра останавливался возле бригадной мастерской и гаража. Там вечно люди толклись. Васю Колуна сразу углядели. Да он и сам подошел, поздоровался с земляками.
— Откуда, Васек?— спросили его.— Морду наел. Либо с курортов?
— Из тюрьмы.
Шутку поняли.
— Подскажи адрес. Мы тоже туда. Всем кагалом.
— Кагалом не советую. Получится групповая,— предупредил Вася, но адрес дал: — Шварценпумпе.
— Это где ж такое?— опешили.
— Федеративная Республика Германия.
Народ смолк. Вроде шутит мужик. Но вид не шутейный. Из сумки поллитру достает. Значит, с прибытием, как положено.
Разлили. Выпили. Кое-что прояснилось. Оказывается, наняли Василия какие-то чечены ли, грузины перегонять машины из Германии к нам. На самолете — туда. Там дают машину. Гони. В Белоруссии забирают. Три штуки он пригнал. На четвертой немцы тормознули на границе. В компьютере его имя. Плати штраф, триста марок. За что, не понял. Да и денег нет. Дали два месяца тюрьмы. Отсидел в этом самом Шварценпумпе.
Это — прояснилось. Поверили в тюрьму. Дело житейское. На ком греха нет! Кое-кто сутки сидел, а кое-кто и побольше. Тут у себя никому ничего не докажешь, а там — и вовсе. Тем более с чеченами связался.
Словом, поверили. И в Германию, и в тюрьму. Но вот дальше Колун такое понес, что пришлось его останавливать.
— Телевизор,— говорит,— в камере. Цветной, одиннадцать программ показывает. Гляди хоть круглые сутки. Камеры на двоих, на троих. В каждой — туалет, душ с горячей водой.
— Хорош,— сказали ему.— Вася, ты поплыл. Иди к маме и отсыпайся.
Брехунов в округе хватало. Но не таких. Тем более когда о тюрьме поет. Чего-чего, а про тюрьму на хуторе знали не понаслышке. Костя Шамин три года отсидел за родную тещу. Иван Быков, как говорили, за любовь к сложной бытовой технике. Три холодильника из Дома быта упер, в райцентре. Николай Мазаев отсидел восемь лет. «За дело»,— коротко отвечал он любопытным.
Так что про тюрьму, про зону, про тамошние порядки кое-что знали. И конечно, лапшу на уши вешать не позволили.
Цветной телевизор… На двоих камера… Горячая вода, туалет…
Как говорится, брехать бреши, но знай меру. Хутор, конечно, хутором, но не такие уж тут дуболомы живут. Кое-что понимают.
Словом, направили Васю домой. Проспись, парень, а потом приходи. Гостям всегда рады, особенно если с бутылкой.
Прогнать-то человека прогнали, и он ушел. Нормально. И не качался. Значит, не больно пьяный. И после его ухода появились кое-какие сомненья:
— Все же — заграница… Капитализм… Придуряются. По телевизору глянешь…
— По телевизору чего хочешь можно показать. Пропаганда! Они ведь ныне нас туда агитируют. В свою веру. Вот и стараются!
— Карахтинцев из Вихляевки ездил с женой, к ее родне, в Германию. Тоже рассказывают…
И тут неожиданно взорвался Николай Мазаев.
— Все это — лажа, тухта!— кричал он.— Фуфляк! Полощет мозги! Простыночки! Телевизор! Я от и до прошел, от звонка до звонка. И пересылку, и «крытку», и зону! Всего навидался, нанюхался, накушался! Парк культуры и отдыха! Да там гнобят хуже нашего. Потому что там — порядок, а не кильдим. Там все полицейские — амбалы, рост не ниже ста восьмидесяти. Будут они с тобой цацкаться. Там — дисциплина!
Обычно мужик неговорливый, Николай аж трясся — видно, задело его. Еле успокоился, напоследок твердо сказав:
— После работы идем к Васе. Пусть попоет, салажонок. И я его расколю. Отцом-матерью клянусь, я его выведу на чистую воду.
С того дня и пошло и поехало. На хуторе — разговоры лишь про тюрьму немецкую. А Николая Мазаева пришлось потом в больницу везти. У него язва открылась. Видно, от нервов.
Всю неделю Васю Колуна по хутору из дома в дом таскали. Всем интересно послушать, хоть и не верилось, потому что похоже на сказку.
— Камеры есть на двоих, на одного, на четверых. Мы жили двое. Туалет, умывальник, душевая, горячая вода круглые сутки…
— Вот дают! А у нас баню закрыли, и, видать, насовсем.
— Правда, туалет и душ — совмещенные.
— Это как? На всех вместе, в коридоре?
— В каждой камере. Но унитаз и душ в одной комнате. И в каждой камере — цветной телевизор. Одиннадцать программ показывает.
— Сколько?!
— Одиннадцать.
— Обнаглели…— вздыхал кто-то.— Тюрьма называется.
— Хочешь — мультики смотри. Отдельная программа. Хочешь — футбол, хоккей, другой спорт. И детективы, там все понятно: бух-бах! Хоть круглые сутки гляди, не запрещается. Так же в каждой камере — холодильник.
— А чего там холодить?— интересовались.
— Как чего… В магазине чего купил. Магазин каждый день работает. И выбор не то что в сельпо. Чего нет, заказываешь, назавтра привезут как штык.
Для этих бесед, для расспросов — в том ли, другом доме — обычно устраивались на кухне. Бутылка-другая на столе, закуска: квашеная капуста, соленые огурцы да помидоры, холодец, сало. Выпьют и слушают. А курить мужики выходили на волю. Иначе надымят — крыша поднимется.
— Днем все камеры — настежь. Ходи гуляй по этому, по другим этажам. Хочешь, иди в спортзал, тренируйся. Там — оборудование: штанги, гантели, тренажеры. Дорожка такая, как транспортер. Бежишь, бежишь, а все вроде на месте. Велосипеды. Теннис настольный. Не хочешь спорт, иди в библиотеку. Книжки — на всех языках. И на русском есть, я брал.
— А вас там много ли русских-то было?
— Один я. С Украины — полно, с Румынии, поляков много, чеченов, азербайджанцев. А из России — я один.
Вася сидел у стола — за почетного гостя: круглолицый, спокойный. Понемногу выпивал. Закусывал холодцом и говорил:
— Вот холодца там нет. Чего нет, того нет. А остальной жратвы — от пуза. Утром обязательно йогурт.
— Чего-чего?..
— Йогурт. Вроде кислое молоко, но сладкое, с фруктовыми добавками.
— Ох и брешет…— негромко, но явственно сквозь зубы цедил Николай Мазаев. Он по всем хатам за Васей Колуном таскался, пытаясь разоблачить.
— На завтрак — йогурт,— спокойно продолжал Вася.— Колбаса, сыр, кофе, само собой, хлеб.
— У-ух и брешет…— шептал Мазаев.
Вслух говорить он уже не решался, боялся, что прогонят, как в первый вечер, когда он устроил скандал. Вывели его тогда мужики и домой отправили.
— Все это — без нормы, от пуза. В обед — густой такой суп дают, суп-пюре. Гороховый, овощной, вроде нашего борща. Потом — мясное с гарниром и фрукты.
— А шампанского не было?— не выдерживал Мазаев.
— Танцы были. Несколько раз. Под оркестр. Мужиков и баб вместе выпускали. Танцевали. И тогда давали вино и пиво.
— Ну ты же брешешь?! Какие еще в тюрьме танцы!!— не мог сдержаться Мазаев.
— Николай!— предупреждали его.— Иди покури.
Мазаев послушно выходил. И уже там, в коридоре ли, во дворе, кому-нибудь из мужиков доказывал яростно:
— Ведь явно он брешет! Я — лично, от звонка до звонка… И в показные лагеря попадал, есть такие, туда иностранцев возят. Но там… Не дом отдыха! И не детский сад! Та же пайка! Он брешет!
Худой, морщинистый, Николай кидался то к одному, то к другому. Глаза его аж горели.
— Ну и пусть брешет,— успокаивали его.— А может, и правда. Капитализм…
— Там — еще хуже нашего! Там — полиция! Все — амбалы!! Брешет он…
А вот другие верили. И удивлялись. Особенно бабы. Да и как не удивишься!
— Если не работаешь, то все равно дают пятьдесят марок в месяц на карманные расходы. Хватает… А если работаешь, то триста марок — это самая маленькая зарплата, меньше не бывает. Это когда ходишь двор убирать. Работают в саду, в теплице, у кроликов, в прачечной, в мастерских. И пятьсот, и семьсот марок можно получить.
— А если по-нашему — это сколь?
— Ну, считай… Марка — это десять или двенадцать рублей. А сейчас и больше. Пятьсот — значит, более пяти тысяч, шесть ли, семь.
— Новыми?
— Ну а какими же?
— Шесть миллионов старыми?
— Да.
— За месяц?
— Конечно.
— Да за такие деньги двух дойных коров можно купить!
— Быка два года кормишь, а за него и полторы не дадут.
Поднимается шум и крик. Потому что такие деньги… Каких не видали. По двести, по триста рублей получка, да и та — лишь в уме: пишут в конторе ведомости, а денег какой уже год не дают.
— Брешет, гад!— теряя голос, сипел Николай Мазаев.— Я за уборку, за полтора месяца… С комбайна не слезал… День и ночь… Полторы… И тех не дали… Брешет!— И, не выдерживая, выскакивал на улицу, на мороз, чтобы остудить голову.
Вася Колун спокойно этот гвалт пережидал. Не торопясь выпивал стаканчик, закусывал холодцом, окисляя его помидорным рассолом, хвалил:
— А вот холодца там нет. Чего нет, того нет.
Когда народ успокаивался, плыли дальше:
— Мыло, шампунь, зубные щетки, паста, бритвы и прочее — все это бесплатно дают. В ихней одежде ходишь. Белье меняют, постельное, нижнее, полотенца хоть каждый день. По коридору ездит телега, шумят: «Кому в стирку!» Кидаешь туда грязное, а чистое выдают.
— Это — жизнь…— завидовал кто-то.— Курорты. Попасть бы туда…
— Пожалуйста,— сообщил Вася.— Поезжай в Берлин, там станция ЦО, прямо в городе. Обойдешь станцию, там — контора. Дают адреса бесплатных ночлежек. И там народ ушлый, объяснят, как попасть.
— А чего, надо податься!
Так и проходил вечер: Вася рассказывал, его слушали. Кто верил, а кто сомневался. Порою шумно спорили, прикладывая к своей жизни. Николай Мазаев обычно до конца не выдерживал, уходил, бросив напоследок: «Брешет Колун!» Но назавтра — как штык!— он снова прибывал Васины байки слушать. Теперь уже в другом доме.
Зима. Вечера долгие. Бабы платки вяжут. А послушать интересно. Чужая жизнь. Тем более не телевизор, а живой человек.
Бутылку-другую на стол. Соленья, холодец, домашнее сало. Вася Колун — на почетном месте. И пошло-поехало:
— В камере — холодильник, цветной телевизор, шкафы для одежды, тумбочки, стол…
Сегодня в одном доме эта песня, завтра в другой зовут.
Васю Колуна дома ругала мать:
— Не ходил бы по людям, не позорился. Весь хутор гутарит…
— Чего?— не понимал ее Вася.
— Ославят… А ты еще молодой, тебе жить. А об тебе все… Доездился. Сроду в нашей родне никого не судили.
— А-а…— отмахивался Вася.
Мать ничего не понимала, и втолковывать ей было бесполезно.
Вася, как всегда, пожил на хуторе пару недель, дождался, когда мать пенсию получит, и уехал. Видели, как он к автобусу шел: в зеленой теплой куртке и кепке с ушами, высокие ботинки — все ненашенское.
Он уехал, понемногу стали забывать и о нем, и о тюрьме немецкой. Жизнь нынче непростая: в колхозе все валится, зарплаты нет, запчастей, горючего для техники купить не на что. А ремонтировать трактора все равно надо. Весна придет, никуда не денется. Сеять надо, да еще сколько с осени непаханого осталось.
Бригадир с утра ездил в контору, оттуда приезжал злой, кричал:
— Чего ждете?! Делайте своими силами!!
— Как делать?! Ты видишь или нет?!.
Начиналась ругня. Потом бригадир говорил со вздохом:
— Либо нам кинуть все, забрать семьи и уехать… в эту, где Колун сидел… С теплым унитазом. У кого адрес? А? Он же говорил. Кто записал?
Оказывается, никто не записал.
— Ну, тогда вперед и с песней. Слезы нам никто не утрет. И кормить нас никто не будет. И нечего ждать. Время ждать не указывает.
Время и впрямь понемногу тянуло к весне. Январю, считай, конец. Февраль остался. Надо успеть. Потом как пойдет одно за другим: бороновать, сеять, пахать… И пошло-поехало. До белых мух.
Стоял конец января. Мороз. Снегу навалило. А днем солнце пригреет — и кое-где начинает с крыш капать, сосульки растут: кап-кап… Кап-кап… Ясно так. Синицы порой пробуют голос: дзень-дзень! А ребятишки из школы выйдут, на весь хутор детские голоса звенят. Это — знак. Дело к весне.
Сирота
В конце зимы пришла из поселка весть: умерла наша соседка — старая тетка Фрося.
Человек грешный, не больно я ее жаловал, хотя прожили рядом век. Во-первых, детская память, она ведь крепче взрослой. Время послевоенное. Соседки — сплошь горькие вдовы: тетка Поля да тетка Таня, тетка Паня. У всех — трудные заботы. А мы, детвора, мыкаемся туда да сюда. Но сроду со дворов не гнали. Еще и угостят сладкой морковкой, пареной тыквой, хрусткой репкою, а то и пышкой, чаще — картофельной ли, свекольной. «Покушай, мой сынок…»
Тетка Фрося жила много лучше других. Но к ней во двор попросту не заглянешь. Она будто и не ругливая, но спросит: «Чего тебе?» Сразу чуешь: лучше обойти этот двор.
И напогляд была она бабой суровой: мужиковатая стать, траченное оспой лицо, большими ногами ступала по земле крепко, враскачку. Как говорится, умела жить. Какие-то люди к ней приезжали, сама часто отлучалась, колеся по своей округе да чужим краям. Торговое ремесло в те годы было прибыльным, но опасным. Оно, что называется, каралось. Но тетка Фрося водила дружбу с женой начальника НКВД, и милиция ей была не страшна.
В те трудные годы она не голодала, как все. Носила не серый ватник, не юбки из крашеной мешковины, а настоящие платья, даже крепдешиновые, и пальто с каракулевым воротником.
И мужика себе нашла, прикормила его, оставаясь, конечно, во дворе и доме полноправной хозяйкой. Слово ее — закон.
Мелькнул было какой-то племянник-сирота. Но тетка Фрося, недолго помыслив, постановила: «Будет шалаться вечерами, по гулянкам шлындать, а ты жди его…» И сирота-племянник пропал.
Объявилась ненадолго свекровь-старуха. «Гордится сынами… Степан, Кузьма, Микита, Миколай, Тимофей…— передразнивала ее тетка Фрося и от себя добавляла: — Нарожала нищебродов». Старуха исчезла.
Мужа своего соседка держала в ежовых рукавицах, погоняя «дураком» да «пьяницей». Хотя он вовсе не был ни тем ни другим.
По молодости он был красив. На старых фотокарточках — лихой моряк. Работал всю жизнь механиком. Выпивал весьма умеренно. С получки — двести грамм да кружку-другую пива. Конечно, под хмельком приходил. Но разве это пьянство? Это сейчас мужики пьют будто перед Страшным судом. А тогда — редко и в меру.
Так они и жили. Тетка Фрося — всему голова и ум: «Денежка, она завсегда… С деньгами ты — человек… За деньги я чего хошь…»
Потом даже оказалось, что в доме прописана лишь тетка Фрося, потому что супруг ее «дурак и пьяница, а я все своими руками, это все — мое. А он нехай идет куда хочет…».
А мне нравился тетки Фроси мужик. Когда он постарел, мы с ним порою беседовали. О житье-бытье, о делах огородных, садовых, о рыбалке, конечно.
Высокий, костистый, вовсе беззубый, со впалыми щеками, бедовал он в летней кухнешке, но никогда не жаловался. Рассказывал про мышь, которая приходит к его завтраку и не боится. Про умных пауков, какие сети плетут не ошибаясь. Про диких древесных пчел, которые поселились в наличнике дверей, изрешетив его словно соты. Он их не трогал. Садился рядом и глядел на непонятную чужую жизнь. «Тоже ведь все свое…— мне растолковывал.— Порядок. Одни — сторожат, другие — мусор тянут, третьи — харчи несут. Премудрые…»
Мне нравилось это наивное удивление чужой непонятной жизнью. Я сам такой.
Зимою сосед мой рыбачил со льда: жерлицами — на щук, мормышкой — на окуня, «пулькой» — на судака. Летом — огород. Он — большой. Много земли. Тетка Фрося в свое время отхватывала у соседей, там и здесь. Даже в суд подавала за эти клочки.
Так что огород просторный. Хватало соседу работы. С ранней весны до снега.
Когда он постарел и стал силу терять, к прежним «дураку» да «пьянице» прибавилось «лодырь» да «обжирала».
Оставив жену в просторном доме, сосед удалился на жительство в летнюю кухню. Там — печка, кровать да стол.
А потом началось вовсе горькое. Сосед стал терять память. Как-то приехал я зимой, зашел в кухню, где жил старик, а там — тетка Фрося. Сидит возле печки, растапливая ее, объясняет мне:
— Говорит, забыл, как надо печку топить. Как дитё… Вот топлю ему.
Я поглядел на растерянного соседа, на тетку Фросю, послушал ее, погоревал и немного порадовался. Ведь недолюбливал я ее. А теперь увидел, что она все понимает. Это — мудрость на склоне лет. Плохо ли, хорошо, но рядом полвека прожили. Теперь дотянут помаленьку, помогая друг дружке.
Так я думал.
Но уже через неделю тетка Фрося отправила своего немощного супруга в дурдом. «Сама — больная, за мной бы кто глядел…» — постановила она с прежней твердостью. Там старик прожил недолго. Схоронили.
Теперь вот и она померла. Господи, упокой…
Но умирала тоже непросто. Страдала, кроме прочих болезней, повышенным кровяным давлением. Глотала таблетки. Нынешней зимой случился инсульт. Отнялась правая сторона тела: рука и нога. Шевельнуть не может. Плашмя лежит, но головой соображает и языком ворочает.
Ухаживали за ней наследники: племянник мужа с женой. Воды поднести, лекарство подать, покормить и прочее.
Уже на другой ли, третий день, помыслив, тетка Фрося спросила:
— А если я есть не буду, то сколь проживу?
Ей что-то ответили, успокаивая, но она гнула свое:
— А если я и воду не буду пить?
В ответ опять уговоры да успокоенья.
И тогда, как всегда, слушая лишь себя, тетка Фрося постановила:
— Не буду ни есть, ни пить. Не троньте меня.
Она закрыла глаза и больше уже не открывала их, не отзываясь и отвергая всякую помогу.
Неделю она вроде все слышала, чуяла, но молчала, не открывая глаз и плотнее сжимая пересохшие губы, когда пытались ее хотя бы попоить. Потом впала в забытье до самой кончины.
Нынче — весна. Птицы с юга летят. Вот-вот и мы тронемся от городского нашего жилья на летованье, в поселок. Там — первая зелень, тишина, покой.
И снова о тетке Фросе.
Последнее лето, оставшись вовсе одна, она вдруг вечерами приладилась песни петь.
Солнце сядет, отступает жара. Тетка Фрося выбирается из дома на крылечко. Посидит, повздыхает, потом начнет:
Я по батеньке плачу.
Ой да плачу-горюю…
Поет она, конечно, лишь для себя. То — громче, то — тише. Порою вовсе слов не разобрать. Но зачем слова? Это — не песни, это — жизнь, далекие дни ее. Такие далекие, что уже и не разглядеть.
Тетка Фрося на рассказы о жизни своей была скупа. Что-то если и скажет, то ненароком. Знаю, что росла она без отца на хуторе Ерик.
Ой да плачу-горюю…
Я по родной сторонке грущу…
Революция, белые, красные… Долго на Дону полыхало. Пока не выгорело. Где-то там затерялся, пропал родной батенька.
О себе тетка Фрося говорила скупо. И то лишь под конец жизни. Что-нибудь вспомнит, скажет слово-другое:
— Жили в коммуне… Кулеш в бригаде давали. По два черпака. Юшка… Пашанина за пашаниной гоняет с дубиной. Через край пьешь. Мамушка меня жалела, свое отдавала…
Я по мамушке плачу,
Я по родной горюю…
Ой да плачу-горюю…
По родной своей.
А потом и мать куда-то исчезла. Кажется, в тюрьму посадили. Тяжкие были времена.
Ой да плачу-горюю…
Я по родной сторонке грущу.
Летние вечера долги. Светлые сумерки. По двору топает ежик, шуршит, что-то ищет, потом хрумкает — значит, нашел поживу. Кошка трется о ноги, мурлычет, прощается перед сном. Тишина.
В соседском дворе, на крылечке, старая женщина негромко поет о жизни своей:
Я помню тот вечер холодный,
Когда ты на фронт уходил.
В шинели солдатской,
в фуражке военной
Меня ты домой проводил.
Это — про войну. Тетка Фрося в войну кашеварила у военных. В наших же краях, вот здесь. Кашеварила, таскала еду прямо в окопы.
И естественно — дело-то молодое, житейское — конечно, была любовь. Лет ей сколько было? Сейчас — восемьдесят три. Значит, тогда — двадцать шесть. Не молоденькая. Из себя незавидная, на лицо — рябая. Но кто-то голубил. Теперь все иное забылось: страх, кровь, окопная грязь,— все ушло, осталась лишь память любви. Кто он был — лихой старшина или вовсе молоденький, с тонкой шеей солдатик? А может, и тот, и другой…
К тебе я вернусь, дорогая подруга,
И нежно тебя обниму.
Нет, не слезы в ее голосе, а лишь светлая память. Хотя и не вернулся, и не обнял. И надо было жить дальше.
Вот и жила. Теперь померла. Хотя могла бы, наверное, и протянуть еще. Не захотела. Серьезная баба.
Человек грешный, я ее недолюбливал. Было за что.
Но буду помнить последнее лето. Вечера. Тихие песни.
Ой да зародилася на свет
Сиротина горькия…
Наверное, так и есть.
На льду
Городское зимнее утро. Обычная прогулка, чтобы продышаться да сон разогнать. Берег Волги. Январский крепкий мороз. На том берегу поднимается в тумане багровое солнце.
Ледяной панцирь реки изломан. Медленно плывущие ледяные поля, прибеленные снегом, там и здесь секутся широкими трещинами, разводьями, просторными майнами. Пассажирские теплоходы да их помощники ледоколы прокладывают путь от берега к берегу.
Льдины с хрустом ломаются, наползают одна на другую, скрежещут и тянутся вниз по теченью. Багровые, розовые, желтые морозные дымы курят над зябкой водой. Утреннее солнце с трудом пробивает холодный туман.
Уже месяц стоят холода, и пора, давно уж пора могучей реке застыть, а потом еще снегом укрыться и дремать до весны, в покое. Но не дают. Недалеко, вверх по течению, гидростанция. У нее зимы не бывает. А здесь еще — переправа. Ломают лед и ломают.
Январское утро. Над рекой — ледовый скрежет и треск, морозные дымы. Нет покоя реке даже в зимней стылости.
И сразу вспоминается родина. Дон, озера: Нижнее, Бугаково да Назмище. Там сейчас покой. Лед лежит толстый, а сверху — снег. Где берег, где вода — не поймешь.
Во взрослой поре чем нас, добрых людей, порадуешь, чем удивишь? А вот мальчишками с таким нетерпеньем ждали мы первых морозов, льда. И не потому что — рыбалка, коньки. Просто ждали первого льда. Это ведь — радость.
Вначале застывают малые озерца: Кондол, Гусиное, Мужичье. С вечера проясняет. На закате свет солнца режуще желт. Чуется стылость. Ночью — звезды. Земля задубеет. Хорошо, когда погода ясная, тихая, мороз — без снега. Тогда лед ложится зеркалом. Кинешь камешек — он скачет, подпрыгивая, а лед звенит, поет. И чем дальше камешек убегает, звон тоньше, хрустальней.
На берегу — ребятишек ватага. Чей дальше камешек убежит, прозвенит? А кто-нибудь сдуру бухнет булыгу, она — бурк! И нету. Пробила молодой ледок.
День-другой миновал, лед крепнет. Звук становится глуше. И вот уже можно ногой пробовать первый лед. Осторожно прокатиться возле берега. Потрескивает, гнется, но держит. На то он и первый лед. Смелые, вперед! Сколько радости…
И не только в детстве. Нынче, когда морозы встали, я глядел-глядел — и не выдержал, поехал. Надо на первый лед взглянуть. Завел машину и покатил. Восемьдесят верст — не дорога.
В поселок и заезжать не стал, а прямиком на Нижнее озеро, к гирлу его, к протоке, что выходит к Дону. Добрался, вышел на берег, вижу: к самому сроку попал. Дон стоит. Посередке — шершавый лед, от шуги; к берегам — гладкий. А озеро — словно зеркало: ни морщинки. Светит, переливаясь зеленым стеклом, от берега к берегу. И там, на озерном молодом льду, уже сети ставят, «зарубаются», как рыбаки говорят. Значит, можно смело идти, не опасаясь.
И пошел. По берегу — полоса мутной белесой наледи. Это днями раньше волной ледяные забереги набивало. Потом они смерзлись. Но это лишь край, кайма. А дальше покатил по прозрачно-зеленоватой чистейшей глади. Он тонок, молодой лед; шагаешь ли, катишь по нему — он потрескивает, звенит, но не здесь рядом, а дальше, у берегов, отзываясь на твой шаг и вес.
Ясный день, белое искристое солнце, чистое голубое небо, морозец. По берегам озера щеткой стоит сухой чакан-камыш, выше — старые обомшелые вербы, белесой коры осокори, черные дубы. Все в покое. Птицы убрались на юг да к жилью человечьему. Будто нет ничего: пустой займищный лес, прибеленная снегом земля, солнце, небо, молодой лед… Но так хорошо, так славно — на душе ли, на сердце.
Зеленое, в два пальца всего, ледяное стекло. Под ним — темная глубь и глубь, шесть ли, семь метров. Здесь — родники. Сияющий гладкий лед насколько хватает глаз, по всему окружью, украшен узорчатыми снежными цветами. Словно одуванчики разметал по льду тихий вей. Приглядишься — и вправду волшебный цветок: стрельчатые кристаллы, иглы, веточки. Жарко дыхни — нет его.
Это — ночная изморозь. Тонкий лед еще не в силах сдержать дыханья воды; оно пробивается там и здесь тончайшими струйками, превращаясь на морозе в иней, куржак. И получается волшебный цветок, который во тьме ночной помаленьку рос да рос. Теперь вот открылся. Ветер подует — сметет его. Но нынче — тишь.
Ложусь на лед и гляжу. Хрупкие кристаллы, узорное кружево, словно в детстве на окошке разглядываешь морозный узор.
А лед прозрачен и гладок. Ясно вижу себя, словно в зеркале. Приглядевшись, замечаю, как подо льдом вода течет, струится, какие-то пылинки ли, пузырьки ли воздуха движутся по теченью, порою золотисто вспыхивая под солнцем. Если долго смотреть, то, кажется, видишь, как по нижней кромке нарастает лед. Мороз — градусов двадцать. День-другой — и окрепнет ледок. А сейчас прогибается и трещит. Но держит.
Поодаль один из рыбаков спешит вдоль пробитых лунок с веревочным урезом через плечо, он бежит, а озерный лед звенит в такт шагам его.
Первые рыбаки. Вдвоем сети ставят. Другие пока соберутся, а эти уже с уловом. Местечко тут неплохое, у гирла, у выхода из озера в Дон. Тут — щука и лещ, судак, жерех попадается, крупный окунь да нахальная рыба «гибрид» ли, «душман», слепленная и разведенная ученым народом. Настырный этот «душман», говорят, рыбью икру жрет. И потому с каждым годом его все больше, чего о другой рыбе, привычной, донской, увы, не скажешь.
На молодом тонком прозрачном льду хорошо лежать, разглядывая таинственную глубь, перебираясь потихоньку с места на место. Какая-то рыбка пройдет, сверкнув серебряной чешуей. Возле берега порою углядишь клешнястого рака. Мальва ходит, как и летом, стайками. То одна блеснет, то другая. Им кормиться, расти. И где-то здесь караулит их зубастая щука. В такую пору потрошишь щуку ли, окуня, в них мальвы — как в кошелке.
Большая рыба сейчас на ямах стоит. Сом да сазан. Сбились в глубокую яму — там теплей — и дремлют во тьме, сонно шевеля жабрами. Зимний покой…
Зимний покой и в мире земном. Легкий снег на придонских холмах и в займище. Желтый камыш по берегам, местами пробитый кабаньими тропами. Голые деревья. Ни ветра, ни птичьих голосов. Далекое небо ленивыми кругами меряет коршун-зимняк. И — все. Окрестные хутора далеко. Звуки людской жизни сюда не донесутся. И слава Богу.
Белое холодное солнце, просторные, скованные ледяным панцирем воды. Тишина.
Потихоньку побрел к рыбакам. Надо поздороваться да новости собрать. С осени не видались.
Пока к ним добрался, они уже третью сеть ставят, протаскивая веревочный урез подо льдом, от лунки к лунке, словно шнурок в ботинке. Продернут на всю длину, привяжут сеть за верхнюю обору — и под лед ее. Ловись, рыбка…
Начались обычные разговоры: кто, где да чего. Оказалось, что успел я вовремя. Вчера еще по Дону шла шуга. А ночью встала река.
В лунке я померил толщину льда. Угадал — два пальца. Даже не верится, что ходим и даже втроем стоим, а лед потрескивает, но держит. А ведь внизу — шесть ли, семь метров. Представишь эту темную холодную глубь и гибкую корочку льда, всего в два пальца,— жутковато становится. Но — дело привычное.
Зимний день, за полдень перевалив, быстро спешит к вечеру. Рыбаки мои сети поставили и убрались. А я через займище выбрался к Дону, потом вернулся на озеро. Лунки уже затянуло льдом. Потянул ветер. По берегу, по льду — желтый свет солнца. Оно уже склонилось к закату, вот-вот на холмы ляжет. От подножий деревьев по снегу тянутся долгие синие тени. От придонских круч до середины реки — вечерние сумерки.
Пора уезжать. Жалко… Так быстро день прошел. Но и — детская радость: к первому льду успел. Хоть и камешки не кидал…
Вспомнил, сыскал на берегу невеликий камень и запустил его через все озеро. Камень подпрыгивал, молодой лед звенел все тоньше и тоньше. И наконец смолк.
А в душе остался этот серебряный звон. Остался надолго, до следующего перволедья. Светлая память долга.
У теплого моря
Крым. Приморский поселок Коктебель — место известное. Справа высятся громады Карадага, Святой горы, слева — покатые холмы степного Крыма.
Осень. Середина сентября. Курортный сезон кончается. Море еще дышит теплом, ласково голубеет. Днем жарко светит солнце. Вечерами уже прохладно и по-южному быстро темнеет. Но люд отдыхающий под крышей сидеть не любит, и потому на набережной, на невеликом ее протяженье, которое издавна зовут «Пятачком», собирается народ праздный со всего поселка. Лениво прогуливаются, беседуют. По берегам этой нешумной людской реки, на гранитном парапете, на скамейках, возле зеленого плюща веранды, разложил и расставил свой товар народ торгующий. Продают всякое. Крымские сувениры из морских раковин; сушеных крабиков; браслеты, бусы, подсвечники из пахучей древесины крымского же можжевельника; всякого рода живопись: акварели, холсты, на которых конечно же крымские, коктебельские пейзажи: Карадаг, гора Хамелеон, скала Золотые ворота. Много изделий из коктебельского камня: сердолик, халцедон, опал, яшма, агат. Перстни, сережки, кулоны, броши, заколки. Сувенирная керамика: изящные амфоры, колокольчики, пепельницы, чаши. И даже какие-то «шмындрики» появились нынешней осенью. Прежде их не было. А нынче гляжу — написано «шмындрики». Стоят рядами забавные глиняные и раскрашенные люди не люди, звери не звери — словом, шмындрики.
Это не базар, а вернисаж, коктебельский Монмартр. Мастера, художники… Народ праздный гуляет, разглядывает, дивится, покупает на память.
Между тем темнеет. Но люди не расходятся. От моря веет теплом, доносится плеск волн. Хорошо гуляется. Насидимся еще дома зимой. Нынче — воля.
Здесь много знакомых лиц. Они — из года в год. Художник-пуантилист Игорь, волохатый и бородатый. Много лет он удивляет народ белым холстом начатой картины с двумя ли, тремя точками. Молодой красавец мулат, одиноко сидящий на парапете, отвернулся от людей к морю, словно вовсе не он раскрыл для продажи чемоданчик с брошами из камня. А Рюрика уже нет, умер. И знаменитый «Дом Рюрика», над обрывом, нынче сгорел, ушел к хозяину. Одни уходят, другие появляются.
Нынешней осенью появилась на коктебельском «Пятачке» старая женщина с букетиками сухих трав. Каждый вечер она устраивалась на краю «Пятачка» с товаром не больно казистым: сухая полынь да несколько простых цветочков, из тех, что растут вокруг. Что-то желтое да сиреневое.
— Повесите на стенку,— убеждает она редких любопытствующих.— Повесите, так хорошо пахнуть будут.
Но что-то не видел я, чтобы брали ее изделия. Рядом — перстни да серьги с сердоликом, броши из яшмы, пейзажи с морем, с луной. Привезешь домой — будет память. Всякий человек поймет: это — Крым. А что сухая полынь? Ее везде хватает.
Старая женщина в темном платочке, в потертом пальто одиноко сидит на краешке осеннего, но еще праздничного крымского вернисажа, порой объясняет:
— На стенку повесите… Так хорошо пахнет.
Осень. Быстро темнеет. Фонари теперь редки. Говорят, что платить за них нечем и некому. Пора разоренья. Сумерки «Пятачок» сужают. Первой с него исчезает старая женщина. Она еще не ушла, но как-то стушевалась, сливаясь с серым гранитом и темным асфальтом. Народ еще ходит да бродит, разглядывая сувениры, картины, подсвеченные фонариками. Старая женщина — во тьме, сгорбленная, возле невидимых уже пучков полыни. Потом она вовсе исчезает.
После моего приезда прошел день, другой, третий. Все было хорошо, все рядом: море и горы, дорога через пустынные холмы и низом, по самому берегу к Мертвой и Тихой бухтам, долгий подъем на вершину, откуда открывается просторный вид на многие километры — не только на море, но и в сторону гор, в долины. Там к вечеру рано густеют сиреневые сумерки. Когда-то ходил туда, через горы, к Старому Крыму. Теперь гляжу, вспоминаю лермонтовское: «Тихие долины полны свежей мглой… Подожди немного, отдохнешь и ты…» Нет, это — не о смерти стихи и раздумья. Это — лишь о покое.
Словом, и нынче хорошо в Крыму, в Коктебеле. Хотя времена иные, шумные. Вдоль набережной — сплошные магазины-скворечники с яркой пестрядью этикеток и оберток, кафе, шашлычные, закусочные. Сизый чад, орущая музыка до утра, по ночам порою грохот петард ли, выстрелов, повсюду — горы мусора, стаи бродячих собак. Но остались — море, небо, горы, степь; их молчание, ропот волн, шелест травы — словом, главное.
А вечерами — шумный «Пятачок» от затененной диким виноградом веранды до музея Волошина. Прогулки, разговоры, толкотня. Занятные безделушки на парапете и лотках. Что-то поглядишь, что-то купишь. Себе ли, родным и друзьям в подарок.
Все — славно. И лишь старая женщина с букетами полыни отчего-то тревожила меня. Она была так ни к месту и своим видом: потертое пальто, темный плат, старость,— и своими жалкими, никому не нужными букетами. Вечерами она, сгорбившись, одиноко сидела на скамейке на самом краю «Пятачка». Она была лишней на этом осеннем, но все же празднике на берегу моря.
Сразу же, на первый ли, второй день, я, конечно, купил у нее букетик полыни, выслушав: «Повесите на стенку… Так хорошо будет пахнуть». Купил, словно долг отдал. Но от этого не стало легче. Конечно же не от хорошей жизни прибрела она сюда. Сидит, потом тащится во тьме домой. Старая мать моя обычно, еще солнце не сядет, ложится в постель. Говорит, что устала. Ведь и в самом деле устала: такая долгая жизнь. И такой долгий летний день — для старого человека.
Старые люди… Сколько их ныне с протянутой рукой! И эта, на берегу теплого моря. Просить милостыню, видно, не хочет. Хотя подали бы ей много больше, чем выручит за свои жалкие сухие веточки и цветки. Но просить не хочет. Сидит…
Прошел день, другой, третий. Догорало крымское лето: солнечные дни, теплое море, голубое небо, последние розы, яркие клумбы оранжевых, желтых бархоток, разноцветных цинний, пахучих петуний, зелень деревьев. В Москве — слякотно, холодно и даже снег прошел, а здесь — лето. Днем — хорошо, вечером приятно погулять по набережной, постоять на причале возле рыбаков, ожидающих осеннего пришествия рыбы.
И всякий же вечер была старая женщина, одиноко сидящая возле букетов сухой полыни.
Но однажды, выйдя на набережную, увидел я, что возле старой женщины, на ее скамейке, сидит пара: бородатый мужчина — на краешке скамьи, на отлете, мирно покуривает, а супруга ли, подруга его живо беседует со старушкой. Сухой букетик — в руке, какие-то слова о пользе полыни и всяких других растений. А разговоры «о пользе» весьма притягательны.
Здесь же, неподалеку, почтенный человек который день бойко продает сушеные травы, коренья, четко обозначив каждое: «от головы», «от сердца», «от бессонницы», «от онкологии». Покупают вовсю.
Вот и возле старой женщины, у ее букетиков, заслышав что-то «о пользе», стали останавливаться. Дело — вечернее, день — на исходе, забот — никаких. Самое время побеседовать «о пользе». Беседуют и, гляжу, покупают. Дело-то — копеечное.
Поглядел я, порадовался, побрел потихоньку своей дорогой. А на душе как-то спокойнее стало. А то ведь — словно заноза.
Следующим вечером — та же картина: женщины беседуют, бородатый мужичок спокойно покуривает рядом. Слышу, старушку уже по имени-отчеству величают. Значит, познакомились. Это — вовсе хорошо.
Текли дни. Хоть и долгое, но все же кончалось крымское лето. Жалуются, что нынешний год оно было ненастным: в августе — сплошные дожди, холода. В сентябре потеплело. Но осень помаленьку уже бредет с севера. Вот и в Киеве непогода. Скоро сюда доберется. И потому каждый день — в радость: море, горы, тепло. Как не радоваться, ведь впереди — зима, еще назябнемся. Вот уедем…
В последние дни сентября резко похолодало. Прошел дождь, море денек поштормило, вода стала по-зимнему стылой. Народ разъезжался, набережная и весь поселок пустели на глазах. Кафе, ресторанчики закрывались. Стихала музыка. И мне пришла пора уезжать. Еще день-другой — и до свиданья.
Перед отъездом, в дни последние, все как-то остро чувствуешь, видишь. И хоть знаешь, что приезжал ненадолго и, наверное, не в последний раз, но все равно будто щемит на душе. Все же здесь хорошо: море, запах его, волны плещут, рядом — горы. Покой.
В один из последних вечеров видел я и старую женщину с сухими цветами, и ее новых друзей. Последние, видимо, уезжали. Мужчина что-то записывал на бумажке. Наверное, адрес.
На следующий день — гроза, ливень, потом моросило. И к вечеру словно все смыло: лето, людей отдыхающих, шумный «Пятачок» на набережной, коктебельский Монмартр. Вышел я вечером — никого. И старушки моей, конечно, нет.
Но тогда, в тот последний мой крымский вечер, и теперь, от Коктебеля вдали, я вспоминаю о старой женщине без горечи и печали. Нашлись люди добрые, посидели возле нее, поговорили. А что еще нужно старому человеку? Теперь она зимует и ждет весны. Как и все мы, грешные, ждем тепла, небесного ли, земного. Любое — в помощь.
Екимов Борис Петрович родился в 1938 году. Постоянный автор журнала. Лауреат Государственной премии 1998 года. Живет в Волгоградской области.
1999 год
«Новый Мир», №11
Десять лет спустя
Русский язык богатеет. Все на пользу ему, даже перемены в сельском хозяйстве. Когда-то Россию кормил просто мужик ли, крестьянин — позднее поделенный на «бедняка», «середняка», «кулака», «зажиточного». После революции появились «коммуны», ТОЗы, потом «колхозы», «совхозы», им помогали МТСы да РТСы. Стало привычным: «колхозные поля», «колхозный скот», «из семьи колхозника». После новых, относительно недавних перемен родились на свет мало кому понятные аббревиатуры СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив), АОЗТ, СППК, да еще «западом» попахивающий «фермер».
Нынче у нас объявились МУСПы (Муниципальное унитарное сельхозпредприятие): «Голубинское» (когда-то совхоз), «Калачевское», «Дон» и т.д. Коллективных хозяйств стало вдвое больше. МУСП «Дон» и СПК «Дон», МУСП «Варваровское» и СПК «Варваровский», МУСП «Нива» и колхоз «Нива»… На тех же землях, в тех же хуторах и селеньях. Зачем, почему?
Налицо новый шаг на пути преобразований. Не какой-нибудь, а в великую сажень. Без преувеличений — революционный.
Вспомним, как создавались колхозы: «Заявление. Прошу принять… Быков — 2 пары, лошади… плуг… борона… косилка…» Личное, свое, становилось общим, колхозным. Все это — с болью и с кровью. Кнутом, а то и штыком загоняли. Одним словом, коллективизация.
И вот теперь, полвека спустя, новые кипы заявлений: «Главе районной администрации… Прошу Вас принять мой имущественный пай в размере … в муниципальную собственность безвозмездно», «…в размере 9866 рублей», «…в размере 15.605 рублей». Есть бумажки, писанные от руки, есть «под машинку». Но подписи — личные, потому как документ «юридический»: Жалнин, Уланов, Сегеда, Силичев, Кравякин, Катайкин, Попадейкин…— корявые подписи, но разборчивые.
Объясняю для несведущих: «имущественный пай» колхозника — это личная часть из общего колхозного нажитка, состоящего из коров, свиней, тракторов, комбайнов, помещений молочно-товарной фермы, механизированного тока, гаража, амбаров полных и пустых. Засеянных осенью и теперь зеленеющих полей озимки и прочего, прочего, чем жили, чем ныне работают, чем кормятся. Повторю: часть, лично принадлежащая члену коллектива. За долгие годы нажитое. А теперь отдают безвозмездно в «муниципальную собственность», а попросту — государству. Все вместе и разом.
«В связи с выходом членов кооператива из СПК «Варваровское» прошу Вас принять в муниципальную собственность имущественные паи бывших членов СПК на сумму … и неделимый фонд на сумму …».
Далее следует перечень имущества, с которым добровольно расстаются бывшие колхозники, и совхозники, и члены АО, СПК, СППК: «тракторы… комбайны… плуги… автомобили… коровы…». В числе прочего: «Бык-производитель. Балансовая стоимость 2291 рубль». «Памятник Ленину. Балансовая и остаточная стоимости последнего одинаковы: 90.292 рубля. Уценке не подлежит».
Передали государству, пусть владеет.
«Решение Комитета по управлению государственным имуществом Калачевского района:
1. Создать на базе бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Варваровский» муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Варваровское».
2. Назначить директором МУСП «Варваровское» … (фамилия, имя, отчество)».
Далее.
«Комитет по управлению государственным имуществом и МУСП «Варваровское» заключили договор:
1. Комитет по управлению государственным имуществом закрепляет за предприятием движимое и недвижимое имущество на праве хозяйственного владения».
И на этом пока поставлена точка. Все движимое и недвижимое имущество, отданное государству «безвозмездно», государство тут же возвратило бывшему собственнику в «хозяйственное владение».
Что это? Досужие забавы? Из рук в руки… Туда, а потом сюда. А свинарник на том же месте остался, вместе со всем хрюкающим поголовьем. На том же месте гараж с автомобилями, коровник и, конечно, озимая пшеница, что понемногу растет.
Что изменилось? Во-первых, руководитель бывшего колхоза, позднее СПК, а ныне МУСП, не избран, а назначен государством. И государство, в лице районной администрации, может его уволить. Во-вторых, бывшие колхозники, позднее «акционеры» и «кооперативщики», теперь владеют лишь землей, а все, что на земле растет, мычит, блеет, хрюкает,— это государственное. Все «движимое и недвижимое»: орудия труда, производственные помещения — все государственное. А бывший владелец остался лишь работником, правда, с земельным паем.
Согласитесь, что расстаться с собственностью, тебе принадлежащей,— шаг непростой. И так вот, запросто, отдать нажитое чужому дяде, то бишь государству… Тем более что живут на селе весьма не богато. И все-таки отдали. Почему?
Во-первых, так называемый имущественный пай колхозника — факт, конечно, неоспоримый, но не очень осязаемый. Корова ли, бычок, коза, даже курица, ржавый гвоздь на своем подворье — это уж точно «мое». И попробуй этот ржавый гвоздь, тем более курицу забрать. Такой поднимется вопль! На весь белый свет. С ружьем ли, с вилами встанет хозяин на защиту.
А «имущественный пай» — нечто воздушное, теоретическое, вроде чубайсовского «ваучера». Как бы оно и есть: коровы в колхозном стаде, тракторы, гараж, амбары — но… не ухватишь. И даже не больно поймешь: что тебе принадлежит? И в руки взять его трудно, почти невозможно, даже с помощью суда и прокуратуры. Потому и расставались относительно просто.
Тем более что было обещано большее: сохранение колхоза, а значит, привычной жизни.
«Быть бы живу!» — главная задача селянина.
Чтобы читатель имел представление о нынешней жизни на селе, дадим несколько картинок. Время: осень 1998 года, зима, весна 1999 года. Калачевский район. Хутор Овражный. Говорит управляющая отделением А.Н.Конева: «Поголовье скота вполовину сократили, осталось 500 голов, из них до конца зимы не все дотянут. Кормежка в этом году — просто слезы. Соломы нынешнего года нет, сено уже съели, есть в поле прошлогодняя солома, но она уже попрела. Силос имеется, но его мало, приходится экономить. Кормим коров просом, как кур…»
Среди бела дня, во время ее монолога, на глазах растаскивают последние корма. Вон он, поехал трактор, груженный силосом, и скрылся на хуторской улице.
Сообщает районная газета под заголовком: «Январь — пора сенокоса»:
«В связи с благоприятными погодными условиями и острой нехваткой грубых кормов для крупного рогатого скота в колхозе «Нива» приступили к заготовке сена. Заниматься сенокосом в конце января — дело непривычное, но не от хорошей жизни колхозники вынуждены были на это пойти. На базе МТФ хутора Камыши осталось тонн 40 соломы и 15 тонн сена. А до конца зимовки 600 буренкам требуется 400 тонн грубых кормов. Ну, подвезти еще можно тонн 100 соломы с полей, а дальше что? Погибать голодной смертью?
Благо зима выдалась бесснежной, с легким морозцем, а в пойме Дона по пояс стоит высохший на корню чакан с луговыми травами. Вот оно, сено, готовое, только бери и коси. Попробовали пустить туда комбайн с одним из лучших колхозных механизаторов Петром Денисовым за штурвалом. За первый день он накосил пять тележек. Дали «зимнего сена» коровам на пробу — едят. С голодухи что только не съешь.
Последний раз зимним сенокосом у нас в районе занимались лет 15 назад, когда тоже были большие трудности с кормами. И вот снова сложилась подобная ситуация. Возможно, благодаря «зимнему сену» колхозному животноводству удастся выйти из зимовки без потерь. Остается только призвать всех тружеников сельхозпредприятий поддержать почин колхоза «Нива»».
А вот зимние новости из другого района: «По данным диспетчерской службы сельхозуправления, в начале ноября надой молока на фуражную корову составил в СПК «Фурмановское» 2 стакана, в СПК «Калининское» — 3 стакана».
Да что отдельные хозяйства. Целые районы прошлой зимой надаивали в среднем на корову за день по 3 стакана молока: Чернышковский, Котовский. Многотысячные стада… Некормленые! Вот в чем причина. И новая система мер удоя: один стакан.
СПК «Советский», я и прежде называл это хозяйство в числе лучших — таким оно и осталось. Руководит им энергичный неглупый человек, с большим опытом. Но тогда я предположил, что в нынешней обстановке даже лучшие хозяйства повторят судьбу худших, дело лишь во времени. Это горькое время, увы, оказалось не за горами. Апрель месяц, с полей везут черную позапрошлогоднюю озимую солому. Коровам деваться некуда, жуют и ее.
Еще одно хозяйство. За время зимовки колхозное поголовье скота сократилось на треть. Оставшихся 1100 коров из-за полного отсутствия кормов начали выгонять на пастбище, хотя весна выдалась холодная и травы, считай, нет. Но деваться некуда. Исхудавшие, полуживые коровы падают, не могут идти.
В тридцати километрах — другое хозяйство. Но картина — та же. Страшно глядеть на скотину.
Беды колхозного животноводства естественны. Края наши — засушливые. Вечнозеленых альпийских лугов нет и не предвидится. Вся кормовая база в руках полеводов и механизаторов, которые пашут, сеют, косят и везут корма к животноводческим фермам.
Но как нынче пашут и сеют?
«Очень тяжелое положение в наших ведущих хозяйствах. Опасность в том, что практически еще не пахали зябь в этом году,— говорит начальник сельхозуправления района.— Это небывалое. Даже в очень сложной ситуации прошлого года вспахали 92 тысячи га и считали это трагедией. А в этом году — 10 тысяч га» (газета «Рассвет»).
«В 1998 году 45% от общей площади пашни не используется (по колхозам). 63% пашни личных крестьянских хозяйств не используется. Под парами лишь 5% пашни» (газета «Коммуна»).
«Некогда преуспевающий в земледелии Калачевский район из 105,7 тысячи гектаров по состоянию на 10 октября сумел одолеть лишь 7,2 тысячи гектаров. А Быковский из 134,2 тысячи менее 10 тысяч» (газета «Волгоградская правда»).
«О чем мы будем говорить в будущем году, если только 30% зяби вспахано?» (из выступления председателя аграрного комитета Волгоградской областной думы).
«О чем говорить» в газетах ли, в «думах», мне кажется, невеликая проблема. А вот что уродит невспаханная, незасеянная земля и чем тогда жить крестьянину, области, всей стране?
О всей стране думают «наверху», в правительстве.
Очередной министр сельского хозяйства В.Семенов в марте 1999 года, забыв о своих прежних решительных намерениях «банкротить» нерадивцев, сообщил через газету «Комсомольская правда», что главная задача — наведение порядка на зерновом рынке, биржевая торговля. Если верить словам газеты и министра, то собственные успехи В.Семенова очевидны. Семь с половиной лет директорствуя в агрофирме «Белая дача», он сумел свой личный пакет акций увеличить с 0,25 процента до 20,5 процента. Этому я поверил.
Многим и многим нашим руководителям хватает ума и энергии лишь для того, чтобы себя обеспечить. Но это — не мое открытие.
Кроме лозунгов да общих слов, кроме «посещения регионов», всевозможных «облетов» для выявления «истинного положения дел на местах», кроме селекторных совещаний, от власти московской проку было мало. Ни тактики, ни тем более стратегии.
В краях и областях принялись вершить сельскую перестройку всяк по-своему.
В нашей области была создана Агропромышленная финансовая корпорация. Задумывалась она с благой целью — помочь селу: закупать у коллективных хозяйств и фермеров зерно, мясо, молоко, овощи и снабжать их горюче-смазочными материалами, техникой, удобрениями. Первоначальные оборотные средства должна была предоставить областная администрация и некоторые частные компании. Контрольный пакет акций у государства. Значит, контроль есть. Тогдашний губернатор и его помощники рисовали картины радужные: никаких «накруток», никаких «пенкоснимателей», честный бизнес для блага селян.
Агрокорпорация начала работать. Настораживало, что уже с первых шагов было много шику: белоснежный «линкольн» руководителя, покупка квартир, аренда огромного здания. А еще… эти самые «частные компании», которые вошли в корпорацию, «чтобы помочь селу».
Настораживал и печальный опыт лет прошлых, его нельзя было не заметить. Новая Агропромышленная финансовая корпорация разместилась в шикарном здании из стекла и бетона, а напротив высился вовсе уолл-стритовского пошиба колосс, только что возведенный конечно же иностранными строительными фирмами,— Агробанк. К этому сроку уже прогоревший. Но в свое время тоже основанный «сельхозпроизводителями» для целей тех же, благих: помочь селу.
Волгоградская агропромышленная финансовая корпорация продержалась более пяти лет, хотя нелады начались почти сразу. Селяне жаловались на «грабителей» из корпорации, которые поставляют горючее по цене завышенной, а за зерно платят мало и несвоевременно. Агрокорпорация предъявляла свои счеты, главный из них — традиционный: селяне не расплачиваются по долгам.
К примеру, район Калачевский. В 1995 году корпорация кредитовала район на 10 миллиардов рублей, из которых ей вернули — 4. В 1996 году кредитовала на 21 миллиард рублей, вернули — лишь половину. Так «возвращали» долги все районы области.
В 1998 году из 520 коллективных хозяйств области, работавших с корпорацией, в должниках у нее были 500. В результате к 1999 году Агропромышленная корпорация оказалась банкротом, с огромными долгами перед своими кредиторами, причем весьма серьезными, такими, как «Лукойл». Видимо, как всегда, расплачиваться будет «общий карман» — бюджет, ведь контрольный пакет акций агрокорпорации — у государства, возврат кредитов гарантировала областная администрация. Значит, областной бюджет будет платить, да еще многие честные селяне, что отдали корпорации свою продукцию, денег за которую не дождутся.
Итак, очередная идея по спасению сельского хозяйства в нашей области рухнула. Но жизнь продолжается. А по части идей у нас, кажется, никогда недостатка не было…
Сугубый, казалось бы, практик, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию администрации области, предлагает, например, осуществить следующие экстренные меры:
разработать областную систему балансов производства и потребления продуктов питания;
довести государственные заказы, квоты на поставку продовольствия и сельскохозяйственного сырья до конкретных товаропроизводителей;
объявить государственную монополию внешней торговли на некоторые виды продовольствия (зерно, растительное масло и др.);
установить систему таможенных платежей, налогов, квот и других форм регулирования таким образом, чтобы исключить возможность продажи импортной продукции по ценам, подрывающим конкурентную способность наших товаропроизводителей.
Госзаказ, монополия и заслон на границе, чтобы не прорвались в наши пределы чужое мясо да молоко, подрывающие конкурентоспособность наших товаров.
Некоторые коллективные хозяйства нашей области уже довели себестоимость 1 кг мяса до 100 рублей. На калачевском, на волгоградском рынках цена сегодня в 3 раза меньше. Значит, и рынок надо разогнать. Иначе только сумасшедший будет покупать сторублевое колхозное мясо.
Еще одна идея. Тоже — мудрая. Автор — генеральный директор компании, имеющей прямое отношение к сельскому хозяйству. Он предлагает основать комиссию, в задачи которой входит:
1. Создание теории деструктивных трансформаций производительных сил и производственных отношений.
2. Оценка объемов потерь…
3. Отработка подходов…
5. Создание областной программы…
4. Организация персонифицированного учета налогоплательщиков с созданием областного реестра населения.
Я позволил себе переставить пункты программы, чтобы выделить главный, основной, смысл которого точь-в-точь сказка про мужика и двух генералов, кои, попав в положение катастрофическое, правильно поняли: чтобы спастись, надо разыскать мужика; он обязательно где-то прячется и от работы отлынивает. Генералы мужика нашли и тем спаслись, даже телом поправились.
Так и у нас: во всем виноват «мужик, который отлынивает».
Вышеупомянутый гендиректор предлагает провести «производство на базе налоговой службы областного реестра населения».
В переводе на русский это означает: налоговая служба должна пересчитать кур нашей соседки (их примерно десяток) и обложить налогом, потому что соседка иногда продает яйца. Ее пенсия — 300 рублей. 4 тонны угля, необходимого для зимы, стоят 3 тысячи рублей. Поэтому она с ранней весны до поздней осени, не разгибаясь, ползает по огороду и порой продает десяток пучков редиски, лука, укропа, потом — огурцы, помидоры, чеснок… Какие-то копейки собираются. Конечно же надо ее «обложить».
«Надо обложить» и моих колхозных знакомцев, которые денежной зарплаты не видят уже пять лет, но живут, содержа на подворье не только кур, но и коров, свиней, птицу.
Результаты попытки «учесть и обложить» для меня очевидны. Старуха пенсионерка поплачет и порубит головы своим курочкам, которые довели ее до новой беды. Колхозные знакомцы мои мудрее и навидались всякого, а уж «учетчиков» да «считальщиков» в былые годы хватало. С прежними совладали, управятся и с нынешними. «Реестра» на селе не получится. Кормильцы и поильцы — коровы Манька да Ночка, безымянные хавроньи да хряки Васьки со всем своим потомством — государственному учету не подлежат. Это, как ныне говорят, «коммерческая тайна». На всякий случай: мало ли что взбредет в голову какому-нибудь генеральному директору ООО «Волгоградмясопродукт». А вдруг поверит ему губернатор? А поверив, начнет не с «создания теории деструктивных трансформаций» да с «оценки объемов потерь», а прямиком с пункта 4-го: «учесть и обложить». Генералы, они — мудры, твердо знают, что во всем виноват «мужичина», который ленится. Нужно лишь заставить его работать.
А «мужичина», он не ленится, а просто-напросто пытается спастись, прожить не только сегодняшний день, но и завтрашний у него на уме. Досыта накормленный реформами и преобразованиями последних десяти лет, от которых, кроме разорения, он ничего не увидел, крестьянин ко всяким очередным новациям относится с подозрительностью, боясь потерять последнюю соломинку, за которую еще держится.
Убеждать нынче колхозников, подвигая их на новые преобразования, довольно сложно — боятся потерять последнее. Наученные горьким опытом, всюду видят они обман, да ведь и правы, в конце концов.
Вот на собрании в колхозе «Тингутинский» выбирают нового председателя из четырех претендентов. Выбрали. По мнению районного руководства, не лучшего. Наиболее убедительный в своей программе был другой человек, но он, по тому же мнению, «слишком часто употреблял такие слова, как «маркетинг» и «бизнес». Потому и не выбрали, поостереглись.
Но в Алексеевском районе тамошний глава районной администрации нашел нужные слова — реорганизовались все, как один. Правда, не «по-нижегородски». По-своему, «по-алексеевски». Эта новая модель, поддержанная губернатором, а потом даже в Москве тогдашним вице-премьером Куликом, нашла последователей. Колхозные собрания проходили везде гладко, дружно голосовали «за». Хотя приходилось отдавать не просто «голос», но личный имущественный колхозный пай — отдавать безвозмездно районной администрации.
Какие же столь веские доводы были у районных начальников? Они не столь веские, сколь вечные.
Глава Алексеевской районной администрации О.В.Керсанов, победивший на последних выборах, заметно отличен от прочих районных «глав» области. Во-первых, молодостью и бородой. А во-вторых, тем, что прежде он не «секретарил» и не «председательствовал», как большинство народных избранников, не вознесся на «волне демократии», а успешно занимался в своем районе бизнесом, имея собственную торговую фирму.
Зачем успешливому предпринимателю нужна была должность главы самого отстающего в области района (по всем производственным и экономическим показателям район стоял на 33-м, последнем месте)? Ответ на этот вопрос весьма сложен, не о нем сейчас речь.
Но, став главой района, Керсанов через короткое время оказался зачинателем деприватизации колхозной собственности, а точнее — перехода этой собственности в руки государства в лице районной администрации.
Цитирую районную газету:
«О.В.Керсанов энергично осваивает все «закоулочки» современного законодательства».
А «закоулочки» искать приходится по причине простой: коллективные хозяйства «по уши» погрязли в долгах. Должны всем: «Агрокорпорации» — за товарные кредиты (горючее, запчасти, удобрения), Агроснабу, энергетикам — за электричество, газовикам, в бюджет и во все внебюджетные фонды.
Все эти кредиторы уже не сидят сложа руки, а приступают к взысканию долгов, используя существующее законодательство и механизм исков через арбитраж, через суды. Аресты и торги с аукциона — теперь не новость. В селе Верхняя Добринка Жирновского района за полученный от частной фирмы кредит пришлось отдать все молочное стадо колхоза. Новые хозяева отвезли стадо на мясокомбинат. В Котельниках, совхоз «Путь Ильича»,— та же история. Колхоз «Ольховский» Ольховского района полностью был продан с молотка, причем все ушло за бесценок и на сторону. Этот список легко можно пополнить.
Цитаты из районной газеты: «Глава райадминистрации еще раз подчеркнул, что проводимая в нашем районе деприватизация акционерных обществ преследует главную цель — спасти основное имущество хозяйств от ареста, описи и распродажи»; «ЗАО (те же колхозы, но именуемые «Закрытое акционерное общество».— Б.Е.) начнут свою работу с чистого листа» (то есть: никому ничего не должны.— Б.Е.).
Такие «закоулочки» современного законодательства известны у нас не первый день. Но до села они не доходили. Правда, несколько лет назад поделился со мною новостью один из глав районных администраций:
— Пришел ко мне председатель рыболовецкого колхоза с хорошей идеей. Колхоз весь в долгах, как в репьях, счета арестованы. Он решил выделить отдельный кооператив, передать ему технику, оборудование, пусть ловит рыбу, продает.
— Долги оставить колхозу,— продолжил я.— А во главе нового кооператива поставить своего человека…
— Верно, он планирует зятя поставить. По-своему, по-родственному можно будет спросить. А вы откуда знаете?
— Как не знать,— посмеялся я.
«Кооператив с зятем» создали. Колхозных проблем он, конечно, не решил: те же долги, та же многолетняя, теперь, считай, вечная задолженность по зарплате. Но, видно, какие-то дела пошли, потому что вскоре при том же рыбколхозе создали уже «кооператив с сыном».
Этот способ в России используется еще с перестройки. На село он пришел с запозданием.
У Керсанова, главы Алексеевского района, кроме «деприватизации», а вернее, вместе с ней, немало других идей, некоторые понемногу осуществляются: «безналоговая зона»; государственное, районное агропромышленное объединение, которое ведет кредитование хозяйств под залог земли, занимается реализацией продукции, помогает пахать, сеять, убирать урожай, конечно, за плату… Но речь о другом: «алексеевский метод» в области был понят быстро и определенно. Вот как объяснил его своим землякам через районную газету глава соседнего района: «От долгов можно избавиться. Несколько крепких… трудяг отделяются от хозяйства (от колхоза, погрязшего в долгах.— Б.Е.), «отпочковываются» со своей долей основных средств (то есть берут тракторы, комбайны, скот, а долги оставляют колхозу.— Б.Е.). Постепенно все основные средства переходят в частное владение. Хозяйство объявляют банкротом. Далее должна последовать процедура описи отчуждения имущества. А имущества-то нет… Арбитражный суд признает, что с хозяйства взять нечего. Все в рамках закона».
Гораздо проще это объяснили колхозникам на собраниях. Объяснили, как говорится, «на пальцах», очень конкретно.
Например. Колхоз имени… Чапаева. Долгов — 10 миллионов рублей. Счет в банке арестован, любые поступления на него тут же забираются за долги.
В колхозе числятся пайщиками триста человек. Триста человек пишут заявление о выходе из колхоза имени Чапаева и еще одно: о передаче имущественного пая районной администрации. Через несколько дней эти триста выходцев, в имущественных паях которых вся сельхозтехника, скот, производственные помещения, пишут заявление и организуют новый колхоз — предположим, имени Фурманова.
В колхозе имени Чапаева осталось пять пайщиков ли, работников, одного из которых поставили липовым председателем, другого — таким же бухгалтером. В этом колхозе остались и все долги, все 10 миллионов, да еще — давно разрушенная молочно-товарная ферма без окон, без дверей и, конечно, без скота. Все кредиторы, объединившись, могут забрать эту ферму. Колхоз имени Чапаева, как и сам легендарный герой, утонет. А вот колхоз имени Фурманова начал новую жизнь, что называется, «с чистого листа», без долгов, без картотек, его банковский счет никто не имеет права арестовать.
Такой вот «закоулочек» в законодательстве нашел мудрый Керсанов, его даже дефолтом не назовешь, а просто: я — не я, и хата — не моя. Все у нас теперь как в столице. Газета «Финансовые известия» (1999, №36) сообщает: «Взять, к примеру, банк «СБС-Агро» или тот же «Менатеп». У каждого из них давно готовы «запасные площадки», названия которых всем известны… Все, что имеет социально-экономическое значение, успешно развивается в рамках банковской группы «Союз» и «Первого общества взаимного кредита». В «Менатепе» перед отзывом лицензии тоже оставались только долги и несколько человек персонала».
«Алексеевский метод» одобрили, провели по нему областной семинар, на котором предъявляли неверующим козырную карту: переведя всю колхозную собственность в государственную, районную, Керсанов под залог этой собственности сумел взять кредит у каких-то банков и на эти деньги вспахать землю и посеять не в пример больше, чем его соседи. Это был веский довод — кредит и вспаханная земля. Той осенью 1998 года очень немногие в области сумели это сделать — не было денег на горючее.
К весне в моем родном Калачевском районе вместо прежних двенадцати коллективных хозяйств действовало уже двадцать. И только искушенные люди знали, что СПК «Приморский» — это вовсе не «Приморский» во главе с Нургалиевым, а что-то такое… неуловимое. А Нургалиев со всем хозяйством — это теперь «Мир». И всем известный колхоз «Нива» — фикция, а вот МУСП «Нива» — это колхоз настоящий. То же самое с «Голубинским», «Калачевским», «Варваровским»…
— Ну и что?— спрашивал я.
— Работают с «чистого листа», без картотеки, значит, пойдут платежи в бюджет, во внебюджетные фонды…— бодро докладывали мне.
— Но ведь не идут,— наобум возражал я и попадал в точку.
— Потому что сейчас — весна, посевная, столько не пахалось. Все на горючее идет. А вот чуть разгребутся…
— Не разгребутся,— вздыхал я.
Ящерица, когда схватят ее за хвост, оставляет его, а сама убегает, спасаясь. Хвост потом отрастет, пусть не такой казистый. Зато жива.
Наши «колхозы-совхозы» свои вековечные долги время от времени отбрасывают, чтобы остаться живыми. Не буду о далеком, возьму лишь самое близкое — времена Агробанка, кредитовавшего колхозы. В последнюю пору жизни Агробанк давал деньги тоже под залог имущества. Составлялись серьезные бумаги; колхозы закладывали имущество с легким сердцем, зная, что никому не нужны эти коровники, свинарники, а тракторы да скот районные власти не позволят забрать. Представители банка ездили по полям, описывая за долги созревающий урожай. Над ними смеялись, потому что прежний опыт учил: «Все спишется…» Банк призвал даже какую-то московскую фирму, специализирующуюся на выбивании долгов. «Спецы» прибыли, пожили в районах, поездили и убыли ни с чем. Все списалось.
Появилась «Агрокорпорация». Брали у нее взаймы, насколько мочи хватало. Отдавать не торопились. Все тот же опыт подсказывал: спишется… «Финансирование сельского хозяйства — рискованное занятие. Лишь благодаря тому, что контрольный пакет акций «Агрокорпорации» принадлежит администрации области, она то и дело отсрочивает сельхозпредприятиям платежи по долгам и продолжает их кредитование»,— сообщала областная печать.
Год за годом продолжалась эта песня. «Корпорация», а вместе с ней администрация области уговаривали колхозы: «Долги надо возвращать», даже арбитражным судом, банкротством пугали. Но вместе с этим продолжали выделять кредиты всем хозяйствам: и тем, кто честно расплачивался, и тем, кто не собирался этого делать. Но сколько веревочке ни виться…
В году для «Агрокорпорации» последнем, 1998-м, в колхозах, на полях, на токах появились даже энергичные, крепкие (по всему видать, военные) люди на новеньких «Нивах»: они требовали возврата долгов, намекая, что «в случае чего» вслед за ними прибудут их команды. В областной печати появились сигналы: «чрезвычайка», «рэкетиры», словно подтверждая давно уже ходившие слухи о том, что «Агрокорпорация» на руку не чиста, крестьян обижает, а теперь и вовсе…
— Подтверждаются ли факты выбиваний долгов у руководителей хозяйств с угрозами физической расправы?— спросили напрямую у генерального директора «Корпорации».
Он ответил, что «пока не располагает такими данными».
Областные начальники — губернатор и его заместители — мыкались по области, уговаривая, прося, требуя: «Отдавайте долги, будьте людьми! Мы ведь слово давали, и вы клялись! Нам теперь никто не поверит!» Все напрасно. Зерно да подсолнечник текли совсем в другую сторону. Иной раз по цене рыночной, но чаще — за бесценок, зато наличными деньгами, так называемым «черным налом», который никто не учтет, кроме Господа Бога.
Волгоградская агропромышленная корпорация — «мать родная» крестьянина — приказала долго жить, оставшись должна бюджету миллиард рублей. Селяне ей должны 600 миллионов.
Но свято место недолго пустует. «Одну матушку похороним, другую создадим»,— пошутил кто-то из участников очередного совещания.
Внедряя «алексеевский метод», идею Керсанова, в областном центре придумали и свое. Полгода шла работа подготовительная, в мае организационно оформилась Волгоградская областная агроассоциация. В нее вошли все районы. Поставили печати, сделали взносы. В тот день, когда ее создавали официально, было большое собрание, на котором постановили и проголосовали. Часом позднее у губернатора собрался узкий круг: главы администраций районов. Теперь уже один на один они напрямую спрашивали: «Что мы все-таки создали, куда «вошли» и кто будет командовать всем этим? И кто будет отвечать?» Объяснения получили весьма туманные. С тем и разъехались.
Пытался и я, грешный, что-то понять. Областные власти толкуют сейчас про «холдинги»: «Создать отраслевые объединения на базе молочных заводов, мясокомбинатов, элеваторов». Но как создать эти «холдинги», если контрольные пакеты акций перерабатывающих предприятий у «переработчиков» или у таинственных «инвесторов», то ли московских, то ли греческих, то ли вовсе незнамо каких. Поставщиков сырья (молока да мяса) распугали низкими ценами да неплатежами.
Вот пример сегодня действующего «холдинга»: АО «Сарепта», который занимается горчицей. Говорит В.А.Хомутов, генеральный директор: «В группу «Сарепта» входят 148 колхозов, совхозов и других хозяйств, которые владеют 68% акций завода. Колхозы-совхозы свои паи вносили масло-семенами. Мы финансировали их — до 18 млрд. рублей ежегодно. Невозврат долга составлял ровно половину. Наши кредиты не возвращались, а мы работали на банки под дикие проценты…»
Вот тебе и холдинг. А песня та же: дали колхозу кредит под будущую горчицу, а он, вырастив ее, тут же сбывает на сторону, и думать забыв про свой родной «холдинг». А весною снова к нему идет: давай новый кредит, иначе не буду сеять.
В конце 1998 года в области принят «Закон об областном продовольственном фонде» — еще одно новшество.
«Наличие «Продовольственного фонда»,— говорит первый заместитель губернатора по сельскому хозяйству,— позволит иметь на возвратной основе 300 миллионов рублей. Если такие деньги, скажем, весной авансом в виде госзаказа отдать селу, это ли не разрешение проблем?»
«Отдать авансом» дело не хитрое. Прибегут, встанут в очередь. Но вернут в лучшем случае половину. Через пару лет 300 миллионов истают.
— Та же Маша, но в другом платке.
Эта реплика — не моя, она из зала областного заседания по «аграрному вопросу».
Вот горькое предсказание утопающей «Корпорации» устами одного из ее руководителей:
— Если мы не научимся выполнять договоры, то и следующая структура будет обречена на провал, и через два-три года хозяйства будут обвинять ее во всех грехах так же, как теперь корпорацию.
«Структура новая» появилась. По задумке она состоит из РАО (районных агропромышленных объединений), которые включают в себя коллективные хозяйства района, перерабатывающие предприятия. Называют их еще «товарищества по вере». «Товарищи» рядом работают, на одной земле живут, а начальство — не где-нибудь, а рядом, в райцентре. Словом, все свои, одна семья, и на одно дело работают: вылезти из нужды.
В Даниловском районе новая структура была создана в марте. Сразу же встал вопрос о горючем. Надо пахать, сеять. Деньги давал Михайловский маслосыркомбинат с условием: сдавайте молоко. «Товарищи по вере» — руководители колхозов, собравшись все вместе, подсчитали и решили: нам это по силам, обещаем, что 300 тонн молока к 10 мая отдадим.
Кредит получили, закупили горючее. К 10 мая вместо 300 тонн на маслокомбинат не поступило и половины. Коровы доятся, молоко течет, но совсем в другую сторону. Теперь уже не областное, а районное начальство уговаривает: «Мы же договор подписали… Товарищи по вере! Вы же обещали! За язык никто не тянул! Надо же выполнять».
Структуры-то новые, но колхозы, их руководители — те же, «брать и не возвращать» привыкли. Вспомнить крыловский «Квартет», мне думается, нынче к месту. «Холдинг» ли, «Агрокорпорация», «Агропромышленное объединение», колхозы, СПК, ООО, «товарищества по вере», МУСП, РАО…
Какой же вывод? Неужели куда ни кинь, всюду — клин? «Колхозы-совхозы» — плохо. Пробовали «фермерствовать» — не пошло. И вроде не лежим на боку: каждый год что-нибудь у нас новенькое: вчера — «Агрокорпорация», сегодня — РАО да «холдинги», «Продовольственный фонд», «муниципализации». А проку нет. Какие еще нужны «структуры» и «фермы»?
Замечательная, скажу я вам, «форма производства» — колхоз, когда коллективно работают. Взять, например, «Кузьмичевский». Надои у коров — как в Европе, в среднем по 5 тыс. килограммов в год. Доходы от молока, лука, моркови. Платится вовремя зарплата, содержится детский сад, Дом культуры. «Конечно,— забурчат скептики из бывалых,— город рядом, чего не жить».
Еще один колхоз того же района — «Луч». Пашут, сеют, доят, получают зарплату.
Опять город рядом?
Колхоз имени Ленина. Полторы сотни верст от города. Молоко, мясо, коровы, свиньи, зерно, корма. Зарплата, детсад, прачечная, Дом культуры. Здесь каждый работник производит продукции в сопоставимых ценах ровно в 10 раз больше, чем в соседнем, тоже коллективном, хозяйстве. Та же земля, то же небо, у людей — те же две руки. Но не в 2 раза, а в 10 раз больше произвели. В 10 раз лучше сработали.
Еще один «имени Ленина», он — вовсе у черта на рогах. Самый далекий район, Нехаевский, всегда в хвосте всех сводок, потому что — «глубинка». А этот колхоз словно бельмо: вокруг — засуха, у него — 25 центнеров пшеницы с гектара, у него — коровы доятся, люди работают, нормально живут, даже балетную школу завели в Доме культуры, ни стыда ни совести…
А «фермерство», то есть самостоятельная работа на земле? Когда ни от кого не зависишь и сам своими руками…
Засуха 1998 года. Небывалая, 50 мм осадков за лето. Земля горит, трескается, а у Мельникова — пшеница дает до 26 центнеров с гектара, подсолнечник по 16 центнеров! У Штепо, у Миускова, у Колесниченко с Олейниковым — по 25 центнеров! А рядом — через межу, на колхозных полях — 3 центнера. Вот что такое «фермерство», когда ни от кого не зависеть, только своими руками и головой — для себя.
А какое хорошее дело — «Агрокомпания»! Например, в Серафимовичском районе она существует лишь второй год. Но сумели уйти из-под опеки «Агрокорпорации», сами продукцию реализовывали. Выгодно продав бахчевые культуры, колхозники купили 120 легковых автомобилей. И с местными бюджетами все сельхозпроизводители рассчитались. Разве не завидно?
Для меня сейчас совершенно очевидно, что колхоз, как бы он ни величался: имени Ленина, имени Калинина или просто «Луч»; где бы он ни находился: под боком у города ли, райцентра или у черта на куличках,— колхоз будет жить и работать при любых «суховеях», откуда бы они ни дули: из калмыцких степей или с кремлевских холмов; колхоз будет жить, пока во главе его стоит Иван Варфоломеевич Петров, Николай Иосифович Реуцков, Георгий Васильевич Яменсков. Но таких людей на постах председательских на всю область наберется десяток. А всего хозяйств 600 или более.
Личное, «фермерское» хозяйство будет эффективно работать лишь тогда, когда его хозяин — В.И.Штепо, В.Ф.Миусков, А.Г.Мельников, А.Г.Меркулов, братья Гришины, В.Н.Поляков… К великому сожалению, таких людей тоже можно на пальцах перечесть. Пусть их даже наберется сотня — из 12.800.
Искать надо не форму хозяйствования, не форму собственности на землю (здесь предложение к продаже в нашей области в 100 раз превышает спрос), искать надо человека, хозяина.
В начале 80-х годов в очерке «За дровами» писал я про свои же края: «Поселились тут люди издавна, веками жили и кормились и кормили других. Прошлой весной несчастные коровки ели прелую солому. Падеж. Удои по полтора литра «на круг». Весь район в течение 5 лет не выполнял планы по продуктивности скота и птицы… с каждым годом все более желтых от сурепки полей… и пегих, седых от осота… бурьян и бурьян… Падеж скота стал явлением обычным… Как ни горько, надо признавать: на земле теперь работает не хозяин… Хозяина мы вывели. Это был путь долгий и с кровью. Десятилетиями убивался в крестьянине хозяин. Теперь же, не закрывая глаз, надо признать: крестьянин-хозяин на земле кончился».
Повторю это и сейчас с великой горечью. И если прежде от таких выводов шарахались, отказывались печатать, а уже набранное снимала цензура (из сборника «Холюшино подворье» — «Советский писатель», 1984 год), то сейчас это понимают многие.
Крик души нашего губернатора Максюты:
— Хватит выбирать руководителей. Их надо ковать, обучать, назначать и снимать.
«Назначать и снимать» — это мы проходили. А вот «ковать» — посложней задача. Снова — Максюта: «Надо сделать так, чтобы в звене, в бригаде, хозяйстве, районе всем заправлял настоящий хозяин».
К этим словам можно лишь добавить: и в области, и в государстве.
Керсанов, глава Алексеевского района, зачинатель «деприватизации», объясняет, что колхозную собственность под свою государственную руку он забирает потому, что «преобразование бывших совхозов и колхозов в акционерные общества не изменило психологию тружеников полей». Он намечает «развернуть в нашем районе в течение двух лет экономический всеобуч. Цель: воспитывать в каждом труженике сельского хозяйства чувство хозяина, который относился бы бережно к собственности не только на личном подворье, но и на производстве». А потом, когда «вырастим, по крайней мере из большинства, настоящих хозяев, тогда можно вести речь о приватизации». Но процесс этот не так прост, «как кажется на первый взгляд», добавляет он.
В свое время колхозников учили парткомы, профкомы, комсомольские комитеты. Учеба шла непрерывная: экономическая, политическая, идеологическая. Каких только «кружков», «университетов», «курсов» и прочего не создавали. И все же… Помню, в прославленном «Волго-Доне», где все было: зарплаты, премии, лечение, отдых, поощрения, награды, в ту «золотую» пору одна из лучших доярок не хотела прятать «бидончик» молока, который каждая из ее товарок ежедневно тихонько уносила домой. Все прячут хотя бы для вида, «так положено», а она несет в открытую и заявляет: «Имею право». С ней бились долго: уговаривали, стращали, «обсуждали». А она свое: «Имею право». Там же, на собрании, в ту же далекую пору прозвучало откровенное: «Воровал и буду воровать».
А ведь «учили» полсотни лет. Тем более в «Волго-Доне».
Нынче там тащат, везут не трехлитровыми «бидончиками», а флягами по 200, по 300 литров. Даже у телят отбирают. «Нехай…» Нехай дохнут. «Имею право, я в колхозе сгорбатилась».
И киньте в таких людей камень — поднимется ли рука? Они ведь и вправду сгорбатились и продолжают горбатиться, не получая зарплаты. А жить как прикажете, чем детей кормить?
Тем более что только слепой да глухой не знает, как и кто разворовывает наше государство. Об этом с утра до ночи твердят газеты, радио, телевидение, называя и показывая людей отнюдь не «горбатых», а лоснящихся от сытости, абсолютно бесстыжих, но по-прежнему алчущих, с горящими глазами и цепкими руками. Их называют, показывают, но вовсе не корят, а именуют «героями дня». Вот оно — самое действенное сегодняшнее «воспитание». Наш главный «герой дня» еще недавно негодовал, боролся с привилегиями. Теперь на глазах страны утопает в роскоши.
…Наш бывший губернатор поначалу твердил на каждом совещании, возмущаясь банкирами: «Придумали какую-то маржу, провели платеж, забрали 3—4 процента. За что? Что за наглость!» Твердил-твердил, а потом вдруг перестал. «Чего это он про маржу молчит?» — интересуюсь. «Дочь стала банкиром, возглавила»,— объяснили мне. Маржа из наглости, видимо, перешла в благость.
И все это не стесняясь, в открытую, на каждом шагу. Начальники над селом возводят за домом дом, все выше, все шире.
Из писем: «Мы, рабочие, годами не получаем зарплату, а директор совхоза, не получая зарплату, построил два дома, купил новую «Ниву»».
«Управляющий построил 2 огромных дома, имеет 3 машины».
«…построил дом, купил две машины дочерям и еще строит дом».
Такой вот у нас «экономический всеобуч» снизу доверху.
Так что планы Керсанова воспитать «настоящих хозяев на производстве… в течение двух лет» — утопия. Думаю, что и сам он мыслит несколько по-другому.
Помнится, что когда «на заре приватизации» он стал хозяином районной сети бытового обслуживания населения, то сразу же закрыл все пошивочные мастерские, уволив людей. Потому что — убыточно.
Нынешние действия Керсанова энергичны и весьма отличаются от действий его коллег: «деприватизация», «безналоговая зона», значительные средства, как говорят, даже беспроцентные, которые он добывает «под имя»,— эти средства идут в коллективные хозяйства под залог земли, которая оценивается «по кадастровой оценке в земельном комитете, и заверяется эта цена нотариусом». «Если товаропроизводитель не вернет взятые кредиты, тогда земля перейдет в собственность местной или районной администрации» — такой вот, тоже необычный, поворот. Имущественного пая у крестьян в районе уже нет, «деприватизирован». Могут лишиться и земельного пая. Выводы делать рано, а задуматься есть над чем.
Но если в Алексеевском районе происходят какие-то изменения, судить о которых положено «не в три дня, а в три года», то все наше сельское хозяйство движется в прежнем направлении — то есть к развалу.
Приведу слова, сказанные не отчаянным журналистом, не уличным оратором-горлохватом, а заместителем председателя Волгоградского областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию: «Животноводства, можно сказать, уже нет, и даже при радикальных правительственных мерах его в ближайшие 20 лет не восстановить». Сказано это было весной 1998 года. После чего последовало засушливое лето, зимовка с запасом кормов в 50 процентов и как следствие — зимняя пастьба: в январе и феврале коров уже начали выводить на выпас. Коровы красной степной породы выдержали и голод, и холод.
Животноводство поддержал и даже спас… августовский кризис 1998 года. Исчез импорт, выросли цены, даже тугодумы поняли: за молоко можно деньги получать. И потому зимой 1998/99 года не резали коров напропалую, а старались сохранить живыми, хотя бы с помощью прелой соломы. Но снижение поголовья и продуктивности продолжается, в том числе и в частных хозяйствах, пуповиной связанных с колхозом.
В полеводстве та же картина: неуклонное, из года в год, уменьшение пашни, снижение урожайности. Если прежде приводил я какие-то цифры, то сейчас всякая отчетность стала трижды лукавой в зависимости от того, что требуется доказывать. Например, председатель нашего областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию В.В.Мелихов в докладе говорит: «…посеян 1 млн. га озимых культур… предстоит подготовить 4,7 млн. га зяби и черных паров».[2] Складываем — получаем 5,7 млн. гектаров. Но тот же Мелихов, как один из соавторов, сообщает, что «посевные площади сельскохозяйственных культур Волгоградской области в 1997 году составляли 3510 тыс. га».[3] Расхождение в 2,2 млн. гектаров, более чем на треть! Просто в первом случае нужно было показать: «энергично работаем», а во-втором: «перестройка развалила аграрный сектор».
Московская же высокая власть с переменным успехом занимается чем угодно: Ираком, Балканами, Кавказом, с особенным энтузиазмом — выборами. Селянам же иногда будут что-то «прощать» и что-то «подбрасывать» — через «близкие сердцу» финансовые структуры.
Словом, дорога все та же: естественный развал, на руинах которого помаленьку начинает «созидаться» новый порядок, с новыми формами. Какими? Они уже есть сейчас.
Сумел же бывший министр сельского хозяйства Семенов в своем родном хозяйстве, которым руководил, превратить коллективную собственность в личную (напомню, за 7 лет от 0,25 процента акций до 20 процентов).
Вот он — новый хозяин. Свое, личное добро мы, слава Богу, умеем беречь и приумножать, не один Семенов такой умный.
Серьезные наши фермеры, пусть их немного, постепенно расширяют дело: кто-то мельницу завел, кто-то пекарню, кто-то торгует, но почти все стараются расширить земельные наделы: опыт и сноровка появились, с наемными работниками становится легче.
Вижу я и «проникновение капитала» в сельское хозяйство. Чей это капитал, не мне разбирать. Но кто-то ведь дал весьма немалые деньги тому же Керсанову. Причем, как он сказал, «беспроцентный кредит». Не медный грош на паперти кинули, а «вложили деньги».
В другом районе фирма с красивым заграничным названием сначала «дала товарный кредит» двум коллективным хозяйствам, «на проведение посевной и уборки». Кредит, конечно, колхозы не сумели вовремя вернуть, а он был оформлен юридически грамотно, под залог «движимого и недвижимого». Зимой не было ругни и споров, а «движимое и недвижимое» перешло в собственность фирмы, которая оказалась умнее «пенкоснимателей»: мясной и молочный скот на бойню не погнали, автомобили и тракторы с аукциона по дешевке не распродали. Колхозы продолжали жить, но колхозники стали работниками у фирмы, правда сохраняя пока земельные паи. Но это, мне кажется, лишь дело времени. Законодательство позволяет, практика отработана, цена земли — копейки.
Сдуру, по прежней привычке, я хотел узнать: чья это фирма с таким красивым названием? Чьи деньги? Спрашивал у областных начальников высокого ранга, своих давних знакомых. Сначала они легкомысленно обещали: «Узнаю. Позвони завтра». Но проходили «завтра» и «послезавтра», тон разговоров менялся: «Слушай, чего-то не получается. Говорят: а зачем? А кому это надо? В общем, частная какая-то фирма». Местная тележурналистка, певшая этой фирме гимны в эфире, на мой звонок ответила чуть ли не матерщиной: «А вы кто?! А вы что?! А вам это зачем?!»
И на самом деле, зачем? Так, любопытство, не более. А нотки в голосе «телеохранника» очень жесткие.
Позднее случайно узнал я, что официальным отцом основателем фирмы числится абсолютно разваленный колхоз, у которого давным-давно за душой копейки нет. Одним словом — фирма.
Но ведь «вкладывает» в сельское хозяйство. Уже владеет колхозами. Да и одна ли она такая. Думаю, что не одна. Вот он — еще один путь.
Что же нужно сегодня нашему селу? Новые деньги: кредиты, инвестиции, транши, товарные кредиты? Без этого не обойтись. Колхозный тришкин кафтан — один на всех. Под этим кафтаном и напрочь разваленный колхоз имени Дзержинского, и его сосед — имени Ленина,— который работает за весь район, работает достаточно рентабельно и эффективно. Все вместе они — «черная дыра», и этот тришкин кафтан необходимо латать постоянно: сев, косьба, молотьба, пахота… Заплаты на этот кафтан начали лепить не вчера и не сегодня, а с первого дня, как его силком натянули на крестьянские плечи. Колхозная история долгба, ей уж семьдесят лет. За эти годы сам колхозник никогда не был богатым, недаром его, словно крепостного, приковывали к земле, чтобы не убежал.
Повторю давным-давно слышанное от Елены Федотьевны Макеевой, за плечами которой своя долгая колхозная жизнь и память отцов и дедов, работавших на земле:
— Крестьянская жизнь, сынок,— тяжельше нет.
Крестьянская Россия своим крепостным трудом осилила «индустриализацию», выиграла войну, а потом «подняла страну из руин», а сама лишь в конце 50-х наелась «чистого хлебушка».
Государство, вспомнив свои долги перед крестьянином, начало «вкладывать деньги» в село. Появилось новое жилье, асфальтированные дороги, удобрения, техника. Люди стали жить заметно лучше. В 10-й и 11-й пятилетках сельское хозяйство страны получило 416 миллиардов рублей. К сожалению, вложенные деньги «не сработали». По данным нашего волгоградского ЮжНИИгипрозема, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области так и не поднялась выше 11,8 центнера с гектара. А в период «интенсивных вложений» (1980—1986 годов) урожайность даже снизилась до 9,9 центнера.
Причина, на мой взгляд, единственная — «не мое».
Потом крестьянина «бросили в рынок». Колхозника, привыкшего лишь выполнять указания, словно человека, не умеющего плавать, столкнули с борта «корабля социализма» в океан мировой экономики. Дескать, акулы капитализма не тонут, значит, и ты спасешься. Метод, конечно, зверский. Результат — налицо: барахтаются и тонут.
В своих заметках о сельских делах в начале 90-х годов рассказывал я о начале реформ на хуторе Клейменовский:
— Пишите заявление!— требовал бригадир.— Образец на стенке висит!
Послушно писали и отдавали бригадиру, ничего не понимая.
— Хоть бы нам кто приехал да объяснил…
— Велят писать, я послухалась…
Почти десять лет минуло. Объем валовой продукции сельского хозяйства в нашей области, как и по всей стране, снизился вдвое. И снова, в который уже раз, приказывает бригадир: «Пишите заявления! Образец — на стене!»
СПК, АОЗТ, СППК, АООТ, КСП, КДХ, МУСП… А если понятней — все тот же колхоз, лишь разваленный.
2000 год
«Новый Мир», №1
Память лета
короткие рассказы
Степная балка
Начну с читательского письма: «В свое время, в очень давние уже годы, пришлось мне ехать машиной в ваших краях, от Калача к Суровикину. Решили отдохнуть, отъехали от дороги к небольшой балочке. Из машины вышли — и словно иной мир. Описать не могу, но помню и через тридцать лет. Это было в мае или июне…»
Немножечко странновато, не правда ли? Обычная степная балка. Что в ней? «Пальмы юга» там не растут. Лишь — трава, кустарник, деревья. А вот помнится и через тридцать лет. Наверное, не зря.
Балка — это обычная ложбина меж степными курганами ли, увалами. Обрывистая, глубокая или просторная, с пологими склонами. Их много, балок и балочек, в донской степи. В балках вода ближе, там — родники. Там трава зеленей и гуще, и не только цепучие терн да шиповник растут, но и осокорь, осина, липа. Липологовская балка, Осинологовская. От летнего моего жилья, дома в поселке, до ближайшей балки в Задонье — час пешего хода, на велосипеде — вдвое быстрей, на машине вовсе рукой подать. Березовая балка да Ореховая — эти на виду, возле моста через Дон. Но я больше Грушевую люблю: она — просторная и от людских набитых дорог поодаль.
Мост минуешь, оставляя позади донские воды; поднимешься в гору по шумной асфальтовой трассе; свернешь налево, узкой, тоже асфальтовой дорогой три километра пробежишь и — прочь с нее. Теперь глинистой, не больно езженной колеей вниз и вниз. Это уже Грушевая балка.
Ранняя весна. Апрель. Только-только стало теплеть. Лишь другой день солнышко греет.
И сразу потянуло в Задонье. Поехал. А там еще по-зимнему скучно и пусто: черная степь, стылый ветер.
Свернул с дороги, в Грушевую балку спустился в полгоры, вышел из машины и понял, что рано приехал, поторопился: все голо, черно, лишь кое-где на дубах сухие листья порой шелестят. Но уж коли приехал, не уезжать же разом. Отошел от машины, на бугорке присел.
Ясный день. Солнышко греет. Потревоженная моим прибытием полуденная тишь снова сомкнулась, словно тихая вода: поплескались волнешки и успокоились. Простенькая бабочка лимонница, сверкающе-желтая, чертила воздух.
Обостренным слухом, в безветрии, в полуденной тиши, я почуял какой-то слитный шорох, огляделся и увидел проснувшийся, живой муравейник. Довольно великий для наших мест — в колено — холмик кипел весенней муравьиною жизнью. Я подошел к нему, наклонился: в лицо мне пахнул острый муравьиный дух. Вспомнив детство, положил я на муравейник сухую былку, а потом облизал ее, сладко морщась от муравьиной кислоты. Нарядная кофейно-пятнистая бабочка — крапивница неторопливым, порхающим лётом кружила передо мной, то вспыхивая под солнцем радужными переливами крыльев, то притухая.
Потекло время иное — медленное, тягучее; все вместе: и жизнь, и сладкое забытье. Гудливые земляные пчелы не торопясь ищут сияющие цветы калужницы или звездочки гусиного лука — первый цвет. Красные клопы-солдатики, сбившись гурьбою, греются на старом пеньке. Рядом алая капелька божьей коровки спешит вверх по высохшему стеблю, хочет взлететь.
Солнце — над головой; теплая земля; острый дух листовой прели и молодых горьких почек. Тихий мир жизни. Это ранняя весна, Задонье, Грушевая балка. Сюда нетрудно добраться, но нет сил уйти. А молодым летом и вовсе. Жарким полуднем проедешь поселковыми улицами, потом Дон минуешь. Везде — лето, зелень. Но в Грушевую балку спустились, встали, вышли из машины — и словно ударило, ослепило. Жмуришься, не веришь глазам: это иная земля или волшебный сон?
Цветущие поляны — будто цветные озера в зеленых берегах дубков да вязов. Сочевник цветет розовым — розовое озеро. Фиолетовый разлив чины да мышиного горошка. Солнечно-желтые копья коровяка, розовые — дикой мальвы. Милые ромашки, шпорник. Все сияет, все полыхает под солнцем, источая пьянящий дух.
Бредем. Зелень и цвет — выше колен, по пояс. На губах — сладость и горечь. Белое, розовое, сиреневое, фиолетовое, золотое — по светлой, по темной зелени. Нет, это не моя донская скупая земля — песок да глина, выгорающая до рыжины, это сказочный сон золотой.
Зелень малых балочек рассекает ланами цветущую землю. И это — спасенье. От яркого, слепящего многоцветья отдыхает глаз на зелени дубков, чернокленов. Дикая вишня стелется по земле, по лаковой зелени — россыпь розовеющих ягод. Миновали балочку, прохлада ее остудила лицо и тело. И снова — желтое, алое, лиловое, голубое. Качаются, плывут на тонких упругих стеблях, колышутся, млеют под солнцем созвездия зверобоя, облачка белых и розовых кашек, пахучие заросли донника. Медовая сладость и сладимая, терпкая горечь. Все здесь: полынь, чабер, тысячелистник, железняк, бессмертник, душица, еще не раскрывшая цвета, но знак подающая. Вот она — у опушки.
Жара, зной, но дышится легко. Идешь трогаешь, обнимаешь цветущее, которое осыпает и дарит тебя золотистой пыльцой, лепестками, горьким соком и сладкой медвяной сытью. И вот уже ты весь пропах этой сладостью, терпкостью, горечью…
Падаешь, закрываешь глаза, проваливаясь не в забытье, а в такой же праздничный сон: плывет перед глазами голубое и алое. Пьешь густой и пахучий воздух, тягучий настой, пьешь и чуешь, как в жилах твоих кровь клокочет. Это июнь: молодое лето в цветенье, Грушевая балка, что огромным распахом спускается от вершин задонских курганов до самой воды. Грушевая, Красная балка, Голубая — вся донская земля теперь словно женщина в самой спелой, знойной своей поре: ослепительно красива, горяча, сладка, пьяняще пахуча и так желанна.
Вспоминают, что раньше, когда в ручной сенокос неделями жили в шалашах, на покосе, то самые красивые дети рождались в марте, через девять месяцев после косьбы.
Время к осени. Погожим августовским днем пробирались мы от хутора Осиновского к Большому Набатову. Как всегда, хотели путь сократить и маленько заплутались. И лишь наткнувшись на заброшенный полевой стан, поняли, куда угодили.
Из машины вышли и не сговариваясь побрели от дороги вниз — к зелени, к тени, к прохладе, туда, где с угора стекала в дол лесистая балка. Подошли, сели, а потом и прилегли на траву, под сень дубков, уже набравших гроздья молодых желудей. После гудящей машины, тряской дороги хорошо дышалось, гляделось и уже не хотелось никуда спешить.
Кончалось сухое жаркое лето. Земля выгорела, пожелтели, высохнув, степные травы. А рядом, в лесистой балке, сочно зеленела листва деревьев, журчала вода родничка где-то внизу, в глубине балки. Синие цветы цикория-полуденника, желтая пахучая пижма, живокость пестрели на опушке. Дух зелени, близкой воды, влажной земли, прокатываясь волнами, растворялся в горячей степи. Стрекотали кузнечики, и какая-то птаха — кажется, славочка — негромко журчала рядом, в кустах.
Нынче — опять зима. За окнами — поздний декабрь, мерклый, с короткими днями. Попалось среди бумаг письмо читательницы, и сразу вспомнилась иная пора — весна да лето. Это память долгая, на всю жизнь. А всего лишь — степная балка, где-нибудь в Задонье, на полпути от Калача-на-Дону к Суровикину. Надо лишь остановиться, выйти из машины.
Каймак
Спросите у русского человека, любит ли он каймак. В ответ чаще всего недоуменье: «Что это за штука?» Наверное, и вправду донской наш, казачий край — не Россия. Потому что свой народ, коренной ли, завзятый казачура или просто в наших местах поживший, тут же заулыбается, замаслятся глазки, а губы сами собой причмокнут: «Каймачок…» И весь тут ответ.
Обычные словари русского языка каймак обходят. Как говорится, пусть им будет хуже. Премудрый Даль сообщает, что каймак — это «сливки с топленого молока, пенка… уварные сливки»…
Спасибо, что не забыто. Но что такое «топленое» да «уварное»… И главное, словарь не лизнешь. А чтобы по-настоящему понять, что такое каймак, надо его откушать. А значит, словарь — в сторону, отправимся на воскресный базар куда-нибудь в Калач-на-Дону, в станицу ли Усть-Медведицкую.
Приехали. Народу… словно в Китае. Гудит базар. Кто продавать, кто покупать, а больше — поглядеть, на люди показаться.
Минуем нынче мясные ряды и даже рыбные, где судачок да сазан, лопатистый лещ с Цимлы, провесной сомовый балык да горы вяленой чехони. И овощная солка нам нынче не нужна: алые щекастые помидоры, пупырчатые пахучие огурцы в укропе, ядреная капуста с болгарским перцем и даже царственный моченый арбуз. Все это — мимо, мимо… Наш путь — к молочному ряду, где бабы-казачки Камышевского хутора, Ильевского, кумовские, пятиизбянские привезли на торг молоко пресное, кислое, откидное, творог да сметану… И конечно же знаменитый донской каймак! Вот он, на тарелках, на блюдах — молочные ли, сливочные, пышные пенки, в палец ли, в два толщиной, вчетверо — блином — свернутые. Вот каймак розовый, нежно подрумяненный, а вот — протомленный в жару, коричневый с корочкой; этот — масляно желтеет. А кто-то любит вовсе белый, тонущий в каймачной жижке. Базарные каймаки — на всякий вкус. Выбирай. И даже можешь «покушать», то есть отпробовать ложкою, с испода. Так положено. Главное, найти каймак свежеснятый, со «слезой». И чтобы дышал он неповторимым каймачным духом, в котором чудится — и должно быть!— все хуторское, как говорят, «невладанное», то есть первозданное: душистое степное июньское сено («У нас пуд сена что пуд меду»,— скажут и теперь), чистая вода, донской ветер, а значит, «сладимое» молоко, именно из него настоящий каймак, который и красуется теперь на прилавках воскресного базара.
Но конечно же за каймаком лучше пойти ли, поехать утром во двор, где держат коров и делают каймаки. На тот же хутор Камыши, он рядом. Надбежишь ко времени, хозяйка улыбается: «Сейчас буду снимать». Именно «снимать», каймаки снимаются. «Каймачный съем» называется. Один съем, два съема…
Вот приносится с холода тяжелый казан или просторная кастрюля с молоком, и на твоих глазах деревянной лопаткой ли, ложкой снимается вершок — пышный, ноздреватый блин застывших топленых сливок, огромная пенка в густых подтеках, сочная и душистая. Одним словом, каймак. Благодари хозяйку, расплачивайся и правься к своему базу утренний чай пить со свежим каймаком. Желательно с горячими пышками. Отламываешь горячей пышки кусок, наверх — холодный каймак, который тут же начинает плавиться, подтекать. Скорее в рот… Пахучая горячая хлебная плоть и холодок тающего на языке душистого каймака. Ешь — не уешься. Не баловство, не лакомство, лишь каймак. Он в наших краях с детства до старости. Даже на поминках, после горячего хлебова, обязательно подают со взваром щедро намазанные каймаком пышки.
А начинается каймак с детства. Он во всяком дворе, где держат коров. В моем детстве у нас во дворе была одна корова (все же не хутор, а поселок), с одной много не накаймачишь, тем более что в ту послевоенную пору большая часть молока уходила государству на коровий налог.
Мальчонкой таскал и таскал я бидончики с молоком «на сдачу», получая взамен бумажные квитанции. Так что каймак в нашем дворе появлялся очень редко. И потому лучше вспомнить теперь рассказ нашей старинной соседки, давно покойной Прасковьи Ивановны Иваньковой, которая росла сиротой на хуторе Песковатка, у родной своей тетки. Коров на базу было много. А каймак Прасковья Ивановна любила до конца дней своих, повторяя:
— Я каймашная. Но ныне разве каймаки? Вот, бывало, на хуторе, у тетки…
Бывало, подоят коров вечером, процедят молоко, сольют в разлатый, то есть просторный поверху, глиняный горшок: жаровка ли, саган или макитра — и выносят во двор на постав, «на колесо» — обычное тележное колесо, поднятое над землей на колу. Кошки, собаки не достанут. Там и стоит молоко, ожидая своего часа.
Рано утром хозяйка затопит русскую печь, отстряпается, а потом ставит молоко. Там, в русской печи, на легком жару молоко томится до самого вечера. Такое молоко называют топленым. Оно густое, по цвету — красноватое. Вечером молоко снова возвращается на волю, «на колесо», а может, на погребицу. Рано утром снимают каймак — толстые, сверху затвердевшие пенки. Если каймаки готовят к продаже, то их сворачивают блином, а если для себя, то в миску ли, в черепушку.
— Сбираешь каймаки,— вспоминала Прасковья Ивановна,— и не удержишься. Под исподом у каймака коричневая томленая густь. Не могу стерпеть. Ложкой ее, ложкой и в рот. Такая сладкая… Пока снимаю каймаки, наемся и завтракать уже не хочу. Тетка меня корит: «Нахваталась… Утка»… Я ей в ответ: «А ты меня не заставляй каймаки сымать. Они сами в рот лезут».
Такая вот память.
Позднее, когда стало меньше коров и русские печи ушли, молоко для каймаков томили прямо на базу. Ладили глинобитную или из дикого камня надворную печурку, на нее — калмыцкий казан с круглым дном. Соберут «утрешник» да «вечерошник», протомят его, а вечером ставят ли, вешают казан где-нибудь на воле до утра.
В молодые годы, озоруя по ночам, ходили мы «каймаки сымать», обижая хозяев. Каймачные казаны висели обычно под застрехами сараев, под навесом у летних кухонь. На дальних хуторах, откуда к базарам долгий путь, из каймаков сбивали каймачное масло, чуть с кислиной, в прожилках коричневых пенок. Пахучее, вкусное. Теперь его давно нет. И не будет.
Сами же каймаки пока, слава богу, остались. Пусть не такие, как в прежние времена. Ведь нет теперь ни русских печей, ни горшков-жаровок, ни каймачных казанов, а значит, нет и по-настоящему топленого молока. Но каймаки все же остались. Когда в городском зимнем быте придешь на рынок, невольно ноги несут к ряду молочному. Там встречают тебя, уговаривают: «Молочка настоящего берите… Сметанка, домашний творожок…» Порою услышишь: «Каймачок…» Услышишь, глянешь — что-то белеет в стеклянных баночках, и лишь вздохнешь про себя: «Нет, мои хорошие. Вы каймака и на погляд не видали». Не может быть настоящего каймака ни в Волгограде, ни в Москве. Чтобы его отпробовать, а вернее, откушать, надо отправиться в Калач-на-Дону, в Усть-Медведицкую станицу, на воскресный базар. А лучше — прямиком на хутор, с утра, когда каймаки снимают.
С холода принесли пусть не глиняную корчажку, не калмыцкий казан, а просто широкую кастрюлю, не крышкой закрытую, а обвязанную чистым платком. Открыли. Провели по краям, обрезая. И вот он — пышный, нежно-подрумяненный, пенистый каймак, с густой сладкой каймачной жижей. Как говорится, ешь не уешься, на доброе здоровье.
Лазоревый цвет
Двор мой последние годы все более полонит пустая трава. То ли сил стало меньше от нее отбиваться, а скорее — охоты: растет… и пускай растет. Места много. И огород затравел. Да и какой это теперь огород! Лишь названье. Грядка лука, грядка чеснока, полсотни помидорных кустов да кое-какая зелень. Земли пустует много и много. Уже не с мотыгой, с косой выхожу поутру на покос.
Но вот цветы остались. Сейчас август, конец его. По утрам — зябко. Роса. Днем — тепло, но палящего зноя нет.
Полыхают, горят, нежно светят простые мои цветы — душе и глазам отрада.
Конечно, главная краса и гордость — это циннии; по-нашенски, по-донскому,— «солдатики», наверное, потому, что прямо стоит цветок, не колыхнется на твердом стебле, будто гренадер.
А все вместе они — словно высокий костер, багровый, алый, красный. Тихое пламя его не палит, но греет. Кто не войдет во двор, сразу хвалит: «Какие у вас циннии хорошие!» Даже фотографироваться приходили возле цветов. Честное слово! А почему бы и нет?.. Циннии и впрямь хороши.
Длинная гряда вдоль дорожки. Высокие стебли, почти в рост. А цветут мощно и щедро, от земли до маковок. Багряные, алые, розовые. Цветут и цветут. Так будет долго. До первого утренника где-нибудь в октябре. Они и замерзнут во цвете. Поднимешься, выйдешь во двор — холод, трава в белом инее. «Солдатики»-циннии, их яркие цветы и зеленые листья, заледенели. Хрустят под рукой. Ломаются. Солнце взойдет, они обтают и почернеют. Конец.
Но теперь — август. До грустного еще далеко. Полыхают, горят костром алые, красные, розовые цветы. Любо на них глядеть.
А чуть подалее, глубже во двор, клумба не клумба, грядка не грядка, а словно базар восточный, его просторный разлив. От летней кухни до погреба, до сарая и дома. Здесь астры: белые, сиреневые, палевые; с желтой корзинкой посередине и — нежные, хрупкие, стрельчатые шары. Здесь могучие бархотки ли, «чахранки» с резными ажурными листьями. А цветы — кремовые, шафрановые, карминовые. Каждый лепесток оторочен золотистой желтизной и потому мягко светит; на взгляд и на ощупь — бархат. Оттого и зовутся бархотками. Мощные кусты очитков: заячья капуста, молодило… В августе они лишь начинают цвести. Лазурные, светло-сиреневые, малиновые корзинки-соцветия с медовым духом в окружении мясистой, сочной, словно восковой листвы. По краям клумбы скромно проглядывают граммофончики пахучих петуний — белые, фиолетовые, розовые.
Какая тут клумба… Восточный базар. Радужное многоцветье на зеленом подбое листьев. Звенят и гудят пчелы, шмели, радуясь и кормясь; золотистые стрекозы шуршат слюдяными крылами, вспыхивают и гаснут.
Цветы… Пусть простые, нашенские, но сажаем, пропалываем, поливаем, бережем. Без цветов нельзя.
В соседнем дворе доживает век старая Миколавна. По дому еле ползает, во двор не выходит, лишь на крылечке сидит порой. Во двор выйти не может, но каждый год молодым своим помогальщикам наказывает: «Возле порожков посадите мне георгину». Ее слушаются, сажают. Цветет георгина куст. Миколавна глядит на него, на ступеньках сидючи вечерами.
Через улицу, напротив, живет старая же Гордеевна. У нее одышка, больное сердце. Ей нагибаться никак нельзя. Но каждое лето цветут у нее в палисаднике «зорьки». «Это наш цветок, хуторской…— объясняет она.— Я его люблю…»
Сосед Юрий. Человек нездоровый, больной. Какой с него спрос! Но в летнюю пору расцветает посреди вконец запущенного двора могучий куст розовых пионов. «Мама посадила…— объясняет он.— Я поливаю». Мама его давным-давно умерла. А этот цветочный куст — словно привет далекий.
У тетки Лиды земли возле дома не много. «В ладонку…— жалуется она.— А надо и картошку, и свеклу, и помидоры, того и другого посадить. А земли — в ладонку». Но анютины глазки цветут возле дома, золотятся «царские кудри». Без этого нельзя.
У Ивана Александровича с супругой тоже земли не хватает. У них на подворье с математической точностью рассчитан каждый миллиметр. Приходится исхитряться. После картошки успевает еще и капуста созреть до морозов. Убрали лук, поздние помидоры растут. Но и у них — пара кустов «зорьки», несколько георгинов, «солнышко» стелется и цветет.
Там, где хозяева молодые, в силах, там — розы, там — лилии, там много всего во дворах, в палисадах.
А ведь с цветами — столько забот. Сами собой, от Бога, они не вырастут. Посади, гляди за ними, рыхли, пропалывай, коровяком подкорми. А попробуй не полей хотя бы день при нашей жаре! Тут же засохнут. Не то что цвбета, листьев не увидишь. Цветы вырастить — труд немалый. Но радости больше.
Августовское раннее утро. Завтрак на воле. Солнце за спиной. Перед глазами — цветы. Сколько их… Десятки, сотни… Алые, синие, лазоревые, золотисто-медовые… Все на меня глядят. А если вернее, через плечо мое, на утреннее встающее солнце. Светит перед глазами желтизна и бель, нежная васильковая голубизна, зелень, алость, небесная синь. Смотрят и дышат в лицо мне простые наши цветы.
Летнее утро. Впереди — долгий день…
Порою, когда начинают о людях худое говорить: мол, народ пошел никудышный, извадился, изленился…— при таких разговорах я всегда вспоминаю о цветах. Они есть в каждом дворе. Значит, не так уж все плохо. Потому что цветок — это ведь не просто поглядел да понюхал… Скажите, шепните женщине ли, девушке: «Цвет ты мой лазоревый…» — и вы увидите, какое счастье плеснется в ее глазах.
Живая жизнь
Летняя наша жизнь в старом доме, в поселке, кроме прочего, еще и тем счастливо отличается от городского быта, что вокруг — живая жизнь. С городской квартирой не сравнить. Там — пустыня.
У себя во дворе пытался я перечесть растения да травы, какие зеленеют, цветут, хотя бы самые заметные: ползучий спорыш да легкий вейник, аржанец, козелок, пахучие ландыши, синий касатик, милые одуванчики, ландыши да бедовая крапива, простодушный лопух, высокие мальвы, степной алый мак, чистотел, молочай, морковник, горькая полынь, подорожник, вьюнки с белыми да розоватыми цветами, куст татарника, подзаборная конопля… Добравшись до сотни названий, оставил я это пустое занятие. Пусть их Бог считает да стережет.
А про живность, какая летает, порхает да ползает, и говорить нечего. Нечаянный таракан в городскую квартиру забредет, с ним — война: дави да трави! Крохотная моль перепорхнет — вовсе смятенье. В старом доме, в просторном дворе его,— порядки иные: здесь жильцов — не счесть. И всем приюта хватает.
Правда, ласточки на веранде теперь уже не живут. Корову не держим, а ласточка любит скотий дух. Ласточки не гнездятся, хотя прилетают, щебечут; зато уж воробьев — полный двор, по застрехам птенцов выводят. На колючей терновке — ненадежное гнездо горлицы. Его и гнездом не назовешь, какое-то решето. Рядом — скворцы, синицы, славки. Желтокрылая иволга — в густой кроне вяза. Дятел порой стучит, врачуя старые яблони. Птиц немало. А тварей помельче, их вовсе не счесть. Тяжелые шмели, земляные да древесные пчелы, янтарные осы, легкокрылые бабочки — от величественных махаонов, ярких крапивниц до всякой мелочи, кузнечики да сверчки, богомолы-«кобылки», солдатики, божьи коровки, муравьи, пауки, прочие букашки, которых не перечесть. Это лишь взгляду стороннему может показаться, что зеленый наш двор дремлет в безжизненном забытьи. Приглядись да прислушайся — всюду жизнь.
Те же муравьи… Конечно, больших муравейников во дворе быть не может, но там и здесь суетится, бегает муравьиный народ. Мыкаются туда да сюда, что-то волокут. Порой муравьи объявляются в местах неожиданных.
Понемногу засыхает старая абрикосина. Обрезаю ветки. Толстый сук торчал в подножии дерева. Ударил его обухом топора, он отвалился и обнажил затейливую вязь муравьиных ходов, пробитых в трухлявом, но дереве. Проходы, галереи, укромные кладовые с харчами да расплодом — белыми яичками. Сучок отвалился, открыв потаенную жизнь. Рыжие муравьи засуетились, забегали… Как же — беда! Приставить назад сучок, конечно, не мог я. Но дальше зорить гнездо не стал. Пусть живут. Они и живут. Порою я прихожу к старой абрикосине, к ее подножью. Присяду, гляжу на муравьиную жизнь в изъеденном стволе дерева. Иной раз гостинец несу — какие-нибудь семена, крошки, спелый абрикос, сливу, огрызок помидора. Малое подаянье они тут же уносят, в иное не враз, но вгрызаются и несколько дней пируют, пока не останется лишь косточка да иссохшая кожица.
Но есть в нашем дворе место, мимо которого прохожу я пусть не с опаской, но с какой-то смутной тревогой. Место не укромное, а на самом что ни на есть виду — на дорожке, что ведет от дома к летней кухне и мимо нее в огород. Дорожка из бетонных плит, с обеих сторон трава растет. Дорожка и дорожка… Но когда прохожу по ней, то как раз на стыке двух плит невольно замедляю шаг, иной раз останавливаюсь и даже присяду на корточки, вперяя взгляд в бетон плиты, в затравевшую землю. Гляжу, чутко слушаю. Серая плита, заплывающая землей и окаймленная ползучей травой гусынкой да высоким вейником. Ни норы, ни щелки. И никаких звуков нет. Качнется под ветром вейник. И — все. Малый кузнечик прострекочет. Но это здесь, наверху. А вот оттуда, из-под земли, нет никакого знака. Хотя я знаю, что где-то здесь, совсем рядом,— могучая жизнь кипит, для меня неведомая.
Единожды в год, обычно июньским теплым днем, эта жизнь вдруг выходит наружу. Отворяются какие-то потайные щели, ходы и выплескивается на белый свет живое кишенье тысяч и тысяч крохотных муравьев. Их так много, что они затопляют дорожку и обочины черным живым потопом. Почти весь день длится суета, кипенье. Все новые и новые муравьиные орды прибывают из-под земли, суетясь и спеша. Просто оторопь берет: где они там помещались? Такая страсть…
А к вечеру глядишь — пусто. И назавтра ни щелки, ни норки, даже намека нет на недавнее буйство. Словно приснилось. Молчит земля, и молчит трава. Объявилось на день и снова ушло под землю на целый год.
Я будто все умом понимаю. Читывал Фабра, еще кое-что. Это был обычный выход и вылет молодых муравьиных маток. Таким путем распространяются муравьиные семьи. Разумом я будто все понимаю, но почему-то всегда замедляю шаг, проходя по этому месту. Иногда остановлюсь, присяду на корточки, вглядываюсь. Пустое место: ни щелки, ни норки. Но ведь знаю: где-то там, от меня скрытая,— жизнь. Невидимая и неведомая. Словно иной свет.
Странно все это. А когда раздумаешься, даже и страшновато. Спешим, скачем, летим. Далекие страны манят, далекие миры. А он — вот здесь, иной мир. Стою над ним, он — возле, неведомый. Да и один ли? Может, рядом — другой, который вовсе знаку о себе не дает. Другой и третий… Сколько их, этих жизней, миров потаенных, от нашего взгляда скрытых?.. Или просто не увиденных во тьме ночной, в ясном ли дне, когда скользит человечий взор по необъятному окоему: зеленая трава как трава, цветок да цветок, вечный камень да вечный ветер в кроне высокого дерева. И все.
Сижу на крылечке летним покойным полуднем. Птицы стихли. Улица безлюдна. Но глядит на меня со всех сторон, в лицо мне дышит, поет, и звенит, и гремит набатом, сливаясь в тишину, и течет нескончаемо многоликая живая жизнь. Рядом с моей, человечьей. Одной из всех.
Рыба на сене
Уверен, что большинство читателей воззрится на мой заголовок с недоуменьем. «Собака на сене» — это понятно: себе не гам и другим не дам. А вот как и зачем рыба на сено попала?
Это наше, донское. На Дону всякое бывает. Например, в станице Нижнечирской знаменитая донская рыба чехонь «сено поела». Было так: с заливного луга в свою пору не свезли казаки сено, отложив эту заботу на потом. Как на грех, случился разлив Дона, и стога ушли вниз по течению. «У чирян чехонь сено поела»,— разнеслось по округе. Помнят об этом и теперь.
Но нынче речь об ином — о запеченной рыбе. На Дону любят побаловать себя ухой из судака да леща, жареным, в золотистой хрупкой корочке сазанчиком да линем. И конечно, запеченной рыбой.
Хутор Малоголубинский, что на самом Дону. Былые времена, совсем недавние. Вышел на баз старый казачура для каких-то стариковских неспешных дел. И вдруг встал столбиком, словно суслик возле норы. Постоял, повертел головой, принюхался и тут же, бабку наскоро упредив: «Я к своим»,— по-молодому заспешил на край уличного хуторского порядка, где жила его дочь с зятем. Там его встретили с пониманием:
— Либо учуял, батяня?
— А как же… Рыбка на сене. На весь хутор слыхать,— причмокнул старик.— Слюнки враз потекли.
Запеченная рыба… Поварские книги грешат: «…рыбу для запекания разделывают на филе…» Считай, загубили. Не то что разделывать, трогать нельзя. Запекается рыба целиком, в чешуе, словно в надежном затворе. Томится в своем соку и жире на легком печном духу.
Запекать лучше всего, конечно, леща. Но можно рыбца, синца, зобана. Словом, жирную рыбу.
Свежая целенькая рыба сначала кладется в соль и держится там — естественно, на холоде — сутки ли, двое, трое, в зависимости от величины. Передерживать тоже нельзя — рыба должна быть малосолой. Невеликой синьге ли, подлещику и восьми часов хватит.
Отлежавшую свой срок в соли рыбу нужно обтереть и даже повесить на ветерок, чтобы она «обвенулась», как говорят, то есть сверху обсохла.
Тем временем хорошо протопленную русскую печь проверяют как для печения хлебов: на горячий под кидают щепоть муки. Если не горит мука, значит, самое время.
Заранее уже приготовлена добрая охапка сена, да не абы какого, а зеленого, духовитого, с цветами. Сено раскладывается на поду, на него, словно на пуховик,— рыба. Заслонка печи закрывается. Теперь жди.
Через время — сорок минут ли, час — такой дух поплывет из печи, что его почуют не только в доме, но и по всей округе. Недаром старый батяня за версту унюхал и, сразу оживев, поспешил к дочке: «Я чую… У тебя рыбка на сене…»
И вот отворяется печь. Рыба — на стол. На легком печном жару лещ зарумянился, в меру доспел под нетронутым панцирем чешуи, словно в глухом запоре.
Для начала надо обломить зажаренный плавничок, похрустеть им, словно оттягивая самое сладкое. А потом разом от переднего плавника заворачивай запекшуюся чешую и шкуру плащом. Обнажил желтое мясо, насквозь пропитанное и протомленное нежным жиром и острым нутряным соком, травным, цветочным духом, солью и чуть-чуть горчиной; отвернул — и ударил в лицо пахучий пар. На мгновение голова кругом пошла.
Но ждать время не указывает. Кто-то, ловкий, уже тянет из горячего недра грудку икры, целиком, в нежной плене ястыка; кто-то хрумтит оплывшим от жира пузырем. Но это все баловство. Лучше сразу отвалить у леща увесистый кус боковины на кривых ребрах, словно на вилах. Вот это всерьез: в меру солоноватое, пахучее, нежное… Не еда и даже не кушанье, а высокое яство — запеченная на сене рыба.
Поверив мне, кто-то со вздохом заметит: «Русских печей давно нет… и сена попробуй добудь…» Таких людей успокою: запечь рыбу можно в обыкновенной духовке, но чтобы легла рыба чешуей не на противень, а на лучинки, нигде не касаясь железа. Если коснется, то прогорит чешуя и шкура, весь жир и сок из рыбы вытечет, останется сухарь. А взамен сена расстарайтесь не просто лучинками обойтись, но положите под рыбу в прогретую духовку веточки вишни с листами, веточки смородины, а сверху — укроп, тоже целый, веточками.
Закройте духовку — и через недолгое время почуете не только поспевающей запаренной рыбы дух, с солонцой, но тонкий аромат вишневой коры, смородинного листа, укропа. А потом все это смешается в горячий и терпкий дух донской запаренной рыбы.
От огня к огню
Мой старый приятель, художник по профессии, недавно подарил мне свою картину с названием «Верба». И сразу так ясно вспомнилось, как давным-давно ненастным весенним днем у себя на родине бродил я в Березовом логу — просторной лощине, заросшей тополем да вербой.
День выдался неласковым. Наверху, на песчаных буграх, пронзительно дул ветер. Раскосмаченные серые тучи неслись по небу стремительно, низко, задевая маковки тополей. Пустая земля, голые деревья, зябкость и сырость — словом, ненастье. Я брел и брел, уже ругая себя за то, что выбрался из тепла, из дома.
И вдруг возле ручья, в низине, скорее не увидел я, а почуял что-то необычное — словно солнечный свет, золотистое его сияние. Я подошел ближе: это цвел невеликий вербовый куст.
В белых сережках его, через серебряный ворс, пробились желтые пыльники цвета. И сережки стали золотистыми. Вербовый куст в ненастном пасмурном дне кротко сиял теплым лампадным светом. Он светил, согревая вокруг себя землю, и воздух, и зябкий день. Согрел и меня.
Прошло много лет. Но я и теперь, через время, вижу тот пасмурный день и сияние золотого вербового куста.
Огромный просторный мир: пустая земля, низкое небо, тополевые, ольховые голые ветки, песчаные бугры, меж них — неезженая дорога,— все это зябко и сиро. А рядом — малый куст золотой, словно лампада в красном углу. Символ весны и жизни в ненастном дне.
Все это было давно. Но так хорошо помнится! А теперь еще и картина висит, тоже светит.
Когда-то я рассказывал о цветущей вербе своему приятелю-художнику. Он, видно, запомнил. Через столько лет, но написал картину. Значит, и ему легло на душу. Хотя что тут особенного? Просто пасмурный день и золотистая верба. Но помнит сердце…
Сколько в жизни нашей таких вот теплых минут, которые уйдут, но помнятся. У каждого — свое.
Память детства, один из обычных дней. Какое-нибудь утро ли, поздний вечер, когда склоняется к тебе мать ли, бабушка. Теплые руки, доброе лицо. Волна любви. Она проходит, но остается.
Лето. Полдень. Женщина выходит из воды. Сияют радугой капли. Медовое тело…
А вот — малое дитя в колыбели. Еще несмышленое, что-то лепечет. Тянет руки к тебе, а глаза — такие счастливые… Когда это было, господи… Как давно.
Или — желтые листья у тополя, их мягкий ковер. Это — осень. Цветущий вербовый куст по весне. Чей-то светлый лик…
Есть рассказ ли, притча о ночном далеком огне, который впереди. Он зовет, он скрашивает, сокращает путь, особенно во тьме.
Для меня и, думаю, для всех нас одного лишь огонька впереди, конечно, мало. Их много на нашем пути, добрых знаков, теплых дней и минут, которые помогают жить, раздвигая порой сумеречные, ненастные дни.
Так и живем, так и плывем: от огня к огню.
Голос неба
Долгие дни и ночи стояла изнуряющая летняя жара; и вот наконец августовской ночью пришла гроза с ветром, молнией, громом, спасительным ливнем. В ночи отгремело, отсверкало, пролилось; и в новом дне встало над землей чистое, глубокой синевы небо. Глядеть на него — отрада.
Лето теперь быстро пойдет на убыль. Дело к осени.
Ночью я вышел во двор: августовская тьма, яркие звезды. Над головой — светлый дым Млечного Пути; по его обочинам, словно цветы придорожные, крупные звезды. Но виден лишь клок ночного неба. Мешают дома, деревья. А хочется все небо увидеть, от края до края.
Тогда же ночью я решил: надо ехать куда-нибудь на простор, с ночевкой.
Назавтра уехали на Голубинские пески — место славное и безлюдное. Разбили палатку на берегу Дона и несколько дней прожили. У меня была одна лишь забота — небо глядеть.
Здесь, в степи, небо просторное. А если взберешься на песчаный холм, то и вовсе — немереное: с далеким поднебесьем, пологими небосклонами, конца и края которым нет. Уже не небо, а небеса.
Над головой — густая сочная синь, бездонная глубь. Чуть далее, стекая по небосклону, синева светлеет, переходя в нежную голубизну, в бирюзу, а потом и вовсе в лазурь. Сияющая белизна облаков — кучевых, плывущих нескончаемым караваном, или далеких, перистых, их морозный узор оттеняет небесную синь.
Ранним утром, перед восходом солнца, облака недолго полыхают, горят, переливаясь алым и розовым. Зрелище сказочное. Его не описать.
Заря вечерняя величавей, царственней. В ней больше красок тяжелых: багрец, золото, пурпур. Но есть в закатном полыхании какая-то печаль, тревога. Это — свет уходящий, он гаснет не скоро. Сторона закатная плавится желтизной и зеленью, долго не угасая. На западе сгустилась темная синь ночи ли, ненастья; тонкие нити молнии беззвучно нижут далекую тьму. В северной стороне — просторная полынья светлой, промытой дождем лазури, в сизых, с багровостью берегах. Над головой — высоко и далеко — сказочные золотые плесы, золотистые же гряды летучих облаков и фиолетовые громады тучевых утесов с сияющими вершинами.
Ночью небесный купол вовсе огромен. Он прекрасен, порой жутковат, а иной раз и страшен.
Стоишь, вокруг тебя — звездный океан в огнях, полыханье. В ночном покое, в тиши небесные огни множатся, сияют ярче и ярче. Сужается земная твердь. Звездный прибой плещет возле ног твоих. Шатнулась земля — ковчег ненадежный,— и вот уже плывешь ты путями небесными.
Так бывает, когда ты не в тесном городе, а где-нибудь на просторе.
Но порой даже в обыденной жизни — в городской толчее, домашних заботах — случайно поднимешь глаза и замрешь, обо всем забывая. Виной тому — далекое небо, облако или вечерняя звезда: глазам — отдых, сердцу — покой, душе — великое утешенье. Это — высокий голос, который порою зовет нас, поднимая от хлябей земных, чтобы помнили: на белом свете живем под белым небом.
Екимов Борис Петрович родился в 1938 году. Постоянный автор журнала. Лауреат Государственной премии 1998 года. Живет в Волгоградской области.
2000 год
«Новый Мир», №7
Надейся лишь на себя
Прошлым летом на одном из хуторов Суровикинского района жаловалась мне молодая женщина на житье-бытье: «Колхоз развалился. Разошлись по кооперативам. Муж — механизатор… Но еле сводим концы с концами. Одна надежда: может, в Москве поймут и повернутся… Помогут…»
В Калачевском районе мой старый знакомый, фермер, механизатор, бывший колхозный бригадир, пел ту же песню: «Когда они повернутся?.. Когда поймут?»
На том же хуторе Нижнеосиновский возле тамошнего магазина продавала раннюю капусту тоже молодая женщина. Стояла пора молодого лета, в городе и в райцентре торговали капустой привозной: из Средней Азии, Азербайджана и даже из Турции.
— Турецкая?— спросил я прицениваясь.
— Своя, сами вырастили,— ответила женщина.
Я удивился: ранней капустой у нас никогда не занимались. Даже в пору расцвета овощных совхозов. Поэтому я переспросил:
— Сами?
— Другой уже год занимаемся. Мы — переселенцы, из Казахстана. Земельного пая нет, а жить надо. Занимаемся… На кого надеяться…
А когда пробивались мы к полевому стану моего знакомца фермера, выбирая дорогу проезжую, через Старую Сокаревку, объездом, радовались ненастью. Для наших степных краев дождик — всегда подарок. Будто и немного было дождей, а трава в логах да падинах — в рост человеческий. Зеленым морем стоит, колышется.
Добирались до полевого стана трудно, но долго не гостевали. Отметились — и слава богу. Люди все те же: могучий отец, крепкие сыновья. И речи все те же: «Когда же повернутся к нам лицом… Неужели они не видят… Опускаются руки… Ведь десятый год не дают работать…»
Возвращались другим путем, убегая от находившего дождя. А картина все та же, глазу приятственная: зеленые лога, высокие сочные травы. И — покой нетревоженый.
Объявление в районной газете: «В хуторе Рубежный продается дом в 3-х уровнях, со всеми удобствами, колбасный цех, ангар, емкости — 2 шт. по 10 куб. м. Автономное водоснабжение (насосная станция) и электроснабжение (КТП-100). Справки по телефону…»
Конец истории. Начало ее — в далеких теперь уже годах, когда зарождалось фермерство. Отставной военный: энергичный, грамотный, полный сил. Жена — ни энергией, ни образованием не уступающая мужу. Подчеркну, это — не лодыри, не пьяницы, не болтуны, а работящие, в чем-то даже самоотверженные люди, движимые благими намерениями: хотели осесть на своей малой родине, где развалился колхоз. Хотели свою жизнь обустроить и людям помочь. Земледелие и переработка продукции. Пекарня, колбасный цех, пруд, рыба, плодовый сад, макаронная линия.
Еще раз повторюсь: не фантазеры. Пекарня работала несколько лет, хлеб сеялся, имели около двух десятков наемных рабочих. Не «бичей», а работников с зарплатой и «отпускными».
Такие фермеры — кладезь для журналистики. Можно показать очень убедительно, как не справляется государство со своими обязанностями, «бросая на произвол судьбы».
Цитирую районную газету:
«…отстроили прекрасный двухэтажный дом, рядом — ангар для зерна, хлебопекарня… рядом с домом — насосная станция, работающая в автоматическом режиме… холодная и горячая вода круглые сутки…
Мясной цех удалось запустить. Ветчину, корейку, грудинку продавали в Волгограде, но народ нынче малоденежный, торговля шла вяло. Реализация одной тушки затянулась на месяц, разве это дело? Пришлось цех остановить. А вскоре такая же участь выпала и на долю пекарни.
В последнее время работать становилось все труднее и труднее. Райпо, запустив собственную пекарню, вытеснило их из магазинов, принадлежащих райпо в Кривой Музге, Степаневке, Бузиновке, Варламовке и Ярках. После резкого подорожания бензина и муки возить хлеб в отдаленные места фермерам стало невыгодно, а поблизости торговать негде.
Фермерское малое предприятие, не получающее от государства никаких дотаций и не пользующееся никакими льготами в налогообложении, не выдержало конкуренции и оказалось раздавленным большими хлебозаводами, дотируемыми из бюджета.
Работать себе в убыток конечно же безрассудно. Тем более печки, пришедшие за три года в негодность, надо менять, с долгами, которых накопилось до 50 тысяч рублей, надо расплачиваться… Хотели было закупить макаронную линию, но слишком дорого это обойдется. Одна сертификация стоит 10 тысяч рублей. Сколько времени надо, чтобы это все окупилось?
При нынешних экономических условиях положение оказалось безвыходным.
На поле дела тоже не блещут. Третью часть посевов вытоптали чужие отары. Иск предъявлять некому: не пойман — не вор. Урожай собрали слабый, в среднем по 8—10 ц/га. Зерно сдали на «Сарепту» на муку. А семян нет, надо покупать. Да и стоит ли сеять? Земля засоренная, надо бы пустить ее под пары, обработать как следует, а на тот год видно будет.
Брошенное государством и местными властями на произвол судьбы фермерское предприятие тихо скончалось. Провозглашаемые с высоких трибун слова о поддержке фермерства и малого предпринимательства оказались пустым звуком. А ведь во многих странах именно малый бизнес играет немаловажную роль в экономике. Во Франции, например, малые предприятия на 3 года с момента возникновения освобождаются от налогов, процедура их регистрации упрощена, система кредитования доступна. У нас же экономическая политика направлена лишь на удушение тех, кто что-то пытается производить. Обыватели и представители властей смотрят на них как на норовящих нажиться рвачей, не видя другой стороны медали: реальной пользы, которую они могут принести.
Где же выход? Пока его нет. Остается только ждать изменений в государственной политике или у моря погоды, что почти одно и то же».
Позволил себе повторить вывод районной газеты, потому что подобные заклинания слышу я днем и ночью, со всех сторон: на хуторе, в райцентре, на областном совещании… «Бросили, кинули, отвернулись…»
Но ведь это — неправда. Той самой фермерской семье, о которой плачет районная газета, государство оказало огромную помощь.
Вначале людям со стороны лишь под хорошие намерения выделили бесплатно 150 гектаров земли. Тогда как пай местного колхозника — 15 гектаров. Затем дали очень солидный банковский денежный кредит, на который был построен дом со всем оборудованием, куплены трактор, прицепной инвентарь, автомобиль. Не надо забывать, что тогдашний банковский кредит был просто подарком. Инфляция практически превратила его в безвозвратный. Многим ли в России достались такие подарки — в сотни миллионов, пусть и тогдашних, рублей.
Когда колхозные власти попытались обидеть нашего фермера, на его защиту встал суд, и колхоз заплатил очень солидный штраф — в 30 млн. рублей.
Так что не надо лукавить, помощь государства была серьезной. Но она не может быть бесконечной, эта помощь. Материнскую титьку сосут лишь до поры, а не всю жизнь.
Со стороны судить легче, это понятно. Но он и не помешает — трезвый взгляд постороннего.
Штепо, Парчак, Пушкин, Алейников, Колесниченко, Вьюнников…
Штепо чуть не в первый год своего фермерства на отведенном участке заложил два просторных дома, сделав два фундамента: себе и сыну. Эти фундаменты и сейчас в той же поре. Но рядом поднялись и работают ангар и мастерская для тракторов и машин, заправочная станция. Работает и крестьянское хозяйство отца и сына Штепо. Достаточно успешно и надежно. В своем прежнем жилье остались Парчак, Алейников, Крючков и другие. Хотя так естественно стремление человека жить на своей земле, в своем добром доме.
Анатолий Епифанов из соседнего района вначале построил кирпичную конюшню для лошадей, которыми он занимается, зерносклад, крытый манеж. Он строил и строил, а сам с семьей ютился в доме-времянке. И лишь потом взялся за свой дом. Так же было и у его брата Николая: коровник, телятник, мастерская, а семья — в вагончиках.
Не к бедняцкому, земляночному бытию призываю, но прошу подумать: почему Парчак свой проект большого дома в степи, на своей земле, спрятал в стол до иных времен? А проект заманчивый, даже с бассейном. В Заволжье очень жаркое лето. Хотя, наверное, мог построить. И кредит «на обзаведение» в свое время брал. И доходы были: по 36—40 центнеров пшеницы с гектара получал. На сотнях гектаров.
Если есть деньги, то нынче в самом глухом углу, за 50, за 70 километров от райцентра, можно построить дом в трех уровнях, колбасный цех, пекарню, автономное водо- и электроснабжение, можно построить все, что тебе на ум взбредет. Но… никто из тех сравнительно успешливых фермеров, которых я знаю, таким строительством не увлекается. Пашут, сеют, убирают… Сеют, пашут, убирают… А если и затеваются стройки, то лишь для того, чтобы успешнее пахать, сеять и убирать. Все люди неглупые, опытные, понимающие.
В годы прошлые в одном из новомирских материалов писал я о том, что, на мой взгляд, проводимая нынче аграрная политика приведет к тому, что все коллективные хозяйства развалятся. Не сразу все вместе, а постепенно. Сначала слабые, а за ними и все другие. И уже потом, на колхозных обломках, начнется новая жизнь. Тоже не вдруг, а помаленьку, словно на пепелище.
Задонский хутор, на который езжу я чаще, чем в места иные,— очевидный, зримый пример и пепелища, и новой жизни.
Лет пять назад на одном из многочисленных тогда колхозных собраний спрошено было в лоб:
— Сейчас мы растаскиваем все что можно, этим кормимся. А что будем делать, когда растаскивать будет нечего?
Вопрос повис в воздухе, как всякий вопрос о будущем. Живем сегодняшним днем. Живы — и слава богу.
Но вот он, хутор, где уже несколько лет напрочь отсутствует колхоз. А значит, нет колхозной скотины на фермах, кормов для скота, поля брошены, никто не пашет, не сеет, колхозных тракторов, автомобилей нет, работы нет, а значит, и зарплаты нет. Растаскивать нечего. Плохонькую колхозную кухню и склад при ней разобрали и разнесли по дворам, как только «закрылась» на хуторе колхозная бригада. Хуторской клуб растащили много раньше. От хуторского магазина оставили только стены. Окна, двери, крышу, полы и прочее прибрали к рукам.
Итак, колхоз — теперь уже по времени в отдалении. На хуторе речей типа: «Когда повернутся…» — уже не слышно. Ясно, что колхоз не вернется. Но продолжается жизнь, в том числе и производственная. И в ней главная фигура на хуторе — Виктор Николаевич Коньков. Человек он приезжий, из Сибири, где трудился то ли в нефтяниках, то ли в геологоразведчиках. Появился он в нашем районе в 1989 году. Осваивался понемногу: сначала помогал бахчеводу-родственнику, потом арендовал 15 гектаров у судостроительного завода, чьи земли были в Малом Набатове. Наконец в земельный комитет обратился. Дали землю возле хутора Осиновский.
Великих земледельческих подвигов Коньков не свершал. Он — не Штепо, не Мельников. О нем газеты не писали, высокие гости к нему не ездили. Но в калачевской округе понемногу утвердилось: Коньков — это арбузы, дыни и даже огурцы в жаркой степи, без полива. Последнему вначале не верили, потом воочию убедились.
Никаких льготных кредитов Коньков и в глаза не видал. Давали землю, разрешали на ней работать — и на том спасибо. Арбузы и дыни продавал в райцентре, возил в северные области России, прямо на бахчу приезжали покупатели и перекупщики.
Пять лет назад Коньков перебрался на земли хутора Набатовского, основав там невеликую производственную базу. Земля — рядом.
В прошлые годы приходилось ему возить людей на прополку бахчей и на уборку урожая из станицы Голубинской. Дорога — неблизкая. Нынче возить никого не надо. Из Набатовского хутора люди сами приходят. Для них бахчи Конькова — единственная возможность заработать. Тридцать ли, пятьдесят, семьдесят рублей в день. Но наличными. И сразу же после окончания работы.
Нынешним поздним летом приехал я на бахчи Конькова. Возле сторожки расположился, разрезал арбуз, сижу наслаждаюсь. А тут как раз подвезла машина работников. Конец рабочего дня, расчет.
Виктор Николаевич, человек росту невеликого, лобастенький, в вечных своих кирзовых сапогах, коротко объявил людям: «На этом поле заработали столько-то рублей… На этом — столько-то… А Иванов-Петров полдня работали, им вдвое меньше…»
Такой тут поднялся гвалт и крик, не то что на хуторе, а в далекой станице, наверное, слышно. Я и арбуз отставил, прикидывая, как помочь Виктору Николаевичу. Его ведь на куски сейчас разорвут.
Не разорвали. Коньков спокойно раздавал деньги. Гвалт стихал. Люди пересчитывали бумажки, прятали кто куда. Потом Коньков объявил: «Нужны люди на погрузку машин. Кто останется?» От желающих не было отбоя. Потом еще одно объявление: «Кто закончил работу, могут взять по два арбуза».
И все. Тишина, покой на бахчах. Несколько машин-рефрижераторов грузятся. Люди расходятся. Одни к хутору пошли. Другие — к работе. Мы с Коньковым беседуем. Я налегаю на арбуз, посмеиваясь, спрашиваю: «Каждый день такое при расчете?»
— Бывает,— уклончиво отвечает Коньков.— Деньги…
И в самом деле, деньги, жизнь. Единственная возможность заработать — это бахчи Конькова. До станицы — чуть не двадцать верст. Там сами без дела сидят. До райцентра — полсотни километров. Там закрылись все невеликие предприятия. А великих и не было.
В последний раз с Коньковым я виделся зимой. Приехал на хутор, зашел к нему. Поговорили о дынной мухе, которая начисто погубила прошлым летом урожай, об арбузных семенах, которые дороги, а покупать надо хорошие семена, и о том, что надо бы помаленьку начинать заниматься мясным скотом. Вон какие попасы, и сено заготовить можно. Но деньги…
Повторюсь, десять лет работает на задонской земле Коньков. Хор б ом не построил, «мерседесов» не купил. Трудится. Сам живет и другим помогает жить, создавая рабочие места на далеком хуторе, где развалился колхоз. И никаких песен про экономическую политику высоких властей: «Может, повернутся…» да «Может, оглянутся…». Надежда лишь на свои руки, на свою голову.
Бахчи Конькова на сегодняшний день — главное производство хутора, самый видный росток на пепелищах колхоза. Есть ростки и поменее.
Кравченко — здешний рожак. Но перебрался на постоянное жительство в хутор лишь несколько лет назад из райцентра. Можно сказать, вернулся на родину, когда понял, что в райцентре содержать семью не сможет.
Хутор — умирающий. Это видно на взгляд. Пустые глазницы домов, развалины, бурьян. Добротные подворья редки. Одно из них — Виктор Юрьевич Кравченко. Лишь на забор поглядишь и вздохнешь: столько труда. Дубовые столбы. Ровные планки ограды. Каждую надо обтесать, прострогать, прибить на место. Не десять планок, не сто. А более чем километровый охват подворья, в котором поместился молодой сад, огород, емкости для воды, трубы для полива, две артезианские скважины: одна — скот поить, на базу, другая — для огорода и сада. На базах — скотина, птица. «Рук не хватает,— говорит Кравченко.— Я и скотник, и плотник, и садовод, и все на свете». Крестьянин, добавлю я. Летом рядом с отцом трудятся сыновья. Старший теперь в армии. Хотя он здесь, в Набатове, был бы нужнее не только для родителей, но и для страны. Младший сейчас в школе, в райцентре. А зимний крестьянский быт — тоже не отдых: корми скотину, пои, отел начинается, готовься к весне, нехитрое, но необходимое строительство продолжай. И все — своими руками. Без плача, без стонов, без упреков властям близким и далеким.
На краю хутора, возле Дона, живет чеченская семья Магомадовых. В годы прошлые, при колхозах да совхозах, чеченцев было намного больше. Занимались они скотиной и колхозной, но больше своей. Помню Ваху — нефтяника, инженера по профессии. Скота он имел много. О кормах для него особо не заботился. Никаких гумен у него не было со скирдами сена и соломы. Каждое утро колхозные скотники-«кормачи» первым делом везли корма с колхозных гумен на базы к Вахе, получали свой «гонорар» и уж тогда с новой энергией приступали к основным обязанностям на колхозной ниве.
Так было везде. Когда колхоз развалился и кончились дармовые корма, попасы, работники, нефтяник Ваха свернул свое производство и уехал в город, устроившись по основной специальности в «Лукойл».
Но Магомадовы на хуторе остались. И по-прежнему на их подворье мясной скот, козы, коровы, птица. И что примечательно: трактор, сенокосилка, сенной скирд, поставленный с осени. Научились сено косить. Нужда заставила. Научились коров доить. Нынче на райцентровском базаре в субботу да воскресенье в молочном ряду продают творог, сметану не только казачки, но и чеченки.
Еще одно подворье. Просторные крепкие коровники, базы, стога соломы и сена. (Имен больше называть не буду. Потому что все-таки издал наш губернатор постановление, о «заманчивом» проекте которого писал я в прошлом очерке. Постановили: пересчитать на сельских подворьях скотину. Конечно, для того, «чтобы помочь селянину». Постановление неисполнимо, но быть невольным доносчиком не хочу.)
На подворье у Василия (так его назовем) мясной скот, лошади (тоже для мяса). Сам хозяин имеет квартиру в областном центре. Но живет там лишь зимой. Все долгое лето — на хуторе. Конечно, имеет работника, который зимою за скотом ухаживает, и летом ему дел хватает.
Чуть далее — двор неказистый и флигелек незавидный. Живет тут Володя — человек пришлый. Когда-то последний управляющий здешним отделением колхоза величал таких людей «дачниками». Говорил мне: «Наехали на нашу голову. Работать не хотят. А им все за бутылку возят наши пьяницы: комбикорм, сено… Надо бы их всех выселить…»
«Выселился» колхоз. И бывший управляющий Николай Николаевич теперь занимается самостоятельным делом — бахчами. А вот «дачники» остались и без колхоза не умерли. Тот же Володя, прежде городской житель и ныне у него квартира в областном центре, теперь стал зажиточным хуторянином. Есть у него крупный рогатый скот, лошади, с недавних пор стал заниматься курами. Колхозную кузню он помаленьку разобрал и построил себе просторный и теплый курятник. Несушек у него более сотни. Яички продает оптом каждую неделю в райцентр. Приезжают и забирают.
Еще один «дачник» — местный вожак, но жизнь отработал в городе, ушел в пятьдесят пять лет на пенсию, поселился здесь. Дом — полная чаша. Две коровы, мясной скот, утки, куры. Кормит себя и городских родичей.
Хутор — небольшой. Все тут на ладони. Можно пересчитать и людей, и скотину. Но можно без арифметики, по жизни. А она, эта жизнь, без колхоза очень быстро, за два-три года, разделила хутор на три группы.
Первая — это старые колхозные пенсионеры, доживающие век одиноко, без помощи молодых рук. Они копаются в огороде, держат кур, уток, у кого силы есть — свиней, коз. Но все это только для своей жизни.
Вторая группа — «лодыри». К ней я отношу людей, которые по годам и силам могли бы горы свернуть. Но вот не сворачивают, как говорится, «годят». В колхозе они работали скотниками, трактористами. Эти «скотники» весьма успешно ликвидировали общественное животноводство на хуторе.
В конце 80-х годов рядом с хутором построили огромный белокаменный животноводческий комплекс. Было создано большое стадо мясного скота, «абердины» — черные, могучие, глядеть любо. Они и зимой могут пастись, из-под копыт добывая корм. А выпасы здесь немереные.
Но начались перестройка и реформирование сельского хозяйства. «Слоб б ода»… Колхозные хуторские работнички попировали всласть. Скот среди бела дня резали, стреляли из ружей, мясо меняли на самогон, гулеванили с утра до ночи. «Пропадали» уже не бычок-другой, а десять, двадцать, тридцать голов. «Слобода»! За два ли, три года общественное животноводство закончилось. На «комплексе» дежурят два караульщика.
А колхозные скотники остались не у дел. Свой скот у них не разводится, несмотря на профессиональный опыт. Живут пенсиями стариков, детскими пособиями, случайным промыслом, большие любители выпить; пьяные и трезвые, горюют о прошлом: «Вот если ба…» Это — лодыри. Можно в кавычки поставить, а можно и так. Все будет правдой.
Еще одна треть хутора — это новая поросль, возникшая на руинах колхоза. Состоит она в основном не из бывших колхозников, а из «дачников», то есть людей, попытавших иной доли — городской. Коньков, Кравченко, Володя, Михаил, Алик, еще один Алик, Магомадов. У этих людей — бахчи, мясной и молочный скот, пуховые козы, лошади, птица. Пусть невеликое, но производство не только для своей семьи, но и для рынка.
Конечно, Коньков, Пушкины, Синицын, Семерников — это не Миусков, не Штепо, не Гришины. У последних хозяйственный оборот на порядок и более выше: не сто гектаров, а тысячи. Но могучих хозяев, этаких «латифундистов», у нас пока очень мало. Не они создают продовольственный рынок. На калачевском базаре, на волгоградских рынках покупают люди мясо от Пушкиных, Кравченко, арбузы и дыни от Конькова и Синицына, молоко — с камышевских, голубинских подворий, где новый сельский порядок создается понемногу на руинах, а порою еще на живых развалинах колхоза. Нынешние перемены в сельском хозяйстве происходят без руководящего шума и грома, хотя он повсеместно и ежедневно раздается… Но настоящие, коренные «реформы» идут нынче не столбовой дорогой, не большаком, под «мудрым руководством», они пробираются путями окольными, проселком, стараясь меньше себя выказать, чтобы в очередной раз не «пересчитали», лишний раз «не обложили», потому что доходов больших пока нет, а надо жить на себя лишь надеясь. Руки-ноги есть, голова на месте, в подмогу на весь хутор — четыре колесных трактора, собственных, стареньких, но для дела гожих.
До асфальта — почти тридцать верст, до райцентра — шестьдесят, до областного города вовсе далеко. До Москвы — много ближе. Телевизор да радио без передыху галдят: Чечня, Путин и прочее. А вот про нового председателя колхоза, которого два дня назад выбрали, старого прогнав, про это хуторянам лишь я рассказал. Новость мою встретили равнодушно. (Хотя все земли хутора числятся в колхозе: земельные, имущественные паи — там.) Но это равнодушие понятно: веры совсем нет. Десять лет передряг. Что ни год, «новые формы» (АОЗТ, КСП, МУСП…), новые начальники… А проку? «Надейся на себя»,— вот что отчетливо понято.
А на центральной усадьбе — очередное собрание. Новый председатель. До этого он был заместителем. Теперь будет председателем. До нового собрания. В нашем районе у восьми председателей из двенадцати стаж руководства — от одного месяца до года. Нормальные ответственные люди в председатели сейчас не пойдут.
На центральной усадьбе — собрание, в райцентре — совещание, в областном городе — расширенная коллегия, в масштабе страны только на этой неделе два «мероприятия» по селу: в Москве и в Орле.
Польза таких совещаний для меня весьма сомнительна, разве что для резона: «Не зря хлеб едим».
Пример. Январь 2000 года. Очередное совещание в райцентре. Цитирую районную газету.
Начальник районного управления сельского хозяйства: «…генотип животных сохранен. В молочном скотоводстве… «Волго-Дон» разводят скот черно-пестрой породы… В СППК «Крепь» утвержден статус овцеплемзавода… обеспечивается искусственное осеменение… С учетом обеспечения кормовой базы в 2000 году продуктивность животных будет восстановлена…»
Директор АОЗТ «Волго-Дон»: «Сегодня в стране царит дичайшее варварство: идет целенаправленная работа, чтобы село убить».
Председатель СППК «Крепь»: «Без внимания и овцу не оставляем, есть смысл ее содержать… по шерсти мы получили прибыль…»
Это — с трибун.
А в это время в «Волго-Доне» (снова цитирую «районку»): «Ферма встретила гостей горами невывезенного навоза и унылой картиной понуро опустивших головы тощих, стоящих по колено в грязи коров… Из-за постоянного недокорма скот отощал. Коровы дают по 1,5—2 литра молока. От «поллитровых» и «литровых» коров придется избавляться. Их даже на мясо не принимают, только на птицефабрику по рублю за килограмм. Но возить туши туда — горючее даже не окупится. Проще вывезти на скотомогильник и бросить, в лучшем случае сняв шкуру. Многие буренки до весны не дотянут… Сейчас главная задача — дотянуть до весны, спасти поголовье от голодного вымирания».
И это — лучшее в районе, а может быть, и в области элитное стадо. Привозили коров из Голландии, при надлежащем уходе и кормежке эта ферма в среднем давала около 6000 килограммов молока в год. Это в среднем. А отдельные — по 8000. Европейский, мировой уровень. Такие вот коровы дохли нынешней зимой от голода. Под звон речей. Под пристальным надзором властей районных и областных (хозяйство расположено рядом с городом).
Не нужно быть специалистом сельского хозяйства, чтобы уже в сентябре месяце понять: «Кормов для коров нет. Не заготовили». Виновато государство: «Целенаправленная работа, чтобы село убить» (объяснение руководителя). Нет кормов. Продай коров. Пусти под нож. Нет! Пускай мучается, а потом дохнет. «В стране царит дичайшее варварство…» — вещает с трибуны руководитель хозяйства. Только вот кто «варвар»? Кремлевский начальник или такой вот руководитель, пришедший к власти на волне «митинговой демократии» и превративший лучший совхоз области и страны в скотомогильник.
А неподалеку от «Волго-Дона», не слыша обещания своего руководителя: «Без внимания овцу не оставим», в племенном хозяйстве «Крепь» сотнями гибли от голода овцы. Обессилев, ложились и уже не вставали.
Скучно об этом говорить. Тем более, что еще пять лет назад в таких же новомирских очерках писал я, что даже хозяйство могучее рухнет только «с большим грохотом», если… Много этих «если». Вот и рушатся.
А на малом, забытом всеми начальниками хуторе, о котором вел я речь, скотина хорошо перезимовала. И даже более того: на каждом подворье осталось сена еще на одну сытую зимовку.
Под одним небом живем, на одной земле. И время одно — век XX, в котором русскую деревню накрывает уже третий вал разоренья. Гражданская война, «коллективизация», а с нею — уничтожение «кулачества», теперь настал горький черед колхозов. Их — тоже под корень, все с тем же лозунгом: «До основанья!»
См. в нашем журнале очерки Бориса Петровича Екимова: «В дороге» (1994, №1, 3, 6, 9), «Последний рубеж» (1995, №4), «На распутье» (1996, №6), «В снегах» (1997, №1), «Итоги «тринадцатой пятилетки»» (1997, №5), «Возле старых могил» (1998, №5), «Девять лет спустя» (2000, №1).
2000 год
«Новый Мир», №8
Житейские истории
Мишка
Зимним неранним утром зашел я навестить старинную хуторскую жительницу Чигариху. Сидели беседовали. Тут и объявился Мишка, а вернее, Михаил Васильевич, хуторской фельдшер, возраста немолоденького, давно ему за пятьдесят перевалило. Но мужик еще крепкий, бегучий. Жил он в соседнем хуторе Арчадим, наведываясь к своим пациентам дважды в неделю. Придет, обойдет стариков по домам. С тем и до свидания. Вот и ныне свершал он свой обычный маршрут от дома к дому.
Поздоровались. Теплой, довольно заношенной одежки лекарь снимать не стал, лишь шапку на крючок повесил. Разложив на столе нехитрую снасть, он измерил хозяйке давление, посетовал, что оно немного повышенное, сказал, какую таблетку проглотить.
— Сын приезжал с друзьями, охотились,— объяснила причину своего недуга хозяйка.— Два дня с ними колготилась. Вот и болит голова. Может, вы закусите, Михаил Васильевич?— спохватилась она.— Рюмочку выпьете, ныне — праздник. Гости оставили…
Фельдшер, поглядев на меня, решительно отказался: «Нет-нет»,— и, сложив инструмент в заплечную сумку, подался из хаты.
— Не пьет…— со вздохом проводила его хозяйка.
В окошке промелькнула фигура лекаря: он спешил по тропинке к займищу, к Дону. Видно, низом решил пойти, берегом. Там дорога — длинней, зато под береговыми кручами от ветра затишка.
— Не пьет…— задумчиво повторила Чигариха.— И слава Богу. Такую головку сгубить, Господи… Бывало, мамка его радовалась да гордилась: доктором будет сынок… А к людям он — желанный… Старикам всегда помощь окажет.
Живет Мишка в хуторе Арчадим, что в семи верстах от Ендовского ниже по Дону. Сюда ходит два ли, три раза в неделю, получая за труды фельдшерскую ставку. Прежде добираться от хутора в хутор было нетрудно: всякий день возили учеников в станичную школу, механизаторов — на работу, в ремонтные мастерские, хлебовозка наведывалась, другой транспорт. Теперь все это в прошлом. Никто никого никуда не возит. Вот Мишка и бегает то вберхом — через курганы, то низом — по берегу. Летом да посуху велосипед на подмогу.
Наша первая встреча случилась два ли, три года назад, когда в январскую пургу понесла меня нелегкая в Ендовской хутор. Зима была снежная, ветреная, но в тот день с утра будто утишилось. Спокойно добрался я асфальтом до станицы, потом — проселком, порой пробиваясь через заносы до хутора Арчадим. Поднимался ветер. На бугор стал выбираться, а там, на юру, метет и пуржит. В двух шагах ничего не видать — белая муть. Дорога нечищеная, неезженая, ощупкой ползешь. Конечно, залез в канаву, забуксовал, стал тонуть в сыпучем сухом снегу. Из машины вышел. Снежная круговерть. Свистит и воет степной буран. Обжигает лицо и просекает насквозь теплую одежду.
Понял я, что судьбу пытать нечего. Слава Богу, что от хутора недалеко уехал. Он — внизу. Надо подобру-поздорову возвращаться.
Но чтобы вернуться, нужно еще выбраться из снежного плена. И тут послал мне Бог нечаянную подмогу.
Снизу, по дороге от хутора, из снежной круговерти вынырнула фигура человека, который без лишних слов все понял и помог, ловко орудуя лопатой и подсобляя машине, которая с его помощью вылезла на полотно дороги, развернувшись вниз, чтобы катить к Арчадиму.
— Поехали…— сказал я нечаянному своему помощнику.
— Нет. Мне — туда,— махнул он рукой в другую сторону.— Мне в Ендовку.
И ушел тут же, утонув в белой метельной мгле. Я его и не разглядел толком. Худощавое красное от ветра лицо под надвинутым башлыком куртки. И все.
Благополучно скатившись в низину, к жилью, я остановил машину возле домика хуторской начальной школы. Всегда я туда заглядываю. И нынче зашел. Порадовался на ребятишек, поговорил с учительницей, давней знакомой, рассказав о своей незадаче и нечаянном избавителе, вызволившем меня.
— Это — Мишка,— с ходу угадала учительница.— В Ендовку пошел. Он там фельдшером.
И тут же коротко, сожалея, поведала повесть простую и грустную: свой, хуторской, светлая голова, медицинский институт закончил и даже еще какой-то, работал, дослужившись до главного врача больницы. А потом — семейные нелады, пьянство. Вернулся к матери на свой хутор, и хорошо, что место фельдшера в Ендовском было не занято. Который уж год ходит туда два ли, три раза в неделю. Платят копейки.
— В такую метель…— посетовал я.
— Весь месяц метет… Да ничего,— посмеялась учительница.— Мы привычные. В школу как раньше ходили… Через бугор и подались…
Может, и впрямь привычные. На обратном пути, в теплой машине, выбравшись на асфальт, я катил и катил через белесые волны метели; но становилось мне зябко, когда порою вспоминал о человеке, который теперь один в чистом поле. Буран к вечеру стал сильнее. В двух шагах белая мгла. Фары пришлось включить, сбавить ход. Доехал благополучно.
Тем же годом, но в конце лета приехал я в Ендовской хутор за шиповником. Товарищ мой, у которого обычно нахожу я приют, охотно составил компанию, тем более что шиповник нынче в ходу: меняют его на картошку, крупу да сахар, на одежду и обувь, которые привозят прямо на хутор расторопные люди.
День-другой не торопясь собирали мы шиповник в местах для души и глаза приятных: Семибояринка, Большой да Малый Демкин, придонские кручи, откуда видишь просторные воды реки, округу.
Потом хозяин мой, помыслив, решил привезти соломы.
— Сгодится. Сено сеном…— рассуждал он.— Но и соломку зимой погрызут в охотку. А чего не съедят, на подстилку пойдет. Надо съездить, пока не растянули. Сосед на тракторе подъедет, накидаем тележку. Мишку надо позвать, он поможет.
— Чего нам помогать,— возразил я.— Тележку и вдвоем накидаем.
— Ничего, лишние руки не помешают. У него два института за плечами. Пусть работает…
Когда утром мы поднялись, на скамейке возле крыльца уже сидел наш работник, тот самый Мишка — фельдшер ли, доктор, которого встретил я нынешней зимою, в пургу.
Скоро подъехал трактор с громыхающей тележкой. Покатил. А мы, на машине, следом.
Единственное поле, на каком еще нынче сеяли да убирали, лежало от хутора далеко, за курганом. Пока доехали, разглядел я ближе нашего помощника. Но что в нем: человек как человек, не молод, на лицо довольно приятен. Помалкивает.
Но когда начали солому грузить, понял я правоту моего хозяина: «Лишние руки не повредят…»
Приятель мой — хуторской рожак, а нынче который уж год летует и зимует на хуторе. Я, грешный, порою горжусь, что коса ли, вилы — снаряд для меня привычный. Но начали мы грузить солому на просторную тракторную тележку с высоченной огорожей, и все — налицо. Мы с товарищем подавали солому. Мишка раскладывал ее по тележке, утаптывал, чтобы больше вошло. В распоясанной рубахе, голова плотно косынкой повязана, Мишка все успевал да еще подгонял нас: «Шевелись, мужики…» Тракторист нам стал помогать. Но за Мишкой разве успеешь. «Шевелись, ребята…» Вздымался за навильником навильник. Мишка успевал и принять, и разложить по телеге, и утрамбовать. Утопал в соломе по пояс, но вилы работали без останова и бустали. Мы покряхтывали да пот утирали. Соломенная труха да пыль забивали дых и глаза. Пока прочихаешь да просморкаешь, передохнешь, опершись на вилы, а Мишка подгоняет: «Шевелись, мужики…» — и без устали топчет, набивает телегу. Все ленивее мы работали. А потом вовсе забастовали: «Перекур…» В машине дожидались своей поры арбуз да дыня. Уселись мы возле телеги. Ветерок, желтая стерня, хлебный запах соломы, огромный распах земли до самого Дона, чистое небо, тишь. Арбуз оказался сочным и сладким, с коричневым мелким семенем. Спелая дыня с розовым душистым мясом. Мишка снял косынку и рубаху. Тело его было мускулистым: широкие плечи, узкая талия, могучая спина, упругая кожа. Не скажешь, что почти наш ровесник, под шестьдесят. И на лицо он гляделся гораздо моложе. А уж работал…
Отдохнули. А затем докладывали воз. Свершили его. И поехали.
Потом было долгое застолье, до которого я не большой охотник. И потому скоро ушел в займище, к Дону, пробыв там до темноты.
Поздно вечером, когда уже спать ложились, я вспомнил о Мишке.
— Какой он здоровый… С нами разве сравнить…
— Батрачит по людям,— объяснил мой приятель.— Сено возит, солому, чистит базы, навоз тягает… Кто чего скажет. Зимой дрова привезти, напилить… Коз чесать, репьи выбирать… Лишь кликни… Копейку заплатят. Скотину за людей пасет… На все руки…
Сердобольная жена моего хозяина, услышав наш разговор, со вздохом сказала:
— Ныне вроде не напился. Я ему все подкладывала, чтобы ел дюжей…
Это было осенью, в сентябре. Нынче — зима, но какая-то квелая: снегу — лишь земля забелилась, тепло. Скотина в поле пасется.
На хуторе погостил я несколько дней и, распрощавшись, двинулся к дому. На пути — еще одно малое селенье. Там — начальная школа, знакомые люди. Заглянул, проведал. До вечера было далеко. Не утерпел, к Дону свернул и, оставив на берегу машину, медленно пошел через замерзшую реку к лесистому займищу на той стороне.
С вечера подморозило. Ночью прошел небольшой снег. Дул ровный ветер. По гладкому зеленому льду скользила поземка. Бегучие низкие облака порою закрывали небо, и валил снег. Туча проносилась, и снова слепило белое зимнее солнце. Вдали через Дон бежали чередой дымные серебряные столбы легкой метели.
Замерзшая река была безлюдной. Хуторские рыбаки сидели по домам. Чужие в такую даль не забирались. Зимнее безмолвие смыкалось над рекой и округой, простираясь на многие десятки верст. Лишь ветер, шуршание поземки по льду. Лишь низко летящие тучи. Оловянный зрак солнца.
Миновав реку, я поднялся на берег в займище, густо заросшее тополем, вербой, осиной, а чуть подалее дубком да вязом. И здесь, в безветрии, услышал, а потом увидел человека, который занимался дровами.
Большие деревянные сани стояли на льду, в заливе. Человек тянул из леса и укладывал дровяное жердье, слеги, годные для топки и дворовых дел. Это был Мишка-фельдшер, одетый уже по-рабочему: телогрейка, кирзовые сапоги.
— Бог в помощь,— приветствовал я.— Возить не перевозить.
— Понемногу…— откликнулся он.— Нынче уголек дорогой, людям не по карману. Дровишками тоже можно прозимовать…
В займище, среди стволов и веток, было покойно. По Дону — поземка да метель. Над вершинами старых тополей да верб — верховой ветер. А здесь — словно в тихой горнице: желто светит береговой камыш, багровеют талы, уже выпуская серебро сережек, теплит взгляд зеленая кора тополей. И вдруг — бесшумный снегопад размывает и закрывает желтое, багровое, зеленое. Лишь — бель. А потом снег редеет. И снова вокруг — верба да камыш.
Просторные сани у берега, на них — жердье, рядом — Мишка-фельдшер в старом ватнике, шапке-ушанке. Тащит дровиняки, укладывает, стягивает веревкой. Лицо от мороза ли, работы — румяное, молодое; посмеивается:
— Сейчас потянем. И-го-го! И поехали,— взглянул на солнце.— Еще две ходки можно сделать дотемна. Бывайте здоровы. Приезжайте к нам…— попрощался он, груженые сани сдвинул плечом и покатил их по гладкому речному льду.
Ветер дул ровно, поперек Дона. Снежная крупа сыпанула, шурша по одежде. А потом повалил густой снег, обрезая округу: ни хутора на той стороне, ни человека с санями. Лишь — снег, тихий лёт его, бесшумное движение. Да молчаливое дерево, к которому я прислонился.
Снегопад стал редеть. И открылась замерзшая река, заснеженные холмы высокого берега, в распадке — горстка домиков, тоже прикрытых снегом. Дымов не видно. Печи уже протопили. Зимний покой. Тихий мир. Ни движенья, ни звука. И лишь по льду к тому берегу подбираются дровами груженные сани. Мишку не вижу. Но Бог ему в помощь.
Уголок Гайд-парка в Калаче-на-Дону
Начало этой истории — в прошлом. Весною 1987 года ездил я в Англию, туристом на две недели. Прокатился: пара дней — Оксфорд, столько же — Кембридж, остальное — Лондон. С тем и до свидания. Москва — Волгоград — Калач-на-Дону.
Вернулся. Особых расспросов нет. Да никто, кроме домашних да ближних соседей, и не знает, куда меня носило. Привыкли, что порой уезжаю и возвращаюсь.
Но в бане, в парной, в субботние дни, отсутствие мое всегда заметно. Тем более что завсегдатаев, с которыми вместе паримся, Виктора Инькова или другого Виктора — Соловьева, я предупреждаю: «Убыл на такой-то срок. Обеспечьте порядок».
Так было и тогда: уехал, предупредив; вернулся. В субботу, как и положено, парная. Тем более с дороги.
— Ну и как там?— первый вопрос.
Про заграничную западную жизнь в ту пору рассказывать было очень не просто. И дело не в какой-то боязни. Просто жизнь тамошняя и поныне настолько отлична от нашей, что рассказать невозможно. Тем более тогда и — в Калаче-на-Дону. Другой мир. И потому на расспросы отвечал я всегда невсерьез.
— Ну и как там?— спросили в бане.
— Плохо,— отвечаю.— Загнивают.
— Чего?
— Вот тебя, к примеру, послала жена в магазин, за сыром. Пришел в магазин — и чего?..
— Как — чего? Спрашиваю: сыр есть?
— А дальше?
— Ну, есть — значит, купил, нет — значит, развернулся.
— Вот видишь, как просто. А там, в магазине, сто пятьдесят сортов сыра. А бывает и больше. Ломай голову…
— Правда, что ль?
— Чего мне брехать.
— Да… Обнаглели…
— Это уж точно.
Посмеялись. И ладно. На том разговор и кончился. Но позднее черти меня за язык потянули, и вспомнил я о лондонском Гайд-парке, где страсти кипят: речи льются и прочее. Вспомнил и рассказал, как англичане там митингуют, ругают свое правительство, королевскую семью, церковь — словом, всех и все. А полицейские охраняют эту свободу слова. В моем присутствии кого-то из ораторов пытался один из слушателей урезонить, за рукав потянув, и тут же получил от полицейского выговор: «Не мешайте! Человек выражает свое мнение».
Рассказал я об этом. Мой рассказ мимо ушей, конечно, не пропустили. Был разговор. Не очень долгий, но со значеньем. Вернувшись из бани домой, я записал его. Есть у меня тетрадь для сюжетов. Что-то любопытное случится ли, придумается, не надеясь на память, запишу. Иногда потом получается рассказ. Но бывает, что и ничего не выходит. Остается лишь запись. Так вышло и тогда. Рассказ не написался. Осталась страничка под заголовком: «Баня и Гайд-парк». Видно, чего-то не хватило. И лишь теперь я вернулся к той давней записи. Тринадцать лет прошло. И еще один банный день в Калаче-на-Дону.
Год нынешний. Суббота. Вениками в парной помахали, сидим в раздевалке, отдыхаем. Конечно, с разговорами: где да что… Позади — неделя, да еще — субботний базар. Хватает новостей.
Негромкие разговоры понемногу перекрывать стал басок, серьезный такой, уверенный. И речи льет не шутейные, неволею слушать будешь.
— Вешать…— значительно произносит он, во всех углах бани слыхать.— Вешать!— Мой сосед, после парной разомлевший и придремавший, вздрагивает и поднимает голову.— Всех вешать. Первого — этого борова. Попил нашей кровушки, алкашина. Все продал, все расторговал. Лес, нефть… Такие у нас богатства. Союз развалил…— подробно и обстоятельно объясняет банный оратор. Не кипятится, и никакой матерщины. Серьезный мужик. Знаем его. Не горлохват, не пьяница. Всю жизнь проработал на заводе. Но крепкий еще: телом и на лицо — полный, седовласый. Густая грива седых волос порой закрывает лоб, и он их отбрасывает спокойным движением большой руки. И продолжает речь: — Вешать. И никаких оправданий. И всю породу его поганую, ненажористую. От и до… И до наших начальников пора добираться. Все эти губернаторы, администраторы, мэры… Вешать. Я это прямо говорю, никого не боюсь. Никаких органов. Вешать — и весь разговор… Тогда будет порядок.
Банные речи обычно длинны. Сиди да слушай. Отдыхай после парилки, готовься к очередному заходу, справляясь: «Как там парок?..»
Вот и я посидел, отдохнул и, нахлобучив шапку, двинулся к парной с дубовым веником наперевес. Провожали меня те же речи:
— Вешать. Первым — алкаша, президента нашего дорогого, а за ним остальных. Я это везде говорю открыто. Нехай слушают…
Когда я вернулся из парной, в раздевалке было тихо. Седой говорила то ли подустал, а может, ушел.
В тиши и покое мне вдруг пригрезилось давнее. Хотя какое давнее? Вот оно — на глазах. И баня — прежняя, и люди — все те же. Конечно, постарели. Но когда на глазах, это — незаметно.
Давно ли, кажется, в этой самой бане, вернувшись из Англии, рассказывал я про Гайд-парк, про тамошние порядки, где свобода речей полная, кого хочешь громи: правительство, королевскую семью, Господа Бога. Было это в 1987 году. Все помнится, так что — без вранья: что было, то было.
Меня тогда внимательно выслушали — про Гайд-парк, конечно, интересно. Послушали, повздыхали. Кто-то позавидовал:
— Вот бы у нас такое!
— Зачем?— спросили его.
— Как — зачем? Начальству — под шкуру… Нынче пошел на базар. А там дорога вся перекопана. Горсовет себе трубу тянет. Отопление. Надоело углем печку топить, они тянут трубу. Канав понарыли. И все — мимо людей. Лишь себе. Я еще подумал: людей бы тоже неплохо согреть, всем печки надоели. Властя… Чего хотят, то и воротят. А мы лишь под одеялкой корим их. А если б кто вслух сказал. Напрямки. Как в этом, в парке…
— В Гайд-парке,— подсказал я.
— Ну да. А у нас ведь негде и сказать. Посеред улицы? В дурдом заберут, скажут — с ума сошел. Да и на улице народу мало.
— Иди на базар,— посоветовали.— Там — Тришкина свадьба.
— На базаре милиция. Враз на пятнадцать суток определят. Скажут: пьяный.
— Тогда на собрании. На производстве собрания каждый месяц. Вот и выскажись. Руку подыми, пригласят на трибуну, и валяй…
— Ну да… У нас где подымешь, там и опустишь. Шкороборов как глянет своими глазыньками. А то ты его не знаешь…
— Уж тот глянет…— со вздохом согласились с ним.— Тот глянет, аж конь прянет. Без зарплаты останешься.
— Выходит, лишь в бане митингуй…— хохотнул кто-то.— Тут ни начальства, ни властей. Свобода.
— А вот этого не надо!— произнес чей-то тревожный голос.— Не хватало еще парной лишиться. Да-да… Можем наговорить на свою голову. Запросто. Плетем что ни попадя, а кто-нибудь — на карандаш и доложит.
— Вполне возможно…— согласились с ним.
— Не вполне, а точно… Еще и приплетут чего. Через неделю придем, а на дверях — замок и написано: «Капитальный ремонт». Они это — запросто, чтоб меньше рассуждали. Нынче — про горсовет, про трубы… А завтра — еще про чего… У кого-то язык чешется, а мы бани лишимся.
Раздевалка разом завздыхала, заохала. Бани лишаться никому не хотелось. Какая жизнь без парной?
— А у кого дюже свербит,— посоветовал заботник наш и мудрец, уходя в парилку,— про рыбалку гутарь, про огороды. Сосед у меня говорит, надо под огурцы конского навозу подсыпать пополам со свинячьим.
— Дурак твой сосед! Погорит все от свиного…
— А это смотря в какой пропорции…
— Погорит, говорю. Для огурцов самое полезное — свежий коровяк, и настоять его надо…
Про огурцы, про навоз у нас все знают. Как прежде, так и ныне.
Провожаю
В моей комнате, в книжных шкафах, украшая быт, лепится по краешкам полок, за стеклянными створками, всякая всячина: безделушки, рисунки, памятные открытки… Что-то порою выбрасывается, что-то объявляется. Прижился там и простецкий черно-белый снимок, сделанный нашим газетным фотокором на одном из хуторов. На снимке — мазаная хатка в два оконца, зубцы дворовой огорожи, старая женщина. Голова ее укутана теплым платком несмотря на летнюю пору; большие тяжелые руки лежат на планках ограды.
Когда меня порой спрашивают об этом снимке, я отвечаю: «Акуля».— «Родня, что ли?» — «Нет, просто Акуля».
Хатенка. Сараишко в глубине двора. Склоненная к плечу голова. Большие руки с шишкастыми пальцами отдыхают на планках ограды. Запавшие глаза еще и прижмурились. Не разглядеть, что в них.
Встречались мы с Акулею несколько раз. Беседовали. Теплой порою — на воле, в непогоду — в тесных стенах хатки-мазанки, где умещались кровать, деревянный сундук, скамья, две табуретки, печка, столик с нехитрой посудой: кастрюля, чугунок, пара мисок. Вот и весь нажиток ли, скарб.
Акуля погибла зимой, в конце января. Я жил тогда в городе, и хуторские вести до меня не доходили.
Лишь весною, в теплом апреле, я приехал на хутор. Как всегда, перевалив Прощальный курган, остановился наверху, вышел из машины, чтобы оглядеться.
Все было на месте: просторная долина, еще не затравевшая, но в нежной желтовато-зеленой дымке, кучка домиков — внизу, в затишке, чуть далее — синеющий Дон.
Рядом с дорогой кормилась на старых травах овечья да козья отара. Пастух, скучающий в безлюдье, поспешил ко мне с расспросами да хуторскими новостями. Он и сообщил про Акулю, про смерть ее.
— Отвезли,— указал он на хуторское кладбище, которое было рядом, на бугре.— Зарыли…
— Понятно…— вздохнул я и пошел к машине.
Долгий Акулин век кончился. Память о ней рассеется скоро. Ветхая мазанка быстро обвалится без хозяйского догляда, а потом рухнет и оплывет бугром. Еще скорее сровняется с землей могилка на старом хуторском кладбище, осядет и затравеет. Вот и все.
Из-под ног моих выпорхнул жаворонок и пошел вверх, заливаясь переливчатой трелью. Он поднимался все выше; и вот уже нет ни серого комочка, ни трепета крыл, лишь весенняя птичья трель льется и льется с неба, завораживая. А мне чудится не птичья, а молодая девичья песнь:
Придет пра-а-аздник!
Придет праздничек!
Несколько лет назад, в такую же весеннюю пору, привел меня на этот хутор нечаянный случай. Районные газетчики ехали в Задонье по своим обычным делам. Пристроился и я, чтобы прокатиться, проветриться.
Приехали на хутор. Скатились с горы и встали возле запертого на замок магазина. Но с ним по соседству в своем дворе копошилась старая женщина. На машинный гул да на наш зов она откликнулась и, к забору подойдя, объяснила, где и как искать хуторское начальство. Тогда еще колхоз был живой. Она стояла у заборчика, повязанная теплым платком, тяжелые большие руки отдыхали на планках ограды. Газетный фотокор, человек быстрый, навел аппарат и щелкнул. Получился снимок, который теперь у меня. Для газеты он не сгодился.
А в тот далекий уже день мои спутники, ревностно исполняя газетную службу, помчались по хутору, я же — казак вольный — остался. Мне некуда и незачем было спешить.
Хуторская тишина, весенняя теплынь, дух первой зелени, вскопанной земли и близкой воды, щебет ласточек, которые лепят гнездо под ветхой крышей сарая, воробьиный гвалт да заливистые трели нарядных, сияющих вороненым пером скворцов.
Да еще — старой Акули нехитрая повесть о жизни.
Как много в наших краях старых людей, доживающих долгий век в одиночестве! Скольких я знал… Терпеливо слушал и переслушал столько рассказов. Они так похожи. Тетушка моя — Анна Алексеевна, соседка Прасковья Ивановна… Василий Андреевич, бабка Надюрка, Паранечка, дед Лащонов… На одной земле, под одним белым небом прожили жизнь. Провожаю их. Нынче — просто Акулю, чья фотография в городской квартире моей, за стеклянною дверцей шкафа.
— Это кто?
— Акуля.
— Родня, что ли?
— Нет, просто Акуля.
Сижу на высоком кургане. День весенний, апрельский. Просторная долина, полого стекающая к Дону. Внизу лепится хутор: горстка домиков. Когда-то их было много больше, целых триста дворов. Теперь на пустырях, на выгонах до самой речки чернеют старые груши. Возле них — заплывшие, затравевшие канавы, знак жилья, знак жизни, когда-то кипевшей здесь.
— Народу… Как в Китае…— вспоминала старая Акуля.— На сиделки сбирались. Я дишканила… С Васей…
Бывало, соседи спросят: «Нынче идете на гулянку?» — «Идем».— «Тогда будем ждать…»
И до позднего часа ждали, когда будут возвращаться молодые с гулянки.
Ой да дорогая моя девчоночка!
Ой да раздушоночка!
Кото… которую я люблю!
Люблю крепко!
Ой да дай срок, дай срок,
Я тебя распроведаю.
Придет пра-аздник…—
обещал бархатистый, еще ломкий мужской басок.
И в лад ему, вначале несмело и будто не веря, вздымался, а потом расцветал в ночи серебряный высокий «дишкан» молодой Акулины.
Придет праздник!—
счастливо голосила она,—
Придет прааздничек!
То не голоса людские, то летняя ночь благовестила, то молодость, то любовь ликовали:
Придет праздничек!!
Распроведаешь!!
А потом — война, Великая Отечественная.
Пошли, пошли с Дона казачоночки,
Назад, назад донцы поглядают.
Эту песню пели на Прощальном кургане возле хутора старые деды: хромой Евлампий, Семен Фетисыч, Евграф Абрамович Пристансков…
Уходили казаки с окрестных хуторов. До Прощального кургана провожали их всем миром. И потом глядели с кургана вослед.
Пошли, пошли с Дона казачоночки!
А они пошли и пошли, все далее уходя. Пока еще на родной земле.
Назад, назад они поглядают!
Они оглядывались и еще видели своих невест, жен, матерей, детей. А вослед им, словно трубный глас, прокричали старые деды страшную правду:
Гибнут, гибнут казаки молодые!
И облились сердца кровью. Плач и стон смешались на Прощальном кургане.
Гибнут, гибнут казаки!!
Все в этой песне оказалось для Акулины правдою. Погибли и Вася, и папа, родной братушка Андрей, родные дядья Матвей да Терентий, да братья двоюродные…
Началась другая, долгая жизнь. К нынешней ее не приложишь.
— Потом, в совхозе, как-то было странно,— вспоминала Акуля,— пять часов, конец работы, домой идут. А солнце еще высоко… Аж не верилось.
Но до совхозных порядков еще было далеко.
Работала Акуля всю жизнь при колхозной скотине. Зимой коров держали близко, от хутора в трех лишь верстах. И теперь возле речки еще остались следы коровника, базов да флигеля, в котором всю зиму жили доярки, навещая свою хуторскую домашность лишь раз в неделю, на час-другой.
От темна до темна — работа. Поднялись, позавтракали: кружка молока да желудевые пышки-джуреки, сухие, черные, их грызешь-грызешь, никак не проглотишь. Двадцать коров у доярочки. Кормить, чистить, стелить. С гумен сено возить, это — рядом. А солома — в поле, в снегу. Туда еще пробейся на заморенных быках. Они встанут и не идут. «Цоб-цобе! Цоб, Лысый! Цоб!» А вода — в речке, в проруби, ее начерпай да привези. А с телятами сколь колготы! Детвора. Не успеешь оглянуться, время — к полудню. В обед постных щей нахлебаешься. И снова за работу. Теперь дотемна. На ужин — тыква. Ее запаривали в больших чугунах, нечищеную, нарезая кусками с кожурой. Это была хитрость. Тыква дояркам не полагалась, ее для скотины заготавливали. Поэтому кожуру не срезали, чтобы иметь оправдание, если начальство нагрянет с проверкой. «Это для скотины. Видите, нечищеная… Для скотины…» И никакая комиссия не придерется.
Вспоминаю Акулин рассказ. А может, чей-то еще. Они ведь так похожи: Акуля, Катерина, вовсе старая Евлаша.
— Хлебушко обдутый едим,— это уже потом, через долгое время, умеряя вечные жалобы детей своих, внуков.— Ломоть хлебушка можно соличкой посыпать и с водой… Или сахарком сверху… Хрум-хрум. В постное маслице помакать хлебушком, такая сласть…
Дальним полем зовутся хуторские угодья, что лежат и в самом деле далеко — за двадцать пять километров, у Фомина-кургана. Там вольная вода, богатые травы. Туда угоняли скот на летнее время. Там работы и вовсе как на точиле. Доить коров, пасти, телят сторожить и отвозить молоко в станицу на сдачу. Да еще сено косить, сгребать, копнить, скирдовать. Вроде долгий день, летний. А приходится ночь прихватывать, особенно если луна.
— Девки-бабы!— приказывает бригадир.— Ныне заскирдовать Панское поле, до самой Студенки! Девки-бабы, зимой дремать будем! Председатель обещал премировать всех по два с половиной метра штанной материи. Так что старайтесь.
«Штанную материю» дояркам сулили уже который год. «Ныне будет,— обещал бригадир.— Готовьтесь».
Верили не верили, но мечтали: «Я юбку пошью…», «А я сарафан…». Бедность была после войны. На Акуле юбка — не схоронишься. Сшила ее из белой немецкой нижней рубахи, а покрасила красным порошком из ракеты. Такой добыла. Слава Богу. Форсила, не снимая эту юбку, зиму и лето. Красное издалека видать. Когда раз в неделю прибегала на хутор к семье, дочка издали ее по юбке угадывала: «Это — мама!»
С обувкой — вовсе беда. Зимой короткие валяные чуни-«обрезки», к ним вязаные поголенки пришивали, для тепла. Но какое тепло… От холода трескалась кожа на ногах, кровоточила. Летней порой — босиком. Весной да осенью чирики из сыромятной кожи, шитые и сто раз чиненные хуторским чеботарем. День-деньской ноги мокрые стынут. В обед чирики клали на печку, чтобы они не высохли, но согрелись. Хоть минуту, но в теплом. Про руки нечего говорить, им работать.
Газетный фотограф, человек хваткий, щелкнул навскид аппаратом, а получилась вся жизнь Акули. Вот она — на виду. На планках ограды руки лежат: корявые, узловатые.
— Грабушки мои, грабушки,— горевала порою старая.— Все повывернулись, закостенели, не владают. А мозжат — спасу нет. Реву по ночам…— И тут же об ином, в раздумье: — Господи, как работали… То ли строгость была, а может, совесть была…
Дед Афоня, баба Поля, пополам согнутая Агриппина Исаевна Бирюкова, могучий и в старости Харлан… Провожаю ушедших и доживающих век.
— К детям, в город?.. Сядь со мной на рядок и послухай старого человека. Я тебе все обскажу. Тама, в городе,— глушно, один об другого бьются люди. Воды и той всласть не попьешь, она горчей полына. Я не брешу, у меня крест на шее.— А порой прорвется иное, со вздохом: — Лучше бы я его трактористом зародила, жил бы да жил возля… а там… От нас отчуралися. Свое дельце в руках, свой адат. А ты — на прилипушках, как в плену.— И — решительное: — Нет уж!.. Пока в силах… На своем базу… Коровку — нет мочи, а поросенка держу, курят. Огород, слава Богу. Все по-людски. Никто слова не скажет. Из своих рук…
Старая Кацуриха, однорукий дед Евсеев, Прокопьевна. Нынче — вот Акуля, чья фотография прижилась у меня в городской квартире, возле книг, за стеклянной дверцею. Просто Акуля.
День до вечера
На другой день хуторского житья собрался я порыбачить. Не набегом, как по приезду, а всерьез, чтобы с утра до вечера, не спеша. Хозяин мой сопутствовать мне отказался, позвали его на подмогу — свинью завалить. Меня это вовсе не огорчило, даже напротив. Своя воля милее: куда хочу — туда и ворочу. Без знатоков и советчиков.
Собрался я. В рюкзак сложил удочки, наживу, прикормку. В руки — пешню. Не забыл раскладной стульчик. День долгий, а в ногах правды нет. Собрался и пошагал напрямую к речке, чтобы вначале попытать окуней да плотву, а уж потом спуститься к Дону, для серьезного лова.
С вечера шел мокрый снег. В ночь подморозило и утром не отпускало. Солнца не было видно, но мир окрестный смотрелся приглядно, как и положено в день Крещенья. Заснеженный хутор дремал, несмотря на позднее утро. Редкий петуший крик, а людей не видать. Хлебовозка нынче не обещалась приехать, скотину на попас выгонять не надо; колхозной работы нет, потому что колхоза нет. Вот и зорюют до поры обеденной.
От хутора к речке путь недалекий, через просторный луг вилючей дорогой, обходящей какие-то низины да мочажины, теперь прикрытые снегом.
А вот и речка с милым названием Голубая. У нее и впрямь вода голубая, чистая. Невеликая речушка — всего лишь тридцать верст пробегает она в степном безлюдье, сбирая родники да ключи. Местами она звенит по каменистому мелководью, местами дна не достать.
На просторном лугу понизывает легкий ветер. Возле речки — тишь. Высокие обрывистые холмы — ее левый берег: Кораблева гора, Меловский курган. Старые тополя да вербы по правому берегу, луговому. Где-то дятел стучит, добывая корм.
С берега, с обрыва увидел я рыбака: промышлял он блесной. И довольно удачно. Десяток лунок. И возле каждой — россыпь. Окуни. А точнее — окунишки.
Спустившись на лед, я осмотрел чужую добычу. Завидовать не стал. Мелочь. Что называется — детва. Будь со мною мой товарищ, то не теряя времени он бы уже лунки бурил и покрикивал на меня: «Давай-давай… Шевелись… Нам и такой сгодится… Кошкам… Курам…»
Но нынче я — хозяин себе. И потому поглядел, похмыкал, но «зарубаться» под носом удачливого рыбака не стал, а спустился вниз по речке на сотню-другую метров. Лед был не толстый и еще молодой: прозрачные зеленоватые глыбки летели из-под пешни. Очистил лунку от шуги. Заглянул в черный зрак: что там кроме тьмы? Измерил глубину. А ее и нет. Как говорится, «меляк». Но попробуем. День светлый, но пасмурный. Блесна желтенькая, золотистая играет в воде. Опустил ее и поддернул, подождал, опустил и поддернул. Возьмется — значит, слава Богу, не возьмется — тоже не беда: пойдем дальше.
На речке, на льду ее, совсем тихо. Прикрывает от ветра просторная Кораблева гора. А работа моя простая: опустил — поддернул. Опустил — поддернул. А глазами по сторонам гляди.
Дятел стучит в маковке высокого тополя. Я поднял голову, чтобы отыскать красноголового красавца. А тем разом почуял удар на леске. Подсек и понял: взялось, и что-то хорошее, тяжеловато идет. Осторожно подвел к лунке. Первая добыча… В руке и в теле дрожь. Не сорвалась бы… Поднял. На снегу заплясал увесистый окунь-горбач в зеленом панцире чешуи, с черными полосками. Зубастый, сильный, молотит по белому снегу алым плавником хвоста. Полтора фунта, не меньше. Это вам не какой-то окунишка. Это — добыча.
Радость плескалась в душе. Вокруг словно посветлело. Скорее в лунку блесну. Опустилась. Поддернул. И снова удар! И снова — не мелочь идет, чую, как упирается, леска внатяг. Поднять бы…
Еще один окунь. Большой, даже страшный. Головища… Мощное тулово. Иглы спинного плавника грозно топорщатся, словно у змея-горыныча. На два фунта потянет. Если не более.
И снова скорее блесну — в воду. Удача одна не приходит. Опустил — поддернул, опустил — поддернул… Ничего мне теперь не надо: ни курганов, ни тополей, ни дятлов, никаких пейзажей. Добычу мне подавай! Опустил — поддернул, опустил… Вот он! И снова неплохой. Нам мелочишки не надо. Детей не губим. Работаем всерьез.
Опустил — поддернул… Опустил… Еще один! Скорей, скорее… Сердце колотится… Опустил… Чего не берешь? Проверим вторую лунку. Опустил… А он словно ждал подо льдом. Иди сюда, дурашка… Да это не дурашка, а целый дурак. Вот это окунь! Поленом, мощный. Лапоть. Килограмм точно… На такой мели… Давай, давай, ребята…
Великое дело — азарт. Ведь шел я не на добычу, а считай, на прогулку. Не спешил, поглядывал вокруг да посвистывал. Небо, холмы, округа, теплый январский день, тишина. Такая благость после городской суеты и гвалта. И все разом забыл: лишь леска, темный зрак проруби и ожиданье, мольба: «Ну давай берись». А потом обморно-счастливое: «взялся», и, затаив дыхание: не дай Бог сорвется, и вздох облегченья, когда окунь трепещет, взбивая снег. Слава Богу… И снова мольба: «Ну давай еще…»
Полтора десятка окуней выволок, накидал за каких-то полчаса. И лишь когда клева не стало, опамятовал, посчитал добычу и загордился: «Так-то вот… Не то что некоторые…»
А «некоторые» мою удачу издали углядели. Тот мужичок, возле которого я на лед спустился, прибыл ко мне со всей снастью.
— Вот это да!— удивился он.— Это окунь.
И тут же начал рубить лунки. Именно рубить. Потому что не пешней он орудовал и не буром, а обыкновенным топором. Я поглядел, подивился. Мужичок — молодой, в куцей бородке, незнакомый. Сейчас много на хуторах всякого люда, пришлых да приблудных. Одной водой их принесет, другой смоет.
А мой рыбачий азарт погас. Собрал я добычу и побрел потихонечку вниз по речке, временами останавливаясь и лениво пытая удачу. Две лунки пробью, опущу блесенку, подергаю. Не берет. Ну и ладно…
Зимний день. Солнца не видно. Но светит тусклое серебро снегов на холмах и в просторной долине. Ветер где-то там на вершинах холмов, а здесь на речке — тепло и тихо. После городской неумолчной жизни, после машинного и людского гула, в котором живешь день и ночь. Так славно.
Понемногу подбираюсь я к устью. Высокая Меловская гора, умаливаясь, полого перетекает в придонскую равнину. И здесь, от воды поодаль, чернеет первая усадьба давно уже не хутора, а горького пепелища. Малый Набатовский… Где люди твои? Где Пристансковы, Мушкетовы, Адининцевы, Батаковы, Стародымовы, Кибиревы, Алифановы… Рыбари, бахчевники, пахари, отарщики… Революция, сибирские высылки, последняя война. Скоренили вас начисто, разбросав кости и племя по великому миру.
Заснеженная земля от Кораблевой горы, от Меловой стекает к Дону и к малой речке, притоку ее, просторным подолом, словно предлагая: селись и живи. Пусто кругом.
Чернеет поодаль чеченское гнездо: старый флигель в окружении скотьих сараев, базов. Даже издали глядится жилье неуютным, каким-то раздерганным вороньим гнездом. Чужие живут.
Остановился. Пробил две лунки. Подергал блесной. Молчит окунь, не отзывается. Опустил удочку с наживкой. Может, красноперка возьмется? Стульчик разложил, уселся, поглядывая на «сторожки» удочек. Темные оконца лунок завораживают, притягивают взгляд. Словно видишь, как там, в глуби, в зимней тьме, лениво стоят возле дна тяжелые, будто сонные красноперки. Шевельнут плавниками, что-то поищут, найдут в мягком иле речного дна. И снова стоят, смутно, белесо светясь в темной воде. Разбуди их попробуй…
От чеченского подворья пришли две большие черные собаки, каждая — в хорошего телка величиной. Видно, решили познакомиться с новым человеком. Уделил им по краюхе хлеба. Они приняли дары молча, аккуратно съели и прилегли рядом на заснеженном льду.
Когда я уходил, собаки проводили меня недолго. И все это молчаком — ни лая, ни визга. Серьезные псы, сторожевые. Овец да коз пасут.
В километре от подворья чеченского — еще одно гнездо, вовсе зоренное, с изломанной городьбой, с дырявой крышей сараев. Там живет Сашка по прозвищу Марадона. Беженец из далеких краев — то ли из Киргизии, то ли из Таджикистана. А может, просто бродяга. К тому же не больно здоровый. Летом он нанимается работать на бахчи. Зимой живет промыслом Божьим.
Вот он — на льду сидит, возле лунок, с головой укрывшись от ветра целлофановым куколем. Подхожу к нему, спрашиваю:
— Ну чего?
— Молчит…— глухо отвечает мне Сашка, не поднимая куколя.— Вчера просидел весь день и сегодня с утра. Ничего.
Шагаю дальше. Чего приставать… Тем более рыба не ловится. Это для меня баловство. А для него — харч. Не ловится — значит, и жрать нечего.
Оставив Сашку, решил я одним разом спуститься до устья. Речное мелководье позади. Здесь — глубь от самого берега, от подножия, от корневищ тополей, что стоят на обрыве.
Летом тут можно прыгать в воду с разбега. Детвора, для пущей лихости, придумала даже «тарзанку» — нехитрую снасть, всего лишь длинный трос, одним концом укрепленный на толстой, над водой нависающей ветке тополя, а другой конец свободно качается, на нем петля, чтобы руками хвататься. Разбежался, за петлю уцепившись, и — в полет. Бросил петлю и рухнул посередине речки. Чем не Тарзан? Оттого и снасть зовется «тарзанкой».
Постояв возле берега, вспоминая теплое лето, отправился я далее, намереваясь без останова дойти до речного развилка, где влево уходит протока, отделяя от берега коренного просторный остров Голубинский. Там, по уверениям товарища моего, всегда хорошо клюет.
Но нашлись люди не глупее, а главное, шустрее меня. Еще издали, не видя лиц, я уже понял, что это развеселые Рахманы, их племя. Переселенцы из России, Рахмановы прижились удачно, бурно плодясь и полоняя хутор, словно дичина в неухоженном саду. У одного лишь Федора Рахмана десять детей, половина уже сами плодятся, с юных лет. А еще — старый Рахман, а еще Рахмановы дочери, зятья. Словом — орда.
Они и на рыбалку прибыли целым табором. Двое ли, трое возле лунок орудовали, а мелкота шастала по заросшему береговому займищу, что-то промышляя. Уже костер дымил, над ним чернело закопченное ведро. Ох, кто-то на хуторе нынче недосчитается курочек, а может, и овечки.
Рахмановский табор миновал я стороной, но углядел, что возле лунок какая-то рыбешка лежала. Значит, и впрямь на этом месте клюет.
Но шумное соседство меня не устраивало, и я ушел с речки на тихую протоку. Справа тянулся заросший багровыми да сизыми талами песчаный просторный остров, слева — пустынный обрывистый берег. Вглуби его — старые донские груши-«дулины», которые и теперь, по осени, щедро усыпают землю сочными «черномясками», желтыми бергамотами. Скотина их любит, по ночам приходят лакомиться лисы, волки, дикие свиньи. Сейчас вековые деревья одиноко чернеют на белом снегу, на пустой земле, еще полвека назад знавшей иную долю.
Потихонечку брел и брел я старицей, оставляя первый человечий след на просторном заснеженном полотне льда и берега. Даже заячьих троп не было видно, хотя обычно зайцы жируют на Голубинском острове, в зарослях краснотала. Но нынче, другой уже год, много волков в этом углу. Нынешней осенью двадцать овечек да коз волки у чеченца порезали. Местная голытьба пировала, бараниной да козлятиной объедаясь. А год назад, здесь же, серые напрочь вырезали отару в сто голов. Стаю видели не раз, в ней полтора десятка волков. Рыщут. Оттого и заячьих следов нет. Передавили.
Тропу свежую волчью увидел я, сразу признав ее. Это не собачья. Тропа тянула наискось, через протоку, от берега к острову. То ли последних зайчишек пошли гонять, а может, далее, через Дон, к озеру, за дикими свиньями. Вольному воля.
Пусто вокруг: зимняя немая округа, серое небо, ветер. Страха, конечно, нет, но появляется какая-то смутная тревога, оглядываешься, будто чуешь чей-то холодный взгляд. Из вербовых ли зарослей или еще откуда. Озираешься. И с каким-то облегчением видишь невдалеке торчащую из-за бугра маковку дома: шиферную крышу, печную трубу, телевизионную антенну.
Продолжаю путь, и помаленьку на берегу поднимается и встает над округой высокий просторный, в два этажа, да еще с «низами» кирпичный дом.
Прошлой осенью поздним вечером возвращался я с Дона к ночлегу дальней дорогой, которая кружит по лесистому займищу. Листья уже облетели, воздух был напоен их настоянной горечью. Над головой через голые ветки проглядывали звезды. Ночная тьма клубилась по земле, наползая из лесной чащобы.
И вдруг, выйдя на опушку, увидел я вдали, на взгорье, электрические огни. Светили окошки дома, фонари на подворье — целая россыпь. И все это — среди осенней тьмы и безлюдья. Тогда я долго стоял и глядел.
Теперь, зимою, я тоже остановился, глядел и глядел на этот дом. Глядел и вздыхал… Всякий раз, когда я вижу его, на сердце — невольная тревога. Дом новый, добротный. Хозяин все еще строит его. Глядеть бы да радоваться… Но когда вспомнишь, что рядом, что вокруг на многие десятки верст лежит пустая земля… На редких хуторах — старые люди, ветхие домики, лишь бы дожить. Старики умирают, а с ними уходят селения и хутора. Акимов, Картули, Евлампиевский, Тепленький… Глухое безлюдье все шире расправляет крыла, накрывая округу. Даже пеший сюда не всегда пробьется: речка лежит поперек пути.
Но вот поселились: хозяин еще не старый, жена, малый ребенок. А ведь жили в районном центре. Зачем сюда забрались?.. Знает лишь Господь.
Станичный доктор рассказывал, как осенью целый день пробивался он к этому дому, когда заболел здесь ребенок: сначала машиной, которая застряла, а потом пешком по грязи, потом через воду, чуть не потонул. Но вот живут… Дом достраивают. Единственный в этих краях новый дом. Поглядел я на него. Хозяев не видно. На льду — против дома — следы застывших лунок. Рыбачат. Здесь сподручнее: с порога.
А меня голубинская старица нынче хорошим клевом решила не баловать. Менял я места, берега, глубину, наживу, приваду. Печеный хлеб крошил в лунки, сыпал комбикорм и опускал мешочек с толченым подсолнечным жмыхом, от которого такой сладкий дух — как говорится, сам бы ел, да рыбу надо. Если и бралась, то какая-то мелочь: ласкирики в ладошку да страшномордые ерши-«бирючки». А вот красноперок лишь пяток удалось взять. И тоже нежданно, на одном месте, прямо под берегом. Лишь лунку пробил — и сразу взяла взаглот, без поклевки. Одну за одной вынимал. Лишь опустишь, крючок не доходит до дна. Хвать!.. И тянешь. Хорошо идет красноперка, тяжело, упористо, чуешь рукой ее тяжесть.
Пять штук вынул. Увесистых, грамм по шестьсот, в золотистой чешуе, с малахитовой спинкой, пузатенькие, икряные, красные плавники жаром горят на снегу. Не какая-то прощелыга, не худорба вроде чехони, синьги, а мясистая красноперочка, завидная рыба. Но пять штук — и отрезало.
Долбил, долбил лунки. Понятно, что на стаю напал, но куда она сдвинулась? Всю протоку изрешетил. Сбросил теплую куртку в задоре. Так хотелось хоть десяточек добыть. И она ведь здесь где-то, на попасе. Бралась хорошо. Значит, не стоит, кормится. Лишь искать надо.
Уходил на глубь и на берег почти вылазил. Но отказала — и все. Как отрезало.
Не сразу, но пришлось успокоиться. Собрал раскиданные по всей протоке снасти, оделся. Сел на стульчике, горячего чаю попил из термоса. Волненье ушло, успокоилось сердце. А то ведь колотилось. Азарт. Попил чайку, посмеялся над собой. И пошел полегонечку той же старицей, просторной белой дорогой, обнесенной по краям желтым сухим чаканом-камышом. Справа вздымался обрывистый донской берег, слева — алая гущина краснотала, за ним — могучие тополи да осокари. Выше их только небо, зимнее, мглистое. Порой не солнце, лишь оловянный зрак его пробивался через пелену облаков, заливая округу мягким серебряным светом.
Тишина. При ходьбе слышишь, как похрустывает снег под ногой. А когда сидишь возле лунки, зимнее безмолвие смыкается наглухо. В отвычку, это — странно. Словно нет в мире шумных городов, дорог земных и небесных, где ревут неумолчные моторы, нет людских голосов и прочего. Лишь застывшая вода, укрытая снегом, в зимней спячке деревья, немая земля, пустое небо. Тишина, сбереженная и словно накопленная за долгие дни и за долгие годы. Здесь, и возле, и там, вдали, за далекими гранями. Кажется, что поведешь рукой — и воздух хрустнет, словно молодой ледок.
К вечеру из тихой старицы, через остров, я вышел к Дону. Проглянуло солнце. Желтое, с красноватым ободом, оно повисло над задонскими холмами. По реке, по льду его, тянул ветер и знобил лицо.
Просторный замерзший Дон был пустынным. Лишь на той стороне его, по течению ниже, чернели две ли, три фигурки рыбаков — охотников до судака. И все. В редких застывших лунках лед желто отсвечивает. Скоро вечер. Пора прибиваться к дому.
Возле самого хутора, на льду, увидел я человека. Когда подошел, он уже заканчивал свои труды.
— Рыбалим?— спросил я.
— Поставил сетчонку,— ответил он, сматывая бечевочный урез.— Завтра поглядим, чего она нам покажет.
На деревянных санках стояли алюминиевые фляги, обычно в них молоко держат, они и называются доильными.
— Водички донской набрал. Бабка велела. Ныне ведь Крещенье…
Он жил на самом краю хутора. Старый человек, небольшого росточка, сухонький, в солдатском зеленом ватнике, не по росту долгополом, с ремнем для тепла. А жена у него была крупнее: дородная, смуглая казачка.
— Ну, бывайте здоровы,— попрощался он и потянул груженые санки своей дорогой, через камыш и займище.
— Бывайте…— ответил я и вспомнил, как прошлой осенью, еще по теплу, шел вечером от речки к своему ночевью, к дому, а они с бабкой сидели рядком на скамеечке, в глубине двора, за сараем, откуда открывался вид на просторный выгон и луг, на речку, на далекую Кораблеву гору, за которую солнце зашло. Темнело. Но все еще виделось: просторный зеленый луг до самой горы, купы деревьев.
Вечер. Люди немолодые. За день наработались. Вон у них какой огородище, двор, базы. Наработались, устали. А теперь отдыхают молча, рядком. И глядят. Всю долгую жизнь это видели: луг, над речкой — вербы, высокая гора, далекие холмы, небо. Всю жизнь видели. И не нагляделись.
А я здешней округи гость недавний, все мне дивно и ново. Потому и день пролетел незаметно с утра до вечера.
2000 год
«Новый Мир», №12
Прошлым летом
Подарок
Утром на хутор прибыли три человека на черной «Волге». Люди были в гражданском, но по всему видно: милиция. Спросили Улановых. А таких на хуторе двое. Разобрались, кто нужен. Подкатили и встали возле Таисиной кухни. Позвали хозяйку, во двор не входя. Что в нем? Малая хатка-мазанка, курятник, базок для коз да огромный огород в зелени и цвету. Но приезжим нужно было другое, мимо которого лишь слепой мог пройти, не заметив.
Тетка Таиса, конечно, знала, что просто так все не кончится. Она какой день не спала, не ела — ждала. Всего, даже самого страшного. И потому, когда подъехала черная машина и позвали ее, стали выспрашивать. Все трое — высокие, строгие. А она стояла перед ними — старая, маленькая, вовсе осунувшись и потемнев лицом за эти дни. Она виновато глядела приезжим людям в глаза снизу вверх.
— Вот здесь видно, что была какая-то постройка,— говорили ей.— Или, может, собираетесь строить? Ровная площадка. Бульдозер ли, скрепер на днях работали… Свежая земля.
Она не привыкла, не умела и не хотела врать. И готова была заплакать от жгучего стыда и отчаянья. Но помог ей Господь, вразумил!
— Была постройка, была… голимую правду гутарите…— легко согласилась тетка Таиса.
Приезжие переглянулись и еще раз спросили:
— Вы — мать Виктора Петровича Уланова?
— Родная мама…
— И говорите, что здесь стоял дом?
— Такой был домина. Прямо пароход. Кирпичные низы, галереи. Теплая горница, холодные горницы…
— А кому принадлежал дом и куда он делся?
— Деда моего дом, Исая Абрамыча. Подворье наше родовое. В революцию его сожгли. А вот кто сжег, не буду брехать, не знаю.
— Это давнее, нас не интересует,— перебили ее.— А потом, кто построил дом? Был дом? И куда делся?
— Был. До чего красивый. Не дом, а церква. Отец мой, Матвей Исаич, своими золотыми рученьками…— рассказывала она, будто радуясь, что слушатели нашлись.— Все сам. А в раскулачку забрали и увезли. Больница и ныне на центральной усадьбе. С каких пор-годов? Из нашего дома.
— Но это опять — давнее…— уже сердясь, попеняли ей.— И после ведь было же? Было?
— Моя сына, ты верно гутаришь, было. Построили хату, круглую. Перед войной. А тут опять началось… Такая страсть, поминать не хочется,— искренне сказала тетка Таиса, потому что невольно, а поднималось от сердца горькое, давнее, но душой не забытое. Как забыть… А тут еще нынешний день с его неминучей бедой.
— Опять — сказки…— снова остановили ее.
— Для вас, может, и сказки, а для меня — жизня…— И она заплакала над этой горькой жизнью и стала показывать сухим черным перстом на свою мазанку: — Вот она, хата, забирайте! Меня Господь приютит! Отдохну! Дай мне, Господь, отдыху! Дай мне покою! Ничего не просила! И ничего не прошу! Лишь покою!— молила она уже не этих людей, но родного сына.
Все слезы, на которые прежде была скупа, вдруг пролились. Вся боль и горечь, которые накопились за эти дни, вдруг подступили к сердцу.
Тетку Таису вовремя подхватили, и она не упала. Ее отнесли в хату, позвали соседку.
Холодная тряпка на голову да кисленькое питье — и все обошлось. Тетка Таиса к вечеру уже оклемалась. А потом крепко заснула.
Сколько ночей глаз не могла сомкнуть. Сколько дней маялась, душой болея, а тут, видно, выплакалась, и полегчало. Словом, спала ночь словно молодая. А утром, заспавшись и все на свете запамятовав, тетка Таиса, как всегда, глянула в окошко и не могла понять. Там было пусто: ни белого забора, ни нового дома… Она долго приходила в себя, не понимая, где сон, а где явь… Теперешнее ли ей грезится: пустая земля в окне или то, что было.
Она каждый день, просыпаясь, смотрела в окно на дом. Не ее руками и волей он был построен, этот красавец: красного кирпича низы, а выше — бревенчатый, сияющий солнечной желтизной, и высокая красная крыша с башенками. Церковь — не дом. Не хочешь, да залюбуешься. И ведь не чей-нибудь, а ее — тетки Таисы. Родной сынок построил и ключи отдал: «Живи, мама, владай. Это тебе подарок от сына».
Тетка Таиса долгие годы прожила одна. Мужа схоронив еще в молодости, она вдовела с двумя детишками — Виктором и Таней. Пробовала принять мужика. Не сложилось. Так и осталась вдовой, работая в колхозе дояркой, телятницей, в иную пору — куда прикажут. Так и жила, понемногу старея, в неустанных трудах и заботах. Колхозное и свое. Небольшого росточка, сухонькая, жилистая. Огород и левада — просторные, что колхозное поле. А все — руками.
Детей она вырастила. Хорошие детки. Дочка жила на Севере, в нефтяных краях. Нечасто, но приезжала к матери с мужем, детьми, привозила подарки. Витя и вовсе был золото, а не сын. Он высоко залетел: областной начальник. Как ни глянешь в телевизор, его покажут. Тетка Таиса каждый день телевизор глядела. В семь часов вечера местная областная программа. Все дела прочь, к телевизору. Нажмет кнопку. Вот он, дорогой сынок, сидит: при костюме, с галстучком, живой! Слава богу, здоровый! Иной раз показывали издали, а иной раз так близко и явственно, что хотелось тронуть его и поцеловать. Золотое дитё. А уже тоже — годы. Чернявый был, как галчонок. Ныне волосики седые. Порою сын говорил в телевизоре, и мать слушала его, привыкнуть не могла, изумляясь: откуда чего взялось? Ведь хуторской, а куда улетел, сынок дорогой. И при той власти — в обкоме, и при нынешней — в том же кабинете. Значит, умная головочка. А для матери — сын, такой заботливый, как в сказке.
От города все же далеко: асфальтом больше сотни верст, а потом — проселком. Телефон он давным-давно провел. И каждое утро, лишь в кабинет войдет, сразу маме: «Как дела, дорогая? Как здоровье? Чего нужно?» Долго-то рассусоливать некогда, он посмеется: «Ну, давай работать».— «Буду работать, буду…» — смеется вместе с ним тетка Таиса.
Далекий от города путь, но приезжал сынок. Куда-нибудь едет по делам и завернет. «Волга» на хутор катит, все знают: к тетке Таисе, к кому же еще. Вертолет садится посреди хутора. Пыль до неба. Виктор прилетел. Но это раньше. Теперь с вертолетами трудно. Приезжал. Порой недолго гостил, два ли, три дня.
«Мама, как у тебя с едой?..» — по телефону спрашивает. Она лишь заикнется. А порой и не просит. Но чуть не каждую неделю подкатывает машина, и полный холодильник у тетки Таисы. Его тоже сынок привез.
Председатель колхоза подъедет: «Чем помочь?»
Так что жила тетка Таиса как сыр в масле. Но не копбылила нос. Такой же у нее огород, как у всех. Такие же курочки. Корову, правда, давно не держала. Возраст. Да и зачем жилы рвать при таком сынке.
И обитала тетка Таиса все в том же старом гнезде: не дом и даже не флигель, а саманная хатка-мазанка, правда, с деревянным полом, шеломистой шиферной крышей. Зимой — тепло, жарким летом — прохладно. По старым годам такое жилье было привычно. А нынче на хуторе мазанок, считай, не осталось. Строились понемногу. Еще при колхозе. Не больно богатые, но ставили дома. И тетку Таису порой упрекали: «С таким сыном — и в мазанке…»
Да и она сама не железная: нет-нет да и позавидует какому-нибудь ладному домику.
Еще в давние годы тетка Таиса как-то обмолвилась сыну: «Может, нанять людей. Лесом колхоз поможет. Флигелек поставить…»
Сын Виктор с полслова все понял:
— Сам думаю об этом. Квартиру в городе или в райцентре хоть завтра. Но ты не хочешь. А вот дом, на хуторе. Абы какой лепить перед людьми стыдно. Хороший построить — тут все как на блюде. Найдутся, пересчитают гвозди и доложат, вплоть до Москвы. Я — на виду. Мараться на грамм нельзя. На арбузной корке можно так оскользнуться, что улетишь — и не сыщут. Потерпи, мать. Все знаю, все понимаю. Сам хочу, чтобы на нашем родовом подворье стоял настоящий дом. Как только будет возможность, сделаю.
Тетка Таиса не рада была, что и затеяла разговор. Если и думала она про новый дом, то лишь для прилику, чтобы не хуже, чем у людей. А для жизни — старая мазанка, лучше ее не сыщешь. Там две печки: русская и грубка с плитой. Протопишь — тепло. А летом в ней холодок и пахнет сухим укропом, полынью. Живи — не хочу. Она и жила и думала помереть в старой хате, привычной, обжитой.
Но человек предполагает, располагает лишь бог.
Новый дом появился как в сказке.
Уже после советской власти, после обкома, когда колхоз развалился, Виктор стал чаще бывать на хуторе. Привозил людей. Говорили про землю. Потом про церковь и про асфальтовую дорогу. Кто-то из хуторских видел в степи геодезистов с треногами.
— Все будет, мама,— коротко объяснил Виктор.— Родной край, казачий, мы возродим. Эти хутора — наша родина. Здесь наши отцы и деды, и наш долг…
Он говорил это матери и в телевизоре несколько раз повторил, тетка Таиса глядела.
— Родной край, казачий… наши отцы и деды… Наша земля…
Он складно умел говорить еще во младости. А нынче — и вовсе. Только вот седенький стал сынок и под глазами — круги. Такая работа.
Новый красавец дом построили за месяц. Тетка Таиса сначала глазам не верила, потом пугалась.
Расчистили место старого дедовского подворья, рядом с мазанкой, и разом началось. Выкопали ямищу, туда не заглянешь. И повезли. Днем и ночью машины рычат. Все гыргочет. Прожектора. Дня не хватало. Людей — муравейник. Словно на доброй опаре, полезли из котлована красного кирпича стены, высокий цоколь и первый этаж, а выше — бревенчатый золотистый сруб этажа второго и башенок. Чешуйчатая красная крыша. Будто сказочный лазоревый цвет поднялся над землей и обернулся красавцем домом, какие бывают лишь в кино, в телевизоре.
Стройка смолкла. Машины и люди убрались. Уехал и сын, напоследок еще раз проведя мать по новому дому от подвалов до верхних светелок и балконов. Комнат было много. Да еще — ванные, туалеты. Кухня такая, что страшно войти: все горит и сияет. Везде кнопки да выключатели. Старой голове не запомнить.
Виктор ночевал в новом доме. Тетка Таиса отказалась. Помылась в ванной, по комнатам походила. Ключи приняла, но попросила: «Дай я, сынок, обвыкнусь».
Она и вправду боялась. После мазанки — да в такой дворец. По утрам, просыпаясь, она первым делом в окно глядела: «Может, лишь приснилось?..» Но красавец дом был на месте.
Богу молилась, завтракала, а потом шла к новому жилью. По утрам тетка Таиса лишь обходила вокруг нового дома по каменной дорожке. Оглядывала его, словно здоровалась, и убиралась к делам обыденным, хозяйским. А вот ближе к вечеру, вместе с соседкой Ксеней, они ходили, как Ксеня говорила, «на экскурсию».
Отпирали все двери и бродили по комнатам, приглядываясь. Купались в ванне, смотрели телевизор, пили чай на просторной кухне.
Соседка Ксеня хвалила:
— Рай господний… И нечего ждать. Переходи да живи…
День ото дня тетка Таиса привыкала к новому дому, он все больше нравился ей.
— Может, и впрямь перейти?— спрашивала она соседку.— Виктор звонит, серчает, велит перебираться. Хоть на краешке лет пожить по-людски. Все мазанки да норы…— оправдывалась она.— А ведь сколько трудились…— раскладывала на коленях плоские, словно клешни, но уже легкие руки.
Это теперь легко вспоминать. А тогда?.. С малых лет… А уж во взрослой поре — и вовсе. Долгое лето не чаешь, когда и кончится. Все руками. Лопата, мотыга, ведро-цебарка, коса да вилы. Все бабьей мочью да жилами. Как не упала, не умерла в борозде, когда тянешь плужок, или под страшенным навильником, с хрустом ломающим позвоночник, под тяжеленным мешком-чувалом… Долгое лето. От зари до зари. Высохнешь, почернеешь, как головешка. А зимой — не легче. Три десятка колхозных коров на одни руки. Напои, накорми, обиходь. Привези солому да сено, воду из речки. От холода, снега, воды трескаются и болят руки и ноги. Юбка из мешковины, обувка и вовсе — прах: какие-нибудь чирики. Джуреки из желудей, пареная свекла, пустые щи, тыква… И работа, работа, работа… Вот и вся жизнь.
Легко вспоминать, утирая непрошеные слезы.
— Уж трудились…— вздыхает соседка.— Перебирайся. Будем ходить к тебе в гости. Баниться. Да такой телевизор…
Телевизор был новый. Виктор привез. И антенна, какая весь белый свет принимает.
— В лото будем собираться играть.
Тетка Таиса помаленьку, но убеждала себя: надо переходить в новый дом. Конечно, не просто. Потому что это — новая жизнь. Туда не полезешь в старом ватнике да калошах. Надо все сбросить, словно изопревшую шкуру. Одежи много, целый сундук. Да какие красивые есть платки, платья, кофты. Дети надарили. Носить некогда, все — работа, которая прежде была от нужды. А теперь — лишь привычка. Есть пенсия, и дети без помощи не оставят. Все кинуть: огород, картошку, малую, но скотинку. Все оставить и спокойно пожить хоть на краешке лет. Разве не заслужила?.. Ведь каждая косточка, каждая жилочка ноет, болит, просит покоя.
Надо переходить. Она уже приглядела себе комнату рядом с кухней. Там — покойно. Окошко — большое, весь хутор видать до самого Дона.
Жить словно на отдыхе. Оставить в старой мазанке все прежние заботы: огород, картофельник, птицу. Все — прочь. Научиться подолгу спать, видеть во сне покойных родных и близких, говорить с ними. Развести хорошие цветы во дворе и доме. Ухаживать за ними. Беседовать с Ксеней, разглядывать фотокарточки, вспоминая. Как сладко вспоминать об ушедших, думать о них, молиться, надеяться, что, может быть, даст еще бог встретиться, чтобы уже никогда не расставаться. Там ведь — ни войны, ни голода, ни страха, ни тяжкой, с надрывом, работы. А может, и ничего не будет… Но думать об этом разве грешно?
В конце концов, просто пожить, отдыхая. Недолго. Всего лишь краешек жизни. Но словно в раю.
Она уже была готова к переезду. Ждала его. Остался маленький, последний шаг. Лишь день-другой.
Неожиданно, и уже в сумерках, приехал сын Виктор. Он не крутил, не вилял, а сказал прямо:
— Мама, у меня большие неприятности.
— Ребята?.. Чего?..— всполошилась тетка Таиса.
— Нет. Все — живые, здоровые. На работе неприятность. Сама знаешь, люди есть ненавистные. Тем более у нас, наверху. Меня пытаются подставить, сделать крайним. Ничего у них не выйдет. Но… Мама, я тебя прошу, не расстраивайся. Нужно убрать дом.
— Какой дом? Мою кухню? Она вроде не мешает.
— Новый дом, мама. Его надо убрать. Чтобы не было.
— Мой сынок…— ушам не поверила тетка Таиса.— Да ты его как уберешь? Либо…
— Это, мама, мое дело. Я приехал специально тебя предупредить, успокоить, чтобы ты меньше переживала. Ты меня ни о чем больше не спрашивай. Не надо. Это для тебя — лишнее, не поймешь. Лишь поверь: это — необходимо. А твой дом вернется. Он будет стоять на том же месте. Это я тебе клянусь. Ты мое слово знаешь. А теперь, наверное, тебе лучше уехать. Чтобы не расстраиваться. Сейчас. Прямо со мной. Поехали.
Сын торопился, а выглядел не больно хорошо. Как всегда нарядный, в отглаженном костюме, белой рубашке, при галстуке, он лицом обрбезался и глаза будто прятал. В них — боль или страх.
— Все делай, как тебе надо…— через силу, но улыбнулась тетка Таиса.— Обо мне чего и гутарить. Лишь бы тебе… Я не поеду, я здесь буду молиться за тебя, чтобы помог тебе Господь… Поезжай.
Сын сразу уехал. И лишь тогда тетка Таиса навзрыд заплакала, понимая, что подступает беда. Страшно было за сына. Всякий день в телевизоре: кого — в тюрьму, а кого — и застрелят. Все люди непростые.
Она молилась за сына, вовсе забыв про дом. А вспоминая о нем, как-то не совсем верила, что его можно убрать. Все же — не одуванчик, на какой дунь — улетит. Такие хоромы.
Святая простота… С утра приехал автобус с людьми. Началась суета. К вечеру подошла целая колонна: тяжелые грузовики, краны, тракторы. Всю ночь светили прожекторы. Что-то стонало и рушилось. Ревели машины. Люди хуторские если и глядели, то издали, из своих дворов. Но что в ночи разглядишь.
Наутро, когда прогоняли в стадо коров, ни дома, ни забора возле тетки Таисиного двора не было. Лишь ровное место, вроде пустыря, но без высокой конопли, репейников да лопухов. Рыхлая земля. И все.
И конечно же, когда утром подкатила на черной «Волге» милиция, тут все было словно на ладони. Но это уже их дело — вынюхивать да узнавать. А тетка Таиса всю правду сказала. Как было за долгий век.
Потом она потеряла память.
Очнулась в хатке своей. На голове — мокрая тряпка, рядом соседка Ксеня сидит, спрашивает:
— Очунелась? Ну, слава богу.
— А чего со мной было?— спросила тетка Таиса.
В голове у нее и вправду мешалось: какой-то грохот стоял, стройки ли, разоренья, Виктор, черная «Волга» с милицией, красавец дом, пустая земля…
— Не накину умом… Этот дом…
— Не горься,— сказала соседка.— Господь с ним, с домом. Наша смерть уже на близу, докуликаем.
— Я разве об доме…— тихо ответила ей тетка Таиса и споткнулась; конечно же о сыне думала она. Но и о доме тоже.
И потом, среди ночи проснувшись, уже одна, тетка Таиса вспоминала Виктора.
Она вышла на волю, продышаться. Стояла ночь глухая, как кремень. Ни огня, ни звука, ни голоса птицы.
О сыне думалось. Всегда им гордилась, всегда за него радовалась, отстраняя намеки, молву, черные слова, во злобе ли, в пьяни брошенные. На чужой роток платка не накинешь.
Но ведь не только чужие… Еще он в комсомоле работал, в обкоме, а его родной дядя Алексей, человек городской, сокрушенно качал головой: «Ох, Виктор, Виктор… И в кого? Премудрый…» Дочь Татьяна, в давнем еще разговоре, бросила как-то в сердцах: «Ненасытный он…» Да и сама тетка Таиса, гостюя у Виктора, видела: не по зарплате сынок живет, а порой и слышала сыновий кураж: «Все есть, и все будет… Детям и внукам хватит… В наших руках…» Видно, такой обычай что у колхозного начальства, что выше: «Жить у воды — да не напиться?..»
После обкома, в начале новых времен, Виктор стал вдруг руководить банком, был там главным. А потом — банку конец. И не столько от сына узнавала, сколько доносила молва. Горевала, спрашивала: «Правда, сынок?» — «Мама,— отвечал ей сын.— Не беспокойся. У меня все и всегда в порядке».
Появился у сына магазин да что-то еще. А потом его на прежнее место позвали, руководить. Для Таисы это было спокойнее. Хотя думалось всякое. По телевизору сколь галдят. От сладкой жизни — в тюрьму. Разве не страшно? А бывает — и вовсе… Вот и конец. И тогда ничего не надо.
Думать об этом было несладко, но думалось, собиралось в одно, прошлое, нынешнее.
Ведь шла молва об асфальтовой дороге на хутор. Виктор ее добивался: «Возродим!» Надеялись и уже видели в степи геодезистов с треногами. И про церковь в сельсовете бумаги подписывали. Еще смеялись: уже хутора нет, а они с церковью…
Но ни церкви нет, ни дороги. А у Виктора вроде новый магазин появился. Да еще — дом.
Думать об этом было горько, особенно в глухой ночи, в одиночестве. Но думалось…
Тетка Таиса святой себя не считала. На веку, как на долгом волоку, бывало всякое.
Босоногой девчонкой, потаясь, таскала с колхозных полей колоски. Мама пошлет. Холщовая сумка — через плечо. Рвешь их, хоронишься. Потом — домой. Зеленую кашу варили. Голод был. А иногда налетал объездчик, порол плетью и гнал до самого хутора. Как страшно и больно… Но все равно ходили в поле. Есть хотелось.
Позднее, уж работая, в амбаре ли, на току, за пазуху, в мешочек спрячешь горстку. Дома — ручная мельничка. Мололи тоже потаясь, чтобы соседи не видели. Было страшно, за это в тюрьму сажали, на десять лет. Но куда деваться… Потом стали сытнее жить. Хлеба наелись. А вот для кур да скотины ничего колхоз не давал, приходилось брать. Зерно ли, дробленку… В сумку насыпешь. Привезут мешок-другой. Прячешь да хоронишь. В сараях, в подполе, где-нибудь в дровах да в кизяках. И все время трясешься. Вдруг с обыском нагрянут.
Даже теперь, через столько лет, вспоминать тошно. «Господи, прости…— шепчут губы.— Ты все видишь, поймешь…»
Виктор… Он, слава богу, ни голоду, ни холоду не видал. А если все правда… Какая страшная жизнь! По жердочке… Не меня ли ищут, не меня ли ловят…
А если про церковь хоть малая правда, то как замолить такой грех? Да и примет ли Бог словеса в искупленье? «Воздастся по делам…» «Надо бы поставить пусть не храм,— думалось тетке Таисе,— а малую часовенку. Когда-то была такая… Но как поставишь? Бабья, стариковская немочь…»
А тогда что остается? Лишь горевать и плакать и ждать для сына беды.
Ночная тьма стала помаленьку редеть. Пробивалась порой белая луна сквозь тучи, озаряя спящий хутор, окрестные холмы. Старая женщина пошла в дом, она не хотела, чтобы кто-то увидел ее среди ночи.
В доме она, лишь ступив на порог, узрела светлый луч, словно серебряный перст. Он тянулся через окошко к божнице, но ниже ее. Тетка Таиса подошла ближе, совсем близко и вдруг поняла. Серебряный перст тянулся не к пустому месту. Под божницей, его иконами и крестами, пониже, были прилеплены бумажные картинки: Никола-угодник, Богоматерь и еще одна, которая светила сейчас. На картинке — Христос среди цветущих деревьев; на лице его — умиление, благость. Христос и цветущие деревья…
Тетка Таиса упала на колени и стала молиться, разом поняв, что велел ей Господь. Прежде на родовом подворье были сады. Это потом все повывелось. А тогда бабушка Устинья молиться в сады уходила. Во снах, когда виделись ей родные и близкие, старое время, там были деревья, в плодах да цветах. Значит, так надо.
Сразу ей сделалось легче. Она крепко уснула, но утром, поднявшись, ничего не забыла. И принялась за труды.
На пустыре, где еще вчера высился дом, она копала ямы, таскала в корыте волоком перепревший навоз, щедро поливала, чтобы принялось молодое деревце несмотря на летнее время.
Углядев новую Таисину заботу, соседка Ксеня спросила:
— Ты чего?
— Пустое место. Глядеть гребостно,— уклончиво сказала она, а потом улыбнулась: — На хуторе садов не осталось. Пусть будет.
— Вроде не время,— сказала соседка.— Лучше сажать осенью да весной.
— До осени еще надо дожить,— всерьез ответила Таиса.
На неделе подъехал Виктор, застал мать в той же заботе. Уже зеленели десяток молоденьких груш, принявшись несмотря на лето. Таиса их поливала да укрывала.
— Мама? Ты чего делаешь?!— спросил Виктор недоумевая.— Здесь будет дом. Я тебе обещал, и мое слово твердое. Разве я тебя обманывал когда? Я сказал — значит, будет.
— Послушай меня, сынок…
— Мама, я же сказал…
Таиса подняла руку, отстраняясь от слов сына, и повторила тверже:
— Послушай свою старую мамку. Никакого дома не будет. Никому он не нужен. Будет сад. Груши тут будут расти, сынок. Раньше у нас на поместье такие были баргамоты, лимонки, черномяски. Детишкам и старикам посладиться. Мягкие да сладкие…— Она улыбалась, светлея ликом; она была там, в годах прошлых, а потом воротилась.— Даст бог, успею. Помаленьку буду глядеть. Это наши садбины, казачьи, уцепятся, будут рость. Я помру,— мягко сказала она.— Все помрем, мой сынок… Может, и хутора не будет. А груши останутся, целый курагод. Наше, сынок, поместье… Груши долго растут. Будут цвесть и цвесть… Такой сладкий дух, словно в раю, мой сынок…
Виктор стоял, слушал. Мать говорила будто о печальном. Но в голосе ее слышалась радость, и глаза светились добром, и так явственно проступало в лице давнее, полузабытое, но самое дорогое. Словно в детстве, хотелось заплакать, спрятать лицо в материнские теплые руки, в колени ее и замереть.
Но это была лишь минутная слабость, не более. Он легко ее превозмог и, глядя на старую мать свою, на ее трясущуюся голову и перекошенный рот, слыша детский лепет, стал прикидывать. Видно, пришла пора что-то с матерью делать, как-то определить ее. Сестра вряд ли возьмет к себе. На хуторе понадеяться не на кого, даже за хорошую плату. Придется что-то в городе искать.
Возле дерева
Степное наше селенье летней порою — словно гнездо зеленое. Глянешь с высокого придонского холма: домов не видать, пенится сплошная зелень, укрывая жилье и живье от жаркого солнца да суховея. Во дворах — яблони, груши, гущина смородины, вишен да слив. По улицам с обеих сторон, а порой и посередке высокие тополя, душистые по весне акации, тенистые клены.
Когда в полуденную пору приходится куда-либо из дома идти, обычай наш — пробираться краем улицы, тенью, от древа к древу. И всякий ходок, если он не больно спешит, проходя мимо двора Ивана Вареникова, под развесистым тутовником, непременно ущипнет ягоду-другую, иссиня-черную, сладкую, с живительной кислиной.
Иван Вареников — неблизкий, но сосед мой, давний знакомый. За последние годы он очень постарел: похудел, из-под кепки седые косицы торчат. Но улыбка на лице все та же.
— Не пойму…— разводит он руками.— Ты вроде к властям поближе. В Москву ездишь. К чему идем?
Теперь он уже не работает. Третий год как бросил. Ему — за семьдесят. Всю жизнь плавал на буксирных теплоходах механиком. По Дону, по Волге. Когда стал получать пенсию, из речного порта ушел и устроился в рыбколхоз, снова на буксир, таскал рыбоприемки.
— К дому поближе,— объяснял он.— А на пенсию разве проживешь? Тем более у меня девки… Им помочь.
В рыбколхозе платили плохо.
— Не пойму…— с улыбкой разводил он руками.— Вроде рыбу ловим, сдаем… А зарплаты нет. Берите, говорят, селедкой мурманской… Как-то даже чудно…
Встречаемся мы с Иваном редко и лишь летней порой, когда я приезжаю в поселок. К почте, к магазинам стараюсь идти не улицей, а проулком, на углу которого Иванов дом. Он строил его долго и долго.
— На зарплату…— виновато улыбался Иван, когда его укоряли,— не разгонишься… Тем более девки у меня…
Но все же построил: большой, просторный. В нем и выросли дочери, теперь уже внуки кружатся.
А Иван на старости лет дачей обзавелся, на краю поселка, туда — лишь на автобусе, пешком не дойдешь. Конечно, это никакая не дача, а лишь — земля, огород с картошкой да моркошкой. Снова работа с весны до осени.
— Приходится…— с виноватой улыбкой разводит руками Иван.— Пенсия — сам знаешь какая… А цены… Прямо я удивляюсь… Ты вот бываешь в других местах… Неужели у всех так? А как в городах живут? У нас хоть земля, ковыряемся, добываем…
Но эти разговоры нынче везде — про несладкую жизнь. А про Ивана завел я речь, вспомнив иное.
Тутовое дерево растет возле его двора, раскидистое, тенистое. По-нашему — просто тютина. Все долгое лето на нем — черные сладкие ягоды, они поспевают не вдруг.
В прежние времена, в пору моего далекого детства, в поселке было трудно с водой: колодцы да журавцы — едва хватало на огород. Сады с яблоками, грушами да прочей сладостью — все это появилось потом, при воде вольной, из артезианских колодцев. А прежде лакомились тютиной, пасленом-«бзникой» да грушами-черномясками. Тютина начинает спеть рано, уже в июне у детворы синие губы и руки, на рубашонках следы спелой ягоды.
Нынче — иная пора. Все растет: от клубники до винограда и персиков. А торгуют и вовсе заморским: ананасы, бананы… Не удивишь…
Но поспевает тютина — у детворы праздник. Вольная сладость, и прямо с ветки. Правда, тутовника нынче осталось мало. Раньше сажали во дворах. Детворе поклевать да вареников с тютиной наварить. Белая тютина, красная, черная. Одна — пресная, другая — с кислиной. Бывает — мелкая, суховатая, а иная — крупнючая, в палец. «Наша сладкая…» — хвалились. «А наша еще слаже!»
Это — в прошлом. Нынче тутовник — в небрежении, а значит — в редкость. И потому Иванова тютина всему поселку известна. Он посадил ее в давнюю пору, для своих маленьких дочек, чтобы далеко за ягодой не ходили. С тех пор много воды утекло. Иван постарел, дочки выросли, тютина стала просторным деревом. И знаменитым. Одно дело — ягода крупная, сладкая. Другое — и очень важное — хозяин детишек не прогоняет.
Бывает ведь всякое. Обносят колючей проволокой деревья возле двора, сторожат, ругаются: «А ну кыш отсюда! Идите к своему двору!»
У Ивана тютина — для всех. Когда росло дерево, хозяин, обрезая лишние ветки, оставлял на стволе длинные сучья, словно перекладины лестницы, чтобы всякий малец легко мог взобраться на дерево. Вот и лезут. И расползаются по толстым ветвям. Дерево старое, раскидистое. Хватает всем места. Залезут, усядутся поудобнее, клюют…
Мимо идешь — вроде никого не видно. Лишь зелень листвы. Но вдруг слышишь сверху, из кроны,— детские голоса. Пасутся… Одни наклюются, их сменят другие.
— Айда на тютину!
— Ты ныне на тютине был?!
— Мы два раза были!
Порою дерево отдыхает. А порою налетят, словно стая. Щебечут…
Иван со двора выйдет, его не боятся. Знают, что не прогонит. Лишь иногда спросит:
— Сладкая?
— Сладкая!!— отвечают хором.
А рядом с тютиной, вдоль забора, Иван иргу насадил. «Пусть клюют…— говорит он.— А мы не такими были?— спросит у случайного собеседника.— Такими…» — и заулыбается жмурясь.
Смолоду глаза у него были голубыми, всегда в прищуре улыбки. К старости выцвела голубизна, улыбка осталась, теперь уж навсегда. Не помню, чтобы он с кем-то ругался или даже повысил голос.
Иван — моего покойного старшего брата ровесник. Они вместе росли, учились. На войну не успели попасть. Но хлебнули лиха…
Он похож на моего старшего брата, на Славу. Но не лицом, не фигурой. Слава был тучным, круглолицым; Иван — всегда худощавый и ростом выше. А вот похожи… Наш Слава тоже никогда не ругался, голоса не повышал. Допекут, он вздохнет, разведет руками и улыбнется виновато: мол, не стоит…
Брат мой умер десять лет назад. Иван, слава богу, живой. Может, потому, что на воде работал. Все же — воздух. И поспокойней. Брат мой — на тракторном заводе. В дыму, в копоти, а главное — вечная маета. Оттого и сердце болело.
Зимою в поселке я бываю редко. Ивана не вижу. Летом любая дорога — мимо его двора, мимо тютины. В теплую пору, когда спеют ягоды, дерево не пустует. Всегда на нем ребятишки. Одни наедятся от пуза, другие прибывают и сразу наверх.
— Там слаже…— смеется Иван.
Останавливаюсь, кладу в рот ягодку-другую. Терпковатая сладость. Вспоминается детство.
— Веришь, взрослые люди идут,— говорит Иван,— незнакомые, остановятся, вот как ты, и вспомянут: мол, на вашей тютине выросли.— Он смолкает, а потом добавляет потише, кивая на дом соседний, через улицу: — Выпустили его, пришел, тоже подходил посладиться, говорит, в тюрьме ваша тютина снилась. Вроде залезу на нее, как в детстве, ем-ем — и никак не наемся. Парень-то неплохой был…— вздыхает Иван.
Я согласно киваю, все понимая. Речь про взрослого уже сына нашей соседки-пьяницы. Всю жизнь она гулеванила. И сына сгубила. Второй ли, третий раз он в тюрьме. По мелочам… С такой маманей… Горькое дитё. Что он в жизни видал? Оттого в тюрьме и грезилась ему Иванова тютина, что в детстве его, может, единый свет — это дерево: зеленый кров, теплые ветви, сладкие ягоды, сверстники рядом. Как не вспомнить…
Постояли мы с Иваном, повздыхали над чужой бедой. Сколь ее. А теперь — тем более: работы в поселке нет, зато много воли.
— Не пойму…— виновато улыбается Иван.— К чему идем? Водка дешевле хлеба. Ты везде ездишь, в Москве бываешь… Неужели везде так?..
Что ответить ему?.. Лишь развожу руками. Иван все понимает.
— Надо ехать на дачу,— говорит Иван.— Колорадского жука — аж красно. И жара. Поливаем и поливаем. Дождя-то нет.
— Тютина будет слаже…— смеюсь я.
Иван соглашается.
Стайка детворы на разномастных велосипедах подкатывает к дереву. Машины — в кучу. Сами наперегонки наверх. И вот уже нет их, пропали в кроне.
Мы с Иваном расходимся. Я — на почту, ему на дачу пора. Сверху, с дерева, птичий переклик: «У меня сладкая!» — «А у меня — еще слаже!»
Ухожу. Лето перевалило за середину. Теперь дни покатят быстрей и быстрей. Не успеешь оглянуться — сентябрь. Я уеду.
Когда от поселка далеко, я вспоминаю о нем, то видится всякое: старый наш дом, зеленый двор, улица, холмы Задонья, разные люди: и те, кто живы, и те, кто давно на кладбище. Порой Иван вспомянется, мой сосед, и, конечно, вместе со своим деревом, с тютиной. Если про Ивана вспомню, то невольно улыбнусь, словно отвечая на его тихую улыбку, теперь уже вечную.
Смертельно
Летним вечером во дворе хорошо. Кончается поливка, смолкает плеск воды, жужжание и стук насосов, моторов. Освеженные влагой земля и зелень парят, дышат прохладой. И от близкой степи веет ночным холодком. После дневной жары так славно.
Вокруг все видать. Солнце зашло, заря отыграла. Но высокое небо светит ясной прозеленью, словно отражая земное: пышную ботву огородов, купы садов, уличных деревьев: тополей, кленов, акаций, вязов. Поселок невелик, но зелен. Малые домики тонут в листве и ветвях.
Хорошо вечером. Покойно. День отгорел, отшумел. Последние нехитрые дела перед сном. Неспешные разговоры.
У Кадакиных поместье обычное: кирпичный флигель в три окна да летняя кухня в глубине двора. И хозяйство обычное: огород, сад, куры, два поросенка да дворовый кобель Грей. Такое мудрое имя присвоил собаке гостивший городской внук. Сначала язык ломали, потом привыкли: «Грей… Грейка… Грея…»
Поместье у Кадакиных невеликое, но ладное: в палисаднике цветут колокольчики, садовая ромашка, лилии; вдоль бетонных дорожек — розы. В огороде — порядок. Сразу видно, что хозяйка работящая и хозяин не лодырь.
И вечерние разговоры у Кадакиных прежде были обычными: про погоду, про картошку и колорадского жука; про дочкину семью, особенно про внука. Они — в городе. Хоть и близко, а рукой не достанешь.
Но это — прежде. Нынче, который уже день, все по-другому. Днем оба — на работе. Придут — дел полно по хозяйству, некогда языки чесать. А вот потом, когда свечереет, обычно-то возле летней кухни, под навесом — долгий ужин, да чай, да тары-бары. А нынче — все по-другому: наскоро поужинают опустив глаза, да еще радио включат, будто оно кому-то нужно. Поужинают — и опять по двору разбредутся. Хозяйка — к поросятам да птице, вроде приглядеть да запереть на ночь.
Во дворе тихо, на улице, по всей округе,— вечерний покой, и потому так явственно слышен негромкий голос хозяйки, она свою живность корит:
— Грамотные стали?.. Да… Не хотите абы чего жрать, премудрые?.. Слаженого вам да соложеного? Пирожных?— А потом печальней и тише: — Вот скоро… Без меня… придет вам пост, прижми хвост. Вспомянете…— И сбивается голос вовсе на шепот, на слезы, украдкой, с оглядкой на мужа.
Но тот — далеко. Он возле дома сидит на низенькой скамеечке, курит, собаке внушает:
— Грей… Грейка… Ты чего отвернулся? С тобой гутарят, а ты вроде гребаешь. Не имей такой привычки, Грея. Ну чего ты? Ты просил, и я тебя искупал из шланга, прохладил. Все по-хорошему. А ты отворачиваешься. Это уже наглость, Грейка. Да, да… Ты меня слышишь, Грея? Ты все слышишь, но ты не хочешь слушать. Эх, Грейка, Грейка… Дурак ты, Грейка, и боле никто. Ничего ты не знаешь, не понимаешь. Лишь с виду вроде премудрый, а дурак дураком. И нечего обижаться…
Хозяин смолкает. Горло вдруг перехватывает, саднит. И глаза… нет, он не плачет. Степану не положено плакать: полсотни лет, сухощавый, крепкий, лучший механик в автохозяйстве, внуку вот-вот десять лет стукнет. Даже пацаном не плакал, а потом и вовсе… Хотя бывало… Всякое бывало. Но плакать не положено. Не баба. Это они — тонкослезые.
Степан от жены своей сидит далеко — огород между ними — и вроде своим занят: курит да с дворнягой беседует. Но слышит жены воркованье: «Девочки мои… Хохлаточки…» Слышит и чует все потаенное: боль и слезы. Да и как не чуять?..
Врачи постановили: «Резать». И уже есть направление в областную больницу. «Кадакина Мария… Сорок девять лет…» И ведь никогда не болела, не жаловалась. А тут сразу — «онкология». Степану, конечно, сказали, а Мария сама догадалась, не дура.
Сорок девять лет, а по виду — моложе: лицо — гладкое, телом — не какая-нибудь хворостина, как говорят, все при ней. Работа — в бухгалтерии, это не мешки тягать. Может, потому и сохранилась. Сорок девять… А порою девушкой кличут. И вот тебе — «онкология». А что это, и ребенку ясно. Тем более торопят. А если по-честному, то это, конечно, смертельно. Если не дурить себя, не обманывать.
Такое вот, нежданно-негаданно, рухнуло на Кадакиных, разом жизнь изменив.
Обычно вечерами, после работы, управив дела домашние, огородные, сумерничали на воле. В доме, под крышею, душно и уже темно. На воле — долгий покойный вечер. Тишина, прохлада, зелень. Высоко в небе нежно вызванивают, перекликаясь, золотистые щурки; ласточки прощебечут, умчатся; молчаливые тяжелые цапли медленно проплывают к ночлегу, сияя снежной белизной и розовым. На душе — покой: день, слава богу, прожили.
В такую пору всегда говорили про хорошее. Про отпуск. От хозяйства не убежишь. Но все же легче. Про дочь, про внука. Должны приехать.
А теперь о чем говорить? Лишь о болезни? Так она и без разговоров из головы не идет. Потому и кончились вечерние посиделки. Ужинали, а потом расходились. Про болезнь говорить тошно, а молчать о ней и того тошнее.
Хозяйка уходила к птице да поросятам. Поглядеть да проверить запоры. Хозяин курил, с кобелем беседовал. Но думалось, но говорилось в душе только об одном.
И — странное дело — в этих раздумьях, а в первые дни в разговорах не Мария, а Степан терял голову. Плел несусветное, вроде не жене, а ему помирать. Мария знала, какую болезнь у нее определили, и даже приготовила смертную одежду, для похорон; но ее спасало детское ли, птичье неверие, что этот мир может жить без нее. Такое просто-напросто не укладывалось в голове. А Степан словно разум терял.
Он прожил с женою век и так обвыкся, что не мог иного представить. К дочери уедет Мария на день-другой, и уже все — не так. Дело не в том, что скучает. Не маленький. Но в доме все идет куролесом, за что ни возьмись. Получается не жизнь, а сплошное ожидание: когда же она вернется? А теперь чего ждать?
Когда все выяснилось, то в первый да второй день успокаивать и уговаривать приходилось Степана.
— Ну и чего… Ну и помру…— спокойно говорила Мария.— Помру, примешь какую-нибудь бабу. Катерину возьмешь, она пойдет,— сватала она свою вдовую подругу.
— Не нужна мне Катерина!
— Нужна — не нужна,— здраво рассуждала Мария,— а постирать, щи сварить…
— Я сам наварю лучше Катерины, и постираю, и с огородом управлюсь… Ты лишь сиди да указывай… Потому что мне не повариха да прачка, а ты нужна… Понимаешь, ты…— объяснял Степан, пытаясь пробить бабью глупость.— Я к тебе привык… Я без тебя не могу.
— Как привык, так и отвыкнешь.
— При чем тут привычка?! И Катерина твоя…
Тут уж начинала сердиться Мария, спрашивая резонно:
— Кто болеет? Кому операция — тебе или мне?
— Тебе…— соглашался Степан.— Но мне еще хуже… Мне — смертельно… Я лучше сто операций…— И начинал нести несусветное.
Мария — в слезы.
Так получилось раз и другой. А потом стали просто избегать таких разговоров. Что проку…
С работы приходили, сразу — в дела: огород — немалый, цветы — в палисаднике, куры, поросята, домашние заботы. Так было и нынче. Целый вечер трудились: каждый — свое. Все — привычное. Не надо указывать да подгонять.
Потом пришло время ужина. После ужина начиналось самое трудное: опять разойтись. Мария — к поросятам да курам: «Девочки мои… хохлатенькие…» А в голосе — слезы. Степан — курить да собаке внушать: «Дурак ты, Грейка…»
Но сегодня Степан протопил баньку, нагрел воды. Обычно душевой обходились. Но два ли, три дня в неделю протапливали баню, чтобы разом и состирнуть.
Вот и нынче. Протопил Степан баню, обмылся, жену позвал: «Иди…» А сам возле кухни устроился, отдыхая.
День уходил. Долгие зеленые сумерки полоняли двор, густея под кронами деревьев, в чащобе смородины, вишен. И в этом легком сумраке что-то виделось, а скорее грезилось из прошлого, из дальней дали. Вспомнилось вдруг, как в молодости ждал Марию. Встречались вечерами. И тогда были дела огородные, домашние. Степан всегда оказывался первым и думал с молодым нетерпеньем: а вдруг не придет? Мария появлялась неожиданно. У нее была легкая поступь и неслышное дыхание. Она словно возникала из летних сумерек. Не было — и вот она. «Ждешь?..» — спросит. И горячая волна радости затопляла душу. Сердце колотилось. Господи, как может быть счастлив человек, даже вспоминая…
День уходил. Над землей клубились сумерки, понемногу затопляя двор. Что-то почудилось Степану. Он поднял глаза и увидел, что по дорожке спешит к нему Мария, летящим шагом, молодая и красивая, с распущенными волосами.
— Ждешь?— улыбаясь, спросила она.
— Жду…— поднялся навстречу Степан, любуясь женой.— А мне, веришь, вспомнилось… Вроде как придремал и вспомнил, как у сада встречались. Ты ведь всегда опаздывала, я жду-жду…
— А это так положено…— засмеялась Мария и оправдалась: — Но я всегда приходила. Помнишь.
— Помню…— тихо ответил Степан, опускаясь на стул. Он из прошлого возвращался не сразу. Так неожиданно и так похоже все было: вечер нынешний и те далекие встречи. А душа и сердце так же радуются.
Жена поняла его, присела рядом. А Степан, снова уходя в далекое, взял ее руку и прижал к груди, там, где сердце.
— Вот как оно колотится, когда ждешь,— сказал он.— Когда-нибудь лопнет.
Мария наклонилась к мужу и, убрав руку, поцеловала то место, где, тревожась, гулко стучало сердце: «Придет — не придет?.. Любит — не любит?..» И тогда сердце тревожилось, и теперь, через столько лет. Мария поцеловала раз и другой, утишая и успокаивая. Но даже эта редкая, полузабытая ласка не помогла. Сердце не унималось, колотясь все так же часто и сильно.
— Чего ты?— спросила Мария и, не дождавшись ответа, словно озарением поняла то, что нужно было понять давным-давно. Вздорные, нелепые слова мужа про то, что «ему в сто раз хуже» и «смертельно»,— все это правда. Былое, давнее: молодая любовь, страсть — все это не могло пропасть, а хранилось в душе, помогая жить да еще прирастая за долгие дни и годы. И как теперь это оторвать от сердца? И впрямь — смертельно. Ей легче: отвезут, будут лечить, операция — тоже не больно, потому что наркоз дадут: заснешь, проснешься — не проснешься… А для него — боль непрерывная.
Мария, все это поняв, принялась успокаивать мужа:
— Чего ты… Разве я помирать собираюсь?.. Сделают операцию. Врачи в области хорошие, их все хвалят. После операции люди живут. Алексеевна старая, а живет. Десять лет назад резали. Валя Санаксырова, дядя Тимофей… А наш Афанасьич?— называла и называла она имена людей, которых вспомнила в эти дни, чтобы себя успокоить, теперь же убеждала мужа, уговаривая: — Надя со мной побудет, при больнице, отпуск возьмет. Алевтина приедет. Разве я первая… Помогут, вылечат… Будем жить дальше… Слава богу, все у нас есть: дом и хозяйство…— оглядывала она зеленый огород, деревья…— Все у нас ладно. Розы-то как цветут… Нам с тобой еще жить да жить. Жить да жить…
Как сладко было говорить и слушать эти слова… Как сладостно верить им.
Подступала летняя ночь, затопляя округу. Тишина смыкалась от двора ко двору. Ту-у-ур… ту-у-ур…— сонно ворковала горлица, провожая день. Еще один летний день, которых лишь у Господа много.
Дед Федор
— Поблуда! Кошелка старая! Увеялся! Нет его!!— раздается крик на весь хутор.— Я тебя приучу к базу! Арапником! Буду гнать до самого хутора и пороть! И пороть!! Засеку до смерти! И в барак кину! Нехай тебя бирюки гложут, старая падаль!!
Это Вовка орет. Дело вечернее. Скотина пришла с дневного попаса. Старого мерина нет. Наладился он последнее время уходить на хутор Венцы, что в пяти верстах от нашего. Там и хутора давно нет. Один лишь знак. А вот уходит. Нет-нет и убредет. Вовка, хозяин его, орет. И орет не зря, надрывается. Он знает…
— Запорю до смерти! И каргам! В барак! Нехай клюют!
Мы сидим недалеко. Я и дед Федор. На хуторе — вечерняя колгота. Скотина пришла с попаса. Мык да рев. А мы — на скамеечке, руки — крестиком. Я на хуторе — гость, у деда Федора лишь овца Шура в хозяйстве.
— Запорю!— надрывается Вовка.
Лень ему мерина искать. Пешком — ноги бить, верхом — в седле трястись. Вот он и кричит, все наперед зная.
— Ох и дурак…— качает головой дед Федор.— Сгальный. Аж пенится. И вправду запорет,— тревожится старик.— Человека — как муху, а скотину — и вовсе. Останемся без мерина. А мерин — золотой, без него — гибель,— объясняет он мне ли, миру, поднимаясь нехотя.
И вот уже он шагает ко двору Вовки. А там разговор обычный:
— Не пришел, что ли?
— Нету. Увеялся! Найду — запорю!
— Охолонь трошки. Схожу,— говорит дед Федор.— Приведу.
Вовка сразу смолкает, своего добившись. А дед Федор пошагал себе, легким батожком помахивая, через выгон и далее. Путь его не больно и близок.
Летний вечер. Скотина пришла с попаса. В такую пору хутор оживает. Весь долгий день он словно дремал в обморочной жаркой тиши. Народу нынче не много. Остатки люда рабочего с утра до ночи в поле, на бахчах, в степи. Старики гнут спину на левадах, в огородах. Детвора тоже при деле. Или в счастливых заботах на речке, в лесистом займище: рыбалка, купанье, грибы да ягоды.
Лишь вечер всех сбирает ко дворам. С попаса скотину встретить, коров подоить, остальную худобу поглядеть, вся ли вернулась. Пригнать с речки гусей да уток, коли сами не идут. Вот и несется переклик:
— Ждана, Ждана! Иди сюда, моя доча!
— Рябого телка заверни!
— Камолая убрела! Сынушка, побеги за ней!
— Кызя-кызя-кызя!!
— Ух, натурная! Шелужины просишь!
Коровье мычание, овечье да козье блеянье, надсадный бугаиный рев. Скотий дух, запах молока и пыли. Красное солнце прячется за холмом.
Народ при деле. Лишь мы с дедом Федором прохлаждались возле двора, на скамейке, перекидываясь словом-другим. Теперь мой собеседник увеялся, ноги бьет. Правда, говорун из него — невеликий. В отличие от отца Федора, который не закрывает рот.
Хутор небольшой, три десятка дворов. Есть дед Федор — и есть отец Федор. Чужие иногда путают. А путать тут нечего. Дед Федор теперь ищет чужого мерина. Отец Федор и своего бы не пошел искать. А на погляд они и вовсе — как день и ночь. Дед Федор ростом высок, сухощав, прям как палка, несмотря на серьезный возраст. В одежде он аккуратен, бороду бреет, но имеет усы с острыми, чуть подкрученными кверху концами. А отец Федор хоть много моложе, но зарос диким волосом, носит опорки и плетет всякую ахинею. И никакой он не «отец», сам себе чин присвоил, упирая на свою якобы божественность: «Спаси нас и сохрани…» да «грехи наши…». Этому пусть заезжие верят и величают «отцом». Свой народ его, как и встарь, кличет Федей-сусликом.
Но разговор нынче про деда Федора, а про Суслика — это к слову, чтобы не спутали, о ком речь.
Дед Федор пошагал. Теперь он не скоро придет. Но придет, мерина поставит на Вовкин баз и доложит: «Нашел. На Венцы убрел…»
Дед Федор — говорун невеликий. Он знает, что я «пишу в газетах». Кажется, это ценит. И порой произносит со значением:
— Надо бы тебе кой-чего пересказать… Много всего. Жизня…
Не первый год мы знакомы. Но дальше «надо бы…» дело движется плохо. Даже если на столе самогон от Коли Бахчевника или от Магомада. У Магомада — такая гадость. Но иногда приходится. Когда у Коли Бахчевника простой.
Вечер. Сижу на скамеечке. Хозяева мои — при делах: подоить, напоить всю ораву. Управиться с курами, утками.
Против двора чернеет пустыми глазницами старая хуторская школа. Рядом с ней рушится мазанка бабки Груни, ушедшей лишь год назад. Дальше — кирпичные руины магазина. Лысый бугор, еще недавно заставленный тракторами, комбайнами, сеялками да плугами. Гожими, разоренными, вовсе — ржавлей. Все это лесом стояло. Теперь — голая плешь.
Деда Федора уже не видно. Помахивая батожком, он скрылся в низине. Минует луг, покажется далеко, на угоре. Недолго помаячит в светлых вечерних сумерках и скроется. Пошагал к хутору Венцы.
Дед Федор на пенсии уже десять лет. Но последние годы даются ему трудно. Прежде, когда колхоз был живой и на Лысом бугре, словно на ярмарке, гнездилась техника, в ту пору старому трактористу тосковать не давали, всякий день призывая на помощь: «Дед Федор, погляди…» А деду Федору это на руку. Жену схоронив, он жил бобылем. Сын — в станице; дочка — на Севере; все хозяйство — овца Шура. «Дед Федор, приди погляди…» И он откликался охотно, дни напролет проводя с привычным железом. Иногда и не звали, он приходил: «Ну, чего у вас тут?..»
А потом все очень быстро кончилось. Колхоз начал помирать, усыхая. Еще на центральной усадьбе как-то ворочались, а здесь, на хуторе, в два счета все пропало. Даже останки тракторов, иную ржавую рухлядь словно корова языком слизала.
В райцентре, на речной пристани, день и ночь громыхая, грузили старье на баржи для заграницы. Платили наличными. И бугор, еще вчера щетинившийся от железа, обернулся блестящей стариковской плешью. Там даже полынь не росла, вытравленная соляркой да бензином.
Остался дед Федор сиротой. Поднимется утром, наскоро перекусит и по привычке в путь. Шагает легко, красный вишневый батожок лишь для вида. Неизменная фуражка. Никаких кепочек. Рубаха и куртка-спецовка застегнуты на все пуговицы. Крепкие башмаки и брюки. Никаких чириков ли, тапочек, при которых — черные пятки наружу. Никаких спортивных шаровар с непонятными надписями. Дед Федор в одежде строг. Он похож на отставного военного. Прямой как жердь. И шагает быстро, легко.
А хутор невелик. Три десятка домов. Чуть не половина — брошенных да разбитых. Много не нашагаешь. Раз-два… И вот он — Лысый бугор, где полеводческая бригада прежде располагалась. Теперь там плешь. Даже старая кузня исчезла. Ее Коля Бахчевник разобрал и сладил на своем дворе птичник.
Глядеть на пустой бугор мочи нет. Дед Федор отворачивается и плюет в ту сторону.
Раз-два… И вот уже старая школа чернеет глазницами. Памятник погибшим солдатам с выгоревшим добела железным венком. Развалины магазина. Считается — центр. Сюда хлебовозка приезжает.
Раз-два… Надо бы шагать помедленнее, тогда и дорога длинней. Но такая уж привычка: быстро ходить.
Раз-два… Вот уже и хутору конец. Последние дома. Дальше — займище, Дон. Там деду Федору делать нечего.
— Волков боюся,— говорит он, тараща глаза и усы топорща, когда ему советуют собирать грибы да шиповник, ловить рыбу, чем по хутору блукать.— И водяного тоже боюсь.
Хутору конец — и походу конец. Надо разворачиваться. Непонятно, зачем ноги бил.
Бывает, что кто-то и встретится. Но с молодыми о чем говорить. Сверстников, считай, не осталось. А кто еще дышит, те в делах огородных.
— Здорово ночевали!
— Слава богу.
— Какие новости?
— Жук одолевает. И никакая отрава его не берет.
Дед Федор слышать не хочет про жука и отраву. Он морщится, словно сам ее откушал, и правится дальше. А вслед ему несется неслышное: «Шалается, как бурлака. Картошки бы насажал, лодырюка…» Дед Федор не любит, чтобы его жизни учили. Потому что у него своя правда: «Грядочки ваши… А тысячу гектар на одного не хочешь? А я могу. Меня профессора проверяли. Как штык… Тысяча гектаров. И везде — порядок. И урожайность… Грядочки ваши». Он поначалу спорил, доказывал, потом устал.
Рядом со старой школой, напротив нее, живет мой товарищ с женою — люди приветливые. Дед Федор заглядывает к ним на дню три раза. У них — телефон. Из станицы звонят, из райцентра, а то и вовсе издалека: «Передайте… Скажите…»
Дед Федор заходит во двор, кивая на телефонный аппарат, спрашивает:
— Ничего?
— Не звонили тебе.
— Ну и слава богу.
Старик присаживается, но поутру долго не сидит. Оглянутся — уже нет его. Сначала удивлялись, потом привыкли.
— С причудами…— вздыхает сердобольная жена моего товарища.— Возраст…
— Шестеренки постерлись,— говорит мой приятель, постукивая пальцем по голове.— Проворачиваются. И получается, что дед Федор — что овечка Шура… В одной поре.
У деда Федора живет на базу овечка-перестарка. Давно бы ее под нож. Он не режет. Раньше и покупатели находились, свои, хуторские: «Давай куплю,— предлагали.— Жирку нагуляет, съедим. Тебе она ни к чему». Дед Федор таращил глаза, фыркал: «Интересно… К чему? А волна? Да я с нее шерсти на двое валенок настригаю. Своих заводи да ешь».
Волна — овечья шерсть — складывается в мешки и — на чердак. Там ее уже шашел погрыз.
— Интересно… Моя овечка, а он ее углядел. Еще покойная бабка гутарила: без овечки — ни варежек, ни чулок. Чем зимовать?
Товарищ мой порою излишне строг, но любит справедливость.
— Кувыркнулся умом старик,— делает он вывод.— Мыкается по хутору. Прибежал, сел, через минуту — подался. Чего приходил, сам не знает. Куда бежит, тоже.
Оно ведь и вправду: у людей — огороды, скотина. У деда Федора — ничего. Но вечно занят. Мне который год обещает:
— Дела поделаем — и сядем с тобой. Много кой-чего есть обсказать. Жизня…
Садились не раз. Обедали, чаевничали, хлебали уху. Было у нас время потолковать. Но все его обещания «много чего порассказать» укладываются в очень короткое: «Трактор был поломатый. Я его делал, делал. Починил, стал работать».
Сначала про детство: «Три класса кончил и бросил школу. Сто ошибок в диктанте, арифметика — ни киле, ни миле. А здоровый был дурак. Сел на прицеп, встал на сеялку, на жатке… За первое лето хлеба заработал в четыре раза больше отца. Зимой — на ремонте. Потом — на курсы. А потом дали мне трактор ломатый-переломатый. Я его делал-делал. До трех разов раскидывал и собирал. А он не ехал. А потом поехал. Стал работать».
Про войну: «Построили нас в шеренгу. Трактористы есть? Повели. А трактор поломатый. Я ему дал ума. Поехал. Стал работать. Таскал какую-то…»
Потом был немецкий плен: «Построили. Кто трактор знает? Привели. А он — поломатый. Делал-делал. Поехал. Стал работать».
В плен попал он недалеко от дома. Здесь большие бои шли. Изловчился, ушел из плена. Немцев как раз прогнали. Явился домой, на хутор. Опять та же песня: «Трактор вовсе негожий. И запчастей нет. Я его делал-делал. Довел до ума. Стал работать».
Но это было недолго. Арестовали его, дали десять лет «за измену». В северных лагерях тоже трактор нашелся. «Ломатый-переломатый. Делал-делал его. Поехал. Стал работать».
Из лагерей «изменника» отпустили прежде срока. Четыре года отбыл, простили.
А дома, на хуторе, дали трактор. «Вовсе негожий. Одна кабина. С него все поснимали, дочиста. Я ему долго давал ума. От рук отстал. Но поехал. Стал работать».
И общее, про жизнь: «Работали… В поле и в поле. Уедем в бригаду, еще снег в балках. И до нового снега. Боронуем, сеем, культивируем, пашем. Уборка подходит. Солому стянули, снова пахать да сеять. А потом зябь — до белых мух. Да еще на целину пошлют. Там и зимой убирали, в тулупах. Всю зиму — на ремонте. И снова — весна. Как белка на точиле. Работали и работали. А ныне?.. Аж чудно… Сколько хлеба сбирали… Какие гурты, отары… Молодняк, дойные, матки, валухи. А ныне: ни колосу, ни мыку. Дикое поле… По тысяче гектар на человека обрабатывали. «Кировец» — это машина. Зацепишь три сеялки разом. Он прет. В газете про нас писали. Ордена давали. За хлеб. А ныне…»
Нынче на хуторе два стареньких колесных трактора. «Лягушата»,— презрительно хмыкает дед Федор. Но для него великий праздник, когда эти тракторы ломаются всерьез. Помучаются хозяева, идут к деду Федору. Он будет глаза таращить, усы топорщить, ругая новые времена:
— Бывало, съездил в мастерскую, проточил, фрезернул. А ныне?..
Трактор он сделает, потом будет всю неделю рассказывать:
— Поломатый… Прибегли. Помоги. А там — чистый утиль. Все на соплях. А чем делать? А где запчасти? Ты мне дай запчасть. Нету… И не откажешь, свои люди. Вот и кумекай. Насилочки, насилочки… Слава богу, кой чего…— Это он про запасы: всяких железяк у него полный двор.— Поехал. Будет работать.
Дед Федор доволен. Жмурит глаза.
Но такие праздники редки. У хуторских тракторят-колесников дел не много. Лишь сенокос: повалить траву, сгрести да свезти. И опять — на прикол. На хуторе тишина. Не то что бывало.
А этому былью целый век: «Три класса кончил и не схотел. Стал работать… В марте уедем в бригаду: боронуем, сеем, потом — просо, подсолнушек, кукуруза, культивация, а там — сенокос. Ни дня, ни ночи не знали. Лишь порты поменять отпросишься. Уборка заходит, озимые, зябь. В Казахстан запрут… А там — на ремонт. А в марте снова».
Может, поэтому всякий день по утрам ему слышится голос: «Кончай ночевать!» Дед Федор вскакивает и по старой привычке торопится, наскоро завтракает. Но обязательно бреется.
И вот уже он шагает по хутору, словно военный: высокий, прямой как палка, на голове — фуражка, все пуговки застегнуты.
Раз-два… И всякое утро кажется ему, что все прежнее — сон, а на Лысом бугре — техника лесом стоит. И кричат ему, машут: «Дед Федор, погляди!»
Раз-два… Тихо на хуторе. И лысый бугор — плешь, ветру не за что зацепиться. Глядеть тошно.
Раз-два… Все дальше и дальше. До самого края хутора. Там на чужом подворье, на пригорке, колесный тракторенок стоит. На приколе. Словно на привязи. Тоже нудится. Кажется, позови — прибежит. Но как позовешь чужое? Да и зачем?
Дед Федор круто поворачивает и шагает назад. Раз-два…
Приятель мой, добрый друг деда Федора, уже проснулся, вышел на баз, заметив старика, окликнул его:
— Здорово ли ночевал? Откель правишься? Либо от бабки Марфутки?
Дед Федор лишь разводит руками, не умея объяснить, куда и зачем он ходил. И потому в который уже раз слушает журбу:
— Ты бы, дед Федор, обзавелся бы лодкой. Сетей навязал, вентерей наплел. И потихонечку промышлял.
— Ты бы, дед Федор, занялся курями. Вон Николай занялся. Сотня кур. Полтысячи яиц в неделю. Это минимум. Приехали, забрали и денежку отстегнули.
— Ты бы, дед Федор…
Старик особо не перечит. Но слушает не слова, а высокий голос тракторного «пускача». Это Чоков каждое утро заводит трактор и едет в соседний хутор, в бригаду. Там — остатки колхоза. Машина, понижая голос, переходит на рабочий режим и не глохнет, огорчая деда Федора. Если бы заглохла, он сразу бы заспешил к Чокову. Но не глохнет…
— Ты бы нашел себе дело… А теперь еще Вова-премудрый за мерином тебя бегать нанял. Он тебе хоть бутылку за это выставил? А?— Товарищ мой, деда Федора старинный приятель, любит справедливость.— Ты — человек старый. А он тебя гоняет. А ты как дитё…
Вот и нынешним вечером, когда дед Федор вернется и обязательно к нам заглянет, товарищ мой будет, жалеючи, укорять его:
— Снова таскался, ноги бил. Цепляет тебя на кукан, как глупого…
Дед Федор оправдывается всякий раз одинаково:
— Он же сгальный. Дурак дураком. Он людей не жалеет. А мерина враз запорет. Как без мерина жить? Зимой за хлебом…
Ведь и вправду зимой да в распутицу, когда хлябь да склизь, мерин выручает. Ездят на нем за хлебом в станицу. Трюшком, потихоньку, но довезет.
— А картошку людям копать?— вспоминает дед Федор.— Другого поставь. Он тебе наварнакает.
Тоже правда. Старый мерин копалку тянет неторопливо и ровно, выворачивая лемехом картофельные гнезда.
— Нет, нам без мерина нельзя. Колхоза нет, а еще и мерина лишимся — вовсе гибель,— заканчивает свои оправдания дед Федор и об ином речь заводит, тоже не в первый раз: — И ты погляди… Ведь он по степи не блукает, он на родной свой хутор идет, на Венцы. А там об хуторе знаку нет, одни лишь сады. А он приходит и становится на том самом месте, где был Юдаичев баз. Тут — хата была, тут — летняя стряпка, амбары. Я помню, мы же в соседях жили. Ныне там лишь бурьян. А он помнит. И прямо на конюшне становится, где его мать принесла.— Дед Федор изумленно разводит руками.— Сколько лет-годов… А теперь, значит, чего-то в голове. Вроде он домой идет. Идет и становится…— И, подумав, добавляет серьезно: — Я вот тоже в детский разум вхожу: одно — позабыл, другое — не помню. А свой родный хутор весь дочиста вижу. Ныне дочикилял — уж стемнело. А я все вижу, что было: от Сухой Голубой до Провалов. Калинкины, Мушкетов Исай, Мушкетов Маркей, бабка Хима, Труша Кулюкин, Иван Гулый, дед Лисан, Юдаичевы и тут наша хата.
— Значит, тоже скоро туда…— смеется мой товарищ.— Как мерин, убредешь. Будем искать тебя. И арапником…
Поздний вечер. Густеют сумерки. Коров подоили и снова прогнали с база. Теперь они будут бродить по хутору, по его пустошам, заросшим травою, добирая. А потом, во тьме, снова вернутся и улягутся, каждая у своего база, сыто вздыхая.
Летним вечером долго не хочется в дом уходить. На воле — прохлада. Товарищ мой смотрит телевизор. Жена его спит, за день намаялась — ей рано вставать. Я сижу, перебирая дневное.
Дед Федор, старый мерин… Мать моя, вовсе годами ветхая, тоже в последнее время во сне чуть не всякий день видит далекую родину — Забайкалье. Проснется — радуется: дома была.
А деду Федору снится одно и то же, он завтра придет и расскажет: «Вроде дали мне комбайн поломатый. Я его делал-делал, довел до ума. Стал работать… Хлеб убирать. А пшеница добрая. Молотим и молотим. Весь ток засыпали. Такие бунты лежат высоченные. А мы все молотим и молотим…»
2001 год
«Новый Мир», №5
Новое начало, или на колу — мочало
Все происходило просто и обыденно. Огромный грузовик-скотовоз подъехал и встал возле ворот молочно-товарной фермы. Поставили сходни. Стали загонять коров в просторный кузов. Ромашка, Малина, Дочка, Фиалка… Сто семьдесят дойных коров колхоза — все его стадо — начинали свой последний путь «под нож», на мясокомбинат. Коровы ничем не болели (европейское «коровье бешенство», слава богу, далеко); они плохо ли, хорошо — но доились, помогая колхозу выживать (молоко — в цене, чуть не десять рублей за литр). Были тут коровы стельные, а были и «глубокостельные», которым до отела — лишь день-другой. (Потом, на мясокомбинате, выбрасывали из распоротых коровьих утроб телят с желтыми мягкими копытцами.) Но это было потом; а сейчас коровы шли в кузов скотовоза неохотно, словно чуяли близкий конец. Доярки гнали коров и плакали, потому что для них это было не «поголовье», не «крупный рогатый скот», а послушная Беляна, норовистая Майка и Калина, которая вот-вот отелится. А еще — это была работа, пусть колхозная, с никудышной зарплатой. Но все же — работа, а значит, надежда. Хотя бы на пенсию. Теперь и этого нет.
По здравому смыслу, везти на мясокомбинат дойных коров, а тем более стельных — глупость, варварство. Но экономические законы говорят, что происходящее — верно. Колхоз, а точнее МУСП (муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие), не возвратил банку кредит, залогом которого было молочное стадо. Самый короткий путь превращения живого залога в рубли — мясокомбинат. Что и было сделано. Для банка трудоустройство доярок, их зарплаты и пенсии, судьбы семей, хлебные или молочные ручейки или реки, стельная корова Ромашка, теленок с желтыми копытцами — не существуют. Кредит, залог, возврат, пеня — его язык. И это, естественно, как говорится, совсем другой монастырь.
Но… примерно четверть населения страны живет и трудится в сельской местности, при сельском хозяйстве. А весь этот «агропромышленный комплекс» задолжал всем и всяческим «банкам» (государству, частным коммерческим структурам) примерно 200 млрд. рублей. Впору всех «грузить и вывозить», от старых до малых. Но будет ли прок?
Две сотни дойных коров коллективного хозяйства «Калачевское» были, конечно, шаткой, но все же поддержкой колхозу. Цена литра молока почти десять рублей. А это значит, что круглый год, изо дня в день, течет пусть невеликий, но денежный ручеек. Можно купить горючего, какие-то запчасти — как говорится, дыры заткнуть. Есть стадо — значит, растет молодняк. В любой момент можно забить скотиняку-другую. Тоже — денежка. Круглый год.
Теперь же, потеряв свое молочное стадо, хозяйство обречено. Доходов от полеводства надо ждать целый год. И будут ли они? Вот картина уборки урожая последнего лета.
Хлебное поле, которое хлебным назвать трудно. Высокая трава. Среди травы еле видны низкие щуплые колоски озимой пшеницы. Называется — озимое поле.
Осенью сеяли плохие семена в плохо обработанную почву, и сеяли поздно. Отсюда — результат. Урожай — два-три центнера с гектара. Да еще за два захода. Сначала косят на свал, потому что из-за травы эти чахлые колоски напрямую не промолотятся. Вторым ходом, через несколько дней, молотят. Горючего тратят вдвое больше. Комбайны, и без того изношенные, добивают. Ради двух центнеров с гектара.
Рядом, у хороших хозяев, урожай той же озимой пшеницы в 15, в 20 раз выше. По 40—60 центнеров намолачивают. Отец и сын Штепо, Олейников с Колесниченко…
И какой смысл (не говоря уж об экономической целесообразности) добывать, словно золото, эти несчастные два центнера с гектара?
— Мы вынуждены идти на это,— отвечает руководитель хозяйства.— Озимые сеять пора, а у нас семян нет. И никто нам их не даст.
Правильно. «Не даст…» А купить не на что. Долг примерно 4 млн. рублей. Не считая того, что работники (акционеры! хозяева!) зарплаты пять лет не получали.
А ведь год назад это хозяйство, как и другие в районе, по указанию из областного центра (специальный семинар проводили!) преобразовалось из СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив) в МУСП, отказавшись от всех прежних долгов. «Теперь у нас чистый счет. Будем работать и налоги платить». Я писал об этой новации или афере («Новый мир», 2000, №1), полагая, что через год-другой «преобразованные» хозяйства снова погрязнут в долгах. Прошел год. Пора затевать новую «реорганизацию». Хотя совершенно очевиден полный крах хозяйства. Ничто и никто ему не поможет. Ну, наскребут они семян озимки для посева… Это будут не семена, а мусор. Эти плохие семена они кое-как посеют в практически не обработанную почву, полную сорняков. Агротехнических сроков не выдержат. И если сейчас собирают по два центнера с гектара, то в будущем году и одного не наскребут. Словом — крах.
Тем более, что на шее — тяжелый хомут долгов. А теперь осенью молочного стада лишились. Пусть невеликие, но тысчонки всякий день в колхозный карман попадали. На текущую жизнь. Теперь и этого нет. На что надеяться? Только на Бога. Это мое мнение.
А вот что думает мой земляк Виктор Иванович Штепо, работающий на земле более полувека, дважды Герой Социалистического Труда, прежде — директор легендарного совхоза «Волго-Дон», а в нынешние времена — крепкий фермер. Бодрый вопрос корреспондента в канун очередных губернаторских выборов — и ответ:
— Собран неплохой урожай. Вице-губернатор Харитонов заявил недавно, что на элеваторах лежит четыреста тысяч тонн продовольственного зерна. Вроде бы должны рассчитаться с долгами, и на следующий год станет легче. Что вы об этом думаете?
— Похоже, все будет наоборот. Перспектива просматривается страшная. Насколько я знаю, озимых посеяно очень мало, да и те бросали по некачественным парам или по стерне. Поэтому толку по этой озими будет мало. По Калачевскому району дело обстоит так: вспаханной зяби сегодня где-то три тысячи гектаров, а пахать надо сто тысяч. Когда работать, где брать ГСМ, технику — никто не знает. И что делать на будущий год, если в нынешнем колхозы района намолотили всего тридцать тысяч тонн? В том же «Волго-Доне» как не платили зарплату четыре года, так и до сих пор не платят. Так что в следующем году будет только хуже.
Вслед за Виктором Ивановичем могу лишь повторить давно сказанное, в том числе и на страницах «Нового мира» (1996, №5): «Продолжится развал колхозов, разгром всего, что нажили за долгие годы; продолжится падение сельскохозяйственного производства — видимо, до основания».
Сегодня — январь года 2001-го. В прошлом, очень благоприятном для сельского хозяйства году (дожди прошли в меру и вовремя, раз в десять лет у нас такое бывает), как и в годы предыдущие, область потеряла 12 процентов поголовья крупного рогатого скота, примерно треть всей пашни осталась необработанной.
Так что сказанное могу лишь повторить: «Видимо — до основания». Но повторяю это с великой горечью. Это ведь моя страна, моя земля, мои люди.
И потому порой и вправду на чудо надеешься. На Бога ли, на «царя»… Иначе зачем в конце лета 2000 года, услыхав краем уха о том, что правительство что-то по сельскому хозяйству «обсудило и приняло», стал я искать это постановление.
В своем поселке, в Калаче-на-Дону, заявился в районное сельхозуправление и попросил:
— Дайте поглядеть новое постановление.
— Не слыхали.
— Газета пишет: «Правительство РФ на своем заседании одобрило основные направления агропродовольственной политики на ближайшие десять лет… Документ определяет…» Где документ?
Но это в давние теперь годы, при власти советской, подобные постановления на другой уже день разлетались по всей стране. Их «изучали, принимали к сведению, делали выводы» и проч.
Нынче — век иной и порядки иные. Не то что в райцентре, даже три месяца спустя в области, в Управлении сельского хозяйства, никто мне помочь не смог. «Протокольная группа» областной администрации, через которую все указы, приказы, распоряжения проходят, тоже руками развела. Нет такого постановления.
Какая-то «пропавшая грамота». Ведь не приснилось, вот они, строчки: «Правительство РФ на своем заседании одобрило основные направления…» Что «одобрило»? Любопытствую, ищу полгода. Тщетно.
И прихожу к выводу: правительство РФ на своем долгом заседании 27 июля 2000 года ничего не решило. Поговорили — и разошлись.
Повторю и давнее предположение о том, что наверху толком не знают, что делать на селе, одни туманно-теоретические разговоры: мол, рынок, мол, капитализм, все образуется.
Это самое «образуется» теперь — фундамент высоких чиновничьих размышлений.
Алексей Гордеев, вице-премьер правительства РФ, министр сельского хозяйства России, в обширном разговоре с читателями «Сельской жизни» (2000, №60, 24—30 августа) сообщает:
«Недавно на заседании Правительства РФ были рассмотрены и одобрены основные направления агропродовольственной политики страны на ближайшие 10 лет.
Думаю, многим понятно, чем вызвано рождение этого документа.
Аграрный комплекс находится в глубоком системном кризисе…
В сельском хозяйстве произошло существенное сокращение производственно-технического потенциала… Актуальной стала проблема деградации земель. Из сельскохозяйственного оборота выведено около 30 миллионов гектаров угодий. Вынос питательных веществ из почвы в четыре раза превосходит их внесение с удобрениями. Приходят в упадок мелиоративные системы, увеличиваются площади закисленных почв.
В последнее время селян буквально задавила высокая кредиторская задолженность — в основном по льготным государственным кредитам, платежам в бюджеты и внебюджетные фонды. Основная часть этих долгов приходится на пени и штрафы за просроченные платежи. У подавляющей части сельхозпредприятий из-за этого блокированы банковские счета».
Это — первая часть размышлений Гордеева, как говорят, констатирующая, а потом выводы: «Исходя из сложившейся ситуации и строятся стратегия и тактика в разработанном специалистами, учеными, практиками документе, в котором заложена идеология стабилизации и подъема агропромышленного производства».
Теперь — внимание!— вице-премьер объясняет стратегию и тактику переустройства села. Как жить и куда идти. Планы на целое десятилетие:
«На первый план выдвигаются институциональные преобразования в сельском хозяйстве и развитие рыночной инфраструктуры…
Другим важным направлением деятельности, согласно новой концепции, является четкое распределение функций в сфере АПК между федеральными и региональными органами власти… Усилия федерального центра будут сконцентрированы на формировании и регулировании единого продовольственного рынка и рынка материально-технических ресурсов для сельского хозяйства и других отраслей АПК: большое значение придается проведению единой общегосударственной земельной, финансово-кредитной и налоговой политики…
Реализация таких крупномасштабных замыслов потребует обеспечения правовой базы функционирования аграрного комплекса, разработки целевых федеральных программ развития тех или иных его отраслей…»
Перечитал я эти строки раз и другой. «Институциональные преобразования», «четкое распределение функций», «формирование и регулирование», «совершенствование», «оздоровление» и снова «совершенствование»… Термины славные. Но понять что-либо трудно. Как жить селу, куда идти?.. Хотелось бы чего-то осязаемого, конкретного. А вот оно и «конкретное»: «Мы не говорим, что данный документ является программой, то есть конкретным планом действий с обозначением параметров, сроков и т.д. Этого нет. В документе прописана только идеология стабилизации и развития АПК. Иными словами, общие подходы. Конкретные же меры в русле этой стратегии будут разрабатываться и корректироваться по мере улучшения в стране экономической ситуации».
Так вот оно что: опять — лишь идеология. А «конкретные меры» снова отложены на далекий потом.
Но скажите мне, каким образом может наступить «улучшение экономической ситуации», если основная задача власти — ждать у моря погоды?
Закончил свой рассказ Гордеев довольно лирично: «Нелегко сейчас хлеборобам, но пусть их всегда согревает мысль о том, что хлеб — это основа всей жизни».
Последнее мне кажется самым ценным: «…пусть согревает мысль…» Один из многих предшественников нынешнего вице-премьера и министра, тоже лирик, закончил одну из своих речей пожеланием: «Надо, чтобы у крестьянина загорелись глаза…» Поэты…
Итак, надеяться на какие-то шаги правительства не стоит. Ясно ответил вице-премьер Гордеев: «Конкретные же меры будут (еще только будут!— Б.Е.) разрабатываться… по мере улучшения в стране экономической ситуации». Словом, пока поспеют каныши, не останется у бабки и души.
И это ведь не оговорка. Это позиция не одного Гордеева.
Вот В.А.Мау — руководитель Рабочего центра экономических реформ при правительстве Российской Федерации.
Итак, читаем:
«Особая сложность ситуации состоит в том, что практически невозможно сказать, что конкретно надо делать (курсив в обоих случаях мой.— Б.Е.) для решения стоящих перед Россией проблем… До того как заниматься прямым регулированием экономики, раздачей денег на сельское хозяйство… и т.п., государству надо быть уверенным, что деньги эти не будут разворованы. А для этого надо укрепить правоохранительную систему, силовые структуры, суды, разобраться с соответствием регионального законодательства федеральному. Надо провести реформу государственного аппарата…
При здоровых институтах власти особого вмешательства в экономику уже не потребуется…» («Новый мир», 2000, №5).
Песня очень знакомая: само собой образуется… надо лишь годить.
Кстати замечу, что А.И.Солженицына, от телеэкранов давно отлученного, Мау корит за то, что тот «осуждает частную собственность на землю». Но почему только Солженицына? А весь легион великих мыслителей? Кант, Ламенне, Карлейль, Эмерсон, Толстой…
«Если я родился на земле, то где же моя часть?»
«Мой разум учит меня, что земля не может быть продаваема».
«Земля принадлежит двоим: всемогущему Богу и всем сынам людским, которые работали на ней или которые будут работать на ней».
«Все люди с самого начала и прежде всякого юридического акта находятся во владении землею».
«Владение землей как собственностью есть одно из самых противоестественных преступлений».
И еще: земельное законодательство западных стран, у которых мы нынче учимся… Оно ведь далеко от тех лозунгов, которые звучат ныне почти истерически: «Все на продажу!»
Цитата из записок Дж. Хэрриота, йоркширского ветеринара, который с земельным законодательством своей родины — Англии — был не больно знаком, но хотел построить дом, а для этого купить участок земли.
«Рыская по окрестностям в поисках участка, я вскоре выяснил, что это чрезвычайно трудная задача… нельзя было попросить знакомого фермера продать уголок луга… Они все были очень милыми людьми и искренне хотели помочь, но ничего сделать не могли.
— Я бы с радостью, Джим,— сказал один,— да только это запрещено. Я даже не имею права построить на собственном лугу дом для собственного сына!»
Это — современная Англия.
А что до России, то здесь нынче опять страсти кипят: продавать землю — не продавать? Правда, точки кипения — Москва и телевидение с газетами. Саратовский губернатор Аяцков призывает перенять опыт его области, где еще три года назад приняли радикальный закон о земле, сняв все ограничения на куплю-продажу и проводя периодически земельные аукционы. Послушаешь его — божий рай. Мы с саратовцами — соседи. Интересуемся. Вот цифры: за три года там продано 9 тысяч гектаров сельхозугодий. А одной лишь пашни у саратовцев около 6 миллионов гектаров. Если такими темпами они будут землей торговать, потребуется времени около трех тысячелетий. А цена — смехотворная: по 25—50 рублей за гектар продавали. Гордиться нечем, перенимать — тем более. Словесные фейерверки.
По мнению наших, волгоградских, специалистов-землеустроителей, частная собственность на землю в России — реальность, и довольно давняя: Указ президента России от октября 1993 года и Конституция РФ, да еще Указ от марта 1996 года, который снял все ограничения.
Но рынок земли не работает, потому что требуются большие затраты, прибыль невеликая, окупаемость 10—15 лет, земля находится в паях, каждый из которых не превышает 10—20 гектаров, владельцы паев понимают, что этот клочок земли для них — последняя и единственная надежда на жизнь. Выгоднее пока аренда. Зерно дают, сено, солому, помогают вспахать приусадебный участок. Из года в год. Можно держать скотину. Это — жизнь. А продашь — деньги невеликие, быстро кончатся, а потом — волком вой. Хутор — не город, там нет работы.
Поэтому не купля-продажа, а аренда земли у нас в области неплохо идет. 570 тысяч гектаров — арендуемые земли. (Сравните с 9 тысячами у саратовцев). Срок аренды (по областному закону) от 5 до 49 лет. Срок серьезный — полвека, почти своя. Что будет потом? Поживем — увидим. О сегодняшнем душа болит. Ведь очень трудно…
Хутор Кумовка да хутор Рог-Измайловский, Ярки-Рубежные да Кундрючкин… Вчера — колхоз да совхоз, с детства привычный. Работай — и будешь жить. А ныне?
Новый порядок, десятилетие назад пришедший в российскую деревню, по значимости и масштабам сродни Великому освобождению крестьянства 1861 года.
В тогдашнем Манифесте император Александр II, «обращая внимание на неизбежные трудности предприемлемого преобразования», требовал «бдительного попечения» от «исполнителей нового устройства».
Вместе с Манифестом были утверждены и обнародованы 17 законодательных актов, в которых содержались условия и механизм не только освобождения крестьян, но их земельного устройства.
Указ президента РФ по земельной реформе от января 1992 года, к сожалению, был гораздо легковеснее. Сопутствующих законодательных актов, кроме постановления правительства, не оказалось. Сам указ по многим пунктам не был исполнен.
А что касается «идеологии преобразований», то она получилась топорной. Подавляющее большинство — колхозники, их руководители, от бригадиров, председателей, районных и областных чинов до «аграриев» московских — заявляли в один голос: «Нас хотят уничтожить!» Так было понято.
«Демократическое» меньшинство, микроскопическое по сравнению с оппонентами, но находящееся в столичной реальной власти, определило все колхозы и совхозы одним словом — «черная дыра», имея в виду нерентабельность, низкую производительность труда, плохую «отдачу» при инвестициях и просто-напросто невозврат полученных ссуд и кредитов. Экономистов при власти понять можно. Но и они должны были понять, что другого сельхозпроизводителя у нас нет. А «черная дыра» кормит Россию и является четвертой частью ее по населению. Живые люди. В колхоз их согнали и почти семьдесят лет колхозной жизни «учили» такие же экономисты, как нынешние,— умные, властные, но придерживающиеся других взглядов.
Теперь, уже целое десятилетие, длится новый «загон», направление которого менялось не раз.
1990—1993 годы. Цель: «Вперед к частному (фермерскому) хозяйствованию на земле». Новым хозяевам (непросто!) выделяются денежные кредиты на обзаведение. Но не выполнены многие пункты постановления правительства «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» от 29 декабря 1991 года и главный из них: «Колхозы и совхозы, не обладающие финансовыми ресурсами для погашения задолженностей по оплате труда и кредитам, объявляются несостоятельными (банкротами) до 1 февраля 1992 г. и подлежат ликвидации и реорганизации в течение I квартала 1992 г.».
1993 год. Вице-президент страны под бурные аплодисменты зала заявляет: «Фермеры страну не накормят». Прекращено кредитование фермеров. Списываются долги колхозов (дважды!). Начинается выделение новых займов: «на уборку», «на сев», «по лизингу», «товарных кредитов».
И пошло-поехало… К чему приехали, рассказывал я не раз. Мои слова подтверждают руководители страны, области.
Вице-премьер правительства России: «Аграрный комплекс находится в глубоком системном кризисе… Острейшая проблема — тяжелое финансовое положение сельского хозяйства… У подавляющей части сельхозпредприятий блокированы банковские счета…»
То есть они — банкроты, «подавляющая часть»…
Вице-губернатор области, руководящий сельским хозяйством, подводит итоги. Из шестисот коллективных хозяйств лишь сто он называет благополучными. Все остальные: «в кризисе», «в глубоком кризисе», «с полным развалом». Позволю усомниться даже в этих ста «благополучных». Пусть не знаю досконально всю область. Но свой район, Калачевский, далеко не самый худший, как говорится, на ладони. В нем нет ни одного благополучного коллективного хозяйства. Хотя по классификации вице-губернатора к благополучным, видимо, принадлежат «Мир» и «Тихий Дон», и то и другое хозяйства недавно «реформировались», то есть оставили все свои немалые долги фиктивным образованиям, носящим прежние названия хозяйств: «Советское» и «Приморское». Долги — в сторону, ликвидное имущество — в новое хозяйство с новым названием, но все с теми же проблемами. И потому новые долги появляются сразу же.
«Крепкими сельхозпредприятиями» районная газета именует «Ниву», «Волжанин». И на той же газетной странице печатает информацию о ходе полевых работ, где значится урожайность «передовика»: озимая пшеница, рожь и ячмень дали по 5 центнеров с гектара. А всего этих гектаров — целых 700. «Передовое сельхозпредприятие»… Рядом — фермеры, Штепо ли, Олейников, Кузьменко. У каждого площадь убираемых хлебов в 2 раза больше, а урожайность в 10 раз больше. Вот тебе и «благополучное». Так что к словам вице-губернатора даже о сотне (из шестисот!) «благополучных» коллективных хозяйств надо отнестись с небезосновательным скептицизмом.
По-настоящему благополучных коллективных хозяйств очень мало. Мы их знаем наизусть и повторяем, как таблицу умножения: «Кузьмичевский» и «Луч» Городищенского района, им. Ленина Суровикинского района и им. Ленина Нехаевского, им. Калинина и «Калиновское»… Кузнецов да Белоштанов, Яменсков да Петров, Телитченко да Акинтиков… Сладкая для души музыка имен руководителей этих хозяйств! 25 млн. рублей годовой прибыли в Кузьмичах. Семь тысяч литров — надой от коровы в «Луче». Новые комбайны и тракторы в Калиновке… Молочная доильно-холодильная линия шведской фирмы «Альфа-Лаваль» у Белоштанова, в им. Калинина…
Но уж очень короткий список. Хорошо, если наберется полсотни хозяйств на область. Вряд ли… Насчитать бы три десятка…
А все остальные? Повторим слова вице-губернатора: «кризис», «глубокий кризис», «полный развал»… Из которого есть ли выход?
Требования профсоюза тружеников агропромышленного комплекса России. Естественно, президенту, правительству:
обеспечить ежегодное выделение бюджетных средств на поддержку сельхозпроизводителей из расчета не менее 10 процентов общей расходной части бюджета;
определить государственную квоту на производство сельхозпродукции и обеспечить ее закупку;
принять законы о дотациях за произведенную продукцию и о регулировании цен на горюче-смазочные материалы;
создать фонд поддержки АПК и отечественного сельскохозяйственного машиностроения;
выделять долговременные кредиты сельхозпредприятиям под низкие проценты — не более 10 процентов;
списать все пени и штрафы, начисленные за неуплату платежей в бюджет и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (около 25 млрд. рублей) и по необеспеченным возвратом централизованным кредитным ресурсам, выданным в 1992—1994 годах (21 млрд. рублей) и начисленным по ним процентам.
На месте, в селе да на хуторе, просят поменьше, но из года в год. Вот один из руководителей хозяйства заявляет корреспонденту газеты в 1998 году: «Пусть дают денег, а как с ними управиться, мы сами знаем…»; в 1999 году: «Если нам не помогут, не знаю, как мы будем дальше жить»; в 2000 году: «Напишите, чтобы нам дали солярки. Все планы летят в тартарары. (Накануне, прямо с колхозной нефтебазы, при стороже, украли все горючее. Воров, конечно, не сыскали.) Мороз и засуха загубили 770 гектаров озимых и 1000 гектаров ячменя». (И ведь поворачивается язык о засухе говорить. Такого доброго к земле года не припомню. По 50 центнеров на круг намолачивают добрые люди.)
Но солярку, конечно, опять дали. И этому хозяйству, и многим другим. За счет все того же бюджета области. Брать все берут. А вот расплачиваться желающих мало.
Вот совещание руководителей коллективных хозяйств в райцентре. Речь о долгах.
— Давайте договоримся, чтобы все гасили долг РАО на 50 процентов,— предлагает один из руководителей.— Зачем отдавать все долги…
Это уже — сознательность. Правда, не у всех. Кто будет отдавать Сбербанку еще 50 процентов — не ясно. Кредит брали под гарантию районного бюджета. Значит, виноватыми окажутся учителя, врачи, дети…
Вот газетный отчет с планерки у губернатора области:
Губернатор: «Почему селяне не рассчитываются за кредиты, взятые для проведения посевной?»
Начальник облсельхозуправления: «Работа проводится».
Начальник финуправления: «А нам зарплату платить бюджетникам нечем».
Губернатор: «Так почему селяне не рассчитываются?»
Начальник облсельхоза: «Ну, Николай Кириллович, это вопрос не ко мне…»
Губернатор: «А к кому? Весной все стонали: селу сеять-пахать не на чем, вы ставили предо мной задачу финансового обеспечения работ. Кредит дали, я поручился за него бюджетом, хозяйства договора подписывали. Когда пришла пора долг отдавать, вроде как и крайних нет. Кто мешает сельхозуправлению серьезно заниматься проблемой возврата кредитов?»
Начальник облсельхоза: «Занимаемся. Приглашаем группы руководителей хозяйств, заслушиваем…»
Губернатор: «Что толку…»
И здесь же зашла речь о вспашке зяби, которая, как обычно, запаздывала.
— Почему?— спросил губернатор.
— Горючее…— был ответ.— Нету.
— Пусть хозяйства расплачиваются с нынешними долгами, тогда и горючее будет. Опять мне свою голову подставлять прикажете!
Никуда губернатор не денется. Подставит «голову», а если точнее — областной бюджет.
— Я шел по пути наращивания помощи селянам и буду идти по этому пути,— подтверждает он.
— В этом году как никогда наш сельхозпроизводитель получит значительную поддержку. Мы планируем направить около двух миллиардов рублей,— пообещал вице-губернатор.
Два миллиарда — не шутка. Треть областного бюджета. Но будет ли прок…
Вспоминается старое, когда лет десять назад, откровенно гордясь, говорили мне председатели колхозов: «Брать надо и брать. Все равно спишут…»
Осталось это и сейчас. Вот выступает известный председатель колхоза, депутат областной Думы. О чем речь? Все о том же: «Руководство области должно обратиться к Чубайсу ли, к Путину… Надо решить с долгами по электричеству…» «Решить» — значит списать. Конечно, всем. Но один район должен за электричество 60 млн. рублей, а соседний, где потолковей руководители, с долгами рассчитывается. Один колхоз должен два да три миллиона, соседний — чист, как стекло. «Списывать» все долги — значит поощрять нерадивых, у которых та же самая логика: «мое» и «чужое».
Приезжаю на хутор. Огромный когда-то животноводческий комплекс. Колхоз распался на пять ли, на десять «кооперативов». Скотины мало. Лишь кое-где по углам что-то хрюкает. Но лампы и даже прожектора среди бела дня «освещают». Спрашиваю:
— Чего свет горит?
Объясняют:
— Все рассчитано. Если включать и выключать, то лампочки быстро перегорают. Покупать их — деньги платить. А когда не выключаются, дольше служат.
Вот так. За лампочки — надо платить. За электричество?.. Про это и думать смешно. Это — бесплатно.
В одном из колхозов области прошлым летом бастовали его работники. Перекрыли дороги тракторами. Не давали отгружать пшеницу на вывоз. Хотя этот самый «вывоз» — лишь очевидный расчет за взятые в кредит горючее, запчасти и прочее. А может, они и правы… Может, вовсе не туда пшеничка плыла. Сейчас понять, проверить колхозного председателя не может никто. И районного, кстати, тоже… Все — умные, все — мудрые… В моем районе взяли кредит у Сбербанка «на проведение сельхозработ», «под гарантию районного бюджета». Пришла осень — отдавать нечем ли, не хотят. А Сбербанк — организация серьезная. И проценты серьезные. «Мы тут провернули операцию…» — загадочно улыбаясь, объяснили мне. А какие уж тут загадки… Просто-напросто взяли еще один кредит, в другом банке; этим кредитом рассчитались со Сбербанком, а на следующий день снова взяли у Сбербанка новый, уже больший, кредит, чтобы рассчитаться с займом. «Провернули…» Но как будут через полгода возвращать занятое посреди зимы, если после уборки урожая не смогли расплатиться? «Что-нибудь придумаем…» Уже «придумали». В районе прошли выборы. Глава администрации — новый. Теперь пусть он «придумывает».
И он придумал. Строки газетного отчета с планерки в сельхозуправлении: «С каждым днем приближается тот момент, когда районное агропромышленное объединение должно вернуть Сбербанку 22 млн. рублей. До 1 января хозяйства обещали погасить 50 процентов задолженности, но кроме «Голубинского» и «Тихого Дона» никто о своих долгах не вспомнил. Продукции нет, продать уже нечего… единственный реальный путь… вновь брать ссуду, чтобы расплатиться со Сбербанком».
Добавлю, что этот «реальный путь» весьма сомнителен. Он ведет только к увеличению долга. К отсрочке неминуемого банкротства теперь уже всего района.
Бюджет… Бюджет за все эти «придумки» и «хитрости» ответит. «Задержки» да «невыплаты» зарплат, пособий… С нищих — по копейке… Авось не заметят. Но это очень заметно!
Примерно 7 миллиардов — наш бюджет областной. А вице-губернатор обещает на поддержку села 2 миллиарда.
Понимаю благие намерения. Но как легко распоряжаться чужими деньгами — тем самым «бюджетным мешком», который в руках. Тоже ведь, в конце концов, «не мое».
Пример в подтверждение. В нашем районе администрация, Управление сельского хозяйства брали в Сбербанке кредит «для села». Все бумаги оформили, оставалась последняя. По каким-то правилам требовалось, чтобы начальник Управления сельского хозяйства подписал обязательство, что возврат кредита он гарантирует в том числе и личным имуществом, своим домом. Тут и начался спектакль под названием «Мое». Начальник управления отказывался подписывать обязательство наотрез. Ему объясняли, что это, в общем-то, понарошку. Никто его не тронет. Простая формальность. А он говорил: «Нет!» Потому что это — «мое», не какое-нибудь бюджетное. «Под бюджет» он любую бумагу подпишет. А вот «мое» — это и есть «мое», тут не семь, а сто раз отмеришь.
Итак, десять лет «перестраивается» наша деревня, чтобы шагать путем новым. Дела идут все хуже. И уже потеряна вера. В «перестройку» ли, в дорогие сердцу колхозы. Именно — дорогие! До прошлого лета все начальство сельское районное, которое, как говорится, на глазах не сдавалось, суетясь под лозунгом: «Не мы колхозы создавали, не нам и разрушать!»
— Жмем!
— Заставим пары пахать!
— Теперь у нас право менять руководителей! Мы возьмемся!
Мыкались по колхозам «уполномоченные» да «ответственные». Моя «зона», твоя «зона»…
А вот нынешним летом (таким добрым для земледельцев: с дождями, с теплом!),— нынешним летом увидел я, что настроение моих «районщиков» иное. Так было с весны и до самой осени.
— Неплохая озимка из зимы вышла, но надо же ее поддержать, надо работать. А они… Приеду, показываю, говорю… Все без толку…
— Скотина стоит, ревет от голоду… Рядом — зеленка… Ну неужели нельзя хоть один агрегат пустить… Это же ваше молоко, ваша жизнь…
— Два дня молотили. Нормально пошло, приладились. Просят: дайте аванс, детей в школу собрать. Дали. Забыли и про детей, и про уборку, пьют неделю, все комбайны стоят.
И выводы, негромкие, с глазу на глаз:
— Все. Конец. Ничем не поможешь.
— Раньше галдели: «Черная дыра, черная дыра…» Брехали. А вот сейчас — точно: дырища! И уже не залатаешь.
— Нет. Видимо, так оно и есть: если «не мое», то оно так и будет — «не мое». И теперь уже все. Капец!
Мои собеседники, каждый из них уроженец сельский, закончившие сельхозинституты и к пятидесяти своим годам прошедшие долгую школу: бригадир, управляющий, главный специалист колхоза, председатель, районный руководитель. Таких собеседников было не менее десяти. В отличие от прежних лет нынче ни один из них не был оптимистом. Все сказали: «Конец». Нынче ли, завтра, через два года… Но коллективным хозяйствам придет конец.
Может быть, еще потому они были так единодушны (но только с глазу на глаз!), что в нашем районе, когда-то передовом, а нынче разваленном, так очевидны успехи хороших самостоятельных хозяев: Штепо, Олейников, Колесниченко, Кузьменко, Крючков, Вьюнников… В колхозах что ни год, то — мороз, то — засуха, то — жук кузька. Все мешает. А у них — 30, 40, 50 центнеров с гектара. И от года в год все больше земли они обрабатывают. Начинали с 30, 50, 100 гектаров. А сейчас — 1000, 1500, 2000… (Отсутствие земельного кодекса, купли-продажи-залога земли им не мешает.) Работают, их труды налицо: чистейшие поля, урожаи, собственные склады, заправочные станции, мастерские, теплые стоянки для техники. И наращивание производства. Вот уже начали покупать да арендовать разбитые животноводческие фермы, чтобы заниматься разведением свиней, коров. В колхозах все это — «нерентабельно», «невыгодно». А Колесниченко, Олейников, Кузьменко взяли 5 корпусов бывшего животноводческого комплекса совхоза «Маяк», отремонтировали и поставили на откорм 1000 голов свиней. Это так очевидно, такой контраст по сравнению с колхозным развалом. Тем более, что самостоятельным хозяевам государство помогло лишь на первых шагах, в 1991—1993 годах. И все. Теперь и уже давно не получают они льготных кредитов «на сев и уборку», исправно платят налоги, сполна рассчитываются за электричество. А все у них — рентабельно и выгодно.
Вот областные сводки. В 2000 году личные крестьянские хозяйства произвели 16 процентов всего зерна, 21 — подсолнечника, 18 — гречихи. Это — пятая часть всего растениеводства. И если колхозные показатели неуклонно из года в год сокращаются, то фермерские постоянно растут. Только за 2000 год объем фермерской пашни увеличился с 1 миллиона гектаров до 1 миллиона 330 тысяч гектаров. На 330 тысяч гектаров! Почти при том же количестве фермеров. Значит, растут наделы… В некоторых районах области фермерство уже опережает разваленные колхозы по объемам производства: Котельниковский, Октябрьский и другие.
Еще одно — основное! Самостоятельные хозяева поверили (все же десять лет!), что они — надолго и, может быть, навсегда. Это очень важно, потому что свои доходы они безбоязненно вкладывают именно в сельхозпроизводство, а не вывозят в заграничные банки. Красноречивый пример: крестьянское хозяйство Галины Владимировны Касым, прежде — главного бухгалтера совхоза, Клетский район. Начинала она в 1993 году с 21 гектара — обычный пай. Теперь у нее с мужем 1400 гектаров пашни, полный набор тракторов, комбайнов, автомобилей, здание машинно-тракторной мастерской, зернохранилище, свинарник-маточник, маслобойка, цех по производству керамзитных блоков. Вместе с мужем занимались коммерцией: брали дешевое зерно в районе, вывозили его на Север, там покупали делянки леса, рубили и привозили в район, продавали. Так из года в год. Но все заработанные деньги вкладывали в сельхозпроизводство. Отсюда и результат. Озимая пшеница дает по 25 центнеров с гектара, подсолнечник — 13. Ближайшая перспектива: уже в этом году прибавить пашню на 500 гектаров, доведя до 2000. Поставить на откорм 500 голов свиней. В хозяйстве 13 наемных работников, которые вовремя получают заработную плату. За арендуемую землю пайщикам, бывшим колхозникам, выдается по 2 тонны зерна в год. Они очень довольны, потому что сплошь да рядом за «пай» и соломы не допросишься. Словом — все идет хорошо.
Когда-то, в далекие уже годы, рассказывал я о В.А.Парчаке из Быковского района, тогда был разговор:
— А если вам дать две тысячи гектаров? Справитесь?
— Можно.
— А три тысячи?
— Справлюсь, опыт уже есть.
— А если пять тысяч?
— И пять тысяч можно…
Засмеялись мы тогда вместе: «Съест-то он съест, да кто ему даст…»
А вот теперь это уже — дело реальное. Колхозы разваливаются, земля — в запустении, животноводство, как и прежде, идет на убыль, у людей нет работы. И волей-неволей иногда приходится районным властям (именно от них это зависит!) расставаться с теми идеями, на которых выросли.
Чернышковский район. Хутор Захаров с 1929 года — колхоз «Бедняк», потом — «Советская Россия», им. Калинина, в годы перестройки — ТОО «Захаровское», которое в 1997 году развалилось от бедности и хозяйственных неурядиц, разделилось на шесть фермерских коллективов и хозяйств. Разделение не помогло. Все растаскивалось, пропадало: животноводство, земля, техника, производственные помещения. Хорошо пошли дела лишь у механизатора Ю.А.Чекалова. За три года он стал весьма успешливым фермером. А в феврале 2000 года в КФХ (крестьянское фермерское хозяйство) «Чекалов» были приняты 139 хуторян с остатками скотины, с непаханой землей. Словом, весь хутор. Земли более 5 тысяч гектаров. Чудес на свете не бывает. Божий рай в Захарове не наступил. Но, обретя настоящего хозяина, уже весной было посеяно, а осенью убрано 1000 гектаров ячменя и 700 гектаров подсолнечника, посеяли 1100 гектаров озимой пшеницы (в прежнем «кооперативе» при том же народе посеять удалось лишь 130). Для скота заготовили 500 тонн сена и ячменной соломы столько же. Для 200 голов свиней есть фураж. Восстановили разбитую столовую, пилораму, плотницкий цех, выстроили помещение для холодильника, отремонтировали медпункт. Появилась своя овощная плантация, бахчи, а значит — овощи, арбузы. Собираются восстановить здание бывшего школьного интерната, чтобы открыть детский сад, решили построить баню. Зарплата людям выплачивается ежемесячно. (До этого, при АО и ТОО, словом, при колхозе — пять лет не видали зарплаты.) И все это лишь за один неполный год, когда хозяином в Захарове стал не колхоз «Бедняк», а КФХ «Чекалов», а точнее, Юрий Александрович Чекалов.
Семидесятилетний Виктор Иванович Штепо, в прошлом прославленный директор совхоза «Волго-Дон», дважды Герой Социалистического Труда, ныне — тоже прославленный!— фермер (во все времена — и сегодня — к нему самых знатных гостей возят),— так вот, Штепо сейчас горюет: «Был бы помоложе на десять лет, я бы весь бывший совхоз забрал и все бы сделал».
Бывшая знаменитость — «Волго-Дон» — сейчас доживает свой век в разоренье и горести: остатки полудохлого стада (недавно элитного, 6000 литров средний надой), погубленное овощеводство (по 600 центнеров с гектара получали). Я верю, что Виктор Иванович свой бывший совхоз смог бы «забрать и сделать».
А что значит «забрать»?
Ведь всякий день на страницах газет, по телевидению обязательно какой-нибудь «мудрый» заявит, что все беды села оттого, что нельзя землю продать или в банк заложить. Старая беда: искать «палочку-выручалочку», которая волшебным образом все изменит.
На мой взгляд, универсальных законов нет и не будет. Нынешних хватило для того, чтобы в нашей области уже 400 крестьянских хозяйств имели в своем распоряжении от 500 до 6000 гектаров пашни. Чего еще надо?
Законов достаточно, но по-прежнему «закон — что дышло, куда повернешь, туда и вышло». А главные «вершители» законов — на местах, в районах, в областном центре. От их доброй воли, знергии зависит очень многое.
Строки из доклада Г.Н.Никулина, руководителя областного АККОРа, на конференции, посвященной 10-летию фермерского движения:
«Коллективные хозяйства у нас по-прежнему находятся в центре внимания всех органов, а о фермерских хозяйствах голова ни у кого не болит».
Это — не просто слова, это десятилетний, зачастую горький, опыт. Новая техника по льготным ценам — для коллективных хозяйств. Льготные ГСМ весной да осенью — коллективным хозяйствам. (Даже 10 процентов, «фермерская» доля, определенная главой администрации области, до фермеров доходит ополовиненная. А почему 10? Если земли у фермеров 20 процентов?) И многое другое, каждодневное, ежегодное, начиная с 1990 года до 2000-го.
Но если в 1990—1992 годах фермер был неким диковинным зверем, явно ненашенским, чужим, то теперь, когда привыкли и поняли, когда вот они, осязаемые результаты: 20 процентов продукции полеводства. И люди, которые стали гордостью области: Мельников, Миусков, Парчак, братья Гришины… Они прошли через тяжелые испытания, выдержав неразбериху «сплошной фермеризации», потом — «равные условия», когда фермеру лишь дышать разрешалось (да и то не в сторону колхоза), живут и работают и нынче, в эпоху безразличного к ним отношения.
За великий труд, который нельзя замолчать (средний урожай за десять лет по 30—50 центнеров с гектара! И никаких засух!!), за труд и крестьянскую мудрость их теперь награждают орденами и почетными званиями. Но они по-прежнему — нелюбимые пасынки всяческих сельхозуправлений, потому что являются их могильщиками. Зачем В.И.Штепо пять этажей областного Комитета по сельскому хозяйству и два этажа управления районного?! Виктор Иванович открыто назвал последних «заслуженными работниками по развалу сельского хозяйства».
Август 2000 года. Калачевский район. Коллективное хозяйство «Калачевское».
Стояли мы кучно возле машины, на капоте которой была развернута карта полей колхоза. 150 гектаров… 300… 120…
— Берите!— предлагал начальник сельхозуправления.— Чего молчите, мужики!
Мужики-фермеры переминались с ноги на ногу, вздыхали, вспоминали прошлое.
— Мы ведь еще вчера возле вашего крыльца стояли с протянутой рукой. А вы нам, помните: «Бери на солонцах… Ха-ха-ха! Бери на гранях… Ха-ха-ха… Хозяйствуй!» Вот и дохахакались. Ни себе ни людям.
Мужиков-фермеров, приехавших на раздачу земли и не больно спешивших брать ее, понять можно. У кого за пять, а у кого и за десять лет работы созданы свои плохие ли, хорошие, но производственные базы, где стоит и ремонтируется техника, где склад горючего да зерновые ангары. Есть ли смысл гонять трактора да комбайны туда и обратно? И земли, которые сейчас предлагают, запущены до бурьяна в человеческий рост. Там работы на годы. Вот если бы?..
Это «если бы» я понимал. Николай Николаевич Олейников стоял рядом. Зачем он приехал? Земли у него вроде хватает. Нынешней осенью они с напарником только озимых 1200 гектаров посеяли. Но он приехал. Хотя его и не звали.
— А вот если…— сказал я.— Если наперед прикинуть и уже сегодня отдать земли второго отделения,— указал я вдаль, а потом на карту.— Вот эти поля. Николай Николаевич, я думаю, возьмет. И Якутин, и Андрей Штепо, Кузьменко,— перечислял я крепких фермеров, чьи земли лежали в тех же краях.
— Нет! Нет!— чуть не хором стали возражать мне районные начальники.— О тех полях пока речь не идет.
— Но ведь пойдет,— настаивал я.— Мы ведь через два года, а может, раньше вот так же соберемся и будем те поля навязывать. Давайте сейчас отдадим. Пока они меньше запущены. Пока интерес к ним есть. Ведь колхоз все равно развалится. Дело только во времени. Чудес не бывает. Четыре миллиона долгов… Вы же прекрасно понимаете — не бывает чудес.
— Нет! Нет! Нет!— ответили мне хором.
А нынешний председатель колхоза наставительно произнес:
— Надо думать об людях.
Я лишь вздохнул.
Милые мои «думальщики об людях». Сколько вас?.. Долгие годы этим хозяйством руководил один «думальщик». Помню его знаменитую фразу: «Мне Героя положено присвоить. Я ни одного гектара фермерам не дал». Потом был другой да третий. «Об людях думали», но себя не забывали. Колхоз разваливался на глазах.
Теперь вот еще один, молодой, с высшим сельскохозяйственным образованием, в подмогу ему «спецы» — экономисты да бухгалтера. Но чем они думали, когда полгода назад брали в банке миллионный кредит, векселями, с грабительским дисконтом. Считай, 500 тысяч потеряли. Вот-вот, осенью отдавать придется весь миллион, да еще с процентами. В колхозном кармане — вошь на аркане, после «уборки урожая» — мыши из амбаров сбежали. Банковский счет давно блокирован, потому что долгов (лишь за год!) 4 млн. рублей. Работники, у которых хоть немного варит голова и руки шевелятся, разбежались. В воинскую часть (за тридцать километров), на железную дорогу (чуть подалее), даже в Москву (за тысячу верст!). А песня та же: «Об людях надо думать!» И рядом стоящие «спецы» районного сельхозуправления подпевают хором: «Об людях…» О каких людях? Строки из письма: «Нас, пенсионеров, за людей вообще не считают. Говорит Кирьян (так у нас преда зовут): «У вас уже паи давно кончились, и вам ничего не положено». Соломы спросить у Кирьяна, он тоже не даст. А про себя Кирьян не забывает, он особняк себе закатил, машины покупает то «Жигули», а потом какой-то джип иностранный купил. А в колхозе осталось всего десяток-полтора скотины, землю половину побросали, свиную ферму перевели…» Это письмо из другого района, а колхозная жизнь — одинаковая! «Об людях…» Если по-честному — это о себе забота. Председатель колхоза, десятого по счету за пять лет, видел, куда идет: все развалено и разбито. Но пошел. Может, успеет домик в райцентре построить. Должен успеть.
И эти крепкие мужики — «спецы» сельхозуправления. Худо ли, бедно, но зарплату получают, все при автомобилях, тоже государственных. Чего искать? И где чего найдешь в забытом богом райцентре? Так что лучше «думать об людях».
Постояли мы, поталдычили, с тем и разъехались.
Нет, не 1991-й нынче год и не 1992-й, когда лишь пальчиком помани — и схватят любую землю, солонец ли, «грани». А.П.Вьюнников — не дурак. За десять лет опыта набрался. Земли ему хватает, два старых коровника купил не просто так. На «красную тряпочку» вместо настоящей наживки его не поймаешь. Он — хозяин. Как и другие, которых собрали районные «спецы».
Так ничем разговор и кончился. Отложили, ничего не решив.
Да и не могли решить. Потому что Н.Н.Олейников, А.П.Вьюнников и те, что рядом с ними, принимают решения, думая не только о дне сегодняшнем, но и о завтрашнем. В хозяйствах, которые они создали и создают, будут работать их дети и внуки. А вот районные руководители думают лишь о том, как нынче очередную дырку заткнуть. Зачем им послезавтрашний день, когда их завтра могут переизбрать или просто снять. И еще: пусть разваленные, но колхозы — основа их жизни: зарплата и положение. Повторю: Н.Н.Олейников и другие — их могильщики.
Как можно любить своего могильщика? Тем более помогать ему? На словах, открыто мешать им нельзя. Не то время. А вот на деле — все тот же кукиш, но теперь в кармане: «Накось выкуси…»
А полюбить его надо, потому что другого выхода уже нет. Особенно для таких хозяйств и хозяев. Разговор о земле и «об людях» происходил в конце лета. А уже зимой «Калачевское» оказалось в положении катастрофическом: крупный рогатый скот забрал банк за долги, электричество отключено за неуплату, денег ни гроша, продать нечего, в долг ни запчастей, ни горючего не дают, потому что старые долги нечем платить. А значит, на полях будет сплошной бурьян.
Но если бы летом 2000 года отдали землю фермерам, то уже осенью все было вспахано, все лето эту землю утюжили бы культиваторы, очищая от сорняков, в августе посеяли бы озимую пшеницу, в 2002 году собрали бы урожай. Себе и людям. А теперь вот ни себе ни людям. И разве об одном «Калачевском» колхозе речь? Их подавляющее большинство.
Слава тем колхозам, которые выжили и живут! Слава их председателям — мудрым, энергичным людям! Но таких коллективных хозяйств — единицы, потому их наперечет и знаем.
Основная масса — «кризис», «глубокий кризис», «полный развал», еще раз цитирую вице-губернатора. И еще раз: «Можно сколько угодно рекомендовать самые совершенные… технологии, наделять село дефицитными семенами и ГСМ… но отдачи, возврата вложенных средств нам не дождаться от разваленных хозяйств…»
Горькое признание, но честное.
Нужно понять и еще одно, может быть, главное: страна вот уже десять лет входит в новую экономическую систему. Возврат возможен лишь при условии: капитана — на рею, офицеров — за борт, к штурвалу становятся революционные матросы. Но наши лидеры-аграрники, руководители всех рангов от Москвы до райцентра, давно уже не матросы-революционеры, сытно кормятся они со стола властей и потому способны лишь на «мягкую оппозицию». Очень мягкую. Чтобы, не дай бог, не потерять того, что они «завоевали» лично для себя. «Резкие заявления» звучат лишь с трибун на предвыборных сходках да «встречах с народом». Но только лишь «заявления». Мягкое кресло руководителя никто не покинул в знак протеста против «антинародных реформ».
Месяц назад вновь избранный наивный (он — из журналистов) глава администрации моего района попытался сместить начальника райсельхозуправления за очевидный развал, предложив ему уйти. Тот ответил решительно: «Не уйду! Буду руководить! Буду судиться! В развале колхозов виновато правительство!»
И вправду, зачем уходить? Всего лишь сельхозуправление района… Но кабинет просторный и теплый. Два государственных автомобиля («Волга» и «Нива») и персональный шофер. Зарплата. Бесплатные курорты (в последние годы — во время уборки урожая, «чтобы нервы не мотали»). За годы развала к былому неплохому жилью добавились еще два домика, последний, как и положено нынче, в трех уровнях. И еще кое-что есть «для жизни». И это всего лишь какого-то райсельхоза начальник. Поэтому твердое: «Буду руководить!» Воистину кому — война, а кому — мать родна.
И все-таки есть ли выход и что нас ждет?
Для меня помаленьку, но становится все очевиднее: колхозы, теперь уже точно, обречены на развал и гибель прежде всего потому, что их руководители и работники за десять лет ничего не поняли и тянут прежнюю заунывную песнь: «Когда к нам повернутся? Нехай губернатор солярку ищет! Нехай президент…» Какой президент? Турецкий! Это не шутка по мотивам знаменитой картины. Руководитель колхоза из Дубовского района, как пишет газета, «измученный всеми житейскими проблемами, обратился с просьбой о помощи» к президенту Турции и канцлеру ФРГ. Такой вот уровень понимания.
Тем более, что нынешний год трудностей селянам только прибавит. Во-первых, кончилось бесплатное электричество. Придется платить. Россия вступает во Всемирную торговую организацию. Страны Евросоюза предупредили наше правительство о необходимости снизить уровень господдержки сельхозпредприятий. Правительство отрапортовало: в 2001 году субсидировать практически не будем, поможем лишь уменьшить проценты по банковским кредитам. Для всех, конечно, крестьян.
Но рядом иное: 1,3 миллиона гектаров земли у нас в области находится в пользовании личных крестьянских хозяйств, а начинали с 18 тысяч гектаров. Всего фермеров — 12 тысяч. Но половина всей земли находится в руках 400 хозяев. У каждого из них от 500 до 6000 гектаров. 20 процентов всего полученного урожая области — у фермеров.
В моем Калачевском районе лишь 6 фермерских хозяйств произвели третью часть зерна района. Кричащий факт. Очевиднейший. Новые хозяева давно уже не ходят с протянутой рукой. За десять лет они доказали свою жизнеспособность, и потому завтрашний день — за ними. Это очевидно. Для всех. Кроме тех властных структур, для которых привычен ли, выгоден, идеологически близок именно колхоз. А крестьянин-хозяин если не «агент капитализма», то — бельмо на глазу, нелюбимый пасынок, хотя уже взрослый и во многом кормилец. Словом, чужак.
Пора трезво оценить итоги прошедшего десятилетия. «Судите по делам его»…
Не краснобайство, не болтовня с трибун и телеэкранов сделали известными на всю область Парчака и Петрова, Белоштанова и Мельникова, Кузнецова и Штепо. Не былинные, а земные богатыри. Руководители колхозов, кооперативов, фермеры. Всех вместе, их уже полтысячи. Разве мало? За десять лет они прошли огни и воды новой экономики.
Вот она, на мой взгляд, единственная надежная опора, на которой стоит нынешнее и строится завтрашнее сельскохозяйственное производство области. Все действия областных, районных властей, управленцев и специалистов, все новые методы, все проверенные временем экономические инструменты («Продовольственный фонд», «Лизинг», «Кредитование ГСМ», РАО и т.д.) должны работать не на всех, а на Олейникова, Колесниченко, Крючкова, Вьюнникова, Егорова, Гришиных, Фроловых, СПК «Морозовка», на коллективные хозяйства Телитченко, Яменскова, Белоштанова — словом, на тех, кто умеет и хочет работать. Их уже много.
Старым песням: «Когда повернутся…» да «Когда оглянутся…» — должен прийти конец. На колу мочало нельзя жевать долго. Можно и помереть. Мочало, оно и есть мочало. Из него лишь лапти плести.
2001 год
«Новый Мир», №7
Размышления о «земле» и «воле»
Часть 1. «Пути колхозные»
Неисповедимы пути господние — это древняя истина.
А пути человеческие?
На первых страницах своих сельских заметок, десять лет назад, писал я: «Неведали <…> земляки мои, что проводится реорганизация сельскохозяйственного производства да и жизни прежней, им казалось — конец света».
Пути человеческие зримы. Не пытаясь заглянуть в очень далекое прошлое, мы можем представить, как и чем жили люди на этой земле.
Задонье. Ныне, в году 2001 — Волгоградская область Российской Федерации. Немногим раньше — того же названия область Советского Союза. Еще ранее — область Всевеликого войска донского. Названия разные, но вся та же, вечная, суть: земля и люди.
XVIII век. «Казаки предпочитают скотоводство, поскольку скот может ходить в поле всю зиму и требует мало сена… волы не употребляются в работу, а продаются, молодые и жирные, мясо их очень вкусно. Многие казаки держат по 500 лошадей. Большая часть казаков торгует скотом и пользуется хорошими доходами»,— пишет об этих краях западноевропейский путешественник И.Фальк.
XIX век. Задонье — по-прежнему гнездо казачье. Главное занятие (кроме царское службы) — мясное скотоводство и коневодство. В станице Голубинской ежегодно осенью шумит Никольская ярмарка мясного скота, куда съезжаются купцы со всей России. Отсюда гонят гурты на Москву.
XX век. Первая половина. Расказачивание и раскулачивание. Дела раскулаченных, сосланных повторяют одно: «Брал в аренду землю… Выпасал скот… Арендовал выпасы… Имел 300 голов… Продавал…» — мясное скотоводство. Все та же Никольская ярмарка. Только скупщики скота именуются по-новому — «красный купец».
Потом начались колхозы. В 1980 году в Калачевском районе 40 тысяч голов крупного рогатого скота, 100 тысяч овец. Сдают государству мясо, молоко, да еще зерна от 100 до 300 тысяч тонн. Конечно же, надо отметить, что если в XVIII, XIX и первой трети XX века на этой земле «правила бал» житейская экономика — «выгодно — невыгодно» (оттого и разводили мясной скот, а не страусов), то при колхозном строе главенствовал лозунг: «Любой ценой!» И потому пахали и сеяли даже на голом песке и камне, получая по два центнера зерна с гектара. «Даешь поголовье!»— и овец разводили столько, что их порою пасти было негде, а зимой они тысячами дохли от бескормицы. Но жизнь шла, земля не пустовала.
Кроме людных хуторов — Большая да Малая Голубая, Большой да Малый Набатов, Осиновский, Евлампиевский — были еще и многочисленные чабанские «точки»: Калинов ключ, Осипов, Фомин-колодец, Козловская балка, Хороший курган, Осинов лог… Там постоянно люди жили зимой и летом. А еще — многочисленные полевые станы, летние лагеря скота. А меж ними, конечно, дороги, пусть и грунтовые, но с приглядом, уходом. В советскую пору, годы 70—80-е, колхозные и райцентровские бульдозеры и скреперы круглый год работали. Иначе нельзя. Иначе все производство встанет. Не будет зерна, молока и прочего. Не будет «плана». А за это всему руководству «голову снимут». В колхозные годы все «планерки» в правлении начинались с вопроса: «К фермам дорога расчищена?»
Теперь — иное. Некуда и незачем ехать. И потому дороги исчезают на глазах. Кажется, еще недавно, поднявшись из Липологовской балки на гребень, катил и катил я вниз к Россоши, к Фомину колодцу по наезженной, гладкой дороге. Теперь здесь и на тракторе не проедешь. Бывало, с Клетского грейдера сверни возле Калинова ключа налево — и куда хочешь тебя дороги приведут. Нынче взяли врайцентре УАЗ и еле пробрались на нем. Руководитель районного земельного комитета Виктор Васильевич Цуканов дороги Задонья знает, а его шофер — Иван Пименович, местный рожак и бывалый охотник, с закрытыми глазами куда угодно дойдет и доедет. Но вот в прошлом году еле вернулись из очередного объезда. А потом Пименович три дня машину ремонтировал.
Все понятно и объяснимо. Был совхоз «Голубинский», были поля, скот, а значит, жили люди. И дороги были. Потом началась «перестройка». На землях «Голубинского» — больше сотни самостоятельных хозяев-фермеров пытали счастье: Найденов, Бударин, Каледин, Рукосуев, Дубовов…
Но «Голубинский» был совхозом, т.е. советским хозяйством, а значит, матушка-власть не жалела для своего детища средств. Тракторы, автомобили, горючее, удобрения, английский породистый скот — все давали «по разнарядке», не мыслили о какой-то рентабельности. А фермеры просто обязаны были считать деньги и соображать: что сеять? что вырастет? как продать выращенное?
Не умели, не хотели считать. И потому в течение пяти лет все новые хозяйства захирели.
Сегодня о них и памяти нет. Еще дышат лишь трое — Барсов, Камышанов, Коньков. У каждого — по сотне гектаров. А земли в Задонье, слава богу, не убавилось — где-то под 100 тысяч гектаров. Но это уже — не поля, не выпасы, не сенокосы, а дикая степь. Потому и дороги кончились.
Но что говорить о Задонье? Эти места всегда были не больно людными. А вот район наш — Калачевский — он у города под боком. В областных сводках в колхозную пору всегда был вторым да третьим по молоку, мясу, поголовью, урожаям.
Что теперь, в начале нового XXI века? Ничего утешительного. Тринадцать коллективных хозяйств нынче превратились в два десятка СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив) и АОЗТов — на базе все тех же колхозов, на ладан дышащих. А ведь были такие могучие: «Волго-Дон» — лучший в стране совхоз, «Россия» — пять тысяч литров с коровы, «Маяк», «Крепь»…
Рухнули могучие с большим грохотом. Одни — банкроты, другие — полубанкроты.
Почему такое случилось?
Дотошных читателей отсылаю к моим «Сельским тетрадям», которые из года в год публиковал журнал «Новый мир». Тут же скажу лишь несколько слов.
Совхоз «Волго-Дон». Лучшее овощеводческое хозяйство в России. Высокие урожаи. Помидоры, капуста, другие овощи отправляются железнодорожными вагонами и речными судами в Москву, Ленинград, на Север. Да и в области продукцию совхозную покупают охотно и много (цена 6—10 копеек за 1 килограмм при зарплате 70—120 рублей). Машина работает в условиях бесплатной воды для полива, дешевого горючего, даровой рабочей силы на уборке урожая, низких транспортных расходов.
Но вот начали бурно расти цены на электричество, горючее, удобрения, технику, транспорт; в такой же мере поднять цены на овощи было нельзя, так как резко упал бы сбыт. (Вот они, знаменитые «ножницы цен»!) Внутри области всю продукцию не продашь. За пределы — не вывезешь: телушка — полушка да рубль перевоз. Консервные заводы берут с охотой, но денег не платят. Чем жить? Ведь вся структура совхоза построена с расчетом на поливные овощи.
Да еще тяжкий груз «социалки»: пятитысячный агрогородок с многоэтажными домами, школами, детскими садами, больницами — все на «шее» совхоза, а это значит — еще большее удорожание продукции, плохой сбыт, сокращение площадей. И денег вовсе неоткуда ждать. Банкроты.
Та же песня у соседей, в колхозе «Россия». Доили по пять тысяч литров от одной коровы. Но молоко у коровы на языке (кормить скотину надо). А с горючим и запчастями туго, значит, меньше пашем, меньше поливаем, меньше собираем кормов. Коровы меньше дают молока. Прибыли нет. Люди не получают зарплату. Чтобы жить, берут «натурой»: молоком, сеном. Одно за другое цепляется, и все вместе тянет вниз. Молочный завод, куда молоко везут каждый день, не платит деньги, ссылаясь на плохой сбыт. Не платит подолгу, порою годами. Инфляция высокая, она все «съедает».
А в совхозе «Крепь», где было элитное овцеводство, своя беда: шерсть не покупают фабрики, а если и берут, то денег не дождешься. И та же инфляция. А цены на горючее и электричество растут. Овец приходится резать. И теперь уже завтрашнего дня в этом хозяйстве нет.
И так год за годом. А сверху призывы: «Надо держаться! До весны… До осени… Годик-другой… Наши придут… Государство поймет…»
Ежегодное снижение производства на десять-пятнадцать процентов, свиноводство и овцеводство практически ликвидировано, около трети пашен брошено… Откуда взяться деньгам? За неуплату — отключения электричества, арест банковских счетов…
И даже летом 2001 года, редкостно благоприятного для земледельцев (всего было много и вовремя — дождей, тепла, погожих дней для уборки), ни одно из коллективных хозяйств района не могло быть уверенным в завтрашнем дне. Опять нет денег, а значит, нет горючего, нет запасных частей (не говорю о новой «технике»), нет зарплаты. Надо просить, занимать, отдавая в залог сто раз перезаложенное, дорезать последнюю скотину. Словом, завтрашнего дня у колхозов по-прежнему нет.
А что вместо них? Фермеры? Новые собственники и хозяева. По сводкам в районе их числится целых три сотни. Армия! Все вместе произвели они в этом году более двадцати процентов зерна от общерайонного. Но… триста фермеров — это лишь бумажная цифра, весьма «лукавая». На самом деле настоящих, самостоятельных хозяев меньше десятка. Когда я об этом говорю руководителю земельного комитета района Виктору Васильевичу Цуканову, он обычно возражает: «Больше…» Начинаем считать. Берем в расчет тех, кто развивается и расширяется, а не просто кое-как ковыряет землю, добывая скудное пропитание. Отец и сын Штепо, Олейников и Колесниченко, Кузьменко, Осипов… с известной натяжкою добавляем к этому списку Вьюнникова, Якутина. Именно они произвели все фермерское зерно, эти шесть-семь человек из трехсот. А других у нас нет и не будет. За десять лет «реформирования» сельского хозяйства произошел естественный отбор. Отсеялись неумелые, неудачники, пьяницы и даже серьезные люди, у которых просто «не пошло». Десять лет — это достаточный срок, чтобы определила жизнь цену хозяина. Вот и отсеялись… Осталось меньше десятка тех, кто будет работать завтра и послезавтра.
Все они люди с высшим сельскохозяйственным образованием, до фермерства работали в крепком совхозе, пройдя путь от рядового специалиста до руководителя. Словом, есть знания, есть опыт и есть голова на плечах. Потому и выжили.
Но проблема в том, что эти хозяева земли больше брать не хотят. Каждый их них останавливается на рубеже 5 тысяч гектаров пашни.
Вот Олейников с Колесниченко: 4.300 гектаров пашни, которая за десять лет работы превратилась почти в идеальную (осенью приезжал в нашу область вице-президент ВАСХНИЛ, так его, чтобы показать «культурное земледелие», привозили именно сюда); тридцать наемных работников с зарплатой в три тысячи рублей; вся земля — арендована на пять лет у пайщиков, каждому из которых в качестве оплаты выдается по две тонны зерна и, по потребности, солома; «управленцев» нет, бухгалтерию ведут жены; в этом году наняли механика, он будет старшим в мастерских. «Больше земли нам не надо,— говорит Олейников,— потому что получится неуправляемое хозяйство, тот же колхоз, от которого ушли. Уже сейчас это видно: я засеваю за смену восемьдесят гектаров, амои работники — не больше пятидесяти».
Об этом же говорит и Виктор Иванович Штепо: «Больше земли не берем. 4500 гектаров, и хватит. Уже теперь около шестидесяти двигателей: тракторы, комбайны, автомобили — а значит, больше и больше работников. За всеми не углядишь. Не успеешь — на одно поле, на другое, в ремонтную мастерскую. Анужно везде самому, иначе все расползется и растащится, как в колхозе».
«Колхоз» — тяжелая ноша. Даже с посевными площадями в 5 тысяч гектаров. Э тоже целых 5 тысяч гектаров! Недаром такие весьма неглупые известные фермеры, как Мельников из Михайловского района, Парчак из Быковского, взяли всего по 300, по 500 гектаров и работают. Говорят: «Нам больше не надо».
Наши калачевские «маяки» тянут воз тяжелый. И потому их надо понять, когда говорят они: «5 тысяч га — для нас предел». Хотя, может быть, завтра они скажут иное.
В районе таких хозяев шесть или семь человек. Умножим на 5 тысяч, хотя у многих из них земли меньше, 35 тысяч гектаров получается. А в районе пашни — 200 тысяч гектаров. Куда девать остальную? 50 тысяч гектаров пашни уже брошено, остальная кое-как обрабатывается: вместо настоящих черных паров перешли на «ранний» или «майский» пар, от которого проку мало, на так называемый сев «по стерне», а порою по уже взошедшим сорнякам; повально увлеклись подсолнухом, после которого земля пять-семь лет должна восстанавливаться.
О животноводстве и говорить нечего. Овец нет (было сто тысяч!), свиней нет, коров все меньше и меньше.
Да что коровы да овцы! Целые хутора исчезают. Один из моих «новомировских» материалов назывался «Последний рубеж». В нем шла речь о хуторе Большая Голубая — селении людном, почти в сотню дворов. Нынче на этом хуторе зимуют две семьи коренных жителей, несколько чеченцев и какие-то вовсе бездомные. Нет электричества, о печеном хлебе забыли, нет телефона, радио. Нетникакого производства. До «центра» — станицы и сельской администрации — пятьдесят километров грунтовой дороги. Последние две семьи не ушли только потому, что некуда уйти. Здесь хоть крыша над головой. Хутора практически нет. А земля осталась.
Что делать? Кто виноват?— вечные вопросы.
В последние годы, когда понемногу языки развязались и стало «все позволено», все чаще и чаще причиною бед России называют ее народ. Чего только не наплели: тут и чисто русское «рыгание кислой капустой и редькой», и знаменитая русская печь, на которой спит без просыпу весь народ, пьянство, леность, повальное воровство. И вывод: «Россия, ты одурела». Читаю и слышу об этом. Но вот в моей России все по-другому.
Июньский день. Невеликий поселок, в семи километрах от районного центра. Лето славное: чуть не каждый день дожди перепадают; туча пройдет, сразу — солнышко, тепло. Трава растет на глазах, зеленая, сочная.
Со стороны поглядеть: не людское селение, а муравейник. С утра до ночи тихая работа кипит: косят траву и серпами жнут стар и млад. Ребятишки да женщины везут на велосипедных рамах и багажниках набитые травой мешки, мужики в ручные тележки впрягаются; мотоциклы да мотороллеры проплывают, словно копны зеленые, и седока не видать.
Вот молодой мускулистый парень, до пояса обнаженный, в оглобли впрягшись, тянет груженную травой тележку. Следом — жена велосипед ведет, на нем — три огромных тюфячных мешка, набитых.
Встречаю поутру Владимира Филипповича Попова — бывшего председателя колхоза, Героя Социалистического Труда, спрашиваю, как всегда, о здоровье, о рыбалке.
«Какая рыбалка…— отвечает.— Все лежит, уже поржавело: удочки, ружье, лодка. Некогда. Закопались в этом хозяйстве: утки, куры. Сейчас траву надо заготовить…»
Вечерней порой катит мне навстречу Дмитрий — давний мой знакомец, колхозный токарь. Остановился, докладывает: «Утям, курям, поросенку с утра привез, посек, всю пожрали… Надо еще. А куда денешься?..»
Рядом с поселком «дачи». Здесь та же песня.
Дядя Жора Грузинцев. Когда-то я у него в учениках ходил на судоремонтном заводе. Он уж тогда в годах был, а теперь… «Работаю… Веришь, картошка заклекла. Еще разок подпушу…»
Врач из районной нашей больницы, Аржанцев, недавно у него инфаркт был.
«Я помаленьку… Надо. Помидоры посадил, «де барао». И себе, и невестки из города приезжают, закручивают в банки, всякие соусы делают. На зарплату не проживешь».
Володя — шофер и рыбак. «Дачник»… Не меньше двадцати соток земли.
«Петрович,— негромко сообщает он мне,— я нынче упал. Ей-богу… Работал, работал на картошке… В глазах потемнело, и упал…»
Неподалеку еще один Володя — бывший газетчик, год ли, второй на пенсии. У него дома огород — загляденье. Рядом с двором еще прихватил землицы, картошку посадил. А теперь еще и пустующий участок присмотрел, занял его. «Гляди, какие тыквы,— хвалится.— Огрузимся. Всю зиму будем кашу есть. Да еще поросенка берем. Как-то жить надо…»
Где-то здесь целых два участка, чуть не тридцать соток, у Якова. Он — врач, и дочка — врач, только закончила институт. Днем — на работе. Вечером — сюда бежит. «Такая мошка,— говорит при встрече.— Отгонять ее некогда. Таскаю ведра. Мочи нет,— остановишься, рукой проведешь — серое месиво. Заедает… Но надо. Я — тысячу двести, а дочка шестьсот рублей получает».
Еще один Володя (наверное, Ленин виноват) — инженер, жена работает, дочери — медсестра и школьница. Один огород возле дома, другой — у престарелой тетки, просторный, соток на двадцать, да еще картошка — в поле. Не жадность тому виной, а нужда, трудное время.
Соседи, знакомые, молодые и старые — у всех одна песня: «Ныне надеяться не на что. Надо работать…»
Ни один с протянутой рукой не пошел, тем более, с кистенем на большую дорогу. А что касается разоблачителей, у которых «Россия одурела», спилась, заворовалась, тем я просто сочувствую: среди каких нелюдей им приходится жить…
В моей России, как и прежде, работают. Иначе бы давным-давно нечего есть было и нечего было бы разворовывать.
Не разучилась, не отвыкла работать колхозная деревня. Но…
Первое. Говорил, писал, могу и повторить. За 80 лет, начиная с 1917 года, из деревни уходили, изгонялись, высылались, физически уничтожались самые энергичные, хозяйственные, умные, молодые работники. Гражданская война, «раскулачивание», «принудиловка», бесплатный труд вплоть до 50-х годов, закрытие школ, отключение электричества, плохие условия жизни (медицина, образование, быт, труд) — и потому — «бегство в город», которое продолжается и теперь.
Второе. Оставшиеся в деревне люди воспитаны колхозной системой. Вспоминаю давний разговор с тогда еще директором совхоза «Волго-Дон» Виктором Ивановичем Штепо. «Интересный народ,— пожимал он плечами.— У крыльца доска оторвалась, приходит работник, целый час у меня в приемной торчит, потом прораба ищет, потом мастера, ждет плотника. Давно бы сам прибил. Говорит: а зачем у нас в совхозе стройдвор? Я — тракторист. Каждому — свое. А может, он прав?»
Вот и получилось. Тракторист должен пахать, механик заботиться о ремонте, агроном указывать, проверять, директор, экономист, бухгалтер должны думать и действовать, обеспечивая работу. Каждому — свое.
Письмо молодого хуторянина в районную газету: «Есть у нас родник, но течет очень медленно… К счастью, экологи из Калача собираются почистить и обустроить его. Наш клуб давно пора ремонтировать… Так что же, ждать, пока завалится? <…> Место, где мы живем, очень красивое, благодатное. Эх, нашелся бы такой человек, кто бы из этого захолустья сделал райский уголок…»
Собираюсь на один из хуторов, перед отъездом встречаю заведующего районо, он просит: «Погляди — там в школе вроде окно выбито и с дверью что-то. Скажешь. Придется ехать туда, чинить».
Хутор невеликий. И школа — всего шесть учеников. Но окно и дверь, которые поломаны не приезжими, ремонтировать должны сельсовет или районо. А вот родители местных школьников пальцем не шевельнут. Они «не обязаны».
У себя в огороде, во дворе, на базе они все могут и все знают. И корову, которая дает три литра молока в день, никакой дурак держать не будет. Как и свинью, у которой привес 170 граммов. Это же разоренье!
А вот колхозная живность с такими привесами и надоями — обычное дело. При этом кормов израсходовано в три раза больше нормы. А чтобы эти корма получить, израсходовали солярки и бензина в три раза больше нормы. Конечно, никаких доходов при таком хозяйствовании и быть не может. На каждый центнер мяса по пять тысяч рублей убытка. Но хозяйство живет и «занимается животноводством».
Говорил об этом много, можно и еще больше. Повторяю одно: нынешние коллективные хозяйства (за очень редким исключением) еще живы только потому, что их непрерывно поддерживает государство, в ущерб себе. Перспективы от поддержки слабых, разоренных и развращенных коллективов нет. Именно развращенных бесконечными «списаниями», «рассрочками», реорганизациями. Цитирую: ««Варваровский» за последние 2 года пережил 2 реорганизации. Сначала сельскохозкооператив (СК) преобразовался в МУСП (муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие) [отказавшись от уплаты всех долгов.— Б.Е.], а затем а ОАО» (снова отказались от долгов, которых за год наделали). Начинало свою деятельность ОАО с «чистого листа», но уже успело нахватать долгов. Значит, не миновать новой «реорганизации».
Эта «поддержка» продолжается, в том числе и моральная. В августе 2001 года центральное телевидение и газеты сообщали о «боях местного значения» между колхозами и судебными приставами, которые пытались взыскать долги. Заголовки и фразы были очень хлесткими: «Они вели себя как в Чечне», «Допрыгаются они до гражданской войны…»
А если без эмоций, то речь идет всего лишь о том, что долги надо возвращать. Колхоз «кредитуют» горючим, запчастями, семенами. А придет пора отдавать, начинается «дипломатия»: «Мы разве знаем, что это за долги? Мы там, наверху, не вращаемся…»
Весной крик: «Дайте горючего! Нечем сеять!» А осенью: «Ничего не знаем!» «Не знаем» про то, что надо делать отчисления в пенсионный фонд, платить налоги. Про то, что каждый месяц пенсию надо получать, все знают. Детские пособия — тоже известны. Школа, больница, учителя, врачи, армия, милиция… Плохие они, хорошие ли, но содержать их надо.
Еще слава богу, что у нас государство бюджетом небогатое. И потому понемногу начинают объявлять банкротами недееспособные хозяйства, вводить внешнее управление. (Проснулись! Этот процесс, согласно указу президента, должен был начаться с февраля 1991 года. Тогда еще было что делить и продавать.) Нынче банкротство происходит в основном «диким образом»: трактор — по цене колеса — «хорошему» человеку.
По-умному сумели провести процедуру банкротства в «Лебяжьей поляне» Среднеахтубинского района два года назад, поделив технику и оборудование между двенадцатью фермерскими хозяйствами, которые по производству с лихвой превзошли хилый колхоз. Но этот пример — редкостный. В основном же банкротят неумело, разрушая хозяйство, или умело — с корыстью. Но это беда не только сельская. Недаром у наших областных властей в чести нынче лозунг: «Не позволим банкротить!»
Власти областные и те, которые выше, постоянно твердят: «Жить стало лучше, жить стало веселее». И на селе — тоже. «Я же вижу, как на глазах село поднимается»,— сказал недавно наш губернатор. Не будем судить строго. Должность обязывает. И поэтому вся надежда на новые идеи. Весь прошлый год губернатор уповал на РАО (районные агрообъединения), требуя их создания в каждом районе. Создали. У нас в Калаче, спустя год, РАО вот-вот объявят банкротом. Причина все та же. Колхозы не возвращают кредиты.
Агробанк, Агрокорпорация, Агрообъединение… Название красивое, а фундамент нового образования — вчерашний хилый колхоз. Поэтому и сооружение получается шаткое.
Мой район — Калачевский — в области далеко не худший. Из двенадцати коллективных хозяйств в четырех в нынешнем году введено внешнее управление, т.е. они — банкроты: «Крепь», «Волго-Дон», «Дон», «Калачевский». Остальные, почти все,— в двух шагах от банкротства. В Пятиизбянке и Мариновске и «банкротить» нечего. «Нива» — одни головешки; «Голубинский» начальство хвалит, хотя это — голь перекатная. Кое-как держатся «Тихий Дон» да «Мир» — «реформированные» и «перереформированные», побросавшие большую часть своих полей и от прошлых немалых долгов отказавшиеся. А на тех землях, что оставили себе, наемники хлеб убирают за треть урожая. В общем, колхозы района доживают последние свои дни. При государственной поддержке они могут и дальше чадить. Но что проку?.. Недаром вновь избранный глава администрации района во всеуслышание заявил о том, что не в коллективных, а в фермерских хозяйствах он видит спасение района. Жаль, не уточнил, откуда возьмутся новые фермеры. С неба они не падают. А те, что есть, как уже сказал я, земли свои расширять не намерены, опасаясь превращения в «колхоз».
Повторю цифры. В районе около 200 тысяч гектаров пашни. Фермеры осилят 35 тысяч. Что делать с остальной землей?
В областном центре неглупый человек, мой земляк, один из руководителей области, сидит и вздыхает: «Мы подсчитали. В области два миллиона гектаров пашни заброшено. Чтобы ее пустить в производство, нужно десять тысяч рублей на один гектар. Значит, двадцать миллиардов рублей. Где их взять? У государства нет. Нужен капитал…» В запустении, конечно, гораздо больше, чем два миллиона гектаров. А вот «капитал», действительно, нужен. Но где его взять?
Порою мне кажется, что наши правители твердо уверовали: сдобные булки сами собою на деревьях растут.
Декабрь 2001 год. Вице-премьер правительства А.Гордеев разъясняет многомиллионной армии читателей «Аргументов и фактов»: «Сейчас в России сельхозпредприятий даже больше, чем было в советское время: 27 тысяч вместо 22… Хозяйства изменили форму собственности, разделили землю и имущество на паи и акционировались. Многие сумели адаптироваться к рыночным условиям».
Замечательно живем
И прекрасно кушаем!
И по радио артистов
Из Москвы мы слушаем!
Это частушка для колхозной самодеятельности горьких лет «голодухи». Из Москвы присылали «репертуар».
Часть 2. Благодетели или эксплуататоры?
Один из кабинетов районной администрации. Открывается дверь, и входит «капитал»: два молодых человека, по обличью те самые, про которых по телевидению фильм за фильмом показывают. Зашли ребятки, начали с хозяином кабинета разговор: «Мы брали землю в аренду, две тысячи га. Все бумаги подписывали. Вложили деньги, миллиона два. Пашем, собираемся сеять озимые. А в колхозе переизбрали председателя, новый говорит, что все отменяется…»
История простая и для нынешних времен рядовая: договор оформили, но какую-то юридическую «закорючку» упустили. Новый председатель за нее зацепился: то ли собирается «подоить», а может, благие цели преследует.
Про новых «капиталистов» в кабинетах начальственных доброго не говорят. «Они же тракторы за долги забрали, за бесценок.— Откуда у них деньги? Понятно…— Магазины у них в городе.— Знаем мы эти магазины. Криминал».
Ныне знаменитая в нашей области фирма «Гелиопакс» работает с землей около пяти лет. Получает урожаи «европейские»: по 50—60 центнеров с гектара. Элитное зерно, семенное. Имеет собственный элеватор, немецкие комбайны, налаженное производство. Но если вспомнить, то пришел «Гелиопакс» на землю тем же самым путем: дал коллективному хозяйству «Бочаровский» кредит горючим, семенами, запчастями. Кредит, по обычаю, не был возвращен. Но договор кредитования составлен был юридически грамотно, и все имущество «Бочаровского» оказалось у «Гелиопакса», который ничего не продавал, а стал умело хозяйствовать. Нынче областное руководство проводит здесь семинары, стараясь научить уму-разуму нерадивых селян. «Гелиопакс» теперь маяк и лидер сельхозпроизводства. Как он пришел на землю, откуда у него деньги взялись, чьи это деньги, про это теперь забыто. А ведь всякие слова говорили. «Гелиопакость» — самое мягкое.
И теперь говорят. Но о других.
Вот шумная история со сменой собственника на Карповском элеваторе. Газеты пишут о «московском криминале».
В Клетском районе сразу два коллективных хозяйства уходят «под крыло» частной компании, даже название которой — тайна. Мнения разные.
Положительное. Из моего района несколько руководителей ездили опыт перенимать. Понравилось. Рассказывают: «Фирма заплатила все долги колхоза, но забрала имущественные паи: производственные помещения со всем оборудованием, машины, тракторы, комбайны. Обеспечили горючим, запчастями, покупают новую технику, платят зарплату. Земля вся пашется, засевается. Деньги у фирмы есть. Поставили своих руководителей. Демократия кончилась». Еще одно новшество, о котором добавляют не сразу: земельные паи, по договору, люди отдают фирме на десять лет. Но там, в договоре, есть пунктик: если человек потом захочет забрать свой земельный пай, то он должен возместить фирме денежные средства, вложенные за эти десять лет в его пай, т.е. цену удобрений, обработки гербицидами и прочего, прочего. А откуда он деньги возьмет? Ничего он не возместит, и земля перейдет к фирме.
Другое мнение: «Там — дело темное. Покровитель — глава администрации района. Брали не нищие хозяйства. Озимых — под 10 тысяч га, вспаханная зябь. Такие хозяйства с урожая и сами бы расплатились. Но на собрании тем, кто был против, заткнули рот. И засадили хозяйство в кабалу, из которой не вылезти. А чья эта фирма? Чьи деньги? И чья будет завтра земля? Сидят новые руководители под одной крышей с…» И шепотом называется имя «кавказца», которому уже многое в районе принадлежит.
Еще один район — Еланский. Здесь дело серьезней: речь идет не о двух тысячах гектаров, не о двух колхозах, здесь ставки крупнее. И потому про этот район расскажем подробнее. Вот слова не кого-нибудь, а председателя комитета по земельным ресурсам района, человека, который каждый клочок своей земли знает: «Вопрос использования земли в районе стоит очень остро. 25 тысяч гектаров вообще не используется. Но это еще «цветочки» по сравнению с тем, что ждет нас. Вспахано зяби и паров 54 тысячи га, засеяно озимых 23 тысячи га, из 172 тысяч га: значит, еще половина нынче зарастет бурьяном. Коллективные хозяйства района, за исключением нескольких, не в состоянии обрабатывать землю».
«Мы пытались отдать часть земель в аренду фирме «Гелиопакс», калмыкам, но они не берут»,— вторит коллеге председатель районного комитета по сельскому хозяйству. Калмыки — пусть далекие, но соседи. А в колхозе «Заря» зимним холодным днем в Дом культуры на собрание пришло все село, даже самые дряхлые. Подводились итоги года. Они неутешительные: половина пашни заброшена, растениеводство дало убыток в 320 тысяч рублей, животноводство в 600 тысяч рублей, около тысячи тонн зерна осталось на поле, осыпалось.
Еще одна кабала — финансовая: зерно стоит на рынке около двух тысяч рублей за тонну, а колхоз его отдает кредитору — «фирме» — в десять раз дешевле (в десять раз!!!). Так умно составили договор. Думаете, поэтому все село пришло на собрание? Вопрос жизни и смерти решать? Ведь на земельный пай владельцам нечего выдавать.
Нет! Все как один пришли потому, что прослышали: на собрание приедут евреи, граждане Израиля, и возьмут землю у пайщиков, а за каждый пай, вроде бы, будут платить по две с половиной тысячи рублей в год. Но евреи-спасители не приехали. Объявились в районе спасители другие.
Телефонный звонок руководителю земельного комитета области: «Почему отдаете землю «криминалу» в Еланском районе?» — интересуется известный своей прямотой журналист, которого понять можно: речь идет о 34 тысячах гектаров земли, пяти бывших колхозах. А «криминал» — это ОАО «АгроЕлань», которое, как сообщает районная газета, является дочерним предприятием еще одной фирмы — «Агрокомекса». От имени организаторов и учредителей выступил человек, которого областная и центральная пресса называет «известным в криминальных кругах», объявляет, что он имеет две судимости, а в настоящее время привлекается еще по двум уголовным делам.
Не моя задача разбираться в этих делах, тем более что у нас в России чуть ли не каждый бизнесмен да политик «привлекается». Есть ли нужда громкие имена произносить в доказательство?
«У вас ничего не получилось с землей»,— говорят представители «Агро-Елани» уже бывшим колхозникам. И они правы. Эти колхозы — «Под знаменем Ильича», «Красное знамя», «Первомайский», «Мир», «Рассвет» — не обрабатывают семидесяти процентов своей земли. «Попробуем теперь мы»,— говорит новая фирма, генерального директора которой при всем желании не отнесешь к «бандитам». Павел Петрович Чумаков долгие годы успешно возглавлял в этом районе колхоз имени Коминтерна, избирался депутатом Областной думы, возглавлял вней аграрный комитет. Глава КПРФ района, словом, «красный председатель» — так его уважительно именовали в печати. Никакого «криминала» за ним не числится.
Хозяева новой фирмы объяснили свой приход довольно просто: будем вкладывать деньги (в первый год 200 миллионов рублей) для того, чтобы получать прибыль. Резон есть: в районе плодородные земли, две железнодорожные станции, элеватор, маслосырокомбинат и мясокомбинат. Павел Петрович Чумаков весной 2001-го разъяснил через районную газету, что «на подъем сельского хозяйства в районе будет направлен частный капитал», «вся земля должна быть обработана — это фирма гарантирует», «до конца года техники будет получено на 200 миллионов рублей. Это тракторы десять К-744, десять ДТ-75, пять МТЗ, автомобили, спецтехника, новые импортные комбайны…» И подчеркнул, что «частный капитал себе в убыток работать не будет… Все будет считаться… Охрана будет осуществляться наемными вооруженными работниками… Охраняться будет все…». И как лидер коммунистов района добавляет, что «Агро-Елань» — «вариант на сегодняшний день вполне приемлемый».
Какой «капитал» пришел в колхозы «Красное знамя» и «Под знаменем Ильича» и другие, разбираться не мне (а на «Красноярском алюминии», на «Уралмаше», вНовороссийском порту и далее чей капитал?), но полгода спустя, осенью 2001 года, можно было подвести кое-какие итоги.
Весь урожай собран. Но главное — произошел коренной перелом, т.е.: всю землю вспахали, посеяли озимые, подготовили хорошие пары. Посеяли 13 тысяч гектаров озимой пшеницы, вся земля агрофирмы вспахана, на 8 тысячах гектаров внесли минеральные удобрения, заложили семенные участки суперэлиты. Только на закупку семян затрачено 4 миллиона рублей. Итог: посевы озимых увеличились в четыре раза, причем, по хорошему пару, отличными семенами, в удобренную почву. Цель: урожайность в четыре тонны с гектара.
Второе, очень немаловажное. Люди получают заработную плату, причем очень весомую для села. Прежде, уже пять и более лет, никаких денег не видели. В хороших колхозах если и платят, то по 500—700 рублей. А теперь? Вот цифры: Н.А.Кулагин за 30 рабочих дней — 5.137 рублей, М.В.Бобылев — 5.503 рубля, А.И.Бочков — 4.889 рублей, …4.772, 6.682, 4.412 рублей… Таких заработков селяне никогда не видали.
Но… Во время полевых работ механизатор работает по двенадцать часов. За серьезное нарушение дисциплины — увольнение. По старой колхозной привычке решил «сбегать» на тракторе в хутор за сигаретами. На следующий день — расчет. Во время подъема зяби в Первомайке устроили выходной, на следующий день управляющий Журбин был уволен. Если ты не выполнил норму на пахоте, на севе, то получишь в два раза меньше своего товарища, который эту норму выполнил. За нарушение агротехники — штрафы и в конце концов увольнение.
Рассказывает П.П.Чумаков: «Приехали четверо молодых парней из села Терновое, хотели устроиться на работу. Но когда узнали про жесткие условия, то решили погодить. Не зря в районной газете то и дело появляются объявления: «Агрофирме требуются механизаторы…» И это в сельском районе, где десятый год плачут: «Нет работы…»»
Вот знаменательный разговор во время долгого перекура в ремонтной мастерской колхоза пока еще «самостоятельного»: «Зарплаты нет, надо, наверное, в«фирму» устраиваться. Ведь все равно на кого работать, лишь бы деньги платили.— Погоди, шустрый… Сидишь, куришь и уже похмелился. А в фирме сразу выгонят только за запах. А если двигатель запорешь, штаны снимут, корову заберут, чтобы за твой счет отремонтировать. А если трактор возьмешь дрова привезти или упереть чего… Вовсе голову снимут, там такая охрана. Так что сиди, кури и не рыпайся».
Не потому ли да еще из-за страха перед неведомым в агрофирму к частному капиталу согласились идти не все? Даже колхоз, которым долгие годы руководил нынешний генеральный директор «Агро-Елани» Чумаков, отказался от агрофирмы. Колхозное собрание получилось бурным: «Не пойдем в кабалу!», «Надо поглядеть, что у других получится!» Уходить от привычной жизни непросто (70 лет в колхозе! Три поколения!). Конечно, и «агитация» сыграла свою роль. Колхоз — небедный. Возглавить его желающие есть: главный экономист, главный бухгалтер, главный ветврач — люди умные. Они победили. Пока победили. А что будет завтра?
Мне приходилось уже говорить о том, что в правительстве не знают пути реформирования колхозов. Вице-премьер и министр сельского хозяйства РФ А.Гордеев: «Конкретные же меры… будут разрабатываться и корректироваться по мере улучшения в стране экономической ситуации». Ему вторит еще один руководитель рангом чуть ниже: «…практически невозможно сказать, что конкретно надо делать для решения стоящих перед Россией проблем». И это — правительство, «капитанский мостик».
В правительстве толком не знают, надеясь, что все «образуется». Власти областные придумывают всякий год что-то новое, которое на поверку оказывается совсем недавним старым.
Губернатор заявил, что нужно создать «Сельхозбанк», который будет заниматься сельхозпроизводителями, и там надо сосредоточить средства… Был такой банк, в котором «сосредотачивали», назывался «Агропромбанк». Он построил себе огромный офис и «лопнул».
На смену «Агропромышленной корпорации», которая работала для селян и обанкротилась, появился «Продовольственный фонд» с теми же задачами. Летом2001 года под нажимом областных властей он скупал у колхозов пшеницу по три тысячи рублей за тонну, тогда как рыночная цена была 2.200 рублей. Какая уж тут «экономика». А ведь деньги бюджетные. Снова банкротство? А потом новый «фонд» с бюджетной начинкой.
Еще один «выход» придумала областная администрация. Очень простой. В области работает двадцать банков. Обращение ли, приказ банкирам: «У вас уже есть свой жирок. Раньше вы тратили очень много для создания своих офисов. Пора складываться… Давайте посмотрим, какой банк сможет дать 20, 30, 40 миллионов в кредит… 350 комбайнов стоят 700 миллионов… Поможем сельскому хозяйству…»
Такой вот простой выход: «Жируешь, банкир! Поделись!» Для массового митинга лозунг — лучше не придумаешь. А для реальной экономики, которая внедряется уже целое десятилетие, такой метод подъема сельского хозяйства — анекдот. Но ведь не в «курилке» это услышано, а на «коллегии областной администрации».
Два официальных извещения: «В связи с тем, что колхозы… задолжали ОАО «Еланская агропромышленная компания» 13 миллионов рублей… и не рассчитались, компания оказалась банкротом». «В настоящее время создано «Районное агропромышленное объединение (РАО) «Еланское»»…
ОАО «лопнуло», на смену ему создали РАО. Теперь, конечно, дела в колхозах пойдут хорошо.
«Мы планируем перейти на звеньевую систему. Новое подхлестывает людей. У них интерес появляется»,— говорит один председатель колхоза.
«Мы проводили разные реорганизации. Внедрили звеньевую систему. Первые три года вопросов не было. Потом появилась тенденция: как бы меньше сделать, а получить то же самое. Мы вынуждены были распустить звенья»,— отвечает другой председатель.
Значит, тоже — не выход.
Областные власти призывают: «Надо создавать МТС. Собирать технику в кулак».
«Некоторые наши новшества просто губят колхозы, имею в виду МТС»,— отвечает на это председатель крепкого колхоза «Таловский».
«Второй путь — слабых подтянуть с помощью сильных,— внушает областное руководство.— Крепкое хозяйство подтягивает под себя «лежачее» и таким образом помогает ему». Ответ председателя колхоза: «Где они сегодня — сильные? Если в бочку меда добавить ложку дегтя, значит, всю бочку испортишь».
Предлагают всякое. Например: «Колхозы пора дробить. Через два-три года мы все равно придем к мелкотоварному производству».
И правдивое, выстраданное из уст председателей колхозов:
«Сознание людей в колхозе не изменилось. Люди не понимают, что все это принадлежит им».
«…Все осталось по старому: люди… привыкли, что можно ходить на работу и не работать».
«…Берем кредит и только у меня одного болит голова, как его отдавать».
«…Я каждый день должен следить за каждым плугом, культиватором, комбайном, залезать в каждую борозду. Мне говорят: «Тебя надолго не хватит»».
«…Говорят, что наше хозяйство лучшее. Но сельское хозяйство влачит нищенское существование».
Вот уже долгие годы я читаю и перечитываю Джеймса Хэрриота, сельского ветеринара, бытописателя английской «глубинки». Он пишет, что милым его сердцу фермам с небольшим хозяйством со временем пришел конец. Их заменили, вытеснили крупные сельскохозяйственные компании. Капитализм, конкуренция, экономика…
В России фермерство не прижилось, хотя в начале реформ ставку делали на него. Причин много. Но факт очевидный: в Калачевском районе из трехсот, имеющих землю, лишь о десяти хозяевах можно говорить всерьез.
И вот явление для России новое: крупные сельскохозяйственные компании. Калачевскому району пока «не повезло». Может быть, потому что земля незавидная. Но уже идут разговоры о каких-то немцах. А в Елань — нашествие. Еще в начале 2001 года — только двадцать пять коллективных хозяйств и ничего более. Авконце года — «Агро-Елань», забравшая земли восьми колхозов, пока лишь в аренду, но как осторожно заметил гендиректор фирмы: «Владельцы могут продавать свою землю. Я это … не исключаю». И еще одна крупная фирма «Агрохолдинг «Волгоградский»», который, по словам его генерального директора, взял в аренду 60 тысяч гектаров. А еще ЗАО «Сельхозпродукт», которое пришло в два колхоза.
За один лишь год больше половины земель района перешло в руки новых хозяев, про которых районная газета спрашивает в заголовке: «Благодетели или эксплуататоры?» И тут же отвечает: «Тракторы, комбайны, автомобили идут нескончаемым потоком. Душа радуется при виде этой картины. И когда знакомые, измученные безработицей, делятся радостью — их приняли на работу в агрофирму и даже зарплату выплачивают. Да и земля-матушка, которую извечно называли кормилицей, наконец-то обретает рачительного хозяина». Рай земной? Или просто наконец-то нормальное хозяйствование?
«Другого выхода нет,— признает председатель комитета по сельскому хозяйству района.— Рано или поздно к этому выводу придут и другие. Сейчас люди сопротивляются, надеются на государство и не понимают, что помощи оттуда не будет».
А районный Совет депутатов рекомендует главе администрации района «принять меры, чтобы другие хозяйства семь раз отмерили, прежде чем отдавать землю», «процесс передачи земли следует приостановить <…> и сделать вывод о правильности выбранного курса на капитализацию сельскохозяйственного производства». Не поздно ли?
Газета «Коммерсант» (3 октября 2001 года): «Вчера глава холдинговой компании «Интеррос» Владимир Потанин объявил о решении заняться сельскохозяйственным бизнесом. В ближайшее время будет зарегистрирована компания с уставным капиталом в 100 миллионов долларов».
Газета «Известия» цитирует гендиректора агропромышленного комплекса «АГРОС» Д.Ушакова: «Интеррос» далеко не первый в агробизнесе. <…> Просто мы не побоялись открыто выступить и заявить о своих намерениях и стратегических планах по созданию и развитию крупной агропромышленной компании».
Та же газета «Известия» сообщает, что С.Харитон, начальник главного управления программ регионального развития Воронежской области, «предупредил, что уже следующим летом у половины из 700 воронежских колхозов будут новые богатые хозяева».
Благодетели или эксплуататоры? А может быть, просто новые хозяева, которые заявили колхозникам прямо: «У вас не получилось, попробуем мы».
2002 год
«Отечественные записки», №3
На хуторе
Приезд
Обычно, когда летней порой я приезжаю на хутор к своему товарищу на короткое ли, долгое гостевание, в первый день, с вечера, мы ставим сетчонку. Это — обряд. Конечно, и рыбкой надо побаловаться. А еще — для удовольствия. Это самое «удовольствие» объявилось несколько лет назад. Приехал я, припозднившись, уже в сумерках, товарищ мой был немного навеселе. Он тут же скомандовал: «Пошли сетку ставить». Мне было, признаться, не до рыбалки: с раннего утра весь долгий жаркий день провел я в дороге, мыкаясь по округе пыльными избитыми проселками. Хотелось обмыться и скорее — в постель. Жена моего приятеля, добрая Валентина, это поняла и стала мужа корить: «Куда ты тащишь? Человек устал… Сетки твои…» Товарищ мой произнес веское:
— Я ему удовольствие хочу предоставить. Поняла?
Валентина лишь руками развела.
Снарядились мы вмиг. В железном корыте — рыболовная сеть, уже «набранная», то есть аккуратно уложенная: поплавки — к поплавкам, грузила — к грузилам. Всю эту снасть — на самоделочный просторный багажник велосипеда. И подались. До речного залива, до лодки, рукой подать.
И я скоро понял, что это и впрямь — удовольствие.
Тихая река, большая луна над холмами. Дух пресной воды, чакана, камыша; от холмов — еле слышный пахучий вей терпких степных трав. Ночная река темна и просторна, берега — молчаливы. Луна серебрит маковки высоких тополей, верб, золотит зыбкую дорожку поперек реки. Ночное безмолвие напоминает о том, какие далекие версты: воды, леса, поля, безлюдные и молчаливые,— стерегут эту густую тишину, в которой даже падающая звезда еле слышимо, но звучит, словно рвется что-то далекое, легкое. Вот она — белым огнем прочертив небосвод, погасла в темной реке.
Все ушло: дневная усталость, заботы. Осталась лишь ночь, парное тепло воды, близкой земли, терпкий и пресный дух. И бередящее душу: вот она — жизнь.
Сетку мы поставили, вернулись домой и долго еще не ложились спать, вечеряя с разговорами и новостями, как и бывает при встрече.
Вечером сетку поставили. Рано утром пошли ее снимать. Тоже удовольствие: алая заря, местами розовый туман над водой, в заливе, возле камышей, рыба играет, там и здесь круги на воде, а на глуби, на реке, нет-нет да и вывернется что-то большое. Бывает, вот так поутру плывешь на лодке — и вдруг возле борта начинают выпрыгивать из воды могучие толстолобики, один за одним. По пуду и больше. Вылетит золотистое чудище, изогнется и так хлестанет, что брызги — фонтаном. И в лодку запрыгивали. Бывало такое. Это не рыбацкие байки, а толстолобик. Из невода он уйдет легко, перепрыгнув через верхнюю обору. И в лодку сдуру заскочит. Лишь сумей удержать.
Нынче толстолобик не играл. Но улов оказался неплохим: пара лещей, сазанчик, хорошие красноперки, щурята, подлещики и конечно же новые поселенцы: «гибрид», или «душман», «гайдар», «демократ»,— как хочешь его именуй,— плодущая, прожористая, живучая помесь карася, карпа и черт-те кого. Ученые люди пускай расскажут, какого оккупанта они вывели и поселили, на нашу беду.
Рыбу мы принесли, представили хозяйке, жене приятеля.
— Сазанчики пожарю, по-нашенски, как вы любите. Ухи сами наварите…— постановила Валентина.— А все остальное — куда хотите девайте. Не нужна рыба.
— Как «не нужна»!— возмутился хозяин.— Курам, с комбикормом… Жрут вовсю! Цыплятам, утятам…
— Куры не жрут. Заварила, наклала — не глядят. А цыплята по жаре еще запоносят, не дай бог, с твоей рыбы. Разнесть надо по людям. Дед Федор пускай возьмет, у него дочка приехала. Баба Катя щербы похлебает, она любитель. Хомовне я сама отнесу. Может, из беженцев кого углядите… А вот Шура идет,— увидела она входящую во двор с коромыслом да пустыми ведрами маломерку Шуру по прозвищу Мормышка — бабочку телом крепкую, но ростом с вершок.
— Можно водички набрать?— здороваясь, спросила гостья.
— Бери, бери…— ответила хозяйка.— Тебе на полив, так черпай прямо из бака. А потом принеси сумку, рыбки покладу. Едите рыбу?
— Мы все едим!— весело отозвалась Мормышка.
Когда она с полными ведрами вышла со двора, хозяин спросил:
— Огород поливает?
— Посадила, говорит, кой-чего. И правильно. Своя зелень. А водокачка не работает какой день.
— Огородники…— осуждающе процедил Тимофей.
— Чего ты?..
— Да ничего… Для еды — за водой мыкаются. Теперь еще огород она будет поливать с нашей колонки.
— Жить-то надо…
— Башкой надо варить. Чего она этого-то родила? Самой жрать нечего, пацан голодный по дворам бегает. Теперь еще одного…
Товарищ мой — человек серьезный. Он рассуждает здраво. Мормышка живет без мужа. Двое детей. Один, правда, взрослый уже, вроде — в армии. Другой — подросток. Весною она третьего сына родила. Говорит, на аборт денег не было.
Живет она недалеко. Домишко старый, колхозной постройки, для переселенцев. Немытые окошки с каким-то тряпьем, кособокое крылечко, дырявая крыша, вместо забора — репьи в человеческий рост да крапива. Поселенцы. Такой у них закон. Мимо двора пройти гребостно. Тем более, что Мормышка — соломенная вдова. Числится она — при хуторской водонапорной башне. Включает насос и выключает. Оклад от сельсовета: тридцать рублей в месяц. Пять буханок хлеба можно купить. Летом ходит полоть бахчи, за речку, к Конькову. Малая, но копейка. Осенью собирает шиповник, продает скупщикам. Вот и все доходы. А теперь еще и мальчонка родился.
Мормышка за рыбою прибежала скоро, семеня короткими толстыми ножками.
Добрая Валентина дала ей рыбы, принесла из погреба уже последние, прошлогодние яблоки, другой овощ.
— Яблочки невидные, но хорошие. Ты их натрешь, дитеночку,— наставляет она мамашу.— Моркови тоже натирай. А свеклу — себе. Я покладу в ведрушку, а ты ее потом принесешь.
Мормышка все забирает, благодарит, идет со двора нагруженная, переваливаясь, словно утка.
— За молоком вечером приходи, не боись…— напутствует ее хозяйка и говорит, словно оправдываясь: — Нехай хоть один наш дитенок на хуторе растет.
— А ты уверена, что наш, не чеченский?— спрашивает муж.
— Нет. Он — хорошенький, он от Вовки.
— Да там кроме Вовки…
— Наш, наш мальчонка, белявенький. Пускай растет. Приданого ему набрали со всего хутора.— Это уже для меня объяснение.— И она — бабочка неплохая. Но такая жизнь. Колхоз был, она безотказно работала. А сейчас трудно. Но старается. Грядки какие-то посадила. Сигарет, говорит, в райцентре взяла. Будет продавать. Малая, но копеечка. Самогон учится делать.
— Это точно!— подтвердил мой товарищ.— Я к Чокову зашел вечером, а его нету. Жена говорит: «У Мормышки». Я потом его перевстрел, смеюсь: «От живой жены бегаешь к Мормышке? Молодятинки захотелось?» А он нос копылит: «Работаю дегустатором. Позвала, налила, говорит, покушай. Как специалист. Можно продавать? Я доразу не понял, а со второго стакашка одобрил. Говорю, не хуже Мишкиного, лучше, чем у Вахи».
— Вот и правильно,— одобрила Валентина.— Как-то надо к нынешней жизни применяться. Не помирать же.
Валентина принялась за сазанчика, мы с приятелем чистили рыбу для ухи. Остальной улов быстро разошелся.
Дом моего товарища стоит посреди хутора. Когда-то рядом теснились школа, магазин, почта, клуб, медпункт, бригадная контора. Нынче — руины да пустыри с заплывшими ямами. Подворье моего товарища теперь словно пуп, мимо не пройдешь и не проедешь. Здесь хранит свой нехитрый инструмент приходящий фельдшер. И хлебовозка, коли доберется, останавливается и торгует рядом. Тут телефон, считай, на хуторе единственный, потому что другой — у бывшего колхозного бригадира, который на отшибе живет и не больно гостей привечает. А здесь, пожалуйста, в любое время приходи и звони. В пору летнюю, для удобства, телефон стоит на крыльце, под навесом. И народ идет.
Покойная баба Акуля с этого двора не выводилась. Хозяева, бывало, уедут, а она все равно придет и дремлет на скамейке возле крыльца. «Она у нас была как замочек»,— с улыбкой вспоминает покойницу жена моего товарища.
Дед Федор, вдовец и бобыль, заглядывает по три раза на дню. Порой здесь и отобедает. Баба Катя, на правах родной тетки хозяина, забегает всякий день, потому что ее сын Петро из города, с работы, звонит по утрам, справляясь о матери. Близкие соседи: Чоков да Юрий. Кума Шура да кум Павло по прозвищу Лис, у них дети — в райцентре. Кравченко, Мишка Хука, чеченка Полина, чеченцы же Алик да Ваха. Словом, весь свой хутор да еще и малый соседний, который за речкой. И тоже: «Передайте да перекажите…» — «Туда проводу нет!— порой отвечает мой товарищ.— Как я передам?!— Но быстро меняет гнев на милость: — Ладно. Чего-нибудь придумаем».
Иногда вся эта колгота ему надоедает, и он грозится:
— Поставлю забор шиферный, сплошняком, железные ворота и прикрою эту ярмонку.
— Додумался…— перечит ему добросердечная Валентина.— Забрались в глухомань да еще стеной отгородимся.
— Отгорожусь!
— Отгораживайся и живи бирюком за железными воротами. А я в город уеду!
Этот спор — давний. Товарищ мой — местный рожак, но всю жизнь прожил в городе, в областном центре. Там — хорошая квартира, родственники, друзья. На хуторе, до времени, оставалась лишь мать. Помогая ей, он обложил кирпичом родительский дом, крышу перекрыл; потом пробурил артезианскую скважину, чтобы не надеяться на ветхий колхозный водопровод. Кирпичный гараж построил, чтобы, приезжая, было куда машину ставить; под ним — просторный погреб. Бок о бок с гаражом, под одной крышей, поднялась, тоже кирпичная, жилая кухня в две комнаты, за нею — баня. Пришел черед скотьих катухов, птичников, выгульных базов, огорожи. Все строилось своими руками не вдруг, в отпускное время, надежно и крепко. И получилась помаленьку лучшая усадьба на хуторе. Ее сразу видать.
Когда мать схоронили, родительский дом бросать беспризорно стало жаль. А тем временем подошла пора льготной, до срока, пенсии. Решили на хуторе летом пожить, оглядеться. Остались в зиму. Потому что скотину в город не возьмешь. А продавать жалко. Так и пошло. И теперь уже десять лет живут, отлучаясь в город лишь на короткий срок, по нужде. Но вечный спор продолжается.
— Чего мы, плохо живем?— горячится мой хозяин.— Едим — от пуза, чего захотим…— Он и впрямь глядится этаким сытым боровком, правда, седым. Но рослый мужик, тушистый, еще не горбленный.— Мы бы на пенсию так жили, скажи? Мы бы сухие джуреки глодали! Без мяса — ни дня. В зиму режем быка. Летом — птица. Индоуток — сотня. Кур — столько же. Рыба — любая и себе, и людям,— загибает он за пальцем палец,— молоко, сметана, творог, масло, яйца. Зелень вся с огорода: помидоры, лук, огурцы, картошка, яблоки… А сколько своим перевозили в город?.. И это все — бесплатно. Пенсии на книжку идут. Про них раз в год вспоминаем.
— Бесплатно!— всплескивает руками Валентина.— А ты труды наши считаешь? Батрачим с утра до ночи!
— Гляди… Дюже перетрудилась.
— Ты, может, и не дюже. А мне все надоело. Я бы сейчас в город уехала и весь день бы сидела на скамейке, возле подъезда. Или — на диван и глаза — в телевизор.
— Это — одни разговоры…— машет рукой мой приятель.— Весь день человек не может лежать. Ему нужны упражнения. Вот мы и упражняемся…— смеется он, на меня глядя.
Прошлой осенью я приехал и рассказал про людей пожилых, которые из года в год занимаются утренней зарядкой в сквере, на речном берегу, возле моего дома. Утром гуляю, вижу их, здороваюсь. В компании физкультурников объявилась наша старая учительница. Сто лет ее не видал. Трудно ходит. Но тоже машет руками. Молодец!
Я на хутор приехал, приятелю рассказал о пожилых физкультурниках. И он всякое утро, управляясь по хозяйству, сообщал весело на весь двор:
— Выпускаем кур! Набираем зерна, насыпаем в кормушки! Зобайте! Воды набираем и наливаем! Это считается сгиб-разгиб, поворот налево-направо. Для поясницы полезно.
Стая пестрых кур высыпает на выгульный баз, петух, тяжело хлопая крыльями, взлетает на плетень, кукарекает.
— Выпускаем уток… Насыпаем зерна… Принесем скотине воды! Нажрались, на питье потянуло. А ну, Марта, шевелись! Беляна, пошла… Гришка, чего потягаешься? Геть рысью! Прогоним их в стадо. Это считается пробежка.
Две коровы, бык Гришка, две телки, не торопясь, шагают к выгону, чтобы отправиться вместе с другими на долгий дневной попас.
— Катяши убирать!— вернувшись с выгона, сообщал мой приятель.— Корыто — транспорт, лопата — инструмент. Ноги на ширине плеч, накладываем и везем. Иначе за неделю в навозе потонем. У курочек тоже надо прибраться… Теперь кобеля накормить. Вот и все дела. Утренняя зарядка закончена! Можно завтракать. И — гуляй, Вася!
Разговор про «физкультуру» был прошлой осенью. Приятелю моему он помнится и ныне, добавляя аргументы в вечном споре с женой.
— Для здоровья… В городе от врачей не вылезают. В поликлинике народу — не пропихнешься, один на одном. А мы?
— А мы бы и рады к врачу, да где его взять.
— Для какого интересу?
— Для простого. У меня ноги болят. С утра до ночи топ да топ. Вареники со сметанкой…— передразнивает она мужа.— Любишь, коток?
— Люблю, грешный…— нутром ворчит мой приятель.— В каймаке слаже.
— А каймак с возу не падает. Коров надо два раза доить всякий день, да процедить молоко, да перепустить, перетопить, откинуть, заквасить, то в тепло, то на холод. Не захочешь и вареничков. А у тебя все легочко и скоро…
Спор этот — нескончаемый. Хуторское подворье — не скамейка возле городского подъезда. И потому: «Гуляй, Вася!» — это для красного словца. Хватает забот.
С недавних пор в летней кухне, на стенке, мой товарищ вывешивает листок бумаги: «Чтобы не забыть… Склероз…» Там — список дел, не терпящих отлагательства. Каждое утро хозяин трудится над листком, морща лоб. Что-то вычеркивает, исполненное, что-то дописывает. Ныне там значится: 1. Согнать самогон. 2. Отремонтировать «запаску». 3. Нарезать сибирьковых веников для двора и березовых для бани. 4. Продолжить строительство лодки. 5. Делать завалину у курника. 6. Копать яму под туалет. 7. Подготовить рубильник на столб. 8. Подготовить гумно…
Всего в списке на сегодняшний день значатся двадцать три пункта. И все — важные.
Без «запаски» на машине далеко не уедешь. Риск. И лодка нужна деревянная, с «алюминьки» неловко ставить сети, и парусит она при ветре. Веники — самая пора нарезать, Троица позади. И самогон… Брага поспела. Мой товарищ — не пьяница. Просто на хуторах водку давно отставили. Она — дорогая. Пользуются самогоном. Покупают. Но лучше, конечно, свой. Поставил бражку, отыграла. Перегоняй. Без бутылки в запасе никак нельзя. Тот же — Чоков. Дрова привезти, сено, солому. Денег не возьмет. Свои люди. А на стол выставить — это закон. Так что без самогона не обойтись. Надо гнать. И кирпичная завалинка нужна. И электрический рубильник — на столб, чтобы подключать пилу-циркулярку. А прошлогоднее сено давно пора в сторону сдвинуть, готовя место под нынешнее. Уже косят… Словом, все пункты надо выполнять и новые туда просятся всякий день. А еще, кажеденное: скотина, птица, огород, картофельник, плодовый сад — хуторская жизнь, в которой день начинается на белой заре, а завтрак обычно поздний, когда утренние дела переделаны. Солнце уже высоко. Но в тени раскидистого клена еще держится холодок. На столе шкварчит сковородка с яишенкой, рассыпчатый творог желтеет, банка с молоком квашеным запотела, в густую сметану ложку не воткнешь.
— А может, вчерашнюю рыбу?..— предлагает Валентина.— И каша есть, молочная. Сливки принесть к чаю?
— Принесть,— коротко отвечает супруг ее.
Время завтрака. На хуторе — тихо.
— Кресна! Кресненька!— Не вошла, а влетела во двор голенастая невеликая девчонка.— Баба Ксеня вашу Пальму хотит удавить! Говорит, зови Федю-Суслика, нехай он ее удавит!
— Чем она провинилась, Пальма?— недоуменно спросила Валентина.
— Говорит, кутька оставим. Он будет гавкать. А Пальма — старая…— захлебываясь, со слезами рассказывала девочка.— Ее удавить. Федю позвать…
Валентина вздохнула.
— Сами все — трухли старые. Кто бы нас передушил. То насилочку выпросила: дай Пальму, дай… С ней не буду бояться… Надежа. А теперь — на сук. Не реви, веди сюда Пальму,— постановила она.
Обрадованная девочка умчалась вихрем.
Тимофей, до того лишь рассеянно слушавший девчонку и жену, возразил резонно:
— А нам на кой другая собака? Волчок-то есть.— Услышав имя свое, Волчок — молодой поджарый пес — взвизгнул и загремел цепью.— Ксеня-премудрая: то надо ей Пальму, то не надо. А ты — простодырая. Ксеня бы Пальму не забирала, мы бы Волчка не заводили. А теперь собачатник разведем.
— Волчка — на скотий баз,— рассудила Валентина.— Там ворота. Кто чужой сунется, Волчок не пропустит.
Тимофей недолго подумал. Он не любил с ходу сдаваться. Но правда была в словах жены. Пришлось одобрить:
— Вообще-то верно. Там — темный угол: сено, солома. А всякая скотина и птица там. У Алика-чечена собака — у скотины. И правильно. А Волчок, он — сторожкий. Никого не пропустит. Да, Волчок,— обратился он к собаке.— Новое тебе назначение. Считай, повышение по службе. Во дворе мы сами себя укараулим. Старуня подможет. А там — основное: куры, утки, поросята, скотина. Будешь стеречь. Понял? Ответственность.
Остромордый, овчаристого вида, но статью потоньше и потому приглядный, Волчок довольно повизгивал, радуясь речам хозяина. Он еще не понял, что новая служба — это скучноватая ссылка. Здесь, во дворе, на глазах у людей — весело. И обеденный стол рядом. Нет-нет да и перепадет сладкий кусок. А на скотьем базу — высылки. Там лишь глупые утки крячут да куры гребутся. Но этого Волчок еще не знал. Валентина отвязывала его и уводила, освобождая место для Пальмы. Волчок повизгивал, норовил лизнуть хозяйку.
Место освободили. Скоро и Пальма прибыла на старые пепелища. К обжитой конуре, к прежним хозяевам, которые помнили ее.
— Моя Пальмочка… Захудала…— лаская старую собаку, приговаривала Валентина и выбирала из собачьей шерсти репьи да колтуны.— Откормим ее. Яичками надо свеженькими, это — полезно. Молочком — парным…
За время отлучки старая собака исхудала, глаза ее потускнели, словно не год, а долгий срок ее не было.
— Она снова будет молодая, веселая…— приговаривала Валентина.— Молочка ей…
— Каймачку…— ехидно добавил Тимофей.
— Она не любит каймак, она молочко любит парное. Старые, они тоже как дети…
Тимофей лишь рукой махнул: еще одна колгота.
Поздний завтрак
В летнем хуторском быту утро начинается на белой заре, до солнца. Подоить, напоить скотину, прежде чем выгонять на пастьбу. Птица кудахчет да крякает, требуя своего. Первые дела огородные и дворовые, на базу за скотиной прибрать — тоже по холодку, пока не припечет солнце. Дело дело цепляет, время летит, солнце поднимается быстро. «Господи, уже почти девять…» Пора завтракать. Первый упряг долгой дневной работы — с плеч долой.
Хуторские дела меряются не часами, а упрягами: первый, второй — самый тяжкий, дневной, третий — вечерний, уже до звезды.
Первый упряг — спорый: со свежими силами, по холодку. После него — завтрак. Мне нравится время хуторского завтрака. Это — не городское хватанье кусков, когда жуешь на бегу. Здесь, на хуторе, в летнюю пору уже отработано три-четыре часа. Первые дела сделаны, и можно, не торопясь, посидеть, еще и побеседовать.
Летний стол на воле, в тени. На столе в сковородке шкварчит какое-нибудь жарковье: рыба, картошка, мясцо; парит в кастрюле молочная каша, лучше — пшенная, с запекшейся желтой корочкой. Рядом — крупитчатый творог, густая сметана, молоко пресное да кислое, крошеная зелень: огурчики да помидоры, молодой лучок с нежными, сладкими луковками, редиска, перец… Глазам и чреву отрада. Похрумкиваешь да причмокиваешь. А потом — чай с молоком, белыми пышками ли, румяными оладушками в каймаке.
Мне нравится этот поздний утренний час. В тени развесистой ивушки еще держится холодок. И еда — в пору: аппетит разгулялся. Торопиться некуда. Самое время для неспешной еды, разговоров, новостей нынешних и прошедших.
Приходят первые гости. Баба Катя — сухонькая востроглазая старушка по прозвищу Газетка; газет она сроду не брала в руки, но знает все. Дед Федор объявится с первым, но не последним в нынешнем дне визитом.
— Беженка вчера с зонтиком гуляла,— сообщает баба Катя, поджимая губы.— Туда-сюда, туда-сюда, при зонтике. Приглядный такой, с цветками.
— Либо в вашем куту дождик был?— усмехаясь, спрашивает мой приятель.
— Солнце,— объясняет баба Катя.— От солнца она хоронится. Боится загореть.
— А куда ей загорать? Она и так жуковая,— удивляется дед Федор.— Грузинка или армянка… Кто они?
— Лодыри,— веско произносит приятель мой.— Монастырь беззаботный. Вот под зонтиком и хоронятся.
— У тебя одна песня,— заступается Валентина, жена его.— Может, человек больной.
— Мигрень — работать лень…
— Может, аллергия от солнца или давление. У нас — пекло, вот она и прикрылась.
— У тебя тоже давление, но ты с зонтиком не гуляешь. Лодырюки.
Спор этот давний и долгий. Приятель мой к дипломатии непривычен, режет правду-матку. Жена его, Валентина,— другого, мягкого теста. Она жалеет старых и малых, своих и чужих, людей и скотину. К ней подбрасывают котят да кутят. Хуторские старухи в ней души не чают — она их лечит своими средствами: ставит банки, растирает суслиным жиром да муравьиным спиртом, не забудет побаловать печеным да рыбкою, когда муж поймает; секретничает, потакая и сострадая стариковским заботам. Когда она уезжает в город, своих проведать или по делам, старухи ждут ее, а потом признаются: «Тебя нет — и полхутора нет. Мы об табе горимся, плачем… Сберемся и плачем…»
О беженцах у приятеля моего с женой спор давний. На хуторе приезжему люду не больно сладко. Колхоз развалился. Теперь на хуторе — ни молочной фермы, ни гуртов, ни отар, ни свинарника нет, ни птичника, ни амбаров, ни мастерских. Раньше не хватало людей. Бригадир Христа ради просил: «Пойди поработай…» Нынче лишь Шура Мормышка при должности. Другие и этого не имеют, Мормышке завидуя.
— Алырники! Лодыри!— определил мой приятель.— Работать не хотят. Почему не идут к Конькову бахчи полоть? «Жарко…— передразнивает он.— Спина болит… Пыльно…» С зонтиком ходить — не болит спина? А от этого зонтика лишь новый пискун появится. Да-да! У Мормышки появился сын хутора, и у этой — не заржавеет. Готовьтесь приданое сбирать. Надо работать!— настаивает мой приятель.— Не слезы точить, а работать. Полинка закопылила нос, когда Евлашин флигель за бесплатно, считай, отдавали: «Базов нет, сараев нет…» Там старый человек проживал, едва пекал, а ты — в силах. Значит, поставь сараи, базы.
— Чем ставить?— возражает Валентина.— Из чего лепить? Из така?
— Плетней наплети.
— Она их не может плесть.
— Отговорки. Я тоже не мог. А приперло, еще каких наплел. Вот они. Ты помазала, и скотина в городьбе и под крышей.
— Ты — мужик, а они — бабы.
— А как же наши матеря…— горячится приятель мой.— После войны на хуторе мужиков не осталось. Одни бабы. Все делали: колхозное и свое. Хлеба, скотина, огороды, кизяки, плетни… Сами жили и нас вырастили. Ну ладно…— сдавался он.— Не умеешь плетни плесть. Но башка у тебя должна варить. Постановь Савушке миску щей да чекушку, он тебе весь белый свет заплетет. И базы будут, и сараи. Ребятишкам купи конфет, они тебе и хворосту, и чакану, и столбушков натаскают. Вода — близочко, сделай копанку. Сажай свеклу, морковь, картошку — всю зиму сыт будешь. Бабке Евлаше было девяносто лет, а огород — пенился. Все свое. Еще и поросенка держала. Сколько лет бабе Кате?— вопрошал он, пальцем указывая.— Восемьдесят два. Она кому жалится?.. Собесу, властям? Она работает. Себя кормит да еще сынок в город полон кузов везет, аж рессоры лопаются. Скажи, баба Катя?
Старая Катерина лишь смиренно опускает глаза.
— Они — городские, непривычные…— еще один довод.— Они всю жизнь на асфальте.
Мой приятель его отметает решительно:
— Я сам тридцать лет на этом асфальте прожил, и ты столько же. Коля Бахчевник, Коньков, Витя Кравченко, Юрка, Семеныч — все городские. А на хуторе живем, работаем и не жалимся.
— Мы с детства привычные, а они сроду земли не видели. Они и не думали на хутор попасть. Наш Ваха бессовестный,— это уже для меня объяснение.— Он вторую семью обманывает. Забирает в Грозном квартиры. Трехкомнатная у них была. Обещает, что поселит в райцентр, с работой. Они верят. А он привозит сюда и кидает в разоренную хату. Живите, как хотите. Я уж его стыдила.
— Достыдишься, что подожгут нас,— сказал мой приятель.— Больше всех надо? То бича защищала, теперь этих…
— Не буду молчать!— на своем стоит Валентина.— Они бессовестные и наглеют, потому что все молчат. Держишь работника, значит, корми его, одевай. Они кинут кусок хлеба да молока снятого — вот и все. Да еще бьют. Я Вахе так и сказала: не бейте его, он человек. Заявлю в милицию.
— Испугался он твоей милиции. Гуся — участковому, и тот еще поможет живьем закопать этого бича.
Работник ли, по-нынешнему «бич», который пасет скотину у Вахи, существо жалкое: кожа да кости, рваниной прикрытые, калоши на босу ногу. Круглый год пасет: летом, зимой; и спит возле скотины. Хозяин обещает ему «выправить» паспорт. Но это, конечно, сказки…
Споры, которые ведет мой приятель с женой, им конца нет. Это — жизнь.
Приходит старая Хомовна, жалуется:
— Без хлеба сижу… Сухари догрызла, размачивала. Джуреки печь?
Станичная машина-хлебовозка поломалась. Другую неделю хлеб не везут. Люди помоложе что-то придумывают: у кого — машина, у кого — родня… А вот старым да одиноким — беда.
Приятель мой гнет свою линию:
— А как же наши матеря? Никаких хлебовозок не было. Сами пекли. Да еще какой хлеб… С нынешним рядом не постановишь. Помню, бабка печет, еще в печи хлеб, а дух — на весь хутор. Я кружусь возле: «Дай корочку…» Вынет да на лавке раскладет, сбрызнет водой, да накроет полотенцем, чтобы дошел… Наши матеря… А теперь привыкли, чтобы готовое, «под ключ»…
— С вашими матерями…— отмахивается Валентина.— Надоел, как спасовская нуда. Где накваска, где хмелины, где печь, где квашенка? Ты ее сделаешь, квашенку? Языком лишь…— Она берется за телефонную трубку, звонит в кооперацию, в сельсовет.
— На лошадке пришлите!— доказывает.— Старые люди… Без хлеба… Голосовать не будем!— пугает она.— Не будем, и все! Так и запомните! Придут выборы, лучше не приезжайте со своими ящиками!! Всем хутором откажемся! Прославим на всю область!
На следующий день прибывает на хутор невеликая машинешка с хлебом да еще макароны привозит и сладкую воду. Вот тебе и Валентина! Хуторские старухи слезу пускают: «Лишь на тебя надежа…»
Оно и вправду. Ведь до властей — как до Бога. Да и каким властям до нас дело…
Порою Валентина влезает в дела, считай, уголовные.
Операция «Люминь» — позднее назвал эту историю мой приятель, с гордостью за жену добавляя: «Провела как генштаб. Не ниже».
А было так: утром в слезах прибежали Хомовна, Нюра-татарка да Ксеня — все старье. Кричат:
— Участковому звони! Участковому!!
Дело для наших времен обычное: за ночь со дворов пропал весь «люминь»: тазы для стирки, молочные фляги, бидончики, сковороды, жаровни, миски, кастрюли, даже провода, на каких бельишко сушить развешивали — все алюминиевое, какое нынче на приемные пункты сдают, за наличные деньги. Раньше был в моде старьевщик ли, гунник, он тряпье собирал, теперь — «люминьщик».
— Звони участковому! Нехай приезжает, ищет! Ни сварить, ни постирать не в чем. Начисто жизни лишил…
На хуторе, в стариковском хозяйстве, алюминиевая снасть самая ходовая. Она и легкая, не чугун, не бьется, как стекло да эмаль. Легко и прочно.
Не враз, но отыскали по телефону участкового милиционера, он в станице. Отыскали. Но что проку? «Пишите заявления и везите ко мне»,— был ответ.
Старухи еще горше заплакали. Кто напишет? И кто повезет? И какой прок от этих бумажек? Пока суд да дело, миски да кастрюли в райцентр уплывут, к «люминьщику».
Приятель мой старухам внушал:
— Надо собак заводить. На цепи. Да какие с зубами вот с такучими. У нас две собаки. Одна здесь, другая на скотьем базу.
Конечно, он прав был. Но что теперь охранять?
Валентина думала недолго.
— Это Мишка Рахманенок. Заимели соседа.
Словно сорная трава полоняло хутор рахмановское племя. Вот и Мишка, армию отслужив, обратал молоденькую приезжую учительницу, занял пустующий дом. Забота ли, работа у Рахмановых одна: где чего плохо лежит.
— Приходил, нечистый дух! Приходил!— вспомнила Нюра-татарка.— Отбойник спрашивал для косы. Откель у меня отбойник? И зачем ему коса? Мышам сено косить? Это он высматривал!— догадалась она.
— И ко мне приходил,— вспомнила Хомовна.
— И возле моего двора крутился… А ныне с ранья чего-то колотит. Стукотит. Либо нашу посуду?
И опять заслезились старухи:
— В сельсовет надо жалиться…
— Нехай милицию пощуняют…
Но что проку от старушечьих причитаний да слез? Не пойдешь напрямую с обыском, тем более — учительская семья.
Приятель мой гнул свое, упрекая старую Ксеню:
— Пальму тебе давали. А ты ее назад возвернула. Она бы — за лытки… Пальма — сторожкая.
Старая собака, услышав кличку свою, загремела цепью: мол, все верно, не зря хлеб жую.
— Всем надо собак заводить. У чеченов, у них волкодавы. Попробуй влезь…— толковал мой приятель.
— Замолчи, Христа ради,— остановила его жена.— Слушайте меня.
Валентинин план оказался по-бабьи прост и легко выполним.
Бобыль дед Федор отправился к Рахманенку с просьбой:
— Овечку надо постричь. Снять волну…
Старая овечка по кличке Шура — притча во хуторских языцех — неизвестно зачем проживала у деда Федора во дворе.
— Постричь надо, а то набьются репьи. Пол-литра есть,— пообещал дед.
К таким трудам молодой Рахман был всегда готов. Без лишних слов он согласился. Как только они скрылись из глаз — дед и стригаль, Валентина заспешила к Мишкиной жене — учительше и уже от калитки торопила ее, звала:
— Срочно к телефону! Срочно! Районо вызывает! Срочно… Беги, беги… Там трубка лежит…
Молодая учительша на резвых ногах помчалась к телефону, хату и двор оставив.
Три старухи: Хомовна, Нюра-татарка да Ксеня, выбравшись из засады, словно вороватые сороки, шмыганули во двор: одна — в сарай, другая — в старый курятник, третья — в коридорную пристройку.
Искать долго не пришлось.
В сарае все и обнаружилось: мотки провода, жаровни и уже молотком побитые, сплющенные кастрюли да миски. «Люминьщик» целую посуду не принимал, это запрещалось.
Все остальное было делом простым. На готовое и станичный милиционер объявился. Целую посуду старухи забрали. Побитой рахмановская родня быстро нашла замену, чтобы закрыть «дело».
Операция «Люминь» завершилась. Приятель мой, горделиво похмыкивал: «Генштаб», но при случае гнул свое:
— Собак надо заводить. Собака, она за лытки… Вот наши — что Пальма, что Волчок… они ночьми не спят… А Мишка, он завтра поумничает, снова упрет все. Да не во двор, а в барак… Ищи там свищи…
Поздний хуторской завтрак. Солнышко уже высоко. Но в тени раскидистой ивушки, у просторного стола еще держится холодок. Можно не спеша чаевничать, обсуждая дела вчерашние, нынешние. Впереди — долгий день. А теперь — лишь завтрак.
Кудбовая
На третий день хуторского житья, когда на подворье все новости собраны да рассказаны, наступает пора иная.
— Ты нынче чем займешься?— спрашивает поутру мой хозяин.
— Пойду попроведаю…
— Ну давай…
Отзавтракали. И пошел я по хутору бродить. Он нынче просторный, хотя и не больно людный. Но как в далекие годы протянулся и раскрылатился от донского берега, от лесистого займища до заливного луга и Лысого бугра, так и теперь доживает свой век в былых размерах, как и прежде делясь на куты: Забарак, Никишкин кут и Варшава. Последнее название почти позабыто.
Умирают, уходят с хутора люди, ветшают и рушатся дома, базы, разрежая былую тесноту дворов.
Соседства давно уже нет, когда через плетеный забор окликнешь живую душу. Нынче дома и поместья стоят вольно, будто чураясь друг друга; меж ними — пустоши, руины, заросли дурной травы или задичавшего сада.
Словно плавучие острова, все дальше расходятся живые дома, подворья, особенно в непогоду, во тьме, скупо светя желтыми окошками.
Но нынче — пора летняя и погожая. Еще издали, чуть ли не от своего двора, вижу, что у бабы Кати, на летней кухне, на крыше ее — человек.
Ближе подхожу, а это, оказывается,— сама хозяйка печную трубу глиной обмазывает. Дело летнее, но впереди — зима.
— Ты как туда залезла?— спрашиваю удивленно.
— По лестнице…— поняв мое удивление и обидевшись, коротко отвечает баба Катя.— Чего ж я, вовсе некудовая? Трухля?
— Кудовая…— усмехаюсь я.— Как коза по лестнице скачешь, в восемьдесят лет.
— Восемьдесят и еще два годочка,— спускаясь на землю, к гостю, уточняет старая женщина.
Сухощавая, росточку малого, возрастом гнутая, баба Катя имеет характер бойкий, любит поговорить. Газетка — ее старинное хуторское прозвище. Живет она одиноко. Сын Василий с давних пор — в городе, дочка — в станице. Живет одна, но дом и двор как и в прежние годы.
— Огород ныне огорчает,— жалуется она, когда идем мы осматривать ее владенье.— Картошка прет, прямо бушует, в огудину, а будет ли прок.
Огород старой женщины раскинулся так просторно, пышно и зелено, что оторопь берет. У хозяйки воробьиная стать: косточки, кожа, иссохшие плети рук… В чем душа держится. Но огород — не окинешь взглядом. Зеленой стеной — картошка, огурцы, помидоры, плетучие тыквы… И ведь не трактор пахал… А все — лопата, мотыга и эти старушечьи, словно птичьи, иссохшие руки.
— Ну и огород у тебя…— в который раз удивляюсь.— Надо бы уже поменьше. Все же — возраст…
— Года, года…— соглашается баба Катя.— Из могуты выбилась. Здоровья нет.
— Ну и сажай поменьше, куда тебе?
— Я тоже гутарю…— соглашается она.— Который год сынка прошу: отрежь, Христа ради, огород наполовину, перенеси городьбу так-то вот: от кухни вкопай соху и перестановь городьбу. Тогда будет мне по силам: десяток рядков картошки да грядочки, для себя. И будет расхорошо. А ныне такая страсть…
— Все верно,— подтверждаю я.— Тебе много ли надо?
— Который год прошу: перестановь, сынок, городьбу. А ему все некогда.
— Господь с ней, с городьбой,— говорю я.— Брось и не сажай.
Из-под белого платочка снизу вверх глядят на меня удивленные глаза:
— В своей городьбе… кинуть? Не сажать? Бурьяном зарастет… Люди будут глядеть. Вот и сынок мой упыристый тоже: кидай да кидай… Так не положено,— говорит она строго.— Городьба стоит, значит, моя земля, мой ответ. Я ведь какой год криком кричу: перестановь городьбу, чуток буду сажать, для себя. А ему — некогда. Я бы по силам сажала, для себя.
— Правильно,— одобряю я.— Дети себе посадят ли, купят.
— Вот-вот, и сынок галдит: нам не надо, не надо, мы купим,— вздыхает.— Купим-залупим… В городе за все — копеечка. Мамкина картошка — не лишняя. А помидоров, огурцов сколь увозят… Машина трещит, кузова не хватает. Тыквы у меня всегда расхорошие…
Тыквы и в самом деле у бабы Кати огромные, в колесо, розовые, сахарные на вкус. Зимой в гости придешь, на стол — угощенье: в духовке запеченная тыква, оранжевые кусочки с подтеками темной патоки, пахучие, сладкие. Гостям — угощенье, хозяйке — еда. Пенсия у бабы Кати — копеечная, хотя всю жизнь в колхозе работала. И потому еда, как говорится, гусиная: постные щи, картошка, свекла. Пенсия малая. Но ухитряется своим помогать. Хвалится порой: «Внучке передала двести рублей, она — девка, ей чапуриться надо, а внуку — сто рублей… Василий приезжал — ему тоже надо, хоть и взрослый, но сын»…
Сын — взрослый, тоже к пенсии подбирается. Чуть не всякий день из конторы звонит приятелю моему: «Как там мать?» На хутор приезжает, любит рыбачить. А зимой — охотится. Прибывают целым кагалом: друзья да приятели. Баба Катя заранее топит старинную мазанку — кухню. Там охотнички гулеванят.
Летом в этой кухне любят жить городские внуки: днем — прохлада, да и с гулянки можно прийти, когда вздумается, не тревожа бабку.
Мне нравится эта кухня, старинное жилье: глинобитные стены, мазаный пол, русская печь, запах сухой мяты, полынных да сибирьковых веников.
Мне нравится хозяйка, старый воробушек в белом платочке с быстрыми живыми глазами. Мне нравится ее гнездо: флигелек в две комнаты: кухня да горница, все аккуратно помазано и побелено, от завалинки до трубы. Просторный огород, петуньи, пахучий табак да высокие алые мальвы возле забора, скамеечка у ворот. Но сидеть на ней время не позволяет. Разве что ради гостя…
— Какие новости?— спрашиваю.
— Откель мне знать,— скромно опускает глаза хозяйка.— Зимой хоть радио гутарит. А ныне — лишь огород, хата да кухня, курята да поросенок с утра до ночи… Раздираюсь, как бык на склизу.
Но помаленьку кое-что узнаю.
Бобылка Раиса, что прибилась к хутору лет пять назад, оказалась мужней, приезжали за ней на машине, зовут в семью, и мужик обещает не пить, потому что постарел, вот теперь и думай. Премудрые Рахманы — они же привыкли чужими джуреками своих родителей поминать — доумились Рахманы: сыпят к своему порогу семечки, приманывают чужих кур, приманят — и шлычку набок, в лапшу. Надюрка Рахманова проводила своего Митрия в больницу, в райцентр, с серьезной болезнью, да его и было видать: сделался вощаной, долго будут лечить, запихнула в больницу и считай тем же ходом привезла ему на замену какого-то с усиками, может, на время, а может, насовсем. А ведь Митрий тоже не с возу упал, они в загсе, на жизнь записанные… Кошенковы наладились самогонку гнать, для жизни подмога, люди хвалят ихнюю самогонку из сахара, не то что Вахина отрава. А Вахины же — переселенцы из Грозного, к жизни нашей никак не привыкнут: лежат-лежат, потом сядут, сидят-сидят, потом лягут; осенью люди давали им картошку, капусту, свеклу — несли ото всех дворов, кто мог, весной — семена да рассаду навязывали, а у них одно — посохло, другое — не взошло, третье — Вахины козы погрызли, потому что зимой забор в печке пожгли, а новый не поставили… А у Коли Бахчевника…
Помаленьку хуторская жизнь для меня прояснивается. Но нынче пора летняя, долго не рассидишь.
— Надо лезть, мазикать…— спохватывается баба Катя.— А то глина заклекнет.
И вот она уже наверху, возле трубы, хоть и невысокая кухонька, но как-то боязно глядеть на старую женщину. «Восемьдесят лет да еще два года…»
На прощанье решил пошутить, кричу, посмеиваясь:
— На флигеле труба тоже рук просит!
— На той неделе полезу!— отвечает старая женщина.— Там еще на подловке делов…
Поднимаю глаза на шеломистую флигеля крышу, опасаюсь и предостерегаю:
— Там высоко… Василий приедет. Или Мария…
— Дождешься их,— отвечает баба Катя и подсмеивается: — Чего я, вовсе, что ль, некудовая?
— Кудовая!— машу я рукой на прощанье.— Еще какая кудовая.
«Сколь работы, Петрович…»
Подворье Алеши Батакова обычно встречает и провожает меня собачьим лаем: заливистая шавка — у ворот; у скотьих базов — волкодав в добрую телушку ростом глухо гавкнет, глядит: куда правишься. Хозяина не видать.
Подворье, даже по меркам хуторским, огромное: подле забора — малая хатка, а дальше — город: скотьи катухи, сараи, крытые да выгульные базы, скирды сенника, а еще — немереные огород да сад, которые тянутся в упор до займищного леса. Где-то там, в глубине своего просторного государства, Алеша. Заросшее недельной щетиной лицо, вваленные щеки, худое жилистое тело. «Петрович, сколь работы…» — обычное присловье его.
Видимся нечасто. Больше — на ходу.
Вечером, уже в полутьме, на лошади скачет, остановится:
— Бычки другой день домой не идут,— жалуется.— С чеченскими свалахтались, уходят на просо, аж к Змеиному рыну. Это ведь до поры… Надо искать да гнать.— И поскакал в гору. Пригонит бычков поздно, уже в ночи.
Чуть свет, на заре, на берег идем с приятелем, к лодке, навстречу громыхает Алешин тракторенок. Уже от воды. В тележке — мотор, сети да ящики с рыбой, коли есть она. Порою мимо проскочит, лишь рукой покажет: мол, спешу; чаще остановится, не выключая движка, доложит: «Сплыл на леща… Сплыл на чехонь…» И результат. Закончит обычным: «Петрович, на уху возьмешь?» — «Спасибо, сами поймаем».— «Ну гляди… Будешь уезжать — упреди. Посерьезней чего добудем…» И покатил дальше.
Вечером возвращаюсь от речки и займища мимо Алешиного подворья. Сумерки. Солнце уже опустилось за Львовичеву гору. Шавка залаяла. На ступенях крылечка что-то шевельнулось. Глянул: Алеша сидит.
— Здорбово дневали,— говорю.
— Слава богу, Петрович, заходи.— И на шавку прицыкнул, а сам сидит на ступенях.
Я вошел во двор, он лишь тогда медленно приподнялся, посмеялся над собой:
— До хаты добрался, а взойти не могу… Ныне жену отправлял, в три поднялся, поехал, три раза сплыл. Надо, Петрович… Отвез жену прямиком к базару. Вернулся, сколь работы, Петрович, не присел за день. Одно за другое цепляет. Скотина, птица, огород… Вот прибился к хате, присел и не встану. А надо еще собак покормить да и самому… Тебя чем угостить, Петрович?.. Либо чехонью? Хорошая подошла…
Я отнекался и, быстро распрощавшись, ушел. Какие уж тут беседы…
Другое дело — днем. Идешь мимо, увидишь, окликнешь: «Здорово работбали!» — «Слава богу, Петрович! Заходи, попроведай…»
Побритый, улыбчивый, ясноглазый, Алеша глядит молодо, как и положено в тридцать с немногим лет; тем более, что он на лицо худощав и телом костляв и жилист, подвижен, на ногу скор.
— Новости какие?— любопытствует он.— В городе, в Москве? Мы тут потонули в навозе. Ничего не знаем. Газет не видим. Да и когда их читать, Петрович? Сколь работы… Телевизор паутиной оброс, летом про него и забыли… Сколь работы… Пойдем поглядишь мое хозяйство. Хвалиться особо нечем. Надумал вот хату строить…
Про хату давно было сказано. Два ли, три года назад притянул Алеша трактором ребристые молотильные катки с Евлампиевского хутора, с его руин. В древние годы этими катками, вырубленными из дикого камня-песчаника, молотили хлеб на токах, потом катки приспособили ставить фундаментом, под первый венец. Вот и Алеша на них позарился, трактором приволок, потом оправдывался, что они лежат без дела:
— Петрович, сами-то ладно, а скотина должна под крышей стоять. Иначе с нее не спросишь. Это мне отец всегда говорил. А он по скотине был первый. И гуляк держал, и овечек, и коз. Помногу. За что и выжили… Петрович, птица под белым небом лишь днем, а ночью надо в тепле… Тем более на гнезде,— внушал он.— Петрович, она хоть и свиньей зовется, но в сырости, при сквозняке жить не будет,— убеждал он меня.
Его отец когда-то жил здесь. Батаковых подворье старые люди еще помнят. Оно давно в руинах.
Дело в том, что на хуторе Алеша — новосел, хотя и здешний рожак. Когда-то Батаковы здесь жили, а потом ушли в райцентр. Там и Алеша трудился на судоремонтном заводе. Женился, двоих сыновей народил, построил дом — все как положено.
А потом начались горькие перемены. Все закрылось. Невеликие заводики: авторемонтный, судоремонтный, металлопроволочный, «Сельхозтехника» и прочее. Бродят мужики по райцентру с утра до ночи, друг об друга бьются. Нет работы.
У Алеши сыновья — малолетки, жена, сам — четвертый… Вот и приехал на старые пепелища. Стали жить враскорячку: дом — в райцентре, там — школа, там учатся сыновья и, конечно, мать при них, хозяин — на хуторе.
Брошенную развалюху-«саманку» подправил, на землю нынче, слава богу, запрета нет.
— Петрович, тут столь делов…— показывал он свое хозяйство при знакомстве и первых встречах.— Тут работать и работать…
Летом приезжают жена да сыновья. «Трудятся, как мураши…— говорят о них.— На речку не ходят».
«Речка» — это вроде хуторского бульвара ли, клуба для молодых. Городские внуки там кувыркаются на зеленой травке, загорают, в воде бултыхаются, крутят любовь. Алешиных ребят там не видно.
Да их и нигде не видно. Батаковская усадьба в полхутора. Как не затеряться среди скотьих сараев, катухов, базов да навесов, а еще — молодой сад, огородная плантация.
— Петрович, тут делов…
«Делов» и в самом деле немало. Тот же погреб. Кажется, что в нем? Обычная крытая яма с «выходом». Летом там холодок. Для молока, для всякого варева хорошо. Не скиснет. Зимой хранится картошка да другой овощ. Сам когда-то копал в доме своем, в поселке. Крышу менял, когда подпревала. Сосед мой, хозяйственный дед Петро, погреб соорудил — всей улице на удивленье, ходили на экскурсию. Широкий спуск по ступеням, а внизу — простор: картофельный закром, полки для банок с вареньем-соленьем, место для бочек, высокий потолок, труба для вытяжки — словом, хоромы. Но что дед Петро…
Алешин погреб, когда я лишь заглянул в него, обомлев, это что-то немыслимое: вроде станции метро. Глубоченный бункер в два этажа с перекрытием. Дикого камня кладка на растворе. Электрический свет.
— Петрович,— убеждал меня Алеша,— погреб для хуторского быта — первое дело. Это в городе — холодильник, бросил кусок мяса — и все. А у нас… Молоко кислое, пресное, творог… А картошки сколь… А свеклы, моркови. Себе, скотине…
Мы опускались в глубины погреба, в глухие низы.
— Петрович…— внушал мне Алеша.— Сам знаешь, рыбой заниматься без погреба — пустой номер. При нашей жаре погубишь или за так отдашь… Такие труды, ночьми не спишь, хоронишься, а проку… С погребом — уже моя воля. Цену не дают! Я засолю по-хорошему. Она в тузлуке все лето пролежит. Нужно, отмочил да повялил — и все в дело.
На воле полыхало жаркое лето. В подземной глубине было холодно. Поднявшись наверх, я с удовольствием подставлял озябшую спину солнышку, согреваясь. И вдруг иной холодок меня пронизал. Хозяин стоял возле: вовсе не богатырь, кожа да кости, жилистые плети рук, узкие плечи, втянутый живот, про таких говорят у нас: на балык ли, в дощеку высох. А рядом — это каменное подземелье, колодезная глубина его, в два этажа, просторные своды…
— Алеша…— спросил я.— Ты как его сделал?
Это был пустой вопрос, потому что знал я: никаких экскаваторов, бульдозеров, никакой техники и никакой помощи, кроме сыновьей, а они — ребятишки… не было ничего.
Но ведь сделано. Я только что вылез оттуда, из холодного подземелья. Такую страсть лишь выкопать, столько земли выбросить, да еще с такой глубины ее тягать надо ведрами, да заготовить камень, привезти, опустить вниз, выложить стены, дважды перекрыть… Он стоит, светлыми глазами хлопает, вздыхает, повторяя свое:
— Петрович, сколь работы… Сколь работы, Петрович… А куда денешься… без погреба, сам понимаешь… Жизнь хуторская — это не город. Тем более рыбой заниматься…
Что тут скажешь… лишь повторишь, Алеше вослед: «Сколь работы…»
И только ли погреб? А скотьи сараи, базы, птичник, два артезианских колодца — во дворе и на плантации,— цистерны для воды, железные трубы по всему огороду и саду.
— Петрович…— внушал он мне.— При нашей жаре день и ночь надо лить. Что капусту, что помидоры… А уж молодые садины, особенно яблоньки, груши… Дед Астах — люди и ныне помнят — ночи напролет, бывало, возит из речки и поливает. Батаков сад, ты слыхал, наверное, по-над речкой. И мельница там была, Батакова… За что и пропал. А без воды у нас ни в чем росту не будет, нечего и затевать.
В первую зиму он ставил забор. Из займища на санках — тогда у него и трактора не было — возит и возит жерди. На пиле под навесом «распускает» их вдоль, снимает кору. Только и видишь его: тянет сани, согнувшись. Только и слышишь: визжит пила, даже ночью, когда выходишь из дома. Зимняя ночная хмарь, снег по земле. Хутора во тьме не видать, лишь редкие огни. И голос пилы-циркулярки.
Встретишь его, в займище ли, на пути, он объясняет:
— Петрович, это же — скотина… Тем более у чеченов, они вовсе не пасут. Трудись все лето на огороде, вырасти, а они зараз снесут, а свиньи если залезут. Дикие приходят… Забор надо настоящий, Петрович… Сколь работы. Но куда деваться…
Закурит — и потянул немалый, крепко увязанный воз. Добро, что зима была снежная. Дорогу накатал. Деревянные полозья идут легко.
Ставил он забор с сыновьями. И теперь, когда мимо иду, не удержусь: подойду и потрогаю. Ровные струганые плашки. У каждого гвоздя под шляпкой — еще и шайба. А сверху — краской закрыто. Тут никакая ржа не возьмет. Плашка за плашкой, пролет за пролетом… Тянется и тянется. Конца нет. Охват — километра два, не меньше. «Сколь работы, Петрович…»
Но это все — прошлое. Нынче Алешу, как на хуторе говорят, «рукой не достанешь». Коровы, быки, телята — табун немалый. Лошади есть, их татары берут. Свиноматки племенные. Поросята свои, это уже полдела. Десятка два, наверное, всегда на откорме. Конечно, птица: куры, гуси хорошие, белые. Огород, сад. Колесный трактор, хоть и старенький. Машина с прицепом «уазик». Для наших дорог — лучше не надо. Алеша занимается рыбой. Цены теперь неплохие. Перекупщиков — море. Лишь свистни. Но рыба — дело нелегкое. Весна, на воде — холод; тем более, потаясь, ночью. Сладкого мало. Но где оно, сладкое?
Иногда Алеша спросит меня:
— Петрович, ты все же повыше… Когда же наладится? Заводы стоят… Я заезжаю иногда, кое-какие железки нужны. Погляжу — аж страшно… Но ведь без этого не обойтись, без техники?
Он глядит на меня с надеждой. А что я отвечу…
— Это же важное, понимаешь, Петрович. Мы делали водометные катера, баржи. На всю страну. Это ведь — нужное.
Мне кажется, что он по своему заводу тоскует. И чего-то ждет. А день нынешний — лишь для прокорма: сыновья, жена. Потому и раскорячка: райцентр и хутор.
Но время бежит. Старшего сына нынче забрали в армию.
— Петрович, все понимаю: долг, все мы отслужили, обязаны. Но сколь делов… Он парень до работы цапучий. Ни подгонять, ни подсказывать. Упрется как бычок. А ныне — ну вроде руку обрезали. А тот — еще молодой. И жена — при нем, не кинешь. Самый возраст. А здесь сколь работы, Петрович…
— Надо кого-то брать,— предлагаю я.— Бича привези. Будешь кормить, платить помаленьку. Ему хорошо и тебе. Чечены держат…
— Это надо привычку иметь,— вздыхает он.— Как-то неловко, вроде батрак. Я уж думал. Но надо чтобы по-людски жил человек… А у меня и жить толком негде. Мазанка… Дом строить… Сколь работы с ним, Петрович…
Разговор этот был в пору осеннюю. Потом долго не виделись.
Зимой возвращался я как-то с речки, ходил окуней дергать. День был ненастный. С утра проглянуло солнце, а потом стало гаснуть. По речке, на льду, дуло, мело. Поначалу шла метель низовая — кура. А потом повалил снег, и все смешалось в белесой мгле. Уже ни холмов, ни речки, а снежная круговерть.
Но все это — недалеко от хутора. Никакой беды. Одежда теплая. Пробирался я к дому, прикрывая лицо от ветра и снега. Прошел низину, заросшую вербой да тополем, и вот он — хутор, которого не видать. Лишь белесая мгла, ветер, снег. Но понятно, куда идти, ноги сами несут мимо подворья Алеши Батакова. Почуяв меня, глухо заворчала овчарка. Значит, рядом забор. Обогнул его и услышал стук. Рядом стучали, по дереву. Я остановился.
Все так же сыпало и мело. Под ветром снег летел сверху и снизу. Пуржило. Рядом серой мутью проглядывали ворота. Залилась лаем шавка, стук оборвался. Через снежную круговерть, глуховато, раздался голос:
— Кого бог несет?
По голосу узнал я Алешу, громко ответил:
— Гости идут! Гости!!
Открыл я воротца, а тут и хозяин встретил меня радостным возгласом:
— Петрович! Либо блукаешь?! Рыбалил?!— углядел он мои снасти и рассмеялся: — Нужда?.. По такой пурге.
— У меня-то нужда,— ответил я в тон.— Голод — не тетка, и в пургу погонит. А ты вот чего колотишь?
— Заходи, поглядишь. Проходи, проходи. В доме затишно.
Во дворе, в снежной метельной белеси, углядел я каркас строящегося дома. Вослед за хозяином поднялся по трапу, но обещанного затишья не отыскал, хотя одна из стен наполовину была закрыта.
— В горнице сядем?— посмеиваясь, спросил Алеша.— Или на кухне? У печки теплее.
— Кабы не вспотеть,— ответил я.— Выбрал ты время для стройки…
— Самая пора, Петрович. Ни сенокоса теперь, ни посадки, ни полива, жука не надо морить, заниматься рассадой, скотину пасти тоже не надо, и рыба не идет, лишь самые жадные, вроде тебя, хвост морозят. А я каркас заготовил еще по осени, сын приехал, поставили… Теперь лишь — колоти… Весной помажется, и помаленьку… Осенью — новоселье, приезжай,— пригласил радушный хозяин.
Я лишь головой покачал, произнеся присловье Алешино:
— Сколь работы…
Хоть и не больно высоко поднят был каркас над землей, но казалось, что здесь метет и дует яростней, даже снизу несло, из щелей настила.
Долго не поговоришь. Я быстро распрощался. Хозяин проводил меня до ворот: телогреечка-ватник, солдатским ремнем подпоясанная, шапка-ушанка, под ней — острый нос, небритые вваленные щеки, а глаза веселые.
— Про новоселье не забудь…
Он успел нырнуть куда-то в белесую невидь, предупредив: «Погоди…» — и мигом вернулся с гостинцем — вяленой рыбой: пяток увесистых синцов осеннего посола.
От Алешиного подворья до теплого моего жилья путь недолгий.
Добравшись, я сбросил в сенях тяжелую шубу да валенки. А потом налегке в натопленной хате чаевничал. И Алешиного синца разодрал, не выдержал.
Серебристая тонкая шкурка. Под ней — розовая нежная мякоть, текучий жир, невеликая грудка икры в ястыковой пелене, прозрачные боковины с тонкими ребрышками, головка, плавники, брюшина — все едовое. Ешь, смачно вгрызаешься, сосешь, причмокивая, и шумно нюхаешь, впиваешься глазами в сладкий кус. И жадно косишь на тот, что рядом.
Нет, это — не еда, не утоление плоти, но праздник ее.
Хороша рыбка у Алеши Батакова, а уж осенний посол и вовсе сказка.
Рахманы
Позднее утро. Майское солнышко поднялось высоко, мягко припекая. На хуторе — тишина. Утренние дела давно справлены: скотину на пастьбу проводили, отстряпались, отзавтракали и расползлись по дворам, огородам, левадам к тихим трудам.
Холмистая долина с лугами, попасами, малой речкой. В укрыве, на дне ее — горстка домиков вразброс. Ухабистая дорога стекает с холма и кончается. Дальше некуда ни идти, ни ехать. Тишина и покой. Весенние птичьи трели: скворцы заливаются, ласточки щебечут, стонут горлицы… Мир и покой. И потому голос человеческий, негромкая песня, звучит явственно:
Наши дни проходят очень быстро,
Все короче становится жизни путь.
Не пора ли вам, Василь Иваныч,
Потихонечку присесть и отдохнуть…
Песня негромкая. Но в тихом хуторском мире ее далеко слыхать. Жалостливые слова, звуки перекатываются и не сразу гаснут, отзываясь в окрестных холмах: «О-о-отдохну-у-уть…» Словно уже не слова человеческие, но глас Божий. «О-о-отдохну-у-уть…»
Старая Катерина — бабка не больно чувствительная — невольно к песне прислушалась, даже замерла посреди огорода и опустила мотыгу, вздыхая и искренне соглашаясь с певцом: «Взаправди… Пора бы и отдохнуть. Сколь лет-годов… А все — работа, работа. Огород, картошка, куры, поросята… Ни дня, ни ночи… Здоровья нет… А все надо, надо… Завтра помрешь, и ничего не надо…»
Певун смолк. Старая женщина, опомнившись, чертыхнулась: «Нечистый дух… Устал он. Смучился, бедный… Перину мять да подушки переворачивать». И принялась мотыгой орудовать споро, нагоняя упущенное. А потом вдруг — иная мысль, и мотыга — в сторону. «Это он чего-то уже упер, соловушка, упер и отнес, на самогон сменял, вот и запел». Старая Катерина в меру сил, вперевалочку, помчалась проверять свои запоры да живность: поросенок на месте, куры… «Цып-цып-цып…— сзывала она для пересчета хохлатое племя.— Цып-цып-цып…»
Тревога старой Катерины напрасной не была. Пел не кто-нибудь, а Васька Рахман, соседушка. «Не пора ли нам, Василь Иваныч…» Значит, уже сыт, пьян, нос в табаке, и потянуло на песни…
— Цып-цып-цып…
Одна, две, три, четыре, пять, шесть… И кочет на месте.
Значит, где-то еще ухватил. Вот и запел: «Не пора ли нам…» Невелик хутор, но есть еще чем поживиться.
Жилье Васьки Рахмана — на взгорке. Воронье гнездо, из которого все видать. Оно и по виду — воронье: почерневший от времени дощатый дом с прорехами да щелями, с разваленной кирпичной трубой, остатками крылечка. Когда-то такие дома колхоз строил для переселенцев, назывались они «сборными», их складывали, точно карточные домики, из дощатых с теплой начинкою щитов. Добрые хозяева такие дома сразу же обкладывали кирпичом, делали наличники, ставни, прочую пользу и красоту наводили, чтобы жить хорошо и долго. Рахманам, как говорится, красоту не лизать. Как влезли, так и сидят, словно в тине. Одно слово — Рахманы.
— Наши дни проходят о-о-очень быстро-о…
— Певун — на виду: мордастый, с пузцом Васька Рахман.
«На виду», потому что дом его — словно пуп. Голо вокруг: ни палисадника, ни забора, ни ледащего огородика, тем более — дерева ли, куста.
— Нас советская власть воспитала!— четко ответит любому Верка Рахманиха.— За заборами хорониться не привыкли! Кулаки нехай прячутся и подкулачники! А мы открытой душой ко всем людям!
— А где же огород, картошка?..
— Я по специальности не овощевод,— веско и с расстановкой ответит Васька Рахман.— Я — скотник, техникум имею и стаж. Предоставьте работу!
Он будто и вправду когда-то и где-то чему-то учился. А скотником работал уже здесь, на хуторе, при колхозе.
Славное было время — колхоз. Взяли и построили возле хутора не просто коровник, но огромный животноводческий городок. «Комплексом» его именовали.
Пылили из областного центра караваны грузовиков с кирпичом да лесом; понагнали техники, людей. И возвели белокаменный город под шиферными крышами. Привезли из Англии — морем, потом вагонами, а потом «скотовозами» — телок, быков: черная масть, могучее сложение — абердины, иностранцы, одним словом, элита.
Верка Рахманиха стала при скотине бумажки писать да щелкать на счетах. Супруг ее, Васька,— старший скотник, как имеющий опыт и образование. А еще там были: Сашка Рахман — родной брат Васьки, пара молодых рахманят, да еще старый Рахман — отец всего рода.
Это была жизнь… До сих пор ее вспоминают. Круглые сутки в рахмановской хате кипел в котле жирный мясной шулюм. Рахманята росли как на дрожжах; у них щеки от сытости лопались. Рахманы постарше не только от еды пухли, но и от пьянки.
Коля Бахчевник — поставщик самогона для хутора и округи — не знал, куда мясо девать: ездил продавать в станицу, тушенку производил, второй холодильник приобрел.
— Не пора ли, ох не пора ли…— задумчиво пропоет кто-либо из Рахманов. И вот уже: предсмертный мык, хрипенье. Мясной шулюм кипит. Коля Бахчевник ругается: «С вашим мясом…» Но куда он денется? Бизнес.
— Ох, не пора ли…
Породистые телята шли нарасхват, окрестные стада улучшая.
Весной да осенью, обычно за неделю до контрольных перевесов, когда колхозная комиссия считает поголовье да взвешивает: сколь мясов нагуляли — в такую пору по хутору пролетала весть: украли с фермы скотину.
Районная газета писала: «Угон скота с колхозных животноводческих ферм принимает катастрофические масштабы. Если раньше угоняли одну-две головы, то теперь угоняют десятками голов. Как рассказал нам старший скотник В.Рахманов, он лично два дня шел по следу угонщиков, но эти следы затерялись на Клетском тракте, где большое движение техники».
Васька Рахман и впрямь время от времени «ходил по следу» в поисках пропавшей скотины.
Сначала происходили сборы, у всего хутора на виду, словно по телевизору. Седлается лошадь; привязываются переметные сумы с харчами: дорога-то дальняя и, конечно, опасная. У любителя охоты, Володи Арчакова, берется ружье, в патронах — только «жакан» и «волчиная картечь». «Бить буду наповал безо всяких судов,— сурово обещает Васька.— А потом нехай сажают». Жена его, Верка, начинает рыдать: «Не езди! Нехай милиция ищет! У тебя дети… А ты за колхозное добро головы лишишься…» Но Васька суров и непреклонен. Он должен, обязан. Он — старший скотник.
Вот он удаляется. У всего хутора на глазах. «По следу пошел». Вот он скрылся за бугром. Теперь его не будет двое суток ли, трое. Злые языки плетут, что эти три дня Васька отлеживается на брошенном хуторе Найденов. Но мало ли что наплетут…
И вот по прошествии дней усталый Васька Рахман возвращается, рассказывает: «По следу шел. Весь признак: копыта, помет, подковы. На лошадях угоняли. И ведь чуток не успел. У Клетского тракта — колеса. Видать, погрузили и увезли. А тама…»
А там и вправду глухое дело: далекие хутора, лесистые займища, балки.
Время шло. Поголовье племенного скота на колхозной ферме уменьшалось и уменьшалось. А Рахманы множились, словно саранча, полоняя хутор.
Вроде недавно объявились они, из России переселенцы: старый Рахман с Рахманихой, два женатых сына. Отвели им два дома. Работы в колхозе хватало. Плодились рахмановские бабы словно крольчихи. И вот уже Верка Рахманиха стучит в свою могучую грудь:
— Как матерь-героиня имею права! Предоставьте…
Вначале она трудилась на хуторской почте. В те годы с куревом на селе было трудно, а в городах — с харчами. Выручали посылки. Но с приходом на почту Верки Рахманихи связь посылочная стончилась, а потом и вовсе на нет сошла. Васька Рахман курил ростовские да киевские табаки. Малые рахманята хрумкали печенье да конфеты. По адресам если что и прибывало, то лишь всякая дрянь с кирпичами для веса.
Закрыли почту. А Верка Рахманиха стала заведовать хуторской колхозной столовой, которую Рахманы тут же, словно мухи, обсели, роясь там и день и ночь.
Столовая кормила механизаторов, шоферов, своих, но больше из города приезжих, последних в ту пору было много: заводы помогали селу. А тут еще стройка развернулась: животноводческий комплекс.
Веселая разбитная Верка приезжим оказалась по нраву; мужик ее был всегда готов добыть самогон, разделить компанию, душевно пропеть: «Наши дни проходят о-очень быстро-о…» — «Не пора ли, ох не пора ли!» — с готовностью подхватывали приезжие и свои. Но голос Васьки Рахмана звенел наособь, в нем — душа и слеза: «Потихонечку присесть и о-отдохнуть!»
Пели и гуляли на славу, не замечая, что столовские харчи все жиже и жиже. А если кто и замечал, то Верка Рахманиха ответить умела.
Но стройка закончилась, столовую прикрыли. Зато торжественно открыли животноводческий комплекс: белокаменный город под шифером; могучие мясистые скотиняки по имени «абердино-ангусы» прибыли из далеких краев, чтобы плодиться и множиться.
Многодетных родителей на комплексе работой обеспечили в первую очередь. Верка на счетах щелкала, Васька — старший скотник. Рядом — брат Сашка да молодые Рахманы. Славная была жизнь. Черные как ночь, могучие «абердино-ангусы», под ними земля дрожала, до тонны весом быки. Знаменитое «мраморное» мясо… Его на базаре вмиг с прилавков сметали. Коля Бахчевник за самогон принимал безропотно. Считай, валюта. За телятами — очередь. Втихаря, конечно. По Веркиным отчетам рождаемость у коров катастрофически падала. «Климат,— разъяснял Васька Рахман.— Тут не Англия». Да еще постоянные кражи. Дважды в году тому же Ваське приходилось «идти по следу», разыскивая угонщиков скота.
Но жить было можно. Рахмановские ребятишки росли мордастыми, крепкими, быстро и много плодились — не в пример привередливым «абердинам»,— занимали пустующие хуторские дома.
А потом вдруг все очень быстро сошло на мыльный пузырь: колхозной бригаде пришел конец, остатки скотины угнали в станицу, закрыли и растащили магазин, клуб, кузницу. Даже вечно ржавевшие железяки исчезли с Лысого бугра.
На хутор пришла другая жизнь. Поначалу вздыхали и ждали перемен, рассуждая: «Без хлеба город не усидит и без мяса… Остальцы доедят и запоют матушку-репку… Все возвернут: колхозы, совхозы…»
Но жданками сыт не будешь. Молодежь посмысленей подалась на все четыре стороны, даже на Север, там деньги хорошие.
За речкой приезжий Коньков занимался бахчами, ходили к нему полоть, собирать арбузы, дыни. Держали скот, птицу. Попасов и сена теперь — через край. И конечно, Дон-батюшка… Ловили рыбу зимой и летом. А по весне, на нерестовом ходу, ночами не спали. Рыба и прежде, и нынче — в цене, тем более донская.
Словом, от голоду никто не помер. Даже Рахманы. Хотя, как и прежде, их дом — словно ветром обдутый: ни забора, ни скотьего сарая, ни огорода. Вместо крылечка лежит на шаткой подставе железом обитая дверь бывшего хуторского магазина. На ней: «Часы работы… Перерыв…» Добыча…
«Рахманское иго» — так определила новую хуторскую напасть грамотная Хомовна.
У бобылки Полины украли ночью всех уток. Она их целое лето пестала, надеясь с мясцом зиму прожить. Пух и перья разносились по хутору от рахмановского гнезда.
У одинокой Ксени сначала пять кур забрали из курятника, а потом и остальных, вместе с петухом, уже из чулана. Даже там не уберегла. У Хомовны… У Нюры-татарки…
Рахманское иго… С утра до ночи по хутору бродят, словно бурлаки, выглядывая поживу. Сопливые и те на ходу цыпленка ли, утенка упрут.
Хозяйка спохватится, бежит к Верке Рахманихе.
— Откуда у вас цыплята?
— От нашей курицы.
— У вас и карги сроду не было!
— Детвора… несмысленые…— нехотя сдается Верка.— Поиграться взяли.— И тут же в атаку: — Какие вы все ненавистные! Поигрались бы и принесли.
На воде, на Дону, где полхутора кормится, Рахманово племя тоже не дремлет: угонят лодку, снимут вентерь ли, сеть. А если не упрут, то уж обязательно проверят чужую снасть прежде хозяина, заберут рыбу. Тут же задешево продадут каким-нибудь заезжим, городским, и — запели: «Все короч-и-и становится жизни путь…»
Вот и нынче. Майское позднее утро. Солнышко хорошо пригревает. Тишина и покой. Голубое небо. Зеленая степь, холмы. Меж холмами, в укрыве, людское селение — хутор.
Наша жизнь проходит очень быстро.
Все короче становится наш путь.
Не пора ли нам, ох не пора ли
Помаленечку присесть и от-дохнуть…
Поет Васька Рахман с душой и слезой. Не захочешь, поверишь.
Вот и старая Катерина уши развесила. Опомнившись, кинулась проверять, все ли на месте: поросенок, куры, погреб, сараи. Проверила, в огород вернулась, взялась за мотыгу, торопясь и досадуя: сколько времени зря потеряла. А ведь картошку нынче — хоть умри!— нужно окучить. Завтра — некогда; рассада не будет ждать. И хату нужно мазать, белить. Скоро Троица.
А Васька Рахман смолк. Видно, пригрелся и задремал. Хорошо в майскую пору косточки греть в затишке, на мягком припеке.
Легкая рука
Телефон на всем хуторе — разъединый, в этом дворе у Тимофея да Валентины. Вот и идут. Сосед Володя — пришел позвонить, а в эту пору у хозяйки забота: курица-клуша высидела цыплят. А один из них — никудышный: хроменький, на вид ледащий. Валентина принесла его в дом, пожаловалась:
— Гоняют за ним, клюют. И угреться под клушей толком не может. Выпихивают.
Она держала цыпленка в ладонях, отогревая, прижаливая:
— Маленький… А его бьют… А он и так едва пекает… Чего ж с тобой делать, мой хороший? В коробку тебя да грелку. Может, оклемаешься.
Сосед Володя сказал как отрезал:
— Сдохнет. Кохай его не кохай.
И вправду, когда много цыплят, они вместе бегают, греются, сбившись кучкой. А одному — трудно. Тем более хворому.
Добросердечная Валентина это понимала не хуже соседа, но все равно жалко. И тут взгляд ее остановился на кошке, которая в своем укромном углу, возле печки, кормила котят. Котятки лишь вывелись, еще слепые, все трое в мамку: белыми, желтыми и черными пятнами — трехцветные, говорят, к счастью. Потому и оставили. Люди разберут.
Каким-то безотчетным движением, цыпленку ли сострадая, котятам завидуя, Валентина подошла к дружному семейству, присела возле него и выпустила из рук цыпленка.
Птенец шагнул раз и другой, пискнул и потянулся ближе к теплу кошачьему. Мурка поглядела на него прищуренно и, что-то поняв или ничего не поняв, просто услышав жалобный писк, мягко пригребла птенца лапой поближе к себе. Птенец приник к ее горячему брюху и даже под лапу залез: там теплей. Пискнув еще раз, уже потише, он замер, угреваясь.
Сосед, собравшийся уходить, остановился, сказал усмехнувшись:
— Сейчас она позавтракает.
— Наша Мурка хорошая…— возразила ему хозяйка.— Она маленького не тронет. У нее свои маленькие. Она их жалеет. Она и чужого приголубит. Для всех — мамушка…— негромко объясняла ли, внушала Валентина, не поднимаясь с корточек и глаз не отводя от счастливого семейства.
Котята кормились, порою теряя сосок, и тогда, попискивая, цыпленок дремал в тепле. Кошка смежила глаза, наслаждаясь своим счастливым материнством.
Сосед уже от порога вернулся, поглядел и сказал:
— Приголубит. Это она наелась и спит. А как проснется — хрум-хрум… Одни перушки останутся…
Валентина поднялась, мягко, но возразила:
— Она хорошая, наша Мурка. Она добрая.
Но Володя был, что называется, с характером. Голова на плечах и варит.
Еще раз скептически оглядев кошачье-цыплячью идиллию и трезво все оценив, он постановил окончательно:
— Сожрет. Это она спит, не сообразила. Проснется и сожрет.
Последние слова отчеканил и ушел. Все было ясно.
Хозяйка, спорить не желая, лишь вздохнула, негромко повторив прежнее: «Мурочка, умница моя… Она маленьких жалеет… Она его не обидит…»
Покатился день дальше со своими делами, заботами. Годы у хозяйки уже не молодые и здоровье известное: хвори да болячки. А заботы все те же: скотина, огород, птица, дом, пусть невеликое, но семейство, а тут еще — летняя пора. Долгий день, но и его не хватает. Вот и торопишься. Всю жизнь.
Меж делом хозяйка нет-нет да заглядывала в дом: живой там цыпленок? А с птенцом ничего не случилось. Он отоспался, оживел и, выбравшись из теплого Муркиного плена, стал громко пищать, требуя еды. Валентина принесла ему на блюдечке свежий творожок да крохи рубленого яичка. Цыпленок наклевался и снова к Мурке — под бок.
Пришел с огорода хозяин, поглядел, посмеялся:
— Вот это номер…
А ближе к вечеру появился Володя-сосед.
— Позвонить надо…— сказал он, а глазами — к печке, где Муркино логово. Самой кошки не было, но вповал на мягкой подстилке там дремали котята и меж них желтый цыпленок.
У соседа глаза полезли на лоб.
— Не сожрала еще?..— спросил он.
— Как видишь,— ответил хозяин.
— Сожрет,— твердо сказал сосед.
— Поглядим…
— А я говорю — сожрет. Потому что это — зверь. Ты понимаешь? Зверь! У него природ такой: обязан сожрать. Потому что — положено. Жрать! Мышей, птицу всякую!
— Мышей она хорошо ловит,— похвалил хозяин.— И воробья не пропустит. А мышей возле закрома каждый день душит. Молодец, Мурка.
И, будто услышав зов, объявилась кошка. Поуркивая, она облизала котят, словно будя их к очередному обеду. И улеглась, подставляя тугие соски. Котят дважды приглашать не пришлось. Мамкины титьки отыскав, они уцепились за них и принялись дудонить. Детское ремесло… Цыпленок же, потревоженный, поднялся, пискнул и тоже принялся за еду, глухо постукивая еще мягким клювом по блюдцу. Крошеное яичко, творог, а потом и воды попил, как правдашний, задирая крохотную головенку.
Соседу это не нравилось.
— Сожрет, точно сожрет,— твердил он.— Утром вот поглядите.
Наутро цыпленок никуда не делся, мирно проспав возле новой мамы. И пошло-поехало: греется, спит возле кошки, забираясь под лапу для тепла. Отоспится, пищит, бегает, клюет, как положено, яйцо, творог, пшенцо, рубленую зелень, пьет воду. Набегается, снова — под теплый бочок.
Сосед Володя стал приходить на дню три раза. И с порога, не здороваясь, шел прямо к печке.
— Не сожрала?
— Целый…
— Должна сожрать. Обязана,— твердил он.— Потому что — зверь…
Хозяйка пела свое:
— Мурочка… Она у нас умная. Она маленьких не обижает. Мама — она мама и есть.
У хозяина свое объяснение:
— Легкая у Валентины рука… Вот она ей сказала, под бок подпихнула, и Мурка послушалась… Легкая рука. Недаром к ней бабы идут цветок отсадить, чтобы легкой рукой, лучше примется. Это еще моя мамка-покойница заметила.
Сидели мужики, глядели, словно на чудо. Оно и впрямь чудо: кошка лежит, развалясь, котята сосут ее, и тут же — цыпленок, под лапою, дремлет.
Соседу Володе эта мирная картина была — нож вострый.
— Она же права не имеет! У нее — природ! Зверь… Мясо ей, кровь нужно… И она обязана сожрать! Просто обязана!
Но то были лишь слова. На деле — иное.
На третий ли, четвертый день натурный сосед придумал наконец объяснение.
— Она умом рухнулась! Старуня!— крутил он пальцем возле виска.— Жила-жила и все выжила. Ничего не соображает. У старых людей так… Значит, и у кошек.
Он сразу успокоился и наперед предсказал:
— Котята подрастут чуть-чуть, они его враз сожрут.
— Не сожрут,— заступилась Валентина.— Он теперь у них вроде — братушка…
— С костями этого братушку… Вот поглядишь. Зверье! Природ такой! Понятно?!
Но и здесь сосед пальцем в небо попал. Время шло, росли котята быстро, а рядом с ними цыпленок помаленьку оперялся, хромать перестал. Они вместе играли, хотя эти игры были странными: котята, цыпленок. Вроде как не приложишь: кошка и птица. Но у них получалось. Наверное, потому, что — детвора. Цыпленок порой пищал, отбиваясь, и не в шутку больно клевался. И тогда пищали котята. Но все кончалось миром и сном вповалку. Скоро котята с цыпленком выбрались во двор, там росли. Время летнее. И для всех это стало привычным.
Кроме соседа, который в конце концов не выдержал и решил проверить, как говорится, на собственном опыте. Как раз у него клушка высидела цыплят. Он взял одного, отчаянно запищавшего, и сунул под нос своей кошке. Она у него обходилась без имени. Кошка да кошка… А нынче была с кошененком, с одним. Остальных потопил. Цыпленка ей сунул под бок, приказал:
— Воспитывай. Ясно тебе? Ясно?!
Кошка ответить не могла, лишь жмурилась. Цыпленок рядом пищал.
— Гляди не трожь!— серьезно предупредил кошку Володя.— Голову оторву.— И отправился по делам.
Когда он вернулся, от цыпленка и духа не осталось. А кошка лежала, кормя своего котенка, мурлыкала.
— А где цыплак?— с порога спросил Володя и начал по углам шарить. Но не было ни следа, ни писка. Понятно, что сожрала. Ни пушинки, ни перышка… Да какие у него перышки, лишь вывелся. Глотнула — и нет.
Сожрала. Это был факт очевидный. Хотя какие-то сомнения оставались. Ведь прямых доказательств нет! И еще одно: может, не поняла? Может, надо было посерьезней внушить?
Володя решил еще раз проверить. Еще одного цыпленка забрал у клушки. Принес. Комочек. Тепленький, щуплый. Один лишь писк.
Он держал цыпленка в руке, под нос кошке сунув, и объяснял:
— Не жрать. Поняла? Не жрать его, а воспитывать. А если сожрешь, я с тебя шкуру спущу. Ты меня знаешь. Засеку до смерти. Или повешу. Поняла.
Кошка смотрела на хозяина и вроде все понимала, зная тяжелую руку его.
— Вот так. Вторая проверка. И последняя!
Володя сунул цыпленка кошке под бок. Поглядел. Все вроде шло хорошо. Цыпленок пищал. Кошка лежала, жмурилась.
Но сторожить не будешь. Дела ждут. Он ушел. Скоро вернулся. Открыл дверь, кошка, шмыгнув под ногами, умчалась прочь. Цыпленка, конечно, не было. Сожрала. И, между прочим, правильно сделала. Потому что — зверь. Но вот за то, что хозяина не послушалась, за это, конечно,— смерть. Володя ружье со стены ухватил, оно всегда под рукой, снаряженное. И прямо с крыльца бабахнул, дуплетом. Взлетели испуганные куры, поднялась пыль столбом, собаки залились. На весь хутор — содом. А кошка улизнула. Конечно, до поры. У Володи на это дело рука легкая.
Тюрин
Время вечернее. Издали слышно, как гудит трактор Тюрина, прибиваясь с работы к дому. Они на хуторе единственные колхозники: Тюрин и маленький колесный трактор его. Вот он с горы катит, погромыхивая прицепной тележкой. И напрямую к нашему двору. У ворот — остановка, Тюрин из кабины вылез, хозяина зовет:
— Сашко! До мэнэ ходи!
А во дворе — лишь я, гость заезжий, но не больно редкий, и потому в руки мне — бутылка и просьба: «Постановь в холодильник. Я зараз приду».
Тюрин — по говору и виду — запорожец с картинки: росту невеликого, сложения плотного, лысая голова — круглый арбуз, глаза — хитрая прижмурка и, конечно, «вусы». Балакает «по-хохлячьи»: «До мэнэ… До тэбэ… Малэнький…»
Бутылку самогона с бумажной затычкой отправил я в холодильник. Дело понятное: Тюрин где-то «скалымил», но домашних своих решил наказать за грех вчерашний. Семейка у него еще та: что жена, что сыночки… Так и глядят, чего бы из дома упереть да пропить. Глаз да глаз за ними. Вчера Тюрин еле успел. Свинью они сторговали заезжим людям, поменяв ее на сахар, муку и, конечно,— водку. Тащили, как муравьи. И уже свинью грузили в прицеп. А тут не в свою пору вдруг объявился Тюрин. Видно, подсказало сердце. Он мигом торг поломал. Да еще кое-кому костыля по горбу досталось. Все же — свинья, а не курица.
К тому же нести бутылку домой — самому на понюх не достанется. А здесь, во дворе моего приятеля, на воле, под развесистым кленом — стол. Хозяева — люди свои. Потихонечку выпивай да балакай. Чего еще надобно?
Даже Валентина — жена моего приятеля, которая пьющих не жалует, Тюрина привечает.
— Коля — молодец,— хвалит она его и жалеет.— Он — мученик, наш Колюшка…
— Такая свинья…— сразу вчерашнее вспоминает Тюрин.— Таких поросят приносит. И себе оставляем, и людям продаем. Золотая хрюша, кормилица. На нее надо молиться, а они ее за так отдают…
— Слава богу, обошлось,— успокаивает его Валентина.— Не переживай. Ты ныне весь день на тракторе, наработался, щей тебе разогрею.
Тюрин довольно жмурится, только что не урчит. Его бутылочка охладилась, пока он трактор к своему двору отгонял, обмылся да рабочую спецовку сменил на легкую рубашку.
— Щи — это хорошо,— причмокивает Тюрин.— А я пока трохи выпью с ребятками.
«Ребятки» — то мы с приятелем, седоклокие. Дело вечернее. Почему не посидеть за столом в хорошей компании.
Выпив стопку, Тюрин разглаживает усы, а потом истово хлебает горячие щи. Хозяйка сидит рядом, подперев рукой полную щеку, и хвалит едока:
— Молодец, Коля. Рюмочку выпьет, хорошо покушает. Все бы так, по-умному.
Тюрина от еды пот прошиб. Он объясняет причину своего аппетита:
— Я с собой на работу брал харчей. Сала и хлеба. А подъехал с утра в бригаду, хлопцы там похмеляются, а закуски — ни у кого. Тут мое сало и подмели.
Тюрину уже немало годков, под семьдесят подпирает. А на вид еще крепкий. Работает в колхозе. Один со всего хутора. Остальных сократили да уволили, потому что от самого колхоза, в котором прежде было шесть хуторов, а земли — за день не объедешь, от прежнего теперь остались рожки да ножки. Но без Тюрина нельзя. Он — лучший сварщик в колхозе. А нынче все тракторы да комбайны — старье и утиль; Тюрин при них — доктор Айболит. Колесный трактор у него — персональный. Тележка — на прицепе. Там — сварочный аппарат, баллоны. Вот и катается зимой и летом.
Нынче жаркий июль. Уборка. Хотя чего теперь убирать? Это прежде хлебные поля подступали к самому хутору. Нынче они далеко.
Тюрин щи дохлебал, взопрев. И тут же на столе объявилась просторная сковорода с рыбой. Поджаренные до розовой смуглоты ломтики тонули в желтизне и бели яичной мешанки, щедро сдобренной зеленью лука, петрушки, укропа. А рядом, в миске, крошево помидоров, огурцов, болгарского перца, сладкого лука-«каба». Да еще — кислое молоко, сметана, пресные пышки.
Хозяйка присела рядом, сказав:
— И мы сразу поужинаем…
— А я не можу…— округляя глаза, отказался Тюрин.— Щей нахлебався… во…— показал он ладонью под горло.
— Ешь, Коля, ешь. Стопочку выпей и поешь. Ты — человек рабочий, тебе надо.
— Ну если со стопочкой…— согласился Тюрин.
Ему нравится такое застолье: хлебосольное, неспешное, без шума и ругани. И бутылка на столе словно не убывает. Хозяйка спиртного в рот не берет. Хозяин порой, для компании, лишь пригубит.
Да еще за столом — гость, человек заезжий, ему можно рассказать то, что другим давно уже известно. А рассказать Тюрин любит.
— Работать буду еще двадцать годов!— решительно заявил он.— Двадцать!
— И все бесплатно…— подсмеялся мой хозяин.— На майские праздники пятьдесят рублей отвалили. Барыш!
Но Тюрин его слушать не хочет, потому что речь — для меня.
— Двадцать лет буду работать, потому что…— загнул он палец.— Как только я уйду, мой заменщик… Я знаю, кто на мое место лезет. Он за месяц разобьет трактор и всю сварку погубит. Как тогда бригада будет работать?— вопрошал Тюрин, обводя нас, внимательных слушателей, строгим взглядом.— Они же всякий день кувыркаются, технику бьют, я их чиню. А если я бы кувыркался вместе с ними? Кто бы варил? А мой заменщик в первый же день закувыркается. Вот все и кончится. Так что надо работать.
Естественно, мы согласились: «Надо».
— Другое дело…— продолжил Тюрин, загибая второй палец.— Я уйду, и тогда хутору конец.
Приятель мой — поперечник, он любит справедливость и потому возражает:
— Ну да, помрем без тебя. Пуп земли!
Жена его, человек сердечный, всегдашняя заступа:
— Вечно ты… Коля правильно говорит. Это у нас — машина. А другие?..
— Про других моя балачка…— подхватывает Тюрин.— Вы — не пропадете. Федя не пропадет, у него — тоже «Нива», у Кравченки «козел». И все. Кому — в станицу, кому — в район. В магазин, хоть раз в месяц, всем надо. Вермишели, крупы набрать. А зубы лечить, в больницу?
Справедливые речи. От хутора до асфальта в станице — пятнадцать верст. Большую половину из них каждый день можно одолеть на тюринском тракторе: в кабине, на тележке. Тюрин никому не откажет, довезет до бригады. А там и станица — рукой подать: пешком ли, другой попуткой. Иного транспорта нет. Ребятишек в школу порой возят, но лишь посуху, в сентябре. А потом начинается грязь, гололед, снежные заносы. И тогда лишь трактор Тюрина потихоньку пробирается вечным путем своим. Он хлебца печеного привезет. И на кладбище едут в труской тележке, за трактором. Привычно.
Конечно, есть и третья причина: Тюрин — единственный кормилец своей немалой, но бестолковой семьи. Там сыновья — «бурлаки», там дочка с зятем, хоть и отдельно живут, но кормятся возле папки; там — внуки; там нет надежи даже на хозяйку. Но об этом — молчок. Все и без слов понятно, и нечего душу травить.
Застолье длится до темноты. Хозяева отлучаются по делам. Встретить скотину из стада, напоить, подоить, с молоком управиться. Иная живность требует вечерних забот. Утки да куры. И собак надо покормить, и кошек. Тоже своего просят.
Лишь мы с Тюриным за столом неотлучно, бутылка понемногу пустеет. Тюрин сыт и немного хмелен, всем на свете доволен. Слушаю его журливые речи, многие из которых слышал не раз. Про то, как на херсонской судоверфи варил он корпуса боевых кораблей и на каждый шов ставил личное клеймо. Ответственность! Они и сейчас, может, плавают, тюринские крейсера, нас охраняют. И про целину: как жили в палатках, как строили, как пахали. Рассказов много. Долгая жизнь. Тюрин стрижется коротко, «под машинку», но голова — седая. К вечеру устает. Будто и крепок еще, но годков немало. За шестьдесят далеко-далеко. Долгая жизнь. Есть что вспомнить. Тюрин балакать любит. Я слушаю, знаю, что сейчас он расскажет еще одну повесть: про себя и знаменитого директора Штепо.
Вот налита последняя стопка. С чувством выпита. Тюрин глядит на меня растроганно и благодарно. Маленькие глаза подернуты влагой. Лоб морщинится. Там, в круглой лысой голове, созрело и расцветает счастливое. Вот оно растекается, разглаживая морщины.
— Было дело…— начинает Тюрин.— Штепу, конечно, знаешь?
Киваю головой. Как не знать знаменитого Штепо — дважды Героя Труда, знаменитого директора прославленного на всю страну совхоза. Хоть и в прошлом все это, но память есть.
— Они у нас пахали в колхозе. Выручали, как передовики отстающих. А я лишь приехал сюда, начал работать. Они на подмогу тремя звеньями прибыли. Тракторы «Кировцы». Пахать круглосуточно. Лишь меняются трактористы, прямо в борозде. И веришь, у них не заладилось. Бегунок. Такусенька штучка… Тьфу!— показывает он руками малое.— А сломалось — стой. И «Кировец» стоит. Махина! Надо везти за сто километров, на центральную усадьбу, в совхоз. Делать: менять бегунок на новый. И снова сюда. Сутки простоя. Ты понимаешь?!
От былой благости на лице Тюрина не остается и следа. Лишь — боль и тревога.
— И каждый день, каждый. Отвезут, заменят, а он снова ломается. Простой на простое. Неделю мучаются. Ты понимаешь?!
Я понимаю. Серьезное дело. И серьезный рассказ. Даже сейчас, через много лет, Тюрин переживает. И это понятно: осенняя пахота, могучие «Кировцы» с мощными плугами стоят из-за какой-то мелочи. Но стоят! А должны круглые сутки пахать. Где план? Где график? Райком партии каждый день «шею мылит».
— Походил я вокруг, подумакал…— Тюрин похлопал себя по выпуклой лысине: вот этим, мол.— Подхожу до бригадира, говорю ему: давай попытаемо. И обсказал свою мыслю. Он руками машет: «Отстань! Заводское летит! А ты из дерьма — конфетку…»
— Попытаемо…— говорю ему.
Стемнело. Электрическая лампочка под жестяным колпаком освещает дощатый стол, остатки ужина. Маленькие глаза Тюрина горят. Речь его звучит тише, медленней, капают слова.
— Беру. Болт. Обыкновенный. Обрезаю. И начинаю головку болта обваривать. Потихоньку. В монолит. Ты понял? Ни боже мой, не спешить. Ровно и медленно. Быстро робят, слепых родят. Круг за кругом. Не торопясь… Бригадир поглядит и уйдет. Чего-то спросил, я молчу. Мне нельзя головы поднять. Медленно, ровночко, чтобы проварилось и взялось монолитом. Но время засек. Один час сорок восемь минут. Готово. Кладу остывать. Тоже пусть потихоньку. Воды — ни боже мой. Даже капли. Перекал. Напряжение. И — хрустнет.
Курю. Три штуки зараз. Уши-то опухли без курева. Остыло. Говорю бригадиру: «Становь. Будет работать. Гарантия». Поставили. Пошел плуг в борозду. Пашет и пашет. Круг, другой… Бригадир глядит, хмыкает. А тут подъезжает другой трактор. Тоже бегунок полетел. Обрезаю болт. Прогрел. Начинаю обваривать. Потихоньку. Ни в коем случае не спешить. Ты понял? Монолит! Чтобы ни пузырька, ни трещины… Обвариваю ровненько в одну массу. Один час сорок восемь минут. Готово. Пусть остывает. Сел курить. Еще один трактор летит. Бегунок! Покурил. Начинаю варить. И так — до часу ночи. Тут и уснул, на полевом стану. Встал утром. Все мои бегунки на плугах работают. А заводские — летят. Все заменил заводские бегунки. И кончился простой. Пашут, пыль столбом. И план дают, график, райком доволен.
Приезжает Штепо. Ему все доложили. Я как раз лемеха навариваю. Подъезжает белая «Волга». Значит, начальство. А мне какое дело, варю и варю. Вижу: подходит Штепо, здоровый такой, ну, ты его знаешь. Я закончил, снял маску сварочную. Он говорит: «Давайте знакомиться. Я — Штепо, директор». Руку пожал. Крепка така рука. Достает конверт. Это, говорит, премия. Ну, говорю, благодарствую. Он опять не уходит. Говорит: «Переходите ко мне в совхоз, на работу. Про наше хозяйство, наверное, знаете». Я плечами пожал, говорю: конечно, передовики. Но я слыхал, что вы берете людей до тридцати лет, а мне пятьдесят. Ничего, говорит, переходите. Сразу даю квартиру в двух… Этих самых…
Тюрин запамятовал, я подсказал:
— В двух уровнях.
— Вот-вот… Два этажа.
Про «уровни» — это уже тюринские фантазии. У Штепо в его совхозе и сейчас стоит так называемый «поселок специалистов» — просторные дома со всеми, как говорится, удобствами. Но этажей ли, «уровней» там нет.
Но все это — мелочь, потому что главное — правда.
— Я трохи подумал, говорю Штепе: два месяца всего здесь работаю. Приехал, дали хатку, работу жинке. Как-то нехорошо: взять и кинуть. Вроде не по-людски. Штепо мне отвечает: «Молодец. Но запомни: надумаешь, приезжай. Возьму, дам квартиру в двух…»
— Уровнях,— снова помогаю я.
— Да, да, они самые. В любой, говорит, момент.
Милая сказка былых времен, сердцу дорогая, кончилась, и Тюрин будто гаснет. Вздыхает, морщится, на глазах стареет. Притомился. Долгий день позади, долгий вечер.
Поздний час. За холмами догорела заря, оставляя нежную прозелень. Сумерки густеют.
Тюрину вставать со скамейки не хочется. Он устал. Не молоденький, а от зари до зари на ногах. Лень подниматься; лег бы тут и уснул. Но Тюрин уйдет домой, он не из тех, кто на чужих дворах валится. Покряхтывает, набираясь сил.
Из темноты, со стороны скотьего база, гавкнул пес; забелелось призрачно, и объявилась малая девочка в светлом платье.
— Деда!— подбегая к Тюрину, закричала она.— Баба драников напекла! Вкусные!
— Что за драники?— от кухни, из темноты спросил мой приятель.— Ваши, что ли? Хохлячьи? А? Маринка?!
— Наши, Сашко, наши!— живо отозвался за внучку Тюрин.— За уши не оттянешь.
— Деда, пошли!— торопила внучка.— А то они все поедят!
— Так положено…— подсмеивался мой приятель.— В большой семье рот не разевай.
Они уходят через скотий баз, Тюрин и внучка; хозяин провожает их, чтобы запереть скотьи воротца. Они идут, обговаривая дела завтрашние и те, что впереди: надо привезти соломы, надо притянуть — тоже тюринским трактором — несколько хороших лесин из прибрежного займища, на дрова, надо… Много дел.
Хозяин запирает баз, гости уходят. Белое платье девочки недолго светлеет во тьме и размывается. Лишь детский голос звенит и звенит, разбивая вязкую тишину засыпающего хутора и округи: просторной долины, пологих холмов и холмов, глубоких балок, заросших шиповником да тернами. Время глухой поры. Сторожкий ночной зверь голоса во тьме не подаст. Лишь гукнет порой нелюдимый сыч. Да малая степная речушка, обсохшая за лето, ночь напролет будет журчать и журчать на каменистых перекатах.
Потом запоют петухи. На белой заре выйдет из дома Тюрин. Трактор заведет и поедет, погромыхивая тележкой, через бугор, в поле. Нынче — уборка. Он в хуторе один колхозник и будет, по его словам, еще двадцать лет работать.
В полдень
Лето у нас — жаркое и даже больше того — знойное. В полуденный час порою там и здесь зыбится марево. И потому, когда однажды на хуторе знойным полуднем сидели мы в тени за столом и объявился вдруг молодой человек в белой рубашке и галстуке, в черных брюках и черных же башмаках… Когда он, будто с неба упав, открыл калитку и сразу же начал речь, ослепив белозубой улыбкой: «Здравствуйте! Сегодня наша фирма проводит юбилейную распродажу со значительной скидкой!» Я глазам не поверил. Может, жаркое марево?..
Нас было трое: хозяйка двора Валентина, супруг ее Тимофей — мой товарищ, да я — гость нередкий. Только что отобедали. Сидели, разморенные едой, жарой. И вдруг:
— Разрешите предложить вам товары со скидкой! Только сегодня, наша фирма, в честь юбилея…
Я не верил глазам.
В Москве — понятно. От них прохода нет, от этих молодцов: «Здравствуйте!— с белозубой улыбкой.— Сегодня наша фирма в честь десятилетнего юбилея проводит распродажу со скидкой…» И норовят всучить какую-нибудь ерунду. «Спасибо, спасибо…» — обычно говоришь им и — ходу.
В Волгограде, по летнему времени, та же песня: «Сегодня наша фирма…» Ребятки — на подбор: белая рубашка, галстучек, черные брюки.
Знаем мы эти «скидки»: море словес, замажут глаза и всучат ненужное и втридорога. Но это — Москва, Волгоград. А здесь… Я даже головой мотнул. Может, придремалось, пригрезилось. Далекое глухое селенье. Сюда и дороги нет, одни лишь колдобины. А он — вот: из жаркого марева ли соткался, а может, с парашютом… Белая рубашка и галстук, аккуратный пробор на голове, черные брюки. Тут в шортах да шлепанцах на босу ногу жарко. А он…
— Только сегодня наша фирма в честь юбилея предлагает…
Глядели на чудо-гостя, глазам не веря. Да что мы. Сторожкая собака Пальма от удивления пасть разинула и замерла.
На правах человека городского, виды видавшего, я проговорил всегдашнее:
— Спасибо, спасибо… Ничего не надо…
Но молодой человек уже выкладывал из объемистой сумки сияющие наборы столовых ножей с надписью «Золинген», яркие, пластмассовые терки, шинковки, что-то еще…
Мой товарищ глядел на этот развал снисходительно. Ему ведь и вправду в хуторском житье ничего не нужно. Все есть. К тому же он — тоже городской человек, а еще — скептик, не любит обманов.
— Золинген, Золинген…— проговорил он снисходительно.— Это все — брехня, лишь хлеб резать. А вот я ножи делаю…
Товарищ мой — человек рукастый, он все может. И ножи. В бытность заводскую и теперь. Из настоящей стали, с наборными пестрыми ручками. Столовые ножи, секачи и, конечно, рыбацкие.
— Я такой Золинген…
Он любит рассказывать. Что и понятно при хуторском житье. Тем более новый человек объявился.
— Нет, нет!— горячо возразил ему нечаянный гость.— Наша фирма продает только качественный товар! Сегодня, в честь юбилея…— Он выкладывал и выкладывал, опорожняя объемистую сумку.
Простецкий, некрашеный обеденный стол радужно засиял красочными этикетками, никелем и пластмассой.
— Аппарат предназначен…— привычно тараторил наш коробейник.— В магазинах его цена двести рублей, наша фирма в честь юбилея предлагает…
Гость улыбкой сиял, словами сыпал, убеждая. Но в какой-то момент, по нашему равнодушию, он, видимо, начал понимать тщету надежд своих, стал гаснуть.
И в самом деле, не нужны были в этом дворе ни ножи, ни терки, ни прочее. У хозяев — своя машина, в город часто наведываются. Да и чем завлечешь людей пожилых и поживших? Все это, кажется, поняв, торговец сник и смолк.
— Мое дите…— пожалела его сердобольная Валентина.— Ты откуда взялось? По такой жаре. Садись в тенек. Молочка тебе кисленького или холодного кваску? А может, чего похлебаешь?
Молодой человек послушно уселся, квасу попросил, но выпил немного, на вопрос ответив:
— Нас привезли. В ту деревню, а меня в эту…— И завел было прежнюю пластинку: — Наша фирма в честь юбилея…
Но хозяйка его остановила:
— Фирма твоя… Мучают детей по такой жаре. Кто у тебя чего возьмет? Тут одни старики. Ни у кого и денег-то нет.
Хутор и вправду глухой, доживающий. Колхоза нет и работы — никакой. Лишь — пенсии, рубли да копейки на хлеб. Кому тут нужны ножи золингеновские. Галди — не галди, хоть разбейся, не всучишь.
Молодой человек квасу выпил, и сразу его пот прошиб. Побегай по такой жаре да в такой амуниции. Лицо его, волосы были припудрены пылью. Белая меловая пыль покрывала рубашку, серея на вороте; брюки припорошены, черные башмаки и вовсе.
Но рассиживаться он не стал. Поднявшись, собирал и складывал в сумку свои товары.
— Погоди!— остановила его хозяйка, поднимая глаза на мужа.— Давай хоть какую-нибудь турунду купим.
— Зачем тебе?
— Дите в такую даль мучалось, по жаре… Начальство ругать будет, что не продал. А чего тут продашь, кому? Ты у кого уже был?
— Крайние три дома прошел, но там…
— Старый Шахман, Шура… Из них покупальщики. Лишь ноги бил… Не сепети…— попыталась она остудить нетерпение молодого торговца.— Может, рыбки покушаешь? Целый день на ногах…
— Нет, нет!— отказался гость.— Надо обязательно все дома обойти. Обязательно должен продать. Нас специально…
Он уже был готов к дальнейшему бегу, к движенью по дремавшему в летнем зное хутору, где его вовсе не ждали. Разве что дворовые собаки?
— Погоди…— снова остановила хозяйка с приговором.— Мучают детей. Погоди… Чего ноги зря бить. Давай подумакаем. К куме Шуре либо зайти?— посоветовалась она с мужем.— Они двух овечек продали. К Володе? А к Зарецким не надо. Они еще кобеля спустят. Может… Мучают детей в такую даль… да в такую жару… Казня… Как тебе ловчей подсказать…
— Пойди да отведи,— подначил ее насмешливый супруг.
— Взаправди!— не поняв шутки, на ноги поднялась хозяйка.— Он и к куме не пройдет, там Роза ощенилась, злющая, на всех кидается.
Хозяин открыл было рот, чтобы жену урезонить, но лишь рукой махнул. Разве убедишь?..
И вот они подались. Жаркий полдень. Слепит глаза белая меловая дорога. В пухлой горячей пыли тонет нога. Обомлевший от зноя хутор. Немолодая женщина в белом платке. Отекшие ноги, ход неторопкий. С ней рядом — юноша с картинки или с неба упавший: белая рубашечка, галстук, черные брюки, аккуратный пробор на голове. «Наша фирма в честь юбилея…»
Они уходят. Мы остаемся в тени, у стола. Даже здесь жарко. Знойный полдень. Безветрие. На небе — ни облачка.
На усадьбе
Великое дело — телефон, тем более — один на хуторе. Новости сбирать не надо, они сами собой идут. Прибредет старый человек, детям в станицу позвонит, пожалуется на здоровье, на квочку, которая никак на гнездо не усядется, хоть ты ее гвоздями прибей. Другие договариваются с райцентровским магазином, чтобы свинью ли, бычка забить и сдать целиком, тушею. Это — жизнь. Порой примчится раскуделенная Верка Рахманиха:
— Больница! Строчно приезжайте! Строчно!
В сельской больнице люди мудрые, болезнь рахмановских мужиков для них не секрет. Тем более, что единственная больничная машинешка на все четыре колеса хромает. Берегут ее для дела, больничная округа — пятьдесят верст.
— Вы клятву Гиппократа давали!— вскипает Верка.— Вы свято должны ее исполнять!
Что значит восемь классов закончила, всякие слова знает. Но доктора здешние и не то слышали. Пошумит Верка, брякнет телефонной трубкой и — ходу.
Приятель мой, хозяин двора и телефона, недовольно бурчит, осматривая аппарат: «А он, между прочим, не колхозный, колотить его. Пузырек от Коли Бахчевника вам поможет, а не «скорая»,— ставит он безошибочный диагноз и, глянув через забор, добавляет: — Туда она и намылилась, к Коле. Сразу бы надо, без этих… Гиппократов. И аппарат целее».
Но самых впечатляющих спектаклей возле телефона нынче, видимо, не дождемся. На дворе — июнь, а Городские носа не кажут. Видно, нажились, нарыбачились, воздухом хуторским надышались. Самого Городского вроде бы от должности отставили. Кончились казенные машины да шофера. А своим транспортом сюда добираться далеко и накладно. Видимо, и спектакли закончились. Молочного производства на хуторе не будет, не получит город и экологически чистых овощей.
Но обо всем по порядку, не забегая.
Дом и двор, где я по летнему времени порою гощу, от просторного поместья Филюковых отделяет лишь скотий прогон да пустошь, на которой стояла когда-то хуторская почта. Филюковское поместье пустует который уже год. Хозяев нет: Праскуня умерла; Иван сразу же перебрался к сыну, в райцентр, где недолго прожил. Но усадьбу он успел продать случайному городскому человеку, помешанному на рыбалке. Места тут — рыбацкий рай: малая речка, Голубинская старица, Дон, озера.
Городской рыбак в первое же лето привез семью: жену да мальчонку. Был он каким-то начальником, при шофере и казенных автомобилях: то белая «Волга» его привозила, то вездеход «УАЗ», судя по погоде. Привезут, увезут. Обычно на выходные. Но порою неделю живет и больше. Рыбалка — его страсть. Чуть свет он уже на речке. Щук ловил, и очень удачно. Семью свою рыбою закормил.
Имени да фамилии его никто не запомнил. Так и остался Рыбаком или Городским, хотя городские на хуторе не редкость. Но те — свойские, а этот напоказ чужой: белотелый, с пузцом, бабьим просторным задом, в очках и при соломенной шляпе — ни дать ни взять городской. И разговор бестолковый: «Какая рыбалка… Это просто удивительно… Мне просто не верят… Это невероятно: на четыре килограмма щука…»
В городе, может, такие разговоры и к месту. А здесь народ серьезный. Сомик пудов на пять — это интересно. Или весною за один «плав» поднять три ли, четыре сотни чехоней. Об этом стоит гутарить: под каким берегом вентирь ставил, «сплывал» да в какое время. А что твоя щука…
Но Городской был очень доволен жизнью на хуторе: охал, ахал, закатывая глаза. Жена его занималась нехитрым хозяйством, мальчонкой, любила чаевничать посреди своего двора, счастливо приобретя в собеседницы тоже ненашенскую молодуху, которая еще недавно работала на телеграфе в далеком городе Ош, а нынче бедовала на хуторе, в чужой хатке, попав сюда неизвестно зачем и как.
Одна баба — ум, две — вовсе кладезь.
Но виноват был еще и филюковский двор: просторное поместье, в котором жилой флигель занимал лишь малое место, а все остальное — скотьи сараи, стойла, базы, прибазники, закуты, рубленые амбарчики, клуни. Словом, поместье, в котором городской мальчонка забредал и терялся; находили его только по реву и не враз. А еще — немереный огород, просторная левада, полого стекавшая к речке.
Завязку будущих спектаклей я пропустил. В очередной приезд неожиданно встретил на хуторе земельного начальника из райцентра. Тот уже отъезжал, в ответ на мой вопрос засмеялся.
— Вам скучно, мы ездим и веселим. Все землю просят…— добавил он уклончиво.
Я подивился. Земли вроде все уже наелись. Какие брали, назад вернули. В том числе и мой хуторской приятель. Но мало ли…
И вот тут начались телефонные страсти, каких еще не бывало. Что молодая Рахманиха… Прошумит привычное: «Обязаны! Клятву давали!» И нет ее.
У Городских все много серьезнее. Вначале вдали слышится заливистый голос хозяйки: «Гал-гал-гал…» — на весь хутор. И отзывается под горой. «Гал-гал-гал…» — подпевает ей подруга-телеграфистка. А сам Городской, которого от речки отлучили и ведут к телефону по делу серьезному; он поддакивает бабам, точно бьет в глухой барабан: «Реально… Это реально… Вполне… Вполне… Очень реально…» Да еще мальчонка верещит, и лает приблудная шавка. Словом, табор цыганский. Все ближе и ближе.
— Взгалчились…— сообщает мой приятель и прибивается ко двору от база ли, с огорода, любопытствуя.
Пришли. В тихом дворе — то ли ярмарка, то ли Тришкина свадьба. Мудрая собака Пальма спряталась от греха в конуру: всех не перелаешь.
За главного, конечно, сама Городская. Она первая — у телефона. Остальные — вокруг.
— Весь необходимый пакет документов давно у вас. Бизнес-план прошел экспертизу и получил одобрение. Есть ходатайство городской администрации. Они заинтересованы в экологически чистых продуктах. Я в который раз… Настаиваю! И я буду вынуждена… Еще раз объясняю: бизнес-план одобрен… Экспертиза, понимаете. Разговаривай, а не стой как столб!— сует она трубку мужу, отступаясь и выливая свой праведный гнев теперь уже нашему двору: — Идиоты! Форменные идиоты! Такие проекты! Экологически чистые овощи! Без электричества! Без этих атомных станций! На Западе за такой проект сразу бы ухватились! Идиоты!
Между тем супруг ее, прикрывая ладонью трубку, солидно басит в нее:
— Да, да… Две независимых экспертизы подтвердили, что все очень реально. Заинтересован город. На уровне мэра. Да, да… Есть соответствующие бумаги. Конечно, конечно… Надеюсь, надеюсь. Договорились… Обязательно.
Трубка положена. Городской протирает очки, радостно сообщает:
— Кажется, дело сдвинулось.
— С боку — на бок, но не с места,— язвительно остужает его супруга.
Теперь за телефонную трубку берется их соратница и подруга, тоже толкует, словно по писаному:
— Закон о вынужденных переселенцах гласит… Вы обязаны в течение месяца… Служба занятости подтвердила согласие… Все документы у вас… У меня есть право… а вы не имеете права, по закону…
Телефонная трубка все терпит. Телефонные провода — длинные, от столба к столбу, на десятки верст, через пустую курганную степь несут и несут слова человечьи, остужая их и утишая.
Городским известно мое газетное да книжное ремесло; и потому весь нерастраченный пыл, какой в телефонную трубку не поместился, теперь — ко мне:
— Одну нашу идею напрочь забюрократили! Какой был проект! За него все двумя руками…— не в первый раз рассказывает мне Городская.— Экологически чистые овощи! Без нитратов. Без затрат электроэнергии! Ни атомные станции не нужны, ни тепловые! На Западе за такой проект сразу бы Нобелевскую премию дали! Овощи на родниковой воде! Вы же знаете, там столько родников! Там все очень просто! Но эти идиоты… А теперь второй проект, и то же самое: волокитят и волокитят… Экологически чистые молочные продукты: творог, сметана, сливки.
— Вполне, вполне реально…— подтверждает супруг, воровато оглядываясь и отступая.
— Я изучила конъюнктуру рынка, его потребности,— вычитывает мне Городская.— Проект экономически выверенный. Тридцать коров. Всю продукцию забирают лучшие рестораны: «Волгоград», «Интурист», «Дракон». Экологически чистейшие продукты. Здесь такой воздух, вода, трава…— со вкусом, даже причмоком втягивает она воздух.— Продукты будут на вес золота. Только для очень богатых людей, которые это могут себе позволить. И банку это очень выгодно. Покупаем коров и тут же начинаем погашение.
— Это реально, реально…— уже издали поддакивает супруг, ныряя в отворенную калитку. И вот уже нет его.
— Всем выгодно: продукция, рабочие места…
Мой приятель, радушный хозяин двора и телефона, любит справедливость. Ему дипломатия чужда. Он ставит вопрос конкретно:
— А кто будет работать? Филюковы-то померли, Праскуня да Иван.
Начинается галда дворовая.
— Это — глупости. В стране — безработица. Здесь будет управляющая всем руководить. Она все организует. И рабочую силу. И производство.
Это о подруге-беженке, бывшей телеграфистке, которая подтверждает решительно:
— Производственные помещения есть, рабочую силу найдем.
— Где найдешь? Кто конкретно будет работать?— настаивает мой хозяин.— Кто будет на плантациях или за титьки тянуть?
— Таиса будет доить. Она согласна. Главное — кредит и организация, сбыт.
Таиса — одинокая немолодая баба, тоже пришлая, живет, как говорят, на прилипушках, в чужом дворе, но держит корову, кур.
— На тридцать коров одна Таиса?— недоверчиво переспрашивает мой приятель.— Да она их сроду не продоит. У колхозных доярок меньше нагрузка. Да еще подоить — полбеды. А молоко еще надо обработать. Процедить, охладить, перепустить, вскипятить, заквасить… На сметану ли, на творог, на кислое…
— Все будет сделано,— обещает помощница Городских, которую они в управляющие наметили.— И творог будет, и сметана.
Приятель мой настойчив:
— Кто будет прибирать у скотины, поить, кормить, базы чистить, пасти, сено заготавливать, телят пестать… Там — делов… С одной-двумя коровамя моя вон хозяйка ревет. А тут — целое стадо.
— А как же Филюковы справлялись? У которых мы дом купили?— спрашивает Городская.— Ведь там всего понастроено. Там не тридцать, там, наверное, сто тридцать голов было. И люди говорят, они сами справлялись, вдвоем. Никого не нанимали.
Приятель мой отвечает не вдруг, вздыхая да головой качая. Но отвечает уверенно:
— Таких людей уже нет, как Иван да Праскуня. Нету!— ставит он в разговоре точку.
Городские со двора уходят. А мы остаемся, не сразу возвращаясь к привычным делам, толкуя, теперь уже между собой, но о том же. Подходит кто-нибудь: вдова недавно схороненного Фомы Жармелова — Хомовна; сухонькая востроглазая баба Катя — родная тетка моего приятеля; тихая, словно мышь, баба Акуля — все свои, прожившие на этом хуторе век.
— Могучие были родники…— это про филюковские огороды.— Прямо кипучие. Белый песок — буруном.
— Потому что их чистили каждый год, вот и буруном. А ныне?..
— Везде нужны руки. Те же огороды у Проскуни, бывало, как на картинке: канавочки везде ровные. А земля? Грядочки — любо глядеть. А все труды. Копай, боронуй, сажай, с рассадой кохайся, как с дитем. А потом на все лето казня: гнись и гнись. Трава — дурняком лезет. Да всякая гадость. Откель чего и берется. Зеленый червяк, тля, черепашка, клопы зеленые… На помидорах, на перце, на луке… Какой только страсти Господь не посылает.
— Проскуня… такую игу несла… Сколь скотины, сколь птицы…
— Иван тоже моторный, заядливый: надо и надо… Ни дня, ни ночи… Ни лета, ни зимы… Все надо. А теперь — ничего не надо.
Вспомянули, повздыхали, расходятся с вечным присловьем: «Сиди — не сиди, а работать надо…» Немолодые, пожившие. Морщинистые лица, мослатые корявые руки… Уходят к своим дворам и делам. Я остаюсь — философ…
Так — было. А нынче — уже месяц июнь, Городские носа не кажут. Их соратницы, телеграфистки из города Ош, тоже не видно. Может, пристроилась где.
А подворье филюковское пока на месте.
Когда летним вечером идет с пастьбы немалое хуторское стадо, филюковская усадьба — на пути. С мыком и блеяньем, в полнеба пыля, штурмом берет скотина усадьбу, пробиваясь через худые и вовсе поваленные заплоты и растекаясь на просторном подворье, чтобы всласть почухаться, потереться о какой-нибудь стоянок или укрыться от надоевшего гнуса на пустых базах. В жаркую пору там прячутся от кусучего овода хуторские телята. Соседские куры порой заглянут, погрестись на чужом базу, а петухи — кукарекнуть. Вот и все. Дни напролет дремлет старая усадьба в тиши.
Порою я прихожу на это подворье, брожу по нему, присяду в тени ли, на солнцепеке, когда какая погода. Поместье доживает свой век. Но словно человек, годами старый, а телом еще могучий, оно завораживает. Сидишь в тишине, а прошлая жизнь — вот она, из каждого угла глядит.
Высоченный просторный сенник, словно самолетный ангар, большие ворота, куда можно въезжать на лошадях, на машине, на тракторе с возом сена. Шиферная крыша, крепкие столбы, стены. Теперь здесь пусто и сумрачно и оттого еще более просторно. По углам — тьма, под крышею — голуби воркуют. Как-то жутковато. Но кружит голову, ноздри щекочет настоянный за долгие года сенной дух. Кажется, различаешь: горьковатый степной полынок, что-то еще подзабытое.
Из огромного сенника ход напрямую в скотьи сараи, стойла. Низкая крыша, мазаные стены, решетчатые ясли-кормушки для сена, затянутые пыльной паутиной малые оконца, полутьма, отворенные двери к базам выгульным с плетневыми загатами — защитой от ветра. Скотий дух. Ласточки шныряют. Их лепленые гнезда здесь от веку. В свою пору пищат птенцы.
Сумрачные лабиринты скотьих вертепов кончаются дверью, ведущей в «теплушку» — низкую просторную хату с глинобитным полом и печкой-«грубкой». Тут зимней порой, после окота, держали новорожденную малышню: телят, ягнят, козлят. Когда-то здесь крыша поднималась от блеянья да мычанья. Из «теплушки» — ход в летнюю кухню-стряпку с просторною русской печью. Рядом — черная кухня, где на низких печурках в котлах грели воду, готовили пойло и мешанку для скота и птицы.
Чуть далее — птичники. Для кур, с насестами и гнездами, для гусей, для индюков, для уток. С лазами и выходами на базки, во двор и на волю. По летнему времени птица уходила на выгон, на воду — куда кому положено. А дальше — свинарники, тоже с базами, где навек вросли в землю неподъемные корыта, вырубленные из дикого камня. Даже могучему борову их не перевернуть.
Конюшня, навес для косилки и конных же грабель. А еще — мастерская с верстаками, наковаленкой. Рубленый амбар с плетневыми, мазаными закромами.
Скотьи сараи, катухи, загоны, базы, птичники, службы стоят, подпирая друг друга и охраняя поместье, словно крепостная стена.
Замшелый, камнем обложенный колодец, каменные корыта-поилки, тонущие в земле и траве, теплые от солнца. На них хорошо сидеть.
Хутор наш нынче довершает свой век, съеживаясь и умаляясь домами, людьми. Но он еще жив. И потому всякое брошенное ли, оставленное без надзора строенье быстро исчезает. На месте почты, клуба, колхозной столовой — заросшие бурьяном ямы. Магазин лишь закрылся, там сразу началась возня. Сначала в сумерках. Приятель мой всполошился: «Надо пойти хоть стекло принесть,— и объяснил: — Окошко разобьется, а у меня в зубах нечем поковырять». Принес. Тут объявился дед Федор, увидал добычу, заохал: «У меня стекла грамма нет. Надо побечь».
Разнесли магазин вплоть до вывески. Она теперь во дворе у моего товарища. Большая, из жести: «Смешанные товары».
— Торговлю думаешь открывать?— усмехаясь, спросил я.
— Сгодится. Доброе железо.
В брошенной старой школе стучат добытчики. Приятель мой похвалился:
— Три рамы припер. Гляжу, тянут. А рамы край нужны для парников. Надо еще сходить хороших досок с потолка или с пола выдрать. На запасные весла. Сломается весло, потом кукарекай. Пока не растянули, надо сходить.
Растянут. Дело обычное. С живого порой кожу снимают. Бобыль Савушка зимою криком кричит: «Ломают хату!!» Это его соседи стараются — Рахманы. У них сроду не хватает дров. Вот они и пользуются: чтобы далеко не ходить, по ночам дерут доски с живого дома.
Дело привычное. Колхозная бригада на хуторе закрылась, через неделю на месте бревенчатой кузни и склада — ровное место. Не сожгли ведь, а в пользу произвели. Для жизни. Любая доска нынче денег стоит. А где их взять? Тем более, что магазины — далеко. Хлеб месяцами не возят. О прочем чего и говорить.
Но к моему удивленью, вот уже который год стоит посреди хутора брошенная без пригляда филюковская усадьба. Хозяева померли, новые городские владельцы носа не кажут.
Летней порою за долгий день лишь соседские куры проведают, погребутся на чужом базу, петухи раз-другой кукарекнут. И снова — покой. Вечером чужая скотиняка забредет ненадолго. И настанет ночь.
Зимою и вовсе усадьба стоит угрюмо и одиноко, словно черная крепость.
И не трогают ее, не зорят. Пробредет мимо старый Лисовин или жена его — тетка Шура, суетной дед Федор прошагает с костыликом, просеменит сухонькая Катерина по дороге ли, а то и напрямую, уже набитой скотьей и человечьей тропой. Идут-идут и вдруг остановятся, словно неволей, оглядывая дощатые и плетневые стены, шиферные да камышовые крыши. Потом — долгий вздох, и дальше пошли.
Стоит усадьба. Ни единого стеколка не вынули, листа шифера не сняли, не оторвали доски. Память ли, совесть… Как знать…
Но все равно этому будет конец. Ударит молния или чьи-нибудь городские внуки в затишке костерок запалят. Полыхнет — и конец всему. Новым летом на пепелище лесом поднимутся конопля, крапива, дурнишник, надежно укрывая остатнее: ржу да камень. Конец.
В займище
В мире — осень. Из окон городского моего жилья, с высоты шестого этажа, все видать: просторная Волга, воды ее, неблизкий левый берег с песчаными косами и пойменным лесом, но все далекое, словно картина. Главная радость — вот она, у подножия дома: тополя да березы в осеннем наряде. Ярко золотятся под солнцем, слепя глаза; а в пасмурный день кротко, лампадно светят, украшая и согревая осенний городской быт.
Издали из окна поглядишь — и тянет на волю. Ближе к деревьям, к земле, к желтой листве и горькому осеннему духу. Подышать им. Нагнуться, поднять и ощутить в руке легкость листа березового, тяжесть тополевого.
В день приезда лишь подошел к окну, глянул и сразу — вниз.
Но обманчивы городские виды. Рядом — береза и тополь. Янтарно светит листва, радуя глаз. Но чего-то душе не хватает. Вначале не понял. Прошелся по скверу и повернул домой.
Нет… Это не осень, а лишь красивая картинка, магазинная витрина ли, фотоснимок, телевизора глаз.
Под ногами — асфальтовые дорожки. Парковые работники целый день гребут листву и увозят. Но главное — с двух сторон обтекают невеликий наш сквер проезжие дороги. Неумолчный гул, бензиновый дух…
Осень должна быть тихой. Осень должна горчить на вкус и на запах.
Домой вернулся и, конечно, вспомнил иное. Как еще недавно, сентябрьским теплым днем, на хуторе, отправился я за Дон, в лесистое займище. Поглядеть, попрощаться.
День был пасмурный, ветреный. Казалось, что близок дождь. На хуторе пусто и скучно: в огородах, левадах — сухие плети огурцов да тыкв, почерневшие будылья другой сажанины; картошку давно выкопали. Редко у кого, в палисадах, сочно доцветают астры и распускаются голубые сентябрины, которых долог век: сначала они на воле будут цвести до самого снега, потом усердная хозяйка их пересадит в горшок и унесет в дом. Но это еще не скоро. Нынче — сентябрь.
На высоких окрестных холмах — рыжая шкура жухлой травы; а над водою — зелень. Кудлатые старые вербы, могучие тополя. По их вершинам с гулом катят зеленые волны. А на земле покой.
Дощатая лодка дремлет в тихом заливе. Отомкнул ее и потихоньку поплыл, угребаясь веслами, мимо зеленой стены камышей. Поодаль, в просторной заводи, плавает семейство лебедей. Старые и молодые. Уже не разобрать. Сахарная бель оперенья сияет на зелени. Красивые птицы.
В заливе тихо. Ветер над головой высоко. Голенастые цапли бродят по мелководью, неловко, неуклюже взлетают, звучно хлопая большими крыльями. Нынче цапель развелось, вот они, на виду: рыжие, серые, белые. Прячется в камышах нелюдимая выпь.
Залив кончился, зеленая стена камышей и дерев отступила. А на Дону — ветер, волна поперек хода, так и хлещет по скулам лодки. Теперь знай греби да греби.
Вроде и неширок Дон, всего полверсты. Но против ветра пока его одолеешь, с непривычки, умаешься. Но все равно путь недолгий и славный. Все дальше уходит берег правый, отступают рыжие холмы с белыми меловыми кручами.
А берег левый встречает по-доброму: ветер вдруг стих, и волна пропала. Это приютил тебя берег займищный, укрыл песчаным обрывом и густым лесом.
Лодку на всякий случай схоронил я в камышах: скорее по давней привычке. Мало ли… Хотя пришлый народ нынче тут редок и редок. Пустынная река: ни моторной лодки, ни буксира с баржонкою. Бакены и створные знаки, означающие путь, давно уже сняты. Это когда-то, лет десять — пятнадцать назад, здесь даже пассажирские теплоходы были не редкость, а грузовым — счету нет. Моторки бегали, катера, байды. Там и здесь маячили по берегам машины, палатки, люди.
Все ушло. Иные теперь времена. Пустая осенняя вода, уже осветлевшая, пустые берега, шумящий под ветром займищный лес, воронье да редкий орел-белохвост на обсохшей маковке старого тополя.
Мой путь к озерам, далеким ли, близким, куда доберусь. Малые и Большие Куги, Шемаристое, Поплутное, Крестовка, Лубники, Свинорои, Большой и Малый Лопатин, Песчаненькое, Бурунистое, Сокори… Им счета нет. Лесистое займище и луга рассекают озера, словно три голубых ожерелья, по древним донским руслам, весною сливаясь протоками, старицами, по летнему времени обсыхая и рассыпаясь синими бусинами.
Идти нехоженым займищем — дело не больно ловкое: валежник, сухостой. Пробирайся да обходи. Но куда спешить?.. Бреду помаленьку. Непогода и ветер где-то там, наверху. А здесь могучие стволы тополей да верб, словно колонны; купы листвы и ветвей смыкаются — кров надежный. Кусты боярышника в спелых плодах. Как не посладиться их мучнистой мякотью. За горстью — горсть. Да еще про запас, в карманы. Возле самой земли, на тонких стеблях — красные ягоды ландышей. Как славно, как благостно тут было весной: нежная бель колокольцев, тонкий дух теплой земли и цвета. Не цветок, не букет, а ландышевый разлив. Бредешь… Сладкое забытье.
А заячья капуста цветет лишь теперь. Там и здесь ее заросли. Сочные мясистые листья, высокие стебли, сиреневые душистые зонтики цвета.
Тишина. Треснет под ногою валежник, шуршит палый лист. Вот наконец старая дорога. Заплывшая, затравевшая, но идти легко. Кое-где гниют, обрастая мхом, упавшие поперек пути деревья.
Истошные крики соек услыхал я издали. Такой они развели базар, что мимо никак не пройдешь. Свернул я с дороги, любопытствуя, пробился через бурелом. И не зря. Осмотревшись, увидел, что причина гвалта — большая неясыть. Она сидела на дереве невысоко над землей, нарядная красавица в черно-белом пестром пере.
Испуганные моим приходом сойки разлетелись, но недалеко; и скоро опять собрались, обсев соседние деревья и ветви, и подняли прежний гвалт, налетая на молчаливую большую птицу. Неясыть сидела не шевелясь, лишь голова ее мягко поворачивалась на неподвижном тулове вправо да влево. В просторных окружьях глаз порой открывались черные зрачки.
Соек я разогнал подалее, крича на них и бросая палки. Галдливая порода, но трусливая. Разогнал и вернулся к неясыти. Птица все так же недвижно сидела на прежнем месте, подремывая и дожидаясь своей поры: ее время — ночь.
Я подошел совсем близко. Красивая, чужая в наших краях птица, впервые вижу ее. Тем более рядом. Нарядное пестрое перо, круглая головка, окружья глаз, крючок желтого костяного носа, меховые «чулочки» на ногах.
Неясыть широко раскрыла большие черные глаза и снова сузила их до щелок. Словно поглядев на меня: дескать, спасибо, что прогнал балаболок; спасибо, и шагай себе.
И тебе, спасибо, красивая птица, за то, что гостишь к нам. Отдыхай до ночи. Не буду тебе мешать, раз в жизни тебя увидев. Это — великий подарок.
И еще одну гостью углядел я нечаянно неподалеку, в дубняке. Она выдала себя звучным цоканьем. Я услышал, поднял голову и не поверил себе. Большая рыжая белка глядела на меня темными выпуклыми глазами.
Разглядывал я белку пристально, даже в бинокль, который до поры на шее висел. Зверек уже выкуневший, нарядный, с темной остью, с огромным пушистым хвостом. Это — не кавказская белочка и не тот малый зверек, что живет и кормится в Подмосковье, даже в парках. Нет. Эту рыжую красавицу ни с кем не спутать. И откуда взялась? Разве спросишь? Охотоведы лишь плечами пожмут. И слава богу, что не знают. Давно бы застрелили. Как-то спросил я у одного спеца про лесных голубей-вяхирей: много ли осталось? «Есть еще!— ответил мне «охотовед» радостно.— Мы их в шулюм кладем, для навару. Они жирные». Так что лучше промолчать о нынешней встрече.
А вот больше за весь долгий путь живности я, считай, не видал.
В низинах, в мочажинах попадались свежие следы диких свиней. По теплому времени они кормятся ночью. А теперь дремлют на лежке, где-нибудь в непролазных зарослях камышей.
На берегу озера — острые пеньки и стружка. Хозяйничает бобер, тоже зверь ночной, потаенный. Скоро он вовсе уйдет под лед, под воду на всю зиму.
Займищные лесные озера покойны. Осенние воды их прозрачны, словно стекло. Дно от самого берега выстлано утонувшим листом. Так бывает из года в год, и потому вода горчит. Горстью зачерпнешь, пригубишь, слышится горчина.
Лесная нехоженая дорога, попетляв, вывела на опушку к заливным лугам, к простору. Здесь — ветер, далекий осенний окоем, а впереди — последний рубеж: Песчаненькое, Бурунистое, Лубники, Сокори, Клешни — озера, которые берегут займищную и луговую округу от подступающих сыпучих песков.
Летом это особенно видно. Приедешь сюда в июне: в лугах трава — по колено, зелень да цвет; на берегу озера — мягкая мурава, камыш, тенистые деревья. Словом — рай земной. А напротив, на другой стороне,— пустыня. Переплывешь озеро, и прямо от береговых верб встает песчаная круча. Поднимешься на нее: до самого горизонта горбатятся бархан за барханом. В песках летом — палящий зной, в иную пору — ветер и ветер. Пески под солнцем сияют желтизной и медью, слепят глаза. Зыбится жаркое марево. Это — пустыня.
А возле воды всегда хорошо. Летом или весной, когда вербы цветут, распуская золотые сережки. Пахучая сладость пьянит и кружит голову. Озерная гладь светит золотистой пыльцой.
И теперь возле озерной воды приютно. Сентябрь. Цветет синий «батог»-цикорий, желтушник, зелень травы и молодых дубков осень еще не тронула. Простор и простор. Озеро, за ним — протока, снова — озеро. Высокий ветер. Горечь тополевой, вербовой коры, вянущей травы и листвы.
Огромная живая земля, живая вода, бездонное небо и малая моя душа человечья, за все благодарная, порою до забытья, до слез.
В дальней дали смутно белеют придонские кручи. Над ними — тьма. Видно, близко уже непогода.
Над головой — дымные сизые тучи летят по небу стремительно. В разрывах — клочья голубого неба, солнечный проблеск, белый дым высоких перистых облаков. Но это — лишь в редких разрывах… Из края в край — стремительный, летящий бег. Словно огромные стаи убегают и убегают.
Скоро — осень. Но это вовсе не страшно. Просто придет иная пора. Задождит, похолодает, а потом вдруг, словно в единый миг, пожелтеет листва. Выглянет солнце — займищный лес светит золотом из края в край. Быстро остынет речная вода. Потянет на юг перелетная птица. Господи, сколь их много… Летят и летят, днем и ночью. Курлычут, гогочут, кричат. Порою так жалобно, словно расстаются с этой землей надолго, навек. Особенно по ночам, когда стаи летят низко над землею. Скоро, скоро…
Обратная дорога всегда короче. А тут еще ненастье меня торопило: порою начинал накрапывать дождь. Когда я выбрался из сумерек займищного леса, у воды, над Доном, уже вечерело. Ветер стих, небо разветрилось. Потихонечку шлепая веслами, плыл я и плыл. Куда в этой жизни спешить…
2002 год
«Новый Мир», №5
Люди и земля
«Земля и люди» назывался последний мой очерк, опубликованный областной газетой. Кончался он фразой «дежурной»: «Значит, пришло время земли и хлеба». Получил — нынче редкое — письмо читателя. Толковое рассуждение, мягкий, но упрек: «А людей куда?» И пример: в пригородном районе работают приезжие из Китая. Глава районной администрации ими не нахвалится, обещает: «Будем из Китая приглашать больше». Вопрос читателя: «А своих людей куда? В Китай?»
Цитата из новомирского очерка (2001, №7):
«Август 2000 года. Калачевский район. Коллективное хозяйство «Калачевское».
Стояли мы кучно возле машины, на капоте которой была развернута карта полей колхоза. 150 гектаров… 300… 120…
— Берите!— предлагал начальник сельхозуправления.— Чего молчите, мужики!
Мужики-фермеры переминались с ноги на ногу, вздыхали, вспоминали прошлое…
Мужиков-фермеров, приехавших на раздачу земли и не больно спешивших брать ее, понять можно. У кого за пять, а у кого и за десять лет работы созданы свои плохие ли, хорошие, но производственные базы, где стоит и ремонтируется техника, где склад горючего да зерновые ангары. Есть ли смысл гонять трактора да комбайны туда и обратно?.. Вот если бы?..
— А вот если…— сказал я.— Если наперед прикинуть и уже сегодня отдать земли второго отделения,— указал я вдаль, а потом на карту.— Вот эти поля. Николай Николаевич, я думаю, возьмет. И Якутин, и Андрей Штепо, Кузьменко,— перечислял я крепких фермеров, чьи земли лежали в тех же краях.
— Нет! Нет!— чуть не хором стали возражать мне районные начальники.— О тех полях пока речь не идет.
— Но ведь пойдет,— настаивал я.— Мы ведь через два года, а может, раньше вот так же соберемся и будем те поля навязывать. Давайте сейчас отдадим. Пока они меньше запущены. Пока интерес к ним есть. Ведь колхоз все равно развалится. Дело только во времени. Чудес не бывает. Четыре миллиона долгов… Вы же прекрасно понимаете — не бывает чудес.
— Нет! Нет! Нет!— ответили мне хором.
А нынешний председатель колхоза наставительно произнес:
— Надо думать об людях.
Я лишь вздохнул.
«Об людях…» Если по-честному — это о себе забота. Председатель колхоза… видел, куда идет: все развалено и разбито. Но пошел. Может, успеет домик в райцентре построить. Должен успеть.
И эти крепкие мужики — «спецы» сельхозуправления. Худо ли, бедно, но зарплату получают, все при автомобилях, тоже государственных. Чего искать? И где чего найдешь в забытом богом райцентре? Так что лучше «думать об людях».
Постояли мы, поталдычили, с тем и разъехались».
Февраль 2002 года. Хутор Бузиновка, бывшая центральная усадьба бывшего советского, а потом коллективного хозяйства «Калачевское». На хуторской площади главенствует двухэтажное здание. На втором этаже — кабинет директора, потом — председателя, где бывал я не раз. Но теперь туда идти незачем, кабинет пуст. И весь этаж пустует.
Я — не больно мудрый, просто со стороны виднее. Все мои предсказания сбылись. В 2001 году колхоз приказал долго жить. Последний его руководитель, который призывал меня «думать о людях», благополучно перебрался в райцентр. (Я же писал: «Должен успеть».) На месте при тех же должностях, окладах, машинах остались и все районные «спецы», которые хором мне пели: «О людях! О людях надо думать!» Теперь они умыли руки: ведь в Бузиновке колхоза нет.
Но конец колхоза — это не конец света. В трех хуторах: Бузиновка, Степаневка, Ярки-Рубежный — 1.400 жителей и 21.000 гектаров земли. Кто теперь «думает о людях»? Сельская администрация. Она размещается здесь же, в начальственном здании, на первом этаже.
Сижу в кабинете Виктора Федоровича Нижегородова, главы Бузиновской сельской администрации. Разговор наш то и дело прерывается, стучат в дверь, без стука идут, телефон звонит. Все, конечно, с заботами и просьбами. Так в прежние времена приходили в кабинет на втором этаже, к директору совхоза, а потом к председателю коллективного хозяйства. Но разница великая: у прежнего «головы» в подчинении, в руках были деньги, автомобили, тракторы, «стройдвор», механическая мастерская, многое другое. Так что решить людские проблемы, помочь в большом и малом директор всегда мог (если хотел). Лишь поведет рукой — и водопровод исправили, крышу починили, похоронили умершего, а новорожденного достойно приняли. Так было.
Сегодня единственная власть на хуторе — сельская администрация. Но материальная мощь прежних хозяев хутора и округи ей лишь снится. Нужно починить крышу в детском саду — проси «газовиков», они богатые. Школьный автобус дряхлый — проси о ремонте фермеров. Они хоть и не больно богатые, но понимают, что автобус для их детей. Вьюнникову, Чеботареву, Куликову — великое спасибо, помогли.
На первый взгляд сельские администрации — хозяева округи. Получается, лишь на словах. Налог с земельных участков и строений уходит в райцентр. Нотариальные услуги, которые производятся здесь, оплачиваются людьми, но деньги — райцентру. Те же торговцы, вот они, под окнами развернули и развесили свои товары, но заплатили вмененный залог не здесь, а в райцентре. Песчаный карьер, которым пользуются «газовики», строители, военные. Сельской администрации от этих богатств никакого дохода. Пастбища, воды и, наконец, пахотная земля. Колхоз развалился, но пашню сразу же разобрали фермеры. И если в 2000 году, при колхозе, посеяли 2.000 гектаров озимой пшеницы, то теперь — 8.000 гектаров, вчетверо больше. Если при колхозе половина пашни уходила в зиму непаханой, то теперь все вспахали. Н.Н.Олейников, В.Б.Колесниченко, В.П.Осипов, А.П.Вьюнников — именно те люди, о которых говорил я летом 2000 года районам-«спецам»: «Отдайте им. А не сидите, как собака на сене».
С землей в Бузиновской округе теперь порядок. А вот «о людях» — разговор непростой.
В колхозе были заняты все трудоспособные и желающие, не менее 500 человек. А теперь на земле, у фермеров, будет занято не более полусотни, если не меньше. Помню слова А.П.Вьюнникова: «Своих никого не возьми. Я их знаю». И Колесниченко с Олейниковым да Осипов работают уже почти десять лет, у них свой «костяк» из бывшего совхоза «Волго-Дон», инженеры в кабине трактора сидят. Зачем им бузиновский балласт — люди, развращенные многолетним колхозным развалом? Тем более зерноводство — сезонная работа: пахота, сев, уборка. У хороших хозяев все это проходит в короткие сроки. На две недели наймут, потом — до свидания. Если наймут…
Итак, имели работу 500 человек, теперь чуть не в 10 раз меньше. Куда остальным деваться? Чем жить?
Когда-то, на заре сельских перемен, один из «младореформаторов» на такой вопрос ответил обескураживающе просто: «Пусть едут в Австралию или в Канаду. Там дефицит рабочей силы».
Из Ярков-Рубежных Калачевского района в Австралию никто пока не уехал. Те, кто моложе, уходят на сверхурочную службу в бригаду внутренних войск, что расположена за 60 верст. Таких единицы. «Вахтовым методом» работают на железнодорожной станции им. М.Горького, за 80 километров. Неделя ли, две — на работе, столько же — дома. Получается — раскорячка. Пытались ездить в Москву, там заработки побольше, но «отышачишь» несколько месяцев, а потом, на вокзале или в поезде, деньги отбирают. На Москве поставили крест. Какая уж тут Австралия!
Колхоза нет, считай, уже целый год. Чем живут? Подворьем. Выращивают для себя картошку и все овощи. Стали разводить дойных коров. Их в Бузиновской округе 600. У хороших хозяев по 4—5 голов. Цена литра молока была: 2 рубля 50 копеек — летом, 4 рубля — зимой. Администрация местная и районная сохранили два «молоковоза», принадлежавшие раньше колхозу. Теперь они собирают молоко с подворотни, сразу расплачиваются и увозят в райцентр, на молочный завод. Правда, не все и не всегда получается гладко. До сих пор не могут определить, кому принадлежат «молоковозы». Сельская администрация не имеет права держать их. Людям… Тоже пока не получилось. Подвешенное состояние. И с расчетом за молоко не все гладко. Райцентровский молзавод ненадежен.
Но уже объявился у него конкурент — «Волгоградмясомолторг». Приезжали его представители. Все вопросы обещали быстро решить. Название у конторы длинное, из прежних времен. А вот хозяин — иной. Почти все акции у одной семьи. Значит — семейное дело, наследственное, всерьез. Молочное дело — надежное. Без хлеба и молока город не проживет. А молочное стадо в области за последние десять лет уменьшилось более чем вдвое. В некоторых районах оно практически ликвидировано. Руднянский, Быковский, Котельниковский… 536 голов, 739… 711… Суточные надои: 0,6 килограмма… 0,4… 0,9… 07… Жирновский район… Котовский… Новониколаевский…
Из нынешней зимовки коров выйдет еще меньше (15 процентов снижения поголовья за год — это уже закон проверенный).
Поэтому на Волгоградском рынке обыденными стали молочные продукты, произведенные в Москве. Так что на молоко есть спрос. И жить от молока можно.
Хутор 2-й Бобровский, колхоз им. Куйбышева. Вот что говорит руководитель: «Животноводство приносит нам убытки. В нашем хозяйстве 84 дойные коровы и 150 телят и нетелей. За прошедший год у нас украдено 25 голов скота… на продаже озимой пшеницы колхоз потерял около 3 миллионов рублей… Но тем не менее мы с оптимизмом смотрим в будущее и возлагаем надежды на наступающий год».
Надежда — дело хорошее, но сыт ею не будешь.
На том же хуторе на въезде в него подворье с асфальтированным подъездом, водонапорной башней. Живут здесь не фермеры, а колхозники, семья Косоруковых. Послушаем главу семьи: «Началось это с 1991 года, когда стали обесцениваться трудовые сбережения, а колхоз стал сокращать животноводство. У нас трое детей. Держали, как и многие другие, корову да пару свиней. Поглядели мы, подумали и поняли, что надеяться можно только на себя. Первым делом провели асфальт к дому, трехфазную электролинию, поставили свою водонапорную башню и оборудовали мехдойку, купили старый трактор «Т-40». На это ушли все сбережения. Но год от года наша мини-ферма пополнялась. Теперь у нас пять дойных коров, бык, телята, четыре свиноматки, поросята на откорме, куры, гуси, утки». Косоруковы продолжают работать в колхозе. Но если он завтра рухнет, то по миру они не пойдут.
Хорошо, что на земле еще есть люди, которые могут «подумать и понять». Но их, к сожалению, очень и очень мало. Большинство, как и прежде, на колхоз рассчитывают и на Господа Бога.
«Засуха у нас в голове» — красное словцо, пущенное в наших краях в начале 90-х годов, повторяем мы снова и снова. Подтверждаем снова и снова.
Село Мариновка, сельскохозяйственный производственный кооператив «Волжанин». Еще одно собрание. Еще одна смена руководителя, четвертого за последние три года. В.Г.Чичеров — человек хороший, экономист по образованию. Он несколько лет был фермером. Не получилось. Торговал, не пошло. На прошлогоднем собрании предложил себя в председатели. Избрали, потому что говорил гладко. Дело в колхозе катилось к банкротству. Рядовые колхозники — «детский сад», это понятно. У них главный довод: «Да може…» Но зачем шел в председатели Чичеров, для меня загадка. Ведь все как на ладони: непомерные долги, отсутствие сельхозтехники, запущенные поля. И с неба ничего не упадет. Бывший главный экономист колхоза это должен понимать. Все равно пошел. Год продержался. Окрестная молва говорит: «Для того, чтобы выкопать из земли и продать на металлолом трубы поливных участков». Трубы выкопали, увезли. Чичеров попросил отставки «в связи с переездом в областной центр».
Новое собрание. Итоги работы за год абсолютно ясные: рентабельность 20 процентов со знаком минус, миллионы рублей убытков, долгов, на носу — очевидное банкротство.
Объявился на собрании спаситель — С.М.Якутин, фермер, опытный агроном, арендует 1000 гектаров пашни в соседнем хозяйстве. Его предложения: земля и имущество колхоза передаются ему. Владельцам земельных паев ежегодная плата — 1,5 тонны зерна и 2 тонны соломы, имущественные паи он выкупает у владельцев в рассрочку. Механизаторам, которые будут работать у него, зарплата 40.000—50.000 рублей в год. Якутин — житель местный, потомственный агроном, его дела — на виду. Его предложения — весомы, потому что сегодня на пай земельным владельцам хорошо если дадут в конец года 2 центнера зерновых отходов. Паи имущественные вовсе с каждым часом тают.
На собрании главным докладчиком и увещевателем был председатель комитета экономики и финансов района П.В.Иванов. Он, что называется, на пальцах разъяснил: колхоз вот-вот объявят банкротом и никакими судьбами ему из долгов не выкарабкаться. Сначала он это объяснил в узком кругу специалистов. И те согласились: единственный выход — Якутин. Иначе — гибель: арест имущества, распродажа его за копейки, крах.
И собрание будто бы понимало главного экономиста района. Но до поры… Якутин оказался плохим стратегом, сказав откровенно, с трибуны, что сократит до минимума управленческий аппарат и людей в бригадах, а дисциплина производства будет строжайшая. Вот тут-то и зашумели: «В кабалу не пойдем».
Собрание почти единогласно проголосовало за сохранение сельхозкооператива в прежнем виде. Новым руководителем избрали А.А.Абдулманапова, который агрономического ли, экономического образования не имеет, но пообещал: «Проживем».
Проживет… Пусть недолго. Но только не колхоз! И не люди его. Уже через месяц какой-то ловкий юрист сумел забрать у этого колхоза часть автомобилей да тракторов по «остаточной стоимости», за копейки. И вот-вот обанкротят, все остальное заберут. В «мутной воде» «юристы» не дремлют.
В селе Мариновка тысяча с лишним жителей. До недавних пор в колхозе работали 350 человек. Плохо ли, хорошо, но жили. Сейчас работают 70 человек. Но вот-вот и эти люди своей привычной работы лишатся. Что им делать? В какую сторону идти? До районного центра — 30 километров. Но там нет работы и для местных жителей. Практически все предприятия закрылись. До Волгограда — 60 километров. И тоже с работой худо. Тем более, что человек — не улитка: за плечами свой дом не носит. Старым — доживать, копаясь в огороде. А вот молодым…
Но что Мариновка, село невеликое. Рядом «Волго-Дон», когда-то гигант молочного, мясного и прочего производства, на распыл идет все в той же «мутной воде». Банкротство, внешнее управление, арест счетов, арест имущества. И даже — редчайший случай! первый на моей памяти!— за долги «Волго-Дона» по иску Сбербанка могут быть конфискованы и выставлены на торги дома двух заместителей главы Калачевского района (по сельскому хозяйству и экономике). Именно они подписывали договоры, предусматривающие их личную ответственность (своим имуществом) за невозврат кредита. А вот руководитель «Волго-Дона» А.И.Булюсин, в течение десяти лет ведущий хозяйство к разорению и развалу, может не беспокоиться. У него — все в порядке.
А у простых людей — бывших трактористов, овощеводов, скотников, доярок, телятниц? Их — более трех тысяч. Многоэтажные «агрогородки». Шесть тысяч людей в них живут. И если в Мариновке ли, в Ярках люди могут надеяться на свой огород, скотину в коровнике, то здесь — балконы да лестничные площадки, как в городе. Квартирная плата — 300—400 рублей в месяц. А заработной платы — нет. Если ее и выдают, то огурцами, капустой, луком. Все это за бесценок тут же забирают скупщики. Но завтра уже не будет и этой малости. «Волго-Дон» — банкрот. Куда идти людям? Вокруг — голая степь. И где их ждут? В Австралии?
Это ведь катастрофа. Но кто о ней знает? У нас ведь по-прежнему «все в порядке». Сельское хозяйство страны, как вещают наши руководители, «стабилизировалось», «наметился рост». Брехать — не пахать!
Передо мной «Справка об ожидаемых финансовых результатах за 2001 год — по сельскохозяйственным организациям Волгоградской области». Листаешь ее — сплошная благодать: рентабельность, прибыль везде присутствует. ЗАО «Волго-Дон» — с прибылью сработало, СППК «Крепь» — тоже в прибылях. Непонятно, за что эти хозяйства еще в августе, после уборки урожая, были признаны банкротами.
611 сельхозпредприятий. Более половины — прибыльных. Областной уровень рентабельности 10,9 процента.
А в конце этой «тетрадочки-справки», на последней странице, один из руководителей сельского хозяйства области от руки написал список из 11 хозяйств, которые действительно можно считать на сегодняшний день работающими нормально, то есть способными более или менее прилично платить работникам зарплату, покупать и ремонтировать сельхозтехнику, словом, жить. В этом списке все те же: колхоз имени Ленина, «Кузьмичевский», имени Кирова… 11 из 600! Вот тебе «стабилизация» и «наметился рост».
Уже не отдельные колхозы, а целые районы становятся банкротами. 10 января 2002 года по иску Сбербанка Арбитражный суд признал банкротом Калачевское районное агропромышленное объединение. А что в Нехаевском, Руднянском, Еланском, Быковском районах?
Что мы только не делаем с нашими колхозами! И «реструктуризируем», то есть отказываемся от прошлых долгов, все и вся. А назавтра новые долги появляются. Из частной лавочки переходим в государственную, добровольно отдавая тракторы, автомобили, скот, постройки в «муниципальную собственность», чтобы враг, то бишь кредитор, не покусился на наше добро, не отнял. Опять никакого прока. Именуем колхозы по-новому: ООО, УСП, ГУСП, МУСП, ГУП, АОЗТ, СПК, ГПЗ, МУП — все вроде по-умному, а проку нет.
Речь колхозного председателя на отчетном собрании: «Всякое планирование сельхозпроизводства, каким бы выверенным оно ни было, оказывается обреченным на убытки. Год назад «ставили» на подсолнечник, так на него цены не было. В этом году сократили посевы, а цены подскочили. С зерновыми все получилось с точностью до наоборот. В текущем году расширили посевы, а цены упали».
И вывод: «Убедившись в бесполезности бесконечной смены ярлыков и невозможности самостоятельности, хозяйствовавшие пайщики (то есть колхозники — владельцы земельных и имущественных паев.— Б.Е.) решили обратиться за помощью к инвесторам. К счастью или на беду крестьянскую, желающих вложить средства в сельскохозяйственное производство сегодня находится множество».
Еланский район. В начале 2001 года в районе 22 коллективных хозяйства. Сегодня, в январе 2002 года,— лишь 4. Остальные отдали свою землю и волю частному капиталу, пришлым фирмам-инвесторам, крупнейшая из которых, «Агро-Елань», за год потратила 200 миллионов рублей на новые тракторы и комбайны, семена, удобрения. Но вся земля теперь вспахана и засеяна, в отличие от прошлых лет, когда половина пашни не обрабатывалась.
«У вас ничего не получилось,— объявил бывшим колхозникам один из новых хозяев.— Теперь попробуем мы».
В 2002 году новые инвесторы обещают «вложить» в сельское хозяйство Еланского района 600 миллионов рублей. Деньги для села немыслимые!
Еще один район — Нехаевский. Что делать, если половина земли в районе не обрабатывается?
СПК «Роднички». Долг 6 млн. рублей. В кассе — пусто. Выход: 780 пайщиков передали 11.788 гектаров земли в ООО «Брейтон».
СПК «Роднички», СПК им. Калинина, СПК «Краснопольский», СХА «Заветы Ильича», СПК «Динамо», СПК «Хопер», СПК «Авраамовский», СПК «Реченский»… Названия коллективных хозяйств разные, а беды одни.
«Хозяйство обросло непомерными долгами»… «животноводство принесло убытки»… «в растениеводстве складывается неутешительная картина». «Из 10.000 гектаров 7000 не пахано».
Перспектива (в изложении главы комитета по сельскому хозяйству района): «Грозящее хозяйствам в ближайшее время банкротство уничтожит их: основные фонды будут проданы, а люди останутся без дела».
Выход: вперед — к инвесторам. «Инвид-Агро», «Инвест-Агро», «Нехаевская-Агро», «Брейтон», «Инвест-Кор» — новые хозяева нехаевской земли. Практически весь район оказался в их руках. Лишь колхоз имени Ленина выстоял. Честь бессменному его председателю Георгию Васильевичу Яменскову. Но один в колхозном поле — тоже не воин.
Еще одна — лишь очередная!— жертва времени и обстоятельств — Даниловский район. Земля — чернозем. По погодным условиям 2001 год — хороший. Но уже к осени все стало ясно. Если в 2000 году общая кредиторская задолженность всех коллективных хозяйств района составляла 177 миллионов рублей, то теперь — 185 миллионов рублей. Очевидный крах. Из полутора десятков колхозов лишь два заканчивают год с намеком на мизерную прибыль. Но и там долгов — по уши. Это у лучших. А у худших, таких, как СПК «Сергеевский», из 15.000 гектаров пашни обрабатывается 1.500. Десятая часть!
«Выход из такого положения,— говорит главный экономист районного комитета по сельскому хозяйству,— это изменение экономического статуса сельхозкооперативов, то есть их очередная организация». Старая песня: звали меня Маша, и долгов у меня, как шелков, а нынче я — Глаша, а про Машины долги знать ничего не знаю.
Но этой песне уже не верит никто. «Если даже мы все сделаем для реформирования хозяйств,— честно признается глава администрации района,— через год снова увязнем в долгах».
А значит, выход один-единственный: «Вперед — к частному инвестору!»
В район приезжает губернатор области, его помощники, создана целая комиссия. «Областная администрация активно подключалась к нам в поисках и привлечении инвесторов»,— радуются в Даниловке.
Обращаем внимание: еще год назад, когда подобный процесс шел в Еланском районе, власти осторожничали. Районная дума публично призывала: «Тщательно изучить… Не спешить…» А за глаза и вовсе называли инвесторов «московскими бандитами».
Теперь уже сам губернатор организовывал приезд в Даниловку кредиторов, инвесторов, «фирмачей». (Это вам не «Атамановский», «Ловягинский» да «Память Ленина», а «Випойл», «Лукойл», «Фордео», «Карат», «Альфа», «Инвест-Агро» — новые времена, новые имена.) Так сказать, берите и владейте.
Знаменательная деталь: идет совещание новых и старых хозяев района, в зале — людно; на трибуне — «инвестор», молодой мужчина, плотный, в короткой стрижке, говорит не особо напрягаясь, чуть не шепотом; ему из зала подсказывают: «Громче!» «Инвестор» поднимает голову, оглядывает зал, выдерживает паузу, а потом роняет: «Всегда так говорю. А вы слушайте». И в зале сразу притихли, почуяв силу.
Вице-президент фирмы «Випойл» А.В.Средний объясняет: «Во всем мире аграрный бизнес доходен. Поначалу мы отлаживали нефтяной бизнес. (В этом году компании исполнилось 10 лет.— Б.Е.) Когда появились средства, решили войти в аграрный сектор. Первое время занимались кредитованием сельхозпроизводителей… Затем решили попробовать сами заняться производством».
Даниловский район, его колхозы, теперь уже с помощью областных властей, тоже отданы новым хозяевам.
«Предприятия-инвесторы будут зарегистрированы на территории нашего района,— говорит глава районной администрации,— они предоставят селянам работу, будут нормально платить налоги в местный бюджет».
Вот и решены все сельские проблемы. Теперь пусть голова болит у «инвестора». Он и посеет, и вспашет, и даже на хуторских улицах наведет порядок. «Весной закупим гербициды и покончим с амброзией, бурьяном… Спланируем улицу бульдозером,— обещает гендиректор «Випойл-Агро»,— сделаем красивые изгороди. Село будет иметь более приглядный вид».
Еланский район ушел к «инвесторам», Нехаевский, Даниловский… Работают новые «Агро…» в Дубовском, Котельниковском и других районах.
В феврале 2002 года уволен прежний вице-губернатор нашей области, ведавший делами сельскими, его сменил на этом посту бывший генеральный директор «Елань-Агро» П.П.Чумаков. Именно так — представитель новых хозяев, «инвесторов». Значит, им — «зеленая улица»?..
Хорошо это или плохо?
Картинка сельская. Декабрь 2001 года. Даниловский район. В редакцию районной газеты позвонила женщина, со слезами в голосе сообщив, что в СПК «Сергеевском» третий день не кормят и не поят скотину. Журналисты поехали, поглядели. 156 коров. В поилках — лед, в кормушках пусто. Председатель колхоза и заведующий фермой — в отъезде, на ферме людей нет. Грейфер — погрузчик — сломался, насосы отключены. Коровы дурняком ревут. Колхозный народ по телефону названивает: «Примите меры»! Коллективные хозяева…
Через полсотни лет, до сих пор помню нашу корову Зорьку. Ее и погладят, и приласкают, и теплое пойло приготовят, и в стойле уютно, как в доме. А как по-иному? Ведь Зорька была нашей кормилицей, нашей коровой.
И нынче — лишь неделю назад вернулся с хутора — друзья мои в хозяйстве имеют корову, бычков. Малина, Янчик (сокращенное от Январь), Мишаня… «Как на перине ночуют…» — показывает мне товарищ стойло, щедро устеленное свежей соломой. А уж про кормежку и говорить лишне: степового сена — вволю, просяной соломки — в охотку, теплого пойла — словно детям. А как же иначе?
А тут — три дня скотина голодная и непоеная ревет… И знаете, дело вовсе не в том, что люди хуже зверей. «Не мое! Чужое! Начальство нехай меры принимает!!» — десятилетиями укоренившееся правило. «Пусть лучше у людей живут, чем в колхозе сдохнут»,— повторял всегда один из председателей, щедро раздавая поросят с фермы. И перед начальством тем же оправдывался, пока не выгнали.
«Не мое!!!» — с этим парткомы да профкомы не могли справиться. А нынче — и вовсе. Итак, в село, в сельскохозяйственное производство, пока лишь в полеводство (зерно, подсолнечник), но частный «капитал» двинулся. Свято место пусто не бывает.
— Явная отмывка денег,— говорят люди неглупые.— Такие вложения. Они же не смогут получить прибыль. Это невозможно. Вот все расчеты, пожалуйста…
— Может, и правда. А может, и неправда. Потому что и «расчеты», и «неглупые специалисты» — все это «колхозное», «советско-социалистическое». А пришло совсем другое — капитализм, с иной логикой, иными законами.
— Это московские деньги. Они там почуяли, разузнали, что вот-вот примут закон о купле-продаже земли. Вот и полезли. Чтобы успеть землю скупить.
— Может, и так, а может, и по-другому. Не суди в три дня, а суди — в три года.
А вот еще одно мнение, высказанное человеком, который в районном центре занимается бизнесом: производство мясных продуктов, торговля:
— «Карат», «Альфа», «Фордео» за счет крестьян получат большие прибыли.
И ему можно верить: человек — местный, предприниматель успешливый. Гадать можно так и эдак. Но совершенно очевидно, что рука об руку с частными инвестициями идут новые порядки, которые очень больно ударят по большинству селян.
«В новые хозяйства (создаваемые частным капиталом.— Б.Е.) надо брать тех людей, которые хотят работать, а не числиться на работе. Конечно, тут будут проблемы, но другого выхода у нас нет» (глава администрации Даниловского района Н.П.Руденко).
«Часть людей просто не сможет работать в новых условиях…» (М.И.Киндеров, руководитель хозяйства, вошедшего в «Агро-Елань»).
«В «Брейтоне» горячее питание для механизаторов привозят в поле три раза в день, причем бесплатно. Но «рюмка» стоит дорого: лишение премиальных 500—800 рублей. Четверых механизаторов уже пришлось уволить за пьянку» («Нехаевские вести»).
«У нас работает очень много лишних людей. Всех мы не прокормим».
Фирма «Гелио-Пакс» успешно работает в нескольких районах уже в течение пяти лет. Прибыль хорошая (2001 год: ООО «Гелио-Пакс-Агро-3» — 31.204.000 рублей, ООО «Гелио-Пакс-Агро-4» — 27.882.000 рублей). Но животноводство, которое было прежде, при колхозах, практически ликвидировано. А значит, люди — без работы. Многие местные механизаторы потеряли работу, даже сезонную. Новые хозяева предпочитают возить рабочих из райцентра.
Десятки раз повторяли мы известные цифры о том, что производительность труда в нашем сельском хозяйстве очень низкая, что работает на земле треть населения, а на Западе — 5—7 процентов. Теперь эти цифры начинают превращаться в горькую очевидность: с приходом частного капитала единоличного хозяина на селе сразу же теряют работу более половины трудоспособного населения. Это положение осложняется тем, что другой работы рядом ли, поблизости нет.
К такой перемене люди не готовы ни психологически, ни материально. Куда-либо переехать они не могут, так как нет сбережений, а дома на селе стоят очень дешево. На эти деньги не купишь новое жилье даже в райцентре, про город не говоря.
Профессия: скотник, механизатор, доярка. Куда с ними? Оттого — чувство безысходности, пьянство, развал семей, разрушение моральных устоев.
Какой-либо программы трудоустройства сельского населения не существует. Даже пособия по безработице — не для крестьян. Хутор ли, село — далеко от райцентра. Не наездишься туда — а надо несколько раз в месяц «отмечаться»,— на автобусные билеты больше денег истратишь.
В позапрошлом теперь уже веке, отменив крепостное право, император в своем указе требовал, чтобы исполнительная власть попечительствовала крестьянам в трудное для них время перемен.
Нынешний перелом масштабом сравним с отменой крепостного права. Но вот попечительства или хотя бы понимания сложности, трагизма судьбы и судеб крестьян — колхозников, миллионов и миллионов наших сограждан — этого нет. «Пускай в Австралию едут…»
Вице-президент фирмы «Випойл» А.В.Средний: «Сейчас мы пока новички в сельскохозяйственном производстве, набираемся опыта, получаем синяки и шишки. Анализируем, просчитываем. А потом — пойдем».
Они идут. Куда крестьянину податься?
Волгоград.
2002 год
«Новый Мир», №8
Дорога на калач
Всякий день у нас новости. А в субботу — тем более. С утра до полудня в поселке — базар; там народу словно в Китае. Со всех углов собрались, с хуторов съехались. Нарасскажут, лишь успевай слушать.
Потом — баня, парная. Здесь, уже спокойно, не торопясь, можно обсудить услышанное. И свое, и чужое, какое по телевизору.
Нынче заговорили про богатого американца, который за космос двадцать миллионов отвалил. Да не рублей, а долларов. В рублях — это вообще немыслимо, чуть ли не миллиард.
По телевизору целый месяц галдели: старый американец, лысый, а выложил денежки и полетел в космос, вроде как прогуляться, на неделю, короткий отпуск. Показывали, болтался он там, потом хвалился: это, мол, самое лучшее, чего он в жизни увидал.
В парной народу немного. Дело — летнее, час еще ранний. Трудится народ на огородах, в садах. К вечеру — попрут. А теперь лишь мы — люди свободные и не любящие толкотни: Иван Линьков — старинный приятель, житель второго этажа с балконом, Петро из милиции, еще кое-кто.
Сначала о рыбе разговор: запрет, мол, а все равно ловят, полный базар сазана, сома, толстолоба, карася, а уж вяленой — вовсе море. Поговорили о рыбе. Вспомнили про американца.
— Гляди, куда стали на отдых ездить. Аж в космос! Тесно уже на земле.— Это Иван Линьков, он огорода не имеет, глядит телевизор и все знает.— Раньше про Крым мечтали. Потом стали про Кипр… Анталия-монталия… Хургада-мургада… Про Канары галдят.
— Багамы еще…— подсказали ему.
— Это еще где?
— Какие-то острова. Далеко.
— Ну и кто там был? Из наших?
— Может, кто и был. Кто у нас богатые?
— Гаишники да начальство.
— Да у кого магазины.
— Нынче богатством хвалиться нельзя. А то придут в масках и обчичекают.
— У кого есть что чичекать.
— А ты все беднишься. Как-никак при большой звезде. Да еще в Чечне три месяца просидел. Вот бы и маханул на Канары. Все жмешься.
— Пошли они, твои Канары… Мне предлагали, после командировки, в Сочи. Бесплатно. Я не поехал. Чего там делать? На пляже лежать, как тюлень.
— А ты на него похожий.
— Ты, может, еще на кого похожий, почудней. Да я молчу. А заместо Сочей уехал я к Рубежному, палаточку поставил… Милое дело.
— А комарь?
— Он — в займище. А я на той стороне, возле балочки, чтобы ветерок тянул. Вот это отдых, я понимаю. А то — Канары, Канары… Лезь в самолет, лети куда-то на край света. А там такая же вода, как у нас. Лишь соленая. Да толкотня, один на одном. Да рыба не ловится. А на Рубежном и уха будет, и жареха, и сам себе — пан.
Нашлись несогласные:
— Если уж отпуск да на целую неделю, то надо не в Рубежный, а повыше…
— На Картули. В августе каждый год ездим. Замечательно!
— Это через Евлампиевский, там через речку запруда.
— Размыло давно твою запруду. Бродом теперь, за поворотом речки, где старый сад. Едем, ребят берем. Палатка. Рыбалим — с утра, на зорьке. Милое дело… На бугре — бахчи: дынки, арбузы. На той стороне, в займище, ежевика, грибы. Тихочко и покойночко. Все — под рукой, в твоей воле.
— Правильно. А то мы ездили… Моя загалдела: здоровье, здоровье… детвора. Поехали. В Краснодарском крае шкурят на каждом шагу: не туда свернул, не туда въехал. А уж на месте и вовсе: сюда — не шагни, сюда — не плыви, сюда — не гляди. Воруют — по-черному. Не знаешь, куда и спрятать деньги эти. Я уж их в воздухоочиститель запихал. И не спал, караулил. Там — не поправка, там последнего здоровья лишишься.
— На Картулях, слава богу, ни прятать, ни хорониться не надо. Все — твое…
— В сентябре надо ездить. Шиповник пойдет, боярка, кислятка.
— В сентябре — школа. А ребятам хочется. Весь год ждут: когда да когда…
— А мы на озера ездим,— вздохнул кто-то.— К Некрасихе, через пески, краем пробьешься. Благодать…
— Черти вас несут на Некрасиху. Пробьемся, через пески… Садись на лисапет — и на Мужичье. Карасики — в ладошку, а до чего сладкие! Никаких ваших судаков и сазанов не надо. Сидишь как в раю: камыши, лебеди плавают, чаечки вьются.
— И комари по кулаку.
Разговоры пошли один другого завлекательней. Про американца забыли и про деньги его.
Такие беседы всегда по душе. Слушаешь, свое вспоминаешь. Тоже — близкое. Округа Набатовского хутора, Голубинские пески возле Дона.
Когда-то, по молодости, разговоры о прелестях отдыха в родных местах мне казались не очень убедительными: «Ни на какой Крым не променяю, никакие Кавказы не нужны…» Тогда думалось: нигде не был, ничего не видел, вот и гонор, похожий на тот, что, дескать, коньяк — это гадость, он клопами воняет, а самогон — одно удовольствие. Хороший коньяк и поныне в наших краях не водится. Дороговат он для нас, коли хороший. А вот что до прочего…
В предбаннике, в раздевалке, всерьез забурлило: «А вот на Скитах… На Харлане… У нас на Плесистове… На Ластушенском…»
Побрел я потихонечку в парную. Пока здесь шумят, там — простор. А что до споров… За немалую теперь уже жизнь довелось мне бывать и отдыхать в разных концах земли. Только что до Австралии не добрался, уж больно далеко. На теплых морях да океанах бывал и на холодных побережьях. Высокие горы, тропические леса, жаркие пустыни, древние города, шумные столицы, тихие и чистенькие американские да европейские городки и деревушки — все это хулить, конечно, грех. Приятно было гостить, а теперь вспоминать.
Но если подумать, в чужих далеких краях: Америка, Африка, Азия; или в своих, но тоже неблизких: Байкал, Дальний Восток, северные края да южные,— что в них особенного, которое бы помнилось и ныне?
Кордильеры, домик в горах, скамейка под деревом, тихий вечер, гуси летят… Морские ли, океанские воды: мерный, баюкающий рокот волны; набегает, рушится у ног; простор воды, неба, земли; зелень, синева, покой, чистый воздух.
Нынче — долгое лето. Вроде и можно куда-нибудь махануть, но не хочется. Вернее, хочется, но не в края далекие. Лучше — к себе, в Задонье. Поедем в августе, поставим палатку на займищной стороне, в лесу. Будет славно…
Посидел я в парной, веничком помахал и снова — в предбанник. А там — крик да ор. Шумят мои мужики.
Иван Линьков жилистую шею вытянул и свое прет:
— Он — дурак, этот американец! Ты понял?! Он — гольный дурак, без подмесу! Потому что деньги кидать нужно в дело. А чтобы тебя, за твои же кровные, запхали в железную бочку и ба-бах! Полетел! Ничего не вижу, ничего не слышу! То ли долетишь, то ли тебе капец! Долетел, слава богу! В штанах мокро. А куда прилетел?!— У Ивана глаза на лоб лезли, он старался, чтобы все поняли его правоту.— Ну куда он прилетел?! За свои миллиарды! В рай Господний?! Конура железная! Сидят один на другом и через раз дышат какой-то гадостью. И чего сладкого?! Ну выглянул в окошко… А чего увидал? Темень да звезды. Их и с земли видать. Чего еще в этой камере? Болтайся да моли Господа, чтобы назад возвернул. Космонавты туда за большие деньги летают, за зарплату. Вроде как люди на Север едут. Заработать! На жизнь! А этот дурак еще и приплатил, чтобы его туда запхали. Да еще хвалится! Чокнутый, точно! Червяки в голове!
— Ты гляди сам не чокнись,— посмеялись над Иваном.— Иди охолонись. От тебя дым идет.
— Охолонусь. А потом попарюсь,— пообещал Иван, помахивая дубовым веником.— А этому американцу никакой пар не поможет. Дурак, он дурак и есть, вместе с долларами.
На том все и кончилось. Парились, отдыхали и снова в парную шли. Беседовали — об ином. Неделя долгая. Новостей много, тем более — в субботу, после базара.
Нынче, из города перебравшись, начал я свое летованье не в самом Калаче, в райцентре, а на отшибе — в селении вовсе малом и тихом, на берегу просторной воды.
День первый, второй да третий. После городской жизни не сразу обвыкаешься, словно не веришь, что все это явь: тишина, покой, зелень, вода — рядом. Рано утром проснешься, бредешь потихоньку к воде, окунуться.
Раннее лето, лишь начало его. Шиповник цветет розовым. Старые акации, высоченные, чуть не до неба, вздымают над землей пахучие облака сладкого цвета. Солнце поднялось. Деревья гудят от пчел.
Тишина. Протяжная песнь иволги. Перекатистая трель черноголовой славки. Скворчиный гвалт на дуплистом тополе. Дыханье близкой воды. Прозрачная склянь ее, песчаное дно, утренняя свежесть. Выйдешь из воды — и чуешь души и тела восторг. А потом — покой, солнышко греет, птицы поют, синеет просторная вода; бредешь себе по светлой песчаной дорожке к утреннему чаю.
Почему-то вспомнился разговор в парной. Про американца, деньги его и полет. И сразу же — давнее, но похожее на сегодняшний день: Америка, маленький городок в окрестностях Филадельфии, счастливое утреннее пробуждение в приютной гостинице тамошней школы. Проснешься — птицы поют. Весна. Месяц май. Цветущие вишни. Огромная зеленая поляна, а посредине — семь раскидистых могучих дубов. Идешь — словно плывешь в зелени, цветенье, голубизне и солнце.
Зачем надо платить двадцать миллионов и улетать из этого цветущего рая в далекую нежить, где пустота и лед, где даже дышать нельзя и далеко-далеко от тебя теплая, дорогая Земля, до которой еще надо добраться нелегкой дорогой через холод и тьму?
Моя нынешняя дорога самая дальняя — лишь восемь километров от поселка, где живу, до Калача. Каждый день ее меряю. По асфальтовой трассе ходит автобус. Четыре рубля заплатил — и катишь: деревья, столбы мелькают. Толком не разберешь.
Людям, на работу спешащим да вовсе старым, им выбора нет. А мне сам Бог велел пешком ходить по песчаной белой дороге, прибитой дождями или обсохшей.
Восемь километров. Немногим более часа ходьбы. Но кажется, что гораздо быстрее. Торопишься миновать поселок, дома его.
Околица. И сразу невольный вздох облегченья ли, радости. Такой неохватный простор открывается, земной и небесный, которому лишь одно имя — Божий мир.
Песчаная дорога в зеленых берегах — славный путь. Просторная степь раскинулась широко, зеленеет, колышется разнотравьем: серебрится ковылем, желтеет пахучим цмином, золотится тысячелистником, тешит глаз пенистыми полянами фиолетовой и розовой чины, радует нежным молочаем, гвоздиками, яркими цветами придорожного чертополоха, лисохвостом, аржанцом — все растет, все зреет и дышит сладостью цвета и сока.
Отцветают одни травы, им на смену — другие: сиреневый терпкий чабёр, кустистый, в розовых цветах железняк, лазурные озера бессмертника, синие фонарики батога — все это рядом: запах, зелень и цвет. А дальше — приречные луга, разлои, старицы, озера. Близкое Мужичье озеро в надежной камышовой защите. Кудрявое лесистое займище. В прогалах его донские воды синеют ли, серебрятся, смотря по погоде. А дальше вздымаются могучие холмы Задонья. Просторные долины открываются к Дону. Людское жилье. В устье Петипской балки — станица Пятиизбянская, старинное казачье гнездо. По течению выше, на входе к Дону Грушевой балки, лепится Кумовский хутор. Задонские холмы, приглядно зеленея, белея меловыми обрывами, огромным коромыслом тянутся, за курганом курган, уходя вдаль и вдаль вместе с рекою.
А над землей раскинулся простор вовсе немереный. Громады белых, солнцем пронизанных облаков плывут и плывут, перемежая свет и тень. В Задонье над холмами тянутся синие тучи, волоча за собой косые полосы дождя. А в стороне западной густеет фиолетовая тьма. Там погромыхивает.
Степная дорога — белая песчаная нить меж землею и небом. Жаворонки поют и поют. Молчаливый коршун кружит и кружит. Упругий ветер несет навстречу запах травы, листвы, речной и озерной воды, дождевых капель.
В голове и в душе — ничего суетного. Светлые спокойные мысли о нынешнем, и о завтрашнем, и даже о том, чего уже не воротишь.
Будто и не торопишься, просто идешь и идешь; но вот уже тополевая роща шумит — конец пути. Жалко: шел бы и шел. Но впереди еще есть время: долгий нынешний и завтрашний день и тот, что впереди, если будем жить. И в каждом из них — простая радость: дорога на Калач, по которой можно идти ранним розовым утром, в жаркий полудень или ночью. В ночи песчаная дорога светит и отражается в небе серебряным Млечным Путем, сближаясь, а в дальней дали сливаясь с ним.
Восемь километров на автобусе, по асфальту, за четыре рубля. Прогромыхаешь, что-то промелькнет за окном, но ничего не увидишь. За рулем, на машине,— и вовсе: лишь черная лента асфальта перед глазами — и все.
Вчерашним утром спозаранку шел я привычной дорогой и вдруг услышал тонкий серебряный звон. Сразу угадал: лебеди… Поднял голову: совсем низко, косым клином, неторопливо летят белые птицы. Видно, ночевали на Мужичьем озере, в густых камышах, а теперь подались на кормежку, на мелкие теплые воды, куда-нибудь к Кривой Музге. Один, два, три, четыре… Двадцать два лебедя. Провожал их взглядом, затаив дыханье. Алая утренняя заря поднималась высоко, птицы уходили в нее, алея и розовея пером и превращаясь в чудную сказку ли, волшебный сон. Но это — не сон. С хрустальным звоном, мягкими крыльями не разбивая, а лишь раздвигая утренний розовый воздух, улетали птицы, чтобы вечером вернуться вновь привычной дорогой. Самой близкой и самой красивой, похожей на мою песчаную степную дорогу, ведущую на Калач.
2002 год
«Новый Мир», №10
Пасхальный рассказ со взрывом
Нынешний год весна — ранняя, но холодная. Ветер дует то северный, то восточный, по ночам — зябко. Настоящего тепла еще нет. Но все равно — весна.
Я приехал в поселок из города, на житье летнее, в самую пору: вишни цветут, распускаются груши, розовеют бутоны яблонь. По земле, по зеленой траве — одуванчики, словно цыплята, желтенькие. Скворцы заливаются, горлицы стонут. Золотое время. До Пасхи осталась неделя. И потому на кладбище люди прибирают могилки родных, украшают к празднику: свежей краской оградку ли, крест, скамеечку выкрасят; желтым песочком посыпят; чем-то украсят — вот и кладбище будто зацвело по-весеннему.
Скоро праздник, пойдут на могилки покойников поминать.
Вот и я хочу помянуть: рассказать про Гришиного батяню, который полгода назад, я считаю, геройски взорвался на гранате и спас семью.
Про него ведь никто не расскажет. Совсем недавно, тоже наш землячок, отставной полковник, прямо на кладбище, спьяну ли, сдуру, всего лишь стрельнул из пистолета в жену свою, ранил ее. И сразу всей России известен: в «Комсомолке», в газете, на первой странице — огромный портрет, на второй — объяснение: как стрелял и зачем.
В Германии какой-то мальчишка своих школьных учителей да товарищей перестрелял. У того и вовсе теперь мировая известность.
А вот Гришин батяня недотянул. Во-первых, обычный пьющий слесарь-водопроводчик ли, сантехник в крохотном поселке. Совсем не полковник. А во-вторых, никого не угробил, даже напротив, хотя намерения были весьма серьезные: «Я вас всех, в бога мать!!» А получилось — спас, как говорится, ценой собственной жизни. Геройски, я считаю, погиб. И страна об этом не знает. Вот если бы он грохнул всех, как вначале хотел: «В бога мать!» Неделю назад я про такого читал. Огромная статья в «Литературной газете». Тоже — человек пьющий. «В бога мать!..» И казнил своих близких: сына застрелил и жену.
У Гришиного батяни вышло по-другому.
Давайте я расскажу по порядку. Про Гришу и про отца его.
В прошлом году я приехал в поселок поздно, в конце мая, уже цвела акация, было зелено и тепло. Всякий день поутру я ходил купаться, а вечерами долго сидел на причале, возле воды. Ночами ловился крупный лещ, по килограмму и больше. Утром на причале ребятишки да старики дергали красноперку, плотву. А вечером сходились и съезжались люди серьезные. У них спиннинги, катушки, прикормка — все для дела. И ловили за ночь по пять-шесть лещей, а кто и больше.
Народу на причале собиралось довольно много. Взрослые леща добывают, мальчишки — бычков и всякую мелочь.
Я не ловил. Я лишь сидел на чугунном, за день нагретом кнехте, радуясь просторным воде и небу да развлекаясь рыбачьей суетой. Люди приходили одни и те же, здешние, и я к ним понемногу привык, особенно к завсегдатаям, стал узнавать их, здороваясь и порой беседуя.
Погода случалась всякая. Бывали тишь и покой, и тогда, особенно вечером, народу собиралось множество: порыбачить, просто отдохнуть. Но случалось и другое: ветер, волна. Людей немного. Лишь завзятые рыбаки. Среди них — мальчик лет десяти ли, двенадцати, по имени Гриша. Черноглазый, приятный на лицо, но не больно ухоженный: заношенные спортивные брюки, рубашонка, худенький, бледноватый. Он проводил у воды, на причале, чуть не круглые сутки. По утрам немудреною удочкой ловил всякую мелочь. Приятели-сверстники относились к нему очень уважительно, часто призывая на помощь:
— Гриша, у тебя свинца нет на грузило?
— Гриша, привяжи крючок…
Гриша да Гриша… Он никому не отказывал: и грузило, и поплавок в своей сумке найдет, и крючок поможет привязать узлом-«восьмеркой», а вовсе малым ребятам установит нужную глубину для верхоплавки, для бычка — кому что желательно.
Вечерами, во взрослой компании, Гришина подмога, конечно, никому была не нужна. И он словно завороженный сидел возле своих удочек, неприметный в сумеречной густеющей тьме. По всему было видно, что этого мальчишку дома не больно и ждут.
Скоро углядел я и Гришиного отца, батяней он себя называл. Обычный пьющий мужичок, тут с первого взгляда все ясно: черноликий, в потрепанной одежонке. Но из шебутных: разговорчивый, суетной. Бегает, мельтешит от одного рыбака к другому. И сына не забывает: подскочит к нему, даже присядет рядом:
— Ловишь, Гриша?.. А глубина? А насадка? Твой батяня тоже ловил.— Это он о себе повествует.— И спиннинг хороший был, кто-то упер. Твой батяня ловил. И будет ловить. В город поеду, куплю катушки и тогда… Мы с тобой, сынок…
На долгие речи у Гришиного батяни времени нет.
К одному, к другому подсел. Не столько на воду да поплавки глядит, сколько ищет обычной поживы. У серьезных рыбаков, из тех, что приходили на всю ночь, у них имелся запас, «на случай», чтобы не озябнуть. Но не для Гришиного батяни. А он все равно стрекочет — попытка не пытка, к одному рыбаку да к другому пристроится. Но в конце концов удаляется, не забыв напоследок о сыне:
— Ты долго-то не будь… Мамка заругает.
Мальчик обычно молчит, сторожа свои снасти.
Однажды был зябкий и ветреный вечер. Народу на причале — немного, лишь люди взрослые. Из детворы один только Гриша пристроился, скорчившись в ненадежной затишке, под выступом причального съезда, и сидел там. В обычной своей рубашонке, без головного убора. Откуда ни возьмись объявился батяня. Пострекотал возле одного да другого. Углядел сына.
— Рыбалишь, сынок…— И обычное: — Ты долго-то не будь.
А уже, считай, ночь на дворе. И было подался прочь с неуютного, ветреного причала, но лишь в последний миг, сообразив, снял пиджачок, накрыл им сына, наказав:
— В чулане потом повесишь. Я утром заберу.
— А ты сам не замерзнешь?
— Да я чего…— передернул батяня плечами.
— Он найдет, чем согреться…— сказал кто-то из рыбаков.
— Это уж точно…— хохотнул батяня, торопясь в поселок.
В дневную пору я видел батяню то там, то здесь: с какими-то железками — значит, при деле; у магазина, где торговали дешевым разливным пивом; в сени деревьев, в веселой компании таких же, как он.
Всегда говорлив, всегда, как говорится, «выпимши», энергичен: «Счас, счас… Заделаем… Нет вопросов…» — чего-то обещает и тут же куда-то мчится развинченной легкой походочкой. Кепочка — чуть набекрень, затасканный пиджачок, рубашечка в клетку, разношенные сандалии на босу ногу. Днем — в поселке, вечером появится порой на причале. С одним да другим перекинется словом, покурит. Ко мне подходил, толкуя о леще да жерехе, но в глазах наивная детская надежда: «Может, здесь повезет…» Не везло. И он уходил со вздохом, напоследок не забыв наказать своему Грише:
— Долго не будь, сынок… Мамка заругает.
Говорливый мужичок, сыплет обычными шуточками: «Мы работы не боимся… Лучшая рыба — это колбаса…»
Тараторит, машет руками, а глаза не больно веселые, куда-то все в сторону глядят. Дело понятное: побейся-ка целый день, на питье добывая, а вечером — выволочка от жены, пусть и привычная, но от этого не легче. Пьяницам, им тоже не позавидуешь. Не сахарная у них жизнь.
Может, оттого порой и куражатся. И чаще всего кураж дурной. «Не уважаешь?» Значит — ножик ли, ружье, а нынче и автомат… Что попадет под руку. Режь да стреляй, коли «не уважают».
Это покойный мой дедушка, Алексей Васильевич, был иным. Иногда выпьет рюмку-другую, приходит домой под хмельком, веселый и заявляет с порога: «Дорогие мои детки! Хотите меня бейте, а хотите убейте, но я выпил и буду вам на гармошке играть».
— А мы радуемся,— вспоминает моя мать.— Он на гармошке играет, а мы все поем и пляшем. Праздник…
Нынче чаще всего пьют не рюмочку-другую, и «веселье» для домашних нелегкое.
Вот и наш землячок-полковник: «Не уважаете. Будем стрелять…» Прославился.
Про подвиг Гришиного батяни никто не узнал. А ведь тоже был пьяный. Крепко поругались в семье. Все на него: жена, дочка и сын. И тот же хмельной кураж: «Не уважаете… Буду казнить…» А под рукою не что-нибудь, а боевая граната.
Наверняка он просто хотел попугать. Шумливую свою жену и дочку, которая тоже голос начала поднимать. Конечно, хотел их как следует пугануть. Не переорешь ведь баб…
И конечно, все — дело случая. Допекли… А когда допекут, в сердцах чего не наделаешь. Вот и батяня наш в этой домашней ссоре вскипел, взбеленился, тем более дурной хмель в голове.
— В бога мать! С такой жизнью! Всех вас…— Ухватил эту злосчастную гранату и, выдернув чеку, кинул посреди комнатки. В бешенстве, в ярости, хмельной человек.
Но все же мне думается, что чеку он выдернул случайно ли, ненароком. Но ничего уже было нельзя изменить.
Граната упала на пол. Вокруг нее в тесной комнате — четверо: жена, дочь, сын Гриша и он, батяня. И всего несколько секунд времени между вырванной чекой и взрывом.
Батяне с лихвой хватило этих секунд, чтобы отрезветь, все понять и сделать последний шаг. «Он побелел как стена»,— потом вспомнит жена. Батяня успел, кинулся на пол, упав на гранату. Тут же рвануло. От взрыва даже деревянный пол в комнате проломило. А уж про батяню чего и говорить. Он умер мгновенно, весь взрыв и металл приняв на себя. Никого не тронуло: ни детей, ни жену.
Вот и вся история про Гришиного батяню. Конец.
Нынче могилки на кладбище прибирают, скоро Пасха. Станет совсем тепло; зацветет акация; начнет ловиться крупный лещ; на причале по вечерам, особенно в погожие дни, народу много, взрослые и ребятишки. Гриша будет сидеть, с удочкой ли, с закидушкой.
Спасибо тебе, батек. Ты в жизни, конечно, покуролесил. Крови родным попортил. Но вот ушел по-хорошему, по-людски, никого с собой не забрав. Пусть живут.
2002 год
«Новый Мир», №10
Перед праздником
Нынешняя зима словно подарок: снегопады, метели, легкий мороз. Давно такой зимы не было. И так рано пришла. В середине ноября, когда уезжал я из Волгограда на поезде, было тепло, а утром в купе проснулся — за окном зима, белое Подмосковье: поля, перелески, людские селенья — все в снегу.
Жил я, как всегда, в Переделкине, двадцать минут от города, а иной мир: старые березы, вековые сосны, покой, тишина, да еще снег валит и валит. Живи и радуйся.
А вот радости как раз было мало. Нынешний год приехал я в Москву не просто развеяться, но с болезнью, надеясь и не надеясь на докторов столичных, до которых еще достучись.
Рано утром впотьмах поднимался я и брел к электричке, ехал в битком набитом вагоне. Потом — слякотный перрон, под ногами — жижа. Городские зимние угрюмые сумерки. Людской поток несет тебя ко входу в метро. Там давка: в дверях, у турникетов, у эскалаторов, в подземных переходах. В желтом электрическом свете течет и течет молчаливая людская река.
А наверху, на московских улицах, тоже несладко. Под ногами — наледь нечищеных тротуаров или снежная каша пополам с солью.
Потом — больничные коридоры, очереди, долгое время ожидания. Один кабинет да другой. «Ждите, ждите… Вы не один… Ожидайте… Может быть, завтра, а может, на той неделе… Видите, сколько народу?..» Чего тут ответишь, лишь вздохнешь: нет, не стоит хворать, а уж в нынешние времена — тем более.
К вечеру наглядишься, наслушаешься, устанешь, еле бредешь.
Снова — метро, его подземелья. Господи, какая сила загоняет нас в эти угрюмые норы… Выберешься оттуда, вздохнешь и спешишь к электричке, в ее вечернюю толкотню, Бога моля, чтобы не отменили.
Так и текла моя московская жизнь: за днем — день, за неделей — другая. Затемно встанешь, затемно к дому прибьешься. Ничему не рад, даже зиме и снегу.
Уже пошел декабрь, спеша к новогодью, а у меня — песня прежняя, и чем длинней она, тем тоскливей.
Однажды вечером мне повезло вдвойне: электричку не отменили и вагон оказался не больно набитым. Уселся, газету развернул для порядка. Хотя чего там вычитывать: убили, взорвали, ограбили, да еще склоки, кто больше украл. Но по привычке достал газету ли, детектив и вроде укрылся: не трогай меня. Вечерний поезд, усталые люди. Зима, теснота, из тамбура дует и дымом несет, кто-то ворчит, а кто-то уже ругается.
Газету я вынул, глаза прикрыл, но задремать не успел: застрекотали рядом молоденькие девушки. Слава богу, что обходились без убогого «блин», «короче», «прикольно». Обычная девичья болтовня: лекции, практика, зачеты — словом, учеба. Потом Новый год вспомнили, ведь он и впрямь недалеко.
— Подарки пора покупать…— сказала одна из них.— А чего дарить? И все дорого.
— Ты еще подарки не приготовила?!— ужаснулась другая девчушка.— Когда же ты успеешь?! Ведь всем надо!
— А ты?..
— Ой, у меня почти все готово… Маме я еще осенью, когда в Кимрах была, купила домашние тапочки на войлоке, старичок продавал. Ручная работа, недорого. У мамочки ноги болят от резины… А там — войлок. Они, конечно, грубоватые, но я их облагородила: обшила голубенькой каймой, а тесьмой сделала цветочек. Получилось — картинка. Ой, как мама обрадуется!— Голос ее прозвенел такой радостью, словно ей самой подарили что-то очень хорошее.
Я голову поднял, взглянул: обычная молоденькая девушка. Сняла шапочку, светлые волосы рассыпались по плечам. Лицо живое, милое.
— А дедушке я прямо в этой электричке купила,— продолжался рассказ.— Он у нас такой смешной. Он любит читать о преступниках. Сам такой добрый, а читает про преступления и ворчит: «При советской власти такого не было, не было…» Я ему купила целых два тома, в электричке продавали недорого, всего за двадцать рублей. «Преступления века» называется. Он будет такой довольный, так обрадуется!— прозвенел в вагоне счастливый девичий голос и смех.— А бабушке… Мы завтра будем на практике, там рядом хороший магазин для диабетиков. Я уже все разглядела. Бабушка болеет, а ей тоже хочется вкусненького. Я ей конфет возьму и печенья для диабетиков. Красивый пакет. Как маленькой! Она так будет рада!
И снова — счастливый смех. Лицо девушки светилось радостью, глаза сияли — такая была довольная.
— А папе… У нас такой папа хороший, работящий. Он минуты не посидит… И я ему подарю…
Не только я и соседи, но, кажется, уже весь вагон слушал счастливую повесть девушки о новогодних подарках. Опустились на колени раскрытые книги, развернутые листы газет. Наверное, у всех, как и у меня, отступило, забылось дневное, несладкое, а просыпалось иное: ведь и вправду Новый год близок, скоро уеду, а никому не купил московских подарков, даже в магазины не заглядывал. Вроде не до того. А ведь все равно — Новый год.
Ах, как вовремя Бог послал вагонного торговца, каких нынче милиция гоняет! Торговец поставил объемистую сумку и запел:
— Вашему вниманию предлагается! Женские и мужские носовые платки! Салфетки с новогодней символикой…
Он и песню свою не успел допеть, а к нему уже потянулись:
— Дайте поглядеть…
— А сколько стоит?
Торговля пошла на удивление бойко. Женские носовые платки покупали, пестренькие, с ажурной каймой… Чем не подарок? И мужские — построже, но приглядные. Салфетки с Дедом Морозом и елками шли нарасхват. Сумка торговца на глазах опустела.
— Ну и вагон!— радовался продавец.— Молодцы! И правильно! Товар хороший! Я плохим не торгую! Завтра еще привезу.
А тем временем электричка уже спешила к моей станции. Здесь выходит много народу, новый район. Собирались, прятали так и не прочитанные книги, газеты, поднимались к выходу, проходя с улыбкой мимо девушек, глядели, угадывая: какая из них? А молодая женщина, что сидела напротив, через проход, на прощанье сказала:
— Спасибо тебе, милая.
Девушка не поняла, о чем речь, улыбнулась недоуменно: за что, мол…
И в самом деле — за что?
Я вышел из вагона, торопиться не стал, пропуская спешащих. Им еще на автобус, к Боровскому шоссе, в новый район, а мой путь — недолгий, пешочком, два шага, считай, осталось. Дорога славная: березы да сосны сторожат тропинку; не больно холодно, а на душе, на сердце и вовсе тепло. Спасибо той девочке, которую унесла электричка. А в помощь ей — малиновый чистый закат над черными елями, бормочущая во тьме речушка под гибким деревянным мостком, говор вдали, детский смех и, конечно, надежда. Так что шагай, человече…
2002 год
«Новый Мир», №10
Охота на хозяина
Городской внук свалился словно вешний снег на голову: в час предвечерний гавкнул и разом завизжал виновато дворовый пес Тришка. Старая Катерина в окошко глянула — и обомлела. А внук был уже на пороге.
— Мое дитё…— охнула Катерина.— Ты откель взялось? Либо пешки шел от станицы?.. А может, от самого города?
— Я — поездом, а потом — попуткой, а потом трактор подвез, а потом — пешком…— докладывал внук.
— Страсть Господня!— схватилась за голову бабка.— Ночь на дворе, а дитё по степи блукает. И мать отпустила? Либо она умом рухнулась? Или ты сам убег не спросясь?
Заступился, как всегда, дед:
— Какая беда… Прошелся, провеялся на молодых ногах. Я, бывалоча…
— Это все — бывалоча!— отрезала жена.— А ныне — и волки, и люди хуже волков. Тем более дитё городское. В тепле ему не сиделось… Без спросу убег?
— Мама разрешила. И мы же договаривались,— оправдывался мальчик, поднимая на деда глаза,— в ноябре, на каникулах, когда судак пойдет…
— А он и вправду идет,— подтвердил дед.— Могу похвалиться.
— Погоди…— пыталась остановить мужиков старая Катерина.— Голодное дитё, замерзло… С судаками с твоими…
Но мальчик был уже во дворе и мчался к дощатому ларю, где обычно хранилась свежепойманная рыба. Он крышку откинул и охнул: два судака, и не какая-нибудь мелочь вроде подсулков и «карандашей», а настоящие судаки, могучие, полосатые, в жестком панцире чешуи. Мальчик потрогал одну и другую рыбину — не сон ли?— и недоверчиво спросил у деда:
— На блесну? Не сеткой?
— Какая сетка, блесна,— подтвердил дед.— У Красного створа. Завтра с тобой попытаем. В две руки. Может, повезет.
Мальчик на рыбу глядел и переводил глаза на деда, поверить не мог.
— Правда? И я поймаю, на удочку?
— Попытаем,— усмехнулся дед.— Погода не подведет, можешь поймать.
Смеркалось. В глубине ларя, на дне его, лежали большие молчаливые рыбы. В сумеречной полутьме закрома мальчику они казались огромными, спящими и могли уплыть.
— Нагляделся? Пошли в хату,— поеживаясь, сказал дед.
Пасмурный вечер наливался тьмой, дышал стылой осенней сыростью.
А в хате под низкой уютной крышею горело яркое электричество, парили разогретые щи, шкворчала на сковороде жареная картошка и охала сердобольная бабушка Катя.
— Не намерзся?.. Побег?.. Обувка либо насквозь промокла? Ноги залубенели?.. Как же ты добралось, мое дитё?
Дорога на хутор и впрямь была неблизкой: пригородным поездом три часа, потом автобусом ли, попуткой до центральной усадьбы колхоза, а уж оттуда — как повезет: ненадежный проселок, особенно в непогоду, тем более осенью. Можно и пешком все двенадцать верст отшагать.
Мальчик был ростом и статью не больно великий: одиннадцатый годик пошел, а дитя дитём.
— И как тебя мать отпустила? И как ты добрался? Сидел бы и сидел в городе…
— Каникулы…— оправдывался мальчик.— Мы же с дедом договаривались судака ловить в ноябре. Я же никогда его не ловил, бабаня!— так искренне и сердечно произнес мальчик, что старая женщина сразу все поняла, приголубила внука:
— Рыбачок ты мой, рыбачок…
Родная дочь в семейной жизни была не очень счастлива; мальчонка рос, считай, без отца.
— Ладно, добрался — и слава богу,— постановил дед.— Давайте вечерять.
Кухонный стол был просторен. На нем уместилось пахучее хлебово и жарковье, молочное да овощная солка: помидоры, огурчики, хрусткая, еще не окисшая капуста с оранжевым морковным крошевом.
Мальчик ел в охотку, наголодав в долгом дневном походе, не успевал говорить:
— Я такие щи люблю, чтобы красные… А у нас кончился томат… Я картошку люблю, чтобы хрустела… Я сметану люблю мазать на булочку. Но она — дорогая. А каймак вовсе не укупишь… Знаешь, сколько стоит каймак на Центральном рынке? Пятьдесят. Маленькая баночка. А творог — шестьдесят или семьдесят килограмм. Поняла?!— пугал он городскими ценами бабушку. А потом деда: — Ты знаешь, сколько стоит судак? Шестьдесят за кило. А без костей, филе,— восемьдесят и сто. Его лишь крутые берут, богатые. Понял?
Ужин тянулся долго: еда, расспросы да разговоры. Потом чаевничали, тоже с беседой. Как-никак с лета не виделись. По теплому времени внук гостил на хуторе часто, подолгу. Привыкали к нему. А отвыкать труднее. Тем более, что старики жили одни. По нынешним меркам, стариками их называть было вроде и грех: шестьдесят годков с небольшим. Хозяйка еще видом приглядная, пусть и морщины, и проседь, но далеко не старуха. Хозяин телом тушист и силен: мешок с мукой ли, сахаром не покряхтывая несет. А все равно — не молоденькие. И просит душа родного тепла.
Но ужин ужином, беседы беседами, а главное — завтрашняя рыбалка, к ней надо готовиться. Принесли из кладовки просторную брезентовую суму, в которой снасти хранились, на полхаты разложив удочки со сторожками да катушками, мотки лёсок, шнуров, литые свинцовые грузила, простецкие и фасонистые блёсна. Всякая снасть должна быть наготове.
Хозяйка со стола прибирала и пела обычное:
— Поедут они хвост морозить. Летом надо рыбалить, по-теплому, а не зимой. Тама — ветер, волна…— пугала ли, пугалась ли она.— Не дай бог, перевернетесь. Ты уж гляди за ним,— наказывала она мужу,— чтобы по лодке не сигал.
— Привяжу к скамейке,— отмахивался супруг.— А то он не рыбалил.
— То — летом, а ныне — зима, вода холоднючая. Взрослые перетонули, милиционеры,— вспомнила она.
— Пить надо меньше,— ответил старик.
— Где утонули, когда?— спросил мальчик.
— На Картулях,— объяснил дед.— Ловили судака. Да не ловили, а губили, били током. Городские менты. Там зимовальные ямы. Кто-то подсказал. Они их и чистили. Сейчас же нет законов, чего хочешь твори. Тем более менты. И утонули ночью. Пьяные. Лодка перевернулась — и шабаш.
— Савушка сказал, что их водяной утянул, хозяин,— добавила бабка.— Мол, озлился, что рыбу губят, и утопил.
— Это все брехни,— постановил супруг.— Сом человека не утянет.
— Еще как утянет. Девчонушкой была, у нас утягивал мальчика маленького. А козла утопил сом, помнишь, в устье, на Малом Набатове. Утопил, а не смог заглотнуть и подох. Так и нашли их.
Старик был непреклонен:
— Утку, гуся — это я сам видал. Собаку, пусть даже козу… А человека, тем более взрослого, не возьмет сом. Даю сто процентов гарантию.
— Савушка лучше знает,— на своем стояла супруга.— Водяной хозяин в Дону живет, возле хутора, старый сом, ему сто лет. Он кого хочешь утянет.
Древний хуторской бобыль Савушка, сам похожий на лешего ли, водяного, чуть не круглый год проводил на Дону, на озерах и старицах, понемногу рыбачил, грибы собирал, ягоды, по слухам, знался с нечистой силой, какая прячется от людских глаз в займищных буреломах, глухих заводях.
— Савушка твой…— отмахнулся дед.— У него в башке — тараканы.
— Это у вас — тараканы, а не у Савушки,— не сдавалась супруга.— Сколь рыбы губят. На Ремнево… Разве хорошо? Бомбу кинули.
— Какую бомбу? Настоящую, с самолета?— встрепенулся внук.
— Взрывпакеты,— разъяснил дед.— Городские какие-то приезжали.
— Погубили сколь рыбы,— охала бабушка.— Там завсегда серушка, это еще девчонкой помню. Всем хватало. И голубяне едут, и бузиновские едут, из города едут. Зимой и летом. А теперь доумились, все сгубили. Правду Савушка говорит. Такого и в голодные годы не было, чтобы рыбу губить. Удочкой, вершей, бредешком, нитяная сетчонка. А ныне… страсть божия: сетьми обставились, неводами цедят, током бьют, взрывают… Савушка голимую правду гутарит: «Не жадайте, не губите…»
Мальчик знал старого Савушку, побаиваясь его, когда приходилось встречаться за хутором, возле речки. Среди вербовой да тополевой чащобы сгорбленный бородатый старичок появлялся неожиданно, пальцем грозил: «Много не лови. Не губи рыбу…» — и также вдруг исчезал, словно и впрямь колдун. Но сейчас вспоминать об этих встречах было легко и вовсе не страшно. В теплом доме, под ярким светом, среди радужного разноцветья блёсен, мормышек, поплавков, переливчатых каучуковых рыбок, катушек, лёсок, источающих запах речной воды, рыбьей слизи, чешуи, конечно же, не могло быть страха, но грезилось, не могло не грезиться доброе лето.
Глухая протока. Низкие своды вербовых ветвей. Близкие берега — в непролазных зарослях куги да чакана. Лодка еле ползет, пробираясь в плавучей зелени. Здесь водится потаенная рыба линь. Удочкой ее не возьмешь. Малая сетчонка не тонет. Приходится лезть в воду, протаптывать, пробивать до дна подводные глухие дебри, чтобы сетчонка встала стеной возле камыша, в подножьях, в корнях которого кормится линь. А назавтра снова пробивались туда же, уходя от света в зеленую полутьму. Обмирало сердце, когда, увидев затонувший или колыхавшийся поплавок, дед говорил: «Там кто-то живет…» Говорил негромко, словно боялся спугнуть. И мальчик повторял за ним, а иногда успевал первым увидеть и сказать: «Там кто-то живет…» Поднимали сетку, и объявлялся — в золотистом мягком сиянии — губатенький линь, увесистый, как и положено драгоценному слитку.
Ловить красноперку в просторной заводи, на чистоплесе… Мальчик любил такие слова: «На чистоплесе. Верхоплавом идет». Или развести руками: «Отказала рыба… Молчит…»
Пусть «молчит», пусть «отказала», потому что ушла на глубь, к непогоде. Мальчик любил не улов, не добычу, но просто рыбалку: речную волю, разговоры да байки про хитрых щук, которые уходят даже из лодки; про озерных карасей, которым нипочем летняя сушь и безводье; про времена былые, о них вспоминала даже бабушка: «Какая была стерлядка, красивая, на солнушке аж горит… А потом — пропала. Покойник папа последние годы ее и не брал. Попадется, он поглядит на нее и отпустит: иди гуляй, родная». Вспоминали могучих осетров, севрюг да белуг, о которых нынче забыли. А в прежние времена приходили на становье к деду Харлану, тот говорил: «Выбирай…» На урезах, на привязи гуляли у берега, в светлой воде сказочные рыбы в золотистых шеломах да бляхах, словно витязи подводного царства.
Прошлого не вернуть. Но и теперь вокруг и рядом — вода, свежая зелень, ветер, шелест листвы, солнечное тепло, голоса птиц и молчание рыб, которые, конечно же, где-то совсем близко. И невеликий старичок с длинными волосами, в бороде, он вовсе не страшен, то появляясь, то исчезая в солнечном свете и в зеленых сумерках чащи. То появляясь, то исчезая…
— Да он уже спит…— негромко сказала бабушка.— Намучилось дитё… Рыбачок ты мой, рыбачок,— подняла она легкое тело и унесла на кровать, в который раз сетуя: — И как он добрался-то, Господи…— И попеняла дочери: — Отпустила, легкая душа, и сердце не болит. Так, сею-вею…
— Упросил, наверное,— вздохнул дед.— Хочется. Он большую рыбу сроду не ловил. Он и малую-то не очень… А тут судак, сколь говорено…
— Ты уж подмогни ему,— попросила жена.— Нехай дитё порадуется… Такой уж худенький, в чем душа… Вроде и не болеет.
— Растет…
— Может, и так… Но другие вон — гладыри, а наш — кащелый.
Говорили о внуке, о дочери, о городском их, не больно ладном житье. А мальчик крепко спал, легко перейдя из благодатной яви в счастливый сон, где теплое лето, зелень и цвет просторного луга, прохладная сень деревьев, прозрачная вода, в которой медленно плывут и плывут нарядные красноперки, серебристая плотва, золотые лини, полосатые судаки, иные, неведомые рыбы.
Мальчик проснулся так же легко, как и заснул. Открыл глаза, словно и не было долгой ночи: лампочка светит, дед за столом сидит, шкворчит на печи, испуская сладкий дух, жареная картошка.
— Я уж будить тебя хотел. Поднимайся. Позавтракаем — и вперед.
Мальчика ветром из кровати выдуло.
— Не торопись,— сказал ему дед.— Успеем. Как следует подзакусим. Время позволяет.
Время и впрямь позволяло. Позавтракали, чаю напились, тепло оделись и лишь тогда вышли в ночь.
Было темно и звездно. Дворовая грязь была схвачена холодным утренником. На дворовом столе и скамейках смутно белел иней.
— Минус два,— объявил дед, чиркнув спичкой у градусника.— Значит, давление поднялось, малек ушел вниз, а судак — за ним. Там мы его и возьмем.
— Возьмете,— провожала их хозяйка,— хворобу на свою голову. Померзнете на сухарь, а он потом школу будет пропускать. Побудьте чуток и ворочайтесь.
Шагали к лодке, к Дону, через спящий хутор, мимо темных домов. Даже собаки еще спали, не лаяли. Далеко вдали, за Доном и лесистым займищем, чуть брезжило, белело. Прихваченная морозом земля глухо отзывалась шагам. Деревянная лодка, скамейки ее были покрыты белым ворсистым инеем. Дед сгреб хрусткое снегово рукавицей, постелил на корму мешок, сказал внуку: «Садись». И поплыли.
Помаленьку светлело. Над лесом разгоралась заря, ясная, алая, отсвечивая розовым на редких облаках, на тихой воде. Весла и ход лодки разбивали розовую гладь, оставляя за кормой алую переливчатую зыбь. В желтых береговых камышах сонно прокрякала утка и смолкла. На придонских холмах, в займищном голом лесу, на просторной воде — предзимнее оцепененье. Нигде ни движенья, ни звука. Даже рыба на воде не играет.
Переплыли Дон наискось, на теченье. Подступил берег левый — лесистый, песчаный, с обрывистыми подмывами, с буреломом. Всякий год полая вода валит прибрежные тополя и вербы, выворачивая и оставляя надолго мешанину корней и ветвей.
У старика свои места, привычные и проверенные за долгие сроки.
— Здесь, под берегом,— глубь,— негромко объяснил он.— Три тони. От осокоря до дуба. Потом от обрыва до закоска. И третий — до красного створа. Нынче холод, малек ушел на глубь, там потеплее. Судак — за ним.
Короткие, для зимнего лова, удочки налажены с вечера: катушка, сторожок, блесна. Узкий лепесток свиного сала — на крючок, туда же парочку рдяных навозных червей.
Дед, резко угребаясь, поднял лодку к началу первой тони, бросил весла и пустил блесну вниз.
— Давай,— сказал он внуку.— Ты на окуня зимой рыбалил, так же самое: положил на дно, приподнял. Снова положил, снова поднял. Не спеши, попридержи наверху. А то он не догонит.
Мальчик опустил блесну, проводив ее взглядом, пока не скрылась бель и алость наживы в темной прозелени глубины. Катушка разматывалась, леска долго шла внатяг, а потом ослабла. Это было дно. Наука лова и впрямь не больно хитрая: подними блесну, опусти, снова подними, опять опусти.
— Он и со дна берет,— рассказывал дед.— И с подъема, ударом. Иной раз проверяет ли, любопытничает, трется. А то хвостом лупанет — вроде глушит.
Мальчик, казалось, не слышал слов, завороженно поднимая и опуская снасть. Он будто не слышал, но видел через глубокую толщу и тьму, как подходит к наживе большая рыба. Песчаное дно. Тяжелая блесна с грузом ложатся на грунт, а потом поднимаются, вздымая легкое облачко мути. Но ясно видится белый лепесток сала, алые живые черви, оловянный отсвет блесны. Большая рыба, и впрямь любопытствуя, проходит рядом, задевая наживу, а потом бьет хвостом.
Дернулась рука, почуяв удар… Но рыба лишь играла. Картина виденья исчезла, когда дед быстро-быстро стал выбирать леску, и вот, уже взмыв из воды, упал в лодку большой полосатый судак, глухо колотясь тугим узким телом по решетчатому настилу.
— Не сепети, приехали,— остудил его дед, вынимая блесну и бросая рыбу в носовую часть.— Один — ноль…— улыбнулся он внуку.
Но мальчик его не слышал. Он лихорадочно начал выбирать леску, бросая ее под ноги, он чуял натяг и понимал, что там рыба, но поверил в удачу лишь потом, когда судак уже бился в лодке, путая леску, а мальчик не мог его ухватить, пока дед не помог. И вот уже пойманный судак стучит-колотится в носовой части. А мальчик еще не верил, хотя видел мощное стальное тулово рыбы, большую голову, зубастую пасть, но все это — словно короткий обморок.
Леска, брошенная на дно лодки, спуталась. Старик поучал:
— Ты поднимаешь рыбу, леску на корму клади, кругами, а не кидай под ноги.— И похвалил: — Хорошего судачка поднял. Килограмма на полтора. А бабка не верила.
Мальчик и сам не верил. И прежде чем продолжить лов, он шагнул в нос лодки, потрогал, а потом взвесил в руках свою добычу, тяжелую и еще живую.
Второго судака мальчик поймал сразу же, лишь опустив блесну, и снова в горячке толком ничего не понял: натяг, лихорадочное выбирание лески. И вот уже в лодке широко разевает зубастую пасть и раздувает жабры большая рыба с нежно-белым подбрюшьем.
— Даешь!— восхитился дед.— Два — один. Мне надо упереться.
Третьего судака мальчик вытаскивал почти спокойно, зная, что поднимет рыбу. А вытащив, углядел: судак зацепился снизу, крючком в брюхо, под верхний плавник.
— Смотри,— показал он деду.
— Это он интересничал, а ты подсек. Бывает…
Они прошли по течению три тони, до Красного створа — судоходного знака на берегу.
— Неплохое начало…— оценил дед.— Пять штук. Я вчера за день столько не взял.
Он развернул лодку и стал подниматься вверх, к упавшему осокорю, к началу охоты.
Утлая лодочка — скорее челнок — вышла из береговой тени и пошла им навстречу. В ней сидел, легко угребаясь одним лишь лопатистым веслом, Савушка — древний хуторской старик, заросший сивым волосом, с длинной бородой.
— Здорово живешь,— поприветствовал его дед.
— Рыбалите?— спросил Савушка.
— Начинаем.
Челнок медленно прошел рядом; Савушка сказал:
— На уху поймаете — и будет. Не жадайте. Вон хозяин глядит,— и указал перстом на берег.— Все видит.
И словно подтверждая, большая темноперая птица что-то проклекотала, устраиваясь на маковке высоченного дуба.
— Нам много надо,— посмеялся дед.— Город будем кормить. И на зиму, в запас.
Савушка лишь головой покачал, ничего не ответив. Кургузая его лодчонка ушла по течению.
А мальчик и дед, поднявшись к приметному дереву, снова принялись блеснить. И уже на первой тоне подняли двух судаков и большую щуку.
Нехитрая наука: положил блесну на дно — приподнял, снова положил — поднял и подержал на весу, поддразнивая судака. Мальчик уже не глядел на леску и воду, чуя рукой движенье блесны. Положить на дно — поднять; положить — поднять и подержать недолго. Удар! Подсечка… И вот уже через толщу воды, упруго сопротивляясь чужой воле, идет рыба.
У деда с каждой удачей разгорался азарт.
— Полюбопытничал, а не взял…— досадовал он и тут же брался за весла.— А мы еще разок проверим эту ямку, пройдем.— Поднимаясь вверх по течению, он снова опускал снасть, пытая удачу.— Вот так!— торжествовал он, поднимая рыбу.— Я говорил, не уйдет. Нынче наш день!
У мальчика, напротив, интерес к ловле, тоже от рыбы к рыбе, словно пропадал. Первая, вторая, третья… эти были открытием ли, победой. Огромные судаки. О таких он даже не мечтал. А они — вот. Подергал блесной, зацепил и поднял. Снова подергал — и опять леска внатяг, режет воду. Сначала все вроде в беспамятстве: дыханье перехватывает, руки дрожат. А потом стало скучно.
— Точно угадали…— горячился дед.— Я угадал: давление высокое, малек — в ямах, и судак за ним табунится. И никого, слава богу,— оглядывал он пустую реку.— Ни голубинских, ни песковатских. Он всю неделю молчал, вот никто и не едет. Ныне наш вакан…
Проклекотала с высокого дерева темноперая птица. Мальчик поднял голову, спросил:
— Это кто?
— Орел-белохвост. Рыбку любит.
— Может, и правда хватит?— спросил мальчик.— Вон сколько поймали.
— Да ты что?!— даже опешил дед.— Рыба идет. Две недели не было жору. Да мы ныне огрузимся, если так будет брать. И в город с собой наберешь, и насолим. Лишь бы не отказала. А Савушка, он глупой, чего слухать. Вот он! Есть! Иди сюда…— быстро выбирал он леску.— Иди сюда, дурачок… Не дурачок, а цельный дурак,— проговорил дед уважительно и взял лежащий наготове подсачек, осторожно подвел его и поднял в лодку увесистого судака.
Большая птица, еще раз проклекотав, захлопала крыльями, дед услышал ее, поднял голову, спросил:
— Либо завидки берут? Лови, а не кукарекай.
А мальчику стало скучно. Разве это рыбалка?.. Опустил — дернул, опустил — дернул. Зацепил, вытащил — снова опускай и дергай. Цепляй за пузо.
Пустая холодная река, голые деревья займища, лишь на дубах ржавая жестяная листва шумит; понемногу начинается ветер. В небе — стылое солнце. На том берегу, где хутор,— высокие холмы, белые меловые обрывы. В пологом распадке, меж холмов,— тоже лес, тополевый. За ним — хутор. Там бабушка пирожки с пасленом печет. Мальчику захотелось туда, на хутор, в теплую хату.
Он любил реку, воды ее, рыбалку, просиживая летней порой на лодке ли, на берегу часы и часы. «Рыбачок ты мой…» — говорила бабушка. Но то было вовсе иное.
В городском быту даже маленькому человеку порой не хватает места среди кирпичных стен, людской толчеи, потока машин с их властным гулом и мощным неостановимым ходом. Что земля… Даже городское далекое небо закрывают и делят меж собой высокие этажи строений.
На хуторе, особенно у воды, на воде, мальчик чуял себя таким же свободным, как ветер ли, дерево, малая птица. Всем хватало земли, воды, солнца, неба и воли.
В тихой заводи скользили по зеркальной воде долгоногие водомерки, словно фигуристы на льду; серебристый малек наплывал целой стаей; порой в эту светлую стайку врывался черный горбатый окунек; и мальва удирала — веером, на бреющем, словно летучие рыбы. Нарядная носатая птичка зимородок присаживалась на низкую, возле воды, ветку, временами ныряя, ловя ту же серебристую мальву. Выплывал из камышей утиный выводок с мамой-кряквой. Медленно, угребаясь короткими лапами, проплывала водяная черепаха. Неторопливые цапли, замерев, подолгу стояли, сторожа тишину.
Зелень деревьев, щебет птиц, легкий ветер в вершинах. Поплавок на воде дернется и замрет. Что там, в неведомом подводном царстве?
Можно было долго сидеть у реки. Одному или с ребятишками. Слушать рыбацкие байки. Купаться в теплой воде. А потом вернуться домой, сказав: «Не клюет…» Или принести невеликий кукан плотвичек, ласкириков, красноперок.
Мальчик любил такую рыбалку. А нынешняя — все по-иному: опустить на дно — приподнять, опустить — приподнять. Сплыть до Красного створа и угребаться наверх. И снова плыть… Опустил блесну, поднял… Удар, подсечка — вытаскивай судака.
Мальчику было скучно, добыча не радовала. Он вздыхал, ежился, словно озяб. Но дед ничего не видел, не слышал, распаленный удачной охотой. «Вот и еще один! Иди сюда!» Для него было главным — не потерять везенья. Добыча — рядом, он чуял ее через темную воду. Он видел пологое корыто фарватера, поперечные гряды и ямы. И даже силуэты ли, тени судаков. Не глядя на берег, он бросал весла точно за поваленным осокорем, низал на крючок лепесток свежего сала и парочку толстых, лоснящихся жиром и багровой кровью червей. Старик даже причмокивал, опуская в воду такую аппетитную наживу. «А вот и еще один,— радовался он.— Хороший! Ловить надо, ловить…»
Мальчику было скучно. Он не хотел вновь и вновь цеплять этих больших красивых рыб, превращая их в мертвое мясо, чтобы потом все это жарить, варить, солить. Живые ему были нужнее. Малахитовая спинка, нежно-жемчужное брюшко, плавники… Как прекрасна была эта рыба в воде, одним лишь движением хвоста набирая скорость! И как беспомощна здесь, в плену…
Лодку с борта на борт качало. Пришел низовой ветер, как всегда внезапный, словно с разгона. Загудели на берегу деревья.
Грузило и блесна на удочке старика легли на дно мягко. Приподнять, придержать, чтобы рыба учуяла, углядела и могла взять щедрую наживу. И снова — на дно, и снова легким движением вверх. И еще раз. А левой рукой подгребать веслом, удерживая лодку носом на волну.
Кто-то тронул ли, шевельнул наживу. Невольно, а скорее наитьем старик сделал подсечку и почуял тяжелый зацеп. Топлое дерево ли, коряга — мертвая тяжесть, без упора, какой бывает, когда берется даже крупная, но рыба.
— Цепа…— досадливо произнес старик, еще раз потянув, уже без надежды.— Надо отбойник…
Но там, глубоко под водой, вдруг что-то шевельнулось, и леска разом ослабла. Старик быстро поднял снасть и охнул: на крючке вместо белого ломтика сала и червей висел кусок серого рыбьего мяса.
— Сом,— сказал старик, показывая внуку вырванный шмат.— Вот это сомяра,— понизил он голос, вспоминая мертвую тяжесть на леске.
Он кинул под ноги слабую снасть и начал лихорадочно выбрасывать из холщовой сумки одно, другое и третье, досадуя: «Неужели не взял…», а потом обрадовался: «Есть!» Это был могучий, на капроновой бечеве снаряд с тяжелым крючковым тройником на конце.
— Он не ушел…— шепотом сказал старик.— Он лишь шевельнулся.
Мальчик взял в руку блесну с клоком серого сомовьего мяса и черной шкуры, поморщился — ведь живая плоть — и сказал:
— Он уплыл. Ему больно. Да и зачем он нам?..
— Он здесь,— сказал старик.— В этой яме. Не уйдет. С места не сдвинется. Это его бучило, хата его. Мы его возьмем.
Он говорил быстро, с задохом, чуял, как сердце колотится и перехватывает дух: такая скотиняка… Он рыбачил всю жизнь, он понимал, до сих пор чуя в руках тяжесть добычи.
По Дону катила, за валом вал, высокая разгонная волна, просвечивая насквозь стылой зеленью и белея кружевом гребней. Гудело безлистое займище. Ветер шел порывами, холодом обжигая лицо. Старик сбросил шапку, ветер заиграл седыми космами. Но старику жарко. Он греб и греб, поднимаясь и целя выше обычного.
— Сейчас мы его приманим,— говорил он.— Сейчас мы ему приготовим.
Он вытряхнул из банки червей и выбрал из живого копошащегося клубка самых жирных и толстых, самых красных, словно пылающих жаром червяков. Он их не нанизывал на крючки, а просто накалывал одного за другим. И вот уже в руке его словно расцвел алый живой цветок.
— Он увидит… Он почует…— сквозь зубы цедил старик.— Он возьмет.
Старик опустил снасть в волны. Живая нажива уходила вглубь, алея и шевелясь. Старик шумно вдохнул и замер, воздуху набрав, словно уходя под воду, вослед наживе, в глубь и в стынь.
Мальчик, свои снасти оставив, тоже замер, дыхание затаив. Лодка сплывала по течению, на встречном ветру; парусило и било волной. Старик подгребал левым веслом; рука правая привычно опускала снасть, чуя дно, и медленно поднимала ее. А потом снова — вниз и вверх.
Миновали плес.
— Молчит,— огорчаясь, сказал старик.
— Он ушел,— сказал мальчик и повторил убедительней: — Он, конечно, ушел. Ему больно. Кусок мяса выдрать. Конечно, больно. Он ушел. И он нам вовсе не нужен. Мы и так много рыбы поймали. Вон сколько… Погляди! А он пусть живет здесь.
— Нет, не ушел,— твердо говорил старик.— Мы его поймаем.— И снова начинал грести, поднимаясь вверх по течению.
— Он ушел,— убеждал мальчик.— И нам он не нужен. Ты столько рыбы никогда не ловил. Зачем еще… Хватит!
— Нет. Ты ничего не понимаешь. Мы поймаем его.
Старик нанизывал все новых и новых червей; иных давил, чтобы пахучий сок пошел по воде, дразня и приманивая могучего зверя.
«Его тут нет, он ушел»,— теперь уже про себя повторял и повторял мальчик, не желая ловить эту огромную рыбу. Но старший спутник его снова и снова греб, поднимаясь вверх по течению, насаживал новых червей и опускал ко дну тяжелую снасть.
Белохвостый орлан поднялся и стал кружить над водой, над рекой, над лодкой, словно разглядывал суету человечью.
Еще раз поплыли. Старик был рыбаком опытным, но азартным. Теперешняя снасть — крепкая витая бечева чуть не в полсотни метров длиною — заканчивалась железным зацепом, который защелкивался намертво на носовом, тоже железном, кольце. Нынче подвела горячка.
Глубоко внизу, возле самого дна, в тиши просторной зимовальной ямы, стоял, подремывая, огромный могучий сом. Порою едва заметно он шевелил лопатистыми плавниками, длинные нитяные усы поигрывали, словно жили отдельно. Сом вовсе не был голоден, но пахучий пук навозных червей он учуял и взял его ленивым засосом, а потом послушно, словно теленок, все в той же дреме стал подниматься, влекомый невеликой, но силой.
Старик почуял, когда рыба взяла наживу. На подсечку она никак не ответила, тяжело, но поддалась и стала подниматься вверх. Старик был готов ее попустить на длинный урез, ожидая рывка. А его не было. Медленно, но послушно тяжелая рыба все ближе подходила, поднимаясь из речной глуби. «Либо карша?..— вслух подумал старик.— Тяжеленная, а молчит…» Он встал возле борта, с трудом уже перехватывая бечеву за пядью пядь. Лопнула возле большого пальца дубенелая кожа, выступила кровь. Но боли старик не успел почуять.
Вода возле борта расступилась, открывая огромную, чуть не в лодку величиной, черную глыбину сомовьей башки с маленькими круглыми глазками. Голова показалась лишь на короткий миг, но людям он запомнился долгим. Старик и мальчик навсегда сохранили в памяти лоснящуюся кожу, облепленную пиявками ли, водяными червями. И осмысленный, словно удивленный взгляд.
Вода сомкнулась, голова исчезла. Сокрушительным ударом сомовьего могучего плеса-хвоста старика вышибло из лодки. Захваченный петлею бечевочного уреза, он, словно легкий поплавок, глубоко нырнул раз и другой, и мощным потягом его потащило прочь от лодки и близкого берега.
Зеленый пенистый вал накрыл лодку с захлестом, сразу почти вполборта. Всплыли решетчатые слани, рыбы в носовой части, еще живые, забились, почуяв свободу.
Мальчик, сбитый с кормы ударом, но оставшийся в лодке, поднялся и закричал:
— Дед, дед! Ты где! Де-еда!
Ухватив большие для него весла, он стал подворачивать лодку, чтобы ее совсем не залило.
— Дед! Де-ед! Де-еда-а!— истошно кричал он.
Ответом ему стал орлиный клекот. Закрыли солнце огромные крылья. Мальчик вскинул голову: могучая птица упала в лодку, тут же взмыв из нее с рыбиной в когтях и роняя в волну добычу. И снова гневный клекот, тень крыльев. Желтые злые глаза, кривой клюв. И еще одна рыба в когтях.
— Я понял!!— закричал мальчик.— Я отдам, я отдам рыбу!— Кинув весла, он стал выбрасывать из носового отсека пойманную им и дедом рыбу. Он выбрасывал ее в близкие волны и кричал: — Я отдам! Я все отдам!!
Могучая птица кружила низко, словно назирая.
Мальчик торопился, спешил, раня и раздирая в кровь руки зубчатыми пилами спинных плавников. Наконец он распрямился и выдохнул с криком:
— Все! Я отдал! Я все отдал!!
Он, стоя, тяжелыми веслами, с трудом поднимая их, неловко угребаясь, все же разворачивался на волну и кричал: «Дед! Де-ед!! Де-еда-а!!», пытаясь что-то увидеть в пляшущих волнах.
Он увидел его. Старик, подгребаясь руками, медленно плыл на спине, переваливаясь на гребнях волн и пропадая из виду… Останавливаясь и поднимая из воды голову, чтобы углядеть берег ли, лодку.
— Дед! Де-еда-а!
Старик его не слышал. Он наглотался воды, едва не задохнувшись, и начинал намокать. Тянули вниз стылостью схваченные, непослушные ноги в высоких валенках и калошах, которые сбросить нельзя. Но куртка еще не напиталась водой.
Старик уже отходил от испуга, он знал, что до берега может добраться, если не будет судорог и если… Самое страшное, с бечевочной петлей, позади. Но более смерти, поднимая голову и оглядываясь насколько мог, он боялся увидеть в волнах перевернутую или пустую лодку. Тогда уже все ни к чему и не нужно спасенья.
— Дед! Де-ед! Де-ед-а-а!!— тонко кричал мальчик, перекрывая истошным радостным визгом гул воды и ветра и подгребаясь все ближе и ближе к старику.
Потом он буксиром тянул его к берегу. Забраться в лодку, залитую водой, тем более в тяжелой мокрой одежде,— это вовсе затопить ее. Старик уцепился за корму. «Греби, не спеши…» — говорил он внуку.
Мальчик, как и прежде стоя под волной и ветром, неловко греб и глядел на старика, боясь, что тот снова пропадет, теперь уже насовсем.
На веслах, под ветер, с волной попутной к недалекому берегу они добрались. Старик трудно, но все же встал, почуяв ногами дно, и сразу начал вычерпывать лодку.
— Может, костер?— спросил мальчик.
— Нечем,— ответил дед,— и незачем… Ноги промочил? Застудишь. Помогай черпать, надо скорее.
Старик спешил. Но не мог не увидеть пустоту носового отсека.
— А рыба где?— спросил он.
— Я отдал ее,— ответил мальчик.
— Кому отдал?
— Он велел отдать… Чтобы тебя отпустили… Я все отдал… Он был здесь… Мы его обидели, забрали много рыбы. А он тебя забрал… Хотел утопить… Я все отдал.
Старик ничего не понял в бессвязных, горячечных словах мальчика и принялся скорее вычерпывать воду. Нужно было быстрее уплыть, добраться к теплу, к дому. Он видел, что с внуком что-то неладное; сам же он начинал замерзать. Все же не май месяц, а стылый ноябрь: ледяная вода и ветер.
Домой они добрались кое-как. Хозяйка, их увидев, вначале слова сказать не могла. Потом началось обычное женское — слезы, упреки: «Я говорила… Мое сердце как чуяло…»
Но слава богу, в доме пылала печь, горячей воды хватало и уменья, чтобы отогреть дорогих своих мужичков горчицей, малиной, перцовой водкой, теплой сухой одежкой, словами, бабьими умелыми руками и женским сердцем.
О том, что случилось на Дону, старик рассказал лишь ночью, когда мальчик спал. Про исчезнувшую рыбу поведал с недоуменьем.
— Он испугался,— объяснила жена.— Тут и я бы с ума сошла, а он — дитё. Слава богу, все кончилось хорошо. Только бы не заболел. А ты его не пытай про эту рыбу, не надо и гутарить об этом. Пускай забудет, вроде приснилось…
Старик, соглашаясь, кивнул головой, но все же досадовал: такая привалила удача, никогда не ловил судака так много. И сома, конечно, можно было взять, если бы рядом — подмога. Пусть помотал бы сом, но никуда не делся, крепко сидел. Помучить его, а потом вывести к берегу, на отмель. А сом был могучий. Наверно, именно тот самый Хозяин, про которого не только выживший из ума Савушка галдит, но прежде рассказывали памятливые хуторские старые люди — Исай Калмыков да Евлампий Силкин. Такого сома заарканить — всей жизни удача. Потом целый век бы рассказывали, как поймал старик самого Хозяина. Такое помнится долго, порой и небылью обрастая.
Старик с вечера долго ворочался, не мог уснуть, тяжко вздыхал, вспоминая и горько жалея. Другого такого случая уже не будет. Удача приходит редко, оттого и зовется — вакан. А второго вакану не жди, его не бывает. В конце концов он заснул, но во сне опять видел ту же огромную рыбу — старого сома. Видел рядом: на громадной плоской башке — усы, два длинных черных и еще четыре малых, внизу; желтые глаза; изъеденная временем черная шкура. Сом стоял близко, но не взять его. Старик просыпался, что-то болело — от огорченья ли, от прошедшего дня.
А внук его сладко посапывал и порою во сне смеялся. Негромко, но явственно. Чуткая бабушка даже поднялась, свет зажгла, поглядела. И впрямь чему-то смеется во сне. Хорошо так, с улыбкой. Слава богу, значит, снится хорошее.
Внуку снилось и вправду хорошее — ему виделся мир без конца и края: земля и земля, огромное небо, вода, зелень деревьев и трав. Он летал в воздухе, то совсем низко, стремительно, вместе с ласточками, а потом взмывал к облакам, неспешно паря рядом с могучими орлами, которые были рады ему. Из солнечного зенита так хорошо нырнуть в зеленые купы верб, тополей, на гибких ветвях качаясь с голосистыми иволгами да вяхирями-голубями.
Потом так же легко он вонзался в прозрачную склянь воды, играясь среди серебристой плотвы, нарядных красноперок, окуней и в сумрачную глубь уходя навестить золотистых линей, тяжелых сазанов. И снова — наверх, к небу и солнцу, и — бегом быстрыми ногами, по мягкой земле, тоже легко и счастливо, все быстрей и быстрей, потому что идут навстречу ему дорогие люди: мама, бабушка, дед… Они еще далеко, не разобрать лица. Но у мальчика быстрые ноги и руки словно крылья. Он так быстро бежит и смеется, радуясь встрече.
2002 год
«Новый Мир», №10
Четвертая сила
В ноябре 2002 года, как и положено (цыплят по осени считают), с трибун высоких, правительственных было немало сказано о том, что наконец-то преодолен кризис в сельском хозяйстве страны. Состоялось заседание правительства. Как сообщала газета «Сельская жизнь», более четырех часов обсуждались сельские дела.
«После заседания… премьер-министр Михаил Касьянов говорил о том, что фраза о черной дыре отечественного агрокомплекса может быть похоронена… За три последних года… удалось преодолеть кризис в этой сфере экономики».
Из доклада Министерства сельского хозяйства России: «С 1999 года сельское хозяйство вышло на положительную динамику роста валовой продукции… Начала укрепляться экономика сельскохозяйственных предприятий. Значительно сократилось число убыточных хозяйств…»
Г. Кулик, глава Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы: «Правительством сделано многое и обеспечен перелом ситуации в селе… перелом наступил… большее число хозяйств работает рентабельно».
А вот свидетельства иные:
«Наш трудовой коллектив обращается с просьбой разобраться… Заработная плата так и осталась невыплаченной… Люди добросовестно трудились, вырастили урожай, но убирать его нечем, нет ГСМ. Труд людей пропал даром. Приходится существовать на пенсии родителей и на доходы с личного подсобного хозяйства. Неужели не в вашей власти помочь нам?»
«…пишет вам письмо житель села Левчуковой, простой тракторист, проработавший на тракторе «МТЗ-80» почти сорок лет в животноводстве, с пятнадцати лет на тракторах и впоследствии остался без работы и без трактора. Наше хозяйство — банкрот. Трактор забрали, а ты, говорят, ищи другую работу, а где ее искать, и вот моя семья осталась без зарплаты… как жить дальше и кормить семью, я ума не приложу… В 2002 году у меня хотели забрать трактор «МТЗ-80», гос. номер 23-10, но я не отдал, с кулаками, но отстоял своего кормильца, думал, выкуплю его себе… Трактору моему шестнадцать лет, сколько труда, сколько запчастей я в него вложил за свои деньги и за магарыч. Но его так оценили дорого, что я не в состоянии его купить… Я не хочу воровать, я хочу добросовестно работать и кормить свою семью».
«Был когда-то совхоз, а потом исчез без звука, и остались мы ни с чем, муж в пятьдесят лет (из них 37 стажу тракторист), когда стали забирать трактор и комбайн, сошел с ума…»
Но… Как говорится, «письма пишут разные». Выводы руководителей страны о том, что кризис в сельском хозяйстве России остался позади, основан, конечно, не на письмах, а на конкретной экономике сегодняшнего дня деревни.
Волгоградская область — это Россия, область, которая нынче собрала 3 млн. тонн зерна, Калачевский район — далеко не последний. Давайте поглядим, какой тут перелом свершился, какое произошло преодоление кризиса.
Нынче конец октября. День ясный, солнечный. День похорон великого «Волго-Дона», лучшего совхоза СССР, а потом России. Об этом хозяйстве писал я не раз в «Новом мире» и в газете областной, где статья называлась прямолинейно: «Осторожнее, «Волго-Дон»». Еще десять лет назад это хозяйство имело 8 тысяч голов крупного рогатого скота, огромное молочное стадо со среднегодовым надоем 5000 литров, урожайность зерновых — 40 центнеров, овощей — 500 центнеров с гектара. Хозяйство производило каждый месяц 800 тонн молока, 100 тонн мяса. За год — 10.000 тонн томатов, 20.000 тонн капусты и прочее. Здесь были не «буренушки» и не «соха-матушка», а высокие технологии, с которыми уважительно знакомились зарубежные гости.
В 1993 году в очерке «Поживем — увидим» писал я: «По прикидкам, год 1993-й совхоз закончит с прибылью в три четверти миллиарда. Но эти деньги опять будут липовыми. А липовыми деньгами не выдашь зарплату, на них не купишь технику… Зарплату людям не платишь, а значит, сквозь пальцы смотри, как они растаскивают совхозные корма по своим подворьям. И если так дело пойдет, то уже через год-другой скотина хозяйская съест скотину совхозную. И совхоз рухнет».
В 1994 году в очерке «Последний рубеж» писал я: «…«Волго-Дон» из своих доходов примерно треть тратит на социальные нужды… «Волго-Дон» ежедневно поставляет продукцию, а значит, платит немалый НДС и налог на прибыль и отчисления в Пенсионный фонд… Ему должны 790 миллионов — покупатели, 550 миллионов — государство, 570 миллионов — переработчики… Как жить «Волго-Дону», который уже в сентябре имел 2 или 3 миллиарда долгов? Хотя по бумажным расчетам он вроде бы процветает».
Тогда же писал я: «Большой рушится с большим грохотом».
И вот он рухнул. В нынешнем году «Волго-Дон» не получил никакого урожая овощей, хотя и сажал их. Не посеяли ни одного гектара озимых культур. Не вспахали ни одного гектара зяби. Последняя тысяча голов скота будет продана, уже объявлены торги. И слава богу, хоть от голода мучиться не будут.
Все. Конец. Сегодня, 30 октября, в «Волго-Дон» приедут начальники областные, районные, чтобы раздать землю успешливым фермерам, «инвесторам» ли, словом, тем, кто захочет. Но это будет горький дележ на пепелище. Собираться нужно было, чтобы думать и решать, хотя бы пять лет назад.
Но еще в прошлом да в позапрошлом году твердили и твердили областные власти:
Вице-губернатор области: «У нас есть специалисты высокого класса и большого опыта, такие, как Булюсин (руководитель «Волго-Дона».— Б.Е.)».
Еще один вице-губернатор: «Надо опираться на Булюсина…»
Вот и «доопирались». Десять лет под носом у областных руководителей разваливался лучший совхоз страны. Кто виноват? Конечно же не областные руководители.
В том, что «Волго-Дон» десять лет разваливался, а теперь рухнул, объективных причин пруд пруди: новая экономика, политика правительства, импорт, господь бог с дождями и засухами — все порознь и вместе. Но скажите, почему в соседнем коллективном хозяйстве, отделенном от «Волго-Дона» лишь узкой полосой судоходного канала,— «Луч» Городищенского района,— почему там коровы дают столько же молока, сколько и десять лет назад, и пшеница там зреет, и лук с помидорами растут, и зарплату работники получают. Может быть, молятся больше?
Новый вице-губернатор П.П.Чумаков сказал нынешним летом, что 99 процентов вины за гибель «Волго-Дона» лежит на его руководителе А.И.Булюсине. Думаю, что на руководителях областных и районных вины столько же, если не больше.
Но что проку, если и найдем виноватых. «Волго-Дон» ведь не хутор Кумовка, не Ярки-Рубежные, где у каждого есть огороды, картофельники, а у всех вместе — выпасы для скота и какие-нибудь покосы. Тоже без колхозной работы несладко, но можно прожить. В поселках «Волго-Дона» — многоэтажные дома, балконы, квартирная плата выше городской. Более 2000 работников остались без дела: овощеводы, скотники, доярки, телятницы, механизаторы. И без зарплаты, даже той, которую выдавали капустой ли, луком, огурцами. Где другую работу найти? Вокруг — степь да степь на десятки верст. Это уже великая людская беда, которой никто не поможет.
Горькая череда разорений: коллективные хозяйства «Дон», «Калачевское» исчезли. Таких и названий уже нет. Теперь — «Волго-Дон», за ним — «Крепь»… Но люди-то остаются. Живые люди.
Статья в районной газете. Ее автор руководит ныне сельским хозяйством района. «В сельхозпредприятиях района создалось тревожное положение,— пишет он.— Нельзя допустить повторения судьбы «Волго-Дона»».
Какой же выход видит он из сложившегося положения, когда урожай неплохой, но цены на зерно низкие, а стоимость горючего и запасных частей растет.
Во-первых, «при сложившейся низкой цене реализации зерна у коллективных хозяйств есть реальная возможность увеличить ее, «пропустив» зерно через производство молока и мяса».
Думаю, что этот «выход» придумал не районный руководитель. Такой же совет селянам еще летом, сразу после уборки урожая, давал губернатор области: «пропустим» фуражное зерно через коров и свиней, получим молоко и мясо.
И министр А.Гордеев такие же речи говорил.
Но вот где взять этих самых свиней, чтобы через них «пропускать», если их не осталось? Все поголовье нашей области — это практически единственный свинокомплекс «Краснодонский». Когда калачевские фермеры Колесниченко, Олейников, Кузьменко решили заняться свиноводством, то главная трудность была — купить поросят, свиноматок. Два года пришлось колесить по всему югу России. То же самое — с крупным рогатым скотом, с коровами. Через кого «пропускать», если только за этот год поголовье скота в колхозах уменьшилось на 18 процентов, а коров — на 24 процента. (На четверть — всего лишь за год!!) 68 тысяч голов осталось от 300 тысяч. Уничтожены молочно-товарные фермы, животноводческие комплексы, на восстановление которых потребуются десятки лет и десятки миллиардов рублей, которых неоткуда взять. Так что все эти рассуждения о том, чтобы излишки фуражного зерна «пропустить» и получить молоко и мясо,— пустые словеса. Тем более, что, если бы нашелся волшебник, превративший фураж в мясо и молоко, тут же — новая проблема: куда девать мясо и молоко? Уже сейчас наши мясокомбинаты (Калачевский, волгоградские) работают на импортном дешевом сырье. Мясо местных производителей в цене падает. По 22 рубля за 1 кг живого веса берут. С молоком та же беда. Молочные заводы принимают его по 3—4 рубля за литр при жирности 3,6 процента, продают от 10 до 20 рублей при жирности 2,5 процента. Потому и коров режут на мясо стадами. В Михайловский район, в «Рассвет», ездили уговаривать колхозников из областного центра: «Оставьте молочное стадо. Нельзя целую отрасль уничтожать». В Клетском районе, в «Пролеткультуре», та же песня: «Общее собрание постановило: «Оставить десяток-другой коров для внутрихозяйственных нужд. Остальное стадо — под нож»». Замечу: самое крупное стадо в районе. А резон один-единственный: «Мы — в коровьем дерьме, а переработчики молока — в «мерседесах». Не будем на них батрачить».
Одни не хотят «батрачить» и режут коров, другие не хотят сеять, потому что «зерно невыгодное». А куда деваться, чем жить?
Никто не знает, куда идти и что делать. Но если ты начальник — большой ли, малый,— обязан что-то говорить.
Цитата из районной газеты:
«Специалисты районного сельхозуправления для более эффективной организации производства в коллективных сельхозпредприятиях разработали ряд рекомендаций, которые были опубликованы в районной газете еще до начала уборочной страды. Одна из них, и, я считаю, важнейшая,— проводить общие собрания коллектива два раза в год: в марте и в августе. Что это даст? Ту самую прозрачность в управлении коллективным хозяйством, которая по известным причинам не приветствуется большинством руководителей».
Об этом проекте спасения коллективных хозяйств автор его — новый районный руководитель, ведающий делами села,— рассказывал мне как о модели выживания.
Все просчитано: 200 работников, 5000 гектаров земли, 300 коров, 1700 гектаров пара, столько же — озимых культур, а еще: кукуруза, однолетние, многолетние травы. Урожайность, надои, расходы — все просчитано. Заработная плата: 1,7 млн. рублей на 200 человек, получается 710 рублей в месяц. Спрашиваю: «Как может прожить человек на 710 рублей в месяц, да еще с семьей?» — «Иначе не получается,— мне в ответ.— Электроэнергия, запчасти, горючее, налоги…» — «Даже при зарплате в 710 рублей — это модель умирания. Где средства на развитие, обновление техники?» — «Не до жиру…» — вздыхает автор проекта.
А еще в проекте: еженедельная отчетность руководителя по финансам, два собрания в год, «прозрачность» управления и прочая уже не экономика, а «философия»: чтобы «коллектив» контролировал, управлял.
На мой взгляд, хоть трижды в день проводи собрания, проку не будет. Колхоз, он и останется колхозом.
Красноречивый жизненный факт, которому мы все свидетели: в начале 90-х годов многие новоиспеченные фермеры начинали хозяйствовать не в одиночку, а на два-три хозяина, объединяясь по принципу родства ли, товарищества. Все эти «микроколхозы» развалились после первой же уборки урожая. Что-то не поделили, где-то не поладили. Так начинали Гришины, Парчак, Штепо — называю лишь самых известных, которые и поныне успешно хозяйствуют. Примеров много. Исключение сейчас на памяти лишь одно: Колесниченко — Олейников.
Меня уже в течение десяти лет время от времени упрекают в том, что я из тех, кто «разваливает колхозы». А по мнению главного редактора одного из солидных литературных журналов, я их даже «расстреливаю».
Это — великая неправда. Идея общего человеческого труда привлекает меня. Она мне дорога, может быть, более, чем любому радетелю колхозов. Толстовские коммуны, израильские кибуцы — моя зависть и печаль. Да и только ли моя. Вся мудрость человечества повторяет за веком век слова о любви и братстве.
Но слаб человек… И потому наши колхозы, лишенные былой и мощной идеологической и экономической поддержки, обречены на умирание. Что и происходит.
Волгоградская область, Калачевский район. Одиннадцать коллективных хозяйств, за десять лет неоднократно «реформированных-перереформированных». «Волго-Дон» закончил свой путь. «Крепь» — банкрот, находится под внешним управлением. Говорят, что его забирает инвестор, связанный с нефтяным бизнесом. «Голубинское» дышит, но, как говорится, «через раз». При новом, молодом руководителе что-то сеют и пашут. Но вечно в долгах как в шелках. Осенью уже думали, что не вылезут. «Чего ждут!— ругался районный начальник.— Завтра отключат электричество, и тогда — конец… Федеральные не отдаст, ему — в петлю… Продфонду должен…» Но понемногу выкрутились. Встретил я на днях голубинского руководителя, он говорит: «Вроде рассчитались. Но…— вздыхает тяжко,— сидим на нуле. Надо на коленки падать, просить. Иначе…»
А перед кем падать? На что надеяться?
«Нива» — в таком же положении. «Рассвет», бывший «Маяк»,— та же песня. Про «Пятиизбянский», «Волжанин» говорить нечего. Там и земли с гулькин нос осталось, про остальное не говорю. «Варваровское» — у богатого дяди по имени «керамический завод». Будут дышать, пока у «керамистов» есть деньги.
«Мир» и «Тихий Дон» — два хозяйства, которые нынче считаются самыми крепкими. Они зяби вспахали больше, чем десять других хозяйств района. Но эта «крепость», конечно, мнимая. Те же беды, те же перспективы.
Вот в районной газете отчитывается и размышляет о будущем председатель правления СПК «Мир» В.И.Татаринов: «…коллектив СПК «Мир» потрудился в этом году очень хорошо. Урожайность озимой пшеницы на наших полях была выше среднерайонной… средняя цена реализации была в этом году 1.300 рублей. Нам удалось продать его по такой цене, потому что мы раньше других приступили к уборке. А те, кто затянул с уборкой, продали зерно уже по 850 рублей. Наши доярки надоили больше всех в районе — по 2.681 килограмму на фуражную корову… Кормов мы в этом году заготовили достаточно: 1.131 тонну сена, 900 тонн соломы… 450 тонн фуража».
Словом, все хорошо, как и положено, в «одном из лучших хозяйств района». Но «…удалось взять 700 тысяч рублей кредита в Сбербанке под 26 процентов годовых. Благодаря этому мы приобрели ГСМ и выплатили часть заработной платы… есть задумка… весной взять еще один, без него мы не обойдемся. …За сентябрь задолжали зарплату и налогов 200 тысяч рублей. А тут еще энергетики за текущую задолженность всего в 15 тысяч рублей отключают электроэнергию… Развитие хозяйства, как известно, немыслимо без обновления техники, которая давно износилась и каждый день выходит из строя».
Вот тебе и лучшее хозяйство района. И это — осенью, после уборки урожая. Какой же выход? Решили учредить ООО (общество с ограниченной ответственностью). В числе учредителей три физических лица: председатель, главный бухгалтер, главный агроном — и одно юридическое — СПК «Мир». Объяснение руководителя: «Мы таким образом сохраняем коллективную форму собственности, выигрывая при этом в оперативности принятия решений». «Форму»-то сохраняем, а что под «формой»?
Вопросов много. Такой, например: в ООО «Мир», в отличие от СПК «Мир», по словам самого руководителя, чтобы «взять кредит или заключить договор на крупную сумму… потребуется согласие лишь четверых учредителей», то есть главбуха, главного агронома и председателя, который, видимо, будет выступать уже в двух лицах: учредитель и руководитель одного из учредителей. Проголосуют. Возьмут кредит. Но случись грех: нечем отдавать (а такие ситуации сейчас сплошь и рядом), отвечать придется, расплачиваться финансами, имуществом СПК «Мир», оцененным в 6 млн. рублей, тогда как финансовая ответственность председателя, главбуха и агронома всего лишь 10 тысяч рублей их взноса.
И еще: «…мы хотим выкупить у пайщиков их имущество…» «Мы объяснили нашим рабочим и пенсионерам… почему имущественные паи уменьшились…» К тому же выход из ООО будет гораздо труднее для рядового члена. Много, много вопросов. И столько вокруг горьких примеров. Но уверен я, на общем собрании, как и прежде, проголосуют «за», не столько поверив в нужность новых преобразований, сколько оттого, что «уговорщики» — председатель, главбух, попробуй поспорь с ними, завтра соломы не допросишься.
О переходе в новую форму организации говорят и в «Тихом Дону», тоже одном из лучших хозяйств. Наверное, хотят как лучше? Для кого? Еще одна цитата: «Сегодня в каждом хозяйстве есть своя коммерческая тайна, все карты никто не раскрывает».
Руководитель района ратует за «прозрачность», а руководитель хозяйства — за «тайну».
Районные руководители, мне кажется, толком еще не поняли: хорошо все это или плохо. «Мы людям разъясняем… Мы пытаемся тормозить…» — говорит один. А другой жмет плечами: «Может, и хорошо: собственность будет в одних руках. Значит, скорее придет инвестор».
Вот и все коллективные хозяйства района, не самого худшего в области, как принято говорить, «середняка». На что-то надеяться в будущем им, конечно, нельзя. Но люди, по привычке и здравому смыслу дня сегодняшнего, держатся за колхоз, в котором любыми путями можно зерна добыть, соломы, сена, а значит, обеспечить свою скотину и живность кормами. А коли есть на подворье скотина и птица, значит, проживем. Если рухнет колхоз, тогда пой матушку репку. Чем жить? Писать слезные письма?
«Представителю Президента в Южном Федеральном округе…»
«Губернатору Волгоградской области…»
«Уважаемый главный редактор…»
«В редакцию газеты…»
И целая сотня подписей. А положение и вправду бедственное: жили, работали, а теперь — разорение и банкротство, последние два трактора отбирают. Чем работать и как жить?
Лет десять назад, в одном из первых своих сельских очерков под названием «В дороге», писал я, сравнивая наше село с развороченным муравейником: «Не ведали и люди, земляки мои, что проводится реорганизация сельскохозяйственного производства да и жизни прежней. Им казалось — света конец. И слепо пытались куда-то брести, тащить, спасаясь и спасая…»
1992… 1993… И вот уже 2002 год. Заявляет глава нашего правительства, что сельское хозяйство России наконец-то вышло из десятилетнего кризиса. Вторит ему и министр сельского хозяйства: мол, все в порядке, зерна собрали столько, что девать некуда: 80 ли, 90 млн. тонн.
«Страшно далеки они от народа»,— не про них ли сказано? А от простой арифметики тоже далеки?
Сто раз подсчитано и подтверждено экономистами всех направлений и мастей: для нормального прожитья страна должна производить 1000 кг зерна на душу населения. На худой конец, 900 кг или 800 — не меньше! Это — закон. Значит, нам нужно около 150 млн. тонн (перепись точную цифру покажет). Никакого «перепроизводства» у нас и в помине нет. А вот очень низкий покупательный спрос, который порожден бедностью, даже нищетой населения,— налицо. Зайдите в магазин — красивые витрины, разноцветье продуктов, пустые залы. Хоть аукайся. «Волгоградские колбасы», «Смак».
Но вернемся к письмам.
Вернее, к одному из писем, под которым целая сотня подписей. Считай — колхоз. Все в нем правда, в этом письме:
«…рабочие потеряли веру… обрекает наше предприятие на развал… создается опасность исчезновения населенного пункта…» Писано осенью 2002 года. На двух страницах. Но обо всем все равно не расскажешь. Жизнь сложна. Вот строчка: «Ранее наш коллектив работал в ТОО совхоз «Память Ленина», который был признан банкротом… вся техника была передана в СПК «Вертячинский»…»
А ведь все эти «переходы», реорганизации: из совхоза «Память Ленина» — в ТОО совхоз «Память Ленина», а потом в СПК «Вертячинский» и затем в МУП «Агрофирма «Дон»» — совсем не от скуки. Меняя «вывески», переходя из одной формы коллективного хозяйства к другой, колхоз уходил от немалых долгов, оставляя их фиктивным наследникам. Отказывались платить налоги, пенсионные платежи, кредиты, начиная хозяйственную жизнь как бы с чистого листа. Но через год-другой тонули в тех же долгах. А ведь что существенно: все решения об этих переменах форм и «вывесок» принимались не в Москве, не в Волгограде, а на общем собрании коллектива. Голосовали и даже писали заявление. Не чей-то грозный оклик да пистолет (такие времена прошли), а своя воля. И если в начале 90-х годов можно было понять колхозницу Елену Федотьевну и ее резоны: «Велят писать. Я послухалась. Подпис дала…» — то потом были годы и годы… Да еще какие.
Понятно, что большинство наших селян — «детский сад», поманить и обмануть их ваучерами да «земельным паем» не трудно. Но все же, все же…
Даже слепому было видно, что Россия круто повернула в иное политическое и экономическое пространство, которое попросту можно назвать капитализмом. Частные магазины, частные предприятия — все было налицо.
А на селе руководители очень долго призывали: «Держаться! Крепиться! Перетерпеть до весны! Москва без хлеба не проживет! Вот догрызут остатнее — и опомнятся! Должны повернуться к деревне!..» И еще одно: «Наши придут!»
Какие «наши» и куда придут — не больно понятно. Коммунисты? Они ведь пришли. Пресловутый «красный пояс» опоясал Россию. Кондратенко, Максюта, Черногоров, Стародубцев и другие. Руководили и руководят долгие годы. Но разве что-то изменилось на селе? Письма, которые держу я в руках, тому подтвержденье. Строки этих писем — крик отчаяния, боль. Но ведь пишут не маленькие дети, а люди взрослые, которые десять лет видели, куда идет колхоз, в какую яму катится! И оставались в этой разбитой телеге, дружно голосуя: «Будем работать вместе…» Строки из письма:
«…администрация района незаконно… требует передать другой организации два трактора «К-700»…»
Мне думается, что это — неправда. Ведь в начале 2002 года члены колхоза собственноручно писали заявления такого примерно содержания: «Главе администрации района… Прошу принять мой имущественный пай в размере … рублей в муниципальную собственность безвозмездно» — и подпись. Имущественный пай — это коровы, посев, животноводческие помещения, мехтока, мастерские и, конечно, тракторы, комбайны, автомобили, прицепной инвентарь. Все имущество люди передали в муниципальную, то есть государственную, собственность, потеряв право распоряжаться ею. Ведь даже руководителя хозяйства в МУСПе не выбирают, он назначается администрацией района.
Понятно, что это преобразование — не что иное, как способ в очередной раз отказаться от долгов. Но, избежав одной мышеловки, бывшие колхозники попали в другую.
На одном из собраний в таком же колхозе раздосадованный представитель кредиторов бросил в зал: «Что вы орете?! Вы — никто. Вы давно уже — не хозяева. Все имущество давно не ваше. Думать нужно было раньше. И выбирать себе руководителей, а не баранов». Грубо? Но ведь точно.
В нашей области 500—600 коллективных хозяйств. И лишь десяток-другой работают с настоящей, а не надуманной прибылью. Все остальные давно уже (и не единожды!) банкроты. Каждый год они, словно голодные птенцы, просят горючего, запасных частей в долг, обязуясь расплатиться с урожая. Приходит осень — история одна и та же из года в год: планерки, «штабы» по выколачиванию долгов. Но проку?..
Лопнул «Агробанк», сгорела «Агрокорпорация», «Областной продовольственный фонд» практически обанкротился, сумев собрать на сентябрь 2002 года лишь 25 процентов из розданных кредитов. Не один ли из нынешних областных руководителей, тогда еще председатель колхоза, произнес на «крестинах» «Продфонда»: «Та же Маша, лишь платок другой»?
Сейчас, в октябре 2002 года, оптимисты из областного руководства надеются на подсолнух, который еще не собрали и который «спасет».
Но спасения быть не может. Ведь не только плохой урожай, но даже великий, рекордный нам не в помощь. Нынче, в 2002 году, отчего все беды: «Урожай слишком велик! Зерна много!» Куда ни кинь, все — клин?
Приходится повторять много раз сказанное: надеяться надо только на себя. На свою голову, на свои руки. Головой, разумом ясно понять, что прежняя жизнь кончилась и не вернется. Колхозы, как их ни именуй и ни перекрашивай,— день прошедший. Тлеть да чадить они могут долго. Но кормиться возле все трудней.
Говорю об этом не в первый раз. И не словоохотливость тому виной. А хоть малое, но понимание. Еще лет десять назад, в начале перемен, тогдашнему губернатору И.П.Шабунину советовал я послать наших областных телевизионщиков в Германию, Англию, Францию, Израиль, Италию с одним заданием: записать короткие обращения тамошних крестьян к их русским собратьям. Пусть покажут свои мозолистые руки и свои труды. И короткие слова о том, что и без колхоза прожить можно. Такие обращения, говорил я, надо показывать каждый день, вечерами, перед бразильскими сериалами. Увидят, подумают. Кого-то, но проймет.
Тогда мои пожелания, губернатором вроде бы одобренные, реализованы не были.
А нынче уже и ехать никуда не надо. В каждом хуторе, в каждом селе есть люди, живущие своим умом и своим трудом, на колхоз не оглядываясь.
Говорю я вовсе не о наших знаменитых фермерах, у которых сегодня тысячи гектаров земли в обработке, десятки единиц техники, хотя каждый из них начинал, как говорится, с нуля. А разве богатый американский дядя помог А.П.Вьюнникову, семье Пушкиных, В.В.Крючкову? Все ведь были «голь перекатная». А ныне — уже хозяева.
Но речь сейчас даже не о них. Каждый субботний и воскресный день на базаре в Калаче-на-Дону продает мясо знакомая уже многим супружеская чета из Голубинской станицы. Они скот не выращивают, а лишь покупают в округе, забивают, разделывают и продают. Такая профессия на Руси была издавна, называлась «прасолы», потом ее забыли. Теперь вспомнили. Работают, живут, милостыню не просят.
Три раза в неделю круглый год приезжает в наш городской двор невеликий фургон из Иловли. Тоже супружеская пара. Продают молоко, сметану, творог.
Знаю сельского человека, который по дешевке купил старый разбитый молоковоз, привел его в божеский вид, а теперь в своей округе собирает молоко, расплачиваясь сразу же наличными деньгами. Молоко везет он людям, которые на своем подворье делают сыр. Получается, что у всех работа: и у тех, кто коров держит, кто молоко возит, кто сыр делает. У всех пусть не великие, но — деньги, достаточные для жизни.
Недавно на бурьяном заросших полях когда-то знаменитого «Волго-Дона» «спецы» с высшим образованием, кто гневно, а кто горестно, вопрошали:
«Как жить?.. Зарплата — капустой… И та не уродилась. За квартиру платить, детей кормить…»
Их собрат, тоже один из бывших специалистов «Волго-Дона», ныне — успешливый фермер, до сих пор помнит, как начинал он, экономя копейку даже на еде. Случай был: мальчишка, его сын, собрал на улице пустые бутылки, пошел в магазин и попросил продавца дать ему не жвачки, не пепси, а «кусочек колбаски», который тут же съел. Об этом рассказали жене начинающего фермера, конечно, с упреком. Помнят и сейчас.
«Я пришел, она прямо не плачет, а рыдает. И не могу остановить. Наконец рассказала — и снова плачет. Господи… Мне самому впору плакать, слезы у горла. Но я сдержался. Я сказал: «Поверь мне… Я клянусь тебе… Я буду работать днем и ночью. Я все сделаю… Будет у нас и хлеб, и эта проклятая колбаса. Но давайте перетерпим. Вначале ведь всегда тяжко. Я все сделаю, клянусь тебе… Поверь…»»
Так чаще всего начинается новая жизнь и новое дело. И этот фермер, бывший совхозный «спец», пошел в новую жизнь не от желания стать миллионером, а потому, что увидел: совхозу не сегодня, так завтра придет конец. Он не кричал на собраниях и митингах, никого не упрекал, но сделал твердый мужской выбор, надеясь лишь на себя. А некоторые его коллеги и теперь вопрошают: «Как жить? Капусту съел червяк… Огурцы посохли…» Уже десять лет вопрошают.
За десять лет (для одних — долгих и тягостных, а для других — пролетевших лётом: «Некогда и выпить, ей-богу!..» — смеется знакомец мой, теперь уже хозяин с десятилетним стажем), после десяти лет, трудных для народа и государства, в толчее и неразберихе перемен, на земле, на селе сегодня четко обозначились три пусть не богатыря, но работника.
Первый — коллективные хозяйства, неразделимо сросшиеся с личными хозяйствами крестьян-колхозников. Из них выживут лишь те очень редкие колхозы, во главе которых умные, энергичные руководители. Это — большая редкость. И думается мне, что в конце концов многие из таких хозяйств перейдут в единоличное владение под вывеской какого-нибудь АО. У подавляющего большинства коллективных хозяйств завтрашнего дня нет: сплошное «реформирование» и «перереформирование», уход от долгов и новые займы, кредиты, которые не могут, не хотят возвращать по старой уже привычке. В 2001 году собрали хороший урожай зерновых, и цены были высокими. Но даже в такой год, взяв у «ЛУКОЙЛа» топлива в кредит на 700 млн. рублей, к январю 2002 года отдали лишь малую часть и остались должны 514,8 млн. рублей, несмотря на усилия областных и районных властей.
Новый год, 2002-й, а песня старая. Осень, пора возвращать долги «Продфонду», «Агроснабу». Цитирую местные газеты: «Во все районы разъедутся группы по выбиванию долгов…», «Губернатор в категорической форме потребовал…» Каждый год «требует».
На заседаниях в областном центре шум и гром:
«Вы над кем смеетесь? Кому лапшу на уши вешаете?!. чтобы как из пушки…», «Запустить механизм взысканий через арбитражный суд… арестовывать зерно на элеваторах… а потом будем разбираться…»
Но народ нынче битый. Слыхали и не такое.
«Районам, которые не возвратят долги, с сегодняшнего дня прекращаются всяческие дотации… Врачи и учителя, когда им не будут платить зарплату, пусть знают: это не губернатор виноват, а руководители хозяйств, которые не рассчитались по долгам…»
Получается, что невозвращенные кредиты должны «выбивать» из колхозов учителя да врачи.
А они ведь никому ничего не давали и не ведали, что их нищая зарплата — гарантия возврата кредита. А теперь с голых по нитке — «ЛУКОЙЛу» новый кафтан? Да и «ЛУКОЙЛ» ни при чем. Это коммерческая частная структура. А вот те областные руководители, которые брали и раздавали, порою по-барски, те «при чем».
«Я помню,— говорит лукойловский начальник,— помню, как один из бывших вице-губернаторов делил топливо: этому, указывал, дай 5 тонн, а этому — 25».
В райцентре руководитель РАО жалуется: «Я бы этому хозяйству и копейки не дал. Они сроду не отдают. Но ведь через мою голову им давали, миллионы. А теперь я виноват, долги не собираю».
Когда создавали областной «Продовольственный фонд» (структура, по идее, нужная и полезная!), когда ее лишь создали, спросил я у ее руководителя: «Ты будешь решать, кому давать деньги, кредиты, заказы, а кому не давать? Или — чохом да по указке?» Он лишь вздохнул в ответ и отвел глаза.
А ведь эти люди (и в райцентре, и в Волгограде) уже имели горький опыт работы в «Агрокорпорации». Была бы их воля, направо и налево они бы деньги не раздавали. Но они — по строгому счету — лишь пешки, а теперь «вышибалы», заложники.
6 млрд. 481 млн. рублей — суммарная задолженность сельхозпредприятий области.
Скажите, о каком завтрашнем дне коллективных хозяйств может идти разговор?
И ведь ничего нового.
Неделю назад был я свидетелем такой сцены. Женщина, главный бухгалтер колхоза, привезла в райцентр отчет о предполагаемых итогах 2002 года. Поглядели отчет, сказали ей: «Ты с ума сошла? Зачем в итоге убытки? Кто тебе под такой баланс кредиты даст? Соображать надо». Сообразила. Забрала бумаги и на следующий день привезла другие, теперь уже с «прибылью».
Почти в тот же день встретил знакомого руководителя хозяйства. Послушал ныне привычное: «Денег нет, горючего нет…» А потом с усмешкой сказал ему наугад: «Чего жалуешься? Я твой баланс видел. С прибылью работаешь…» — «А как же…— ответил он.— Рисовать умеем. Такое время».
Красноречивый факт колхозного «благоденствия»: 85—90 процентов всех тракторов и комбайнов коллективных хозяйств приобретено до 1992 года. Летом 2002 года появилась возможность продать селу по лизингу, с рассрочкою на 3 года 265 тракторов «ДТ». Прошло полгода. Хозяйства огромной области взяли лишь 38 машин. Ежегодная убыль техники в результате старения — 1.500—2.000 тракторов, 500—700 комбайнов. А значит, нет будущего. Потому что без трактора землю не вспашешь. 1,8 млн. гектаров пашни в области по-прежнему не используется. Из общей площади 5,6 млн. гектаров. Показатель определяющий: колхозы не в состоянии обрабатывать свою землю. Нынешней осенью вспахали и посеяли мало. Что будет весной да летом? На проведение полевых работ, по прикидкам специалистов, лишь горючего понадобится на 2 млрд. рублей. Где их брать? Опять будут школы да больницы крайними.
И если в нынешнем году площадь заброшенной пашни уменьшится, то причина лишь в том, что на село пришла новая сила — инвесторы, то есть структуры, имеющие средства и решившие вложить их в сельскохозяйственное производство. «Агрокоммерз», «Випойл-Агро», «Сельхозпродукт», «Альфа», «Магма», «Холдинг-бизнес» — названия разные; а есть и просто «физические лица»: Иванов ли, Петров, но главное — вложенные миллионы, у кого сколько. «Инвесторы» — явление сравнительно молодое. Еще вчера власти относились к ним подозрительно, именуя «московскими бандитами». Но теперь, видимо поняв, что инвестор лучше, чем бурьян в поле, их даже заманивают, возят на смотрины в разоренные колхозы.
На сегодняшний день в нашей области уже работает 67 новых структур, они обрабатывают 750 тыс. гектаров пашни, похоронив 135 разоренных колхозов и вложив в производство в 2002 году 1,3 млрд. рублей. Их интересы теперь — это не только пахотная земля, но птицефабрики, свинокомплексы, элеваторы, перерабатывающие предприятия, словом, производство, бизнес. С одной стороны, это хорошо: запущенная земля стала обрабатываться, налоги платятся, работники-селяне получают зарплату (до 40 тыс. рублей в месяц зарабатывали нынче комбайнеры из «Агро-Елани»). С другой стороны — это потеря привычной работы, привычного лада жизни для сотен тысяч людей.
Сельский капитализм теперь уже в обыденной жизни, а не в учебнике да на экране телевизора, не только в нашей области, но и по всей стране. Цитирую газету «Труд»: «Весной этого года наш колхоз имени В.И.Ленина был взят в аренду московской фирмой «Продимэкс-Черноземье». На общем собрании… эти господа убеждали нас… сулили златые горы… А что получилось в итоге? Без объяснения стали сокращать людей… Вывезли всех свиней в неизвестном направлении… порезали на мясо весь рогатый скот. Когда работники стали роптать, новые руководители ответили им коротко и ясно: «Не выгодно»… Зерна выдали лишь по три центнера на земельный пай, а на заработанный рубль вообще ничего не дали… нас фактически всего лишили. Оказалось, что новым хозяевам нужен был лишь наш чернозем…» Бывает и так. «Инвесторы» пришли в село, чтобы зарабатывать деньги, а не решать «социальные проблемы».
Это — капитализм. Сегодня частный капитал — это мощная молодая растущая сила в российском сельскохозяйственном производстве. С оглядкой на Запад наш вице-премьер и министр сельского хозяйства А.Гордеев уже заявил, что крупные финансовые структуры в сельском хозяйстве — наше будущее, а фермерство — это отставание на целых сто лет. Заявление для нашего фермерства не очень приятное и, думаю, не очень выверенное. Недаром страны Европейского Союза собираются провести реформу, цель которой — отказ от преимущественной системы субсидирования крупных хозяйств, с переориентацией на крестьянские хозяйства небольших размеров, которые производят более здоровую пищу.
Так что не стоит пугать многочисленную армию российских фермеров, которые за десять лет доказали свою жизнеспособность. У них не было легкой жизни. Нет ее и сейчас. Те же проблемы со сбытом продукции. За десять лет так и не решенные проблемы с землей. «А вот захочу — и не дам! А вот захочу — и отберу!» — такие речи и нынче не редкость.
Нынешних речей А.Гордеева они не испугаются.
Главное то, что, в отличие от колхозных пашен, фермерские посевы год от года растут. Именно туда, к Мельникову, Колесниченко, привозят высоких гостей, чтобы показать лучшие образцы земледелия.
А еще — и это очень важно!— с кем бы из опытных фермеров ни заговорил, от них не услышишь стонов да охов. Беседую с Н.Н.Олейниковым о несовершенстве земельного законодательства; десять лет, а все порядка нет: чуть не всякий день этим нужно заниматься. Но финал для меня неожиданный: Николай Николаевич смеется и говорит: «Помаленьку все образуется, проживем…» С А.П.Вьюнниковым осенью говорим о ценах на зерно: он часть урожая продал, а часть не успел. «Ладно,— машет он рукой.— Все продадим, и все теперь будет нормально». Еще один разговор с фермером из Суровикинского района. Про нынешние цены на горючее, на зерно. «Все это — просто жизнь, экономика,— говорит он.— Там прогадаем, там выгадаем. Будем наперед умней. Вот когда начинали, помню, кредит взял в банке на два миллиона, так мы с женою ночами не спали: такие деньги, мы их прежде и во сне не видали. Теперь ко всему привычные. Все будет нормально. Работать надо. И башкой варить».
Нынешнее волгоградское фермерство — это более 12 тысяч настоящих хозяев, у которых 1 млн. 200 тыс. гектаров земли. 1000 фермеров имеют средний надел земли 760 гектаров. 20 процентов всего урожая зерновых — это фермеры. Фермерству всего лишь десять лет. Причем десять лет постоянного роста: земельных наделов, крепких хозяйств, результатов труда. Укоренились. Никаким ветром не сдуешь, даже холодным «московским», так у нас порой северный ветер зовут.
Итак, год 2002-й, конец ноября. Кое-где еще пашут. Подсолнух не весь убрали. Крепко на него надеялись. А цены нет. Подсолнечное масло на оптовом рынке идет по 16 рублей за литр. Надеялись, что будет по 20 рублей. В Ростове прошла торги на зерновой бирже так называемая «правительственная интервенция», у нас, во всяком случае, она не повысила цены на зерно.
Конец ноября. Теперь будем ждать весны.
Пока на земле зимнее затишье; обманчивое, потому что даже в суровую стужу, под снегом, земля дышит, сохраняя в дремлющих злаках и травах теплую земную кровь в ожиданье весны.
И в жизни людской, деревенской зимняя дрема, она — лишь для глаза стороннего. Просто — иная пора. А кто и впрямь уснет, того и весна не разбудит.
Время — вот четвертая и, может быть, самая могучая сила нынешних перемен.
Волгоградская область.
2003 год
«Новый Мир», №5
Оставленные хутора
Весной, словно перелетную птицу, тянет меня из городского жилья в родное гнездовье, на Дон. Прошлая зима кончилась рано: в середине февраля сошел снег. Чего ждать, в календарь заглядывая: пора — не пора? «Не для меня придет весна, и Дон широко разольется…» — пусть по тюрьмам поют, а мы, слава богу, казаки вольные.
Поехали. Наскучав за зиму по земле и людям, ездил и ездил: Ярки-Рубежные, Бузиновка и, конечно, к Виктору Ивановичу Штепо, в Береславку, близкие Ильевка да Мариновка, а потом — Задонье. Станица Пятиизбянская с просторной округой: хутора Светлый лог да Гремячий лог, Липов лог, Ложки, Кумовский, могучие, а местами глухие, Грушевая да Петипская балки. Станица Голубинская. Старинные казачьи Голубые городки с хуторами и вовсе — край немереный: Большая Голубая да Малая Голубая, Большой Набатов да Малый Набатов.
На исходе второй недели оказался я в Большом Набатове, довольно далеко от районного центра, отрезанный от него бездорожьем и распутицей.
Пора было прибиваться к дому. Но как выбраться? Моя многострадальная «Нива» сломалась неделю назад. Сюда я добрался попутно и нелегко. А вот выбраться… Земля обтаяла, раскисла, чуть не каждый день шел дождь. На хуторе 26 дворов, 3 «Нивы» и «УАЗ». Но ехать сейчас на них — лишь машину губить. «Подожди, может, обвбенется, день-другой…» Но этого «обвенется» можно долго ждать.
Прошел день, другой, третий… На хуторе я все новости собрал. На речке Голубой порыбачил, окуней дергая возле Львовичевой горы да на Устье и в Затоне ловя красноперку с плотвой. Дважды успел на непрочном льду провалиться и как следует накупаться. «Кулугуром стал,— смеялся мой хуторской приятель.— Мы ведь все староверы. В Голубой крещенные». Сходил на оставленные людьми хутора: Евлампиевский да Картули. Дон вскрывался, очищаясь без ледохода: ширились и сливались промоины, майны, закраины. Того и гляди, придет верховая полая вода. Пора было уходить. И я, оставив лишние вещи, ушел налегке, пешком.
День разгулялся солнечный, ветреный, хотя обещало радио ненастную погоду и дождь.
От хутора Большой Набатов, что прячется в укрыве холмов, от воды отступив, путь мой — берегом. Слева Дон плещет волною, шуршит сизыми льдинами, справа — высоченные кручи холмов. Узкая полоса меловой гальки, белого обмытого плавника. Солнце, вода и ветер.
Когда по Дону «скачешь» на моторной лодке, «бежишь» на теплоходе, окрестные холмы, балки, берег луговой с густым займищным лесом медленно, но все же плывут и плывут мимо, быстро уходя.
В походе пешем иное. Белая гора, балка Узкая, Красный створ, балка Трофеи, Желтый мыс… Глянешь — все будто недалеко. Но шаг за шагом идешь и идешь, а Белая гора, крутой обрыв ее, тянется и тянется.
Большая у нас земля, просторная.
Над Доном шел я до хутора Малоголубинского, после него в гору поднялся и там, спрямляя путь, пробирался к Городищу, к станице; добрел туда уже в сумерках. На пути ни единой живой души не встретил.
Степь да степь. Давно не паханные поля. Балки, заросшие шиповником, тернами, бояркой. Ветер в сухих травах. Близкая река, дух ее. Высокое небо. Редкий коршун. Безлюдье на многие десятки верст.
В одиноком пути хорошо думается. Уехав из города, две недели провел я в дороге.
И теперь вспоминались дни прошедшие: дороги, хутора, люди.
Но порою словно обжигало глухое безлюдье. Над головой изредка хоть ворона хрипло, но каркнет, косо, под ветром, пробираясь в холодном небе; на воде — сизые льдины; на земле — лишь ветер шарит в сухой траве. Шагаю час, и другой, и третий. Порою встану, гляжу. Но сколь ни озирай, от близкого придорожья до самого горизонта — степь да степь, холмы, падины, балки. И немое безлюдье. Ни гурта скотины, ни овечьей отары, ни черных пашен, ни зеленых озимей. Нет даже следа людского, тележного, машинного ли. Лишь волчий, четкий, порою наискось пересечет дорогу. Им тоже несладко: ни падали, ни животины.
Да и кому тут ходить ли, ездить, скотину водить, землю пахать?..
Хутор Большой Набатов, от которого держу я путь, и ныне лежит просторно. Еще в далекие годы протянулся и раскрылатился он от донского берега, от лесистого займища до заливного луга и Лысого бугра, таким и остался, в прежних размерах. Просторная долина справа и слева прикрыта от ветров Белой горой, Львовичевой, Прощальным курганом, Маяком, Белобочкой. Место для жилья укромное и приютное. Земли — много, рядом — вода и лес.
Когда-то в Большом Набатове был колхоз, потом, при всеобщей «объединиловке»,— отделение совхоза «Голубинский» с пашнями, бахчами, попасами, сенными угодьями, тракторной бригадой, огромным животноводческим комплексом; теперь же — просто глухое селенье, вымирающий хутор.
Остался он вроде в прежних размерах, но умирают и уходят с хутора люди; одни дома разбираются и увозятся, другие ветшают и рушатся, валится городьба, за ней — базы, сараи, разрежая былую тесноту дворов. Соседства давно уже нет. Дома и поместья стоят вольно, будто чураясь друг друга; меж ними — пустоши, руины, заросли дурной травы или задичавшего сада.
Всякий раз по приезде поднимаюсь я на Белую гору, которая прикрывает хутор от ветра, к Дону обрываясь отвесной кручею. Оттуда, словно с высоты горней, далеко видать: речные воды, придонские займища, просторная долина и, конечно, хутор как на ладони. Все дома и подворья — вот они.
Нынче на хуторе жительствуют 26 семей ли, хозяйств. Совсем рядом, под горою, просторное подворье, на котором стоит дом и жалкие остатки сараев, базов, катухов. А ведь это подворье знало иные времена. Когда-то жил здесь Павел Алексеевич Соболев. Имел он кроме огорода хороший сад с виноградником. Конечно же, корова с приплодом, куры да утки, пара свиней, овечки — все как положено, чтобы прокормиться с семьей, не надеясь на скупые колхозные трудодни. Для заработка, для денег он имел 100 пуховых донских коз, каждая из которых давала 400—500 граммов пуха, килограмм которого стоил от 100 до 200 рублей. Получалось примерно 5—6 тысяч рублей, то есть тогдашняя цена легкового автомобиля. Позднее Соболевы переселились в районный центр. Никто из них на хуторе не остался.
На самом краю хутора стоит деревянный флигель, окна-двери в нем целы, но забора нет. Подворье — заброшенное и разбитое. На нем просторная, когда-то жилая, летняя кухня, кладенная из дикого камня и глины, погреб с широкой каменной лестницей, хоть на тройке въезжай, дубовый накат. Базбы, сараи — все это нынче разбито, разрушено, заросло бурьяном. Это поместье Трофила Аникеевича Жармелова, а потом — его сына Филиппа Трофиловича. Всегда у них было 2—3 коровы, лошади, козы, овцы, сад, огород — словом, дом — полная чаша. Трофил Аникеевич здесь умер и похоронен. Сын со своими детьми переехал в Волгоград.
Рядом когда-то жил не тужил Василий Васильевич Марченко, по прозвищу Дадека. Его сад и огород славились на всю округу. Василий Васильевич имел мотоцикл и возил на продажу в Голубинскую станицу груши, виноград, картошку, чеснок. На его подворье все строения были крыты шифером. Держал скотину и птицу. Жил хорошо. Со всей семьей переехал на жительство в районный центр.
Дальше дом знаменитого Дорофеича, у которого в 1991 году на сберкнижке пропало 50 тысяч рублей. Пять «Жигулей» по тем ценам. Калинкин Василий Дорофеевич с семьей кроме коров, свиней, птицы и прочего держал 15 пуховых козлов. Тоже свой расчет. Не было у него охоты возиться с матками и малыми козлятами. А хороший козел дает 1,5—2 килограмма пуха. Занимался Дорофеич и рыбой, благо Дон под боком, и, конечно, сад был с огородом. Свою артезианскую скважину пробурил, что для хутора редкость. Сначала он детей отправил на жительство в Волгоград, а теперь и сам уехал.
Через прогон жила бабка Евлаша. Маленький флигелек, но огород просторный. Забрали ее с хутора в 90 лет. И до последнего года столько родилось у нее картошки, свеклы, тыкв, что не в силах была собрать. «Помогите тыквы свезть… Помогите картошку свезть…» Она и продавала, и раздавала выращенное, и, конечно, самой хватало.
Василий Макарович Калинкин с женой Степанидой Артемоновной картошку телегами продавали. Огромное у них было поместье, своя вода. Они сначала дочь устроили в Волгограде, потом сами переехали в райцентр, в Калач.
Самуил Иванович Спиридонов, Савва Никифорович Пристансков, Василий Андреевич Вьючнов, немец Геккель… У всех были домишки не больно видные, но просторные подворья, огороды, сады, скотина, птица. Василий Андреевич на хуторе умер, остальные уехали.
У старого Кравченко, который теперь в райцентре, а усадьба его осталась, разваливается… Так вот, у старого Кравченко коз было за сотню, гусей, индюков — полторы сотни, кур — не считано, коровы, овцы. Он одного козьего пуха каждый год продавал на легковую машину.
Это, как говорится,— былье: Жармелов, Спиридонов, Пристансков… Умерли и ушли, уже не вернуть их. А вместе с ними не вернуть былых колхозных времен: колхоз им. Буденного, совхоз «Голубинский» — еще и потому, что Савва Никифорович да Самуил Иванович, Трофил Аникеевич да Филипп Трофилович, Василий Васильевич да Евлаша, Дорофеич, Кравченко, Вьючнов и даже однорукий Евсеев, у которого огород был аж до Лысого бугра,— потому что все они, вместе с женами, детьми, стариками родителями, были великими, неутомимыми тружениками не только на своем подворье, но и на колхозных полях и фермах.
Все это было. А что же осталось в году 2002-м? Подворье Жармеловых заброшено и разбито. Недолго здесь пожил молодой Чоков с женой. У них ни скотины, ни огорода не было. Разошлись, уехали. Окна-двери выбиты. Все заросло бурьяном.
В доме Соболева до последнего лета жила Наталья Чокова с мужем. Огорода и хозяйства они не имели, как и брат ее, сидели на шее отца-тракториста. Теперь они дом бросили, перешли в другой, получше. Добро что выбор есть. Один лишь случай: Натальина свекровь, которая в райцентре живет, дала денег, чтобы купили корову. (Как без коровы на хуторе!) На эти деньги Наталья с мужем купили старую легковую машину, которая проехала по хутору лишь однажды, до горы, и там заглохла; притянули ее на буксире во двор, здесь ржавеет.
В доме Дорофеича, после ухода хозяина, поселилась молодая пара. Прожили они год ли, два, живности и огорода не имели. Теперь — разошлись, уехали. В доме выбиты окна и двери.
На подворье В.В.Марченко жила Наталья Дворецкая, развеселая бабенка. Конечно, ни о каком хозяйстве у нее и мысли не было. Но сумела даже шифер с крыши пропить. Хутор она не покинула и сейчас, просто перешла в другой дом, который целее.
Флигелек бабки Евлаши купили приезжие люди, беженцы. Они даже забор, которым подворье было обнесено, сожгли. А что до огорода… Говорят, что «земля плохая». А у бабки Евлаши, даже в 90 лет, была хорошая земля.
В доме Василия да Степаниды Калинкиных впеременку кто-то живет, но никаких огородов и картофельников и в помине нет.
У Геккеля на усадьбе — бурьян, хотя там жили до прошлого лета молодые, Сергей Стишенков да Наталья.
У Вьючнова покойного в доме непонятно кто поселился: то они есть, то их нет. Но везде — бурьян, а ведь сад был — просто рай земной. Войдешь — душа радуется. Хозяина нет, заборов нет, все скотина погрызла и вытоптала.
Нынешней весною подсчитали мы, что в Большом Набатове 26 дворов ли, хозяев. Для дальнего хутора вроде немало. Но что это за дворы…
Дед Федор, Наталья Дворецкая, Сашка Марадона, Савушка, Федя-суслик, тетка Ксеня, чеченка Полина, Нюся Татарка — все они люди немолодые, живущие одиноко и кое-как, на невеликую пенсию. Здесь, на хуторе, им горевать до смерти. Бывший бригадир Гаврилов с женою, Павло Попов, Александр Адининцев с женой Катериной, вдовая Паня Стишенкова, Эдвард Панкратьевич с женой Машей — тоже люди пенсионного возраста, но иного склада; у них пока силы есть, и они держат понемногу коров, мясной скот, овечек, коз, кур да уток, сады, огороды. Но все это в невеликих размерах, лишь для себя и родных, в прибавку к пенсии. Это народ — серьезный. Почти все они вот-вот с хутора уедут; жилье в районном центре и в областном у каждого из них есть. Эти люди пока еще держатся на хуторе по привычке, по сердечной привязанности, но их поджимают годы, болезни, житейские неудобства, которых на селе с каждым годом все больше: давно закрыт магазин, хлеб привозят лишь в летнее время, и то раз в неделю, больница и врачи далеко, тем более что дорога грунтовая, плохая: ее обрезают и дождик, и снег. Пока писались эти строки, уехала в райцентр Паня Стишенкова. У нее был хороший огород, куры, две дойные коровы, два быка; умела она и рыбу ловить получше мужиков; в этом году скупали по весне какие-то заезжие живых сусликов, змей, черепах, так Паня сразу же приловчилась и на две тысячи рублей этой живности поймала и сдала. Словом, на все руки. Нынче она уже зимует в райцентре. И Шура Попова в райцентре, Павел один мыкается. Гаврилова жена говорит: «Уедем». Панкратьич все лето ездил, искал дом в Калаче, чтобы возле Дона, он — рыбак. Катерина Адининцева мужику своему сказала: «В зиму уеду в город. А ты как хочешь…» Еще одну Катерину, но Одининцеву, родную тетку Александра, осенью перевез в город сын Петро.
Юрий Стариков — хуторской рожак, ему сорок пять лет, он жил и работал в городе; там — квартира, там дочка в школе учится. Теперь — здесь. На подворье у Юрия — коровы, мясной скот, лошади, свой трактор. Летом Юрий на хуторе живет, почти безвыездно, вместе с женой и дочерью. Зимой — враскорячку: город, хутор. В его отсутствие за хозяйством присматривает сосед и родственник Михаил Стариков, вдовец, возраста пенсионного.
Еще один бывший городской, вернее, райцентровский житель — Виктор Кравченко. Тоже здешний рожак. На хутор вернулся в новые времена, потеряв в райцентре работу. Ему — под пятьдесят. Силы много, уменья — не занимать. И начал он хорошо: поставил подворье, скотьи сараи, базы, огород завел, сад — все как положено. Есть у него трактор, косилка, машина, две артезианские скважины пробурил. Были и есть: коровы, мясной скот, свиньи, гуси, куры. Но… на хуторе ему не жить. Жена окончательно постановила: буду жить в райцентре — и устроилась там на работу, сыновья ее поддержали. Значит, и Виктор с хутора уйдет.
Семейство Шахмановых. Эти никуда не уйдут. Когда-то приехали они на хутор переселенцами, вроде из России: старый Шахман с женою и два сына. Сейчас их 30 душ. Лишь у Юрия десять детей. Из этого немалого семейства только один человек работает трактористом на соседнем хуторе, летом всякий день туда ездит. На 30 едоков лишь 2 или 3 головы скотины, причем у старых Шахмановых, а не у молодых. Огорода, сада нет ни у кого. И не было. Но от голода никто не помер. Растут, женятся, плодятся, заселяя брошенные дома, каждый из которых становится точь-в-точь как родительский: пустой двор, пустой баз, поваленный забор, который зимой в печку уйдет, у порога — лужа помоев, немытые окна без занавесок. Чем живет эта великая орда? Не один раз попадались они на краже скота (прежде — колхозного, нынче — частного). Но если старый Шахман за такие дела даже тюремный срок отбывал, то нынче за это толком и не судят. Кто-то из Шахмановых и нынче с «подпиской о невыезде» за краденый скот. (А они и не собираются «выезжать». Их колом не выгонишь.) Пропадают на хуторе куры, утки, гуси, какие-то вещи со двора, из домов. Порою Шахмановых ловят, даже протокол участковый составит. Но проку… Шахмановы живут и множатся, именно они — сегодняшний день и не больно надежное будущее хутора Большой Набатов.
Все остальное: одинокие старики, да бедолажная голь и пьянь, да еще — Юрий Стариков, живущий враскорячку между хутором и городом.
Другое будущее — чеченцы. Их три семьи. У каждой — гурт скота в полсотни голов и более, пуховые козы, обычно — под сотню. Прежде, при колхозах, чеченцы своего сена не заготавливали, пользуясь колхозным. Теперь у каждой семьи — колесный трактор. Они, как и прежде, стараются пасти скотину круглый год, добро что зимы у нас малоснежные. Но учены уже горьким опытом. В прошлом году у Алика, того, что живет за речкой, от бескормицы, когда снег все завалил, погибло десятка два голов. Нынче он сена поставил три скирда. Научились чеченцы доить коров, делать творог, сметану, масло, домашний сыр. Еще десять лет назад в Калаче на базаре, в молочном ряду, про чеченок и не слыхали. Теперь их — больше, чем русских. Жизнь научила.
Даже не три, а уже четыре чеченских семьи. Вспомнил, что нынешним летом Алик из Малого Набатова, за речкой, забрал у Сашки Марадоны дом и отделил женатого сына.
Так что хутор Большой Набатов становится аулом, а вся округа уже — не Тихий Дон, а вольный Кавказ со своими обычаями и законами. Конечно же — РФ, но вряд ли Россия.
В Москве, в Историческом музее, бродя по залам его, увидел я старинную карту России, начала XVIII века. На ней — нечаянная радость!— отыскал родные места: вот он, «калач», поворот Дона, на котором живу. «Калачинская пристань на калаче Дона»,— объясняет В.Даль. А вот и места задонские — синие жилочки-речки: «Больша Голуба», «Мала Голуба»; и нынешняя станица Голубинская — «Городки Голубы». О чем карта умолчала, подскажет память: вот здесь, в истоке речки, хутор Большая Голубая, рядом — Тепленький, по речке же, вниз по течению, Горюшкины хутора или Евлампиевский, садами, левадами, казачьими куренями они почти смыкаются, влево по притоку — Сухая Голубая, ниже на самом устье — Большой да Малый Набатов, вверх по Дону — Картули, Лучка, Екимовский. А вот здесь — Липологовский хутор, через перевал — Зоричев, за ним — Осиновский, потом Осинологовский…
Старинные же записи путешествующего европейца: «Здешние казаки живут богато. Имеют много скота, табуны лошадей…»
Вернувшись домой, не сразу, но собрался я в Большую Голубую. Поутру заехал в районную администрацию, застав всех начальников на планерке. Спросил громко: «Кто в Большой Голубой был в нынешнем году, в прошлом или когда-нибудь?..» Переглядывались, пожимали плечами. Ну ладно… Глава администрации района недавно избран… Заместителю по экономике вроде там делать нечего… Заместителю по строительству тоже нечего строить… Здравоохранение? Фельдшерский пункт давно закрыт. Образование?.. Забыли про школу. Заместителя по сельскому хозяйству спрашиваю: «Но ты-то хоть когда-нибудь был?» — «Чего там делать?» — слышу в ответ.
Федор Иванович Акимов, долгие годы проживший на хуторе Большая Голубая, говорил в те времена: «Мы в нашей глухомани помрем все — и никто не узнает». Но тогда еще в силе был совхоз «Голубинский», на хуторе были школа, медпункт, магазин, клуб и работа в поле, на фермах — не такая уж глухомань. А вот теперь…
Я и собрался к Федору Ивановичу; он хоть и живет в райцентре, но в тамошней округе сено косит. «Где-то в Голенской балке,— сказала его жена.— У Любани на хуторе спросите, она знает».— «Какая Любаня? Фамилия-то есть?» — «Какая там фамилия. Любаня, да и все».
Но до Любани еще доберись.
Опытный шофер и охотник Петрович объяснил, как говорится, на пальцах: «По шляху идешь, ты же знаешь, слева у тебя — Осиновка, первые столбы, бывший полевой стан слева, Белый родник, Пономаревы поля, потом свернул, там балка глубокая, с родником… Ну, едешь… Влево не бери… А то уедешь… Потом — дубнячок в балке… Потом — первая дорога, это где вторые столбы… Но по ней не ездят, надо подальше взять… Я и сам там не был сто лет…»
Словом, объяснил.
Ладно, поехали… Время — летнее, август. С мая месяца — ни одного дождя. Так что застрять трудно.
Асфальта двадцать верст, потом — Гетманский ли, Клетский шлях, который когда-то действительно был «шляхом», ныне — обычный заброшенный проселок.
Десять, и двадцать, и тридцать, и более километров. Ни машины, ни живой души… Лишь небо, да облака, да дикое поле, забывшее про людской голос и скотий мык. Это — нынешнее Задонье.
До поворота к Осиновскому хутору я еще как-то соображал, где и как еду. А потом — лишь дорога, развилки ее да объезды. Вроде — туда, а может, и вовсе не туда. Но выбрался, вовремя повернул и, отмахав шестьдесят верст, стал спускаться в просторную долину речки Большая Голубая.
Белью сияющие обрывы меловых холмов, меж ними — глубокий Гайдин провал, Каменный провал, ниже — Церковный да Чернозубов; над речкой, охраняя воды ее, свежая зелень тополей да верб. Просторная земля и — безлюдье.
В 1994 году еще надежда была, что хутор уцелеет: в подмогу местным жителям приехали двадцать семей беженцев, переселенцев из Киргизии. Им обещали работу и нормальную жизнь.
Год 2002-й. Спускаюсь к приметному кладбищу. Ищу глазами людское жилье. Один домик, другой, третий… Кладбище большое, а хутора, считай, нет. Остановился у неказистого подворья: дом, скотий баз, две собаки лают.
Просторная долина, речка, зелень прибрежной уремы: старые вербы, тополя; просторное кладбище…
Два порядка домов — улица, когда-то совхозом построенная. Была улица, были дома… Теперь — коробки с пустыми глазницами да руины. На одной стороне, в самом конце, живет В.С.Косогоров, на другой стороне — В.Дьяченко, последний из двадцати семей киргизских беженцев. Поодаль, за речкой,— домишко Н.В.Крачковского, недавно к нему перебралась на житье Н.И.Горелова, ее домик вовсе на отшибе. Ну и, конечно, Любаня Цыганкова ли, Рожнова, у подворья которой остановил я машину. Вот и весь народ «голубской», весь хутор Большая Голубая, в котором когда-то было более двухсот дворов. Во времена вовсе старинные — пять водяных мельниц. В близкие, колхозно-совхозные,— шесть тысяч гектаров пашни, более одиннадцати тысяч овец, молочный гурт, до пяти гуртов мясного скота, косяк лошадей буденновской породы.
Из века в век здесь жили люди. Одного из них в Калаче, на рыбалке, порой встречаю: зимой — на льду, летом — в затоне, с удочкой.
Александр Рубцов — мой ровесник, может, чуть посверстнбее, за шестьдесят, но крепок еще: телом плотен, кубоват, морщинист. Он — коренной «голубской» (в отличие от «голубинских», какие родом из Голубинской станицы); тридцать семь лет прожил он в Большой Голубой и потому говорить о ней спокойно не может.
— Какой хуторина был — цены не установишь!— жить да жить… Охота какая. По пороше любил на зайца. Как пороша: иду, двух-трех обязательно. А речка… Какие там заводи… Какая рыба… Язи, голавли, щуки. Зимой и летом ловил. А красноперка, серушка… Слаже ее нет. В русской печи запаришь… Господи…— вздыхает он и причмокивает, вспоминая далекое, с того края жизни.— К жинкиному деду на гости ездил, он — с верхов, с Подпешинского, тоже — рыбак, дал мне вентерь. Я его поставил, на другой день прихожу — и поднять не могу. Веришь, три линя по три килограмма с лишком — каждый. Я таких сроду не видал… А какие там попасы, какие травы! На Теплом, на Крутоярщине — там раньше не пахали. Там скотину водили, лошадей. Круглый год паси. И мельницы там были. И все было. Для жизни, для работы. Да сплыло… Раз в год наезжаю, на Троицу, могилки проведываю. Лишь — покойнички, а живых — никого. Последний наш, голубской, Сметанкин Николай Пантелеевич к сыну ушел в Малую Голубую доживать, но помер враз. От родной земли, как от титьки… Какой хуторина был…
Еще один коренной голубской — Федор Иванович Акимов, бывший тамошний агроном, крепкий казачина, ныне житель райцентровский. Соседям своим, какие каждый год ездят на заработки в края северные, внушает и внушает:
— Зачем он нужен, ваш север? Поехали в Большую Голубую. Будем водить скотину, лошадей. Там такие попасы, зимой из-под копыта скотина будет кормиться! Можно заработать больше, чем на вашем севере! И здоровью полезней.
Федор Иванович не только агроном, он водит любую машину, на тракторе пашет, сеет, косит и охотник — редкостный: на птицу, на зверя, из засады, с облавы, на лошади, гоном лису, волка. Федор Иванович еще в детстве, по несчастному случаю, потерял левую руку. Но и с одной рукой он стоит пятерых рукастых.
Большая Голубая — его родина. Там он жил, работал, женился, сыновей народил. Но ушел. Теперь бывает лишь случаем да летом косит там сено для своей скотины и на продажу, для заработка. И так же, как Рубцов, горюет: «Какой хуторина… Жить да жить…»
И нынче горюют, но ушли.
А. Рубцов:
— Ушел я с хутора при Ускове, неплохой был председатель, до него сменилось одиннадцать. У меня сынок четыре класса кончил здесь, на Большой Голубой, отправили его на центральную усадьбу в интернат, за сорок один километр. Учится, живет там, на выходной — привозят. Встренешь его да проводишь, а душа болит. Как-то приезжаю на центральную, а мне говорят: «Твой сынок к технике прислоняется, он не в школе, а в мастерских торчит». Я все понял и решил: надо уезжать, иначе — загублю детей. Написал заявление, а председатель не хочет подписывать. Я ведь и на тракторе работал, и на комбайне, и на машине. Квартиру мне сулит на центральной усадьбе. А я сказал: «Нет. Если уж со своего хутора ухожу, то центральная мне не нужна». Ушел в Калач. И правильно сделал. Сынок в люди вышел, офицер. И дочка выучилась, неплохо живет. А я и ныне горюю по хутору. Но годы уже не те. Да и хутора нет. Лишь могилки. А какой хуторина…
Федор Акимов толкует о том же:
— Вроде и глухомань, и от властей далеко, а жить не давали. Там — не коси, там — не бери. Откуда зерно взял? Откуда сено? Помню, это был семьдесят девятый ли, восьмидесятый год. Вызывают меня в милицию, аж в райцентр. Немедленно явиться. Приказывают. Как сейчас помню, женщина, при погонах, фамилия у нее… Помню, но господь с ней. У тебя, говорит, превышение по скотине. К такому-то числу ликвидируй и приведи поголовье к норме. Я кручусь, как ужака: виль да виль, мол, жена, двое детей, тетка престарелая, а я — инвалид, сами видите. Она толочит свое: «Приведи поголовье к норме». Держал я трех ли, четырех коровенок, конечно, был и гуляк, коз под сотню, конь. Была возможность. Попасы — вольные. Сено косили. Почему не держать? Для жизни. А она свое: «Давай подпись. К такому-то числу ликвидируй, приведи к норме. Иначе будем привлекать».— «Среди белого лета как я буду ее ликвидировать? Резать и под яр кидать?» — и теперь, через столько лет, с горечью спрашивает Федор Иванович.
И это ведь не тридцать седьмой год, не пятидесятый, это — рядом.
Юрий Васильевич Кравченко с Большого Набатова, нынче — житель районного центра:
— К нам как-то косвенно власти относились. Мы сколько раз просили: «Разрешите нам лошадку держать». С лошадкой такая легость. С ней и огород вспашешь, и картошку под плужок — сподручно, чего привезть, отвезть по хозяйству, в станицу съездить. Просили слезно: «Разрешите лошадку держать». Ни в какую! Ответ один: «Лошади — только для кочевых народов. Вы — не кочевые». А получилось — кочевые,— вздыхает Юрий Васильевич.— С хутора все откочевали.
Откочевали… Рубцовы, Акимовы, Сметанкины, Цыганковы… В Калач, в Голубинскую, в Волгоград и далее.
Им на смену привозили переселенцев из Тульской области, с закрываемых шахт, из Чувашии, из Мордовии, где жилось хуже. Косоруковы, Шахмановы, Стариковы, Крачковские… А уже в 90-х годах приехали те самые русские люди из Киргизии, двадцать семей, которым здесь обещали работу, жилье, спокойную жизнь. А еще — асфальтовую дорогу и даже плавательный бассейн. Могучая была организация «Сельхозводстрой», задумавшая создать в Большой Голубой агрофирму с «производством и переработкой продукции». Но гладко было на бумаге… тем более что пришли новые времена, которые доконали хутор.
Здешний старожил — Любаня: новоиспеченный пенсионер Любовь Васильевна Рожнова родилась в Большой Голубой, безвыездно живет здесь.
Возле ее поместья остановил я машину: неказистый домишко, сарайчики, скотий баз, лепленный из всякой всячины. Собаки лают, а вот и сама хозяйка, впрягшись в тележку, тянет какой-то хлам к своему гнезду. Рядом брошенные, разбитые дома, подворья. Чем-то, но можно поживиться: старая доска, моток проволоки, железяка — все в дело пойдет.
Любаня встречает нежданного гостя радушно, предлагая чаю попить. Крепкая еще казачка: говорливая, улыбчивая, румянец на щеках, правда, зубов почти не осталось.
— Про хлеб мы и не поминаем. Джуреки печем. Муки привезем… Это уж сколько лет-годов. Волки нас одолели… Спасу от них нет. На той неделе прямо возле двора, еще светло было. Пришел, зарезал козу. Собаки лают, я шумлю, палкой на него: «Кыш-кыш». А он и не глядит… Пока не нажрался.
Про двуногих «волков» рассказывает Любаня с горечью, со слезой, потому что это для нее — жизни крушение. Хутору пришел конец. Как доживать старому человеку? Любаня, надеясь лишь на себя, довела свое поголовье крупного скота до восьми голов. Каких это трудов стоило!.. Бабьи руки. Но как еще денег заработать, чтобы хатку купить в станице.
Вырастила восемь голов. Уже хотела продать. Но ее опередили: угнали, украли весь скот. «Волков» нашли. Они из соседних уже не хуторов, но аулов. А оттуда, по кавказским обычаям, выдачи нет. И никакие суды не помогут.
Вот и рухнуло все. Теперь здесь придется доживать, сколько бог даст. Тянет всякий хлам с пепелищ. Авось пригодится.
На другом конце хутора подворье Валентина Степановича Косогорова: домик, огород, корова. Невеликая пенсия, и никаких надежд. Уехать некуда и не на что. Потому он не больно разговорчив: курит, ругает власти, машет рукой.
Поодаль, за речкой, стоит домишко Николая Крачковского. Он был механизатором, даже техникум кончал. Пятьдесят лет. В кармане — пусто. Податься некуда. Перешла к нему в дом шестидесятилетняя Надежда Горелова, она совсем на отлете жила. Теперь бедуют вдвоем.
Вот и все жители еще недавно людного хутора — Большая Голубая.
Есть еще семья Дьяченко, единственная из киргизских переселенцев. Но они нынешним летом купили дом в райцентре. Переедут туда.
А еще — чеченцы. Хамзат Брачешвили уже лет двадцать живет здесь. Руслан Дадаев в этой округе родился, вырос. Он был последним управляющим от «Сельхозводстроя» на Большой Голубой. Работал недолго, но когда все кончилось, то остатки немалого имущества — техника, помещения, скот — оказались в его личном владении. Видимо, выкупил. И сказал: «Здесь теперь все мое, даже любой ржавый гвоздь».
Часть животноводческих ферм Дадаев разобрал и увез в станицу. Там он достраивает дом. На Большой Голубой у него гурт крупного рогатого скота: 300 ли, 500 голов… Кто их считал? Работников откуда-то привез, две семьи. Бедолажные, нерусские, вроде из Дагестана.
Вот и вся жизнь Большой Голубой. Чтобы купить муки, крупы, других харчей, надо нанимать машину и ехать в станицу за 50 километров. Машина у Дьяченко, пока не уехали. 300—400 рублей отдай. А какого-либо попутного транспорта нет. Сюда редко кто забирается. И зачем? Электричества на хуторе порой не бывает месяцами. В этом году целую линию столбов спилили и увезли хозяйственные люди. Правда, их отыскали, потому что они не больно и прятались. Связи телефонной зачастую нет. У Любани в прошлом году умер кто-то из родных в Волгограде. Телеграмма шла долго. Любаня, слава богу, успела на девятый день. А вот из Германии родственники успели с покойным проститься. (От Волгограда до Большой Голубой — 150 километров, до Берлина — наверное, 3 тысячи.)
Такая вот жизнь на хуторе, где еще недавно хлеб растили, пасли и стригли овец, доили коров. Разводили мясной скот, лошадей. Работали, жили. Так было в XVII веке, в XVIII, в XIX и в XX.
Теперь XXI. Любаня Рожнова — на пенсию пошла. Косогоров, Горелова — тоже пенсионеры. Крачковский работал у Дадаева, тот платил скудно. Курева привезет, муки. Потом скажет: «Ты все забрал. Я тебе не должен». Сейчас, в августе, Крачковский работает у Федора Ивановича Акимова, косит сено. Но это — ненадолго. А дальше? До пенсии — далеко. До станицы Голубинской — полсотни верст. Но там и своих лишних рук много. В райцентре — та же песня. Да и куда поедешь. Здесь хоть крыша над головой.
Походил-побродил я по хуторским пепелищам. Тишина и покой. С пустыми оконными проемами — клуб, но крыша и стены целы. Бывшие медпункт и школа заперты на замок и, слава богу, не тронуты. Но кому нужны?
Двинулся я в путь. «Ферму проедешь и на правую руку, после балочки,— объясняла мне дорогу Любаня,— по-над посадкой, тама сколько лет-годов трактора ездили. По следу, по следу на правую руку, и тама — Голенская, Федора найдешь, перекажи, мол, Любаня велела…»
Сколько езжу, всем объяснениям: «Тама балочка… И на правую руку…» — им одна цена. Тем более, что тракторные следы давно заросли, а иных нет.
Ехал я, ехал, пока не понял, что заблудился. Оставил машину и стал подниматься на курган, чтобы оглядеться и, может быть, услышать голос трактора, которым косят траву. Но степные курганы сторожат безмолвие. Шелест травы под ногами, посвист ветра, стрекотанье кузнечиков. И огромный простор земли, который неволею завораживает. Стоишь и глядишь. Стоишь и чуешь, как душа твоя принимает этот простор и становится частью его. Ничего уже не надо, все есть: небо, земля, ветер, горчина и сладость уже переспевшей травы, негромкий посвист степной вольной птицы.
В этот летний день, порядком по степи поблукав, я все же отыскал приют Федора Акимова, в тени дубков, на взгорье, возле бывшего хутора Теплый. Обычное становье: стол, скамейки — под легким навесом; шалаш из тюкового сена, степного сенца, до одури пахучего; тут же — наковаленка, молот, куча «сегментов» травокоски.
Случайно наткнулся я и на полевой стан Пушкиных — считай, единственных землепашцев в этих просторных краях. Отец и четыре сына. Сергей Сергеевич возился возле трактора. Вид у него не больно богатырский: небольшого росточка, худощавый, носатый. Тоже из Киргизии переселенцы. Прежде глава семейства, как говорит он, на тракторе и пассажиром не ездил. Теперь вот почти десять лет крестьянствуют: пашут, скотину держат, своя маслобойка, рушилка для проса, тракторы, автомобили, производственные помещения. Конечно, это еще — не настоящие крестьяне; но энергии и сметки хоть отбавляй. На них и держатся, слава богу. Землю Пушкины брали сначала возле станицы Голубинской, где живут, потом — у Евлампиевского хутора, теперь перебрались сюда — на Крутоярщину, в далекий от дома край. Ищут где лучше, добро что свободной земли нынче вволю. Но в конце концов когда-нибудь поймут, что в Задонье много веков и до них жили люди и кормились они, а порой богатели мясным животноводством. Это понимание у Пушкиных еще впереди; может быть, старшему сыну — тоже Сергею Сергеевичу — окончившему сельхозинститут и аспирантуру, наука и опыт чужой будут в помощь.
А пока слава богу, что Пушкины живы, здоровы, работают. Потому что в этой округе в 90-х годах прошлого века было много желающих «фермерствовать»: пахать ли, сеять, коней разводить. Где они нынче: Караваев, Найденов, Рукосуев, Каледин, Бударин, Коньков, Карасевич, Камышанов, братья Пономаревы, Лысенко, Чернов, Комаров… Им счету нет. И памяти о них уже нет. А Пушкины работают. Нынче у них было хорошее просо, рожь. Сейчас сеют озимую пшеницу.
От духовитой, сеном пропахшей обители Федора Акимова пытался я спуститься вниз, в долину Большой Голубой, чтобы вдоль речки, торной дорогой, ехать на Евлампиевский. Но полевая колея понемногу стиралась, словно истаивая, и наконец вовсе исчезла, затравев возле поросшей кустарником глухой балки. Пришлось назад возвращаться.
А от стана Пушкиных провожал меня хозяин, объясняя, как удобнее проехать: «Левей и левей от посадки, там колея, только вправо не бери… Левей, и там летний лагерь был для скота, от него опять левей бери. А потом…»
Поехал. И, конечно, заблудился. Потому что скотий лагерь сто лет назад был, еще при совхозе. О нем и знака теперь нет. Попал я на дорогу вовсе не езженую. Еле заметные светлые меловые колеи. А меж ними — трава выше капота машины. Помаленьку ехал и ехал. Солнце уже клонилось к далеким холмам. Вышел я из машины.
Немереный простор открывался на многие километры. Холмленая степь. Пологие и крутые курганы, глубокие балки, словно морщины на челе вековом; просторные долины, стекающие к живым и пересохшим речкам и далее — к Дону. На взгорьях — рыжие, выгоревшие от зноя травы, в низинах — луговая зелень, гущина кустарника, в местах укромных — купы одичавших яблонь да груш, знак былого жилья. Молчаливое царство земли, неба, диких трав, вечного ветра. Стоишь о времени забыв. Да здесь и нет их, часов да минут, одна лишь вечность, которую душа не вмещает, но пьет и пьет.
Вечер. Красное большое солнце лежит на холмах. Редкие высокие облака розовеют, потом смуглеют. В долине смеркается. Под кручами и в приречной густой уреме густеют синие тени. Воздух заметно холодает, волгнет, и чуется острый дух скотий от далекого ли хутора, а может, просто от века прошлого. Долго здесь жили люди. Муковнин хутор, Найденов хутор… Горячев, Митькин, Таловое… Бурова да Мужичьи балки.
Начинает быстро темнеть и здесь, на холмах. Пора пробираться к ночлегу. Звезды — огни небесные — уже загораются. До огней земных еще ехать и ехать. Но дорога — вот она, у подножья кургана, так и бежит вместе с речкой, петляя, до Евлампиевки, до Набатова, к Дону.
Не люблю машин. Лишь терплю их, когда нужно ехать далеко. Завидую не «мерседесам», а крепким молодым ногам. Походы пешие — такая радость. Каждая пядь земли, дерево, куст, цветок ли, травинка не мимо проносятся, а встречают и провожают тебя. Разве не радость? А на машине пропылил, просвистел — и ничего не увидел, кроме дорожных колдобин.
В Набатове переночевав и оставив машину, поздним утром отправился я в поход пеший на Евлампиевский хутор и на Сухую Голубую, прихватив с собой для компании хозяйских собак Жульку и Тузика, которым на цепи скучно сидеть.
Поджарый Тузик по далекому родству вроде овчаристый, но статью тоньше, элегантнее, в кофейной короткой шерсти, молодой наш Тузик ветром летел впереди, обнюхивая и осматривая все возможные пути следования, будто старательный охранник — «секьюрити» при высоких особах, какими являлись мы с Жулькой — кудлатой коротконогой старушкой; она тоже спешила, высунув язык. Но у нее — возраст и хвори. Выйдя за околицу, мы сразу свернули с дороги проезжей, к речке. Берегом идти веселее, в тени тополей да верб, хоронясь от жаркого августовского солнца. Деревья тут старые, развесистые. Речка — обычная, степная, с глубокими омутами да заводями. А порой с каменистыми бродами, перекатами. На первом из них, отмахав от хутора пять-шесть километров, устроили отдых, который Тузику был вовсе не нужен. Шумно воды полакав, он умчался вперед, по своим охотничьим делам. Жулька шарилась в густой сочной траве, сладко чамкала, выгрызая под корень сочный пырей; она хворает, ей надо.
По каменистой россыпи светлой водой журчала и позванивала речка; мешались на земле свет и тень от листвы и ветвей, легким ропотом отвечали высокому ветру макушки деревьев; над ними — хрустальный перезвон золотистых щуров и вовсе далекая молчаливая небесная синь. Время летнее — золотая пора.
Но рассиживаться не резон, путь наш — неблизкий. Тузик уже занудился, кружится, повизгивает, торопя в дорогу.
Оставив речку и прибрежные кущи, стали мы подниматься изволоком на Евлампиевскую гору, которая надежно прикрывает хутор от суровых зимних ветров и летних суховеев. Вернее сказать, прикрывала, потому что хутор Евлампиевский остался лишь на картах. Последним его жителем, правда не коренным, был Борис Павлович Лысенко. Четыре года назад он покинул хутор. Тогда же, по осени, кто-то спалил два пустых дома, последнее жилье хутора. И теперь с высоты кургана открывается вид приглядный: речка, прибрежная зелень, сады. Но нет ни домов, ни людей. Зеленая пустыня.
«Хутора умирают, как люди, горькой болью на сердце ложась»,— строчки стихов моего земляка Николая Милованова из хутора Павловский.
Людская смерть приходит по-всякому: после долгой жизни или подкосит неизлечимая болезнь. Но можно и расстрелять или уморить голодом человека во цвете лет. Тоже — смерть. Ныне широко известно, что Россия потеряла в годы репрессий миллионы человеческих жизней. Сколько хуторов и сел погублено бездумно ли, злою силою уже в новейшие времена, не считал никто. Людские селенья, полные сил и жизни, расстреливали в упор.
Вот он, один из убиенных хуторов,— Евлампиевский, или Горюшкины. Поистине Горюшкины.
Это был огромный просторный хутор, на несколько километров протянувшийся вдоль речки Большая Голубая. Здесь разводили скот, сеяли хлеб, сажали бахчи, овощи. Овощная плантация была немалая, поливная, с чигирем, который приводил в движение верблюд — редкость для здешних мест. Колхозная плантация лежала за речкой. На заливной земле, возле хутора, располагались свойские огороды. Здесь даже без полива хорошо росла картошка, морковь, свекла, другие овощи. На всю голубинскую округу славился хутор Евлампиевский своими садами. Груши, яблоки, сливы, даже виноград телегами увозили отсюда в районный центр, про окрестные хутора и станицы не говоря.
Впервые я попал на Евлампиевский в середине 70-х годов. Это было горькое время, когда многие и многие хутора и села объявляли неперспективными, с применением мер карательных: закрытие школы, медицинского пункта; бывало, электричество обрезали, чтобы скорее понял народ: власти не шутят.
Дело было в августе. Машины я в ту пору не имел, ходил пешком. Остановился возле колодца воды попить. Старинный был колодец: с журавцом, выложен диким камнем — все по-хозяйски. У колодца — всегда народ. Разговорились. Как раз в ту пору закрыли хуторские школы. И здесь, в Евлампиевском, и по соседству, в Большом Набатове. Люди ходили как пришибленные. Помню, одна из женщин сказала, вздохнув: «Через два года нас никого здесь не будет».
Признаюсь, я не поверил. И как было поверить, когда вокруг стояли дома и дома. И не какие-нибудь мазанки да землянки, а старинной постройки казачьи курени, рубленые, из дубовых пластин, порою с каменными низами, крыши — тесовые, железные. Хутор тонул в садах, в сладком запахе спеющих груш. Нарядные стояли деревья, в желтых и алых плодах.
Как тут горьким словам поверить. Они — лишь слова…
И вот год 1978-й. Старый мой блокнот. Записи еще прежними чернилами, которые долго хранят написанное. Всего лишь четыре года минуло. Хутор еще живой.
«Курган. Осень. Ветер свистит в травах. Светло и просторно. Белое нежаркое солнце.
Внизу, у подножья кургана,— колхозное гумно: желтые скирды соломы, темные — сена. Скотьи базы, овечьи. С яслями, кормушками. Баба подъехала на арбе с сеном, разложила в ясли корм, крикнула на какую-то скотиняку: «Геть-геть!» — и уехала.
На речке утки и гуси белыми табунками. На той стороне два огромных ломтя вспаханной земли.
Ниже гумен дом под железной крышей, крашенной ярким оранжевым суриком. Возле дома — сараи, крытые и выгульные базы, забор из горбыля. В огороде мужик в синей выцветшей рубахе копает картошку. Разогнется, поглядит вокруг, снова копает. Рядом — пустые подворья, брошенные дома. Щитовые, сборные, которые колхоз строил для переселенцев, и старинные казачьи дома-курени, крытые тесом, шифером, железом.
Спускаюсь с кургана, брожу по хутору. Он безлюден.
Вот школа, которую закрыли четыре года назад. Просторное деревянное здание, два высоких крыльца. Старинная школа, вековая. (Она сгорит через пять лет.)
Сады и сады. Развесистые яблони. На них — плоды: зеленая, крепкая крымка, которая висит на дереве до морозов; янтарная алимонка, румяное павловское, поповка. Могучие вековые груши: дули, бергамоты. Сладкие плоды, сладкий дух. Падают, лежат на земле, гниют.
Брожу по хутору. Какие дома… Хоромы. С верандами, со старинными «галдареями», где спали в летнюю жару, с чуланами, кладовыми. Еще не облезла синяя краска со ставен, дверей, еще не обсыпался мазанный ярко-желтой глиной (для красоты «мазикали»!) коридор. Рубленые амбары с огромными «амбарными» замками. Колодцы с деревянными да каменными срубами, с журавцами, с долблеными дубовыми и каменными колодами, в которых скот поили.
Еще стоят заборы, плетни, не щерятся стропилами крыши, но дикая трава, конопля да татарник, полонила подворья.
Тишина. Безлюдье. Словно царство заколдованное. Все осталось: дома, сады, сараи, колодцы, скамеечки у двора… Только людей нет».
Всего лишь четыре года прошло с того дня, как хутор объявили неперспективным, закрыли школу, медпункт. По «мудрым» задумкам преобразователей население хутора Евлампиевский должно было чуть ли не строем направиться в «агрогород», то есть станицу Голубинскую, центральную усадьбу совхоза, где есть школа, больница, пекарня, водопровод и даже двухэтажные дома.
Но хуторяне, минуя станицу, подались в районный и областной города. Они рассуждали здраво: «Ныне Голубинка — центральная, а завтра — печальная. Город надежнее!» И оказались правы. Нынче, в 2002 году, в станице нет работы, а двухэтажные дома чернеют выбитыми окнами.
А на хуторе Евлампиевский и чернеть нечему. Теперь здесь зеленая пустынь, с одичавшими садами и следами былого жилья.
В начале 90-х годов, когда в стране начались перемены: развал колхозов, фермерство — на пустом уже Евлампиевском хуторе взяли землю люди приезжие: Караваев и Лысенко. У Караваева было много фантазий, поддержанных, морально и материально, властями. Замышлялось разведение лошадей, создание конноспортивной школы. «Седлает коня есаул»,— сообщала областная газета. Но «есаул»-горожанин заседлал заграничный автомобиль и пропал, оставив ржаветь и гнить тракторы, строительные материалы. Борис Павлович Лысенко продержался на хуторе почти десять лет. Он пахал, сеял, разводил скотину и просил господа бога: «Мне бы хоть одного соседа…» Когда я заезжал к супругам Лысенко летней порою, Борис Павлович просил: «Через газету… сколько беженцев… Дом есть, пусть приезжают, будем работать». Жена его лишь вздыхала: «На наше место. А мы уедем. Хватит. Как волки…» В конце концов Лысенко уехали и живут теперь в райцентре.
Евлампиевский хутор как приют человеческий кончился. Один из многих.
Ухожу на Сухую Голубую. Это и речки приток, и когда-то жилье казачье. Про него и нынче вспоминает Федор Артемонович Леонов: «От Евлампиевки и аж за Грицкову балку хаты тянулись. Мы там хорошо жили». Еще один свидетель, старая Катерина Одининцева: «Быков брали в колхозе и ездили на Сухую Голубую за яблоками. Арбами возили. Такие там сады были могучие, с виноградом…»
Идем с Тузиком по руслу Сухой Голубой. Жаркое лето, исход его. Наша спутница Жулька, виновато повизжав, повернула к дому, долгой дороги не выдержав. Мы идем по сухому песчаному и каменистому руслу. Кое-где встречаются бочаги ли, омуты с темной водой. Берегут их старинные развесистые вербы. Тузик жадно лакает, а то и плещется. День жаркий. Русло прихотливо вьется. Вот здесь было подворье и здесь, напоминают куртины вконец одичавших яблонь и груш. А здесь — заливной огород.
Вчера я глядел с кургана на просторную ложбину, в которой был хутор Тепленький, потом проезжал мимо останков Найденова хутора, теперь вот Евлампиевский да Сухая Голубая, а рядом и возле — Осинов лог, Картули, Лучка…
Лет десять назад в новомирском очерке «Последний рубеж» писал я, повторю и сейчас: «Каждый погибший хутор, селение — это наш шаг отступления с родной земли. Мы давно отступаем, сдавая за рубежом рубеж. Похоронным звоном звучат имена ушедших: Зоричев, Березов, Тепленький, Соловьи, Вороновский. Края калачевские, голубинские, филоновские, урюпинские, нехаевские — донская, русская земля».
Прошло десять лет. Похоронный список продолжен: Евлампиевский, Большая Голубая… А кто теперь живет в Осиновском, на Калиновом ключе, на Фомин-колодце, на Осиповом, в Ложках, в Гремячем логу? Почему Светлый лог именуют Урус-Мартаном, а Камышинку — Камыш-аулом?
«Уходим. Бросаем за хутором хутор, оставляя на поруганье могилы отцов и дедов».
Внучка Трофила Аникеевича Жармелова пожаловалась: «Мы раньше ездили на могилку к дедушке, прибирали ее. А потом приехали — ровное место».
«Не провели семь ли, двадцать километров дороги… Закрыли магазин. Не захотели возить детей в школу… И вот уже разошелся хутор».
Зима 2003-го. Собираюсь на хутор, звоню. Сначала спрашиваю о дороге, малом отрезке ее, в десяток верст, который строители десятый же год никак не осилят. Это вам не Московская кольцевая! У нас — по-иному, тем более что 2002 год был особенным: по-новому дела пошли, с «конкурсом», и потому вперед не продвинулись вовсе.
Слушаю, мотаю на ус:
— На Сралбях не пройдешь, и не суйся. Езжай через мехдвор, но влево не бери, где мы весной застревали, а возьми на правую руку. Там получше… И в Малоголубой, когда к бараку спускаешься, напрямую не лезь, а попытай справа, там вроде… В гору поднимешься… А может, через Рыбачий…
— А чего вам везти?— спрашиваю напоследок, хотя ответ мне известен.
— Хлеба…
2003 год
«Новый Мир», №9
Ралли
Ясным июльским утром в безлюдном степном Задонье объявился вертолет. Точнее — вертолетик: невеликий, хрупкий, прозрачный, похожий на голубую стрекозу. Летел он почти бесшумно, стрекоча словно кузнечик. Летел и летел, никого не тревожа. Оставив позади станицу Сиротинскую, поплыл он вовсе местами глухими, держась степной дороги, на которой лишь суслики порой суетились да грелись степные серые змеи.
Спустившись в долину невеликой речушки Быстрица, дорога стала петлять вместе с речкой. Вертолет летел ровно и невысоко, но, заметив людское жилье — хутор, он и вовсе снизился, почти задевая маковки тополей. И от первого дома, где жила одинокая Надя Горелова, с вертолета стали сыпаться листки белой бумаги; они словно голуби кувыркались и реяли, медленно опускаясь на дорогу, во дворы, на левады, на воду, в которой намокали не вдруг, а уплывали вниз по течению.
Хоть и негромко стрекотал вертолетик, но его кое-кто углядел. Старый Катагаров огород поливал и узрел с неба летящие белые листки. Опешив, он вначале принял их за стаю каких-то птиц, напавших неожиданно, и начал кричать: «Кыш, проклятые! Кыш!» Но потом понял и, голову задрав, увидел улетавшую голубую машину. Ему почудилось в ней что-то ненашенское, даже неземное. И потому листки, упавшие прямо к ногам его, он не сразу взял, опасаясь.
А потом в голову пришло реальное. «Выборы…— догадался он.— Либо выборы заходят, вот и листовки… Кандидаты да депутаты…»
Раньше приезжали, собрания собирали. Теперь дорога плохая, кидают с неба. Он поднял с земли листок, близко поднес к глазам, щурился. Нет, вроде не выборами пахло, а другим, не больно понятным.
— Бабка, неси очки! Тут чего-то…
Жена его, старушонка худенькая, бегучая, приказ исполнила, а потом, углядев разбросанные по двору листки, закудахтала:
— Это что за страсть?.. Откель чего?
Старый Катагаров, очки на нос поместив, прочитал листовку, не вдруг понял, а разобрав, не поверил написанному. Посреди двора уселся он на скамейку, надевал очки, снимал их, хмыкал да чмокал губами, раздумывая. Еще один листок поднял. Там — то же самое. И еще один. Та же песня, точь-в-точь.
Бабка на него глядела-глядела и стала допытываться:
— Чего молчишь? Откель они взялись, эти бумажки?
— С неба,— коротко ответил старик.
— Тьфу! С тобой говорить…
— С неба. Вертолет пролетал и кинул тебе привет.
— Когда прилетал? Я не видала.
— Он в хату должен к тебе влететь? Просвистел — и нету…
— Ну и чего?..
— Да ничего!! Брехни какие-то!!— разозлился старик. Он хоть и прочитал, но ни единому слову не поверил. Какие-то гонки автомобильные, какое-то ралли, просьба освобождать дорогу… Какую дорогу… Чего освобождать?.. Тут и дорог не осталось.
— Какие брехни?— допытывалась старуха, а потом сама догадалась: — Либо выборы? Не будем голосовать!!— постановила она.— Прошлый год обещали раз в месяц привозить товары и обдурили! Абманаты проклятые. Не будем голосовать!!
Старик Катагаров, небольшой, но грузный, сидел посреди двора с листовкой в руках, с очками и не мог ничего сообразить. Старуха рядом кудахтала, пока он ее не укоротил:
— Зась! Бумажки сбери. Пойду к Любане. Может, она чего слыхала. Был бы телефон, в сельсовет бы позвонить… А так… Надо к Любане идти.
Старуха собирала листовки, ругалась:
— Не будем голосовать! Автолавку не присылают. Ни соли, ни керосину, ни спичек… Волки по хутору ходят. Сначала коз да коров, а потом нас поедят. Разорили совхоз! Не будем голосовать!
Таким же трудом, собиранием листовок, занимались в этот час, считай, все хуторские жители, которых, впрочем, по пальцам можно было перечесть. Хутор носил громкое имя Большие Чапуры. Теперь это звучало словно насмешка. Это когда-то, при советской власти, при колхозах-совхозах, Чапуры были и впрямь большими, на две сотни дворов. А нынче — лишь малое селенье в далеком глухом Задонье.
Невеликая речка Быстрица; по берегам ее — густая зелень тополей да верб; и ветхое людское жилье редкой цепочкой тянется по ложбине. Каждый дом от соседнего — за версту. Меж ними — дома и усадьбы пустые, брошенные, а то и вовсе руины, скрытые гущиной задичавших садов.
Крайний, совсем на отшибе, домишко Нади Гореловой — одинокой пенсионерки. У нее, как у всех,— огород, картошка, кур десяток, которых лисы проклятые что ни год половинят, четыре козы да козел — одним словом, домашность, колгота, без которой не проживешь. Надя во дворе возилась, слышала негромкий вертолета звук, но подумала, что это урчит далекая машина. А тут как снег на голову эти листовки посыпались. Надя испугалась, бросилась в хату — прятаться. Потом выглянула: все тихо, спокойно, но белые листки лежат там и здесь. Она с опаской взяла в руки листовку, повертела: бумага приглядная, гладенькая. Печатные буквы крупные, читать легко. Прочитала. Но ничего не поняла. Какую дорогу освободить?.. Какие автомобили?.. Петербург… Новороссийск… А откуда взялись эти листки? Ни ветра, ни тучи нет, ясное небо. Правда, что-то гудело негромкое. Но что? В голове всякое мешалось. И ничего не понять. Либо дорогу грозятся построить… Ее хата мешает. Вот и пишут «освободить». А куда освобождать? Хату не перетянешь, тем более — рухлядь. В конце концов она решила бежать к людям: к Володе Полякову, к Любане. Может, они чего знают.
Листовки, по двору рассеянные, Надя все до единой собрала. Нехорошо глядится: словно разгром какой. Собрала бумажки, передник надела да чистый платок на голову. Все же — в люди идти. И заторопилась. Путь неблизкий: не меньше двух километров до Володи бежать. Максаевых подворье да Калинкиных подворье, деда Парфена, Трофимовых — все жили просторно: сады, левады немереные. Когда-то жили, теперь ушли. В станицу, в райцентр, а кто и на кладбище. Осталась зеленая пустынь.
А нынче еще эти листки проклятущие лежат, и ветром их несет поперек дороги. Нехорошо все это.
И у двора Володи Полякова такая же картина: там и здесь бумажки белеют.
— Володя! Володя!!— закричала Надя, подойдя к воротам усадьбы.
Ответа не было. А калитка раскрыта настежь.
— Володя… Ты где?!
Опять — молчанье. Хозяин мог и увеяться. Он — вольный казак: ни семьи, ни живности. А мог и спать среди бела дня. И тоже не враз его сыщешь.
Поляковское подворье просторное. Глядеть на него без привычки — божий страх: конопля, лебеда да колючий татарник лесом стоят. Там и здесь по двору торчат всякие железяки: тракторная кабина, зубастое полотно травокоски, мотоцикл, желтый «Москвич»-«пирожок», на каком Володя ездил еще при совхозе, бригадиром. Да еще — сараи, старая кухня. И все заросло тернами да дикой травой. Тут целый взвод потеряется — и не сыщешь.
— Володя! Володя!— прокричала Надя и прошла к дому, который был на замке. А рядом на перилах крыльца кошка дремлет, старая Мурка, на всю округу известная, потому что мастью она трехцветная: белые, черные и желтые пятна. Такие кошки, по старому поверью, дому сулят богатство. Вот и стараются люди кошек таких заиметь.
— Где хозяин?— спросила Надя.— Листков полон двор. Может, и не видал?
Мурка лишь глаза приоткрыла, но ничего не ответила, даже мяу.
— Придется к Любане идти,— вслух решила Надя.— Куда же еще.
Кошка продолжила сладкую дрему на солнышке, на солнцепеке, хотя могла бы рассказать о том, как ее хозяин бесился.
— «Мерседес-бенц»!!— орал он.— «Судзуки!» — надрывался.— «Катерпиллер»!..
— Ты понимаешь!!— доказывал он кошке за неимением собеседников.— Вот здесь вот они! Мимо нашего двора поплывут, как на параде. Соображаешь?! Как в кино! Или вроде мы за границей… Поняла!— тряс он бумажным листком, целая стая которых на его дворе опустилась.
Глаза у хозяина горели огнем:
— «Форды»! «Мерседесы»!
Пролетавший над хутором вертолет Володя видел. Слава богу, он не какой-нибудь глухой Катагаров или бестолковая Надя Горелова. Володя в свое время закончил техникум, по нынешнему колледж, работал на всех тракторах, комбайнах, какие в совхозе были, любую машину водил. Он издали вертолет услыхал и сразу его признал по звуку. А потом глядел и дивился: ненашенская машина… Наш вертолет — словно ураган: крыши срывает. А этот будто стрекоза легонький, с прозрачной кабиной, видно, спортивный. Даже вертолетчика видать: молодой мужик. Володя рукой ему помахал, приветствуя. Машина прошла низенько, даже старая Мурка ее увидала, голову задрав.
А листовки, какие с вертолета сыпались,— одну из них Володя прямо на лету ухватил. Он проводил вертолетик взглядом: не сядет ли? Но голубая стрекоза, пролетев над хутором, истаяла в синем же небе, уходя влево от речки, к Клетскому грейдеру, к асфальту. Исчезла, словно радужный сон. Володя, вздохнув, сказал Мурке:
— Вот это техника. Ты видала? И больше не увидишь. Спортивный. Нам бы такой… Мы бы…
Он говорил и разом пробегал глазами листовку, одну из многих, сброшенных с вертолета. И ахнул. Стал перечитывать. От волнения руки тряслись и мельтешило в глазах.
Володя сел на ступени крыльца и перечитал медленно и внимательно. Раз и другой. Головой потряс, ущипнул себя. Нет, это был не сон, а счастливая явь. В листовке сообщалось: по этой «трассе», по хуторской дороге, через Сиротинскую, Евлампиевский, Большие Чапуры пройдут международные автомобильные гонки Петербург — Новороссийск, в которых принимают участие Россия, Германия, Франция, Италия, США, Япония. Просьба в этот день не выезжать на машинах, не занимать дорогу.
Вот тут он и заорал от радости, так что Мурка шарахнулась прочь.
— «Мерседесы»! «Вольво»! «Катерпиллеры»! Вот здесь вот пройдут, понимаешь!— внушал он кошке, потому что иных слушателей не было.— Вся заграница здесь будет!! Ралли называется!! По-нашему — гонки!
Листовку он прочитал и перечитал. Другие листки по двору собирал: там то же самое. И сразу же со двора подался. К Любане. Куда же еще. Потому что неожиданная радость буквально распирала Володю. Поговорить нужно было, обсудить. Раз в жизни такая удача: вся заграница, вся техника на хутор явится: «катерпиллер», «судзуки»…
С Любаней поговорить. С Пашкой, сыном ее. Пусть он и глуповатый, но молодой мужик. Не с Муркой же толковать…
И убедиться хотелось. Вроде все прочитал, все понял, и вертолет ненашенский не зря пролетал. Но как-то не верилось… А уж Любаня-то точно все знает…
Любаня — она для всех была Любаней: для молодого ли, старого, своего ли, приезжего. За пятьдесят лет к ней никакое прозвище не прилипло, и по батюшке никто не величал. Любаня да Любаня… Бегучая, шумоватая, в просторных халатах да юбках, словно кочан капусты. Прежде срока беззубая, но с молодым румянцем на щеках. При ней — младший сын Пашка, парень молодой, крепкий, но разумом дитя дитем.
Живут они, как говорится, «на бою»: перекресток дорог и кладбище. Ни в хутор, ни из хутора мимо не проедешь. Правда, некому теперь ездить. А вот на кладбище люди бывают: станичные, из райцентра, даже из города. На Троицу ли, на Родительскую субботу, а то и просто по теплому времени могилки проведать.
Любане такие приезды — праздник: не столько рюмочку выпить, сколь с людьми поговорить, пожалиться: «И подыхать здесь буду! Посеред степи! Как волчица… Работали, работали, а теперь никому не нужны…»
Возле Любаниного двора под большим белокорым осокорем стоят врытый стол и скамейка. Подзакусить, помянуть или просто отдохнуть после долгой дороги, слушая шелест листвы, вдыхая горький степной ветер и глядя на просторную долину, безмолвную и безлюдную, курганами да увалами уходящую в далекую даль, в синеву.
Нынешним днем возле двора Любани кипели страсти. Вертолет, листовки, автомобильное ралли… Вчера подъезжал чеченец Муса, который совхозные остатки на хуторе к рукам прибрал — скотину да ферму. И он подтвердил, что действительно именно по этой дороге пройдут автомобильные гонки, называемые «ралли по бездорожью». Грузовые и легковые машины из многих стран. Это было неожиданно и просто немыслимо: глухомань, Большие Чапуры, куда лишь чеченец Муса наезжает раз в неделю, а то и реже. И вдруг — Америка да Германия, Италия, Япония… Прямо здесь, по этой дороге, которая уже травой поросла.
Вот все и сбежались к Любане с листовками в руках. Катагаров, Володя Поляков, за ним — тихая Надя Горелова.
Старик Катагаров — он мудрый, он в прежние годы газету выписывал и на колхозных собраниях шумел. Катагаров все сразу понял и разоблачил:
— Иностранные едут, значит, поглядеть. Ближний свет нашли, гонки устраивать. Это они едут подглядывать. А как же!.. Такое богатство! Сколь мы зерна намолачивали. До десяти бунтов на току насыпали. А скотины сколь?! Одной овцы до двенадцати тысяч! А гуляк?.. А кони?.. Такое добро не будет валяться. Наши кинули, другие подберут. Для вида, мол, гонки, гонки… А то негде им ездить по белому свету, бензин жечь. Подглядят, разведают — и на кукан! Под чужую власть уйдем!
— Может, тогда автолавка будет ездить,— вставила свое слово Надя Горелова.
— Вы как хотите, а я буду жалиться!— доказывала Любаня.— Начальство обязательно будет! Кинусь прямо на дорогу и по-пожарному зареву: «Найдите мой стаж! Всю жизнь здесь провела! И в доярках, и в свинарках, и на поле, а говорят — стажу мало!»
— Это называется ралли по-международному… «Мерседес-бенц»…— свое гнул Володя Поляков.— Мощность дуриная… «Катерпиллер»…— втолковывал он Пашке, молодому и глуповатому Любаниному сыну.— «Катерпиллер»… Четыре ведущих… Ты понял?
Пашка соглашался. Он соглашался со всеми. Лет ему было уже под тридцать. На лицо — моложе. Послушный и работящий. Любил музыку, носил с собой маленький приемник. Горевал, когда батарейки садились. Лишь тогда начинал ругаться с матерью, требовал: «Батареек давай!» А в остальном — золотой парень: за скотиной ходил, огородом занимался, сеном, дровами. И все это в охотку, по-молодому, подгонять не надо. С малых лет такой.
И теперь он улыбался, радуясь людям. И старому задышливому Катагару, который грозил: «Поглядят — и все скупят!», и Володе Полякову, толкующему про «мерседесы». Пашка всех слушал, но, издали заметив хромого Дорофеича, который выше по речке жил и далековато,— заметив старика, Пашка устремился ему навстречу с вопросом:
— А Рая где? Почему Рая не пришла?
— Скотину она пасет. Чего она бегать по хутору будет?— не больно ласково ответил ему старик.
— У меня музыка играет,— похвастался Пашка, включая на полную громкость висящий на груди приемничек.— Батарейки Муса привез.
— Вот и пляши…— ответил старик, вовсе не радуясь Пашкиному вниманию.
У него жила молодая внучка, которую пришлось забрать из города, из непутевой сыновьей семьи. Третий год жила, кормилась, помогала в делах. Но дальше-то что — без школы, без людей? А в городе, у сына,— вовсе грех.
Отмахнувшись от Пашкиного внимания, Дорофеич к народу подошел, спросил, белую листовку показывая:
— Взаправду, что ль? Или чего напутляли?
Ответили ему хором:
— Ралли! Гонки по-нашему!
— Вот так-то вот: по-над речкой, а потом на гору, на шлях. И с тем до свиданья.
— Из шестнадцати стран! Грузовые и легковые! Со всего мира, считай!
Дорофеич поверил, снял матерчатую кепчонку, потную лысину вытер, спросил:
— Ну а нам-то чего?
— Глядеть будем! Раз в жизни такое!— объяснил Володя Поляков.— Международные.
— Глядеть можно и в телевизоре,— остудил его Дорофеич и предложил дельное: — Может, пуховые платки вынести? У бабки два готовых. Или рыбки вяленой? Молочка.
Народ смолк, озадаченный таким поворотом мысли.
— Ты чего?!— первым опомнился Володя Поляков.— Международное ралли! Со всех стран! А ты им платки да рыбу…
— Живые люди,— объяснил Дорофеич.— Тоже есть-пить хотят.
— А то у них нет харчей. Там запасов. Все приготовлено.
— Эти запасы, консервы. День-другой — и обрыднет. А тут свеженькое. Ты в Калаче мост проезжал?— перешел Дорофеич в наступ.— Ты видал там? Там машин… Тоже со всего света. Едут и едут. И тоже не из голодных краев. А все останавливаются, покупают. Пирожки да котлеты. Рыба жареная да запеченная. Молочное. Всего много. Вот и нам надо вынести.
Дорофеич толковать долго не любил. Может, потому, что и в прежние времена жил на отшибе. Да и чего толковать: приедут машины, а там — каждому своя воля. В ладоши хлопать или копейку добыть.
Недолго побыв возле людей, Дорофеич распрощался: «Пойду, там бабы одни». И захромал восвояси. Ему далеко шагать, тем более — нога калеченая. А еще беда: прошлой осенью у Дорофеича угнали десять голов скота — быков да телок. Он их ростил-ростил… Последняя была надежда: разом продать скотину и в станице домишко купить. Самим с бабкой спокойно дожить, а главное, внучку Раю определить поближе к людям. Ей еще жить да жить.
Но украли скотину, концов не найти. Теперь вокруг не хутора казачьи — аулы, чеченские да иные. Скотину угнали, последняя надежда рухнула. Будешь тут разговорчивым.
Дорофеич ушел, галда обрезалась.
— Вечно удумает, смысленый…— проговорил вослед старый Катагаров, не то осуждая, не то завидуя, и тоже подался к дому, к бабке своей, потому что один ум — хорошо, а два — лучше. Может, и впрямь…
— Пойду и я,— сказала Надя Горелова.— Кабы лиса не нашкодила, так и зырит… Это, значит, не завтра, а на тот день,— уточнила она,— в обедах. Чего же поднесть?.. Дынки такие сладкие.
Но время еще было подумать.
— Пошли, соседка,— решил и Володя Поляков. Его хозяйство к дому не призывало. И на торг нечего выносить. Разве что кошку Мурку? И получалось как-то неловко: все выйдут с делом, люди как люди, а он — вроде пришей-пристебай. Не нравилось ему это.
Шли той самой дорогой, единственной, какая тянулась вдоль хутора. Когда-то по ней ездили. А нынче колеи заросли муравой. Как-то не верилось, что скоро по этой дороге заревут и помчатся машины, тем более из других стран.
Полуденная тишь, густая, уже годами настоянная, вязкая, в которой глохнет звук, никого не тревожа. Серая большая змея-желтопуз греется на дорожной меловой проплешине. Щекастый суслик, лениво кидая задом, держит свой путь от кормежки в прохладную нору. Летний день.
Надя Горелова думает вслух, ища у соседа поддержки: «Яичек ведро набрала… Картошка такая рассыпчатая… Малосольные огурчики есть. С картошкой разве не хорошо?.. Пирожков можно напечь, с морковкой, с капустой…»
Она словно оправдывается, вздыхая: «Какие из нас торгаши…» Но теплится в душе: «Может, и впрямь чего купят?»
Дело не в жадности, в жизни: пенсия невеликая, а куда ни кинь — деньги… От хлеба печеного давно отвыкли. Вместо него — пышки. Мука нужна. Пшено для каши, постное масло, мыло… Свое пробовали варить, но уж больно вонючее. И голым-босым не будешь ходить. А магазины далеко. Машину нанять — пятьсот рублей. Чуть не вся пенсия.
Володя Поляков остался у своего двора несколько озадаченный. Этот черт хромой, Дорофеич, подпортил праздник. Теперь засуматошатся, целый базар устроят вместо того, чтобы получше все разглядеть да запомнить. Раз в жизни такая удача бывает: вся заграница прибудет, все марки машин. А они со своими платками да картошкой с огурчиками.
Володя вздохнул, вспомнив, как завлекательно соседка Надя о картошке говорила: рассыпчатая, сахарная да еще с малосольными огурцами. Слюнки потекли.
Вспомнилась мать. Хорошо с нею жили. Он работал в совхозе, неплохо зарабатывал. А мать — по дому да в огороде. Придешь, на столе — щи горячие, картошка с мясом. Уток держали, кур, свиней, корову… Все было: бельишко стираное и поглаженное, в доме, во дворе порядок. С матерью было хорошо, хоть и ругалась она порой. А схоронили ее — и всему конец. Бестолково женился. Совхоз рухнул, жена куда-то испарилась. До пенсии еще далеко. Работы на хуторе нет, лишь у чечена Мусы, за скотиной глядеть. Но Муса не платит. Водки, да сигарет привезет, да затхлого пшена и говорит: «В расчете». Летом хоть тепло и можно рыбы наловить, наняться сено косить к людям приезжим. А зимой — худо. Телевизора нет. Еда — лишь пшено. Про зиму и думать не хотелось.
День стоял солнечный, знойный. Возле хаты, в тени, на старой кровати с матрацем Володя прилег, задремал и заснул. Приснилась ему сначала мать, а потом работа, спешный ремонт: комбайн он налаживает, а потом трактор «Кировец».
А потом ему привиделся послезавтрашний день: международное ралли, машина за машиной летят. И вдруг, как раз возле Володиного двора, одна из машин остановилась, поломка. А Володя Поляков тут как тут: инструмент у него, а главное — ловкость. Раз-два — и снова машина завелась. И вот уже его с собой забирают, механиком. Он, в синем комбинезоне и белой рубашке, на красном джипе летит с надписью «Техпомощь».
Проснувшись, Володя подумал: «А сон, может, и в руку?.. Вполне возможно…» И засуматошился, собирая в одну кучу ключи всех размеров, рожковые, накидные, напильники, молотки да зубила, гайки да болты, шайбы, прокладки — словом, все, что может понадобиться при срочном ремонте. Ручная тележка у него была на ходу. Не на себе же тягать все эти железяки. Получилось удобно и аккуратно, только что мотора нет и надписи «Техпомощь».
Захотелось погордиться, похвалиться, просто рассказать. Бывало, мать его слушала, делами интересуясь и одобряя: «Головочка у тебя золотая и руки делучие, только вот…» Но последнее о другом.
А нынче лишь с кошкой беседуй. Володя решил проверить сетчонку, может, попалось что, а заодно и к соседке Наде зайти, рассказать о своей придумке.
— Вот и правильно,— одобрила Надя.— На случай… Мало ли чего… Сломается — ты рядом, под рукой.
Домик у Нади невеликий, дворик малый, но чистенький, прибранный. Даже цветы росли, «зорька», которые белого дня не любят и раскрывают пахучие свои граммофончики лишь в ночную пору — от вечерней зари до позднего утра. Но сейчас был день. Зато сладко пахло во дворе свежим борщом, только что сваренным. Хозяйка предложила:
— Пообедай. Горяченького похлебай…
Отказаться Володя не мог, слюнки глотая.
Борщ еще доспевал в белой кастрюле, прикрытый полотенцем, на низенькой дворовой печке-«горнушке». Когда-то при совхозе готовили на газовых плитах, а ныне — к «горнушкам» вернулись, к дровам да кизякам. Баллоны с газом далеко, да и стоят они теперь дорого, не подступишься. Лепешки ли, пышки, которые хлебу замена, тоже на «горнушках» приноровились печь.
Хорошие Надя пышки пекла, высокие, мягкие. Крошеные огурцы с помидорами, луком плавились в желтом горчичном масле. А уж свежий пахучий борщ с чесночком для Володи был праздником в его не больно путевой жизни.
Для Нади накормить мужика разве трудно?.. Тем более, что в ее одинокой жизни всякий гость — радость. Это прежде была семья да работа, соседи. Тракторы гудят, машины мыкаются, громыхают телеги, людской говор, голоса ребячьи, их далеко слыхать, коровий мык да собачий лай. Все это — в прошлом.
А нынче встанешь — одна и заснешь — одна; за день ни людского голоса, ни гула машинного не услышишь, словно в могиле.
На неделе приходила волчица, по светлому, лишь завечерело. Пришла и зарезала комолую молодую козочку прямо у двора. Надя и кричала на нее, и палкой махала. А проку?.. Волчица распорола брюхо козе, заглотила все сладкое: печенку, сердце, легкое — и тогда лишь ушла. Вот и живи…
Володя борщ хлебал с мягкой пышкою и успевал о завтрашнем говорить:
— А может, им понравится и они начнут сюда ездить? Тогда мы заживем…
— Может, и так,— соглашалась Надя.
— Даже базу здесь можно устроить. Тренируйся и живи. Тогда обслуживающий персонал понадобится. Это не то что Муса… «Висе мое, я висе выкупил,— передразнил он чечена.— Зэмля, скотина и рэ-эчка». Даже речку он, видите ли, купил. А мы всю жизнь прожили и всю жизнь в совхозе проработали. А теперь вроде лишние. Бесплатно работай на нового хозяина.
— Уж такой нахальный,— поддержала Надя.— Не дай бог…
— Речкой завладал… А я ловил рыбу и буду ловить. И никто не запретит. Если в сетке будет красноперка, серушка, то лучше, наверно, пожарить,— о завтрашнем вспомнил Володя.— Им жареная лучше, они же на машинах.
— Конечно. Принеси, я пожарю.
— И раков надо попытать, ночью, со светом. У моста раков по двести рублей за ведро, с руками отрывают.
— Раки — это хорошо,— одобрила Надя.— Городские их любят. А вот я в рот не беру, гребаю. Говорят, что они дохлину сосут: скотину ли, человека, какие потонут.
— Это все брехни…— возразил Володя.
— Может, и брехни, а я вот услыхала когда-то и с тех пор их в рот не беру…
Глядя, как истово хлебает сосед, с пышкой вприкуску, Надя позавидовала и себе налила миску борща, поела в охотку, за компанию.
А потом сказала, углядев:
— Ты бы принес рубахи свои да штаны, я бы прокрутила в стиралке. Все же гости приедут,— усмехнулась она.
Володя смутился, начал отказываться:
— Да у меня есть чистое… В сундуке… Это вроде рабочее…
Он отказался, но как-то разом увидел себя будто со стороны: грязная рубашка с закоженелым воротом, недельная щетина, уже с сединой, разбитые опорки на босу ногу.
Вернувшись к себе во двор, Володя устроил день банный, добро что летняя душевая еще не рухнула, хоть и покосилась.
Он помылся и, облачась в чистую одежду, даже съездил на велосипеде к старому Катагару, который имел парикмахерскую машинку, ножницы и кое-какой навык.
Нужно было готовиться. Гости приедут, со всех стран.
Вот и готовились всяк по-своему.
И в день обещанный, поутру, на хуторе Большие Чапуры, торопясь, заканчивали последнее. Володя Поляков раков варил, запуская их в бурлящий, сдобренный укропом и солью кипяток. Надя Горелова жарила красноперок на легком духу до розовой аппетитной корочки. А еще пышки пекли, тоже на воле, варили картошку.
По ложбине, по речке, над водой, по всему хутору стелился ли, плыл кисловатый печной дым, дух пресного хлеба, острый укропный да рыбной, с луком, поджарки.
Тот же погожий день просыпался на всем Придонье. С утренним холодком, с легким туманом ли, паром над заводями и озерами, с пеньем жаворонков.
Но лишь поднялось над займищным лесом красное солнце, от станицы Старогригорьевской стала накатывать с ревом и гулом чужая сила.
Первым неслышно скользил над степью голубой вертолетик. Легкая тень его бежала по склонам курганов да балок, никого не тревожа.
Но следом, чуть приотстав, валом катилась по земле белая пыль, словно при степном буране. Там рев и рокот многих моторов. Разноголосый истошный хор для здешних мест непривычен и потому страшен. Он приближается, накрывая округу. Глубже забиваются в норы осторожные лисы, корсаки да тушканы — земляные зайцы. Старая хромая волчица загоняет подросших головастых волчат в темное логово.
Катит рев по земле. В пыльном облаке, догоняя, а порой обгоняя друг друга, мчатся могучие грузовики, приземистые, словно жуки, вездеходы, юркие мотоциклы. Ревущую армаду прикрывают сверху, добавляя страху, два армейских вертолета, пугая видом и гулом сторожкую степную птицу.
Грохот. Рев, бензиновая гарь, смешанная с едкой глинистой да меловой пылью,— словом, света конец.
Это — автомобильные гонки, которые, с недолгими передыхами, держат путь через всю страну, от Балтийского моря к Черному. Международное ралли, специальное — по бездорожью, чтобы надежность машин проверить да нервы пощекотать. Словом, гонки.
Уже недалек один из промежуточных финишей, он возле малого районного центра с длинным именем Калач-на-Дону. Там будет короткий отдых, ночевка. Там уже который день местные власти готовятся к встрече, чтобы все было как положено в случаях торжественных: приветствия, хлеб-соль, памятные подарки, концерт казачьего донского хора со свистом и приплясом. Но впереди еще Сиротинская, Евлампиевский, Большие Чапуры, Голубинская станица.
К Большим Чапурам гонка подошла уже за полдень. А на хуторе ее ожидали раньше. Володя Поляков, боясь опоздать, первым прикатил со своей тележкою; за ним — старый Катагаров вдвоем с бабкою. Надя Горелова подошла. Стали ждать.
Товары свои не открывали, поставив рядом укутанные да увязанные ведра, плетеные корзины, кастрюли. Но чуялось жареное да пареное, щекоча нюх.
Расселись возле Любаниного двора: кто за столом, в тени, а кто и на солнышке, кости погреть. Хозяйка вышла из дома и, оглядев, похвалила:
— Чисто Первомай или Октябрьский. Начапурились — и не угадаешь. Откель такие красивые? Либо из города?
— Тутошние мы,— отозвался Катагаров.— Дюже не боись.
Прибежали ребятишки своего, хуторского, чеченца Хамзата — Ахмет, Зарина и даже старший, уже подросток, Али.
Последним прибыл хромой Дорофеич, тоже не один, а с внучкой Раей, взрослой уже девушкой, с крашеными губками. Любанин сын Пашка тут же закружился рядом, включив приемник:
— Музыка у меня, Рая, музыка…
Пашка нынче был, как говорится, при параде: джинсы, белые кроссовки, яркая рубаха, чисто выбритый, с душистым ароматом. Жених женихом.
Гостей ждали долго, начиная покой терять:
— Может, заблудились?
— У них — карты! И вертолет впереди летит.
— А может, ушли напрямую, через Найденов хутор?
— Обозначен маршрут,— успокаивал Володя Поляков.— Значит, обязаны быть!
Ждали долго. А окончилось все очень скоро.
Прострекотал маленький вертолет низко над хутором и ушел.
— Будут! Приедут сейчас!
Засуматошились и потащили свои корзины да ведра к дороге, раскрывая и разворачивая каждый свое. И вот уже стояли рядком запотевшие банки квашеного молока и топленого, с коричневой пенкой, свежий каймак, а рядом — высокие белые пышки, поджаристые пирожки, плетеные корзины с яблоками и грушами, свежие яички, огурчики, помидоры… Не хуже, чем на станичном базаре…
Тяжелые пятнистые вертолеты прошли низко, оставляя за собой пыльный мусорный вихрь.
И понеслись друг за дружкою с ревом машины, словно из мешка.
Одна проревет; чуть стихнет, а вослед — другая. Ярко, диковинно разрисованные, с чужими буквами, каких не прочтешь. Грузовые и легковые и дуром орущие мотоциклы.
— «Мицубиси»!— кричал Володя Поляков.— «Катерпиллер»! Канадский «мэн»!
Ревели моторы.
Визжали чеченские ребятишки, а их сестренка, испугавшись, заплакала. Любаня ее на руки взяла, отойдя в сторону. «Не боись, моя хорошая. Не плачь, ну их к черту с такими гонками и с такой торговлей…»
О торговле и речи не могло быть. Машины пролетали, даже не притормаживая.
— Наш «КамАЗ»!— кричал Володя.— А это «вольво» немецкий! «Судзуки»! Голову наотрез!!
Но, слава богу, все кончилось. Последними проскочили две легковые, вроде наши гаишники. Прогудели, мелькнули на бугре — и нет их.
Такая тишина разом легла, что уши заложило. Играла тихая музыка, приемник Пашкин. И все.
— Вот это гонка!— восторженно ахал Володя Поляков.— Ралли так ралли!
— Пропади оно…— ругался Катагаров, обтряхивая пыль.— Бабка моя живая?— поискал он глазами старуху.— Слава богу, не увезли… Дорофеич…— позвал он ехидно.— Купец Иголкин, не стоптали тебя?.. Как барыш?— И рассмеялся, закашлявшись.
Дорофеич лишь сокрушенно в затылке чесал.
Собирали свои котомки, укладывались, вздыхая. Как всегда, вовремя сообразив, зашумела Любаня:
— По домам, что ли?! Как тараканы?! Стыду! Сроду раз собралися — и на побег? Правда, что дикими стали. Быстрее в нурё! А то не успеем! Паша! Неси стаканы да бутылку, на печке стоит, в домах. Садись, Катагаровна, сто лет тебя на лицо не видала. Сколь новостей! И ничего доброго. Тебе хоть пожалюсь, родная… Тем более нынче праздник престольный. Какой? Грешная Любаня. Поляк мне серушек да красноперок наловил. Дай тебя поцалую, моя сирота. Садитесь, родные. Поглядим друг на дружки, пока живые… Вон рукомойник. Обмойтесь, кого дюже припылили. Паша! Неси со двора большую скамейку!
После таких речей не уйдешь. Да ведь и впрямь прежде в магазине встречались, потом у автолавки. А нынче лишь смерть собирала.
Расселись. Дощатый стол, словно майский луг, расцвел помидорной да яблочной алостью, белизной вареной картошки да яичек, солнечной желтизной каймака.
Чеченских ребятишек угостили пирожками да вареными раками, они умчались, довольные.
А за столом выпили по рюмке и заговорили о гонках.
— Мне один помахал,— похвалилась Любаня.— Чернявый такой, зубатенький…
— Ты сроду цыганов любила…— припомнил ей былые грехи Катагаров.
Любаня лишь вздохнула.
— Наш «КамАЗ» может всех победить,— доказывал Володя Поляков.— Это особая сборка, каждый болтик проверенный.
— Сколь техники…— сокрушенно качал головой Дорофеич.— Без дела мыкаются. А нам муки не на чем привезть. Ездили бы и попутно по хуторам товары возили.
— Керосину, кричи, надо…
— И керосин можно привезть. Такая мочь, а гоняют порожняком.
Но скоро про гонки забыли. Что в них? Просвистели — и нету. Чужое.
— Помните, как при совхозе гуляли? На Майские праздники, на Октябрьские.
Любаня дишканила:
— А праздник урожая? На току столы ставили, в клубе не умещались. Сколь же было народу?..
Начинали считать — и сбивались. Вспоминали уехавших и в иной мир ушедших. Сколько их… Целый хутор ушел, оставив после себя это тесное застолье. Куда ушел? И зачем?
Ой да сон мой милай,
Сон счастливай!
Ой, воротися, сон, назад!
Пели как в годы старинные. И горько было до слез, и тепло на душе.
Лишь молодым, Пашке да внучке Дорофеича, Рае, о прошлом не было нужды вспоминать. Они жили нынешним, сидя рядом и слушая музыку.
— А ты любишь Земфиру?
— Люблю.
— А я еще Алсу люблю. Она хорошая. Я три песни ее выучила,— похвалилась Рая и запела.
Голосок ее звучал негромко, да еще люди мешали. Пришлось молодым уйти от застолья.
Дорофеич заметил уход внучки, но не стал ее трогать. Молодая… Пашка хоть и с глупцой, но парень спокойный, работящий. Где другого возьмешь?.. Разве лучше, если сманят девку какие-нибудь абреки? Побалуют — и бросят. Сколько таких случаев…
Каким ты был, таким остался,
Казак донской, казак лихой!
Зачем, зачем ты повстречался,
Зачем нарушил мой покой!
Сидели долго и ладно, нехотя разошлись лишь к делам вечерним, которых не отставишь в хуторском быту.
И прощались долго, понимая, что такая встреча будет теперь не скоро. Пашка провожал Дорофеича с Раей, веселя их музыкой. А Надя Горелова с Володей Поляковым поднялись от застолья вместе и, миновав поляковскую усадьбу, дальше пошли. Такой уж выдался день, сердцу милый, отогрелась душа. И зачем ей стыть в одиночестве, тем более что зима впереди. Заметет, занесет, не то что людей, света божьего не увидишь до самой весны.
Теперь еще было лето — жаркий день, а потом — долгий вечер. Но в долине, где речка текла и лежал хутор, темнело быстро. На окружных холмах да курганах долго светит вечерняя заря, разливаясь по небу алым да розовым. Внизу зелень приречной уремы быстро темнеет; клубятся и густеют сумерки; и прежде вечерней звезды пробивается неяркий светляк лампы или багровый зрак открытого зева дворовой печурки, на которой греется ужин, а после будет долго, до красноватой пенки, томиться молоко в круглом казане.
Неспешный степной ветер на высоте курганов даже в пору вечернюю свежеет, понизывает, а потом замирает в тихой долине, словно боясь погасить тихие огни и развеять по миру запах кизячного дыма, теплого молока, хлебного печева.
2004 год
«Новый Мир», №3
Теленок
В глухой час зимней городской заполночи улицы пустынны, дома безглазо темны. Все живое спит. Лишь на перекрестках явственно щелкают в стылом безмолвии механизмы светофоров, переключая ненужные зраки: зловеще красный, мертвенно-зеленый да желтый.
На одной из улиц спящего града съехались две легковые машины — кургузые «Нивы». Переморгнувшись фарами, они согласно, друг за дружкою, продолжили теперь уже общий путь: сначала по просторной, в шесть рядов, улице; а потом — из города вон, мимо ясно видимого в ночи указателя «Ростов-на-Дону — 600 км. Калач-на-Дону …».
Спящий в электрическом свете большой город остался позади, повещая о себе лишь заревом. А впереди — зимняя тьма да желтый свет фар по черному асфальту.
В кабине машин от приборной доски зеленоватый сумрак. И жаркое веселое толковище, какое бывает лишь у рыбаков да охотников. Им есть что вспомнить и о чем загадать. Ехали на Дон, на один из глухих его хуторов, где из года в год промышляли. В городе, считай, и не виделись, обходясь редкими телефонными звонками. И потому теперь все разом хвастались новыми снастями: блеснами, мормышками, лесками, все это — в полутьме, на ощупь. За встречу, за удачный отъезд выпили по глотку-другому. И тогда вовсе загалдели. Особенно в первой машине. Во второй было потише, потому что там ехала десятилетняя девочка, дочь одного из рыбаков.
Ее с трудом отпустили из дома: дорога неблизкая. Но она выпросилась, как и в прошлом году. Парного молочка попить, свежей ухи похлебать, провести пару дней на хуторском приволье: замерзшая река, зимний лес, а еще бабушка — дальняя родственница, жившая в хатке для нынешних дней диковинной: приземистой, глинобитной, с большой русской печью, словно избушка на курьих ножках. И эта избушка полна жильцами. В ней кроме хозяйки три кошки живут, спасаются от холода малые козлята, словно живые игрушечки: колечками шерсть, милые мордочки и веселый озорной нрав. А еще там должен быть теленок, который на свет появляется как раз в эту январскую пору. Он и вовсе прелесть: бархатная шерстка, большие синие глаза с длинными ресницами, тычется, словно дитя, горячим носом, говорит: «Му-у-у…»
Девочка скоро заснула в тепле, под мерное гудение мотора, под мужской говор, который тоже помаленьку стихал. Задремывали и засыпали.
Машины бежали во тьме, оставляя позади невидимые километры. Лишь изредка, от асфальта поодаль ли, близко, проплывут и отстанут скупые огни селений. И снова — тьма.
Девочка спала крепко и даже видела сон, в котором был хутор, маленькая хатка-мазанка, большая русская печь, а возле нее — малый теленок в густой золотистой шерстке, на высоких смешных тонких ножках врастопырку, нетвердо стоит и глаза таращит, а потом говорит тоненько: «Му-у…» Не столько слыша, сколь чуя своего теленка, утробным и низким мычаньем отвечает ему большая рогатая корова Маня из теплого сарая.
Но это был лишь сладкий сон девочки. Теленок, который грезился ей, родиться не успел. В эту по-зимнему глухую предутреннюю пору коровы Мани уже не было в живых. Ее ободранная туша тряслась в машине, по дороге к райцентру. Рогатая голова с открытыми глазами валялась посреди чужого двора в чужом хуторе, рядом со шкурой; и рядом же, застывши в крови и слизи, лежал так и не успевший родиться теленок, большеголовый, с желтыми копытцами, в коричневой шерсти. Все это было брошено и еще не убрано после того, как в ночи корову увели с родного двора, а потом забили и разделали братья Репины, Анатолий да Михаил.
— Голову и ноги матери отдадим,— рассудил старший брат Анатолий.— Об родителях надо помнить,— произнес он наставительно.— Они нас вырастили и воспитали. И шкура сгодится. За нее нынче неплохо платят. Только надо прибрать. Но это потом… Сначала выпьем, согреемся. А потом…
В доме, за столом Анатолий поднял стакан с питьем, оглядев невеликую, но все же компанию, в которой кроме них, братьев, были еще две молодые девки, хмельные и веселые. Обведя взглядом застолье, он произнес внушительно:
— Для-ради брата, для родного… Как обещал. Базару нет. Сказал — значит сделал. Родного брата я всегда встрену как положено, как следует. И провожу, если надо. Тем более солдата. Все мы служили, отдали долг и знаем. На то я есть старший брат.
Крепким кулаком он постучал себя в грудь, до слез растрогался, только что не заплакал. И выпил, одним разом опрокинув в себя стакан.
Младший брат, Миша, сидел рядом и глядел на старшего снизу вверх, с благодарностью. Молоденький, двадцатилетний, вчерашний не солдат, а солдатик, мальчонка во хмелю: светловолосый, голубые глазки осоловелые, в них любовь и преданность к любимому старшему брату.
Гульба шла уже не первый день. Сначала в родительском доме у отца с матерью, как и положено, встречали дорогого сынка, из армии демобилизованного. Потом, через день-другой, когда пламя гульбы попритухло, старший брат, живший отдельно, забрал «дембеля» к себе, догулять. Вот и догуливали, с молодыми веселыми девками, каких нынче хватает.
— Базара нет,— внушительно повторил Анатолий.— Сказал — сделал… Для родного брата все сделаем…— И он рукой повел, приглашая к пиру, который в нынешней ночи прервался на час ли, другой.
Младший брат этого словно и не заметил. Кажется, от стола и не уходили. А если и уходили, то лишь просвежиться, горячую голову остудить. Все словно во сне.
По накатанной зимней дороге летел во тьме мотоцикл. Управлял машиною, конечно же, старший брат. Дорогу он знал на память и видел ее даже в ночной тьме, безо всяких фар, где надо притормаживая или объезжая. Позади сидел молоденький брат его, который всему удивлялся и всему радовался, тем более что был хмелен от вина и воли. Еще вчера на шее — армейский хомут, все расписано: когда шагать и куда, когда щи хлебать. А ныне… Вот сидели они в доме: гуляли, плясали, девок голубили. А теперь на мотоцикле мчатся во тьме. Разве не удивленье! И так сладко дышится после душной хаты. Ночь, ветер, звезды, простор… Не сумев и не желая сдерживаться, солдатик, перекрывая голос мотора и погромыхивание железного листа, который, словно прицеп, скользил сзади, закричал, пригибаясь к брату:
— Я люблю на скорости! Я в армии так наскучал!
— Молоток!— ответил ему старший.— Имеешь право, боец! А мы для родного брата, для дембеля, все сделаем! Базара нет!
Он тоже был хмелен. Но пьянило его сейчас не пойло, а злость и решимость. Так было всегда, если что-то или кто-то мешал ему.
Вот и сегодня… Как хорошо гуляли: самогон, девки, музыка. Не для себя, для младшего брата все делалось. Он — из армии, словно в тюрьме отсидел два года. Положено встретить как следует. И, как старший брат, он обязан все предоставить. И он предоставил.
Но вдруг среди ночи опустела последняя бутылка. Девки заканючили, да и самим…
Он был старшим братом и был обязан… И голова была на плечах. Он скомандовал:
— Боец, ты готов?
— Всегда готов!— по струнке вытянулся младший братишка.
— Следуй за мной, боец. И будет порядок. Наш порядок!— гаркнул он. И девкам команда: — Приберитесь чуток. Подтопите печку, воды нагрейте в большой кастрюле. Ровно через час…— подчеркнул он,— ровно! Я вам такого шику дам…— хохотнул он, уверенный и сильный, не кто-нибудь, а Толик по прозвищу Репа. Таким его знали на хуторе и в округе. Довольные девки завизжали.
И вот уже хутор пропал в ложбине. Зимняя ночь, звездное небо, а на земле — тьма. Гул мотора и ветер, остужающий и прогоняющий хмель.
К соседнему селенью подъехали низом, пологой ложбиной. Остановились.
— Жди,— коротко сказал старший брат.
— Так точно,— ответил младший, толком ничего не понимая.
Для него продолжался счастливый праздник «гражданки»: гульба, езда, теперь еще что-то будет.
Рядом, в разлатой ложбине, стекающей к Дону, лежал во тьме спящий хутор. Два мутных огня виднелись поодаль, не разжижая ночную вязкую темь. А звезды, яркие, словно самоцветы, с переливами в голубизну и зелень, звезды сияли лишь для себя.
Ожидая брата, солдатик пытался во тьме, словно во сне, припомнить здешний хуторской магазин, школу, машинный двор, медпункт, контору. И все вспомнил, потому что бывал здесь не раз, и много было знакомых, и было что вспомнить.
Но ожидание оказалось недолгим. Сначала послышались шаги, а потом тяжелые вздохи. Рядом с силуэтом старшего брата обозначилось большое и темное.
— Корова…— удивился и обрадовался солдатик.
Старший брат молча и быстро поставил корову на просторный железный лист, прицепленный к мотоциклу, нагнувшись, спутал ей ноги, а потом завалил на бок тяжело екнувшую животину.
— Садись на нее, придерживай,— приказал он младшему брату.
Завелся мотоцикл. Поехали.
Солдатик пристроился возле теплой, лежащей на боку скотиняки, забормотал:
— Корова… Я люблю корову… Я в армии так скучал по коровам. Потому что привык с детства. А в армии нет коров…
Он бормотал, устраиваясь поудобнее возле большого теплого тела, угреваясь и задремывая. Гудел мотор. Шуршало и потрескивало под металлической полстью льдистое корье дороги, хрусткое снегово целины. Что-то урчало ли, помыкивало в коровьем чреве, негромко и усыпляюще.
А потом снова был праздник. Теплый дом, яркий свет, веселые девки. Большие пластмассовые бутылки с самогоном, под горлышко налитые. Так хорошо пьется после морозца, для согрева. А на закуску хрустящая вилковая соленая капуста, ядреные помидоры в укропе. Для девок — цветастые шоколадки горкой.
И уже кипит на печи, доспевая, пахучий, крепко сдобренный луком и перцем шулюм из свежей коровьей печени, осердья и легкого. Гулять так гулять!
Холостое жилище старшего брата не больно приглядно: захватанные занавески, на кроватях — матрацы, тряпье, ватные драные одеяла. Но музыка в доме имелась. Включили ее, и грянуло, даже за двором слыхать: «Мама, я шику дам! Мама, я шику дам!»
Теперь уже ничто не могло помешать веселой гульбе. Дом стоял на краю селенья, даже на отлете, на взгорье. От него шел долгий пологий спуск через весь хутор, к приречному лесистому займищу, к просторному донскому заливу, ныне покрытому льдом и снегом. И лишь недалеко от берега темнеют две майны-проруби; туда поздним утром пригоняют на водопой скотину, у кого ее много.
Ночь уходит, понемногу светает. А потом над хутором неспешно встает тихое зимнее утро. Большое, чуть не в тележное колесо, малиновое солнце всплывает над займищем. И все вокруг словно сказка: розовые снега на окрестных холмах, розовые столбы печных дымов, розовая опушь инея на деревьях, заборах, кустах, стайки розовые снегирей, свиристелей, шелушащих кленовые листья. А день еще впереди.
В такой же утренней сказке оказалась и городская девочка, когда, осилив неблизкую дорогу, машины подъехали и смолкли возле всегдашнего хуторского постоя.
Приземистая беленая хатка под шифером нынче, словно в молоке, тонет в пуховой гуще заиндевелых абрикосовых деревьев да смородиновых кустов; лишь труба наружу торчит.
Пока мужики после долгой дороги, кряхтя, выбирались из машин, разминались да закуривали, девочка, не забыв увесистый пакет с гостинцами, уже летела в словно для нее распахнутые воротца, чтобы скорее увидеть старую хозяйку, а главное, малую животину: козлят да теленка, ради которых стремилась сюда.
Но сегодня здесь девочку не ждали. Калитка — настежь; и в хату двери открыты; во дворе — чужие люди, их говор, плачущая хозяйка то к одному кидается, то к другому.
— До трех разов ночью выходила глядеть и не углядела. Она же, моя родная, причинала. Вот-вот теленочек. И собака не гавкнула…— И вот уже для городских, приехавших, горький рассказ со слезами: — Нету, нету моей Мани… Свели с база. И ведь спала комариным сном, теленочка застудить боялась.
Горе людей не красит, а стариков — тем более. Морщинистое лицо, седые волосы, слезы. А за слезами — вовсе боль. Поневоле взгляд отведешь.
— В милицию звонили, не едут. Бензину, говорят, нет. Господи… Кормилица моя… Где она и чего с ней…— И снова покатились стариковские горькие слезы.
Девочка как вбежала во двор, так и встала, не понимая случившегося, но видя беду. Она стояла, пока отец не повел ее прочь.
— Пошли,— сказал он.— Тут нынче не до нас.
— Почему?
— Корову у бабки украли.
— Маню?
— Маню, Маню…
— А как ее украли? Она — большая.
— Вот так и украли. Вывели со двора — и ищи-свищи.
— Зачем украли?
— Зачем крадут? Зарежут на мясо.
— А теленок?
— Какой тут теленок, если коровы нет. Ну, может, еще найдут,— успокоил он дочь.— Собираются. Вечером вернемся, узнаем. Долго они только собираются,— попенял он.— Ладно, поехали. Окуней будешь с нами ловить.
Городские машины одна за другой, вперевалочку спустились по кочкастой хуторской дороге к донскому берегу и покатили ровным наезженным следом по жесткому снегову, по льду, к местам привычным.
Девочка больше ни о чем не спрашивала, прижухнув на заднем сиденье. Но толком она понять не могла: как можно украсть такую большую корову и зачем? Тем более зарезать ее… При чем тут мясо? А главное — о теленке: где он и что с ним? Ему ведь нужно тепло, как всякому малышу. Смежив веки, словно воочию, она видела милую лобастую мордаху, большие синие глаза в длиннющих ресницах, по-детски тонкие и ломкие ножки, шишкастые в суставах. Это виденье баюкало, навевало добрым: «Может быть, ошибка… что-то перепуталось. А к вечеру, когда вернемся, все будет на месте. Найдутся корова Маня и ее теленок. Наверное, она просто ушла куда-то и заблудилась. А потом найдется. В городе ведь тоже часто теряются собаки. Сколько объявлений… Терялся же пудель Маркиз. Целый день искали его. А он сам пришел, прямо к подъезду. Вот и корова Маня найдется…»
А на старухином дворе сборы оказались и впрямь небыстрыми, но всерьез. Ждали милицию, не дождались. Снарядились ехать впятером: двоюродные племянники, крепкие мужики, с ружьями; местный лесничий с сыном, у него осенью быка угнали, да еще позвали охотника с собакой. С помесью был пойнтер, но чутьистый.
С трудом упихались в «УАЗ», потихоньку поехали от скотьих ворот старухиного база снежной целиной, по коровьему и человечьему следу к явственным же следам мотоцикла и второго человека, который, видно, на карауле стоял. Широкий след волокуши лысым обдутым взгорьем, но все же видимо потянул к проезжей дороге.
— Вот тут его и ищи…— с горечью вздохнули в машине.
— Возьмет… Он верхом хорошо берет.
— А сколь времени прошло. И там ветер.
На холме, выбравшись к дороге, остановились. Сунули пойнтеру под нос тряпку, какой старуха вытирала при дойке коровье вымя, и собака уверенно показала, потянув влево, в сторону соседнего хутора.
— Только бы в лесополосу не свернул.
Но шла по дороге собака, и не везде, но видны были мотоцикла след и волокуши на колее не больно заезженной. Кому здесь мотаться? Редкие рыбаки да охотники… Но у тех — «Нивы», «УАЗы» да заграничные вездеходы.
Не спеша доехали до соседнего хутора, приглядываясь: не свернул бы след.
— А ведь это Репа,— сказал лесничий.— Точно, Репа. Рядом с бабой Нюрой Верка-мордовка живет. Он к ней ныряет. Вот и сообразил по-соседски. Давай к нему поворачивай. Я и осенью на него грешил.
Подъехали ко двору, где жил Репа. И сразу же за сараем увидели так и не убранную коровью голову, ноги, послед с теленком, кишки и прочее на залитом кровью и зеленью снегу.
— Наглая тварь… В открытую.
Из дома никто не вышел. Заглянули в окошко. А потом осторожно вошли. Хотя стеречься было и незачем. В избяном пахучем тепле хозяева сладко спали: одна пара — в горнице, другая — в боковушке. Они и очухаться толком не успели.
— Подъем!
Старший брат вскочил с кровати и тут же рухнул, получив два крепких удара. Во двор его потянули за ноги.
— Не имеете права!! Вы кто?! Бандюги!!— кричал он, цепляясь руками за ножки кровати, стола, дверные косяки. Но его выволокли, попутно охаживая дубиной, прикладами ружья, и бросили посреди двора, на окровавленный и загаженный скотьей жижею снег.
Младший брат, увидев ружья, вначале закричал несуразное:
— Охотники пришли! Я тоже люблю охотиться!
— Сейчас поохотишься, стрелок.
И тут же его отправили к старшему брату, провожая через дом и с крыльца в тычки, взашей и под зад и в конце концов — мордой в землю.
Испуганные девчата завыли в голос, на них шикнули: «Вон отсюда!» — и они прыснули чуть не голяком, на ходу путаясь в одежках.
Старший брат, когда его связывали, пытался бунтовать:
— Ответите!! За беспредел ответите!! Гад буду!! Вас всех посадят! По статье! Тем более за брата! Он — дембель!! Нехай милиция, суд решает!! Везите в милицию!!
— Вот вам и будет суд. Но не тот, какой вас — «на подписку» и воруй дальше. Дедушка водяной вас рассудит. Понятно?
Младший брат ничего не понимал, его била дрожь.
Хутор был невеликий. Несколько дворов на отшибе да вилючий длинный «порядок»: за просторной усадьбой — другая, третья по дороге, ведущей вниз, к Дону.
По этой дороге и тронулись неспешно, с трезвоном. Колотили крышками в пустые кастрюли, пару раз стрельнули, призывая хуторской народ. Поглядеть было на что.
Впереди, по ногам спутанный и с веревочной петлей на шее, шел старший брат — Репа, лицо измазано скотьей и своей кровью, скотьей же зеленой жижей, на плечах — рябая коровья шкура да еще и теленок, выдранный из чрева.
Позади него, отставая и спотыкаясь, младший брат, тоже спутанный, с трудом тащил на груди коровью голову, ухватив ее за рога руками. Глаза коровы глядели будто бы вживе: большие, выпуклые, прикушенный язык торчал между черных губ.
Рядом, по сторонам,— конвой с ружьями и дубьем. Старший брат шел угнувшись, но зырил по сторонам, надеясь на случай. На лице младшего застыло недоуменье. Ему казалось, что видит он дурной сон. Это не могло быть явью. Ведь было совсем иное: приезд, всем на радость долгий праздник, ведь только что пели-плясали, девку миловал, а теперь: на ногах — путы, веревка — на шее, коровья голова в руках, конвой с ружьями и дубинами, холодный ветер, саднящая боль, ископыченная дорога, а впереди река и черные квадраты прорубей. Не верилось. Хотелось проснуться, убежав от страшных видений, и порой вырывалось из груди тонкое: «Ма-ама…»
Но первой увидела своих не мама, а старшая сестра, замужняя баба, жившая недалеко. Она вышла на шум из своего двора, признала братьев и закричала:
— Вы чего делаете, сволочи!! А ну отпустите! Фашисты!!— кинулась она.— На расстрел ведут!! Люди добрые!! Помогите! Вася!— звала она соседей и мужа.
Грохнул выстрел прямо у бабы под ухом. И она разом смолкла, побелев и застыв на месте. А ей втолковывали:
— Ты не ори, не кидайся. Орать надо было, когда они воровали. Мы их не на расстрел ведем, а чтобы люди глядели и знали, чем твои братушки занимаются. А потом в Дону их будем кунать, по старому обычаю. Водяной с виноватых взыщет. За ними — долг. Корова с теленком, каких нынче зарезали. Да еще бычок-летошник, его осенью Репа угнал. Беги к отцу. Поняла?
— Ну, отпустите хоть молодого. Он там и не был. Он лишь из армии.
— Зато его сапоги там были. Из армии — и сразу бандитничать. Беги к отцу! Нехай гонит скотину, откупает своих деточек.
И снова ударили в пустые кастрюли, призывая добрых людей, которые выходили на шум и гам, любопытничая. Хуторская ребятня набежала, кружилась, словно мошка. Люди взрослые подходили, шли рядом, расспрашивая, узнавая. Толковали всяк свое:
— Доигрались, соколики…
— Так и учить, вдвое кнут ссучить.
— Житья нет. Ни курей, ни утей не убережешь.
— Теперь за скотину взялись. На чеченов грешим, а тут свои хуже чеченов.
— Работы нет, властей нет, родители не указ. Воля… А воля, она и меды пьет, и кандалы кует. Сколь веревочке ни виться…
— А где же отец, старый Репа?
— Не знает еще. Таиска побегла рысью.
— Это какую сердцу надо иметь отцу с матерью?.. В кузне кованную. Какими слезьми реветь… Деточки мои, деточки…
— А какими слезьми баба Нюра ныне ревет? Корову потерять… Мыслимое дело?
— А Варя? Овечек пестала, пестала, продам, мол, да, может, на уголь хватит. Вот этот же Репа и угнал. Рожа бесстыжая. Правильно мужики делают. Старые люди, они не глупей нас были… Своими средствами. Плетьми… А зимой в проруби накунать. И плетьми так освежуют, что больше свежатинки не захочешь. До смерти зарекешься.
— Наша бабка тоже рассказывала. По всем хуторам вот так-то вот, со шкурой и головой. На Скуришки, Теплый, Осиновку… По лету все завоняется, мухота роем. И так ведут до станицы.
Звякало железо, призывая народ хуторской, мыкались ребятишки, забегая наперед, с удивлением и страхом разглядывая изватланных в коровьей крови и навозе братьев.
Старший народ судил:
— Они сроду такие были, а ныне — и вовсе.
— Господи, теперь ночи не спи, про своего думай… Мыкается, хоть на цепь сажай.
— Век на цепи не просидит. В колхозе работа все же держала: трактористы да комбайнеры, шоферы, а ныне и вправду мыкаются без дела.
— Люди ищут, находят. Едут и в Крым, и в рым.
— Чего они там находят? Так-то вот…
— А все же жалко, молодые. Репанцы, они сроду глупомордые, а как выпьют — совсем дураки.
Между тем помаленьку, но миновали последние хуторские дома. Ребятишки не отставали. Да и взрослые нашлись любопытные.
Разгорался ясный январский день. Под солнцем, под легким ветром облетал с деревьев куржак, сверкая переливчатыми блестками.
Дорога пошла под уклон, к Дону. Чернели у берега на заснеженном льду две большие квадратные майны.
Городские же рыбаки к этой поре успели проведать Голубинскую протоку, там ловился окунь, но мелкий. Поднялись по течению выше, где в устье невеликой речки брались хорошая плотва и красноперка. Но отцу девочки на месте не сиделось. Он любил «судачить» на блесну, «вуалехвостку», живца. А судака, как известно, надо искать, не лениться. Вот и катили с дочерью от места к месту по толстому ледяному панцирю. Бурили лунку за лункой. Но судак, как говорят рыбаки, «молчал» и даже «не любопытничал», играясь с наживой.
Скопление людей возле правого берега заметили издали. А это был знак. Рыбаки кучею зря не собираются. Значит, ловят. Устремились туда.
Слишком поздно отец девочки понял, что это вовсе не рыбалка, совсем иное. Хотя по-рыбачьи, на бечеве — «урезе» — в четыре руки тянули из-подо льда тяжелое.
Девочка вышла из машины и, обомлев, глядела. На белом заснеженном льду лежала большая голова старухиной коровы Мани, приметная белым пятном на лбу. Рогатая, с прикушенным языком. Это было неестественно и страшно: белый снег и голова словно живая, глаза глядят. Рядом валялась коровья шкура и ни на что не похожий, но все же теленок в коричневой шерсти. Плоский, словно спущенный шарик, а значит, совсем неживой.
А в большой черной квадратной проруби, влекомая бечевою из-подо льда, с шумом выплеснулась голова человечья: мальчишеское лицо, омытое, без крови и грязи, синие глаза, светлые волосы мокрыми прядями. А в глазах — изумленье впервые увидевшего белый свет и людей. Через сведенные холодом синие губы пробилось тонкое: «Ма-а-а…»
«Му-у-у…» — послышалось девочке, и она бросилась на помощь.
— Теленок!!— кричала она.— Теленок!!— падая на колени возле черной воды и обхватывая руками мокрую, но живую голову.
Девочку подхватил на руки отец. Потом, в машине, лежа на сиденье, она стала плакать. Плакала и пыталась подняться, увидеть, что там, за машинным стеклом, на льду, возле проруби.
Нашатырь из аптечки, горячий чай, отцовские руки, его лицо рядом, его голос… И девочка ожила, спросила: «Его спасли? Ну, тогда поедем отсюда… Скорее!.. Поедем домой. Домой поедем».
Отец и сам понимал, что нужно уезжать.
Уехали, оставляя позади развязку этого зимнего, короткого, еще не прошедшего дня, где от берега, на выручку своим, спешили старый Репа и дочь его, гнали скотину. Но этого уже не видели ни отец, ни дочь.
— Уедем, уедем, уедем…— повторяла девочка.— И больше никогда сюда не приедем… Никогда, никогда, никогда…— Она говорила протяжно, словно бы пела, и глядела вперед, на просторную пустую бель замерзшей и занесенной снегом реки.
— Ты приляг,— попросил отец.— Подреми. Или просто закрой глаза.
Он не понимал, что закрыть глаза — значит снова увидеть страшное.
— Уедем, уедем, уедем… И никогда не приедем.
Так и ехали. Сначала замерзшей рекой. Потом черным, прометенным ветром асфальтом. До самого города, в котором уже зажигались вечерние желтые огни, разноцветные гирлянды сияли в магазинных витринах и дружелюбно помаргивали светофоры, открывая и открывая машинам и людям дорогу к дому.
2004 год
«Новый Мир», №8
Хука
Миливон, миливон алых роз!
Миливон, миливон для тебя!
Который уже день кружилась эта песня по хутору. С утра пусть и сипловато, но бодрый голосок ее напевал: «Миливон, миливон…» К поре обеденной, и теперь уже дотемна, в три ли, четыре голоса выводили хором бабьим, неслаженным, с хрипотцой и надсадой, порою с криком: «Миливон, миливон алых роз!!»
Один день пели у Маши Сапухиной, другой — от Нюси Калмыковой «миливон» разносился. Это навсегда прощалась с родным хутором Валя Дадекина, покидая его и переселяясь в районный центр, где умер родной ее дядя, оставив в наследство неплохой домик. Туда и перебиралась. Но особо спешить причин не было. Здесь, на хуторе, невеликое, но хозяйство: корова с телком, поросенок, куры, немалый огород — все как положено. И потому враз не поднимешься и не улетишь. Надо скотину повыгоднее сбыть, картошку выкопать, помидоры, лук и прочую зелень собрать, а уж потом уезжать.
Оттого с утра, пусть не в охотку, Валя домашние дела управляла: доила, кормила да еще огород поливала, зная, что в час вечерний будет не до него.
Который уже день твердый был распорядок: дела домашние, а потом — к Гришке Бахчевнику, который давным-давно не бахчами занимается, а самогоном.
Гришкина хата на бугре. Весь хутор на виду: ветхие домики, сараи, базы, их и осталось — на пальцах перечтешь. Одно старье да руины, глаза б не глядели… Но скоро, скоро… «Скоро, скоро я уеду…— вертелась в голове давнишняя песенка, которая вовсе о другом.— Скоро, скоро…»
Хата Гришки Бахчевника словно лисья нора: темная, с вечно закрытыми ставнями, с желтым электрическим светом, с кислым запахом браги, нечистого жилья. Может, поэтому и самогон у Гришки вонючий.
Пластмассовая бутыль была еще теплой.
— Свежачок…— похвалил свое изделье хозяин, посверкивая в полутьме вставными зубами.
— Таким свежачком жука колорадского морить,— ответила Валя.
— В городе будешь ликеры распивать,— обиделся Гришка.
— И буду!— с вызовом ответила Валя.— А ты,— уже за порогом добавила она,— так и подохнешь в своей вони.
Скоро, скоро она уедет и как страшный сон забудет Гришкину хату и его вонючий самогон. В райцентре, словно в городе, магазины, на полках которых чего только нет. А можно в ресторан пойти или в кафе. Сядешь за столик — и тебе принесут… Музыка играет. Скоро, скоро…
При одной лишь мысли об отъезде на душе светлело, и любимая песня словно сама собой слетала с губ:
Миллион, миллион алых роз!
Миллион, миллион для тебя!
Сегодня очередь прощаться с Натаней Боковой. Вчера ей было обещано. Хотя будут все те же: Танька, да Нюся, да Вера Хромая прибредет. Но нынче соберутся у Натани. Вон он, дом ее. Там уже собрались и ждут. «Миллион, миллион алых роз…» — замурлыкала Валя и легкой ногой покатила вниз, с бугра, к Натаниному двору.
Там и впрямь ее уже ждали, за дощатым столом, на воле. На столе — миска с крошеными огурцами да помидорами, а еще — желтое прошлогоднее сало на блюдце, зеленый с белыми головками лук, крупная соль в солонке да хлеб. Чего еще надо…
— Давайте выпьем…— начиналось всякий день с одного.— Выпьем за Валю, за ее удачу. Пускай едет и живет по-людски, по-человечески…
Этого и ждала Валя, затевая всякий день не больно нужную ей гульбу. Не вино, а отъезд и жизнь будущая кружили голову. Прощай, хутор, пропадом пропади…
Выпивали по первой, развязывая языки.
— Там — жизня…— завидовали Валиной судьбе.— Асфальт везде, магазины. А тут за хлебом шесть километров пеше бреди.
— Там — больница, враз вылечат, а здесь…
— Зачем ей больница, она — не старуня. Ей в парикмахерскую. Завивку сделает, маникюр наведет — и пошла как картинка. Не то что мы — замухоренные.
«А ведь и впрямь…— оглядывала Валя подруг своих.— Старухи…»
Темные, заветренные, морщинистые лица. Беззубые в тридцать да в сорок лет.
Это когда-то хуторские девки и бабы берегли красоту, в полевой да огородной работе кутая белыми платками лица так, что лишь щелочки глаз на белый свет глядели; на ночь освежали кожу огуречным соком да кислым молоком. Вот и цвели… А нынче про все забыли.
— Там работу найдет хорошую, пенсию заработает. Не то что здесь, на издох…
На хуторе последние годы все на развал. Помер колхоз, и податься некуда: пустые поля, разваленные фермы. Лишь в своем огороде ковыряйся, добывай пропитание.
— Она там человека найдет! Для жизни! За это надо выпить!— с надрывом и болью вырывалось, может быть, главное. Четверо за столом, и все горькие бобылки, вдовицы ли.
С мужиками на хуторе вовсе беда: спиваются, мрут. Если и прибьется какой, то — затюремщик, бродяга. Доброго не сыскать. А ведь хочется доброго: человека и жизни.
И потому «за человека!» пили до дна. И пели печальное:
Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина.
Это была песня про бабью жизнь, про бабью тоску и про надежду:
Как бы мне, рябине,
К дубу перебраться…
А потом — любимую Валину:
Миллион, миллион белых роз!
Миллион, миллион для тебя!
Пели искренне, потому что верила женская душа: если и не было, то будет такое: не дружок-пропитуха с «поллитрой», а кавалер с любовью, цветами.
И громче всех пела Валя Дадекина, она-то уж точно верила: будет новая жизнь, скоро уже, совсем скоро.
Пели громко. Но, слава богу, услышали гул автомобиля, который по теплому времени, в погожую пору раз в неделю привозил на хутор печеный хлеб. Услышали — и заспешили. Еще неизвестно, сколько привезет. Разберут, а потом всю неделю кукуй без хлеба.
Вера да Нюся помчались к своим дворам за сумками. Натаня искала чистый мешок, она ждала гостей. Лишь Валя поднялась от стола спокойно. Думалось вовсе не о хлебе. Вино, песня, скорый отъезд, мысли о новой жизни по-доброму волновали душу. И оттого даже нынешнее, обыденное, такое надоевшее, от которого убегала прочь, даже оно казалось милым: ветхие хуторские дома, плетни, руины в зарослях репейника, теплый летний день, щебет ласточек.
Так вспоминают милое деревенское детство, о горьком забыв. Так будет вспоминать и Валя, хотя детство ее прошло не здесь, а в районном центре. Там она когда-то училась. Там школьные друзья да знакомые, там давняя молодая любовь — все с годами будто забытое, а теперь всколыхнулось.
Машина-хлебовозка осторожно, вперевалочку, словно утка, въезжала в хутор, где у развалин бывшего магазина уже собрался невеликий народ: старая Шахманиха да ее сверстницы: Хомовна, Карповна, Митрофаниха, бородатый дед Митрий да бритый дед Федор. Из молодых лишь Вера — переселенка с пригульным мальчишечкой на руках. Мальчик что-то лопотал, досаждая матери.
Валя Дадекина подошла к мальчонке и матери его сказала с улыбкой: «Растет казачок…— И протянула руки: — Иди ко мне, иди… Мамку замучил…» Мальчишка, испуганно прижавшись к матери, закричал, на Валю указывая: «Хука! Хука!» — и заплакал. «Ты чего?» — спросили его разом мать и Валя, не понимая причины слез. А он кричал: «Хука! Хука…» — и прятался у материнской груди.
Валя отступилась. Ей стало неловко. Слава богу, машина была уже рядом, люди кинулись к ней с обычными для шофера вопросами:
— Сколь привез? Всем хватит?
— Какой хлебушек? Нам вечно азадки!
— Хоть бы раз калачом нас побаловал, для праздника.
— От калачей слабит. А докторов нет на близу вас лечить.
Шел обычный веселый перебрех. Сладкий дух печеного хлеба растекался от распахнутых створок будки. Разве не праздник? Лето пройдет, будешь на сухарях да на пресных лепешках сидеть, о нынешнем вспоминая.
Взяла хлеб и Валя Дадекина, обычные пять буханок, и сразу ушла. И уже не вернулась к веселому застолью, к подругам, где ждали ее.
А в доме своем она встала у зеркала и глядела на себя, словно не признавая. Да и кого признаешь в этой угрюмой, морщинистой, черноликой бабе?.. Как говорится, такая глянет — конь прянет и собаки три дня лаять будут. Недаром малый ребенок кричал: «Хука! Хука!» — и прятался, даже плакал.
Покойная мать когда-то корила: «В зеркало глянь, на кого ты стала похожа… С гульбой твоей…»
Теперь вот смотрела и видела. Видела и ясно понимала, что никакой новой жизни не будет. Все — позади, все — растеряно. И райцентр не поможет. Там будет хуже. Если и вспомнят, признают старые подруги, учителя из школы, соседи, с кем рядом жила,— если признают, то лишь ахать да охать начнут, жалея да сострадая. А разве об этом мечталось?..
В доме, под низкой крышею, в тесных стенах, не было сил оставаться. Ноги сами несли. И понятно куда — на бугор, к Гришкиной хате, за самогоном, а потом к Верке ли, к Натане, чтобы выпить, все рассказать и, теперь уже ничем не гордясь, просто плакать и плакать. День, другой, третий…
Но она себя пересилила и, торопясь, спотыкаясь, прошла через свой огород, левадой выбралась к бараку, заросшему тернами да бояркой. Хотелось уйти куда-то далеко, в глухую балку, сунуться в землю головой и завыть, а потом помереть. Она шла и шла, продираясь через кусты. Трезвая. Но словно уже не в этом мире. Брела и брела, не видя белого света. А потом упала на землю и стала выть, словно и впрямь волчица. Потом долго плакала горькими слезами. А наплакавшись, просто лежала. Незачем, некуда вставать и идти.
Замерев, она услышала голос родника. Он журчал где-то близко. Невнятное бормотанье воды похоже было на голос ребенка. Слов не разобрать, но так хорошо лепечет живая душа.
Понемногу наплывало забытье ли, светлое виденье: детство, юность, молодость, зеленое лето, синее небо, светлый день… Так хорошо на душе, что появляются слезы, теперь уже светлые, сладкие. И во слезах, как в тумане, а потом все ясней и ясней видится: по светлой тропинке навстречу малое дитя бежит, раскинув ручонки. Смеется, радуется и вот — наконец!— обнимает, целует. Господи, как хорошо…
— Зачем ты меня целуешь? Я такая страшная.
— Нет! Ты — хорошая, ты — красивая!
«Красивая…» — так сладко, так больно отзывались в душе и сердце слова ребенка.
Она понимала, что это лишь сон, непрочное забытье. Но какое счастливое!
Снова и снова повторялось: солнечная тропинка и спешит по ней светлоголовый, словно ангелок, мальчонка. Спешит, смеется и радуется. И вот-вот обнимет. Как прежде, как раньше. «Красивая…» И вот уже обнимают ее чьи-то горячие руки, голубят так жарко, что сердцу становится тесно в груди. «Красивая…» Сердцу тесно. И счастью тесно; оно разливается по всему телу все горячей и горячей. И вот уже вспыхнула кровь.
2004 год
«Новый Мир», №8
За окном
В городское наше жилье на шестом этаже любой человек заглянет — сразу к окну, посмотрит, потом вздохнет, завидуя: «Как у вас хорошо…» Но ведь это не у нас, а там, за окном. Вот и нынче объявилась девушка с листами-анкетами для «переписи населения». Провел я ее в кабинет, а она, до письменного стола не дойдя, застыла, взглянув в окно, потом промолвила: «Как красиво…»
Я и сам знаю, что из просторного, во всю стену, окна открывается картина приглядная. В свою пору зеленеют, желтеют ли тополя да березы под окнами, в сквере, дальше — Волга, просторные воды ее, синева ли, голубизна, а то и свинцовая стынь, за рекой светит песчаный берег, его косы да отмели, займищный лес — до самого горизонта, потом небо, простор его. Все это я вижу и, конечно, ценю. Старая мать моя говорит: «Здесь только художнику жить, рисовать…» Она права. Утром проснешься, в день погожий,— в комнате светло, за окном разгорается заря от нежной алости до пламенного полыханья. Потом солнце встает.
Хороший вид из окна. Но только лишь вид, пейзаж, экран телевизора, хоть и просторней. В поселке летнее утро начинается по-иному. В комнате — зеленоватый сумрак; не от занавесок, а от листвы, той, что снаружи. Проснулся — и вон из дома. Босыми ногами шлепаешь по деревянным половицам, а потом мягко ступаешь по мокрой от росы ползучей траве — «гусынке», чуя щекочущий ее холодок и парное тепло за ночь не остывшей земли.
Выйдя из дома, ныряешь в зелень и цвет: пахучие фиалки возле крыльца, полыхающий костер цинний. Смородина, виноград, за двором — акация. По тропинке к огороду идешь, задевая головой и плечами влажные листы и ветви старой раскидистой вишни да сливы, выбираясь на невеликий простор, где картошка да огурцы. Солнце встает за деревьями; желтые лучи его там и здесь пробиваются через зелень.
Это сейчас за столом я вспоминаю, описываю, а тогда, в летней жизни, спросонок особо ничего не различаешь. Просто — утро, которое не только глазами видишь, но чуешь слухом, чутьем, голыми плечами, босыми ногами, всей плотью и каждой клеточкой пьешь эту зелень, росу, птичий посвист, солнце, тепло, дух… А все вместе это называется летнее утро, которого не поймешь, если будешь глядеть на него из окна, даже очень просторного, во всю стену, такого, как в нашей квартире на шестом этаже.
Просторное, повторюсь, окно. В ясную погоду из него слева видны строения города Волжского, а это, слава богу, километров тридцать; а справа — дымы и трубы других пригородов: Сарепты, Красноармейска, тоже десятки верст. Получается целая панорама.
Нынче — осень, октябрь. Еду в гости, на хутор. Сначала — асфальтом, потом — проселком, через хутор Малоголубинский. Его минуешь, от школы дорога ведет крутым подъемом, особенно трудным в снега да грязь. Поднявшись на гору, облегченно вздыхаю и всегда останавливаю машину. Заглушишь мотор, выйдешь.
Нынче — осень, октябрь. Обжигающий льдистый ветер, близкой зимы дыханье. Воздух прозрачен, словно молодой лед. Огромный немереный распах земли и неба. Близко и далеко, и вовсе далеко, но ясно и четко видятся степные курганы, сияющие белью меловые осыпи, желтые пески, сочная зелень далекого озимого поля, фиолетовая чернота пашни, стылая просинь речной воды, суровые, седые с исподу облака ли, тучи, плывущие от краев северных, а в прогалах, поминая о лете, голубеет ласковое небо. Проглянет солнце — и суровый осенний мир светит улыбчиво, переливаясь из края в край.
Тишина и покой. Ни людского знака, ни машинного гула. Лишь небо, земля, облака, ветер. Да я — нечаянный соглядатай.
Это вам не окошко в городской квартире, пусть даже просторное, из которого всякий день вижу я Волгу. Просыпаешься ли, за столом сидишь — река словно на ладони. Всякое видишь: утреннюю да вечернюю тишь или сердитые волны с белыми гребнями в непогоду, теплую синеву или холодную стальную стылость. Но все это — за стеклом, за окном; красивая, но картина.
С детских лет и доныне берега донские — мой дом. Об этом много рассказано. Но продолжается жизнь. Прошлой осенью, уже в ноябре, погодой ненастною, все же решили мы с приятелем попытать счастье на судака. Потеплее оделись и не торопясь, полегоньку шлепая веслами, поплыли от хутора вверх по Дону, к Картулям, когда-то хутору, а ныне просто уловистому месту. Судак не брался, но мы домой не спешили, поднимаясь по течению вверх. Погода стояла теплая, но пасмурная. Мелкий-мелкий даже не дождик, а бус потихоньку шуршал по брезентовому капюшону, туманил даль. Над облетевшим займищным лесом желтыми камышами, пустыми водами реки царили осенняя глушь и безлюдье. Полегоньку мы шлепали веслами, на безрыбье, на худой конец, решив поискать грибов, чтобы пустыми не возвращаться. Товарищ мой, местный рожак, знал здешние места и грибы в свою пору брал, словно в огороде. «Чего их искать?— говорил он.— Пошел да набрал». Вот мы и плыли, чтобы «набрать». Плыли, плыли — и увидели рыбака на надувной резиновой лодке, на якоре.
— Какой-то упрямый хохол сидит,— сказал мой товарищ.— Не мы одни дураки.
На Картулях с давних пор рыбачат шахтеры с Донбасса да Ростовской области. Всех их беззлобно именуют хохлами. Приезжают они надолго, ставят палатки, живут. Но обычно по теплому времени: август, сентябрь. А этот припозднился.
Проплываем мимо. Рыбачок наш сидит словно врытый, накрывшись большим плащом.
— Клюет?— спросил мой товарищ.
— Нет.
— А с утра клевало?
— Не шевельнуло.
— А чего сидишь?
— Куда спешить…
Мы поднимались выше, и помаленьку, в мелком дожде ли, бусе, нахохленная фигура рыбака стушевалась, пропала.
Грибов оказалось много. В приречных дубняках, тополевниках было светло от желтой и рыжей листвы, еще не отгоревшей. Хмарь да морось остались на воде, на берегу. Резали грибы и резали, мешок, другой, третий. В дубняках рядовка была темной, словно дубовая кора, а в зарослях тополей да кленов желтела яркой праздничной тропкой, уводя в глушь.
Грибов мы набрали и поплыли вниз в пригруженной лодке. Все такая же погода стояла: туманец да мелкий бус. А наш рыбак по-прежнему сидел в лодке, накрывшись брезентовым плащом. Мы его не затронули, проплыв мимо.
Что клев, что рыба… Осень, река — и покой в мире, в душе. Душа ведь не дремлет. И хорошо здесь думается. Никто и ничто не прервет, даже не заденет долгие нити раздумий: о прошлом, о будущем, о жизни своей и чужой и, конечно, о том великом, что теперь окружает, подступая все ближе и порой раскрывая свои вечные истины, суть которых проста и оттого неподвластна уму человеческому. Разве что малым детям да мудрецам. Но кто им верит…
2004 год
«Новый Мир», №8
«Не надо плакать…»
Пятьдесят тысяч рублей наличными получить и доставить на хутор — разве не тревога? Тем более для бабы. Пятнадцать километров пустой степью да лесистыми балками. Хорошо, если подвернется машина-попутка. А то и пешком бреди, с оглядкою. Нынче времена лихие: не волков бойся, людей.
Хуторская почтальонша Надя почти пять лет на своей должности: два раза в неделю забрать в станице письма, газеты, доставить на свой хутор да разнести по людям; и раз в месяц — пенсия. Вроде привыкла, приладилась: деньги прятала в широкий дерматиновый пояс, на голое тело, прикрывая одеждой. Но разве это спасенье? Пенсионных дней Надя не любила, боялась их, особенно в глухую пору: осеннюю, зимнюю, когда попутного транспорта не бывает. Добрые люди в домах сидят, лишь волки по степи рыщут.
Но зима нынешняя баловала. Рождество и Крещенье остались позади, а настоящих холодов не было. Прихватывал мороз и отпускал. И снег: то белой крупой сечет, то лепит ленивыми хлопьями, но то и другое ненадолго, вроде понарошку. В степи, на буграх и во впадинах, трава хоть и почернела, но отмякла, даже на ковыле скотина хорошо пасется. Хозяевам — радость: на базу больше сена останется.
И дороги, слава богу, хорошие: ни грязи, ни снежных переносов. Хуторских школьников почти всякий день в станичную школу возят в могучем грузовике с брезентовым верхом. Там — скамейки. Места хватает. Да и свой народ, который при машинах за хлебом да иной нуждой в станицу да в райцентр нечасто, но ездит. Словом, можно жить.
С январской пенсией Наде и вовсе повезло. Из почты вышла, увидела Володю Арчакова. У него — грузовик и до самого места доставит.
— Домой едешь?!— окликнула Надя.
— Домой! Чего?.. Огрузилась деньжищами, не дотянешь?
Про пенсии он, конечно, знал. Для хутора этот день был праздником, его ждали. Тем более что колхоз развалился, и теперь ни зарплат у людей, ни авансов. Вот и ждут всем миром стариковскую копейку.
— Огрузилась,— ответила Надя.— Разгрузиться бы…
— Разгрузимся,— успокоил ее Володя.— Заедем в Малую Россошь. Там целых два магазина. И загуляем.
Надя посмеялась. Кто бы другой говорил, а Володя Арчаков спиртного в рот не брал. На хуторе он тоже был пришлым, из Киргизии. Фермерствовал, как нынче говорят, понемногу занимаясь бахчами: арбузами, тыквами, дынями. Старенький трактор был у него, грузовая машина.
Посмеялись, поехали.
— А ты не боишься с такими деньгами?..— спросил Володя.
— Боюсь. А чего делать? Работа.
— И никогда ничего?
— Бог милует. Пять лет уже…
В кабине грузовика было тепло и опрятно. Негромко играла музыка. Хозяин машины был мужиком крепким, нестарым еще, на лицо приглядным, но жил бобылем. Лишь летом да осенью, когда он продавал арбузы, объявлялась какая-то баба с мальчишкой. «За оброком…» — посмеивались на хуторе. Володя Арчаков жил бобылем, но содержал себя — с иными семейными не сравнить: в одежде аккуратен, пострижен, побрит, и даже в машине его пахло не бензином, а чем-то приятным.
Миновали Малую Россошь — глубокую просторную балку с речушкой да горсткой домиков, дремлющих в зимнем безлюдье. На воле пошел снег. Редкий, но крупный, в куриное перо.
А от Малой Россоши лишь на высокий курган подняться — и кати до самого дома дорогой пусть и ухабистой, разбитой, но морозом прихваченной, езжей.
Доехали, словно долетели. Открылась внизу, под горой, просторная долина в обрывистых меловых курганах, лесистая урема над речкой и хутор: дома и усадьбы, живые и брошенные, и вовсе руины в дикой поросли садов — все лежит вольготно, раскидисто, от далеких развалин колхозной фермы до леса и речного берега. Приехали.
— Чем с тобой расплачиваться?— спросила Надя.
— А то не знаешь?— засмеялся Володя.— Расступися, рожь высокая… Только так.
Не было в его намеке ничего грязного. Лишь озорная веселость молодого еще мужика. И на лицо он был милым, улыбчивым, с добрыми глазами. Надя ответила с тем же озорством:
— Да где же рожь найти? Колхоз не пашет, не сеет.
— Родная, ты лишь скажи, я все посею!— пообещал Володя.— И рожь, и чего хошь.
Он подвез ее до самого дома, потом развернулся, не торопясь поехал и даже посигналил на прощанье. Надя, уже у ворот своих, махнула ему рукой, улыбаясь, радуясь хорошему человеку.
Но, прогудев, уехала машина. Маленький праздник кончился. День продолжался. Подступала нелегкая для Надиной души забота: пенсии по хутору раздавать. Казалось бы, что в том худого? Но уже слышала Надя голос иной машины — Мишкиного мотоцикла, который завелся, как всегда, не сразу, с чиханьем и гулким стреляющим выхлопом.
Подворье Надиного сожителя — Мишки Абрека — лежало рядом, лишь пустырем отделенное. Для Мишки нынешний день тоже жданный, хотя до пенсии Абреку еще далеко, живет иным: коровы, свиньи, куры. Но еще — самогон. Весь хутор и округа знают: самогон у Абрека самый лучший, он из сахара. И не больно дорогой. Днем и ночью бери, было бы на что. Можно и «под запись», в тетрадку, но для людей надежных, какие пенсию получают. Раз в месяц — расчет. Сегодня — тот самый день.
Надя не успела в дом войти, Мишка уже подъехал, кричит: «Погнали!» Мишкин «вездеход» — мотоцикл с большой самодельной коляской; он ржавый, с подтеками, вонью и дребезгом — рабочая лошадка, похожая на хозяина своего. Мишка бреется один раз в неделю, засаленная телогрейка на нем, такая же шапка-треух. Абрек отсидел «червонец» в тюрьме и похож на «затюремщика»: железные зубы, сиплый голос, глубокие морщины, сутулится. Рядом с ним Надя глядится вовсе приглядной молодухой, чуть не девчонкой.
— Погнали…— торопит Мишка.— С Арчаковым приехала? К порогу подвез. То-то и лыбишься, аж цветешь.
— Углядел,— вздохнула Надя, усаживаясь на заднее сиденье.
Поехали. Затряслись по хуторским колдобинам.
Первый на очереди — Чекалов Федя. Чекалка — молодой пенсионер, всего лишь год получает. Подъехали, посигналили, он тут как тут.
Надя свою ведомость открывает, Мишка — свою. Тысяча двести рублей пенсия. Четыреста рублей — долг Абреку. Из рук — в руки.
— Обмывать будешь?— спрашивает Мишка, загодя зная ответ и потому протягивая руку в коляску.
— Давай.
— Сколько?
— Одну. Пока…
— С подвозом, без транспортного налогу, с таких денег…— стыдит его Мишка.— И праздник на носу.
— Какой еще?
— Да масленая, калмычина!
— Ну, две давай.
Пластмассовые, на полтора литра бутыли — Мишкин стандарт. «Я по чекушкам не разливаю»,— давний ответ. Уже привыкли. Так даже удобнее. Меньше беготни.
Поехали дальше. Катайкины, дед Минай, Галя-чувашка, Гена Крокодил, Чиликины, Дюдя…
Просторный хутор, когда-то людный, на двести дворов, теперь доживает. Дома — вразброс, меж ними — брошенные усадьбы, руины, дикие сады, терновая непролазь, где прячутся хитрые лисы, а может, и волки уже завелись.
Одинокий Дюдя, Пашка Конь со старухой…
Обслуживание — с колес, возле мотоцикла. Надина ведомость и Мишкина тетрадь в коленкоре. Там все учтено: будни и праздники.
— Распишись. Минус двести. Обмывать будешь? Две бери, а то и три. Ноги свои пожалей. Нынче с доставкой, не чикилять на бугор,— уговаривает Мишка.— Вот и правильно. Когда еще такая лафа припадет.
У кого «запись» на сотню, у кого на две, а у кого и поболе. У Гали-чувашки хорошо если на хлеб останется.
— Распишись. Одну или две? Бери побольше, она не заплеснеет. А цены растут. Вдруг сахар подорожает,— пугает Мишка.
А Вера Катайкина из месяца в месяц лишь распишется да руками всплеснет:
— Ты, может, обшибся?!— Черноликая, худая, носом подфыркивает, голосом пускает слезу.— Ждала, ждала, как светлого воскресенья. Ныне с утра выглядала… Может, перечтешь?..— просит она Мишку.— Там, може…
— На може плохая надежа,— отрезает Мишка и тут же находит выход: — Надежа у вас на президента Путина и на меня. Не дадим помереть. Государство об вас заботится. Опять пенсию повышают вам, а вы все ругаетесь. И я вам прямо под нос подвожу. Ладно. Бери под тетрадку, на тот месяц.
— Сколь дашь?
— Одну. Месяц длинный.
Слава богу, мужик у Веры Катайкиной хороший сварщик. Он понемногу работает в соседнем хуторе, при мастерской. Мукой получает, зерном. Тем и живут.
Для Нади не больно сладко глядеть и слушать все это. Так и не обвыклась. А уже пять лет на хуторе.
Пять лет назад — а вроде совсем далеко — погожим августовским днем к давно пустующему подворью и дому на хуторе подъехала машина «Газель» с нездешними номерами. За рулем — молодой небритый чеченец. Машина простояла недолго, оставив у ворот узлы да сумки с домашним скарбом, двух женщин, маленькую рыжеватую девочку и тощую, тоже рыжую кошку.
Позади у приезжих была долгая, чуть не в тысячу километров дорога, и потому, утомленные, они не сразу поняли, что их трудный путь позади. Молодой чеченец, высадив пассажирок, сказал: «Здесь живите. Ваш дом теперь здесь. Вот на него документы».
— Но ведь нам говорили…— опомнившись и растерянно оглядываясь, стала возражать одна из женщин, та, что помоложе.— Нам обещали районный центр, небольшой, но городок. Ведь мы отдали двухкомнатную квартиру и большой дом в станице. И нам обещали. А здесь…
— Ничего не знаю. Сказано, здесь живите,— отрезал чеченец, усаживаясь в машину.
— Но как же…
Завелся мотор; машина, погромыхивая на колдобинах, стала медленно удаляться. Молодая женщина прошла за нею шаг-другой, остановилась и, будто не веря себе, растерянно огляделась вокруг.
Голос ушедшей машины растворился в густой тишине огромной степной долины, которая уходила вдаль и вдаль. А здесь, рядом, лежала горстка домиков, словно камешки, кем-то брошенные и раскатившиеся далеко друг от друга по просторной лощине.
Ухабистая дорога, холмленая степь, тихое полуденное селенье, словно мертвое, в нем — ни гласа, ни звука.
Молодая женщина все поняла и, подойдя к матери, сидевшей на узлах, заплакала, сказала:
— Нас обманули. Нас опять обманули, мама.
Рыжая худая кошка, очумевшая от долгой езды, тряски, бензиновой вони, громко мурлыча, скользнула во двор через проем разломанной калитки. Там она обнюхалась и, вернувшись, стала тереться у ног хозяйских, призывая громким «мур-р-р… му-ур-р-р…» и теперь уже уходя далее во двор, к приземистому дому.
— Пошли,— сказала дочери старая женщина.— Кошка вошла, зовет. Это хорошая примета.
А что еще оставалось делать?.. Вошли.
Двор был просторным. Окружали его сараи, катухи, базы — все дряхлое, заросшее высокой коноплей да раскидистым жестколистым дурнишником. Обступали подворье, словно охраняя его, огромные грушевые деревья с вековыми морщинистыми стволами, толстыми ветками, могучей лиственной кроной.
— Как тихо…— проговорила старая женщина, войдя во двор и останавливаясь.— Как спокойно… Боже ты мой…— Голос ее дрогнул, и она заплакала, оседая на мягкую зелень травы.
Дочь опустилась рядом, прислонила к своей груди седую голову матери, стала гладить ее, утешая, и тоже плакать слезами тихими о том горьком, о том страшном, что осталось позади.
А рыжая кошка минуты не могла помолчать. Она уходила к дому, к его крыльцу, и, возвращаясь, терлась возле хозяек. И звучное «му-ур-р-р… мур-р-р…» наполняло двор.
За воротами еще оставалась маленькая рыжеволосая девочка да скарб домашний.
А рядом, на пустыре, от одного грушевого дерева к другому, из тени в тень, переходил старик в соломенной просторной шляпе, с табунком овец. Старик цеплял грушевые ветви длинной клюкой — герлыгой, энергично тряс их. На землю сыпался дождь желтых плодов. Овечки торопливо подбирали сладкую еду, звучно хрупая.
От дерева к дереву старик направлялся к приезжим, естественно любопытствуя. Новые люди на далеком степном хуторе были в диковину.
Знакомство состоялось быстро. Сначала с девочкой:
— Здравствуй, моя хорошая. Откель тебя привезли, такую красивую? Издаля, издаля… Погостить приехала? А у тебя зубки есть? Тогда нашими грушечками угощайся.— Из полотняной заплечной сумы достал он отборные плоды, нахваливая: — Бергамоты и черномяски. До чего сладкие, чистый мед.
Со старшими, во дворе, пошли иные беседы. Говорливый старик не скупясь ругал все подряд. Сначала чеченцев.
— Они абманаты!— тонко кричал он, вытягивая жилистую шею.— За эту хату они Вовке, внуку бабки Парани, четверть самогона поставили. А он и рад, капеля. А возле Евлаши вовсе в разваленную хату людей привезли, тоже из Чечни. У них была городская квартира, с ванной. Вроде обмен. А привезли и кинули в развалюху. И как хочешь живи!
Потом о тутошней жизни вещал.
— Какие магазины?!— удивленно округлял он глаза.— Господь с вами! И знаку об них нет. Давно закрыли и поломали. Под корень извели! За хлебом — в Малую Россошь. Это так-то вот, через гору. А зимой лучше берегом, там затишно.
— Какая работа!— отмахивался он.— Колхозу нет, и все на мыльный пузырь свели. При колхозе был молочный комплекс, тракторная бригада, свинарник, плантация поливная, кузня. А ныне — свобода, как хочешь живи. Скотину угнали и технику всю забрали. А куда дели, никто не знает. Приватизация,— трудно, но выговорил он.— И в станице такая же песня. И в райцентре, там у меня дочка с зятем живут, тоже все позакрывали. Свобода!
Старичок пошумел посреди двора, ругая нынешние порядки да худых людей, и подался, разнося по хутору весть о новых поселенцах.
А приезжие стали устраиваться на жизнь, разбирая прежними хозяевами оставленный хлам и дрям. Устраивались да еще и гостей принимали, хуторских, любопытствующих, каким не терпелось на новых людей взглянуть.
Прибрела с костыликом старая Клавдия по прозвищу Газетка, она нигде не опаздывала. За ней поблудный дед Федор, вдовец и бобыль. Потом Валентина Казначеева, а следом Федя Суслик.
Гости по-хуторскому напрямую выспрашивали приезжих: откуда? да как? да по какой нужде здесь оказались? и почему без мужиков? Горевали, сочувствуя. Бабы слезу пускали. Одно дело, когда в телевизоре воюют да людей убивают. Телевизор можно выключить. А здесь налицо беда.
Малая девочка, дитя, и та глядит на людей диковато, старается возле матери укрыться, прижимаясь к ней или к бабушке. А у бабушки — это в полсотни-то лет!— седая голова трясется, глаза глядят тускло, мало что понимая и видя, лишь одно твердит: «Как тут тихо, спокойно…» — «Да, мама, да… Спокойно…— вторит ей дочь, легко касаясь ладонью головы ли, плеча, поглаживая.— Тихо, мамочка, тихо…»
Рассказывать раз за разом свое горькое радости мало. Но куда денешься…
Зато к концу дня приезжие все знали: как за хлебом успеть, коли автолавка придет; у кого молоко покупать; как добраться в райцентр и в станицу — все для жизни. А на первый случай старая Клавдия принесла яичек и наказала приходить за свеклой и кабачками, «какие страсть уродились, а самой тянуть нет могуты». Федя Суслик приволок связку вяленой рыбы. Валентинин мужик, Тимофей, по приказу своей хозяйки прикатил полную тележку огурцов, помидоров, капусты, картошки да прочей зелени. И приглашал: «Приходите, берите. Мы вечно насажаем, чтобы земля не гуляла, а потом не знаем, куда девать. Закруток… в погреб не влезешь. А все сажаем, сажаем… Видно, природ такой, колхозный: паши и паши».
Последним, уже под вечер, объявился Мишка Абрек. Он жил недалеко, прибыл на громыхающем мотоцикле с коляской. Во двор Мишка вошел словно хозяин, Надю оглядел с ног до головы, спросил:
— Холостячка?
— Вдова…— тихо ответила Надя.
— Навовсе приехала? Или завтра убежишь?
— Некуда бежать.
— И незачем,— подтвердил Мишка.— Только дураки бегают. А умные на месте сидят.
На седую мать и на девочку Мишка глазом не повел, детально обсматривая Надю, словно на торгу. А на нее не грех было поглядеть: молодая, пусть измученная невзгодами, но на лицо милая, рослая и крепкая телом. Густые, чуть рыжеватые волосы с золотистым отливом забраны в короткую косу.
— Лады…— окончив осмотр, сказал Мишка.— Поглядим, как вы жить собираетесь,— и зашагал к дому.
Надя поспешила за ним.
В пустом гулком доме Мишка оглядел стены да окна, хмыкнул, увидев сложенный в углу жалкий скарб, и спросил:
— Это все?
— Так получилось…— вздохнула Надя.
— Негусто.
Потом, во дворе, он встал возле Надиных домочадцев, словно впервые увидел их. Стоял и глядел пристально. Девочка прижалась к бабке, испуганная. И неспроста.
У Мишки Абрека нестриженая, с проседью шапка волос с низкой челкой на лбу, резкие морщины, железные зубы, глаза не глядят, а буравят. А голос прокуренный, сиплый. По всему видать, что не мирный крестьянин, а человек, Крым и Рым прошедший.
— А как они спать-ночевать будут?— спросил Мишка.— На полу? Вповалку?
— Как-нибудь… А потом, нам обещали…
— Обещанного три года ждут,— отрезал Мишка и приказал: — Поехали!— И не оглядываясь пошел со двора, зная, что его не посмеют ослушаться.
— Мама, ты куда? Я с тобой…— заплакала дочка.
Мишка обернулся, строго сказал:
— Карауль бабку и не реви. Сейчас вернемся.
Девочка испуганно смолкла.
Но вернулись и вправду быстро. До Мишкиного подворья — рукой подать, тем более на мотоцикле.
Вернулись и снова уехали. Сделали три ходки. Привезли три железных разборных кровати с панцирными сетками, ватные матрацы да шерстяные одеяла. Все, конечно, не новое, но и не рвань, гожие вещи. А еще — большую электроплитку, жестяное корыто, несколько ведер, тазов, блестящий чайник, алюминиевые миски да кружки.
Подворье Мишки Абрека было диковинным для глаза непривычного. Посреди огромного двора — невеликий жилой флигелек, а вокруг — сараи, клуни, большой рубленый амбар. Оттуда, из темных недр, Мишка выносил то, что полагал нужным для житья, ни о чем Надю не спрашивая. Молодая женщина лишь охала:
— Да как же… Да у нас и денег-то…
Мишка на эти охи внимания не обращал.
Перевезли, перетаскали пожитки. И стало понятно, что теперь и впрямь можно в доме жить. Воду согреть, помыться с дороги, еду сварить и спокойно отойти ко сну.
Надю Мишка взял тем же вечером, не уговаривая и не спрашивая, словно свое. И она не посмела противиться новому хозяину.
Назавтра Мишка пригнал двух мужичков, которые подправили забор, ворота, подлатали ступени крыльца, сменили несколько листов шифера на крыше. Трудились они резво день и другой. Мишка лишь указывал да подгонял их, приезжая на мотоцикле, сиплым баском покрикивал:
— Не сидеть, лодырюки! Потом будете дремать, в обнимку с бутылкой. Но бутылку надо заработать!
Мужички старались, побаиваясь Мишку, зная крутой характер его.
Его вся округа знала — Мишку Абрека. Не только ближние хутора, но даже станица, когда-то центральная усадьба колхоза. Он появился на хуторе лет десять назад, такой же, как сейчас: железные зубы, челка на лбу, сиплый голос. Тогда у Мишки была фамилия Обереков, а еще — десять лет тюрьмы за плечами, после которых он и уехал в глухомань. От прежних товарищей, от греха подальше.
Первый год Мишка провел у чеченцев в работниках, заслужив кличку Абрек. А потом огляделся, освоился, купил за копейки брошенную усадьбу и всерьез занялся самогоном, преуспев в этом деле.
Самогон у Абрека был настоящий, из сахара, не чета какой-нибудь отраве-«синюшке». И потому за питьем к нему шла и ехала вся округа, днем и ночью.
Еще колхоз был живой: его поля, фермы, скотина, корма. У Мишки быстро завелось собственное стадо: коровы, быки, пуховые козы; в загоне свиньи хрюкали; кудахтали куры. Сено, солому, зерно везли ему и везли в обмен на пойло.
Сам Мишка в рот спиртного не брал, баловался лишь чифирем — густым крепким чаем. Он жил бобылем и, считай, все дела управлял своими руками: поил, кормил скотину и птицу, коров доил и даже делал чеченский сыр, научился. В помощниках держал он каких-нибудь вовсе забитых, бездомных бродяг, которые порой исчезали, а появлялись другие, прежним под стать.
Но сам хозяин с утра до ночи — в делах. Шапка-треух, заватланная телогрейка, резиновые сапоги. Поутру коров на пастьбу провожает:
— Ханка! Мурка! А ну пошли на попас!
Имена у его коров блатные. А всех вместе зовет он их девками. Вечером кричит:
— Девки! Девки! Девки! Домой, домой!
Коровы его слушаются, идут.
Курятник у Мишки большой, теплый. Каждую неделю, по пятницам, перед базарными днями приезжают к Абреку скупщики: двести ли, триста яиц забирают и головки сыра; в свою пору продает он свиней, бычков. Самому Мишке по базарам некогда ездить. Хозяйство не бросишь. Оно у Мишки большое, словно грачиное селенье, гнездо на гнезде: катухи, загоны, сарайчики с хрюканьем, кудахтаньем да мычаньем. А еще — ухороны да погреба, в которых и дна нет. Там солится рыба, которую по весне везут подгулявшие рыбаки. Там хлебные закрома, немереные. Там всякого добра хватает: тюки овечьей шерсти, мешки козьего пуха, птичье перо для мягких подушек да перин. Туда унырнула мебель из колхозного дома животновода, с полевого стана и колхозная же столовая вместе с холодильниками. Тащат, везут к Мишке всякое добро, свое ли, ворованное. Он берет без разбора, ценя все в копейку. С народом пьющим у него разговор короткий: «Прибавить?! В рыло?!»
Мишка — хозяин. В делах у него порядок. Правда, в дом не войдешь: брага пыхтит во флягах, квасится молоко для сыра, днем и ночью течет ручеек из самогонного аппарата — все духовитое, с непривычки голова кругом пойдет. Но Мишка — привычный, и свое — не воняет. Да и рассиживаться в доме ему не с руки.
А еще Мишка любит баб. На хуторе с бабами не густо: старье да потрепанные шалашовки вроде Мани Дворняжки. Потому и Надю он с ходу захомутал. Кинулся, ухватил, и стала своей. И держит пять лет. Значит, по нраву.
Целых пять лет прошло. В новой для нее, хуторской жизни Надя понемногу обвыклась ли, притерпелась, хотя все было непривычным: огородные дела, заботы с коровой, домашняя колгота с печкой, углем и дровами. И почтальонская работа, дорога от станицы до хутора в двадцать верст. И такой вот объезд каждый месяц, с Мишкой и его долговой тетрадью.
— Распишись. С тебя причитается. Обмывать будешь? Две бери сразу. На подметках сэкономишь.
Каждый год слушает Надя такие речи, а привыкнуть не может. Так же неловко ли, стыдно, словно в тот первый раз, когда плакала и кричала сожителю:
— Не хочу! Не поеду с тобой! Сам собирай свою дань!
Но Мишка укоротил ее в миг единый:
— Ты забыла, кто есть? Отберу все, и останешься с узелком. Беженка. Куски пойдешь собирать!
Голос у Мишки — железный, взгляд — ледяной. Такая сила не только солому ломит. Тем более рядом — мать и дочь.
Поехала и в другой раз, и в третий. А потом порою напивалась допьяна, плакала, ругая Мишку и пугая близких своих.
День нынешний закончился тоже скандалом. От дома к дому объехали хутор, раздали пенсии, собрали долги. Дерматиновая сума опустела. Мишка довольно похмыкивал.
Уже возвращались, когда остановил их Володя Арчаков возле своего подворья. Зная Мишкин обычай, Володя спросил:
— У тебя не осталось?
— Найдем,— отозвался Мишка и засмеялся: — Загулять решил?
— А мы что, не люди?— хохотнул Володя.— Может, кого в гости заманим,— подмигнул он Наде.— Тем более транспорт у меня получше, чем эта громыхалка. В кабинке не дует и мягкое сиденье…
Он смеялся так завлекательно, белозубо, что Надя подыграла ему, хохотнув:
— Не сравнишь. Да у тебя еще музыка.
Мишка их веселья не разделил, а позднее сказал Наде:
— Ты с ним больше не езди.
— А если попутно. Что, пешком лучше идти?
— Школьная машина ходит.
— Через три дня на четвертый.
— Тогда пехом ходи. А с ним чтоб не ездила.
Надя перечить сожителю не стала, перемолчав. Казалось бы, ее бабьей натуре должна была льстить очевидная Мишкина ревность. Но почему-то не льстила, а тяжелила душу.
Хорошо хоть дочь была на каникулах. А значит, в доме тепло и старая мать не лежит на кровати скорчившись: жива — не жива…
— Мы с бабушкой щей наварили и пышек напекли!— радостно доложила дочь.— Тебя ждем и в карты играем, в прокидного дурака.
— Играем, играем…— подтвердила мать.
И сразу ушло все недоброе: стылость январского дня, Мишкины укоры.
Дочке лишь десять лет минуло, а ростом уже мать догоняет. Большая рыжеволосая девочка, веселая, голосистая. И помогает во всем. С ней матери хорошо; а особенно — бабке, для которой журчливые внучкины речи — лучшая лека.
— И кто же у вас в дураках?
— Пополам.
— Правильно. Вроде не совсем глупые и не больно умные. Все как в жизни,— посмеялась Надя и добавила: — Давайте обедать, слюнки текут.
Отобедали. А на воле уже смеркалось. Корову доили при фонаре. И кур запирали впотьмах, ощупкой. Уже проклюнулись звезды, тоже зимние, льдистые. А потом появилась луна, сначала багровая, кособокая. Но чуть поднялась, посветлела и стала точь-в-точь пасхальное яйцо, крашенное золотистой охрой ли, луковым отваром. Потом она всю ночь ярко светила режущей глаз стылой белью, охраняя просторную пустую степь да редкие людские селенья, разбросанные далеко-далеко.
Зима. Глухая январская ночь. Безмолвная и глухая. Хутор спит. Лишь у Мишки Абрека электрический свет горит в жилом флигеле и в скотьем сарае. Трудно телилась рябая корова Ханка, крупнотелая, мослатая, зато сразу двух телочек принесла, таких же, как сама, рябеньких. Это удача: две телочки, тем более у Ханки молоко жирное и много его. Телилась корова трудно, измучилась, и Мишка устал, помогая. Но вышла вторая телочка; и мать тут же поднялась, стала вылизывать одну и другую, утробно и словно бы удивленно взмыкивая.
И еще одно везенье припало Мишке Абреку нынешней ночью: золотое кольцо, красивое, большое. Его принес Васька Дубилин. Конечно, где-то упер. Но Мишке какое дело. А расплатился он щедро: четверть самогона и два вяленых леща на закуску.
Удачная выдалась ночь. Засыпая, Мишка подумал о Наде, решил ей кольцо подарить. Потом, во сне, ему виделось лето: просторный зеленый луг, корова Ханка и телочки, а возле них Надя с большим букетом, целая охапка в руках: розовое, фиолетовое, голубое… и очень душистое, сладкое, такое же, как сама Надя. Мишка Абрек сны видел редко. Еще реже — хорошие.
И Надя нынешней ночью тоже заснула не вдруг. Сначала глядели телевизор, лузгая подсолнечные семечки и болтая. Потом решили тесто затеять, чтобы утром пирожков напечь. А к тесту Наде пришлось ночью вставать, подбивая да осаживая. Свет не зажигала. Тихо посапывает дочь. И мать теперь спит хорошо: не кричит и не плачет. Видно, что-то внутри у нее отгорело ли, отболело, и слава богу.
Слава богу, есть крыша над головой, хлеб на столе; есть покой. А к Мишке можно и притерпеться. Уже, считай, притерпелась. Пять лет позади. Правда, ревности до сих пор не было. Или не замечала ее. И зря.
Зима прошла спокойно. Хоть и подсыпало снегу, но грузовик-«вездеход» возил школьников почти каждый день. С ними Надя и ездила. А порой помогала ей дочь, забирая на почте письма, газеты. Текла жизнь привычно, спокойно.
Весной, как всегда, неделю-другую разливалась и ярилась речушка Малая Россошь. Через нее не всякий проедет. Там грузовики порой застревали. И снова, как на грех, подвернулся Володя Арчаков на колесном тракторе. С ним — надежно.
И ведь из трактора вышла на краю хутора. Но Мишка все равно углядел. Или передали ему. Абрек не ругался, даже голоса не повысил, сказал словно ненароком:
— С Арчаковым ехала? У тебя память короткая?
— Такие дороги… И Россошь… Ему спасибо…— заперечила было Надя, но смолкла, почуяв жесткий холод неморгающего Мишкиного взгляда.
А потом, за весной, пришло молодое зеленое лето. В лугах — разливы и дух медовый белого да розового клевера; сиреневый горошек цветет, да пенится розовым чина; островерхие кипрей и донник, словно воинство, полонили округу. Травный выдался год, слава богу.
Без колхозной работы люди нынче кормились лишь от своей скотины: молочное да мясное. И потому сено, что хлеб всем нужно.
У Володи Арчакова и косилка была. Он работал с подручными: валил траву, сушил, прессовал. Сам возил готовое тюкованное сено в станицу на продажу. Мотался туда-сюда ночью и днем. И Надю подцепил в станице, возле почты.
— Поехали!— крикнул он.— С ветерком прокачу.
Надя села в кабину, Мишкины наказы позабыв.
Поехали и впрямь с ветерком. В быстром машинном беге, в покойной кабине яркий день открывался просторнее и шире, словно книга листалась, за страницей страница: курчавая зелень балок, впадин; курганы в серебристой полыни да пушистом ковыле; солнечно-желтые, алые, сиреневые да фиолетовые разливы цветущих трав. Все наплывает и кружится, открываясь за поворотом новой картиной, по-летнему праздничной.
В кабине грузовика обычно играл приемник. Нынче его не было слышно.
— А где твоя музыка?— спросила Надя.
— Ты разве не слышишь?— удивился Володя.— Давай сделаю громче.— Он выключил мотор.
Надя удивилась, но вдруг поняла. И нельзя было не понять, не услышать. По инерции машина катилась, а навстречу ей и вослед от земли и от неба звенели серебром жаворонки, нежно перекликались золотистые щурки, томно стонали горлицы, желтогрудые иволги выводили печальную песнь, вызванивали варакушки… Птичий хор звенел стройно и слаженно.
— Теперь слышишь?— улыбаясь, спросил Володя.
— Слышу…— ответила Надя.
Машина завелась, поехали дальше.
— Приезжай к нам на стан. Там — соловьи,— пригласил Володя.
— И вы их сидите слушаете?..
— Сидим… Ночь напролет. На косилке, на граблях, на пресс-подборщике… И косим, и возим. Слава богу, погода хорошая, сено идет, и берут его нарасхват. Да еще бахчи культивируем. Тоже — морока.— На летней полевой работе Арчаков посмуглел, и улыбка стала ярче: посверкивали зубы.
Доехали скоро. С хорошим человеком время ли, километры всегда быстро бегут.
А прямо от машины, без захода домой, Надя понесла по хутору газеты и письма. Их нынче немного. Но их ждут. Особенно писем.
Всей почты разнести она не успела. Как снег на голову объявился Мишка. «Увидел…» — подумала Надя, пугаясь.
Мишка слез с мотоцикла, что было знаком недобрым. Он даже заглушил свою громыхалку. Что вовсе было немыслимым.
Мишка будто и не злился, был ровен и холоден.
— Я тебя упреждал про Арчакова, чтоб не садилась к нему?
Надя раскрыла было рот, оправдываясь, но Мишка шикнул:
— Молчи! Приучилась в своей Чечне… Под каждого… Отрядная… Оперилась? Вылюдилась? Шалава партизанская…
Надю будто ударило. Разве она виновата в тех страшных, проклятых днях? Разве ее вина?..
Мишка не был бесчувственным. Он понимал, что говорит несправедливо, жестко, жестоко, а она — мягкая баба, ей такие слова — прямо в сердце, до крови. Он уже к Наде привык, прижился, была она ему по нраву: женской красой, бабьей сладостью, повадкой, характером. Он знал, что другой ему не найти. И не нужна была другая. Об этой, порою наперекор уму, ревновало сердце.
Понимая, что бьет в самое больное, Мишка не чуял радости ли, сладости. Напротив: и ему было больно. Но он знал, что так надо. Он давно это понял — в тюрьме и на воле: надо придавить, пригнуть до земли, чтобы не кулака твоего, даже не крика, а шепота боялись. Так надо людей привязывать намертво. И эта женщина, ему уже дорогая, будет до веку в его руках. Арчаков ее не получит. Нужно лишь крепче взнуздать.
— Слушай меня,— проговорил он тихо.— Еще раз узнаю — никаких разговоров, только расправа! Арчакова спалю, станет нищим. Тебя гокну, в ярах закопаю. Скажу, что в Чечню уехала, за документами. Старуху — в дурдом. Катьку к себе прислоню. У нее уж гнездо свилось. А я люблю молодятинку. Ты поняла меня?— вперился он глазами.
Надя опустила голову и заплакала.
— Ты отвечай: поняла или повторить?— Не больно, но жестко он взял ее за волосы, поднял опущенное лицо, чтобы убедиться, увидеть страх.
Страх был. Даже не страх людской, а животный, скотиний ужас черным огнем горел в Надиных глазах, пробиваясь через слезную влагу.
Мишка поверил, шумно выдохнул:
— Иди и помни. Больше повторять не буду.
Надя не пошла, побежала не разбирая дороги. Скорей, скорей! К дому, к дому! К дочери, которой, может, уже и нет.
Она, запыхавшись и не помня себя, подбежала к воротам и увидела чудо. Посреди просторного зеленого двора, окруженного могучими грушевыми деревьями, на светлом солнечном окружье, словно на огромной сцене, танцевала молодая стройная девушка с распущенными золотистыми волосами. Танец ее был естествен и прекрасен. Гибкое тело, длинные ноги, тонкие руки. Так трепещет под ветром зеленая ветка или играет в воздухе птица. Так умеет дитя человеческое. И это была ее, Надина, дочь, единственная, дорогая. И тут же на низкой скамеечке сидел зритель — старая мать, радуясь, и смеясь, и беззвучно хлопая в ладоши.
Надя вошла во двор. Девочка бросилась ей навстречу:
— Я хорошо танцую, мама?
— Замечательно, замечательно…— шептала Надя, обнимая родную плоть, с которой, слава богу, ничего не случилось: живая, здоровая.— Замечательно танцуешь.
— А зачем ты плачешь?
— От радости… От радости… Вон какая ты выросла, рыжее счастье.
— Да, выросла,— подтвердила дочь.— Но я не рыжая, а золотая… И дядя Миша сказал: выросла. Он меня на мотоцикле научит ездить.
— На каком еще мотоцикле?! На каком мотоцикле, я тебя спрашиваю!!— закричала Надя, хватая ее за плечи и тряся что есть силы.
Дочь испугалась, ничего не поняв: то слезы, то этот крик. Она ничего не поняла и сделала единственное: тоже заплакала. И они стали плакать вместе, обнявшись. А старая седая женщина, сидящая на скамеечке, удивлялась вслух:
— Почему вы плачете? Здесь так тихо, так хорошо… Не надо плакать.
— Не надо, мама, не надо…— согласилась Надя, отирая глаза. И у дочери на щеках вытерла сияющие, прозрачные слезы.— Это я просто испугалась,— объяснила она.— Просто я боюсь мотоцикла и не хочу, чтобы ты на нем ездила.
Ей поверила дочь, а старая мать сказала:
— Плакать не надо… Здесь так хорошо,— обвела она руками и взглядом двор и округу.— Так тихо. Не надо плакать.
Просторный тихий двор, зеленая окрестность, долина, холмы, легкий пахучий степной ветер, чистое огромное небо, все, казалось, безмолвно, но повторяет за старой женщиной: «Не надо плакать».
День поплыл дальше в летнем, словно ленивом своем теченье, продолжая людскую жизнь.
Дочь покатила по хутору на велосипеде развозить остатнюю почту. Надя занялась делами привычными: огород и заботы кухонные. Слезы у нее высохли. Но думалось все о том же. Она понимала, что Мишкины слова — не пустая угроза. Он убьет. Закопает, и никто искать не будет. Степь-матушка всех схоронит. Мало ли случаев в последние годы. Пропал — и все. И с дочерью сделает что захочет. Кто ее защитит?.. И первая мысль была: «Скорее бежать! В охапку всех — и бежать». Эта мысль была первой, горячечной. А потом пришло холодное отрезвление. Куда бежать? Кто и где ее ждет, тем более в нынешние времена, когда работу с огнем не найдешь. А уж крыши над головой тем более. Да еще — малая дочь и старая мать на руках.
Хуторское житье Наде не больно нравилось. Но теперь, но сейчас будто глаза открылись: хороший дом, теплый; просторный огород с картошкой да прочей зеленью; корова да куры; и даже цветы во дворе от самой весны до осени: тюльпаны, пионы, потом георгины да астры. И почтальоном устроиться ей повезло, ведь даже местные без работы сидят.
Пусть далекий хутор и многое непривычно. Но старая больная мать правду говорит: «Как хорошо здесь, как тихо…» Сколько позади горького, страшного. И вот теперь, когда понемногу пришло забытье. Почему нужно все бросить и куда-то бежать?.. Сколько можно бежать, все оставляя.
Сначала убегали из Грозного, все кинув: квартиру и нажитое. Жили, работали… А потом пришли бородачи с автоматами, а глаза волчьи, пришли и сказали: «Вон отсюда… А ключи в дверях пусть будут, не надо замок ломать…»
Убежали. Все бросив. В родную станицу, к отцу с матерью. К дедам, в родовое гнездо. Но и туда пришли уже другие, тоже с оружием и волчьими глазами. А эти и вовсе оказались зверьем.
Та ночь, долгая, страшная, от которой мать в одночас поседела и помутилась рассудком… Потом был день — чернее ночи. А потом снова ночь, страшнее Судного дня. А потом их выплеснуло на этот далекий хутор, и надо было жить дальше.
Вот и жили. А теперь — снова бежать? Или терпеть и плакать. Плакать всю жизнь. И ослепнуть от слез. Как плакала мать, поседев и потеряв рассудок. А сколько Надя слез пролила. Кто их увидел и кто утер эти слезы?.. А теперь настала пора дочери?
— Нет!— закричала Надя и вскинулась, возвращаясь в нынешний белый день под ясным солнцем, среди огородной зелени.
— Нет!— твердо повторила она уже для себя.— Мы останемся здесь.
Теперь, через время, такой очевидной оказалась правота прадеда Матвея. Когда уже в станице началась заваруха и стали появляться бородачи с оружием, когда уже было видно, к чему дело клонится, когда пошли разговоры, ждать или бежать, да когда и куда бежать или, может, все обойдется… Старый казачура тогда сказал: «Не бежать надо и не ждать, когда горло перережут, а стрелять их надо». Кто его услышал…
Стрелять Надя не умела. А значит, оставалось одно…
Поздно вечером Мишка по обычаю подъехал и забрал ее к себе. И нынче, будто чувствуя себя виноватой, она любила Абрека жарче, слаже и яростней, чем всегда, измотав его вконец. А потом оставила спящим. Дома ведь мать и дочь.
И этой же ночью дотла сгорела усадьба Мишки Абрека.
Одним разом, высокими факелами, вспыхнули и заполыхали жилой флигель и бревенчатый амбар, а потом остальное.
Как обычно, пожарная машина из райцентра добиралась до хутора долго, успев лишь к тлеющим углям. Хозяина пожарники еще застали живым и вызвали по рации «скорую» из станицы. Мишка Абрек умер по дороге в больницу от сердца ли, от ожогов. Он ведь в пламя кидался, пытаясь что-то спасти.
Не первый то был пожар на хуторе. Кадакины тоже напрочь сгорели. А нынешней зимой — дед Култын. И все — от электричества, которое нынче заместо дров и угля. Оно ведь вольное, бесплатное. Воруй — не хочу. У всех самодельные «козлы», нагреватели, плитки. Вот и горят. А у Мишки тем более, у него — такое хозяйство. И печку никогда не топил, это уж точно.
Пожарные покрутились, составили акт и уехали. Мишку схоронили какие-то дальние родственники в городе. Они же продали всю скотину, оставив двух рябеньких телочек Наде-почтальонше, которая жила с покойным целых пять лет. И даже родила от него мальчика. Но это уже потом.
2004 год
«Новый Мир», №11
Прощание с колхозом
В Калаче-на-Дону, в моем районном поселке, сентябрьским погожим утром собирался я в поездку на хутор. Гостинцы туда известно какие везти — хлеб. Потому и пошел в магазин к утреннему привозу.
А в нашем тихом окраинном магазинчике — шум да крик.
— Бессовестные! На копейку повысят пенсию — и на рубль отберут!
— Издеваются над людьми!
— Теперь булочку не укусишь!
Это привезли хлеб. И новые цены. Это — финал шумной кампании, которая в нашей области длилась все лето: «Соберем 4 миллиона тонн зерна и сделаем хлеб дешевле». Губернаторские выборы подступают.
Четыре миллиона тонн собрали. Выборы на носу. «Делайте хлеб дешевле!» — приказывает губернатор хлебозаводам. Хозяева последних поворчали, но с властью ссориться грех.
И вот он результат — на прилавке моего калачевского магазина. Буханка обыкновенного рядового хлеба стала стоить на рубль дешевле. Зато весь ассортимент батонов, булочек, плюшек, рогаликов значительно подорожал. Батон вместо 6 рублей стал стоить 7 рублей 60 копеек. Невеликие плюшки, рогалики стали дороже на рубль, на восемьдесят копеек, на шестьдесят.
Народ шумит, негодуя. Все понятно; старые люди, что малые дети: хочется сладкой булочки к чаю. А теперь ее не укусишь.
Старые люди моего поселка (да и только ли старые?) не могут понять, какое нынче время. Отсюда прежняя вера. «Собрали ведь четыре миллиона тонн,— убеждали меня неверующего,— обязательно должен подешеветь хлеб». Но когда я говорил: «Компания «ЛУКОЙЛ», которая нефть добывает, в том числе и у нас, нынче увеличила производство; слыхал я, на 6—8 процентов. Вопрос: бензин подешевеет?» — мне отвечали не задумываясь: «Дождешься от них. Еще и поднимут цену. Они футбольные команды покупают… Да всякие там яйца за миллионы…» И пошел пересказ газетных новостей да сплетен про наших Абрамовичей.
Не странно ли?.. Про нефть все и всё поняли. Про хлеб не хотят понять.
«Все вокруг колхозное и все вокруг мое»,— пели когда-то.
Сентябрь месяц, год 2004-й. В моем Калачевском районе кончилась долгая эпоха колхозов. Много их было: большие, малые и вовсе крохотные; бедные и богатые. Начинали с коммун: «10 семей, 38 человек, 14 пар волов, 4 лошади, 1 верблюд, 14 дойных коров, 160 овец. В день получали на душу четверть фунта хлеба, обед общий — кашица, 6 фунтов пшена на котел. Посеяно 95 десятин озимой ржи, поднято зяби 100 десятин». Это год 1921-й.
Потом был долгий путь, в конце которого в Калачевском районе работало 13 коллективных хозяйств, имея 30 тысяч голов крупного рогатого скота, более 50 тысяч овец, свыше 30 тысяч тонн молока сдавали государству, 7 тысяч тонн мяса, зерно, овощи. Разные были колхозы: прославленные «Волго-Дон» и «Россия» с высокими урожаями и надоями и вечно отстающий задонский совхоз «Голубинский».
Колхозная эпоха закончилась без прощальных речей и траурных митингов. И большинство моих земляков даже не подозревают об этой кончине. В районной газете по-прежнему, в пору жатвы ли, сева, печатают «сводки с полей», где все тот же перечень: «Волго-Дон», «Крепь», «Голубинский», «Мир», «Советский», «Нива»…
Сосед мой, недавний хуторской житель, колхозник, говорит, как и прежде: «Хлеба нынче у нас хорошие… Хлеба мы нынче много соберем…»
«Все вокруг колхозное, все вокруг мое». Ничего колхозного, то есть коллективного, в районе не осталось. Мне даже самому не верится. В последние годы, когда «бизнес» начал на корню скупать ли, забирать за долги остатки колхозов по всей области, мне казалось, что до нас скоро не доберутся. Забирали районы с плодородной землей, с черноземами: Еланский, Нехаевский, Новоаннинский… А у нас — пески. Но в последний год-два, словно в единый миг, свершилось. Сначала «инвесторы» (так их нынче именуют) взяли «Крепь», потом остатки «Маяка», и пошло-поехало. И вот уже «Нива» в руках молодого предпринимателя. Нынешний неплохой урожай — только его, и ничей другой. А «Советский» да «Мир» тихо-мирно прибрали к рукам бывшие его руководители. Вчера назывались колхозы СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив), с какими ни есть, но имущественными паями у людей, правом пусть не громкого, но голоса. (Снимали ведь председателей!) Теперь «акционерное общество», и основной пакет акций в руках двух-трех руководителей.
Колхозам в нашем районе пришел конец. А их век был немалым — 70 лет и более. Человеческий век. И потому непросто с колхозом расставаться. Еще вчера в это не верили.
В прошлом году солидная делегация руководителей еще живых колхозов нашего района отправилась в район соседний за опытом выживания.
Строки из газетного отчета: «Колхоз Пономарева приобрел новой техники на 11 миллионов рублей! Что за диво дивное? В наше-то время, когда все сельхозпроизводители стонут от диспаритета цен и едва сводят концы с концами, бросаясь в поиски очередных перерегистраций, получать прибыль, позволяющую даже дорогостоящую технику покупать,— сродни настоящему чуду. В чем секрет жизнестойкости колхоза имени Кирова, которому исполнилось 73 года и во главе которого уже 20 с лишним лет Николай Васильевич Пономарев?»
Вроде обычный, рядовой колхоз: 15 тысяч гектаров пашни, 2500 голов крупного рогатого скота да столько же овец, около 1000 голов свиней. Продуктивность животноводства низкая. По сравнению с советским прошлым она упала в 2 раза. Но прибыль от животноводства 1,8 миллиона рублей. Загадка. Зерна намолотили 18 тысяч тонн. Приобрели новую сельхозтехнику. Три колесных трактора, три гусеничных, три комбайна «Нива», два комбайна «Дон», три «Камаза».
Колхозникам бесплатно пашут огороды, работающих кормят дешевыми обедами в столовой, выдают зерно на паи.
Казалось бы, живи и радуйся. Колхоз работает с прибылью, долгов не было и нет. Потому мои земляки и поехали целым гуртом опыт перенимать.
Но был ли в такой поездке смысл? Средняя зарплата колхозника 1.000 рублей в месяц. Хороший пуховый платок свяжи и продай — вот тебе 1.000 рублей. Добрую скотиняку откорми на мясо — считай, годовая зарплата. А доярка должна каждый божий день в четыре утра встать и бежать на ферму, на утреннюю дойку. К обеду домой выберется. А там — снова на ферму. И теперь дотемна. И все — руками, в грязи да в навозе. За 1.000 рублей в месяц. И у механизаторов работа не сахар. На пахоте, на культивации, на севе, на уборке, на ремонте. И те же — тысяча ли, полторы в месяц.
Поэтому молодежь в колхоз имени Кирова не идет. Учиться на специалистов сельского хозяйства тоже не желают. Предпочитают искать заработок на стороне или домашними делами пробавляются. Это естественно. Как можно начинать жизнь с зарплатой в 1.000 рублей? И какие можно строить планы на будущее, на что надеяться, имея перед глазами живой пример родителей, которые, тяжко отработав в колхозе 30 ли, 40 лет, получают все те же 1.000 рублей.
Наша делегация колхоз имени Кирова осмотрела и сделала вывод, что жизнестойкость колхоза — это заслуга председателя, который «твердой рукой вел колхозный корабль верным курсом, обеспечивая стабильное разумное руководство». Тем более, что сам председатель «не собирается пасовать перед трудностями. Он убежден, что у коллективных хозяйств есть будущее… Надо работать, добиваться большей продуктивности при наименьших затратах, а там жизнь покажет».
Жизнь показала. На очередном собрании колхозники не выбрали Н.В.Пономарева своим председателем.
А я, грешным делом, собирался поглядеть на «колхозное чудо», которое по соседству. Не успел. И поздней осенью все же собрался в дорогу.
Нехаевский район — край от областного центра далекий. Приезжаешь туда будто в страну иную. Нынче — осень, «прощальная краса» природы. Черные, словно вороново крыло, пашни, изумрудно-зеленые озими, пламенеющие рябины в придорожных лесополосах. На хуторе Кругловском тоже много рябин: возле домов, на околице. Светят и греют они даже в тусклом осеннем дне.
Обычно сельские, хуторские жители к нашим городским восторгам относятся скептически. «Мы ее и не видим, эту природу,— говорят они.— Работаем с утра до ночи». Это правда.
Но и на хуторе Кругловском, в колхозе имени Ленина прошумел праздник. В приукрашенном Доме культуры собрались принаряженные люди, стар и млад. Председатель колхоза Георгий Васильевич Яменсков поздравил всех с окончанием долгого трудового крестьянского лета. Порадоваться есть чему. Весь урожай собран, земля вспахана, корма для скотины заготовлены, и урожай, надо заметить, самый высокий в районе. Был праздник и был отдых, когда, оглядевшись, нельзя не увидеть свою красивую землю с пламенеющей рябиной, черной пашней, сочной зеленой озимью. Родную землю, данную природой ли, Богом и людьми сохраненную.
Менее всего мне хочется, чтобы читатель подумал, что я рассказываю об уголке земного рая на разоренной земле, где, как в давнишней колхозной частушке:
Замечательно живем
И прекрасно кушаем.
И по радио артистов
Из Москвы мы слушаем.
Колхоз имени Ленина — не завидный рай, а такая же земля трудов и забот, и праздники там бывают не часто. Но есть на хуторе Кругловском одна особенность. Чтобы в ней убедиться воочию, я и проделал довольно долгий путь в 400 километров.
Передо мною справочная книга: А.В.Воробьев, «Поселения Волгоградской области», выпущена не так давно, в 2000 году. Пользуюсь ее помощью. Но все чаще, открывая нужную страницу, горестно вздыхаю. Потому что… Вот хутор Голубинский 2-й, про который сообщает справочник: «…24 личных подсобных хозяйства, начальная школа, медпункт». Но, к сожалению, нет уже в Голубинском 2-м ни школы, ни медпункта, да уже и людей нет. Или хутор Бузиновка: «…коллективное хозяйство, основанное в 1971 году». Или поселок Крепинский: «Успешно действует основанное в 1927 году крупное коллективное сельхозпредприятие… в поселке работают больница, местный рынок, система центрального теплоснабжения». Но это — о прошлом. Не виню автора справочника. Слишком быстро листаются горькие страницы последнего десятилетия.
Когда это все начиналось, в 90-х годах, было непривычно и страшно: детский сад без дверей и окон, разбитая котельная, руины магазина, до основания разобранный коровник, разрушенная теплица, ржавеющие остатки водопровода, заброшенная школа. Вначале было страшно глядеть. А теперь — привыкли.
Колхоз имени Ленина, хутор Кругловский. Сияющих дворцов здесь не было и нет. Но вот колхозная баня как открылась тридцать лет назад, так работает и сегодня. В ней есть сауна и небольшой бассейн. Во время уборки урожая поздними вечерами сюда привозят на автобусе прямо с поля комбайнеров, трактористов. Помоются, а уж потом — домой.
Колхозный детский сад. Каким он был построен, таким и остался: двухэтажное здание с теплом, водой, уютным двориком для игр, с детским гомоном, смехом, милыми лицами.
Дом культуры. Просторный зал. Тепло и чисто. Комната балетной студии со станками и зеркальными стенками.
Средняя школа — тоже не дворец, а давней постройки здание. Но чистые уютные классы, тепло и покой, а за окном — пасмурная осень.
В который раз уже я говорю о тепле: в детском садике, школе, Доме культуры. У нас ведь — не Африка. И начинается день обычно с известий о том, что замерзают Камчатка или Алтай, да и мы теплом не больно избалованы. Да что Камчатка, ведь рядом, в Родничках, в «Динамо»,— в школе температура зимой не поднимается выше +40°С.
На одном из хуторов старая женщина со слезами сказала: «Топка нас зарезает. На хлебушке просидим, не умрем. А вот с топкой — вовсе беда… Померзнем на сухарь…» 2—3 тысячи за тонну угля, 4 тысячи за тележку пиленых дров… Где их набраться, этих тысяч?
Вот хутор Поклоновский, соседнего района. Приехали, зашли в хату, старые люди сидят одетые: в пальто, шалях да шапках.
— Куда-то собрались?— спрашиваем их.— Мы не ко времени?
— Никуда мы не собрались,— отвечают.— Топку экономим. Протапливаем раз в день, вечером, дровами.
Хутор Павловский. Старый знакомец Н.И.Милованов жалуется:
— Мерзнем на сухарь. Про уголь забыли. Он — дорогой. И нынешние колосники, неизвестно из чего лепленные, от угля прогорают. Трое колосников на зиму. Это — шестьсот рублей. Я пока топлю сосновыми шишками из леса. Четыре ведра шишек сжигаю вечером, чтобы спать вроде в тепле.
В колхозе имени Ленина в домах отопление газовое. А школа, больница и прочие общественные учреждения уже давно без приказов сверху перешли на автономное отопление, оставив в прошлом километры теплоцентралей. Так выгодней. Деньги считать в колхозе умеют.
К примеру, сколько стоит зубная боль? Ведь зубы не болят лишь у того, у кого их нет.
В колхозе имени Ленина еще в давние времена поняли, что лучше один раз потратить деньги на строительство больницы, чем ежедневно возить людей в райцентр, за 40 верст. 200 тысяч колхозных денег потратили на строительство («Жигули» тогда стоили 5,5 тысячи). Двухэтажное здание больницы передали районному райздравотделу.
Больница работает и теперь. Три врача, палаты для больных, кабинеты. В который раз повторюсь — это не дворец. Но действующая больница, в которой и зубы вылечат, и любую помощь окажут.
Нынче сельская медицина ужимается: закрываются сельские больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Шел разговор в райцентре и о закрытии кругловской больницы. Г.В.Яменсков как председатель колхоза и районный депутат пока держит оборону. И говорит: «Если примут решение о закрытии больницы, мы ее возьмем на содержание колхоза. Потому что без больницы хутору жить нельзя».
В колхозе имени Ленина лишних денег нет. Их всегда, как говорится, в обрез. Поэтому тут считают рубли и твердо уверены: на детском садике, на бане, на лечении сэкономишь рубль, а потеряешь много больше.
Вспоминаю разговор прошлогодний, в другом районе:
— На хуторе магазин работает?
— Работает. Мы отдали частникам. Теперь голова не болит.
В Кругловском тоже работают два частных магазина. А в дополнение — еще три колхозных. Зачем? Во-первых, они приносят в колхозную кассу доход. Во-вторых, это рабочие места, которых так не хватает теперь на селе. А в-третьих, колхозные магазины не дают разгуляться ценам в магазинах частных.
«Прошу принять в колхоз…» — такие заявления и сегодня ложатся на стол председателя. В день моего приезда правление колхоза приняло две семьи. Одни с Алтая (там колхоз развалился), другая семья — из своего района, но беда та же: колхозу конец пришел, работы нет. Тракторист, шофер, доярка… Рабочие руки в колхозе нужны. Крупный рогатый скот, молочное стадо в 500 голов, самое большое в районе, полеводство. А люди в нынешней неустроенности и развале ищут надежный причал. Им нужен не рай земной, а работа, жилье, школа, детский сад для детей — словом, необходимое, то, что еще десять лет назад было в каждом селенье, а теперь безвозвратно ушло.
В колхозе имени Ленина водопровод с тремя скважинами, пекарня, парикмахерская, столовая, автобусное сообщение с областным центром, собственная заправочная станция и все иное, о чем говорил я прежде. Все, повторяю, обыденно, к чему привыкаем, а потому порою не замечаем. И только потерявши, горько плачем, разводим руками: «Как теперь жить?..»
Тридцать шесть лет в колхозе имени Ленина один председатель — Георгий Васильевич Яменсков.
Есть у меня повесть «Пиночет», рассказывающая о нынешней сельской разрухе. Пиночет — прозвище председателя колхоза. В Москве повесть встретили настороженно. Вот несколько отзывов-заголовков статей: «Екимов ставит на Пиночета», «Страшноватое пророчество»…
Но ведь писал я не о «железной руке» руководителя (хотя эта рука и должна быть крепкой), писал о мудрости и совести. В нашей стране (на селе особенно) многие руководители умели и гаркнуть, и кулаком по столу грохнуть. «Сильных» и «крепких» всегда хватало. А вот мудрых и совестливых на поверку оказалось очень мало. По всей России, от Москвы до окраин.
Но они все же есть.
Георгий Васильевич Яменсков один из них. Он удержал на своих вовсе не богатырских плечах тяжкую ношу: колхоз имени Ленина с десятью тысячами пашни, со всем немалым хозяйством и два хутора — Кругловский да Каменка, в которых и ныне течет привычная крестьянская жизнь.
В это тяжкое для России время Г.В.Яменсков остался отцом председателем большой колхозной семьи. Он не отправил на мясокомбинат якобы «нерентабельных» коров, потому что знал: крестьянской семье без коровы — погибель. И теперь от реализации молока колхоз ежемесячно получает 250 тысяч рублей. Он не закрыл детский сад, не оставил без заботы школу, больницу, потому что твердо знал: в крестьянской семье нельзя оставлять без призора детей, стариков, недужных. Он понимал: людям нужна работа, пусть с невеликой зарплатой, человеку нужна уверенность в том, что в завтрашнем дне у него на столе будет ломоть хлеба. А над головой теплый кров. Георгий Васильевич бережно сохранил все нажитое и созданное колхозом за долгий век. А значит, сохранил жизнь, колхозную и людскую; сегодняшнюю и ту, что будет завтра на этой земле. В первом классе кругловской школы двенадцать учеников.
В кругловскую школу я пришел в день приезда, к вечеру, когда классы уже были пусты. Походил, поглядел, поговорил с милой женщиной — учителем истории. Пришел и на другой день, теперь, как говорится, «для встречи с учениками-старшеклассниками».
Домой, в город, с собой увез я букет осенних цветов, подаренных учителями и школьниками. Эти цветы, хризантемы, перетерпели длинную, в три дня, дорогу. А потом еще долго радовали душу. И еще мне подарили в школе философский трактат кругловского учителя Владимира Мурашкина «Человек — машина времени». Строки из «Введения»:
«Человек ведет себя на планете как старуха из сказки А.С.Пушкина. «Сказка о золотой рыбке» — все ему мало. И конец может быть таким же. А мы это не понимаем…
Как физик, считаю, что начинать надо с наблюдательных данных: то есть вначале нужно просто разобраться в том, что мы видим вокруг себя».
Видим вокруг себя… Рядом. И далеко вокруг, за многие тысячи верст. День сегодняшний, день вчерашний и тот, что придет неизбежно нынешнему вослед.
Хутор Кругловский, Нехаевского района. Колхоз имени Ленина, которому 75 лет. Георгий Васильевич Яменсков председательствует здесь 36 лет. Нынче коллективное хозяйство. Последний колхоз. И колхоз, который не доживает, не догорает, не собирается сдаваться. У него самые высокие урожаи в районе. Строят жилье для колхозников, берут на себя иные заботы, о которых уже говорил я.
Но… с виду здоровое и будто бы крепкое тело колхоза подтачивают недуги и болезни, общие для всех. Среднемесячная заработная плата механизатора — 1.750 рублей, животновода — 1.164 рубля.
Вот семья шофера. Оклад — 1.200 рублей. На руки «чистыми» получает 800 рублей в месяц. Вычеты: за квартиру, за детский сад, за хлеб, который берут в колхозном магазине. Жена работает в Доме культуры. Получает 800 рублей. Двое детей: одиннадцати и трех лет. Нужно прокормиться, одеться, обуться всем четверым на 1600 рублей в месяц. Откормили двух свиней (на полученное в колхозе зерно), сдали на 8 тысяч. Вот и все доходы здоровых, молодых людей.
Еще одна семья. Муж ведает колхозным водопроводом, оклад 700 рублей. Жена учительница, получает 2 тысячи рублей. Надо оплатить квартиру, газ, электричество, кормиться, одеваться. Сын — старшеклассник. Он знает свои обязанности, как и отец с матерью. Домашнее хозяйство: корова, свиньи, птица. Накормить, напоить, почистить. Нынче продали свиней и купили сыну компьютер. Не от больших денег, но понимая, что век ХХI и хотелось бы для сына иной судьбы.
Доярка. 1.500 рублей среднемесячный заработок. При трехразовой дойке. Она, считай, и дома не бывает. Лишь короткими набегами да ночью. В 4 ли, в 5 утра — на первую дойку. И пошло-поехало, часов до 8 вечера. 1.500 рублей. Это без вычетов. Еще дадут зерна. Для своих свиней, кур, без которых прожить невозможно.
1.500 рублей… 1.200 рублей… 700 рублей… Не за день, а за месяц колхозного труда.
Один раз в неделю в Кругловке шумит базар. Приезжие из райцентра торговцы «на колесах» раскладывают и развешивают свой нехитрый товар. Цены, естественно, гораздо выше московских, «Черкизовского» ли, иных рынков. Пару башмаков на месячную зарплату не купишь.
Парк сельхозмашин в колхозе имени Ленина стареет. 2 новых комбайна купили по лизингу 3 года назад. Всем остальным — более 20 лет. По случаю из вторых рук приобрели 3 трактора «Кировец». Один — из Прибалтики, два других — из Донбасса, с шахт. Покупку новых тракторов колхоз осилить не может. Это тоже звон похоронный, как и зарплата в 1.500 рублей, в 1.000, в 700…
Кто из молодых, из нынешних старшеклассников кругловской школы польстится на такой заработок? На такое будущее своей жизни. Да и только ли они. Хорошие механизаторы, возраста далекого от пенсии, тоже понимают, что можно зарабатывать больше, и уже говорят порою в открытую: мол, у соседей в «Инвид-Агро» механизаторы зарабатывают больше. Да что «Инвид-Агро»… В «Агрокоммерзе» еще больше платят. А в Большой Ивановке, Иловлинского района, у В.А.Банькина, там вообще, как на Западе, механизаторы почти по миллиону рублей за год заработали. Чем хуже кругловские механизаторы?
Колхоз имени Ленина во многом держится на председателе. На его мудрости, опыте, крестьянском и организаторском таланте. Но Г.В.Яменсков — человек возраста пенсионного. И он, конечно, устал. На одном из колхозных собраний прозвучала его просьба об отставке. На свое место он предложил сына, работающего сейчас главным агрономом. Но люди не согласились и попросили Георгия Васильевича поработать еще. Он остался. Но надолго ли? Возраст свое возьмет, не сегодня, так завтра. А что будет с колхозом имени Ленина без Г.В.Яменскова? Горькое пророчить не хочу. Но сколько вокруг этого горького? Что стало с «Волго-Доном», когда убрали В.И.Штепо, заменив его на молодого? А с орденоносным колхозом «Россия», когда В.Ф.Попова «ушли»? Были хозяйства — всем на зависть. Превратились в руины и пепел. Но дело, в конце концов, не только в крепком и умном председателе.
Вот монолог руководителя хозяйства, которое реформировалось, от долгов уходило, избавлялось от лодырей. И выжило. Теперь есть прибыль, рентабельность, среднемесячная зарплата более 5 тысяч рублей. Но остались все те же проблемы:
«Выращивая только лук, который дает триста — четыреста процентов рентабельности, и не имея ни животноводства, ни обязательств перед людьми, мы могли бы вылизывать землю так, что на ней в бильярд играть можно. Если я коров перережу, кормопроизводство и зерновое производство сверну, брошу богару, оставив себе орошаемые земли для производства овощей, я тоже буду если не король, то кум королю буду. Оставлю на 200 га орошения в штате максимум десять человек: я, бухгалтер, три тракториста, несколько водителей. Получая сверхприбыли, севообороты буду соблюдать, пары в идеальном состоянии содержать…
Следуя логике голой прибыли, мы придем к тому, что коноплю еще выгоднее выращивать, чем лук,— почему бы ею не заняться? Или маком — его на опиум выращивать еще выгоднее. Себестоимость лука, если считать только прямые затраты, 1 рубль 11 коп. Продажа — 5 рублей. Мы прибылью от овощей вынуждены погашать убытки от животноводства.
В сельском хозяйстве нельзя на выходе только сверхприбыль видеть — так мы село совсем порушим.
Если все кинемся лук выращивать, кто будет подворьям зерно давать? А куда мне, свернув животноводство и кормопроизводство, людей девать? Выкинуть на улицу? Кроме того, у меня есть обязательства перед неработающими учредителями — пайщиками. Мы им на пай даем две тонны зерна, 500 кг лука, пять тонн соломы. Что сверх этого просят — по себестоимости продаем.
Свернуть животноводство — село похоронить. Личные подсобные хозяйства живут только благодаря крупным. Мы их кормами обеспечиваем. Люди, которые у нас в сезон работают,— из Самофаловки, из Фастова и других окрестных сел, просят: «Не надо денег — лучше зерна выпишите»…
У нас сельхозпроизводителей оценивают по тому, кто сколько в землю вложил, какой урожай получил. Если бы учитывали, кто сколько вкладывает в живущих на земле людей, думаю, многие наши «короли» окажутся голыми».
Но Россия нынче не страна социализма. Суровы экономические законы. Еще суровее беззаконие, которое царит в нашей экономике. И потому не выжить «островкам социализма». Коллективные хозяйства, в том виде, в котором они существовали у нас, немыслимы без идеи людского братства, коммунистического бытия, без государственной поддержки. А нынче идея одна — рубль. В поддержку лозунг: «Спасайся кто как может!» Наши колхозы — это не толстовские коммуны, не деревенские сообщества, в которых жили «молокане», «общие», не израильские кибуцы. Значит, кончился их век.
В Нехаевском районе остался в живых лишь колхоз имени Ленина, дай ему Бог удачи; в Калачевском районе колхозов уже нет.
Вспомним год 1991-й. Два правительственных документа… «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», «О порядке реорганизации колхозов и совхозов».
Там было много всего:
«…Местной администрации организовать продажу земель… по конкурсу.
Земли передаются или продаются… на аукционах гражданам и юридическим лицам.
Предоставить крестьянским хозяйствам право залога земли в банках.
Разрешить с 1 января 1992 года гражданам, владеющим земельными участками, их продажу.
Невыкупленные участки продаются на аукционах…
Колхозы и совхозы, не обладающие финансовыми ресурсами для погашения задолженности по оплате труда и кредитам, объявляются несостоятельными (банкротами) до 1 февраля и подлежат ликвидации и реорганизации в течение первого квартала 1992 года».
Все это оказалось пустыми словами: «продажа земель», «конкурсы», «аукционы», «право залога земли в банках». Даже теперь, 13 лет спустя, ничего этого нет.
Выписка из моей статьи в «Новом мире», год 1994-й:
«Когда рушатся великие государства, люди остаются и приходят в себя не вдруг. И правят ими тогда не новые законы, а обыденная экономика жизни».
Теперь осень 2004 года. Прощание с колхозом имени Ленина. Черные, словно вороново крыло, пашни, изумрудная зелень озимых хлебов, алые кисти рябины в придорожных лесополосах.
Колхоз имени Ленина. Школа, больница, детский сад… Каждый месяц платят зарплату, без задержки: 700 рублей, 1.000, 1.500, а еще — зерно и корма для коровы. Все вовремя, безотказно, потому что это колхоз имени Ленина, где председателем Г.В.Яменсков. В иных колхозах по 300 рублей за месяц начисляют, но их не дождешься годами и через суд не возьмешь. А вместо зерна — полцентнера зерноотходов дадут. Или рожь. Вот и радуйся…
И все равно работают. Потому что некуда деться. До райцентра — полсотни верст, а там — безработица. До областного города — 200 ли, 400 километров. Но кто тебя там ждет? Тем более с детьми.
Недалеко от Кругловского — хутор Солонка ли, Солоновский. Тамошний колхоз развалился, остатки его забрал «инвестор». 20 тысяч гектаров пашни. В два раза больше, чем в колхозе имени Ленина. Но люди оказались без работы. 1.100 жителей в Солонке. Во время полевых работ нужными оказались 5 шоферов и 10 механизаторов. Остальные живи как хочешь.
Хутор Павловский Алексеевского района. Здесь живет 80 семей. В колхозное время, кроме полеводства, работала свиноферма, откармливали молодняк крупного рогатого скота. Колхоз развалился. «Инвестор» — фирма «Гелио-Пакс» — оставила лишь полеводство. Работают 15 человек, и те в основном в период полевых работ, весной и в уборку.
«Инвесторы» — могучая сила. «Агрокоммерз», «Гелио-Пакс», «Содружество-Ойл», «Инвид-Агро», «Гетекс», «Юг Руси», «Русское зерно».
«…пару лет назад хозяйства, которые вошли в состав нашей компании, ни количеством, ни качеством продукции похвалиться не могли: зерно было в основном фуражным, средний урожай не превышал 10—12 центнеров с гектара,— говорит управляющий компании.— По традиционной технологии, чтобы восстановить пашню, пустовавшую пять — десять лет (а в большинстве вошедших в компанию хозяйств она была именно в таком состоянии), требуется как минимум три года. Но нам благодаря привлечению мощных механизмов удалось сжать эти сроки до более кратких. Ни в коем разе, разумеется, не в ущерб земле, а только за счет внедрения передовых методов земледелия и использования высокопроизводительной техники: комбайнов, тракторов, навесного и прицепного оборудования. Все шаги компании на земле выверены технологическими требованиями: хозяйства работают только с высококачественными семенами, вносят в почву удобрения, проводят химпрополку с привлечением авиации и, конечно, выдерживают непременное условие сельхозпроизводства — соблюдение сроков севооборота. И результаты не заставили себя долго ждать. Земля вернула сторицей все, что вкладывалось в нее в течение того короткого срока, что существует агрофирма».
Добавим, что эта могучая агрофирма в тот же короткий срок стала самым крупным производителем и поставщиком печеного хлеба для областного центра — 60 процентов.
Вот она и замена колхозам.
100 тысяч гектаров, 200 тысяч гектаров… Элеваторы, хлебоприемные пункты, хлебозаводы, речные порты для отгрузки зерна — все это «инвесторы». У них уже более миллиона гектаров пашни в нашей области. Самые высокие урожаи именно там. По 40 и 50 центнеров пшеницы, до 20 центнеров подсолнечника с гектара. Высокого качества, элитного, семенного. Это ли не достижение.
Село Большая Ивановка Иловлинского района, про него теперь вся область знает. Именно там в прошлом году простой механизатор О.А.Печников заработал 700 тысяч рублей, да еще и легковой автомобиль в придачу. Немногим меньше был заработок других механизаторов. Оплата — по труду. 8 тысяч гектаров пашни обрабатывали 2 бригады механизаторов, 13 человек. Им было обещано в качестве оплаты 10 процентов произведенной продукции. В прошлом году они заработали в среднем по 368 тысяч рублей, а О.А.Печников — около 700 тысяч.
Все хорошо: земля обрабатывается, урожай хороший, работники довольны. Но население Большой Ивановки более 1000 человек. В механизированных звеньях новых хозяев — 13. А куда остальным деваться? До райцентра — 41 километр, до областного и вовсе далеко.
В этом году новые хозяева взяли еще около 8 тысяч гектаров в селе Александровка (население — около 1.000 человек). Запущенные земли бывшего колхоза сейчас пошли в дело. Тракторы все лето работали круглые сутки: пахали и культивировали. Молодые работники сидели в машинах по 12 часов, а в день пересменки — 24 часа не выходили из кабины. Они знают, за что работают, потому что рядом, у тех же хозяев, Большая Ивановка. 700 тысяч Печников заработал. Его товарищи — немногим менее.
А остальные бывшие колхозники? Куда им податься? Сорок километров до Иловли, до города — сто. Но кто их ждет там? В Александровке — дома, усадьбы, учеба детей, привычный быт. А вот работа кончилась.
В нашей области пять с лишним миллионов пашни. Более миллиона — не обрабатывается. Уже более миллиона гектаров у крупных «инвесторов», столько же — у фермеров, причем большая часть земли — у крепких хозяев, которые обрабатывают и 1000 гектаров, и 10 тысяч, и даже более. Это уже примерно 3 миллиона гектаров пашни, то есть более половины всей области. И все это — не пустыня. Это — села, хутора, станицы и люди с недавно еще налаженным бытом, это — вчерашние колхозники, официальным языком — «трудоспособное население», которое нынче потеряло работу, а значит, заработок. Никто точно не скажет, сколько их. Но если в Солоновском из 1000 жителей работой обеспечены 15, если в Александровке вместо всего колхоза работает лишь 13 механизаторов, если в Бузиновке после развала «Калачевского» всю землю забрали крупные фермеры с уже сложившимися коллективами, а местных на работу не взяли, то понятно, что подавляющее большинство сельских жителей осталось без работы. Работу потеряли практически все женщины. Раньше они были доярками, свинарками, телятницами. «Инвесторы» и фермеры животноводством не занимаются, лишь зерном. Молодежь, вчерашние школьники, тоже никому не нужны. Раньше были технические училища, школы механизации, а значит, специальность, потом — практика и работа. Сегодня школ механизации нет. «Инвесторам» и фермерам нужны готовые квалифицированные кадры, и они их набирают где могут.
Молодые ребята теперь, болтаясь без дела, ждут призыва в армию. (А после армии что?) Девчата ждут… «замуж».
Моральное состояние понятное: «все потеряно и ничего не будет». Все дорожает, лишь самопальная водка уже третий год держится в одной цене — 22 рубля за бутылку.
При «колхозах-совхозах» были партком, завком, комитет комсомола, секретари райкомов, обкомов по идеологии. Конечно, было много дури. Но занимались и воспитанием. «Молодежь — наше будущее», «Моральный кодекс», «Пионер обязан…» хотя бы место в трамвае старшему уступить. Этому учили. Павка Корчагин, Тимур со своей командой. Теперь кто занимается воспитанием? Телевизор и «видик». С утра до ночи там современные «герои»: Белый, Серый… Бьют, режут, пьют-едят в шикарном ресторане. А потом едут в Монте-Карло, на ПМЖ.
Информация или крик души:
«…многие наши дети перестают посещать школу с 6—7 класса — не хотят учиться. Приобщаются к пьянству, наркомании… особую озабоченность вызывают, как ни странно, девочки. Если мальчишек еще можно призвать к порядку, то «милые дамы» выдают такие матерные тирады… три раза в неделю дискотеки, где в основном собираются дети (начиная с 6 класса)… пьют, курят (и мальчики, и девочки), устраивают драки… нравы этого детского сообщества напоминают тюремные — выживает жестокий и сильный…
На общешкольное родительское собрание пришло 25 человек из 600…» (И.Н.Колесниченко, поселок Береславка).
Береславка. Бывший совхоз «Волго-Дон», прославленный, орденоносный, могучий. Повторю еще раз слова волго-донского старожила Н.Н.Андреева: «Я сюда переехал, рот разевал от удивления. Суббота-воскресенье, как в городе, отдыхай. Спортивные соревнования на стадионе. В клубе — концерт. А хочешь, поезжай в город: в театр, в цирк. Автобусы и билеты бесплатные».
Хорошо работали и хорошо жили.
Теперь на месте могучего совхоза — жалкие остатки. Агрогород. Этажи его, балконы. Приусадебного участка нет. И работы нет. Людей так и осталось около 6 тысяч.
Далекий хутор Зимняцкий. И те же горькие слова: «Своих детей мы уже потеряли…»
Это — уходит колхоз. Уходит колхозная жизнь. Ей замены пока нет. Еще раз к письму из Береславки:
«Мы с тревогой восприняли сокращение дежурной части нашего отделения милиции… Это неправильное решение… Состояние правопорядка усугубилось».
Милиция — дело необходимое. Армия — тоже. Из года в год у нас в стране эти статьи расходов в бюджете увеличиваются. (С образованием ли, культурой — не сравнишь.) Когда-то, в далекие годы, в Калаче-на-Дону был старшина Гегин. Его и сейчас помню, через полвека. Казалось, самый главный был милиционер. Сейчас в нашем невеликом городке уже и действующий генерал есть, полковников да подполковников не счесть; а майоры — «участковые». Мелких звездочек — как в ночном небе. Но разве больше стало порядка?
Возле каждого человека милиционера не поставишь. Весь белый свет колючей проволокой не опутаешь.
Из того же письма:
«У растущего поколения нет идеологии. Лишив его прежних идеалов и ничего не дав взамен, государство совершило нравственное преступление. Мы ничего не оставили своим детям, кроме рубля в одном глазу и доллара в другом».
Поселок Береславка. Бывший совхоз «Волго-Дон», орденоносный, богатый. Которого нет и теперь не будет. Остались люди.
Крестьянская Россия. 2004-й год. Крутые перемены начались в 1991 году. Но до сих пор наше село — что растревоженный улей. «Инвесторы», фермеры, последние колхозы — все они живут на земле и от земли. Но до сих пор толком никто не знает, кому принадлежит земля в сегодняшнем дне, а в завтрашнем — тем более. Какая уж там продажа, какой залог, если права собственности по-прежнему нет… нет. Спросите любого, живущего на хуторе, в селе: «Где твоя земля, твой земельный пай? Покажи». Самый верный ответ будет со вздохом: «На кладбище. Два метра».
А коли нет определенности в вопросе земельном (13 лет разбираются!), то все надстройки могут улететь при хорошем ветре.
«Инвесторы — наша надежда и наше будущее,— твердо заявляют власти областные, районные и в разваленных колхозах мечтают: — Нам бы инвестора…»
Осенью 2000 года в Самофаловке Городищенского района дождались этой манны небесной. Агрохолдинг «Волгоградский» забрал у хозяйства все имущество, движимое и недвижимое, новую технику пригнали, начали пахать и сеять.
У «инвестора», который приходит в село, должен быть солидный капитал, а не одно лишь желание. Прибыли появляются не в первый год. Это — не торговля, а сельское хозяйство. Сначала надо вложить деньги, купив тракторы, комбайны, семена, удобрения. Иногда капитала не хватает. А может, появляются у «инвестора» другие проекты, более заманчивые.
Так случилось в Самофаловке. «Инвестор» в 2000 году «пришел», а потом решил «уйти».
Открытое письмо губернатору
В Самофаловке произошла страшная трагедия: когда-то крепкое хозяйство в результате разных реорганизаций пришло в упадок.
Чтобы как-то выправить положение, директор Кусайло Т.С. решила пойти под крыло богатого инвестора — ЗАО «Агрохолдинг «Волгоградский»». Но холдинг оказался не простой, а продуманный — с большим опытом и дальним прицелом. Землю он сразу оформил в ООО «Ракурс-Волга-С», технику и всю недвижимость — в ООО «Гор-Агро», а на себя не оформил ничего, просто выступил в роли работодателя.
Постепенно втайне от народа (пайщиков) директор Т.С. Кусайло стала переоформлять все движимое и недвижимое имущество в те фирмы, куда ей указывало руководство холдинга,— якобы в счет погашения кредитов, таким образом постепенно лишая людей имущественного пая. Затем холдинг приступил к реализации своих планов. Сначала в одночасье (за субботу) вывезли всю скотину (КРС и свиней), затем начали вывозить всю технику, вагончики, станки, оборудование. Затем стали разбирать склады, коровники, МТМ, гаражи, орошение, продавать пруды и т.д. То, что нельзя было вывезти, разрушали.
Уважаемые люди села, почетные граждане района, орденоносцы, ветераны труда, десятилетиями создававшие производственную базу (из которых многие проработали 40—45 лет), плакали, глядя на это. Трижды обращались к губернатору Н.К.Максюте — никакого ответа. Дважды были у главы районной администрации М.М.Бубенчикова, просили разобраться в происходящем и прекратить произвол — безрезультатно. Многократно обращались к милиции — никакой реакции.
Мы хотели выйти и перекрыть московскую трассу в знак протеста. Хотели не ходить на выборы…
Губернатор призывает работать с холдингами, считая их панацеей от бед сельского хозяйства. Но вот бы взял и посмотрел, как ЗАО «Агрохолдинг «Волгоградский»» подготовило «Самофаловское» к посевной.
Неужели никто так и не понесет ответственности за происходящее?
А. Иляховский, т.Журбенко, И.Растворов и др.
Всего 45 подписей, пос. Самофаловка
Городищенского района.
С чем остались бывшие колхозники? С землей? С «основным богатством», которое неизвестно где. Может, за околицей. А может, за 50 верст, возле Бирючьей балки. Кто ее воочию видел и может ткнуть пальцем: «Вот это — мое»?
Открытое письмо полномочному представителю
президента в ЮФО Козаку,
главе администрации Волгоградской области Максюте,
депутатам Государственной Думы РФ
Галушкину, Плотникову
…в настоящее время расследуется уголовное дело по факту приобретения П.Н.Суховым 100 процентов долей уставного капитала ООО «Родина». А также то, что из 15 миллионов рублей кредита Сбербанка РФ Суховым на ООО «Родина» был потрачен только один миллион. И еще то, что в мае 2004 года Сухов продал не принадлежащее ему (лизинговое) дойное стадо коров, выбросив на улицу более 30 человек из работников ООО «Родина».
Посредством хитроумных комбинаций П.Н.Сухова и его родственников ООО «Родина» погрязло в колоссальных долгах.
Надеемся, что в городе Волгограде и области найдутся честные и профессиональные специалисты, которые проведут объективное расследование ситуации, сложившейся в нашем селе вокруг ООО «Юг АГРО» и ООО «Родина», а власть обратит внимание на все происходящее у нас в районе и достойным образом наведет надлежащий порядок.
Жители села Завязка,
Киквидзенский район (всего 200 подписей).
Пора колхозов в нашем селе завершается великим разором и «раскулачиванием» крестьянина, которого обманывают все, кому не лень. Простодушные, не больно образованные, напрямую зависимые от колхозного начальства (не даст сена, соломы, зерна), эти люди в основном послушно голосуют на собрании за очередную «перерегистрацию» колхоза в КСП, СПК, МУСП, АО, ОАО, ООО… «Перерегистрируемся — и заживем…— обещают им.— Уйдем от налогов… Уйдем от долгов…» Слепо голосуют — до тех пор, когда им говорят открыто: «А теперь вы — лишь наемные рабочие».
Такие реорганизации в моем районе претерпели последние коллективные хозяйства «Мир» и «Советское», превратившись в акционерные общества, где акции принадлежат двум-трем «физическим лицам», а значит, именно им теперь принадлежат тракторы, комбайны, дойные и мясные гурты скота, производственные помещения вплоть до конторы, посевы, всходы, урожай,— все это теперь частная собственность «Иванова» и «Петрова», а 300 ли, 500 вчерашних колхозников и совладельцев остались лишь со своим полумифическим «земельным паем».
Прощай, колхоз! И никакие письма губернатору ли, президенту не помогут. Это называется лишь переходом собственности в другие руки.
В чьих руках сейчас заводы, фабрики, шахты, нефтяные скважины, речные и морские суда, порты? А ведь там работали не «темные» крестьяне, в грамотных недостатка не было. Но видно, дело не только в грамоте. Потому что результат — налицо: ни рабочим, ни служащим ничего не досталось.
На селе этот процесс немного запоздал. Вот и вся разница.
«Все вокруг колхозное и все вокруг мое» — кончилось. И потому, возвращаясь к началу моих заметок, к ценам на печеный хлеб, повторю, что цена буханки, как и литр бензина, зависит не от президента и губернатора, а от хозяина зерна, хлебозавода, магазина.
«Продавать зерно ниже себестоимости мы, разумеется, не можем. Если сегодня мы сработаем в убыток, то завтра не будем работать вообще»,— сказал управляющий одного из аграрных «холдингов», работающих на нашей земле, когда пошли разговоры о том, что при большом урожае хлеб должен подешеветь.
У нас в области нынче губернаторские выборы. Как и заведено, власти с ранней весны начали «битву за хлеб» под лозунгом: «Дадим 4 миллиона тонн зерна в честь предстоящего 60-летия Великой Победы!»
Не имея реальной возможности влиять на сельскохозяйственное производство, но, конечно, не желая этого признать, областные власти вспомнили советское прошлое и начали проводить «разверстку»: кто сколько зерна посеет и кто сколько соберет. «Задание» доводилось каждому: «инвесторам», фермерам, колхозам. Проводились совещания, планерки, назначались «ответственные».
«Обладминистрация мобилизует аграриев на битву за урожай-2004».
Вот одна из страниц «битвы»: областное селекторное совещание с главами районов.
Глава Урюпинского района: «…197 тысяч тонн — боюсь, что это нереальная для нас задача». Голос из областного центра: «Мы ваше объяснение принимать не будем. Занимайтесь этим. Этот вопрос будет постоянно стоять под контролем…»
Из Камышинского района, замглавы администрации: «Я отказываюсь понимать, как можно сразу дать увеличение почти в два раза». Голос из областного центра: «Мы от вас объяснение не принимаем.— И приказ: — Ответственный по Камышинскому району, поедете туда и можете жить там. Вернетесь, когда будет то количество зерна, которое определено».
И все это вроде на полном серьезе, словно пятьдесят лет назад.
Конечно же, аграрные бизнесмены-«инвесторы» в первую очередь заинтересованы в высоком урожае, потому что они пришли на землю, чтобы получать прибыль. И пришли они в разваленные колхозы тогда, когда областные власти окончательно расписались в своем бессилии, не сумев ничего сделать за десять лет.
Фермеры тоже работают для урожая. В меру возможностей и сил. Они ведь живут не от зарплаты. И последние колхозы стремились выжить.
Для одних — работа, для других — «битва»: за губернаторское, за чиновничье кресло.
Погодные условия сложились хорошие, область собрала 4 миллиона тонн зерна.
«Больше зерна в поле — дешевле хлеб на прилавке»,— говорили областные власти, растолковывая непонятливым, что сражались они для блага людей, избирателей.
«Хлеб уже стал дешевле!» — сообщали подвластные губернатору газеты.
Насколько он стал дешевле у нас, в Калаче, повторю: буханка серого — на рубль дешевле, зато батон белого на 1,6 рубля дороже и все булочки, рогалики, плюшки подорожали от 50 копеек до 1 рубля за штуку.
На нашем дворе капитализм, и всяк старается получить максимальную прибыль. Никакие губернаторы и президенты тут не указ. Бизнесмены могут помочь, если их настоятельно попросят, разъяснив: «Выборы на носу». Но своего они не упустят.
И дело не в нашей области, не в нашем «плохом» ли, «хорошем» губернаторе.
Переход от социализма к капитализму. Тут ни теории, ни практики нет. Метод синяков в лучшем случае. Только кому «синяки»? Конечно, мужику.
Не знают о «путях перехода» в Москве, не ведают в Волгограде.
Один неглупый местный политик, когда его избирали на высокую должность, на вопрос: «Какие задачи ставите? Что конкретно будете делать?» — ответил: «Буду решать задачи, которые ставит жизнь. От ступени к ступени».
Так оно и получается. Только порою эти ступени вниз ведут.
Еще недавно губернаторская власть боролась с «московскими бандитами», которые захватывают сельхозпредприятия. Но через короткий срок эти самые «бандиты» стали именоваться «инвесторами», которые землю вспашут, людей обеспечат работой и решат все социальные вопросы села, то есть на свои деньги будут содержать сельскую школу, больницу, водокачку, дороги и все другое, что прежде было заботой колхоза.
Опять забыли про капитализм.
«Инвесторы» через год-другой стали получать неплохие прибыли еще и потому, что отказались от всего «неприбыльного».
«Нынешние инвесторы откровенно от хутора отвернулись, обязательства за земельные паи не выполнили, кормов не дали» (хутор Аржановский).
«…водопровод не работает, сообщения с райцентром нет, закрыта аптека, не ходит «скорая помощь», медпункт разваливается, в школе крыша течет, весенний паводок разрушил мосты…» (хутор Успенка).
А «инвесторы» говорят четко: «Следует оградить сельхозпредприятия от решения социальных проблем, включая разовые акции помощи. Они должны заниматься производством». Тоже ведь — правда. Этот «инвестор» заплатил 17 миллионов рублей налога лишь на одном хуторе. Вот и решайте на эти деньги «социальные проблемы».
И он же говорит: «Необходимо активно побуждать местную власть, создавать условия на селе для развития малого бизнеса: кафе, кулинарии, пошивочные, ремонтные мастерские. Это даст работу другим жителям».
«Если город будет развиваться, а село — нет, оно станет поставщиком преступников, наркоманов, проституток».
В прежних моих новомирских заметках да и теперь много укоров властям московским и областным, которые во все времена меряют нашу жизнь на свой, якобы государственный, аршин. И тогда у них получается, что «в среднем» да «в общем» жизнь на селе налаживается.
Возьмем нашу область. Пашни у нас примерно 5,5 миллиона гектаров. В самые провальные времена «перестройки» площадь неиспользованной пашни доходила до двух с лишним миллионов гектаров. В 2002 году уже полтора миллиона гектаров, в нынешнем, 2004 году неиспользованной пашни остался лишь один миллион гектаров. Как говорится, рост налицо. Брошенную пашню забрали «инвесторы», и урожаи у них завидные. Нынче у «Гелио-Пакса» на 36 тысячах гектаров средняя урожайность 36,7 центнера пшеницы с гектара. ЗАО «Русагропроект» получил 261 тысячу тонн зерна. Это ли не достижение! «Инвесторы» за последние три года вложили в сельское хозяйство области более 6 миллиардов рублей. Отсюда и результат.
Так что с растениеводством дела идут неплохо. Думаю, что через два-три года необработанной земли в области вообще не будет.
Потому что рентабельность пшеницы и подсолнечника у «инвесторов» и у крепких фермеров 160—250 процентов. Это — лучшая агитация и пропаганда.
Такие цифры ласкают слух руководителей области и страны. А то, что животноводство практически уничтожено, об этом можно промолчать или произнести туманную фразу: «Наметились признаки стабилизации». Что на деле означает: ниже земли не упадешь, ниже дна не утонешь. Потеря животноводства — это потеря рабочих мест на селе. Доярки, скотники, свинарки, телятницы остались без дела. Ставка на интенсивное растениеводство — это уменьшение числа механизаторов. А все вместе это означает массовую безработицу на селе.
Уход колхозов — это развал сельской социальной сферы: больницы, школы, культуры. А в общем — это деградация сельского населения.
Когда закрываются шахты, говорят и что-то делают для трудоустройства бывших шахтеров. А кто поможет крестьянину? Только Бог.
Последний в этом году поход. Теплая осень. Из хутора Набатов на стареньком велосипедишке выехал и покатил: Ремнево, где шиповника нынче пропасть, Красный яр, бывший Евлампиевский хутор (ныне лишь могилки да старые груши), дорога на Большую Голубую, из которой нынешним летом последние наши люди ушли: Любаня, Косоруков, Дьяченко. Остался «аул» — два чеченских хозяйства.
До Большой Голубой не доехал, повернул и стал подниматься вверх, к бывшему набатовскому полевому стану. Оттуда, с могучих курганов Маяка и Белобочки, простор открывается, который взглядом не окинешь. Могучие холмы, просторные долины, глубокие балки. Осенние желтые травы, яркое солнце, ветер, высокое небо. Безлюдье, безмолвие. До Верхней Бузиновки — 40 километров, до станицы Сиротинской — столько же, до Голубинской ближе, но она все равно далеко.
Возвращался к вечеру. Жаркий был день, даже знойный. И потому, не добравшись до хутора, свернул передохнуть возле Красного яра, к речке, в прохладную сень тополей да верб. Речушка степная, малая, с милым именем Голубая. Умылся, сладкой водички попил, черпая горстями, сел на берегу.
Перекат. Белые камешки. Журчит и журчит вода, убегая. Душа утешается. Мысли текут спокойные. Не только о дне сегодняшнем. Что наши дни, они журчат, словно эта вода, и растворяются в таком вот степном покое, который вокруг ныне и век назад. Так же речка звенела, светило солнце, на маковки тополей и верб с легким ропотом набегал ветер, серебря их. И люди жили на этой земле. Много их было, богатых, бедных… Счастливых вовсе не от богатства и несчастных не всегда от бедности. Были, потом ушли.
Что осталось от той далекой поры? Осталась земля, осталась вода. Осталось далекое эхо прошедших лет в именах и названиях: Сазонов алевад, Артемов алевад, Желтухин сад, Якубов кут, Ситников переезд, Гусаркин да Львовичева гора. Но это не просто названия, это долгая память о людях, которые всего лишь век назад жили и работали на этой земле. А потом ушли.
А речка Голубая все так же звенит на перекате у Красного яра. И вечный ветер шуршит в желтых осенних травах. Земля жива.
Нынешним утром я услышал гудение трактора. Это по соседству Юрий Стариков скирдовал привезенную вчера солому. Нынче он поставил новый сенник. Это — по-хозяйски. Стариков — настоящий хозяин. У него есть скотина, лошади. Весной он прикупил молодняк: телочек, бычков. Взял в аренду остатки колхозного животноводческого комплекса, с него уже крышу снимали. Он думает побольше скотины завести. Что ж, сила есть, человек не старый. О земле у меня спрашивал. «Торопись,— сказал я.— Через два-три года ничего не останется».
Вчера я ездил на бахчи, к Синицыну. Поглядел, поговорил, арбузами да дынями угостился. Синицын — тракторист, в прошлом совхозный. Теперь они вместе с Семерниковым хозяйствуют самостоятельно. Арбузы, дыни, тыквы, просо, подсолнух. Нынче год — не арбузный, а дыни очень хорошие. Перекупщики в Москву их везут. Больших доходов у Синицына, конечно, нет. Но живет, кормится, милостыни не просит; люди у него работают, хоть немного, но получают на жизнь. Запашку Синицын увеличивает, взял еще землю возле кургана Хорошего.
На бывшем Найденовском хуторе который уже год косит сено Ф.И.Акимов и возит его на продажу в Калач, в Ильевку. Себе на хлеб зарабатывает и другим помогает.
По-прежнему работают Пушкины, пашут да сеют. И Барсов не сдается.
Люди пожилые, пенсионеры, тоже не сидят сложа руки. У Гавриловых — скотина, голов пять, наверное. Надо и сено косить, и пасти, и ухаживать. Тут не поймешь: нужда ли, привычка? Но работают.
Тетя Катя Одининцева, ей уж за восемьдесят. Но огород — загляденье. Одной картошки сколько накопала. Себе хватит и городским детям и внукам достанется. А еще — помидоры, перец. Все вырастила, уже убрала и землю вскопала, подготовив ее для будущего урожая.
Хуторской народ, сельские жители, русские люди, чья жизненная сила — словно малая журчливая речка, которая течет и течет через время, через невзгоды и страсти, через войну и мир.
Все проходит — и все остается. Многое замывают вода и время, но многое — в памяти.
Минует и нынешний век. По-прежнему будет звенеть на перекатах речка Голубая. Земля забудет старые имена, им на смену придут другие: Акимов покос да Синицыно поле, Буданов ерик да Стариков луг. Земля безымянной не будет. Пока жива.
осень 2004 года
2005 год
«Новый Мир», №6
Под высоким крестом
Иван Атарщиков — молодой колхозный пастух, на Красные яры попал не желая того, каким-то, видно, нароком. Как всегда, лихо мчался он на своем мотоцикле от скотьего лагеря, напрямую, домой, в станицу, но не свернул возле Братякина кургана, а покатил вниз и лишь потом опамятовал, но решил не возвращаться, а проехать дорогой нижней, возле Красного яра. Крюк невеликий, а свой след топтать — плохая примета.
Красный яр — это высоченные глинистые обрывы. Между ними и речкой — дорога. По ней и мчался. И вдруг резко затормозил. Белое облако меловой дорожной пыли, догнав, накрыло мотоцикл с коляской и седока.
Рядом с дорогой земля была непривычно изрыта, взбуровлена: просторные, но неглубокие, в колено, ямы; сухие, каменистые комья, отвалы. И людские останки: тонкие ребра, берцы, оскаленные черепа, ломаные и целые; сопревшие сапоги, какие-то тряпки, лоскутья.
Прежде, еще недавно, здесь была лишь степь, рядом — речка и посеревший от времени жердевый восьмиконечный крест, памяти знак о погибших солдатах.
Теперь же… Надругание над прахом, божья страсть.
Молодой пастух с мотоцикла слез, подошел ближе к раскопу, к останкам людским.
— Сволочи… Гады…— вслух, громко проговорил он и огляделся, словно рядом были те, кого ругал.
Но вокруг лежала пустая степь, рядом — наезженная дорога. И все.
А ругать нужно было в первую голову самого себя. Это он виноват, болтун языкатый. Только он. А уж потом — другие.
Теплым, а на припеке жарким солнечным днем в начале сентября на высокий курган в далеком степном Задонье поднималась процессия невеликая. Впереди быстро шел молодой парень в легкой одежде, за ним послушно, след в след — две собаки: тоже молодой, поджарый кобель, виду овчаристого, в гладкой светло-каштановой шерсти, по кличке Тузик, и мать его, лохматая Жулька с высунутым языком.
Поднялись на курган, с которого открывался вид просторный, на многие версты: огромный распах долины, на дне которой невеликая речка, по берегам ее — зеленая урема деревьев.
Молодой парень, пастух, не степные пейзажи оглядывал.
Поодаль, обтекая подножье кургана, неторопливо спускался вниз, к речке, немалый гурт скота. Могучие, породистые абердины, жуково-черные, сияющие под солнцем, неспешно, медленной рекой текли среди яркой желтизны высоких трав. Живая скотья река растянулась. Неторопливо, нежадно пасясь, первые животины уже спустились в долину и возле старых груш отдыхали да сладко чесались, сотрясая корявые стволы и просторные кроны. А по ложбинам — там и здесь — тянулись быки да матки с телятами. И даже далеко наверху видны были отставшие.
Молодой пастух оглядывал свое немалое стадо. Старая Жулька прилегла у него в ногах. Тузик застыл, переводя взгляд от хозяина на отставшую скотину.
— Ну чего тебе?— усмехнувшись, спросил пастух.— Не терпится? Не набегался? Придут. Никуда не денутся. Хочется?
Тузик сдержанно взвизгнул от нетерпения.
— Занудился, тогда давай… Сбей!— приказал он не столько голосом, но рукой и перстом, и Тузик помчался на упругих сильных ногах. Жулька лишь вздохнула, сетуя ли на него, завидуя ли молодому задору.
Просторная холмленая округа была безлюдна. Здешние земли теперь не пахались, не сеялись, и скотины в колхозе осталось немного — лишь этот гурт, и потому гул машинный — что на земле, что в небе — раздавался редко. Зимой городские охотники порой колесили. А летом да осенью — глухая тишь. Лишь ветер шелестит сухими травами. И все.
Голос еще невидимой, далеко бегущей машины пастух и старая Жулька услышали вместе и стали глядеть: кто там и зачем?
Машина была легковая и не колхозная: кургузый зеленый «козел». Она пробиралась дорогой почти неезженой откуда-то от Дона, со стороны Большого Набатова, одного из последних хуторов округи. Колхозные: председатель да зоотехник ездили другим путем напрямую от станицы.
Машина сначала подъехала к речке, потом к пустому скотьему стойлу с жердевой огорожей, наведалась к старому кладбищу, последнему знаку когда-то здесь бывшего хутора. Одним словом, блукала. Пока не увидела скотину, а потом пастуха на кургане. И тогда устремилась к ним.
Проворный Тузик обученно облетел по степи просторное полукружье, собирая и сбивая в кучу отставшую скотину. Неторопливо к дороге, к своему гурту и подъехавшей машине начал спускаться молодой пастух.
Внизу его ждали два тоже молодых, крепких мужика в таких привычных теперь пятнистых одеждах; то ли это военная форма, то ли дешево и удобно: брюки, куртки, кепки и даже майки пятнистые; на рукавах вроде воинские знаки.
— Здорово живешь, казак!— весело встретили хозяина гости нежданные.
— Слава богу,— сдержанно ответил молодой пастух.
— Твоя, что ль, скотина?
Тушистые породистые абердины, приземистые, кормленые, светили под солнцем жуковой шерстью.
— Больше пяти центнер,— на глаз прикинули приезжие…— А вон тот на тонну потянет. Танки, не скотина… Твои, что ль?..
— Ну да…— усмехнулся пастух.— Какие мои, колхозные.
— О… Колхоз еще живой?..
— Живой…
Молодому пастуху разговоры о скотине не очень понравились. Он решил поскорей их закончить и на всякий случай оборониться от людей неизвестных.
— По этому делу, по скотине, разговаривайте с председателем. Не перевстрели его?.. На красной «Ниве» он здесь мыкается. А лучше поезжайте к чеченам, на Набатов, на Осиновку. У них своя скотина, собственная. Там дело верней.
— Не надо нам скотины. Мы совсем по другому делу,— успокоили пастуха приезжие.— Мы из группы «Поиск». Слыхал про таких? Мы ищем места захоронения солдат. Будущий год юбилейный, шестьдесят лет Победы. Вот мы и занимаемся. В войну ведь кое-как хоронили. Свалят в яму — и все. А мы находим такие места. Вскрываем. Бывает, что солдат числится без вести пропавшим, а мы определяем. По документам, по медальону. Письма иногда остаются. А уж потом останки на кладбище или в братскую могилу. Но уже как полагается: оркестр, памятник, венки. Слыхал про такие дела?..
— Вроде слыхал. Вы что, вдвоем копаете?
— Нет. Мы сначала ищем. Спрашиваем у местных жителей. Что и где. У стариков. Они же помнят. Где в войну хоронили и как. Ты вот пасешь. Здешние места знаешь. Может, где видел старые могилки?
— Они по всему хутору, эти могилки,— ответил пастух и повел рукой, указывая.— Кроме могилок ничего и не осталось.
И вправду летние скотьи базы располагались посредине когда-то большого хутора Горюшкин.
От него остались теперь лишь заплывшие ямы, грушевые деревья да могилы. Покойников хоронили в старые годы не на общем кладбище, а на своих левадах. Могилки, кресты, а порою надписи и теперь были целы от балки Сухая Голубая и до Ситникова переезда, на целый десяток верст.
— Нет…— отмахнулись приезжие.— Нам другое надо: военные захоронения.
Посвист крыл и громкое «ки-ки-ки!!» раздалось вдруг, и с неба на людей словно упала рыжеперая птица.
В последний миг она распустила мягкие крылья, опахнув теплым ветром и приезжих испугав. Птица остановилась в полете и ловко уселась на плечо молодому пастуху. Это был кобчик в коричневом оперенье крыл и с полосатой, словно в тельняшке, грудью.
— Вот это да…— удивились гости.— Твой?
— Это уж точно мой, не колхозный,— подтвердил хозяин и птице сказал: — Погоди. Сейчас покормлю.
Кобчик понял его, стал ждать, дремотно прикрыв пленой желтые глаза.
Молодой пастух еще раз оглядел приезжих, перевел взгляд на их машину, номер ее поглядел, потом спросил:
— А сами-то откуда?
— Из города.
— Ясно… Тут много людей побито. Сорок второй год. Летом три дивизии из окружения, считай, не вышли. А осенью выбивали немцев. Тоже полегло. Танковое поле, Солдатское поле, Набатовские колодезя, балка Трофеи, Красные яры, Майор. Там даже кресты стоят.
— Какие кресты?
— Простые деревянные. А может, погнили уже. Давно их ставили, лет, наверное…
— Погоди,— остановили его.— А ты можешь нам показать эти места?
— Я же не брошу скотину.
— А ты один стережешь?
— Вдвоем,— слукавил пастух.— Но напарник на хутор уехал. Должен к ночи вернуться.
«Ки-ки-ки!» — напомнил о себе рыжеперый кобчик, ворохнувшись на плече хозяина.
— Погоди,— успокоил его пастух, у приезжих спросив: — Карта у вас есть? На карте я бы отметил.
«Ки-ки-ки…» — протяжно принялась выговаривать птица.
— Замолчи!— повысил голос один из приезжих.— Попка дурак!
Птица смолкла, уставясь на приезжего неморгающим желтым глазом.
— Он — не дурак,— заступился хозяин.— Он — сокол,— и быстро завершил разговор: — Давайте карту. Я вспомню, отмечу. А пока… Поглядите у Майора. Над самым Доном, на Прощальном кургане могила, памятник. Майор Кузьминых там похоронен. А возле, ближе к хуторскому кладбищу, там тоже хоронили, бугорки остались. А еще у Красного яра. Там и немцы, и наши, все вперемешку. Дорога — над речкой, а справа — Красные яры. Мимо не проедешь.
Остроухий Тузик, подогнав отставшую скотину и увидев приезжих, примчался и встал рядом, переводя взгляд с хозяина на гостей: дескать, что это за народ и как к нему относиться?
А хозяин и сам толком не знал.
Гости принесли из машины карту здешних мест, спросили:
— Пойдет?
— Пойдет. Подъезжайте завтра. Я вечером погляжу, покумекаю.
Приезжие уже садились в машину, когда молодой пастух окликнул их.
— Если будете копать,— сказал он.— И вдруг… всякое бывает… Вдруг наткнетесь, по документам: Иван Атарщиков.
— Кто такой?
— Я…— засмеялся пастух.
Его не поняли. И он объяснил:
— Иван Атарщиков — мой прадед, воевал и пропал без вести здесь, в этих краях, в районе речки Голубой. Так в извещении было написано. А меня уж по нему назвали.
— Теперь ясно. До встречи.
Машина развернулась и покатила той же дорогой, откуда приехала. Молодой пастух, недолго поглядев ей вослед, принялся за дела привычные.
Рыжего кобчика он угостил припасенной ящеркой. Птица, усевшись на крышу вагончика, принялась терзать добычу.
Скотий гурт, как и положено в час полуденный, неторопливо утолял жажду, забредая в воду, чтобы потом отдохнуть в просторной сени старых береговых осокорей.
Пастух, а с ним, конечно же, и легконогий Тузик обошли гурт, обглядели, сбивая скотину теснее к речке, к тени.
— А ты всех собрал? Наверху не остались?— спросил хозяин у Тузика.
Приплясывая на месте, Тузик коротко взвизгнул, словно негодуя.
— Все понял. Молодец. Отдохни. Но не уходи, будь при скотине. Здесь!
Собака улеглась тут же в тени, подремывая, но настороже.
Пастух продолжил обряд ежедневный, привычный.
Утром он вставал рано, на сером рассвете. Скотина лучше пасется в прохладе, по утреннему холодку, когда не досаждает жара, мошка да овод. Он рано вставал, когда есть еще не хотелось, и потому успевал проголодаться к поре обеденной.
В невеликом дощатом вагончике стояли газовая плита, холодильник. Спасибо, что электролиния шла через бывший хутор. С холодильником — горя нет: там наготовлено, жена старалась. Лишь разогрей да ешь.
Час обеденный — обряд привычный: поесть, помыть посуду да еще и вздремнуть недолго, пока скотина отдыхает на стойле. И нынче все катилось своим чередом. Но из головы не уходило недавнее. Приезжие люди, их заботы не больно понятные: мыкаться по степи, искать покойников. Молодой пастух, конечно, слыхал про такие дела: по телевизору говорили, да и свое было, рядом. На кургане Хорошем, недалеко от станицы, тоже копали, потом памятник открывали, с музыкой да салютом. И где-то еще, вроде в Козловской балке, чуть ли не целый самолет из земли вытащили.
А что до погибших… Ему ли не знать? Окрестив, его нарекли Иваном по прадеду, который в сорок первом ушел на войну, а год спустя «пропал без вести» именно здесь, в родной степи, где-то возле дома и возле Дона. «В районе речки Голубой…»
Вот она, эта речка, и ныне течет: от хутора Большого Голубинского и даже, считай, от Венцов до Набатовского — тридцать с лишним верст. А округа — вовсе немереная. В сорок втором году здесь людей полегло — счету нет.
Учитель истории Прокофий Семенович о Сталинградской битве, а тем более о сраженьях в своих краях знал все досконально и ученикам втолковывал: «Историю родных мест надо знать. Франция да Испания — они далеко. А это — наше, родное…» Ходили с учителем в походы «по местам боев». Музей был в школе, все — про войну. Он в комнате не умещался. В школьном дворе стояли зенитка, пушка-сорокапятка, минометы.
И теперь многое помнилось из тех школьных лет: «Донской плацдарм», «излучина Дона», «танковое сражение под Калачом». У немецкого фельдмаршала Паулюса был штаб в станице… Наши 64-я, 62-я, 21-я армии. Танковые — 1-я да 4-я. Три наши дивизии попали в окружение. Тридцать тысяч… А вырвалось лишь пятьсот. Сколько людей полегло… Все это — здесь.
Дед рассказывал, как мальчишками после войны искали и тащили они что ни попадя. Танков здесь было подбитых, самолетов, орудий — поля и поля, уставленные тяжким железом. Мальчишки искали и находили бинокли, зажигалки, фотоаппараты, полевые сумки, портсигары, галеты, консервы, курево. Искали… А порой находили гибель свою или калечились при взрывах.
Это было давно. Потом битую технику увозили и увозили. Но многое осталось: снаряды, мины, оружие.
Отец рассказывал, как в детстве они баловались. Тоже — винтовки, гранаты, мины… Целые блиндажи раскапывали. И тоже калечились, гибли при взрывах. Детвора, любопытные, тем более — мальчишки…
Даже сейчас, по весне и летом, после хороших дождей, когда размывает косогоры да балки, даже теперь можно сыскать снаряды, и мины, и чего хочешь — любую беду.
Час да другой обеденные проходили быстро. Молодой пастух поесть успевал, а потом даже заснуть: крепко, обморочно, но недолго.
Пора было поднимать скотину с дневного стойла и уводить на пастьбу, теперь уже до ночи.
Осеннее солнце, теплым желтым колобом за полдень перевалив, теперь будет клониться к заречным обрывистым холмам. Скотий гурт через речку, бродом и ископыченной разбитой плотиной перебирается к попасу вечернему. Здесь за ним легче глядеть, на просторных, когда-то заливных лугах. Тут много корму. А могучие тушистые абердины — скотина мудрая, суеты не любит. Лобастая голова — к земле; кормится и кормится. И голоса от нее не услышишь. Разве что глупый телок потеряет мамку, зовет ее и зовет, пока она не ответит низким, утробным мыком, который слышен далеко, тем более что рядом речка, холмы да курганы, среди которых долго гуляет степное эхо.
Молодой пастух, оставив в низине стадо свое, поднялся взгорьем, остановясь вполкургана, откуда как на ладони был виден неторопливо пасущийся гурт. Речка в зеленом плену деревьев, кустов, прихотливо виляя, уходила вдаль к отсюда невидимому хутору Большая Голубая. До него скакать и скакать. Малая речка, узкая лента зеленых кущ лежали в распахе просторной холмистой долины. От края земли до края.
Люди, даже свои, станичные, сочувствуя пастушьей судьбе, порой говорили: «Там с ума сойдешь… Один и один, всю неделю». Домашние, мать с отцом, жена, заводили разговор о мобильном телефоне, который теперь у многих.
Но все это были лишь разговоры людей сторонних. Со скотиной особо не заскучаешь. Гляди и гляди… Отстанет ли, убредет в какую-нибудь балочку ли, яругу. Волков развелось… Бывает, и днем шалят. Теленок отобьется — зарежут. А люди порой не лучше волков. Им не теленок нужен, а что посерьезней. Тем более, что вокруг теперь не хутора, но аулы. Осиновский да Осинов Лог, Малый Набатов да Большой… Некогда дремать.
Но нынче, в пору осеннюю, когда позади докучная для скотины мошка да овод, можно было собирать шиповник. По отрожьям, на выходе яруг да балок, багровели и пламенели его колючие кусты. Городские, приезжие покупали шиповник по сто рублей за ведро. Если не лениться, то за день меж делом три-четыре ведра наберешь. Копейка — не лишняя. В колхозе платили две да две с половиной тысячи. Зимою меньше. А жить надо.
Сегодня нашлась еще одна забота: карта, оставленная приезжими. В ней было все обозначено: прошлое, нынешнее. Пол. ст., арт., МТФ, кош.— это о прошлом. Вместо полевых станов, кошар да молочно-товарных ферм теперь лишь руины; артезианских колодцев тоже нет. Но осталась речка Голубая — тонкой ниточкой, балки, провалы, урочища: Таловая, Муковнина, Церковный провал да Теплое — вот оно, рядом и чуть подалее. Сено косить — в Найденове, рыбачить — на Губных, в Лубниках, грибы собирать — на Картулях. Все здесь: детство, молодость, нынешняя жизнь.
Но теперь нужно припомнить другое. Это было… Лет десять назад или поменее?.. Он тогда в школе учился, в седьмом ли, в восьмом классе. Жили и жили: отец, мать, младший брат и сестренка. И бабушка Анеша. Так звали ее по-домашнему. По-настоящему — Анна. Это отцу она — бабушка, а ребятам — уже прабабушка. Но… баба Анеша да баба Анеша. Невеликая ростом, сухонькая, но бегучая. Она всех в свой черед вырастила и вынянчила: детей, потом внуков да правнуков. Жила с семьей внука, но отдельно, в глинобитной хатке-мазанке, которую когда-то слепила своими руками после войны. Приземистая хатка, с малыми окошками и большой русской печью. Там ей было спокойнее. Когда захочет, приляжет. Все же возраст: подпирало под восемьдесят. А сколько в тех годах всего было… В службе военной, даже в пору теперешнюю, один год за два считают, а то и за три. А у бабы Анеши?.. Осталась в войну вдовой с тремя малыми детьми. И даже пенсию за мужа ей не платили, потому что — «без вести пропавший». Осталась без мужа и без дома, который забрала война. Слепила своими руками хатенку, в колхозе работала, кормилась как все: просторным огородом, коровой да тощими колхозными трудоднями.
О своем муже баба Анеша, казалось, уже забыла, даже в молитве вечерней не поминала его, оттого что твердо не знала, мертвый он или, быть может, живой. Были ведь случаи… Плен, потом заграница, а потом вдруг весть из далекой иной жизни.
В молитвах не поминала. Но хранила в душе робкую память. Только для себя. И, может быть, оттого, что ноша неразделенная даже с Богом для души тяжелей и горше, оттого, наверное, почуяв недалекий уже жизни конец, баба Анеша словно очнулась. Она стала видеть покойного мужа во сне, говорила близким:
— Ваня мне снится. Сроду не снился, а теперь всякую ночь его вижу. Приходит, просит…
— Чего просит?— спрашивали ее.
— Не знаю. Молчит. А по глазам вижу, что просит. И руки вот так протягает ко мне. И слезы… явственно вижу, слезы текут.
Баба Анеша мучилась долго и лишь потом догадалась:
— Это он просит креста.
— Какого креста?
— Чтобы отпели и крест поставили. Он ведь в земле лежит, а над ним креста нет. Это — нехорошо. Это — беда бедовая. Все наши родненькие на кладбище, под крестиками лежат. Это — Божий приют. А он словно во грехе. Вот и просит.
— Но где этот крест поставить?— спрашивали ее.— Давай поставим на кладбище.
— Так не положено.
— А по-другому как?
Баба Анеша ответить не могла, плакала и лишь потом доумилась:
— Я пойду… Обойду все места, как в бумажке написано… возля речки Голубой. У старых людей поспрошаю. Да и сама — не с телеги упала. Где бои шли и где много людей побило: на Танковом, на Солдатском поле, Набатовские колодезя. Крючьями их сама тягала… Жара… Раздуются… Кого крючьями в окоп да воронку от бомбы, а кого — на месте, лишь прикопаешь. Все ходили: бабы, ребятишки… А они один возля другого лежат… кабы в ту пору знать… Но я обойду все места. На Провалах, на Красных ярах, у Майора — все обойду. Помолюся, какие смогу, поставлю крестики. И он успокоится. Я пойду…— убеждала она детей.— Все места нашенские, знамые. Пахали там, и скотину пасли, и жили на токах, в гуртах… На Фомин-колодце, на Теплом, на Ростоши, на Крутоярщине — все наши поля, колхозные, вся жизнь. Костылик возьму и пойду. Пока в силах, надо идти, надо помочь ему… Такая страсть… Руки протягает, глядит… Ка-азня-а-а…— и начинала плакать.
Бабу Анешу все родные любили. Но отпускать ее одну, конечно, грех. Старый человек…
Подумали, погадали и снарядили телегу с лошадью, а в попутчики дали подростка, правнука Ваню, чтобы глядел за бабкой.
Наложили в телегу сенца, постелили полсть, не забыли и харчи да котелок, чтобы полевской кулеш варить. Словом, уважили старого человека.
Для мальчика такая поездка была, конечно же, в радость. Телега, лошадь, новые места, теплый август. Ехали и ехали. Сначала по Гетману — старинному шляху, потом свернули с него: Калинов колодец, Осипов, могучий прозрачный водопад Фомина-колодца, под которым можно стоять в рост, если удержишься, если водой тебя не собьет.
А ночевать в степи, на воле не было нужды. Еще живы были окрестные хутора и старые люди — сверстницы бабы Анеши: баба Дора, старая Праскуня, согнутая коромыслом Махора… У всех была одна судьба: война, горькое вдовство, малая детвора на руках, голод, тяжкая работа в колхозе. Словом, бабья доля. Зоричев хутор да Осинов хутор, Каменный брод да Липов лог… Шумливая Солнечиха, тихая Паранечка… Нынче они так редко видались и потому до слез были рады встрече.
Заботу старой Анеши они понимали с полслова, отзываясь на нее сердцем и памятью.
— Август месяц, как ныне, самая жара. Немцы пришли, попервах своих хоронили. Два кладбища. Одно — за школой, другое — в куту. Потом велели наших прибрать. А там — страсть… Они мостом лежат, побитые. Окопы, траншеи от Куприяновой балки и на Тонкое, на Колодезя, на Белобочку… Там бои шли страшенные. Крючком зацепишь и тянешь в траншею. Воронки были от бомб. Туда много помещалось. А он уж распух, гора горою, все полопалось, течет из него, и крючком не ухватишь. На месте землей прикидаешь — и слава Богу. Кто он и чей, Господи прости…
— А в зиму, когда прогнали немцев, и вовсе… И немцы лежат, и наши. А земля чугунелая.
— На Малой Голубой закапывали. Траншея была большучая. Клали рядами. А чаканом перекладали, чтоб землей глаза не засыпало. Вот и все. Наших, и немцев, и румынов.
— У нас приказывали документы сбирать. Красноармейская книжка или шпулька такая черненькая, тоже в малом таком кармашке, в штанах. Сбирали. В сельсовете цельный угол наклали. А Самуил Евсеевич, Господи прости, ими печку растапливал. Считай, все пожег. Потом кинулись…
— Весной пахали, так пройдем, всех постянем на край, на межу, прикопаем…
— По весне они уж и поклеванные, обгрызенные. Карги где кружат, бригадир посылает: бабы, идите, хучь прикопайте.
— Да разве всех прикопаешь… На Сухой Голубой сено косили, в Сибирьковой балке. Одни кости да черепа.
— А на Красной Дубровке…
— А на Шахане…
— По всему степу… Хлеб убирали, на поле так явственно видно, где упокойные. На этом месте такой хлеб могучий стоит. И колос — в локоть.
Вспоминали. Искали и находили места. Солдатское поле, которое долго не пахалось, там — снаряды да мины да сплошные кости. Танковое поле… Набатовские колодезя… Бывший лагерь военнопленных, там наших солдат перемерло несчитано.
Вспоминали… Ладили и ставили деревянные кресты. Пели:
— Упокой, Господи, и помилуй рабов Твоих Ивана, Михаила, Митрофана, Николая, Федора… и всех православных и прости им все прегрешения, вольные и невольные, даруй им…
Потом поминали. И вспоминали прошлое. Через полвека. А так явственно, словно было вчера. И так горько.
— Какую мы игу несли: голод и холод.
— В балке норы повырыли, хоронились. Чакану настелили и жили там.
— Мы на леваде выкопали окоп и плетнем прикрыли. Спасались. Шурка оттуда не вылезал. Как зачнут стрелять да бомбить, плачет: мамка, боюся…
— Зима, как сейчас помню, ранняя была. Ноябрь месяц, а холодно. Из хаты нас сразу выгнали, мы — в кухню. А другие немцы пришли и из кухни выгнали: «Шнель, шнель!..» Мы — в чулан. А из чулана румыны прогнали, их немцы не пускали к себе. Мы в курник, с ребятишками, с мамой…
— Наш хутор дочиста весь скоренили: разобрали дома и увезли, переправу делали через речку для машин, для танков. Вот и остались под белым небом. Казня…
— Детвора… Как галчата, рты разевают: мамочка, исть хотим. Попервах не обвыклись. У нас ведь коровка была, куры, хлеб — в закроме, мука. Первые немцы пришли — лишь: «Матка, млеко, яйки…» А уж следом понаехали на конях, фуры. И все — под гребло. Скотину забрали. Тут же — бойню устроили, порезали и увезли. Кур переловили, зернецо выгребли. И что хоронили по ямам, на черный день, не уберегли. Бендеры такие дотошные, они у немцев были при лошадях. Все сыщут. Нашенский штык — он тонкий — на палке. Шарят по сараям, на базах. Тычут в землю. Все понаходили, все — под гребло. Хлеб — до зернышка, и тряпками не погребовали. Последние кофтенки да юбчонки забрали. Одно слово — бендеры. И перины какие были, подушки, одеялки — тоже увезли. Говорят, в окопы. Там вроде холодно. А нам — тепло. А мы потом по степи, по балкам ходили, искали любую тряпку. Плащ-палатки: юбки шили из них, они как жесть гремят. Парашюты находили. Тоже в дело. Подрывались. Феня Арчакова без ноги осталась. А жить надо… Для детей…
— Галчаты… Рты разевают: мамка, дай… А чего я вам дам, мои жалкие? Ни одной коровенки на хуторе, ни овечки, ни курицы. Попервах конину варили, мерзлую. Кавалерия здесь была, побило коней.
— А потом шкуры варили. Мелочко порежешь и варишь. Вроде холодец.
— А без хлебного как?
— Ходили за колосом. Пшеница поосыпалась, она не держит зерна. А у ячменя колос сломится, клюнет в землю, а в нем — зернецо. И метелка у проса… Вот и сбираем в сумки, в мешки. Дома шелушим да оббиваем, сушим да в ступе толкем. Вот и хлебное, к желудям добавка. Потом снег упал. А надо идти. Лазишь и лазишь в снегу. А обувка — чирики да поголенки. Намокнешь, замерзнешь, думаешь: тута лечь да помереть. Лишь детей жалко. До самой весны ходили, пока не открылись бараки.
— Чаканом еще спасались. Зимой на озерах разгребаем снег, из грязи корни выкапываем. Потом их сушим, толкем…
— Слава богу, желуди в те годы родились. Джуреки из них — черные, сухие, в горле стоят.
— В зиму — так тяжело: пухли и помирали. Потом полегче. Лебеда пойдет, щавель, скорода, козелик…
— От козелика тоже помирали. Его много нельзя.
— Ракуши из речки. Суслики…
— По теплому мама аж в Камышин пеше ходила, козу привела. Там немца не было. Ребятишкам… Хоть чуток молока.
— Я, грешная, бывало, слезьми закричу и своего упрекаю, покойного: погиб в минуту — и все. Лежишь, горя не знаешь. А меня оставил на казню…
— Грешили, грешили… Господи, прости и помилуй рабов Твоих…
Так и двигались от хутора к хутору. Осинов, Зоричев, Теплый, Евлампиев… Танковое да Солдатское поле, Церковный провал, Чернозубов — от места к месту, объезжая округу. И уже выбирались к Дону. А там и станица была недалеко, а значит, конец пути. Поняв это, мальчик попросил:
— Баба Анеша, давай хоть один разок, напоследок, в степи заночуем. Кашу польскую сварим.
Когда собирались из дома, взяли полевской котел и припасы, чтобы кулеш варить. Мальчик любил эту нехитрую еду: толченое сало, толченый лук да пшено, сваренное на вольном огне. Порой на сенокосе да на рыбалке им баловались. Пахучее хлебово с дымком — польская каша.
— Давай заночуем,— легко согласилась старая женщина, чтобы мальчонку порадовать и провести последнюю ночь возле покойного мужа, который был где-то рядом. Она это сердцем чуяла.
Это был вечер последний в пути, в степи. Остановились у речки, возле Красного яра. Лошадку выпрягли, спутали, пустили пастись. Сварили кулеш и нахлебались досыта.
Солнце опустилось за холмы. От речки и займища потянуло свежестью, но в ясном вечернем небе было светло. Где-то далеко гудел трактор, а потом смолк. Мальчик лежал возле костра и глядел в небо. Летучие мыши раз за разом бесшумно промелькивали над ним. Беззвучный невидимый самолет чертил ровную розовую полосу в далеком небе.
Баба Анеша, собираясь ко сну, стала творить долгую молитву.
Понемногу смеркалось. Обрезалась округа. В сумерках размывалась степная даль; курганы, увалы, балки словно отступали во тьму, оставляя людям лишь невеликий круг земли с розовым отсветом костра затухающего.
Старая женщина читала молитву все тише и тише и вдруг запнулась. От высоких обрывистых яров, из гущины приречных кустов, от взгорья наползали, клубясь, ночные тени. В неверном угасающем свете вдруг почудилось женщине странное. Ей стало казаться, что от земли поднимается что-то живое, но зыбкое. Словно кто-то встает и манит ее, подзывает. Поддавшись обману, она пошла навстречу в сумеречную тьму и, уже узнавая, стала звать:
— Ва-аня… Ва-аня…
Мальчик ничего не понял. Баба Анеша была почти рядом, но уходила, но звала, но искала его вовсе в другой стороне. Она удалялась все с тем же зовом ли, стоном:
— Ва-аня… Ва-аня…
Мальчик вскочил на ноги:
— Баба?.. Ты чего?.. Я — здесь, я не уходил никуда.
Но баба Анеша, правнука не слыша, глядела и видела иное и все звала, уходя от костра:
— Ва-аня…
Мальчику стало страшно, но он догнал бабушку:
— Баба… Баба… чего ты? Я здесь. А там никого нет,— говорил он, трогая ее за плечо, а потом обнимая.— Я здесь. Я никуда не ушел. А там никого… нет…— закончил он обрывистым шепотом, поняв, что баба Анеша ищет и зовет вовсе не его.
— Нету, нету…— ответила старая женщина, в память придя от тепла человечьего.— Испугала тебя, не боись… это я — так…— Теперь уже она обнимала мальчика, чуя дрожь и понимая вину свою.
Ночевали в телеге, на сене, накрывшись полстью. Заснули не сразу и спали плохо и потому утром поднялись поздно. Чаю напились, помаленьку поехали, выбираясь из просторной речной долины и лишь к полудню одолев долгий вилючий подъем. Вчерашнее не вспоминали, но оно не ушло, оставаясь в душе.
Впереди, и уже недалеко, была станица, пути конец. Стоял солнечный жаркий августовский день на исходе лета. Над сухой каменистой землей струился горячий воздух. Ленивые вихри порою кружили медленно и пропадали. Слепящие меловые и желтой охры глинистые обрывы, рыжие солончаковые плеши, накатанные до блеска дорожные колеи, невспаханные колючие пожни, выгоревшая от летнего зноя трава.
Волна за волной, за валом вал катилось низом, долиной жаркое степное марево. Казалось, что там, вдали, на Солдатском, на Танковом поле, зыбятся пламя и клочкастый дым и что-то живое — люди ли, призраки — движутся, падают и снова встают от земли, за валом — вал, за волной — волна, пропадая в огне и дыму.
Степное марево ли, виденье подступало ближе, и вот уже слышен был нестройный хор людских голосов — крики ли, вопли, гул моторов. Становилось страшно. Но это был просто жаркий день, тряская телега, дремота, степное марево, тяжкий ли морок, виденье после бессонной ночи.
Это было давно, когда он учился в школе, в шестом ли, седьмом классе. Потом бабушка Анеша умерла.
Она умирала не больно ладно: стала забываться, прятала по углам и в постели хлеба куски, складывала сухари в котомку. «Детишкам…— оправдывалась.— Да, да, да… Голодные есть детишки,— уверяла она.— На лебеде сидят, на ракушах. А им хлебного хочется. От желудей у них зубки черные…— И вовсе память теряла: — Таечке… Она от хлебного оздоровеет. Нехай пососет сухарика…»
Таечка, младшая дочь бабы Анеши, умерла в голодный военный год. На кресте, над могилкой, так и было написано: «Таечка».
А теперь, лишь взглянув на карту, приезжими людьми оставленную, и увидев: курган Красный, провал Солдатский, Венцы, хутор Осиновский да урочище Тепленькое…— сразу все вспомнил. Лошадка, телега, теплый август, бабушка Анеша, неспешная езда от хутора к хутору, встречи, разговоры, стариковские слезы, деревянные кресты, которые ставили порою среди чистого поля. И последнее ночевье, здесь, возле Красного яра.
Все это вспоминалось, но теперь, в годы взрослые, виделось уже по-другому.
Молчаливая осенняя степь лежала вокруг на многие версты, на десятки верст. Самое близкое людское жилье: Сиротинская станица да Голубинская, Верхняя Бузиновка — тридцать да сорок километров в одну сторону да в другую. А между ними лишь этот гурт да два-три чеченских — и все. Дикое поле.
Воевали… Пятьдесят ли, сто тысяч солдат здесь погибло да умерло, раненных, пленных по лагерям… Наших и немцев. Какие теперь искать могилы и чего их искать, когда всякий раз после хорошего ливня, а уж по весне тем более, на каждом шагу кровенеет стылая ржа осколков, рваного железа, снарядов, гранат и мин, пролежавших в земле полвека, но еще гожих. Людские кости.
Пятьдесят ли, сто тысяч людей… Это невозможно представить. Людские реки и реки. Сражались и убивали друг друга. И вот она — пустая земля, без людей.
Тысячи, сотни тысяч погибших представить было нельзя. А одного человека? Прадеда, тоже Ивана.
Где-то здесь он погиб, оставив навсегда жену молодую и ребятишек. А может, погиб не сразу. Было много раненых. Старые люди вспоминали, что раненые возле родников сбивались… Набатовские колодезя… Белый родник… Надеялись выжить. А у прадеда — тем более — рядом, рукой подать, дом родной, жена, ребятишки.
В долгом пастушьем дне случалась пора безвременья. Чаще она подступала вечером, когда солнце клонилось к закату. Появлялось какое-то томленье в душе, и невольно, сами собой глядели глаза в сторону далекой станицы, в сторону дома, словно хотели увидеть через много верст людей дорогих.
Так бывало в пастушьей жизни. Но эти минуты печали не были горькими, потому что уже недалеко, совсем рядом была встреча. Целую неделю вместе. А потом можно перетерпеть. А потом и вовсе зима.
Теперь, в этот вечерний час, думалось об ином. Прадед Иван, такой же молодой, с такой же душою и сердцем; гимнастерка, пилотка да сапоги. Эта же степь… Но война.
Молодому пастуху, слава богу, воевать не пришлось. Но армию отслужил, были ученья с танками, вертолетами. И конечно, при форме: сапоги, гимнастерка. Оружие и окопы. Взрывы, стрельба. Но все это, конечно, игра. У прадеда — страшная быль. И смерть, которая навсегда разлучает со всем, что дорого.
Чуял ли он смерть свою, понимал?.. Конечно, понимал!.. Такая страсть вокруг, железная злая сила. А что он чуял и что он думал, если успел подумать… Господи…
Молодому пастуху сделалось страшно от одной лишь нелепой мысли, что это он… что именно он может сейчас умереть и ничего, и никого не увидеть больше… И — всему конец. Жизни и белому свету.
Не теплый степной вей, а стылый ветер ударил, остановив дыханье.
Мудрая старая собака Жулька, неладное почуяв, с визгом кинулась к хозяину, прыгнула на него и, упираясь в грудь передними лапами, пыталась достать лицо и лизнуть. Тузик, немало удивленный легкомыслием матери, тут же к ней присоединился, боясь опоздать к веселой игре. А он-то лапами хозяину до плеч доставал. Повизгивая, лизал горячим розовым языком молодого хозяина.
Молодой пастух с облегченьем и благодарностью принял собачью ласку, возвращаясь в нынешний день и свою молодую жизнь, в которой все было: малая дочка, жена, отец, мать, двоюродные братья — родни полстаницы, а еще — эта вот золотистая, в уходящем солнце, просторная степь и небо вечереющее, сегодняшний день, и завтрашний, и тот, который придет потом; они будут длиться, дни и годы, им не видно конца и края. Не положено видеть в двадцать с немногим лет.
Радость полыхнула в крови. Ее было трудно сдержать. Да и зачем…
Молодой пастух, озоруя, принялся играть с Тузиком, убегая от него, прячась в кустах и неожиданно нападая. Человечий смех мешался с собачьим заливистым лаем. А старая Жулька прилегла отдохнуть. Она была мудрой собакой.
Вечерние часы на летнем стойле, у дощатого вагончика возле речки пролетали быстро. Напоить и загнать скотину на баз; кашу собакам сварить и накормить их; свои харчи они заслужили. Проверить, пока светло, невеликие сетчонку да вентери. В глубоких заводях водилась крупная плотва, красноперка, окунь да щуки. Проверить снасти и посолить рыбу. От нее тоже пусть невеликие, но деньги для жизни.
А потом уж о себе думать: обмыться ли, искупаться после долгого дня и поужинать. Сентябрь — дело осеннее, темнеет скоро. А когда над вагончиком вспыхивает лампа под жестяным колпаком, тьма вечерняя разом полоняет округу.
В такую пору ужинать лучше возле костра, а не в душном вагончике. Охапка сухой травы и старая телогрейка на земле; сковородка с жарковьем да закипающий чайник на закопченной, сложенной из камней печурке. Запах еды, травного горячего настоя. Острый дух скотий да степной, который уже по привычке не чуешь.
Это люди приезжие, гости, нюхают шумно и хвалят:
— Как хорошо. Какой воздух… Какой запах… Какое место красивое…
Обычно молодой пастух смеялся и говорил:
— Не знаю. Не нюхаем и не видим. Не до этого, надо глядеть за скотиной.
Говорил он правду, но, конечно, не всю. Пастушье дело: скотина, степь, собаки, близкая речка — было по душе ему. Никто не понукает, все делаешь сам. Конечно, хотелось бы жить рядом с семьей. Но мало ли чего хочется. Разве лучше работать в отъезде: на вахтах, на железной дороге, в Москве, на стройках и даже на Севере. Там по месяцу, по два семьи не видишь. Колхоз почти развалился, работы нет. Вот и приходится по-всякому.
Конечно, лучше на людях. Когда приезжали порой рыбачить или сено косили родные, жизнь текла веселей. А уж с женою тем более.
После свадьбы целое лето жена с ним подолгу жила. Готовила еду, прибиралась в вагончике. Как хорошо было, как сладко по утрам просыпаться и чуять, что не один. И вечерами у костра ужинать. Любиться по-молодому, яростно и счастливо, даже в белом дне, среди пахучих, солнцем настоянных трав. Славное было время.
Угревшись, он заснул тут же, возле костра. Потом, уже ночью, перешел в вагончик.
А утром, на день прежде срока, приехал сменщик. Так бывало при домашних нуждах: днем раньше, днем позже.
Потом, в самом начале дороги, оказался он возле Красных яров, нехотя, каким-то нароком. Место памятное, с бабой Анешой когда-то здесь крест ставили. А увидел не крест, но горький разор: копаная земля, человечьи кости да черепа. А ругать нужно было лишь самого себя.
В станице, даже не заезжая домой, он подрулил напрямую к двору старого учителя. Прокофий Семенович снаряжался за шиповником ехать. Потрепанный «Москвичок» стоял наготове.
— Каждый день с бабкой ездим,— бодро похвалился учитель.— Физкультура. И копеечка,— добавил он тише.— С нашими пенсиями…
Рассказу своего ученика Прокофий Семенович не больно удивился, лишь переспросил:
— Возле Красных яров?— И попенял: — Ваня, Ваня… не надо было про кресты говорить. Это — волки. Они рыщут и рыщут. А на Красных ярах наши схоронены. Это шакалье соображает. Вскрыли сверху, увидели: наши лежат, поживиться нечем. Это у немцев — золотые зубы да кольца, награды, воинские знаки — значит, добыча. А еще — медальоны, для опознания. За них из Германии большие деньги платят. Валютой… За эту валюту они всех мертвых поднимут. Ольге надо сказать, в сельсовете. Я подъеду, настропалю ее. Пусть сообщит в военкомат и в милицию. Пусть их проверят. Это — шакалье, со всех сторон лезут. Про кресты не нужно было говорить.
Старый учитель вздыхал, а молодой его собеседник вспомнил давнее:
— Когда-то вы говорили в школе: поставим памятники из бронзы, из мрамора на Солдатском поле, на Танковом.
— Мечтали… Но кто же знал, что доживем до такого? Теперь быстрей бы те деревянные кресты рухнули. Чтобы не было знаку.
На том разговор и кончили. Последние слова учителя молодой пастух понял по-своему — в тот же день, но не сразу. А когда понял, то оседлал мотоцикл и, никому не говоря, поехал тем давним путем, по которому когда-то с бабушкой Анешей почти неделю тряслись в телеге, на лошади. Нынче, на мотоцикле, все делалось быстро и скоро. Места памятные, ныне пустынные: Ростошь, Осинов лог…
Ехал и находил кресты, что с бабой Анешей ставили. Потемневшие, у земли, в подножье, траченные временем, они еще стояли: на Набатовских колодезях, на Танковом поле, восьмиконечные, размашистые, видные издалека.
Выламывал их из сухой земли и оставлял где-либо в терновой гущине, в балке. Прятал и ехал дальше. От одного места к другому: Белый родник, Танковое… А когда закончил свои труды, почуял, что ему нехорошо: творил он все же неладное. Не по себе стало: вроде томилось сердце.
«Господи, прости…» — проговорил он тихо, прощенья прося не у Бога, но у бабушки Анеши, которую долго знал, любил, жалел и сейчас видел ее словно воочью. А еще — у покойного прадеда, который погиб здесь и которого он даже представить не мог, но тоже жалел. Прощенья у них просил и у других убиенных, которые здесь лежат.
Что им памятники, что им венки, что им громкие слова, когда главное отнято — человеческая жизнь.
Пусть лежат, пусть покоятся. Даже деревянный крест им не нужен. Он завтра упадет — и нет его. Останется лишь трава да вот эта старая узловатая груша, у которой век долог и прочен. И через сто лет она все так же будет молодеть по весне, нежно зеленея, и зацветет в свою пору, и прилетят к ней гудливые пчелы, а по осени лягут на землю желтые плоды. Степной коршун будет порою дремать на обсохшей маковке.
А потом и груша умрет. Останутся лишь степные курганы да небо над ними.
День подошел к концу. Большое, но уже остылое желтое солнце медленно утопало в далеких холмах.
Последним лучом или его отраженьем в просторном небе восстал над землей алый высокий крест. Он словно разом вознесся вполнеба. Поднялся и ярко светил над Солдатским полем, над Танковым, над Набатовскими колодезями, над Ростошью, над речкой Голубой, над могилами безымянными и над станичным кладбищем, где покоились рядом старая Анеша и маленькая Таечка, над хуторами близкими и далекими — один для всех: для мертвых и для живых.
2005 год
«Новый Мир», №8
Родительская суббота
повествование в рассказах
Конец старого дома
Весенним солнечным днем, в поселке, шел я домой. От асфальта повернул влево, на свою улицу, и остановился, словно впервые увидев ее. Цвели абрикосовые деревья.
Наш поселок, наша улица всегда были в зелени: развесистые клены, высокие тополя, тутовник да вязы. А в последнее время их помаленьку заменяют абрикосами.
И вот теперь я остановился, гляжу: улица моя, словно сказка, в пенистом бело-розовом цвете. Все ушло: дома, сараи, заборы — все отступило. Осталась лишь белым цветом одетая улица, до самого края, где молочно-розовая дымка сомкнулась, отсвечивая мягким серебром. Там — мой старый, родной мой дом. А это моя улица.
В отъезде, в разлуке помнится все хорошее. И видится, словно снится, но это вовсе не сон, а майское утро, солнечное, теплое. Вокруг свежая зелень травы, деревьев, кустов смородины в золотистом цветении. У забора вздымается к небу белое, пахучее облако цветущей акации. Пчелы гудят. Нежно воркуют горлицы, просвистит и смолкнет синица. Это тоже не сказка, но лишь обычное весеннее утро возле старого дома. Которого теперь уже нет. Хотя он на том же месте: Пролетарская улица, номер двадцать пять.
Старый дом наш чуть не сгорел прошлой осенью. Такой красивый получился бы жизни конец на сороковой день после смерти мамы — последней хозяйки дома. На деревянном столике, в красном углу, перед иконами, я зажег свечку и, забыв о ней, уехал, сначала на кладбище, а потом на поминки, спеша.
Вспомнил о свечке лишь к вечеру. Приехал, поглядел: стоит дом. Свеча, догорев, потухла, не тронув деревянной столешницы. Видно, не судьба.
В последние годы, зимней порой, на городской ли квартире или в поселке, мама ждала весны, повторяя:
— Я хочу пожить в нашем домике… Я еще поживу в нем. Там так хорошо: цветы, зелень, воздух…
Он часто ей снился, наш старый дом. Утром встанет, рассказывает: «Видела дом наш. Нюру и Петю, Славочку. Всех видела. Так хорошо поговорили».
Подступало время летнее. Из города уезжали. Но старый дом тоже старая мать моя навещала лишь изредка. Уже не было сил.
Но разговоры про дом всякий день.
— Вы цветы посадили? Обязательно посадите. А возле кухни астры взойдут и петуньи. Смотрите там не копайте. Я приеду, осторожненько прополю.
— Посадите картошку. Хоть немного. Пару ведерок. Я буду поливать. Своя картошечка такая вкусная.
— А помидоры посадили? Обязательно посадите. В прошлом году Петя с женой посадили. Такие были сладкие. Я их каждый день ела.
— Огурчики обязательно… Свои огурчики…
Разговоров много. Каждый день. И сборы долгие, как на свидание.
— А какое мне платье надеть? А кофточку? А платок?— И — обязательное: — Подуши меня. Вот этими духами, хорошими.
Но потом вдруг передумает:
— Нет. Не поеду. Лучше полежу.
Но все же иногда ездила.
Приедем. Из машины выберется, бредет с батожком.
— Я сама, сама… Я все погляжу. Свою комнату погляжу. Яблоньку… Как там яблочки? Не пропали?..
Идет помаленьку, старый одуванчик… Одни лишь легкие косточки. Два шага шагнет и просит: «Поставь мне кресло».
Полотняное раскладное кресло ставится в тень ли, на солнечный припек, смотря по погоде.
Посидит, подремлет и заторопится:
— Поехали, поехали, хватит…
Я ворчу:
— Чего тогда приезжали, гоняли машину, собирались полдня?
Мне в ответ обещание:
— Вот когда я поправлюсь, я поживу здесь. А теперь поехали…
Все хорошо: зелень, чистый воздух, легкий ветер, солнечное ласковое тепло, сладкая дрема, но родных людей, с кем жила в этом доме и рядом,— их уже нет. А без них — пустыня.
Мама поняла это не вдруг, прежде порою сердилась:
— Почему ко мне никто не идет? Пойдите позовите…
— Кого позвать?..— отвечал я со вздохом и добавлял про себя: «Не дозовешься. Они далеко».
Конец нашего старого дома я осознал прежде матери, когда нас обокрали, два ли, три года назад.
Для давних моих знакомых, земляков, случай этот — словно облегчение.
— Мы тебе говорили…
— Мы тебя сто раз упреждали…
— Мы…
И вправду для них — облегчение. Целых десять лет, после смерти тети Нюры, никто не зимует в нашем старом доме. Лето кончается, заперли и уехали до весны.
— Как вы бросаете, не боитесь?
— Да разве нынче можно?!
— Упрут. Все подчистую.
Год за годом такое слушали. Но приходили холода, дом на замок — и поехали.
Весной возвращались — все, слава богу, на месте.
Знакомые удивлялись, а я — нисколько. Во-первых, в нашем доме поживиться особо нечем. А самое главное, мы — люди свои, меня тем более все знают. У кого рука поднимется?.. С самой войны тут живем. Шестьдесят лет. Времена были — не чета нынешним: голод и холод. Но порошины со двора не пропадало, а уж тем более из дома. Хотя и замков не знали.
Шли годы, времена менялись. Слышал я, что стали обворовывать пустующие зимой дома. Меня не трогали десять лет.
Но нынче, видно, и впрямь другая пора. Приехал я весной на разведку. Гляжу: пробой торчит поперек щеколды. Вынул его вместе с замком и вошел в дом с тяжелой душою. Не то чтобы об украденном великая печаль… Тут и вправду особо воровать нечего. Но — нехорошо.
Вошел, обсмотрелся. Везде, слава богу, прежний порядок: не разбросано, не раскидано. Две новые рыболовные сети — «сороковки», самые ходовые — висели на стене, теперь их нет. Высокие резиновые сапоги — «забродни», тоже рыбацкие, исчезли. Забрали электрическую помпу-насос. Она — для полива. Чистое постельное белье украли. Оно стопкой в шкафу лежало. Посуду, ложки-вилки не тронули. Одеяла, подушки — на месте. Нет, это — не алкаши, которые метут все подряд. Это был человек рассудительный, спокойный. Забрал все спиннинговые катушки. Добрался до нижнего ящика платяного шкафа, в котором держал я всякие мелочи: выключатели, розетки, вилки — все выгреб незваный гость подчистую. И закрыл ящик. Аккуратный человек.
Прошелся я по дому, повздыхал, а потом растворил настежь двери и окна, чтобы продуло, выветрило не столько зимний дух, сколько запах чужого человека.
Нынешний наш сосед, очередной квартирант, узнав о краже, сказал:
— А мы видели свет. Еще в прошлом месяце. Я жене сказал: «Рано чего-то приехали…» И горел свет, долго.
Как не увидеть, когда соседские окна в наши глядят. Рукой подать.
Вот тогда я и понял, что старому веку пришел конец и старого дома теперь уже нет, осталась лишь память. Потому что дом — это люди, и не только родные и близкие, но и соседи: Прасковья Ивановна да Петр Семенович, Кузьмич, тетка Фрося, Сурковы, баба Поля Короткова. Они бы сразу пришли, они бы прибежали, завидев свет в наших окнах.
Ночь ли, полночь, но пришли бы проведать, наскучав после долгой разлуки. Нанесли бы харчей: «Вы же с дороги… Голодные…» Увели бы к себе ночевать: «Пока хата прогреется… Зябко…»
Наш старый дом… Тесная хатка под низкою крышею — это лишь малая часть его. Дворик, крохотная летняя кухонька, сараи, огород — тоже малость. Старый наш дом в свою пору был огромным, размахнувшись на добрый десяток подворий от Чеботаревых, где жили тетя Феня, сын ее Флегонт, дочь Рая, до Марочкиных, они же Коротковы: баба Поля, Маруся да Митя. Афонины, а потом — Доценковы, Грибановы: бабка Лена да дочь ее Шура, у той сыновья Володя, Сашка, тетка Фая, мужик у нее был хорошим столяром, шумливая тетка Таня Мирошкина с дочерьми да сыном Шуркой, Кузьмич с теткой Фросею, а еще, конечно,— Сурковы, Ксения Ивановна, Александра Павловна, дед Афоня Коротков с немалой семьей. Считай, целое селенье. И все — свои.
А теперь? Новую жизнь углядишь не сразу. Но порою словно глаза открываются.
— Почему ко мне никто не идет?— недоуменно спрашивала моя старая мать. И не находила ответа.
Однажды, в нынешнюю, уже новую пору, нужно было что-то передать соседке Нине. Всего лишь забор между нашими дворами. Но какой… Его даже не перепрыгнешь, потому что деревянную изгородь крепит еще и высокая металлическая сетка. А с улицы через калитку тоже не войдешь. Там — овчарка с вершковыми зубами. Вот тебе и соседи.
Наш старый дом был иным. К тете Пане Иваньковой, к Петру Семеновичу вела огородная калитка, чтобы не бегать по улице, не давать кругаля, а шагать напрямую ночью ли, днем.
Потому что — соседи. Дальше — Коротковы, Митя, за ним — мать его, баба Поля, с дочерью и зятем. И к одним и к другим — тоже калитки, прямо с огорода.
Мария Яковлевна, насколько помню себя, еще от малых лет, и на работу ходила через наш огород и двор, чтобы зря ноги не бить. Каждое утро если не вижу ее, то слышу:
— Здравствуйте… На работу бегу.
Так и «бегала» всю жизнь.
Будничный утренний обряд всегда одинаковый:
— Вы тут живые? Здорово ночевали!
Это перелазом или дворовой калиткой пришла Прасковья Ивановна ли, баба Поля, тетка Таня Мирошкина.
— Вы тут живые?.. Ну, слава богу. А то я ноне сон видала нехороший…
Пришли на минуту-другую, попроведали — и к своим делам. Вечером можно и посидеть посумерничать. А теперь лишь утро.
Часто не с пустыми руками идут, с угощеньем:
— Пирожков ныне напекла, покушайте, какие уж получились…
— Погрызите моей моркошки…— Это баба Поля несет.
У тетки Фроси на огороде самые ранние огурцы и помидоры. На продажу. Колготы с ними, конечно, много: с января — рассада, потом — парники, открой, да закрой, да теплой водой поливай, да береги от утренников всякими покрывалами. Но этим жила. Первые овощи в цене. А разговеться несет соседям:
— Покушайте. Ваши еще не скоро… А у меня пошли.
Первая окрошка всегда из тети-Фросиных огурцов. Пахучая, на весь двор.
— Затеяла ныне блины… Простые, скородумки… Покушайте горяченьких…
— Маму-покойницу ныне во сне видала. Да как-то нехорошо. Пышек вот напекла. Помяните…
Это все соседские будни, когда прибегут за солью, за спичками, за щепоткой чая, денег занять до получки. Или позовут нашу тетю Нюру прийти и поставить банки от простуды; Алла Доценкова таблетку принесет «от давления», сделает укол. По-соседски же можно на день-другой оставить ребятишек и не бояться за них: приглядят и накормят.
Нынче все по-иному: никаких огородных перелазов, калиток. Глухие заборы, железные сетки. И соседство иное.
Иван Александрович уже двадцать лет в соседях. У него огород — картинка. Раньше всех спеют помидоры, огурцы появляются в начале июня. Бывает, что сообщит с гордостью: «А мы уже едим огурчики. Помидоры у нас пошли…» Сообщит. Да я и вижу на грядках: спеет и зреет. Но чтобы угостил первым помидором ли, огурцом — этого не помню.
Написал эти строки. А назавтра, в час предвечерний, увиделись возле забора. Иван Александрович с женою — в своем огороде, я — в своем. Поговорили о базаре: кто что купил. Я разговелся базарными огурчиками, сообщил о цене. «А мы уж неделю свои едим»,— похвалился сосед, и, подтверждая слова супруга, его жена стала собирать с поднятых на шпалеры плетей зеленые, уже в ладошку, огурчики.
— Свои слаже,— сказала она, с улыбкой глядя на меня, и мне показалось, что рвет она огурцы для меня: вот сейчас подойдет и протянет тройку ли, пяток зеленцов. Даже неловко стало написанного вчера.
Но чуда не случилось. Супружница соседа, набрав в подол фартука огурцов, отправилась к дому. А я лишь усмехнулся: нет, чудес не бывает. И это не жадность. А просто — чужие…
Поневоле вспомнишь тетку Фросю. А ведь ее в округе, и вовсе не зря, считали скуповатой. И бабу Полю вспомнишь, сладкую морковку ее и слова: «Грызи, пока зубки вострые».
Еще один сосед из новых, крепкий мужичок — Алексей. Добытной, хозяйственный. Во дворе у него куры, гуси, свиньи. Но я его ни отчества не знаю, ни фамилии. К нам во двор он забрел, при моей памяти, лишь один раз, и то спьяну. И я у него во дворе не был ни разу. Через огородный забор видимся, хорошо, если окликаем друг друга:
— Здорово живешь?!
— Слава богу. И тебе того же!
Вот и весь нынешний соседский обряд.
Помаленьку исчезли на улицах, возле ворот, скамейки, на которых летними вечерами люди сумерничали по-соседски. Прежде лавочки да скамейки со спинками или просто «колодки» — толстые, до блеска обтертые коряжистые вязовые да тополевые стволы стояли да лежали возле каждого двора. Там играла детвора, грелись на солнышке старики, к сумеркам, с огородом да скотиной управившись, прибивался народ рабочий, чтобы дух перевести. Хоть ненадолго, но выберутся «на колодки». Мужики цигарки смолят. У баб — тары да бары.
Зимой собираются в домах. Огороды кончились, скотина — в стойле, а значит, и времени свободного больше.
— Приходите к нам посидеть.
— Чего не приходите?
Никакого угощенья, это — не праздники. Разве подсолнечных ли, тыквенных семечек нажарят… Кто с вязаньем придет: шерстяные носки ли, пуховый платок. Тихо постукивают спицы. Кто-то со штопкою или латаньем. Бедность была. Штопали пятки и следы носков или чулок, локотки, обшлага да вороты пиджаков да рубашек. А уж когда вынашивалось до того, что «не за что ухватить» и штопка не помогала, накладывались заплаты. Так порой и носили: латка на латке, живого места нет. Обновки появлялись очень редко. И они не покупались, а шились своими руками. Так дешевле. Недаром в ту пору к большим праздникам — Первомаю, 7 Ноября или сталинской Конституции — рабочим да служивым людям в награду, иногда на собрании торжественно вручали «за ударные успехи в труде» «отрез на юбку» или «отрез на рубашку». Шили, конечно, сами. Наша тетя Нюра умела шить по выкройкам. Эти бумажные выкройки хранились бережно. Трусы ли пошить, рубашку, сарафан, платье… Кроили такими вот осенними да зимними вечерами на кухонном столе. А уж строчили сами, забирая нашу старую швейную машинку «Зингер», приехавшую из Забайкалья. Она всем помогала.
Зимние вечера. Тихие труды и долгие разговоры про жизнь.
Рослая, сутулистая тетка Паня, приземистая кубоватая тетка Таня Мирошкина, тетка Фрося да баба Поля, тетя Шура да мать ее Ксения Ивановна, Коротковы.
Революция, Гражданская война да Отечественная… Раннее сиротство да горькое вдовство. Тяжкая работа. Голод да холод. Все вспоминалось.
— Ныне — белые придут из Голубинки, а назавтра — красные… Да зачнут стрелять, все горма горит…
— Папа у нас плотник. Такой хороший построил дом. Ну просто картинка. Его кораблем называли. Говорят: ваш дом как корабль… А вернулись — пустое место да яма. Бомба прямиком попала.
— Томка плачет: мамочка, я так исть хочу, аж голова кружится. Последнюю картошину ей отдала. Хочешь не хочешь, а иди на раздобудки. А куда итить? К Семикурганам, там, говорят, горчица осталась неубранная, под снегом можно насобирать. Или за хворостом с санками, через лед, на ту сторону. А потом обменять на свеклу. Да чтобы еще лесники не поймали… Санки отберут.
— Привезли нас под осень. Чистое поле. Сказали: тут и живите. Будет кулацкий поселок. Стали копать землянки…
— Мы бежим с дороги, на землю падаем. Да разве схоронишься. Самолет за самолетом, и низочко, прямо над нами ревут. Строчат из пулеметов. Детишков прикрывали… Да разве прикроешь…
Керосиновая лампа со стеклянным пузырем. Теплая печка. Низкий потолок. Тесные, но крепкие стены. И с хлебом уже наладилось. Желудевых лепешек не пекли, лебеду да вязовый лист не запаривали. С голоду уже не пухли. Бедность. Но можно жить. И потому о прошлом вспоминали спокойно, без слез. Долгие рассказы. Ксения Ивановна да Прасковья Ивановна, Татьяна Михайловна, Анна Алексеевна…
Обычно в такие вечера я готовил уроки или читал возле лампы.
Нынче хорошо, если знают друг друга по имени. Такое и соседство.
Наш старый дом слушал и слушал долгие повести жизни. Может, потому и сближались, становясь родней.
Худяковы прожили, квартируя у тетки Фроси, год ли, два. А потом, до смерти, писали письма из города Дзержинска, что в Горьковской области. Тамара и Володя Бирюковы тоже не больно долго по соседству жили, получили квартиру, а потом и вовсе уехали в Волгоград. Но на всю жизнь оставались своими. У них ночевали, когда в городе приходилось бывать. Они в гости приезжали, особенно в пору летнюю: в Дону искупаться да похлебать ушицы, а главное — повидаться.
Тогдашние праздники помнятся и теперь. Первомай да 7 Ноября, Новый год да 8 Марта всегда отмечали вместе. Готовили общий стол. В одном доме варился холодец, в другом винегрет готовили в просторной посуде, чтобы на всех хватило. В нашем доме пеклись праздничные пироги с яблочным вареньем. Моя тетушка печь была мастерица. «Мамочка меня научила»,— с благодарностью повторяла она.
Просторный, под белой скатертью стол накрывался щедро: пылали бочковые помидоры в пахучем укропе да смородиновом листе, мрамор пластованной квашеной капусты, моченые арбузы, прозрачный, белым жирком отороченный студень, белая разварная картошка, и многоцветный, с переливами винегрет, и, конечно, праздничное печево: высокие подъемистые пироги, сладкие да капустные, с открытым решетчатым верхом, пирожки с картошкой, луком да яйцами, витые поджаристые плюшки и хрусткий «хворост».
Но главным украшением праздника были, конечно, люди. Все свои. Но порой их не узнать — принаряженных, молодых. Они ведь и впрямь были молоды.
Разглядываю старые фотоснимки, сделанные немецкой трофейной «лейкой», которая была у Бирюковых. Веселые лица… Тетя Нюра, дядя Петя, мама, Кузьмич.
По праздникам играл патефон. По праздникам пели песни.
По диким степям Забайкалья.
Это песня нашенская, сибирская.
Расцветали яблони и груши…
А эта — всеобщая.
Раскинулось море широко,
И волны бушуя вдали…
Эту песню Кузьмич затягивал, бывший моряк.
Славные были праздники. Теперь их нет. И посиделок нет. И скамейки убрали. Может, виноват телевизор. А может, время. Но жалко. Соседство пропало.
Ранний приезд
В городе было зябко: всего лишь конец марта. Настоящего тепла еще ждать и ждать. Но я терпел-терпел и не вытерпел. Тошно стало. Какие-то скучные пустые дела, ненужные разговоры; на улицу выйдешь — весенняя пыль, машин полно, так и норовят задавить или хотя бы в лицо пустить струю вонючего дыма.
Уехал. В поселке день сумрачный, но слава богу, что с ветром. Затопил печку, она загудела. Два дня топил, а ночевать не решался. Зябко. На третий день стало тепло. Заночевал. Теперь вот живу.
Непривычная тишина. Вначале она как-то тревожила. В городской квартире слышны уличные звуки: машины шумят, порою слышится музыка, лифт прогудит — все вместе, не переставая, днем и ночью, пусть и негромко, привычно уже, но слышимо. А здесь… Лишь пламя в печке, шепот его. Да резко стучат часы. В городской квартире их несколько, и все большие, но я их не слышу, привык. А здесь вроде малый будильник, но словно сверчок.
Тишина. За окном легкий снег падает и тает на мокрой земле. Легкое порханье снежинок, стук часов, шорох пламени в печке. Радио я не включаю, как и телевизор. Слишком громко, и все одно и то же, надоевшее: президент заявил, премьер-министр отметил, на Камчатку надвигается шторм и в Израиле — неспокойно. А вот у меня спокойно: в доме, во дворе, на улице, на душе. Еще зябко. Но в займищном лесу начала пылить черная ольха, зацветает золотистыми звездочками гусиный лук, светят серебром сережки вербы на рдяных гибких ветках. Ветер дует пахучий, весенний. В Задонье, на холмах, еще белеет по балкам снег. На Дону льда уже нет, но вода еще не прибывает, у берегов — светлая, прозрачная, на глуби — даже на погляд холодная стальная стынь. Рыбаки неводом и сетями ловят леща. Шершавые на ощупь самцы, икряные пузатые матки.
Возле воды посидишь, в степи побродишь, наведаешься в займище, озябнешь — и в дом. Дома тепло, огонь гудит, поленья порой пощелкивают, рушатся угли. Тишина. Приходит вечер. Густая тьма. Желтые редкие огни домов. Крепкий сон с вечера до утра. Хорошая жизнь, спокойная.
Стая свиристелей опустилась на клен, возле самого окна. Сидят, посвистывают, кормятся.
Целый день снег падал, редкий, медленный, крупными, пушистыми хлопьями, а под вечер появилось солнце, пригрело. Как раз я был во дворе, с соседом беседовал. Он сказал:
— Проглянуло — и враз весна.
Но с юга уже находила свинцовая низкая хмарь, и от нее веяло холодом.
— Вон она подойдет, остудит,— показал я.
И точно. Медленно подползла сизая мга, дохнуло стылым. И повалил густой мокрый снег. В двух шагах ничего не видать. Белая стена. Земля, крыши, ветки деревьев — все побелело на глазах. В добрые два-три пальца землю накрыло.
Кончился снегопад в полчаса, и сразу проглянуло солнце. Растаял снег. Снова весна: черная мокрая земля, мокрые крыши домов. Будто и не было снегопада.
Стемнело. Зажглись звезды. Высоко на западе, рядом с Кассиопеей, встала комета. Она светила ярче иных звезд, а хвост ее словно бил прожекторным светом. Чудное и немного тревожное зрелище этот свет небесный.
К полуночи комета опустилась к западу, к самому краю земли. Хвост ее размахнулся вполнеба, светил холодно, льдисто, но празднично, ярко, словно огромное сказочное перо Жар-птицы.
Глядится красиво. Но видение все равно жутковатое. Глядишь, думаешь: что это?.. и зачем? Как-то даже зябко становится. Скорее — в дом. Там — тепло. А что до кометы, то на нее, наверное, нужно просто глядеть и меньше думать. Все равно ведь ничего не поймешь, слава богу.
Родительская суббота
После смерти матери разбирал я ее бумаги: письма, поздравительные открытки к праздникам, рецепты снадобий: «От кашля: мед 1 ст., вино кагор 1 ст., трава душица… трава чабёр…» Что-то надо выбросить, а что-то оставить на память. Попался листок, почерк матери: «Разве может понять человек, весь свой век мирно и тихо живущий в теплом и уютном углу, какое это большое счастье — иметь собственный дом. Приходить туда, зажечь лампу, сесть за стол и знать, что все в твоей воле, что ты здесь хозяин, что никто тебя не потревожит, не нарушит твоего покоя. Только бесприютным, кому приходилось мыкаться без ночлега день, и другой, и третий, открывается вся полнота счастья, которую таят в себе слова «мой дом»».
Прочитал, удивился, подумал, с трудом, но припомнил, что, видимо, это строки из первого варианта моего давнего романа «Родительский дом». Он был вначале огромным, этот роман, что-то около сорока печатных листов. С черновиков, для машинистки, помогали мне его переписывать мама и тетя Нюра. Тогда мать моя, видимо, сделала эту выписку для себя.
Надо сказать, что мама к моему писательскому ремеслу относилась весьма прохладно. Но оставила для себя эти строки. Значит, задело душу.
В пору молодую немало пришлось мне помыкаться. Чужие углы, казармы да общежития, а порою просто вокзалы, вагоны пригородных поездов как ночлег. Так что для меня эти строки были не выдумкой. А теперь вот, наткнувшись на них в бумагах моей не больно сентиментальной матери, подумал и понял, что эти строки о всей нашей семье, которую гоняла судьба из края в край страны огромной: Вятская губерния, Забайкалье, Игарка, Иркутск, казахстанские пустыни: Майеркан, Бурлю-Тюбе, Или. И наконец здесь: Калач-на-Дону, улица Пролетарская, двадцать пять.
Нынче — Родительская суббота, завтра — Троица. Не большой я знаток обрядов, но еще вчера решил: в день воскресный, на Троицу, возьму машину, съезжу за Дон, там, на приволье, теперь самая красота. Наберу цветов полевых и отвезу на кладбище. С вечера так решил. А рано утром поднялся: пасмурно, тепло; такая нежная зелень омытых дождями деревьев, кустов и трав; и дух цветущей акации, сладкий, пряный.
Горлинка прилетела. В густой кроне не видно ее, но стонет и стонет: ур-лу-у-у… ур-лу-у-у… ур-лу-у-у… Как печальна песня ее. А может, это вовсе не горлица, но мамина душа кличет, зовет в Родительскую субботу.
Слава богу, в соседском дворе, у Юрия, зацвели пионы. Сорвал несколько пышных розовых цветов. Веточек акации нарезал и пошел на кладбище. Мама любила пионы, акацию, нежный ее аромат. Но полевым цветам радовалась больше. Бывало, на Троицу из-за Дона привезешь целую охапку золотой медуницы, белого тысячелистника, степных гвоздик…
Мать не нарадуется, букеты собирает, ставит в банки, соседей одаривает. И вспоминает родное Забайкалье, Сретенск, Самаринский затон. Праздник Троицы.
— Березками все украсим… У ворот и в доме. А мамочка наша полы намоет, воском натрет, дорожки постелет, богородской травкой посыпет…
Они всегда так хорошо и светло вспоминали, тетя Нюра и мать моя, они так ясно помнили детство свое и молодость: быстрая Шилка-река, сопки, тайга, родные и близкие люди — словом, родина, родительский дом.
— Там у нас такие цветы…
— Там ягоды: голубика, черника, смородина красная, смородина белая, а сколько грибов…
Хрустальная память детства, она — до последнего вздоха. Но детство порой кончается быстро. Из родного гнезда улетают, но скоро ли новое совьют. У моих старших, тети Нюры и матери, к новому гнезду, к нашему старому дому лежала далекая дорога, десятки тысяч нелегких верст. Они их прошли. В конце пути старый наш дом стал для них приютом теплым, дорогим и последним.
«Я еще поживу в нашем домике»,— говорила мать моя даже на краю жизни, когда уже еле двигалась. Ни горячая да холодная вода из кранов, ни тепло от батарей, ни прочие удобства ее не радовали. «Я наш домик люблю…» — повторяла и повторяла она.
Ранее, когда жива была ее родная сестра Нюра, вдвоем они и не думали никуда уходить из старого дома. Здесь же, в поселке, стояла пустая квартира. Но жить в ней не хотели. Даже зимой.
Печка, дрова, уголь, вода — во дворе, надо ее качать да носить, и домишко уже худой, старый, по-доброму его и не натопишь. «Переходите хотя бы на зиму в квартиру»,— уговаривали их. Не соглашались.
Дяде Пете, когда он работал еще на речном флоте, начальство предлагало: «Продайте дом. Мы вам перед пенсией дадим хорошую квартиру. Будете жить нормально». Отказались наотрез: «Куда мы от своего дома…»
Помню себя в молодом еще, городском бытованье: нет большей радости, чем домой приехать и пожить там день ли, другой.
А ведь старый наш дом — далеко не дворец. Низенький, тесный.
Невеликий деревянный сруб, поставленный в начале прошлого века на придонском хуторе Рюмино-Красноярский. После Великой Отечественной войны Калач-на-Дону лежал в руинах да пепелищах: то немцы его крушили, то — наши, захватывая и освобождая. (А в войну Гражданскую белые да красные, и тоже горело все и рушилось.)
После войны на калачевские пепелища помаленьку стали свозить дома, разбирая их на опустевших хуторах. Так приехал и наш дом. Мы его купили: черный закопченный сруб с камышовой крышей. Продавали дом очень дешево, да еще с рассрочкой. Для нас это было спасеньем. Откуда деньги?
Потом рассказывали, что тетя Нюра заплакала, переступив порог нашего нового жилья. Говорят, испугалась: больно неказистый.
Теперь-то я знаю, что для слез была иная причина. Тете Нюре в ту пору исполнилось сорок лет, дядя Петя — немногим старше, матери моей к сорока подпирало, кроме взрослых, дети: Слава — в седьмом классе, я в первый класс собирался, Коля — в люльке. Шестеро нас.
И вот он наконец, собственный дом, своя крыша над головой. После долгих и долгих лет нелегких скитаний. У взрослых надежда теплится, может быть, наконец они кончились, эти скитания. Может, даст бог приюта, покоя под этим кровом. Уже здесь, в Калаче, за короткий срок сменили мы две квартиры. Сначала жили у ворчливой Кацурихи: «Туда — не ходи, здесь — не сиди». Потом снимали отдельный домик, невеликий, но довольно приглядный. Хозяева его продавали. Но деньги у нас откуда?
И вот теперь наконец свой угол. Пусть на шестерых одна лишь комната с печкой посередине. Даже коридорчика нет. Дверь открывается прямо на улицу. Никакой огорожи. Вокруг лежит обдутый ветром, заваленный мусором пустырь. Но все равно — свой угол.
«Домов — как у зайца дремов» — такая в наших краях невеселая есть поговорка. У всякого зверя да птицы есть гнездо ли, нора, берлога, лишь у зайца под любым кустом — приют, в любой ложбинке. Вздремнул, отряхнулся — и ходу.
В 1905 году дед мой Алексей Васильевич Крысов отправился к новой жизни на Дальний Восток, оставив жену и грудную дочку Нюру на родине в деревне Крысовы, Шелеговской волости, Орловского уезда, Вятской губернии. Уходил от великой бедности, от голода. Устроился на работу в Самаринском затоне, на реке Шилке, возле города Сретенска. На следующий год привез жену с дочерью. Вначале снимали угол у Пучковых в деревне Матакан, что напротив Самаринского затона, через Шилку. У Пучковых семья — шесть человек, дом — невеликий: комната и кухня. Там и умещались: хозяева и квартиранты.
Но вторая дочь — моя матушка, Антонина Алексеевна, родилась уже в своем, пусть и казенном, углу. Вот он, на старом фотоснимке, Самаринский затон, мастерские, баржа-сухогруз «Москва №137», чуть далее — пароход-«колесник», на берегу, в двух шагах от воды,— кузница, мастерские для холостых рабочих и еще один дом, для женатых.
В этом доме в отдельных комнатах, но с общим коридором и большой общей кухней жили несколько семей, в их числе Крысовы: Алексей Васильевич, Евдокия Сидоровна, их дети: Нюра, Тося, Миша, Нина и Таечка, из которых все, кроме старшей Нюры, родились здесь. Таечка утонула в затоне трехлетней.
Здесь, в Забайкалье, жили не в пример лучше, чем в Вятской губернии. В 1913 году ездили на родину, в гости. Тетя Нюра хоть и была маленькой, девяти лет, но помнит: «Такая в деревне бедность. Хлеба лишнего куска нет…»
В Самаринском затоне дед мой, Алексей Васильевич, работал на пароходах матросом да кочегаром. Бабушка, Евдокия Сидоровна, стирала «на людей», убирала в домах. У начальника пристани Дитриха, у инженера. По ночам она пекла хлеб, тоже «для людей». Во время жатвы трудилась у Кочмаревых на поле, считалась лучшей жницей. В летнюю да осеннюю пору варила на заказ варенья, собирая ягоды в тайге. Пекла пирожки на продажу.
Над Затонскими горами,
Там, где Куренга течет,
Вкусно пахнет пирогами,
Дуня Крысова печет.
Эту песенку сочинили гимназисты из Сретенска, распевали ее и речники-«холостежь» из общежития.
Тетя Нюра вспоминала:
«Мамочка много работала. Стирает, много белья. Его надо с мылом постирать. А потом кипятить. А потом второй раз простирывать. А потом полоскать — в речке. Зимой — на санках, к проруби. А ночью хлеб печет, для людей. Ночью все спят, и русская печь свободная. Наша мамочка любила работать…»
Работали и жили, во всяком случае, сытно. Муку и крупу покупали мешками. Семья ведь немалая. Мясо брали стегнами. «Помню, папа на салазках стегно везет. Жирное такое мясо, говядина. Из Монголии скот пригоняли»,— вспоминала тетя Нюра.
Жили, работали… Надеялись вскоре купить или построить собственный дом в Сретенске. Там — школа, детей надо учить.
Евдокия Сидоровна и Алексей Васильевич были неграмотными. Но пользу и нужность образования понимали.
«Наша мамочка всегда говорила: мы — слепые, а детей выучим. Мамочка читать не умела, а память такая хорошая. На санках зимой катаемся, домой прибежим, а мамочка смеется, стихами говорит: «Шалун уж отморозил пальчик, ему и больно и смешно, а мать грозит ему в окно»».
Она бы выучила, и, конечно, появился бы у Крысовых свой дом, копили для него деньги.
Но человек лишь предполагает. Дом для Крысовых остался мечтой.
В России началась революция, потом Гражданская война, голод и мор. Дуня Крысова умерла в 1920 году во время эпидемии тифа, оставив четверых детей сиротами.
Мама моя вспоминала: «Эпидемия тифа была. Многие болели. У нас только Нюра с Ниночкой дома остались. А мамочка с папой, Миша и я — в больнице. Мы с мамочкой вместе лежали, рядом кровати. Она уже выздоровела, говорила: «Я скоро выпишусь, а ты еще немного полежишь». А потом она супу поела. Все ели, и она захотела. А наверно, было нельзя. Она поела, и стало ей плохо. Потеряла сознание, бредит, размахивает руками. Я к ней: «Мамочка, мамочка…» А она не узнает меня, отталкивает. И меня на другую кровать переложили. А утром я проснулась, а мамочка простыней закрыта, с головой. И ее унесли». Маме моей в эту пору было девять лет. Тете Нюре — тринадцать. Миша и Ниночка — вовсе малыши. Отец семейства, Алексей Васильевич, после болезни стал инвалидом: рука не сгибалась, а он работал последнее время возчиком и конюхом, лошадь его звали Карькой. Спасибо, что оставили там же, на пристани, сторожем.
Началась у Крысовых иная жизнь, без мамочки. Нюре двенадцать ли, тринадцать лет. Она в доме — хозяйка и главная работница. Печь хлеб, варить еду, стирать и все прочее. Да еще и на заработки ходить: к Вавиловым, Кочмаревым — куда позовут. Кочмаревы платили за работу зерном, на жатве. У других порой работала за еду. «Накормят меня яичницей, я и копаю картошку. День копаю, другой копаю…» Девятилетняя Тося тоже работала у людей, в няньках. За еду. А дома — двое своих маленьких: Миша и Ниночка.
«У нас недалеко стоял красноармейский полк. Папа на кухню пойдет с ведром. Его там знали, что он — вдовец и детей четверо. Гречневой каши полное ведро наложат. Или гороховый суп. Он густой. И мы едим. Вкусно…» — вспоминала тетя Нюра.
При советской власти начальником пристани стал Ярыгин-младший (их было трое братьев). Бывший водовоз, он знаменит был тем, что без отрыва от кобылы и водовозной бочки на колесах наизусть выучил всю «партийную литературу». Едет и, сидя на бочке, с вожжами в руках, очередную книжку читает, бормочет, зубрит. Чистит кобылу — и книжка рядом.
А когда назначили его начальником пристани, то он уволил моего деда с работы, из сторожей, за какое-то поперек сказанное слово. Дед ходил в контору, на коленях просил прощения. Ведь четверо детей на руках да еще — вдовец, инвалид, рука не действовала. Но «партийный» начальник его не простил. Дед очень переживал, стал заговариваться и в конце концов застрелился из ружья.
Ни о каком собственном доме теперь и речи не могло быть. Спасибо, что из казенного не прогнали: общий коридор, общая кухня с большой русскою печью, а комната своя, Крысовых. Там четверо родились: Тоня, Миша, Нина и Таечка. Теперь этого дома нет.
Потом пошла иная жизнь, где домов — как у зайца дремов, и опять все чужие.
Тетя Нюра плавала на пароходах уборщицей, потом поваром, прачкой, сначала — одна, потом с мужем. Зимовали в Благовещенске, Хабаровске, Николаевске. Обычно в казенных бараках да на частных квартирах. Потом дядя Петя стал учиться на рабочем факультете (рабфак) во Владивостоке, затем — институт в Москве. Комната на пять-шесть семей, разделенная ситцевыми занавесками. После института было недолгое житье в Хабаровске. А потом арест, ссылка в казахские пустыни: Майеркан, Бурлю-Тюбе, Или. И наконец — Калач-на-Дону. В сорок лет, слава богу, свой угол, свой собственный дом.
И у матери моей та же песня: общежитие рабфака в Чите, в институте в Москве сын родился, это — я, смерть мужа, два года в Иркутске, в доме свекрови и золовки, а потом к родной сестре Нюре, у которой мужа арестовали. Вдвоем выжить легче.
Слава богу, выжили. В сорок пятом власти разрешили уехать из ссылки, «без права проживания в областных центрах».
Уехали к новому месту. Калач-на-Дону. Но снова углы чужие: Кацуриха, флигелек на улице Октябрьской. И наконец — Пролетарская улица, дом двадцать пять. Своя крыша над головой. И надежда: может, кончились беды и этот дом теперь уже навсегда, до смерти свой дом.
Слава богу, так и случилось. Отсюда все и ушли на кладбище. Но провели здесь целых полвека, понемногу обживаясь.
Пристроили небольшой коридор, потом верандочку, потом еще одну комнатку. И конечно, подворье: сараи, базы для коровы, свиньи, куры. Просторный огород, который кормил. Позднее садовые деревья: яблони, груши, сливы, виноград, абрикосы.
Улица Пролетарская, дом двадцать пять. Наш старый дом…
Домовая птица
Ранним покойным утром возле двора моего на ветки старого вяза уселись три вороны и подняли вселенский галдеж. Еле отогнал их. А потом подумал, повспоминал и вздохнул огорченно: перевелись в нашей округе добрые птицы, одно лишь воронье осталось. И это ведь не стариковское брюзжанье, а чистая правда.
В прежние времена ласточки у нас селились повсюду: в сараях, курятниках, скотьих катухах, под выпусками, навесами да застрехами кровель. Три ли, четыре гнезда во дворе. Их никто не трогал, даже отчаянная ребятня, которая по весне зорила воробьиные, сорочьи, вороньи гнезда, пропитание добывая: всякая яичница хороша в голодуху. Но и тогда знали твердо: ласточку трогать нельзя, за нее — Бог накажет. Да она и сама отомстить может: принесет огонь на веточке в клюве, сунет под застреху, и запылает соломенная ли, деревянная кровля. Такие случаи бывали. О них рассказывали.
С ранней весны до поздней осени мальчишкою спал я на открытой веранде. Ласточкино гнездо каждый год лепилось прямо над головой у меня. Можно рукой достать.
Весной прилетают, лепят гнездо, людей не боясь. Выводят птенцов, растят их, кормят, нося и нося всякую живность. Ласточата пищат, разевая желтые клювы. Мы им помогали кормиться: наловишь мух и лишь успевай совать в открытые рты.
Потом птенцы вырастают, учатся летать. Гнездо пустеет.
Опустеет гнездо; но до самой осени ласточки каждый день прилетают дом свой проведать. Обычно к вечеру. Усядутся рядком на проводах возле дома и щебечут. Порою в гнездо нырнут. Да не одна, а все разом. Не умещаются — выросли ведь!— пищат, но потом кое-как умащиваются друг на дружке. Смех один. Недолго посидят. Улетают.
Теперь ласточек нет. Уже давно.
И скворцы перестали селиться. А ведь были домовой птицей. Без скворцов — никак.
В каждом дворе обязательно имелся скворечник. О нем заботились, загодя чистили его, подправляли. Красивые были скворечники, особенно у людей рукастых. Домики аккуратные, порою с настоящим крылечком, с резными столбиками, подзорами, ажурной крышей — прямо дворец. Но это — у рукастых. А обычно — просто скворечник. На высоком шесте над домом, чтобы кошки не добрались. В школе, на уроках труда, обязательно каждую весну скворечники делали. Строгали, колотили. Учитель помогал. Что-то, но получалось. Скворечники были в каждом дворе. А над ними — невеликий шестик с поперечиной или просто сухая ветка. Скворцы ведь артисты, им нужна сцена, чтобы петь ловчее. Скворечник во дворе — дело серьезное: не дай бог скворцы не поселятся — это плохой знак. И потому старались. Помню, двойные были скворечники, со входами в разные стороны. Или друг над дружкою, в два этажа.
Весною скворцов ждали, друг у друга спрашивая: «У вас не прилетели?..»
И вот наконец прибывают, значит, и впрямь весна. Первым делом осмотрят скворечник, воробьев выгонят, если те успели там поселиться. Устроились — и запели. Особенно по утрам и вечерами. Солнце встает ли, садится. Над скворечником, на шестке, на веточке, скворцы поют, заливаются. В каждом дворе. Красивые, ладные птицы, черные, с вороненым отблеском. Все в их песнях, свое и чужое: соловьиный бой, жаворонка трель, иволги долгая песнь, а порой хулиганистое лягушачье кваканье. Утренний концерт да вечерний, в розовых отсветах зари. Свои поют и соседские. Как раз в эту пору в огороде самая работа: грядки копать, сажать, поливать. А скворцы помогают, веселя душу.
Теперь ни скворечников нет, ни скворцов. А почему — не больно понятно. Первой убрала птичий домик премудрая тетка Фрося. Помню, как она объяснила соседям: «Они помидоры дергают. Сама видала. Дерг да дерг…»
Мои домашние ей не поверили, и другие соседи — тоже. Всю жизнь скворцы на усадьбе. И ничего не дергают. По грядкам ходят, добывая червяков из земли да с листьев. А тетка Фрося, она не больно людимая. Вот и скворцы ей помешали. «Изнистожить…» — постановила и поломала скворечник.
Шло да шло время. А нынче — ни одного скворечника. Во всей округе. И скворцов нет. Некому по весне и петь. Почему? Не больно понятно. «Этажей», слава богу, на нашей окраине нет. Те же простые дома, огороды, сады… А скворцы куда-то пропали. Может, потому, что скворечников нет, «изнистожили». Вот и песен скворчиных нет по весне. А бывало, так заливались — заслушаешься.
Чуть не забыл о самой дорогой для мальчишек птице. Скопчиками их звали. Хотя правильное название — кобчик, семейство соколиных. Но это теперь я знаю: кобчик да пустельга. А тогда каждый уважающий себя пацан имел своего скопчика. Вышел на улицу, скопчик на плече сидит: желтоглазый, с острым крючковатым клювом, в рыжем да пестром пере. Шевельнул плечом, чуть подбрасывая, скопчик взлетел, сделал высокий круг, прокричал: ки-ки-ки… И снова на плечо уселся. Красивая птица. Одно слово — сокол.
Скопчиков забирали из гнезд «пуховичками», еще без пера. Загодя находили гнезда в займище, на холмах Задонья. Обычно на высоких деревьях. Найдешь гнездо, следишь за ним. В свою пору забираешь лишь одного птенца из трех ли, четырех; за пазуху его — и домой. Начинается немалая колгота: теплое гнездо, кормежка. Прожорливый птенец. Орет и орет. Лишь успевай ловить кузнечиков, а потом — ящерок, сусликов. Ловишь и кормишь. Ловишь и кормишь. Птенец растет, потом оперяется. Привыкает к тебе. Все лето — рядом. Учишь его летать. Подбросишь, он недоволен, кричит: ки-ки-ки… Но понемногу привыкает. Живет целое лето. Лишь в августе начинает надолго улетать на охоту. Всякий день возвращается. Угощенье примет. Посидит у тебя на плече, желтоглазый красавец. Снова улетит. А потом — навсегда.
Скопчиков все любили. Даже взрослые. Сначала ворчат: «Лучше бы курицу выкормить». Но потом привыкают. «Где он, наш…»
Теперь уже он далеко-далеко — скопчик из ушедшего детства, из нашего старого дома, который не только людей привечал, но всякую тварь живую.
Малые птахи журчали в смородиновой гущине. Пестрокрылый удод важно расхаживал по огороду, запуская в землю длинный кривой клюв. Кормился. А потом усаживался на конек крыши и долдонил: у-у-да… у-у-да…— распуская и собирая радужный веер нарядного гребня.
Все это было при моей, слава богу, памяти. Теперь остались лишь воробьи, сороки да горлицы, которых прежде не знали. Осенью да зимой прилетают синицы, дятлы стучат. Но воронья развелось — несчетно. Вечерами да по утрам долгими караванами тянутся они на прокорм, на ночлег. Порою обсядут двор, орут и орут, ничего доброго не обещая.
По законам старого дома
Это я сейчас вспоминаю, словно процеживаю, годы и годы, свои и чужие. То, что было, и то, что слышал, когда мы жили все вместе, под одним кровом. Получаются житейские правила ли, законы старого дома.
Тетя Нюра любила свою молодость вспоминать, детство, родное Забайкалье, Самаринский затон, рассказывала:
— Раньше пекарен не было, каждая семья для себя хлеб пекла. Не всякий день, а на два-три дня. А кто и на неделю. Бывает, кончится хлеб, не рассчитали. Это не беда, можно у соседей занять. Завтра будешь печь и отдашь. Одна соседка, у нее муж кочегаром на пароходе плавал, она у нас часто занимала. Займет и отдаст, обычное дело. С мукой, с хлебом тогда было хорошо, не бедствовали. Но хлеб хлебу — рознь. Наша мамочка хороший хлеб пекла, пышный, подъемистый. И караваи большие. А у соседки маленькие каравайчики. Но хлеб тогда не по весу был. Караваи заняла, караваи и отдала. Мамочка соседке ничего не говорила, а вот нам внушала: «Доченьки, когда вырастете, будете своей семьей жить, хлеба печь, то если придется хлеб занимать, обязательно отдавайте каравай больший, чем брали. Обязательно, чтобы отдать больше. Так положено».
— Наша мамочка такая была чистотка. Полы тогда были некрашеные. Другие хозяйки тряпкой повозят по полу — и все. А мамочка сначала скоблит добела, потом — голиком, таким веником из жестких прутьев, да еще дресвой. Это речной песок у нас был, крупный, а потом уже начисто промывает. А если праздник, то еще и натирает воском. Прямо сияют полы. И нас всегда приучала: «Доченьки, помощницы…» А мы и рады, стараемся.
— Наша мамочка так хорошо печь умела: хлеб, пирожки, калачики… Я еще маленькая была, а уже помогаю ей, она хвалит: «Доченька, помощница моя…»
«Наша мамочка», моя бабушка, Евдокия Сидоровна, а по жизни просто Дуня Крысова, умерла от тифа в Гражданскую войну, тридцати лет от роду. Но дочери помнили ее всю жизнь: «Наша мамочка…»
А потом возле тети Нюры была свекровь — Мария Павловна. «Девочки, девочки…» Так она своих молоденьких сношек величала, Нюру и Паню.
— Ой, девочки, девочки… Я хлеб-то Шурыгиным отдала. У нее — дети, а хлеба нет. Отдала. А я, девочки, оладушков напеку. С оладушками хорошо… У нее же дети. А такая бестолковая.
— Смотрим, угощает кого-то,— вспоминала через полвека тетя Нюра.— Чаем поит, молочка подливает… «Пейте, пейте…» Мы потом спрашиваем: «Это кто был?» — «Да прохожий человек… Вижу, мимо идет, устал, вот и пригласила. Он из Копуни в Сретенск идет. Далеко… А чайку попил, он, девочки, теперь легкой ногой дойдет».
В старом доме моем, во всей нашей прежней округе, человеку, на порог ступившему, один обряд, будь он свой ли, чужой и даже не больно званый:
— Проходите. Садитесь, чайку попейте. А может, и щами угожу, ныне варила, еще горяченькие.
Так было даже в голодную пору: пареной тыквой да свеклой, но потчуют гостя. Так было…
Ныне, когда бываю холодной порой в поселке, проездом ли, обыденкою, к дому подъеду, погляжу: вроде живой; потом загляну к Александре Павловне. Это наш человек, последний. Она от порога встречает привычным:
— Сейчас тебе щей разогрею. Садись. Горяченького похлебаешь. Успеешь с делами…
Это — вечное: привет и еда на стол. В далеком ли Забайкалье, у Марии Павловны, в начале века, или наш старый дом. И тетка Шура — может, последний оплот.
Заехал как-то к своим порой зимнею. Тары да бары…
— Ты гостя к столу позови,— подсказала хозяйке ее старая мать.
А у той враз нашелся короткий ответ:
— Теперь так не модно!
Видно, не было в роду своей Марии Павловны, о которой мои старики всю жизнь вспоминали.
И снова о ней речь.
Сыновья Марии Павловны переженились. У старшего первая жена умерла, оставив маленького Колю. Вторая жена сироту не очень жаловала. Увидев это, Мария Павловна никого не стала поучать да ругать: ни сына своего, ни невестку; она просто, забрав Колю, ушла из семьи сына в свою старую избу. Завела корову Маньку, посадила огород, стала жить с маленьким внуком. «Нас, девочки, Манька прокормит. Наша Манька…» Так и жила, отвечая на приглашения снох: «Нас Манька прокормит…»
Годы были нелегкие. Но Коля вырос. Правда, погиб он совсем молоденьким, восемнадцатилетним, в Отечественную войну, в Сталинграде.
Строки из писем:
«Коля стал нынеший год настоящий здоровый рослый моряк токо там их переодели в защитный цвет. Кима Красотина убили в Сталинграде недавно получила Домна извещение…»
«…Николаю разрывная пуля расколола левую челюсть и еще ранило в голову а после того покамест не было письма в каком городе находится незнаем он».
Потом узнали. Похоронен в Сталинграде, «в районе река Царица».
Но это уже о другом.
Мария Павловна, конечно же, жила небогато: огород да корова Манька. Но однажды последние деньги, на «черный день» припасенные, отдала соседке. Эти соседи недавно из России приехали, а хозяин заболел и умер. Осталась вдова с детьми, и никого родных. Надо в Россию вернуться, а не на что. Мария Павловна все свои деньги отдала. «Девочки…— почему-то шепотом говорила она.— Девочки, какая беда… Пускай едут, у них там родные. Беда, девочки, беда…»
Год 1938-й. Алма-атинская тюрьма. Тетя Нюра ждет свидания с мужем — «врагом народа», его по этапу должны угонять на север. Ждет и видит горько плачущую женщину, которую только что освободили, а муж — в тюрьме, тоже «враг народа», двое детей где-то в детских домах, их надо искать ехать, но нет ни копейки денег. И тетя Нюра отдает ей свои последние пятьдесят рублей. Потому что: «Беда, девочки, беда…»
Вот и все объясненье.
В нашем краю по соседству и рядом, как и везде после войны, долго еще жили весьма небогато. Вдовы да сироты, копеечная зарплата. И потому в обычай соли у соседей занять, спичек, невеликую денежку на хлеб. Конечно, всегда возвращали.
И потому таким диким для всех был случай, когда Блохиным деньги не вернул… не буду называть его по фамилии, она известная, помню, и все помнят, даже через полвека. Но внуки и дети чем виноваты. Он не вернул деньги, сказав: «Не отдам. А у вас нет доказательств».
Весь поселок узнал об этом. Говорили за глаза и в лицо этого человека стыдили. Дело прошлое, но помнится и теперь, потому что это было позором, дикостью, недоуменьем.
Для всех. Другого такого случая не упомню. Его просто не было. У старого времени свои законы.
А у нового — свои. Новая наша соседка после смерти тетки своей успела в дом к ней попасть прежде своей сестры и забрала какое-то «золото»: сережки ли, кольца. Забрала и родной своей сестре ответила: «Все — мое. Ничего не дам». Теперь они, который год уже, вовсе не знаются. Родные сестры…
Тетка Лида тоже приезжая, но живет давно, мужа похоронила, детей вырастила. И по летнему времени, когда мы в старом доме живем, чуть не всякий день бежит и бежит: «Тридцатку… Полсотни… Сто рублей…» Простодушно объясняет: «У меня есть на сберкнижке. Но там же процент идет».
Народ пьющий, Володя и Генка Миней, раз за разом стали забывать про отдачу: «Ты дай, а потом, одним разом… Я потом отдам, кучкой… Ну дай еще хоть десятку…» — и глядят, моргают глазами.
Ну, эти хоть пьющие. Но потом добрая наша знакомая, давнишняя приятельница матери моей и тети Нюры, старый человек, как-то вдруг объявила: «Я тебе деньги не отдам». Для меня это было словно гром с ясного неба. Дело не в деньгах: и для меня, и для нее эти сотни — совсем не спасенье. Видно, в нашем мире что-то сломалось, если вот так просто можно объявить: «Не отдам. Не верну долг».
Мама моя в ту пору еще была в стариковском, но здравии, в твердой памяти. Она мне вначале не поверила, когда я, посмеиваясь, объявил эту новость. «Может быть, она сказала — потом отдаст?— допытывалась мать.— Не может же быть…» — «Сказала: не отдам»,— повторил я. Но старая мать моя не поверила и потом еще долго, раз за разом, спрашивала: «Не отдала?» А услышав прежний ответ, задумывалась и сама себе объясняла: «Наверное, у нее что-то с головой. Ведь не может быть…» Она знала твердо: не может такого быть.
Слава богу, что мать не поверила мне, когда близкая наша родня дважды меня обманула с деньгами. Банковские счеты да пересчеты, компенсация, маржа. Вначале я сам не поверил. Думал, что шутят. Но поверить пришлось. С обиды и сдуру пытался я матери объяснить ли, пожаловаться. Она расчетов нынешних уразуметь не могла и не хотела, решительно все отвергнув: «Глупости! Это ты чего-то не понял». Слава богу, что я быстро понял иное: не надо ничего ей говорить, пусть доживает в своей вере.
Так она и дожила.
А нынче что говорить о деньгах, когда обычное слово «здравствуйте» становится редкостью.
В годы детские да молодые первым поздороваться со старшими — дело обычное. С тетей Паней ли, с Петром Семеновичем, с тетей Фросей или бабой Полей… Со всей улицей. Мальчонкою, особенно старым людям, кричишь что есть мочи: «Здравствуйте!!» Потому что если, не дай бог, не услышат да пожалуются старшим: «Ваш-то пробег и не поздоровкался»,— получишь выволочку. А когда погромче, даже похвалят: «Молодец, хорошо здоровкается». Это уже и родителям честь. Но дело не в наказании да похвале, а в том, что эти люди — свои. Как с ними не поздороваться? С тетей Шурой ли, с Ксенией Ивановной. Но где они теперь — дед Афоня, тетка Феня да тетка Таня…
На бывшем поместье Мирошкиных много лет живут новые соседи. Старшие — здороваются. А вот молодые дочери их с малых лет отводят глаза, видно, язык берегут. Недавно старшая из дочерей приехала в гости к родителям, идет мне навстречу, малого ребенка за руку ведет. Прошла и головой не кивнула. Учительница. Иностранные языки изучала. Теперь учит детишек.
Тот же Иван Александрович в огороде копается, рядом — внук, тоже Ваня. Я когда-то за ним в Волгоград ездил, в родильный дом, привозил его. Теперь он в первый класс пойдет. Милый мальчонка.
Но вот подошел я, поздоровался. Дед ответил, внук — и не подумал. В прежние времена он тут же получил бы от деда взбучку: «Почему не здоровкаешься со старшими!» Да еще — по заднице. А теперь не ответил, и дед ему ничего не сказал да еще подхвалил, когда заговорили о будущей школе: «Обещает на одни пятерки учиться!»
Дай-то бог. Пусть растет образованным. Только вот здороваться с соседями он не будет, хотя и вырос здесь. В лучшем случае глаза отведет. Иное время?
Яблоня
Наша старая яблоня нынче цветет так сильно, что на нее даже из соседских дворов глядят, удивляются, по-хорошему загадывая наперед: «Нынче всем яблочков хватит!» «Яндыковские» яблочки, ранние, сочные, сладкие, духовитые. А на погляд — нежная бель с розовым, а потом алым румянцем. Рано зреют и долго висят на дереве, под конец, в августе да сентябре, от спелости лопаясь и обнажая в развале сахарную душистую мякоть.
Целое лето их ешь не наешься. Так и манят из зеленой листвы приглядные яблочки. И в сушке они хороши — пахучие, сладкие. Варенье из них золотистое. Зимой откроешь банку, яндыковкой пахнет, нашим яблочком, его плотью и даже цветом. Одним словом, не яблоня — дар божий.
А нынче такой у нее цвет могучий — просто на удивленье.
В этом году выдалась поздняя весна. Целый месяц — дожди да морось, холодные ночи да зябкие утренние росы. Но природа, но жизнь берет свое. И вот уже, выбирая погожие дни, зацвели абрикосы, не боясь дождей. За ними — алыча да слива, потом вишневые деревца. Яблоня розовела пухлыми бутонами, готовясь к цвету. Выдался денек ясный, солнечный, и она зацвела. Но как всегда — не вдруг.
Абрикосы, алыча, слива, вишня и даже груша расцветают разом, в один-два дня. Зацветут, обольются белью, и скоро уже полетят лепестки.
У яблони по-другому: розовеют и пухнут бутоны, ждут; и вот в каждой розовой грозди раскрылся лишь один цветок, словно проверяя: можно ли, впору ли? Яблоня робко, но зацвела, чтобы каждый день, каждый час открывать цветок за цветком. В ненастную погоду она не будет спешить, ожидая солнца, тепла, чтобы не отгореть пустоцветом. День за днем; за часом — погожий час; и вот уже наша яндыковка, словно белый храм, вся в цветах и в весеннем торжественном звоне. Это пчелы гудят с раннего утра и до ночи. Неумолчный слитный гул и согласное мельтешенье с цветка на цветок, с цветка на цветок. Живая сеть золотистая в солнечном свете, слепящем утреннем или вечернем, мягком, янтарном. С цветка на цветок. Подлетела пчела, раздвинула длинные тычинки, пробиваясь к пестику и к заветной чаше с нектаром. Добралась, взяла свою малую меру и сразу — к следующему цветку, и еще к одному, и еще, и еще, пока не почувствует тяжесть ноши. А тогда уж — к своему улью, чтобы оставить собранное и тотчас снова вернуться. Так — целый день. Недаром в пору вечернюю, перед закатом пчелиный гул возле яблони звучит немного устало. Мед собирать — работа нелегкая.
Вчера я заходил к знакомому пчеловоду. Ульи пока во дворе, но хозяин рад: есть напрыск. Это значит, что в рамках, на донышках малых бочат оттянутой, готовой вощины появились первые золотистые капли свежего меда.
А яблоня наша с каждым днем хорошеет, прибавляя и прибавляя цвета. Бело-розовое звенящее облако, душистое в пору утреннюю, росную. И много нераскрытых розовых бутонов, значит, всю неделю будет цвести, а потом еще доцветать. И пчелы будут звенеть. И соседи будут глядеть, радоваться, говорить с улыбкой:
— С яблочками нынче будем, Петрович.
Просто — соседи
Когда-то в годы теперь уже давние, молодые, по приказу главной хозяйки нашего двора и дома, ныне покойной, Анны Алексеевны, или тети Нюры, ладил я невеликий сарайчик, прилепив его к сараю большому, где хранилось много добра и хлама. Последний, по словам тети Нюры, «еще сгодится. А вам бы все выкидывать, богатые стали…».
Хозяйка указала размер нового строенья, хотя показывать было особенно нечего: дровник должен был влепиться между большим сараем и базком для кур.
Два дня я работал: поставил каркас, стропила, стены поднял, накрывал уже почти готовое строенье. И тут тетя Нюра наконец углядела исход трудов моих и подступила с претензией:
— Ты чего делаешь?
— Крышу крою.
— Нет,— решительно заявила она.— Неправильно делаешь. У тебя скат получается к соседям, к Пане.
— Ну и что?
— А то, что дождь пойдет и вся вода будет стекать к Пане во двор. А у них там погреб.
Сдался я не сразу.
— Крыша двускатная,— возражал я.— К нам во двор и к ним во двор. Пополам. Да у нас и дождей столько не бывает.
— Нет,— на своем стояла тетя Нюра.— Сколько ни бывает, а осенью льет, зимой. Нельзя. Там у них погреб. Это не по-соседски.
Последний резон был самым веским. Вздохнул я и стал переделывать стропила, и дровник накрыл так, чтобы при дожде вся вода стекала к нам во двор, никого и ничего не тревожа.
И это было правильно, по-соседски. Спасибо тете Нюре за урок.
Прошло время. Умерли наши добрые соседи: тетя Паня и супруг ее — Петр Семенович. А потом и тетя Нюра за ними ушла. В старом доме мы стали жить только в летнюю пору, приезжая из города к земле, зелени, свежему воздуху.
И вот как-то весной приехали и видим, что новые наши соседи построили кирпичный свинарник с выгульным базом, расположив его подальше от своего жилья, а у нас, как говорится, под самым носом, не продохнешь.
Увидел я новую соседку, говорю ей с намеком:
— Новая ферма у вас.
— Решили свиней водить,— объяснила соседка.— Мясо на базаре дорогое. А у нас на хуторе родня живет, зернецом помогут.
— Пахнет…— сказал я, шумно принюхиваясь.
Соседка кое-что поняла.
— Свое дерьмо не воняет,— ответила она, заканчивая разговор.
Свое, может, и не воняет, а вот чужое…
Свинарник-то соседи поставили от своего дома и от своей летней кухни подальше, а у нас — под носом.
Мама моя потом сказала со вздохом:
— Себе — мясо, а нам — вонь.
Конечно же, можно позвонить и вызвать санитарного врача, соседей оштрафуют и заставят убрать свинарник, перенести его в другое место, подалее. Можно-то можно…
Но привыкли к иному.
Александру Павловну Саломатину я помню: рослая, тучноватая, пожилая. Она гостила у нас в Калаче в мою взрослую пору. Тетю Нюру и маму величала ласково: «Нюрочка… Тосенька…» Никакая не родня, а всего лишь соседка, в далеком поселке Бурлю-Тюбе, в годы теперь уже тоже такие далекие: конец тридцатых и начало сороковых. Саломатины не были ссыльными. Глава семьи работал капитаном парохода на Балхаше. Подрастали двое сыновей — Павлик и Володя. Александра Павловна домохозяйничала, подрабатывала шитьем, слывя хорошей портнихой.
А наше семейство — «враги народа», высланные из Хабаровска в пустыню. Но в 1938 году дядю Петю опять арестовывают как японского шпиона, засланного с понятными целями. (За одни только сутки семь эшелонов с такими «шпионами» и их семьями было отправлено из Хабаровска в Казахстан. Но речь сейчас о другом.)
Дядю Петю арестовали, отправили в алма-атинскую тюрьму. Тетю Нюру в тот же день уволили из детского сада, где она работала уборщицей. Причина понятная: жена «врага народа», может «диверсию совершить». На работу никуда не берут. Чем жить? Чем кормиться? Сыну Славочке — девять лет.
Выручила, а точнее, спасла соседка, Александра Павловна Саломатина, тетя Шура. Она ведь портнихой была, сказала: «Будешь мне помогать». Тетя Нюра потом вспоминала: «Петли обметываю, пуговицы пришиваю. Где простое, шью, прострачиваю. Шура подскажет, я делаю. И она каждый день мне деньги платила, целых три года. Так мы и выжили. А потом в сорок первом Петю выпустили, и мы переехали в Или».
Или — это крошечный поселок и железнодорожный разъезд на берегу реки Или, там же, в казахской пустыне. Это уже 1942-й. В далекой памяти, но что-то всплывает. Мы жили в деревянном бараке с длинным общим коридором. У каждой семьи — по комнате. Нас пятеро: тетя Нюра, мама, Слава учился в школе, я в детский сад ли, ясли ходил и дядя Петя, который отбыл трехлетний лагерный срок и принят был на работу, по «недосмотру», но сразу же уволен как «враг народа». Комнату в бараке мы успели занять, правда жили в ней очень недолго. Из барака нас выгнали тоже как «врагов». Старшие потом вспоминали и говорили, что это я виноват. Мой туалетный, простите, горшок стоял в общем коридоре, возле двери. Там я при нужде и восседал. А напротив, на таком же горшке,— сынишка «стрелка из военизированной охраны». И чего-то мы не поделили: рев, крик, и у соседа оказался горшок перевернутым. «Стрелок» подал рапорт: «враги народа», «возможность диверсий». Нас выселили «в течение 48 часов». А куда идти? Крошечный поселок забит приезжим народом: высланные поляки, эвакуированные евреи, ссыльные, вроде нас, «враги народа». Тем более без денег и без нажитка. Дядя Петя оказался в больнице: у него горлом кровь пошла, делали операцию на желудке. И тут — выселение. На самом краю поселка стояла разваленная саманная хатка с двумя стенами и без крыши. Там мы и стали жить, кое-как приспособив ее. Тети-Нюриным рукам спасибо.
Но речь — об ином. В эту землянку привезли дядю Петю, из больницы. Сделали ему операцию на желудке и отпустили. Тетя Нюра его привезла со станции на ручной тележке. Он не мог даже встать и, конечно бы, умер, ведь на всю семью нам полагалось — по карточкам: одна мамина «пайка» хлеба «для служащих» — 250 граммов, тети-Нюрина — 150 граммов, как «надомному работнику артели инвалидов» (за сутки надо было связать на спицах одну пару варежек для красноармейцев), а мне да брату Славе, кажется, ничего не «полагалось». Да и тех хлебных «паек», законных, по карточкам, порой просто не выдавали. День, и другой, и третий, и даже — неделю. Не дают — и все. Как хочешь живи.
Дядю Петю спасли Саломатины. Они увезли его в Бурлю-Тюбе, поселили в своем доме. «У нас рыбы много,— сказали они.— И карточки хорошие». Глава семейства был капитаном парохода, а тетя Шура к тому времени устроилась продавщицей.
Дядя Петя выжил и вернулся домой уже на своих ногах; на работу его так не взяли до 1944 года, потому что «враг». Но это опять о другом.
Повторю: Саломатины не были нам родственниками, всего лишь — соседи. А спасли за короткое время дважды, не побоявшись за себя и детей. «Врагов народа» спасали. А времена были жесткие. Какой-нибудь донос — и все, конец известный.
К сожалению, и к добрым людям не всегда судьба милосердна. «Здравствуйте дорогие друзья Анна Алексеевна Петр Григорьевич Тосинька Славочка и Боренька. Хочу с вами поделиться своим горем и потерей. Проклятые убили моего дорогого сыночка Павлика. Ему исполнилось 20 лет 3 месяца. Как тяжело пережить такой удар. Было у меня их трое, а сейчас остался один Вова, а что будет с ним… Вова в школе пехотной в городе Каты-Курган Самаркандской области… Ну дорогие друзья я своим поделилась горем дальше писать не могу…»
Год спустя под Сталинградом, на фронте погибнет и Вова. А тетя Шура Саломатина, уже на моей взрослой памяти, будет приезжать к нам, гостя в старом доме. Саломатины не были нам родней, просто — соседи.
Летняя кухня
В глубине двора, прикрытая зеленью, доживает свой век наша летняя кухня. Давным-давно не беленная, облупленная до глины, а кое-где уже торчат наружу деревянные планки обрешетки, словно ребра у старой коняги. Спасибо развесистой вишне, лопухам да морковнику, что прикрывают ее старость и немощь. Торчит из зелени лишь обомшелая крыша.
Когда-то в прежние годы наша летняя кухонька стояла словно игрушка: помазанная и побеленная, крохотные оконца сияют чистотой. Строил ее старший мой брат Слава.
А прежде, после войны, от нужды и бедности да по старым обычаям в каждом дворе, недалеко от хаты, обязательно имелась летняя печурка ли, камелек, которую у нас на Дону именуют горнушкой ли, горном.
Ладилась она просто: ямка в земле, над ней — невысокая кладка дикого камня на глине, а сверху — чугунная плита и труба торчит — вот и все нехитрое строенье. Но без него — не обойтись. В летнюю пору не с руки в доме печку топить. Во-первых, жара будет в хате. Не продохнешь. И дров, как говорят, не настатишься, то есть не напасешься. Дрова надо к зиме беречь. Край наш степной. А летнюю печурку можно топить всяким бурьяном да щепками, при нужде подкладывая кизяки, то есть сушеный навоз.
Дворовый горень — любой печке замена. На нем чайник кипит, пресные пышки пекутся или блинцы, варится молочная пшенная каша с желтыми пенками или польская, тоже пшенная, но с толченым салом да луком, в большом разлатом казане, который зовется каймачным, закипает, а потом томится молоко: «вечерешник» да «утрешник». Томится долго, пока не станет густым, коричневым и не покроется розовой пенкой. В свою пору на горнушке нардек варят, арбузный мед.
Была и у нас во дворе такая печурка, сложенная из старого кирпича.
Позднее дворовые горнушки ушли, их заменили летние кухни ли, стряпки: дощатые или плетневые, обмазанные глиной домики, малые, словно скворечни, лишь бы уместилась печка, кухонный, он же обеденный столик да самодельные полки с немудрой утварью. В этих кухнях и возле них, под навесом или в тени развесистого дерева, словом, на воле текла долгая летняя жизнь. Здесь варили еду, кормились, принимали соседей, гостей, стирали, вечерами беседовали…
Ранней весной, порою в марте, уходили в летние кухни и обретались там до самых морозов. Уже во дворе зябко и в хате стыло, а в летней кухне тепло, приютно и пахнет едовым — печеным и вареным.
Даже теперь, когда наша летняя кухня доживает век, ступишь через ее порог, закроешь глаза и не вдруг, но почуешь сладкий дух домашней еды. Даже теперь… Через век.
В старые годы, в детстве моем, бывало, утром, еще спишь на веранде или в сарае, по летнему быту, спишь, но чуешь запах жаренной на сале картошки, пресный, будничный дух печеных пышек или воскресный, праздничный — пирожков, даже начинку их враз угадаешь: с картошкой и луком, со свежими яблоками или мои любимые — с капустой.
Всякая еда, которая на дворовой горнушке или в летней кухне варится ли, жарится, томится, доспевая, дает о себе знать сладким ли, острым духом, который растекается по двору и округе. Но пирожки — это праздник, и пышки да блинцы — не всякий день, а главная еда, конечно же,— щи. Не русские, а наши, донские щи. Это — большая разница, как говорят у нас: и рядом не постановишь.
Запах ли, дух настоящих свежесваренных донских щей не объявится разом. Щи варятся долго и, словно хорошая музыка в оркестре, не грянут вдруг, а будут вначале там и здесь пробовать голос.
Зашкварчит в кипящем масле иль сале, остро и тонко запахнет обжаренный лук да морковь; объявится пресная сладость тех же моркови и лука, но припеченных. Забулькотит в жаровне, а потом стихнет, но высоко и щекочуще поднимется от плиты аромат горячей томатной заправки. В свою пору сладкий болгарский перец свой голос подаст и горький перец-гардал. Не смолчит и пахучая зелень: петрушка, укроп, зеленый лучок и даже малая чесночная долька. И все это на фоне сытого густого духа картофельного да капустного, а уж тем более мясного: жирная баранинка, говяжья грудинка или свинина — вместе это сольется (чем не симфония!) в единый дух донских свежесваренных щей, которые уже не кипят на горячей плите, но доходят до настоящей готовности, пахучим веем накрывая двор и округу. «Подождите, нехай постоят, подойдут,— умеряет хозяйка нетерпеливых и упрекает: — Либо из голодного края?..» Может, и не из голодного, но слюнки текут и голова кругом идет от свежего щаного духа.
В старом быту, особенно в сельском, на хуторах, тем более в голодную или в холодную пору, щи, как говорится, «всему отвечали». На завтрак, перед работой, горячих щей похлебать не лишне, в обед — само собой — без жидкого хлебова не обойдешься, на ужин можно доедывать остатки, которые за долгий день настоялись.
Щи, которые варят в России, ту бледную немочь, посмеиваясь, называю я сиротскими щами или тюремными. Они и на погляд сиротские. Наши, донские, в тарелке ли, в миске словно полыхают багряным ли, кумачовым огнем. А дух…
Один из моих земляков, закончив учебу и жизнь начав вдали от родных краев, в первое же лето привез свою молодую жену в родительский дом и сказал ей: «Научись у моей матери и бабушки варить наши донские щи. Будешь их дома готовить. И больше мне никаких разносолов не надо. Тебе будет проще, а мне — вовсе хорошо».
Приготовить донские щи не больно просто, но была бы охота… А еще желательно иметь под рукою летом — свой огород, по зимнему времени — хороший погреб. Конечно, еще нужен навык, терпение и, конечно, любовь. Если не к ремеслу, то к людям, для которых щи варятся. Потому что быстро, на скорую руку, варятся лишь суп-затируха да какая-нибудь баламука, от которой нынче и дворовый кобель отвернется.
Как-то в поезде, в неторопливой дороге, беседовал я с попутчиками, среди которых была молодая женщина. Говорили о домашней еде. «Сколько времени уходит у вас, чтобы сварить борщ или щи?» — спросил я и услышал в ответ: «Академический час: сорок пять минут». Я лишь посмеялся. Вот и кулинарная книга мне сообщает, что «популярность щей объясняется простотой их приготовления».
Нет, за «академический час» донские щи не сваришь. И никакой «простоты» в них нет.
Главная в жизни моей повариха тетя Нюра в последние свои, еще крепкие годы, когда в силах была и видела мой интерес, многое порассказала мне, колдуя возле печки да кухонного стола. Позднее, замыслив эти заметки, беседовал я с Александрой Павловной Сурковой, с покойной уже Коротковой Марией Тимофеевной, с бывалыми поварихами теткой Фросей да Клавдией Ефимовной, с другими людьми, возраста преклонного, опытного, у которых приходилось гостевать или просто обедать. Не устоять перед соблазном, когда войдешь во двор ли, в дом, и от манящего сладкого духа — голова кругом, да еще и приглашают по обычаю, от всей души: «Садись, похлебай горяченького, только что щи сварила».
Итак, к делу: если щи варятся мясные, как нынче это в обычае, по достатку, то мясо выбирается обязательно с косточкой, чаще всего грудинка с ребрышками. Но мясо, что называется, зрелое: никакой телятины да ягнятины. Любое мясо (говядина ли, баранина, свинина) целым куском должно вариться полтора-два часа на жару невеликом, чтобы не булькотело, как в адском котле, не исходило паром, но проваривалось. Одни варят бульон без лука, другие кладут целые, но надрезанные луковицы. Наша тетя Нюра припекала прямо на печной чугунной плите, конечно промытой, половинки луковиц и морковок. Разрежет и положит на горячую плиту, припекая до коричневого загара, а уж потом, в свою пору, в бульон кладет. Еще в бульон, где варится мясо, бросают несколько больших целых очищенных картофелин. Когда они сварятся, их вынимают, толкут и снова, в свое время, отправляют в бульон. Очень важное, а может быть, главное в наших донских щах — это заправка. В чугунной глубокой жаровне на подсолнечном или на сливочном масле, на нутряном свином жиру или на сале (в последнем случае выжарки надо убирать), в этот нагретый жир кладутся мелко нарезанные лук, потом морковь, которые обжариваются, как обычно, до золотистого цвета лука, на жару невеликом.
(Встречал я хозяек, которые морковь не обжаривают, а закладывают ее вместе с капустой. Но это — редкость.)
Для заправки же летом берутся свежие помидоры, желательно мясистые, темно-красные, например «бычье сердце»; помидоры розовые, салатные для щей не подходят, хотя их любят покупать городские хозяйки. Помидоры тщательно протираются сначала на дуршлаге, а потом на сите, чтобы отделить и выбросить шкурки и семена. Получается жидкий томат, целая миска.
Летом берутся самые спелые помидоры, с грядки. А вот зимой… В старые времена на зиму помидоры солили. У нас в погребе всегда стояла большая, десятиведерная, бочка. Рядом такая же — с капустой. Поменьше — с огурцами. Всякий день в погреб ныряли, доставая для еды большую миску красных щекастых помидоров. Целенькие, не хуже свежих. Их мякоть и сок — сладки и терпко-бередящи. Не зря ведь при солке их перекладывали пахучим смородиновым да вишневым листом, корнями хрена. Съешь один помидор — и за другим рука тянется.
Но нынче — об ином. Целые помидоры из бочки — на еду. Мятые — складывают отдельно, для щей. Их потом протирают, получается томат. Но настоящий, не вареный.
Это позднее, когда перестали помидоры солить, а начали их мариновать в стеклянных банках, то для щей, для зимы, стали томат готовить. Перегоняют через мясорубку, а потом… Одни солят и квасят, другие варят. Это уже керчик называется. Ни то, ни другое настоящим, бочковым помидорам — не замена. Получается, как нынче пишут на этикетках, «идентичный натуральному».
Редкие хозяйки и нынче все же солят помидоры, чаще резаные ли, мятые, именно для того, чтобы зимою настоящие донские щи сварить. Честь им!
И конечно, домашнему томату не замена фабричный, из банок да склянок, в которых он бывает приглядным, ярким, особенно турецкий да итальянский. Но тот лишь для щей турецких.
Готовый томат заливается в жаровню с обжаренными луком и морковью. Когда он хорошо прогреется и начнет закипать, его надо поставить в сторонку, на легкий жар, все время помешивая. Заправка должна долго и долго томиться. «Чем дольше, тем лучше,— говорила тетя Нюра.— Но не забывать помешивать». Позднее, уже по времени ближе к закладке, в жаровню добавляют две-три ложки «заправки перцовой», из сладкого болгарского перца, по цвету он должен быть красным, пропущенным через мясорубку.
Вся заправка в конце приготовления должна хорошо протомиться на жару, стать крутой, потеряв влагу.
Готовый бульон, из которого вынули мясо, отделили косточку ли, мосолики и снова положили их в кастрюлю, ставится на полный жар и в хорошо закипевшее недро летом да осенью закладываются нарезанная невеликими, но ленточками капуста. Желательно сортов летних. Зимой в дело идет квашеная, бочковая. Когда варево вновь закипит, дают капусте повариться, чтобы стала мягкой, пять ли, десять минут и закладывают резаный картофель, а потом толченый, из тех целиком сваренных картофелин, которые ждут своего часа.
Одно уточнение, но важное. Как известно, даже войны бывали из-за того, что люди не могли договориться, как правильно вареное яйцо разбивать: с тупого конца или острого?
У нас среди едоков и хозяек не война, но давнишний спор о том, как правильней запускать картошку и капусту. Что вначале… или, может быть, вместе?
Обычное, классическое: конечно, капусту. Иначе она не проварится. Но много любителей похрустывающей капусты во щах. Порой из-за этого в семье раздоры:
— А я люблю, чтобы она похрустывала!
— А я не люблю, потому что она сырая!
Такая беда у моих знакомых на хуторе Большой Набатов. Отец любит хрусткую капусту. «Иначе это не щи!— горячо доказывает он.— Это — поросячье варево, чавкаешь и ничего не чуешь!» — «Хрустит — значит, не сварилась!— перечит ему сын.— А сырую капусту лишь козлы грызут! Хрум-хрум, хрум-хрум…» «Варю через раз,— говорит хозяйка.— То — хрустко, то — мягко. День одному угожу, день другому. Не буду же на одну семью два разных чугуна ставить».
В щи с квашеной капустой картофель закладывают вначале, иначе он будет словно камень-голыш, не проварится.
Когда картофель и капуста сварятся, то хозяйка неискушенная проверит готовность, «на зуб» или ложкой, а опытная все поймет без «покушки» на запах, на нюх. Теперь надо закладывать готовую густую заправку из жаровни и следом, не мешкая, мелко нарезанную свежую зелень, толченую дольку чеснока и малую толику заправки перцовой, острой. Последнее — только на любителя. Не всякому нравится острота. Чаще для этого на обеденном столе лежит высушенный стручок жгучего перца-гардала. Возьмут перчик за хвост и полощут в тарелке со щами. Глядя на взрослых, ребятишки порой усердствуют, и часто не в меру. Наперчат, даже слезы из глаз. «Тебя упреждали,— скажет мать.— Теперь ешь до дна, доедывай свою дурь».
Толченый чеснок тоже не всегда кладут. Свежее хлебово с легким чесночным душком хорошо. Но если варят щи не на один день, то лучше чеснок не класть, прогоркнет.
Лавровый лист — тоже на любителя, но кладется он в самом конце варки. А еще — тоже на любителя — две-три столовые ложки горчичного масла.
Уже готовые щи надо с огня убрать, но дать на легком жару настояться хотя бы десять — пятнадцать минут.
А уж тогда — крышку прочь!— являются миру и семье горячие донские щи.
Пахучие, огневые, даже на погляд. Ведь в них не только нынешний печной жар, но солнечный, сбереженный за долгое лето, пока из малого семени росли, наливались земными соками, а потом спели и зрели помидоры, тугие, алые, на развал и вкус — сахарные, сизые от натуги луковицы величиной в кулак, рдяные от спелости, фунтовые перцы, хрусткие морковки. Спели и зрели долго, чтобы в сегодняшний единый час разом отдать всю свою сладость, терпкость, запах и цвет и, конечно, сытость да силу. Так и получаются донские щи. Главное наше яство и угощение.
Самые счастливые
Вот и август проходит. Лету — конец. Дни стоят солнечные, жаркие, словно вернулся месяц июль. Но по вечерам — зябко, а утром — и вовсе пар изо рта и роса белая, ледяная, чтобы не забывали: лету пришел конец. Ночью так звездно, словно и там, в полях и садах высоких, все спеет и зреет. И вот уже золотые райские яблочки с тихим шелестом, прочертив небосклон, летят к земле.
Еще вчера желтая луна, словно большая спелая дыня, поднималась с вечера и долго светила в теплой ночи. Нынче лишь яркий белый рожок месяца гуляет по звездному небу. С каждым днем он все тоньше. Вот-вот истает. Тогда и лету конец. Не верится, что еще неделя-другая — и придется уезжать. Над старым домом, над всей округой сомкнется долгая осенняя, а потом и зимняя тишь.
Хотя в нынешние времена здесь и летом не больно шумят. Окраина, слава богу. Машины не досаждают. А народ, что молодой, что старый, на улице нынче не толчется, к телевизорам прибиваясь.
Мой старый дом помнит иное, когда детвору под крышу колом не загонишь. Особенно летом: ведь школьных уроков нет, одни лишь «уроки» домашние. Корову в стадо прогнать да встретить, в огородных делах помочь: копать, поливать все лето (мой ровесник Юрий Тегелешкин и сейчас в банный день вспоминает: «Триста шестьдесят ведер было в колодце… Три раза в день вычерпывал его…»); кроликам ли, козам травы нарвать — хватает забот. Но в конце концов и они кончаются. «Я — на улицу!» — домашним короткое объяснение, и пятки сверкают.
Теперь ищи-свищи. Лишь голод — не тетка, во двор загонит. Да вечер, когда нужно огород поливать и встретить с попаса скотину. А потом снова: «Я — на улицу!» До поздней ночи.
«Улица» для детей нашей округи и всего поселка — это не просто встреча ровесников и уход от родительской опеки. Улица в пору моего детства — это мир, которого теперь нет и уже никогда не будет. Одних лишь игр не перечесть. Лапта… И каждый мальчишка ладил свою деревянную биту: удобную, с лопастью на конце, в меру тяжелую (чтобы и по силам, и мяч от удара улетал далеко). Городки, чиж… В один лишь резиновый мячик сколько игр… «Штандар!» И мячик летит высоко-высоко, ты убегаешь, а кто-то ловит опустившийся мячик и целит в тебя. А «выбивалы»? Конечно же, «третий лишний», «жмурки» по кругу, «догонялы» и «куликалки-пряталки». «Раскол» и «разбег». Добро, что простор широкий: вся улица, все дворы. А «казаки-разбойники» и «отзыв давай»… Это уже в Лог пошли и в лесистое займище. А на месте, рядом, можно играть в «козла», в «отмерялы»… Какие были прыжки! Дух захватит! У девчат — «классики» да «скакалки». Последние и для ребят, потому что ловкость нужна: не задев скакалку, которую со свистом крутят и крутят, с «заходом» в нее войти, с «уходом», «с заменой». Не увернешься, хлестанет тебя резиновым жгутом по голому телу. И футбол. Сначала были «мячи», набитые тряпками да опилками. Тяжелые, надо сказать. Пальцы выворачивали. Потом появились надувные мячи, с «покрышкой» и камерой. В футбол сражались везде: возле дворов, на выгоне, в просторном Логу. Улица на улицу: Пролетарская на Октябрьскую. Класс на класс. Играли босиком, чтобы не разбивать обувку, она ведь денег стоит. И без судей, но по-честному: «не коваться», то есть по ногам не бить. А клюшки, хоккей — это уже зима, на замерзшем Кондоле да в Затоне, на Гусихе. Зимой же лыжи, да санки, да снежные городки-крепости, их «штурм» и «защита». Но это — зима! А все долгое лето рядом еще и живая вода: сначала Лог, мелкий и теплый, потом уже Дон и Затон. «Догонялы» в воде, «нырки» да «салки». И конечно, рыбалка. Тяжелые весельные лодки, мозоли на руках… Но сколько радости, когда уплываешь все дальше и дальше. Сегодня до Березовой балки, а завтра к озеру Нижнему.
И снова об играх. Теперь о них и памяти нет. «Айданчики» или «казанки», когда тяжелой, свинцом налитою битой издали целишься, бьешь. Чик, бук, тала, арца — забытые слова, а уж джюнга ли, джинга, айдан и тем более. Про «жестку» тоже теперь не помнят… Круглый кусочек кожи с длинной шерстью, к которому снизу крепится свинцовый ли, медный грузик. Расправил шерсть, подбросил рукою «жестку», а когда она падает, то не дай ей упасть, подбрасывая ногою, внутренней частью стопы. «И раз, и два, и три…» «Жестка» взлетает и взлетает вверх. «И десять, и двадцать…» Если ты мастер, то «жестка» выше головы летит, и ты успеешь повернуться вокруг и снова подбросишь. Это класс: «с поворотом», «пяточкой», «левой и правой». «Пятьдесят шесть, пятьдесят семь…» «Сто двадцать один, сто двадцать два, сто пятьдесят…» Это уже — мастера великие. Да еще и умельцы. «Жестку» надо уметь сделать самому, своими руками. Как и лапту, городки, бумажного змея. Помочь некому. Все безотцовщина. Война. Вдовы да сироты вокруг. Мирошкины, Подольцевы, Быковы, Чеботаревы, Ионовы… Что-то сейчас и не вспомню, у кого был отец живой. Толя Пономарев — без отца, Афонин — без отца, Лузиковы, Арьков Николай, Виктор Вареников… Все без отцов. Надеяться не на кого.
И еще один вопрос, ответ на который искать надо в прошлом.
— Вы артистом не были?— спросили меня из зала, в конце встречи.
Дело было в Москве, в Центральном Доме литераторов, в Большом зале, когда молодые читатели, студенты да старшеклассники, присудили мне литературную премию. А перед этим недолгий, но разговор претендентов с полным залом. Каждому — свой черед. Говорил и я, отвечая на вопросы, последний из которых заставил меня рассмеяться:
— А вы артистом не были?
Я посмеялся: какой из меня артист?.. А потом вспомнил: наш старый дом, Калач-на-Дону, невеликий поселок, в котором было столько много артистов.
Старые фотографии. У них есть чудесная сила — воскрешать былое. Вот здесь, наверное, год 1945-й, еще военный. Детский сад, он назывался «водников» и размещался в полуподвале. Но дело не в стенах. Вот фотография: ребятишки, какой-то праздник, кажется, Первомай. На детях простенькие, но костюмы из марли да цветной бумаги. «Украинка», «узбек» в тюбетейке, тоже бумажной, клееной и раскрашенной. Но танцы были настоящие, народов СССР: гопак, лявониха, лезгинка. Марианна Григорьевна Блохина, наш музыкальный руководитель, вдохновитель и организатор, свое дело любила и знала.
Шумовой оркестр. Слыхали о таком? Он гастролировал только в Калаче-на-Дону. В клубе, который называли «водницким». Зал был полон. Как нынче говорят — аншлаг, причем постоянный. Полный зал взрослых людей.
Оркестранты — детишки из детского сада. Инструменты?.. Боже, чего там только не было! Деревянные ложки, колокольчики, погремушки, какие-то трещотки, ксилофоны из бутылок. Не помню всего. В сопровождении фортепьяно, за которым Марианна Григорьевна. А почему шумовой? От бедности. Это же — война, а значит — нищета. Но детям хочется радости. И Марианна Григорьевна придумывает и создает шумовой оркестр. У него и дирижер был. Прямо как настоящий, с дирижерской палочкой. Палочка — вершок. И дирижер — не больше. Но как он кланялся, принимая восторженные аплодисменты зала! Левая рука прижата к груди. Грациозный поклон направо и поклон налево, чтобы никого, не дай бог, не обидеть. А потом — вскинутая рука и поворот к оркестру: они, мол, тоже старались, а не только я.
Шквал аплодисментов и хохота.
Этим дирижером был я. А репертуар у нас был серьезный: Чайковский, Мендельсон и, наверное, Шуман. Ну как же без Шумана в шумовом оркестре. Знаменитом на весь Калач.
Вот еще одна фотография. Девочки в марлевых платьицах-«пачках» танцуют. Наверное, «танец маленьких лебедей». Это уже — школа.
А вот почти взрослые, класс седьмой, наверное. Участники театрального спектакля. Был в Калаче свой школьный театр. Ставили Островского, Гоголя, Розова, Корнейчука. Появился новый клуб, с большой сценой. Играли там для всего поселка. «В поисках радости» Розова… Кого я играл? Сынка профессорского, восставшего против семейной мебели! И другое: «Солнце низенько, вечер близенько. Выйди до мене, мое серденько…» Это тоже — я.
Какие были купчихи Островского! Их Лариса играла. А какой был Каленик, Витя Иваниди! А как он Любима Торцова играл! Такого и во МХАТе не сыскать.
— Исключительно талантливые дети!— говорила Марианна Григорьевна.
А как мы пели! Все пели: вокалисты, хоры, которых в школе было несколько. У младших — свой, у старших — свой. В детском саду тоже — хор. А еще был хор «сводный» — все вместе, во время больших праздников.
Проверка голоса. «У тебя — первый, у тебя — второй». И вот уже дома все знают, что у Маши или у Гриши хороший голос и скоро будет концерт. Конечно, все придут: родные, соседи.
— Калачевские дети очень, очень одаренные,— говорила Марианна Григорьевна.
Все это было в радость: пели и танцевали, декламировали, в спектаклях играли, репетировали, выступали с концертами.
Да и только ли мы: детвора, школьники. У взрослых был свой «драматический коллектив» в Доме культуры. Там же был хор, вокалисты. В больнице — своя «самодеятельность». Конечно, не больные, а врачи да медсестры. В речном порту пели «грузчицы». Была такая женская профессия — таскали на горбу мешки да ящики, выгружая да нагружая вагоны да баржи, пудовыми «насыпками» зерно перекидывали. А еще — пели. Несколько имен помню: Дуся Расторгуева, Матрена Неклюдова… Урывская… Их было много, человек тридцать. А во главе — знаменитый гармонист Митя Фетисов. Выступали в клубах, в госпиталях, ездили в Ростов и даже в Москву. Но это, как говорится, вакан, удача, в жизни — один раз. Все остальное — для земляков, а главное, для себя.
Много позднее, на концерте ансамбля Дмитрия Покровского, так рано ушедшего, услышал я от него со сцены слова: «Самые счастливые в этом зале — это мы, потому что поем. А вы лишь слушаете».
Вот и мы, калачевские, в свою пору были людьми счастливыми: пели, танцевали, играли в спектаклях. Но это — в прошлом. Нынешний день: телевизор да редкий, во время очередных выборов, концерт какой-нибудь потертой «знаменитости» на стадионе.
Жаль, жаль… Ведь говорила Марианна Григорьевна: «В Калаче удивительно талантливые люди. У них тонкий слух, хорошие голоса, удивительная пластика».
Это — про всех нас. Недаром через столько лет московские студенты, увидев и послушав меня, тотчас угадали во мне артиста.
Да и рассказы свои на Всесоюзном радио, на улице Качалова, читал я сам. Записывали Табакова, Покровского, кого-то еще. Потом поняли: автор должен читать. Получается лучше. Получалось.
Праздник
Вчерашний день выдался пасмурным и холодным. Шел дождь; задонские холмы еле виделись в туманной сырой мгле.
И нынче вот уже полудень, а дождь то стихнет, то снова стучит по жестяной крыше. Сумрачно, скучно. Абрикосовые деревья в белом цвету мокнут, словно сироты. А ведь завтра — праздник.
Вечером дождь перестал, но солнце так и не выглянуло. Ненастный день, поздняя холодная весна. Но все же весна. Небо в тучах, низкое, по-вечернему угрюмое; а на земле — свежая зелень, мокрая от дождя. Поодаль — словно белесая дымка стелется по траве. Это зацвела пастушья сумка. И рядом цветущие абрикосовые деревья: белый, розовый цвет. Цветут они, как всегда, мощно: лишь у земли виден черный ствол, а выше — белое облако. Пасмурный вечер; сырость и зябкость. Но как хорошо смотрится белый дым цветенья на зеленой земле. Обычно абрикосы цветут еще до зелени. Как-то даже тревожно: белое на черном. А нынче — зелено. Вот и видится в ненастном вечере: белое на зеленом. Так лучше: глазу — теплей, душе — покойней.
Подошел к деревьям. Еще издали, через сырость и холод, повеяло нежным духом. Сначала не поверил. Принюхался — точно: аромат. Подошел ближе, стал меж деревьев. Да, зябко, сумрачно, но пахнут, цветут.
Долго стоял. Пошел в дом. Из двора уже оглянулся: зелень, белый, размытый сумерками цвет, а значит, весна. Завтра — Пасха.
Ночью вышел: ветра нет и прогалов нет в тучах; вечером по барометру стучал пальцем, ничего доброго: стрелка на «непогоде».
А утром проснулся, вышел во двор — и глазам не поверил. В косых утренних солнечных лучах мокрая трава сияет, радужно переливаясь, вся в бисерной влаге. На небе — ни облачка.
Солнце поднялось выше, и разом раскрылись яркие, золотистые одуванчики; абрикосовые деревья — словно белые облака на земле; алыча зацветает, так сладко пахнет; смородины желтый цвет приторно-сладок, его любят черные мохнатые шмели; они сыто гудят, пригибая тяжестью своей цветок за цветком. Целый день пчелы звенят и звенят. А вечером прилетели ласточки. Вот он и праздник.
Марьяна
«Вспоминаю очень часто душевные наши встречи, теплые беседы в маленьком и уютном вашем домике. Вы пишете, что я успокаивала вас, могла развеселить, а ведь сама я приходила, прибегала к вам с каждым новым событием, с каждым известием. У меня в Калаче ведь не было более дорогих и близких людей, чем вы». Это строки из письма Марианны Григорьевны Блохиной. Последние несколько лет она жила в Ростове-на-Дону, возле сына, сестры. Там и умерла.
Марианну Григорьевну знали в каждом калачевском доме. У нее учились два поколения. Хотя была она вовсе не педагогом, а музыкальным руководителем «на полставки», то есть на половинной зарплате. Детский сад и школа. Шумовой оркестр, о котором я говорил, танцевальные группы, несколько хоров, драматический коллектив, вокалисты, чтецы-декламаторы.
— Калачевские дети очень одаренные. Очень! Пластика — удивительная. Голоса…
Мне, теперь уже коренному калачевцу, трудно с этим не согласиться. Это ведь и обо мне тоже. Но вот до Марианны Григорьевны не было человека, который бы это увидел, почувствовал, сказал вслух.
Детский сад, школа… Надо успеть везде. Марианна Григорьевна словно белка в суматошливом школьном и детсадовском колесе.
«В одиннадцать у меня — хор младших классов, потом просили на пионерском сборе поиграть, потом — танцевальный. После обеда собираю солистов. Вечером — драматический. Кто не придет? Лена? Почему? Сорвать репетицию?! Что с ней случилось? Сейчас побегу и найду ее!»
Старшеклассники, те, кто знал ее ближе, меж собой называли ее просто Марьяной. Она была по образованию вовсе не педагогом, а, кажется, инженером-электриком. Но хорошо играла на пианино, любила музыку. В детский сад и школу она попала случайно: война, эвакуация, чужой поселок, нужна работа. Вроде нечаянно получилось, а на всю оставшуюся жизнь.
Сейчас, со стороны, издали, видится: какая все же сумасшедшая была у нее работа! Ведь в школе что основное: математика, русский и прочее. А тут Марьяна со своими репетициями. И ей: то — места нет, то — нужных людей куда-то забирают. Или вдруг эти милые люди сами куда-то делись. Ищи, Марьяна! У «солистки» несчастная любовь, и ей не до песен. Уговаривай, Марьяна… А у Марьяны дома свои дети. И зарплата — копеечная. Не раз она грозила все бросить и уйти. Но, к счастью, уйти не могла.
Поздний вечер. Пустая школа. Репетиция закончена. Устали. «Хотите, я вам что-нибудь сыграю?» — «Сыграйте, Марьяна Григорьевна…»
Открытое пианино. Музыка. Пристроимся рядом, слушаем. Уборщица, опершись на швабру, стоит, тоже слушает.
Потом, через долгое время, в годы взрослые, эта уборщица, встречая, спрашивала меня: «Как там Марианна Григорьевна? Не слыхал?— головой качала.— Какой человек…»
В последние свои калачевские годы Марианна Григорьевна жила в школьной пристройке, в крохотной комнатке, нормальной квартиры так и не получив.
Она была из Одессы, из семьи Соколовских. Видимо, от немцев бежали. И оказались после войны в Калаче. Фима Наумовна — глава семьи, старая, седая. Две дочери: Марианна и Любовь Григорьевны, последняя сразу умерла. Я ее не помню. У нее остался сын Феликс. У Марианны — сын Сергей. Так они и жили вчетвером: Марианна — работала, ребята — учились, Фима Наумовна вела дом.
Один случай. Мне рассказывали о нем не раз, тетя Нюра и мама. Это было в сорок седьмом или в сорок восьмом году, после войны.
Время тяжелое: голод, разруха. А у Фимы Наумовны и Марианны, в их семье, были деньги. Помнится — пять тысяч рублей. (Сумма для того времени великая. Месячные зарплаты — тридцать рублей, пятьдесят рублей, семьдесят.) Говорили, что это выигрыш по государственному займу. Выигрыш — значит, выигрыш. Фима Наумовна и Марианна берегли эти деньги, не тратя их, для круглого сироты Феликса. Когда он вырастет, эти деньги ему помогут начать свою жизнь. А пока деньги берегут, не знаю уж, на сберкнижке ли, дома.
Но про «пять тысяч» многим известно. А времена были тяжкие: хлеба не ели досыта. И потому, когда припирало, люди шли к Фиме Наумовне и просили денег взаймы, на какой-то короткий срок, чтобы «перебиться». Брали многие и все отдавали. Не вернул деньги лишь один человек. Помню его фамилию, но называть не буду. Он занял деньги, чтобы купить телку. А потом сказал: «Деньги не верну». И все. Кому идти жаловаться? И как? Никакого документа, даже расписки. А в те самые дни кому-то из знакомых срочно потребовались деньги. Кажется, Шкленникам. Тоже — беженцы, поляки ли, латыши. Детей имена помню: Эдуард, Витаус и Юля. Шкленники надеялись. А тут — такая вот история, которая всем стала известна. Но Шкленник все-таки пришел к Фиме Наумовне, потому что деваться некуда. Он пришел и сказал: «Я знаю, что вам деньги не вернули. Но мне взять больше негде. А нужда велит. Я написал расписку, и свидетели распишутся…» Фима Наумовна остановила его: «Не надо никаких расписок,— сказала она.— Если один плохой человек обманул нас, разве можно всем людям не верить». Вот и все.
Марианну Григорьевну в тогдашнем Калаче все знали и долго помнили. Фиму Наумовну — тоже. «Какие люди хорошие…— говорили мои домашние.— Это не Розенцвейги…» Розенцвейги — тоже одесские беженцы, из Или. Они туда эвакуировались с вагоном сапожного товара. Организовали артель, в которой работали ссыльные поляки. Всю войну Розенцвейги жили припеваючи. А потом вернулись в Одессу, как говорили, с вагоном денег. Но это — уже другое, почти нынешнее.
Марианна Григорьевна — из времени иного, недаром она любила наш старый дом и его обитателей. Строки из писем:
«Вспоминаю Калач и ваш милый домик… Вы с Анной Алексеевной всегда такие добрые, отзывчивые, ко всем людям ласковы… С вами мне было легко и свободно…»
«…Здесь даже с самыми близкими… мне как-то не по себе. По их мнению, я не умею жить, не умею устраиваться, добиваться… не раз уже говорили, что я идеалистка, наивная женщина, безосновательно верю во все хорошее в жизни, в людях. Кто знает, может быть, это и так… Но мне всегда люди казались хорошими в большинстве случаев.
Нет, мне кажется, я была права. И вы, мои хорошие друзья, сохраняйте свою доброту к людям. Не теряйте веру…»
Наш старый дом, его семейные альбомы, пожелтевшие фотографии. Детский сад, школа. Веселая детвора: танцуют, поют… Где-то там, рядом, наша Марьяна. А это — уже постарше: драматический кружок. Веня Болдырев, Валера Скрылев, Валя Жукова, Маша, Рая, Галя и я… В «Майской ночи» — мы были «ведущими актерами». А это еще старше, и люди другие, но тоже драмкружок: Егор, Митя, Юра Могутин, Валя Попова, и я уже подрос, это десятый, наверное, класс. Светлые, милые лица. И Марьяна с нами. А вот уже младший мой брат, Николай,— он десятью годами моложе — тоже с Марианной Григорьевной. Целая гурьба ребятишек. Поют скворчата.
Гляжу на фотографии. Музыкантами, артистами, художниками никто из нашей братии не стал. Даже в мыслях этого не было. Учились, работали, жили, живем. А как же «Учитель, воспитай ученика»?.. Что нам дала Марьяна? Минуты радости в детстве и в юности. И еще: «Калачевские дети очень одаренные». Спасибо, Марианна Григорьевна.
Боль старого дома
«Чужого горя не бывает»,— это все сказки. Правдивей иное: «Сытый голодного не поймет».
«…Такое у нас горя и потеря убили зладеи маего гироя Володю… я жила только для детей… чтобы были харошие спицалисты чтобы все их лубили и уважали… и для чего мне осталас жить серце больное а умерет не могу я два дня не работаю все хажу как аглушоная…» Это из письма тети Шуры Саломатиной. Война, год 1943-й. Страшное письмо. А чуть раньше убили старшего сына Павлика. Одному — двадцать лет, другому — восемнадцать. А тетя Шура потом жила еще почти полвека. И полвека плакала. Кто поймет ее? Чем утешит? Одно нехитрое оправдание: была война.
В нашем доме жила иная боль. Без войны.
Теперь все это лишь давняя история — полстранички в каком-нибудь школьном учебнике. 1937 год. Сталинские репрессии. Специалисты спорят: десять ли миллионов жертв или двадцать. Нынешний школьник дома прочитал, на уроке учителю оттарабанил, получил пятерку. Репрессии: десять миллионов погибло, еще десять в лагерях выжило. Потом всех реабилитировали, то есть признали невиновными. И мертвых, и живых. Но у каждого из них — отцы, матери, жены, дети, братья, сестры. Двадцать миллионов умножить на сколько? Получается — вся страна.
Говорил я, что глава нашего дома — дядя Петя — характером был довольно крут; порою придирчив по мелочам, вспыльчив до бешенства. Кому под горячую руку доставалось? Мне да защитнице — тете Нюре. Теперь, через время, я понимать начинаю. Страшная у человека была судьба. А за какие грехи?
Петр Григорьевич Харитоненко работать начал с десятилетнего возраста. Отец его умер в 1912 году, оставив пятерых детей и жену. К тому времени лишь старший из сыновей начал работать. Пришлось и другим отправляться на заработки. Дядя Петя окончил один ли, два класса школы. Работал мальчишкой «на посылках», косил сено, хлеб убирал у людей, картошку копал, продавал газеты.
В четырнадцать лет был принят рассыльным матросом на Сретенскую пристань. Через год — подручный слесаря, еще через год — младший масленщик сначала на пароходе «Корсаков», потом — «Граф Амурский». (Масленщик — подручный у пароходных механиков.) Это — уже в «люди выбился»: себе на хлеб зарабатывает и даже матери помогает.
А потом учеба: рабочий факультет в Чите, во Владивостоке. Служба в армии. Снова — работа масленщиком. И снова — учеба: Владивосток, Москва, Институт инженеров водного транспорта.
Полуголодный мальчишка-сирота, рассыльным, на побегушках кусок хлеба добывающий, становится инженером, ведущим специалистом большого завода. Неплохо по тем временам живет: квартира, зарплата и даже персональная «пролетка с кучером», которые доставляют его на работу, с работы. Сын вот-вот в школу пойдет. Ждут еще в семье прибавления. Идут разговоры о повышении по службе, даже о переводе в Москву, в министерство. Тридцать три года. Здоров и крепок. Очень красив. Фотографии не соврут. Вот она — судьба: все своими руками и головой; сирота, сын прачки, поломойки, все преодолел, превозмог, «стал человеком». И жена его, тетя Нюра, тоже ведь из сиротской семьи, с детских лет, без матери, за хозяйку: стирка, мытье, еда — все на ней, а еще — на заработки: хлеб жать, копать картошку, полы мыть, чужое белье стирать. Потом — работа на пароходах: уборщица, прачка, повар. Теперь — жена специалиста, работает в сберкассе. Все сыты и одеты. Сын Славочка с длинными расчесанными золотыми кудрями. И второй ребенок вот-вот появится. Хочется девочку. Тетя Нюра в молодости тоже была хороша. Словом, живи и радуйся.
И вдруг — все вдребезги: арест, тюрьма, потом — ссылка, снова — тюрьма, высшая мера, ожиданье расстрела, замена его, этапы, Ивдельлаг… Неожиданно, непонятно, на долгие годы.
«Мною был вовлечен в контрреволюционную организацию инженер Харитоненко…» (со слов следователя, из показаний начальника Амурского пароходства Рогожкина).
«Мне известно, что с ДВК (Дальневосточный край) перебрасывается группа водников, являющихся шпионами, в том числе инженер Харитоненко» (со слов следователя, из показаний начальника механо-судовой службы Верхне-Иртышского пароходства Бурыхина).
Кем «перебрасывается» с Дальнего Востока?! Ведь этих «шпионов» сначала арестовали, а потом под усиленной охраной везли. Из письма в Генеральную прокуратуру: «К моему сожалению, мне неизвестно, по каким причинам гр. Рогожкин и гр. Бурыхин дали на меня клеветнические показания. Для выяснения этого вопроса я настаивал и требовал от следствия дачи мне очной ставки с ними, но мне было отказано». «…я вынужден был дать на себя вымышленные показания вследствие применения ко мне незаконных и несоветских методов допроса со стороны следователей…»
Обо всем этом писано-переписано, говорено-переговорено… И все ясно. Недаром все «враги» и «шпионы» реабилитированы.
Но кто вернет жизнь человеческую, сломанную навсегда. Пустое слово — «реабилитация».
Из письма в Генеральную прокуратуру: «…была организована отправка нас в ссылку в Казахстан, под сопровождением усиленного конвоя. …привезли нас вначале на станцию Чу Турксибской желдороги… где были погружены на открытую платформу узкой колеи… Отъехав на приличное расстояние от… станции Чу, остановились совершенно в степи, без единого жилого дома или хотя бы какой-то землянки, была подана команда «Всем выгружаться немедленно!» здесь же, в степи. Несмотря на наши возмущения, вопль наших жен и плач детей, нам все же пришлось выгрузиться в степи, под открытым небом, в студеную пору. Конвой с нас был снят, поезд ушел обратно…»
Про «вопль жен и плач детей».
Тетя Нюра вспоминала, что их привезли поздно вечером и еще долго, всю ночь, гнали под конвоем, двумя колоннами: впереди колонна «врагов народа», вслед за ними колонна вражеских же семей: жены, дети. Ночь. Темно. А там то ли болота какие, то ли каналы орошения. По воде бредут. Все мокрые. Тетя Нюра была на седьмом ли, восьмом месяце беременности. Славочке, кукольному (по фотографиям) мальчику с золотыми длинными кудрями, около семи лет. И были с собой какие-то вещи. Ведь в ссылку ехали. Помогли Губернаторовы, их было семь человек: отец, мать, дочь и пятеро взрослых сыновей. Семья «врага», судового механика Губернаторова. Они несли вещи и Славочку на руках, по очереди.
После этой ночи тетя Нюра прежде срока родила мертвую девочку.
Это было начало. Впереди — новый арест дяди Пети, два года следствия в алма-атинской тюрьме, приговор: высшая мера, ожидание расстрела, замена его на Ивдельлаг, на Севере.
Когда называют и спорят о количестве людей «репрессированных», невинно пострадавших: десять ли, двадцать миллионов человек,— то, конечно, лукавят ли, не понимают про долгий и долгий «вопль жен и плач детей», про их бездомные скитания, голод и холод.
Поселок Бурлю-Тюбе. Слава начал в школу ходить, что-то уже понимает. Дядю Петю арестовывают, увозят в Алма-Ату. Из квартиры семью «врагов» выгоняют, но в бараке разрешают жить. Тетя Шура Саломатина рассказывает: «Нюра как-то уехала в Алма-Ату, узнать, да белье, может, возьмут. А Славочка — с моими ребятами. Но вижу, он сидит грустный. Потом спрашивает: «А когда маму в тюрьму посадят, я один буду жить или тоже в тюрьме?» Я ему говорю: «Не горюй. У нас будешь жить. С Володей и Павликом». Он так обрадовался, сразу играть побежал. Дурачок…»
Поселок Или. Выселение из барака в течение сорока восьми часов. Причина веская: «Семья врагов. Могут диверсию совершить». Разрушенная хатка-мазанка на окраине. Тетя Нюра лепит ее. Крыша — над головой. С едой — вовсе плохо. Это я уже помню, этот голод. Славик подрос, ездил на поезде-товарняке с ребятами свеклу воровать из буртов. Там охрана была, но ухитрялись.
В поселке был госпиталь, при нем, конечно, кухня и помойная яма, куда отбросы выкидывали. Изгородь из колючей проволоки, и часовой с винтовкой. Слава уже большой, а я — маленький, лет пять, наверное. Славик смотрит: ушел часовой, колючую проволоку приподнимает, и я ползу, в помойную яму скатываюсь и набираю в мешочек картофельные очистки, кожуру. И — назад, к Славе. Потом, дома, тетя Нюра эти очистки промывает и жарит. Или печет лепешки. Особенно жареные вкусны, на какой-то гадости: то ли технический вазелин, то ли еще что-то вонючее.
Сначала черепах разрешали ловить. Там же — пустыня. Но скоро запретили. Государству нужны. Летом рыбу ловили. Тетя Нюра будила Славу пораньше, чтобы до школы он успел с удочкой на речку сходить; может, что-то поймает. Потом была рыболовная сеть-самовязка, лодка. Понемногу ловили рыбу «маринку». Разве обо всем расскажешь… Как тетя Нюра на весь день уходила копать арыки, голодная. Или косила осоку в заливах, в воде, в комарье и мошке. Начальство заставляло. Отказаться нельзя. Семья «врага».
Голод был долгим. Даже потом, в Калаче. Желуди, лебеда, ракушки… Помню, лазили с ребятами, тоже ползком, к плетневому сараю с «макухой». Плиточный жмых: отходы после маслобойки. Охранял сараи сторож с ружьем. Но мы умудрялись, таскали понемногу, через щели. Из него суп варили. Просто грызли, сосали. Хлопковый жмых горький, от него брюхо болит; подсолнечный — этот съедобный.
Голод — одно. Но голодали многие. В Калаче, на моей мальчишеской памяти, почти все голодали. Лишь начальству легче. У них — «столовая партийного актива» во дворе районной потребкооперации. Семьи офицеров жили неплохо. Все остальные — вспоминать тошно. Подольцевы… Не пойму, как они выжили. Мать, бабка и пятеро ртов. Спали на полу, на каком-то тряпье. Ходили босиком до самого снега, даже в школу. Ленька, помню, скачет, уже мороз ударил. «Ништяк…» — сипит. А ноги у него… Не ноги, а лапы, красные, как у гуся. И распухшие.
Подольцевы, Семеновы, Лузиковы… Глядя на них, мне жаловаться грех.
Но был в нашей семье, как я теперь понимаю, вечный страх. Уже позади остались главные мытарства: высылка, аресты, Моенкум, Бурлю-Тюбе, Или, тюрьма, приговоры, лагерь и прочее. Теперь — в России, пусть и «без права проживания в областных центрах». Работа, учеба — как у всех вроде бы…
Слава заканчивает школу, поступает в Сталинградский механический институт, откуда его по спецнабору переводят в Ленинградскую военную академию. Конечно, это — великая удача, на всем готовом: питание, обмундирование, крыша над головой. А еще — перспектива. Офицеры жили не в пример лучше. Это мы видели сами.
Слава начал учиться, присылал фотографии в форме. В шинели, возле какого-то памятника; в мундире, с толстым учебником в руках: «Артиллерия». Мне, книгочею, прислал книгу «Суворов».
Славу исключили из академии через год. Разоблачили сына «врага народа». Это был тяжкий удар. И напоминание, чтобы не забывали. Но вряд ли об этом взрослые забывали. Недаром дядя Петя внушал мне:
— Меньше болтай языком… Меньше умничай… Меньше задавай вопросы…
— Да я лишь спросил…
— Меньше спрашивай!!
Порою он взрывался, и мне доставалось.
Это теперь я понимаю. Учитель истории, секретарь школьного партбюро. Твердит и твердит:
— Ближе к тексту учебника. Ближе к тексту… Другое слово — другая политическая окраска.
И ведь «сообщала в органы», даже про учеников.
Конечно, времена уже были другие. За «политику» у нас в Калаче вроде никого не сажали. Но у взрослых была долгая память.
В день смерти Сталина я такую дурь наворотил… Орал физрук Арефий Самойлович, истошно визжала уборщица, а Порфирий Захарович, директор, кричал в кабинете: «Я таких, как ты, в эскадроне шашкой рубал!!» И конечно: «Мать… Немедленно! В школу!! Немедленно!!»
Господи… Что они пережили. Пусть дядя Петя — не отец мне, лишь дядя. Но вырос я и воспитан в семье «врага».
Слава богу, времена уже были иные. Но боялись… А вдруг?.. Страх оставался в семье, в моих старших людях до конца жизни. И откуда-то ведь все доходило из школы:
— Маяковский ему, видите, не нравится! Всем нравится, а ему — не нравится. Умник нашелся! Меньше болтай!
И через долгое время, когда я литературой занялся:
— Лучше бы ты не писал…
— Зачем ты по радио так сказал?..
И вовсе шепотом:
— Про тебя из-за границы говорят. Слышали люди…
— Давай деньги отложим. Если тебя заберут… Чтобы тебе передачи… ты не маши рукой, ты не знаешь, а мы это пережили…
И начинали плакать, теперь уже обо мне горюя. Тетя Нюра и мать. Дядя Петя к тому времени умер. Писательством моим они не гордились, говорили:
— Бросил бы ты… Не дай бог.
Юрка
При встрече он говорит мне всегда об одном, лицом светлея:
— Ваш домик… Как хорошо мы жили! Ваша мама и ваша тетя…
Но видимся мы теперь редко.
В осеннюю да зимнюю непогоду он еле бредет пустынными улицами поселка. В тяжелом долгополом пальто, с большим воротником из искусственного каракуля, в большой шапке с опущенными ушами, в резиновых просторных, хлябающих сапогах. Под шапку он подкладывает грязную тряпицу, чтобы не поддувало. А в сапогах есть ли хотя бы портянки?.. Хлябают сапоги на костлявых ногах. Лицо желтое, изможденное, с острыми подбородком и носиком, запавшие глазки из-под надвинутой шапки глядят с испугом.
Бредет помаленьку. На короткое время зайдет на почту, погреется — и дальше пошел.
Это — всем известный Юрка ли, Юрочка, а по возрасту, конечно, давно уже Юрий Александрович, больной человек, наш давний сосед, бедолага. Что-то у него с головою. Прежде он был баянистом, музыкальное училище окончил, преподавал в музыкальной школе. Потом у него заболело ухо. Делали какую-то операцию в Ленинграде. Вроде неудачно. Что-то, наверное, повредили. Родители его в свою пору умерли. Он живет. Объясняет: «Преследуют меня органы, КГБ. Пытаются уничтожить…» В этом его болезнь. Слава богу, спокойная. Никому не мешает, живет кое-как на крохотную пенсию.
Наш старый дом для Юрия — это светлая сказка из прежней жизни. Когда он говорит о нем, то молодеет лицом:
— Как хорошо мы тогда жили… Ваш домик… Ваша мама и ваша тетя… Я их каждый день проведывал… Такие люди хорошие, соседи… Чай пили. Я им играл на баяне Чайковского, вальс «На сопках Маньчжурии»… Они любили музыку, понимали ее, не то что нынешние…
Помню те времена. Они ведь не больно давние. Приедешь зимою своих попроведовать, у них Юрий сидит, греется. Уже в ту пору его родители умерли, свой дом он не топил, объясняя: «Органы… КГБ… Через дым отравят». Зиму напролет жил в нетопленой хате. Но — человек живой: с утра бежал греться в наш дом. А еще днем приходил: порою щи хлебал, обязательно пил чай, дремал возле печки.
Бани ли, обыкновенного мытья Юрий не знал, одежку понятно что не стирал и не менял, пока не истлеет. Да еще порою занимался бегом. Как он утверждал, «для здоровья». Бегал, а значит, потел. И когда он оказывался в тепле, возле печки, то дух от него шел по вони и ее крепости — невообразимый. Как мои говорили: «Глаза щипет, на губах — горечь. Хоть противогаз одевай. Мы уж потом все форточки и двери настежь открываем, проветриваем».
В теплую пору Юрия привечали на крохотной верандочке да под навесом, у летней кухни. Здесь — воля и свежий воздух. А вот осенью да зимою Юрий был гостем нелегким: заходил, снимал у порога свою обувку, оставаясь в драных прелых носках или тряпичных обмотках, усаживался возле печки, расстегивал и порою снимал зипун, грелся. Волна за волной поднимался и плыл по дому острый, тошнотный дух.
Но хозяева, тетя Нюра да мама, виду не подавали. Предлагали щей похлебать, чаю попить. Сушили его обувь возле духовки, давали чистые носки да тряпки для портянок. А еще — внимали горестным повестям соседа. Величали его только по имени-отчеству. Терпеливо ждали, когда он задремывал, откинувшись на стенку. Словом, жалели.
А по-иному не могло быть в нашем старом доме, где один из вечных законов: «Сирого приюти».
Прежде, в годы послевоенные, в поселке было немало и нищих, и сирых. Володя Лаптев от двора ко двору бродил с тощею сумою. Володя Рожков — бывший офицер-танкист. Вася-Хаба, Настя-дурочка, которая, как и Юрий, зиму напролет жила в холодной яме-землянке, даже без дверей. Много было в ту пору беды. И никого со двора не гнали. У самих порою пустые щи с лебедой да желудевые пышки-джуреки. Но для убогого постараются: тыквы ли запеченной, свеклы, а то и картошки найдут, чаем напоят, пусть морковным, но горяченьким. Отдадут нелишнюю копеечку или тряпки. Нищим никогда не отказывали. Тем более когда стали получше жить.
А Юрий и подавно — сосед. Его беда на глазах. Копеечная пенсия, а цены все время растут. Сначала он в столовую ходил.
— Мне же надо хоть один раз в день горячее есть,— говорил он.— Щи беру и гуляш.
— Да, да, обязательно…— одобряли его мои домашние.
Потом гуляши стали дороги.
— Я щи беру, а на второе просто гарнир, макароны…
— Правильно, Юрий Александрович, желудок должен работать…
Но потом и щи стали не по карману.
— Беру молока два литра и хлеб,— объяснял он.— Мне молоко необходимо.
Через недолгое время пришлось и с молоком расстаться.
— Лишь хлеб и чай…— сообщал он.— Еще горох варю, через день. Он полезный. Больше ничего не выходит. Вот давайте посчитаем.
Они сидели, так и эдак считали — мама моя и тетя Нюра. Но как ни считай, а легче, конечно, умереть, чем жить на Юркину пенсию. Хлеб да чаек жиденький, да горох — как праздник.
Летом легче: тютина, смородина, абрикосы, вишни, потом яблоки, сливы. Юрий кормится словно птица божия.
А еще он летом работает на людей.
— Помогаю. Копаю… Большой огород у них.
— Навоз вожу в тачке…
— Пропалываю. Трудная работа: согнувшись, каждую травинку руками.
— Нет, нет… Денег я не беру. Это же мои друзья. Кормят меня. Первое и второе…
После таких трудов он еле бредет. Усталый. Какие у него силы…
— Батрачит. Нашли дурака. За бесплатно,— рассуждают трезвые люди.
Так ли, эдак, но летом для Юрия рай земной: тепло одно чего значит. И еды побольше. Зимой становится тяжко. Одна лишь отрада — наш старый дом. Тетя Нюра и мама моя всегда приветят. Можно погреться и даже подремать возле теплой печки. Щей горячих нальют и чаю — вдоволь. Юрий — человек щепетильный: со своим хлебом идет в тряпичной сумке.
— Нет, нет…— отказывается он.— У меня свой хлеб, я принес. Мне только чаю, хороший у вас чай.
Вконец иссохший и почерневший уже не лицом, а ликом от голода и от стылости, в нашем доме он словно оттаивал и разумные речи вел, вспоминая прежнюю жизнь да сетуя на тяготы нынешней. Иногда он приносил баян, который облупился, расклеился вместе с хозяином, переживая времена несладкие. Но Юрий что-то играл, объявляя громко: «Чайковский! «Времена года»!»
Теперь старому дому пришел конец. Когда, схоронив сестру, тетю Нюру, мама моя впервые осенью стала собираться на зимовку в город, для Юрия это была трагедия. Он изо дня в день отговаривал:
— Зачем вы уезжаете? Здесь такой воздух замечательный, чистый, пахучий!— Он картинно вдыхал полной грудью и руки возводил.— Аромат! А в городе… эти машины, заводы… И воды там нет. Ведь ваша вода, она такая вкусная. Поэтому у вас такой чай замечательный!
Мать моя лишь вздыхала.
— Я буду два раза в день приходить к вам,— обещал Юрий.— Буду вам печку топить, воду носить, в магазин ходить. Оставайтесь… Скучать не будете. Я буду играть на баяне. И патефон принесу с пластинками… Там — Бетховен, Шопен, Мусоргский…
Второго веку никому не дано. И нашему старому дому — тоже.
Поздней осенью да зимой в поселке бываю я редким наездом ли, проездом. Конечно же, навещаю наш старый дом. Отопру замок, войду в пустые, гулкие комнатки — и скорее вон. По двору пройдусь, повздыхаю. Голые деревья, заборы, сороки стрекочут да посвистывают синицы. Соседей не видно. Да и какие теперь соседи: сплошные квартиранты-беженцы ли, переселенцы из Казахстана да Узбекистана.
У Юрия во дворе вижу набитые тропки, значит, живой он, хотя ставни окон затворены. Это — для тепла. Дом его по-прежнему обходится без топки, в любые холода.
Самого Юрия зимою, слава богу, вижу я вовсе редко. Глядеть на него — сердце болит. Вот он еле бредет: маленький, гнутый, в тяжелом зимнем пальто, стародавнем, видно, от отца осталось. Зимняя шапка с опущенными ушами, а под шапкой для тепла какая-то грязная тряпица, чтобы не поддувало. Голова-то усохла, вот и шапка стала большой. Лицо у Юрия — в кулачок. Впалый от беззубости рот. Острый нос, а глаза провалились. Еле бредет. Еле тащится. И куда?.. Нынче таких людей не больно привечают. Иные пришли времена.
Возле дома
Старый дом наш и двор в пору летнюю тонут в зелени. Возле ступеней крыльца, словно богатырский дозор, растут два лопуха, раскинув просторные листья, пахучая мята тянется, вот-вот зацветет.
Вроде нехитрый убор. И ежедневного полива не просит. Лишь в долгую жару надо поддержать. И все.
В двух шагах от крыльца — гущина ландышей. Они уже отцвели нежными колокольцами, но зелень листьев свежа.
Возле погреба с просевшей покатой крышей, возле старых сараев вначале приютилась, а теперь осмелела, стайкой растет дикая моркошка в белом пахучем цвету. А рядом, тоже рослый,— козлобородник да заячья капуста, когда-то привезенная от далекого озера Назмище. По земле стелется птичья греча да ползучий клевер с белыми и розовыми головками, тут же вольно раскинулась дикая люцерна, а рядом — стройная смолевка с лазоревым да фиолетовым цветом. Но ее краса уже позади. Полевой вьюнок робко пробирается, выказывая белые граммофончики. Словом, много всего.
Но все это не само собой собралось, не в единый час. Двор зеленый и глушный, но каждый год в свою пору надо выкашивать аржанец, пырей да вейник. Чистотел надоедный выдираю весной целыми копнами. Воровски остается он и желтым глазом глядит лишь в уголках укромных. Коноплю, крапиву, колючий осот выдергиваю с корнем, кошу, иначе поднимутся они вровень с крышей. Оставляю помаленьку лишь добрые травы. Пусть живут.
Несколько лет назад в тени у забора, под старой развесистой вишней объявился морковник. Откуда он взялся, не знаю. Птицы ли, ветер — словом, бог дал. Я не стал его трогать, пусть растет. Он и вырос. А в году следующем по весне объявилось целое семейство морковника. Там же, в тени. Обосновались, никому не мешают, лишь радуют. А одно из растений, видно самое смелое, шагнуло поближе, к самой тропке. Там и растет. На виду, на свету и, как говорится, на людях.
Старинная нашего дома приятельница, Александра Павловна, увидев нового поселенца, удивилась и даже похвалила: «Какая красивая моркошка. Надо взять по весне. У себя посадить». Похвала Александры Павловны значит немало. В прежние годы у нее во дворе цветник был редкостный, от ранней весны и до самых морозов глаз не оторвать. Одних кустов розовых до сотни. Об остальном не говоря.
А теперь на морковник позавидовала. Он и впрямь хорош: высокий, на твердом суставчатом стебле резной пальчатый лист, душистые белые зонтики цвета. Славное растение, милое. Вроде простая «моркошка», а поглядеть любо.
Еще один поселенец по-нашему зовется козеликом. В голодную пору им кормились. Помню, мальчишками рыскали по степи, в логах, отыскивая этот самый козелик, выкапывали длинный белый корень, очищали и хрумкали. Взрослые набирали его помногу, сушили, толкли да пекли лепешки. Но это — в давнем, в былом, которое, слава богу, почти забылось. А нынче козелик, а правильней — козлобородник, объявился почти у порога. Я его сразу признал, верного друга, и трогать не стал, пусть растет.
Он вырос чуть не в рост человеческий; зацвел большими, в ладошку, ярко-желтыми цветами, которые лишь утром глядят на солнце, закрываясь к полудню. Нарядный получился куст.
Та же Александра Павловна, увидев его во цвете, удивилась:
— А это что?
— Козелик,— ответил я.
— Это какой в войну ели? Как хорошо цветет. Надо взять семена.
Козелик долго цвел, а потом приготовил новый подарок: соцветия его превратились в пушистые одуванчики, но прочные, не вдруг облетают, большие, каждый размером в кулак. Стоят, покачиваясь под ветром, на тонких высоких стеблях. Целая связка, десяток белых пушистых шаров, качаются, словно хотят улететь. Но не улетают.
— Какая красота!— в очередной приход удивилась Александра Павловна.— Обязательно надо посадить!
Вот тебе и козелик…
В году, кажется, позапрошлом в глубине нашего двора объявился могучий татарник. Как он цвел… Малиновые шары, душистые. Но той же весною молодые мои хозяева, огородное рвение вдруг проявив, под корень татарник срубили. Я попенял, они удивились: «Ведь сорняк!» Вроде и правы, но жалко. Малиновые стрельчатые шары, вовсе не колючие, с медовым духом…
Цветы я всегда любил и люблю. Цветы и травы: яркие полевые да луговые, робкие лесные, что таятся под пологом дерев. И конечно, домашние, которые растут во дворе, в палисаде, людскими заботами и людской любовью.
Нынче, на склоне лет, на пенсионном покое, сестра моя, Евгения Михайловна, в дачном своем имении всерьез занялась розами, лилиями, гладиолусами… Им счету нет. Радужное многоцветье.
Порою она меня зовет: «Приезжай посмотреть на цветы».
Приезжаю.
Лилии… В их стройности, узких листах, лепестках, длинных тычинках есть что-то изысканно женственное. Не бабье, а именно женственное, элегантное, даже порочно-женственное. А какие тона… Вот нежный светло-лимонный, словно зябкая зимняя заря. Вот, тоже нежная, розовость…
Гляжу на цветы, понимаю, как беден язык мой.
Телесно-розовая молодая плоть. Рядом — алая. Или — темный бархат, запекшаяся кровь. Бель, тронутая янтарем ли, шафраном,— это чайная роза.
Цветы лучше смотрятся рано утром и в сумерках. Утром на них мельчайшая пыль росы. Именно — пыль, но не капли. Это — ночная свежесть.
В легких сумерках цветы не отражают дневное, солнечное, яркое, с которым трудно спорить, но источают свое собственное сиянье: нежное, зыбкое, которое собрали за долгий день. Теперь светят.
Ходим, смотрим, глядим, сестра объясняет:
— Это «Курьер», «Турандот» — голландские сорта, это — «Шокинг». Дорогие, конечно. Но ведь стоят того?
Конечно, стоят. Это — цветы.
Старый наш дом — вековая мудрость. Соседка Прасковья Ивановна, давно покойная. Жизнь ее протянулась через войны Гражданскую и Отечественную, через раннее сиротство, а потом — вдовство, через голод и холод, бездомье, страх и слезы. На краю жизни — покой, свой домик и огород. Высокая, сутулая, с тяжелыми руками грузчицы, с добрыми глазами. Говорила она: «А я на все радуюсь. Вот выйду во двор, к цветкам подойду, они у меня простые, сейчас многие розы садят, гладиолусы, а мне это не по силам; у меня все простое: петуньи — простой цветок, а до чего расхороший. Георгины, тоже красивые. К картошке подойду: какая она славная стоит — опять радость. На грушечку погляжу, до чего они нынче сильные взялись, и червь их не тронул. Ну как не порадоваться…»
Что-то мне все кажется ли, грезится, что нынешнее лето — прощальное для меня в старом доме. Все ушли, оставив память светлую да память горькую. А я, слава богу, пока живой. И оттого мне в старом доме порою тяжко, словно на кладбище.
Уже другую неделю стоят жаркие дни, словно маю вослед не молодое лето пришло, а месяц июль с его тяжким каленым зноем. Тридцать пять градусов — в тени. На солнцепеке — и вовсе.
Но по ночам зябко, и утренний холодок до самого полудня держится в тени деревьев. А в старом доме и вовсе… Затеняют окна и стены берегут плетучие виноградные лозы, густая смородина, высокая акация да старый вяз. И потому в горнице — прохлада, зеленый сумрак.
Уезжал на несколько дней в город. Там — пекло, дышать нечем. Конечно, простыл возле всяческих кондиционеров, автомобильных да кабинетных, и просто форточных сквозняков. Вернулся из города, чую, что в горле першит, в груди сипит и давит. Но вылечился в два счета. Старый дом помог.
На его невеликой веранде — горьковатый и терпкий, настоянный плотный жар. Это от железной крыши и от пучков духовитого чабора, шалфея, железняка, зверобоя, которые сушатся здесь. Словно не дышишь, но пьешь тягучий настой, от которого голова идет кругом и живеет остылая кровь.
Во дворе, от полуденного солнца спасаясь, шагнешь в тень развесистой яблони, прислонишься к стволу и чуешь, как накрывает тебя мягкой волной тепло земное, небесное.
Лето красное, лето зеленое баюкает, нежит нас, грешных, в своих теплых ладонях. Возле старого дома.
Из далекого края
Жаркий июльский день. Нет еще полудня, а солнце вовсю палит. Все живое прячется в тень: старые люди, детвора, собаки, куры. Пробежавшая машина вздымает длинный хвост горячей удушливой пыли.
Хорошо, что к магазину путь недалекий, всего два шага. Калитку отворил, навстречу — гостья с ребенком на руках. Одежда ненашенская: платье длинное и пестрые шаровары. Молодая. Тонкой, удивительной красоты лицо. Таджичка, наверное. Милостыню просит шепотом, объясняет: «Мы из далекого края…» Без слов вижу. Подал ей, она поклонилась, поблагодарила: «Спасибо, апа…» Уже понимаем: апа — значит уважительное «отец».
В магазин сходил, возвращаюсь и вижу, что еще одна бредет к моему двору. Такая же пестрая одежда, и лицо той же тонкой, восточной красоты. В темных глазах — печаль и усталость.
— Здравствуй, апа. Мы из далекого края…
Подал ей, поклонилась, прошептала: «Спасибо, апа…» — и побрела дальше.
Не ее ли видел вчера на другой улице? Она шла вдоль домов, а потом уселась прямо на землю, голову положив на руки, на колени, и замерла. Я отошел, обернулся, она сидит. Далеко ушел, а она так и осталась сидеть.
Из далекого края… Гонит людей беда: нищета, голод. Вот и до нас добрались.
Вспомнил зиму, подмосковное Переделкино. Каждый день по снегу бредут к электричке, в полосатых халатах, кланяются. Старики, дети… Вечером возвращаются. Старые еле ползут. Смотреть на них горько и тошно. Ведь жили, работали, пусть чай да лепешка, но свое. А теперь…
Вот и до нас добрались. Не от хорошей, конечно, жизни. И не они первые. Но раньше бежали наши, русские. Сначала из Чечни уносили ноги, потом пошло и поехало: Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Теперь куда ни ткнись — всюду беженцы: Андижан, Мары, Джизак…
А нам и самим впору бежать.
На неделе приходил ко мне недалекий сосед и старый знакомец, покойного младшего брата ровесник. По профессии он инженер-строитель. Пришел, просит:
— Помоги. Как мне зарплату свою получить?
История для времен нынешних вовсе не новая: строительная организация развалилась, начальство в областном центре сидит, зарплату не собираются отдавать за целых два года. Двое детей. Чем жить? Где работу найти?
Разве ему поможешь? Подаянья не просит. Работы бы какой… Здоровый мужик. Руки крепкие, голова неглупая. Домов они много настроили, в них люди живут. А теперь что делать? На «раскладушки» идти?
«Раскладушка» — новая, массовая в наших краях профессия. Торговля на рынке. Развернут легкую, трубчатую с брезентом кровать-раскладушку, разложат на ней нехитрый товар. Сидят рядом и ждут. Продавцов больше, чем покупателей.
Недавно встретил знакомого. Колотит себя в грудь:
— Ты меня знаешь?! Сорок лет на заводе! Слесарь-инструментальщик шестого разряда. Теперь каждое утро — на «раскладушку». А жена — на колесах. В Новороссийск да в Минводы ездит. Там — трусы, там — носки. Ждешь ее, переживаешь. То ли вернется, то ли пришибут за эти копейки. Когда это кончится?! Ты же в Москве бываешь! Они чего там думают?!
Что ответить ему?.. Про свои рассказывать беды? Язык не поворачивается.
Приходит тетка Шура, давняя знакомая. Была в магазине, заглянула проведать. Живет она теперь одиноко, но по летнему времени ее навещают внуки, хуторские, деревенские. О них речь.
— Приехали, посадила за стол. Чего-чего, а щи у меня всегда наварены, сам знаешь. Посадила, едят, а сама на кухне вожусь. Слышу, ругаются: «Это моя порция… Не твоя порция…» Заглянула, спрашиваю: «Чего вас мир не берет?» Внучка с жалобой: «Он свою порцию хлеба съел, а теперь мою берет». У меня и глаза на лоб: «Какие еще порции? Ты чего придумываешь?» Она объясняет: «Нам мама хлеб делит порциями. Чтобы каждому досталось…» Говорю им: «У меня, слава богу, хлеба пока хватает. Ешьте вволю». При них сдержалась. А потом плакала. У них ведь на хуторе такой был колхоз богатый, у всех работа. А теперь детям хлеб делят порциями, как в войну. Неужели опять?.. Господи, господи… Ты в Москву ездишь, они чего там, либо не знают?
Тем жарким летом несколько дней подряд шли и шли за милостыней ненашенского вида люди в полосатых халатах, в пестрых платьях, шароварах. Кажется, таджики. У женщин очень красивые, тонкого рисунка лица. Но усталые, с потухшим взглядом. Милостыню просят шепотом, благодарят, низко кланяются: «Спасибо, апа…» Объясняют: «Мы из далекого края…»
Глядеть на них, конечно, горько. Но подал милостыню, водой напоил, они и ушли. День, другой… А потом вовсе пропали. Помоги им бог.
Мы остались. И никуда не подашься. А ведь из того же «далекого края», который уже не вернется. И надо жить.
Гнёзда
Эти гнезда объявились в последние годы, словно поганые грибы на ровном месте.
Жил да жил на углу нашей улицы старый Фюлер, порою сидел возле двора. На пенсии человек. Но всегда в делах: огород, дом, невеликое, но хозяйство. Роста небольшого, телом плотный, косая челка волос на лбу. Оттого и прозвище — Фюлер. Жили с бабкой, а сын где-то в городе обретался, гостюя порой. Люди пришлые, но потихоньку стали своими. Жили да жили, потом померли. Объявился наследник — Фюлер-младший, и началась днем и ночью гулянка. Прибилась к нему такая же бабенка непутевая. Горластая Надюха с глупой от рождения дочерью. Пьют да гуляют, ссорятся, дерутся, орут. Тетка Лида-соседка мне докладывает: «Старый Фюлер домой тащил, а эти — из дома. Такие бочки были хорошие, нержавейка, молочные фляги, шиферу листов двадцать — все пропивают. Гляжу, тянут тиски, пилы — на пропой. Одно слово — Фюлеры, не люди».
Через два дома, наискосок от меня, еще одно гнездо — Молдаваны.
Старый Молдаван всю жизнь проработал шкипером на барже. Вышел на пенсию. Тихий старик, спокойный. Когда умерла жена, он сдуру сына с семьей призвал. Чтобы, как говорят, допокоил старость.
Они и прибыли с хутора, всей ордой, допокаивать. Теперь днем и ночью — грачевник: орут и орут. Калитка железная: бух-бух, бух-бух. Ходят табуном: впереди — Андрюшка Молдаван, кепка — набок, шаг быстрый, за ним поспешает жена его — Шурка, тут же — младший сын, старший сын, сноха и маленький «молдаваненок» в коляске. За поллитрой ли, за буханкой хлеба в магазин только табором идут, шумным, ругливым. По ходу старший Молдаван, оглядываясь и спотыкаясь, что-то своим внушает: «В бога мать…» Горластая супруга Шурка ответы лепит на ходу: «Тах-то вот надо и тах-то вот…» Остальные лишь вторят, даже из детской коляски порой доносится что-то похожее на ругань.
Старый Молдаван приходил ко мне. Жаловался, плакал, но, слава богу, быстро умер.
Гнездо молдаванское и вовсе забурлило, не отдыхая ни днем, ни ночью: яркая лампочка посреди двора, железная калитка бухает поминутно, гостей — полон двор. Мужской ор, бабий визг, детский плач, то песни, то свара и драка — все там мешается и выплескивается на широкую улицу. Одним словом — гнездо воронье.
Нынче в поселке работу трудно сыскать. Закрылись «Сельхозтехника», «Сельхозхимия», строительные конторы, завод металлоконструкций. Авторемонтный да судоремонтный, речной порт едва дышат, распустив народ на свободу. Буксирные теплоходы да баржи все лето стоят у причала. Нет в поселке работы.
Но Фюлеры да Молдаваны об этом не горюют. Они теперь спецы по «люмини» да меди. Рыщут по дворам: проволока, собачья миска, хозяйская кастрюля плохо лежит. Волоки на «приемку». Чуть не десяток таких «приемок» в поселке. «Люминь» и медь дорожают: два, три, четыре, шесть и вот уже десять да двадцать рублей за килограмм. Килограмм сдал. Есть на похмелье бутылка! Два килограмма — вовсе гульба!
Еще одно гнездо во дворе тетки Лизы-глухой. Она умерла, и объявились молодые сестры-наследницы. Тоже дым коромыслом и шумные битвы. Ночью и днем.
Но все эти Фюлеры, Молдаваны, внучки Лизы-глухой — залетный народ. Принесла их, словно весенний хлам и дрям, вода каламутная, она же их убирает.
Многих уже убрала. Горластую мужиковатую Надюху — подругу младшего Фюлера.
А прежде дочку ее, от рожденья глупую, но все равно ведь — живая душа. Рослая была, на лицо милая. Слава богу, отмучилась. Сама Надюха померла на ходу. Говорят, «от сердца». Соседка, тетка Лида, иного мнения.
— С голодухи!— горячо убеждала она.— Пили всякую отраву, а жрать нечего. Электричество у них отключили, газ не за что купить. Жгут костер во дворе, на нем — котелок, свекольную ботву кидают. Вот и хлебово. Как в войну! Глядеть страшно.
А в гнезде Молдаванов — тоже мор. Сначала девчушка померла, вовсе малая, ей было годика два, наверное.
Помню, передерутся Молдаваны. Андрюшка разгонит всех: «В бога мать! Моя хата!!» Среди ночи плачет сирое дитё под забором. Теперь отмучилось. Потом тоже «от сердца», посреди двора замертво рухнула боевая Молдаванова супруга — Шурка. А той же осенью, во хмелю и тоже, видно, «от сердца», удавилась сноха. Сыновья куда-то исчезли. Либо их посадили?.. Теперь Андрюшка Молдаван один бедует. В пустом дому и дворе ему не сидится. Да и чего там высидишь?
Щетинистый, черный, носатый Андрюшка выходит на перекресток и ждет, словно ворон, поживы. Порою ему везет. Наймут его выкопать яму и чем-то помочь. За долгую работу — огороды копать, подсобить на стройке — за такие дела он не берется. Ему нужно, чтобы скоро и — «на бутылку». И тогда он резво летит в магазин. Буханка хлеба в руках, поллитра — за пазухой, возле сердца. Грохает железная калитка; порою взрывается Молдаванов двор руганью. С кем он воюет, седоклокий, уже старый, а все — Андрюшка? Сам с собой? Разбирается напоследок.
Но этот народ в нашем краю — приблудный. Толком я их и не знаю. Андрюшка с Шуркой прежде жили на хуторе Набатовском. Работали при колхозной скотине. Надюха трудилась грузчицей на торговой машине. Мешки да ящики с товаром по магазинам возила. «Смешторг» назывался. Потом все кончилось: колхозы, «смешторги» и прочее. Наступила другая жизнь.
Жалко всех, пусть чужих, и малых, и старых. Но своих, уличных, как-то жальчее. Они здесь от веку, нашенские: Генка Миней да Вовка Грибанов.
Сироты
Когда осенью умерла моя мама и схоронили ее, я долго еще жил в поселке, ожидая девятин да сороковин; приезжал в старый дом наш, пустой и холодный, а оттуда — на кладбище; и однажды увидел на столе, на веранде, маленькую бутылочку, на дне которой чернел какой-то мусор. Повертел я эту склянку, ничего не понял, но выбрасывать не стал. Спросил у своих, они тоже не знали. Лишь потом объяснилось.
Володя Грибанов встретил меня, спросил:
— Ты семена видал?
— Какие семена?
— На столе, на веранде, в пузырьке. Это я принес. Красивые цветки. Их на могилках сажают. Посади Алексеевне. Она хорошая была.
Весь обтерханный, испитой да еще — небритый. Нестриженая седина клоками торчит из-под фуражки. Сроду был словно воробей. А теперь — и вовсе. Морщеное личико — в кулачок, одни лишь глаза прежние остались: голубые, виноватые.
Порою он приходил к матери. Не за деньгами. Он знал, что за деньгами надо идти ко мне.
К матери моей, а прежде и к тете Нюре приходил «погутарить». Порой подвыпивший, а иной раз и трезвый.
— Гутарим…— сообщал он, увидев меня.
Они были схожи: старая, девяностолетняя мать моя и Вовка — вдвое моложе.
Сидят два седых воробушка. Вовка смолит цигарку, ладошкой вонючий дым отгоняет, чтобы не тревожить старую женщину, которая сухеньким перстом ему не грозит, но внушает:
— Володя, надо устроиться на работу. Постараться. Тогда и жена вернется. И будете жить. Ты ведь раньше работал, и хорошо жили, дочку воспитали, внучка у тебя. Потому что работал…
— Еще как пахал…— соглашается Вовка.— Я раньше тыщу заколачивал. Они меня в сип целовали. Все. А ныне я — дурак и пьяница. Но я уже устраиваюсь. Меня же знают люди, зовут…
— Конечно,— шелестит сухими губами мать моя.— Ты — хороший специалист, с Николаем нашим работал. Вы дома строили…
— В Калаче, в Комсомольском, в Береславке…— вспоминает Вовка.— Даже в другие районы ездили. В Котельниково, в Жутово… Наше стройуправление на всю область гремело…
Сидят, беседуют. Матери моей девяносто лет: легкие косточки под платьем, седой пух на голове, но ликом чиста и светла, по-стариковски приглядна. Вовке еще до пенсии далеко, но вид… Лицом морщинистый, словно запеченный; давно немытый, одежка засаленная, затерханная. Меня увидел и устремил доверчиво светлые глазки, в которых вечный вопрос:
— Петрович, може?..
— Только хлеб,— отвечаю ему со вздохом.— Мы же договорились.
Договорились натвердо. Люди, конечно, нашенские: Вовка и ближний сосед его Генка, по-уличному — Миней. Прежде я без долгих разговоров давал им взаймы, выручал на похмелье. «Петрович, в пятницу — как штык… Петрович, послезавтра — получка, отдам. Ты меня знаешь… Как штык!»
Знаю. Всю жизнь рядом живем. Вовкин отец, теперь уж давно покойник, занимал «трояк до получки» у тети Нюры. Всегда отдавал, «как штык». Потом выросли сыновья его — Володя да Сашка. Стали работать. Порой, когда подпирало, приходили деньжонок занять: порою — «в дело», а порой — на похмелье.
Володя Грибанов женился, дочку родил, работал электросварщиком. Сосед его и ровесник Генка Миней трудился крановщиком в речном порту. Миней — мужик рослый, на лицо красивый. На улицу порой выходил до пояса голый. Было на что поглядеть: широкие крепкие плечи, мускулатура. И одевался неплохо: наглаженный светлый костюм, яркие рубашки, легкий плащ да шляпа. На работу идет, с работы, на усадьбе хозяйствует, в огороде. Гараж кирпичный сложил для мотоцикла, летнюю душевую, тоже из кирпича. И не слыхать его, спокойный мужик. Не то что Вовка Грибанов, тот — голосистый. Росточка невеликого, узкоплечий, вихрастый, задиристый, словно молодой петушок. Чуть что, кукарекает: «В бога мать!» Но работал сварщиком и хорошо зарабатывал. С аванса да с получки выпивал, наутро прибегал ко мне: «Послезавтра как штык. Отдам. Калым есть». Так и жил помаленьку. Дочка выросла, появился зять да внучка. Рядом — Генка Миней, сосед и дружок закадычный. Всякий день видятся. Порой выпьют.
Так и жили. Так бы и прожили помаленьку недолгую человечью жизнь по примеру отцов. Но пришли в поселок иные времена: «скворечники»-магазины со «Сникерсами», пепси да дешевым пойлом, которое и водкой не назовешь. Помню, Вовка Грибанов мне взахлеб объяснял: «У Машки, на Игнатьевой,— по пятнадцать рублей, у Кривого — шестнадцать, у Геры в киоске — двадцать, на дому — восемнадцать, у Верки — двадцать, но у нее — хорошая и с пробкой. Везде — круглые сутки, но ночью дороже берут, гады». И все это — рядом, далеко не надо ходить. Одно слово — свобода.
А еще — в поселке не стало работы. Вовкино строительное управление закрылось. У Минея, в порту,— та же песня. Нет работы. Лишь две баржи стоят: черный металл да «люминь» с медью принимают для заграницы. Рабочих уволили.
Еще жива была тетка Фая, мать Генки. Она к моим приходила, жаловалась:
— Ходит-ходит, ищет-ищет, нигде нет работы. Дружков повстречает, напьется с горя.
Потом она умерла. Без матери Генка долго не выдержал. Помаленьку стал продавать за гроши холодильник, телевизор, стиральную машину, оправдываясь: «А чего в нем держать, в холодильнике? И в телевизоре нечего глядеть!» И вот уже нет ни наглаженных светлых брюк, рубашек и тем более шляпы.
Вместо них — заношенное тряпье да опорки. На лице появились морщины, седина густо пробилась, глаза словно выцвели. День за днем одна песня: «Петрович, ты не выручишь?..»
Володя Грибанов держался дольше. Его знали как хорошего сварщика. Приезжали домой, нанимали. Он работал день, другой и неделю. А потом гулеванил. Хомута прежнего нет: с восьми часов до пяти с перерывом на обед. Дешевого пойла вокруг — хоть залейся. А после долгой гулянки какая работа?.. Заказчик приедет, поглядит на Володю и лишь рукой махнет.
— Устроился я к водникам, в больницу,— глаголет пьяненький Вовка.— Делов много, а делать нечем. Труб нет, кислорода нет, электродов и тех нет. И зарплаты нет. Иди, говорят, пока отдыхай. Отдыхаем с Минеем… Ты не займешь?.. Я — как штык, с получки…
— Какая у тебя, родный, получка?..
— Ну, може…
В поселок, в наш старый дом, я приезжаю лишь в теплую пору, летом. А время, словно под гору, быстро катит.
Вроде вчера еще Вовка Грибанов по улице с внучкой шел, весело сообщая:
— В магазин! Ей — шоколадку, а мне — пивка. Для рывка!
Генка Миней, принаряженный, с пробором в светлых густых волосах, шепотом сообщает: «У женщины день рождения. На подарок… С получки отдам…»
И вот уже — ни внучки, ни жены, ни женщины с днем рождения.
«Петрович, ты понимаешь… Ну хоть на пиво дай»,— это Вовка. Сосед его Генка объясняет детально:
— Петрович, работаю у Комиссарова. Ты знаешь его. В субботу обещал заплатить.
Генку соседи хвалят: «Рукастый…» — и призывают порой для работ домашних, дворовых: яму выкопать, навоз ли, глину на тачке перевезти, подправить, прибить и прочее. Но расплачиваются известно как. Хорошо, если покормят, а то на поллитру — и все.
— Петрович, я нынче у Чебаковых, ты их знаешь, завалинку кладу…
— Петрович, завтра иду огород копать, просили…
— Я, Петрович, работаю. Это Вовка — лодырь. Ему лишь в кухне лежать.
Вовка — не лодырь. Он сроду был словно малое щеня. Но прежде хоть петушился, шумел: «В бога мать!..» А теперь и вовсе: щуплый, недужный. А в светлых глазенках болезнь ли, боль: «Понимаешь, Петрович…»
Понимаю… С чего ему здороветь? Хорошо, если тетка Шура, мать его, которая рядом живет, наварит щей да покормит. Но это — в праздник. А всякий день — вонючее пойло, корка хлеба да старая, еще бабкина, хибара, в которой бобылем обретался.
В летнюю пору изредка он приходил к моей матери побалакать.
— Тебе надо на работу устроиться… Ты хороший специалист. И жена к тебе вернется.
Вовка вздыхал, соглашался. Но жизнь свое правила.
— Петрович, дай на хлеб.
«На хлеб» я никогда не отказывал: свои люди.
Мать умерла осенью, по теплу. Хоронили, потом поминали, потом «день девятый» да «сороковой». На всех поминках они были вместе: Вовка и Генка Миней — наши соседи. Слава богу, ели и пили, да еще дали им с собой выпивку да закуску, потому что день долгий и все равно им «не хватит».
А Вовка той же зимою слег и весною умер. Он пролежал всю зиму в доме своей матери. Лечить его никто не собирался. «Там нужны деньги да этот самый полис. А его нету,— объясняла тетка Шура, мать его.— И денег — лишь моя пенсия. Врачиха приехала и глядеть не стала. Говорит, воняет».
К весне он умер. «Заплохел, заплохел — и все»,— сообщила мать его.
А Генка Миней, с которым они вместе росли, рядом жили и вместе пили, господи прости, тот и вовсе взял и вены себе на руках перерезал. Говорят, что вся хата была в крови. Видно, не сразу умер. Большой мужик, крови в нем много.
Вот и все. Нынче еще одна весна в нашем краю. Старый дом наш ветшает. Особенно это заметно ранней весной, когда вокруг голо и пусто. Но потом, когда все зазеленеет, он вроде укроется от глаз людских в молодой листве и ветвях, словно отступая и прячась. С улицы его почти не видать. И вокруг селится народ приезжий. Ни я их не знаю, ни они меня. Друг дружке не докучаем.
Рано утром меня теперь никто не тревожит. В окошко не постучит, не позовет: «Выйди, Петрович… Дело есть…» — «Знаю я ваши дела…» — «Ну, Петрович, ты понимаешь…»
Понимаю. Как не понять. Сироты, птицы божьи…
Мимоходом
Иду переулком. Так спокойней и памятнее. Когда-то здесь жили Пономаревы, Кулюкины, Горкушенковы, Быковы, Шамины, Чебаковы, Афонины, Басовы… Переулок был людный, детвора кишела. Теперь — тишина. У своего двора — Геннадий Ефремов. Геннадий Иванович. Человек нашенский. Всю жизнь провел в этом переулке.
Мы — сверстники, но глядится он моложавей: телом крепок, невеликое, но пузцо завел; лицом гладок, всегда чисто выбрит, сияет, словно чищеный самовар, отдавая медью. Это — загар рабочий, от жаркого огня. Сварщиком он долго работал. У нас в поселке после школы много ребят в свое техническое училище шли. Там готовили плотников, электро- и газосварщиков да токарей по металлу. Но почему-то все стремились сварщиками стать. Считали, вроде «железная» профессия, мужская.
В нашем краю оказались сплошные сварщики: Толя Варлаха, Витя Блоха, целых четверо Басят: Андрей, Павел, Сашка, Володя. Басовы они по фамилии, но их — муравейник: три ли, четыре двора рядом, кишмя кишат — словом, Басята. А еще — Леша Попов, Жора Габитов, сосед Володя… Всех не перечтешь. Техучилище, потом наш судоремонтно-судостроительный завод. Сам работал, помню «сварных»: тяжелые брезентовые робы, темные очки, защитные маски, слепящая электросварка, газовые горелки, кислородные резаки. Потому и лица у них — красноватые, медью отливают.
Вот и Геннадий Иванович — из «сварных». Давно уж на пенсии. Но вовсе не старец. К вечеру иногда «выпитый», но никогда не пьяный.
Короткий разговор.
— Щучку я ныне поджарил,— сообщает он доверительно.— Я сам жарю, с лучком. Я люблю так. Поджарил, съел…
— Рюмочку — под щучку…— догадываюсь я.
— Три рюмочки,— уточняет Геннадий.— Щучка такая сладкая, всю съел.
Теперь он красит забор. Рядом — банки с краской да кисти. Красит, но не больно торопится. Куда спешить?.. Сообщает обстановку:
— На огурцах у меня уже опупята. Внучкба привезут на неделе, будет грызть. Помидоры цветут, и картошка цветет. Я люблю, чтобы у меня порядок… Ныне — крашу.
У него и вправду не только яблони, вишни, помидоры, картошка, тюльпаны, сирень, георгины, петуньи, но каждую весну расцветает понемногу все подворье: дом, летняя кухня, забор, иные строенья.
Осень, зима, дожди, ветры… Пузырится, лупится, облезает ненадежная нынче краска на ставнях, воротах, калитке. Апрель, май — теплое время, в эту пору Геннадий начинает все красить, подновляя старинное жилье, где родился, вырос и теперь уже остарел вместе с этим жильем, но еще крепок: большое тело, немалый рост, пузцо, конечно, но еще могутной мужик. Не ленится, работает. Грядки вскопал, жена высадила рассаду, семена посеяла: огурцы, помидоры, перец. Геннадий железные дуги поставил, пленку натянул — получились теплички, от холодных ночей да утренников. Картошку посадил. И тогда уж за дом и двор принимается: железной щеткой обдирает старую краску, а потом все сызнова красит.
Сначала забор — густым синим цветом, таким же — наличники окон и ставни, но с белым обводом, для красоты. Летняя душевая, бак для воды — яркой охрой. А рядом — земная зелень ухоженного сада и огорода. Все вместе — получается праздник для глаза и для души. Хозяевам и тем, кто мимо идет. Мне, например. Даже идти мимо такого двора — удовольствие.
На почту ли, в магазин, по иным делам хожу я не улицей, а этим переулком. Здесь дорога покойней. Без машин. И конечно, ефремовского двора не минуешь.
Месяц май. Хозяин не торопясь красит забор. Здороваемся. Недолго стоим, беседуем.
— Крашу. А чего зря сидеть? Я люблю, чтобы у меня — порядок.
Это правда. Он всегда гладко выбрит, аж светится, подстрижен, в одежде опрятен. Если выпьет, то в меру. В разговоре спокоен: не шумит, как иные, руками не машет.
Везде у него порядок: во дворе, в огороде, в доме, на кладбище. Там — родители. А еще — сын у него погиб, на машине разбился. Милиционер, гаишник. Двадцать три или двадцать четыре годка. Женился, только-только ребенка завел — и погиб. Это — горькое горе. Но — тихое. Могилки на кладбище всегда прибраны; ограда покрашена; все долгое лето — цветы. В свою пору тюльпаны, душистая сирень, розы, циннии, бархотки, а потом, уже до самого снега, белые, желтые, синие хризантемы. Такие же, как во дворе. Вижу их, когда иду нашим тихим переулком мимо подворья Ефремовых.
Синие ставни окошек с белым обводом, синий забор, яркой желтизны душевая и бак для воды. Если даже не вижу самого хозяина, то знаю, он где-то здесь: поливает картошку, подвязывает на шпалеры огуречные плети, а может, занимается погребом, заранее готовит его к зиме, по-хозяйски.
Легкий ветер доносит сначала струей, а потом волной накрывает дразнящим духом жареного лука и рыбы.
Вот он — хозяин! Ликом сияет, словно подсолнух, зовет:
— Красноперочку жарю, по-нашенски, с лучком… В розовой корочке! Заходи… И рюмочка есть.
Вот и пройди мимоходом.
Музыка старого дома
Майское утро. Солнечно. Ясно. Сочная зелень деревьев, травы. Озерняются абрикосы. На вишне, на смородине — дробь зеленых ягод. За двором могуче вздымается к небу белое, пахучее облако цветущей акации. Малая птаха славочка допевает тихую утреннюю песнь.
Дремотно воркование горлицы. Высокое голубое небо с редким пухом облаков. По земле — зеленые метелки вейника, склонились отягченные утренней росой; белые головки одуванчиков, чуть подсохнут — и полетят; золотые лучистые цветы козелка не жмурясь глядят на яркое солнце.
Звяканье ведра. Тихий говор. Это сосед возится в огороде, грядки поливает. Рядом с ним внук в нарядной яркой рубашке. Тоже — цветок живой, человечий.
Мягкий солнечный свет. Гудение пчел. Нежный переклик золотистых щуров в далеком небе. Негромкие людские голоса, тихие шаги. Летнее утро на земле, возле старого дома. Тихая музыка жизни.
Прежде, в годы молодые, любя музыку, ходил я на филармонические концерты, в оперный театр. Рояль, нежная скрипка, могучий орган, симфонический оркестр, романс, песня, ария, дуэт или опера — все было по сердцу.
«Гори, гори, моя звезда…— печалясь, выводил великий бас Борис Штоколов.— Ты у меня одна заветная…» И отвечала душа моя, соглашаясь: «Да, да…» А Виктория Иванова?.. Ее неземной, поистине ангельский глас. Как далеко он уводил от земли грешной в заоблачные выси! Даже у нас в Волгограде можно было их слушать. Михаил Плетнев, Виктор Третьяков, Геннадий Пищаев; Чайковский, Бетховен, Григ…
А в Москве и вовсе простор. Большой театр… Туда было трудно попасть. Но можно при желании. «Евгений Онегин», «Князь Игорь», «Лебединое озеро», «Золото Рейна». Зал имени Чайковского или уютный зал Дома ученых на Волхонке, его камерные, словно домашние концерты.
Прошло время. А теперь?.. Спасибо музыке! Она помогла мне — не вдруг!— но услышать прежде неведанную музыку жизни.
Поневоле внимаешь грозе, шумному ливню, могучему ледоходу, морскому шторму. Но понемногу словно отворяется слух. От грома и молний переходишь к простому, будничному, но не менее прекрасному. И оно всегда рядом, возле старого дома, в нашем дворе.
Всю неделю перепадали дожди, и вчера целый день лил дождь ровный, тихий и теплый. Лишь к вечеру разветрило. Нынче и вовсе разгорается день погожий и ясный. Густое синее, словно дочиста промытое небо; освеженная влагой, сочная зелень деревьев и трав. В гущине вишневой рдеют сладкие вишни, на маковке, на солнцепеке уже чернеющие от спелости, с горчиной. Золотистые, с красным бочком абрикосы тяжестью своей пригибают ветви и падают на землю, светят в тени, душисто пахнут, особенно днем, в жару. Утренние птичьи песни покойны, нежны. Утренний воздух тоже промытый, чистый и синий, пьешь словно влагу небесную — и никак не напьешься. Сонное гудение первых шмелей да пчел. Медленный, тоже спросонья, белой бабочки лет.
Зелень земная, небесная синь. Час утренний, в небе — луна. Она, видно, загляделась, забыла, что ей давно пора уходить из этого прекрасного, но чужого мира. Забылась, под солнцем тает и тает, словно Снегурочка.
Прежде, в молодости, я любил живопись. Сначала это были просто цветные иллюстрации в журнале «Огонек» или почтовые открытки с репродукциями. «Утро в сосновом лесу» Шишкина: таинственный лес, неведанные звери-медведи. Или могучее, тоже неведанное, море Айвазовского, его «Девятый вал».
Потом были музеи: Третьяковка — в Москве, Русский — в Питере. Ходил туда порою изо дня в день. Покупал заранее билеты и поутру, в безлюдье, устремлялся в залы далекие, чтобы никто не мешал, к Валентину Серову, к Поленову, к Саврасову. Смотрел и думал.
В детстве все мы грезим чем-то далеким, великим: Гималаями, Альпами, Великим океаном — красой непостижимой. Спасибо художникам. Они мне открыли глаза и помогли увидеть иное. Этюд в Русском музее. Даже не помню чей, кажется Шишкина. Клочок земли, трава и простые ромашки. Но вдруг словно стены ушли и большого города нет, а живая земля — вот она, и живая трава, цветок. Разве не чудо? Или портрет Нади Дервиз Валентина Серова, неоконченный, написанный даже не на холсте, а на листе кровельного железа. И вовсе ведь не красавица. Но какие глаза… Какое лицо дивное! Вот он — живой человек, мне близкий. А сколько их рядом?.. Проходят мимо, мною не замеченные. Спасибо художникам. Они помогли мне. Теперь я в музеях бываю редко, но всякий день вижу красоту земли, людей, жизни. И все это здесь, возле старого дома.
Обычный августовский вечер. Пора заката. Что-то делал в саду, потом к дому пошел. Ненароком взглянул в сторону закатную и встал. Вроде давно живу, ко всему привык, а вот глянул — и замер, обо всем забыв.
Иссиня-черная туча прикрыла заходящее солнце, нависнув мрачной скалой над вечереющим миром. Рваные края ее зловеще багровеют. А рядом светит алостью чистое небо.
Темная, фиолетовая синь, багровые тревожные отсветы, алый пламень — и все это вполнеба.
А понизу, от земли вечереющей, на фоне мрачной синевы молочным дымом поднимаются легкие облака, словно купы цветущих деревьев. Видится, чудится: пожар заката, пламень его и угли, темная мгла, но белый небесный сад восстает, зацветает.
А потом солнце зашло и все на глазах потухло.
Кончился день, и приходит ночь — пора одиночества. Темная земля — словно малая лодка. Просторное небо светит огнями звездными. Манит и манит фиолетовой тьмою и серебряным светом. Так хорошо, так красиво, спокойно… Так величаво, торжественно звучит слитный хор садовых сверчков, словно неземная песнь. Но зябко. Даже в теплой ночи льдистый холод не сразу, но проникает в душу и сердце. Так и должно быть, когда стоишь на пороге мира чужого, вечного. Видишь его простор, его огни. Дальше ступить — не твоя воля. Но настанет час. От этой мысли холодеет сердце. Хорошо, когда рядом земное, человечье тепло. Оно отогреет, поможет забыться. До утра.
Когда просыпаешься в новом дне словно в новой жизни и все тебе в радость, будто впервой. Нежно, вполголоса поет для тебя малая птаха в смородиновой гущине. И сладкий утренний воздух вдыхаешь, словно впервой. Еще незрелую вишню рвешь горстями и ешь, морщишься, но снова рвешь, потому что просит душа этой кислины, терпкости. Или нежная пресная сладость ягод тутовника. Смородина… Или вишня поздняя, припеченная, черная, с горчиной. Пряные абрикосы… А напослед — ковш утренней прохладной воды, из глубокой земли пришедшей. И еще один, верхом, чтобы лицо остудить. А в теплую пору и ведра-другого не жалко. Разом, с головы до пят. Чтобы не только слухом, чутьем и взглядом, но всей плотью, душою почуять утренний час на земле, возле старого дома.
«Слухай сюда!..», или щи рыбные
Наше семейство хоть и прожило век в Калаче-на-Дону, но казачьим не стало: короткие корни. Может, поэтому каких-то особенных рыбных блюд в старом доме не помню. Просто отварная рыба да жареная — и все. Наши соседи Сурковы — казаки коренные, рыбаки были у них в роду. И сейчас вспоминают они порой, какие балыки — осетровые да стерляжьи — висели в чулане.
Осетры — дело давнее, о них лишь память. А вот «леща по-сурковски» мне приходилось едать. И не раз.
Просторная сковорода, когда вынут ее из духовки, глядится не сковородой, а клумбой цветочной: алый пламень томатного густого разлива, россыпь лука, золотистой да коричневой поджаристой корочкой манят взгляд крутые боковины леща. От одного запаха — голова кругом.
Хотя все, казалось бы, очень просто. Берется крупный лещ, режется на куски, панируется мукой, легко обжаривается на подсолнечном масле. Потом обжаренная рыба щедро засыпается мелко резанным репчатым луком, заливается протертыми свежими помидорами и ставится в духовку. Никакой будто хитрости и особых секретов. Но настоящего «леща по-сурковски» можно отведать только у Александры Павловны Сурковой, пока у нее силы есть. А у других… Как говорят, та же мучка, да другие ручки, и получается вроде и Федот, да совсем не тот. «Лещ по-сурковски» уйдет от нас вместе с Александрой Павловной.
Такая же история с другим рыбным блюдом, которое называю я «рыбой по-адининцевски», потому что отведать ее можно лишь на хуторе Большой Набатов, у Адининцевых. Хозяйка, Катерина, на похвалы своему искусству лишь рукой махнет: «Да по-простому это, у нас сроду так делали». Конечно же, по-простому. Берется рыба — линь, судак. Разделывается на небольшие куски, обжаривается, а затем заливается болтушкой из сметаны, яиц и зеленого лука. Запекается не в духовке, а на открытом огне. И по летнему времени объявляется на дворовом дощатом столе, под развесистой ивушкой «простое», как говорит хозяйка, но все же чудо: чугунной сковороды черное окружье, в нем — нежная бель сметанной и яичной густой приправы, зеленая пестрядь лука, а в этом разливе и пестряди — там и здесь — золотистые островки поджаристой, в мягкой корочке рыбы. Дразнящий запах — на всю округу. Даже ко всему привычный дворовый пес Тузик, почуяв сладкое, нетерпеливо повизгивает, надеясь хотя бы на объедки.
Такая вот еще быль. И еще об одном, вовсе простом нашем блюде, которое зовется — щи рыбные.
— Петрович… Ни боже мой! Дуркуют они! Глузды тебе забивают!— Старинный знакомец, Набатовского хутора рожак Николай Герасимович Соколов, донельзя огорченный, машет руками, отгоняя мои слова, словно черное наважденье.— Слухай сюда, Петрович. Сроду щи рыбные из свежака не варили. Они же будут отдавать сыростью! Их добрый кобель есть не станет, отвернется…
К Николаю Герасимовичу я пришел за советом. Донские рыбные щи — дело серьезное, но порой нынешней их варят нечасто. Во-первых, из обихода вышли; другая причина — рыбы в Дону не стало, выловили ее да погубили. Добираем остатнее.
Донские рыбные щи доводилось мне и варить, и хлебать. На моей памяти готовились они в наваре из крупных сазаньих да лещовых голов. Другой опыт: Будановы с Малой Голубой, семья рыбацкая. Хозяйка для рыбных щей обжаривает на сильном огне большие куски сазана, леща, но лишь обжаривает, оставляя их впросырь. На этой рыбе и варятся щи. Александр Адининцев, приятель мой с Набатовского хутора, вспоминает, что его мать да бабка варили щи просто с наваром хорошей крупной рыбы. По бедности можно отваривать невеликую сухую рыбу-вялку, юшку процеживать, щи с ней варить. Даже из обычной свежей щуки варили щи. Лишь луку побольше в них да помидор ли, томату, чтобы отбить щучий запах.
Весь этот ворох рассказов да опыта своего вывалил я Николаю, словно из мешка: «…Корытин говорит» да «…Адининцев помнит». Вывалил, словно водой плеснул на горячие угли.
— Петрович, все это — брехни!! Ногами их потопчи!! Кого ты слухаешь?! Ты слухай сюда!!
Вначале мой собеседник лишь кипит, сипит, пенится, машет руками. Родимец бы не хватил…
Но подостыв, он льет и льет словами, куда и одышка пропала:
— Петрович, у нас весь хутор щи рыбные хлебал. А я рыбальскому делу, сам знаешь, наскрозь, не выводился с Дона. Слухай меня, Петрович! Твой Шурка — куга зеленая, и память у него овечья. Он деда родного не знает, как величать. А я про старые времена все дочиста раздиктую. Слухай сюда, у моего деда шесть сынов и четыре дочери. Микита, Николай, Герасим, Василий, Иван, Алексей. Этот был бездетный, лавку имел на хуторе, борода до колен, лошадей любил, держал жеребца на проезд… Всех дедов и прадедов перечту… А уж по рыбному делу… Года были, сам знаешь, люди от голода пухли. Вот и стремишься на раздобудки. Тем более молодые. Сусликов по степи выливать, каржиные да сорочиные яйца сбираешь, всякую зелень жрешь: скорода, китушки, калачики, чакан, козелик, купырь…
— Слухай сюда, Петрович! Август месяц, жара стоит. В займище, на той стороне, озера пересыхают, мелочко в них, по колено. Самое время рыбу ловить накидками. Не мне говорить, не тебе слухать, сам про накидку знаешь: сапетка, из хвороста плетенная, без дна. Весь хутор взгалчится! За Дон плывут. И взрослые мужики артелем, ребятишки, и бабы, и старые старухи, бывало, бредут. Как же… Рыбкой раздобыться!
— Слухай сюда, Петрович! Ты наши озера — наперечет: Талы, Клешни… Не хуже меня знаешь. А я в этих озерах и вовсе вывелся, как головастик. Надо умом кидать. В Малом, в Большом Круглом с сапетками делать нечего. Тама — глыб. Песчаненькое… Это — опосля, с бреднем, сазанов-кабарожников брать. Они по пуду. Я тебе потом обскажу. С сапеткой надо в Шемаристое озеро править, в Поплутное, в Треугольное, в Куги. Сподручнее — артелем. Обязательно старший есть. «Становись!» — он командует. От берега стали в ряд и пошли. А с другой стороны — навстречу. По илу бредешь, шаганул, а накидку — вперед, шаганул — и накрыл. Молчит — значит, пусто. Стукнет по стенке — значит, есть рыбка. Под зёбры ее и в сумку. Шагай дальше. Когда артелем, ловчее: взбаламутят воду, рыба ничего не видит. Лини, караси, щурята, сазаники малые, красноперка, серушка… Набрали, тянем домой оклунки, мешки. А время — июль да август, самая жара стоит. Тогда ведь холодильников — ни боже мой, не слыхали про них. Подпол, погребица, выход, какой льдом набивали. Но это — для молока. А рыба враз завоняется. Такому добру пропасть… Нет, надо все по-хозяйски. Рыбу чистят, потрошат, крупную пластуют. Солят, но не круто, как по весне, на вялку. День полежала в соли, сразу — на волю подвесили, чтобы обвенулась, на ветерке подсохла. И сразу ее — на противнях, в русскую печь, на легкий жар постановят. Чтобы она запеклась до хруста. Вот эта самая рыба для щей. Из печи ее вынули, в сапетку сложили и прямым ходом на подловку. Подвесили, от мышей. Все дела. Весь хутор хлебал. А Шурка, он все на свете перезабыл и умом не догонит. За то ему инвалидность присвоили.
Икается нынче на хуторе Большой Набатов седоклокому Шурке — Александру Андреевичу, не раз его помянули.
Здесь, в сегодняшнем нашем приюте, от хутора и от годов давних далеком, вспоминаем последнее, самое сладкое. Собеседник мой откипел и уже остыл, жмурится, глаза прикрывает. Но память, но острый нюх… Будто рядом все.
— Достал с подловки рыбу, в жаровню поклал, водички туда плеснул, чтобы отволгла. А потом — томату, морковочки да лучку, как положено. Пошкварчит, на малом жару хорошо потомится. Щи сварятся, как обычные, постные: капуста, картошка. Сварились, закладываешь из жаровни рыбу. Пусть закипит. И не спеши, нехай постоит в сторонке, на легком жару. Рыбка размягчеет, свой сок даст, там косточки и те станут едовыми. Настоится, такой из печи запах пойдет. Да господи боже мой… Такой сладкий дух…
Мясистые ноздри рассказчика раздуваются, он этот сладкий дух чует. Губами чмокает, словно хлебает.
— За уши не оттянешь… Настоящие наши рыбные щи, какие от веку. Ешь — не уешься. Надо Шурке переказать, нехай привезет рыбки…— мурлычет и мурлычет мой собеседник, но потом, вдруг очнувшись да иное скумекав, делает иной поворот: — Слухай сюда! Ты — на колесах. В августе едем на хутор. У Шурки лодку берем — и на озера. Крестовка, Поплутное, Шемаристое… Без рыбы не будем. И все как положено делаю. А ты гляди, и Шурка нехай глядит. У тети Кати русская печь сохраняется, я знаю. Протопим печь. Высушим как положено. И вот тогда наварим настоящих донских щей с рыбой, как в старые времена. Ты лишь слухай меня…
Человек в шляпе
Для зачина — почти анекдот. Станица Голубинская. Год тысяча девятьсот сорок четвертый ли, сорок пятый, словом, Отечественная война кончается. Семья учителей Рукосуевых. Летнее утро. Хозяин — Василий Андреевич, как всегда, до работы успел на Дон сходить, проверил снасти и несет полный зембель стерляди семье на прокорм. Встречает его во дворе жена, Евгения Павловна, сокрушенно вздыхает:
— Господи, когда уж мы настоящей еды дождемся, все стерлядка да стерлядка…
Это — чистая правда. Так было. Время голодное. Спасались чем могли: ловили сусликов, собирали ракушки да желуди… Василий Андреевич на Дону промышлял.
Потом Рукосуевы переехали в Калач и первое время жили от нас недалеко, в школьном здании. Трое детей у них. Возраста моего и моложе. Но мне ближе отец их — Василий Андреевич. Преподавал он физику и химию. Я у него не учился, но помню с детства: высокий, худой, в шляпе. В ту пору у нас все учителя-мужчины носили шляпы. Математики: Василий Иванович, Георгий Федотович, Иван Иванович; физик — Андрей Анфимович, географ — Порфирий Захарович. Даже физкультурники. Николай Михайлович — при шляпе; Арефий Самойлович тоже носил какую-то смешноватую шляпку с куцыми полями.
Такое было время. Иной народ обходился кепками да фуражками. А если кто вздумает шляпу напялить, то засмеют: «Тоже мне интелигузия… Еще очки нацепи». Над учителями никто не смеялся. Их уважали. Им шляпы положены, потому что они — учителя.
Не знаю, сохранился ли в семье Рукосуевых старый, довоенных лет, фотоснимок, портрет Василия Андреевича.
Я помню этот портрет: узкое лицо, спокойный взгляд, высокий лоб. Красивый, интеллигентный молодой человек в шляпе.
Не скажешь, что хуторянин. Учитель угадывается.
Узнал я его поближе в свою уже взрослую пору, а в его — стариковскую. Глухой переулок, невеликая усадьба с домом, летней кухней, высоким тенистым грушевым деревом да развесистой тютиной со сладкими ягодами.
Дети выросли, разъехались. Супруга Евгения Павловна, тоже бывшая учительница, не в пример мужу ростом невеликая, полная, круглолицая, топ да топ по двору: от кухни к дому да к огородным грядкам; топ да топ, словно ежик. Пирожки хорошо пекла, мужа величала ласково Васей, а он ее по имени-отчеству. Милая пара.
Но нынче — про Василия Андреевича. Часто вспоминаю одну из истин его: «Хлеб нынче есть. Это замечательно! Можно посолить ломоть хлеба и водой запивать. Очень вкусно! Можно сахарком посыпать. Тоже хорошо… Или горбушку чесноком натереть. Похрустывай… А уж если постное маслице найдется, это вообще праздник. Помакивай да посаливай. До чего вкусно!»
От наших мест далеко, в стороне сибирской, жил да был мужичок с ноготок Иван Егорович Селиванов, по профессии — печник. В старости он рисовал, стал известен стране и миру. Строки из его записок, опубликованных после смерти: «Считаю за счастье… скушать ржаного хлеба с картошкою в очистках-мундирах и чуточку с солью, впримочку с водой».
Похожие люди. Такие, как наша тетя Нюра, которая говорила: «Я все с хлебом ем. С хлебом сытно».
Василий Андреевич в свою пору первым торил дорогу к образованию из глухой задонской округи. Станичную школу закончил и пошел в город. Ему справили новую обувку — ботинки. Он их до самого города в котомке берег и лишь там нарядился. Но опасался: увидят, что в новых ботинках, и не возьмут, скажут — и так богатый. Взяли. Он окончил педагогический техникум имени Песталоцци. Стал учителем.
Преподавал физику и химию. После войны переехал из станицы в Калач, построил дом. У него были руки плотника: плоские, разбитые работой пальцы.
Дом, летняя кухня, сараи — все своими руками построил. Простая мебель: столы, табуретки, детские стульчики, полки для книг — все делал сам. Пчел водил до самой старости. «Любую хворь пчела вылечит,— говорил он.— Царапину, ранку медом помажь — и пройдет. Простуда, горло, суставы порой болят. Только медом…»
Рыбачил он почти до последних дней. Уже трудно ходил, но в доме не мог усидеть. «Вы меня лишь в одну сторону довезите, к Дону. На воде я враз оздоровею». Так и было. К вечеру домой возвращался с рыбой, своим ходом и без одышки.
Рыбой он свою семью прокормил в годы тяжелые, в голодуху. «Все стерлядь да стерлядь…— вспоминала его жена.— Не верилось, что когда-нибудь хлебного наедимся».
А стерлядь потому, что стерляжьи переметы легче ладить. Крючки на них — самодельные, а не заводские, каких не сыщешь в ту пору.
Старея, он телом усыхал, сутулился, лысел, а вот седые кустистые брови будто в рост пошли, и светлые глаза из-под них весело посверкивали.
«Четырнадцать сантиметров прироста в сутки!— ликовал он.— Надо ее разводить повсеместно. И ликвидируем голод. Во всем мире!» Это он восхищался лагенарией — кабачком ли, огурцом, новым поселенцем на его огороде. Откуда-то семечко добыл, вырастил. И радовался.
Возле дома у него рос стройный высокий дуб, посаженный в день рождения сына. Ореховое дерево объявилось. Прививал помидоры на картошку и утверждал: «Обязаны и клубни, и плоды давать. Двойной эффект! Будем бороться с голодом. Сколько в мире голодных!» А еще он хотел получить из одного клубня мешок картофеля. Специальным методом. «Глубокая посадка,— убеждал он меня.— Развитие мощной корневой системы. Отсюда — результат! И всех накормим».
Была у него такая идея: всех голодных людей накормить. За свою долгую жизнь он не раз голодал. Рассказывал, как молодым учителем начинал работать на хуторе Вертячий. Месячная зарплата — пара пачек махорки или катушка ниток. Еда — щи из крапивы. Когда становилось невмоготу, уходил в свою станицу, к родителям. Там была кукуруза, тыква, свекла. Неделю отъедался, набирался сил и возвращался в школу: «Ведь там ученики… Ждут».
Так было в тридцатые годы, а потом в войну и после войны, когда работал в Голубинской станице, уже — глава семейства: жена, дети. «Кукуруза, свекла, тыква… Поместье было большое. Все засадим. Этим живем. А летом, конечно, Дон, рыба. Слава богу, ни желудей, ни козелка не ели».
Потом переехал в районный центр, в Калач. Поначалу жил в школе, строил дом. Возил стояны из займища, для каркаса; из сухого рогоза ли, чакана, который на озерах растет, вязал толстые маты, прокладывал ими стены для тепла. А уж потом — глина. Дом получился очень теплый. Через много лет, когда ни придешь к нему,— тепло в доме. «Лишь вечером протоплю — и все,— хвалился он.— Что значит чакан. Держит тепло».
Дети разъехались, жену схоронил, и дом стал просторней.
В одной комнате — письменный стол да кровать; одна стена — книжные полки, битком набитые, другая стена — журналы: «Наука и жизнь», «Знание — сила», «Юный натуралист». От пола до потолка. Все читалось и ничего не выбрасывалось. Горенка да детская — пустые. На кухне — жизнь. Там пахнет воском и медом. Там сушеные травы, шиповник, боярка. Чайник кипит. За чаем — беседы. Например, про земляную грушу: «Такая урожайность! Вкусно и очень полезно».
Хозяин из года в год будто усыхает, кустистые брови да редкие пряди волос. Но в светлых глазах жизнь сияет, и на лице — радость:
— Такой нынче хлеб купил: пышный, подъемистый, прямо как наш голубинский. Хлеб — это замечательно! Можно солью посыпать. Очень вкусно…
Дочка Лариса приходит, варит и готовую приносит еду, порою ворчит:
— В холодильнике все стоит, пропадает. А он хлеб… Да еще какую-то чечевицу придумал. Загубит желудок…
— Чечевица — это замечательно! Тридцать два процента белка! Легкоусвояемого!— внушает Василий Андреевич.— Суп из нее до чего сытный… Это спасение: чечевица, бараний горох, соя. Всех людей можно накормить. И ликвидировать голод!
Чаевничаем в теплой кухне. Вспоминаем лето нынешнее, а потом давние годы.
— Был у меня ученик, Коля Арьков. Он правильно говорил: картошка, тыква и свекла очень полезные для учебы. Наешься — и все уроки учатся. А когда все кончится, в животе пусто, учишь-учишь, а ничего не запоминается.
Про Колю Арькова слыхал я не раз. У старых людей память иная. Давнее всегда рядом. Хочется рассказать про Колю Арькова. Про девочек-близнят — Нюсю и Валю, у которых отец на фронте погиб, а мать в тюрьму посадили за сумку ржаных колосьев. Вот и объясняй им Бойля — Мариотта закон.
— Меня назначили директором, я сразу сказал: надо выживать. Весной начали копать землю. Я ставил сетки, рыбу ловил, варили уху, после уроков кормили ребят и копали. Собирали семена, по горсточке. Все засадили. Тыквы, свекла, но главное — кукуруза. И она так хорошо уродилась, такой небывалый урожай. Раздали нуждающимся, ученикам, учителям, оставили семенной запас. А еще прямо в школе всю зиму варили кукурузную кашу и на большой перемене кормили всех.
Василий Андреевич умер, когда я был в отъезде. Схоронили его. Осталась память.
Но вот что странно: словно размываются нашего знакомства годы последние, прояснивается иное: вспоминаю большой фотоснимок, портрет, на котором Василий Андреевич молодой, красивый, в шляпе. Сразу видно — учитель. А еще словно давний урок повторяю порой: «Хлеб — это замечательно… Можно солью присыпать. А можно…»
Попробуйте… Просто — горбушка хлеба и просто — соль. В самом деле ведь вкусно.
Собеседники
В час вечерний, обходя напоследок усадьбу свою, в дальнем углу, где золотятся на деревьях пахучие сладкие абрикосы да манит спелостью черная смородина, в том же углу обычно встречаю соседа. Он в своем огороде копается, заканчивая последние дела.
— Какие новости?— спрашивает он.
— Не знаю. Со двора нынче не выходил.
— А чего же делал?
— Беседовал…— уклончиво признаюсь.— С Петром Яковлевичем.
— Какой на мельнице работал? Да он же вроде уехал к дочери, в город?
— Нет, не с ним.
— А-а-а…— догадывается он.— Какой в паспортном отделе сидел?— догадывается сосед.— Давно его не видал… Ну и как он?
Пришлось набрехать, потому что сосед моего собеседника сегодняшнего не знает. Петр Яковлевич Чаадаев, весьма неглупый человек, живший в ХIХ веке, известный «Философическими письмами» да «Апологией сумасшедшего». Но его известность до нашего поселка не добралась. На мельнице он не работал, в милиции не служил.
Нынешним летом, после смерти мамы, в старом доме разбираю я бумаги да фотографии, которые после нас уже никому не будут нужны.
Вот и нашел «Апологию сумасшедшего». Не в книге, а фотокопию журнальной статьи. В советское время Чаадаева не издавали,— и приходилось читать чуть не подпольно.
«Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами».
Как часто мы повторяли в молодости эти красивые слова, не сомневаясь в правоте их.
Да и только ли в молодости? «Россия, ты одурела!» — повторил не больно давно знакомец мой, Юрий Карякин, человек седовласый.
Для красного словца не пожалею ни отца, ни родной матушки.
Нынче перечитывал «Апологию сумасшедшего» и думал о маме, о нашем старом доме.
П.Я.Чаадаев: «Есть разные способы любить свое отечество; например, самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей жизни, и прогорклый олений жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова; и, без сомнения, было бы прискорбно для нас, если бы нам все еще приходилось любить места, где мы родились, на манер самоедов. Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине».
Читаю, думаю, и нет во мне того молодого восторга. Слова все те же, красивые, но для меня чужие.
Наверное, это возраст. Да еще и вечный вопрос: «Что есть истина?»
Мой старый дом, моя старая мать, которая умерла недавно, но долго была живой… Если следовать Чаадаеву («любовь к истине!»), то у них — у дома, у матери — найти можно много, и много «закоптелого» и «прогорклого». Мать моя, в конце ее жизни, стала беззубой, морщинистой, горбатой, с иссохшими руками и ногами, полуслепая и выживающая из ума — все это, конечно, «истина» (по Чаадаеву). Но почему я жалел ее и все же любил и почему так горька ее смерть?
И старый дом мой, ветхий и ветхий, тоже подслеповатый, врастающий в землю, почему он так дорог?
Нет. Всякая искренняя любовь выше даже очевидной истины. Потому что поиски истины и обретение ее — это мудрость. А любовь — выше мудрости; она в человеческом сердце, в душе.
По поводу «прогорклого оленьего жира, заражающего… воздух зловонием».
На родине моего отца, в Иркутске, теперь не знаю, но прежде любили и специально готовили соленого омуля «с душком», то есть с тухниной, если напрямую сказать. В конце пятидесятых годов прошлого уже века, в первый и последний раз гостя у бабушки своей Александры Алексеевны в Иркутске, поражен я был ее пристрастием к омулю «с душком». Вместе ходили на рынок, но к тому торговому ряду, откуда этот самый «душок» доносился, я не приближался, зажимая нос. Для меня омуль покупали нормального посола, для бабушки и тети Ани — «с душком». В доме в этот день, мягко говоря, припахивало. Удивлению моему не было предела: вот он, малосольный, тающий во рту, свежайший омуль. А они едят, с причмоком, какую-то «тухлину» (на мой взгляд, конечно). И ведь многие иркутяне предпочитали омуля «с душком». Специальный посол. Такой же, например, как «печорский» посол трески на русском Севере, в Архангельской области.
Покойная Дуся Огдо, долганка, родом из поселка Рыбачий, что на берегу Ледовитого океана, учась вместе со мною в Москве, на литературных курсах, привозила гостинец — рыбу, тоже посола пахучего, хваля ее: «Мягкая, как масло…»
По Чаадаеву, Дуся Огдо — самоедка, дикарка, как и все иркутские родичи; они ведь едят рыбу, «заражающую воздух зловонием».
Но чаадаевский образец — «английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего острова», вместе с иными «образцами», как-то: французами да немцами, если их поскрести, они ведь не меньшие «самоеды».
Всем ли по душе английский «roast-beef окровавленный», то есть полусырое мясо? Моя иркутская бабушка такое блюдо точно посчитала бы дикарством. А «сыр лимбургский» или рокфор, с хорошим «душком» да «плесенью»? Нам он не в привычку. И потому, даже на погляд, стошнить может.
В Москве, в пору расцвета знаменитого писательского ресторана, однажды почуял я еще на входе отвратительный запах. Оказывается, устрицы объявились.
«О радость!.. Глотать из раковин морских затворниц жирных и живых…» (А. Пушкин).
А для меня это был запах лепешек-«тошнотиков» из голодного детства. Их пекли из таких же, как устрицы, ракушек, но речных. Даже в голод не всякий мог их есть, тошнило.
А уж в хлебные времена ими даже уток кормить опасались. Утиное мясо будет вонючим.
Так что «прогорклый олений жир», про который лишь слыхал Чаадаев,— это просто местное блюдо. Но не признак дикарства, как и сыр «с плесенью».
Сосед мой, Александр Кузьмич, был родом из Калмыцкой Логани, что на Каспии. Когда приходилось нам баловаться раками, он всегда, смеясь, вспоминал, как морщились калмыки и фыркали: «Русские, как свиньи, даже раков едят».
А уж если вспомнить пристрастие иных народов к конине, собачатине ли, кошатине, блюдам из змей и черепах, саранчи, пауков, лягушек… Кто из них «самоед»: китаец ли, кореец или француз с англичанином, казах, африканец?.. У каждого свой обычай, своя страна, которую, порою наперекор уму, мы любим, и нет в том греха. Потому что эта страна: старый дом и старая мать — родной кров и родная душа, которым замены нет и не будет.
Особенно ясно это понимаешь в час вечерний, когда наступают сумерки.
«Чаадаевские» страницы были написаны и отложены. А на следующий день пришло письмо от читателя — редкая нынче весть. Читатель — грамотный, учитель русского языка и литературы, во втором уже поколении. Это было второе его письмо ко мне. В первом, пришедшем месяц назад, обычные слова благодарности за мною написанное, а им прочитанное. Я ответил, как отвечаю обычно, и даже последнюю книгу послал.
И вот еще одно письмо, удивительным образом подгадавшее к беседам с Чаадаевым, в поддержку последнего и уже из ХХI века.
Строки из письма: «Ваш талант оказался зорче, мужественнее, чем Вы сами,— Вы написали «Пиночета». Но написав, не хотите ясно осознать, что Вы написали,— а ведь эта вещь… о русском рабстве, которое в современной России благополучно процветает — в душах людей прежде всего… Я ненавижу… русское рабство…»
А к письму, в приложение,— невеликое сочинение на двух страницах, в котором такие строки:
«…празднование для русского состоит… в узаконенном лентяйничестве — в этом вся радость. …Праздновать для англичанина — значит прожить день радуясь, веселясь, в кругу семьи и друзей или посвятить его Богу… по-английски праздник… буквально святой день…»
«Русское слово «работа» этимологически однокоренное со словом «раб»… понятие о «чести» и «достоинстве» мы не знаем. Совершенно некрофильный народ!»
Две страницы «изысканий» в укор русскому языку и народу. И вывод:
«Нет, людям, которые так говорят, никто и ничто не поможет. Мераб Мамардашвили был прав: тут может помочь только атомная бомба».
Университетское образование, пусть и провинциальное. Учитель русского языка и литературы во втором поколении. Не пылкий юноша, а зрелый муж, «очень люблю Россию, никогда не хотел уехать отсюда, хочу жить здесь и умереть».
Но позвольте… Русский народ — по автору — «рабский», «ленивый» и даже «некрофильный». Ему лишь атомная бомба на голову может помочь. И в то же время: «очень люблю Россию», «хочу жить здесь и умереть».
Как это понять? «Территория» красивая: леса, поля и реки? А люди — сплошная мерзость. Бомбу на них!
«Я еврей,— сообщает читатель,— человек другой культуры, человек из иного мира».
Но откуда взялась «иная культура, иной мир», если человек на этой земле, среди этих людей родился, вырос, живет?
Если «Россия» и «русский народ» — понятие лишь географическое, то вольно все это корить, хулить и даже ненавидеть. Но если на этой земле осталась или ушла в мир иной (но была ведь!) хоть единая близкая, дорогая тебе душа, то твой камень — в нее, все твои камни — в нее!
Это они «ленивы», «грязны», «корыстны», «вечно пьяны», «с рабской душой». Потому что Россия — это наши люди, родные, близкие, друзья и товарищи, соседи: мама, отец, бабушка Евдокия Сидоровна и дед Алексей Васильевич, и добрая душа — тетя Нюра — Анна Алексеевна Харитоненко, и еще одна бабушка, Александра Алексеевна Екимова, урожденная Садовникова, из села Хомутова… Это и Прасковья Ивановна Иванькова, и тетя Шура Саломатина, и Марианна Григорьевна Блохина, Василий Андреевич Рукосуев…
Их много и много, ушедших, живых. Но дорогих мне людей. А все мы вместе — наш старый дом, которому имя — Россия.
Долгая осень
Вчера еще был ясный день. А нынче с утра пасмурно, солнца нет. И может быть, потому так сочна зелень травы и листвы, освеженная утренней росою; так нежны переливы цветов: белых и розовых петуний, ярких георгинов, цинний.
Так покоен утренний переклик петухов, воркование горлиц, синичий посвист.
Так просторен и светел мир земной и небесный.
Не верится, что еще неделя-другая — и придется уезжать. Лету конец.
Осень, что ни говори, печальна. Осень природы ли, человека или старого дома. Из нашего гнезда уходят жильцы последние, а молодые не приживаются. Причин много: ветхий кров, старинный быт, для житья непростой.
Уходит наш старый дом вместе со всей округой. Нынче уплывают последние. Суетливая тетка Лида уже не прибежит с новостями; и соседки ее, могучей Гордеевны, тоже нет. Доценковы, Грибановы, старый Фюлер да молодой, до старости форсовитая тетка Мотя… Одни — на кладбище, другие — где-то на доживанье.
И появляется народ другой. Нынешним летом прибавилось сразу четыре семьи. Уже не временные, не какие-то квартиранты, а новые хозяева, с детворой.
В доме Фюлеров — девочка на лицо милая, опрятная, даже здоровается. В соседстве у них — мальчонка, в хатке покойной Гордеевны — трое ли, четверо ребятишек. Даже непонятно, как они там умещаются. Это ведь не хата, а скворечник. Туда Гордеевна еле влезала. А теперь их шестеро, пусть и мал-мала. Как они там устраиваются, непонятно. Но, впрочем, устроятся. В свое время мы вшестером поселились и жили. Теперь тоже не понять, как и где умещались да еще и гостей принимали. Устроятся и новые соседи.
Ребятишки, как всегда, быстро познакомились. По обычаю, играют в прятки да догонялки. Добро, что улица широка да тениста. Щебечут, звенят молодые голоса.
Возле двора Ивана Варенникова сбивается ребятня помельче, ровесники внучек его. Тоже славная детвора.
Так что, даст бог, глядишь, помаленьку все и наладится. Угаснут, дотлеют усадьбы и дома, свой век доживающие. Народ старый да горемычный, какой с нынешней жизнью не сладил, скоро перемрет. Одного за другим их таскают на кладбище. Володя Грибанов, а еще раньше — младший брат его Сашка, и вовсе молодой зять, который пьяным сгорел, и «очкарик» — ветврач, который бедовал возле Володи Грибанова, Николай Страхов, богатырь Леша Рыжий, Генка Миней, Бошелуков, Шурка Молдаванова да ее сноха и внучка, Надюха с дочкой, Альвира да сын ее, Доценковы старший да младший, тетки-Шурина дочка Фаина… Горькому счету конца нет.
Они так быстро уходят, словно торопятся, один поперед другого. И не только в нашем краю. Уже второе в поселке, «новое» кладбище — под завязку, негде хоронить. Наши могилки, слава богу, на кладбище старом, которое недалеко. Туда можно пешком ходить, как и положено. Нарезал цветов, взял воды да кое-какую снасть, чтобы прибрать могилы. Собрался, пошел.
В годы последние, понимая свою близкую смерть, мать говорила: «Хочу умереть осенью. Много цветов…» Она и умерла осенью, в начале октября. Цветов было столько, что в банках с водой они не уместились и лежали грудой на могиле, переливчатым ворохом: астры, розы, циннии, хризантемы. Не завяли они на другой день и на третий. Я принес еще несколько банок, налил воды, и цветы долго стояли: стрельчатые, иглистые золотые шары, бархатные алые лепестки, синие соцветья.
На девятый день пришел первый густой туман. На кладбище сумрачно, а возле маминой могилки светло. Цветы словно фонарики: белые, золотистые, голубые. Рыжая пушистая белочка спустилась с дерева, скачет.
А возле старого дома, на улице, на воле, играют ребятишки. Порой допоздна. Звенят и звенят детские голоса.
Конец августа. Уже рано темнеет. Впереди долгая, по-южному теплая, но все же осень. А потом настанет зима.
Майское утро. Солнечно. Ясно. Сочная зелень деревьев, травы. Озерняются абрикосы. На вишне, на смородине — кисти, дробь зеленых ягод. За двором могуче вздымается к небу белое и пахучее облако цветущей акации. Малая птаха славочка допевает тихую утреннюю песнь.
И снова тишина и покой. Дремотно воркование горлицы. Высокое голубое небо с редким пухом облаков. По земле — зеленые метелки вейника, отягощенные утренней росой; белые головки одуванчиков, чуть подсохнут — и полетят, золотые лучистые цветы козелка не жмурясь глядят на яркое солнце.
Звяканье ведра. Тихий говор. Это сосед возится в огороде, грядки поливает. Рядом с ним внук в нарядной яркой рубашке. Тоже цветок, человечий.
2006 год
«Новый Мир», №4
«Язык наш свободен»
опрос
Язык — одна из основ жизни нации, ее объединения и самосохранения; уникальный и единственный инструмент мысли; состояние языка определяет возможность народа постигать меняющийся мир, находить свое место в нем и интегрироваться в общечеловеческие процессы развития. Исходя из этого, журнал «Знамя» в начале 2006 года открыл новую рубрику «Родная речь». Под этой рубрикой уже были опубликованы статьи филологов, культурологов, преподавателей русского языка. Подводя некоторые итоги обсуждения проблем русского языка в уходящем году, редакция предложила тем, для кого язык является не только средством общения, но и непосредственно орудием их творческого труда — поэтам и прозаикам,— ответить на следующие вопросы:
1. В открывшей дискуссию статье М.Эпштейна «Русский язык в свете творческой филологии» (№1) утверждалось, что творящая функция русского языка в последнее время заметно ослабела, новые слова практически не создаются, в то же время речевая практика, язык массмедиа, Интернет заполняются огромным количеством заимствований из иных языков (преимущественно английского), и выглядевший недавно фантастическим предположением переход на латиницу может оказаться ужасным, но закономерным результатом сложившейся ситуации. И.Левонтина, косвенно возражая М.Эпштейну, в статье «Шум словаря» (№8) доказывает, что творящая функция языка реализуется ныне в переосмыслении и придании новых значений давно существующим в языке словам, в адаптации (а порой тоже переосмыслении) иноязычных заимствований и ка€€лек, во встраивании их в живую плоть языка. На чьей стороне правота в этом споре?
2. Г.Гусейнов в статье «Жесть» (№4) пишет, что «жалобы на «порчу языка» — это не что иное, как проявление слабоумия»: язык живет и развивается, главное — «интересы коммуникации сегодняшних его носителей», то, что происходит ныне с русским языком, его раскрепощение — неизбежное следствие «фальшивой модальности долженствования», определявшей отношение к языку в советскую эпоху. В то же время В.Елистратов настаивает на том, что «в трехмерном пространстве русского языка» (так и называется его статья в №9) должен существовать баланс между языками культуры, идеологии и коммерции, если же этот баланс нарушен — деградация неминуема. Какова ваша позиция?
3. Считаете ли вы, что писатель в сегодняшней ситуации может повлиять на состояние русского языка, и ставите ли вы такую задачу перед собой?
Подобного рода дискуссии ли, разговоры, о чем бы ни велись они — о судьбах России или русского народа, о дне сегодняшнем художественной литературы или, как ныне, о состоянии русского языка,— протекают примерно одинаково. Одни заупокойную молитву читают, другие поют аллилуйю.
Так было во времена могучих витий веков прошлых: протопоп Аввакум, Чаадаев, Пушкин, Тютчев, Герцен, Белинский, Достоевский, братья Киреевские, Самарин.
«Философические письма», «Выбранные места из переписки с друзьями» и — ответом — знаменитое письмо Белинского к Гоголю. Громы и молнии, вулканы страстей, потрясение душ… «Да, я любил вас со всей страстью…» «…могу ли я, по совести, молчать…»
Может быть, прав Гоголь: «…русского человека до тех пор не заставишь говорить, пока не рассердишь его».
Но грозам да бурям словесным недолгий срок. Их воздействие на узкий читающий круг людей несомненно, на более широкий — сомнительно. Ныне, для нас, они являются высокими уроками русской литературы, истории, человеческой мысли.
А что до «деградации», «ослабления», а то и непременной «гибели» России ли, русского народа, языка, литературы — это не более чем гипербола, основанная довольно часто на искренней, естественной и понятной тревоге за судьбы своего народа, особенно во времена перемен, потрясений.
Нынешние потрясения и глубокие перемены в России происходят, на мой взгляд, скорее в умах и душах людей. Для русского же языка они мне представляются не очень значительными, если вспомнить такие испытания, как «татарское нашествие» или петровское «окно в Европу».
«Восточный ветер» да «западный ветер» приходят и уходят, не в силах пошатнуть укорененное в веках и на широких просторах могучее древо русского языка, лишь освежая его, а значит, усиливая. В мире растений это называется перекрестным опылением, в мире животном — свежей кровью.
В подобных случаях ли, испытаниях могучий океан великого языка (и не только русского) своей несравнимой с пришельцами массой, мощью, энергией, мерной и неустанной работой огранит, отшлифует чужие слова, пристраивая их к собственным нуждам, окропит живыми ключами родной земли, принимая в народную речь, письменность, художественную литературу. Так было. Видимо, так и будет. Двести тысяч слов одного лишь Далевского словаря — разве не океан? Чужое перетрет, перемелет, а грязное с пеною выбросит. Рядовой, нынешний, орфографический словарь, и тот — сто тысяч слов, каждое из которых — не старая плесень, а живая речь, которая, конечно, богаче любых словарей, недаром из нее черпают щедро, но дна, слава Богу, не видно. Простой пример. Волгоградский педагогический университет в прошлом году выпустил лишь первый том словаря донских говоров нашей области. Основная работа — впереди. Потому что слов много, богата живая речь даже теперь, во времена, именуемые «урбанизацией», «деградацией» и прочим. В малой мере и я помогал составителям словаря, делясь своими «запасами». Но нынешним летом, прочитав первый том, вышедший тиражом 500 экземпляров, уже дополнил его почти полсотней новых слов, услышанных за последнее время.
Русский язык не только живет, но животворит. И, понимая душевную тревогу людей, радеющих за его судьбу, хочу заметить, что чтение газетных, журнальных да интернетных страниц в нашей почти стопятидесятимиллионной стране — удел очень и очень немногих. Тираж мною уважаемого журнала «Знамя» — пять тысяч экземпляров. И его «non fiction», «nomenclatura», «Beaujlais Nouvea» вряд ли нанесет серьезный урон русскому языку. Балуйтесь, милые… И у «Нового мира» тираж немногим более. А потому тирада о том, что у некоей увенчанной журнальным лауреатством поэтессы «лирическая язвительность… приобретает характер экзистенциальной программы, построенной на парадоксальном, казалось бы, невозможном сочетании бихевиоризма, этологии — с метафизикой…»,— кого заденет?
Балуйтесь, милые… На радость себе и ближним.
Одно из волгоградских химических производств свои, конечно, ядовитые, отходы давно и поныне закачивает в глубокие земные пласты, губя воды живые. Укорам да упрекам не внемлют. Главное для них — барыш.
На этой же земле, сохраняя воды живые, ребятишки-школьники хуторов Малоголубинского, Дурновского и других, конечно, с учителями, земные родники да ключи берегут, чистят их. На прошлой неделе позвонили мне из нашего же института. Студенты, будущие архитекторы да строители, решили составить каталог наиболее значительных родников нашего края, одновременно обустраивая их. Каждому — свое.
То же — в нашей литературе, журналистике, которые, конечно же, влияют на состояние русского языка. Одни — «за двугривенный», другие — по недостатку разумения или молодому задору — работают на разрушение его. Какому-то регулированию они не поддадутся; тем более что народ там горластый, крикливый. Чуть что — сразу призыв к «мировой общественности».
Тут дело в совести и, главное,— в таланте. Толстой, Тургенев, Шолохов, Шукшин не ставили себе задачей охранение русского языка. У них это получалось естественно, потому что они были рождены русской землей и русским народом, от которого приняли великий дар и достойно им распорядились. Вот и все объяснение. Для меня лично оно — основательно. В меру сил и возможностей следую ему, понимая малую свою могуту.
Но ведь на хуторе Малоголубинском родники расчищают вовсе малые ребятишки, из начальной школы. Эти родники да колодцы текут помаленьку, оживляя речки Малую Голубую да Голубую, Ростошь, Еруслань да Лиску, а далее — Тихий Дон, его могучие воды.
Калач-на-Дону
сентябрь 2006 года
«Знамя», №12
«Говори, мама, говори…»
По утрам теперь звонил телефон-мобильник. Черная коробочка оживала: загорался в ней свет, пела веселая музыка и объявлялся голос дочери, словно рядом она:
— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец! Вопросы и пожелания? Замечательно! Тогда целую. Будь-будь!
Коробочка тухла, смолкала. Старая Катерина дивилась на нее, не могла привыкнуть. Такая вроде малость — спичечный коробок. Никаких проводов. Лежит-лежит — и вдруг заиграет, засветит, и голос дочери:
— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Не надумала ехать? Гляди… Вопросов нет? Целую. Будь-будь!
А ведь до города, где дочь живет, полторы сотни верст. И не всегда легких, особенно в непогоду.
Но в год нынешний осень выдалась долгая, теплая. Возле хутора, на окрестных курганах, порыжела трава, а тополевое да вербовое займище возле Дона стояло зеленым, и по дворам по-летнему зеленели груши да вишни, хотя по времени им давно пора отгореть рдяным да багровым тихим пожаром.
Птичий перелет затянулся. Неспешно уходила на юг казарка, вызванивая где-то в туманистом, ненастном небе негромкое онг-онг… онг-онг…
Да что о птице говорить, если бабка Катерина, иссохшая, горбатенькая от возраста, но еще проворная старушка, никак не могла собраться в отъезд.
— Кидаю умом, не накину…— жаловалась она соседке.— Ехать, не ехать?.. А может, так и будет тепло стоять? Гутарят по радио: навовсе поломалась погода. Ныне ведь пост пошел, а сороки ко двору не прибились. Тепло-растепло. Туды-сюды… Рождество да Крещенье. А там пора об рассаде думать. Чего зря и ехать, колготу разводить.
Соседка лишь вздыхала: до весны, до рассады было еще ох как далеко.
Но старая Катерина, скорее себя убеждая, вынимала из пазухи еще один довод — мобильный телефон.
— Мобила!— горделиво повторяла она слова городского внука.— Одно слово — мобила. Нажал кнопку, и враз — Мария. Другую нажал — Коля. Кому хочешь жалься. И чего нам не жить?— вопрошала она.— Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство…
Этот разговор был не первый. С детьми толковала, с соседкой, но чаще сама с собой.
Последние годы она уезжала зимовать к дочери в город. Одно дело — возраст: трудно всякий день печку топить да воду носить из колодца. По грязи да в гололед. Упадешь, расшибешься. И кто поднимет?
Хутор, еще недавно людный, с кончиной колхоза разошелся, разъехался, вымер. Остались лишь старики да пьянь. И хлеб не возят, про остальное не говоря. Тяжело старому человеку зимовать. Вот и уезжала к своим.
Но с хутором, с гнездом насиженным нелегко расставаться. Куда девать малую живность: Тузика, кошку да кур? Распихивать по людям?.. И о хате душа болит. Пьянчуги залезут, последние кастрюлешки упрут.
Да и не больно весело на старости лет новые углы обживать. Хоть и родные дети, но стены чужие и вовсе другая жизнь. Гостюй да оглядывайся.
Вот и думала: ехать, не ехать?.. А тут еще телефон привезли на подмогу — «мобилу». Долго объясняли про кнопки: какие нажимать, а какие не трогать. Обычно звонила дочь из города, по утрам.
Запоет веселая музыка, вспыхнет в коробочке свет. Поначалу старой Катерине казалось, что там, словно в малом, но телевизоре, появится лицо дочери. Объявлялся лишь голос, далекий и ненадолго:
— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец. Вопросы есть? Вот и хорошо. Целую. Будь-будь.
Не успеешь опомниться, а уже свет потух, коробочка смолкла.
В первые дни старая Катерина лишь дивилась такому чуду. Прежде на хуторе был телефон в колхозной конторе. Там все привычно: провода, черная большая трубка, долго можно говорить. Но тот телефон уплыл вместе с колхозом. Теперь появился «мобильный». И то слава богу.
— Мама! Слышишь меня?! Живая-здоровая? Молодец. Целую.
Не успеешь и рта раскрыть, а коробочка уж потухла.
— Это что за страсть такая…— ворчала старая женщина.— Не телефон, свиристелка. Прокукарекал: будь-будь… Вот тебе и будь. А тут…
А тут, то есть в жизни хуторской, стариковской, было много всего, о чем рассказать хотелось.
— Мама, слышишь меня?
— Слышу, слышу… Это ты, доча? А голос будто не твой, какой-то хрипавый. Ты не хвораешь? Гляди одевайся теплей. А то вы городские — модные, платок пуховый повяжи. И нехай глядят. Здоровье дороже. А то я ныне сон видала, такой нехороший. К чему бы? Вроде на нашем подворье стоит скотиняка. Живая. Прямо у порога. Хвост у нее лошадиный, на голове — рога, а морда козиная. Это что за страсть? И к чему бы такое?
— Мама,— донеслось из телефона строгое.— Говори по делу, а не про козиные морды. Мы же тебе объясняли: тариф.
— Прости Христа ради,— опомнилась старая женщина. Ее и впрямь упреждали, когда телефон привезли, что он дорогой и нужно говорить короче, о самом главном.
Но что оно в жизни главное? Особенно у старых людей… И в самом деле ведь привиделась ночью такая страсть: лошадиный хвост и козья страшенная морда.
Вот и думай, к чему это? Наверное, не к добру.
Снова миновал день, за ним — другой. Старой женщины жизнь катилась привычно: подняться, прибраться, выпустить на волю кур; покормить да напоить свою малую живность да и самой чего поклевать. А потом пойдет цеплять дело за дело. Не зря говорится: хоть и дом невелик, а сидеть не велит.
Просторное подворье, которым когда-то кормилась немалая семья: огород, картофельник, левада. Сараи, закуты, курятник. Летняя кухня-мазанка, погреб с выходом. Плетневая городьба, забор. Земля, которую нужно копать помаленьку, пока тепло. И дровишки пилить, ширкая ручною пилой на забазье. Уголек нынче стал дорогущий, его не укупишь.
Помаленьку да полегоньку тянулся день, пасмурный, теплый. Онг-онг… онг-онг…— слышалось порой. Это казарка уходила на юг, стая за стаей. Улетали, чтобы весной вернуться. А на земле, на хуторе было по-кладбищенски тихо. Уезжая, сюда люди уже не возвращались ни весной, ни летом. И потому редкие дома и подворья словно расползались по-рачьи, чураясь друг друга.
Прошел еще один день. А утром слегка подморозило. Деревья, кусты и сухие травы стояли в легком куржаке — белом пушистом инее. Старая Катерина, выйдя во двор, глядела вокруг, на эту красоту, радуясь, а надо бы вниз, под ноги глядеть. Шла-шла, запнулась, упала, больно ударившись о корневище.
Неловко начался день, да так и пошел не в лад.
Как всегда поутру, засветил и запел телефон мобильный.
— Здравствуй, моя доча, здравствуй. Одно лишь звание, что — живая. Я ныне так вдарилась,— пожаловалась она.— Не то нога подыграла, а может, склизь. Где, где…— подосадовала она.— Во дворе. Воротца пошла отворять, с ночи. А тама, возля ворот, там грушина-черномяска. Ты ее любишь. Она сладимая. Я из нее вам компот варю. Иначе бы я ее давно ликвидировала. Возля этой грушины…
— Мама,— раздался в телефоне далекий голос,— конкретней говори, что случилось, а не про сладимую грушину.
— А я тебе о чем и толкую. Тама корень из земли вылез, как змеюка. А я шла не глядела. Да тут еще глупомордая кошка под ноги суется. Этот корень… Летось Володю просила до скольких разов: убери его Христа ради. Он на самом ходу. Черномяска…
— Мама, говори, пожалуйста, конкретней. О себе, а не о черномяске. Не забывай, что это — мобильник, тариф. Что болит? Ничего не сломала?
— Вроде бы не сломала,— все поняла старая женщина.— Прикладаю капустный лист.
На том и закончился с дочерью разговор. Остальное самой себе пришлось досказывать: «Чего болит, не болит… Все у меня болит, каждая косточка. Такая жизнь позади…»
И, отгоняя горькие мысли, старая женщина занялась привычными делами во дворе и в доме. Но старалась больше толочься под крышей, чтобы еще не упасть. А потом возле прялки уселась. Пушистая кудель, шерстяная нить, мерное вращенье колеса старинной самопряхи. И мысли, словно нить, тянутся и тянутся. А за окном — день осенний, словно бы сумерки. И вроде зябко. Надо бы протопить, но дровишек — внатяг. Вдруг и впрямь зимовать придется.
В свою пору включила радио, ожидая слов о погоде. Но после короткого молчания из репродуктора донесся мягкий, ласковый голос молодой женщины:
— Болят ваши косточки?..
Так впору и к месту были эти душевные слова, что ответилось само собой:
— Болят, моя доча…
— Ноют руки и ноги?..— словно угадывая и зная судьбу, спрашивал добрый голос.
— Спасу нет… Молодые были, не чуяли. В доярках да в свинарках. А обувка — никакая. А потом в резиновые сапоги влезли, зимой и летом в них. Вот и нудят…
— Болит ваша спина…— мягко ворковал, словно завораживая, женский голос.
— Заболит, моя доча… Век на горбу таскала чувалы да вахли с соломой. Как не болеть… Такая жизнь…
Жизнь ведь и вправду нелегкой выдалась: война, сиротство, тяжкая колхозная работа.
Ласковый голос из репродуктора вещал и вещал, а потом смолк.
Старая женщина даже всплакнула, ругая себя: «Овечка глупая… Чего ревешь?..» Но плакалось. И от слез вроде бы стало легче.
И тут совсем неожиданно, в обеденный неурочный час, заиграла музыка и засветил, проснувшись, мобильный телефон. Старая женщина испугалась:
— Доча, доча… Чего случилось? Не заболел кто? А я всполохнулась: не к сроку звонишь. Ты на меня, доча, не держи обиду. Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие. Но я ведь взаправду чуток не убилась. Тама, возля этой дулинки…— Она опомнилась: — Господи, опять я про эту дулинку, прости, моя доча…
Издалека, через многие километры, донесся голос дочери:
— Говори, мама, говори…
— Вот я и гутарю. Ныне какая-то склизь. А тут еще эта кошка… Да корень этот под ноги лезет, от грушины. Нам, старым, ныне ведь все мешает. Я бы эту грушину навовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча… Опять я не то плету… Прости, моя доча. Ты слышишь меня?..
В далеком городе дочь ее слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою: маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как все это зыбко и ненадежно: телефонная связь, видение.
— Говори, мама…— просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвется и, может быть, навсегда этот голос и эта жизнь.— Говори, мама, говори…
2006 год
«Новый Мир», №12
Каргины
Охранников нынче развелось — счета нет. В черной форме, в зеленой форме, в пятнистой, в беретах, в пилотках, в высоких шнурованных ботинках. Сначала они появились в банках да в серьезных конторах, теперь же кругом охрана: в детском саду, на почте, в школе, больнице и, конечно же, в старинной городской нашей бане, на улице Сурской.
Заходишь туда, он сидит — крепкий молодой человек, при форме. Попаришься и помоешься, выйдешь, присядешь отдохнуть на диван. Порою он встанет, пройдется — и снова на покой.
Особенно мне нравился один из них — могучий богатырь, в два метра ростом, с чистым румяным лицом — охрана надежная, и поглядеть приятно. Порою он помогал буфетчикам, таская ящики с пивом на второй этаж. Как пушинки поднимет разом два ящика, поставит на плечи — и пошел. Для него это — игрушка. И разминка.
Человек молодой, здоровый, и целый день сиднем сиди. А этот и вовсе богатырь.
Обычно глядел я на него, любуясь и сочувствуя. Глядел-глядел, и вдруг вспомнил свое летнее: поселок да хутор. Об этом рассказ или просто быль.
В день воскресный в поселке в теплую пору грех на базар не сходить. Это дело — святое. Людей повидать, новостями разжиться.
Отправился. Ходил да бродил по просторному торгу. Овощные ряды да молочные. Рдяные помидорные груды, огурчики, охапки зеленого стрельчатого лука да пахучего укропа. Зелени, слава богу, хватает. Молоко: кислое, пресное, откидное, каймак. Конечно, рыба. Но главное — свой народ: поселковый да хуторской.
Уже на выходе увидел я старого Каргина. Он, как всегда, веники продает, свое изделье: просяные, мягкие — для дома; а двор мести — прутяные, жесткие, из сибирька, какой в Задонье растет по низинам да балкам. Старый Каргин всю жизнь прожил на хуторе, много работал; теперь он на пенсии, на покое, в поселке, но без дела сидеть не может, вот и занимается вениками. И копейка не лишняя, и не привык сложа руки сидеть.
Остановился возле него.
— Здорово живете?
— Слава богу.. А вы как?
— Тоже не жалимся.
Слово за слово, обычные разговоры. Но напоследок старый Каргин вздыхает:
— Что-то сынок мой не едет и не звонит. Беспокоюсь. С этим хутором…— вздыхает он горько. В светлых стариковских глазах печаль.— Тем более один остался. Разве можно там одному… Я бы помог, да не в силах.
Беспокойство его мне понятно. Во-первых, конечно, младший Каргин хоть и взрослый человек, но — сын. Да еще живет в последнее время как-то врастопырку: летом они вместе, всей семьею, на хуторе, а когда в школе учеба начинается, жена с детьми сюда уезжает, в поселок; и тогда хозяин остается один при немалом хуторском хозяйстве. Мыкается туда да сюда. Прошлым летом и вовсе. Жена да сын устроились на работу в поселке. Одному справиться трудно. Да еще есть на нем грех всем известный. Потому старик и горюет.
Они похожи: отец и сын. Оба — рослые, костистые, жилистые. Лицом смуглые. А вот глаза у них — будто вовсе с другого лица: большие, синие, словно проталины на суровом мужском лике.
Вот и сейчас старый Каргин глядит на меня, в глазах недоуменье и боль. Чем помочь ему? Говорю обычное:
— Может, с машиной чего. А телефон — сами знаете: то столб упал, то провод оборвался. Одно слово — хутор.
— Хутор, хутор…— подтверждает старый Каргин, принимая мое нехитрое утешенье.
На том и закончили разговор. Подался я к дому, вздыхая да охая. Старых всегда жалко.
А ведь младшего Каргина я видел совсем недавно. Гостевал на хуторе, возвращался с речки, а Каргин кашеварил на своем дворе. На вольном огне костра он варил какое-то хлебово. Я свернул поздороваться. Давно уж не виделись.
Он изменился: похудел, лицом обрезался, крючковатый нос торчит в черной щетине — ни дать ни взять карга.
— Ты чего на костре кашеваришь?— удивился я.
— С дымком слаже,— посмеялся Каргин и объяснил: — Газ кончился. Все баллоны пустые. И некогда съездить привезть. Все — в одни руки, прямо на разрыв,— пожаловался он.— Рыбы надо поймать. Это — ночь. А утром коров доить, прогнать в стадо. Молоко тоже не кинешь, его надо в дело произвесть: перепустить на сепараторе, вскипятить да заквасить. Куры, гуси, поросята гогочут да юзжат, жрать хотят. Кошки и те мяучат. И рыба с ночи лежит, ее надо посолить. А огород?.. Он хоть и не гавчет, но просит рук. Копай, сажай, пропалывай, поливай. И все — в одного, на разрыв. Ты ведь слыхал, наверное, чего моя женушка удумала? Стала городской. Доумилась! Наотруб от хутора. Как от берега веслом отпихнулась. Устроилась в поселке, при конторе. Сидит там как врытая,— по-детски жаловался он, а глаза светили печалью,— сюда — ни ногой и сынов не пускает.
Жалко мужика. Помочь ему нечем, хоть послушать, пусть выговорится. Присел я на чурбак, внимая нехитрой повести.
Тихий зеленый двор, летняя теплынь, клокочет в котле пахучее варево. Высокое небо, речная вода недалеко, пресный дух ее слышен; поодаль — приречные холмы да увалы, а меж ними — просторный луг. Птичий переклик, пересвист да щебет, далекое кукованье. Рай земной…
— Ты нашу жизню видишь. Особенно летом. С утра до ночи как на точиле. А без этого как? От чего живем? От земли, от скотины, от птицы. Дом в поселке, он — не с неба упал. Он — отсюда. Старался, дурак, чтобы дети — при настоящей школе и чтобы не по чужим углам, а в своем доме. И себе — к старости. Но это — в старости! А ныне-то мы еще — в силах! Надо пахать и пахать: скотина, птица, огород, сады… Чесноку одного насажал полгектара. Он — в цене, тот год я его килограмм пятьсот продал. В магазины сдавал по двадцать, по тридцать рублей. Я для него еще земли припахал. Но его надо вырастить. Теперь — самая работа. А она все кинула. Она и раньше не больно старалась: там присядет да там приляжет. То жарко ей, то пыльно, то не с кем поговорить. Веришь?! Тоже — беда. Поговорить не с кем! А чего говорить, когда надо работать! Трудиться надо! Самая пора… А ее лишь успевай подгонять. А теперь ей вовсе курорт: в конторе день отсидит с разговорами — и домой, на диван. Там ни поместья, ни скотины нет. Ни комарей, ни мошки, ни пыли… Глаза — в телевизор, и все дела. И сынов настроила против. Старший пришел из армии: могутной, ему ломить да ломить, как борозденому быку. А он — в охранники, на почту. Сиди день-деньской да в носу ковыряйся… Не диво ли!— всплеснул Каргин руками, а в светлых глазах — изумленье и боль.— Меня посади на стулец, я часу не просижу. Сразу все заболит. А они вроде родились с этой стулой. И говорят: мы работаем, нам некогда к тебе приезжать. А я — на разрыв. Туда-сюда кинулся, а руки одни. Потому и костер, и казан, чтобы доразу всех накормить: собак, и кошек, и себя. За газом некогда сбегать. А она теперь — на диване, довольная, сериалы глядит…
Посидел я, послушал, от горячего хлебова отказался.
А во дворе у приятеля, где гостевал я, затеялся давний спор: кто прав, кто виноват…
— Башкой надо варить,— сурово постановил мой приятель,— а не поваживать. Меньше харчей возить. Каждую неделю везет и везет. Мясо, рыбу, сметану, молоко, картошку-моркошку — весь ассортимент. У машины аж рессоры лопаются. Сам Карга на балык высох, а на Каржихе уже шкура не сходится, аж трещит. Неделю бы, другую устроил им пост. И прижмут хвост. Враз бы на хуторе оказались, и Маня, и сынок преподобный, охранник…
— Маня мне лично сказала,— перебила своего супруга хозяйка.— Пусть не возит! Корки буду глодать, а сюда не приеду. И детей не пущу. Только в поселке. Никакого хутора.
— Тоже он сам виноват, башкой надо варить, кидать наперед,— не сдавался товарищ мой.— Кто дом в поселке построил? Сам Карга. Мебель купил, хвалился: диван и кресла мягкие, телевизор японский. Вот они теперь в мягких креслах телевизор глядят, а он день и ночь пашет, как карла. Нечего было строить. Здесь бы жили и никуда не делись.
А у хозяйки было иное мненье:
— Молодец, что построил! Об детях думал, об жизни. И правильно, что Маня уехала. Она пока не старая, устроилась на работу, для пенсии стаж идет. И сыну пусть не сразу, но хорошую работу подыщут. И женят, найдут невесту. Потому что у нас и людей уже нет, одни козы, скоро не говорить будем, а мекекекать. А младший сынишка у них способный, Маня хвалилась, учится хорошо. Вот и будут как люди жить…
— А мы не живем как люди?— Вопрос вроде спокойный, раздумчивый, но после него — взрыв:
— Нет! Не живем!! В навозе копаемся, как жуки! Из коровьего катуха — в свиной! От свиней — к курам! Из дерьма — в дерьмо! Все вокруг — дураки! Только мы — умные. Разве одна лишь Маня уехала? Тоня Калинкина где? Раз в месяц своего проведывает?
— А Калинкин сказал, что останется. Не уедет.
— Куда он денется? Кум Павло тоже гоношился, когда Фрося уехала. Побичевал полгода — и на побег потянул, да еще рысью. А Калинкины уже скотину всю продали, двенадцать голов. Коровенку оставили. Он тягает ее за титьки, матерится. К осени надоест — увеется.
Это был давний спор: жить на хуторе или уезжать; хорошо здесь или плохо.
— Тем более — Каргины,— не остывала супруга моего приятеля.— Батя такой, и он. Оглашенные. Все мало и мало. Еще припахал, говорит, для капусты в падинке, вода близочко. Маня аж плакала: «Руки не владают…» А он ей: «Молчи, дура. Ничего не понимаешь». А потом еще припахал, говорит, для тыквей. А потом…
— Для тыквей?..— переспросил жену мой приятель, ненадолго задумался и решил: — Это — хорошая идея. Надо и нам припахать для тыквей. Там, за картошкой, земля давно гуляет,— размышлял он, все более утверждаясь.— Припахать, пригородить, чтоб скотина не лезла. Пусть растут. Поливать их не надо. Лишь с весны поддержать. Корова хорошо тыкву ест. Свиньям тоже полезно, в сале будут мясные прожилки,— объяснил он.— Да и самим кабашная каша с пшеном. И запекать на противне. Правильно Карга сообразил. А то ездим, кланяемся, деньги платим, бензин жгем. То к Синицыну, то к Арчакову. А земля под боком гуляет… Это разве по-хозяйски?— вопрошал мой приятель.
Супруга не враз его поняла, думала, что шутит. Но поняв, взъярилась:
— Припаши! Пригороди! Насажай тыквей! А я эту городьбу поломаю. Не нужна мне твоя кабашная каша. Сам ее трескай! И сало твое не нужно с прожилками! Уеду! А ты оставайся! Припахивай, пригораживай, хоть весь хутор. Вон сколь земли гуляет! Умные люди давно уехали, а дураки все припахивают, пригораживают, пока не упадут. Старая Каржиха здесь и померла, посеред база. А вы Маню корите, она — тоже сердечница. Заболеешь, никто не поможет, в каменном веке живем.— Это уже ко мне обращение.— Федя умер от чего? Говорят: от сердца. Весь день на берегу лежал. А приехали к нему вовсе на другой день, он уж застыл. Скорая помощь… А Валя-татарка?.. Тоже два дня лежала. И тоже приехали, на третий день сказали, что от сердца. Мишка Бахчевник? От сердца. Отсюда не то что больного, мертвого не вывезешь. Максимовых свояк, городской гость, помер, тоже «от сердца», так его лишь на третий день увезли. И то спасибо — военные учения проходили, попросили военных, они его на танке до станицы везли, такая у нас дорога, а там уж машиной. Армянки-беженки сын… Тоже на третий день лишь приехали. И хоронить нельзя. А жарища стояла, как раз посеред лета. Он раздулся. Господи, Господи…
— А у тебя был инфаркт.— Это уже к супругу.— Плечо нудит…— передразнила его.— Чегой-то прямо стреляет в плечо.
— И вправду!— оживился хозяин.— Так и подохнешь! Плечо болело — прямо нет мочи. Я на него и пластырь перцовый, и песок горячий, как бывалоча. И Сашка ведь приезжал как раз. А диагноз не мог поставить.
Сашка — это местный фельдшер. В соседнем хуторе живет. При хорошей погоде наезжает, попутным транспортом, но чаще — на велосипеде.
— Пьянчуга твой Сашка. Какой из него лекарь.
— Это правильно,— со вздохом, но признает хозяин, делая серьезный вывод: — Я считаю, что Сашка свою квалификацию окончательно потерял. Дисквалифицировался,— с расстановкой и удовольствием выговаривает он мудреное слово.— С козами да с курями… Инфаркт не мог распознать. Спиртом, говорит, растирай.
— Потому что пьянчуга,— твердила свое хозяйка.
— Переквалификация…— внушал ей супруг.— Вот я когда работал, то раз в два года обязательно проходил переквалификацию. Потому что…
Тут поехал долгий и обстоятельный рассказ вовсе об ином.
Все это — память прошлого лета: хуторское гостевание, потом поселок, воскресный базар, старый Каргин, его забота. Старых, как малых,— особенно жалко. Но чем помочь? Единственным: узнать, в чем дело. Хотя думалось мне о том же, о чем вздыхал старый Каргин. Был на его сыне грех. Нечасто, но случался загул.
С базара прямиком подался я к дому и сразу позвонил на хутор приятелю своему. Телефонная линия была исправна, и гостеприимный товарищ мой тут же пригласил меня на уху, которая еще не остыла, и на пирожки, которые жарятся.
— А чего?!— кричал он весело.— Садись на машину, как раз успеешь! Хорошие пирожки! С картошкой и луком! Да еще каймачком подмазанные! Аж шкворчат! Послухай! И понюхай!— Он на минуту смолк, чтобы я мог услышать шкворчанье горячих пирожков в каймачной белой остуде.— Ты все понял?
— Понял, понял,— ответил я и спросил о Каргине.
— Карга — в запуске!— так же весело ответил приятель мой.— Я его лично запустил,— горделиво разъяснил он.— Ты же знаешь, я — не алкаш, в одного пить не могу. А чего-то нос зачесался. А с кем у нас выпьешь? Из мужиков лишь бычок Рябчик, но он на попасе. Вот я Каргу и припряг. Он было брыкался: не хочу, не могу, скотина, хозяйство… Но я его сострунил. Сели, выпили. А у него же нет останову. Он и попер. Уже вторую неделю на орбите. Вот как я его запустил, по-серьезному.
Я молчал, не зная, что и сказать, а на другом конце провода приятель мой начал ругаться с женой, не опуская трубку, потом объяснил мне:
— Она же всех жалеет: и кошек, и собак, и пьяниц. А я считаю так: у каждого своя голова на плечах. Вот и соображай! Я ведь тоже с ним выпил. Вместе выпивали, закусывали хорошо. Но ведь я не загулял, а пошел скотину с попаса встречать. А Карга прямым ходом к Вахе-чечену, за пойлом. И про скотину забыл, и про свой огород. Гуляй, Вася! Значит, в башке ничего нет.
Приятель мой — мужик крепкий. Всегда он правильные слова говорит. Да я и сам пьяниц не больно привечаю.
Но здесь иное. Еще стояла перед глазами утренняя встреча со старым Каргиным. Хотелось помочь. И потому я сказал:
— Может, жене передать или сыну, чтобы поехали, приглядели?
— Бесполезно,— ответил товарищ мой.— Звонили. Жена сказала, им некогда, они на работе, и нехай все сохнет и дохнет, огород и скотина. Тогда, мол, Карга к дому прибьется, в поселок.
Так и вышло. Каргин уехал в поселок, осени не дождавшись. Оклемался, все разом понял и за неделю — скорей, скорей!— дешево продал скотину, трактор с косилкой, какие-то железяки: поливные трубы да баки. А подворье — дом, скотьи сараи, базы, погреб, посаженный огород — никому не навяжешь. «Земля не продается,— сказал умный чеченец-сосед.— И с собой ее не увезешь. Она нам и так достанется».
Это, конечно, верно. Но тем же годом, ранней осенью, приехав на хутор и возвращаясь из похода рыбацкого, проходил я мимо подворья Каргиных. И поневоле остановился.
Как быстро все изменилось! Зеленые конопля и дурнишник полонили двор, огород. Разваленный забор, зияющие дырами крыши сараев, ломаные ворота — все гляделось горестно. Вот тебе и «нам достанется». А что достанется?
Лишь вековечные груши — «дулины» — по-прежнему, будто печалясь, клонили главы свои над опустевшим двором.
Поглядел я, повздыхал — и подался к ночлегу. Потом уехал в поселок и в город на зимовку. На Новый год, поздравляя хуторского своего приятеля, узнал новость горькую: Каргиных схоронили. Сначала сын умер «от сердца», а следом за ним, через месяц, ушел и старый отец.
Начинал я рассказ с городской нашей бани, с могучего охранника-богатыря.
Какое-то время я хворал и не ходил париться, домашней ванной обходясь. А потом все же выбрался. Раз, и другой, и третий. А богатыря-охранника в бане не было видно. Дежурили другие, пожиже. В гардеробной спросил я: «А где же наш богатырь?» — «Уехал, в Германию. Женила его какая-то немка и увезла»,— ответили мне.
Уехал… Ну что ж, охранников у нас нынче, слава богу, хватает. Один уехал — другого наняли. Продолжается жизнь, в том числе и банная.
2006 год
«Новый Мир», №12
«Ты не все написал…»
Приехал на лето в поселок. Знакомых встречаю, беседуем, все же долго не виделись, целую зиму. Женя Фетисов — шофер местного автобуса, давний сосед, сын когда-то на весь Калач знаменитого Мити-гармониста.
— Зимой твою книжку читал,— говорит мне уже седовласый, но для меня все равно — Женя.— Хорошая книжка, но ты не все написал. Помнишь, ходили за лазоревыми цветками, за Дон, в Грушевую балку, и видели змеиную царицу…
— Какую царицу?..— изумился я.
— Змеиную. Настоящую. Она на камне лежала. Большой самородный камень, а она на нем, прямо вся золотая, аж светится. Неужели не помнишь?— настойчиво вопрошал меня собеседник.— Змея здоровучая, вся золотая и в панцире, прямо светит… А мне потом бабка сказала: это змеиную царицу мы видели. Настоящая царица над всеми змеями. Ты про нее напиши. Я помню, хоть и маленький был, как мы сначала испугались. А потом глядели. У нее на голове — корона. Она нас не тронула. А могла и убить. Бывали такие случаи.
В нашем детстве было много славных походов: за лазоревыми цветами, за кислым щавелем, за пахучей скородой-чесноком, за ландышами в лесистое займище, за птичьими яйцами по весне (их там же и варили в солдатской каске), а еще за патронами, за артиллерийским снарядным порохом (он — желтый, колбасками), за птенцами — кобчиками, которых пуховыми брали из гнезд и растили дома, а еще за сладким солодиком осенью, тогда же — за бояркой, кисляткой, шиповником, дикими яблоками да грушами. Их было много, и много ребячьих походов.
Соседу Жене памятен именно этот, со змеей. Наверное, это был желтопуз, по-научному — полоз желтобрюхий. Действительно, большая змея, о которой рассказывали немало страшного: колесом свернется, голова к хвосту, и катится быстро, даже машину может догнать; а когда разозлится, то на хвосте надувает большую шишку ли, шар и бьет им до смерти человека или скотину, даже телегу может разбить или деревянный борт у грузовой машины. Такие вот страсти. А желтопуз и вправду красив. Поэтому сосед и запомнил его: под солнцем сияющий, на белом камне змеиный царь ли, царица, и даже с короной. Сказка детства и долгая память и потому наказ: «Напиши…»
Приехал как-то на хутор к товарищу, погостевать, порыбачить. Не виделись давно, целую зиму. Новостей много, беседуем. А потом он говорит:
— Книжки твои зимой читал. Делать особо нечего. Со скотиной управился — и читай. Ты про наш паром написал, про перевозчика Федю Босяву, а потом мост построили, и все ушло — это правильно. Но ты не все написал. Вот я вспомнил, что когда был паром, а мы на выходные к матерям едем на хутор из города… Уже мы работали, машины появились, у меня был «Москвич». А кто — на казенных, многие шоферили. К матерям едем на выходной, все — задонские, парома не минуешь. Мне — в Набатов, дружок мой, Михаил Одинев, в Осиновке жил, мы вместе в Нижнем Чиру на комбайнеров учились, Иван Бочков — липологовский, мы с ним вместе в армию призывались, из Голубинки были, из Большой Голубой, из Малой. И все — к переправе. Кого и сто лет не видел, встречаешь. Обычно много машин в пятницу и субботу, до самого базара хвост, аж за переезд. Стараемся вместе: своих пропустить да пристроить. Тем более на пароме Иван Вареников работал, наш, набатовский. Но все равно переправимся лишь вечером, часам к девяти. Переправились, не уезжаем, всех ждем. А уж тогда погнали все вместе. Доезжаем до кургана Хорошего, где развилок. Ставим машины, полог — на траву, садимся, выпили чуток и загалдели… Все новости: кто, где, чего… И все дочиста вспомним, ведь вместе росли, пусть хутора разные, а совхоз один, «Голубинский». И в школе, кто после седьмого класса, в одной учились. В голубинский клуб пешком ходили да на велосипедах. Есть чего вспомнить, шумим до ночи, а то и зарю встречаем. Потом встали, попрощались. Давай по коням, каждый в свою сторону: одни — налево, на Липологовский, другие — на шлях, осиновские да голубские, найденовские, мы — на Евлампиевку, Теплый, Набатов. Разлетелись…
И так вот, пока был паром, встречались и знались. В городе по телефону звонили: мол, едешь, не едешь.
А мост построили, паром убрали — и конец всему. С тех пор, считай, никого не видел. Негде. Через мост напрямую — и дальше погнал. И каждый так. Все. Кончились встречи. Вот про это у тебя не написано. А надо бы написать.
— Конечно, надо,— с усмешкой подтверждает слова приятеля его жена.— Про ваши пьянки-гулянки. Как ты напился на этом кургане и вместо Набатова уехал аж в Иловлю.
— Ну, это туман был,— оправдывается супруг.— И никакая не Иловля, а на Ляпин бугор заехал. А ты сколько лет-годов помнишь.
С мужем в спор не вступая, хозяйка мне говорит:
— Моя подруга из Сиротинской все хочет вас повидать. Я вам как-то рассказывала про ее маму. Но она сама хочет, она это лучше знает. Вот бы, говорит, он написал. Такая жизнь.
У нее мама была — раскрасавица. Высокая, лицо — белое, глаза голубые, ротик, носик — все как нарисованное, брови — черные, а волос длинный, коса заплеталась до пояса. Она до старости была такая красивая, а уж в девках — и вовсе. Дружила она с одним парнем, а он ее обманул. Он — из казаков, из богатых, а она — сирота у матери, жили бедно. Он обещал жениться. И обманул. Ее, конечно, ославили, по всем хуторам молву волочат. Она плачет, а куда денешься. И выдали ее за безногого парня из богатой семьи. У него ноги-то были, но маленькие, как у дитя, калачиком. Он на них не ходил, ездил на тележке с колесиками. Выдают ее за этого парня-калеку. А куда ей деваться?.. Без приданого, отца нет, мать — бедная, в хатке-мазанке жили. Да еще — порченая. На всю округу ославили. А в те годы это был позор.
Свадьба была богатая. Как положено, в церкви венчали.
И вот стоит она в церкви у аналоя. Высокая, красивая да в белом венчальном платье. Ну прямо царица. А жених — возле ног ее, на деревянной тележке.
Народу нашло со всех хуторов, полна церква. Бабы и девки плачут, ревмя ревут. А она стоит — раскрасавица. А он — на полу, возле ног, до коленок ей.
Вот так и выдали замуж. Он работал объездчиком. Она ему запряжет лошадь и на руках его из дома несет, в бричку сажает. Он и поехал. Так и жили. Четверых детей нажили: два сына, две дочери. Моя подруга — младшая. Вот и хочет она, чтобы вы написали. Все спрашивает у меня, как с вами поговорить. Про это надо бы написать. Это бы всем было интересно. Такая жизнь…
И вправду ведь такая у нас жизнь: будто простая, обыденная, идет и идет, но оглянешься — а там что-то светит и греет душу, даже через много лет. Какая-нибудь сказочная царь-птица или царица-змея из детства, или просто мама ли, бабушка в один из дней, которых было, оказывается, так много, что обо всем не напишешь.
2006 год
«Новый Мир», №12
На воле
В московском ресторане, на каком-то шумном банкете, при неплохом угощении, в том числе и рыбном: судачок по-польски, под белым соусом, да судачок по-русски, в розоватом хрустящем кляре, да блюдо клешнястых раков и прочее,— при щедром вечернем столе мне что-то не очень пилось да елось. Для вида ковырялся. Кто-то из моих знакомых заметил:
— Что значит донской казак: заелся… Не то что мы, грешные.
Конечно, он прав был, мой знакомец: на Дону живем, и если уж балуемся рыбкой, то свежепойманной, как говорится, из своих рук, сразу с крючка рыболовного или из сети.
Посмеялись, кое-что вспомнили; но потом, позднее, подумалось мне, что главное — это не еда, не застолье с пахучей ушицей ли, с иным баловством, о котором писал я в «Донской ухе», «Рыбе на сене», «Рыбных щах», главное — в ином.
Осенью на хутор звоню:
— Здорово ли живете? Какие новости?
— Вода спадает, рак пошел на берег, на меляки. Здоровучие раки…
Конечно же, сразу поехал. Давно ждал этой поры.
Нынче — осень, темнеет рано. А нам, словно татям, и нужна темь ночная. Собрали простые снасти: фонарь, «хваталки»-щипцы с длинными ручками, чтобы раков не руками брать из ледяной осенней воды, и, конечно, мешок для добычи. Собрались, пошли к Дону. Хутор ко сну отходит, помаргивая во тьме редкими огнями. Старые люди рано ложатся и рано встают, по привычке. А молодых здесь давно уже нет. Разве что летом гостюют, устраивая шумные ночные гулянки. Но нынче — осень. И потому, чуть стемнеет, наплывает на хутор глухая тишь и опускается тьма, лишь звезды разгораются час от часу ярче да смутно белеет дорога, виляя от двора ко двору. Их немного осталось, живых подворий: Боковы да чеченец Алик, старая Катерина, а вот и покойного Феди Суслика дом, уже без дверей, без окон. И здесь, на взгорье, сразу чуешь стылую речную зябкость и речной же воды пресную сладость. Дон — рядом. От прибрежного кургана наносит терпковатым живительным духом степной травы, которой окончился летний век, но она жива. Сухая полынь на обдутой ветрами маковке в пологих теклинах — муравчатый меловой чабер, казачий можжевельник, что стелется зеленым пологом над обрывами, а главное, пахучий иссоп — вековечный казачий ладан. Его и в ночи слыхать, даже теперь, осенью. Цветет он долго. Темно-синие колосья, узкий лист и граненый стебель. От вершины к подножью пахучим рядном накрывает он меловые склоны. Чую запах его. Наклоняюсь и во тьме, не видя, срываю стебель-другой. Подношу к лицу, сладостно вдыхаю. Недаром еще в библейские времена им окуривали да кропили святилища и дома людские. А позднее в казачьих, не больно богатых храмах он был заменой церковному ладану.
Растираю траву, нюхаю, прячу в нагрудный карман. Она пахнет долго. И через время, в городе, про нее забыв, сунусь к рыбацкой одежке, услышу и сразу вспомню вовсе не вкус свежесваренных раков, пусть и пахучих, в укропе, но вспомню другое: хутор, ночь, осень, смутно белеющий во тьме, словно уплывающий в звездное небо, курган, дух полыни, можжевельника, палого вербового листа и, конечно, иссопа, казачьего ладана,— дух просторной земли и воды в ночном покое.
Раков можно купить в городе, на рынке, и сварить. Но разве купишь иное! В тихой ночи, во тьме берега не видать: лодка идет и идет, шлепают весла. В свою пору говорит мне товарищ: «Включай фонарь». Яркий луч пробежал по густым зарослям камыша, поднялся к вербовым кущам, тревожа сонную птицу, на воду упал. Осенняя вода прозрачна. Словно на ладони вся ее потаенная жизнь. Малый щуренок стоит словно карандаш. А рядом полосатый окунь. А вот он и рак. В свете фонарном глазки его светят словно малые угольки-жаринки. Рядом — еще один, побольше.
Приятель мой — на веслах гребет помаленьку. Я с фонарем и «хваталкой» стою на корме — главный добытчик. Когда впервые пришлось мне таким образом охотиться, то «хваталке» я не доверился, брал раков рукой. Так вернее, не промахнешься. Вода осенняя, ледяная. Но греет азарт. Тем более, когда валит удача. Боишься упустить. Рука — в воду по локоть и глубже, до плеча. Вот он, голубчик! Еще один! И еще! А потом рука онемела от стылости, и пальцы — как грабли, не сведешь их. Великое дело азарт.
Теперь я — охотник опытный. Понимаю, что нынче не лето и вода — ледяная стынь.
Лодка идет потихоньку, кормою к берегу. Фонарный луч обшаривает мелководье, куда выходят раки в ночи на кормежку. Вот он, клешнястый. «Хваталку» опускаю, стараясь добычу не спугнуть. Цоп! И в лодку его. Еще один. И еще.
Товарищ мой поначалу обычно считает: «Двадцать один… Двадцать два… Сорок четыре…» Когда приближается к сотне, он оставляет счет, говорит, довольный: «План выполнили…»
Конечно, выполнили, но плывем помаленьку в ночи. Порою попадаются места добычливые, а порой — пусто и пусто. Там, где дно илистое, где вербовый лист его прикрывает, раков больше. А на голой отмели фонарный свет по белому рифленому песку бежит и бежит. Ночная рыба, на покое, тоже не любит голых отмелей, стараясь укрыться возле коряги ли, подводной травы.
Проходим вдоль камышовой стены, отделяющей донское русло от устья малой речушки, пробираемся вдоль Голубинского острова к затону.
Приятель мой на воде человек азартный.
— Давай до затона… Попробуем снова пройти здесь. Рак быстро подходит. Вот здесь, в протоке, здесь точно будет. Давай к тому берегу…
Обшариваем тот берег и этот, в протоки и в Голубинский затон забираемся. Время — ночь. Звезды разгораются и опускаются ниже.
Когда возвращаемся к берегу, к пристани, а потом идем по ночному хутору, заметно, как редеет ночная тьма от ярких и близких звезд. И в брезжущем, серебряном свете видятся темные гряды окрестных холмов. Оттуда, с высоты, по распадинам, балкам тянет холодом. Это поздняя осень, звездная ночь, степное Задонье.
А под крышею, в приземистой летней кухне, протопленной загодя дровами, стоит густое тепло; на плите ворчит горячий чайник с настоем шиповника — все, что надо для человека назябшего, для тела и для души. Раки — дело десятое: можем сейчас сварить, а можем и отложить до завтра.
Все долгое лето хуторской мой приятель ворчит помаленьку: «Разве это рыбалка. Это так, баловство одно. Вот к осени с огородом управимся, картошку выкопаем, дров заготовлю, сена привезу да соломы, переделаю все дела — и начну судака ловить. Вот это будет настоящая рыбалка».
Конечно, по летнему времени какая на воде охота? Сетчонку поставил на устье речки или в кушерях, как говорят у нас, в разлоях, в затопленных высокой водой кустах, по камышам. Там красноперка, плотва, линь да настырный «гибрид» — ученых людей созданье. Понимаю, что для серьезного рыбака это, конечно, забава. Но разве не в радость просто утренняя река, смугло-алая заря над лесом; на тихой воде лежит ее отсвет. Или пора вечерняя, когда в просторном речном плесе, как в ясном зеркале, отражается синее небо, белые облака с серым подбоем, меловые обрывы береговых круч, зеленое густое займище — все земное и все небесное.
В теплых заливах ставишь немудреную сетчонку на линя, протаптывая в зарослях куги и чакана да водяной травы «сербучки» — место для сетки, чтобы она встала стеной до самого дна. В таких местах кормится настоящий донской линь. Пока сетчонку поставил, комары загрызут и от колючей травы нападает чесучка. Зато потом подплываешь с обмиранием сердца; а заметишь, что притонули «балберы» или играют на воде, дергаются,— такая радость! Кто-то есть… Поднимаешь сеть.
И вот он, на свет объявляется темно-медный, тяжелый, словно литой, губатенький донской линь. В зеленой гущине листвы невидимая иволга славит нашу рыбацкую удачу звучным напевом. Пара крикливых красноносых куликов — сорок кружит рядом, завидуя.
Или на просторном выходе речки, на Устьях… Товарищ мой не зря с вечера мудровал, вслух рассуждая:
— На чистоплесе, там красноперка да серушка должны верхоплавом пойти, а окунь — дном. Сетка стенистая, «семерик», «троечная»,— он, дурак, все равно в нее влезет и запутляется.
Поутру подойдешь на лодке и видишь: поверху, рядом с поплавками-«балберами», бьется в сети красноперка. Ее угадаешь издали: алые плавниковые перья словно жар горят. Поднимешь из воды, вот она: малахитовая спинка, бока золотистые, алые сияющие плавники, желтые губы. Рядом с нею — плотва с голубым отливом и нежным жемчугом брюшка. А снизу сетки, из глуби, как и было угадано, объявляется ротастый красавец окунь, тот и вовсе сияет в радужных переливах. Даже обычная щука, когда вынешь ее из воды, глядится красавицей: та же малахитовая зелень, вороненая сталь с узорами на спине и боках, серебро подбрюшья. Но все это лишь на минуту-другую. Из воды вынул — и на глазах твоих гаснут золото и серебро чешуи, сияющая алость плавников и жабр. Останется просто рыба и рыба: щука, плотва, окунь.
Не торопясь проверяем сеть. Красноперка да окунь, щучка да всякая бель. Если рак прицепится, снова в воду его. Гуляй до поры!
Так, глядишь, и набрали на уху да жареху.
Кто-то укорит меня: сетчонка, пусть малая, а тем более вентерь — снасти запретные. Вспоминаю, как всполошился, ныне покойный, рыбак и поэт Виктор Иванович Политов, когда в рассказе «Донская уха» упомянул я его переметы. Он тут же, от греха подальше, саморучно изъял из станичной библиотеки журнал «Наш современник» с этим рассказом. А мне выволочка досталась: «Ты думай, чего пишешь. Это же — форменный донос. Они прочитают — сгрызут меня». Виктор Иванович, получая грошовую инвалидскую пенсию, проживал на хуторе Березки, ничего не прося и не жалуясь. Считай, к порогу его немудреного казачьего куреня, крытого чаканом, подступала донская вода. Он и жил «от воды», душой и телом.
— Собака у меня кормится рыбой, куры — рыбой,— признавался он.— Жена — тоже рыбой. Кому не нравится, пусть меняют прописку.
Наш закон совершенно справедливо разрешает коренным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока: эвенкам, нанайцам, удэгейцам, орочам — на рыбном промысле для собственных нужд пользоваться сетями. А ведь и мы на Дону — народ не приблудный, а самый что ни есть коренной и лишнего не возьмем, лишь для себя: ушицы похлебать, малосолого лещика в печи ли, в духовке запечь или вяленой чехонью побаловаться. А уж если раз в году и пошлет бог что-нибудь серьезное: сазана ли, хорошего чебака или сома,— то пусть и на нашем дворе будет праздник. Не где-нибудь — на тихом Дону живем. Остатние, но казаки донские.
Но это все — к слову. А в нынешнем дне праздника не случилось. Обошлись всякой мелочовкой. Но и за это спасибо. Проверили сетку и поплыли, пошлепали веслами к дому, никого не тревожа. Рядом, в затоне, выбрались из камышей на чистую воду сразу три табунка, три выводка диких уток. Большие выводки, не меньше дюжины в каждом. Чуть подалее лебеди плавают. Возле берега, в музгах, на мелководье, вышагивают цапли, помельче — серые и большие — белые, сияющие под солнцем. Тут же зимородки охотятся, носатые, переливчатые, словно самоцветы. Ныряют за рыбой и снова сторожат ее на суку, над водой.
К берегу плывем.
— А ты мешок завязал?— спрашивает мой товарищ.
— Вроде завязывал…
— Ты — не вроде, ты погляди, а то щука уйдет.
В самом деле может уйти. Бывали такие случаи. В этой самой лодке. Вначале без меня. Проверил мой товарищ сетку, как сейчас, поутру. Незавязанный мешок с рыбой поставил в нос лодки торчком, чтобы, причалив к берегу, за учкур его и на сушу. Последней в сетку попалась хорошая щука. В мешке она так и осталась сверху лежать. Когда мой приятель к берегу плыл, то услышал сильный всплеск впереди лодки, но, обернувшись, ничего, кроме кругов на воде, не увидел. Подумал: рыба играет.
Когда домой прибыл, жене похвалился: «Щука хорошая попалась. Может, котлет накрутим?» — «Давай»,— согласилась жена. Из мешка в жестяное корыто рыбу высыпали. «А где же твоя щука?» Товарищ мой помыслил, почесал в затылке и коротко ответил: «В Дону».
Дальше идет второе действие. Оно интересней.
Год спустя на этой же лодке проверили мы с приятелем сетку. Попалась хорошая щука. «На котлеты…— определил ее судьбу мой товарищ.— Но надо ее в самый низ мешка положить. А то в прошлом году…»
Так и сделали: щуку — вниз, на нее — весь улов, а мешок, как всегда, в самый нос лодки, торчком, чтобы ловчее выносить на берег. Поплыли. Приятель мой — на веслах. Я — на корме, любуюсь пейзажами.
— Мы мешок-то не завязали,— говорит мой товарищ.— А надо бы… Был ведь случай. Правда, сейчас мы ее в самый низ положили.
Подходим к берегу. И, считай, у меня на глазах, я ведь сижу на корме, вроде все вижу. Почти у берега учкур мешка словно оживел, вывернулась из него наша большая щука и, ловко скользнув, перевалила за борт. Лишь круги по воде.
— Щука…— разом выдохнули мы.
Но было поздно. Сумела-таки премудрая рыбина, словно змеюка, проскользнуть на верх мешка и выбраться из него. Видно, услышала приговор и не захотела «в котлеты».
И вот теперь, после второго случая, мешок с уловом непременно завязывается, даже если щуки там нет.
Но все это: ловля линей, весенняя рыбалка да летняя — для настоящих любителей вроде хуторского моего товарища — лишь одно баловство.
«Вот осенью все дела переделаю… На судака…»
В августе месяце заехали на бахчи к Синицыну, чтобы арбузами разжиться. Лето, считай, позади.
— Вот с арбузами, с дынями закончим, подсолнух уберем, вспашем все — и уж тогда на рыбалку, судачка погонять…— мечтательно произнес Синицын.
Николай Ерохин, профессиональный рыбак из Малоголубинского хутора, с неводом да сетями отломав нелегкую весеннюю путину, а потом летнюю «жарковку» — это для заработка, для жизни,— и тот мечтает, ждет не дождется: «Все дела переделаем, поблесним судачка…»
И ни при чем тут белое судачье мясо: «по-польски» ли, «по-русски». Для нас, донских жителей, судак — это просто рыба, к тому же сухая, постная. Куда лучше чебачиную голову «разобрать» или посладиться сазаньей «махалкой».
Осенняя рыбалка на судака — это отдых. У нас ведь в санатории и прежде не больно ездили, а теперь про них вовсе забыли. А лето — длинное, трудное: скотина, птица, огороды, картошка, сено — это лишь свое подворье. И на полях надо пахать, сеять да убирать. Все это — от белой зари до ночи, с ранней весны до осени. Одно дело за другим тянется и третье цепляет. Крестьянский быт.
Вот и мечтается: «Все дела переделаем, будем судачить…» Это — отдых, когда можно спокойно со двора отлучиться и целый день на лодке ли, на берегу возле воды сидеть, ни о чем не тревожась.
Блеснить судака осенью можно под Белой горой или подняться выше по течению на Картули, но лучше всего по-над берегом у стороны займищной, от Губных до Белого створа — когда-то судоходного знака.
Мне нравится именно здесь, потому что рядом займищный лес: вербы, осокори, вязы, дубы. Вначале будто зелень и зелень. Потом день ото дня, вначале незаметно, приходит осеннее разноцветье. Тополя золотятся. Склоняясь над водою, верба роняет, словно точеный, узкий лист янтарной желтизны. Боярышник кровенеет спелыми гроздьями ягод, алеет паклинок, пламенеет крушина. Понизу багровеет ежевика. Вроде и небогат наш займищный лес, но красив в осеннем уборе. Просторные донские воды далеко раскинулись в многоцветных праздничных берегах, в песчаных сахарных отмелях, в сияющих меловых обрывах. И воздух, словно вода осенняя, прозрачен и чист, на многие километры все видишь. Осенняя тишина. Редкие уже птицы: чайки да пара орлов-белохвостов. Покой и покой…
По утрам бывает зябко: иней на траве, на скамьях лодки; даже ледок в ведре, на улице, хрустнет под ковшиком. Студеная вода сладкая.
На рыбалке поутру вначале гребешь вверх по Дону, до самых Губных, до протоки. Оттуда по течению сплываешь до Белого створа. Потом снова вверх поднимаешься. И опять — по течению вниз.
Тишина, покой, осенний займищный берег, осенний лес. В руке снасть рыболовная, шевелишь ее, приманивая рыбу. Возьмется судак — хорошо, не возьмется — особо жалеть не будем.
Плывем и плывем по воде просторной. С утра бывает две ли, три лодки. На «алюминьках» или дощатых лодках — это свои люди. На резиновых надувных — городские.
Места хватает всем. Одни поднимаются вверх, другие сплывают, бывает, на якорь встанут возле места уловистого. При встрече перекинутся словом-другим:
— Ну и чего?..
— Молчит.
— А я взял двух, и щука уцепилась.
Перекинулись словом — и разошлись. Спокойная рыбалка, осенняя. Если вовсе рыба не берется, а сидеть и ждать нет терпежа, то чалься к берегу, грибов поищи, собирай шиповник, боярку, дикий терн. Порою народ хвалится: «Поехал судачить, а набрал опенков да лисят полную лодку». А можно просто бродить по займищу, в таком же, как на воде, покое и тишине. Разве что фазан прокричит сипло или с шумом поднимется на крыло. Раньше тут кабаны дикие жили. Их перестреляли городские, с карабинами.
Тишина. Покой. Горьковатый осенний воздух. На недалеких лесных озерах и вовсе тишь нетревоженная: склянь прозрачной воды с желтым вербовым листом.
Так и течет день, переливая тихий покой земли и воды в людскую душу. Плывешь и плывешь или по берегу бредешь потихоньку, и все пустое, лишнее — житейская шелуха — понемногу облетает; и на душе — словно вода, тихая и светлая осень, мир и покой.
Так и проходит день. Осеннее солнце валит к холмам, к Белой горе. От береговых круч, от высоких тополей да верб через Дон потянулись долгие тени. Значит, пора к ночлегу.
Но порой припозднишься. Однажды уже в темноте гребли, увидели костерок на берегу и решили причалить. А возле костра свой человек сидел, малоголубинский рыбак Володя Буданов. У него добыча: две утки, ободранные и потрошеные. Решили и мы разговеться, стали варить на костре утиный шулюм. И засиделись, с похлебкой да разговором. Стояла теплая ночь, поплескивала волной река, костерок теплился на белом песке, через Дон; к хутору, словно указывая нам путь, маслилась золотая лунная дорога. Но мы по ней не спешили. Позади — долгое лето. Есть что вспомнить и что рассказать.
Порою от займищного леса доносилось уханье филина, рядом, в зарослях вербовых да в камышах, слышались шорохи. Наверное, енот пробирался к воде, на ночную охоту. А может, молодые лисы, они — любопытные, бывает, что прямо к рыбацкому стану выходят.
Об этом и говорили: о рыбах, о зверье, что было и что осталось. Сидели долго. Помнится и теперь: теплая ночь у воды, костерок невеликий, лунная, через Дон, дорожка в переливах и бликах.
Нынче весна на исходе, молодое лето проклюнулось. Звоню на хутор, справляюсь о жизни, о рыбалке.
— Сто лет на воде не был,— отвечает приятель мой.— С огородом никак не раздыхаемся. Высаживай да укрывай, поливай. Картошка лишь вылезла, сразу жук напал. Какая-то страсть… А тут еще мошка донимает, скотина нудится, бесится. Телята не знают, куда схорониться, лезут везде. Наш Мартик провалился в старый погреб. Два дня искали. Теперь лежит… Приезжай, порыбаль, угости нас рыбой. А я либо до осени теперь заговелся.
На воскресном базаре встречаю станичных знакомых: муж и жена, они вдвоем, семейно, торгуют мясом.
— Как рыбалка?— спрашиваю.
— Нынче и Дона не видел,— отвечает хозяин.— Огороды, картошка, трава прет дуром, не сладишь с ней. К сенокосу готовлюсь. Троица — на носу. А тогда и вовсе. Нет…— машет он рукой.— Теперь лишь осенью. Все дела переделаем, тогда можно и судака погонять.
— Прошлой осенью и я с ним ездила,— хвалится хозяйка, улыбаясь, светлея лицом.— Но я и не ловила, а на берег вылезла, пошла и пошла и напала на грибы. Столько зеленух набрала! Да такие хорошие! Может, и нынче… Если доживем.
Вот и я говорю: если доживем, то еще на Дону побываем, в летнюю ли зеленую пору или осенью, а может, зимой. День да другой побудем на воде, на берегу, на вольной воле. Конечно, ухи похлебаем.
Но будем помнить иное.
2006 год
«Новый Мир», №12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------