

Фридрих ГоренштейнТоварищу МАЦА – литературоведу и человеку, а также его потомкамПамфлет-диссертация с мемуарными этюдами и личными размышлениямиКультурно-политический журнал на русском языке «Зеркало Загадок»;
|
Данте Алигьери.
«Божественная комедия»
Je suis I’ ami ae mes amis
Французская пословица
Фамилия Маца не склоняется, наподобие фамилии Нетте.
и входил
товарищ «Теодор Нетте».
(Маяковский, «Товарищу Нетте – пароходу и человеку». Школьная хрестоматия, 7-й класс). О товарище Маца – человеке известно немного, почти ничего. Пароходом он не был:
Я узнаю его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.
– Здравствуй, Нетте!
Как я рад, что ты живой…
Так о товарище Маца сказать нельзя. Бренные литературоведческие останки товарища Маца обнаружены на пожелтевших страницах одного из литературоведческих журналов за 1931 год.
Обнаружены еще в каменном веке пишущих машин «Ундервуд» и двукрылых аэропланов из фанеры, то есть на страницах, пожелтевших от времени, или, можно сказать, пожелтевших во времени. Газетно-журнальные страницы желтеют и в пространстве, но об этом ниже.
Итак, бренные останки товарища Маца обнаружены на пожелтевших во времени страницах, а, конкретнее говоря, – в статье «Великодержавный шовинизм в литературоведении и критике». Не буду углубляться в подробные раскопки, которые требуют специальной подготовки литературоведа-археолога.
“Останки типа фетишизации производственногс процесса во всей сложности классовой борьбы, несомненно, имеют у товарища Маца переверзианский привкус. Интересно, что товарищ Маца с другого конца соприкасается с нацдемовским толкованием этой проблемы. Не только великодержавному уклону свойственны маскировки. Великорусский национализм как буржуазная идеология может маскироваться, идя вглубь вместе с буржуазией прежних наций, скрывая свои великодержавные черты. В области хозяйства идеология борьбы двух культур выражается в фетишизации экономического первенства, в культурировании окраин как колоний, служащих для хозяйственного подъёма центра. Однако в данной связи важно, что игнорирование специфики наций приводит товарища Маца к дальнейшим ошибкам… «Вся это методология взбесившегося мелкого буржуа, который не хочет считаться со сложной диалектикой переходного периода», – писали классово-пролетарские критики о таких, как товарищи Переверзев, Маца и прочие великодержавные шовинисты в литературоведении и критике (отчасти с ними можно согласиться – Ф.Г.). Игнорирование стремлений национально-пролетарской литературы и третирование её как христианской есть основной пункт, на котором сращиваются великодержавный шовинизм и переверзианство Переверзевщина (так в тексте – Ф.Г.) – чрезвычайно удобная литературно-методологическая база великодержавного шовинизма».
Как тут не вспомнить Владимира Владимировича Маяковского: «Уважаемые товарищи потомки, роясь в сегодняшнем окаменевшем дерьме…” Но приходится сегодня рыться в еще не окаменевшем, поскольку – это станет ясным ниже на конкретных примерах – поскольку у товарища Маца тоже есть товарищи потомки и в немалом количестве, разумеется, со своей спецификой.
Ну, по прямой линии потомком товарища Маца литературоведа-великодержавника можно с уверенностью назвать Herr-а Жириновского Владимира Вольфовича, литератора и публициста, однако имеются и боковые ответвления, часто весьма экзотические и, на первый взгляд, трудно узнаваемые. Даже и с «прогрессивными взглядами» и в «прогрессивных органах», пожелтевших в пространстве, а именно в пространстве СНГ. Органы, страницы которых из прежнего рептильно-красного обрели бульварно-осенний желтый цвет увядания (также и профессионального увядания) и даже в каменный век товарища Маца, невзирая на взгляды и пристрастия, писали талантливее и профессиональнее, чем ныне пишут.
Какие тогда были замечательные литературоведы-извращенцы: эрудированные доносители, принципиальные и честные дробители черепов, выходящие на большую дорогу красно-бурой рептильной прессы с тяжелыми критическими дубинками и ясно жгучими приговорами: троцкист, космополит, сионист. Всё это ныне болезненно пожелтело, увяло и издает запах тления. Теперь это уже и другой параграф уголовного кодекса, не литературно-политический разбой, а мелкая литературно-бытовая кража, щипачество или литературно-картежное мошенничество. Впрочем, литературно-политический разбой еще сохранился и еще более усовершенствовался в прессе черно-красно-бело-коричневой. Но ведь это ныне все-таки периферия, это островное пиратство, а вокруг – море разливанное «прогрессивной» желтизны.
Скажу откровенно: я лично ныне, в период гласности, предпочитаю черно-красно-бело-коричневых островитян «прогрессивной» желтизне, потому что накожная болезнь менее опасна, чем внутренняя, желудочная с соответствующим цветом и запахом или печеночная желтуха с ее завистливым графоманским раздражением. Это именно такие, желудочно-печеночные с желтизной болезни, а не сердечные. Причем тут сердце! Сердца на пожелтевших в пространстве страницах газет не найдешь. Вылезшие из всех углов из завхозов и секретарш или из отделов писем трудящихся литературные обозреватели, а то и просто из неведомых щелей графоманствующие иронисты, шутники и полушутники (о полушутниках ниже) над сердцем смеются, называя разговоры о нем наивностью, производящей скорее «комический эффект». Об этом тоже ниже.
Идеям соответствуют и методы, о которых я упоминал. Каждый литературный текст – это документ. Даже неприятие документа должно строго соответствовать подлинности текста. Всякая обработка документа – выщипывание и склеивание в необходимом для обработчика духе и направлении – равнозначна подделке документа, то есть мошенничеству. Разумеется, весь текст приведен быть не может на страницах критической статьи, однако честность и профессионализм для критика как раз в том и должны обнаруживаться приведенные отрезки, приведенные цитаты должны соответствовать всему духу текста, его сюжету, его характеру. А потом критик может все это или принимать, или отвергать.
Делают же наоборот: выискивают, я бы сказал, крадут такие цитаты из текстов, такие отрезки, которые определенным образом препарированные, сдобренные иронией шутников и полушутников, совершенно извращают написанное (ирония – дело хорошее, так же, как, например, каллиграфия, но не при подделке документов). Такой метод среди определенного сорта нынешних сочинителей критических статей и обзоров стал настолько распространенным преступлением, что, казалось бы, должно среди самих преступников литературных (а то и просто житейских) норм порядочности искать, новшеств. Однако тут опять сказываются низкий профессионализм и квалификация многих из нынешних критических персон. То есть, как есть домушники, которые могут проникнуть в квартиру, только грубо выдавив оконное стекло, так есть и литкритические персоны, которые способны только на низкосортные грубые подделки. И несут продавать эти подделки неопытным скупщикам. Не говоря уже о высоких профессионалах в малинах, то есть о скупщиках краденого, приличный пахан-скупщик всегда обнаружит стекляшку или медяшку.
Не то – у редакторов – скупщиков газетных перлов. Общее увядание в пожелтевших пространствах прессы, видно, сказывается и на квалификации редакторов: покупают, что несут. «Лишь бы, – говорят, – человек был хороший». То есть соответствующий направлению газеты.
Каждое время вкладывает в направление свой смысл. Были советские времена «…с Лениным в башке и с наганом в руке». У каждого был свой Ленин. У консерваторов был Ленин в сапогах, то есть в сталинских, а у прогрессивных либералов был Ленин «с человеческим лицом».
Ведущую роль тут играл драматург М. Шатров, драматург поста номер один, любимец прогрессивно-либеральных кругов, особенно театральных: «Современника», ленкомов и, конечно, горкомов, вплоть до «либералов» из ЦК. Шатров шибко Ленина любил, а кто любит, тот ревнует.
Помню, во времена седой старины, в далекие семидесятые, Шатров даже меня, Горенштейна, к Ленину приревновал. Я такой шатровской слепой любовью к Владимиру Ильичу не страдал, но считал его личностью весьма значительной (считаю так и ныне) и важной в истории России, потому принял предложение одного из режиссеров – написал на эту тему сценарий, своеобразно, конечно, эту тему интерпретируя. Боже мой! Не успел еще цензор-консультант отдела пропаганды разобраться, а любимец либерально-прогрессивных кругов Шатров уже побежал в ЦК. Тут сказались и меркантильные соображения: режиссёр этот прежде работал с Шатровым. «Какое отношение Горенштейн имеет к Ленину? Кто он такой? Написал всего один весьма посредственный рассказ «Дом с башенкой».
Вот так, примерно, ревниво изложил, о чем я от режиссёра же и узнал. Разумеется, цензорами-либералами из отдела пропаганды ЦК были приняты меры. Ведь Шатров, присвоивший себе звание цензора-добровольца ленинской темы, пользовался авторитетом и влиянием. Говорят, на столах столоначальников отдела пропаганды видели книжечки Шатрова с теплыми надписями «Дорогому имярек (Ф.И.О. волка марксистско-ленинской пропаганды) от автора».
Такие-то у прошлого (он же и нынешний) либерально-прогрессивного истеблишмента были любимцы. Я так много и подробно говорю о Шатрове, потому что фигура слишком уж символично (о символах ниже) для советских времён застойных (брежневских) и полусоветских (горбачёвской перестройки).
Судьбоносные и сказочные перемены начались с малиновых звонов, начались потом. Малиновые колокольные звоны, храмы, свечи, поклоны, дворянские собрания, двуглавые орлы, казачьи атаманы… «А осетрина-то с душком». Реставрация: повсюду теперь православно-русский дух и православной Русью пахнет. И опять два направления. У консерваторов – национал-православное, у прогрессивных – православие с человеческим лицом.
Не знаю, как воспринял «Миша» (Шатров) вторую, на этот раз моральную, смерть своего кормильца. То ли наедине перед зеркалом ностальгически становится в «жилетные позы», а в позах ленинских памятников произносит киногенично: «Социалистическая хеволюция о необходимости которой…» То ли по-горбачёвски перестроился и решил, что верность прошлым идеалам – это «архиглупо». Того и гляди, Шатров про Илью Муромца с человеческим лицом напишет.
Хотя в нынешнее время свободные спекуляции на бирже выгоднее, чем спекуляции на обнищавших театральных подмостках. Не знаю и не хочу знать, чем занимаются сейчас прежние работодатели Шатрова, но мне кажется, что ныне, чтобы остаться современными, они от идеологизированной бульварщины перешли к бульварщине обычной.
Итак, ревнивец Шатров Ленина разлюбил. Про Ленина, оказывается, теперь писать можно, однако с другого конца сложности: ревнуют, разумеется, в духе времени. На сей раз не к отцу Ленину, а к матушке Руси. Ревнуют не столько те, прямые потомки товарища Маца, литературоведа-великодержавника, сколько его, Маца, боковые ответвления: либерально-прогрессивные христиане, а говоря ещё точнее и откровеннее, главным образом, новообращённые с преобладанием определенного сорта крещёных евреев или определённого сорта евреев-интернационалистов, что для меня, признаюсь, одно и то же. Блудные дети матушки-Руси ревнуют меня, некрещёного, к своей приёмной матушке попросту ужасно и пытаются её – матушку-Русь – защитить от моей скромной персоны, более того, даже извиняются за мои неприличные, по их мнению, писания и посягательства перед законными сынами и дочерьми матушки.

|
Михаил Шатров.
|
«Повесть Горенштейна «Последнее лето на Волге», – сказал полушутя знакомый, – оскорбляет мое национальное достоинство русского человека. Интересно, что и меня, российского еврея, повесть тоже не оставляет равнодушным. Задела она меня и просто как читателя. Судите сами…»
Так начинает Леонид Клейн (кто такой Леонид Клейн?) свою объёмистую рецензию в «Независимой газете» от 16.04.1992 года.
«Герой – интеллигент, как он сам себя называет, это стоит подчеркнуть, прекрасно знающий и любящий Россию, в последний раз перед эмиграцией путешествует по Волге (в свою очередь, тоже матушке)», – это некий Клейн излагает в «Независимой газете». Называется рецензия «Изобрази Россию мне», то есть – «полушутя». Что это значит – «полушутя»? Есть шутники, а этот, оскорблённый моей повестью «Последнее лето на Волге» в своём национальном достоинстве русского человека «знакомый российского еврея» – полушутник. Полушутник, по-моему, – это тот, кто сказав пакость-другую, оставляет на всякий случай лазейку: я, мол, пошутил. Таких «полушутников» немало, и мне приходилось с ними не раз сталкиваться и даже, к сожалению, общаться.
Почти одновременно с обширной рецензией Л. Клейна в «Независимой газете» за 16.04.1992 года в «Литературной Газете» появилась обзорная статья С. Тарощиной, которая тоже начинается с вольной в духе времени шуточки о презервативах, попавших в детскую больницу. Весь обзор, естественно, пересказывать не буду.
Обзор – это путеводитель, а даже от туристского путеводителя требуют особого – не скажу таланта, изящества – но хотя бы умения профессионального и – не скажу, кристальной честности и благородства – но хотя бы соблюдения правил приличия в общественных местах – тех, о которых извещают плакатики в поездах и на вокзалах: «не сорить», то есть не плевать, не сморкаться, и соль в чужие кастрюли не сыпать. Впрочем, последнее касается коммунальных кухонь. Обладает ли таким профессиональным умением и правилами приличия С. Тарощина, «судите сами», как пишет соавтор Тарощиной из «Независимой газеты» Л. Клейн.
Когда Тарощина добирается в своём обзоре под названием «Требуются доноры» (я еще вернусь к этому – случайно ли связан с кровью заголовок?) до моей повести «Последнее лето на Волге», то настолько не сговариваясь, (не сговариваясь?) начинает в унисон, истинно литературоведческим дуэтом с Клейном петь, настолько перекликается с Клейном понятиями и даже фразами, настолько вместе с Клейном «болеет душой за русскую душу», которую в повести «Последнее лето на Волге», по их, Клейна и Тарощиной мнению, мало того, что не понимают, так ещё и оскорбляют, унижая национальное достоинство русского человека, что я намерен присовокупить тут кусочек обзора С. Тарощиной о моей повести в качестве довеска к тяжеловесной рецензии Клейна и рассматривать их соавторами общей статьи под условным заголовком «Изобрази Россию мне или требуются доноры».
Эти авторы очень дополняют друг друга: о чем один умолчит – другая доносит, что у одного на уме – у другого на языке. Послушайте С. Тарощину, и «судите сами»: «Решает глобальный вопрос и Фридрих Горенштейн в повести «Последнее лето на Волге». Он цитирует Горького, заметившего стремление малограмотных людей к философствованию. Упаси бог…» (Так в тексте, «бог» с маленькой буквы. 1992 год, самое начало христианизации прессы. В 1996 году слово «Бог» – уже с большой буквы – Ф.Г.)
Итак: «Упаси бог, от гнусных намеков, но философствует наш автор (то есть я – Ф.Г.) вволю, то и дело опровергая основоположника насчёт «малограмотности». Пишет С. Тарощина – «упаси бог, от гнусных намёков», но при этом гнусно намекает, правда, «полушутя». Слово «гнусность» не случайно Тарощиной введено в собственный текст. Фрейдисткое ли подсознание выболтало, психоанализ, самоанализ ли собственных литературоведческих методов?
«Горенштейн бьётся над разгадкой русского национального характера, как над кроссвордом. Каждый, кого бы ни встретил наш странник в пути, – вроде буквы, которую он вносит в белый квадратик. Невесёлые, доложу вам, возникают горизонтали и вертикали», – пишет Тарощина.
«Герой постоянно рефлектирует, – это уже пишет соавтор Тарощиной Л. Клейн, – каждое впечатление хочет обобщить и обдумать, и буквально за всем увиденным вырастает символ-аллегория».
Да не просто символы и аллегории находят соавторы С. Тарощина и Л. Клейн, а те символы и аллегории, которые оскорбляют национальное достоинство русского человека. В блинной происходит драка: «Кровь из разбитого носа прямо в сосуд потекла, в стакан с водкой». От такого символа Л. Клейна затошнило. Другой символ, раздражающий Клейна, – это колхозница, несущая в руках вместо серпа – орудия производства, как в скульптуре Мухиной, мешок с импортными апельсинами. «Под влиянием прощального взгляда, – иронически «полушутя» пишет Клейн, – колхозница тут же превращается в символический персонаж скульптуры Мухиной, только вместо привычного серпа она держит в руках бронзовый мешок с купленными в городе продуктами».
Ибсена тоже упрекали в излишнем символизме. Выписанные натуралистически, его герои даже слышали мистические голоса. «Мне возразят, – пишет в своей статье о Генрихе Ибсене Плеханов, – но это символ, символизм. Конечно, – отвечу я. Весь вопрос в том, почему Ибсен вынужден был прибегать к символам, и это очень интересный вопрос. «Символизм, – говорит один из французских поклонников Ибсена, – есть та форма искусства, которая дает удовлетворение одновременно и нашему желанию изобразить действительность, и нашему желанию выйти из ее пределов, она дает нам конкретное вместе с абстрактным».
Именно эти символы Клейну не по душе, оскорбляют национальное достоинство русского человека, причем со всех сторон. «Далее, как говорится, везде, – полушутит Клейн, – в символы превращаются и мальчик, и его старший брат, и женщина-попрошайка и т.д., и т.п., словом, все, что попадается на пути. От такого символизма у читателя (Л. Клейна – Ф.Г.) начинает рябить в глазах. Не переборщил ли автор в столь небольшой повести?»
В тридцатом году Юрий Лебединский писал (в то время все хорошо писали): «Наиболее передовой тенденцией тогда, в начале 20-х, был символизм, который стремился отыскать за вещью определенные явления по одному ее признаку, в увеличенном до предельных размеров виде, давая таким образом явлению неподвижность, за которой стоит «Понятие».
У С. Тарощиной свое мнение о символизме. Сам по себе символизм не злокачественен. Дурно обстоит дело с моим символизмом, ибо «душевно возбужденный Бодлером (так полушутит С. Тарощина – Ф.Г.), автор разглядывает славянскую душу сквозь магический кристалл литературных ассоциаций и, заметим, тех, что редко выходят за рамки очень средней школы».
Это, признаюсь, правда. Люблю я школьную хрестоматию, где литература сервируется натурально, без литературоведческих соусов и подливок. Тарощина продолжает: «Увидел он жестоких детишек – Достоевский, выкладывает автору падшая Люба свою жизнь – пожалуйста, «Гроза». Бывает, правда, факультативно мелькнет сонет Шекспира». Вот такие соусы.
Нет, конечно, соус – дело хорошее, даже очень. Соус – создатель и регулятор вкуса блюда: соус Луи де Бушимеля, соус Шарля Мари Франсуа де Нуаинталя, первого собирателя сказок «Тысячи и одной ночи», соус писателя Шатобриана, русский соус французской кухни, куда входят икра, майонез и бульон из омаров (В.В. Похлебкин, «Занимательная кулинария», факультатив).
Пушкин, я слыхал, в свободное от иных дел время замечательно готовил соусы. Хорошее дело соусы, но только не те, что приготовлены на коммунальных кухоньках неопрятными дамочками в капотах и папильотках илинеумелыми руками мужчин-дилетантов. Есть немало мужчин, которые любят повозиться на кухне, но ведь и тут нужны умение и способности. Ведь и кухонная графомания ведет к изжогам и катарам. Так в любом деле. Литературоведение и литературная критика – не исключение. Нужны, как и в приготовлении соусов, мастера – а где они!
Помимо всего прочего, скука ужасная с их стряпней общаться, скулы сводит, несмотря на то, что все время «полушутят». Писали бы отрицательно, писали бы даже предвзято и нечестно, как они пишут, но, хотя бы, не говорю талантливо – квалифицированно. Тогда можно было бы поспорить. Не для того, чтобы их, «полушутников», переубедить (упаси меня Бог, да и надо ли?) – для того, чтобы третьей стороне, то есть читателям, было интересно. Спорить не буду ни с кем, но отповедь дам, ибо помимо качества моих книг – о вкусах не спорят – речь идет об определенного сорта идеях, точнее идейках. И о том «не могу молчать»!
Но почему я собрался дать отповедь с таким запозданием и молчал так долго, целых четыре года? Ведь соавторы С. Тарощина и Л. Клейн обвинили меня в русофобии еще в 1992 году. Во-первых, не до них было. Сейчас тоже не до них. Времени жалко. Но раз уж решился… А, во-вторых, иногда следует повременить с ответом, пока обстоятельства, о которых идет речь, станут более ясными, и дела, о которых идет речь, разовьются вдаль и вширь. Как и в новелле Пушкина «Выстрел» Сильвио откладывает выстрел на несколько лет (Пушкин «Повести Белкина», 8-й класс). Между мной и соавторами-оппонентами С. Тарощиной и Клейном словесная дуэль идет ни больше ни меньше, как о матушке-Руси.
«Нет, не переборщил, – признает Клейн. – Оказывается, герой не просто прощается с Волгой и Россией, но по ходу дела пытается разгадать загадки русской души и истории, и символы лишь помогают ему найти ответ на вечный русский вопрос, но, странное дело, вопрос этот решается очень легко, и образ России, выстроенный из многочисленных символов, оказывается чрезвычайно прост и схематичен. Так, верхняя Волга – символ доимперской (святой) России, а нижняя – символ России колониальной, имперской», – полушутит Л. Клейн.
Да, именно, – просто и схематично. Для того, чтобы понять судьбу и историю России последних 450 лет, не нужна ни высшая историософия, ни высшая литературософия. Все укладывается в хрестоматии и учебнике истории «очень средней школы» с некоторым, может быть, прибавлением факультатива. Надо только обладать взглядом, лишенным не только проправительственной рептильности, но и трусливого народопоклонства, чем русский (российский) интеллигент всегда отличался. Даже мамонты-гиганты отдали этой печальной и ужасной болезни дань – Толстой и Достоевский. Но не Пушкин, не Лермонтов, не Чехов, не Бунин. Другое дело, что это народопоклонство редко выходит за пределы свечки богоносцу и диалектики. «Диалектик обаятельный, честен мыслью, сердцем чист. Помню я твой взор мечтательный, либерал-идеалист». (Некрасов. «Школьная хрестоматия», 8-й класс.) Надо сказать, что это всё-таки не про нынешних – «сердцем чист». От тех народопоклонников-идеалистов нынешние народопоклонники взяли мало, особенно, если возвратиться к нашей теме: «Прямые и побочные потомки литературоведа Маца».
Современные новообращённые приёмыши сгибаются в три погибели перед своими «знакомыми полушутниками», оскорбляющимися за «национальное достоинство русского человека». Не из жестоких ли детишек знакомые российского еврея Клейна, не пел ли он в золотом детстве популярную весёлую песенку про «кухочку»: «Я никому не дам, всё скушает Абрам, и будет он толстее, чем кабан»? Слово «толстее» не совсем грамматически правильно употреблено, а всё остальное на месте. Так эти «оскорбляющиеся» весьма склонны сами оскорблять, особенно, когда речь идёт о «малом народе». В этом направлении народное возмущение весьма допускалось российскими власть имущими, но когда речь шла о правительственной критике, тут история России проста и схематична. Те из тиранов и властолюбцев, кто не усложнял её, кто правильно воспринимал её на уровне школьного учебника, даже не средней, а низшей, четырёхклассовой школы с четырьмя действиями арифметики и букварём, были успешны и народом любимы. Когда у Сталина спросили, каким образом он перехватил власть у Каменева и Зиновьева, он «полушутя» ответил: «У них были кабинеты, а у меня – ключи от проходных». Вот такой схематичный символизм.
Немецкий интеллигент, точнее, интеллектуал (интеллигент – вообще, слово, ложно употребляемое, «интеллигент» по-немецки означает «развитый»: может быть интеллигентный ребёнок, интеллигентный кот), так вот, немецкий интеллектуал тоже не был в особой чести у верхов. В Берлине вокруг памятника королю Фридриху Второму на пьедестале расположены все сословия, причём, интеллектуалы помещены под хвостом лошади – опять символизм. Но немецкий интеллектуал, будучи ещё сильней оторванным от народа, никогда не преклонялся перед народом, перед низами, не чувствовал перед ними своей «вины». Это указывает на большую зрелость немецкого общества по сравнению с российским. Не только его культурная прослойка, но также и низы обладали большей самостоятельностью и большим сословным достоинством, без российской рабской ущемлённости и без российского рабского паразитизма.
Ужасны обе национальные катастрофы 20-го века – российская и немецкая. Но произошли они по разным, противоположным причинам. Российская катастрофа во многом была следствием давнего слепого народопоклонства. Тогда как немецкая – наоборот – слепого чиноподчинения верхам, даже если наверх пробрался австрийский безработный бродяга из низов. При творческом осмыслении такой схематической истории глубину придаёт деталь. Причём, в отличие от описаний чисто исторических, в художественных описаниях истории первостепенными являются именно второстепенные детали.
Признаюсь: сделав отступление, не хочется опять обращаться к убогим текстам моих оппонентов Тарощиной и Клейна. Но, во-первых, темы обязывают, а, во-вторых, при своей убогости, тексты эти содержат некие любопытнейшие детальки. Однако не буду забегать вперёд.
«И вот, последний аккорд «Последнего лета»: «Прощай, нищая Россиюшка, безгрешная убийца». (пишет, точнее уворовывает фразу из текста повести С. Тарощина – Ф.Г.) Занавес. (полушутка – Ф.Г.) Не знаю, как публика, а я ухожу, пожимая плечами».
Так она, С. Тарощина и пошла, пожимая плечами, «солнцем палима». Не знаю, как шла, повторяла ли дорогой: «Прости его (меня) Бог», разводила ли безнадёжно руками? (А. Некрасов. «У Парадного подъезда», 8-й класс. Золотые времена). Но дорогой встретила А. Стреляного, публициста с радиостанции «Свобода», который тоже путешествовал летом «на верхней боковой».
«Нет, не сравниваю, сравнения почти всегда – хромоножки (Говорит «не сравниваю», а сравнивает – Ф.Г.), помню, что Стреляный – публицист, а Горенштейн – прозаик. Но в том-то и дело, что Стреляному, который у нас прописан по ведомству боевиков быстрого реагирования, Стреляному, как мало кому, свойственно то, о чём замечательно сказал В. Ходасевич: «не умствование о видимом, а самый процесс … умного зрения». С помощью Ходасевича Владислава Фелициановича подобным образом меня уязвить захотела. Я «умствую», а у Стреляного – «процесс … умного зрения».
Подобное цитирование с троеточием в неподобающем месте не совсем хорошо звучит, как в старом фривольном романсе: «Если страсть вспыхнет огнем, можно ли вспомнить былое, можно ли вынуть из брюк … ваше письмо дорогое» (факультатив). Впрочем, дело не моё, пусть сам публицист со «Свободы» Стреляный по поводу подобной медвежьей похвалы Тарощиной с Тарощиной разбирается, если хочет. А я – о своём. Мне Тарощина «в дополнение, на прощание, вдогонку» решила из своей критической двустволки послать заряд соли. Но я тоже стреляный заяц. Так просто меня солью не уязвишь, ни охотничьей, ни коммунальной – в кастрюлю. Тем более, что ответный выстрел теперь за мной. Потому временно оставлю Тарощину – пусть путешествует по своему путеводителю, погляжу, куда придет. Я же вернусь к ее соавтору Л. Клейну – рецензенту из «Независимой газеты».
Моими символами Л. Клейн недоволен:
«Мальчик – символ чистоты и гуманности, его старший брат – жестокости и разврата. Нищая попрошайка Люба – символ нищенки России. А пожилая женщина, прижимающая к себе свиную голову – символ тупой и бездушной России-свекрови, загубившей одинокую и бездомную невестку Любу. Здесь стоит задержаться».
Да, задержимся. «Неподалеку от меня у самого борта сидела пожилая женщина безликого облика, из тех, кого видишь во множестве, и потому не замечаешь. Но в руках эта женщина держала, прижимая к груди у самой своей головы, огромную свиную голову. И я поразился схожестью не только выражения, на женском лице и свином облике, но и схожестью даже каких-то внешних черт. Со своими двумя тупо-мертвыми головами она, свекровь-Россия, уверенно восседала, как на троне.
Так Клейн цитирует, тоже манипулируя троеточиями, вставляя их в нужные ему места, используя троеточия, как воровские отмычки или тузы в рукавах. Всю цитату без шулерских многоточий приводить не буду. Желающих отсылаю ко второму тому моего трехтомника (издательство «Слово», Москва, 1992 г., стр. 535). Но приведу ту часть текста, о которой Клейн по-шулерски умолчал: «Да, это была другая, вторая ипостась России, всё вокруг вытаптывающая, всё и всех пожирающая, в том числе, а скорей в первую очередь, себя, большую, тяжелую, заплывшую салом. Ее нельзя было одолеть и смертью, убоем, она для того и существовала, она тем и губила соблазненных ею убийц своих, восставших на нее, многоголовую. Со своими двумя тупо-мертвыми головами она, свекровь-Россия, уверенно восседала, как на троне, а загубленная ее Россиюшка, одинокая, бездомная, пропадала где-то во тьме, холоде, сырости, ночуя на дебаркадере. Вот такой волжский сюрреализм, вот такой волжский Сальвадор Дали».
И – следующий кусок текста, почти рядом с этим расположенный: «Это, повторяю, ужасное зрелище, но в определенные моменты как раз модернизм, сюрреализм, символизм воплощают реальность, а реализм превращается в блеф, фантазию, выдумку. Разве не досужей выдумкой выглядит красна девица Россия, выносящая навстречу черным лимузинам хрустящий хлебный каравай и соль в хрустальной солонке? Разве не реальней были бы две ипостаси сюрреалистическая свекровь-Россия, подносящая начальству на блюде холодца свою собственную голову, и символическая Люба-Россиюшка, подносящая нищенски собранные куски черствого хлеба и тряпицу с мокрой солью? Разве в промежутке меж этими двумя ипостасями России не уложились бы и тоскливая ненависть тусклой российской улицы, и мазохистски-губительные пьяные радости нынешних людей мелкого счастья, а также прочее и прочее из повседневности страны, где, как писала Анна Ахматова: «Здесь древней ярости еще кишат микробы: Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы, и Самозванца спесь – взамен народных прав»?
Я вынужден был привести такие большие куски моего текста, потому что они важны в противостоянии тому шулерскому цитированию с многоточиями, к которому прибегают соавторы Тарощина и Клейн. Только ли они?
«Главный герой, «интеллигент», как он себя называет, – представляет моего героя повести Л. Клейн, – прекрасно знающий и любящий Россию». А в ином месте Клейн пишет: «Публицистический напор смыл границы, и перед нами не столько мироощущение героя, сколько оголенная концепция автора».
От того не отказываюсь, по крайней мере, от того, что касается вышеприведенных мыслей. «Прекрасно знающий и любящий Россию». Какую Россию? Есть Россия святая, есть Россия свиная. А в промежутках – всевозможные переходные формы. Все зависит от того, к какому они полюсу ближе. Тех, которые возле России свиной, я не люблю, не люблю ее ни в ее начальственном, ни в ее народном облике.
«Национальное достоинство русского человека», «знакомого российского еврея» Клейна оскорбляет слово «свинья»? А вслед за ним и сам Клейн оскорбляется: «Конечно, словосочетания типа «свиной облик» или «безликий облик», мягко говоря, режут слух, но суть не в них». Да, суть не в них, в этих словах, а в тех, кто оскорбляется. Найдется достаточно русских, которых такое словосочетание не оскорбляет, не все же русские – «знакомые российского еврея» Клейна, не все так низко себя ценят. У Достоевского в «Дневнике писателя» («Полписьма одного лица») сказано: «И неужели в слове «свинья» такой магический смысл, что каждый норовит принять его на свой счёт?» Нет, не каждый. Тем более, что речь идёт о символах.
Оскорбляющихся символами хочу отослать к другому литератору, а именно – к Василию Розанову. Его, русского шовиниста, антисемита, что в определённых кругах тайно ли, явно ли, свидетельствует о благонадёжности, уж нельзя, как меня, некрещёного эмигранта, заподозрить в недоброжелательности к матушке России.
В немецком издательстве «ROWOHLT», Berlin, 1992 г. опубликована книга «Abschied van der Wolga» («Прощание с Волгой»). Книга эта в первой своей части содержит путевой очерк В. Розанова «Русский Нил», а во второй части – мою повесть «Последнее лето на Волге». Два путешествия по Волге: одно – 1907-го года, другое – 1980-го. Какие же символы являются Василию Розанову?
То, что он видит и то, как он видит в 1907 году, безусловно, складывается в символы. Приведу лишь один, наиболее яркий. К сожалению, не имея под рукой русского текста, буду вольно излагать в обратном переводе с немецкого. Возможны поэтому некоторые словесные стилистические неточности, но суть постараюсь передать точно.
«Когда мы мимо Казани плыли, стали мы свидетелями одной необычайной картины, которая немедленного объяснения не имеет. Лодка пересекла наш путь в непосредственной близости перед носом парохода. «Они утонут, они утонут», – кричат пассажиры, полные испуга, когда видят, как множество, очевидно, пьяных крестьян, что-то крича, как дикие, в лодках со всех сторон несутся. В это время один их них, перегнувшись через борт, погрузился головой в воду. Он, однако, опять вынырнул, машет руками и что-то кричит, грозит кулаком удаляющемуся пароходу и показывает на воду, очевидно, пассажирам парохода предназначенную, точно в мыслях своих кого-то в воду хочет бросить. Какое же было наше удивление, когда мы десять минут спустя на пароходе узнали, что это не о пьяных идёт речь, а о голодных крестьянах из голодающих краёв возле Казани, и, что они оскорбления в адрес проезжавшего парохода кричали и желали, чтоб он потонул или сгорел и, чтоб все пассажиры в воду ушли и, поскольку крики не хорошо были слышны, погрузился он, крестьянин, головой под воду, показывая, что он и они все – голодающие – находящимся на пароходе от всей души желают: «Вы уйдёте в воду! Вы чтоб утонули, вы чтоб сгорели и утонули вместе с вашими детьми, проклятые!»
Какой великолепный символ! Вот она, Россия, которую мы потеряли. Богатый, сытый, весёлый, полный праздности, комфортабельно-белый пароход плывёт мимо лодочек с голодными мужиками. Сытая, богатая Россия плывёт мимо голодной. Просто главный эпизод фильма – русский символизм в духе итальянского неореализма. Но вряд ли кинорежиссёр Говорухин – монархокоммунист, любимец радиостанции «Свобода», включил бы этот эпизод в своё кинопроизведение. Он ведь тоже многоточиями манипулирует, вставляя их в нужные ему места. Такие, как он, утверждают, что революция в Россию приехала по железной дороге в пломбированном вагоне. А вот она! В полном своём объёме безнравственной праздности одних и злобной, мстительной нищеты других, плывёт по матушке-Волге, натурально, символически плывёт.
Кроткое, святое, наивное нищенство, такое, как у описанной мной Любушки, ведь редко. Оно уже недалеко от полюса святой Руси и весьма далеко от полюса Руси свиной. Оттого она меня так заинтересовала и тронула, оттого так возмущает меня гнусное (уместно привнесённое в свой текст Тарощиной слово), гнусное высказывание Тарощиной в адрес Любы, вместе с соавтором Тарощиной Л. Клейном, который упрекает её в нищем попрошайничестве. Она ли падшая, она ли попрошайка? О более стыдной форме падения и попрошайничества скажу ниже.
Есть такие формы попрошайничества и такие формы падения, которые по сравнению с обычным падением или обычным попрошайничеством выглядят преступно. О вашем падении и о вашем попрошайничестве я ещё скажу, мои дамочки и господа хорошие.
«Изобрази Россию мне, которую мы потеряли» – вот хороший заголовок для рецензии о путешествии по Волге моего соавтора по немецкому изданию Василия Розанова. А что потеряли, то опять нашли с дополнениями и вариациями. Такова простая схематичная история России последних 450 лет. На неё, историю свою, по круговой спирали пусть и обижаются «полушутники» русской национальности, «знакомые» «российского еврея» Л. Клейна. Она, круговая, схематичная российская история, и создала те многочисленные символы из моей повести «Последнее лето на Волге», против которой поднял свой газетный иск за оскорбление национального достоинства русского человека Л. Клейн.
Я знаю, что даже иные (махровые) русские националисты любят брать еврейских адвокатов. Что ж, если подан иск – будем судиться. Вот показания свидетеля Василия Розанова: «До того, то есть до описанной символической сцены с пароходом, я голодающих, голодных людей не видел. Голодающих не потому, что в течение дня времени не было или аппетита покушать, а потому, что никакой еды нет, у которых голод в желудках господствует, как у волка в лесу» (Голодные волки – сволочи – как раз революцию и делали, заодно вместе с некоторыми праздными пассажирами с богатого парохода – Ф.Г.) «Чтоб я такое увидел, – продолжает Василий Розанов, – в Казанской губернии, в образованной и цивилизованной России, с ее гимназиями, университетами, православием и миллиардами! Я этого не могу себе представить даже, когда я лодки увидел, я не верил, что я их вижу. Фата Моргана, обман, дело дьявола!»
Далее Василий Розанов передает праздные разговоры богатых сытых пассажиров. А рядом – «человек, который не имеет еды, который сегодня не ел, он завтра не будет кушать и послезавтра не будет кушать!!! Брр! Я этого не понимаю и в это не верю. Я это в газетах читал и не верил. Я это видел, и, все-таки, я этому не верю. Как может это быть, что быть не может? Это, вроде, дважды два уже пять».
«Но вернемся к сути возражений, – выступает еврейский адвокат русского человека Л. Клейн, – отстраненно созерцать российскую деревню или провинциальный городок может столичный интеллигент – неважно, русский он или еврей. Но представить себе еврея, всю жизнь прожившего в России, воспитанного на русской культуре (это прямо явствует из повести) и при этом отстраненно созерцающего русскую жизнь, невозможно».
Подобное высказывание Л. Клейна страдает некоторой комической инвалидностью, хромотой, свидетельствующей об Л. Клейне как об адвокате низкой квалификации. Если, разумеется, оно не сделано «полушутя». Отстраненно созерцать российскую деревню или провинциальный городок столичный интеллигент, русский или еврей, может, но представить себе еврея, отстраненно созерцающего «русскую жизнь», – невозможно. По глубине мысли подобное заявление может соперничать с глубокомысленными заявлениями товарища Берлоги, бухгалтера фирмы по торговле лесопиломатериалами «Геркулес». «Прыгая на одной ноге и нацеливая другой ногой в штанину, Берлога туманно пояснил: «Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды» (Ильф и Петров. «Золотой теленок», факультатив).
Что ж, русская деревня или провинциальный городок – не русская жизнь? А что такое отстраненное созерцание? Созерцание всегда отстраненное. По теории Шопенгауэра, о котором Клейн упоминает: «Ведь о самом герое мы знаем совсем немного: ни характера, ни биографии, и почти всегда имеем дело не с ним самим, а с его идеей, что опирается на теорию Шопенгауэра о созерцании».
О Василии Розанове, хочу надеяться, Клейн знает гораздо больше. Как же, прочитал, согласно моде. Но ведь и он, Розанов, созерцает отстраненно русскую жизнь, «Россию которую мы потеряли», правда, притом, глазам своим не верит, созерцает талантливо символы русской жизни, но имеет притом на глазах шоры русского шовиниста, оттого и не верит увиденному.
В визуальности созерцания – великая сила, особенно, когда жизнь предельно опрощается и схематизируется страшными символами, что и случилось с Россией, да и со всем миром в двадцатый народно-революционный век. Не случайно именно в двадцатом веке родилось в помощь прочим музам искусство визуальное, созерцательное – кинематограф. Такая сцена с пароходом и лодочками – целый роман о русской революции заменить может. Обе части «Путешествия по Волге», 1907-го и 1980-го года, могут быть зеркалом русской жизни двадцатого века, если, конечно, спиритизмом или иными способами вызвать к жизни дух Андрея Тарковского. Признаюсь, так иногда бываю зол на покойного за его столь преждевременную смерть. Не помню, в каком факультативе читал: «У счастливого недруги мрут, у несчастного друг умирает». Истинно, большое это несчастье – не только мое личное, но и общественное. Нищета вокруг ужасающая. Голод в культуре вообще и в кинематографе в частности, в российском и мировом.
В начале 60-х, а именно в 1962 году, мне удалось поступить на высшие сценарные курсы. Впрочем, поступить – не то слово. Удалось чудом удержаться с весьма шаткими правами и без стипендии, потому что председатель приемной комиссии Каплер – предтеча М. Шатрова – был категорически против моего приема (все творцы ленинианы против были). Член комиссии, сценарист Эльдара Рязанова Э. Брагинский написал отрицательную рецензию на представленные мною работы (вот как давно подобного рода российские евреи начали меня отрицать). А директор сценарных курсов М. Маклярский прямо заявил: «Мы обязаны готовить кадры для национального кино, а в лице Горенштейна нам прислали липового украинца».
М. Маклярский, говорят, в НКВД сочетал должность дегустатора сталинской кухни с должностью подопытного кролика: пробовал с каждого сталинского блюда, причем не на соль, а на яд, чем, кстати, гордился, как подвигом разведчика, в прямом и переносном смысле.
В наивном романтическом фильме режиссера Бориса Барнета «Подвиг разведчика» с молодым красивым и «умным» советским шпионом-разведчиком Кадочниковым – Тихоновым-Штирлицем конца 40-х годов («Как хазведчик хазведчику скажу вам: вы – болван, Штюбинг!» – несколько картавя, произносил Кадочников) директор сценарных курсов и в прошлом дегустатор сациви и лобио вождя М. Маклярский числился автором сценария вместе с двумя опытными киносапожниками – Блейманом и Исаевым.
Надо сказать, ремесло своё Блейман и Исаев знали. Стачать и склеить могли, были бы лицензия и материал. Лицензию и материал поставлял Маклярский, используя связи, оставшиеся после отсидки, ибо ему также пришлось дегустировать лагерный паек, как и Каплеру, маячившему в непосредственной близости от вождя в благородной роли жениха единственной дочери. Каплеру отец в руке своей дочери отказал (кажется, пять лет лишения свободы без права переписки). А Маклярский, надо сказать, оказался на лагерном пайке совсем уж несправедливо. Цоцхали – рыбу в соусе – пересолили, и все чины кухонной прислуги – от младшего сержанта-посудомойки до полковника-шеф-повара – оказались под арестом.
Напоминаю: М. Маклярский курировал не соль, а яды, имея чин подполковника, но тиран есть тиран. Говорят, шеф-повара даже повесили за диверсионную деятельность. Тогда говорили не «террористическая деятельность», а «диверсионная». Однако Каплер и Маклярский после смерти тирана благополучно вернулись в Москву уважаемыми людьми, хоть и с душевной травмой левой ноги. Только этим можно объяснить, что они оба так недоброжелательно отнеслись ко мне, который не сделал им ничего плохого, кроме того, что так же, как и они, был евреем, то есть «лиловым», а не «дубовым» или «сосновым». Впрочем, Алексей Каплер, первый автор ленинианы и обличитель Фанни Каплан, возможно, имел право на получение звания почётного «соснового» или даже почётного «дубового».
Блейман, соавтор М. Маклярского по «Подвигу разведчика», пригласил меня, «липового», из Киева на сценарные курсы, что весьма мне польстило: «Подвиг разведчика» был любимым фильмом моей юности. Но, распознав ситуацию, он тут же отошёл в известном направлении: «Его нет – позвоните через недельку». Но я всё-таки сумел удержаться, точнее, полуудержаться вольнослушателем, получив рекомендацию от «сосновых», персонально – от писателя фронтовой темы Юрия Петровича Бондарева, который также входил в состав приёмной комиссии, наверное, для некоторого равновесия преобладавших там «липовых».
Что такое определенного сорта «сосновые», и что такое определенного сорта «липовые», мне известно, но первый «частокол» против меня, как правило, состоял из определенного сорта «липовых». Чаще, конечно, был смешанный лес. Кстати, с полдюжины «липовых» были приняты полноправно с высокими рекомендациями Анны Андреевны и так далее. В их числе – Нейман, сказавший, кстати, впоследствии, что «Дом с башенкой» – это не талант, а просто хорошая память. (Да, у меня хорошая память.)
Творческая комиссия сценарных курсов во главе с А. Каплером также определенным образом оценила «Дом с башенкой», по которому мы вместе с Тарковским, с которым я тогда уже познакомился, хотели писать сценарий. «Непрофессиональная работа, – определил Каплер, – так, подражание Пановой». (Каплер объявил меня подражателем Пановой, а более эрудированные объявили меня подражателем Селина, о котором я вообще не слыхал.)
На основании подобных заключений меня в конце этих курсов всё-таки отчислили: им потребовалась стипендия, которую я получал несколько месяцев, для какого-то «саксаула» – сынка азиатского бая, который хотел провести в Москве несколько месяцев. Но к этому времени режиссёры Алов и Наумов уже успели заключить со мной договор, пусть и небольшой договор, на написание сценария по «Дому с башенкой». Хорошее я тоже помню, хотя бы потому, что его было гораздо меньше, но, жаль, тема моей работы другая.
В некоем году заматеревшей брежневщины Юрий Николаевич Клепиков, сам известный сценарист, решил, тем не менее, как режиссёр снять фильм по моему рассказу «Дом с башенкой». На уровне Ленфильма через «частокол» мы перебрались, хоть тоже с проблемами. На Ленфильме в «частоколе» активную роль играл режиссёр Венгеров, на Мосфильме активистом был режиссёр Швейцер Михаил Абрамович, «соавтор классиков», который даже в тех редких случаях, когда начальство было «за», был против. Помню, как на художественном совете в моём присутствии Швейцер Михаил Абрамович, «соавтор классиков», в своём эмоциональном выступлении поведал о том, как он (Швейцер Михаил Абрамович, «соавтор классиков») и его ленфильмовский друг Венгеров в некоем номере гостиницы всю ночь читали мой сценарий и много раз подряд говорили друг другу, что я – фашист.
Не страшно. Кличка «фашист» давно уже стала неким подобием клички «холера» или «зараза». Главное, чтобы меня «прогрессивной личностью» не назвали. Это бы обидело. Разве гнуснейший ренегат Жириновский не говорит о «сионистском фашизме»? Разве любимыми проклятиями хулиганов из большевистской «Трудовой России» не являются «жид» и «фашист»? А израильские левейшие трудовики, престарелые хаверы и молодые елды – мироносцы и мироносицы разве не кричат «фашисты» своим оппонентам?
О поющих фальшиво, обычно, говорят: медведь на ухо наступил. Израильской певице-мироносице медведь, очевидно, на всю голову наступил, ибо она пропела недавно немецкому слушателю и телезрителю такой речетатив: я согласна, чтобы Израиль был такой маленький, как Люксембург, но жил в мире со своими соседями. И притом, вместо петуха пустила голубя мира.
Спору нет, проживание в Люксоевропе по соседству с Бельгией весьма приятно. Но сравнивать еврейское государство, построенное на песке и пепле, с этим политическим комфортом и фанатичных арабов-исламистов с голландцами и бельгийцами могут только умственно неполноценные. По закону умственно неполноценным запрещено голосование. Эти, однако, поющие и аплодирующие, опускают бюллетени в урны. Такие бюллетени опаснее ножей, камней и пуль соседей-антифадистов. На эти бюллетени ещё больше, чем на ножи и пули рассчитывает Арафат, коварный, как нильский крокодил, надеющийся, что голосующие и голосящие «певцы мира» – «жители небесного Люксембурга» – позволят ему сожрать земной Иерусалим.
Слово «фашист» – давно уже мыльный пузырь. По-моему, итальянцы от него отказались. Кстати, итальянские фашисты давали прибежище преследуемым нацистами евреям, если только они не были большевиками. Но слово «национал-социализм» сохранило своё значений. Национал-социализм – это национализм трудящихся, главным образом рабочих («Немецкая национал-социалистическая рабочая партия»).
А что касается сценария, то он написан был мной для Андрея Тарковского и являлся как бы продолжением «Дома с башенкой» (кроме единственного опубликованного тогда «Дома с Башенкой» иное изначально не допускалось). В сценарии развивалась тема поисков утраченного времени, а сюжетно – поиски взрослым человеком могилы своей матери, которую он потерял в детстве.
Тема мне близка, могила моей матери – где-то под Оренбургом, могила отца – где-то под Магаданом. Я поставил им памятники: матери – роман «Псалом», отцу – роман «Место». Однако это было уже впоследствии.
Тогда же мы с Ю. Клепиковым на студийном уровне всё-таки преодолели частокол, тем более, что в данном случае речь шла не о сложной психологии, как в сценарии для Тарковского, а о самом рассказе, простом и ясном. Однако в смешанном лесу Госкино преобладали «дубы» и «сосны». Вот тут-то и пришлось, как говорится, «лицом к лицу». Был там некий Юреньев – кинокритик роста гренадёрского, подходящего для его величества Интергерманландского полка. Уж так по-молодецки разошёлся, что присутствующие «липы» (Блейман) перепугались и пытались ему очень робко возражать. А Юрий Николаевич Клепиков встал и вышел, заявив: «Такое недоброжелательство!» Ну, всякий погром, в том числе и словесный, можно назвать так: «недоброжелательство». Был ещё некий критик Кладо, полудиссидент во времена рабоче-крестьянские, гордившийся своим дворянством и объявивший себя сыном царского адмирала (может, и сын). О «Доме с башенкой» кричал, не говорил, а именно кричал, на полуслове прерывая возражавших: «Нет, это дешёвка!» (Адмирал Кладо был одним из бездарностей, виновных в поражении русского флота во время Русско-японской войны. Подвизался он и как публицист-обозреватель. «Инициатива посылки эскадры адмирала Рожественского (Балтийской эскадры, погибшей под Цусимой, – Ф.Г.) принадлежала не морскому министерству, а новоявленным безответственным «стратегам» из «Нового времени», вроде Кладо». Из воспоминаний генерала Игнатьева.)
Липовый частокол, заграждая мне путь, невольно охранял меня от волчьего леса, ибо в славянском бору я, лишённый покровителей (Александр Трифонович и прочие), был наедине с лесной нечистью, с опасными лешими. Однажды, в писательской лесной местности Александра Трифоновича Твардовского укусила собака. Собаки дрались, а он хотел разборонить их по-деревенски, за холку. Александр Трифонович рассказал об этом писателю Трифонову, от которого я эту историю и узнал: «Прихожу в редакцию с перевязанной рукой. Мои евреи перепугались, переполошились».
Может быть, я к ним несправедлив, к редакционным «своим» евреям? Эти редакционные защищали меня от реакционных. Ответственный секретарь «Нового Мира» Закс защитил более успешно, предотвратив публикацию «Дома с башенкой», а затем «Зимы 53-го года». Ответственный секретарь «Юности» Железнов (некоторые любят могучие псевдонимы: «Железнов», «Рудаков», «Сталин»), итак, Железнов пытался меня таким же образом защитить. В 1962 году он меня защитил, но в 1964 году вмешался сам редактор Б. Полевой, и желание Железнова спасти меня от публикации моего рассказа «Дом с башенкой» не сбылось. Результат налицо.
Итак, я полуудержался вольнослушателем и начал вольно слушать и вольно смотреть, правда, находясь на постоянной диете (о диете позже). Подробности же моих взаимоотношений с власть имущими и прочими на высших сценарных курсах опускаю – они требуют специального описания. И не в том дело. Однако приходится возвращаться из собственной юности к недружественным персонажам из собственных книг. Отповедь я им дам, но спорить с ними не буду. Конечно, можно было бы составить «Выбранные места из переписки с врагами», ибо: скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Однако делать этого не буду. Автору не пристало спорить со своими персонажами.
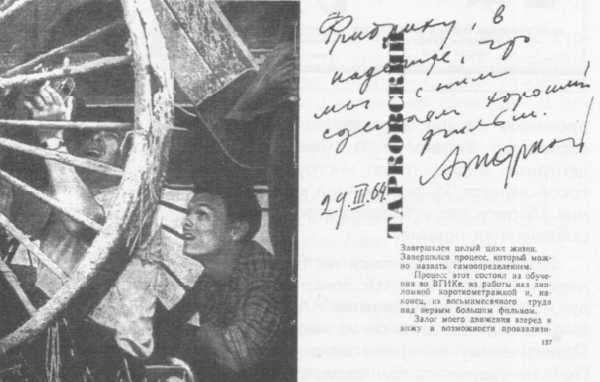
В начале шестидесятых на высших сценарных курсах я ещё успел застать киномамонтов: Михаила Ильича Ромма, Сергея Аполлинарьевича Герасимова, Юлия Райзмана, Григория Козинцева, Бориса Барнета, Евгения Габриловича, Григория Александрова, Ивана Пырьева, Григория Чухрая, Александра Зархи.. Мы, «рождённые бурей» (теперь, я думаю, бурей в стакане) хрущёвского ренессанса, над ними, старыми мамонтами, и их фильмами исподтишка потешались: «приспособленцы», «сталинисты», «консерваторы», а вымерли, так же, как и многие на Западе их товарищи по визуальному созерцательному искусству, такие, как Феллини и другие, – и воцарилась та экранная нищета, в которой я убедился лишний раз, будучи членом жюри на Московском международном кинофестивале в 1995 году. Кстати, как мне сказали, одна из ведущих «культуртрегеров» радиостанции «Свобода» некая Тимашева тогда заявила публично по радио: «Какое отношение имеет Горенштейн к кино?» Эти дамочки бессмертны, потому что взаимозаменяемы, как детали механического пианино. Тимашева, Тимошенко, Тимашук, Тарощина… Немало ещё есть их в запасниках, а другого Тарковского в запаснике нет.
Замечательный Урусевский, кинооператор фильма «Летят журавли», стал режиссёром. Вёл со мной разговор о фильме по детским книгам Маршака с рисунками Лебедева. Режиссёром, признаться, Урусевский был менее успешным, чем оператором. Тем не менее, при таком высоком потенциале кинематографического таланта, была, однако, надежда сделать с ним фильм необычный, чистый и радостный. Не сбылась надежда – умер мастер. Совсем свежая могила – Семен Аранович, с которым еще несколько месяцев назад обсуждал планы нового фильма. Разные мастера, но и это место в кинематографе останется никем не заполненным. Замены им нет. Как и Тарковскому, как и старым консервативным мамонтам, среди которых Тарковского прежде поносили, теперь же, которые слились с ним в единый золотой фонд, золотой запас – слоновая кость павших мамонтов, к которым надо время от времени возвращаться, чтобы спастись от сегодняшних «падших», ибо велико различие между павшими и падшими.
Один очень известный и очень преуспевающий режиссёр прежде учился в консерватории. Я спросил его, отчего он оставил поприще пианиста. «Чтоб быть пианистом, надо иметь талант», – ответил кинорежиссёр.
Кино – муза молодая. Тем не менее, из-за площадности своей и техничности, оно успело наработать приёмы, особенно благодаря американской «фабрике снов», укладывающиеся в конструктор «сделай сам». Талант в кино можно сымитировать – были бы хватка, наглость и удача. Тем ценнее такие сердечные таланты, какими были покойные мастера Тарковский и Урусевский.
Но вернусь к сегодняшним и к своей теме, к сожалению, главной. Повторяю, возвращаться к ней не хочется, однако долг обязывает. Эта работа по Маяковскому звучит: «о сегодняшнем, ещё не окаменевшем». Итак, вернусь к «нашей страннице», то есть к Тарощиной, которую оставил на полпути в её обзорной статье «Требуются доноры» с подзаголовком «Медленное чтение». Кстати, обзор этот построен по всем правилам и традициям «основоположника». Тарощина под основоположником разумеет Горького. Я же – А. Чаковского, истинного основателя современного варианта «Литературной газеты».
Такое впечатление, что дух этого Фаддея Булгарина застойного брежневского периода по-прежнему бродит в редакционных коридорах и кабинетах. Установка А. Чаковского была на центризм. Видно, такую инструкцию он получил, такой мандат. И, по крайней мере, в литературных обзорах эта установка строго соблюдалась и соблюдается поныне.

Политики тут касаться не буду. Политика теперь так взыграла и так завертелась, что, пожалуй, сам «основоположник» Александр Борисович Чаковский, явись он из мира иного, подобно Паниковскому во время автопробега «Антилопы Гну», не удержался бы, несмотря на запрещения, в данном случае не Остапа Бендера, а почившего в бозе ЦК, вскочил бы, выкрикнул бы невнятные, политически безграмотные приветствия («Золотой телёнок», факультатив). Таков ныне политический идеализм в тех либерально-прогрессивных кругах, к которым относит себя эта газета.
Однако в литературных обзорах строго соблюдается центризм. Как во время потустороннего Чаковского: если ругнули в обзоре автора кочетовского «Октября» – тут же надобно ругнуть либеральный «Новый мир» Твардовского, так и теперь С. Тарощина обличает автора нынешней национал-патриотической «Москвы» Владимира Крупина и консерватизм публикующего его журнала: «И лирическая и патетическая тональность журнала умещается в губернские частушки: «До чего христопродавцы Россию довели». Так, без затей, Владимир Крупин озаглавливает свою статью». И следом, по центристской традиции А. Чаковского, Тарощина для равновесия переходит к обличению моей, опубликованной в «Знамени», повести «Последнее лето на Волге», видно ошибочно принимая меня за либерала-интеллигента, кем я не являюсь.
Я не отрицаю либеральных убеждений, но либерализм – давно уже не убеждение, а идеология. Всякая же идеология заменяет совесть. Идеологический человек мыслить в границах своей идеологии ещё может, однако обладать личной совестью не может. Идеологический человек бессовестен. И тот эсэсовец, который убивает в Бабьем Яру, и тот либеральный психиатр-терапевт, который выпускает на свободу опасного убийцу, насильника малолетних – оба спят спокойно, и кусок не застревает у них в горле.
Для доказательства пересечения идеологий хочу привести эпизод с моим рассказом «Старушки». А. Твардовский, получив рассказ от зав. отделом прозы «Нового Мира» А.С. Берзер, отверг его, написав несколько слов в прилагаемой записке («патология» и т.д.).
В. Максимов, который был тогда членом редколлегии кочетовского «Октября», предложил: «Хочешь, я дам прямо Кочетову? Он человек неожиданный». Подумав, я согласился. Всё-таки, автор несёт ответственность, главным образом, не за то, где он публикуется, а за то, что он публикует. Подумал: либералы отвергли – попробую у консерваторов. «Неожиданным» Кочетов не оказался, о рассказе «Старушки» написал почти теми же словами, что и Твардовский.
Между лагерем Кочетова и лагерем Твардовского, конечно, существовали разногласия, и происходили словесные бои, скрашивающие серые общественные будни и дающие возможность объединить даже боязливых либерального стана. Но я находился на ничейной земле, куда меня оба лагеря оттеснили. Я был «ничьим» (таковым и остался), причём не столько идейно, сколько литературно, тогда как «Литературная газета» Чаковского была общей – кочетовско-твардовской. Таковой и осталась, с дополнениями и вариациями современных идейных игр.
Поэтому хочу сказать, что я с профилем «Литературной газеты» не согласен. Нет, не с профилем в смысле специализации – тут всё на месте. Я имею в виду тот профиль, который изображён на титуле рядом с названием газеты.
При А. Чаковском было два профиля: в затылок Пушкину пристроили «основоположника» Горького – «Кто последний? Я за вами…» В результате переоценок и встрясок последних лет профиль Горького с титула стряхнули. То же случилось с профилем Алексея Максимовича на титуле МХАТа №1. Судьба-индейка! Гонят отовсюду! А писатель он всё-таки хороший.
 |
А. Чаковский |
Но и профиль Пушкина при нынешнем профиле газеты, имея в виду специализацию, не на месте. На месте не Александр Сергеевич, а Александр Борисович. Профиль – А. Чаковский-основатель, а С. Тарощина-обозреватель. Оба – центристы, но Тарощина – с некоторым смещением влево, в сторону «прогрессивного христианского православия»
С этих позиций и «обзоры». Тарощина пишет: «В журналах начала года представлен довольно широкий, как теперь говорят, разброд нашего литературного потенциала. Нет одного – того, о чём писал Варлам Шаламов Надежде Мандельштам (православная левизна без этих имён не функционирует – Ф.Г.): «Мне кажется … всё дело в отдаче, чтоб суметь представить себе, предложить собственную кровь для жизни возникающего пейзажа». (?! – Ф.Г.) Вот таких доноров при всём высоком уровне материала при тщательном отборе не видать».
Оказывается, в журналах всё-таки высокий уровень и тщательный отбор. Я, ошибочно принятый за либерала, и консерватор Крупин – печальное исключение. «А потому, – продолжает Тарощина, – признаюсь: самое интересное для меня в журналах – дневники, архивы, свидетельства. Вот где пульсирует «кровь и жизнь».
Что-то часто Тарощина стала употреблять слово «кровь». К чему бы это? Свят-свят-свят! Не дело ли опять в подсознании, как это уже случилось с введением ею в текст слова «гнусность». Кровь и гнусность – это уже нечто. Приглядимся внимательней. Что именно интересует её в художественных «дневниках, архивах, свидетельствах»?
«Читаешь, скажем, письма Владислава Ходасевича (редактора «Эмигрантских современных записок») Марку Вишняку и диву дивишься: литературная ситуация конца двадцатых напоминает нашенскую. Одна из важнейших мыслей писем: «литературная политика не должна строиться только на звёздных именах…» Писано – будто для нас. Но услышано ли? Могучая кучка критиков озабочена чем угодно, только не текстами, стало быть и процессом». Лукавит Тарощина. Написала бы прямо: озабочены не теми текстами, какие по её, Тарощиной, мнению, того заслуживают. Для подтверждения своей правоты Тарощина приводит два варианта.
Вариант первый: «Вместо унылых годовых обзоров «Знамя» представляет различные точки зрения на литературу сегодня: взгляд с двух берегов. На том берегу – австрийская славистка К. Энгель, американские слависты Конди и В. Падунов, на нашей – Курицын (Екатеринбург) и М. Руденко (Москва)».
В этом противостоянии С. Тарощина на стороне международного славизма: «Их аргументы убедительны, всегда интересны, есть концепция (своя), есть простота изложения сложного. В наших, домашних – взгляд и нечто. Они выражают себя». (А это разве плохо? Кого же ещё выражать?)
В принципе, по первому варианту особых претензий к Тарощиной предъявить нельзя. «Так все делают, – призналась одна литдамочка, – авось, услышат и отблагодарят – пригласят на семинар в Вену, Сидней, Копенгаген, Ан Арбор (штат Мичиган), эту Мекку шестидесятничества, к мисс Профер – первопечатнице, да ещё на западнославистские университетские кошты пригласят. Иной раз с семьёй приглашают – с мужем, с детьми, свекровью. Я знаю такой случай. А с наших, что возьмешь? Голь перекатная». «Выражают себя» весьма витиевато, пригласить же могут в Екатеринбург – от такого приглашения «не вздрогнешь».
 |
А. Твардовский |
В свое время я писал уже в опубликованной в России статье, что участие в изданном Проферами «Метрополе» было моей ошибкой. Мне среди «наших писателей» и «нашей литературы» не место. Это подтверждается опубликованной в «Новом русском слове» огромной восторженной взахлеб статье-рецензии о «Метрополе» коллективного автора Генис-Вайль. Единственная, мол, слабая публикация в «Метрополе» – мои «Ступени» «схематично…», «дотошная литература…», и т.д.
Этот автор, Генис-Вайль, ужасно популярен в среде «прогресивной» интеллигенции. Он всюду и везде. Как говорится, не печатается только на подоконниках. А теперь – и того более. Пока Генис и Вайль писали вместе, было даже немного лучше, компактнее. Теперь они пишут отдельно. Это значит, что их стало вдвое больше.
«Не вздрогнешь и от крика души молодого литератора Марии Руденко, – продолжает Тарощина. – Покричала она маленько, Достоевского, как водится, вспомнила и Тарковского, и Святое Писание. А так хочется шепнуть ей на ухо «Не кричи, потолкуй со мной вполголоса».
Я работы Марии Руденко не читал, но не думаю, что ей стоит шептаться на ухо с Тарощиной, доверяя некие свои душевные и сердечные тайны. Что касается их, то есть славистов, то, как правило, это персоны не с другого берега, а меж двух берегов. Или слуги двух господ, обманывающие и тех, и других. Я говорю не о профессиональных трудягах-переводчиках – С. Тарощиной так же мало от них проку, как от наших, – а о славистских белых воротничках, занимающихся разного рода структурологией, эйдолологией, то есть тех, кто как раз и распоряжается университетскими деньгами и, значит, заказывает музыку.
В одной Америке для «хороших людей» кормушек, если не тысяча, так сотни. Я сказал одному из таких американских профессоров-славистов, ныне оставившему это поприще и занявшемуся общественно-полезным трудом, может быть, под влиянием десяти заповедей, которые перечитал внимательно. «Все эти славистские кафедры можно без особого ущерба сократить на 99 процентов». Он ответил мне: «Вы ошиблись на один процент».
Однако вновь, в который раз уже, я уклонился от рассматриваемой персоны. Происходит постоянное отталкивание. Перейду ко второму варианту Тарощиной. Мне кажется, в этом варианте Тарощиной, втором варианте, заключена суть, тут-то и лежит заяц в перце, как говорят немцы, или тут-то и собака зарыта, как говорят русские
Вариант второй «Критики осенили своей хоругвью «новую дружину» 10-15 имен не сходят с языка. Остальных в упор не замечают». И тут обида С. Тарощиной, долго скрываемая, вырывается наружу (наружу вырывается и нечто иное, но о том ниже). «Распахнув объятия проливной третьей волне, мы не заметили своего здешнего, здешних (с нашей улицы Черняховского или Часовой, или иной Аэропортовской, писательской – художественно-писательской околотки), к слову сказать, увенчанных литературными премиями на Западе» (Думаю, на славистском Западе или диссидентском правозащитном). Иными словами – тех, кто уехал, даже таких, как я, на уровне очень средней школы, подняли на щит (Меня на щит не подняли, напрасно ревнуют). А сидевших в тюрьмах, отбывших ссылки, иными словами, борцов-страдальцев в упор не замечают. «Как оценили писателя, работавшего некогда в никуда, потом оглушенного Матросской тишиной, затем безмолвием ссылки и, наконец, огорченного непрошеной реабилитацией 87-го года?» (Что огорчительного в реабилитации? Понижает или вовсе снимает ореол героя-страдальца? – Ф.Г.) Подобные упреки, прямые или косвенные, диссидентов в адрес эмигрантов не новы. Вы, мол, уехали, а мы тут – по тюрьмам.
Покойный Владимир Емельянович Максимов, человек он хоть был сложный, но далеко не глупый, Владимир Емельянович, которого упрекали в том же, как-то ответил на подобные упреки диссидентов: «Тюрьма – ваша беда, а не ваша заслуга, не берите пример со старых большевиков».
С. Тарощина в качестве такого примерного диссидента страдальца-писателя выставляет Феликса Светова: «Для примера, ситуация с Феликсом Световым: писатель, работающий не один десяток лет, стал публиковаться на родине всего год назад, то есть в 1991 году, в период ликования по поводу эмигрантской литературы». В пример приводится Светов, но чувствуется, что для Тарощиной это и нечто более личное. Однако будем считать Светова как бы собирательным образом, символом писателей-диссидентов, которыми пренебрегли во имя писателей-эмигрантов и которых не замечали. «Но вот, заметили. И что же? Критика снисходительно похлопала по плечу, обронила несколько невнятных слов, а Андрей Немзер в «Независимой газете» написал примерно следующее: «Светов – человек порядочный, так что бить его не стану. Но ничего хорошего о его романе «Тюрьма» не молвлю».
Было время, говорили: «Поехал на целину за талантом». О иных можно было бы сказать: «Поехал в тюрьму за талантом». Но не каждый заключенный – Достоевский с его «Мертвым домом». О порядочности же Ф. Светова, «писателя и человека», существует и противоположное мнение. Вообще, представление о том, что все нехорошие люди исключительно в КГБ и в иных советских учреждениях (там их, конечно, было немало), сильно упрощено. Встречались нехорошие люди и среди диссидентов и диссидентствующих.
Главный недостаток в жизни этих «замечательных людей» (если эта серия сохранилась, то жизнь некоторых выдающихся будет описана или уже описана), главный недостаток (всё имеет свои достоинства и свои недостатки) – в непонимании последствий победы над тем, против чего борются. Они всегда борются «против», их идеалы «за» настолько заоблачны, что напоминают призывы ЦК КПСС, только с обратным знаком. Один из самых известных российских диссидентов прошлого Герцен говорил об определённого сорта диссидентах, своих современниках: «Их средства устарели, их знамёна истаскались и не всегда в боях, а больше на банкетах и демонстрациях».
Подобные слова вполне можно отнести и к современным, по крайней мере, к части из них. При всей их борьбе «против», подход к проблеме тот же, заоблачный, недифференцированный, однозначный. «Права человека» подчас звучат так же, как «миру мир», «нет войне». В результате такой заоблачности Афганистан обрёл не мир, а кровавую междоусобицу и грозит обратиться в фундаменталистское террористическое государство, наподобие Ирана, а то ещё и хуже, дестабилизирующее всю Среднюю Азию.

Братья-диссиденты из Польши во главе с Валенсой боролись против коммунистического режима, не понимая, что нерентабельные гданьские верфи живы, пока жив нерентабельный коммунистический режим, так же, как и многие предприятия в нынешней России.
Исторические диссиденты, декабристы, которые «разбудили Герцена» (Ленин) по свержению царского режима собирались начинать свои демократические реформы с массового изгнания евреев из России, для того, видно, чтобы освободить место, простор для реформ. При всяких начинаниях, даже самых прогрессивных, при прогрессивных особенно, надо ясно представлять себе последствия.
Вот и нынешняя беда с Чечнёй. Вывод не тот, который западная общественность, и в том числе спецслужбы, предлагает диссидентам. Вывод гораздо более печальный. Опыт войны в Чечне и даже последних лет в Афганистане показывает, что Россия не способна защищать свои интересы, будучи демократическим государством. Это и для Америки проблема весьма сложная. Однако сравнение Вьетнама с Афганистаном, тем более с Чечнёй, неправомерно географически, а значит и геополитически. Не дай Бог, если болезненной альтернативой станет либо политический распад, либо тоталитаризм.
От общих размышлений вернёмся к конкретному диссиденту, а именно к Ф. Светову. О порядочности Ф. Светова, писателя и человека, как я уже сказал, существуют разные мнения.
«…И умолчу о романе, который скоро выйдет в «Новом мире», – продолжает Немзер, – Заметьте: ещё не вышел, а он, Немзер, уже ничего не говорит, – пишет Тарощина, – а этичность такого упреждающего удара вряд ли нуждается в комментариях».
Я бы посоветовал С. Тарощиной слово «этичность» – в отличие от слова «гнусность» – не употреблять, а то, что подобный совет не нуждается в комментариях, разъяснится очень скоро. Думаю, у Немзера были основания умолчать о романе Светова «Отверзи мне двери», а иными словами – умыть руки, если он, Немзер, и далее желал сохранить внешнюю репутацию Светова как «человека порядочного».
«В отличие от фигуры умолчания, – пишет возмущённая умолчанием критики С. Тарощина, – оно, это мнение, предполагает вердикт присяжных заседателей, то есть читателей, о романе Ф. Светова «Отверзи мне двери».
Непонятно, что же мешает этому вердикту присяжных заседателей, то есть читателей, если роман опубликован? Разве для чтения обязательно необходим указующий перст критиков? Весьма часто подобный перст даже вреден, особенно, если перст этот нечист и оставляет на бумаге сальные пятна. Очевидно, вердикту присяжных, то есть читателей, вредит не критик Немзер, а сам писатель Ф. Светов. Куда уж далее, если поклонница Ф. Светова С. Тарощина, указывая своим перстом, рекомендует его с оговорочками: «Я не зову критиков пополнить обоймы Световым. Да, бывает многословен, да, иногда изменяет вкус. Впрочем, это, всего-навсего, моё мнение».
Тем не менее, вопреки тому, что «бывает многословен» и «иногда изменяет вкус», (по Тарощиной – «иногда») она, литературовед Тарощина, активно тычет своим перстом в роман «Отверзи мне двери» присяжным заседателям, то есть читателям. «А вдруг их заинтересует, – пишет Тарощина, – крещеный еврей, в душе которого сошлись вопросы вековой глубины, а, может быть, еще и долгой протяженности? Речь идет об иудохристианстве».
Протяженность и глубина вопроса, действительно, велики, в том числе, и в литературе художественной. У Чехова в рассказе «Перекати-поле» тоже герой – крещеный еврей. Рассказ «Перекати-поле» так полно и так по-чеховски – более точного эпитета не найдешь – так глубоко прочувствованно создает образ героя «крещеного еврея» с его проблемами и идеями, что хотелось бы этот рассказ переписать полностью. Однако отсылаю заинтересовавшихся читателей прочитать или перечитать рассказ. Я же возьму из рассказа отрывки – и их хватает.
«Когда я, возвращаясь со всенощной, подошел к корпусу, в котором мне было отведено помещение, на пороге стоял монах-гостиник…
– Господин, – остановил меня гостиник, – будьте добры, позвольте вот этому молодому человеку переночевать в вашем номере! Сделайте милость! Народу много, а мест нет – просто беда!
И он указал на невысокую фигуру в легком пальто и в соломенной шляпе. Я согласился, и мой случайный сожитель отправился за мной».
С первых же минут знакомства обозначается нищенский, попрошайнический тон сожителя, которого впустили из великодушия и милости, но в котором, однако, чувствуется и претензия на необычную духовность и даже известную критичность мысли.
«– Вообще, знаете ли, духовная пища, которую подают народу, не первого сорта, – добавил он и испустил носом протяжный, очень печальный вздох, который должен был показать мне, что я имею дело с человеком, знающим толк в духовной пище».
Этот тон благодарного попрошайничества сохраняется и далее «Все еще думая, что он меня стесняет, и чувствуя неловкость, он виноватою походкою пробрался к своему диванчику, виновато вздохнул и сел. Типа он казался самого неопределенного. Не хотелось думать, что это один из тех праздношатаев-пройдох, которыми во всех общежительных пустынях, где кормят и дают ночлег, хоть пруд пруди.
Да, это, действительно, непростые праздношатающиеся попрошайки. Просят они не хлеб насущный, а нечто более для них важное. И не даром просят, готовы платить за это высокую цену. Чем платить? О том вскоре узнаем.
«– Да, это верно, кто здесь долго живет и объедает монахов, того просят уехать. Судите сами…»
«Судите сами» – запомнилось у Л. Клейна. Общий тип, с общими речевыми оборотами, замеченными еще Антоном Павловичем Чеховым. Не знаю, крещен ли Л. Клейн, литературовед-доброволец. А ведь существуют разные формы попрошайничества при общем личностном типе попрошайки, в данном случае, к сожалению, специфически еврейском, связанном с патологией национальной истории.
Я уже писал об этой специфике в другой своей статье, на другую, хоть не совсем противоположную тему, под названием «Гетто-большевизм и загадка смерти Ицхака Рабина» в берлинском журнале «Зеркало Загадок» (№3, 1996), где речь шла о деятельности и идеях премьер-министра Израиля, слава Богу, бывшего, Семена Переса и его команды: «…в действиях Маараха, партии Семена Переса, проглядывают не только идейные заветы российского большевизма, но и средневековый гетто-комплекс, который из-за несчастной истории присущ евреям определенного сорта. Что же означает гетто-комплекс? Это страх перед внешней средой, внешним окружением и компенсация его за счет властолюбивого господства над обитателями гетто. Я знал и знаю евреев, которые к другим евреям продолжают относиться как к обитателям общего гетто. То пренебрежение, а подчас и гнусности, которые позволяет себе такой еврей по отношению к другому еврею, он никогда не позволил бы себе по отношению к русскому, украинцу, татарину, узбеку, потому что это внешняя среда, а внешней среды надо бояться». И добавлю почитать, как почитает своего «русского знакомого» «полушутник» русский еврей Л. Клейн.
Но вернусь к рассказу Чехова и его герою, крещеному еврею.
«– Я, знаете ли, новообращенный.
– То есть?
– Я еврей, выкрест. Недавно принял православие.
Из дальнейшего разговора я узнал, что его зовут Александром Иванычем, а раньше звали Исааком…»
Прервав чеховский рассказ, хочу тут же сказать: я ни в коем случае не занимаю позицию ортодоксального раввина. Кто хочет – может креститься, может менять религию, менять имя, фамилию. Если во Франции Племянников становится кинорежиссером Роже Вадимом, а Полякова – актрисой Мариной Влади, если в Америке уроженец города Фастов Керкинский становится голливудской звездой Кирком Дугласом, а девица Бейкер – актрисой Мерлин Монро, потому что для человека творческого это лучше звучит в определённой национальной среде, то почему бы Исааку, принявшему православие, не стать Александром Иванычем или православному писателю Фридлянду не стать Световым. Главное – как это делается и во имя чего.
Кстати, в нынешней Германии, где в силу известных печальных обстоятельств, законы благоволят евреям, происходит обратный процесс. Фамилию Меншиков стараются сменить на фамилию Клейн, имя Стёпа – на имя Мухес. Я слышал даже, покупают подложные еврейские документы. Говорят, таких в еврейских общинах Германии не меньше двадцати процентов, ибо тут, в Германии, ведущая русскоязычная нация – евреи, а русские, украинцы, татары и т.д. – русскоязычные меньшинства, малые народы, по определению математика Шафаревича.
Я знал музыкантов, которые совершили двойной обмен: в России они были русскими, а тут снова стали евреями. Разучивают на балалайках «Фрейлахс», с русской широтой исполняют еврейские народные песни, с частушечной лихостью вместо «Калинки-малинки» выкрикивают: «Ламца – Дрица – Оца – Ца» к великой радости одесситов и других представителей русскоязычного большинства. И когда Л. Клейн пишет обо мне: «Что же произошло, почему так плавно и настойчиво профессиональная непригодность превратилась в еврейскую тему? Думается, что писатель решил перетасовать колоду и вместо «репрессированного отца» вытащил не менее сильный козырь – «пятый пункт», то Л. Клейн, очевидно, забывает, что в начале 80-х право на выезд имел лишь «5-й пункт». Знакомые же российского еврея Л. Клейна, собираясь за бугор, часто из расчёта женились на «5-м пункте» и «полушутили»: «Жена-еврейка – не роскошь, а средство передвижения». Покупать же «5-й пункт» «знакомые» начали позже, во времена горбачёвских воровских свобод. Так что не я тасую и передёргиваю колоду.
Но вернусь к Чехову и крещёному еврейству.
«Одолев колбасу, Александр Иваныч встал и, приподняв правую бровь, помолился на образ. Бровь так и осталась приподнятой, когда он затем опять сел на диванчик и стал рассказывать мне вкратце свою длинную биографию». Прежде всего Александр Иваныч рассказал чеховскому герою о еврейском фанатизме.
– Раз нашёл я русскую газету, принёс её домой, чтобы из неё сделать змей, так меня побили за это, хотя я и не умел читать по-русски. Конечно, без фанатизма нельзя, потому что каждый народ инстинктивно бережёт свою народность, но я тогда этого не знал и очень возмущался…
Сказав такую умную фразу, бывший Исаак от удовольствия поднял правую бровь ещё выше и поглядел на меня как-то боком, как петух на зерно, и с таким видом, точно хотел сказать: «Теперь, наконец, вы убедились, что я умный человек?» Поговорив ещё о фанатизме и о своём непреодолимом стремлении к просвещению, он продолжал…»
Дальнейшее продолжение бывшего Исаака из-за нехватки места опускаю. Вновь отсылаю к рассказу Чехова, и надеюсь, что отчасти этот пропуск будет компенсирован подобными умными разговорами Л. Клейна с его соавтором Тарощиной о Светове, но в современном умном варианте. Очевидно, бывший Исаак предвидел появление в будущем таких людей, почву для которых подготовили он и его друзья.
«– Между ними были умные, замечательные люди, которые уже и теперь известны. Например, вы слыхали про Грумахера?
– Нет, не слыхал.
– Не слыхали… Писал очень умные статьи в харьковских газетах и готовился в профессора».
Надо сказать, несмотря на серьёзность темы, «Перекати-поле» – один из самых смешных юмористических рассказов Чехова. А, может быть, благодаря теме. Когда эти крещёные или «интернациональные» благоговеющие попрошайки ведут беседу с внешней гетто-средой, то выглядят очень комично. Так излагает Александр Иваныч своё учение в горном училище: «Александр Иваныч с выражением благоговейного страха на лице перечислил дюжины две замысловатых наук, преподаваемых в горном училище, и описал самое училище, устройство шахт, положение рабочих…»
Но вот бывший Исаак добрался до самой сердцевины, до сути своего изложения, до причин принятия христианства. Комичность образа не исчезает, но становится всё более беспокойной, нервной, когда не знаешь, что подобная личность может совершить – то ли запляшет, то ли повесится.
– Я, знаете ли, до последнего времени совсем не знал Бога. Я был атеист. Когда лежал в больнице, я вспомнил о религии и начал думать на эту тему. По моему мнению, для мыслящего человека возможна только одна религия, а именно христианская. Если не веришь в Христа, то уж больше не во что верить… Не правда ли? Иудаизм отжил свой век и держится ещё только благодаря особенностям еврейского племени. Когда цивилизация коснётся евреев, то из иудаизма не останется и следа…
Я стал выведывать у него причины, побудившие его на такой серьёзный и смелый шаг, как перемена религии, но он твердил мне только одно, что «Новый завет есть естественное продолжение Ветхого» – фразу, очевидно, чужую и заученную и которая совсем не разъясняла вопроса… Оставалось только примириться на мысли, что переменить религию побудил моего сожителя тот же самый беспокойный дух… Подбирая фразы, он как будто старался собрать все силы своего убеждения и заглушить ими беспокойство души, доказать себе, что, переменив религию отцов, он не сделал ничего страшного и особенного, а поступил как человек мыслящий и свободный от предрассудков, и что поэтому он смело может оставаться в комнате один на один со своею совестью. Он убеждал себя и глазами просил у меня помощи…» В данном случае многоточие чеховское.
Чем ещё окончить эту исповедь смертельно смешной трусливой личности, как за соломинку цепляющейся за мессианско-идеологические проповеди, стараясь спастись от страха перед своим бытием, бытием изгоя-еврея в антисемитской среде. Понять это можно, но одобрить, тем более, оправдать – нет. Даже Достоевский, уж на что сам антисемитствовал, а ответил такому крещёному еврею: «Как же можете вы отказываться так просто от сорока веков верования отцов?» (Что-то в этом духе ответил.)
Но ведь не от веры отцов они отказываются. И бывший Исаак признаёт, что он до последнего времени совсем не знал Бога: «Я был атеист». А нынешние Исааки, Александры Иванычи, крещёные евреи – тем более. Разве кто-нибудь из них был верующим иудеем? Нет, не от веры отцов они отказываются, а от нации отцов, хотя весьма комично хотят отказаться, часто любой ценой. Но это выглядит комично лишь до тех пор, пока не начинают расплачиваться, и часто от них этой расплаты, оплаты своей христианской религии, и не требуют. Но они платят добровольно, сами от себя, и, случается, такой ценой, после которой уже – что там житель города Кариота Иуда, что там растлитель своей души Свидригайлов! Обычный мелкий бытовой подлец, обокравший свою старую мать ради картёжных радостей, повесился бы.
Эти не вешаются, по крайней мере, в большинстве. Да и случалось в прошлом (думаю, и теперь тоже), начавшие платить добровольно потом берутся на службу. А если не берутся, то всё равно служат добровольно, верой и правдой. Так что, без их службы прежний древний седой антисемитизм и нынешний сильно бы обнищали – «судите сами».
После всего сказанного настало время приглядеться к роману Светова «Отверзи мне двери», так рьяно рекомендуемому указующим перстом С. Тарощиной. Ну, если не ко всему роману, то к его квинтэссенции. Всё-таки Чехов в «Перекати-поле» смотрел на героя, бывшего Исаака, ныне Александра Иваныча со стороны, стремясь постичь его идеи новообращённого. Крещёный еврей Светов, судя по всему, списывает героя – крещёного еврея, в душе которого, по словам Тарощиной, «сошлись вопросы вековой глубины и, может быть, ещё долгой протяжённости», с самого себя, то есть образ героя автобиографичен, и идеи героя близки автору.
Как пишет обо мне и моей повести «Последнее лето на Волге» соавтор Тарощиной из «Независимой газеты» Клейн, «публицистический напор смыл границы, в результате перед нами не столько мироощущение героя, сколько оголённая концепция самого автора».
Какова же эта публицистика, и какова «оголённая концепция» автора Ф. Светова? Литературный критик Бенедикт Сарнов, выступая на радиостанции «Свобода» в программе «Писатели у микрофона», довольно точно передал эту «оголённую» концепцию Светова, в девичестве Фридлянда. Герой – крещёный еврей, в душе которого сошлись и т.д., «оголённо» излагает концепцию так: чего стоит ручеёк еврейской крови по сравнению с океаном крови христиан, пролитой евреями? Такой вольнодумец. Причём, вольнодумец Ф. Светов, в девичестве Фридлянд, после публичного оглашения по радио своей «оголённой концепции», всполошился, вступил по телефону в пререкания с критиком Бенедиктом Сарновым: «Так КГБ поступает! Это говорю не я, это говорит персонаж романа!» Подобным образом Ваньку валяет, отнекивается, отрекается. А о моей повести «Последнее лето на Волге» Клейн заявляет: «Не столько мироощущение героя, сколько оголённая концепция автора».
Я, кстати, от моего героя не отрекаюсь. Да, многие из его высказываний и мироощущение мне близки, и я их принимаю на себя. И С. Тарощина, так настойчиво рекомендовавшая присяжным заседателям-читателям роман Светова с его героем крещёным евреем и его концепциями, о моей повести «Последнее лето на Волге» пишет: «Философствует наш автор (то есть я – Ф.Г.) вволю. Горенштейн бьётся над разгадкой русского национального характера, как над кроссвордом».
Не персонаж, не герой повести, а Горенштейн. А тут, видите ли, в случае со Световым: это не я, Светов, говорю, а это персонаж романа, персонаж, который, как верно замечает Сарнов, характером мысли и судеб напоминает самого Светова. Но С. Тарощина, которая, разумеется, на свой лад обглодала, обсосала, обслюнявила всевозможные детальки моей повести, об этом «ручейке и океане» из рекомендуемого ею романа Светова – ни слова. Так может ли быть для литобозревателя, считающего себя прогрессивным, большее падение, и кто же падшая? Вот, оказывается, где отыгралось слово «кровь».
Но, с другой стороны, идеи Ф. Светова не только гнусны, но и подражательны. Речь идёт о плагиате. Этот сюжет о «ручейке и океане» постоянно варьировался в антисемитских сочинениях, в том числе в сочинениях выкрестов, например, Эфрона-Левитина. Так Александры Иванычи издавна расплачиваются за милость принятия их в лоно христианского народа. Другое дело, что они получают взамен: «Помолчав немного, и, видя, что я ещё не уснул, он стал тихо говорить о том, что скоро, слава Богу, ему дадут место, и он, наконец, будет иметь свой угол, определённое положение, определённую пищу на каждый день. Я же, засыпая, думал, что этот человек никогда не будет иметь ни своего угла, ни определённого положения, ни определённой пищи». Так пишет Чехов в своём рассказе «Перекати-поле» о крещёном еврее, само название которого определяет содержание: без корней.
Даже чистому идеалисту трудно прижиться на новой почве, когда оборваны корни. А много ли их – чистых идеалистов? Вот и приходится лгать, клеветать и попрошайничать, платя за милость подлую цену. Даже, если служебное место и прочие вознаграждения за верноподданнические услуги антисемитам они получают – место человека, которому можно на равных подать руку – вряд ли.
«Жид крещёный, что конь лечёный», – говорит русская народная пословица. Однако Александрам Иванычам плюнь в очи – Божья роса.
«Когда крестный ход приближался к монастырю, я заметил среди избранных Александра Иваныча. Он стоял впереди всех и, раскрыв рот от удовольствия, подняв вверх правую бровь, глядел на процессию. Лицо его сияло; вероятно, в эти минуты, когда кругом было столько народу и так светло, он был доволен и собой, и новой верой, и своею совестью». С давних времён, для того, чтобы быть среди большого скопления христианского народа, они, Александры Иванычи, стоят впереди всех в антисемитских деяниях.
«Стояние впереди», национальный «авангардизм», вообще характерен для любого национального ренегатства, свойственен и другим обрусевшим и оправославившимся этносам, правда, без особой, как у еврейского ренегатства, оголтелой ненависти к соплеменникам (по причине их, соплеменников, гонимости).
Но привилегиями в проявлении такого национального «авангардизма» обладали, конечно же, обрусевшие и оправославившиеся немцы, учитывая, в чьих руках находилась власть в России. Приведу отрывок из недавно прочитанной мной книги одного высшего сановника России об Александре Третьем и его времени: «Русский стиль» Александра Третьего был такой же мнимый и пустой, как всё царствование этого будто бы «народного» царя. Не имевший, вероятно, в своих жилах ни единой капли русской крови (так же, как и, разумеется, Николай Второй – Ф.Г.), женатый на датчанке, воспитанный в религиозных понятиях, какие внушал ему знаменитый обер-прокурор Синода (Победоносцев – Ф.Г.), он хотел, однако, быть «национальным и православным». Так об этом часто мечтают обрусевшие немцы. Эти петербургские и прибалтийские «патриоты», не владея русским языком, нередко искренне считают себя «настоящими русскими»: едят чёрный хлеб и редьку, пьют квас и водку и думают, что это – «русский стиль». Александр Третий тоже ел редьку, пил водку, поощрял художественную «утварь» со знаменитыми «петушками» и, не умея грамотно писать по-русски, думал, что он – выразитель и хранитель русского духа».
Проявление «русского народного духа с петушками» было и в другом направлении – уже не с квасом и водкой, а с кровью. В той же книге об этом направлении говорится: «В поисках неведомого врага взоры Победоносцева и Александра Третьего обратились на евреев. По-видимому, Александр Третий и его временщик не были одиноки в этом мнении. Огромной волной по всей России прошли еврейские погромы, иногда при содействии полиции. Войска неохотно усмиряли погромщиков, и, когда на это пожаловался царю генерал Гурко, Александр Александрович сказал: «А я, знаете, и сам рад, когда евреев бьют».
Сынок, Николай Второй, в этом вопросе был весь в папашу. Многие из предыдущих царей были не лучше, но при Александре Третьем и Николае Втором уже началось «народное» время, которое выражалось в «народном» революционном погроме.
Итак, с давних времён Александры Иванычи стоят впереди всех в антисемитских деяниях, довольные своей совестью, изощряясь в выдумках то «кровавого навета», то «вечного жида», то, как в нынешнем случае, побасенки о «ручейке и океане». Ибо кровавый навет, в котором язычники обвиняли христиан, впервые был переадресован от христиан евреям английским средневековым монахом-иезуитом из выкрестов.
Любимец прогрессивной публики, обрусевший датчанин Даль Владимир Иванович, составитель толкового словаря, энтузиаст и, кстати говоря, тоже страдалец, препровождённый за вольнодумство в Третье отделение, своё исследование об употреблении евреями христианской крови написал в 1844 году. Причём деятельность просветителя не так уж глухо была отделена от деятельности специалистов по еврейской кулинарии. Например, в толковом словаре асфальт назван «жидовской смесью».
Интернационалист Л. Клейн (не все «хорошие евреи» – выкресты, есть и просто интернационалисты, а Л. Клейн, возможно, не выкрест, иначе бы он сменил имя свое на Александра Иваныча), так вот, Л. Клейн усматривая изъян в моем тексте «Кровь из разбитого носа прямо в сосуд потекла, в стакан с водкой. От такого символа еще сильней тошнит, чем от бороды, измазанной соусом», после слов «От такого символа…» пишет: «Подчеркнуто мной, Л.К.»
Да, затошнить может. Но стоит себе представить, как та же самая хулиганская черная кровь, которая течет из разбитого носа в стакан с водкой, может потечь в пасхальное тесто для мацы – тут уж вообще вырвет. Да еще добровольно, самими еврейскими пекарями зачерпнутая гранеными стаканчиками из христианского кровавого океана. Океан христианской крови пролили и еще немного оттуда для мацы взяли. Имеется в виду не литературовед-великодержавник товарищ Маца и его прямой потомок Жириновский, и не боковые прогрессивные потомки, которые христианскую кровь приобретают путем химической реакции крещения, а маца – хлеб бедности, который едят в праздник пейсах или праздник опресноков в память о тяжелой жизни египетского рабства.
От практиков-хулиганов, друг друга избивающих, тех, которые носы бьют друг другу и гвозди в тела христопродавцев забивают, особого знания требовать нельзя. Но, может, теоретики-профессора, такие, как Владимир Даль, Василий Розанов, активно юродствовавший во время ритуального процесса Бейлиса в Киеве, просто не знают рецепта выпечки мацы? «Муку просейте, насыпьте горкой, следите, чтобы вода раньше времени не смешалась с мукой. Вливайте воду тонкой струйкой, быстро замешивайте, чтобы не образовалось комков».
Странно, что какой-нибудь извращенец-выкрест, стоящий впереди, так и не предложил в отместку жидам использовать для эксперимента еврейскую кровь при выпечке блинов. Смешали бы теплое молоко, сахар, дрожжи, муку, яйца и растопленный жир и – туда – еврейскую кровь, взятую из погромов или в польские лозанки – тесто с жареным салом и копченой грудинкой, потому что последний, по счету Бог весть какой ритуальный погром кровавого навета, произошел в Польше в 1946 году. Притом христиане-практики добивали тех, кто чудом пережил Холокост. Может, считают, что их христианская кровь слаще еврейской? Это их-то, погромщиков кровь, отравленная алкоголем! Видно, предвидя такие возражения, подсовывают молодых подростков, подсовывают для ритуального мацепечения. А наследственный алкоголизм, а врожденный сифилис? В Киеве подростка Ющинского, мелкого карманника, убитого ворами, как теперь говорят, при разборках, в Польше – девочку-подростка, которую «высосали» в подвале еврейского дома (а в доме-то и подвала не было!).
Все эти факты более или менее известны, и главная цель моего о них упоминания – указать на то, что основу, фундамент ритуальных и политических оговоров, составили деяния Александров Иванычей, в том числе и таких, как автор побасенки о «ручейке и океане» из рекомендованного С. Тарощиной романа Светова. Как я уже писал, у Светова, можно сказать, плагиат. В этом мы сможем убедиться.
Профессор Иерусалимского университета Савелий Дудаков прислал мне свою интересную книгу «История одного мифа», в которой вопрос исследуется всесторонне. Издана эта книга, кстати, в Москве (какой прогресс!), в издательстве «Наука», в 1993 году. Желающих отсылаю к этой книге.
Я же возьму из нее лишь отдельные необходимые мне моменты, чтобы перебросить мостик от «прошлых» к «нынешним». Товарищ Маца, литературовед и человек, в этой связи времен лишь промежуточная фигура, можно сказать, взятая для отсчета, – основоположник современного варианта Александра Иваныча. Но опустимся глубже. «Несмотря на существование расхожих штампов образа еврея в русской литературе в первой половине 19-го века, – пишет профессор Дудаков, – у нас нет никаких данных считать, что еще до великой реформы, то есть 1881 года, сложилась новая интерпретация евангельских мифов, которая могла превратиться в политико-идеологическую версию «государственного преступления». Фактически, для подобного утверждения не хватало ряда «документов» по концептуальному саморазоблачению исторической «зловредности» евреев с доказательством их политической враждебности. Однако оба эти звена, которых недоставало для возникновения «Протоколов сионских мудрецов», появились в конце 1860-х годов с одной стороны, русская националистическая идея обрела законченный вид концепции Н.Я. Данилевского (1869 г.), а с другой – еврейство впервые было объявлено “persona non grata» в «Книге Кагала» выкреста Я. Брафмана».
Савелий Дудаков излагает биографию того, кто положил начало процессу, завершившемуся публикацией анонимного «Разоблачения великой тайны франкмасонов» в 1883 году, в котором «иерусалимское дворянство» было представлено врагом царя и отечества.
«Я. Брафман родился в 1824 году в семье раввина в местечке Клёцки Минской губернии и первоначальное образование получил в хедере. Рано осиротев, боясь, что катальные власти отдадут его в рекруты, Брафман до 34-х лет был кочевником, часто менял место жительства, пока в 1858 году не окрестился…» Несмотря на разницу в тех или иных житейских деталях, нервно-душевная биография Александра Иваныча «идентично по спирали, по кругу, вперёд» смыкается с современными идейными биографиями «евреев-интернационалистов», но об этом ниже.
Сначала неофит Брафман занялся миссионерской деятельностью среди евреев, потом – активной деятельностью как «писатель-христианин». Он опубликовал ряд статей в газетах. («Вы слыхали про Грумахера? Писал очень умные статьи в харьковских газетах».) В 1868 году Я. Брафман выпустил свою первую статью по научному антисемитизму «Еврейские братства местные и всемирные», в которой утверждалось, что еврейские общины являются государством в государстве. Затем «русский знакомый российского еврея» Я. Брафмана, именно генерал Кауфман, губернатор Западного Края, поручил Брафману сбор катальных актов.
Я. Брафман тоже, на манер иных современных литературоведов, методом подтасовки, искажений текстов перевёл документы на русский язык и выпустил под названием «Книга Кагала». Книга была высоко оценена государственными структурами России, её чтение должностным лицам было обязательно. Однако притом, Я. Брафман публиковался не в черносотенной прессе, а в полулиберальной, такой, как «Голос», что облегчало доступ к его сочинениям «евреев, воспитанных на русской культуре», как пишет о них автор другой полулиберальной – «Независимой газеты» Я. Клейн, причисляя словно к ним и себя. Именно «евреи, воспитанные на русской культуре», а не безграмотная масса черты оседлости, служили объектом преступно-миссионерской деятельности Я. Брафмана. Переиздания «Книги Кагала», дополняемые рядом материалов, усиливали её антиеврейский пафос.
«Комментарии выкреста-раввина, – пишет профессор Дудаков, – оказались доступны для всех, а его научный принцип был настолько прост и достаточен для разоблачения «зловредности» евреев, что не воспользоваться открытиями Брафмана русская антисемитская беллетристика не могла. Книги Брафмана заполнили недостающее звено в общей цепи «разоблачений». И притом разоблачалась не какая-либо одна секта, например, саддукеев, а весь еврейский народ, показания против которого давал еврей».
Эта позиция пригодилась не только верхам, но и низам. В 1905 году, потерпев унизительную неудачу от «щуплых япошек» под Мугденом и Лаояном, гиганты в манджурских папахах перешли в контрнаступление на Могилёв, Витебск, Гомель, Бердичев, мстя и справляя кровавую тризну в еврейских погромах.
Русификация нерусских земель и в царское, и в советское время всегда сопровождалась поощрением антисемитизма, который служил как бы громоотводом. Там, где антисемитизм был, его усиливали, там, где антисемитизма не было (Киргизия, Казахстан), его насаждали.
Известно, что евреи-революционеры определённого сорта видели в еврейских погромах появление политического сознания у крестьян и прочего низового народа и надеялись, что в дальнейшем погромы эти примут антипомещичий и антиправительственный характер. Поэтому они против еврейских погромов не протестовали, вызывая тем самым недоумение даже у своих русских товарищей. Вообще те евреи, которые участвовали в революции, в том числе в революционных зверствах, были ренегаты. От еврейства отказывались и самым активным образом преследовали еврейские политические партии – бундовцев, не говоря уже о сионистах.
Таковы и «титан революции» Лев Троцкий, и «пигмей революции» Яков Юровский. Кстати говоря, Александр Иваныч – фигурка, подобная поручику Киже. Есть веские доказательства, что «ипатьевским стрелком» был не Яков, а Ёзеф Юровский (Уншлихт). «Бывший» Янкель лишь прикрывал Ёзефа. А русские революционные убийцы, особенно низовые, всячески подчёркивали свою русскость, потому что принадлежали к большинству. Эти тенденции ещё более усилились в «революционно-интернациональные» и особенно в советские годы русской державности.
Но «полезный еврей» Я. Брафман за свою деятельность был вознаграждён. Митрополит Филарет рекомендовал его на должность преподавателя еврейского языка в Минскую духовную семинарию. Он был награждён также орденом Святого Владимира 4-й степени. Он неоднократно получал от правительства денежные вознаграждения. «После смерти Брафмана продолжателем дела разоблачения «еврейской зловредности» стал его сын Александр», – пишет профессор Дудаков.
Если Я. Брафман – дед В.Ф. Ходасевича, то у выкреста-провокатора, помимо сына Александpa, продолжившего дело отца, имелась ещё и дочь, вышедшая замуж за некоего Фелициана Ходасевича, отца Владислава, на которого постоянно ссылается С. Тарощина, литобозреватель «Литгозеты». Мир тесен, как коммунальная квартира. Не родственница ли С. Тарощина В. Ходасевича по линии Я. Брафмана? Не родственник ли Л. Клейн Михаила Шолохова или футболиста Карапетяна, выигравшего по лотерейному билету автомобиль? (Кто такой Л. Клейн?)
Разумеется, нет в этом бренном мире одинаково уравнительной справедливости. Не все негодяи добиваются наград и признания от своих «знакомых-покровителей», также не всех, к сожалению, постигает заслуженная ими кара, по крайней мере, на этом свете. Божьей кары никому из них не миновать.
Иные говорят: «Не надо изображать дурных евреев, это помогает антисемитам». А я говорю: наоборот – выбивает у них важные козыри и, прежде всего, возможность относиться ко всем, как к одному, недифференцированно, как к общему кагалу, как к врождённым изгоям человечества. Какие же изгои? Свои подлецы, свои дураки, свои кровопийцы, свои провокаторы, свои бездарности. Всё, как у людей!
В связи с вышесказанным, вспоминается мне другой преступник, не наказанный, доживающий ныне свой нечистый век в Берлине, в кругу семьи, старший сын которого, подобно Александру Брафману, пытается по своим возможностям (к счастью, ничтожным) продолжать деятельность своего отца. Я имею в виду некоего Сергея Хмельницкого.
Не буду останавливаться подробно на деятельности Сергея Хмельницкого-отца, само прикосновение к имени которого вызывает тошноту. О деятельности Сергея Хмельницкого достаточно полно писали Андрей Синявский, профессор Эткинд, писали жертвы его преступлений – те, что остались живы (не уверен, все ли известны, и все ли пережили). И сам Хмельницкий не может отрицать своих преступлений, по крайней мере, тех, о которых стало известно, когда жертвы в середине 50-х начали возвращаться из концлагерей, куда их Хмельницкий засадил. Когда двое художников, кстати, евреев, хотели привлечь его к ответственности, он начал клянчить прощения, а затем, вместе с семейкою, бежал из Москвы в Среднюю Азию, ибо Сергей Хмельницкий, как сказал о нём один из друзей, хорошо его знавший, был хуже, чем стукач – он был провокатор палаческого учреждения при Совете Министров. Сам занимаясь полудиссидентской деятельностью, он привлекал неопытных молодых людей, а потом выдавал их. Будучи знакомым и, якобы, приятелем Синявского и Даниэля, он на организованном неосталинским КГБ процессе литераторов, усугубил судьбу Даниэля, способствовал усиленному режиму заключения, чем предопределил скорую смерть, то есть выступил в качестве свидетеля обвинения.
Этой раздвоенностью, необходимой в профессии и призвании провокатора, даже больше, чем Я. Брафмана, однозначно ставшего на путь разоблачения иудейского кагала, Хмельницкий напоминает другого персонажа книги Савелия Дудакова, С.К. Эфрон-Левитина, выведенного в главе под характерным названием «Провокатор».
«Среди беллетристов 90-х годов прошлого века, – пишет Дудаков, – пожалуй, главнейшая – мрачная фигура выкреста и ренегата С.К. Эфрон-Левитина (Эфрон-Левитин, родился в 1849 году в Вильненской губернии в весьма набожной еврейской семье и, возможно, приходился родственником одному из издателей энциклопедии Брокгауза и Эфрона). Эфрон крестился в начале 80-х годов, но в заботе о своих заблудших братьях, тем не менее, опубликовал критическую статью, защищая евреев от обвинения в ритуальных преступлениях.
Эфрон встречался с революционными эмигрантами. Он мог одновременно публиковать полный пиетета перед соотечественниками рассказ «Мой дядя Реб Шепсель-Эйзер» в еврейском журнале «Восход» под собственной фамилией С. Эфрон и полный злобы и ненависти к ним рассказ «Искупление» в «Историческом вестнике» А. Суворина под псевдонимом Левитин. В книге «Среди евреев», за 10 лет до черносотенной версии о похищении «Протоколов сионских мудрецов», дана её литературная версия. Очевидно, эта литературная версия, так же, как и литературное графоманство Эфрона, перекочевала потом в «Протоколы» и, по традиции «Протоколов», – в крещёные летописания, вплоть до современных романов о «ручейке и океане». Впрочем, по принципу раздвоения романы пишутся православными узниками-выкрестами, а Хмельницкий писал всё-таки политические доносы. Тем не менее, это два конца одного и того же.
Каким бы черносотенным ни был царский режим, как бы ни было ограничено и заперто в черте оседлости еврейство, особенно низовое, оно было ещё воспитано на национальных традициях, оно имело свой, пусть ущемлённый, но легальный статус, свои газеты, свои учебные заведения. Так, Эфрон учился в раввинском училище, впоследствии преображённом в Еврейский Учительский институт.
Но горячая пора провокатора Хмельницкого в его «счастливом возрасте», в молодые годы, пришлась на период развитого социализма, когда само слово «еврей» стало как бы нелегально, более того, даже нецензурно. Я помню, как произносили публично слово «еврей» советско-партийные дураки, понизив голос, а слово «Израиль» вообще произносить не могли, произнося «Израиль» с ударением на последнем слоге. Слово «еврей» в легальной печати вообще обнаружить было нельзя – оно было заменено словом «сионист», словом-символом, обозначающим то ли национальность, то ли вид преступления. Речь идёт не об упоминании статистическом, особенно казённо-фискальном. Здесь наоборот – блюлось в паспортах, в 5-м пункте анкеты. Благодаря советской интернациональной системе (паспортизации, помимо других факторов), Гитлеру удалось так быстро уничтожить еврейское население оккупированной территории.
Совсем уж кощунственный чёрный анекдот – это интернационализм в школьном классном журнале. Помню, учитель или учительница называли публично фамилию ученицы или ученика для записи национальности в классном журнале. Была такая процедура:
– Кухаркин!
– Русский, – гордо произносит Кухаркин.
– Титьков!
– Русский.
– Перекупенко!
– Украинец (Также с гордостью).
– Саркисянс!
– Армянин (С достоинством).
– Сойфер!
– Еврей, – мямлит Сойфер, потупив глаза под насмешечки и перемигивания.
– Лобанок!
– Белорус.
– Зальманзон (Встаёт Зальманзон и шёпотом произносит нечто нечленораздельное).
– Еврей он! – с насмешкой громко говорит Титьков.
Таким классным школьным интернационализмом изначально калечились души и создавались еврейские ренегаты-самоненавистники.
Но, когда дело шло не о статистической фискальности, а, так сказать, о «почётном» упоминании, о почётном перечислении в интернациональной обойме, тут совсем всё было наоборот. Наглядный пример – тоже в жанре анекдота. Помню, читал отчёт о писательском съезде 30-х годов, времени, как будто, ещё «классовом», не успевшем шовинистически заматереть, как в конце 40-х и начале 50-х годов. Отчёт писательницы Кетлинской, председателя ревизионной комиссии. Точного высказывания и точных цифр не помню, но суть высказывания, порядок цифр помню: «Товарищи, на нашем съезде присутствуют писатели разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, армяне, якуты, черкесы, татары. И персонально: 227 русских, 165 украинцев, 76 евреев, 32 белоруса, 2 татарина, 1 якут, 1 черкес.
«Нельзя жить во времени и быть свободным от времени», – высказал основоположник Маркс. Провокатор Хмельницкий жил в иную эпоху, чем православный провокатор Эфрон, и потому деятельность обоих провокаторов, совпадая по моральной своей низости, не совпадала по направленности. В эпоху «пролетарского интернационализма» деятельность провокатора Хмельницкого была более интернациональна. Так, ещё в студенческие годы, по заданию КГБ, Хмельницкий пытался организовать некую альковную провокацию против своей соученицы, дочери французского военного атташе в Москве, с тем, чтобы затем учреждение могло лично шантажировать отца. О том писал Синявский, о том писала сама жертва.
Ухаживания «влюблённого», к счастью, были безуспешны. Более успешной была его провокаторская служба против соотечественников, носившая также интернациональный характер. Иными словами, Хмельницкий обладал убеждениями «честного человека». О таких писал ещё Герцен: «…Тех честных людей, считавших главной обязанностью честного человека делать доносы на друзей». (Об иных уже не говорим.)
Ну, а я обо всём об этом узнал впоследствии, столкнувшись с провокатором Хмельницким (к счастью, не лично) в 1982 году в Берлине, бывшем тогда Западным. Так уж, видно, я неудачно (или удачно?) устроен, что стоит в округе появиться какому-нибудь «честному человеку», как он с большой вероятностью меня зацепит и со мной столкнётся.
Итак, совсем недавно приглашённый в Западный Берлин на стипендию, прожив здесь всего год (теперь уже живу 17 лет), я, тем не менее, решил изложить свои впечатления в статье «Идеологические проблемы берлинских городских туалетов», опубликованной в журнале «Континент». Я тогда, в первые свои эмигрантские годы, много публиковался в «Континенте» у В. Максимова, так же, как и в журнале «Время и мы» у В. Перельмана, где, кстати, впервые была опубликована моя повесть «Последнее лето на Волге», вызвавшая впоследствии столь бурную реакцию у соавторов из «Литгазеты» и «Независимой» Тарощиной и Клейна, даже обвинивших меня в оскорблении России (русского человека). Но задолго до Тарощиной с Клейном возмутился мной (моей статьёй) провокатор Хмельницкий, приехавший в Берлин, есть предположение, не без помощи и при поддержке «учреждения».
Статья «Идеологические проблемы берлинских городских туалетов» посвящена была связям левых кругов Западного Берлина и Западной Германии, господствовавших тогда на улицах, с нацистами и арабскими террористами, изображала антисемитизм левых под маской антисионизма, борьбы за «справедливое дело народа Палестины» и т.д. Весь набор советского агитпропа с весьма небольшими отклонениями. Достаточно сравнить карикатуры, публиковавшиеся в прессе зелёных, «борцов за мир» и за выход из атомной энергетики, с карикатурами в нацистской прессе и советской агитпроповской, чтобы убедиться, что они единого антиизраильского, антисионистского фронта. И, поскольку палаческое учреждение, которому верой и правдой служил провокатор Хмельницкий не хуже вохровской овчарки, не так уж глухо отделено было от советского агитпропа, подобная моя статья неизбежно должна была стать объектом его доноса. Но кому? К тому времени, в 1982 году, Хмельницкий был рядовым эмигрантом, кажется, даже членом еврейской общины Западного Берлина. Посадить меня в концлагерь, по своему обычаю, Хмельницкий не мог. НАТО бы такого не допустило. Поэтому в сложившейся непростой для провокатора КГБ ситуации он – изобретатель – нашёл единственно возможный выход.
Ныне, когда эмиграция по сути перешла в эвакуацию, даже самые мелкие общины ведущей русскоязычной нации имеют свои газеты, где-то тиражом в 150-200 экземпляров, не говоря уже об органах общеберлинской, общенемецкой русскоязычной печати, таких, как «Европацентр» (о качестве газет ничего сказать не могу – я их не читаю. В данном случае речь идёт о количестве). А тогда количество было равно нулю, и потому Хмельницкий, которого охранка учила изобретательности, придумал прокомментировать мою статью на полях журнала «Континент» вокруг моего текста. Не уверен, додумались бы Тарощина с Клейном так прокомментировать «Последнее лето на Волге», если б свободы прессы не предоставили «Литгазета» или «Независимая газета». Не уверен, всё-таки персоны штатские, в провокаторском деле дилетанты.
Сергей Хмельницкий же показал истинное мастерство: начал распространение номера «Континента» с моей статьёй и его комментариями на полях, главным образом, среди «пикейных жилетов» западноберлинского русскоязычного актива, им тщательно подобранного. Но один из этих «пикейных жилетов» («Крайский – это голова, Киссинджер – тоже голова. Крайский с Киссинджером – это две головы»), так вот, один из «пикейных жилетов» принёс этот номер, очевидно, сделавший пропагандистский круг, мне.
До сих пор не могу понять, то ли это было предательство одного из апостолов Хмельницкого, то ли под маской предательства – хитро рассчитанный провокационный ход. Смотри, мол, что про тебя пишут! Я посмотрел. Боже мой! Никогда я не видел ничего подобного. Я имею в виду не содержание – на заборах и в туалетах пишут не хуже – речь идёт о форме. Округлые мельчайшие буковки, но абсолютно различимые, густая словесная вязь, усеявшая пространство вокруг моей статьи, как будто выпустили на поля пригоршню ползущих вошек, истинно вшиво-ювелирная работа, лесковский умелец, подковавший блоху, позавидует. Но по содержанию, конечно, жаргон следственного изолятора: «Врёшь, темнишь!». Обиделся за левых немецких борцов, товарищей по пролетарскому интернационализму. Разумеется, никакой опасности в новых условиях по сю сторону железной шторы Хмельницкий не представлял и не представляет, чувства страха внушить не может, но ведь и чувство брезгливости неприятно. Само написание аккуратненькой ювелирно-вшивенькой работы его, округлые словечки-вошки, вызывают брезгливость.
И вот, как говорится, прошло время, минули годы, подрос сынок, Хмельницкий-младший, и снова – то же неприятное чувство. «Сын за отца не отвечает», – по-сталински высказалась о Хмельницком-младшем одна дама. Да, не отвечает! Я готов согласиться с гуманным высказыванием Иосифа Виссарионовича. Но только при определённых условиях: если сыновья преступников отмежёвываются от своих преступных отцов (от подлинных преступников, а не отцов – врагов народа, которых придумало палаческое учреждение, которому служил Хмельницкий).
Кинорежиссёр гитлеровских времён Файт Харлан, любимец Геббельса, создал фильм «Жид Зюс», не «Еврей Зюс», как у Лиона Фейхтвангера, книгу которого извратил, не «Jude», а «Jud», что соответствует слову «жид». Но сын кинорежиссёра Томас Харлан отмежевался от преступника-отца (которого, кстати, в отличие от Хмельницкого, судили), и деятельность Томаса Харлана иная, чем у отца, противоположная.
Можно ли такое сказать о Хмельницком-младшем? Возможность внушить страх у него ещё меньшая, чем у папаши, но по части внушения чувства брезгливости папаше не уступает. Для писаний своих, правда, поля журналов не использует, сказывается отсутствие квалификации соответствующего учреждения. Да и подоспевшие органы, газетные, предоставляют возможность для его писаний.
Пишет Хмельницкий-младший бездарно, скользко, в духе советских журналистов-международников так называемого «интеллектуального плана». Мысль так облизывает, так «обслюнявливает» всякими прогрессивными «измами», что суть её доходит как бы исподтишка, из засады. Читать Д. Хмельницкого очень противно, но сделаю над собой усилие, ещё раз вспомнив определение Маяковского одной из форм литературного труда: «ассенизатор».
Вот абзац: «В этом смысле евреям не повезло дважды. Сначала их чуть не уничтожили нацисты, а потом сам факт Холокоста послужил нравственным оправданием для еврейского шовинизма. Уроки Второй мировой войны были усвоены ровно наоборот. Для большинства цивилизованных народов чудовищные потери Второй мировой войны оказались платой за иммунитет против расизма и национализма. В то же время, и на этой почве вырос и идейно укрепился еврейский национализм». (Д. Хмельницкий, «Под звонкий голос крови или с самосознанием наперевес», журнал «Двадцать два», №80, стр. 175.)
Утверждать, что среди евреев есть дурные личности, значит ломиться в открытую дверь (Хмельницким достаточно взглянуть в зеркало). Как раз требование, чтобы евреям не было позволено иметь своих дураков, своих провокаторов, своих радикалов (иначе их не примут в общую семью народов) – есть особая форма юдофобства. Но из-за патологии еврейской истории есть всё-таки одно негативное качество, которое отличает евреев от других народов. Ни в одной нации нет такого количества ренегатов, то есть предателей собственной нации, во всевозможных обличиях, в том числе «интернациональных» и «правозащитных». (Это антисемиты говорят, что евреи предают других. Евреи себя предают.)
Но вернёмся к тексту Д. Хмельницкого. Далее идёт вообще смазанное змеиной слизью утверждение, что «цивилизованные народы» от «чудовищных потерь войны» обрели «иммунитет против расизма и национализма». А вот у евреев «чудовищные потери» привели к росту «шовинизма» и «национализма». «…Сам факт Холокоста, – пишет Хмельницкий, – послужил нравственным оправданием для еврейского шовинизма». «Уроки Второй мировой войны были усвоены (евреями – Ф.Г.) ровно наоборот».
«Уроки Второй мировой войны», то есть Холокоста в целом, усвоены еврейским народом правильно: создано еврейское независимое государство при всех его недостатках. (Какое государство от недостатков свободно?) Создание еврейского государства народом, слишком долго питавшимся иллюзиями и утопиями «всемирного братства», «интернационализма», «ассимиляции», есть, по сути, акт недоверия «мировому сообществу», в том числе, «цивилизованному», бросившему еврейство на произвол судьбы в пасть гитлеризму и его кровавым сателлитам.
Именно излишнее доверие к «братской семье народов», а не шовинизм, было бедой еврейства, приведшей к Холокосту. Конечно, хорошо бы в мире жить «без России», «без Латвии», без Израиля, без Германии, без Саудовской Аравии и т.д. Но это – утопия. Достаточно посмотреть на нынешний мир, в том числе, и «цивилизованный», с его диким ростом шовинизма и радикализма, чтобы понять: человеческий мир – не джунгли, где тебя не тронет сытый зверь. В этом мире без разумного национализма не проживёшь, особенно евреям, две тысячи лет не поднимавшим оружия, духовного и обычного тоже, в защиту свою как нации.
Шовинизм не надо путать с национализмом. Национализм укрепляет своё достоинство и свою нацию. Шовинизм стремится разрушить и унизить нацию чужую. Вряд ли гитлеризм, изгнавший Эйнштейна и уничтожавший цветущую немецкую культуру, можно назвать национализмом.
Но, как видит читатель, эти мои мысли не являются полемикой с Д. Хмельницким. С сей личностью мне противно иметь всякий контакт, даже полемический
Д. Хмельницкий разъезжает по всем доступным ему собраниям, даже самым мелким, русскоязычного большинства и пытается провоцировать идеологический шум, как говорят, ведёт антисионистскую, читай – антисемитскую пропаганду. Скандалил в Доме русской культуры в клубе «Диалог», в Еврейском культурном обществе, а о моей статье комично шумел в традициях папаши. Говорю об уже упомянутой статье «Гетто-большевизм и загадка смерти Ицхака Рабина», опубликованной в берлинском журнале «Зеркало Загадок». Статья рассматривает деятельность партийной группы Рабина-Переса и примкнувшего к ним Арафата и призывает к ликвидации последствий этой опасной для еврейского государства деятельности. Таковы мои взгляды, и я имею право их высказывать.
Однако Хмельницкий-отец воспитал Хмельницкого-сына на иных взглядах, иной идеологии, именно, пролетарского интернационализма, воспитал на призывах ЦК КПСС: «Пламенный привет братским арабским народам, борющимся за ликвидацию последствий израильской агрессии!», «Позор расистам-сионистам!» Оно и не удивительно. За исключением первой войны, поддержанной добивавшимся своего мандата английским империализмом, все арабо-израильские войны были организованы прямо или косвенно советским империализмом с его «учреждением», в котором служил Хмельницкий-старший. Ибо советский империализм со своим давним антисемитским вдохновением рассматривал Израиль не как внешнего, а как внутреннего врага. В этой борьбе, по давней традиции, большую роль играли и играют «полезные евреи» вне и внутри Израиля. Если у советского империализма теперь выпали клыки, то эти «полезные евреи» служат другим «прогрессивным силам мира». Благо, таких враждебных еврейскому государству сил в падшем мире хватает.
Достаточно посмотреть на ООН – орган «международной общественности», читай – безнравственного скопища, думающего о справедливости исключительно с позиции своей эгоистической выгоды. О входящих в состав этого «международного сообщества» государствах, отсталых, тиранических, средневековых, фанатичных, террористических и прочих подобных, уже не говорю. А ведь эти государства составляют арифметическое большинство того паразитического колхоза, в который давно уже превратилась ООН.
Именно оно, это большинство «международной общественности», приняло резолюцию, в которой сионизм приравнивался к расизму. Скандалист, сын провокатора Хмельницкий ибн Хмельницкий, а скандальная нечистоплотность есть бытовая форма политической провокации, вообразив, видимо, себя не в маленьком общинном собрании провинциального городка, а на трибуне ООН, обозвал мою статью расистской. А я не возражаю. Если ООН называет национальное движение еврейского народа к самостоятельной государственной жизни и самостоятельной обороне, необходимость которой была подтверждена Холокостом, расистским, если этот орган «международной общественности» называет сионизм «расизмом», то я – расист.
Мне кажется, что Хмельницкий-сын ещё хуже Хмельницкого-отца. Ни в коем случае не оправдывая Хмельницкого-отца, скажу, что он, как иные стукачи, был одновременно жертвой преступного режима, направлявшего (и заставлявшего) слабых морально и запутавшихся душевно на стукачество. А чьей жертвой является Д. Хмельницкий в его скандально-нечистых высказываниях, обличающих еврейский «шовинизм» и «национализм» с позиций «международного интернационализма»? Вспомним, что именно таково было обвинение, предъявленное Михоэлсу, раздавленному автомобилем, и актёру Зускину, расстрелянному, и поэту Квитко, и другим «еврейским националистам».
Энгельс писал о пруссаках, которые добровольно носят жандарма в своей душе. Похоже, что Д. Хмельницкий добровольно носит в своей душе «учреждение», которому служил отец. А то, что Д. Хмельницкий не служил этому учреждению, вопрос не моральный, а возрастной. Иные немцы, рождённые в военное и послевоенное время, не поспели стать автоматчиками Бабьего Яра и кочегарами Треблинки. Разные немцы, разных расцветок: от коричневой – до зелёной.
Я знаком с современной нацистской прессой современной Германии. Думаю, что идеи Д. Хмельницкого о «еврейском шовинизме» после Холокоста, очищенные от «интернационального прикрытия», вполне – их тема.
Однако хватит о Хмельницких. Их общественное положение таково, что справиться с ними можно самым простым способом: не приглашать и не впускать в приличное общество. А если наглецы являются сами, то хорошо бы их «выпускать» по лестнице, придав соответствующее ускорение. Впрочем, навязывать своё мнение на сей счёт не буду.
Но не всегда, хочу сказать, такой простой случай возможен. «Полезных евреев» великое множество. Был даже случай, когда такой «полезный еврей» занимал пост премьер-министра. Я имею в виду не Семёна Переса. Какой бы ни был Семён Перес, он служил «делу мира» и ликвидации «последствий израильской агрессии» косвенно, в силу своей неразумной идеологии «левого интеллектуала» с её политическими мифами и моральными утопиями. Предполагаю, и в силу своей личной человеческой неразумности, наподобие профессора Серебрякова из пьесы Чехова «Дядя Ваня», о котором годами складывалось мнение как о глубокой личности, но который на деле оказался личностью весьма плоской. Правда, такое заблуждение Серебрякова навлекло беду на одну семью, а заблуждения Семёна Переса – на целое государство. Но, повторяю, речь в данном случае идёт не о Пересе. Я говорю в данном случае об австрийском премьере Крайском, «полезном еврее», прямом стороннике «дела мира», друге Каддафи, противнике «израильской агрессии».
Если я уж коснулся Австрии, то хочу сказать, что, по-моему, она издавна играла особую роль в затронутой мной теме научного антисемитизма и практического, добавлю, тоже. Разумеется, в первую очередь, надобно вспомнить Отто Вайнингера, единственного еврея, удостоившегося похвалы Гитлера. А Гитлер, как известно, был очень скуп на похвалы в адрес евреев.
Отто Вайнингер происходит из семьи верующих венских евреев, чуть ли не раввинской, в раннем возрасте принял христианство, наподобие Якова Брафмана, оплачивая эту акцию разоблачением «зловредности» евреев, то есть своих отцов. Особым разнообразием ренегаты не отличались – ни в идеях, ни даже в сюжетах. Правда, каждая местность с её идейным климатом (да и обычным тоже) накладывает отпечаток также и на личность провокатора-ренегата. Вайнингер – уроженец Вены и земляк Фрейда, в те годы, в той же Вене очаровывавший публику, объевшуюся модных материалистических сладостей социалистических философов, неомодными сенсациями сексуально-психологических солений с перчиком, написал сенсационную (для той же публики) книгу «Пол и характер».
Первая часть небольшой этой книги представляет собой докторскую диссертацию, а вторая – памфлет. Можно было бы поменять наименования частей, не изменив сути. В первой части (в докторской) Вайнингер доказывает наличие в человеке мужских и женских черт характера, а во второй – превосходство мужчины как духовного существа над плотской женщиной. За текстами чувствуется половой извращенец или трусливый девственник-онанист. Причём же, спрашивается, к этому теоретическому труду по половым делам – евреи? Оказывается, еврей обладает всеми отрицательными качествами женщины, в то время как германская раса – мужская, что противоречит его же заявлениям, развитой в его докторской диссертации теории бисексуальности каждого человека. Также, сбоку припёка, впутаны социалистические рабочие.
 |
Отто Вайнингер |
Некогда я читал эту мутную книжечку в переводе с немецкого, кажется, в издании Маркса 1903 года, правда не прижизненном, потому что к 1903 году Вайнингер уже повесился.
Очевидно, телесные извращения, лежащие в основе расовой австро-немецкой теории, не позволили ему, писателю Вайнингеру, удовлетвориться русским крещением тела, наподобие доморощенных крещёных евреев с их побасенками о «ручейке и океане». Эта расовая «честность» побудила «арийца-Гитлера» похвалить своего земляка еврея.
В угарном чаду «свободных шалостей» нынешнего российского печатного слова появилась книжечка с двойным титулом, по-немецки и по-русски: «Achtung, Juden! Осторожно, евреи!» После антисионистской государственной «монопольки» на конвейер теперь пошёл нацистский самогон, и не стоило бы выделять упомянутую «продукцию» из общей сивушно-клоповой вони, если бы не фамилия редактировавшей личности: Брагинский. Брагинский – такая же истинно распространённая фамилия, как и Рабинович. Я ещё не встречал ни одного Брагинского, который бы не был евреем. Безусловно, речь идёт о скользком оборотне, еврее-нацисте.
Отто Вайнингер, ненавидевший родную мать и родного отца, давших ему жизнь еврея, по крайней мере, не скрывал, что он еврей. Доживи он до счастливых гитлеровских времён, весьма вероятно, кончил бы жизнь не анархически – висельником, а, согласно «новому порядку», о котором мечтал: добровольцем газовой камеры и крематория. Нацист-самозванец Брагинский, российский вариант Отто Вайнингера, мечтает о должности добровольца-истопника Освенцима. Это уже не Александр Иваныч, а уже Адольф Брагинский, это уже не крещение, а татуировка на эсэс-манер.
Вопреки елейной сладости «добреньких» мужичков и дамочек, есть святое слово: «убей», когда речь идёт об извергах, подобных гитлеровским. Не только плакаты, но и лирические стихи, лирические песни просили: «Убей!» Время теперь иное. Меньше ясности, больше хляби. Но иногда думаешь, хорошо бы, если не лирическую песню, то хотя бы плакатик в духе КУКРЫНИКСов, и, чтоб позорным «шашлычком» на штыке – нацистские самогонщики бесноватого слова. Брагинский, который, судя по титулам его книжечки, любит немецкие обороты речи, Arschloch Брагинский, хорошо бы сидел на штыке через Arschloch, ибо сильные меры требуются, чтобы остановить растущее зло. Вот такие расовые игры.
Я не намерен проповедовать демагогическую и пошлую теорию равенства людей (к возмущению пролетарских интернационалистов). Такое равенство политически должно соблюдаться (если только им не злоупотребляют), но оно не делает людей и даже народы равными, потому что народы состоят из людей разных – умственно, нравственно и психически. Есть люди и народы, которые в 20-м веке, в силу исторических особенностей, несут в себе нравственные и психические черты десятого или даже шестого века. Иногда каменного века. Как же опасно и преступно вкладывать в руки этих людей оружие 20-го века! Тем не менее, духовное и психологическое неравенство людей (народов) может преодолеваться, при желании, правильным, не идеологическим пониманием мировой ситуации. Однако нужно ли было так называемым «диким народам», жившим в гармонии с окружающей средой, это «равенство»? Вопрос о равенстве – скорее идеологический, чем биологический, и особую остроту он приобрёл после того, как колонизаторы «уравняли» мир, а великие географические открытия нарушили этническое равновесие.
Иное дело – неравенство телесное, биологическая эсэсовщина, дутая барочная античность телесного «искусства титанов», уценённая микельанджеловщина гитлеровской культуры. Впрочем, уже гений Микельанджело Буонаротти нарушал гармонию барокко, ища сильных воздействий на психику и подсознание. Пушкин в венской своей драме «Моцарт и Сальери» пишет: «Гений и злодейство – две вещи несовместные. Неправда: А Буонаротти? Или это сказка Тупой, бессмысленной толпы – и не был Убийцею создатель Ватикана?»
Случайно ли возникла эта сказка-легенда? Убийство Микельанджело натурщика на кресте, чтобы правдивее изобразить смерть Христа. Случайна ли также венская легенда об умерщвлении самим Сальери Моцарта?
Что-то в Австрии есть традиционно-нездоровое, при всех её альпийских красотах гор и озёр, при всех её вальсах и нежно-сладких пирожных. Может быть, такое моё высказывание оскорбит национальное достоинство австрийского человека? И даже его «знакомого» – австрийского еврея не оставит равнодушным?
Но что поделаешь, прошло время, когда я молодым провинциалом приехал в Москву из «черты оседлости», из Киева, из ужасного Киева и ужасного киевского «чёртова колеса», где и «мать-Россия», и «ненько-Вкраина», и особо трусливое, постыдное антиеврейское лакейство киевских тарасбульбовских Янкелей. Один там был «честный человек», «светлая личность» – Виктор Платонович Некрасов, да и тот встретил меня с какой-то нервной недоброжелательностью, а мои литературные начинания оценил негативно. Впрочем, как всякой «светлой личности», ему досаждали. А досаждать надо умеючи: по крайней мере, тщательно вытереть ноги о половичок, чтоб не оставить на паркете следов. У Вики (В.П. Некрасов), как именовали и именуют его интеллигенты, особенно киевские, была чудесная квартира в центре Киева на Крещатике, в знаменитом высотном доме, тогда как у меня не было, где приклонить голову.

Тем не менее, он считался и считается страдальцем. Да, он был страдальцем. Его за публицистику о Бабьем Яре даже исключили из партии большевиков, Союза пысьмэнников, подслушивали его телефон и т.д. Но между Викиными тогдашними проблемами и моими было такое же соотношение, как между острым катаром и обыкновенной чумой.
Вообще, большинство моих жизненных проблем создано было не партийной властью, а интеллигенцией, её безразличием, пренебрежением, а то и враждой. Что такое партийная власть? Слепой молох. А интеллигенция – существо сознательное, зрит в оба, занимаясь искусственным отбором.
Тот же Вика (В.П. Некрасов) сэкономленную на мне душевность, щедро тратил на Ваську (Василия Макаровича Шукшина), желая обратить биологического антисемита-монголоида хотя бы в антисемита кошерного. Конечно, такая душевная близость Вики-юдофила и Васьки-юдофоба усиливалась рюмками.
Пил и антисемитствовал Вася на земле, в небесах и на море. Был случай в Сочи на круизном теплоходе, был случай в самолёте аэрофлота с артистом Борисом Андреевым: Вася весело пьяно хохотал, обещая летевшему с ними «очкарику», «мосфильмовскому жидку» – режиссёру, помилование при погроме. Был случай – антисемитствовал с наслаждением, не требующим творческого перевоплощения, даже на киноэкране «ще одной творческой невдаче», не помню у кого, у какого-нибудь «Москаленко-Кушнеренко», на киевской студии им. Довженко.
Теперь киностудия Довженко, куда, кстати, меня на порог не пускали, прекратила существование, обанкротилась, и иные режиссёры, я слыхал, разбрелись по миру в поисках денег под еврейскую тему. То-то Вася огорчился бы.
Как-то он, Вася, буянил даже в «избе» у «кошерных» – не выдержала душа, как не выдерживает, иной раз, дрессируемый зверь укрощения и приручения, усвоения чуждых его природе поз и движений. …Такой-то в «прогрессивной интернациональной избе» сор!
Вася, этот алтайский воспитанник страдавшей куриной слепотой либеральной московской интеллигенции, которой Васины плевки казались Божьей росой, любил мясо с кровью и водку с луком, а ему подсовывали «фиш» – духовно и натурально. Впрочем, водку в «кошерных избах» тоже пили. «Мы ведь даже пьём, как они, что ещё они от нас хотят?» – сказал писатель Михаил Светлов, автор интернациональной «Гренады».
Итак, я приехал из Киева и с верой воспринимал рекомендации и поучения высоколобых московских умников, штудируя даже такие рекомендованные ими книги, как Вайнингера: «Он антисемит, но надо быть объективным: книга имеет большое культурно-общественное значение. Глубокая эротическая философия».
Несмотря на то, что какая-то польза от этого первоначального чтения была (надо быть объективным), пользу брал главным образом от противного. Очень скоро я понял тщеславную болезненность высоколобых, требовавших субординации и чинопочитания. Да и поучения их начали казаться мне не столь глубоко убеждающими.
Поэтому я отошёл от них. Не называю никого конкретно, ведь речь идёт не о людях, хоть были и люди, а об атмосфере: «наш – не наш».
Я отошёл от них без почтения (этого мне по сей день не простили), но теперь это смешно, раньше было грустно и создавало проблемы. Я отошёл, а с их точки зрения, «мне было отказано», «я был отпущен», так и не представлен «высоким либералам» и не имея от них печати о благонадёжности, то есть не был благословлён высокими: Анна Андреевна, Александр Трифонович и т.д. А ведь это была литературная власть, даже, если иные из них от официальных властей были гонимы (может, как раз, благодаря этому). Более того, отпущен с отрицательной характеристикой: «плохой человек», «тяжёлый человек». Эта характеристика сохранилась за мной по сей день. (М. Шатров, любимец истеблишмента застойных времён – «хороший человек», М. Швейцер – «хороший человек». М. Шатров и М. Швейцер – два «хороших человека».)
Эта характеристика либерально-прогрессивного истеблишмента, наряду с цензурой, а, может, ещё более цензуры, способствовала семнадцатилетней могильной неподвижности моей прозы и пьес, также и сценариев, если только за сценариями не стояли влиятельные кинорежиссёры.
В конце концов, мне пришлось уехать. Но уезжал я не так, как любимцы либерального истеблишмента, без шума по зарубежному радио, без положительных характеристик для западного славистского истеблишмента. В советском паспорте, за которым я обратился, получив неожиданно для себя стипендию в Берлине, в немецком учреждении, не имеющем отношения к славизму, мне отказали (теперь понимаю: слава Богу! Но тогда опечалился). «Кто вы такой! – сказал мне партчиновник. – У вас нет оснований!»
Зарубежные паспорта тогда получали диссиденты с особыми заслугами или известные, но набедокурившие деятели культуры. Ни то, ни другое ко мне не относилось, поскольку я был неизвестен (меня не критиковали, а замалчивали). Я уверен: власть имевшие обратились к теневой власти, либеральствующему истеблишменту, но в моём случае – к нижним чинам, и получили вышеприведённые характеристики. Я знаю отзыв о моей повести «Зима 53-го года» ответственного секретаря «Нового мира» Закса (эмигрировав, Закс занялся разоблачением советской цензуры): «Труд свободных людей показан хуже, чем в концлагере». Подобным отзывом Закс предостерегал Александра Трифоновича (Твардовского) от публикаций Горенштейна.
Тот же отзыв, слово в слово, я услышал от чиновника, когда обратился за паспортом. Таким образом, мне пришлось ехать рядовым эмигрантом-евреем, а по тем временам ОВИРовского путеводителя это означало – через Вену. Поэтому в нынешнем моём мемуарном памфлете Австрия возникла не случайно. «Последнее лето на Волге» должно было бы иметь художественное продолжение «Первая осень на Дунае», согласно всё тому же ОВИРовскому путеводителю. Может быть, я когда-нибудь такую повесть напишу, если найду время, и Бог даст мне лишние силы. В данном же случае буду держаться только моей темы.
Если бы я, подобно висельнику Вайнингеру, первую часть своей работы писал как докторскую диссертацию, а вторую как памфлет – у меня оба жанра смешанные – то называлась бы она, первая часть – докторская диссертация: «Евреи-ренегаты на службе у международного антисемитизма (антисионизма)» с подзаголовком: «Типы, варианты и направления». Потому что у антисемитизма-антисионизма тоже есть свои направления. Реакционные и либеральные ответвления, церковные и атеистические, просоветские и антисоветские, политические и культурные и, Бог весть, какие ещё причудливые, порою, сами даже не подозревающие свою суть, то есть подсознательное, фрейдистское. И Австрия (Вена) для подобных докторско-памфлетных исследований – место весьма подходящее, потому что австрийская немецкость сочетается с балканским сознанием и даже балканским образом бытия, которое по сей день живо.
А что такое Балканы? Это тесная коммунальная черта оседлости разных, оттесняющих друг друга народов или групп населения. Сам по себе Балканский полуостров – место роскошное. Кто провёл там, на Балканах, первое лето, обязательно захотел бы приехать туда вновь, в омываемую тёплыми морями, покрытую лиственными и хвойными лесами, оливковыми деревьями, высокими, как дубы деревьями с грецкими орехами, каштанами или платанами, пиниями и вековыми дубами, буками. Среди лесов зелёной долины, поросшей цветами и апельсиново-лимонными рощами реки, спокойные озёра… Кажется, Господь задумал это место для одного большого счастливого народа, однако стало это место «коммуналкой» для многих народов и народцев. А тут ещё ислам, турецкая оккупация и австро-католическая, ещё более расколовшая население. Натравили брата на брата, и даже появились наряду с этническими группами религиозные, выступающие в роли этнической, – мусульмане, теперь, к тому же, и уже своё не по этническому, а по религиозному принципу созданное государство имеющие. Это всё равно, если бы где-нибудь появилось лютеранское государство, католическое государство, буддистское государство и т. д.
Создатели этой политико-географической причуды, западные демократы, видно, сами понимая нелепость своих деяний, стараются при этом присоединить, прикрыть государство, созданное по религиозному принципу, федерацией с хорватами, вопреки воле хорватов, почти что насильственно. Умнее ли становятся от того? Про порядочность уже не говорю. Представляете! Немецко-буддистскую федерацию, португало-исламскую федерацию и т.д.? Придумывают новую нацию – «босняки» – всё равно, что «шлезвиг-гольштейнцы».
Может быть, это прямо и не касается моей докторско-памфлетной работы, однако показывает особое нездоровье балканской жизни. Но ведь Балканы в их юго-славянской части долгое время входили в состав Австрийской империи. Применю и тут мой любимый прием, тот самый магический кристалл литературных ассоциаций в рамках очень средней школы и факультатива. Именно: хотел бы сравнить Балканы с Вороньей слободкой из цитируемого мной факультатива Ильфа и Петрова. Ведь большая коммунальная квартира №3 тоже когда-то задумывалась как обычная – одной, вольготно в ней располагающейся, счастливой семьи. Коммунальной её теснотой, клопово-тараканьей неопрятностью со склоками, с солью в чужие кастрюли, керосином и пожарами, она стала характеризоваться позднее. «Продолжительная совместная жизнь закалила этих людей, и они не знали страха. Квартирное равновесие поддерживалось блоками между отдельными жильцами. Иногда обитатели Вороньей слободки объединялись все вместе против какого-либо одного квартиранта (сербов – Ф.Г.), и плохо приходилось такому квартиранту. Центростремительная сила (НАТО – Ф.Г.) подхватывала его и втаскивала в камеры товарищеских и народных судов» (международных трибуналов в Гааге – Ф.Г.).
Напомню Л. Клейна (кто такой Л. Клейн?) из «Независимой газеты». «Герой не просто прощается с Волгой и Россией, по ходу дела пытается разгадать загадку русской души и русской истории. И символ лишь помогает ему найти ответ на вечный русский вопрос. Но, странное дело, образ России, выстроенный из многочисленных символов оказывается чрезвычайно прост и схематичен». Это высказывание Л. Клейна напоминает Валаамову ослицу. Желая проклясть – восхвалила. Расхожие схемы правят миром. Литературные ассоциации очень средней школы с факультативом это подтверждают. Все глубины – художественные и философские – относятся не к миру, не к истории, а только к индивидуальному человеческому сердцу и душе (если таковые существуют, ибо тут имеется в виду не насос кровообращения и не мармеладная церковная субстанция).
Когда Л. Клейн (кто такой Л. Клейн?) под титулом «Последнее лето на Волге». Фридрих Горенштейн. Скромный взгляд со стороны» скромно приступает к рассмотрению всего моего творчества и даже биографии (об этом ниже), он бросает моим героям (мне) упрёк в одиночестве. Можно упрекать человека за воровство, провокаторство или глупость, но можно ли – за одиночество? По Л. Клейну – можно. «Читая «Зиму 53-го года», «Место» и «Искупление», замечаешь: их главные герои – абсолютно одинокие люди. Это, однако, не трагическое одиночество, а, скорее, полная изоляция от внешнего мира, от социума…»
Не был трагически одинок Ким (Зима 53-го года»), которого учреждение провокатора Хмельницкого и общественные «знакомые российского еврея» Клейна изгнали из университета на шахту, не был трагически одинок Гоша Цвибышев из романа «Место», лишённый всего, чего можно лишить, кроме жизни, не был трагически одинок Август из «Искупления», всех близких которого соседи во время немецкой оккупации убили кирпичами по голове и закопали возле туалета. Не был, наконец, трагически одинок и я, если уж коснуться моей личной биографии… Впрочем, касаться не буду, чтобы не метать бисер перед Л. Клейном.
«Основной упор, – пишет Л. Клейн, – делается на тотальную несвободу эпохи, на фантасмагорию сталинского и послесталинского времени. Я бы несколько переставил акценты. Главная проблема наших персонажей (и моя, по Клейну – Ф.Г.) не в совершённых против них проступках, а в том, что они просто не умеют общаться (то есть, «нехорошие люди», «тяжёлые люди» – Ф.Г.). Самое главное – уровень коммуникативного общения с окружающими людьми. Ведь кроме тирана и фантасмагории сталинского и послесталинского времени существовали обыкновенные человеческие отношения, которые системе вытеснить не удалось. Несмотря на обстановку тотальной несвободы, такие чувства, как любовь и дружба, продолжали волновать людей», – пишет Л. Клейн.
Истинно продолжали волновать их. И кто читал мои книги «по любви», а не по расчёту, как Л. Клейн (о расчётливом чтении скажу ниже), тот убедился, что меня как автора эти чувства, волновали и волнуют. Особенно потому, что они, эти чувства, загонялись в подполье, существовали на периферии и делали человека в тираническом обществе чужеродным. Л. Клейн, судя по всему, общественник, имеющий много «знакомых», возмущённо цитирует из моей повести: «Нет, не годен я для жизни в этой стране, ведь жить в современной России – это профессия. Я всегда жил в этой стране непрофессионально».
Профессиональные жители тоталитарной системы – это обитатели Вороньей слободки, ибо вопреки сладенькому утверждению общественника Л. Клейна о том, что обыкновенные человеческие отношения системе вытеснить не удалось, несмотря на обстановку тотальной несвободы, обыкновенные человеческие отношения становились первыми жертвами тоталитаризма, сталинского ли, гитлеровского ли, да и любого другого. И восстановить эти отношения тяжелее, чем восстановить экономику. А видно, как тяжело восстановить экономику (экономика Германии и Австрии давно восстановлена после военной разрухи, а о человеческих отношениях этого не скажешь, тут ещё трудностей немало).
Однако дело не только в крайних палаческих формах тирании – обычная имперская перенаселённость, российская тюрьма народов и австрийская, лоскутная, ухудшали нравы, при том, что эти империи Романовых и Габсбургов имели не одни только негативные качества. То, чем для России была нижняя Волга, впадающая в Азию и Кавказ, для Австрии были Балканы, Далмация, Словения, Хорватия, Сербия с их постоянным политическим сутяжничеством, национальным разбоем, взаимной ненавистью, пожарами, имеющими свойство распространяться широко.
Внешние красоты при внутренней грязи. Такова схема, таков символ. Если по путеводителю ОВИРа продолжить маршрут от написанной повести «Последнее лето на Волге» к ненаписанной повести «Первая осень на Дунае», то не могу не вспомнить отель, кажется, на Taborstrasse, улице, в названии которой балканский след турецкого нашествия. В этом отеле мне, выехавшему без хороших рекомендаций, пришлось провести свою первую ночь на Западе. Вход в отель был отделан чёрным мрамором с прожилками, а в номере – клопы. Не знаю, может быть, мне просто не повезло, однако продолжаю настаивать на устойчивой балканской примеси к немецкому сознанию австрийцев не только в бытии, но и в мифах. Ведь в пределах империи Габсбургов на границе Румынии и Сербии, в красивой до жути зелёной и влажной местности – родина вурдалаков, вервольфов, мертвецов-кровопийц, так поэтически описанных Пушкиным в «Песнях западных славян». А в верхней Австрии – гористой местности, орошаемой Дунаем, богатой озёрами, поросшей богемским лесом, в городе Браунау близ Линца – родина Гитлера. (О Сталине говорили: «горный орёл», но «горным орлом», оказывается, был и Гитлер.)
Население Австрии составляет 8 процентов от населения Германии, а в «SS» австрийцев было 50 процентов. То же соотношение – среди комендантов и охраны концлагерей. Но при том австрийцы ухитрились выдать себя не за палачей, а за жертв. Государство – да, но не население. И как тут не вспомнить тему диссертации – «Евреи-ренегаты на службе у международного антисемитизма-антисионизма».
 |
Каддафи и Крайский |
Писатель Крайский (тоже – писатель) способствовал «прикрытию» австрийской эсэсовщины, будучи австрийским канцлером, притом, однако, оставаясь любимцем австрийского либеральствующего истеблишмента. «В Австрии правительство лучше народа», – высказался, дискутируя со мной о Крайском, один австрийский еврей-интеллектуал. Если это даже и так, то не велика похвала. А, может быть, Крайский просто из сердобольных, «из милосердствующих и всепрощающих»? Да, если речь идёт об эсэсовских вервольфах.
Ни одного антинацистского судебного процесса не было проведено в Австрии. В Германии всё-таки были, не буду говорить об их качестве, но были. Такая сердечность Крайского, однако, кончалась, как только речь шла об Израиле, о Бегине, о сионизме. Тут уж высказывался… Иной исламский фундаменталист постеснялся бы. Гуманность создания перевалочного пункта в Австрии для выезжающих в Израиль евреев была придумана не им, Крайским, а выбрана КГБ по своим соображениям, так же, как перевалочный пункт шпионажа и арабского терроризма. А к КГБ Крайский проявлял, если не сердечность, то покладистость. Три месяца прожил я в Вене, красивом барочном городе на Дунае, пока в конце декабря, как раз под рождество 1981 года, не наступила моя первая зима на Шпрее.
Теперь уж скоро семнадцатая зима в Берлине. Доволен ли я тем, что уехал? Ведь и здесь, приехав без «сказки», без хорошей характеристики истеблишмента (слава Богу!), не поддержанный радиопропагандистами и университетскими славистами (слава Богу!), я испытал немало трудностей. Не роскошествую и ныне, хоть престиж мой в Германии высок, что не мешает мне время от времени писать о немецких делах критические статьи, одна из которых (в «Континенте») вызвала столь бурный протест провокатора-профессионала Хмельницкого, ставшего ещё тут в Германии ко всему и германофилом.
Замечательный публицист Илья Эренбург, на мой взгляд, просто великий публицист, не уступающий по таланту Карлу Радеку (но по цинизму, к сожалению, иной раз, тоже), замечательный публицист Илья Эренбург (писатель – послабее) был известен как франкофил, парижефил, а, с другой стороны, как германофоб (так его сам Геббельс характеризовал: «кремлёвский жид, германофоб»).
«Дорогой друг, я всё ещё в Берлине, – пишет Эренбург в своей книге двадцатых годов «Виза времени». – Ты удивишься. Как можно, когда существуют аспид и мимозы парижских бульваров…»
«Щебечут воробьи, светит солнце, и под лёгким ветерком колышутся ветви большого клёна у моего окна… Это Берлин…», – так у меня в повести «Последнее лето на Волге», которая оканчивается описанием одного из жарких душных берлинских вечеров. «Я иду в равнодушно-вежливой толпе, мимо до жути ярких витрин, мимо сидящей за столиками избалованно-привычной публики… Сытость и покой даже в ухоженных уличных деревьях…»
Берлин двадцатых годов был голоден и беспокоен. «Я не знаю, почему все эти люди живут в Берлине, – пишет Эренбург, – валюта или виза, эмигранты или экономные туристы? Во всяком случае, все они Берлином недовольны и не пропускают возможности его поругать. Я совсем не хочу оригинальничать, я боюсь, ты не поверишь мне, это звучит явно парадоксально: я полюбил Берлин».
«Набоковский Берлин давно минул, но какая-то устойчивость, какая-то неистребимость духа чувствуется во всём, может быть, потому, что здесь дух заменяет душу. Точнее, здесь господствует то самое скрытое единство живой души и тупого вещества, о котором говорили символисты».
Был случай, пожалуй, насколько помню, только один, когда этот пассаж из «Последнего лета на Волге» вызвал протест «национального достоинства немецкого человека». Может быть, мне просто повезло – в целом, попадалась публика, подобная тому французу, кажется, французу, который высказался: «Люблю родину, но предпочитаю коньяк». Для меня это звучит так: родину не следует любить публично, как любят горячие патриоты, особенно из новообращённых или интернационалистов. Это – интимное чувство, скорей, подсознательное, чем сознательное. Случается, даже парадоксальное. Поэтому я вам не скажу про всю Россию, вся Россия очень велика, как поётся в одной песне об Одессе, если её несколько перефразировать, заменив Одессу Россией, но Москву я люблю. Люблю Москву, но предпочитаю Берлин.
Причина моего предпочтения Берлина проста и схематична: при всех проблемах и трудностях мне здесь лучше. С тех пор, как в 1935-м году «учреждение» конфисковало киевский родительский дом, новую квартиру я получил в Берлине, то есть 46 лет спустя. Вот почему сознательно и меркантильно я предпочитаю Берлин. Предпочитал, а теперь, после стольких лет жизни, также и полюбил. Но полюбил иной, чем Москву, любовью. Не любовью бродяги-идеалиста, любующегося воробьями на Тверском бульваре, а любовью обывателя и собственника. Собственность моя, правда, невелика, но, всё-таки, имею десять пар хорошей обуви и четыре английских пиджака.
В Москве же угла своего не имел и уезжал на Запад характерно, как бы подытоживая мою жизнь, мою безместную жизнь, из чужой квартиры. В то время, как культурный истеблишмент, также и гонимый (гонимый, может быть, в особенности), имел и имеет хорошие большие квартиры в престижных местах Москвы и дачи в писательских деревнях. Иные, особенно шумно гонимые, имеют даже роскошные виллы в Америке и в России. У меня к ним зависти нет. Каждому своё. И смерть всех уравняет. По крайней мере, в смысле земного имущества. Я только хочу указать, почему люблю Москву, но «странною любовью», а Берлин люблю любовью обычной, здоровой и обывательской. «Впрочем, трагедия и очарование Берлина отнюдь не в бедности, не в лишениях, – пишет Эренбург о Берлине двадцатых годов, – особенность здешней жизни – прирождённая страсть к точным расписаниям и в полном отсутствии их».
Трагедия и очарование нынешнего Берлина отнюдь не в богатстве (относительном) и переизбытке, иной раз ведущих к потере аппетита. Поезда теперь движутся по точному расписанию (чаще всего). Но особенность нынешней немецкой жизни – в отделении идеи от телесности, то есть от быта. Это, пожалуй, важный урок, вынесенный немцами из своего (смутного) времени. Это также имеет и свою трагическую сторону. Некоторые из идей смутного времени перекочевали в телесное подполье, в идейное подсознание и требуют не обычного врачевания демократическими законами, а долгой психопатической терапии внесудебными средствами, то есть проблема находится в тупике. Но как бы то ни было, проблема не давит постоянно на бытовую повседневность. «Мелкие ли, сложные ли, они всё-таки отделены от тела, а наши проблемы (то есть российские) вросли нам в тело, наши проблемы вросли нам в мясо, и отодрать их можно только с мясом. Каждая российская проблема оставляет после себя на теле незаживающую кровоточащую рану, и, кто его знает, заживут ли эти раны когда-нибудь, не истечёт ли Россия кровью до смерти, полностью избавившись от своих нынешних проблем? Нет, не сможет она так по-немецки, почти бескровно снять диктатуру и надеть демократию…»
Такой тревожной мыслью оканчивается моя повесть «Последнее лето на Волге». Таков её последний аккорд, но С. Тарощина, взявшись в «Литературной газете» анализировать мою повесть вместе с её соавтором из «Независимой газеты» Л. Клейном, придумывает другой конец: «И вот последний аккорд последнего лета: прощай, нищая Россиюшка, безгрешная убийца. Занавес».
Так оканчивает дамочка, уворовав из середины текста обрубок фразы – шутовским выкриком из переделкинского дачного спектакля. При этом соавторы прогрессивных газеток упускают финальную берлинскую сцену. Им она не нужна для целей обличения повести в антирусскости а также, чтобы взять под защиту от меня славянскую душу. Ну, хорошо, соавторы Тарощина и Клейн недоброжелательны (ниже я укажу ещё одну причину недоброжелательности, особенно Л. Клейна) – им и положено по-шулерски обрабатывать текст. Но вот критик Б. Кузьминский в газете «Сегодня» касается в обзоре, который называется: «Запах флоксов и ромашковый луг» с подзаголовком «Петрушевская, а также Горенштейн, Набоков, Нейман и другие», касается моей другой повести – «Куча», которая, кстати, не извлечена из авторского стола, как пишет Кузьминский, а задолго до «Октября» была опубликована в «Континенте» у Максимова в том же 1982 году, когда была написана, потому что В. Максимов сразу ставил мои вещи в номер, за исключением повести «Шампанское с желчью», на которой мы с ним, к сожалению, разошлись по идейным соображениям.
Помню, Владимир Емельянович по телефону сказал мне: «Ты тоже включился». То есть я тоже включился в русофобию. Это огорчительно, потому что всё-таки В. Максимов – не Тарощина, не Клейн. Приходится отнести таковые обвинения с разных сторон на счёт смутного времени. Илья Эренбург по этому поводу пишет: «Даже такая солидная монументальная вещь, как патриотизм, который раньше был гранитом памятников Бисмарку и медью крупповских игрушек, становится неясной манящей формой. Может быть, эти люди, отрицающие рьяно родину, и являются подлинными патриотами». По Эренбургу речь идёт о людях двадцатых годов, которые живут «на восточной и на северной окраине Берлина и считают себя интернационалистами».
Я себя интернационалистом (космополитом) не считаю, а родину рьяно не отрицаю. Но вот и за меньшее попал под подозрение. «Куча» – это Россия, «фараонова страна», оскорбительные плевки мокрого снега, заплёванный циферблат часов на сырой платформе, всё умерло и, казалось, наступил тот, предсказанный Библией, Апокалипсис. Так пишет тыквенной кашей, хоть масла подлил бы. Нет, льёт солидол. Действие происходит близ села Нижние Котлецы (почти подлецы). Внезапный кикс: «У меня правый глаз голубой, а московский завод протезирования прислал мне левый глаз чёрный». А тут, что ли, Владимир Сорокин отметился?!»
А у вас, Б. Кузьминский, что ли, соавторы Тарощина с Клейном отметились? Впрочем, личного недоброжелательства я не усматриваю. Скорее, общий метод, потому что Б. Кузьминский точно также цитирует Набокова. Некий критик Новиков – иное дело.
Помню, в той же «Независимой газете» коллега Клейна, правда, с другого конца (со стороны «знакомых») – тот, конечно, за отечество в обиде – обижается напрямую, без подтекстов. Цвибышева, героя моего романа «Место», называет «иудышем», а происхождение его и вовсе выводит из Иуды – из Смердякова. Что общего между Иудой и Смердяковым? Разные общественные типы. Я нахожу гораздо больше общего между критиком Новиковым и критиком Стариковым. Был в кочетовском «Октябре» такой консервативный критик Стариков. А Новиков, судя по месту прописки к органу – полулиберал и «полушутник», согласно моде. Но в целом – болезнь общая, модная, бредят одинаково Стариковы и Новиковы. Уж только ли они? Берёшь нынешние, пожелтевшие в пространстве газеты, просматриваешь и думаешь: не эпидемия ли?
Я не хочу быть чрезмерно привередливым. Я понимаю, журнализм – профессия заказная. Литератор может писать в стол, талантливо или нет – другой вопрос. Но журналист в стол писать не может. Верная жена может, ради любимого, в его отсутствие беречь свою честь. Проститутка, берегущая свою честь, не только комична, но и непрофессиональна. И всё-таки даже представительницы самой древней профессии в пределах заказа, если они истинно профессиональны, обнаруживают индивидуальность, изобретательность, эстетичность и даже этичность. Конечно, счастье, если заказ совпадает с велением сердца. Случается и в публичных домах любовь.
Помимо фронтовых статей Ильи Эренбурга и революционных статей Карла Радека, писавшихся от души и сердца, были и статьи цинично служебные, написанные ими от желудка, на заказ тирана. Отвратительные, лживые статьи. Однако высокий профессионализм, высокий журналистский талант иной раз творили чудеса, противореча клеветнической идее красотой и образностью журналистского исполнения, – для тех, конечно, кто умеет читать не только буквенные строки, но и запятые, и вопросы, и восклицания и, вообще, всё то незримое, чем наполнены, помимо чернил, блестящие журналистские перья.
Наше время массовой культуры привело к неизбежному падению индивидуализма, того самого одиночества, которое обличает «коллективный человек». Такое явление наблюдается в литературе, в кино и ещё в большей степени такое наблюдается в журнализме, потому что газеты с их, как правило, большими тиражами, влекут журналистов к массовости, доступным средствам, к пошлости домашних суждений, и журналистскому таланту, знающему, что он не на века, а однодневка, приходится всё это с трудом преодолевать. Отсюда и поиски сенсаций-самородков, заменяющих талантливую образность. Мне кажется, талантливых журналистов всегда было меньше, чем талантливых писателей. М. Горький писал в прошлую «перестройку», что из продажи исчезла хорошая книга, но зато развелось множество странных и не совсем приличных газет. Да что говорить о странности содержания, если сами заголовки иных российских московских газет кажутся мне спекулятивными, модничающими.
Я человек наивный, невзирая на мою репутацию недоброго скептика. Потому так и не могу понять в нынешнее время всеобщей реставрации (штопки), вплоть до занесённого прежде в Красную, точнее в «белую» книгу, двуглавого орла, не могу понять газет с капээсэсовскими заголовками: «Комсомольская правда», «Московский комсомолец. «Советская Россия» хоть сохраняет какую-то линию с небольшими поправками на гласность. В «Комсомольской правде» и вереница орденов сохранена, возглавляемая ленинским орденом. Правда, ордена крайне уменьшены и помещены под заголовком. Если это «полушутка», то, по крайней мере, меня она не рассмешила. Представляю, как в Германии продолжает выходить «Фолькишер Беобахтер», но теперь в газетке обличается нацизм, или «Штюрмер», но теперь эта газета – юдофильская, или «Унтерменш», но теперь, вместо фотографий дебильных монголоидных славянских типажей, там помещены фотографии тверских красавиц-ткачих и сибирских красавцев-лесорубов. И новые заголовки нахожу неуместными. «Независимая газета» – что-то в этом заглавии есть хвастливо-широковещательное: «честная газета», «умная газета», так бы ещё назвали! Или просто, поскольку название «Правда» использовано, назвать газету «Истина». Как я уже несколько выше писал, происходит всеобщая реставрация, вплоть до двуглавого орла.
Казачий атаман П.Н. Краснов в своё время написал эпопею – огромный роман в четырёх частях «От двуглавого орла к красному знамени» – переизданную «Всеславянским издательством» в 1969 году при «благосклонном участии и поддержке князя С.С. Белосельского-Белозерского». Странно, что никто до сих пор не додумался написать реставрационный роман «От красного знамени к двуглавому орлу», особенно же из новообращённых, из Александров Иванычей, тех, кто «впереди стоит» и сочиняет побасенки о «ручейке и океане».
Подобных мотивов в романе атамана Краснова, будущего эсэс-казака, пруд-пруди, вплоть до «Протоколов сионских мудрецов». В центре такого реставрационного романа мог бы, в соответствии с велением времени и писательским профилем, стоять не черносотенец с лихой офицерской фамилией Саблин, а какой-нибудь крещёный еврей, в душе которого «сошлись вековые глубины» и т.д. (Можно поменять веру, но профиль семита на профиль казака путём крещения ещё поменять не удавалось. Поэтому в центре должен стоять «крещёный еврей».) Разумеется, поддержка С. Тарощиной в «Литературной газете» – это не поддержка князя С.С. Белосельского-Белозерского во «Всеславянском издательстве», но, авось, заголовок вывезет – «От красного знамени к двуглавому орлу».
Ведь реставрация – это не что иное, как историческая ностальгия, чувство изящно лиричное. Так почему бы и ныне в газетном деле к такому чувству не обратиться, не восстановить иные названия газет времени двуглавого орла? Например, выходила в Петербурге газета «Северная пчела». Поэтический заголовок, но не восстановишь: нынче пчеле садиться не на что, пыльцу разносить и нектар собирать для мёда. Разве что назвать «Северная муха» или «Московская муха». Мухе есть на что садиться. Однако ныне такие «цветочки» растут, что и муха околеет. Лучше уж назвать газету «Московская ворона».
Ворон в Москве множество, особенно в Кремле. Люблю я ворон. Умная, живая и подвижная птица. Очень осторожная и недоверчивая, но иногда смелая и дерзкая. Говорят, до шести считать умеет. Хоть находится в стае, коллективисткой её не назовёшь. Одинокая птица, талантливая. Однако, если доверится кому-нибудь из людей, то привязывается всем своим вороньим сердечком, легко выучивает человеческие слова и целые фразы лучше попугая. Иногда это оказывается трагедией. Подержит такой «любитель природы» ворону в доме и случается, особенно под влиянием ревнивой жены, изгоняет её: неприятная домашняя птица, нечистоплотная и клеваться любит… (Вороны и среди людей сохраняют своё достоинство, не дают себя обижать.) Такая, доверившаяся, изменившая своим привычкам, ворона на воле погибает. Однако большинство ворон мудры и вещи. Дедушка Крылов в басне своей ворону оклеветал. Она умнее лисицы. Ворона карканьем не накликает беду, а предвидит беды и предупреждает о них.
Не кажется ли вам, уважаемый читатель (я обращаюсь к тому читателю, который читает мои книги по любви, а не по расчёту, как Л. Клейн), не кажется ли вам, что некоторые мои герои напоминают ворону? Я сам давно уже это заметил.
Сейчас вспомнил: в своём романе «Попутчики», оконченном в 1985 году, о воронах писал теми же словами, как и ныне, спустя одиннадцать лет: «Я, кстати, ворон люблю, умная птица, самая к человеку недоверчивая, хоть и рядом с человеком живёт». Однако есть среди моих героев и «доверчивые вороны», такие, как Ким из «Зимы 53-го года» или, при всей своей недоверчивости, Гоша Цвибышев из романа «Место».
Коллективистский человек, российский еврей, «знакомый» оскорблённого моей повестью «Последнее лето на Волге» русского человека, Л. Клейн пишет в «Независимой газете», перейдя от повести к разбору всего моего творчества: «Разве не значим тот факт, что у Цвибышева нет друзей, что у него почти никогда не хватает ни такта, ни обаяния, чтоб привлечь людей на свою сторону, что он постоянно ставит в неловкое положение то себя, то других, что он, в конце концов, просто не умеет общаться?» Да, Цвибышев не идеальный герой, но почему бы Л. Клейну (кто такой Л. Клейн?) не упрекнуть, уж не говорю – Гоголя, за его героев «Мёртвых душ» или «Ревизора», Лермонтова за Печорина или Пушкина за Онегина? Кстати, Лермонтов и Пушкин к этим своим неидеальным героям их времени испытывали явную теплоту и симпатию.
Очевидно, Л. Клейн, подавшийся в литературные критики с лёгкой руки редактора господина Третьякова и получивший от него в «Независимой газете» значительное пространство, путает художественную литературу с проповедью на амвоне. «Примерно то же самое можем мы сказать и о Киме. Ощущение неловкости не покидает нас (очевидно, российского еврея Л. Клейна и его «знакомых» – Ф.Г.), когда мы читаем о его неуклюжем «любовном похождении» (такие сцены требуют от читателя целомудрия, а не ЖЭКовского понимания любовных происшествий – Ф.Г.) или, когда он просто приходит к своему знакомому покровителю (тут Клейн, перечитывавший мои книги, явно путает Кима с Гошей Цвибышевым – Ф.Г.) и, конечно же, Сашенька из «Искупления», у которой этическое сознание, по верному замечанию А. Зверева, просто отсутствует. Наверное, не во всех случаях мы (Л. Клейн со «знакомыми» – Ф.Г.) можем инкриминировать героям недостаток душевной отзывчивости и теплоты, но не потому ли в первую очередь чувствуют они себя отверженными и чужими в этом мире? Чужими ощущают себя и герои «Последнего лета на Волге» – это тот же Цвибышев, но умудрённый годами, осознавший бесполезность борьбы с системой и т.д.»
Я не стану возражать Л. Клейну, писать о качествах тех или иных людей, с которыми Ким или Гоша общаются, или о качестве мира, в котором они чувствуют себя совершенно отверженными и чужими. Разумеется, мир многогранен, но писатель, даже если он Л. Толстой или И. Бунин, всегда даёт неполную, одностороннюю картину мира. В этом суть подлинного художественного творчества. И этим профессиональный литератор отличается от любителя-графомана, признанного – многотомного и непризнанного – столоначальника своих рукописей в ящике.
В наше время всеобщей грамотности, литературной массовости разница между подлинным творчеством и графоманией бывает так крайне незначительна, что о старом добром графомане, «чистом, как слеза младенца», вспоминаешь с ностальгической теплотой. Какая-нибудь мелочь иногда отличает «всё» от «ничего», как во французском языке «La personne» с артиклем – «личность» отличается от просто «personne» – «ничто».
Всё это – тема для серьёзных исследований, серьёзной дискуссии, а дискутировать, спорить с Клейном или с Тарощиной не больше повода, чем с Хмельницким. Но Тарощина хоть делает вывод о моём восприятии мира и славянской души «на уровне очень средней школы» по одной повести. Хмельницкий сосредоточивается на моих чуждых пролетарскому интернационализму статьях, явно книгами моими не интересуясь. Видно, книгами занимался другой отдел. А Л. Клейн всё читал. Почему же он читает, если не любит мои книги? Читал бы Светова по рекомендации Тарощиной. Я лично такое большое количество нелюбимых книг читать не мог бы. И одну «нелюбимую» прочесть трудно. Какая-то болезненность чувствуется в чтении Л. Клейном моих книг и в отношении к ним.
Графомания определяется как болезненная страсть к сочинительству. Кто такой Л. Клейн, я не знаю (и не хочу знать), но одно о нём мне известно: Л. Клейн сам пописывает, потому что за текстом Л. Клейна в «Независимой газете» слышится учащённое дыхание графомана. Не старого, доброго, открытого, чистого, «как слеза младенца», а такого, которому не хватает всего-навсего французского артикля «La». Впрочем, можно заметить, что Л. Клейн стремится не столько к приобретению французского артикля, сколько к некоему русскому прилагательному.
Л. Клейн с благоговением приводит длинную цитату некоего В.Н. Топорова из его статьи.
«Спор или дружба» памяти отца Александра Меня. Речь, очевидно, идёт о споре или дружбе между русскими и евреями. Л. Клейн, конечно же, «за дружбу», тем более, при таких «знакомствах». Л. Клейн по поводу высказываний Топорова, апологета священника Меня, заходится в таком восторге, что хоть водой отливай. Мне же трудно определить, чего больше в этой топоровской цитате – ординарного невежества или неординарной наглости? Однако прежде, чем перейти к пастве, хочу немного поговорить о священнике Мене.
Я не буду углубляться в суть, в глубину. Я не крещёный, не православный, хоть и не ортодоксальный иудей. Я рассматриваю Библию, включая Евангелие и всё прочее к нему относящееся, как тексты художественные, как явление культуры еврейского народа, как высокий вклад еврейского народа в мировую культуру. А культура связана с психологией. Без понимания еврейской национальной психологии Библию, включая Евангелие, понять нельзя. Это издавна, ещё со времён Ивана Грозного и даже ранее, понимали многие серьёзные православные учёные. Даже те, которые в человеческом плане антисемитствовали. Такие, как создатель «Четьи минеи» Митрополит Макарий или православный учёный Максим Грек, работы которых мне пришлось изучать в целях моих художественных надобностей достаточно тщательно. Так что некий ортодокс иудаизма даже высказался с неодобрением о моём чрезмерном увлечении православием.
Я увлекаюсь тем, что необходимо для создания художественного образа, и, если описываю православных, должен на это время становиться православным, а, если описываю антисемитов, должен на это время становиться антисемитом. Это то, что составляет основу художественности, то, чем художественность отличается от публицистики, и, что именуется перевоплощением.
Так описывал я и переживание героя в своей повести «Последнее лето на Волге» (я уезжал совершенно по-иному, и чувства мои в тот момент были иные). Хоть, конечно же, обойтись без публицистики, без авторского текста, без совпадений тех или иных взглядов автора со взглядами героев невозможно и не нужно. И классики вводили в свои художественные тексты публицистику. Также и в публицистических, в частности религиозных, проповедях. В проповеднических текстах нельзя обойтись без художественности, если они талантливые. Надо лишь и в первом, и в другом случае соблюдать пропорцию, помня задачи и цели своего творчества.
Я не знаток текстов священника Меня, специально их не изучал. Но те, что попали мне в руки (на проповеди я, естественно, не ходил), указывают на нарушение отцом Менем этих пропорций. Слишком много художественности, отчего назвать его православным учёным нельзя, скорее – православным популяризатором, миссионером православия среди евреев, главным образом, среди интеллектуальных или околоинтеллектуальных кругов. Особенно же среди дам обоего пола – среди тех околоинтеллектуальных, воспринимающих антисемитскую атмосферу, народную и государственную, болезненно, «по-честному», «самокритично», видящих главную причину такого национального удушья не в душащих, а в жертвах, то есть в дурных качествах самих евреев и особенно же иудаизма.
Либеральные миссионерские направления православия были для таких евреев, связанных с несчастным 5-м пунктом, спасительной соломинкой. Оттого так велика была популярность среди Александров Иванычей и Марь Ивановных священника Меня, который и сам «спасся в христианстве». Я помню, в самые суперзастойные годы даже некую поэму, посвящённую священнику Меню, распространяемую машинописью почему-то под фальшивым авторством поэта Бориса Слуцкого, может быть, потому, что Слуцкий имел хорошую, честную репутацию, в то время как подлинный автор (позже мне сказали, что автор – Агранович, писавший за Брежнева «Малую землю») имел репутацию рептильную.
Но и рептильных евреев мучила антисемитская духота. Те, кто из-за партийной карьеры не мог ухватиться за соломинку крещения, писали поэмы. Из поэмы этой, которая, кажется, называлась «Еврей – священник», помню очень немногое, однако и того достаточно. Речь идёт о некоем еврее, желающем изменить национальность, и душевному порыву которого мешала партийная советская номенклатура, однако которого поощряла в том духовность.
По-моему, министр был прав: учреждение, в котором всякий человек получает свою национальность, приятную или неприятную, – это не министерство и не митрополия, а роддом. Родителей, уважаемые дамочки и господа милостивые, надо было иных выбирать. Оканчивается поэма, кажется, так:
Российский еврей Клейн или его «знакомый» В. Топоров, наверное, знают эту поэму наизусть. Но, помимо прочего, наивность утверждения о том, что проповедь с амвона способствует падению преступности, подтверждает трагическая судьба самого проповедника. И окровавленный топор убийцы, может, тоже помнящего наизусть или почти наизусть «Преступление и наказание». Впрочем, как известно, наказания не было. Власти каждый раз для отвода глаз подсовывали то бродягу, который «признался», то ещё какого-нибудь дебила.
А мне почему-то представляется убийца интеллектуалом. Подсознательно это чувствую. Интеллектуалом, болеющим за народ. Слышал такой разговор: «Сейчас в православных церквях их (евреев) столько, что русскому человеку не протолкнуться». А на проповеди священника Меня в скромную сельскую церковь съезжалось столько же публики, как на премьеру Шатрова «Большевики» в «Современнике» и совершенно по Грибоедову: «Ба, знакомые всё лица!».

Думаю, Л. Клейн там бывал. И Светов, и Тарощина, и многие из тех, кто мои книги отвергает. По-моему, это и справедливо, потому что апологетам проповеднических художеств священника Меня должны быть чужды мои художества. По крайней мере, в идейном их плане. Апологеты же, в основном, воспринимают художественное через идею. Не наоборот, как читающий по любви. Всегда есть исключения, но правило таково.
В своих талантливых популяризаторских книгах священник Мень понимает необходимость библейского иудейского подхода к христианским идеалам, понимает даже важность учёта еврейской психологии в исследовании христианских текстов, притом, однако, очень мягко переставляет акценты, опутывает правду полуправдой и полуправду неправдой.
Повторяю, не буду углубляться в суть. Скажу лишь, что некоторые из высказываний покойного Меня, мягко говоря, причудливы. В одном из последних своих интервью, говоря об антисемитизме Достоевского, священник выразился: «Ну и что? В конце концов, это было его право». У Достоевского не больше права быть антисемитом, чем права быть эпилептиком. Биологическое право часто противоречит праву моральному. Для того и создано моральное право, чтобы обуздывать право биологическое. Но слишком часто силы бывают неравны, и биологическое право берёт верх. Это одна из важных тем моих книг, и в этом – одно из главных противоречий моих с покойным отцом Менем. Я говорю о священнике Мене, а не о его апологетах, таких, как Клейн или Топоров.
С Топоровым у меня не более противоречий, чем с топором. Топору не противоречить надо, а противостоять, даже, если этот топор словесный, «либеральный», замахивающийся на чужой народ исподтишка, под лицемерной маской похвалы. Иная похвала бывает хуже брани. Такую топоровскую похвалу взахлёб цитирует Л. Клейн, российский еврей: «Во многих случаях лучшее в русской культуре нашего времени сделано и делается евреями. Чудо овладения русским языком от всей еврейской массы, язык которой ещё недавно был темой анекдотов, до высочайших образцов художественного слова у Пастернака, Мандельштама или Бродского. Расширение сферы интересов фактически на всё пространство российской культуры, овладение такими специальными, поначалу труднодоступными, типично-русскими областями знаний, как русский язык и литература. Уже давно и о многом можно с ответственностью сказать, что наиболее русское в ряде сфер культуры, есть именно то, что делается или сделано евреями. Черта оседлости для еврея в русской культуре давно отменена в высоком плане, но её контуры вот уж полвека ощутимы в низком, практическом плане, что не может, к сожалению, не отразиться на высшем».
Я не прервал эту «цитату-похвалу» Топорова, чтобы она предстала со всем лицемерным бесстыдством, подкреплённая, к тому же, весьма смутным изложением. Мутно излагает Топоров, подобно чеховскому крестьянину, дающему показания в суде:
«– И тогда потащили его из-под его. – Кого из-под кого?»
Вот именно, кого из-под кого? Что такое черта оседлости для еврея в русском обществе, понятно. Это местность поселения, точнее, местечки, где евреи принудительно были заперты в бедности и бесправии. А всё прочее пространство с его тучными нивами, зелёными лесами, широкими реками, большими городами, вся остальная Божья земля, Божьи виноградники (смотри «Притчу о злых виноградарях», Матфей 21, Лука 20, Марк 12) злобно им запрещены русскими православными властями.
Но что такое «черта оседлости» для еврея в русской культуре? Место поселения еврейской культуры? Еврейской литературы? Похоже на то, хотя опять мутно изложено, то ли по отсутствию у Топорова «чуда овладения русским языком», то ли умышленно затемнено. Язык черты оседлости был идиш. Идиш был также языком Шолом Алейхема, Мендельс Мойхер Стофима, замечательного детского поэта Квитко. Об этом ли языке пишет Топоров, что он ещё совсем недавно был темой анекдотов? Так анекдоты можно рассказывать о любом языке и о любой нации, не только про «кухочку» и «Абхашу», но и про донского казака Ивана Говно. Тоже ведь могут быть, как говорили, полные кальсоны смеха. Совсем ведь ещё недавно животики надрывали в анекдотах про «кухочку», а теперь перестали, что ли? С каких пор? С тех пор, что ли, как произошло «чудо овладения русским языком от всей еврейской массы»? «Язык, который ещё совсем недавно был темой анекдотов, до высочайших образцов художественного слова у Пастернака, Мандельштама или Бродского».
Существует издавна либеральный вид православного миссионерства, обращения евреев в православные. Ярким представителем такого миссионерства был священник Мень, обращавший, правда, в основном интеллигентов с кухонек и с подмосковных дач. В той же среде проповедует и апологет Меня В.Н. Топоров, миссионерски стараясь обратить еврейскую культуру в русскую. Больших усилий ему, правда, затрачивать не приходится, учитывая паству, такую, как Л. Клейн, потому что это как раз и есть их голубая мечта, мечта выкрестов от культуры, если слово «культура» вообще применимо к таким, как Л. Клейн.
Л. Клейн и ему подобные попрошайничают на паперти русской культуры, русской литературы, гнусавят: «Подайте, Христа ради, звание русского писателя». Поскольку грамматические особенности слова «русский» таковы, что оно означает и существительное, и прилагательное, и, поскольку существительное им недоступно, мечтают хотя бы о прилагательном. Русский – это именно то русское прилагательное, которое им гораздо дороже французского артикля «La».
«Во многих случаях лучшее в русской культуре нашего времени сделано и делается евреями. Расширение сферы интересов практически на всё пространство русской культуры. Овладение такими специальными, причем труднодоступными, типично русскими областями знаний, как русский язык и литература. Можно с ответственностью сказать, что наиболее русское в ряде сфер культуры, есть именно то, что делалось и делается евреями». Все эти слова блестят, как медяшки, которые с благоговением принимают на паперти такие попрошайки, как Л. Клейн. Но, как и всякое подаяние, оно имеет и свой строгий назидательный смысл: «Цените руку дающую, цените, что вам позволено делать лучшее в русской культуре. Цените, что вам позволено расширять интересы за пределы черты оседлости. Цените, что вас допустили к русскому языку и литературе и т.д.»
А что такое язык? Это почва, причём духовная почва. Земельные участки не закреплены – каждый может пахать. Важно, кто пашет. Не русский язык обогатил Мандельштама и Пастернака, а Мандельштам и Пастернак обогатили русский язык. Не немецкий язык обогатил Гейне, а Гейне обогатил немецкий язык, да так, что Гитлер вынужден был это богатство ариизировать, как прочее немецкое имущество в Германии. Имя Гейне в гитлеровской Германии было отовсюду выброшено, но многие его стихи, ставшие немецкими народными песнями или вошедшие в школьные немецкие хрестоматии, остались, подписанные: «слова народные» или: «автор неизвестен».
«Черта оседлости для евреев в русской культуре давно отменена в высоком плане, – продолжает мутно витийствовать В.Н. Топоров, – но её контуры вот уже полвека ощутимы в низком, практическом плане, что не может, к сожалению, не отразиться на высшем». Писалось это в 1991 году и, если сказано «полвека», то, следовательно, с 1941 года? Странная дата начала ощущения контуров черты еврейской оседлости в русской культуре: к моменту начала Холокоста. Что вообще означает «ощутимо в низком практическом плане, что не может, к сожалению, не отразиться на высшем»? Опять «Его из-под его? Кого из-под кого?»
За разъяснением обратимся от цитируемого к цитирующему, то есть к Клейну: «Печать черты оседлости лежит на многих героях Фридриха Горенштейна». Ах вот как! То есть на мне. Истинно так. Я согласен. Черта оседлости – на моём творчестве, тем более, что и Марка Шагала упрекали в том же Клейны тех лет: «Для писателя подобный недуг очень опасен и грозит серьезной аберрацией зрения, и тогда, не дай Бог, ослеплённый своей униженностью…» и т.д. (по Клейну я – униженный, а знакомый Л. Клейна – мной, униженным – оскорблённый.) Я, «ослеплённый своей униженностью», из черты оседлости – «в низком практическом плане», а Пастернак, Мандельштам, Бродский и, исходя из контекста Л. Клейна, Клейн (даже не Кляйн, а Клейн со жмеринским акцентом, со жмеринским прононсом) – столичные персоны русской культуры. Они – русские писатели, я – еврейский. Так меня, кстати, называют в некоторых статьях и сборниках.
Есть эмигрантские литературные сборники, в которых писателей делят на гениальных, талантливых, подающих надежды и еврейских. (Свежая краска (типографская). В Магдебурге на афишке интернациональных чтений вместе с болгарином и американцем я назван был еврейским украинцем. Немецкая «святая простота» ответила на мой вопрос о своеобразной интерпретации моей национальности: «Почему же нет? Есть немцы еврейской веры, а вы – украинец еврейской веры. А как надо было?» Я ответил: «Еврейский еврей».)
Бродского всегда называют русским, гениальным, потрясающим, межконтинентальным… «Великий русский писатель Бродский…» Но никогда Бродского не назовут «великий писатель земли русской»! «Великий писатель земли русской» – это Солженицын. Земля русская – это этнос. Такие оттеночки незримо, но блюдутся.
Я слышал, что в газете «Новое русское слово» существовала даже специальная комиссия по этике наименований, возглавляемая самим главным редактором Седых: кого, как упоминать, с каким эпитетом, а кого не упоминать вовсе. Мне говорили, что и в «Литературной газете» существует нечто подобное, во главе с Латыниной А.Н., двоюродной сестрой замечательной гимнастки, замечательно делавшей стойку на бревне. (Об экзотическом своеобразии родственных связей ниже, но о данном родстве имею достаточно надёжные сведения, так что допускаю возможность такового на 79,9 процента.) Двоюродная сестра бывшей чемпионки бывшего Советского Союза – член редколлегии «Литгазеты», влиятельный литературовед, член и председатель всевозможных жюри и специалист по творчеству Александра Исаевича Солженицына, «великого писателя земли русской».
«Этот еврей – настоящий русский писатель» – похвала. «Этот русский писатель – настоящий еврей» – такое пишут в анонимках писателям с известными русскими псевдонимами или ныне, при гласности, публично кричат с «Памятью» и без памяти.
«Ежели так (то есть, ежели буду говорить и писать то, что говорю и пишу), то не пользуйтесь русским языком», – приходилось мне слышать от личностей подобных оскорблённому «знакомому» российского еврея Л. Клейна. Я – униженный – его оскорбил.
А я пользуюсь без права и без разрешения оскорблённых. Не на паперти выпросил – сам взял, никого не спрося. «Какое право при подобных взглядах вы имеете пользоваться русским языком!» Какое право? А какое право вы имеете пользоваться еврейской Библией и еврейским Евангелием? Я не возражаю – пользуйтесь, пользуйтесь.
Дореволюционная черта оседлости, скорбная и тягостная, по крайне мере, не лишала еврея самостоятельного национального развития. В пределах черты оседлости евреи сохраняли свои обычаи, свою национальную кухню, часто бедную, на уровне ржавой селедки и редьки, свои школы, пусть и с чрезмерно религиозным уклоном, и, главное, свой язык – идиш, пусть и бывший темой анекдотов про «кухочку». Даже, так называемые, образованные евреи, в основном, помимо русского, знали свой язык и сохраняли свои корни, иногда помимо собственной воли.
Я нахожу, что и у сверхрусского художника Левитана в его сверхрусских пейзажах есть еврейские корни. Даже евреи-ренегаты, такие, как Брафман или провокатор Левитин-Эфрон, не утратили национальных корней. Профессор Дудаков в своей работе приводит слова Розанова о Левитине-Эфроне, указывавшего на неразрывную связь писателя с иудаизмом, с еврейской средой.
Окончательно бескорневыми евреи стали как раз с отменой черты оседлости, потому что делалось это на основе пролетарского интернационализма, то есть подло и глупо. В 1936 году «сионисты» из советского правительства типа Кагановича все еврейские школы закрыли, хитро спровоцировав «чудо овладения русским языком от всей еврейской массы», очевидно, для того, чтобы разрушить русский язык изнутри, как считают другие – из нелиберального направления русского православия, из среды которых, очень может быть, вышел и ненайденный интеллектуал-топорник, убивший отца Меня.
Хорошо ещё, что не обвинили в убийстве «еврейских фанатиков». Такой сюжет был шаблоном в антисемитской литературе, особенно ренегатов, таких, как Левитин-Эфрон, где изображались преследования отступников (чаще отступниц). То же – у пролетарского интернационалиста Ильи Эренбурга: фанатики-сионисты преследуют еврея, решившего покинуть Палестину, потому что, как пишет Эренбург, его родина не под пальмами, а под берёзами, – что-то в этом роде.
За это его и убивают, согласно заказу советского агитпропа.
Но во времена горбачевского агитпропа «учреждения» (не по своему желанию) прыти поубавили. А «мокрые дела», подобные убийству Михоэлса, взяла на себя «пробудившаяся общественность».
Но обращусь к бескорневым: «Обстоятельства и условия, созданные для нас, были таковыми, что мы остались бескорневыми». Л. Клейн бескорневых евреев упрекает за «чуждый» взгляд на русскую действительность. Но эта русская действительность была и осталась таковой, что единственным местом, где еврей мог сохранить свои корни, была, да, дурная, да, аморальная, черта оседлости; не то, что у Марка Шагала, у Мандельштама, у художника Левитана в его сверхрусских пейзажах. Даже у активного христианина во втором поколении Пастернака сохранились корни, выращенные в черте оседлости, тот плодотворный взгляд со стороны, который был свойственен и таким отщепенцам, как Лермонтов. А евреям, в особенности, если они хотят сохранить себя как личность, свое достоинство, родиной была и остаётся черта оседлости.
Пролетарский интернационализм массовым порядком отнял у евреев России эту черту. Но, когда миновала эйфория, стали понятны все последствия подобного существования. Так что печать черты оседлости, в которой упрекнул меня Л. Клейн, для меня – лишь комплимент. Одно дело – оборванные корни, а другое дело – искусственно кастрированные. Корни оборваны, но остались, пусть не в языке – в мироощущении.
Я идиш, литературу «идиш», не знаю, потому что с ранней молодости жизнь свою проводил в черте оседлости шахтерских и строительных общежитий. Уж такой там был русский дух, уж так там Русью пахло, что хоть топор вешай. Кроме того, напоминаю, согласно хитрому плану Кагановича и пролетарскому интернационализму, еврейские школы закрылись в 1936 году.
Знал бы идиш, может быть, стал бы еврейским писателем и писал бы по-еврейски. Но пишу по-русски, значит – русский писатель, нравится это кому-либо или не нравится. Нравится мне это или не нравится, я – русский писатель, потому что принадлежность писателя к той или иной литературе определяется по языку, на котором он пишет. Гейне – немецкий писатель, и сам Гитлер не смог этого отменить. Джозеф Конрад – английский писатель, хотя он поляк и родился в Бердичеве. В моем же случае еврейский язык отняли, русский язык хотели бы запретить. Хотели бы, чтоб онемел. Однако не дал Бог свинье рог. Обижающимся ещё раз напоминаю «Полписьма одного лица» Достоевского.
Л. Клейн… Да уж хватит, может быть, о Л. Клейне? Сатана с ним, с Л. Клейном! Не делаю ли я, вопреки своему желанию, рекламу Л. Клейну? Ещё, чего доброго, уважаемые товарищи потомки, «роясь в сегодняшнем…», спросят: «Кто такой Л. Клейн?» И обнаружат имя Л. Клейна. Нет, конечно, где-нибудь в комментариях, мелким шрифтом, ещё мельче, чем «кудреватые мудрейки, мудреватые кудрейки – кто их, к чёрту, разберет!» Мельчайшим почерком, в одну строчку, примерно так, очень условно: «Л. Клейн. 1937 – 19… год. Русский литературовед».
Звание русского писателя Л. Клейн и посмертно не получит. Посмертно он может получить только мелкий шрифт в комментариях и то, не по воле Топорова, а по моей воле. Не хотел бы того. Хотел бы, чтобы Л. Клейн канул в безвестность, но невозможно. Впрочем, создавать фоторобот и разыскивать его не буду. Не приличен, не разумен, но не опасен.
«Я всегда был интернационалистом. Предрассудки своей нации я давно не соблюдаю и призыв Федора Михайловича «Да здравствует братство!» с благодарностью воспринимаю. Согласен с Федором Михайловичем, что еврей скорее не способен понять русского, чем русский еврея».
«Извините, но то, что вы проповедуете, мне глубоко чуждо… Мои родители были русские интеллигенты, мой дед был русский врач и лечил русских крестьян, за что был ими горячо любим… Я никогда не думал, что вы человек подобных взглядов… Проповедь национального обособления в сегодняшнем мире – это нелепость».
Первая тирада – литературоведа Иволгина-Каца из моего романа «Псалом». Вторая – Овечкиса Авнера Эфроимовича – московского еврея из моей трагикомедии «Бердичев». «Чтобы понять случайны или нет особенности «Последнего лета на Волге», обратимся к другим произведениям Горенштейна», – пишет Л. Клейн. К другим обращается, но не к «Псалому» и не к «Бердичеву», а ведь читал болезненно. Уверен, что читал. Всё читал – почему же не обращается? Ведь в «Псаломе» и «Бердичеве» есть высказывания, которые, куда там «Последнее лето на Волге» – гораздо сильнее должны были бы «оскорблять национальное достоинство русского человека», «знакомого» Л. Клейна, российского еврея. Да потому не обращается Л. Клейн, что в «Псаломе» и «Бердичеве» есть его, Л. Клейна, близкие родственники, а то и двойники. Потому, взявшись обличать мои, Горенштейна, книги, не ответил на анкетный вопрос: «Есть ли близкие родственники в книгах Горенштейна?» Не ответил и на вопрос: «Был ли сечен розгами, хотя бы под другими именами?» «Так ему болезненному, так его родименького!» (Ильф и Петров. «Золотой теленок», факультатив.)
Но не только Л. Клейн, памфлетный персонаж, имеет в моих книгах близких родственников, а то и двойников. Помимо таких душевных попрошаек – также духовно падшие, также провокаторы-интернационалисты, также «Миши» и прочие разные Александры Иванычи с Марь Ивановными.
Полузабытый в пылу памфлетных баталий товарищ Маца, литературовед и человек, наивный пролетарский великодержавник, родоначальник современной популяции «знакомых русского человека» выглядит по сравнению со своими «товарищами потомками» «лучом света в темном царстве». (Добролюбов. Школьная хрестоматия, 10 класс.)
Да, вспоминаю: «Характер Катерины в драме Островского «Гроза». Тема сочинения на экзамене в очень средней школе. «Майский день. Цветет сирень. Записочки… Первая любовь… Не возвращается, не возвращается, не возвращается такое никогда… Тра-ля ля!..» Однако приходится возвращаться от подружек моей юности к недружественным мне персонажам из собственных книг. Отповедь телесную и духовную им давать намерен, но спорить с ними не буду.
Повторяю, можно было бы составить «Выбранные места из переписки с врагами»: «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты». Но путём гоголевской публицистики не пойду. Автору не пристало спорить со своими персонажами. Это не педагогично. Разве что прикрикнуть: «Сякие-такие, не вылезайте из-под обложки!» Но не слушают – лезут. По-человечески – неприятно, по-писательски – даже наоборот. Значит, так жизненно мной воссозданы, что на своего собственного автора ополчаются. Можно сказать, восстание персонажей. Или, как говорят украинцы: «Я тебя зробил, а ты гекаешь». Приходится мне, автору, давать отпор. У Гоголя в «Тарасе Бульбе»: «Я тебя породил, я тебя и убью». В данном случае, мне ближе народный вариант: «Чем тебя (вас) породил, тем тебя (вас) и убью». То есть пером.
Есть, однако, рецензент, с которым можно было бы поспорить. Не то, чтобы горячо, не то, чтоб визгливо, не то, чтоб с пеной у рта. Коротко, а главное – благородно. Пример такого благородного спора приведён Достоевским в виде анекдота, прочитанного им в детском возрасте, десятилетнем, в книжечке екатерининского времени: «Я его тогда затвердил наизусть – так он приманил меня, – пишет Достоевский, – и с тех пор не забыл остроумный ответ кавалера де Рогана. Известно, что у кавалера де Рогана весьма дурно изо рту пахло. Однажды, присутствуя при пробуждении принца де Конде, сей последний сказал ему: «Отстранитесь, кавалер де Роган, ибо от вас весьма дурно пахнет». На что сей кавалер немедленно ответствовал: «Это не от меня, всемилостивейший принц, а от вас, ибо вы только что встаёте с постели».
Так же благородно, аристократически хотел бы поспорить, хотя, разумеется, на другую тему: именно о рецензии Григория Померанца на мой роман «Псалом» («Литературная газета», 23 марта 1992 года). Рецензия называется: «Псалом» Антихристу». С подзаголовком: «О романе Фридриха Горенштейна и не только о нём». Так и поспорим «не только о нём».
Жаль, конечно, что Г. Померанц прочитал не книгу, по крайней мере, в момент написания рецензии, а журнальный вариант, в котором сделаны небольшие, но досадные сокращения. Тем не менее, основных идей книги они не исказили, а главный спор пойдет не о художественности, а об идеях романа и не только романа. Спорить буду по пунктам, идя вдоль текста рецензии Г. Померанца. «Горенштейн принимает за всю полноту реальности пласт жизни, на который я не любил глядеть в упор, а смотрел с птичьего полёта, с некоторой высоты, на которой царит Дева Смывающая Обиды, а он – целиком в царстве Девы-обиды… Это царство Божьего гнева на человека, не способного разглядеть, расслышать Деву Смывающую Обиды… Горенштейн, как, впрочем, и многие другие, не верит в Благую весть о новом Адаме, но библейские голоса, которые он слышит, говорят: «Покайся, ибо грядет Господь!» Говорят против воли автора, который убеждён, что вечно человек будет зачинать человека в похоти и сраме, вечно ненависть будет рождать ненависть, вечно будут сыпаться на человека молнии и казни Господни».
Очевидно, пласт жизни, на который Г. Померанц не любил смотреть в упор, а смотрел с птичьего полёта, – это злодейство и преступления. Я его не принимаю за полноту реальности, но это дела не меняет, ибо тем, против кого совершается преступление, то есть жертвам, не становится легче от того, что где-то светит ласковое солнышко и раздается счастливый смех. Можно, конечно, смотреть на страдания «с птичьего полёта», можно «умывать руки», как Пилат, можно утешать себя, но не жертвы, тем, что когда-нибудь придёт счастливое будущее, где не будет ни ненависти, ни убийства, ни провокаций, ни похоти, ни срама – царство нового Адама…
Да, я в благую весть о приходе нового Адама, действительно, не верю. Кто подаёт эту благую весть? Двадцатый век, зачавшийся в крови и оканчивающийся в крови? Вообще, все эти образы из православного агитпропа, которыми оперирует Г. Померанц, мне непонятны и неприятны, и место им не в реальном бытии, а в идеально-политических проповедях с амвона покойного отца Меня, вышибающих слезу у интеллектуальной паствы – Александра Иваныча и Марь Ивановны.
Не знаю, посещал ли Г. Померанц эти проповеди. Дева Смывающая Обиды, Дева-обида, Благая весть нового Адама – это всё на «браво-бис!» публике «Ленкома», «Современника», товстоноговского театра в Ленинграде. Но в церкви ведь аплодисменты не приняты, хоть, порой, они напоминают театральные залы. Если под «Девой» понимать Божью матерь, единую и неразделимую Мириам (Марию), то в христианской, особенно в православной образной поэзии, с которой я знаком по долгу службы, а не через проповеди с амвона, Деву эту нельзя вообразить взирающей на страдания с птичьего полёта.
Существует такая притча, которой я занимался по долгу службы. Божий святой попал на небо и увидел там много святых: Николая Угодника и прочих, но не нашел среди них пресвятой Девы. Спросил у ангела:
– Где же святая Дева?
– Она там, с вами, незримо, с вами всегда на земле, потому что не только преступники, но и жертвы нуждаются в ходатаях и заступниках.
Поскольку сына Божьей матери Иисуса Христа христианская церковная догма сделала ходатаем за преступников перед Богом-Отцом, то ходатай за жертвы в моем романе «Псалом» – Дан Аспид Антихрист – не враг, а брат Христа. Но если Мириам, Божья мать – утешительница жертв, Дан Антихрист судит преступников.
Таковые суровые наказания преступников вовсе не противоречат идеям Христа. Несостоятельность христианства как явления бытового демонстрируется во многих притчах самим Иисусом, особенно же у Луки, стих 17-й. Притча о прокажённых. Людская неблагодарность. А соотношения между Старым и Новым Заветом даны в затемнённой церковным догматом притче о богатом юноше. Я много о том размышлял и написал даже повесть под тем же названием, опубликованную в «Дружбе народов» №7 за 1994 год.
Повесть эта, кстати, насколько я знаю, не вызвала особого интереса. Я имею в виду не читателей, а нынешних критиков-активистов, сочинителей литературоведческих комиксов. Не вызвала интереса газет (и слава Богу! Значит этой повести повезло больше, чем «Последнему лету на Волге»), газет, развороты которых заполнены статьями типа: «25 лет выхода в свет романа Битова «Пушкинский дом».
У меня нет по этому поводу никаких личностных претензий. Речь идет лишь о моей чужеродности тому, что именуется «наши писатели и наша литература». Наша литература со всеми её юбилеями, торжествами, распределениями премий, взаимными посвящениями, лавровыми венками и святыми именами.

Мне сказали, что в городе Глупове на Днепре даже есть улица имени Высоцкого. Улицы имени Мандельштама нет. «Это какая улица? Улица Мандельштама? Что за фамилия чёртова! Как её не вывёртывай – Криво звучит, а не прямо». Моя фамилия тоже звучала криво в стране майора Пронина и переводчицы Интуриста Прониной. Произносили то Боринштейн, то Коринштейн. На слух путали, а в письменном изложении косились. Паспорт брали, «как ежа».
В 1964 году при первой моей публикации рассказа «Дом с башенкой» в журнале «Юность» мне дали заполнить анкету автора. Там был, естественно, пункт «фамилия, имя, отчество» и другой пункт – «псевдоним». Я знал, где нахожусь. Энтузиазм Маяковского «в мире жить без России, без Латвии единым человечьим общежитьем» давно разбился о быт. Я посидел минут пять и сделал в пункте «псевдоним» прочерк. «Что же вы?» – сказала мне сотрудница с улыбкой, «полушутя». Мне кажется, в тот момент, то есть в те пять минут раздумий, я окончательно выбрал свой путь и даже тему моих будущих книг.
Один «пуганный псевдоним» то ли удивлялся, то ли возмущался: «С такой фамилией в русскую литературу!» Мне передали слова жены другого известного «псевдонима»: «Я готова снять перед ним (мною) шляпу». У неё была очень хорошенькая французская шляпка с вуалью, купленная на деньги богатого «псевдонима». Но не хлебом единым…
В те замечательные для многих годы, о которых ныне мечтают, мне приходилось жить как раз хлебом единым, без какого бы то ни было холестерина. Я получал на свободе концлагерный паёк в пересчете на калории. Я весил 53 килограмма. Вес явно диетический. Замечательный вес, если бы только не землистый цвет лица. Но главное было душу сохранить и скелет.
В народе говорят: «были б кости – мясо будет». Еще говорят: «в чём душа держится». Душа держалась в старом портфеле, потому что стола тогда не было, но потом я стол всё-таки приобрел и переложил душу в ящик. А всё из-за того, что происхожу я не из хорошей семьи. Из семьи ранних мертвецов, оставивших мне в наследство только имя и фамилию. Но иным Прониным и этого казалось слишком много.
Гораздо позже, в Германии, в диковатом немецком городке (не всё же в Германии Лейпциги, Берлины да Франкфурты-на-Майне) одна галерейщица, считавшаяся местным специалистом по России, вне сомнения, законсервировавшаяся со времени ГДР, спросила меня: «Имя Фридрих откуда у вас? В России раньше тоже такое было?» «Нет, – ответил я, – в России у меня было имя Исак. Фамилия – Бабель. «Фридриха» я купил тут, за десять тысяч марок». По-моему, названная сумма вызвала у неё недоверие. Может, сама приценивалась? С исчезновением гэдээровского дома Пронины сами стали бродячими или полубродячими, сами боятся отлова. Но я теперь человек домашний – лавровый лист предпочитаю в борще. Премирую сам себя в домашних условиях, в домашних туфлях и в спортивной майке своими собственными сочинениями, если удастся их написать.
Так, в 1988 году получил я премию: повесть-притчу «О богатом юноше». Мне, автору, она многое рассказала и многое помогла понять в процессе написания. Я многое понимаю именно в процессе, а не в первоначальном замысле. Разобрался в давно тревожащем меня вопросе преступления, покаяния и наказания. Подробно о том говорить не буду. Желающих отсылаю к повести. Но приведу выдержку: «Верующий иудей, совершая зло, знает, что он идет против Бога. Верующий христианин, совершая зло, сохраняет гармонию души, сохраняет через церковное покаяние свои отношения с Богом, ибо непротивление злу давно подменено покаянием о содеянном зле. И так жили и живут многие, наподобие христианской семьи Фёдора. Повсюду, куда ни глянешь, видел Фёдор своих отцов и матерей. Святыми они быть не могли, а честными быть не хотели».
Я вообще сомневаюсь в возможности искренне раскаяться тому, кто совершил преднамеренное тяжкое преступление, убийство или иное злодеяние. Неужели описанный мною в памфлетной части этой работы провокатор и стукач КГБ Сергей Хмельницкий-старший, который способствовал отправке невинных людей в концлагеря, способен покаяться? Нет, не на площади на коленях, но хотя бы в домашнем семейном кругу сказать: «Сынок, я – подлец! Я губил невинных людей. Я стар. У меня больное сердце, и мне страшна нераскаянная кончина. Не для того, чтоб меня простили – прощения мне нет, а хотя бы для моего личного самочувствия. Не делай так, сынок. Не повторяй мои преступные гнусности. Живи по заповедям!» И перечислил бы 10 заповедей или хотя бы Маяковского – советы отца сыну: «Что такое хорошо, и что такое плохо».
Как раз наоборот – не только не кается, но слабыми своими возможностями старается продолжить, как может, и, что может. А сынка воспитал скандалистом, пролетарским интернационалистом. Впрочем, тут, очевидно, и генетика помогла. Тот, кто способен искренне покаяться, не способен совершить преступление. Может быть, в этом и суть покаяния: до того, а не после того, как пролилась кровь или совершено другое злодеяние. Только того можно искренне простить, кто одержал победу над бесом, – раскаялся до, а не после.
После тяжкого преступления должно следовать тяжкое наказание. Либеральствующие всё время приводят аргументы: это не предотвращает нового преступления, статистика, мол, и т. д. Во-первых, я в эту статистику не верю – она подтасована, потому что противоречит человеческой психике. Но наказание существует, прежде всего, не для предотвращения нового преступления, а для справедливости по отношению к жертве и её близким, особенно же, если преступление идеологическое, то есть совершённое в пьяном виде. Неважно, что опьяняет: обычная водка (пьяница – личность идеологическая), интернационал-социалистическая идеология, национал-социалистическая идеология, национал-религиозная идеология…
«Как-то, лет тридцать назад, я встретил пьяного, – пишет Г. Померанц, – он посмотрел на меня с укоризной и сказал: «Вся Европа вас уничтожала! (То есть евреев – Ф.Г.) Впечатление несколько болезненное, но, в то же время, смешное. (Смех сквозь боль – Ф.Г.) Слишком пошло, чтобы принимать всерьёз». (Что же ещё принимать всерьёз, если не пошлость? – Ф.Г.) Одно из тех явлений, которые целиком коренятся во времени и смываются временем, не затрагивая более глубоких пластов. (В каком времени коренятся? Тысячелетия уже не смываются, не то что водой – кровью. Да и во времени ли коренятся? Не в пространстве ли Божьего мира? В бессильной ненависти восставшего на Бога грешника, который таким доступным образом хочет себя утешить. Так что любой алкаш-идеолог затрагивоет самые глубокие пласты, вплоть до Каина – Ф.Г.) Даже в самый первый болезненный момент встречи не было у меня желания, чтобы этот алкаш тут же упал и насмерть расшибся – это было бы ему не по чину».
Именно по чину. Злобного дурака Каина, первого земного злодея, первого рожденного человека, Господь физически пощадил, но с тех пор за столько веков чин злодеев повысился, даже самых мелких (Я не верю, что вы, Григорий Соломонович, не принимаете этого, как вы пишете, «мелкого алкаша» всерьез. Ведь тридцать лет прошло, а помните в подробностях каждое сказанное им слово. Ваши же интеллектуальные самоуговоры о том, что встреча «даже имеет свою хорошую сторону», только подтверждают мое предположение.) «Это было замечательным в нескольких отношениях во-первых – такое неожиданное западничество, во-вторых, что именно с Запада усвоили, в-третьих – уверенность в моральной правоте своего выбора, как у толстовских героев им, главное, чувствовать, что по правде живут. Наконец, в-четвертых, мне представляется возможным заглянуть в духовный мир забегаловки и т.д.
Все эти во-первых, в-четвертых – не более, чем интеллектуально-христианский фрейдизм, попытка, если не вылечить, то хотя бы обезболить не заживающую уже тридцать лет душевную рану, нанесенную случайной встречей с пьяным идеологом. А вы знаете, почему не заживает? Потому что вы, согласно амвонному христианству, которое, судя по всему, исповедуете, этого алкаша любить должны, по крайней мере, согласно Евангелию, а он вас – ненавидит. Мне проще (не легче, а проще): он меня ненавидит, я его ненавижу. Моисеев Закон, признаваемый и Христом. Так и в притче о богатом юноше, если читать ее не сквозь церковный догмат, умышленно затемняющий смысл слов Учителя.
«Физическая, а не только моральная смерть, – пишет Г. Померанц, – была бы нарушением законов искусства. Горенштейн их нарушает» Способность умереть морально – уже серьезное достижение. В том-то и дело, что эти, каких бы чинов они ни достигли, от низа до верха, способны лишь на смерть физическую. Разве Сталин способен умереть морально? Разве Гитлер способен умереть морально? Конечно, со стороны можно и нужно над этими разными чинами посмеяться. Но только смех в интеллектуальном самоуспокоении как единственный способ борьбы не напоминает ли дулю в кармане?
«Он (то есть я – Ф.Г.) принимает алкаша всерьез и обрушивается на него с библейскими проклятиями. За этим – какая-то живая правда, правда Божьего гнева, для которого нет пошляков, а есть грешники, и каждый грешник достоин .внимания Такого, как у Дана из колена Данова, способного только проклясть. Или такого, как у Иисуса? На это в рамках текста невозможно ответить, потому что Иисуса Горенштейн не чувствует».
При таком взгляде на проблему Христа (а это проблема), действительно, и мне ответить нечего. Померанц говорит: Горенштейн Христа не чувствует, а я, Померанц, чувствую Христа (который, к слову говоря, проклял даже невинное растение смоковницу, и она засохла только потому, что в тот момент не дала плодов для насыщения и только для того, чтобы проклятием смоковницы продемонстрировать апостолам силу своей веры).
«Разбираться в том, что он пишет о Христе, об апостолах, о Новом Завете, сменившем Ветхий, так же неинтересно, как читать «Русофобию» Шафаревича».
Не «сменившем», Григорий Соломонович, а дополнившем – в этом суть наших с вами разногласий, исключающих в данном пункте спор. По сути. Новый Завет – это комментарии Иисуса к Старому Завету, комментарий набожного иудея-эрудита, вундеркинда, который уже в 12 лет на равных общался с иудейской профессурой, со знатоками библейских текстов, который, как сказано о нем, «преуспевал в премудрости» (Лука Стих 2-й). С 12 лет до 30 о Христе ничего не известно, но есть предположение, что он эти 18 лет был учеником одной из еврейских религиозных школ. Весь Новый Завет буквально пронизан, как каркасом, цитатами из Старого Завета. Вытащишь каркас – рассыплется.
«Общая глухота к мировому духу, возвысившегося из рамок народа, племени, этноса, к духу, избравшему своим вместилищем личность». Эта формулировка, напоминающая амвонные проповеди, настолько исторически неправдива (про моральную сторону, уж не говорю), что она опровергается всяким, читавшим Евангелие хотя бы один раз, но читавшим без амвонных шор. Уж что-что, а безличностным Старый Завет не назовешь. Назвать Иисуса Христа первой личностью, вместившей мировой дух, после тысячи лет духовной истории еврейского народа, после тысячи лет единобожия на мировом фоне языческих этносов – это, мягко говоря, не соответствует истине. Но я сильно подозреваю, что под «мировым духом» содержится нечто «интернациональное», а не Божье.
«То же непонимание (то есть, как у Шафаревича, что ли? – Ф.Г.) новым народом (о каком новом народе речь? – Ф.Г.) клубка духовных движений, возникающих вокруг сильно развитой личности, вмещающей в свое поле то эллина, то иудея, то римлянина, то варвара».
Истинно мировой дух, объединяющий вокруг себя интернационал. О какой личности речь? Об Иисусе Христе? Однако он проповедовал только среди евреев, в исторических традициях еврейского мессианства. Греки также неправильно грамматически перевели еврейское слово «машиах» как «помазанник», исказили его внутренний смысл. Еврейский народ был знаком с идеями мессианства ещё со времён древних царей. Внутри иудейского народа это понятие изменялось от помазанника – святого, исполнявшего заветы Яхве, до сына Божьего.
То, что многие иудеи не признали Иисуса из Назарета мессией, понятно. Для них это был один из многих претендентов. Но все, кто при жизни признал его мессией (я говорю об историческом факте, не касаясь вопросов духовных и трансцендентных), были евреями и еврейками. Да и после земной жизни Христа основная масса западных христиан признала его через четыреста лет, а православное христианство появилось вообще через тысячу лет. Распространял же христианство (сам Иисус этого слова не знал и задачи распространения своего учения вне еврейства перед собой не ставил), распространял самозванный апостол, враг Иисуса Христа при жизни, палаточник Шаул – Павел, распространял именем Христа мёртвого, а не живого. «Легенда о великом инквизиторе» Достоевского может служить наглядной иллюстрацией, литературной ассоциацией появления мирового христианства.
Иными словами, в мировом христианстве, безусловно, величайшем движении истории, создавшем Европу, постоянно происходила и происходит борьба мёртвого и живого Христа, Христа церковного и Христа творческого.
А что такое живой Христос? Это Христос со слабостями, которых не избежать никому на земном пути, это Христос не метафизический, спустившийся с неба, а художественный, по-человечески грубо созданный Господом из того же материала, что и Адам, способный проклясть невинное растение, способный публично отказаться от своей матери и братьев, способный соблазниться. Если следовать христианской поэзии, то Господь для того и создал «нового Адама» по образу и подобию старого, чтобы испытать недоступные Ему, Господу, людские слабости, потому что местом пребывания «нового Адама» – Христа стал не Рай, а грешная земля. Оставаясь в пределах христианского учения, внутри него, ни один христианин не ответит вразумительно на азбучный школьный вопрос: почему столько столетий христианский мир не живёт по заповедям Христа.
«Для Дана из колена Данова Иисус – инопланетянин, – пишет Г. Померанц, – и невозможно благословить, проклинающих вас». Да, невозможно, оставаясь в жизни земной и бытовой.
(Не знаю, благословила бы самого Иисуса засохшая смоковница, если бы смогла.) Пока Иисус сам проклинает – он земной. Когда он начинает благословлять проклинающих нас, его – он инопланетянин. Он поднимается на гору, к небу, потому что, будучи премудрым, знает: проповедь непротивления злу на земле бесполезна, но необходима, потому что христианство – это не новый закон, а новая идеология.
Для наглядности возьмём идеологию сравнительно более низкой нравственной пробы – марксистскую. Те наивные искренние марксисты, кто хотел жить «в миру» по марксисткой идеологии, становились оппортунистами, а то и вовсе диссидентами. Также и в христианстве. Кто такие еретики? Это те, кто пытался «в миру» благословлять проклинающих. За такое благословение проклинающих католический Запад сжигал на крестах, а православный Восток – в срубах.
Сила всякой идеологии – в соответствии корню слова, идеалу. Чем бесполезней «в миру» идеал, тем идеология прочнее. Марксистский идеал более полезен «в миру», нацистский ещё более полезен – судьба их известна. Идеологии эти, простояв 10 лет или десятилетия, превратились ныне в секты для дураков или преступников. Бесполезный «в миру» идеал – то, на чём держится судьба нации и страны.
Россия на этот раз осталась без идеала, не в этом ли её главная беда? Экономическая разруха преодолима. Но преодолима ли разруха идеологическая? Тут – надежда на культуру. Однако культура сама лежит в развалинах и докатилась до комиксов во всех своих областях: в литературе, в кино и даже в балете, как справедливо писала о том английская газета «Ивнинг Стар».
Вернёмся, однако, к вопросу о проклятии. «Дан из колена Данова послан не для прощения, а для проклятия злодеев, но как беспомощны его собственные проклятия!» – восклицает Г. Померанц. – Одного алкоголика убил. Другого разбил паралич. Ну, ещё несколько солдат из гитлеровского Вермахта померли от колик в животе. Как это ничтожно сравнительно с размахом зла!»
О, почтенный Григорий Соломонович, о, уважаемый Г. Померанц, я вас специально отделил от С. Тарощиной, Л. Клейна и прочего дурного общества, а вы в этом пункте применяете метод упомянутых. Мягко говоря, неточная передача идей и событий.
Эпизод с алкоголиком-антисемитом из романа «Псалом» весь передавать не буду, но описан он по-иному, чем вы передаете, и наказание основано по-иному: «Господь лишь изредка убивает нечестивцев перед лицом правды. Чаще он убивает правду перед лицом нечестивца, и тогда нечестивец вгрызается в горло нечестивца. Убив жестоких детей (которые в библейском тексте смеялись над пророком – Ф.Г.), Елисей дурно наказал нечестивцев, ибо они должны быть наказаны в зрелости своей, когда аппетит их к жизни созрел. А всему виной – момент слабости души. Такое случилось и с Даном Аспидом Антихристом – здесь, на улицах Ржева понял Дан Антихрист, что полное наказание нечестивцы понесут лишь в зрелости, когда постигнут цену Божьего мира, а если не постигнут вовсе, то наказание Божье после могилы ждет их. Однако и Христос, и Антихрист в момент слабости иногда действуют вопреки замыслу Господа, их пославшего, и исполняют Божье преждевременно.
Впрочем, ваш Христос, которого вы, Г. Померанц, чувствуете, слабостей лишен. Притча о проклятой смоковнице, когда вера утверждается ценой убийства невинного существа, вне ваших интересов и концепций. А ведь невинная смоковница по сравнению с гнусным алкашом-антисемитом – существо нравственное – дитя Божье.
«Но некто, встретивший Дана, давно уж утирал сивушные костяные губы грязным засаленным рукавом, ибо был на пределе, и в безрассудстве своем произнес он: «Ух, жид! Ненавижу, жид!» И тогда Дан, вопреки замыслу Божьему, не выдержал сердцем, как не выдержал сердцем пророк Елисей, преждевременно, а значит слабо покаравший жестоких нечестивых детей». Также и с нечестивцем Павловым – насильником. «То были две медведицы, которые вышли из чащи, подобно тому, как вблизи Вефиля вышли библейские медведицы из леса казнить по призыву пророка Елисея злых детей-обидчиков». Также и с гитлеровцами. «После решения еврейского вопроса в противотанковых рвах Минска, после сухих, занесенных снегом костей под селом Брусяны, глядя на синеющие, искаженные удушьем, истинно национальные немецкие лица, понял Дан Аспид Антихрист, что такое земное счастье.
Роман «Псалом», переведенный на немецкий, нашел понимание у немецкого читателя и критика. Конечно, не конкретно из-за этого эпизода – в целом. Приняты и поняты его художественность, его идеи. Но нашлись и оскорбленные в «национальном достоинстве немецкого человека». Обвинили меня по телефону с «Хайль Гитлер!» и «Зиг хайль!» в том, что я написал «еврейский свиной роман», что я «еврейская свинья» и должен «убираться в Израиль». Думаю, книги не читали – читали рецензию в газете. Я в ответ обозвал кричавшего по телефону нацистским клопом и пожелал ему рак легких. Разговаривал на равных, мстительно.
«И как мощно, – пишет Г. Померанц, – звучит другой ответ какого-то безвестного еврея, задушенного и сожженного в Дахау: «Да перестанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию. Преступление переполнило чашу, человеческий разум не в силах вместить их, неисчислимые сонмы мучеников. Поэтому не возлагай их страдания на весы. Твоей справедливости, Господи! Не обращай их против мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе. Прими во внимание добро, а не зло, и пусть мы останемся в памяти врагов наших не как жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе за искоренение разгула их преступных страстей. Ничего большего мы не хотим от них».
По-вашему, Григорий Соломонович, это звучит «мощно», а по-моему – кощунственно. Во-первых, потому, что этот безвестный еврей литературно придуман. Не знаю кем. В сноске к вашей статье сказано: «Цитирую по своей книге «Открытость бездны». Круг замкнулся. Но независимо от того, чья это придумка, наличие ее подтверждает литературный стиль монолога. Так в Дахау не мыслят, не пишут, не говорят. Это стиль литературных вечеров, очень хороших с шампанским, икрой и блинчиками. Или театральной литературщины, где-нибудь в «Современнике» или «Ленкоме» под аплодисменты и всхлипывания благодарной публики.
Возможны ли эти литературные придумки для утверждения определенных идей и чувств? Возможны. В свое время, в 1941 году, очеркист Кривицкий придумал за политрука Клочкова-Деева, одного из 28 героев-панфиловцев, монолог «Велика Россия, а отступать некуда! Позади Москва!» Так в заснеженном морозном окопе не говорят, особенно учитывая, что перед боем выдавалось по 200 граммов водки. «Бей! Мать его!» – говорят или – хрипят. Но на литературных страницах или театральной сцене этот придуманный очеркистом монолог героя не звучит кощунственно, потому что он соответствует безусловной музыке борьбы и смерти, звучавшей тогда.
А если вспомнить адскую музыку гитлеризма конкретно, например, по фактам «Черной книги», составленной Ильей Эренбургом и Василием Гроссманом, то представить себе этот святотатственный монолог «безвестного» еврея среди сухих показаний известных жертв, чудом выживших, или сухих черно-белых следственных показаний палачей, также невозможно, как невозможно представить себе этот монолог, мастерски произнесенный известным актером, но не на театральной сцене, а среди алчных печей гитлеровских крематориев.
Впрочем, истопников он бы здорово повеселил и даже мог бы сорвать аплодисменты. Но не прервать их, истопников, работу. Гитлеризм не чужд был театральности в истинно национальном духе. Особенно: «…и пусть мы останемся в памяти врагов наших не как жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе за искоренение разгула их преступных страстей. Ничего большего мы не хотим от них». Это, пожалуй, пришлось бы повторить «на бис».
Время от времени, ко мне приходят фотографы, хорошие профессиональные мастера от издательств и газет, главным образом, немецких и французских (на любительских фотографиях я выхожу ужасно, видно, не слишком фотогеничен). Как-то, несколько лет тому назад, ко мне пришёл немец-фотограф от одного французского издательства. Узнав, что я уроженец Киева, он с улыбкой, как бы желая сделать мне приятное, сказал:
– У меня о Киеве замечательные воспоминания. Какой спектакль я смотрел там в оперном театре! Какие голоса, особенно теноры!
– А когда это было? – спросил я.
– В конце сентября 1941-го года, – ответил он, продолжая улыбаться (как оказалось, он был тогда военным фотографом).
В конце сентября 1941-го года как раз происходили расстрелы в Бабьем Яру.
– Какое счастье, – сказал я, – что мы встретились с вами не тогда, а теперь!
Неужели Ольденбург, палач Одессы и Крыма, или архитектор из Золлингена Пауль Блобель, командовавший расстрелом в Бабьем Яру, или какой-нибудь безвестный фельджандарм, который брал новорождённого еврейского ребёнка (рожать запрещалось) за ножки и бил его о стену на глазах у матери, или Эйхман, консультант Гестапо по «еврейскому вопросу», или сам консультируемый – Генрих Мюллер, который, кстати, более хитро, чем Эйхман, скрылся от возмездия, очевидно, у «прогрессивных» арабов, неужели им жертвы являлись в виде кровавых призраков, наподобие призраков шекспировской «Леди Макбет», так, что они вскакивали и молились и искали в своих жертвах помощников в их эсэсовской борьбе за искоренение разгула их эсэсовских преступных страстей? Палачи такого рода, опьяненные идеологией, спят спокойно – видят розовые сны: женские ляжки или швайнбратен с пивом.
Но есть ещё и «во-вторых» в этом деле с безвестным евреем из Дахау, чисто канцелярская подробность. «Безвестным» еврей из Дахау быть не может, безвестным может быть еврей из Бабьего Яра. «Безвестный еврей из Дахау» – это даже обижает тех, кто приведён в вашем литературном монологе, борющихся «за искоренение разгула своих преступных страстей».
У всей эсэсовщины, вплоть до Гиммлера, за некоторыми патологическими исключениями (даже у гитлеризма есть своё дно), никаких страстей не было, а было строгое служебное исполнение, согласно приказу и канцелярским предписаниям. Все евреи, прошедшие концлагеря, особенно такой образцовый немецкий лагерь, как Дахау, были зарегистрированы и, подобно иным узникам, убивались «цивилизованно». Четыре с половиной миллиона имён евреев, прошедших концлагеря, известны, их имена есть в музее Яд Вашем в Иерусалиме, их имена зачитываются в поминальных молитвах. Неизвестны полтора миллиона, убитых «нецивилизованно»: на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике. Причем не столько «хорошо» убивавшими специалистами SS, сколько инвалидными командами вермахтовской фельджандармерии, при массовой активной поддержке туземных варваров, часто обращавших продуманный, аккуратный, «цивилизованный» немецкий геноцид в разнузданный, хорошо им и их предкам знакомый погром. Этой тонкости вы, Григорий Соломонович, не учли.
«Бог прислушался к благословению праведника, а не к проклятию Дана из колена Данова. Проклятие Германии, посланное ей Даном, не исполнилось. Германия покаялась, как Ниневия, и Бог дал немцам возможность стать другим народом. И сегодня, дай Бог, нам эту силу покаяния, эту выдержку в труде после распада тысячелетнего царства».
Вот такая германофилия Г. Померанца. Я живу в Германии уже семнадцать лет, Германия мне не чужая. Я той Германии, которая мне дорога, слава Богу, тоже не чужой. Потому, что, в отличие от германофила Померанца, я – не чужой, мне за богатыми немецкими фасадами видны и даже ощутимы немецкие беды. Главная же беда в том, что немцы теперь, действительно, – другой народ.
Никогда немцы после Гитлера не будут тем народом, каким они были до Гитлера. Сталинизм гораздо более излечимая болезнь, чем гитлеризм. Сталинизм – наружная болезнь. Рабство – болезнь людей угнетённых, несвободных. А гитлеризм – болезнь свободных людей. Можно спорить только об одном: 99 процентов или 98 процентов немцев поддерживали Гитлера. И немцы это о себе знают, и немцы этого не опровергают.
Поэтому нынешние немцы – это народ, который сам себе не доверяет, который сам у себя на подозрении, который сам о себе думает с тревогой: не натворим ли ещё чего ужасного? Попробуй, заговори с самыми дружественными из них о гитлеризме – и видно, что этот разговор им неприятен, что они беспомощны перед таким разговором. Но, с другой стороны, говорят много, правда, не столько в тесном дружественном кругу, а публично – в прессе, на телевидении, потому что на миру и смерть красна. Публичность смягчает неприятные истины, особенно тягостные наедине. Во всяком случае, гитлеризм, как правило, – не тема семейных разговоров.
Есть и третья сторона, и она тоже значительна: в Германии по-прежнему очень высок процент антисемитов, главным образом, пассивных, хоть есть и активные, правда, в меньшинстве, потому что при официальном юдофильстве никто из должностных лиц этого себе позволить не может. Конечно, антисемитизм в Красную книгу не занесён. Но немецкий антисемит после Гитлера – это нечто иное. Немцы такого рода, активные или пассивные, никогда не смогут простить евреям тех преступлений, которые они против них совершили.
«И, дай Бог, нам ту силу покаяния!» – восклицает Померанц. Не дай Бог, так каяться, как немцы, – говорю я. Ибо то, что называют немецким раскаянием, представляет из себя очень сложный и очень болезненный конгломерат юдофильства с юдофобством. Пути Господни неисповедимы, неисповедимы и пути Господних проклятий. Дай Бог, Германии сил для тяжёлого и долгого, может быть, многовекового духовного труда для преодоления Божьего проклятья.
Другое Божье проклятье, изображенное в «Псаломе», с которым Г. Померанц не согласен, – это проклятие похоти. «Судя по текстам Горенштейна, с которыми я знаком, – пишет Померанц, – ему никогда не приходило в голову, что мужчина может владеть своим половым порывом, как флейтист своим дыханием. И любовь «вплотную» (термин Цветаевой) становится музыкой прикосновений». Далее опять следует долгий монолог о любви, с примерами из Хемингуэя, Набокова, Пастернака, Толстого, Солженицына, Фрейда и моей скромной особы. Этот монолог, в отличие от монолога безвестного еврея, не кажется мне кощунственным, потому что о любви не только можно, но и нужно говорить красиво. Любовь может облагородить чувственность, но изменить её нечистую природу она не может именно потому, что в основе чувственности – Божье проклятье, так же, как и в труде людском. В Раю не было ни труда, ни телесности. «В поте лица будешь зарабатывать хлеб свой», – звучит так же, как «плодитесь и размножайтесь».
Именно из этого Божьего проклятья чувственности и выросло то, что Г. Померанц называет «мифом о непорочном зачатии», то есть не просто непорочном, а неестественном. «Рождество Иисуса Христа было так: по обручению матери его Марии с Иосифом прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж её, будучи праведен, и не желая гласить её, хотел тайно отпустить её, но когда помыслил это, ее ангел Господень явился и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». (Матфей. Стих 18). Такое зачатие, действительно, можно назвать неестественным, можно назвать и мифом. Но почему Г. Померанц в одну идеологическую ипостась из Евангелия «благословляйте проклинающих вас» – верит, а в другую – «непорочное зачатие» – не верит?
Между тем, избирательно верить нельзя. Можно верить или не верить. Всему или ничему. Христос, зачатый порочно, не может сказать: «благословите проклинающих». Нельзя эклектично смешивать два литературных жанра: реализм – натурализм и символизм – акмеизм. Поэт-акмеист Н.С. Гумилёв заявляет в своем манифесте 1913-го года: «Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нём более или менее вероятными догадками – вот принцип акмеизма».
«Если бы только Горенштейн понимал границы своего дара и не касался того, чего не понимает, – горестно сетует Г. Померанц, – к сожалению, он очень часто идет по пути Фрейда и пытается объяснить с точки зрения преисподних страстей всю человеческую культуру. Особенно раздражает его Достоевский».
Сказать, что Достоевский раздражает меня – неточно. Моё отношение к Достоевскому кисло-сладкое, а в кулинарии, особенно еврейской, – это особенно пикантная подливка. Можно даже сказать, что еврейское национальное блюдо – эссикфляйш (уксусное мясо) – является как бы кулинарной ассоциацией с творчеством Федора Михайловича Достоевского, потому что в пикантную эту подливочку, в кисло-сладкий соус, входят и сахар, и уксус, и медовый пряник, и ржаные сухарики. Пикантность же соуса колеблется в зависимости от того, кто что более предпочитает – медовый пряник или ржаной сухарик.
А если бы я заранее знал свои границы и не касался того, чего не понимаю (но, что по мнению Померанца понимает он, Г. Померанц), то вряд ли тогда стоило бы заниматься художественным творчеством. Достоевский – наглядный тому пример: он постоянно переходит границы и касается того, чего не понимает.
Праведник Иов, славивший Господа, под влиянием экспериментов Господа, подвергшего его мучениям с помощью Сатаны, начал было Господу сетовать чисто по-атеистически, но, покаявшись, удовлетворился вместо прежних детей – новыми. Как же новыми, если прежние погибли? – не понимал Достоевский, однако постоянно к Иову возвращался, потому что понимание – цель науки, а непонимание – цель художественности. В художественности дна нет, как в открытом космосе. (Поэзия, литература – всё езда в незнаемое, – сказал Пушкин… Нет, Лермонтов… или Маяковский… Но даже, если бы это сказал Евтушенко, всё равно в данном случае это звучало бы верно.) Художественные образы Достоевского – «езда в незнаемое», в никуда. Важно направление.
«Как только мелькнет у Достоевского «идеал Мадонны», – пишет Г. Померанц, так Горенштейн раздражается, торопится, доказывает, что Мадонна – всё фальшь, а есть только Содом, Содом и Содом в квадрате, Содом в кубе (что отчасти верно). У Достоевского – всё в квадрате и кубе, и, если не видеть, не чувствовать Сони хромоножки, Мышкина, Алёши, то этот квадрат и куб содомский, ничем не уравновешенный, «делает чтение сверлением здорового зуба» (выражение Чехова)».
В пикантном соусе медовый пряник уравновешивают ржаные сухарики, а сахар – уксус. Но вся проблема в этом квадрате и кубе – в пересоленности и в переслаженности. Пушкин или художник Рафаэль Санти – вне вкусовых ощущений. Пушкина можно воспринимать или не воспринимать по причинам магическим. Нельзя ясно объяснить, почему ты любишь или не любишь Пушкина. Всякое такое объяснение будет путанным и неполным. Даже антипушкинская статья Писарева привлекала на свою сторону разночинную молодёжь, скорее, обыкновенными лозунгами, чем литературоведческими аргументами. А приятие или неприятие Достоевского вполне совпадает со вкусовыми ощущениями, может быть объяснено и определено меткими сравнениями. «Здоровый зуб, который сверлят» – Чехов, «горящая лампа в дневной комнате» – Набоков.
«Но у полемического раздражения, как у лжи – короткие ноги, – пишет Померанц, – отвращение к Достоевскому, нежелание перечитать «Братьев Карамазовых», проверить себя, сказались на путанице имен – Илюша с Колей («Последнее лето на Волге)». Голова – не Дом Советов. Имена многочисленных второстепенных героев толстых романов Достоевского можно и перепутать, но отвращения у меня к Достоевскому нет. Я отвращение берегу для более подходящих надобностей. А «Братьев Карамазовых» перечитываю, как и иные сочинения Достоевского, правда, не подряд, а кусками: с середины, с конца, с начала. Таково уж ныне, к сожалению, моё старческое умудрённое чтение, лишённое молодых радостей первой ночи.
Особый интерес, не хочу употреблять слово «любовь» – оно не к месту – интерес к творчеству Достоевского сохранился ещё с молодых лет. Именно этому особому интересу обязана моя драма «Споры о Достоевском», написанная в 1973 году. Г. Померанцу она не нравится: «Действительно, спора там нет. Есть только видимость спора. Сталкиваются разные оттенки непонимания того, чем жил Достоевский, вокруг чего строится действие его романов».
Драма «Споры о Достоевском» написана не только и не столько о творчестве Достоевского, сколько для того, чтобы через творчество Достоевского взглянуть на разрез советского «интеллектуального» общества того времени, точнее, того безвременья. «Эдемский и его друг Жовиан просто пересказывают идеи автора. (Уж у кого, у кого, а у Достоевского это постоянно – Ф.Г.) Создаётся впечатление, что единственная альтернатива двум друзьям – Чернокотов». Черносотенный диссидент Чернокотов – вообще не альтернатива, если говорить об альтернативе духовной, но национал-политическая альтернатива – безусловно. Это показывает современность. На сцене семидесятых он был бы своевременным предупреждением, ныне – он печальная реальность, которую, если нельзя было предотвратить, то, по крайней мере, можно было бы к ней разумно подготовиться.
Но прогрессивная театральщина увлекалась тогда шатровскими поисками человеческого лица Ленина или театральной литературщиной Рощина. Но, с другой стороны, наверное, они были правы. Театр ведь играет не пьесу, а репертуар, и на репертуаре он воспитывает своего зрителя. При таком репертуаре и при таком зрителе, воспитанном на таком репертуаре, мои пьесы были бы обречены на провал.
«В Христа, который пришел разлучить отца с сыном, не верует в пьесе никто», – пишет Г. Померанц. Я тоже в такого Христа не верю. Речь идет не о «верую», а об элементарном неверии. Что значит пришёл разлучить отца с сыном? Не описка ли это? Пришёл разлучить себя самого с Богом-Отцом? А в Гефсимании: «Отче мой, если возможно, да минет меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, а как ты» А на кресте, перед последним вдохом земного воздуха: «Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?»
«И никто не понимает любви Достоевского к Христу больше, чем к истине, тяготения его героев к Христу. Исповедь Ивана Алёше, Раскольникова – Соне. Достаточно сказать, что «Преступление и наказание» признаётся правдивым только до убийства Алёны Ивановны и Елизаветы, то есть преступление без покаяния. Банальный эпизод уголовной хроники», – пишет Померанц.
Нет, Григорий Соломонович, это не так. Особенно правдиво и ценно для меня «Преступление и наказание» как раз после убийства, когда Раскольников ведёт титаническую борьбу с самим собой за оправдание преступления – против покаяния, используя уксус натуралистической психологии и ржаные сухари разночинной, истинно базаровской философии. Неправдивыми кажутся мне как раз медовые пряники исповеди Сони и сахар покаяния. Но это так, довесок.
Раскаяние имеет цену только, пока преступник имеет власть. («Червь я дрожащий, или власть имею?») Пока он власти не потерял, его раскаяние – дело общественное. Когда он власть потерял, его раскаяние – его личное дело, не имеющее никакого общественного значения, и к которому не может быть никакого общественного доверия. Жизнь рецидивистов подтверждает это.
Основная часть романа правдива и величественна. Это роман не о покаянии, а о трагическом поражении обретшего власть, об обращении Наполеона в червя дрожащего и кающегося. Что же касается любви к Христу, то «в однозначном варианте» она возможна лишь на бело-голубых или золотисто-серебряных рождественских открытках или зацелованных губами религиозных старух иконах. Глубокую творческую личность, каковой был Достоевский, не может привлекать такая любовь к Христу. Разве что, в минуты слабости, когда Достоевский мечтал обратиться в семипудовую купчиху.
«Его (то есть мой – Ф.Г.) Достоевский – это Достоевский двойных мыслей, без порыва, к которому двойные мысли примазываются», – пишет Г. Померанц. А «двойные мысли» постоянно сопровождали Достоевского, а порывы, ими рождённые, были разнообразны, вплоть до атеистических, чему пример – увлечение проблемами Иова.
«Добренькие», «всепрощающие», «миролюбивые»… В Южной Африке живёт горячо любимый «прогрессивным человечеством» чёрный епископ по фамилии Туту. На русском языке сама фамилия добренько звучит, трогательно. Деточки так паровоз изображают: «Ту-ту!» Так вот, этот «паровозик Туту» советует евреям простить гитлеровцев. По-христиански. Однако он же требовал смертной казни для белых полицейских, воевавших во время апартеида с чёрными террористами.
Такое христианство, подставляющее чужую щёку, достаточно распространено. Я знаю и в окружающем меня быту несколько экземпляров. Одна такая «христианка» советовала мне «простить», «не мстить» за причинённые мне личные беды. Но я сомневаюсь, простит ли она тем, кто причинил ущерб её горячо любимому дорогому существу. Речь идёт о её японском дорогом спортивном автомобиле.
Однако тут опять мы возвращаемся к началу, к причине моих с Г. Померанцем разногласий и споров. Нельзя противопоставлять земной ненависти небесную любовь. Нельзя о конкретном, даже самом низком, говорить, исходя из заоблачных концепций, пусть даже самых высоких и благородных. Это напоминает расплату фальшивой монетой. Только мать убитого ребенка может простить убийцу. А если прощают убийцу посторонние, гуманные противники смертной казни, то они – не гуманисты, а соучастники преступления, и кровь на их руках.
Г. Померанц верит в такую мать и в такого «безвестного» еврея, задушенного и сожжённого в Дахау. Я в такую мать и в такого безвестного еврея не верю. Даже в литературном исполнении такие образы звучат по-небесному, то есть фальшиво. Конечно, само по себе небо величественно, но небесное и земное должно быть разделено. Небесному – небесное, земному – земное. Небо, объединившееся с землей – есть небо, упавшее на землю. А это – Апокалипсис. Поэтому земному должно противостоять земное. И если такое противостояние не гарантирует земную любовь, то, по крайней мере, гарантирует земное выживание.
А теперь о двух плачах. Меня поразили два плача, точнее, их удивительно подобная наивная философия.
«Слеза блестела за выпуклыми стёклами его очков. Он снял очки и вытер глаза рукавом заштопанного серенького пиджака.
– Я не выбирал себе национальности, – неожиданно сказал он прерывающимся голосом, – я – еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять всё. Но одного я никогда не пойму – причину той чёрной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом.
Он замолчал. Я тоже молчал, ждал пока он успокоится, и у него перестанут дрожать руки».
Это плач Исаака Бабеля, приведённый в книге Паустовского. Второй плач – у Л. Чуковской в «Записках об Анне Ахматовой».
«Я впервые рассказала Маршаку о Бродском, когда Косолапов, по наущению Лернера, порвал с ним договоры. Самуил Яковлевич лежал в постели с воспалением лёгких. Выслушав всю историю, он сел, полуукутанный толстым одеялом, свесил ноги, снял очки и заплакал.
– Если у нас такое творится, я не хочу больше жить… Когда начиналась моя жизнь – это было. И вот сейчас – опять».
Можно, конечно, анализируя, иронизировать по поводу обоих плачей, находя в них, будем говорить прямо, постыдные нелепости. «Я не выбирал национальности… еврей, жид». (А если б выбирал, взял бы другую?) Не хочу, однако, упрекать умницу Бабеля. Со страху и не такое скажешь. А тут у Бабеля, человека далеко не трусливого, явный душевный страх. Отчего же? От заблуждения. Он заблудился, как в тёмном лесу, в понимании природы антисемитизма – в понимании и непонимании, как в трёх соснах. Да он ли один?
«Что за мерзость – антисемитизм! Это – для негодяев вкусная конфета. Я не понимаю, что это», – говорит Анна Ахматова.
А я не понимаю, почему эти разумные люди не могли понять богоборческой основы антисемитизма, причём, в первую очередь, – у религиозных безбожников. Эта древняя ненависть безбожников заставила иных евреев, даже таких, как тонкий психолог Бабель, подсознательно поверить в свою вину или, по крайней мере, усомниться в своей невиновности. Это чувствуется, если не в словесном тексте, то в стиле плача Исаака Бабеля. Плач же Самуила Яковлевича напоминает ночной детский кошмар после страшной сказки про Иванушку-жидореза. (Хорошо бы написать такую сказку: жил-пил Иванушка-жидорез, сын Хамов, внук Каинов…)
Меж тем, если смех – звук радостный и глупый, то плач и скорбь нуждаются в разуме и душевном мужестве. Пример тому – великие плачи пророка Иеремии, сознающего тяжкие грехи своего избранного Господом народа. Но только перед Избравшим, не перед разбойниками-безбожниками.
Девять лет тому назад (уже девять лет прошло!), а именно, в 1988 году, я был в Нью-Йорке, в первый и, по крайней мере, на сегодняшний день, последний раз, по приглашению Центра культуры эмигрантов из Советского Союза (ещё был Советский Союз). Читал из своих сочинений, в частности, из «Псалома». Публика была разная. Нью-Йоркские Л. Клейны и С. Тарощины тоже были, различимые даже визуально. С недовольными, а то и возмущёнными лицами. Зачем приходят, если так не по душе? На гитаре я не играю, да и нет ещё бардов-прозаиков. Или есть уже?
Для демонстрации возмущения, действительно, некоторые во время чтения «Псалома» вставали и демонстративно уходили. Вспоминается Маяковский: «Вы, гражданин, из ряда вон выходящий…» Один такой, «из ряда вон выходящий», некий пожилой, похоже, Александр Иваныч, если судить по вопросам, которые задавал, выразился даже вслух: «Ваш роман нас не интересует – мы все читали Библию».
Да что там старик-эмигрант! Пригласившие меня в Нью-Йорк из Центра культуры сказали мне, что они обзвонили бесконечное множество университетов с предложением моего чтения «Псалома». Я их об этом не просил – это они по своей инициативе, чтобы популяризировать меня и, чтобы я подзаработал, – так объяснили. Никто не проявил интереса.
Повторяю, я не собирался носиться по университетско-славистским забегаловкам и зарабатывать доллары неправедным путем, читая «Псалом» тем, кто «уже читал Библию». Тем не менее, такой массовый отказ, даже без взаимного сговора, думаю, сговора не было (он и технически вряд ли возможен), но было «общее мнение» – такой пренебрежительный отказ меня возмутил, и я поклялся на своем романе «Псалом», как мусульманин на Коране, что никогда не переступлю порога злачных мест, где профессорствуют многие «наши писатели» и прочие представители «нашей литературы».
Поклялся и, слава Богу, возвратился в свой Берлин. Прошло немного времени, что-то около недели – звонок из Парижа от Владимира Емельяновича Максимова:
– Мне на тебя жалобу написали из Нью-Йорка!
– Жалобу? Тебе? Почему тебе?
– Не знаю. Только пришла жалоба.
– От кого?
– Ну… Несколько подписей.
– Коллективка? О чем жалоба?
– Ну… Ты там в Нью-Йорке всех ругал. Зачем это тебе нужно?
Именно, зачем это мне нужно? Может быть, и эти «все» из данного памфлета-диссертации решат написать коллективную жалобу? Напишут Елене Боннэр или Сергею Ковалёву, чтобы защитил их права человека от моих ругательств, или – Третьякову, Удальцову, Молодцову. Пусть пишут оптом и в розницу. Препираться я с ними «всеми» не намерен. Однако один раз рассчитаться надо было и отделить от себя «всех». Впрочем, есть ещё один способ.
Лет шесть назад (уже шесть лет!), ещё во времена диалектического материализма, когда к слову «культура» полагалось прилагательное «советская» (также и к газете), я дал интервью ленинградской, ныне петербургской, газете «Смена». «Смена» чего? «Смена» комсомольцами «юных ленинцев отряд» или «Смена» комсомольцами, ушедших в тираж коммунистов? Та же история с «Комсомольской правдой». Уж, если свыклись со словом «смена», добавили бы слово «вех». Ностальгия по слову не нарушена, и суть выражена.
Я сам, признаюсь, чувствую ностальгию по некоторым ушедшим словам из старых романов, например: «Они наполнят рюмки и с криком выпьют за мое здоровье, офицеры, я уверен в этом, разобьют свою рюмку об шпору». Эх, как хорошо, по-гусарски красиво! Офицерская, как говорится, честь. Ностальгическая гусарская фраза, кстати, взятая из Достоевского. Достоевский, подобно иным русским классикам – Пушкину, Толстому – тоже любил цыганисто писать.
Однако вернемся ближе к «телу», то есть к телесности данного мной в 1990 году интервью «Смене». Прошло немного времени и появляется в «Советской культуре» (газете) отклик некоего… фамилию не помню. Если бы напрягся, то, может быть, и вспомнил бы, но напрягаться не хочу. Надоело с подобными персонами общаться личностно: настроение портит.
Признаюсь, пока писал этот памфлет-диссертацию, за исключением той части, где спорю с Померанцем, всё время испытывал неприятное чувство. Я немало написал нечистых персонажей в своих сочинениях, однако там это смягчалось художественностью, переход же на конкретные личности – совсем иное. Одно дело – жареная курица, другое дело – та, которую резать надо. Мне их «всех» не жалко (кур мне жалко), но неприятно.
Поэтому, чтобы не усугублять неприятное, не буду вспоминать фамилию рецензента моего интервью «Смене», а назову его «Некто». Этот «Некто», правда, не коллективно, а в индивидуальном порядке тоже выразил возмущение тому, что я ругаю «всех», особенно же Мишу (Шатрова), а также иных «всех»: Бродского, Анну Андреевну, Товстоногова. Тут «Некто» явно тащит туза из рукава. Не помню, что писал о последних, но вряд ли подходит слово «ругает» – оно не соответствует моим взглядам на вышеупомянутых.
Иное дело «Миша» (Шатров). Возможно, «Некто» явно симпатизирует драматургу поста номер один, и хотел таким образом через чёрный ход ввести «Мишу» (Шатрова) в приличное общество . «Ну, и досталось же Мише Шатрову, – как-то в этом роде пишет и, более того, – за такое, – пишет, – в прежние времена вызывали на дуэль». (Еще одно ностальгическое слово – «дуэль».) В прежние времена на дуэли убили Пушкина, на дуэли убили Лермонтова, убили юного гения французской математики Эвериста Галуа.
Сравнивает себя с Пушкиным. Ге-Ге! Ха-ха-ха! Уровень сарказма «всех» поклонников талантов 60-х, 70-х годов, «всех», кто вытаскивал счастливый билетик в прогрессивные театры на спектакли «Миши» (Шатрова), Рощина, Радзинского (Радзинского, не уступающего по коньюнктурному обонянию и либерально-прогрессивному обаянию Евтушенко и воскуривающего сладким дымком новому святому мученику православной церкви Николаю Кровавому) и прочих, мне известен.
– Простите, но я думаю…
– Ах, товарищ думает! Товарищ – философ! Товарищ – Аристотель или Монтень! (Слыхал, что некий критик Иван Роднянский назвал мою философию доморощенной. Wunderbor! – замечательно. Выращиваю, как герань на окошке.)
– Но я считаю…
– Ах, товарищ считает, товарищ – математик, товарищ – Лобачевский! (С математиком Шафаревичем меня уже Григорий Соломонович сравнил.)
Вот такой сарказм. А ныне этот сарказм ещё по миру пошел. Как сказала одна дама из ближнего израильского зарубежья (Воронель) проездом из Тель-Авива в Берлин: «Он вообразил, что только у него есть талант, все остальные – ничто» (persone). У меня на подобные высказывания хорошая злая память. Даже имени этой дамы Воронель не помню: то ли Зоя, то ли Зина, а высказывание помню – не как цитату, а по сути.
Нет, Зоя или Зина, все мы немного таланты, «немного лошади». Разумеется, речь идет о людях в возрасте. Молодежь – дело другое. У молодых и молодящихся сейчас модно быть бездарным, и стыдно быть талантливым. Это нечто вроде кепки козырьком назад и джинсовых брюк, рваных на коленках и заднице.
Но мне уж не по летам ходить с дыркой. Даже модный художник Кабаков рваные штаны не носит, а несёт их в выставочный зал и гениально вешает на гвоздь. А мне уж, немодному, куда? Тем более, я – не модный, наоборот – архаист, несущий рваные штаны не в выставочный зал, а портному.
Альберта Эйнштейна упрекали в том, что его теория менее элегантна, чем теория Ньютона. Он ответил: «Если хотите познать действительность, оставьте элегантность портному». Поэтому архаично думаю, считаю, сравниваю себя, сравниваю с Пушкиным и Достоевским. На то и мера, чтоб себя сравнивать.
Сравнивайте себя тоже, леди и джентльмены милостивые! А стреляться хотите – что ж, выходи, «Некто», месье Дантес второго подъезда, квартиры не помню, писательский дом у метро «Аэропортовская». Будем стреляться. Но на газовых пистолетах. Пусть вместо крови текут слезы.
Как можно заметить, мой памфлет-диссертация направлен против советской и постсоветской интеллигенции, главным образом, – литературно-прогрессивной, пусть и не всей, но значительного и наиболее активного её «авангарда».
Моя литературная молодость и литературная зрелость прошла в холодной недружбе, а то и в горячей вражде с либеральной официальщиной – советской, постсоветской и несоветской. Тематическое разнообразие данного памфлета о прошлом направлено в будущее, не давая этому прошлому былью порасти, как могильной травкой, и имеет главной личной целью отделить себя от «наших», от «них», ото «всех». А любая реакция «наших», «их», «всех» – открыто ли враждебная (как говорят, «набросятся») или лицемерно-поцелуйная (Матфей 26, Марк 14, Иоанн 18) – будет только способствовать этой главной цели.
Еврейское ренегатство, особенно в его современном варианте, нередко – часть либеральной «прогрессивности». С ретроградами мои отношения просты и гораздо реже бывают столь личностными. Ретроград и погорячится бездарно, и мрачно проклянёт, и дубиной замахнётся, но всё это издали, как бы «с другого берега», а «прогрессивный авангард» желчно суетится рядом – с иголочкой.
Иголочки, иной раз, бывают опаснее дубин, если находятся рядом. Впрочем, и «прогрессивный авангардист» ныне находится рядом со мной чисто символически. Я теперь, слава Богу, и от тех, и от других на недоступном расстоянии – и морально, и материально. А сие означает бескорыстное отношение, основанное на «рукоприкладстве», как у Достоевского в «Идиоте»: «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». Как в старину писцы говорили, «многогрешною рукою» побеседую с ними.
Писано, чтоб было услышано. Ибо старательная рука находит ухо собеседника (по-немецки Ohrfeige, по-французски sousslete или ople-ucha), к чему я, смиренный Фридрих Горенштейн, многогрешную руку приложил.
Есть рукописи, которые по словам одного из «пророков» интеллигенции, особенно «прогрессивной», «не горят». Но есть – наоборот – рукописи, которые «горят», причём таким адским огнём, что руки обожжёшь. И подчас опасны взаимоотношения с такими «огнеопасными» рукописями. Это тот самый случай, когда автор-поджигатель является в форме пожарника и говорит: «Я помогу вам тушить!» Потому что бывают особые обстоятельства, когда необходимы и огонь, и вода. Выжечь одно – спасти другое, которое с тем, выжигаемым, стоит тесно, а то и пересекается, переплетается.
Тяжкая работа, и хорошо, когда она бывает, наконец, завершена. Так, окончив памфлет-диссертацию, написав резюме, поставив последнюю точку и вздохнув облегчённо, отправился я в Тюбинген, куда меня пригласило общество поэта Гельдерлина читать из моих книг «Попутчики» и «Летит себе аэроплан» (роман о М. Шагале).
Читать я должен был в башне Гельдерлина, где поэт, замученный и обессиленный первой половиной своей творческой жизни, провёл вторую половину жизни в блаженной тиши безумия. Космос поэзии Гельдерлина и бездна его беспамятства составляют такое огромное пространство сверху донизу, что я надеялся: досаждавшие мне так долго элементали из моего памфлета растворятся и, наконец, оставят меня в покое, исчезнут, уступив место для возвышенных идей и чувств. Я, однако, забыл о жизненной цепкости микроантагонизмов. Если когда-нибудь человек освоит космос, то главными его врагами будут не саблезубые тигры и другие хищники-гиганты, а именно болезнетворные микрохищники.
Итак, проведя несколько часов на высоте «Тюбингенских гимнов» 1789 года, я по деревянным ступеням, по крутой лестнице, опять спустился на землю Тюбингена 1996-го года. И тут я убедился, что тема моего памфлета, его персонажи, по-гофмановски мистически, навязчиво продолжают следовать за мной.
Впрочем, и наверху, во время чтения «Попутчиков», находящаяся среди публики дама из «наших» высказалась: «А чего вы пишете сейчас о Бабьем Яре, если о нём давно и всесторонне написал Виктор Платонович Некрасов?» Я ответил: «Можете о моём поступке написать жалобу Копелеву».
Эпизод, конечно, мелкий, смешной. Остальная публика, русские и немцы, которые поняли, о чём идёт речь, отреагировали смехом. Да и сама дама из «наших», встреченная подобной реакцией, попыталась не то чтобы извиниться, а объяснить, что думала «не так» и «не то» и т.д. В целом эпизод не стоил бы упоминания, если бы он не подчёркивал чисто гофмановское «мелкобесие быта», как весьма точно определил таинство всех этих жизненных совпадений, прихотей и капризов Н.Я. Берковский в своей книге «Романтизм в Германии». Ещё более убеждаешься в подобном «мелкобесии», если разумом своим и чувствами слишком долго и слишком напряжённо вступаешь в контакт и спор с делами нечистоплотными и бесовскими.
В вестибюле башни Гельдерлина ко мне подошёл господин… Не буду называть его имени. В конце памфлета, устав от многих имён, я пообещал, что далее обойдусь без имён. Итак, ко мне подошёл господин Б.
Он с сожалением сказал, что не успел к чтению, поскольку дверь в башню Гельдерлина при начале какого-либо дела закрывают, и опоздавшие войти не могут. Такова здешняя традиция, может быть, заведённая ещё самим Гельдерлином. Но он, господин Б., специально ждал, чтобы со мной познакомиться, потому что читал некоторые мои книги, а из них ему особенно понравилась повесть «Последнее лето на Волге».
Это меня, признаться, поначалу несколько удивило. В настоящее время вышла моя новая книга о Шагале, из которой я читал, читал и из романа «Попутчики». «Последнее лето на Волге» – вещица небольшая, вышедшая по-немецки несколько лет назад под общей обложкой с Розановым, о чём я уже упоминал. В то же время, «Последнее лето на Волге» было главным объектом нападок моих антагонистов. То есть опять была затронута тема памфлета. Вскоре всё разъяснилось.
Господин Б. оказался председателем общества WEST-OST Gesellschaft (WOG), председателем всенемецкого и, одновременно, регионального – тюбингенского. Общество это организует русско-немецкие встречи, выставки, изучение языков. Организует оно и туристские поездки русских по Германии и немцев по России. В конце апреля прошлого года состоялась одна из таких поездок немецких туристов на теплоходе «Виссарион Белинский» (неистовый Виссарион, обличитель Гоголя!) по Волге до Астрахани (интересное и полезное деяние).
Но далее начинается «мелкобесие», связанное с моим памфлетом-диссертацией. Как рассказал мне господин Б., немецкие туристы с недоумением наблюдали за волжской и приволжской окружающей действительностью, иного не понимая, иному ужасаясь. Но когда господин Б. публично вслух начал читать им отрывки из моей повести «Последнее лето на Волге», многое стало им понятно, многое объяснилось.
Казалось бы, хорошо. Понимание, даже понимание печально-негативное, лучше непонимания. Ибо непонимание ведёт к ещё большему неприятию и отталкиванию. Однако на теплоходе «Виссарион Белинский» находилась профессор, доктор Московского университета им. Ломоносова товарищ…
Истинно русская, крестьянская фамилия, из тех, которые даются на деревенский манер, по своей деревне: «Горелово, Неелово, Неурожайка тож…» (Некрасов. Не Виктор Платонович, а Николай Алексеевич. «Кому на Руси жить хорошо», 8 класс.) Народническая фамилия. Был в однофамильцах и известный террорист, прототип революционного беса из романа Достоевского.
Впрочем, не в ребусах вокруг фамилии дело. Я вообще не любитель ребусов, кроссвордов, шарад, шарадонов, логогрифов и загадочных картинок, хоть подобные мне и приписывает С. Тарощина: «Горенштейн бьётся над разгадкой русской национальной души, как над кроссвордом». Нет, я не ребусник, подобно дедушке возлюбленной Остапа Бендера, сочинившему ребус даже на слово «теплофикация». («А третий слог: досуг имея, Узнает всяк фамилию еврея». Ильф и Петров. «Золотой телёнок», факультатив.) Не в фамилии суть. Или, иными словами, у нас все нации равны, как любил говорить Ратусный, доцент кафедры марксизма-ленинизма днепропетровского Горного института, где я учился.
Повторяю, я не любитель кроссвордов, но в данном случае некий кроссвордик всё-таки существует. С. Тарощина – поклонница эмигрантов В. Ходасевича, М. Вишняка и прочих. Товарищ имярек эмигрантов не любит. Но при этом обе обличают «Последнее лето на Волге» как русофобское сочинение. Спрашивается: каково расстояние между либерально русофильствующей во Христе С. Тарощиной и консервативно русофильствующей во Иосифе имярек, и сколько потребуется времени, чтобы они встретились на полпути между деревней Горелово и деревней Неелово? Вот такой шарадой, вот такая загадочная картинка.
Ныне же, теперь уже много лет, со сталинских времён, профессор Московского университета им. Ломоносова товарищ имярек – доцент университета Тюбингена. Не знаю, участвовала она в поездке как частное лицо или по службе.
Мне лично этот мир незнаком. Я лично от этого мира всегда был очень далёк. Кто и как подбирает людей для службы за границей, по каким качествам, по каким критериям – для меня всегда было загадкой. Правда, я знаком с критериями приёма в комсомол. Когда при приёме спрашивали: «Кого принимают в комсомол?» – надо было отвечать: «Передовую, проверенную молодёжь из числа рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции».
Однако при массовости и рутинности этой процедуры критерии часто нарушались, выполнялись формально, так что даже такие, как я, скрывшие в своей биографии родителей – врагов народа, могли проникнуть. Но думаю, что при направлении на загранслужбу, особенно в «реваншистскую» ФРГ, эти критерии не только полностью исполнялись, но и удесятерялись. Таким образом, удовлетворявшая всем этим критериям в удесятерённом виде, то есть передовая, проверенная госпожа доцент имярек, присутствовавшая во время плавания на теплоходе, была возмущена моей повестью и написала жалобу. Не на меня. На председателя общества «Запад – Восток» господина Б.
Господин Б., как она выразилась в письме, «на русской земле (!) читал немецким туристам отрывки из произведения эмигранта Фр. Горенштейна». (Восклицательный знак после слов «русская земля» принадлежит госпоже доктору-профессору-доценту. Слово «эмигрант» в данном контексте звучит так же, как «враг народа», «контрреволюционер», «сионист» и т.д.) В заключении письма-доноса госпожа доцент с крестьянской фамилией пишет: «Пожалуйста, информируйте Ваше руководство о моём письме, в особенности председателя горсовета, а также товарища Тарасенко. Я надеюсь, он не будет оскорблён тем, что я называю его товарищем: думаю, это прекрасное слово». (Напрасно беспокоится товарищ доцент. Купеческое слово «товарищ» существовало ещё на древней Руси и происходит от слова «товар».)
В драме Александра Николаевича Островского «Лес» актёр Несчастливцев произносит монолог, на который один из тогдашних «передовых-проверенных» восклицает: «Да за такое в тюрьму, на каторгу!» «Разрешено цензурой, – отвечает Несчастливцев, – ибо монолог этот – шекспировский». В данном случае монолог о водке и чае – не шекспировский, мой, но тоже разрешён цензурой, опубликован в журнале «Знамя», а затем во втором томе моего трёхтомника, изданного в Москве. Если же госпожа доцент имярек называет мою повесть «Последнее лето на Волге» «анекдотами про русских», то хотел бы напомнить, что анекдоты эти «скверные», в духе Достоевского. Это анекдоты, которые вот уже 450 лет мучают русскую жизнь, это анекдоты, которые можно прочитать не только у «эмигранта Фр. Горенштейна», но и у писателей, «русистее» которых найти трудно: у упомянутого Достоевского, у Гоголя, у Чехова…
В данном же случае госпожа доктор-профессор-доцент нечаянно (netschajano – unabsichtlich) объединяется с юродствующими во Христе и оскорбляется наподобие «русского знакомого российского еврея» Л. Клейна. Таков их общий «патриотизм». Советская сталинистка и «прогрессивные» христианствующие личности пересекаются в одной точке, именуемой «Последнее лето на Волге».
Однако ныне с помощью писем-доносов в «Швэбишес Тагблат» и в Петрозаводск – побратим Тюбингена – к русским членам общества «Запад-Восток» можно лишь побряцать патриотизмом. Это понимают уже и в лихорадочно-больной, но обновляющейся России. Недаром письмо-донос вернули из Петрозаводска господину Б., написав, что с этой женщиной дела иметь не хотят.
Да и когда эти «передовые» и «проверенные» были живыми патриотами? Для этого они слишком серьёзны, до умоисступления. Так что, «проверенных» можно, наподобие гофмановского студента Ансельма, принять за пьяных, пусть, иной раз, и идеологически пьяных. Живой патриотизм невозможен без некоторой доли шутки и комизма.
Анекдот о неаполитанцах, об их живом патриотизме, приводит эмигрант А. Герцен. С восторгом празднуя независимость Италии, толпа бросала вверх башмаки и кричала: «Viva la constituzione e i macaroni!» – «Да здравствуют конституция и макароны!»
Ноябрь 1996.
 |
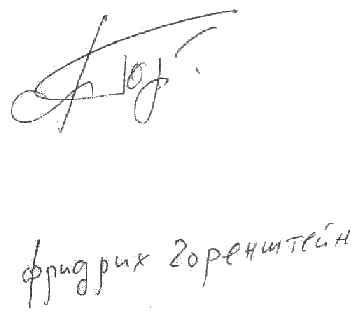 |
Литография Гюстава Доре «Лес» к «Божественной комедии» Данте Алигьери |