


Автор книги – молодой писатель Анатолий Кузнецов. Будучи еще школьником, он уезжал на строительство в Новую Каховку, работал подсобным рабочим, мостовщиком, плотником. Он много ездил по стране, сменил немало разных профессий. Был он и на строительстве Иркутской ГЭС, работал там бетонщиком, жил в общежитии.
Все, о чем написано в этой книге, автор не только видел своими глазами, но и пережил вместе со своими героями.
СОДЕРЖАНИЕ
ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ
В ДОРОГЕ
В СУТКАХ ДВАДЦАТЬ ТРИ ЧАСА
ИЗ СЕДИНЫ МИНУВШИХ ДНЕЙ
ПИСЬМО ОТ ВИКТОРА
ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА И КАЗЕННЫЙ ДОМ
В НАШЕМ КУПЕ
ЭТО БЕДА ИЛИ СЧАСТЬЕ?
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
ВАСЕК ПОЗНАЕТ ЖИЗНЬ
ЧТО СЛАЩЕ: ХРЕН ИЛИ РЕДЬКА?
МЫ БУДЕМ ПЕРЕБИРАТЬ ПРЯНИКИ
ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИВТОРАЯ ТЕТРАДЬ
ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ
ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЙ ТРАМВАЙ
ГЕНИАЛЬНЫЙ ЧИСТИЛЬЩИК
БАЙКАЛЬСКИЙ ОМУЛЬ С ДУШКОМ
ПОВОРОТ НА 180 ГРАДУСОВ
ЧИЖИК, ГДЕ ТЫ БЫЛ?
ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
НАША СЛАВНАЯ КОММУНА
КРЕЩЕНИЕ
ВЫДЕРЖУ ИЛИ НЕТ?
ЛИВЕНЬ
ДЕРЕВЯННАЯ ЛЕСТНИЦА
ПИСЬМО ОТ ВИКТОРА, ПОЛУЧЕННОЕ ВСКОРЕТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ
ПОЧЕМ ФУНТ ЛИХА?
ДНЕМ И НОЧЬЮ
ШИШКА
«БЕЗ ЖЕНЩИН ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ»
«ЭХ ВЫ, НОЧИ, МАТРОССКИЕ НОЧИ…»
ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО
ВСЕ ЗА ОДНОГО
ГЛАДИАТОРЫ В КЛЕТКЕ
КТО ЖЕ ОНИ?
ТАКОЙ-СЯКОЙ
«ОЙ, ДА ПО СИНЮ МОРЮ КОРАБЕЛЬ ПЛЫВЕТ»
ВО ИМЯ ЧЕГО МЫ НУЖНЫ?
МЫ СОБИРАЛИ ФИАЛКИ
ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ
ПРИЯТНОЕ УТРО
КАК ЖЕНА НА НИКОЛАЯ ШИПЕЛА
ВИТАМИН «С»
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЯБЛОКИ
СТРАНИЦА ИЗ БЛОКНОТА. ЧЕРНОВИКЧЕТВЕРТАЯ ТЕТРАДЬ
ПАЛАТА НОМЕР ПЯТЬ
«НЕТ МИРА ПОД ОЛИВАМИ!»
РОДНЫЕ МОИ!
О ЛЕБЕДЯХ, О КЛОПАХ И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ
НАЧИНАЕТСЯ
БИТВА
ЕЩЕ БИТВА
ПРОДОЛЖЕНИЕ БИТВЫ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
СОБЫТИЕ, ДЛЯ ИСТОРИИ НЕ СУЩЕСТВЕННОЕ
ПИСЬМО ОТ ВИКТОРА
МОРЯКИ УМИРАЮТ В МОРЕ
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕНАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ ТЕТРАДИ
В ДОРОГЕ

Кто изобрел слово «зрелость»? Кому пришло в голову выдавать удостоверения о зрелости наивным ребятам после школы? Как будто можно бумажкой в один день перевернуть жизнь!
Я окончил десятый класс, но никогда в жизни не чувствовал себя таким растерянным. Таким беспомощным. Щенком.
Об этом я не скажу никому. Напишу в дневнике, потому что мне трудно и страшно. Нам десять лет говорили, что перед нами открыты все пути. И вот, оказывается, они передо мной закрыты.
Зачем было готовить нас к легкой жизни?
Мы привыкли думать, что «молодым везде у нас дорога», а в семнадцать лет я вдруг увидел, что упомянутая дорога одна: на завод, в работяги, в мазут!
Я ненавидел немецкий и тригонометрию. Так что же, я должен был зубрить или изворачиваться, готовить шпаргалки? Я не стал зубрить. По истории срезался случайно. И вот я, с тремя тройками в аттестате, [3] получаю любезное приглашение на целину или в чистильщики. Куда, дурак, лезешь в институт? Брысь под лавку!
Как тяжело! Что же будет? Что будет? Я очутился где-то в поле, в темноте, среди дождя, огонька не видно, с удостоверением о «зрелости». Это я вступаю в жизнь. Что делать? Что делать?
Виктор подал заявление в Политехнический, на что-то надеется, сидит зубрит тригонометрию. По-моему, надо смотреть правде в глаза: все равно с его знаниями он не пройдет. Вот Юна пройдет. Я уверен. Поняв это, я понял и то, что нам с ней не по пути.
В нашем отделении общего вагона едут шесть человек. Это хорошо: едут и по семь и по восемь. Каждые сутки неизвестно куда пропадает час. Мы движемся на восток, навстречу солнцу.
Железные дороги работают по московскому времени, и у пассажиров-москвичей долго еще путаница с часами.
– Вы уже ложитесь? Который час?
– Двенадцать ночи.
– Что вы! Это по какому?
– По местному.
– А! Ну, тогда будем садиться ужинать. Мы еще живем по московскому.
Проводник у нас крикливый, рыжий, безалаберный – дядя Костя. Ни минуты он не сидит спокойно: ходит, орет, охотно присаживается к столикам и все стреляет, стреляет своими бесцветными цепкими глазами. У него есть ручные медные часы величиной чуть ли не с будильник. Идут они так, словно внутри по звонким наковаленкам тюкают медные молоточки. [4] Дядя Костя очень гордится ими, презирает все остальные и охотно дает «послушать ход» всем желающим.
– Что у вас за часы? Это разве часы? Да мне их даром давай – не возьму! Вот послушайте мои, девятикамневые. Хронометр!
По этому хронометру мы и ориентируемся.
Дядя Костя не признает никаких временных поясов, кроме железнодорожного. Но под общим давлением он все же вынужден был сознаться, что, приезжая домой, во Владивосток, переставляет стрелки на семь часов вперед и несколько дней «отгула» живет, как все добрые люди, по домашнему времени и даже форму не носит. Когда-то, принципа ради, пробовал и дома жить по «единому» времени, но оказалось все же очень неудобно ложиться спать, когда все вставали. И, кроме того, во Владивостоке пивные закрываются, если судить по московскому времени, в четыре часа дня.
Впрочем, уступка эта законам природы несущественна, так как дома дядя Костя бывает очень мало. Привез получку, погостил, сына за двойку выпорол – и снова на полмесяца поезд, стрелки на семь часов назад, снова дорога…
Пятеро моих соседей не такие, как я. Они вербованные. Я еще совершенно наивный и глупый. Слышал о пунктах «организованного набора рабочих», видел объявления, но не понимал, какое они имеют отношение ко мне. Не знал, что незачем на свой счет брать билет, ехать в неизвестность. Всюду есть уполномоченные, с которыми заключаешь договор на три года, тебе выдаются подъемные, суточные, проезд бесплатный. В Сибирь и на целину к тому же набор идет и через райкомы комсомола…
В нашем поезде Москва–Владивосток размещено сто таких «вербованных» ребят; я, сто первый, еду на свой собственный счет.[5] Правда, у меня есть одно существенное преимущество: я не связан всякими договорными обязательствами и могу в любой день совершенно спокойно удрать.
До Иркутска ехать пять суток. Хорошие вагоны – цельнометаллические, удобные, с зеркалами и «принудительной вентиляцией». Когда я спросил, что означает такая надпись на табличке, дядя Костя объяснил: «Хочешь не хочешь, а вентилируйся». И все же болтаться пять суток в этой тесной клетке невыносимо скучно, душно, и «вентилироваться» мы хотим все время. Я уже сказал, что наш вагон общий, по железнодорожной терминологии – «веселый». На каждой стоянке его осаждают бабы с узлами и ребятишками, какие-то переселенцы, торговки. Пассажиры всё ближние, постоянно меняются. Проходы забиты вещами. Нужно иметь энергию и глотку дяди Кости, чтобы управлять этой ярмаркой орущих, толкающихся несметных пассажиров: одни садятся, другие сходят, тот без билета, тот перепился, та стирает пеленки в уборной и собрала у двери грозную очередь…
Наши развлечения? У Лешки есть замусоленные, чуть живые карты, и мы часами дуемся вшестером в дурака.
Глухонемая тетка продавала по вагону самодельные открытки. Она предлагала их из-под полы и только мужчинам. Из соседнего купе заглянула бабка и тоже хотела посмотреть. Ух, как зарычала на нее глухонемая – дескать, не суй нос не в свое дело! Потому что на открытках полуголые женщины, какие-то не наши, иностранные типы, в картинных позах и с подписями: «Жди миня, и я вернус и как солнце появлюс», «Верность и любовь я свято бирегу».
И тогда меня стала мучить тоска.
Юна, наверно, уже ходит на консультации. Скоро у нее экзамены. А что ждет меня? [6]

До сих пор не понимаю, как я отважился вот так сесть в поезд, выехать, не имея знакомых, не имея понятия, что я буду делать в Сибири и нужен ли я вообще кому-нибудь. Может, я сделал это потому, что плакала мать и умоляла устроиться рабочим в артели детских игрушек: «Как раз требуются, а это и близко и удобно. Будешь работать, как все люди».
Как все люди? Это значит: приносить домой получку, ходить по субботам в кино, а по воскресеньям играть во дворе в домино или строить клетушку для поросенка и наконец жениться, по возможности на портнихе. В шестом классе мы мечтали о дальних морях…
Юна! Юнка… А что я могу сказать?
Поезд идет так быстро, так трясет, что писать почти невозможно.
Нас было трое: Саша, Виктор и я.
В школе нас называли «три мушкетера» и «три танкиста», но последнее мы отвергали, потому что только Виктор с первого класса рисовал в тетрадках танки. Саша рисовал самолеты, а я – корабли.
Если один из нас «заболевал» чем-то, остальные следовали за ним. Отец подарил Вите фотоаппарат, и мы все трое стали фотографами. Саша смастерил детекторный приемник – и наши карманы наполнились лампами, конденсаторами и проводами. Я завел кроликов – и в один прекрасный день Витькина мама обнаружила под роялем капусту, траву и крольчат в коробке из-под радиолы, за что Витьке тогда влетело ой-ой!
Витька смотрел кино «Молодая гвардия» шесть раз, я – девять, Сашка – пятнадцать. До восьмого класса мы были грозой девчонок, а в девятом все трое влюбились в Юнку.[8] На почве ревности между Виктором и Сашей произошла драка – и с этого времени наша дружба стала меркнуть.
Нет, дело тут было не в Юнке, а в чем-то другом. Например, комсомол.
Мы вступали в комсомол вместе, все трое волновались ужасно, и Витька заявил, что это первый наш по-настоящему важный шаг: будучи комсомольцем, в жизни теперь легче продвинешься и большего достигнешь, чем какой-то «несоюзный». С этого все и началось. Что значит продвинуться? И во имя чего вообще существуем мы? Мы спорили вечера напролет, забыв об уроках.
Сашка говорил, что, если понадобится быть таким, как Александр Матросов, он будет им, потому что слово «родина» для него святое слово. Витька ехидно спросил: а когда же родина даст ему новую квартиру? Потому что Сашка с отцом жили в старом, готовом завалиться доме, в тесной комнатушке с прогнившим полом. Им все обещали, обещали – и не переселяли.
Саша был самый высокий из нас, несуразный, раньше всех начал говорить баском; в поступках своих – очень прямолинейный. Задумав что-то, он долбил до конца, пока не добивался своего. Это он, единственный из нас, стал фотографировать с профессиональным умением; стал коротковолновиком и получал открытки от радиолюбителей со всего света. Его отец работал на Тормозном заводе, и Саша часто ходил к нему вытачивать нужные детали, сам сделал себе тиски и оборудовал в кладовке мастерскую.
Туда к нему всегда приятно было зайти: в тесной клетушке под лестницей, в полутьме, – вороха железных пластинок, гайки, провода, запах кислоты, распотрошенный соседский приемник на верстаке, остановившиеся часы с кукушкой, линза для телевизора, [9] опилки… Сесть и повернуться негде, – а в крохотное оконце виден кусочек неба и соседний брандмауэр с голубями.
Тут мы и собирались для споров. У меня негде было. У родителей Виктора хоть и была большая квартира, и дача за городом, и они отвели Витьке даже отдельный «кабинет», но там почему-то нам бывало неуютно. А здесь мы могли кричать, не стесняясь, спорить до хрипоты; Сашка одновременно мастерил, в остервенении паял не то, что нужно и не туда, швырял паяльник и махал кулаками.
Он больше брал чувством и ругался. Витька донимал его жизненными примерами и доводами. Я поочередно становился на ту или другую сторону.
Витька стал называть Сашку «патриот без штанов»; тот отвечал более зло: «крыса без родины».
А после того как Витька очень нехорошо, цинично отозвался о Юне и Саша разбил о его голову драгоценную телевизорную линзу, они открыто возненавидели друг друга и при встречах только тем и занимались, что кололи один другого едкими насмешками.
Мы с Витькой увлеклись коллекционированием старых монет – Саша к нам не примкнул. У него завелись новые друзья, из заводских ребят. Саша и меня не звал к себе. Может, потому, что перед экзаменами вообще некогда было заниматься посторонними делами.
Мы с Витькой целые дни проводили в его «кабинете», гоняли друг друга по физике и химии. Однажды решили отдохнуть, пошли в шашлычную, как вполне взрослые люди, и Витька научил меня делать «ершик» из пива, вина и водки; и мы вообразили, что пьем коктейль. Мы опьянели так, что нас с позором вывели; потом мы долго искали Юнкин дом, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение; прошли мимо несколько раз, но, к счастью, не нашли,[10] а зато очутились каким-то образом в Витькином «кабинете», где и проспали на ковре до утра. Дома мать встретила меня слезами, она уже звонила в милицию…
…Нет, все это прошлое. И нечего перебирать. С Сашкой наши пути окончательно разошлись; я даже не знаю, собирается ли он куда-нибудь поступать. Витька перебрался за город, готовится к экзаменам; я уехал, не повидавшись с ним. В день отъезда получил от него письмо, которое я перечитываю, лежа на третьей полке поезда Москва–Владивосток, – вот и все, что осталось у меня от прошлого.
Милый Толька!
Не представляешь ты себе, как мне тут невесело. Синусы не лезут в голову. Вокруг – стильные ребята, девчонки в штанах гоняют по улице на велосипедах, играют в волейбол, танцуют по вечерам под магнитофон – словом, развлекаются напропалую. Среди них я один, как идиот, сижу и зубрю котангенсы, вызывая насмешки.
Кому это надо? Почему моя судьба зависит от этих проклятых котангенсов, которые я предпочел бы век не видеть и не знать – и прожил бы без них хорошо? Всему виной наше увлечение радио – папахен вообразил, что это мое призвание, и усиленно толкает меня в Политехнический, на радиофак. Но, честно говоря, я сам не знаю, чего я хочу и в чем мое призвание. Ладно. Папахен настаивает на Политехническом – иду. Если бы он настаивал на Архитектурном – тоже пошел бы… Скверная история.
Но, послушай, ведь ты тоже неправ, начисто отказываясь от борьбы.[11] Это же паника! Это еще хуже, чем мое «не знаю, чего хочу». Ну и что же? У меня тоже три тройки в аттестате и куда меньше пятерок – что это решает?
Твоя (прости) трусливая затея бежать куда глаза глядят меня не привлекает. Я много думал над этим. Пришел к выводу, что сдаваться нельзя. Слушай, Толька, давай лучше вместе поступать в Политехнический! Ты ведь тоже увлекался приемниками. Вдвоем веселее – смотришь, еще и вытянем там друг друга, шпаргаленции заготовим, то да се. Надо бороться! Надо верить!
Понимаешь, в жизни выживают только наиболее приспособленные. Да, надо смело идти напролом! Но если не получается напролом – перестраиваться, приспосабливаться, но идти любой ценой. Слышишь, любой ценой! Это единственное, что я знаю и во что я верю по-настоящему.
Толик, ни с кем я так не откровенен, как с тобой. Был еще Сашка, но то – дело прошлое. И мне сейчас особенно не хватает твоих вопросов, твоих тревожных метаний.
Не с кем и поговорить. Наш дачный поселок состоит из такой, скажу тебе, обывательщины – как на подбор! Наверно, он составлялся по принципу «рыбак рыбака видит издалека». На кого ни посмотри – самодовольные рожи, собственники, циники. И дети их такие же.
Хозяин роскошной дачи справа – заведующий какой-то закусочной «точкой». Еще более роскошная, дикая и безвкусная дача слева принадлежит заведующему отделом снабжения какого-то треста. А на краю поселка – смех!– новенькая дачка, построенная – кем бы, ты думал? Нищим, что ходил по электричкам со слепой женой: «Граждане, перед вами два инвалида. Во время войны я… и т. д. Подайте на пропитание». [12] Это не с тобой мы ехали как-то и подали ему «на пропитание» ?
Толик, приезжай ко мне. Поговорим, подумаем, будем готовиться к экзаменам. Расскажешь мне, как поживает Юнка. Приезжай!
Крепко жму твою лапу. Жду!
Но Сибири почему-то нет. Все те же пейзажи за окнами: поля, леса, перелески, речки и снова поля. Мы перевалили Урал и не заметили, что был Урал. Никаких гор, никаких грозных скал, просто холмистая местность. Недалеко от реки Чусовой, у одной из станций, мелькнул простой полосатый столб – и это была граница между Европой и Азией.
Азия!..
На остановках весь поезд высыпает поразмяться на перрон. Покупают на базарах варенец, жареных кур, горячую картошку в газетных кульках. А если поезд останавливается на глухом разъезде, можно нарвать цветов, в двух шагах от полотна найти гриб или землянику и покидать мяч.
На одной станции поезд осадили бродячие цыгане. Грязные, жилистые, живописные, с кучами голопузых ребятишек и ленивыми собаками, они куда-то ехали, какие-то у них есть свои цели…
Я никогда их не понимал. Что за сила заключена в этих черных крепких мужчинах, в их смуглых и костлявых женах? Что заставляет их двигаться, двигаться?
Сегодня они не знают, что будут есть завтра, мерзнут, мокнут, унижаются, попрошайничают, а попробуй предложи им пойти в артель детских игрушек! Сколько надо беззаботности и еще чего-то, чего я не понимаю, чтобы жить вот так просто,[13] «подобно птицам небесным», между небом и землей, и не пропасть, не угомониться! Тут ты один раз боишься поехать и думаешь-гадаешь, оставляешь лазейку, чтобы в случае чего удрать. А они кочуют и кочуют. Не работают, не сеют, не жнут, а живут, родятся и умирают в пути.
– Молодой-красивый, давай погадаю! Положи на ручку рубль, всю правду скажу!
Свистел милиционер. Цыганки бегали, ныряли под вагоны – и опять лезли с каким-то отчаянным нахальством. Может, потому, что стоянка была всего пять минут.
Одна страшная старуха пристала ко мне. У нее были черные, потрескавшиеся босые ноги. Она шлепала ими по бетонной платформе и, тряся своими бесчисленными юбками, шла за мной вдоль всего поезда, забегала и с одной стороны и с другой:
– Положи на ручку рубль! Ай, какой жадный! Дай бедной цыганке на хлеб! Всю правду скажу!
Мне было неловко и больно. Она почти умоляла:
– Ну, хочешь, скажу, где у тебя деньги? Вот в этом кармане. Вот тут они, тут?
Это поразило меня не на шутку: деньги точно лежали у меня в правом кармане. Уже потом я сообразил, что, наверно, непроизвольно придерживал рукой этот карман.
Ее нужно было прогнать, но у меня не хватило характера. Я дал ей три рубля и таким образом узнал, что мне предстоят дальняя дорога, интересы в казенном доме, возле меня бубновая дама, но на сердце у нее червонный король. После этого старуха выдернула у меня волос, положила его на зеркальце и потребовала еще три рубля. К моему счастью, поезд тронулся.
Проехали, наверно, остановок пять, пока я не решил глубокомысленно, что жить на свете паразитом – это мерзость. И что, если бы не было в мире вот таких [14] нищих, продавцов открыток, гадалок, мир стал бы чище, лучше…
Эх, старуха, старуха! Ведь не так уж трудно угадать, что все мы в дальней дороге, и каждому предстоят дела в казенном доме, и у каждого, пожалуй, на сердце лежит бубновая дама. Все мы одинаковые, хотя и все мы очень разные!
Третий день стучат колеса. Счет километрам уже ведется на тысячи, сыграна сотня партий, выпиты десятки стаканов чая, мы пригляделись друг к другу, привыкли.
Васек – озорной, разбитной мальчишка, он мой сосед по демократической третьей полке. Стройненький, легкий, голосистый, любит стихи, обожает залезть под потолок и петь длинные песни. Васек ничего не боится в жизни, кроме милиционеров. Дома осталась только глухая бабка, которой он «мешал жить»; он поехал в Сибирь не за деньгами, не за теплым местом, не за славой, а просто из одного желания увидеть разные земли.
У него и вещей с собой нет никаких: пиджак да торбочка с сухарями. Как воробышек вышел на станции, купил стакан голубики или орехов, поклевал – и сыт. Васек – великий фантазер. Услышал от соседа-солдата, что в Могилеве, где служил тот, «жизнь – чистый рай: два рубля метр колбасы», это ему понравилось, и он выдумал целую сказочную страну:
– Толь, а Толь! И там, в этой стране, стоит дерево, и на нем растут пирожные. Сверху свежие, бисквитные, аж теплые… а внизу уже сухие, наполеоны. Скажи, здорово?
– Спи, чертенок! [15]
– А в дерево воткнута палка, на ней сидит попугай и читает стихи Долматовского. А мы лопаем пирожные и говорим ему: «Попка дурак!»
Васек не имеет секретов; жизнь его на виду, и весь вагон знает, что у него всех капиталов семьдесят рублей, а бабка не злая, но только день и ночь ругается и задумала выходить замуж. Все к нему относятся ласково, учат уму-разуму и подкармливают. Васек одинаково приветливо принимает и поучения и кусок булки с маслом. На третьей полке он блаженствует; тут его царство: он может крутить вентиляторы и вообще самостоятельно жить.
Иван Бугай.В общих комбинированных вагонах, как известно, нижние полки «сидячие», а средние плацкартные. За одну плацкарту доплатил из своих денег Бугай.
У него болят зубы. Ехал из колхоза на машине, надуло флюс, и разнесло правую щеку так, что жутко смотреть. Иван Бугай – под стать фамилии – громадный, медлительный и тугодум. Полка под ним потрескивает, и тогда сидеть под ней становится неуютно.
Как запасливый путешественник, Бугай взял с собой в дорогу просторный лохматый кожух. На этом универсальном кожухе, зарывшись в шерсть, он спит, им же укрывается, рукав подстилает под голову, а другим, предварительно вывернув его, закутывает флюс.
Иван Бугай – спокойный, идейный и обстоятельный человек. Он закончил в сельской школе девять классов, прочитал о стройках в Сибири, махнул рукой на причитания и уговоры матери с тетками, завербовался и со скандалом покинул дом. Он работал в колхозной кузнице, заработал деньжат и поэтому позволяет себе роскошь: ходит в вагон-ресторан, сидит там, пьет пиво.
В первый же день у Ивана сперли часы. Часы были [16] старые, на потрепанном широком ремне. Бугай проснулся утром, провел рукой по глазам и увидел, что из ремня торчат только обрезанные хвостики. Бугай бросил ремешок в окно, почесался и успокоился. Только на запястье осталась белая, незагоревшая полоска.
Есть у Бугая зеленый фанерный чемодан с тяжелым висячим замком. Крышка изнутри оклеена цветными фотографиями тяжелоатлетов, аккуратно вырезанными из «Огонька», а сам чемодан набит пищей – как физической, так и духовной: караваями, помидорами и учебниками для десятого класса. Бугай постановил закончить десятилетку в Сибири, в вечерней школе.
Он может восхищенно приводить разные крупные цифры, выражающие успехи народного хозяйства, но не находит терпеливых слушателей.
Тогда он достает из чемодана и раскладывает по столу помидоры, приглашает Васька и, раскрыв «Экономическую географию СССР», обстоятельно рассказывает ему о том, что мощность Иркутской ГЭС – 600 тысяч киловатт, а Братской ГЭС – 3 миллиона 200 тысяч киловатт. Васек ест помидоры и охотно слушает.
Григорий. Второе спальное место в нашем купе занимал солдат. Он сошел в Кирове, и полку тотчас же захватил Гришка. Он все время сидит там и дрожит, как бы проводник не вспомнил, что место свободно, и не согнал его.
Гришка – жадюга и кулак. У него рябое пугливое лицо и узловатые, загребущие руки. Он немедленно загромоздил полку узелками, чемоданами, рассовал все под голову и бока, чтобы не украли, и сам едва помещается среди своего добра.
Меньше всего Григория интересует, какова мощность станций на Ангаре. Он жадно слушает рассказы [17] о невероятных заработках на стройках и ночью, когда все спят, пересчитывает выданный ему аванс. Мне это видно сверху. У него в брюках болтается на веревочке мешочек для денег. Он тоже имеет часы – серебряные, карманные, на массивной цепочке – и десять раз за ночь ощупывает их.
Он ничего не покупает на станциях, даже не выходит: сторожит свое барахло. А нам это на руку: мы спокойно уходим гулять, поручив ему отстаивать грудью купе от новых постояльцев. Гришка действительно готов лечь костьми, клянется, что здесь едет бандитская шайка, и так пугает пассажиров, что полвагона уже со страхом косится на нас.
Когда мы садимся есть, Григорий отодвигается в сторону и делает вид, что ему не хочется. Мы зовем его; он отнекивается, потом нехотя присаживается. Но так как он вечно голодный, то начинает хватать куски, как волк. Своего он никогда не кладет. Бугай демонстративно валит свои караваи и презрительно сопит, а Васек давится от хохота и закрывается газетой.
У Гришки остались дома отец с мачехой и пятеро братьев и сестер. О мачехе он отзывается хорошо: хозяйственная. И отец – хозяин. Живут ничего. Но хозяйство-то отцово, не Гришкино. А Гришке скоро жениться пора. Говорят, в Сибири прилично зарабатывают. Ихние, верхнечарские, записывались, ну и Григорий записался.
Толстый Лешка. Под «Гришкиной плацкартой» на нижней полке барином развалился Лешка. Собственно, ему все равно, где ехать и на чем спать. Будь тут гора чемоданов или поленница дров, он и на них устроился бы с таким же комфортом. Он толстый, ему мягко и без постели.
Лешкино лицо круглое, пухлое, всегда сияет, как солнышко. Он рыжеватый, добродушный и флегматичный.[18] Сидит себе развалясь, смотрит на всех и улыбается. Он любит играть в шашки, и на этот случай у него имеются в кармане разграфленный лист и двадцать четыре пуговицы.
Вообще карманы у него замечательные: в них помещаются стаканы, пепельница, консервный ключ, кашне, серия гвоздей разных калибров. Это у него оказались и карты, но играет он не ради победы, а ради самого процесса игры. Он с удовольствием и бьет и тянет, но больше всего ему нравится жульничать. Побьет козыря простой картой и улыбается: заметили или нет? Время от времени Григорий, выйдя из себя, набрасывается, как петух, на него, обыскивает и вытаскивает откуда-нибудь из-под Лешки парочку припрятанных «на погоны» шестерок. Леша не обижается – наоборот, очень доволен.
И мы ахнули, вдруг узнав, что наш Лешка отсидел уже в заключении шесть месяцев за драку. Застенчиво улыбаясь, Леша рассказал, как однажды по пьянке кого-то сильно избил и был судим. Теперь в деревне ему не дают проходу, и он поехал в иные края.
Есть у него отец, есть и мать. Одет он почти щегольски: в кожаную хрустящую куртку, хромовые сапоги. Только багажа нет вовсе, если не считать того, что в карманах.
Впрочем, багажом он обзаводился в пути. На второй день мы ходили обедать в вагон-ресторан. Леша воротился оттуда вместе со всеми и скромно улегся на свое место. Но что-то ему мешало – он крутился, крутился, вздыхал. Потом встал, покопался в карманах и вытащил оттуда три стакана, три ложки и вилку. Васек покатился со смеху. Григорий, как клушка, замахал руками и бросился прятать это «добро». Бугай засопел, молча отобрал, отнес в ресторан и тихонько подсунул на стол.[19] Леша поулыбался, ничуть не обиделся и спокойно уснул. Вечером он принес два стакана с подстаканниками.
Они, собственно говоря, ему не нужны. Просто ему жаль было, что такие хорошие вещи остаются на столе без присмотра. Пепельница, которую он вытащил из кармана, была керамическая, а в ресторане стеклянные, – он ее где-то прихватил раньше. Сначала мы бранились, стыдили его, относили стаканы обратно, потом обозлились и плюнули. Так у нас накопилась дюжина стаканов и связка вилок. Леша аккуратно завязал их в носовой платок с очевидным намерением прихватить с собой на новоселье.
Гришка долго и подозрительно наблюдал за ним и наконец убежденно высказал свое мнение:
– Ага, врешь ты! Рассказывай – «за драку сидел»! Вор ты, вот чего. И еще сто раз в лагере будешь сидеть, да!
– А! Там тоже люди, – лениво возразил Лешка.
Дмитрий Стрепетов – шестой наш спутник, самый взрослый и серьезный. Он высокий, с резкими рублеными чертами лица, упрямыми черными волосами и упрямым волевым ртом. Он рабочий из Орла, но родина его – Новосибирск, и родители до сих пор там живут. Имеет двадцать два года, семь классов и три специальности: шофер, тракторист и помощник машиниста паровоза. Вот специальности! Как мы все завидовали, когда он вытащил бумажник и показал свои удостоверения и права! Вот кто всюду нужен и всюду найдет себе место!
Но по какой-то иронии судьбы поездка в Сибирь беспокоит Диму Стрепетова более, чем всех нас. Он в поезде мечется, не находит себе места. Я не понимаю его, но подозреваю что-то неладное: видно, что-то мучит его. Он подолгу стоит у окна и смотрит на мелькающие километровые столбы.[20] Тоскует. Может, просто потому, что тесно ему тут, негде развернуться, а нужно ехать и ехать в душной клетке? Может, потому, что он возвращается на родину?
Димка Стрепетов больше, чем другие, заботится о Ваське, и тот привязался к нему всем сердцем. Когда Дмитрий задумается, глядя в окно, Васек тоже рядышком смотрит.
– Дим… А в Сибири черемуха растет?
– А куда ж она делась?
– Я люблю черемуху…
И как-то само собой вышло, что, когда Дмитрий что-то предлагал, все соглашались; когда приказывал, слушались. Даже обстоятельный и независимый Иван Бугай молча и согласно признал его власть. А для Димки это не была власть, он просто руководил, как руководит старший брат.
Отъезжая от Москвы, мы, самостоятельные мужчины, все сразу закурили, даже Васек, и стало ясно, что он до сих пор ни разу не курил. Из нашего отделения повалил дым столбом. Проводник дядя Костя пришел, уперся руками в бока и с минуту разглядывал нас с любопытством. Мы молча сидели и курили.
– Вот что, генералы, – сказал он, обращаясь к одному только Димке Стрепетову. – Чтоб я больше этого не видел! Назначаю тебя начальником купе.
– Есть! – улыбаясь, сказал Димка.
Когда проводник ушел, он погасил окурок о каблук.
– Кончаем, братва. Будем ходить в тамбур. В самом деле: тут женщины, дети… А ты, Васек, мал еще, нечего переводить папиросы!
С тех пор мы ни разу не курили в вагоне.
Любопытно смотреть, как Дима и Васек играют в шахматы. Васек сообразительный – цоп, цоп! – и обставил, быстро и ловко.[21] А Дмитрий подолгу размышляет над простейшими ходами, глубокомысленно морщит лоб и задевает фигуры корявыми пальцами. Рычаги, баранка, рельсы – это да, это по нему, а хрупкие точеные фигурки и тонкая игра не даются. Он проиграл много раз, но не сдается и снова садится. Васек доволен чрезвычайно! Не везет Дмитрию и в картах. Лучшего партнера для Лешки не отыскать в целом мире: Димка безгранично верит всему и думает только над своими комбинациями, никогда не проверяя, козырем или не козырем бьет его туза Лешка.
Так мы едем, шестеро разных людей, в одном направлении. И мы очень сдружились, и нам хорошо. Мы дружно впятером (без Григория) ходим в ресторан, берем самый дешевый суп, а на второе чай и сидим дольше всех. Проходя через мягкий вагон, мы независимо грохаем дверью и стучим ногами. На стоянках дольше всех торгуемся с бабами, берем ягоды и семечки на пробу горстями, дружно прыгаем в вагон, когда поезд уже набирает ход; а дядя Костя называет наше купе своей гвардией.
Мелькают будки, разъезды, выложенные камнями звезды у верстовых столбов, лозунги, висящие прямо на березах, и сотни путевых обходчиков протягивают нам вслед желтые флажки. Едем…
Я очнулся оттого, что кто-то меня тормошил:
– Толь, Толь, слышь, проснись!
Передо мной качалась круглая, лоснящаяся физиономия Лешки.
– Чего ты? [22]
– Деньги у тебя есть?
– А что?
– Не держи в брюках. Тут один крутится, подбирается к тебе. Я его давно приметил. Хочешь, пересчитай деньги и дай мне. У меня не возьмет.
– Да ну!.. Зачем?
– Не веришь? Ну, как хочешь… Тогда спрячь под майку… Вот так. Спи. Я наблюдаю.
– Слушай, Лешка, а это не он срезал часы у Ивана?
– Нет.
– Нет?
– Нет, не он. Другой. Я знаю, но не могу сказать. Спи.
Он нырнул вниз и шлепнулся мешком на свою полку. Я попытался заснуть, но уже не спалось: было душно.
Вагон сильно качало; лампочка под потолком горела в четверть силы; стоял дурной запах от портянок и ног; эти разнокалиберные ноги торчат с каждой полки, босые, в дырявых носках, из которых вылезают пальцы; на одной полке две пары ног: одни большие, мужские, а другие – женские, в чулках. На узлах вповалку спят бабы, детишки. Душно и мутно.
Я слез с полки и пошел в тамбур. Распахнул дверь – и голова закружилась. Грохотали колеса, неслись мимо стремительные неясные тени. Шел дождь, и поручни были мокрые; залетали крупные капли; вдруг вспыхнула близко молния и осветила застывшие на миг столбы, валуны, полегшие травы и низкие лохматые тучи. Воздух был неправдоподобно свежий, пах сосновой смолой, озоном.
Вагон трясло, болтало, поезд несся на сумасшедшей скорости. Я выглянул вперед и чуть не задохнулся от [23] ветра. Только заметил изогнувшийся на повороте длинный наш состав с электровозом впереди. Мы почти все время идем на электровозах. Там, в Европе, еще пыхтят паровозы, а здесь красивые, бездымные и мощные машины. Мы часто здесь видим реактивные самолеты и линии электропередач.
Не пойму, когда это случилось, не пойму, когда она пришла, но только сегодня Сибирь уже есть.
Бесконечная страна… Можно учить в школе цифры ее границ, мерить по карте тысячи километров от Калининграда до Берингова пролива, но, наверно, пока сам не проедешь вот так, не поймешь, не почувствуешь, какая она громадная. Мы с бешеной скоростью едем, и едем, и едем. Поезд уже стал домом родным, уже руки [24] и ноги затекли, и, выходя на остановках, пошатываешься. Поля, леса, болотца, равнины… И еще нет половины пути до Тихого океана. Станции здесь далеко друг от дружки, а всё тянутся равнины или обыкновенные леса. Это такие же края, как и всюду, только шире, редко заселенные, почти нетронутые.
Я смотрю в темноту, и глазу все еще непривычно: ни огонька, ни зарева. Лежит громадная, невообразимая земля, дышит, цветет, кишит зверем и птицей, блестит залежами и озерами – и ждет. Ждет людей. Может быть, мы правы, что едем в Сибирь? Может, это не беда моя, а счастье?
Я не знаю ничего, только мне не по себе. Сегодня я впервые почувствовал Сибирь.
Сначала вдали посветлело небо. Потом мигнула яркая точка. И вдруг неожиданные, сказочные посыпались огни. Поезд стучал, несся, а они всё сыпались и сыпались вокруг, уже вся земля была залита ими. Вышел, зевая, дядя Костя и взялся протирать поручни; зажег фонарь и высунулся в дверь.
Тогда пришел Димка Стрепетов. Он был взъерошенный и необычный. Он волновался. Мы подъезжали к Новосибирску.
– Пойдешь со мной в город? – спросил он. – Ты не знаешь, какой это город! Ой, ты же ничего не знаешь!
Мы спрыгнули на перрон и через подземную галерею побежали в вокзал. Меня ослепили люстры, мрамор, зеркальные стекла. Признаться, никогда в жизни не видел такого дворца. Здесь все было очень удобно, все под рукой, красиво и уютно. Несмотря на поздний час, работали все киоски, ресторан, парикмахерская.
– У нас самый красивый в Союзе вокзал, – бормотал Димка. – Дальше, дальше!
Мы выбежали на площадь и пошли по асфальту. Было просторно, тихо и свежо. Пахло гвоздикой. Светились кое-где окна в больших домах по ту сторону площади. Хотелось идти неторопливо, держаться прямо, быть стройным и красивым. [26]
– Вон там живет моя бабка, – волнуясь, показывал Димка. – Какой я бестолковый! Я бы дал телеграмму – она бы встретила… А сестра вот тут, совсем рядом, десять минут ходьбы. Ох…
– Слушай, а давай на такси, – предложил я. – Поезд стоит пятьдесят минут. Успеем!
– На такси? – Он испуганно посмотрел мне в глаза. – Нельзя. Ты ничего не понимаешь… Скажи, красивый город, а, красивый? Ну, говори! Это же Сибирь! Ты понимаешь? Говори! А?
Ну не умею я вслух восторгаться. Красивый. Да. Очень. И мы молча стояли на площади. Димка переживал, а я смотрел, слушал и дышал запахами гвоздики.
Почему он не хотел взять такси? Чего я не понимал? Я не узнавал Димку. Он тащил меня к вокзалу, потом останавливался, смотрел и опять бежал.
Воротились в душный наш вагон. Здесь Димка схватил вдруг свой заплечный мешок и ринулся к выходу. Я едва догнал его и схватил за полу:
– Куда?
– Сойду!
– Ты с ума сошел! А договор?
– Пусть ищут. Пока найдут, заработаю – отдам подъемные. Пусти!
– Димка, что ты?
– Пусти!
– Сядь. Успокойся. Зачем же ты ехал? Про что думал? Ну, поработаешь на стройке – вернешься. Ну, не будь сумасшедшим!
Он сел, уронив мешок, и поглядывал то в одно, то в другое окно. Поезд еще стоял. Диктор объявлял: «Через пять минут отправляется… Провожающие, проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих…» Нужно задержать Димку на эти пять минут. Я держал. Не [27] помню, что говорил, да он и не слушал. Наконец поезд тронулся, и опять посыпались огни. Мало-помалу они поредели, исчезли, и потянулась тьма.
Возможно, виноваты Димкины тоска и волнение, но у меня осталось от Новосибирска волнующее чувство, как от чего-то прекрасного и сказочного.
– Ну, зачем ты хотел сойти?
– А ты знаешь, куда мы едем? Там и медведь подохнет…
– Ты боишься?
– Подожди, сам еще десять раз захочешь бежать, да не сможешь. Боюсь, да! Что дальше?
Неужели это Димка Стрепетов? Наш строгий, взрослый, упрямый командир? Я не мог поверить его словам.
– Слушай, Димка, ты что-то врешь…
– Да, вру! И не спрашивай больше. А Новосибирск – лучше Ленинграда, лучше Москвы, да! Когда-нибудь вся Сибирь будет такая, понял? У меня на станции Тайга есть друг. Сойду там и вернусь. Вернусь!
Дима сказал «вру», но мне все-таки стало не по себе. Я ничего не понимал.
Стучали колеса. Беззаботно разметавшись, спал одетым толстяк Лешка, и поминутно его хромовые сапожки упирались нам в колени. Обнимая свои узелки, беспокойно ворочался жадюга Григорий. Иван Бугай приподнялся, бессмысленно уставился на нас, потом пробормотал: «Заткнитесь, идолы», почесался и захрапел себе дальше сном правильного и обстоятельного человека.
А мы сидели и толковали: нужно себя пересилить или нет? Я не был твердо уверен, что нужно, но почитал своим долгом держать Димку. Он рассказал мне о своей жизни, о том, как он работал на паровозе и как едва не проехал красный светофор, как потом служил [23] в армии. После армии он вернулся в Новосибирск и влюбился в девушку, которая работала в геологических экспедициях.
– Что я знал тогда? Что я мог ей говорить? Про паровоз? Про пулемет, затвор, прицел?
– Ну, и что?
– Работал снова на паровозе, в рейсах постоянно, в саже весь, а она меня любила. А сама в экспедициях… Зачем мы поженились? Она все в тайге и в тайге… Видеть я не мог эту тайгу! Никакой человеческой жизни нет, как кочевники. Потом уехали в Орел и разошлись. Люди в Сибирь, а я сгреб ее в охапку и, напротив, подальше из Сибири. Шофером работал, квартира была. Не то… В общем, разошлись, и делу конец. Она опять в тайгу, а я вот завербовался…
Наступило утро, а мы все говорили. Проехали красивую и строгую станцию Тайга, где воздух был свежий и смолистый, словно после грозы.
Димка не сошел.
Днем наш толстяк Лешка и Васек ушли в вагон-ресторан. Воротился через два часа один Васек. Он был совершенно пьян, тыкался головой в полки, икал. Да и пришел не самостоятельно: его привел ревизор, спрашивал в каждом купе:
– Это не ваш?
Мы ахнули. Сердобольные женщины закопошились, закудахтали:
– Ох, ох, какой молоденький, совсем дитя! Как вам не стыдно, как вам не совестно, довели хлопчика, лоботрясы!
Васек грязно и неумело лаялся и просил курить. Гришка брезгливо съежился и залез к себе на полку. [29]
– Карманы вывернуты, обокрали! – со страхом прошептал он, протягивая палец с большим черным ногтем.
– Пойдем Лексею морду бить, – кратко сказал Бугай; он засопел и раздул ноздри.
Васек стонал и дрожал. Под взглядами всего вагона мы втроем повели его в умывальник, облили голову холодной водой, потом уложили на Димкин вещевой мешок. Бугай и Стрепетов пошли в ресторан бить морду Лешке, а я остался держать Васька, потому что он метался и бился головой о столик. Вскоре его стошнило. Не повезло стене и Димкиному мешку. Прибежал дядя Костя, схватился за голову, стал ругать и проклинать нас на чем свет стоит.
Я снова сводил Васька в умывальник. Наконец ему стало легче, и он уснул. Я осмотрел его карманы: семидесяти рублей не было. Тогда дядя Костя молча поманил меня пальцем к себе, в служебное купе.
– Ну? Так я убирал после него? – сказал он. – Теперь составим акт. «О приведении пассажирского вагона поезда в антисанитарное состояние».
Он сказал это торжественно, смакуя такое внушительное определение.
– Да. Штрафа вам не миновать, это уж как пить дать.
Я растерялся. Дядя Костя спокойно стал что-то царапать на листе.
– А ну-ка, прикрой дверь. Вот что, генералы, не будем поднимать шум. Я ничего не видел, а кто видел, не его дело. Давай на чекушку и иди с богом. Ну?
Я, краснея, почти машинально отдал ему пятнадцать рублей и ушел, словно облитый ведром холодной воды. Вот тебе и дядя Костя!..
Теперь еще недоставало, чтобы Бугая и Стрепетова арестовали за драку в ресторане и ссадили с поезда, [30] Я бросился в ресторан, и в моем уме уже рисовались битые стекла, звон посуды и перевернутые столы.
К удивлению, в вагоне-ресторане было тихо. В углу сидели за столиком улыбающийся, лоснящийся Лешка, мои замечательные Димка Стрепетов и Иван Бугай и вместе… выпивали.
Напротив них, на краешке стула, настороженно сидел тип в расстегнутой рубахе и с устрашающей татуировкой на руках: могила, крест, пистолет, якорь и надпись: «Не забуду мать родную». Между ними происходил следующий разговор:
– Ты, подлюга, свистнул часы?
– Нет, не я.
– Врешь!
– Не я, говорю тебе!
– А ты жулик?
– Жулик.
– Зачем?
– Допустим, мне так интересно. А что из этого?
– Тогда рассказывай нам свою жизнь!
– На сухую не идет. Ставьте пятьсот – расскажу.
Стали торговаться, дошли до ста пятидесяти. Сложились по три рубля и заказали собеседнику водки да заодно и себе пива. Меня схватили в восемь рук и так любезно усаживали, что повалили на стол. Я их звал, тащил и едва вырвался сам.
С тяжелым сердцем я вернулся к спящему Ваську, а ребята остались слушать жуликову жизнь. Возвратились они поздно, когда закрыли ресторан и выпроводили их. Относительно трезвым был Бугай.
– Ну, так что вам рассказал товарищ?
– А, Толька, не язви. Дрянь, ух, дрянь какая!
– Чего же вы сидели?
– Надо было Васьковы деньги выудить.
– Выудили? [31]
– Да.
– Где же они?
– Пропили.
Он бухнулся на свой кожух и долго не спал, лежал, уставясь в потолок, и думал о чем-то длинном и тягучем, как наша дорога.
А поезд все стучит и несется, несется на восток. И теперь уже по сторонам расстилается тайга. Опять торчат с полок разнокалиберные ноги. Теперь разница с Москвой во времени уже пять часов. Сейчас в Большом театре начинается спектакль; бурлит, ловит билетики толпа у «Центрального». И нет мне туда возврата, и нет возврата Димке в Новосибирск или на станцию Тайга…
Я не сказал, куда мы едем. Мы едем на Братскую ГЭС.
Утром ребята сложились по десятке, по две и засунули Ваську в пиджачок, пока он спал. Но после вчерашнего у Васька болит голова; встал он скучный, растрепанный, приуныл. Дима Стрепетов снова ушел в тамбур и стоит там уже целый час у открытой двери. Бугай, злой, неспокойный, достал «Физику», третью часть, вертит мощным затылком и заставляет себя читать. Один пузырь Лешка улыбается как ни в чем не бывало, валяется брюхом кверху и напевает песню, которая нигде не записана, – песню другого мира. Мне нечего делать, я лежу на своей третьей полке и не спеша записываю за ним слова:
– Мешочек! Мешочек! Мешочек!
Мы все вздрогнули от истерического крика. Гришка, растерянный, бледный, пританцовывал на своей полке.
Потом он вдруг кубарем свалился оттуда и вцепился Лешке в горло:
– Га-ад, ворюга, отдай! Отдай, говорю! Отдай деньги!
В нашем купе поднялся шум. Любопытные уже заглядывали из прохода. Пропал Гришкин мешочек с деньгами!
– Я тебя зарежу, я тебя зарежу! Отдай…
– Да пош-шел ты! – сказал Лешка, гордо отталкивая его. – Сдался ты мне, гнида!
– Отдай, говорю, отдай. Проводника позову! Ты выследил, ты знал!
Мы с Иваном растащили их по углам и принялись за разбор дела. Утром мешочек еще был на месте. В нем, как утверждает Григорий, полторы тысячи денег. На него невозможно смотреть: трясется, плачет, расстегивает штаны, показывает обрывок веревочки. Лешка удивлен и морщится. [33]
– Да стал бы я руки пачкать о тебя! Кулак ты, сурок ты, хорь вонючий! Ну и ищи свою торбу!
– Ворюга! Каторжник. А-а-а…
Минут пятнадцать идет обмен «любезностями». Гришка ревет и выкрикивает их захлебываясь. Лешка презирает его и посмеивается. Иван Бугай принялся искать мешочек. Обшарили Гришкину полку, переворошили все его узелки, обыскали другие полки. Мешочек нашелся за трубой под столиком. Очевидно, он ночью оторвался, а когда Григорий сел к столу завтракать, выскользнул и завалился.
Гришка, дрожа, схватил его, полез к себе и мгновенно затих. Лешка стал продолжать песню. Но я уже не записывал слов, я был взволнован и думал: почему они такие, Гришка и Лешка, и откуда они взялись? И кто из них лучше?
А превратись я в Гришку, я бы повесился, честное слово! Что же это такое? Сколько еще поколений нужно, чтобы кулак в человеке умер?
А Лешка? А тот тип, которому «так интересно» быть жуликом? У них свой мир, своя мораль, свой фольклор и презрение к тем, кто на них не похож…
Да, Лешка, конечно, презирает Григория, но разве хрен редьки слаще?
Тайшет! Тайшет!
Это слово у всех сейчас на языке. От станции Тайшет начинается новая железная дорога на Лену. Скоро о ней услышит весь мир, но пока она известна немногим. Она через Лену пойдет на Якутск, через хребты и дикие земли на Чукотку, до самого Берингова пролива. По первому отрезку ее сейчас едут на Братск.
Об этой дороге я знал по карте, но у меня было еще [34] триста рублей, и я взял билет до Иркутска. Вместо пересадки в Тайшете я решил ехать старым путем – на Иркутск и оттуда пароходом по Ангаре. Это так интересно!
Мои попутчики сходят в Тайшете, чтобы ждать братского поезда, а я… еду дальше. Может, сойти с ними? Нет. Мы встретимся на Братской ГЭС через неделю. Мы записываем фамилии друг друга, и больше ничего. У них нет адресов и у меня нет.
С самого рассвета идет дождь. Здесь широта и размах во всем: дорога – так до одури, лес – так уж без конца, дождь – так уж без просвета. Он льет и льет, стекает по окнам ручьями; сырость и холод проникли даже в наш переполненный вагон.
Скоро Тайшет, вот-вот он покажется… Прошел уполномоченный, который сопровождает партию вербованных, велел приготовиться. Гришка канючит, чтобы помогли ему нести вещи. Хлопцы заметно погрустнели, встревожены.
Васек. Эх, приедем, а там палатки стоят!
Дмитрий Стрепетов. Ничего, Васек, еще будем сами натягивать.
Иван Бугай. Говорил уполномоченный – будем на лесоразработках. Вот это дело!
Григорий. Ох, заставят нас бревна таскать! Глаза на лоб!..
Дмитрий Стрепетов. Нет, будем пряники перебирать. На кондитерской фабрике.
Вот уже показались домики, дымящие трубы.
– Тайшет! А завод какой!
– Ну, то, наверно, и есть наша кондитерская фабрика. Подъем, хлопцы!
Мы пожимает друг другу руки. С Димкой Стрепетовым у меня прощание почему-то грустное. Что-то осталось недосказанное… [35]
С поезда сходило очень много людей. У всех переселенческий вид: с детишками, с посудой, провизией. Хлещет дождь, грязь непролазная, мокрые пути, мокрые составы, путаница, станции не видно. Уполномоченный кричит, проверяет по списку, все ли сошли.
Потом они взвалили на плечи сундуки, чемоданы, узлы и пошли куда-то вдоль полотна, по лужам, прыгая через шпалы. И со всеми пошли строить Братскую ГЭС беспокойный Дмитрий, обстоятельный Иван Бугай, ленивый вор Лешка, жадюга Григорий и познающий жизнь Васек.
Только Дмитрий обернулся и помахал мне рукой. А те, другие, уже были заняты иными заботами: спешили ли спрятаться от дождя, дотащить ли благополучно Гришкино барахло, а может, они были просто взволнованы и боялись.
Есть большой враг человека – страх. Страх перед изменением в жизни. Человеку, просидевшему двадцать лет на одном месте, страшно двинуться куда-то, переехать в соседний район или – господи упаси!– в Сибирь.
Я понял это, испытав на себе. Я не сидел в родном городе двадцать лет, я только десять лет учился в школе. И вдруг изменения в жизни! Как было страшно ехать куда-то! Как это – уйти из дому, пойти меж чужих людей, в чужие края? Что я буду делать? Как проживу?
Наверно, я уезжал зажмурясь. В этом я признаюсь только себе. Потому что у нас ведь не принято бояться. Молодежь, едущая в Сибирь, выглядит очень бодро,[36] говорит на митингах разные хорошие слова. А я говорю: страшно.
Теперь я почти не боюсь. Не бояться научил меня Васек, который беззаботным воробышком – без денег, без вещей – поехал вместе со всеми и не ломал себе долго голову: а как я проживу, а вдруг будет плохо? Не бояться меня научили Дмитрий Стрепетов и Иван Бугай, которые, если будет трудно, поострят насчет пряников и возьмутся натягивать палатку.
Теперь мне самому кажется странным тот перепуганный и растерянный мальчик, который неделю назад кричал: «Что делать? Что будет? На завод, в мазут?» Мне кажется, что я повзрослел за несколько дней.
И, если Витька провалится на экзаменах в вуз, я, кажется, посоветую ему проехаться в Сибирь, в общем вагоне на третьей полке. Багажа, Витька, не бери, ничего тебе не надо, кроме смены белья да куска доброго мыла. Я говорю это вполне серьезно, слышишь?
И не бойся!

Много есть учебников на свете.
Мы изучаем горы, моря и полезные ископаемые. Нам поведали, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Я знаю, как переменный ток преобразуется в постоянный, и прочту в учебнике о реакции «феррум плюс аш-два эс-о-четыре».
А вот где достать учебник жизни?
Наша преподавательница литературы Надежда Васильевна так хорошо рассказывала об идейной направленности романа «Евгений Онегин», о классовой борьбе в повести Горького «Мать», в романе Шолохова «Поднятая целина», и все становилось очень ясным: в тех условиях, в жизни тех времен все было понятно, четко и в порядке разложено по полочкам.
Ну, а наши дни, сегодняшняя жизнь? Учителя заботились уложиться в отведенные часы с Онегиным и Печориным, и, по-видимому, в учебном плане не было уделено специального времени для разговора о жизни. Словно то, каким должен быть настоящий человек в наши дни,[38] – это всем ясно, нечто само собой разумеющееся! Но возьмите Сашку и Витьку – каждый из них понимает это по-своему. Люди разошлись, еще не закончив школу, хотя оба одинаково усердно изучали и Онегина, и Печорина, и «Поднятую целину».
Директор на выпускном вечере сказал: «Теперь вы вступаете в жизнь. Будьте достойны звания советского человека, чтобы наша школа могла гордиться вами!»
Мы, понятно, обещали быть достойными.
Наш комсорг с комитетом решал в основном вопросы о членских взносах и лыжных соревнованиях. Было одно за всю историю собрание «О моральном облике советского человека», но провели его преказенно, прочли по шпаргалкам такие нудные доклады, что это походило скорее на повинность, и вряд ли кому-нибудь захотелось задуматься о своем моральном облике. Я не помню, о чем говорилось в докладах; кажется, разбирались примеры из книг, вспоминали молодогвардейцев, Павла Корчагина и Маресьева.
А вот Витькин отец, как-то будучи навеселе, говорил с нами о жизни:
«Жизнь, молодые люди, – это дикий лес, в котором кишат гады. Кто кому скорее перегрызет горло, тот и прав. Красивые идеи только в книгах, они для внешнего пользования».
Да, мы запоем читали «Как закалялась сталь» и «Два капитана». Это книги о других временах. Живи мы с Павлом Корчагиным, мы бы дрались с белыми. Ух, как бы мы дрались! Живи мы с Олегом Кошевым, мы бы били фашистов. Но сейчас? Кто же опровергнет Витькиного отца? Мать говорила мне:
«Все мы, пока молодые, куда-то рвемся, ищем правду, а потом привыкаем… Самое верное: найди себе тихий уголочек и живи скромно, мирно.[39] Бог с ними, с чинами и деньгами».
Теперь она считает меня пропащим, день и ночь плачет.
Мы загорелись целиной вместе со всеми (запахло Корчагиным, запахло бурной жизнью!). Тогда Витькин отец «по-жизненному мудро» растолковал нам, что целина и всякие новостройки это пустые «разговорчики» и нас, дурачков, туда заманивают. Витькин отец, смеясь, нам говорил, что деловым людям наплевать на Корчагина. Это-де мы читаем разные книжки, волнуемся, а у них заботы о деньгах, о пальто, о квартире; тот, мол, кто поумнее, ездит в собственном автомобиле. И мы перестали думать о новых землях.
Наконец Витька явился в школу разодетый в ядовито-зеленый костюм, в узких брюках, туфлях с пряжками и на микропоре и заявил, что прожить без бед, без нужды, весело – вот мудрость жизни, потому что жизнь коротка, а молодость еще короче.
Комсорг сказал ему: «Эх ты, стиляга!» А Витька возразил и доказал, что «стиль» – это удобно и хорошо.
Еще Чехов говорил, что люди должны одеваться красиво; узкие брюки не болтаются на ногах, как юбки, и не треплются, а толстые подошвы удобны в грязь. И это было совершенно справедливо. Я бы сам оделся стильно, если бы моя мать зарабатывала столько, сколько Витькин отец.
Но ведь для этого нужно ловчить. Я не хочу! Я не хочу! Я не хочу, чтобы они были правы! А они правы?
Где же, где же взять учебник о жизни? Не устав, не свод законов, а обыкновенный умный и честный разговор, разговор по душам, как прожить жизнь по-настоящему, как прожить честно и смело?
Наш дорогой директор школы, наши уважаемые [40] наставники! Вы сообщили нам массу полезных вещей, вы дали нам знания, но вы не сказали о чем-то самом большом, а накормили нас пустой розовой сказкой, легендой и пустили в свет: «будьте достойными», то есть выпутывайтесь сами.
А как выпутываться, я не знаю.
«А что, если здесь, в Сибири, я зашибу деньгу, оденусь стильно, поработаю, сколько захочу, и вернусь в Москву? Витька ахнет, а Юна… Посмотрим, что она запоет, когда я явлюсь на толстых подошвах, с золотыми часами, куплю «Победу». И вообще… жизнь коротка, а молодость еще короче. Что, если это и в самом деле самое мудрое? Самое мудрое…»
Эти мысли лезли мне в голову, когда я, оставшись один, молча лежал на своей полке весь отрезок пути от Тайшета до Иркутска.
«Волга» – изумительный автомобиль! Ты сидишь за рулем немного небрежно, твоя машина ожидает тебя у театра, и ты выходишь с девушкой и говоришь ей: «Прошу». Дверца щелк – и асфальтовая полоса бежит под радиатор. «А правда, что в Сибири трудно?» – спрашивает Юна. «Конечно, нелегко. Там требуются мужественные люди».
Почему, если человек один, он так беспомощен? Почему он так слаб? Чтобы чего-нибудь добиться в жизни, сколько нужно пройти, сколько нужно потолкаться среди чужих, занятых своими делами и безразличных к тебе людей! Вот я сошел на иркутском перроне, и бодрость моя стала съеживаться, съеживаться…
В шумной толпе я растерялся и никак не мог найти выход в город. Все вокруг торопились, бежали.[41] Кричали над ухом: «Есть горячие пирожки!.. Вот свежие щи!» Разговоры, цветы, поцелуи, смех. Всех встречают, все куда-то пойдут, у них есть дома, семьи или знакомые. А я вдруг почувствовал себя таким одиноким, никому не нужным. Вот просто – болтается в мире какой-то человек. Зачем болтается? Почему?
Пристань оказалась недалеко от вокзала, за мостом. С моста Ангара была величественной, широкой, с удивительно быстрой и красивой водой. Плавали катера, лодки, шипел буксирный пароход, разворачивая баржу.
Дебаркадер папахнул горячими досками, смолой и тиной. Он был пустынен. У кассы я прочел расписание. На Братск сегодня пароходов не было.
Да, хотел бы я посмотреть, как бы вы себя чувствовали на моем месте! Я был взвинчен, взволнован; расписание совсем расстроило меня. Я сел на перевернутую лодку, смотрел, как женщины полощут в реке белье, и, чтобы как-то успокоиться, стал убеждать себя, напоминать себе, что ведь все в порядке.
Во-первых, я еще в дороге, еще не на Братской ГЭС. Я пассажир, экскурсант. У меня еще есть триста рублей.
Во-вторых, это к лучшему, что нет парохода. Надо посмотреть город, а под городом строится Иркутская ГЭС – это тоже нужно обязательно увидеть.
А переночую на берегу, хоть и под этой лодкой. И мир вообще прекрасен, нечего в нем теряться. Выше нос, Толя! Я умылся ангарской, холодной как лед водой, вытерся носовым платком, подхватил чемоданчик и пошел с растрепанными мыслями по Иркутску.
Это, оказывается, изумительное, ни с чем не сравнимое чувство – когда приезжаешь в незнакомый город и узнаешь его, открываешь в нем что-то его привычное и неповторимое. [42]
Впервые в жизни я увидел деревянные тротуары. Это ряды досок, проложенные вдоль улиц по обеим сторонам, отполированные подошвами, по ним приятно и как-то спокойно, уютно ходить – стук-стук…
Улицы Иркутска были тихие, тенистые, уже с утра жаркие и пыльные, словно это и не Сибирь, а по меньшей мере Средняя Азия. Город пах летом, пылью и горячей листвой. Прохожие не торопились, не неслись, как по Охотному ряду, одеты были просто, скромно – и все стали казаться мне приветливыми. Автомобили были редкие, ездили осторожно и долго испуганно сигналили еще за сто шагов от перекрестка. В Москве мы уж совсем отвыкли от гудков.
С пыльных заборов смотрели устрашающие пасти львов, и реклама кричала, как она может кричать, наверно, только в провинции:
– Бабушка, вы не покажете, как пройти к центру?
– К центру, сынок? Поезжай на трамвае.
– На каком?
– На первом, сынок.
Я подошел к остановке и стал ждать первого номера. Трамваи подходили, но… они были без номеров. «Странно, – думал я, – как же их различают люди?» Безномерные трамваи изредка подползали, никто ничего не объявлял, а пассажиры садились, как-то угадывая нужный вагон.[43] Толпа на остановке была большая, люди спешили на работу, двери вагонов брались с бою. Угрюмый длинный старик со стулом не мог попасть уже в третий трамвай. У него я несмело спросил:
– Скажите, пожалуйста, какой это номер?
– Никакой.
– Как?
– Ага, вы с вокзала? В Иркутске одна линия. Понятно? Одна! Чтоб их черт раздавил! В древнем Египте, наверно, трамвай был лучше. Ага-а!
Подполз очередной трамвай, и странный старик ринулся к ступеньке. Я так удачно последовал за ним, что толпа приподняла меня от земли и буквально внесла в дверь.
Представьте себе этакое приземистое красное сооружение, похожее на увеличенную спичечную коробку, с крохотной жалобной лампочкой впереди, которое грустно звякает «динь-динь», жужжит, катится, а внутри так набито людьми, что не продохнуть, не пошевельнуться, только поскрипывает крыша. Героические иркутские кондуктора дают сигнал с помощью веревки и кричат:
– Оплачивайте! Приготовьтесь на выход!
Линия была длинная-предлинная, она тянулась через весь город. Я сошел там, где сходило больше всего людей, то есть меня опять вынесли. В витрине висела «Восточно-Сибирская правда», и там я кстати прочел, что в недалеком будущем «Иркутск украсится троллейбусом». Страница газеты была посвящена молодым строителям телецентра. «В мире чудес» называлась заметка о телевидении. Мне было так странно: здесь это – еще чудо будущего. И вдруг я впервые ясно ощутил, понял, как много еще дел в стране и сколько есть еще городов вообще без трамвая и всего того, к чему давно привыкли в Москве. Трамвай – мелочь,[44] просто он натолкнул меня на эти мысли, и я с удивлением как бы остановился и посмотрел вокруг другими глазами…
Текла обычная жизнь улиц, но мне все казалось новым, особым. Я хотел понять этот незнакомый город и его людей. Вот они живут далеко в Сибири… Чем они живут? Куда они идут? У всех заботы или просто гуляют? Мороженое на углах; толкучка у киоска с водой; рыбьи хвосты шевелятся в кошелке у старушки – странные рыбы. Я вспоминаю, что видел такие на рисунках. Стерлядь! По мостовой едет не спеша извозчик – самый настоящий, живой. Неплохой книжный магазин – заперт еще на замок; а на витрине «Мартин Иден»; в Москве его не достанешь… Носятся пыльные, обшарпанные такси – «Победы»; надписей «Переход» нет, переходи себе где вздумается.
Дома – самые разные, каждый живой и со своим характером. Нет плоских монументальных фасадных рядов. Дома, вероятно, строились в разные времена, в разных стилях, промежутки между ними заполняли павильончики, плющ, а в общем вышло что-то очень теплое и уютное. Каждая улица – как книжная полка в библиотеке. Там стоят новенькие, пахнущие краской, с хрустящими страницами тома – и рядом какая-нибудь брошюрка, какой-нибудь заслуженный, подклеенный, доживающий свой век «Монте-Кристо».
Были новые громадные жилые дома, был старинный театр и величественное, с колоннадой Управление Восточно-Сибирской железной дороги. А стоило свернуть вбок – и уже теснились деревянные срубы из могучих бревен, темно-коричневые домики с белыми ставнями, с воротами из тех же могучих бревен и табличками «Во дворе злые собаки». Мне казалось, что я попадаю в мир пьес Островского. И вдруг тут же, рядом, оказывается современный, шумный, заасфальтированный двор с детской площадкой,[45] волейболом – совсем как в Москве. Только перед свежим, новым зданием, заваленный известковыми бочками и лесами, еще торчал приземистый купеческий лабаз с ржавыми гофрированными шторами, старинным замком и современной вывеской «Универмаг».
Чудилось, что дома борются. Старые и маленькие, почерневшие, со злыми собаками, хотели сидеть тихо в своих мирных углах; они выращивали капусту и вывозили ее на базар. Но приходили новые, веселые; они становились там, где им хотелось, – молодые, уверенные, не всегда и замечающие, как по-волчьи зло топорщит современный лабаз свои кривые железные шторы, как деревянные срубы толпой торопятся прочь, в кусты, под листья, гневно сверкают заплывшими крохотными оконцами: их покой нарушили, какой ужас! Караул!
Так бродя, я наткнулся на чистильщика. Он расположился у каменной ограды в уютном, затененном местечке. Вдоль ограды молча, неподвижно сидели несколько толстых, ленивых мужчин и рассматривали прохожих, изредка тихо переговариваясь. Мои ботинки запылились и вытерлись чуть не добела. Я нерешительно остановился.
Чистильщик молча, жестом фокусника метнул мне табуретку.
Я сел, и толстяки принялись осматривать меня с головы до ног.
Не знаю, где, у кого он учился, но такого виртуоза, такого чудо-чистильщика я еще не видывал. Руки у него мелькали быстро-быстро, будто растворились в воздухе, только слышалось жужжание щеток; так [46] жужжит вентилятор. У чистильщика мелькали кисточки, коробки, черные шарики, камушки, тряпочки. Щетки у него были пяти или шести сортов. Он подбрасывал щетку правой рукой, брал коробочку, а в это время ловил щетку левой рукой, посылал ее под колено, а в воздух уже летела бархотка…
Я просто онемел, а толстяки смотрели придирчиво, с видом знатоков и ценителей. Я понял, что это чистильщик-талант, чистильщик-знаменитость и возле него, как артиста, собираются любители и болельщики. Изредка кто-нибудь взволнованно вздыхал и подзадоривал :
– Серега, а ну, махни!
Под шквалом щеток я был жертвой, подопытным, ассистентом фокусника. Время от времени Серега непонятным способом извлекал из своего ящика длинную трещотку-руладу: «Трр-р-ра, трр-то!» И это означало: переменить ногу.
Чистка длилась невыносимо долго; я вспотел и забыл обо всем на свете. Мои старые, истрепанные ботинки засияли, как зеркало; исчезли трещины, морщины; в ботинки смотрелось солнце, и по ним пробегали тучи.
Наконец раздалась протяжная, особенно замысловатая рулада, и Серега выпрямился с каменным лицом. Я чувствовал себя, как после бури.
– Сколько?
Серега молчал. Стояло взволнованное напряжение.
– Р-рубль, – сказал один толстяк.
– Два, – прошептал другой.
Я дал три.
Я пошел, кося глазами на ботинки, и мне вдруг стало радостно. Почему, не понимаю, но словно бы кто-то пожал локоть и шепнул: «Не беспокойся, все хорошо!» [47]
Словно разрешился еще один какой-то очень важный вопрос, который давно меня мучил, давил. Что за вопрос?
Ничего ведь не произошло. Просто я направился на Иркутскую ГЭС в начищенных ботинках. Иногда я вспоминал молчаливого блестящего мастера Серегу, улыбался и только крутил головой…
– Ну, а если я тебе по соплям? – спросил он со спокойной яростью.
Я тоже возненавидел его, но взглянул и просто понял, что если он меня стукнет, то от меня ничего не останется: из-под голубой тенниски торчали не руки, а сплошные узлы мускулов.
Он был смуглый, железный, стриженный под ершик, похожий на боксера. Толпа на поворотах валилась на меня, я валился на него, а он спокойно сдерживал всех, только узлы на руках слегка надувались.
– Что я сделаю? Меня толкают.
– А по соплям? – повторил он свой вопрос, глядя в упор и двигая желваками.
Автобус на Иркутскую ГЭС – это целая эпопея. Ободранный, с поломанными дверцами, с заколоченными фанерой окнами, набитый больше чем до отказа, он летел, словно с горы катилась бочка с сельдями, прыгал, грохотал, пылил. Ничего не рассмотришь, пот заливает глаза… Мимо остановок автобус пролетал на сто метров, высаживал одного – двух пассажиров, и, пока передние из ожидавших добегали до задней двери, это чудо транспорта рявкало, радостно обдавало их дымом и оставляло всласть ругаться и плеваться в тучах пыли. [48]
– Оплачивайте! На переезде есть на выход?.. Нет?.. Водитель, не открывай дверь!
После очередного навала, когда меня прижали к моему врагу в голубой тенниске так, что я чуть не расплющил нос о его каменную грудь, сосед зашипел и осторожно двинул ногой. И только тут я с ужасом понял, что уже четверть часа стою каблуком на его пальцах.
– Простите… извините, я же не знал!
Вместо ответа он поднес к моему носу огромный кулачище, пахнущий железом, и тут же повернулся к другому соседу:
– Ну что, не подходит? Наивный, вытащил наряды. Давай сюда.
Ошеломленный мальчишка лет шестнадцати, в одном пиджачишке на голом теле молча высвободил руку и протянул пачку скомканных розовых листов. Мой враг в тенниске спокойно взял их и сунул за пазуху. Я ничего не понял.
– Кузьмиха! Есть на выход?.. Нет?
– Ой, пустить! Ой, людоньки!
– Чего ж ты молчала? Остановите машину! Эй, эй, постучите!
– Пустите бабку! Мешок ее отпустите!
– Да подождить! Ой, го-о-споди!
– Поехали. Водитель, поехали!
Ну и путешествие! У меня сердце стучало, дышать было нечем. На крутом вираже в последний раз повалило всех набок, и кондуктор объявил: «Первый поселок! Приехали», а я не мог расправиться, вышел, пошатываясь, на асфальт, и по телу бежали мурашки.
Стройка была за горами, далеко вверх по Ангаре. Веял приятный ветерок. Чистенький, необычный городок, асфальтированные улицы, газоны, веселенькие [40] розовые, голубые двухэтажные дома под двухцветным шифером в шахматную клетку. Необычные названия улиц: имени Бородина, Мухиной, Якоби, Театральная, Приморская, Стройка!
Вот она, знаменитая сибирская стройка! Торчат вдали башенные краны, жужжат транспортеры – строится поселок… Пожарная машина стоит посредине улицы, и пожарники в касках, с топориками деловито смывают мусор в канавы, поливают газоны. Пегая корова бродит по асфальту. На щите объявление: «Сегодня в клубе первого поселка – «Мечты на дорогах».
С утра я еще не ел, потому, увидев вывеску «Столовая», решил: позавтракаю и двинусь на стройку.
В столовой было шумно, жарко, стоял чисто «столовый» запах жареного мяса и грязной посуды, жалко торчали у окон пальмы. На каждом столе было по пять, по десять кружек пива, так что некуда ставить тарелки. Говор, гогот, дым. Очередь у кассы.
Я уже был у самого окошечка, как кто-то дернул меня за рукав. Оборачиваюсь: мой «враг» в голубой тенниске сует десятку:
– Возьми и мне, что себе берешь.
– Да… я еще не знаю…
– Щи со свининой, байкальский омуль и компот. Омуль с душком, во! Берешь?
– Давай.
За столом он добродушно улыбнулся и протянул широкую каменную ладонь:
– Леонид. Ты мне здорово намозолил. Прямо хоть по шеям! Болят у меня пальцы-то: кирпич на ногу упал… Видать, не здешний?
– Из Москвы.
– У-у… А я сибиряк. Коренной… Работать к нам?
– Нет, посмотреть. Я на Братскую ГЭС еду. [50]
– Будто здесь делать нечего? Стой! Так ты и омуля ведь еще не ел? Эге! Сейчас попробуешь! А я тут с первого дня… Эх ты, путешественник!..
Последнее относилось не ко мне. За соседним столом, развалясь, уселся наш сосед по автобусу, мальчишка в пиджаке. Он потребовал от официантки два стакана горячей воды, добыл из кармана крохотную луковицу, разрезал ее, густо посолил, взял из вазы хлеб, помазал горчицей и принялся уплетать такой странный завтрак, запивая его пустым кипятком.
Пока мы ждали, что у нас возьмут талоны, Леонид вдруг вскочил, кому-то у кассы опять сунул деньги, поймал официантку – иначе мы бы ждали, наверно, целый час, – и на столе оказались три тарелки щей со свининой, омуль и три компота.
– А ну, путешественник, перебазируйся к нам!
Мальчишка улыбнулся, охотно подхватил свою луковицу, хлеб с горчицей и подсел к столу.
– Вот твое. Лопай.
– Да ну!..
– Лопай, лопай! Что, не заработал сегодня?
– У меня вытащили.
– Да-да. Много?
– Полторы тысячи.
– Ого! А где ж твоя рубашка?
– Я специально так.
– Как?
Мальчишка нагнулся к нам и зашептал, делая страшные глаза:
– Я работаю. Понимаешь, работаю в органах, в угрозыске. Маскировка, понял? У меня, брат, задание… м-м… – Он одновременно ел, захлебываясь, обжигаясь, расплескивая щи на стол. – Нащупал одну шайку; начальник угрозыска говорит: раскроешь – десять тысяч на бочку![51] Слежу… м-м… А они меня схватили, да в холодную…
– Кто? Шайка?
– Нет! Милиция! Тут остолопы, в Иркутске. Я двое суток на товарнике пер. А они говорят: из какого детдома бежал? Мне тут след не потерять… Я кулаком по столу!
– Да не спеши, не спеши, подавишься.
– Я вот позвоню начальнику, скажу ему – от них пыль полетит! Он им задаст! Звонил утром, его нет, уехал на задание. Здесь у вас на стройке делишки есть? Ну, я теперь прибыл. Только ша! Мы их выловим, будьте покойны!
– М-да, – сказал Леонид, почесывая затылок. Глаза его смотрели задумчиво, серьезно. – Фу т-ты, изверги, опять омуль без душка! Ах, чтоб вы!..
Я попробовал. Это была обыкновенная свежая рыба.
– Я же хотел тебе показать! Когда она припахнет чуть-чуть – эх, это ж объедение!
– Ничего, зато свинина с душком, – отметил я.
– Ну? – встрепенулся наш мальчишка. – Ну? Безобразие! Стоп! Мы это дело так не оставим. Запишем. Официантка! Какой номер столовой? Фамилия шеф-повара? Не хотите отвечать? Запишем…
Он выхватил пачку истрепанных бумажек, желтый цветной карандаш и начал чертить: «Столовая № 5… обед… безобразия… омуль без душка, свинина с душком…»
Я прыснул и чуть не захлебнулся. Леонид подмигнул :
– Ну, а документы у тебя есть, угрозыск?
– Все есть. Дежурный в отделении отобрал. Ну, я и без них. Мне бы только начальнику позвонить – отдадут все как миленькие. Ух, и влетит! [52]

– А это что за бумаги?
– Да так…
– «Продается дом в Кузьмихе с коровой, обращаться: улица Садовая, № 16…» Это чего? «Только по случаю отъезда. Продается коза шести лет, с козленком, дойная, медицинское молоко. Звоните по телефону…» Хозяйством обзаводишься, что ли?
– Да нет! Ну, просто так. Висит, ну, думаю, захвачу, прочитаю.
– Это на столбах-то посдирал?
– Всюду.
– А это… ну и грамотеи, ничего не поймешь… «Хто втирав парасонка мес. 1,5–2, просба прити забрать». Ну и что ж ты, забрал поросенка?
– Еще не ходил…
– Слушай, а это умно, брат! А? Понимаешь, Толя, он идет по такому объявлению, торгует козу, дом, корову, что-нибудь на пути подхватит, все высмотрит…
– Ну да! Это все для угрозыска! Только ша!
– Только, братец, не похож ты на покупателя или владельца поросенка. Ветер-то под пиджачишком свищет.
– А я не от себя. Тетка меня послала. Больная она, жадина.
– Хо-хо-хо! Силен парень, голова! Ну ладно, а ночевать-то у тебя есть где?
– Я где угодно…
– Ночью холодно. Дождь пойдет или опять тебя за жулика примут. Бери карандаш… Желтый. Это когда дом покупал, подцепил, да? Ну, пиши: «Пятый поселок, барак девять, комната пять». Меня спросишь, Леонида. Приходи ночевать, потолкуем, поужинаем. Может, пристроим тебя. Я тебе скажу так: будешь в бригаде у меня работать – каждый день будешь щи со [54] свининой лопать, а с этим твоим «угрозыском»… В общем, приходи ужинать!
– Спасибо…
– Заходи запросто. Тебя хоть как звать?
– Саня.
– Заходи, Саня. У меня и рубаха найдется.
– Приду.
Мальчишка выскочил из-за стола и, втягивая голову в плечи, кинулся к двери. Леонид задумчиво постучал ложкой:
– Вот какого-нибудь подлеца-пропойцы семья. Драпанул из дома малец и лазит по карманам. А головка у него хорошая…
– Ты думаешь, придет?
– Приде-от! Сколько я уж ихнего брата встречал. Его только погладь, ласку ему покажи. Он ее век не видел…
Мы вытряхиваем песок из ботинок на самом гребне земляной плотины.
Леонид вызвался показать мне стройку: «Все равно делать нечего, давно я не гулял», – и мы вдвоем полезли по котлованам, по эстакадам. Мы забирались в донные отверстия, сидели в самих агрегатах, там, где скоро будет бурлить вода и вращать лопасти. Карабкались по арматуре, катались на лыже шагающего экскаватора, тряслись в кабине двадцатипятитонного самосвала.
Леньку все тут знают: он бригадир плотников. Шоферы останавливаются, предлагают подвезти его; с экскаваторщиками он договаривается пойти на танцы.

Пыль, жарища, звон, лязг. Я, растерянный, бродил, спотыкаясь, за ним, ничего уже не соображая,[55] не разбираясь, где тут спиральная камера, зачем «засыпают пазуху», а он тащил и тащил, выкрикивая:
– Вот она, плотина! Добра! А это мы на дне моря… Стой, не ходи: там взрывают.
За горами щебня ухали взрывы, взлетали мелкие камни: дробили скалу для шагающих экскаваторов. Я впервые видел все это, мне казалось, что это – кино, во сне, голова кружилась.
Уже совершенно без сил я плюхнулся на гребне плотины. Отсюда все было видно, как на плане. Стройка раскинулась в излучине реки. Тут вырыли глубочайший котлован – целый овраг, ниже дна Ангары – и обгородили его дамбами.
В котловане стоит здание станции – все в лесах, в железе. Над ним по эстакаде ходят шесть портальных кранов. От здания до Ангары протянулась чуть не на километр уже насыпанная земляная плотина, на которой мы сидим. Как только здание достроят, дамбы разрушат – и вода хлынет в овраг-котлован, затопит [56] все. Тогда плотину досыплют до того берега, запрудят Ангару – и она пойдет через станцию, начнет затоплять долину, поднимется до гребня плотины на тридцать метров. Будет море…
Море в центре Сибири…
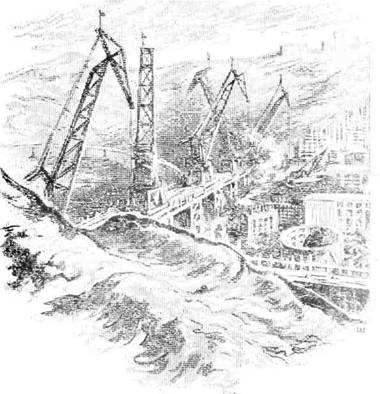
Я, поневоле взволнованный, стоял, смотрел – и впервые по-настоящему начинал постигать смысл тех удивительных преобразований, о которых я не раз читал, слышал и все равно не особенно разбирался в них. Стройки, гидростанции, новые железные дороги, добровольцы, едущие на целину и в Сибирь…[57] Ветер беспокойства, захватывающий все и вся, ветер продолжающейся эры великих дел и великих открытий!
Кто же это выдумал: «каторжная Сибирь»? Термин из музея! Это же по недомыслию, из-за негодных когда-то средств передвижения! А теперь, когда Сибирь стала близкой и проходимой, в ней началось такое, чего Европа и не видела, о чем и не мечтала. Старая, тесная, обжитая и позастроенная Европа… Тут, на целинных просторах, рубят сразу, огромными ударами, вот как здесь. А ведь это действительно здорово!
На плотине было пустынно и относительно тихо; шумы и звоны неслись снизу, завывание шагающих. Прилетела длиннохвостая серая птичка, села на камешек и разглядывала нас, вертя головкой.
– Плисточка, – ласково сказал Ленька. Он был такой смешной: раскорячился на песке, зажав в руке ботинок, мощный, неуклюжий, с боксерской физиономией и ласковым голосом. – Плисточка… Ах ты, глу-пунька моя! Интересно тебе, да? Ну, что смотришь?.. Они тут часто летают. Все звери и птицы ушли, а плисточки – нет. Припорхнет к тебе на арматуру, сядет и смотрит: а что это такое люди делают? Хорошая пташка… А в общем, Толя, ты идешь ко мне бригаду.
– Что?
– А что? Не нравится тебе у нас, да? Эх ты, голова! Что там, на Братской-то, делать? Все туда и туда прут, один на одном уже сидят. Да мы туда еще успеем! Вот тут дела! Ангару скоро прудить будем. Быстра она, сильна – во что будет! Оставайся, право, наивный ты человек. Запрудим – поедем вместе на Братскую! Там еще ничего нет, лес рубят, а здесь самое главное. Пошли! Пошли ко мне в бригаду! Вместе жить будем! [58]
– Слушай, да я же не умею и топор в руках держать…
– Научу! Чучело, пошли! Во-он наш блок! Видишь, вон стучат. Вот там и я буду ночью стучать: стук-стук, швяк-швяк, га-а-а!
– Ты, Ленька, в самом деле влюблен в стройку, как в девушку.
– Больше. Ты же ничего не понимаешь… Вона, взгляни, дома, которые я строил. Я же тут с первого дня. Сарай стоял, ты понимаешь?.. Весь лес, вся опалубка через эти руки… А-а! Идешь в бригаду или нет? А то сейчас полетишь у меня вниз!
Я действительно полетел, подталкиваемый им; опять набрали полные ботинки песка, но уже не вытряхивали. Ленька буквально внес меня в дом управления ГЭС, прямо к главному инженеру.
– Но постой, как же так сразу!.. Я же…
– Молчи!.. Инженер!
Он прямо обратился к инженеру, принялся расписывать, что бригаде нужны люди, а я вот из Москвы, со средним образованием, горю желанием, только что приехал, и прочее, и прочее…
Инженер, занятый делами, улыбнулся, бегло взглянул на меня:
– Сейчас, Леня, позарез нужны не плотники, а бетонщики. Четвертый участок, бригада бетонщиков Москаленко. Если согласны, черкните заявление.
Как во сне, под диктовку Леонида я тут же написал: «Прошу оформить меня…» Инженер махнул на уголке: «Не возражаю», – и мы вылетели. Что-то еще заполнили в отделе кадров – без волокиты, без ожидания, молниеносно.
– Вот бумажка, по ней вас поселят. На работу с понедельника, во вторую смену. Получите спецовку. [59]
Мы вышли из конторы, и только сейчас я раскрыл рот. Как? Уже я на работе?.. А Братская ГЭС?
– Говорю же тебе, мы туда еще попадем! – радостно заорал мне на ухо Ленька. – Танцуй, наивный человек, дуракам везет: ты знаешь, что такое бригада Москаленко? Это самая передовая бригада. У них же знамя полгода, никому не отдают!
– Ленька! Но я понятия не имею, что такое бетон!
– Да научишься же, горе ты мое! Не боги горшки обжигают. Раз берут без всяких, значит позарез нужны. В два счета научишься. У тебя же, москвич, среднее образование! Пойми! Да я только Москаленчихе тебя и отдаю – в другую бы ни за что! Вишь, инженер как схватился: сразу в лучшую бригаду. Я для себя тебя обрабатывал… Ладно, все равно ты мой крестник, уже двенадцатый!
– Ах ты… черт!
– А что ж ты думал? Нечего мне делать, я буду даром тебя по стройке таскать? Отбили у Братской, отбили! Ура-а!
Только теперь я понял, что дорога на Братскую ГЭС у меня так неожиданно удлинилась. Какая прелесть, когда нет бюрократии: быстро, четко оформили, по-деловому! С драгоценной бумажкой: «Просим поселить бетонщика 4-го участка…» – ух! – мы с Ленькой устроили кросс по пересеченной местности к домоуправлению.
Срезали угол по дамбе, прошмыгнули через забой шагающего, пока махина неуклюже разворачивалась в другую сторону, прыгали через две ступеньки по деревянной лестнице, выбираясь из котлована… Потом город, потом болото со стадами коз. Через болото на [60] сваях проложены мостки, и доски весело скрипят и гнутся под ногами. А дальше, на холме, пятый поселок общежитий – ряды одинаковых бараков, веселеньких с виду и похожих друг на друга.
Домоуправление – в маленьком домике-времянке. Снаружи обыкновенная изба, а внутри заляпанные чернилами столы, счеты, телефоны, запах промокашек и ведомостей; занятые служащие уткнули носы в разграфленные книги, и длинная очередь к двери с табличкой «Домоуправ».
– Нам… фух-х!.. Нам нужен комендант.
– Ее нет, поехала получать белье. Подождите.
– Надолго?
– Нет.
После бега мы не могли отдышаться. Сели на табуретки. Ну что ж, подождем. Жарко…
– Слушайте, это безобразие! У меня семья шесть человек, а вы держите нас в общежитии.
– Подождите, сдадут восемнадцатый дом, вас переселят на первый поселок.
– Вы мне обещали в шестой дом, в двенадцатый дом, в тринадцатый дом. Я к начальнику стройки пойду! Долго будет тянуться это издевательство? Пришел с ночной. Вместо того чтобы отдохнуть, с самого утра обиваю ваши пороги.
– Я сказала: сдадут восемнадцатый дом…
– К бабушке восемнадцатый, поселяйте в тринадцатый!
– Тринадцатый заполнен.
– А почему механика поселили? Он позже меня приехал, а уже живет. У него сестра комендант, да? А у меня семья…
– Вы не один. У всех семьи.
– Где домоуправ?
– Домоуправ в ЖКО на планерке.[61] Можете подождать и скажете ему свои претензии, а я бухгалтер. Не мешайте мне работать.
– Кто крайний к домоуправу?
– Тут одна баба, побежала в ЖКО стекла бить начальнику.
– А нас поселили на кухне, – улыбается добродушный, толстый парень. – Три семьи, все молодожены. Развесились занавесочками. Ах, чтоб вы передохли! От этого ж производительность труда падает!
Все хохочут.
– Как с холостяков налог брать, так сейчас, а как молодоженам квартиру – дудки!
– Где домоуправ?
– А я вам русским языком отвечаю: на планерке в ЖКО. Ждите.
Очередь все растет, гудит, и мы с Ленькой счастливы, что нам нужен всего лишь комендант.
Мы сидели долго, вошли в курс семейных дел половины поселка и прониклись жалостью к страдалице-бухгалтеру, которая за отсутствием домоуправа должна выслушивать все беды и нужды жилищные.
Часа через два явилась молодая симпатичная женщина, спокойная и неторопливая.
– Ох, Вера, в промтоварный привезли такое штапельное полотно!.. Вы ко мне, мальчики? Давайте бумажку. Один?
– Один. К нам его, в наш дом!
Она черкнула что-то:
– Вот и все. Теперь нужна виза: «Поселить». Идите к домоуправу, а потом я выдам белье.
– К домоуправу?! А-а… нельзя сначала белье, а потом к нему?
– Нет, нельзя, такой уж порядок. Без визы я не могу. Нет, нет, мальчики! [62]
Ах, чтоб тебе!.. Стали мы в хвост очереди. Сидели два часа, могли ведь быть чуть не первыми. Теперь нет жалости в наших сердцах и к бухгалтеру.
– Где домоуправ? Когда он придет?
– Я вам сказала русским языком…
– Вы мне на турецком скажите!
– А вы не грубите!
– А нам нужен домоуправ!
Так мы слушаем еще час. Ленька высказал предположение, что на планерке в ЖКО решают вопрос длиной в четыре километра, и так как прошли уже второй столб, надо что-то предпринимать. Дай бог Леньке здоровья, без него бы я тут пропал.
– Товарищ бухгалтер, как фамилия домоуправа?
– Чижик.
– Пошли в ЖКО.
Мы долго плутали среди бараков. Наконец нашли. Избушка, счеты, телефоны, бухгалтер и очередь к двери с табличкой «Начальник ЖКО». Стекла целы.
– Какая такая планерка? – искренне удивился тамошний бухгалтер. – Планерки сегодня не было.
– А может, Чижик у начальника в кабинете?
– Да самого начальника нет, он на совещании в АХО. По-моему, Чижик только что тут был, но он пошел в свое домоуправление.
Вот беда же! Пока мы бегали, Чижик, оказывается, уже там. Скорее в домоуправление! Прибежали запыхавшись.
– Пришел?
– Нет.
– А знаете что: наверно, он в магазине, – сжалилась над нами бухгалтер.
Сил нет терпеть. Жара, духотища, в очереди брань… Мы побежали в магазин. Закрыто на обед. В другой – [63] там нет ни души. Проклиная Чижика, взмыленные, мы воротились в избушку.
– А-а! Он, пожалуй, в клубе пятого поселка: там ремонт, – догадалась бухгалтер.
Ну хорошо же! Мы не сдадимся, пока не найдем Чижика. В клубе действительно все стояло вверх ногами: маляры красили стены. Чижика они не видели. Мы измучились. Пыль, жара; ленивые собаки валяются в траве; козы лежат на дороге и жуют, жуют; у козлят на шеях рогатки из прутиков, чтобы не лезли сосать молоко. Чья-то молодая жена стирает в тени барака детские распашонки и развешивает их на веревках.
Тогда Ленька плюнул, выругался и сообщил, что у него есть еще одна идея. Мы снова наведались в домоуправление и узнали у бухгалтера домашний адрес Чижика. Он жил на улице с поэтическим названием: Композиторская, 50, индивидуальный домик.
Тридцать человек в очереди остались ждать нашего возвращения. Если мы приведем Чижика живого или мертвого, нас пропустят первыми. Всего только одна виза: «Поселить» – одно слово, полторы закорюки. Места в общежитии есть, белье есть, комендант тоже есть, но, того и гляди, уйдет за штапельным полотном… Чижику глубоко безразлично, кто я такой; он не будет спрашивать мою биографию, он только обмакнет перо и выведет: «По-се-лить», как выводил сто, двести, тысячу раз. Но для этого нужна его рука. Только его августейшая рука. Такой порядок. Живого или мертвого!
И мы его нашли.
Нельзя сказать, чтобы он был совсем живой, но, во всяком случае, он двигался. Легендарный Чижик, пьяный в стельку, стоял по колена в грязи за забором своего индивидуального домика по Композиторской, 50,[64] и поливал из шланга свой индивидуальный огород.
Ну скажите же, какой идиот в такую жару поливает огород? Ведь вся капуста сгорит!
Танцы были при луне, прямо посредине улицы Мухиной, на асфальте. Все девушки казались необыкновенно красивыми. Пахло духами, сеном и парным молоком: в это время хозяйки доили коров.
Я танцевал с девушкой, по имени Тоня. Она худенькая, крепкая и стройная. Лицо у нее узкое, нос острый. Глаза большие, широко расставленные; косы венком вокруг головы и очень красивые брови – тонкие, густые, словно проведенные углем. Я про себя назвал ее «Тоня с соколиными бровями».
Может быть, я чуть-чуть влюбился, потому что забыл и про Леньку, и про то, что завтра получать спецовку, проходить инструктаж, – я провожал Тоню домой, к ее общежитию на Приморской улице, а потом шел один, дышал, размахивал руками и пел. Как хорошо!
Тихи, пустынны поселки ночью. Лают собаки; гулко стучат каблуки по мосткам через болото; одинокий фонарь слабо освещает ржавую воду и кочки; светятся ряды окон в наших бараках.
Вдруг я остановился в недоумении. Все это так, но… какой же барак мой? Знаю, что не крайний, но какой: второй, третий? И в каком ряду? Неприятный холодок отрезвил меня: номер я забыл.
В домоуправлении теперь никого нет, чтобы спросить. Постучаться к кому-нибудь и узнать? А что? «Скажите, пожалуйста, где дом, в котором я живу?»
Стал ходить вдоль и поперек поселка,[65] силясь припомнить хоть какую-нибудь примету. Но все бараки были близнецами: с одинаковыми крылечками, одинаковыми дверями, даже дорожки к ним вели одинаковые.

Это был какой-то кошмар. Я тыкался в двери, сомневался, испуганно спешил обратно. Ага, вспомнил! Если войти в мой дом, то прямо перед входом будет дверь с надписью «Сушилка».
В первом же доме, куда я решил войти, сразу бросилась в глаза надпись «Сушилка». Пошел по коридору, отсчитывая двери, – хорошо еще, что помнил: моя дверь третья налево. Она! Распахнул и… бросился назад. Полная комната пара. Толстая тетушка в одной рубашке купает малышей. Нет, это явно не то.
Попетляв между домами, я сел на траве и приготовился к худшему. Мне предстояло ночевать под забором. Мне, бетонщику четвертого участка Иркутской ГЭС, имеющему свою кровать, две простыни, подушку и теплое одеяло!
За этот невероятный день я так набегался, так устал, подушка так явно представилась мне, что я вскочил и решил не прекращать поисков хоть до самого утра.
Нужна система. Крайние дома меня не интересуют, значит, уже меньше. Тот, в котором тетушка купает детей, тоже долой со счетов. Однако… в котором же это было? Я забыл!
Проклиная себя за невнимательность, я снова стал искать свой дом. К тетушке я наведался еще раз; она уже укладывала детей. Увидев меня, она бодро вскрикнула, схватила тряпку и бежала по пятам до самого крыльца.
В другом доме я попал на праздник: музыка, песни, звон посуды. Веселая, пьяная компания так обрадовалась моему приходу, словно весь вечер только меня и ждали. Схватили под руки, усадили за стол, и мне до сих пор неловко, что я отказался.
В следующем доме третью дверь налево открыл сонный небритый мужчина и сказал, что он меня знает, и, если я еще раз приду к его жене, он переломает мне ребра.
Свой дом я нашел далеко за полночь, в последнем ряду. Сегодня утром пошел было в магазин, но вспомнил вчерашний кошмар, вернулся и куском штукатурки нарисовал на двери крест.
В пятом классе я представлял себе рабочих, тех, что строят большие электростанции, гигантами в масках электросварщиков, всецело занятых социалистическим соревнованием и выполнением норм в процентах. [67]
А ведь это люди, это просто люди, такие же ребята, как я: это Ленька-сибиряк, Тоня с соколиными бровями, Дима Стрепетов в поезде, мои соседи по общежитию. Здесь меня приняли просто, почти безразлично: новый жилец – ну и ладно; спросили, с какого я участка, и пригласили есть суп. Вот с кем я буду жить: Петька. Он электрик, с нашего четвертого участка. Приземистый, плотный, сильный, как борец, с длинными руками. У него в карманах проволока, изоляция, предохранители, плоскогубцы, и в первый же день я застал его за милым занятием: он пришивал пуговицу с помощью клещей и медной проволоки. Петька объяснил, что так крепче, да и ниток в доме нет.
Вчера Петька мобилизовал наши одеяла, завесил наглухо окна и предоставил нам на выбор: либо сидеть в полной темноте, либо убираться к чертям.
Дело в том, что он любитель-фотограф. И я понял, что такая хорошая жизнь ожидается ныне, присно и во веки веков…
Петька принадлежит к той категории особо злостных фотолюбителей, которые все делают сами. Фабричный у него только фотоаппарат «Смена», а все остальное – увеличитель, фонарь, кюветы, бачки, проявители, закрепители – он делает своими руками. Прежде чем напиться воды, нужно мыть кружку горячей водой. Химикаты всюду: на столе, в шкафу, под кроватью. Карточки нужно сушить, и Петька раскладывает их на наших постелях, на подушках. Нужно делать глянец, и он заклеивает карточками оконные стекла. Потом карточки не отлипают, поэтому два стекла у нас выдавлены и завешены нашими же полотенцами (свое Петьке нужно, чтобы вытирать руки).

Тарелок для пищи у нас две, остальные заняты под фотографии.[68] Утром я нечаянно посолил кашу гипосульфитом и долго не мог понять, откуда такой странный вкус. Петька кашу отобрал, выбросил в ведро, успокоил, что гипосульфит не очень ядовит, и пообещал сделать мне замечательные фотографии. Он всем обещает.
К у б ы ш к и н. Его звать Сергей, но имя ему не идет: он Кубышкин, и все его так по фамилии и называют. Спокойный, самостоятельный, удивительный копуша: он все время чего-то копается и копается в своих вещах, книгах, посуде. Даже когда он сидит без движения на кровати, кажется, что он копается и бурчит.
Кубышкин, во-первых, арматурщик, во-вторых, большой гуляка. Домой он приходит, только чтобы покопаться и что-нибудь перехватить. Иногда, по словам Петьки, он и не ночует.
Вся тонкость в том, что Кубышкин сейчас занят щепетильным делом: он женится. Петька сразу же мне поведал, что Кубышкин – славный парень, но дурак: сам гол как сокол и влюбился в такую же девушку из общежития. Уж если бы Петька женился, он взял бы невесту из иркутских кулаков, с избой и коровами, оборудовал бы первоклассную фотолабораторию, пил по утрам чай со сливками и ел бы яичницу с колбасой.
Вопрос с женитьбой, очевидно, продвигается, потому что Кубышкин по всякому поводу говорит: «Мы с Галей». Вечером эта Галя впервые пришла с ним, и мы безжалостно ее осмотрели.
Она оказалась маленькой, щупленькой,[69] застенчивой. Лицо совсем уж некрасивое, бесцветное, серое. Руки она не знала куда спрятать – неуклюжие, красные. Она разнорабочая, у нее всего пять классов образования.
Когда отворилась дверь, сначала вошел Кубышкин – гордый, самостоятельный, небрежный, а потом уже за ним, за его спиной, оказалась тихая, испуганная Галя. Мы усадили ее на табуретку. Кубышкин независимо копался, громко говорил с нами:
– Завтра сдаем большой блок… Петька, где зеркало? У тебя лезвия есть? Степан уехал в отпуск, ты слышал?
А она сидела на краешке табуретки, ссутулившись, и молчала, словно ее и не было. Тихая-тихая, скромная-скромная, беззащитная и все пыталась спрятать ноги в стоптанных, перекосившихся туфлях довоенного фасона.

Кубышкин и Петька обо всем переговорили, посмотрели свежие фотографии, негативы. Потом Кубышкин взглянул на стену и сказал: – Галя, пошли. Она встрепенулась, прошептала: «До свидания», и пошла за ним преданно и послушно.
Захар Захарыч.
Но третий жилец нашей комнаты необычный. Ему шестьдесят лет. Представьте себе высокого, подтянутого, с военной выправкой пожилого мужчину. Добавьте совершенно седую голову, седую как лунь. Но седина так не вяжется с ним, что кажется – это просто льняные белые волосы, которые к тому же приятно вьются. И только потом с удивлением замечаешь, что волосы белы от старости. Но старым Захара Захарыча назвать нельзя: он всегда гладко выбрит, черты лица у него крупные, энергичные; мясистый нос. Наш Захар Захарыч – водитель семитонного самосвала «МАЗ-205», человек с сорокалетним стажем шофера.

Я еще не узнал его как следует, потому что он большую часть дня находится в гараже; работал он и в воскресенье. Петька рассказал, что он старый коммунист, то ли с 1918, то ли с 1919 года, водил в революцию броневик, в Отечественную войну пошел добровольцем на фронт и выдержал всю блокаду Ленинграда. Там у него погибла вся большая семья, и с тех пор он одинок.
Гараж от нас далеко, и Захар Захарыч выходит из дому в шесть часов утра; для него мы оставляем громкоговоритель включенным на ночь. Он очень дисциплинированный, койка его заправлена идеально; говорит он густым, приятным басом с уверенными рокочущими нотками. [71]
Но он стал совершенно беспомощным, когда принялся варить суп.
Суп мы должны варить все. У нас коммуна. Складываемся и покупаем продукты, а готовим по очереди. Вернее, как объяснил Петька, с очередью не совсем клеится: варит тот, кто пришел первый и голодный. Каша с гипосульфитом была моим первым достижением на этом пути.
Но Захар Захарыч готовить не умеет, и Петька над ним измывается:
– Не то, не то! Теперь лук покрошите. Где нож. Батя, где нож? Господи, какой вы бестолковый!
– Петро, гляди, столько крупы хватит?
– Батя, вы с ума сошли! Это на целый взвод! Куда вы высыпали? Доставайте обратно! Да скорее же!
– Ничего, Петро, гуще будет…
– Куда гуще! Она не сварится. Доставайте ложкой, пока не размокла! Где ложка? Батя, поворачивайтесь! Вот лук, крошите скорее – сало горит!
Обед готовится со скандалом, зато потом содержимое кастрюли вываливается в глубокую миску, от по-лусупа-полукаши идет вкуснейший пар, мы усаживаемся вокруг с чистыми ложками и начинаем «наворачивать». Суп-каша жирный, густой, сытный. Я сдаюсь первый, потом Кубышкин, а Петька с Захарычем сидят до седьмого пота, любовно поскребывают ложками и изредка роняют фразы:
– Кажись, надо было лаврового подбавить?
– Ха-рош… Сойдет и так.
– Ну уж!.. А картошка переварилась.
После этого следует чай, который мы пьем из стеклянных полулитровых банок, потому что кружки заняты химикатами. Чай плиточный – густой, мутный, какой-то тоже сытный,[72] после него уже невозможно дышать, и мы валимся – каждый на свою кровать.
– Ну, ребята, кажись, маленько подзаправились, – говорит Захар Захарыч, распуская пояс.
– А что, батя, – спрашивает Петька, – вы «форды» водили?
– Водил. Я еще старые водил, драндулеты такие – может, видел на картинках?
– Ага. А «студебеккеры»?
– По Ладожскому. Я их три сменил.
– А «виллисы»?
– Водил. Это в Германии. Я генерала возил.
– Вы бы, батя, женились, а? Вон Кубышкин женится.
– Да нет, Петро, куда мне… Я старик. Уж как-нибудь доживем…
В новеньком черном комбинезоне, новеньких резиновых сапогах я явился к прорабке четвертого участка. На бревнах и камушках сидели, лежали, грызли семечки девчата в таких же комбинезонах, курили и хохотали несколько мужчин. Я несмело подошел и спросил у одного из них, не это ли бригада Анны Москаленко. Он был рыжий-рыжий, как солнышко, и вдобавок заикался.
– Буду у вас работать.
– Н-ну и л-ладно, – равнодушно сказал рыжий и отвернулся, скручивая цигарку.
Я протянул «Беломор». Это его несколько озадачило, и он миг колебался, брать или нет.
– Б-будешь всем «Беломор» совать – б-без штанов останешься! – недовольно прорычал он и взял. – А моя жена н-не разрешает папиросы, ш-шипит, стерва. [73]
После этого он окончательно и бесповоротно повернулся ко мне спиной.
Правду говоря, я ожидал всего, но только не такого приема.
Загудело четыре часа. Стали кучками собираться рабочие, уходили домой. А мы все сидели, никто и не думал двигаться; почесывались, хихикали. Я подумал: «Вот это работа! И это называется лучшая бригада? Странно».
Наконец явился бригадир – маленькая, смуглая, курносая женщина. Она была такая щупленькая, миниатюрная, что мне захотелось протереть глаза: неужели это бригадир бетонщиков на такой стройке? Она потерялась среди всех, вылезла на камушек, чтобы ее видели, и, кончая доругиваться с мастером («А мне дела нет до ваших плотников! Разогнать вас всех!»), принялась распределять:
– Сегодня все по местам, как вчера! Машка – на большой блок, Дашка – на водослив…
– О-ох, о-пя-ать водослив! В печенках он уже, ваш водослив!
– Вставай, Дашка! Хватит вылеживаться… корова!
Поднимались нехотя, брали лопаты, брели в разные стороны. И вдруг стало так скучно, так тоскливо!
– Я новенький, – сказал я, не утерпев, думая, что меня не замечают.
– Вижу. Дашка-а! Ты скажи Ефремовичу, пусть он…
Какие они все безразличные, грубые! Бригадира почти не слушаются, машут рукой: ладно, мол! А Москаленко ничего, как будто так и надо. Она разогнала с бранью, раздраженно почти всех, слезла с камушка.
– Тебя звать Анатолий?.. Николай! Поведи его под первый кран на приемку. [74]
– П-пошли, – буркнул Николай, не глядя на меня.
Он лениво побрел по брусьям, по камням, совершенно не интересуясь, иду ли я за ним. Перебрели по колено в воде лужу, покарабкались вверх по лестнице. Выше, выше… Мелькали серые стены, сплетения железных балок, помосты; мы нагибались, скользили, лезли, лезли… Я старался не смотреть на землю; она осталась далеко внизу, а мы запутались среди сплетений железа и дерева, и обратно не было возврата. И вдруг… открылось небо!
Ух, какая это была высота! Мы выбрались из отверстия, оказывается, на самой верхотуре эстакады, широкой, как мост. Прямо перед нами стоял, раскорячившись, грандиознейший портальный кранище, и его стрела, казалось, цепляла тучи, а на самом конце ее трепетал красный флаг.
На эстакаде было пусто, только лежала бадья для бетона – огромный железный ящик на салазках, зацепленный за крюк крана.
– Б-бадью видишь? – сказал Николай.
- Да.
– Как машина вывалит в бадью, так ты п-почисти лопатой к-кузов и ори крановщику «вира-а». Понял?
– Понял.
– Вот и все. Номера машин запиши и, сколько кто сделал ходок, доложишь бригадиру. На лопату, а я пошел, – заключил он свой инструктаж.
Он исчез в той же дыре, откуда мы появились, а я в недоумении, держа лопату, осматривался; подошел к бадье, потрогал. Черт возьми! Это не во сне? Ткнули: почисти и ори «вира»… Кран-страшилище передо мной, как динозавр, и я перед ним – муравей. А вдруг я сделаю что-то не так? Да и сумею ли? Мне стало страшновато. А вот бревна лежат, косые. Зачем бревна? Ага, это чтоб машина въезжала на них колесами… [75] Проклятый рыжий, не сказал. Чем я ему не понравился?
Куда же кран понесет бадью? Ага, вон наши девчата, среди досок и железа, как в клетке; возятся в блоке, тянут кабели… Сердце у меня замерло. Тоня! Тоня с соколиными бровями. Ей-богу, она! Неужели в нашей бригаде? Точно, вон и рыжий Николай там ползает, помахивает руками… Сверху мне все это видно как на ладони.
Рыжий Николай дал мне лопату тяжелую, с налипшим цементом и сучковатой ручкой. Как хорошо, что я в свое время научился работать этим орудием производства! Каждую осень мы всей школой сажали сады. Витька всегда удирал, «болел», а мне нравилось рыть ямы, рыть до испарины на спине. Эх, думал ли я тогда, что буду загребать лопатой бетон на Иркутской ГЭС? А вот когда пригодилось…
Издавая гул, как на мосту, прямо на меня по эстакаде мчалась первая машина с бетоном. Ну, держись, Толька!
И началась работа! Я вспотел в первые же минуты Это оказалось и просто и невероятно трудно. Машина подлетела, расплескивая серый, грязный раствор, задним ходом взлетала на бревна, опрокидывала кузов, я бросался в самую грязь, в кузов, скреб лопатой налипший на углах бетон – тяжелый, вязкий, как замешанная глина, – скатывался вместе с ним в бадью, барахтался там, утопая в бетоне, выпрыгивал, неся пуды на сапогах, орал:
– Ви-ра-а! Давай! [76]
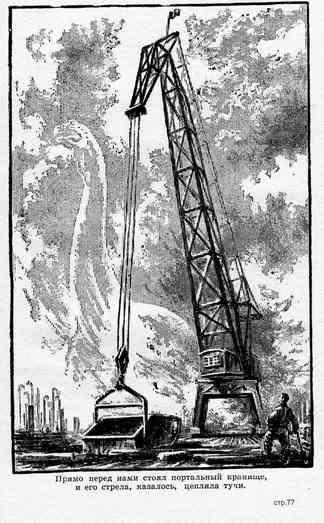
Кран лязгал, дергал, бадья вставала дыбом и взлетала в небо. Из нее сыпались камни, ляпал раствор; я отбегал к самому барьеру; там, где-то внизу, рыжий Николай направлял бадью, открывал, но я не смотрел – лихорадочно записывал номер машины, ставил крестик, оттаскивал бревна, чтоб не придавило бадьей, а она летит, пустая. С размаху грохнуло и поволокло по эстакаде. Я бросаюсь к ней, упираюсь в нее изо всех сил, веду на место. «Ту-ту, ту-ту!» – сигналит крановщик. Дальше, дальше! Прочь! Я отскакиваю, а бадья тяжело валится на салазки.
– Дав-вай!
Машина подлетает; тащу бревна.
– Задний ход! Вали!
Я набил себе мозоли на ладонях уже в первые минуты. Руки разбиты черенком лопаты до крови. Обливался потом на жаре, хотел пить, стал задыхаться… А машины шли, шли… Я бросался, кричал «вира», тащил…
Нет, до чего же он тяжелый, бетон! Липкая серая, перемешанная с камнями масса. Полную лопату почти невозможно поднять. Хоть бы минуту передышки. Нельзя: очередь, очередь машин.
…Уже я не мог поднимать лопату, с ужасом думал: а вдруг не выдержу до конца смены? А вдруг попаду под бадью? Похолодело сердце. Надо выдержать, надо справиться! Шоферы были разные: одни веселые, бесшабашные – они с лету открывали кузов так, что вылетало почти все; другие медленно пристраивались, у них бетон нехотя полз и половина оставалась в кузове. Я махал, махал, чуть не выворачивая руки. Ух-х!.. Работка!
Надо выдержать, надо выдержать! Выдержать!
Вытирал кровь с рук о штаны, боли не чувствовал; соленый пот заливал глаза и больно ел их – нечем вытереть: все мокрое от раствора и пота. Волосы перепутались, лезут в глаза. Выдержать, выдержать! [78]
Так шел час, так шел второй, третий… Я уже лез под бадью, забыв об опасности. Крановщик недовольно сигналил и тормозил. Когда же перерыв? Когда же хоть чуть убавится машин? А они шли, а они шли… Неужели не выдержу?
И в этот момент грянула гроза. Налетели низкие, пепельно-тревожные облака, захватили все небо, солнце мигнуло и погасло, красное, насовсем, и наступила ночь. Молния брызнула над самыми стрелами кранов, хлестнул ливень, забарабанил по голове, пронизал насквозь холодком. Здесь, на поднебесной эстакаде, я был как на открытой сцене.
Я осмотрелся: все заволокло сизой пеленой дождя, хлещут и пляшут по эстакаде тысячи капель, молнии сверкают, и, кажется, пахнет серой. Машины зажгли фары. Идут, идут…
Мокрый до костей, одуревший, вода течет, глаза заливает! Дождь освежил меня, и я вдруг понял, что выдержу. Выдержу!
Шоферы, казалось, пришли тоже в азарт. Взглянул наверх – крановщик в будке скалит зубы, одобрительно кивает: давай, давай!
Вот он какой, этот колосс-кран! Я до сих пор его видел только на картинках. Даже не верится, что это он и я! Он подчиняется взмаху моей руки, поднимает бадью, как пушинку, когда я кричу «вира», и кладет ее осторожно, легкими рывками, когда я приказываю «майна». Машина слушается меня! Я не боюсь ее!
Вспомнилось, как на беговой дорожке на длинную дистанцию бежишь и на середине пути чувствуешь, что все, сейчас упадешь. И, если пересилишь себя,[79] приходит второе дыхание. Дождь принес мне второе дыхание!
Силы, силы! Я впервые в жизни понял, почувствовал, что такое настоящая работка, с ветерком, с соленым потом в глазах. Шоферы что-то весело кричали – за шумом дождя я не слышал. Снизу Николай, сжав руки в один кулак, показывал мне над головой – наверно, говорит: хорошо, дело идет. Вот он, бетон, на моих глазах превращается в быки – их я тоже видел только на картинках. Весь бетон идет через мои руки. От меня зависит работа всей бригады, от бригады – Иркутская ГЭС. Ну!..
Ливень. Ночь, огни. Прожекторы загорелись и пронизали дождевую мглу. Грохот. Возбужденные люди, соленые шутки. Эх, дайте нам горы, мы горы перевернем!
А люди себе работают, делают все, что надо. Это я одурел и пьян, как от вина. А они просто работают, словно так и должно быть – дождь, ветер. Рыжий Николай копошится внизу, дергает бадью за веревку; девушки в свете прожекторов нагибаются и разгибаются; сколько я ни подаю им бетона, они его укладывают, он идет как в прорву. И мне показалось в эти мгновения, что они, эти люди – шоферы, крановщики, наши бетонщики, – какие-то преображенные, красивые, не те мелкие и безразличные, каких я видел до сих пор…
Дело спорилось, я уже готов был петь и жалел, что дождь прекращается. Все равно вымок до последнего, купаться так купаться! Сколько времени прошло в этом грохоте? Час, два, сто, вечность?
И в этот момент поток машин прекратился. Я даже испугался. Стало вдруг тихо-тихо, слышно, как о помост постукивали редкие, последние капли дождя. Я взглянул наверх – и крановщик из будки исчез; [80] торчали рычаги, и никого не было. Что случилось?
На эстакаде показалась Анна Москаленко. Она была мокрая, как и я; юбка хлопала о ее худенькие ноги.
– Все, Анатолий, – по-деловому сказала она. – Давай бумажку. Сколько там ходок?
Мы пересчитали крестики. Их было девяносто восемь.
– Ах, чуть не сто! – с сожалением сказала Москаленко. – А на том кране шестьдесят. Ну, иди, сдавай лопату.
Вдруг она быстро повернулась, насупилась и внимательно, почти сердито посмотрела мне в глаза:
– Тяжело было?
– Да нет… Сначала тяжело, а потом дело пошло, – пробормотал я. – Я теперь хоть еще одну смену! Даже удивился: почему нет машин?
– Гм… Ну ничего. Привыкнешь, – сказала она почему-то немного грустно. – Иди отдыхай.
Она проворно застучала по лестнице вниз, а я ступил шаг… и вдруг пошатнулся: ноги дрожали.
Теперь я плохо помню, как спустился с эстакады, как сдал лопату и почему рукавицы оказались за поясом. Они были в крови.
По дорогам из котлована спешили люди. Наша бригада рассыпалась и исчезла, как невидимка. Вокруг ходили и носили доски новые, незнакомые люди. Наверно, и рыжий Николай и Тоня с соколиными бровями ушли. Я побрел один через брусья на дне котлована к буфету. Ужинать не хотелось, но я понимал, что нужно поесть. [81]
Проезжали самосвалы, от которых я шарахался в сторону, слепили глаза фары и прожекторы. Вот ободранная доска показателей, и за ней малюсенькая хибарка – буфет. Он работает круглые сутки.
Будь я художником, я нарисовал бы, как шоферы на двадцатипятитонных «МАЗах» приезжают ужинать. Эти чудовищные машины обступили хибарку, как слоны, и замерли, уставясь на нее потушенными фарами. Любой из «МАЗов» мог бы раздавить буфетик одним своим колесом.
А внутри, в хибарке, шумят работяги, стучат кружками о стол, обдирают колбасу, дымят махоркой. Я уже заметил, что шоферы-«мазисты» ведут себя не так, как прочие: они говорят складно, с достоинством, громко шутят, едят за четверых и вообще чувствуют себя среди других рабочих, как танкисты среди пехотинцев.
Тем не менее я тоже был горд своим комбинезоном в бетоне, своими сизыми от налипшего цемента сапогами и рукавицами, которые я небрежно вытащил из-за пояса и швырнул на подоконник. Мне было приятно, что в моей походке появилось что-то неуклюжее, широкое, рабочее…
В буфете столы и лавки были грубо сколочены из неровных досок, стояли бочки, пол был усыпан окурками, бумагой; воздух сизый от табачного дыма. На стойке бок о бок с пыльными окаменевшими шоколадными плитками и конфетами «Весна» – ходкие и нужные вещи: бутерброды, сайки, молоко, селедки, творог, котлеты. У меня глаза разбежались. Пива и вина в котловане не продают, но все время хлюпает насос на бочке с квасом, и, налитый в кружки, он цветом и буйной пеной словно настоящее пиво.
Я нахлебался простокваши с пряниками, добавил [82] кусок колбасы и запил квасом. Развалистой походкой я вышел и в темноте наткнулся на пахнущую резиной стену – даже подумал, не ошибся ли дверью. Впритирку к выходу было… колесо в мой рост. Это прибыл еще один «МАЗ» и протиснулся к самой двери. Я едва выбрался. Буфетик совсем потонул, как детская игрушка среди паровозов.
А мне было весело. Я не был тут экскурсантом. Я был рабочим. Я стал настоящим рабочим. У меня висят, как плети, руки и болят. Сапоги невыносимо тяжелы. Я настоящий рабочий. Что ж, если хотите, да, из той армии, которая делала революцию, уничтожала рабство, строила социализм…
Эх, да разве расскажешь об этом? Это нужно почувствовать, разгрузив вот так девяносто восемь машин, шатаясь от усталости и упершись лбом в колесо двадцатипятитонного «МАЗа». Могу только сказать, что у меня гудело и ныло все тело и я был удивительно, потрясающе счастливый.
Перешел, спотыкаясь, через железнодорожное полотно, и почти тотчас, обдав паром и мелкой сажей, по ней загрохотал скорый поезд Москва – Пекин. Быстро-быстро промелькнули слабо освещенные окна, и вот уже, убегая, исчезают вдали красные хвостовые огоньки. Все дальше, дальше, на Байкал, Читу, Пекин… А мы вот тут строим!
Кому из рабочих Иркутской ГЭС не памятна деревянная лестница, шедшая на гору из котлована! Вот я по ней и потащился. Спеша в домоуправление, мы с Ленькой тогда перешагивали через две ступеньки. Сейчас я разглядел, что ступеньки высокие, и штурмом осиливал каждую доску. Лезешь и лезешь вверх, остановишься перевести дух, обернешься вниз – огни…
Выше, выше!.. [83]
Ну и бестолковый я! Уже второй час ночи, люди спят, а я все еще иду с работы.
А на горе, на пустыре, темным колесом двигалась по кругу толпа. Словно плакал или молился кто-то, а потом все повторяли непонятные слова, и слышалось только заунывное и странное «а-а-а-а…» Это после полуночи рабочие-буряты сходятся на гулянку и танцуют «йохар», длинный, бесконечный танец, когда парни и девушки крепко берутся под руки и ходят, ходят по кругу и поют однообразную песню. О чем они пели, я не знал.
Но Ленька уже говорил о «йохаре», говорил, что буряты сходятся здесь три раза в неделю и водят хоровод до рассвета.
Приезжают даже издалека, со стройки алюминиевого комбината, потому что они очень любят свой «йохар» и он напоминает им родину.
Было как-то непередаваемо волнующе и грустно. Огни котлована, гул, рокот машин; кипит, копошится муравейник среди сопок и болот. Ветер приносит запахи цемента, металла и речных просторов; гаснут вдали окна в домах поселка. А на пустыре буряты танцуют «йохар». И я еще постоял в стороне и послушал.
А потом пришел в настоящий ужас, не обнаружив за поясом рукавиц: забыл их в буфете, на окне!
И я возвращался, потом опять штурмом брал деревянную лестницу и все шел, шел домой с работы. Это была одна из самых прекрасных ночей в моей жизни.
ПИСЬМО ОТ ВИКТОРА, ПОЛУЧЕННОЕ ВСКОРЕ
Привет, старик!
Получил твое письмо, из коего заключаю, что ты дурак. [84]
Жаль, жаль, что ты меня не послушался! Ну что ж, вкалывай. Давай, давай!
Нет, я ехать в Сибирь не собираюсь, тем более на третьей полке и со шпаной вроде твоих дружков. Сейчас объясню почему.
Итак, пошел я в Политехнический подавать заявление. Глянул – мама моя родная, столпотворение! Такие, брат, зубряги сидят, а с производства – и то трясутся. В лоб не получится; вижу, надо поворачивать оглобли заранее. Повернул в Медицинский. То же. Финансово-экономический. То же. Торфяной и т. д. – то же. Короче говоря, обошел дюжину вузов, но халтуры нет.
На семейном вече восторжествовала батина идея: торговый техникум. Теперь, оказывается, такое положение, что и на техникум приходится молиться.
Конкурс там, Толя, будь-будь! Папахен сунулся туда-сюда и, конечно, нашел ход. Ох, и папахен у меня! Там у него оказался знакомый завуч – свой человек, что-то даже вроде родственника, десятая вода на киселе. Пришлось тряхнуть мошной: знакомство знакомством, а купюры на бочку.
А ты знаешь, Толик, я теперь и сам допер: прекрасный техникум! Он выпускает работников торговой сети, а это в нашей жизни клад. Поглядываю на дачу справа и все более убеждаюсь в этом… И грустно и смешно, когда посмотришь на простачков, как они зубрят, готовясь к экзаменам. Юна совсем извелась. Вчера были с ней в кино: посочувствовал, потащил развлечься немного; зашли в кафе «Мороженое», вспомнили тебя.
Она жалеет тебя, говорит, что грузчиком ты мог бы. работать и на заводе ее папы. Между прочим, слышал бы ты, каким тоном это было сказано!.. [85]
Ну ладно, пиши еще, как там жизнь. Медведей видел? Мошки не заели?
Нет, брат Толька!
Кончай играть дурачка! Хватит прикидываться, что не понимаешь сущности жизни! Не знаю, как тебе, а с меня довольно. Красивые идеи и сияющие вершины, брат, специально изобретены для наивных юношей, а мир движется по иным законам, более простым и конкретным. Конечно, такие дурачки, как ты, ах, как нужны!
Ты скажешь, я неправ? Приглядись, приглядись получше. Там у вас, на стройке, думаю, как в капле воды преломляется вся наша действительность. А убедился – ну, и лататы к пенатам. За одно я тебя хвалю: что без путевки поехал. Если б завербовался по путевке, тогда все, не удрал бы. Будь здоров. Жду тебя.
…Но если ты мне всерьез писал, то я умываю руки. На таких наивных дурачках, как ты, и держится мир. Поживи, поживи. Пройдет еще твоя телячья радость, как с белых яблонь дым. Нет, я что? Я просто посмеюсь над тобой, совсем не вздумаю убеждать. Очень мне это надо.
Тебя, старик, сама жизнь убедит.
P.S. Да! Мамахен передает привет и просит: будешь ехать – привези кедровую шишку (на камин, покрупнее).

Руки мои, руки!
Они болят у меня днем, а еще сильнее ночью. Все началось с пузырей, которые я набил черенком лопаты. Каждый день я разбиваю ладони все сильнее. На смене, пока бегаю по эстакаде, карабкаюсь на машины, долблю бетон, как-то забывается боль, не чувствуется. Но дома не нахожу себе места. Эта тупая, ни на секунду не прекращающаяся боль, она отдается в предплечье, ноют все мускулы. Трещины на ладонях пекут огнем, так что хочется шипеть. Я открыл, что холодный воздух успокаивает. Поэтому хожу по комнате и машу руками; а если уж слишком доймет, дую. Хожу и дую, хожу и дую…
Петька посмотрел и велел идти к врачу за бюллетенем. Был миг, когда я пошел. Спустился с крыльца, постоял… и вернулся. Какой позор! Поработать без году неделю – и уйти на бюллетень! Нет, пусть я лопну, но к врачу не пойду. Я слюнтяй, маменькин сынок. Так мне и надо! Нет, посмотрим, кто кого пересилит: боль меня или я ее.[87] Не пойду ни за что, буду дуть.
За этим занятием меня застала наша молодая уборщица, тихая и скромная Октябрина. Посмотрела, покачала головой:
– Ох, ребята, ребята! Все вы узнаете! Узнаете, почем фунт лиха на чужой стороне.
Меня это разобидело. Я грубо ответил, что лучше бы она поискала в кладовке какой-нибудь картуз мне, а то от брызг раствора волосы мои уже сбетонировались.
Октябрина молча ушла и принесла фуражку мужа – еще хорошую, мало ношенную. Тогда мне стало совестно, и я пообещал принести полную эту фуражку конфет для ее малышей.
Каждый день начинается одна и та же волынка. Приходим с работы – надо бежать в магазин за продуктами, за хлебом. Потом чистка картошки; занимаем очередь на плиту; стирка рубашек и носков. Октябрина стирать отказывается: у нее своих забот полон рот. Других же женщин в доме нет.
Резиновые сапоги, комбинезон – все это мокрое от раствора и пота, грязное и вонючее. Нужно отнести в сушилку (там топится печь и от десятков комбинезонов стоит такой дух, что хоть святых выноси).
Стирать комбинезон уже нет сил, да и бесполезно. Тут хоть бы самому как-то отскрестись в умывальнике, выкрошить бетон из ушей.
Когда, наконец, приобретешь человеческий вид и брюхо сыто, ни на что уже больше не способен. Петька и Кубышкин – я им удивляюсь! – напялили новые костюмы и марш-марш до двух утра на гулянку. Захар Захарыч идет в гости к своему дружку, такому же старому шоферу, или сам приглашает его. Пойти-то есть куда: рядом клуб, кино, библиотека, танцы. [88]
Даже у нас в доме есть красный уголок, и там день и ночь ребята постукивают в бильярд. А я валюсь на постель и дую на руки, вскакиваю и дую…
Днем и ночью мимо стройки идут поезда. Одни – на восток, другие – на запад… Иногда в общежитие доносятся их гудки.
Был вечер; закатное солнце светило в окна. Захар Захарыч пришел усталый и завалился спать. Он мерно и глубоко дышал на своей постели, а я сидел за столом, обхватив голову руками, и думал.
Юна, Юна, как ты далеко и как ты окончательно стала чужая!
Однажды как-то Юна заболела. Мы готовились к контрольной, а она не знала правил. Мы с Сашкой и Витькой пошли к ней. Ее папа – директор крупного завода, и они живут в большом новом доме.
Мы долго звонили у огромной дубовой двери квартиры, прежде чем она приоткрылась. Женщина в переднике глянула на нас подозрительно и недружелюбно. Осмотрев нас с головы до ног и закрывая собой вход, она принялась допрашивать, кто мы, откуда, к кому, зачем и опять, кто мы. Дверь захлопнулась, и мы остались на площадке недоумевая.
Прошло пять минут.
За дверью раздался шорох. На этот раз проход загородила собой круглая разодетая женщина, судя по всему – мать Юны. Опять начался допрос: кто мы, откуда, зачем пришли, как наши фамилии? Подождите.
Дверь хлопнула, и мы опять переглянулись. Время тянулось томительно, а мы стояли и ждали.
В третий раз открылась дверь, и мать Юны,[89] подозрительно поблескивая острыми глазами, чуть посторонилась:
«Проходите. Стойте здесь. Вешайте пальто сюда. Калоши ставьте сюда. Пройдите здесь».
Заслоняя своим круглым телом вход в другие комнаты, зорко следя, чтобы мы, не дай бог, не ступили лишнего шагу, она провела нас по половичку до двери большой залы и оставила ее за нами открытой.
Юна лежала на тахте у стены в этой слишком большой, пустынной зале, и я подумал, что, наверно, болеть в такой комнате неуютно и холодно. Для нас уже были поставлены три стула у тахты; мы присели на краешке и говорили официально, только о контрольной. Что-то душило меня, я не мог расправить плечи, почему-то не мог забыть, что у моего пальто оторвана вешалка и оно может упасть там, в передней, и слушал шорохи в коридоре.
Юна сказала: «Спасибо», и просила нас еще заходить, но мы не знали, о чем говорить; посидев пять минут, торопливо попрощались и ушли. Только выйдя на улицу, мы опомнились и посмотрели друг на друга с изумлением. Сашка крепко выругался, а Витька расхохотался.
Мне довелось побывать у нее еще раз. Был лыжный кросс, и Юна просила зайти за ней и принести дужку крепления. Я уже не был так ошеломлен процедурой впускания, но на этот раз меня не провели в комнаты, а оставили ждать в передней, среди калош, у маленького круглого столика под вешалкой. Юна была не одета, она выбегала ко мне, просила присесть и снова убегала.
Потом она вынесла мне стакан чаю и стопку кексов на тарелке. И я, сидя под вешалкой, растерявшись, как был в пальто, принялся пить чай. Я не знал… может быть, это так нужно было, может, это от всей души,[90] а я, если откажусь, обижу… Кексы были очень вкусные, но я заметил это, только машинально слопав последний и ужаснувшись своей невоспитанности.
Нет, я никогда не забуду этого. И никогда не прощу себе того, что не встал и не ушел навсегда…
За что я любил ее? Об этом не спрашивают, когда любят. Она необыкновенно красива и умна. В школе, на улице, в театре, на катке она преображалась. Она спорила с мальчишками, брала над ними верх, она всегда была центром нашего кружка и даже стриглась под мальчишку, и все обожали ее. Девчонок она не любила, и они в отместку шептали, что она закапывает в глаза атропин, оттого они у нее такие блестящие и темные. С седьмого класса она уже одевалась по последней моде и говорила об Уайльде, Драйзере и Хемингуэе. У них дома огромная библиотека из самых дорогих и редких книг, но никто из нас этой библиотеки не видел.
Юна училась хорошо, почти на одни пятерки, и закончила с серебряной медалью. Отец возил ее каждое лето на Рижское взморье и выдавал ей на карманные расходы ежемесячно пятьсот рублей.
Моя мама зарабатывала эти пятьсот рублей, днями трудясь за машинкой в швейной мастерской. Я выпрашивал на кино, но не шел, а откладывал и в следующий раз приглашал Юну. Мне казалось, что может случиться чудо, что Юна того душного дома с передней и кексами ненастоящая. Она умная, она красивая, она простая, она замечательная, я не могу не думать о ней.
Но, когда она со своей медалью пошла в институт и я увидел, что жизнь у нее будет и дальше безоблачная, тогда я и понял, что пути наши очень разные…
К Юне я никогда не приду. Я не забуду ее: это не забывается. Но теперь она ходит с Виктором в кино и, [91] между прочим, говорит, что грузчиком я мог бы работать на заводе ее папы. А Виктор тоже, кажется, нашел свей путь и «клад» в жизни…
Днем и ночью я слышу гудки поездов. Одни – на восток, другие – на запад. Что будет со мной, зачем я приехал сюда? Да, я могу заставить себя не ныть и не пойти за бюллетенем. Но есть ли в этом смысл?
Какая же дорога в жизни яснее и прямее? Та, по которой идут Юна и Витька за широкими спинами своих отцов, или та, которую пробивают себе Ленька, Дмитрий Стрепетов, Тоня с соколиными бровями?
Моя тропинка в мир светлых и прямых дорог, где ты?
Я медленно укладывал в свой потрепанный чемоданчик носки, рубашку, мыло, а сам все силился вспомнить: что я забыл самое главное? Что-то очень ценное, интересное и важное, и я никак не могу вспомнить, что же. Потом вспомню, да будет поздно…
Вдруг мне почудилось, что Захар Захарыч пристально и зорко следит за мной. Я молниеносно обернулся. Он спал по-прежнему, подложив под щеку ладонь; седые волосы его казались серыми на белоснежной наволочке.
Было очень тихо. Я перевел дыхание, оглядел комнату, оглядел свою кровать. И тут словно светом пронизало память: мысль, радостная оттого, что вспомнил наконец, и мерзкая, неприятная оттого, что вспомнил именно то, что я старался забыть.
Шишка! Кедровая шишка, покрупнее, на камин…
Да… Шишка…
Я сел на кровать.
И тут я увидел, что Захар Захарыч не спит.[92] Он потянулся, спустил босые жилистые ноги на пол, сладко зевнул. Я захлопнул крышку чемодана.
– Наводишь порядок? – простодушно спросил старик. – Это хорошо… Ты не помнишь, у нас селедка осталась? Что-то соленого захотелось.
Видел он или нет? Впрочем, какое мне дело, мне все равно.
А Захарычу хотелось поболтать.
– Ну, как работка на стройке? – спросил он, подсаживаясь к столу и добывая селедку. – Привык уже, нет? Домой не тянет?
– М-м… («Видел! Потому и спрашивает!»)
– Это всегда. Тянет. Вот поверишь, Толя, я, когда сюда впервые попал, бежать хотел. Тогда еще ни черта не было: болото, слякоть, грязища, лихорадка – ах, будь ты неладна! Поглядел я, поскреб в затылке – да за чемодан. Потом – нет, думаю, погожу немного, разберусь. Так по сей день и разбираюсь. Вот так…
– Гм…
– А я… – Он выбрал самую брюхатую рыбину, ловко разодрал ее. – А я гляжу на тебя: тяжело тебе.
– Нет, почему? («Нет, кажется, не видел, по тону чувствуется, что не догадался».)
– Тяжело! А ты не горюй, – добродушно и ласково сказал он. – Не горюй. Все будет как надо. Вот… м-м… ишь, сколько икры нагуляла… Вот ты правильно делаешь, очень правильно: в самую жизнь, в самую бучу, смело. И дальше будь смелым! Трусят все, но выказывать трусость – вот что человека недостойно! Поверь, сколько я трусов перевидел, сколько хоть бы и в этой самой комнате бегунов перебывало! Поверишь, бывало, приедет, недельку пофинтит, мозолишко набил – хлоп!– и до дому! Ты можешь мне не поверить, просто дивно! А все это, по-моему, трусость, все это страх. [93]
– Захар Захарыч, вы на многих стройках бывали? – попытался я перевести разговор.
– Быва-ал… Всего насмотрелся… О чем мы говорили? Да, о текучести. Вот сколько я ни присматривался – самая большая текучесть кадров на стройках. Это, видишь ли, пробный камень в нашей жизни. Стройка– это сейчас фронт. И всякая дрянь тут не задерживается… Да ты не болен ли? Садись, рыбы покушай. Славная еда, демократическая, во-он, вишь, какая добрая! Садись!
Жар поднялся у меня в теле. Мысли мои били в набат. Значит, он видел, как я собирался? Или этот разговор случайный? Я пристально посмотрел в его лицо, а старик спокойно обдирал рыбу, раскладывал косточки по газете и болтал уже о другом:
– Шишек в жизни валится много. И ты будь готов. Ох, сколько еще шишек набьешь, пока приладишься! Здоровых – во! – с кулак! Но от них башка крепче… Что ты ничего не ешь? Скучный какой-то. Пошел бы погулял лучше, чем в чемодане копаться.
«Видел! – ужаснулся я. – Все видел! Он играет!»
– А впрочем, я сам пойду. Разоспался, нехорошо.
«Не видел, – отлегло у меня от сердца. – Иначе он бы меня не оставил».
Захарыч действительно ушел, а я выгрузил из чемоданчика носки, мыло, засунул чемодан под кровать, и все во мне дрожало, колотилось. Я не мог оставаться один, я не мог уже ни о чем думать: это было мучительно.
Я запер дверь и постучался к Леньке. К счастью, он был дома.
Изредка я бываю у него. У Леонида есть старенький патефон и стопа пластинок.
Он всегда радостно встречает меня, торжественно усаживает на табурет, осторожно, словно священнодействуя,[94] заводит патефон, несколько раз проверит иголку и только тогда запустит. Положит руки на стол – большие, корявые, мозолистые, – склонит на них голову и задумчиво, грустно слушает:
Это его страсть. И я слушаю впервые так много и такие дивные русские песни. Я был равнодушен к ним в Москве. А вот тут, в Сибири, в этом мужском общежитии с бурыми ковриками и фотокарточками по стенам, со скрипучим полом и низкими потолками, в исполнении этого допотопного, шипящего патефона они меня трогают и волнуют до слез чем-то таким человечным, до сих пор мне неизвестным, щемящим и огромным. Я слушал, и мне уже казалось: ничего, все будет как надо. Да, я подожду, я посмотрю, что будет… Решено.
Не знаю, как устроены Ленькины эстетические вкусы, но у него рядом с русскими песнями мирно уживаются арии из оперетт. Из этих вот:
Их Ленька тоже слушает грустно, задумчиво, подперев щеку кулаком, ласково и бережно протирает специальной тряпочкой и прячет в конверты.
«БЕЗ ЖЕНЩИН ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ»
Поэтому мы отправились в женское общежитие.
Только теперь я понял хитроумную тактику Леонида: недаром он на танцах познакомил меня с Тоней. [95] Тоня с соколиными бровями и Ленькина любовь Тамара – подруги, живут в одной комнате.
Мы заявились, расселись на кроватях, и Леонид сразу же начал переругиваться с Тамарой (это у него такая манера ухаживать).
– О! Связала утюг нитками, голова! Сказано, бабы!
– Как ни связала, да сама!
– Погорят, глупая! Надо проволкой. Эх, хозяева!
– Нам и так хорошо, а кому не нравится, у того длинный нос тряпки просит.
– Эй ты, сама длинноносая!
– А тебя зависть берет! А ну, вон отсюда, чего расселся? А то как закачу доской! Пришел, ну и сиди и не суйся не в свое дело.
– Давай починю. Проволка в этом доме есть?
– Обойдемся без помощников.
Тамарка злая, энергичная, все у нее в руках так и кипит; старенький электрический утюг у нее накален так, что от платьев пар столбом взлетает и только слышится «ж-рр», когда она проводит по тряпке.
Она на третьем участке мастером; может, потому и тон у нее такой безапелляционный, командирский. Кос у нее нет, торчат жалкие хвостики, которые ей совершенно не идут, и вообще она совсем еще девчонка.
– Тонька, гладить больше нечего?.. Хорошо. Тогда, огородное пугало, снимай штаны.
– И-иди ты!
– Снимай штаны! Кому говорю? Оба снимайте. Когда гладили? Семь лет назад, после дождика в четверг? Думаете, мы с вами, такими, на танцы пойдем? Снимай, пугало, а то утюгом поджарю!
– А-а-а!
Ленька визжит, Тоня хохочет, мы покорно снимаем брюки и, оставшись в трусах, полностью обезоружены. [96] От брюк идет пар столбом, на них появляются острые, как лезвие, складки. Ленька смущенно почесывается, а я разглядываю комнату.
Как у них чисто – до приторности! Белоснежные занавесочки, салфеточки, покрывала на подушках, коврики, всякие бумажные цветочки, картинки по стенам, зеркальца, флакончики… На почетном месте приколота страница из журнала мод. Тоже – изобразительное искусство! Сказано, бабы!..
В комнате три кровати. Тамара живет с сестрой. Это странная, приветливая, но очень застенчивая девушка, она только что окончила десятый класс и готовится в заочный институт. Когда меня знакомили с ней, она робко выбралась из своего угла, из-за стола, покраснела как мак и шепнула, не подавая руки:
– Оля…
Я протянул руку, она неохотно подала свою, и, пожимая, я почувствовал, что ее ладонь неестественно узкая, какая-то ненормальная. Краем глаза заметил: у нее нет большого и указательного пальцев, срезано начисто чуть не пол-ладони, и – уродливый, узловатый шрам. Это так не вязалось с ее хорошеньким, нежным, светлым личиком, что мне стало не по себе. Эх, почему же Ленька не предупредил! Оля, закусив губу, съежилась и шмыгнула за стол; держа правую руку под скатертью, принялась левой листать учебники. За весь вечер она не сказала больше ни слова, не смотрела в нашу сторону, словно ее и не было тут.
– У вас много книг, Тоня. Можно посмотреть?
– Смотрите.
– «Алые паруса»! Дайте почитать.
– Ой, мы сами сегодня едва достали…
– У-у, жадины! – рявкнул Ленька. – У вас зимой снегу не выпросишь!
– Это вы жадины! – напустилась на него Тамарка.[97] – Ходит пять лет в одних и тех же штанах. Хоть бы постыдился! Фу, дырки уже скоро будут! Работничек – не заработает на костюм! Пьяница, голодранец!
– Сама ты голодранка!
– Кто? Я? Да я бы хотела, чтоб ты столько получал, сколько мы! Это же у вас бригада – шарашкина контора!.. Тонька, покажи новое платье, которое ты вчера купила.
– Вот. Хорошее?
Платье было замечательное, с большими лиловыми цветами, воздушное, но очень простенькое, видно, из какой-то дешевой материи.
– Хо-хо-хо! – закатился Ленька. – Ему цена – пятьдесят рублей!
– Ду-у-рак! Это креп-де-флер. Что ты понимаешь!.. Ох, Тонька, надо было все-таки взять то шелковое за пятьсот. Правда, дура, что не взяла?
Тамарка схватила с кровати гитару и на цыганский манер запела звучным, звонким и чистым голосом:
Хороша жизнь, когда ты сама себе хозяйка! Это только считается, что муж да жена, да муж жену кормит. Зазнались вы, мужичье! Женщина, может быть, больше, чем вы, зарабатывает и лучше, чем вы, живет. А он возьмет да потом всю жизнь попрекает: я тебя, мол, кормлю, я тебя осчастливил! Не выйду замуж! Заработала сама – что хочу, то и сделаю. Вот справим себе с Тоней бостоновые костюмы, лаковые туфли! А вы будете в рваных штанах щеголять. Тогда к нам не подступись! [98]
Она взметнула косицами – и по комнатушке словно рассыпались солнечные зайчики. От нее брызгами так и летели радость, энергия, смешинки. А она подмигивала, притопывала, и ее тонкое горло переливалось, играло, как у соловья:
Оля в углу склонила низко голову и закрыла уши ладонями. Из коридора «на огонек» заглянула толстая, добродушная рожа с залихватским чубом, поводила глазами, ухмыльнулась и исчезла. Ленька, разинув рот, с нескрываемым восхищением пучил глаза на Тамарку, а она приплясывала, пела, вертелась перед нами: вот, мол, я какая, а что?
«ЭХ ВЫ, НОЧИ, МАТРОССКИЕ НОЧИ…»
Мы шли в темноте, спотыкались, хохотали. Тамарка дурачилась вовсю, на весь поселок заливисто выводила – я никогда не слышал таких голосов даже на концертах:
Было совсем темно: ни луны, ни звездочки. Я держал Тоню за локоть, чувствовал сквозь ее тонкое лиловое платье (надела впервые на танцы) тепло живой, нежной руки; спотыкаясь о выбоины, мы валились друг на дружку, смеялись, отставали.
– Тоня, вы откуда сами? [99]
– Из-под Москвы, из Очакова – по Киевской дороге.
– А как сюда попали?
– А как все. Села да поехала.
– И у вас там семья осталась?
– Осталась! У нас там семейка большая. Восемь дочек, папка, мама.
– Восемь дочек?! – Ага. Я самая старшая, а те все – мал мала меньше. Весело! Как запищат: мамка, дай! Хоть из дому беги!
– И вы убежали?
– Ну что ж, надо как-то определяться. Теперь им легче: я четыреста рублей посылаю…
Она запнулась, словно сказала что-то не так, и с легкой досадой перевела разговор:
– Мне нравится тут, на стройке… А вам? Вы уже привыкли? Николай, дурак, тогда даже не объяснил вам, что делать. Пришел, говорит: он с образованием, пусть сам башкой покумекает. Мы уж его ругали… А вы справились; видим, ничего, парень понимает.
– Какая вы непохожая…
– На кого?
– На себя. Когда вы в блоке, в комбинезоне, вы совсем другая, бетонщица! А вот сейчас – тонкая, красивая, нарядная.
– Да? – грустно-насмешливо спросила она. – Лучше не надо говорить комплименты… Давайте догоним их? Бегом!
На асфальте у школы толпа жужжала, как всегда. Казалось, тут собралась вся молодежь стройки. Откуда берутся силы? Наработались за день до чертиков, ноги бы только вытянуть и лежать, – нет, еще гладят платья, уходят чуть не до утра на танцы, пляшут до головокружения.[100] Пиликали гармошки, кто-то навеселе «откалывал номера», путались какие-то морячки – откуда только они взялись? Мы кружились и кружились в темноте, почти наугад, и опять пахло сеном и дымком, шаркали по асфальту сотни ног. А потом шли домой, опять дурачились, мешали людям спать. На пустыре подошли к бурятам. Тамарка дерзко разорвала круг, схватила соседей под руки и пошла вместе с ними, сразу попав в ногу и в тон, как будто век танцевала «йохар»…
Расставаться не хотелось, было так хорошо! Провожали девушек в самое общежитие. Тамарка пихнула Леньку на бочку с мелом, и он выпачкал руки. Мы устали смеяться и петь – даже в груди заболело.
Дверь открыла Оля – с синими кругами под глазами, серьезная; левой рукой она потирала лоб; на столе лежали заляпанные чернилами учебники. Тамара ушла на кухню.
– Ну как мы только завтра бетонить будем? – сказала Тоня, устало швыряя на кровать косынку, платочек. – Спа-ать будет хотеться… И все равно… хорошо.
Она посмотрела синими глазами будто мне в самую душу. Будто мы что-то знаем, а другие не знают, глупые. И она тихо спросила:
– Правда?
– Правда.
– Ну, идите. Можете помыть руки и убирайтесь. Марш!
Мы с Ленькой вошли в кухню. Тамарка стояла у плиты и высыпала из кулька остатки вермишели. Она тут почему-то сразу осунулась, поблекла, на лбу прорезались морщины, и только теперь я с удивлением заметил, какая она бледная и худая – кости так и торчат. Устало взглянула на нас и серьезно сказала:
– Ну что же, веником вас гнать, что ли? [101]
Мы попрощались и вышли. Стало почему-то невесело. Здесь, на лестничной площадке, у двери с табличкой «4», я спросил Леньку:
– А что же это Оля? Что у нее с рукой?
– Да… работала на циркулярке – и отхватило. Славная девочка, так жалко! Никто за ней не ухаживает. Она решила выучиться, работу бросила. Видел – занимается. Тамарка ее держит, работает за двоих. Хорохорятся: «Мы! Креп-де-флер!», – а сами вермишель трескают… Пошли домой. Спасибо этому дому, пойдем к другому.
Так что прикажете делать, когда шофер подходит, смотрит просящими глазами и говорит:
– Припиши там… пару, а?
На машине «00-39» сидит тип, чем-то напоминающий дядю Костю – проводника в поезде: такие же стреляющие, нахальные глаза, только злее, увереннее, и во рту золотые зубы. Сделав ровно десять рейсов, он затормозил, открыл дверцу и осведомился:
– Ну-ка, сколько у меня?.. Че-го-о? А по моему счету уже двенадцать.
– Да нет же, десять. Вот.
– Странно ты считаешь!.. Поставь, поставь двенадцать!
– Не могу я, что вы!
Он оценивающе осмотрел меня, не спеша сплюнул.
– М-да… Видать, у тебя карандаш сломается.
Спокойно закрыв дверцу, он вдруг рванул с места так, что тормоза запищали. Целый час его не было, потом он явился с бетоном, дружески и широко улыбнулся :
– Пятнадцатый? [102]
– Знаете что, – разозлился я, – у всех уже по двадцать, а у вас одиннадцать!
Он ничего не ответил и до конца смены больше не появлялся. Я прозвал его «рвач с золотыми зубами» и искренне рад, когда не вижу его.
На машине «00-77» ездит молчаливый пожилой, сгорбленный мужчина с грустными глазами. Он не говорит ни слова, послушно подгоняет машину, старательно опрокидывает ее и так же молча уезжает. Я даже не знаю, какой у него голос. Почему-то мне тяжело смотреть, как он устало, сгорбившись, сидит за рулем и смотрит застывшим взглядом из глубины кабины: какой я подам знак. Сделав пятнадцать рейсов, он вышел, молча заглянул в мой блокнот, вздохнул, посмотрел куда-то вдаль и снова принялся возить. Он очень старательный, но не нахальный, не успевает проскочить впереди других, и, хотя он без отдыха возит и возит, у него все равно почему-то меньше, чем у других. Я стараюсь найти ошибку, проверяю свои отметки, я болею за этого доброго усталого человека. Мне почему-то кажется, что у него большая семья и много детей. Но он в моем списке – на втором месте с конца, после того, что с золотыми зубами.
Вчера приехал новичок-татарин. Видно, он работал первые дни: дали ему самую что ни на есть завалящую машину, всю дребезжащую, скрипучую и заляпанную. На ней раньше возили грунт, и поэтому, когда новичок неумело опрокинул кузов, бетон совершенно не вывалился, так и прикипел, повис густым тестом. Я ахнул. Вдвоем мы бились, наверно, четверть часа: скребли лопатой, стучали кувалдой. Бедный татарин выбился из сил больше, чем я: так ему было совестно, так хотелось помочь. Вдобавок, съезжая, он не опустил кузов. Борт лязгнул о край бадьи – и крючки нижних замков так начисто и отлетели. Все! Теперь в ремонт. [103]
– Ай-яй-яй! – чуть не со слезами завыл татарин. – Ай, ошибку давал, ай, забыл!.. Ничего и сегодня не заработал…
– У тебя две ходки, – сказал я.
– Одна?
– Две.
– Спасибо… – Он поклонился, а я отвернулся.
Вот уж кто работает так работает – это Генка-цыган. Он не цыган, он только загорелый, как негр, зубы блестят, чуб по ветру, машина, как змея. Кажется, вся стройка его знает:
– Гена, привет!
– Цыган, наше с кисточкой!
А он сидит за рулем, как всадник на коне; летит – все расступись; девушки идут – тормознет и помашет, сияя улыбкой. Он выгоняет тридцать рейсов в смену и еще умудряется на часок-другой исчезнуть. Ну и черт! И он никогда не справляется, сколько у него рейсов. Взлетит на бревна, ухнет бетон в бадью, как блин со сковородки, и улыбается:
– Порядок?
– Чисто! Как корова языком! Ты смазываешь кузов, что ли?
– А как же, кремом «Красный мак»!
С ним я и решил посоветоваться. Что мне делать с другими, что мне делать с их просящими глазами или с их наглыми требованиями? Осаждают!
Генка серьезно взглянул, криво улыбнулся:
– Проблема сия велика есть, но сводится к факторам не сознания, а бытия. Короче, будь с этим делом осторожен, но рейсы добавляй. Что тебе – не все ли равно? Проверить-то ведь не проверят? Какой там черт сосчитает, сколько я везу в кузове – кубометр или полтора, лишь бы ходка. Нам идут ходки, а вам кубы. У вас учет все равно идет по замерам, вам безразлично. [104] Без приписок не обойдешься, это уж так повелось. Старайся не очень много, чтоб не слишком явно. Было бы странно, если бы ты не приписывал. Вот и все. А мне не надо добавлять, слышь, я и без твоих крестиков заработаю. Порядок?
Нет, не порядок. Я попробовал добавлять кое-кому крестики; другие обнаглели, потребовали еще больше – по два, по три. Я растерялся. Стоило только начать! Не приписываешь – злые, как демоны. Припишешь – становятся такими друзьями, просят: ну еще одну, еще чуток!
Сегодня, сдавая смену, я боялся взглянуть Москаленко в глаза. Что же это такое? Или я бесхарактерный, или у меня «доброе сердце»?
Машинистом на моем кране веселый и добродушный парень, Саша Гурзий. Это он улыбался мне из будки в первый день, следил за каждым моим шагом; чтобы не придавить бестолкового, одуревшего новичка, подавал сигналы. В перерыве он спустился со своей верхотуры, осмотрел крюк, постучал по бадье и добродушно улыбнулся:
– Как? Обвык? Долго еще я буду за тебя переживать? Чего ты с ними валандаешься, чистишь до последнего комка? Ты соблюдай темпы! Видишь очередь – отпускай нечищеные, потом почистишь. Понял? А вообще приходи к нам пить чай.
Его помощник – пожилой рыжеватый, почти лысый Ефремович. Это – его отчество, все его так зовут. Он очень педантичный человек, любитель почитать в перерыве газету и потолковать о политике. Пока Саша Гурзий весело орудует рычагами, Ефремович лазит по всему крану, смазывает, выстукивает, спускается на [105] эстакаду и подбирает гайку, кусок троса и все тащит в свою будку возле машины – там у него целый склад.
На всех кранах нехватка «пауков» – это специальные стальные петли для груза. А у Ефремовича под будкой висит их целый ворох, как сбруя в конюшне у хорошего хозяина. Похитить их невозможно, потому что они над самой пропастью. Один только Ефремович каким-то тайным способом извлекает их иногда и отдает взаймы за банку тавота или дефицитные болты, предварительно детально обругав просителя.
Ефремович – большой философ. Однажды я не сдержал размаха бадьи, хотел поскорее на весу «успокоить» ее, поскользнулся и упал. Ефремович спустился, отвел меня в сторону, и, несмотря на то что подъезжали машины, ждала бадья, не спеша начал:
– Как ты считаешь, дорогой мой: что вот у этой машины самое главное?
– Мотор, – опешил я.
– Хорошо. Хорошо. А еще что?
– Руль? Колеса?
– Эх ты, «колеса»! А вот, допустим, если перебегает дорогу несмышленый поросенок…
– Тормоза!– догадался я, нетерпеливо посматривая на бадью и ничего не понимая.
– Так. Так… Подожди, не торопись. Значит, такой у меня к тебе вопрос: тормоза всегда действуют безотказно или нет?
– Н-нет…
– Бывает, что и откажут?
– Бывает.
– Хорошо. А как ты полагаешь, у нашего крана есть тормоза?
Вот оно что! Вот к чему он вел!
– Я понял!
– Молодец. Люблю смышленых людей. Теперь [106] еще покумекай сам, сопоставь вышесказанное с весом бадьи – три тонны, – и многое тебе станет совсем ясным. Милости просим еще раз к нам на чай!
И он спокойно удалился, волоча к себе в будку моток проволоки, который обронили арматурщики. В продолжение всего диалога Саша Гурзий терпеливо сидел наверху и улыбался. Уж он, наверно, изучил характер Ефремовича!
Я решил воспользоваться полученным приглашением и пошел, то есть вскарабкался, в обеденный перерыв на кран. Если на эстакаде была головокружительная высота, то здесь уже слова не подберешь. Железные лесенки, площадки, гудит ветер, вниз не смотри: дрожат колени. Лезешь ввысь, как по пожарной лестнице, а от ветра дышать нечем.
В самой стреле, на выносе, над пропастью, как ласточкино гнездо, вся остекленная, полная воздуха и солнца, Сашина будка. Мягкое поворотное сиденье, рычаги, приборы, радиоприемник «Москвич» на застланной белой салфеткой полочке, целая батарея электропечек и… бурно и весело кипящий чайник на обыкновенной плитке.
Над чаем священнодействовал Ефремович. Он достал из сундучка три пузатые чашки с цветочками, блюдца, тарелочку с маслом, батон с изюмом, накрыл газетой трансформатор высокого напряжения, расположил все на нем, как на столе, любовно, в полной симметрии, щипчиками наколол сахару и пригласил «к столу». Мне, как почетному гостю, уступили мягкое сиденье.
– Послушаем музычку?
– Пожалуй.
– Как в ресторане «Байкал». Свежий воздух и художественные пейзажи! – сказал Саша, включая приемник. – Вот дрянь коробка, а хватает все зверски,[107] потому что у нас антенна чуть ли не возле Луны. Живем, как в мировом пространстве. Что послушаем, Ефремович? Индию или Европу?
Я не знал, пить ли мне чай или восхищаться. С крана открывался необозримый вид на ангарские дали, и птицы летали ниже нашей будки; люди внизу ползали, как муравьи. Я только заикнулся, а Саша восторженно принялся расписывать свой кран: объяснял принцип действия, геометрию углов выноса стрелы, пообещал, что мы обязательно полезем на верхотуру, к самому флагу; он гордился своей машиной, он был влюблен в нее и ужасно рад, что кто-то другой тоже интересуется.
Уже прощаясь, я решился задать им тот же вопрос, что и Генке:
– Слушайте, я не могу приписывать. До меня работали здесь другие. Что они делали? Помогите!
Саша задумчиво улыбнулся, забарабанил пальцами по поручням:
– Наивный ты все-таки, Толя. О таких вещах как-то не принято говорить. Ну что? И нам приписывают… Нет, от тебя мы не зависим. Но, если в перерыве нам удастся перекинуть один-другой пакет арматуры, это уж наш калым.
– Это награда за сверхурочный труд. Она использована на покупку приемника, – назидательно сказал Ефремович.
– Но все-таки калым, Ефремович?
– Мы с тобой еще не имеем коммунистической сознательности. Приписки – зло строительства, – сказал Ефремович. – Они разъедают, подобно червю, душу даже самого чистого человека. Будь здесь ангелы, и они, возможно, приписывали бы. Человек любит копейку. Даже если она нетрудовая.
– Все это так, Ефремович. Но что же мне делать? [108]
– Гони их в шею, – сказал Ефремович.
Саша захохотал, а я махнул рукой и начал спускаться. Я решился! В тот же день я не поставил ни одного лишнего крестика. «Рвач с золотыми зубами» уничтожил меня взглядом. Грустный «00-77» стал еще грустнее. На другой день я заметил, что работается легче, без напряжения, и обрадовался. Но… было принято семьдесят машин. Дальше – шестьдесят. Потом – сорок.
Они удрали! Занаряженные под наш кран, некоторые шоферы делали для виду одну – две ходки и уезжали на другие участки, где им приписывали.
Бригада начала задыхаться без бетона. Где бетон? Где бетон? Я молчал. И только я да крановщик знали, в чем дело. На других участках машины стояли очередями.
А Генка-цыган как ни в чем не бывало возил себе и улыбался ослепительной улыбкой:
– Говоришь, калыму не даешь, так я слышал? Чудак, вам же хуже. Какой у вас будет процент, ты подумал? Нет, ты припиши, припиши, да только не даром. Пойми! Ты припишешь ему, он для тебя на все готов: домой отвезет как начальника, утром на работу привезет, дров тебе надо – дровишек подбросит, бензину тебе – на! Надо уметь пользоваться, а не врагов наживать!
Да. Так я обрел первых врагов и крепко навредил бригаде… Нет, я ничего не понимаю.
В мои обязанности входит закрывать бадью, когда она возвращается из блока пустая. В первый день рыжий Николай делал это в блоке сам, но там бадья качается, «ходит», это опасно и трудно. У нее есть в днище створки.[109] Нажать рычаг – и створки сдвигаются. Со второго дня это стал делать я.
– Нас-собачился, ну и хв-ватит филонить! – «проинструктировал» меня Николай.
И вот однажды случилось такое, что мне и сейчас вспомнить жутко.
В ту смену бетонировали только мы, и все самосвалы волей-неволей сбились у меня. Была такая же сумасшедшая работа, как в первые дни. Я бросался к рычагу, всем телом наваливался, захлопывал створки, орал шоферу «Валяй!», крановщику «Вира!», был возбужден, и хотелось петь.
Как я закрутился, как я забыл – кран рванул очередную бадью, поднял над эстакадой… и вдруг створки распахнулись, и страшным потоком вся многотонная масса бетона рухнула из бадьи на помост, так что гром разнесся и перила задрожали. Хорошо еще, что поблизости никого не оказалось! После «философского объяснения» Ефремовича я держался подальше от бадьи, когда ее трогал кран.
Саша поболтал в воздухе пустой бадьей – из нее вывалились остатки – и тяжело ухнул ее на настил, рядом с горой бетона.
Я схватился за голову. Бежали мастера, кто-то костил матом, кто-то мне что-то доказывал… Шел бетон! Ведь как шел бетон!
Все остановилось из-за меня одного. Сигналили самосвалы, каждый старался объяснить мне, что надо всегда закрывать створки, как будто я сам не знал! Бетон завалил половину проезда, но вторая свободна.
Я закрыл злополучный рычаг и принял решение: подавать бетон, а эта гора пусть лежит. Холодный пот выступил у меня на лбу: если она схватится и застынет, потом понадобится бригада с отбойными молотками, чтобы убрать. А что уж будет мне!.. [110]
– Давай подгоняй! Вали!
Две машины принял. Кран понес бадью. Это уже лучше. Работа возобновилась. Пока машины будут валить, я буду лопатой забрасывать с кучи в бадью. Но один только раз я попробовал и понял, что работы мне хватит на два дня… Я готов был броситься на эту гору и зарыдать, утопиться в ней. Но что делать?
И я работал, наверно, целый час, пока перед глазами не поплыли оранжевые круги. Бросишь лопат десять этой чугунной тяжести – и глотаешь воздух. А машины идут, а машины идут, а машины идут!
Рядом заскребла чья-то лопата. Я обернулся и остолбенел. Тоня! Тоня с соколиными бровями! Откуда? Увидела, пришла? Спокойная, загадочно улыбающаяся, она не сказала ни слова. И я не сказал ничего. Рядом стали другие девушки, переговаривались как ни в чем не бывало, будто меня тут и нет, а это – их обычное дело.
– Бери оттуда. Куда лезешь?
– С того краю, Дашка!
– Девоньки-и! Ай да милые мои! – Шофер Генка подлетел, схватил у меня из рук лопату и, ухнув, как экскаватор, стал валить в бадью, только мускулы его заиграли.
– Ты, черноглазая, посторонись! Дай-ка место рабочим рукам. Что смотришь? Провожать меня хочешь? Садись в кабину, расцелую!
– Ах ты, цыганище, а палки не хотел?
– Девочки, серьезно! Которая берет меня в мужья? Смотрите, какой работник!
– За столом, с большой ложкой!
Так с шутками, с визгом они убрали больше половины горы. Я сначала растерялся, но потом, чтобы не стоять без дела, подогнал машину, вывалил.
– Ви-ра-а! [101]
Как медвежата, они посыпались в дыру, на лестницу, чтобы успеть к блоку, пока кран принесет бадью, а я чуть не заревел: теперь я уже справлюсь сам, нагоняя не будет!
Выбрав момент, когда не было машин, Ефремович подошел и стал возле меня, заложив руки в карманы.
– Саша! А ну, подай-ка бадью сюда. Ниже. Стрелу смайнай. Еще. Разворот.
Я бросился к висящей бадье, чтобы, навалясь, выровнять ее. Ефремович остановил:
– Не надо. Он сам сумеет… Право чуть. Разверни…
Я разинул рот. Бадья на тросах, как живая, лениво вертелась, пристраивалась, прицеливалась и тихонько легла разинутой пастью к самому бетону.
– Техника творит чудеса, – сказал Ефремович. – Нужно организовать рабочее место так, чтобы сочетать полезное с приятным.
Он поплевал на руки, взял мою лопату и принялся кидать. Саша кубарем слетел с крана, неся вторую лопату. Они отстранили меня, стали рядом – и только зашуршало: хрр, хрр! Я уже не мог и руки поднять, стоял, смотрел.
Они, пошучивая, подскребли все до капли, доски заблестели, как вымытые.
– фух! Вот славно! – сказал Саша. – Так бы целый день и кидать! Правда, Ефремович?
– Я бы целый день сало в рот кидал, – сказал Ефремович.
Усталость. Тяжелая, беспросветная усталость, как обложной дождь. Где бы я ни был, что бы ни делал, одно стучит: отдохнуть, отдохнуть. Вдобавок ко всему кончаются деньги, осталось с пятнадцать рублей, да и [112] то одна трешка рваная, надо как-то заклеить. А до аванса далеко. Когда от усталости не хочется есть, то я и не ужинаю.

То ли Москаленко разгадала, почему к нам мало возят бетона, то ли действительно было так, как она сказала:
– На приемке у нас стоят по очереди, для отдыха. Пора тебе на настоящее дело, в блок.
Ого-го! Оказывается, приемка – это самое легкое, так сказать – «интеллектуальный» труд. И я перешел в блок.
Знаете ли вы, задумывались ли когда-нибудь, как работают бетонщики? Блок – это огромная, сколоченная из досок коробка. Все внутри перегорожено и перепутано прутьями арматуры. Сверху льют бетон. Бетонщики ползают внутри, утопая по колено в жидком грязном месиве, лопатами разбрасывают кучи, уплотняют вибраторами. Надо доверху заполнить всю эту коробку. Вибратор – полтора пуда, на ногах – пуды. Как гладиаторы в древнеримском цирке – внизу, среди стен, в клетке.
– Машка, куды кидаешь! Ах ты, такая-сякая, корова, вибрировай!
– Вибратор не работает.
– А-лектрик! А-лектрик, чтоб тебя нелегкая!..
Из будки электриков несется, карабкается по арматуре обезьяной Петька-фотограф: он дежурит при нашей бригаде. Достает щипцы, крутит провода, искрит.
Вибратор чем-то похож на шахтерский отбойный молоток. Но на конце у него не долото, а небольшой тяжелый цилиндр с моторчиком внутри. Нажмешь кнопку – он начинает весь дрожать, так что вырывается из рук. Дрожащий цилиндр втыкаешь в тесто бетона – и пошло! Бетон пузырится, плывет, уплотняется. [113]
Это и называется вибрировать.И так надо проходить по всему бетону, слой за слоем,иначе останутся раковины (брак, за который техинспекция взгреет,по головке не погладит).
Это самая сложная и ответственная работа, нелегкая еще и потому, что однообразная. Чтобы стать вибраторщиком, нужно кончать курсы, но в эти горячие дни меня приняли и допустили к вибратору потому, что я проходил в десятилетке физику, знаю принцип вибрации и вообще понимаю химию бетонного процесса, разбираюсь во всем с полуслова. «Образованный» – ну, и полезай в кузов, нечего прикидываться.
Две смены я выдержал. После третьей чуть не слег. У меня дрожали руки, как у паралитика, бешеный вибратор, казалось, выворачивал суставы. Звеньевая Даша уперлась руками в бока, поглядела, как я бьюсь над вибратором, силясь вытянуть его из теста, плюнула и обругала:
– Ну-у, работничка прислали! Такой ты, сякой, вылезай на арматуру, отдохни! Будешь бадью открывать.
Даша терпеть не может, когда матерятся. Но ругаться сама любит. Поэтому у нее есть «заменитель»: такой-сякой.
Открывать бадью – это второй «интеллектуальный» труд. Тут нужны голова и немалая ловкость. Поверхность арматурной клетки была примерно на высоте трехэтажного дома. Тут ветерок, редкие арматурные прутья вгибаются и раскачиваются под ногами с легким звоном. Стоишь на четвереньках, уцепившись за дрожащие пруты, и думаешь: как же выпрямиться?
А сверху уже маячит в синем небе бадья, летит стремительно, сыплет щебень и льет раствор.
– Девушки! Сторонись!
Они бросаются к стенкам. Саша Гурзий улыбается из далекой будки в вышине, осторожно подводит бадью ко мне. Я машу рукой: ниже, еще чуть, стрелу смайнай! Стоп!
Подполз обезьяной к бадье, ухватился за нее, выпрямился. Она медленно, акула проклятая, «ходит» на тросах, поворачивается. Упираюсь изо всех сил, веду, выравниваю.
Теперь надо взять веревку и дернуть за рычаг – как у пушки. Отполз… отклонился как можно дальше… Дерг! Дерг!
Не берет. Уперся ногами лучше. Дерг! Дерг!
Весь красный, ноги скользят, колени дрожат. Рывок, еще рывок!
– Сильнее, такой-сякой! Прохлаждаться из-за тебя будем, да?
Собираю все остатки сил. Или слечу, или открою. Дерг!!! [115]
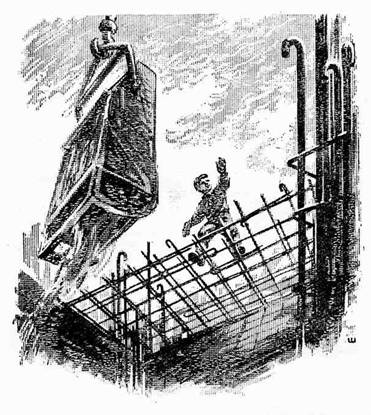
Как орудийный выстрел сработали рычаги: «Гур-дур-гур-р-бах-трах!» Бетон – лавиной в блок, бадья подпрыгнула, арматура присела, а я уцепился за прутья и закачался, как воробей на ветке, ни жив ни мертв.
– Ха-р-рош! Дава-ай!
Смотрю, Саша Гурзий сжимает руки над головой, подбадривает: все в порядке. Тросы дрогнули, полетела бадья. [116]
Есть первая!.. Ну что ж, не хуже и не лучше других… А сам вытер холодный пот над бровями. Вот так работают.
Да. Вот так, Толя, строят коммунистическое будущее!
Это я такой слабый и беспомощный. Это для меня столько страхов и тяжестей. Наши бетонщики посильнее меня, они работают, словно копают огород или рубят дрова, – размеренно, с шутками, без особого напряжения. Они должны были быть стальными, если бы они не были простыми девчатами.
Тоня с соколиными бровями. Итак, есть две Тони на свете: одна на танцах, а другая в блоке. Тут она молчаливая, размеренная; она работает только на вибраторе и на самых ответственных местах: по углам, под стенками, среди особо сложных арматурных сплетений. Даша очень уважает ее и никогда не бранит. На месте Тони я бы уже протянул ноги.
– Как ты можешь все время на вибраторе?!
– Он меня слушается. Я даже не напрягаюсь: он сам ходит, только направляй.
– А вытаскивать?
– Ну что ж, физкультура полезна! Да ты попробуй, как я, поучись. Он же живой, с характером! Давай становись, пока бадьи нет…
Тоня отличается от других и тем, что она стройная и изящная – да-да, изящная! – даже в этом медвежьем комбинезоне и резиновых сапожищах. Я не знаю, как она умудряется это делать. Другие девушки как узлы, как медведи, а она тоненькая, комбинезон сидит на ней, как влитый, на руке часы «Победа». Она и заляпана меньше, и руки у нее не изуродованы… [117]
Иногда она поднимает раскрасневшееся лицо с выбившимися из-под косынки растрепанными волосами и со дна клетки смотрит в небо. Мы встречаемся взглядами, мне наверху хочется выпрямиться, ухарски поправить чуб, а она смотрит серьезно, будто спрашивает о чем-то загадочно. Потом улыбнется дружески и снова наклоняется.
Эти взгляды – наша тайна. Никто не замечает их. Тоня и не подозревает, как они держат меня…
Валя Середа. Она родом из Бодайбо. Мать-одиночка. Курносая, скуластая, плотная и пресимпатичная! Я еще не видел, чтобы она хмурилась, нервничала или с кем-нибудь поссорилась. Утопает в бетоне, запуталась в проводах, набрала полные сапоги раствора, тянет изо всех сил вибратор и щебечет там внизу:
– Ой, де-евочки-и! А мой Вовка сегодня говорит: «Мама! А в цирке клоун делал вот так. Я, как вырасту, пойду в клоуны!»
Она щебечет и щебечет о самых разных пустяках, и это не надоедает – наоборот, кажется: уйди она – и в блоке станет пусто.
– Де-вочки-и! Я и забыла: в наш магазин привезли огурцы, хорошие, малосольные, объеденье! Скорее берите, пока есть. Я могу взять, кому надо?
Она очень любит петь. Наша первая запевала. Чуть передышка, а то и в работе – заведет тонко, звонко, а другие подхватят, медленно тянут вибраторы, шеренгой идут от стены к стене и поют…
Тася-медвежонок.Она маленькая, круглая, добрая и хорошенькая, только руки у нее страшные – большущие, рабочие, красные. Закутанная и завязанная, как шар, даже лицо закрывает платком, чтобы не лупилось. Она недавно вышла замуж за скрепериста.
Время от времени Тася, деловито пыхтя,[118] карабкается по арматуре на стену и, закрывшись от солнца ладонью, высматривает: где там, вдали, на плотине скрепер ее мужа? Увидит, расцветет и бултыхнется обратно в бетон.
А иногда в блоке поднимается суматоха и визг:
– Тася! Тася! Иди скорее! Толя пришел!
Это значит, что скрепер проходил рядом и муж выскочил, забежал на секунду. Он, стройный и белокурый парень, весь перемазанный мазутом, пахнущий солидолом, стоит на лестнице, улыбается. Тася шариком катится к нему; возьмутся за руки, стоят и смотрят друг другу в глаза.
И какая бы ни была спешка, даже сама грозная змея Дашка отпускает на три минуты Тасю, хоть и ворчит:
– Иди, холера, такая-сякая, иди целуйся со своим Толей!..
И я завидую Толе. Я тоже Толя, но не тот…
Дашка-змея. Наша звеньевая – самая злая и самая крикливая из девчат. Она дебелая, крепкая, словно железная. Лет ей под тридцать. Лицо конопатое, зубы желтые, в ушах серьги – ни дать ни взять, какая-нибудь деревенская бабенка. Но она прошла курсы и работала трактористкой, каменщицей, она строила в Москве дома на Песчаной улице, была на Сталинградской ГЭС. Это бой-баба, и она – мое проклятие. Ни секунды не дает отдохнуть, ни одного ласкового слова от нее не услышишь, ни одного мягкого взгляда. Иногда я готов ненавидеть ее.
– Толька-а! Такой-сякой, бери карандаш, считай объем этой штрабы. Быстро! Чему тебя в школе учили?
Она словно злится на меня за то, что у меня есть среднее образование, а у нее нет. Мы гонимся за кубами – больше, больше уложить. Считаем, вычисляем, рассчитываем. Я лихорадочно вспоминаю: высота 6; пи-эр-квадрат… 3,1416 умножить на…
Даша нервничает, проверяет меня, находит расхождение, сделанную впопыхах ошибку и едко обзывает меня доцентом, профессором или академиком – в зависимости от величины расхождения.
РыжийНиколай. Мужчин в бригаде мало, а в нашем звене только Николай да я. Говорят, перебывало у Москаленко много мужчин, но одни сами не выдержали, ушли, а других она разогнала. Москаленко предпочитает девчат, и некоторые из них работают у нее уже по четыре года.
Не знаю, за что она держит Николая. Зто подлинный рыжий черт: грубый, злой, угрюмый, ленивый, – иначе я не могу его представить. Николай – женоненавистник. Жена у него дома не говорит, только «шипит», девушек он называет только «бабы». Зато и они над ним посмеиваются и издеваются как только хотят.
Дело в том, что каждую свободную минуту Николай старается использовать, чтобы полежать. Найдет себе какую-нибудь дыру среди блоков, натаскает туда бумаги, досок с гвоздями, железяками – и, чуть свободная секунда, он уже там, лежит.
– Глядите, Коля уже нашел курятник! – смеются девушки. – Коля! Ко-ко-ко! Куд-ку-да! Яичко снес? Ко-ко-ко!..
Из «курятника» только торчит сизый нос Николая и время от времени пыхают клубы дыма. Он не удостаивает ответом.
– Бадья-а!
Николай вскидывается – и пошел-пошел на четвереньках по арматуре, как паук из засады: прыг, скок – поймал, сбалансировал. Дерг! Бетон еще валится, а он бочком-бочком, ползком в «курятник» и залег! [120]
Сейчас мы с ним соседи, валим в смежные водосливы. Я смотрю внимательно и не могу одного понять: я лопаюсь, дежурю на арматуре, не отходя ни на шаг, пекусь на солнце, кипячусь, а у Николая бетона навалено больше. Чем это объяснить?
Вот так и понеслись дни. Теперь я уже совсем «свой» в котловане. Забежишь попить воды к Петьке-фотографу в будку. Там у него железо, провода, лампы, амперметры, и он, как Плюшкин, любовно копается в своем богатстве, чинит вибраторы, подключает прожекторы и еще успевает фотографировать. Его мечта – создать фотолетопись стройки.
Встречаюсь и с Захаром Захарычем: он возит щебенку под наш блок, всегда приветливо машет из кабины рукой. Все мы тут, в котловане, как дома.
Наши гости – экскурсанты из Иркутска, разные туристы, школьники. Они глазеют, удивляются кранам, ничего не понимают и шарахаются от машин. А я прохожу мимо развалистой походкой, не обращая никакого внимания… Или когда они испуганной кучкой стоят на эстакаде и смотрят, как работаем мы, тут даже лентяй Николай не лазит в «курятник». Мы ведь на виду, мы с ним представляем бригаду, и мы знаем, что пожарник, который от скуки у них за экскурсовода, сейчас поясняет: «Это бригада Москаленко, у них знамя, это самая лучшая бригада». Удивительно много знают на стройке пожарники, они всю технологию вам объяснят!
И еще нет отбоя от корреспондентов. Из каких только газет они не прибывают! И каждый ищет людей из своего города, и обязательно чтоб были передовиками. А кто из нас передовик? Как отличить? Позавчера всю бригаду фотографировал корреспондент из Москвы.[121] Белел почиститься, принять позы, полчаса из-за него держали на весу бадью, становились «динамично», то есть так, как мы никогда не стоим, вопреки всем приемам и правилам техники безопасности. Он щелкнул раз десять и, довольный, ушел, а мы полезли опять в свою клетку.
Итак, денег не осталось, если не считать разорванной трешки.
Что же я буду делать? Я совсем закрутился, запутался и не знаю, чем все это кончится.
Всякий раз в обеденный перерыв мы командируем кого-либо за квасом и бутербродами в буфет. Складываемся и обедаем – вернее, выпиваем, потому что жажда страшная.
Сегодня Даша, как всегда, подошла ко мне за деньгами. Рваную трешку я постыдился дать.
– Ну, ты, такой-сякой, что, особого приглашения ожидаешь?
– Я сегодня не хочу.
– Ух! Вы! – Она состроила такую презрительную мину, так осмотрела меня с головы до ног, что мне захотелось ударить ее в конопатую рожу, влепить так, чтобы аж… Спокойно. Не надо нервничать.
Они все расселись в тени, на щите, весело о чем-то говорили, а я решил от нечего делать почистить арматуру: все меньше будет работы до конца смены.
Было очень жарко, хотелось пить. Я тюкал и тюкал лопатой по прутьям, скреб. Потом по арматуре приполз на четвереньках рыжий Николай. Он делал вид, что ползет куда-то по своим делам, но подбирался все ближе и ближе, неуклюже, как медведь. Я весь напрягся и насторожился. [122]
– Ты в-вот что, – сказал он мрачно. – Дай-ка «Беломора».
– Кончился… – пробормотал я; папиросы в самом деле кончились.
– Понятно. Денег нет?
– Есть.
– В-врешь, – невозмутимо заключил он и полез в карман. – На, бери.
Он протягивал двадцатипятирублевую бумажку.
– Ну, бери. С аванса отдашь. Это жжена велела клеенку купить. Бери, говорю! – сердито и грозно заорал он, весь наливаясь кровью.
– А… а… жена зашипит?
– Н-ну и п-пусть шипит.
Он так же неуклюже ушел по арматуре, а я остался, ошарашенный, растерянный, с деньгами в кулаке.
Не прошло и пяти минут, как:
– Толька-а-а! Иди, такой-сякой, сюда!
Опять начинается, опять Дашка. Господи, чем я ей не угодил?
– Толька-а-а!
– Иду. Ну, иду.
– Ах ты, барин! Что, я сама к тебе лазить буду, да? Спускайся вниз ко мне сейчас же!
Я спрыгнул, плюхнулся в мягкий бетон и предстал перед ней. Дашка вдруг снизила голос, сунула мне что-то и зашептала:
– На, глупый! Девочки тебе собрали. Сто рублей. Держись как-нибудь. Не хватит, еще найдем.
Белесые глаза светились как-то по-особенному. Она смущенно совала и совала слипшиеся трешки, десятки, рубли, покраснела от досады.
– Да-да, еще нюни тут распусти! Мужики тоже мне! Ты, такой-сякой, чтоб мне больше фокусов не устраивал! «Не хочу, не хочу»! Барин нашелся… Марш [123] на щит! Там в ведре и на бумаге – все твое. Быстро, пока бетон не подают! Ну? Молчать! Марш!
Я, не зная, что и думать, по привычке подчиняясь ей, покорно пошлепал к щиту. Девушки уселись на противоположной стене, хохотали, рассказывали анекдоты, потом кто-то достал газету, принялись читать. На меня никто не обращал внимания. На щите стояло ведро с квасом, возле него стакан и на бумаге две сайки с ломтиками сыра.
«ОЙ, ДА ПО СИНЮ МОРЮ КОРАБЕЛЬ ПЛЫВЕТ»
Куда меня несет жизнь? Куда она меня вынесет? Буду ли я рабочим и мне век суждено так бултыхаться в бетоне, а Витька будет агентом по снабжению и жить на собственной даче? Что же это за Сибирь? Беда или счастье?.. Нет, счастья не видно, скорее беда…
Мы сидим на макушке почти законченного водослива и «загораем» без бетона. Сейчас ночь.
Бригада перешла в третью смену, после двенадцати. Кто не знает, что такое третья смена, желаю ему и не узнать.
Часа в три ночи начинает клонить ко сну. Руки и ноги становятся ватными, веки слипаются. Упасть, прикорнуть! Ничего не понимаешь: что делаешь, зачем? Холодно: сибирские ночи морозные, с инеем подчас. Сначала разгорячишься, а на рассвете зуб на зуб не попадает.
Сегодня мы кончили водослив, девушки руками заглаживали откосы. Это те самые знаменитые водосли-вы, которые рисуют на картинках, когда хотят показать гидростанцию. Да, их заглаживают руками снизу доверху, всю покатую, как застывший водопад, стену. Просто и обыденно: сидит Даша, возле нее ведро с мутной водой, дощечка, кельма, – и мажет, развозит заглаживает,[124] как в деревне бабы мажут печь. Сверху вниз жутко смотреть: как поскользнешься, как поедешь вниз, так уж не остановишься.
Сначала работа была адова, сумасшедшая: бетонный завод ставил рекорд. Мы потонули в бетоне, машины сгрудились, шоферы сигналили, мы не успевали ни вибрировать, ни заглаживать, сразу доверху так и вырос весь водослив. А теперь вот сидим и мерзнем: на заводе сломалась бетономешалка, не осилив рекорда.
Николай забрался в «курятник», девушки поприжимались тесно друг к дружке, смотрят на звезды и поют. Песня грустная, протяжная, голоса переплетаются – одни идут вверх, другие вниз…
Тихо-тихо почему-то сегодня. Песня слышна, наверно, всей стройке. Жужжат прожекторы, вокруг них вьются бабочки. Мне хочется тоже прижаться ко всем, лечь, положить голову кому-нибудь на колени. Я закрываю глаза, и мне чудятся корабли. Волны шумят и плещут о водослив, вскипают барашками. Свежо! Ветрено! Брызги! Море. Это наше море. Корабли идут, на них алые паруса. У меня сердце выпрыгивает от радости. Радость беспричинная, просто так, оттого, что я живу, оттого, что у меня здоровые, крепкие мускулы и солнечные искры в крови, оттого, что это мое море, я его делал!
Открываю глаза: вьются бабочки возле фонаря, девушки сбились темной грудой, засунули руки в рукава, пар идет изо ртов, и кто-то страшным шепотом рассказывает : [125] СКАЗКА (как я ее записал)
– Итак, народились у Байкала триста тридцать шесть дочерей. Он был старый, злой, могучий. Дочки слушались отца, боялись его, и все как одна приносили ему свои воды.
И была у него старшая дочка, красавица из красавиц – голубая Ангара. Была она гордая и смелая, самая смелая девушка в мире.
Чайки сказали ей, что далеко на Севере есть прекрасный богатырь Енисей, и передали ей от него привет.
И с тех пор потеряла свой покой Ангара. По ночам она мечтала о прекрасном Енисее, о далеком Севере, и она возненавидела отца и его власть.
С чайками красавица Ангара посылала весточки другу, а он кликал ее к себе.
Однажды старик Байкал поведал Ангаре свою волю: быть ей замужем за Иркутом.
Иркут был самый богатый из богатырей, он приглянулся и полюбился старому Байкалу. А жил он далеко за горами, среди тайги и сопок, и вот он стал собираться в путь за невестой. Ехал он медленно и торжественно, ехал долго и в последний раз заночевал, не доехав шестьдесят верст до Байкала.
Была темная и бурная ночь. Ангара металась в темнице, плакала и звала на помощь Енисея. Но никто не слышал ее.
И билась грудью красавица Ангара о каменные утесы, и разбила она грудь в кровь.
И силой своей любви она разрушила грозные скалы и ринулась прочь от Байкала.
Богатырь Иркут сквозь сон услышал шум ее побега, проснулся и кинулся наперерез. Он круто свернул прочь от Байкала и стал ломать и крушить в спешке [126] горы. Он настиг прекрасную Ангару в том месте, где теперь стоит город Иркутск. Но было уже поздно: Ангара прорвалась на Север…
А старый Байкал вскочил, вздыбился на своем ложе, схватил в ярости огромную гору и швырнул вслед непокорной дочери. Упала гора на подол бирюзовой фаты девушки – там, где перед ней расступились скалы.
И с тех пор триста тридцать пять покорных речек впадают в Байкал, а непокорная Ангара одна выносит все, что они приносят. Печальный Иркут лениво льет в нее свою тоску. Гора лежит в Ангарских воротах, и лодки иногда разбиваются о нее, когда подхватит их течение. Люди называют ее страшным Шаманским камнем…
Мне стало дрожко и душно. Я ушел тогда на соседний блок, прислонился спиной к холодной деревянной балке, слушал издали новые песни, слушал, как поет по-украински Москаленко – ведь она украинка, с Днепростроя, – и любовался рассветом.
Небо разгоралось бесшумно, стремительно, сначала холодное, серое, потом с розовыми стрелами – полосками облаков, потом поднялся целый пожар. Мне была видна изогнутая змеей, гладкая и цельная, как зеркало, Ангара, и она неслась, неслась на далекий и дикий Север. Алые паруса… Алые паруса, где же это было?
Над самым ухом:
– Петушок пропел давно, дети, в школу собирайтесь! Ух, дождик, ух-ха! [127]
Я чувствую, как на меня словно бросают горсти песка. Продираю глаза, и прямо в лицо мне солнце и дождь!
Я вскочил, ошалело схватился за балку, а вокруг хлопали в ладоши, хохотали. Уже ясный, яркий и безоблачный день. Тепло, солнце греет вовсю. Валя и Тоня поливают из шланга водослив. Проклятая Валька-озорница направила струю прямо на меня.
– Валька, перестань! Ва-а-а… убью!
Она валится со смеху. Ну, что ты поделаешь: весь комбинезон как после дождя. Нашла забаву! Смешно!
– Уже скоро восемь часов, вставайте, лентяи! Отработались. Скажу Вовке своему: мама твоя сегодня сказки слушала. Де-евочки! А Вовка вчера меня спрашивает: «Мама! А скоро будет коммунизм?»
– Ну уж, неправда!
– Хоть побожусь! Он у меня уже во всем разбирается.
Девушки чистят лопаты, собираются. Даша заботливо, основательно расстилает брезенты по мокрому бетону водослива: будет жаркий день. Чтобы не растрескался наш неокрепший бетон.
– Тоня, – говорю я, – полей мне из шланга.
Она наклоняет шланг, и я, закатав комбинезон до пояса, обливаюсь холодной, бодрящей струей. Брызги, дух занялся! Я обливаюсь, обливаюсь, и хочется еще. Тоня терпеливо ждет, чуть улыбается.
– Хорошо?
– Ох, хорошо! Эх, девчата, не знаете вы этой прелести: до пояса облиться – словно заново на свет народиться, бр-р!.. Бедные вы!
– Будто уж?
– Тоня…
– Что?
– …Правда? [128]
Она смотрит на меня своими задумчивыми синими глазами; шланг дрожит и гудит в ее руках.
– Правда…
– Тоня, что же будет?
– Будущее.
– Слушай, Тонька, может, так надо? Может, мы просто рабочий материал, издержки производства для этого будущего?
– Не знаю… Не думаю, чтобы так…
– Тебе не жалко рук? Гляди, что с ними делается.
– Жалко. А ты не смотри! Иди помоги Даше. Вон она совсем запуталась.
Я иду, тяну брезенты, ползаю, разглаживаю углы.
Если бы ты знала, Тоня, как я сам запутался!..
Но деньги я не сохранил. Мой замечательный Ленька не рассчитал тоже и… пришел просить у меня взаймы. Я честно отдал ему половину.
– Ну что ж, тогда пойдем ловить рыбу, – сказал он. – Это уж завсегда: как на мели, пошел бычков тягать.
И вот мы вышли утром, направившись далеко вверх по Ангаре. С сопки мы увидели внизу, как на карте, наш городок, и стройку, и шестерку портальных кранов, из которых крайний был мой…
Мы шли все дальше и дальше. Лес становился гуще, выше, исчезли, тропки, остались позади огороды, и мы шли напрямик, продираясь сквозь сушняк, который ломался под руками подобно макаронам, со звонким треском и пылью, а паутина облепила лицо, волосы, лезла в глаза – приходилось держать впереди руку, чтобы она цеплялась на рукав. [129]
Боже ты мой, сколько тут было цветов! Огромные, как стаканы, крошечные, как бисер… Огненные жарки, лиловый багульник; красные, синие, розовые, они казались ненастоящими! Заросли папоротников этажами покрывали склоны, а среди камней качались хрупкие холодные и нежные тюльпаны. Пахло нагретой травой, дышалось легко, сладостно, и хотелось упасть в траву, в сетку солнечных пятен, закрыть глаза и лежать, слушать жужжание мух, шорохи паучков. Все вокруг было наполнено такой жизнью, такой стройностью – мудрой, вековечной, дикой…
«Чью-ви-ить!» Тонкий, пронзительный свист раздался совсем рядом. На стволе сосны, распластавшись как белка, сидел крохотный полосатый зверек и любопытно смотрел на нас блестящими бусинками.
– Ах ты, мой родной, ах ты, дурачок! – Ленька умильно остановился и расцвел, словно увидел друга. – Ах ты, мой бурундучишка! Ну, как живешь? Как дела вообще? Куда прячешься, а?
Бурундучок слабо пискнул и шмыгнул на другую сторону ствола. Мы стояли. Сначала показались ушки, потом лобик, и глянули любопытные-любопытные глазенки – так дети выглядывают из-за угла, играя в прятки.
Ленька казался взволнованным. Он нежно гладил деревья, рвал цветы, напевал и все начинал рассказывать, как он жил с отцом на зимовье, а зимовье – это просто избушка в тайге, хутор. У Леньки была замечательная собака Вальва, она за версту чуяла глухарей.
– Вот идешь ты по лесу. А он, хитрюга, засел где-то на дереве и спит. Вальва мигом почует – как примется лаять, на дерево прыгает, бесится, а он, дурак, попыжится, поплотнее усядется и наблюдает одним глазом. Тут уж он ничего не слышит! Ужасно интересно ему: что за зверь?.. А старая лиственница как падает![130] Шарах! – и охнет весь лес, шумит долго: «Дерево умерло…»
Глаза у Леньки блестели, и он все говорил, говорил, прыгал по камням, разговаривал с птицами, с жуком, словно он пришел в гости; вот долго-долго не мог выбраться, да и пришел, и никого не забыл, и для каждого у него припасено ласковое слово.
– Ты погоди, брат, вот мы с тобой придем сюда попозже. Вот она, брусника, – видишь, зеленая еще. А ведь мы тут лопнем! А малина! Голубика будет! Мы тогда всю получку в сберкассу – вот посмотришь! Кедровать пойдем. Ух, какие кедрачи есть!
Вырезав десять удилищ, мы спустились к Ангаре.
Сколько я ни смотрю на Ангару, не могу привыкнуть к ней. Она несется, как поезд, как падающий с неба ястреб, но тихо, без бурунов и шума, только поверхность напряженно пузырится, водоворотит… И стоит удивительная тишина, в которой слышно, как шуршат камешки по дну, а перед глазами несется, несется бирюзовая, чистая, как слеза, вода.
И перед этим тихим стремительным чудом я просто и ясно понимаю, как родилась эта легенда о гордом и дерзком побеге Ангары. Я смотрю, и голова кружится; кажется, что это во сне.
Ленька забросил удочки и подпер их камнями.
– Значит, искупаемся?
– Страшно…
– Ничего! Вот я Енисей переплывал – пять километров, – вот это я тебе скажу!
Я набрался храбрости и с разбегу шлепнулся в воду. Сначала мне показалось, что вокруг кипяток. Дыхание захватило, я раскрывал рот и не мог крикнуть. Течение понесло меня, как соломинку. Барахтаясь из последних сил, я выполз по-собачьи на гальку и только тут глотнул воздуха. [131]
А Ленька стоял по грудь в воде, похлопывал себя по плечам и хохотал:
– Кусается? А? Добра! Быстрина! Хороша! Ага-а!
Он, словно тюлень, нырял, фыркал, булькал и был наверху блаженства. Я воротился по берегу к нашей одежде, попробовал снова зайти по щиколотки. Ноги заломило, будто я стал в лед, заболели все кости. Это было тем более удивительно, что сверху жарко припекало солнце, и галька на берегу была горячая, как угли. Я выскочил.
– Да ты привыкай! – уговаривал Ленька. Он заплыл далеко саженками, – Привыкай, это тебе Сибирь!
Еще раз я окунулся, просидел в воде десять секунд и с позорным воем шарахнулся на берег. Зуб на зуб не попадал. Ленька пришел довольный, раскрасневшийся и снисходительно утешил:
– Привыкнешь. Я тоже, как Енисей переплыл, двое суток на печи лежал.
Нет, не переплыть мне Енисея… Почему же я такой хилый, почему меня угораздило родиться и вырасти в городе? Эх!.. А я еще когда-то воображал, что сильный. Сколько раз я занимал первые места на школьных кроссах!
Настроение мое упало, вдруг стало почему-то тошнить. Что-то за последнее время меня часто мутит. Да это и неудивительно: ешь что попало, когда придется, к тому же устаешь.
Поплавки всех десяти удочек почему-то потонули – наверно, размокли. Но Ленька щелкнул языком:
– Порядок! Уже сидят.
Он подошел к удочкам и спокойно вытащил по очереди десять бычков, рыжих, головастых; самый маленький был с палец, самый большой – с ладонь. Я ахнул от изумления.
– Иная рыба глотнула – ну, пошла водить, шумит,[132] не соглашается, – пояснял Ленька, наживляя крючки. – А бычок – парень с крупной головой; взял крючок и сидит спокойно. Знает: попался. Мы сделаем так: я буду закидывать, а ты таскай. Они там уже в очередь построились.
Я не верил своим глазам. Ленька шел впереди, забрасывал удочку и клал ее на воду. Я сейчас же брал, тянул – и снимал бычка. Это было ни на что не похоже. После первой же сотни такое однообразное, невероятное ужение превратилось просто в машинальную работу. Дергали, дергали – ну что редиску в огороде!
Ухи мы наелись до отвала, а потом спали на горячих камнях.
Я проснулся первый. Становилось уже прохладно. Ленька вкусно храпел, широкогрудый, мускулистый, как Геркулес в Пушкинском музее. По-прежнему стояла тишина, шуршали камешки, и Ангара бесшумным миражем неслась мимо.
Вдали сквозь дымку я только теперь заметил крохотные силуэты шести портальных кранов; крайний – мой… Точка, островок, пятачок культуры в этом нетронутом, диком мире. И меня сюда занесло. Выдержу ли?
Опять меня замутило. Вспомнил про уху, и стало гадко: в ней плавали разваренные головы, плавники, а мы хлебали, хрустели головами. Не надо было мне столько есть… Да, я в школе брал первые места на соревнованиях, а тут оказалось, что я просто малявка. Вот Леньке дай в руки ружье да ржавый крючок и пусти его на год, на два в тайгу – и он проживет, ничего ему не страшно; мир для него – дом родной, и стройка для него – игрушка. А я…
От заходящего солнца Ангара отливала лиловым, зеленым, золотилась. Это было фантастично. Большие рыбины играли, бултыхались то там, то тут.[133] Над сопками огненными крыльями раскинулись вечерние облака. И чем краше становилось вокруг, тем тревожнее бежали мои мысли.
– Ленька, вставай, пошли, пошли домой!
– Что с тобой?
– Ничего. Пошли домой.
– Да на тебе лица нет! Что случилось?
– Да ничего же! Тошнит…
– Ну-у… Ухи объелся. Погоди, бычков подловим и пойдем.
– Не хочу бычков! Идем сейчас же! – Я сказал это таким неожиданно капризным тоном, что самому стало стыдно, а Ленька захлопал глазами.
Мы пошли через луг к сопкам. На этом лугу росли мириады фиалок. Меня морозило, мутило, и вдруг дикая резь в животе заставила согнуться.
– Что? – спросил Ленька.
– Давай нарвем фиалок…
– Девушкам? Да? – обрадовался Ленька. – Вот это придумал!
Он, ничего не подозревая, рвал фиалки целыми пучками. У меня фиолетовые круги плыли перед глазами, но я держался. Шли медленно и к закату солнца добрались до склона. Здесь новый приступ боли и тошноты заставил меня отбросить букет прочь и присесть на камень.
Ленька перепугался, засуетился, что-то говорил, а я заорал:
– Иди вперед! Я отдохну. Иди вперед, говорю!
Он деликатно пошел вперед, поднялся по склону, с минуту маячил его силуэт с удочками на фоне темнеющего неба и исчез.
Я, обессилевший, весь в холодном поту, немного отдышавшись, пополз за ним. Ленька сидел, поджидая меня, в траве. Отсюда открывался, как и с портального [134] крана, необозримый вид на серебристую ленту Ангары, на необъятные вечерние дали, покрытые тайгой сопки.
– Ленька, Ленька! – сказал я, задыхаясь. – Достань мне денег! Я уеду в Москву. Я вышлю тебе оттуда, клянусь, честное слово!
– Ах, ты! – прошептал Ленька. – Да что же с тобой? Толик, да что ты?
– Достань мне денег, прошу тебя, умоляю тебя! Я уеду сегодня, сейчас же, я не могу так больше, я не могу! Я домой хочу!
– Ну-ну… Да не надо, успокойся! Это тебе бычки…
– Выбрось их, я не могу их видеть!
Он взглянул на меня и послушно бросил связку бычков в траву.
– Ленька, мне нужны деньги! Ленька, Ленечка, голубчик! Двести рублей на общий билет, иначе я пешком побегу. Я не гожусь, я пропаду. К черту! К черту! Двести рублей!
Ленька облапил меня за плечи ласково и неуклюже. – Толик, родной!.. Да ведь денег-то… нет. Нет денег. Ни у кого нет. Достать нельзя… Потерпи. Ты пересиль себя. Ах ты боже мой! Держись, пересиль. Понимаешь? Тебе плохо, а ты упрись. Ну, поругайся… Слышь, хочешь – ударь меня? Бей! Ну, бей! Не бойся, мне ничего!
Он уже не знал, как вести себя, что сказать мне, капризному, избалованному дитяти, как ответить на такую выходку.
– Ты же пойми: уехать – это можно. Получишь аванс, на вокзал – да и дома. Да только дашь себе поблажку раз – всю жизнь поедешь на поблажках, ставь крест! Идем лучше домой, возьми себя в руки. Эх, не надо было тебе бычков есть! Пошли…[135] Заработаешь денег, отпуск возьмешь – съездишь. Хочешь, вместе собирать будем? Мне не надо! Ну что же ты, не на Москве весь свет клином сошелся!
Я плохо слушал, что он еще говорил. Тошнота немного прошла. Я встал, отыскал в траве бычков, молча сунул связку Леньке, отобрал у него половину удочек и, кусая губы, пошел.
Леонид уделил мне половину своих фиалок, и мы положили два букетика на Приморской, под дверью с табличкой «4», тихо, по-воровски прошмыгнув в коридор.
В эту ночь я шел на работу медленно и тяжело. Впервые мне было абсолютно безразлично, что делать и как. Хотелось только, чтобы смена поскорее прошла.
Представьте себе горы развороченной земли, усеянной щепками, бревнами, и среди них высокую наклонную деревянную стену. Она внутри пустая, туда мы заливаем бетон. Это после водослива мы строим береговую стенку, набережную. С одной стороны ее будет сквер, с другой – забурлят воды, вырываясь из турбин станции. Нет, не пустая стена, а, конечно, заполненная арматурой. Тесно там, комбинезоны цепляются за крючья, повернуться негде, провод вибратора путается, света прожектора недостаточно.
Николай наверху открывает бадью и валит, а я принимаю машины внизу у крана. Сюда портальный не достает, пригнали паровую «Шкоду». Как он сюда прилез на своих широких, стертых и покалеченных гусеницах через горы земли, непонятно. Он – как двухэтажный дом, весь обсыпан углем и пыхтит, как паровоз. Темно, горит зола, высыпанная из топки;[136] машинисты то выглядывают, то скрываются в будке, чумазые озабоченные; скрипит где-то неподалеку бульдозер да время от времени с буханьем вырываются искры из трубы крана.
Прохладно. Меня знобит и тошнит.
Чего-то мне хочется. Чего-то мне недостает. А чего – сам не понимаю. Но только кажется, что добудь я это – и горы свалятся с меня, станет легко жить на свете и радостно. Но чего? Или я болен?
Первым привез бетон старый знакомый, водитель машины «00-77», с грустными глазами. Я обрадовался ему, и он впервые заговорил со мной, сказал, что к нам трудно добираться.
О, шоферы строек! По каким только ямам, холмам, непроходимым хлябям и колдобинам вы не водите свои истрепанные, работящие машины! Ваши самосвалы в таком страшном виде не пустили бы даже в пригороды Москвы. А вы умудряетесь делать сто тысяч без капитального ремонта, носите резину до последнего клочка и еще экономите! К нам сюда пройти – сам черт ногу сломит, а «00-77» приехал и бетон не расплескал, и только заметил, что трудно добираться.
Вторым прибыл «рвач с золотыми зубами» – этот зато половину бетона выплеснул в пути.
– Ахо! Друзья встречаются вновь! – радостно приветствовал он меня, не выходя из кабины. – Как поживает сегодня твой карандаш?
– Ладно!
– А работенка сегодня никуда… Уж пару крестиков там проставишь законно, а?
Работа действительно не ладилась. Николай не мог попасть бадьей в узкий раструб стены. Крановщик бранился, боялся, как бы тяжелая бадья не оборвала стрелу. Кран натужно пыхтел, дергался, лязгал. А в деревянной узкой клетке девушки убирали кабели, чтобы [137] их не заваливало, жались к стенам по углам, закрывались. И вот: грр-бух-бух-шлеп-трах! Вывалили!
Начинается вой в блоке:
– Куда тебя черт просил валить? Колька-а-а! Паразит! Иди теперь сам, перекидывай!
– Л-ладно! Молчать там! – с достоинством говорит Николай в дыру и садится закурить. – Б-бабы! Ваше дело малое: з-знай вибрировай.
Он на блоке ходит с опаской, хватается за штыри, взмахивает руками, и на фоне звезд похож на одинокую и бестолковую курицу, которая никак не найдет своего насеста.
Наконец бетон вообще перестали возить.
Николай спустился со стены по лестнице, собрал кучу щепок, притащил ведро из-под смолы, целое бревно, раздавленное экскаватором, свалил все в кучу и поджег:
– В-вот славно! Костер – п-первое дело! Эй, девки!..
Из блока выбралась Даша, с ног до кончика носа в бетоне; пришла, присела, подставляя огню бока и радостно щурясь, славная, добрая, словно и не она только что костила Николая.
– Вот зимой, Анатолий, х-холодища – во! – сказал Николай. – А я на эстакаде, на ветру. Бабы-то в блоке, а на эстакаде – метель, смерть моя! Спасаться надо? Вот я соберу щепочек, да в пустой бадье и разведу. Железо вокруг, не загорится. Залезу в бадью, дым глотаю – ах, хорошо!
– Расскажи про пожарника, – подсказала Даша.
– Ну, а когда начальство идет, я сразу затоптал, присыпал, словно и не я. Откуда дым? Курил! И вот однажды пожарник попутал. Я его не углядел: метель больно сильна была. Эх, он как набросился! Такой и растакой ты, говорит, Иркутскую ГЭС спалишь! Я же [138] стою на своем: «Спасаться надо?» – «Я тебя, – говорит, – спасу!» Побег он искать начальника участка. Я скоренько костер загасил, золу скинул вниз, снегом присыпал, а сам ходу. На портальный к Ефремовичу залез и смотрю. Они пришли, ходили, ходили… А я наблюдаю. Начальник говорит: «Не может быть, я Николая знаю, он не допустит». Так и ушли. Потом начальник встречает. «Ты, – говорит, – жги, да так, чтоб пожарники все-таки не видели». Ладно. Знаем. Летом теперь что? Благодать.
Неподалеку лежал ящик для угля. Я развернул его к огню, постелил там доску и прилег. Железо было ледяное, костер погасал. Иногда гул будил меня, я вскакивал, выбегал к машине, но это была не машина, это гудел и клокотал котел крана. Во сне я видел зиму: Москва завалена снегом, и по улице Горького колонной идут снегоочистители. Морозно, термометр на Моссовете показывает «35». А я – школьник, с портфелем в руке, иду и жую мандаринку, и от нее желтые корки остаются на снегу. Скоро Новый год, у нас культпоход на «Щелкунчика»…
Меня разбудил «рвач»; он привез кубометр бетона, который «выдоил» с завода, и сказал, что там поломка, бетон будет не скоро. Я дрожал от холода, был как пьяный, – то ли больной, то ли сонный.
– Ну слушай, парень! – стал канючить этот сильный мужчина. – Ну добавь же ходок хоть пяток! Сам видишь, какая работа. Ну что я, не рад бы возить? Вот вырвал из зубов кубик… Ну допиши, прошу тебя, детишкам на молочишко! Ведь у меня их сколько, и все пищат: дай, дай, дай!
Я достал блокнот и дорисовал ему три ходки. Потом мне стало жалко водителя «00-77», и я ему дописал две.
– Вот за это пойдем на кран греться! – весело сказал шофер, беря меня под руку. [139]
Мы вскарабкались на кран, открыли железную дверь в его стене, и… пахнуло жаром, огнем из раскрытой топки. Кочегар, черный, как шахтер, скалил зубы:
– Что-о? Прибыли? Днем никакой дьявол не заглянет…
– Эх! Рай, жизнь-малина! – молодецки воскликнул «рвач». – Сюда бы еще девочку да белоголовочку – и помирать не надо! Неси-ка, друг, водички.
Кочегар нырнул в темноту, за причудливые механизмы, цилиндры, манометры, принес ведро с плавающей в нем сажей, и мы с удовольствием напились.
– Полезайте на полати, – сказал кочегар. – Там Жорка спит; вы его потесните, да не будите.
Забравшись по лесенке под крышу, мы очутились на каком-то помосте из досок, на нем лежали фуфайки, штаны, тряпки. Рядом в темноте проходила раскаленная труба, было жарко, как в парной. У меня от сладкой истомы сразу размякло все тело.
Мне снилась Комсомольская площадь в Москве. Я спешу на вокзал. Жара. Душно. Москвичи торопятся в дачные поезда. Все битком забито, одна за другой отходят электрички. Мороженое нарасхват. А мне очень весело: сейчас мы поедем в лес, на реку, на рыбалку. Эх, бычки! Да знаете ли вы, что мы с Ленькой поставили мировой рекорд по рыбной ловле на ржавые крючки! Только чего-то тошнит. Бычков нужно ловить – и выпускать обратно в реку, там они уже в очередь построились. Ловлю – и выпускаю. Ни ветерка, ни тучки. Пить, пить!
– Пить…
– Эх, парень, ты, видать, к здешним полатям непривычный. Слезай: бетон привезли. Айда!
Ну и жизнь! Я вышел из крана пошатываясь. Уже светало. «00-77» опрокинул кузов над бадьей. Я полез [140] с лопатой и свалился в бетон. Полез еще, тюкнул раз-другой – и опять свалился.
– Поезжай! А, хорош!
Кран понес бадью. Долго кликали Николая; он залез в очередной «курятник» и так крепко уснул, что его едва разбудили. С грохотом вывалили бетон, и тут в блоке поднялся такой крик, такие вопли, что у меня похолодело сердце: кого-то завалило.
– Николай! Николай! Что случилось?
Николай смотрел вниз и шевелил губами.
– Николай! Да отвечай же! Девчат завалило?
– Хуже, – сплюнул он. – А что им, бабам! Опалубка треснула. В-весь бетон поплыл к м-матери. На-б-бетонили, шабаш!
Я кошкой вскарабкался наверх и увидел: противоположная стена треснула и отошла. В образовавшуюся дыру хлынул бетон. Девушки спасались, тащили вибраторы, визжали, карабкались по арматуре. Можно было ждать, что весь блок крякнет и разрушится, как спичечный коробок. А бетон плыл в дыру лениво, убийственно спокойно. Все труды пошли прахом!
Дашкина голова показалась первой и сейчас же сказала Николаю с непередаваемой яростью:
– Ах ты, рыж-жий аспид! Ты куда же на стенку валил? Не видел, что она слабая, да? Ах!..
– Даша, не ругайся, – вступилась Тоня. – Он валил правильно.
Она была красная, растрепанная, словно вылезла из пекла, и едва тащила вибратор. Я бросился на помощь. Она благодарно взглянула синими глазами и сказала:
– А вообще надо было Толю поставить. Вот уж он валит – по ниточке.
Я задохнулся. Это была первая похвала за все дни моей работы на стройке. И ее сказала она, Тоня… [141]
– Тебе спать, тебе дрыхнуть только! – шипела Дашка, готовая вцепиться Николаю в лицо.
Он хлопал белесыми ресницами и краснел, как индюк.
– Уйди! – неожиданно тонко выкрикнул он. – Спихну!
– Это ты-то меня спихнешь?
– Дашка, перестань! Оставь, Даша! Иди лучше Москаленчиху покличь. Не нервничай!
Я впервые видел, как люди из-за неполадок готовы были схватиться и избить друг друга, искалечить. Из-за чего? Это же не свой огород, не своя хата?
Прибежали прораб, плотники, мастер, шумели, доказывали, допрашивали Николая. Общий вывод был: вина плотников – неверно скрепили опалубку.
У всех немного отлегло от сердца. Но настроение было преотвратительное. Даша и Николай не разговаривали. Тоня сидела на бревне, задумавшись, бледная, осунувшаяся, наморщив лоб, и такое что-то тоскливое, усталое было в ее взгляде, в ее фигурке, что я не решился подойти.
Но так легко отделаться нам не удалось. Даша прибежала встревоженная, растерянная и сообщила, что возле конторы собралось начальство, приехал парторг стройки и всю бригаду вызывают туда…
Вот это будет баня!
Больше всех раскричался, расхорохорился Николай:
– Я… я им с-скажу! Я им так и с-скажу! Я не боюсь, видали мы таких! Оп-палубщики брак гонют, а б-бетонщик отвечай? Что они думают, мы б-бессловес-ные? Они меня попомнят! Надолго! [142]
– Да ты пойди им скажи, Коля!
– И с-скажу! Испугался? Нет! Я уже десять лет б-бетонироваю! Видали!
Всю дорогу он разглагольствовал, его словно прорвало.
У конторы оказалось много народу: восемь часов утра, пересмена. Москаленко стоит на крыльце красная, расстроенная. Ну и ночка! Не хотел бы я оказаться сейчас на месте Москаленко. На крыльцо вышел парторг. Начинается!..
Обком рассмотрел итоги соревнования…
Что такое? Мы смотрим друг на друга.
– …Бригаде Анны Москаленко снова присуждается переходящее знамя обкома КПСС…
Треск раздался у меня в ушах: это аплодировали.
– От их работы зависело начало перекрытия Ангары. Бригада с честью справилась…
– Они не знают ничего. Молчи, Коля! – зашептали девушки.
– …безобразное, возмутительное отношение со стороны руководства участка. Бригада простаивает часами. Только сейчас я узнал, что три четверти бригады отправили на уборку мусора, а бетонировало одно звено – и то «обеспечили» бракованной опалубкой!..
Вынесли красное знамя – опять аплодисменты. Москаленко, розовая, как девушка, взяла его, начала говорить приличные случаю фразы, сбилась, но потом перешла как-то само собой на недостатки и, оседлав своего конька, как принялась чехвостить начальника участка, электриков, опалубщиков – казалось, пыль столбом поднимается!
В толпе гоготали, парторг хмурился и делал пометки в блокноте, а она, маленькая, как петушок, сыпала словами, потрясая знаменем:
– «Иван Микитич, давайте же бетон, люди стоят!» [143] Посылает к Габайдуллину: «Это пусть он обеспечит». А Габайдуллин поехал за картошкой в Кузьмиху. Заместитель говорит: «Я ни при чем, это пусть диспетчер». Что же это за издевательство?! Для кого же стараемся? Бездушные, беззаботные вы люди! А бригада стоит? А, чтоб вам ни дна ни покрышки, бездельники!
– Правильно, Москаленчиха! – орали в толпе. – Крой их! Снять их!
– Я с-с-скажу! – Николай, полный решимости, полез прямо через перила на крыльцо. Лег брюхом и перевалился под общий хохот. – Я д-докажу! Д-думае-те, я испугался? Нет! Я десять лет бетонироваю!
– Ты к делу, к делу!
– А э-это не дело? Да? Он-ни думают, мы б-бес-словесные!..
– Да кто они, Коля?
– Л-ладно! П-помалкивай там!
Долго нельзя было понять, что Николай хочет доказать. Видно было только, что у человека накипело. И простои, и приписки, и нехватка бетона. Наконец он выпалил:
– А если кто б-будет такую опалубку гнать, как сегодня, так я сам б-буду ему в морду!
– Ну-у! Уж так и в морду! Нельзя, Коля!
– А ты п-помалкивай! Пойди п-поделай брак, тогда запоешь. Я десять лет без брака…
Николая стащили под аплодисменты и смех; он продолжал махать руками, и его успокаивали.
Между прочим, начальник участка сообщил, что за сегодняшний брак бригада опалубщиков лишается прогрессивки и снимается с Доски почета.
Мы стали героями дня. Народ повалил на блоки; вынырнул как из-под земли Петька-фотограф и категорически велел нам сниматься со знаменем. Он щелкнул [144] раз двадцать. Правда, карточек никто не получил и по сей день, но зато факт был налицо: нас снял собственный фотограф участка.
Николай был красный, потный и очень довольный собой: он в толпе сумел-таки досказать соседям свою мысль.
– Пошли купаться! – сказал он. – Я знаю одно место. Никому не говорил, а тебе скажу: вода теплая, как чай!
– Ну?
– Сам нашел! П-пошли, потому дома все равно мыться. А потом поможешь мне шифоньер тащить.
Я двинулся за ним.
– Ну, правильно я говорил?
– Очень здорово, Николай! – польстил я ему.
У них в комнате был тот веселый и свежий беспорядок, какой случается только в счастливый день получения новой квартиры. Еще чисто, пусто, но в углу уже свалены постели, стоят прислоненные к стенке спинки кровати, занавеска лежит на подоконнике.
Молодая чернобровая и тихая жена Николая засуетилась вокруг нашего шифоньера.
– Ой, да что же вы сами несли! Попросили бы шоферов, вы же заморились.
– Б-буду я их просить, горлохватов! – буркнул Николай, вытирая со лба крупные капли пота.
– Ну, ставьте пока так. Мойте скорее руки – будете завтракать. Опять где-то загулялось, солнышко мое рыжее?
– Н-не твое дело! – строго сказал Николай.
У жены его были замечательные глаза: карие,[145] влажные, глубокие; когда она вскидывала ресницами и смотрела на меня, казалось, что она скажет сейчас что-то очень важное и хорошее, и хотелось ответить тем же.
– Вас звать Толей? А я вас знаю: мне Николай много про вас рассказывал и все хвалил, хвалил. Меня называйте просто Ганна… Извините, пожалуйста, вы видите, какой у нас беспорядок. Я тоже только что с работы, не успеваешь все…
– Вы работаете, Ганна?
– Мотористкой… Садитесь, садитесь же! Когда гости стесняются, я сама смущаюсь.
– Да я не голоден! Я пойду.
– А п-по шеям?! – заревел Николай, хватая меня за шиворот. – Садись по-хорошему, коль приглашают!
– Коля! Коля! Разве можно так с гостями? Ты с ума сошел! Боже, когда же я тебя выдрессирую?
Николай, не удостаивая ответом, плюхнулся за стол:
– Гони что есть!
– Какие у вас интересные стулья! – смущенно сказал я.
– А это Коля сам все сделал. Они складные. И этажерка такая. Мы на одном месте ведь долго не живем, часто переезжаем, вот и мебель такая.
– Почему вы переезжаете?
– Да как все строители. Стройка закончится – дальше. Что нам тут делать? Так и кочуем. Всю жизнь на колесах…
Она сказала это грустно, немного устало, печально улыбнулась и добавила:
– Вот и этой стройке скоро конец. Так у нас и получается: живем, живем в бараке, а как дадут квартиру, так и на новое место. Кто-то другой будет жить. [146]
– А вы бы остались! – сочувственно сказал я.
– Ну, что вы! Разве вот этого рыжего удержишь?
– Уйди!
– Не ворчи, не ворчи! Ну чего ты стесняешься, ну скажи!
– Вот что. Т-ты трескай и не шипи…
– Коля уж и место присмотрел. Получило, горюшко мое, отпуск весной. Все добрые люди в дом отдыха, а он поперся на Братскую ГЭС. «Надо присмотреть», видите ли. Что да как…
– Николай! Ты был на Братской ГЭС? И молчал? Что там?
– А что? Камни в реке – во! Бурунища! Ворота. Пока город строят. А б-бетону там хва-атит! Поделаем еще браку!
– Расскажи про мошку, – сказала Ганна.
– А чего… кусается. Будем привыкать. Не к тому привыкали.
– Толя, вы кушайте, кушайте. Я же знаю вашу жизнь в общежитии. Это не дома, мамы нет… Хоть у нас попробуете домашнего супу.
– Ты… того, приходи… запросто, – проворчал Николай. – Жрать захочешь – обязательно приходи. Ганка тебя всегда накормит. Она славная…
– Вот… Первый раз в году похвалил, – и с улыбкой и с грустью сказала Ганна. – Ну скажи, ну где ты уродилось, такое чудо? А? Рыжий…
– Уйди!
Она, не обращая внимания на страшные гримасы, взяла его за уши и оттрепала. Я нагнулся над тарелкой.
– Не женись, Толька, – сказал он. – Будут тебе всякие тут… уши драть.
Он краснел, пыхтел, щурился, хотел грозно браниться – и не получалось. [147]
Никого нет. Я на койке лежу один. У меня жар во всем теле и мутит. Только что мне снились яблоки. Холодные, упругие, в больших корзинах, покрытые капельками росы, кисло-сладкие. Мучительные, до дрожи вкусные яблоки. От этого кошмара я проснулся.
Сегодня я наконец понял, отчего меня мутит и что мне нужно. Я хочу яблок. Одно яблоко, пол-яблока, кусочек. Я не могу видеть на столе стеклянные банки с консервированными щами, огрызки селедки…
Я хочу яблок!
Утром ходил на рынок, но их, конечно, там нет; почему-то совсем устал, и нет сил съездить в Иркутск.
Будь у меня две тысячи рублей, я бы сел на самолет, полетел в Москву и привез бы яблок. Честное слово! Больше мне ничего не надо. Будь у меня двести рублей, я бы взял отпуск на полмесяца за свой счет и съездил бы…
С трудом достаю пиджак, выворачиваю карманы. С мелочью и с той же злополучной рваной трешкой тридцать два рубля.
Пришла уборщица Октябрина. Она тихо, как мышка, моет пол, и, когда она ползает на коленях и водит по доскам мокрой тряпкой, я рассматриваю ее худые, красные от воды руки, узкие плечики. У нее большие грязные босые ноги, потому что она шлепает по залитому водой полу.
– Октябрина, – говорю я, – вы положите у двери тряпку – мы будем вытирать ноги.
Она благодарно улыбается, и только теперь я начинаю понимать, какие мы все свиньи.
– Сколько вам лет, Октябрина?
– Двадцать два.
– Что вы? Вам на вид девятнадцать, не больше. [148]
– Ну, вот еще! – смущенно и грустно смеется она. – У меня уже трое детей. Я старуха.
– Нет, вы очень молодая. Это хорошо, – утешаю я. – Это хорошо, что вы выглядите моложе. Только вы очень слабенькая. Вам не трудно мыть столько комнат? Вы не каждый день убирайте. Мы не будем сорить.
– А, ничего!
– Вы давно на стройке?
– Полгода. Мы ехали на Курильские острова, да тут застряли.
– А сами откуда?
– Курские мы.
– Почему же вы поехали?
– Там скучно.
– А здесь?
– Ничего…
– Ну, а почему же не сразу на Курильские?
– Да мы решили сначала в Сибири пожить несколько лет; поработаем, потом поедем дальше. Интересно мир посмотреть.
– Интересно?
– Интересно.
– А яблок вам не хочется?
– Хочется.
Она тихо и бесшумно исчезает, а я с новой силой ныряю в тоску. Как же достать яблок? Как?
В яблоках есть витамины. Кажется, витамин «С». Может, если достать витамин «С», перестанешь думать о яблоках?
Никого нет, поэтому я могу ругаться и стонать, пока одеваюсь. Это развлекает, и мне даже становится смешно. До аптеки далеко-далеко. Я иду, как пьяный, плохо соображая. А вокруг солнце, лето, жара! Только нигде – ни в магазине, ни в столовой, ни на рынке – нет яблок, нет груш, нет вишен, нет клубники.[149] Есть соленая капуста в банках. Это тебе Сибирь. Когда сюда привезут, и привезут ли?
На коробочке витаминов, которые я купил в аптеке, дата выпуска: «Март 1952». До чего же старые! Это желтые шарики-драже, сладкие снаружи и кисленькие внутри. Написано, что надо принимать по 1–2 таблетки в день. Я съедаю десяток, еще и еще… Меня пробирает томительная дрожь от этого кисленького вкуса, даже появилась легкая оскомина. Это витамин «С», тот, что есть в яблоках! Когда ешь яблоки, то тоже кисло во рту и оскомина. А то еще бывает виноград – прохладный, упругий, и в нем желтые зернышки просвечивают изнутри.
Коробочка с витаминами стоит на подоконнике, но меня уже тошнит от них. Я хочу яблок!
У меня есть двадцать девять рублей с заклеенной трешкой. Одеваюсь и думаю: наверно, я все-таки заболел. Голова гудит, ничего не соображаю. Если бы яблок, таких, какие я летом ел дома, я бы сразу ожил и выздоровел!
Когда я выздоровею, я напишу в газету заметку под названием «Автобусиада» : «Гнев, о богиня, воспой пассажира во граде Иркутске…» Но Троянская война – ничто по сравнению с тем, что творится у нас при посадке в автобус. Я стою и чуть не плачу. Я не могу пробиться. А мне нужно во что бы то ни стало в Иркутск за яблоками.
Если бы передо мной оказался тот начальник, который ведает иркутским транспортом – древнеегипетскими трамваями, законопаченными автобусами, которые ходят через час, – с каким наслаждением я вцепился бы ему сейчас в горло! С каким наслаждением [150] я сжал бы горло тем, кто не привозит в разгар лета яблок, кто не может дать нам прачечную, кто задерживает выдачу аванса!
После обеда я все-таки добрался до Иркутска. Билет стоил два рубля; у меня осталось двадцать семь.
Магазины. Лотки. Закусочные. Столовые. Рестораны. Яблок нет. Я выпил стакан газированной воды, и во мне поднялась целая буря, бросало в жар и пот. Да полно, яблоки ли мне нужны? Может, это брюшной тиф? Нет-нет, надо искать!
Мне все казалось, что я увижу где-нибудь на витрине яблоки или что-нибудь из фруктов. Вот-вот, кажется, увижу. Бежал, полз, добегал, жадно шарил глазами по стойкам – нет, нет!.. Только банки, банки, консервы, консервы…
А в Москве чуть ли не на каждом углу сейчас палатка или лоток с апельсинами, с арбузами, с виноградом и яблоки в соломе, душистые, скрипучие. Не схожу ли я с ума? Это уже какая-то мания. Как далеко Москва!
Последняя надежда – центральный рынок. Я понимал, что и там нет, но пошел.
Боже ты мой, чего только не продается на белом свете! Рыба – да такая, что в Москве и не увидишь! Мясо всех сортов, кедровые орехи, соленые огурцы, бочки с медом, квашеная капуста и мука. Веселый шум, гам, толкучка, зазывания!
– Толя! Толька! Толька-а!
Не меня ли зовут? Я обернулся… и чуть не ахнул. В рыбном ряду в брезентовом фартуке, с огромной рыбиной в мокрых жирных руках стоял за весами… Гришка-жадюга, попутчик по поезду!
– Гришка! Здравствуй! Ты как здесь очутился?
– Ого-го! Дела! Целое кино. Я вот чем занялся. Правду говорили, что в Сибири не пропадешь. [151]
– Гришка, скорее рассказывай. Ты же на Братскую ехал!
– А ну ее! Приехали мы, понимаешь, в лес, заперли в дебрю – ни кола, ни двора, руби! Поразведали мы, столковались с местными. «Куда! – говорят. – Живем, как волки, денег – ни-ни, а что заработаешь, сам же и прожрешь. Картошки полгода в глаза не видели». Работают в накомарниках – гнус заедает, хари распухшие – во! Ну, я на попутную – и сюда, на Иркутскую. Тоже хороша! Я на Байкал. Говорили, на Оль-хоне рыбаки зашибают. Порыбачил – вижу, не то. Как кому повезет: иной с тысячами, иной без штанов. Вот подобрал себе дело: вожу омуль с Ольхона. Там, на берегу, рыбаки по рублю отдают рыбищу, а тут двенадцать целковых кило… Уже две тыщи наторговал. Перевозка вот трудна – ловят. Хочешь омуля, я тебе за полцены отдам! Жирный, подлец, во-о!
Он поднял за хвост большую рыбу, а меня затошнило от одного ее вида.
– А как же Димка Стрепетов, Васек, Иван Бугай?
– Те, шалопаи, работают. Им что! Ничтожный народ. Посмеиваются, говорят: «Нам и тут хорошо». Лешку чуть не прибили.
– Как?
– На картишках! Я с самого начала понял, что он за птица. Сел играть в компании, обыграл дружков-то на полторы тысячи – и драпать. А в лесу куда убежишь? Схватили. Он говорит: «Я пошутил». Ох, и дали ему внушение! Плакал, карты порвал… Да расскажи сам – что ты? В Иркутске устроился?
– Я тут на стройке бетонщиком…
– Ну вот, я так и знал! Балда! Я сразу, как приехал, понюхал, смикитил: нет, этот квас не про нас. Хочешь, бросай грязную работу, я тебя в свое дело введу? Мне без помощника трудно. Будем на пару возить: [152] безопаснее. Зашибем тысяч по восемь – домой махнем. Еще и в Москву доставим, там он целковых по двадцать кило. Знатная рыба! Экстра!
Я бессильно махнул рукой и быстро, качаясь, пошел прочь, не обращая внимания на Гришкины удивленные восклицания: «Что ты? Что ты? Куда ты?»
Задыхаясь, сделал круг по базару, остановился сообразить: куда я бегу?
И в этот момент прямо перед собой я увидел яблоки.
Впрочем, у меня так шумело в голове, что я мог принять за яблоки какую-нибудь зеленую репку. Нет. Под навесом в маленьком ящике лежали крохотные зеленые пупырышки, вроде того зеленчака, который весной ветер сбивает в саду. Высокий симпатичный человек кавказской наружности стоял в переднике за весами и весело выкрикивал:
– Вот кавказские, естественные, натуральные яблоки! Белый налив!
Они стоили тридцать рублей килограмм. Я взял полкило, положил в рот штучку, раздавил зубами – и почувствовал терпкий, кислый-прекислый вкус, настоящий яблочный вкус. Знаете ли вы, что это такое?
Потом я очнулся, сидя под каким-то ларем на досках. Странно, что меня не забрал милиционер.
Я пошел к остановке, и «автобусиада» повторилась. Дома я был часа через четыре, если не позже. Последние силы ушли на то, чтобы подняться по ступенькам в общежитие.
Да, спекулянту оказалось легче доставить зеленчак в Сибирь с Кавказа, чем некоторым выпускникам торговых техникумов – хм! – с Украины или, скажем, из Средней Азии. Какая насмешка! Это были последние четкие мысли у меня в тот день. Ночью «скорая помощь» забрала меня в больницу. [153]
СТРАНИЦА ИЗ БЛОКНОТА. ЧЕРНОВИК
Мама моя родная, здравствуй!
Как ты живешь? Почему ничего не пишешь? Как твои глаза? Я получил только то первое письмо, в котором ты столько ахала и охала обо мне.
Не надо! Ради бога, не беспокойся ни о чем! Если бы ты знала, как здесь хорошо, как я хорошо, удачно устроился! Ребята в общежитии хорошие, бригада у нас замечательная, самая передовая на стройке.
В Сибири, оказывается, очень много молока. Мне оно уже просто надоело: молоко и молоко на каждом шагу.
Работа у нас хорошая, очень интересная. Я ничуть не жалею, что приехал сюда. Насчет вещей не беспокойся, еще раз подтверждаю: костюм у меня есть, до зимы далеко, а из первой же получки отложу на пальто.
Здесь у нас весело: есть клубы, кино, танцы. А если хочешь, садись в автобус и поезжай в Иркутск – там есть все, чего твоя душа желает. На рынке можно достать все: яички, омуль, фрукты.
Кто тебе говорил про мошку и комаров? Я еще, сколько живу здесь, не видел ни одной мошки, ни одного комара. Это в глухой тайге, а у нас природа и погода совсем такие же, как в Подмосковье, абсолютно никакой разницы, только цветов море и сопки высокие, непроходимые…
У меня просьба: если случайно увидишь Сашку, передай ему от меня привет и скажи, что я хотел бы ему написать, но не знаю адреса их новой квартиры.
Вот пока все.
Береги себя. Не беспокойся обо мне. Никаких денег не смей одалживать и высылать! Знаешь, сколько тут бетонщики зарабатывают? До полутора тысяч в месяц! [154] Куда мне девать столько денег? Я решил собрать немного и тогда пошлю тебе. Ведь твоя шубка уже совсем износилась.
До свидания! Крепко, крепко целую.
P. S. Да! Я тут несколько дней приболел немного. Ты просила говорить правду о своем здоровье, так вот сообщаю. Но это чепуха, ты не беспокойся – это от перемены климата.
Передай, пожалуйста, Виктору, чтобы он не писал мне писем. Я ему не отвечаю, а он все пишет и пишет.

– Ax ты, дрянь этакая! Ах ты, ничтожество! Я с тобой разговаривать не буду. Убери свою койку! Иди к сумасшедшим в палату – там тебе мозги вправят! Уйди вон, или я уйду!
– Мишка, ты взбесился…
– Да, взбесился, потому что с вами тут нормальному человеку не выжить. Приезжают, понимаешь ты, сопляки, баре, от горшка три вершка, мамкино молоко на губах не обсохло – и разевают пасть. Им тут, видите ли, не нравится! Ух, я бы вас выпорол, я бы о вас двадцать ремней порвал!
– Потому что ты ничего лучшего не видел!
– Видел, брат. Я шесть лет в твоей Москве жил, всю Стромынку своими боками повытер, каждый день в восемь сорок пять бежал по Охотному на занятия. Я Москву лучше тебя, сопляка, знаю – и Сибирь знаю получше! Вы хотите, чтобы все было готово. Вы хотите, чтобы от Иркутска до Якутска ходило метро, а в Кузьмихе открылся Большой театр. А то, что это джунгли, [156] ты знаешь? Джунгли! Аляска! Антарктида! Человек, который ушел от железной дороги на сто верст, – это Кук, Магеллан, Пржевальский! Сибирь никто не трогал, не знал и не ведал. Сибирь – как неоткрытая планета, это – такое богатство, что хватит всему миру! Ты знаешь, что мы сейчас вот на угле сидим? Да-да, под твоей койкой уголь! Вон в Кузьмихе им печи топят, под гору за ним ходят и ковыряют из ямы лопатой. Пойди посмотри. Ты ехал – ты знал, куда ты едешь? Тебя позвали открывать, тебя позвали по колено, по шею в болоте прокладывать дорогу, а ты скрипишь: Сибирь оказалась плоха, метро нету. Уйди, убью тебя!
– Но открывать можно и по-человечески!
– Что значит «по-человечески»? Ты, может, хотел бы получить коттедж? На «ЗИМе» ездить на работу? А кто «ЗИМы» делать будет? Четыре несчастных десятка лет прошло, как гиблая, оборванная и варварская Россия задышала свежим воздухом, начала что-то строить. Голодные рты, голые пуза, тьма, полтора «форда» на всю империю, да и те иностранные, голыми руками огонь брали, дрова ломали, голодали, совершали чудеса, мир спасли от фашизма – и строили, перли, шли. А ты хочешь уже на «ЗИМе» ездить? Ты решил, что уже все кончено? Все, мил друг, только начинается! Да! Только начинается! Вы приезжаете и ждете всего готовенького, ждете квартиры с телефоном и газом, ждете, что Чижик уже не пьет, а торговые точки завалены ананасами. Может быть, я тоже хочу ананаса, того, что на Арбате, в магазине «Фрукты», по шестнадцать рублей кило! Так сначала, милый, построй здесь Москву! Земля состоит, к сожалению, не только из столиц. В крупнейшем городе Восточной Сибири Иркутске только одна линия трамвая, и люди еще не видели троллейбуса. Ты понимаешь? А вокруг целина, дебри! Рано нам с тобой говорить о спокойной жизни, [157] ой, рано!.. И кто хочет прожить в наше время достойно и по-человечески, а не паразитом, – тот поднимает целину, прикладывает руки свои, а не смердит!
– Все это, Миша, я понимаю. Помнишь, я с тобой согласился, что, если бы Америка перенесла хоть половину того, что перенесла Россия, она бы не достигла и сотой доли…
– Ты смотри на дух, смотри на темпы. Зачем далеко ходить? Посмотри, что мы вынесли только за одну войну! Они только наживались, только загребали. А мы жизни клали, пот свой и кровь. У тебя же отец погиб – за что он погиб? За что мы с тобой погибнем, если это будет надо?
– Миша, все это я понимаю… И можешь не доказывать мне, что наша страна сделала чудо в невиданный срок. То, что Сибирь – неоткрытая планета, для меня немного ново, но меня и это не смущает: я согласен ее открывать…
– Он «согласен»! Так знай, что никто тебя не просит, никто тебе не кланяется! Ты должен! Ты понимаешь, никто тебя не просит! Не хочешь – иди себе ко всем чертям, и проживешь жизнь спокойно, уютно, удобно, и руки не замараешь. Копти себе! Сколько людей коптят! Но только если ты настоящий человек, ты не можешь жить спокойно. Ты должен совершать великие открытия! Слышишь! Че-ло-век!
– Согласен. Должен. Должен! Я за тем сюда и приехал. Но когда я встречаю свинское отношение, когда я вижу, как много в мире паразитов…
– У тебя опускаются руки и ты говоришь «мама»?
– Нет. Но мне тяжело.
– Становись сам паразитом. Я подсказываю тебе хороший выход. Блестящий! Ну?
– …
– Что же молчишь? [158]

– …Если ты настоящий человек, ты не можешь жить спокойно!
– Иди ты!..
– Заругался. Неплохо. Так вот, давай сядем рядом и будем выть. Авось паразитов станет меньше. А ты!!! А ты… что ты делаешь, чтобы их стало меньше? Ты только плачешь! Ты испугался? А морды им бить ты не пробовал? Свои первые шаги на стройке ты ознаменовал тем, что научился приписывать? Хорошо,далеко пойдешь… Не-ет, брат! Нельзя жить серединка на половинку, не устоит хата с краю. Прошло сорок лет эпохи, когда существуют только два полюса: если ты поёшь не с нами, ты против нас. Что это за усталость от борьбы, что это за паника перед лужей? Я поражаюсь: вы рассуждаете о том, что каждый строит только свое собственное благополучие, что в мире паразиты живут лучше честных людей! Пищите, ноете, хнычете, испугались! Чего? Посмотрите на народ, на эту невиданную в истории силу! Приложите свои руки, набейте мозоли, а не хнычьте, не путайтесь под ногами! Делать надо, а не болтать! Ух, я не-на-ви-жу!
– Ты прямой, как доска, тебе бы только доклады сочинять! В конце концов, всякий человек имеет право на поиски и переживания!
– Нет! Нет у тебя такого права! Закройся одеялом с головой, заткнись и переживай, а мне не смерди! Ты мне надоел! Понимаешь, на-до-ел!
Он схватился за руку и быстро вышел. Я остался сидеть злой, раздраженный, и опять все мысли смешались, перепутались. Ветер хлопал форточкой, натягивал пузырем марлю, которой затянуто окно. Вдруг в коридоре затопали, зашумели. Голос сестры:
– Главврач! Главврач! Ольхонский из пятой палаты на ступеньках лежит! Санитаров!
Я выскочил, бросился вниз. У выхода во двор, на бетонном крыльце,санитарки поднимали Мишу. Ступеньки были облиты кровью. Лицо его пожелтело,как [160] у мертвеца, он был без сознания. Бинт был сорван, и из раны прямо на каменные ступени комками ляпала кровь. Пока его донесли в перевязочную, протянулись следы по лестницам, коридорам. Метались врачи, впрыскивали камфору, слышалось: «Кислород! Кислород!»
Меня стал бить озноб. Мишу, такого же желтого, без сознания, принесли и положили в кровать. В коридоре мыли полы.
Нет спокойствия на земле, даже в больнице. Люди врываются в мою жизнь и будоражат, зовут, требуют; у меня голова разламывается от новых мыслей, новых чувств. Люди самые разнообразные, люди непохожие, они толкутся в моей душе и не дают спать по ночам.
Больница переполнена. Стройка вдруг обернулась ко мне совсем иной стороной: я увидел, сколько тут бывает несчастных случаев, сколько людей болеет. Машина «скорой помощи» почти не стоит: привозят и привозят больных, покалеченных. В палате для желудочников не оказалось места, меня положили в хирургическое отделение.
На пятом участке придавило бетонщика, такого же приемщика, как я; он замешкался у бадьи, шофер задним ходом подал машину и прижал его бортом к бадье, сломал два ребра. Это могло случиться и со мной.
С эстакады упал и разбился вдребезги самосвал. Водитель успел выпрыгнуть, но в кабине ехал мастер. Его привезли еще живого, и он умер на операционном столе.
Ночью привезли девушку, раненную ножом в спину. Шаркали в коридоре ногами, стучали кроватью. И положили ее прямо в проходе, у нашей двери: нет мест. Ее ударил жених: он напился пьяный, пришел к [161] ней, стал приставать, в чем-то обвинять, потом выхва тил нож и ударил. Утром он прибежал бледный, до смерти перепуганный, принес ей бутылку молока;они сидели, взявшись за руки, и плакали…
Я дивлюсь докторам, милиции и судьям. Они видя жизнь только в страданиях: несчастные случаи, беды преступления. Казалось бы, они должны быть самым мрачными и уставшими людьми. А наши, к примеру доктора – веселые, беззаботные, цветущие. Это сплош женщины. Полина Францевна, врач, которая делает обход в нашей палате, не рисуется, не принимает бодрого вида, она просто словно бы считает нас бездельниками и тряпками:
– Так-так… Ну-ну, еще закричи «мама»! Бог ты мой, какой ужас – шприц! Ну, так что: будем плакать или лечиться? А ну, вставайте мух бить! Развели тут зверинец, валяются, как поросята, в шкафчиках порядка не наведут! Привыкли, что за вас жены работают! Я вас отучу от этой привычки! Вставай, байбак, бери полотенце!
– Я не могу правой…
– Левой бей! В домино играть умеешь? Видела, видела, как стучал, чуть стол не разбил. Все вы симулянты! Вас всех в один мешок – да в реку!
– Поленька, дорогая, подожди немного – мы сами загнемся с вашим лечением.
– Да, с такой рожей, как у тебя, загнешься! Ишь, отрастил подбородок, как купец! А ну, зубы не заговаривать! За полотенце!
И мы знаем, что мух должны выгнать сестры, и мух-то налетело всего с десяток, но мы целый час охотимся за ними, взбираемся на стулья, идем широким фронтом и хлопаем, пока не остается ни одной. Хорошая гимнастика!
Только сегодня я впервые увидел Полину Францевну озабоченной,[162] почти испуганной – когда принесли Мишу. Она была бледная, осунувшаяся, ни разу не пошутила, регулярно каждые пять минут входила и щупала его пульс.
Потом принесли высокое сооружение с длинным стеклянным цилиндром, доверху наполненным кровью, как сироп в ларьках с газированной водой. Миша уже пришел в себя. Полина Францевна натерла ему спиртом руку у локтя, с хрустом всадила иглу – у меня мороз по коже пошел, – и кровь стала медленно переливаться в Мишкино тело. Мы молча смотрели на это священнодействие. Кровь шла капля по капле.
– Ничего?
– Порядок.
Тихо. Сидим затаив дыхание.
– Миша, а тебе больно?
– Да нет, даже и не чувствую. А долго так лежать?
– Лежи, лежи. Сколько влезет.
И Полина Францевна ушла.
Миша, улыбаясь, наблюдал, как понижается в цилиндре уровень – стеклянные стенки оставались желтые, в подтеках.
– Хм!.. Вот странно: чужая кровь… Кто-то где-то ее отдал, а теперь она будет во мне. Если бы узнать этого человека! А вдруг это была красивая девушка? И у нас с ней теперь «кровное родство»! Здорово, а? Вот так, Толя, даже кровь люди отдают друг другу. Понял?
Да. Я начинаю это понимать.
Неделю назад Миша шел с работы. На пустыре, за болотом, он услышал крик:
– Помогите! Ой, помогите же! Не проходите, куда вы проходите!
Перед Мишей шел какой-то рабочий; он услышал и ускорил шаг – прочь, почти побежал. Миша крикнул [163] ему вдогонку: «Трус!» – и поспешил на голос. Трое пьяных окружили женщину. То ли они ее грабили, то ли хотели насиловать. Миша налетел и расшвырял их. Женщина подхватила корзину и с плачем убежала, а пьяные начали драку. Миша дрался так яростно, что они, матерясь, отступили и скрылись в темноте. Тогда он заметил, что из руки у него хлещет кровь: ударили ножом. Он пришел в больницу.
Кто эта женщина, кто эти пьяные?
– А кто их знает! Видно, что тетка простая, пошла через пустырь, глупая, одна… Не стоять же смотреть, как на человека нападают?
Миша – бурят. Он родился на Байкале, на острове Ольхон, и фамилия у него Ольхонский. Когда утром я проснулся и впервые увидел его, я ожидал, что он заговорит ломаным языком, что-то вроде «наша-ваша, мала-мала». Он улыбнулся и спросил, абсолютно без всякого акцента:
– Ну что, ожил? Еще одна жертва цивилизации.
Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что человек с такими раскосыми глазами, монгольскими скулами, бронзовый и коренастый говорит таким чистым русским, московским языком, во всех спорах бьет меня, цитирует Кампанеллу и Руссо, книги, которых я еще в глаза не видел. Мы спорим с ним дни и ночи. За этими спорами, за разными происшествиями я не замечаю, как понемногу выздоравливаю.
В окно из нашей палаты как на ладони видны Ангара и понтонный мост через нее. Мы подолгу стоим и смотрим, смотрим… Больница на краю города, никто сюда не заходит, не ездят машины, профырчит только «скорая помощь» – опять на вызов, опять где-то [164] горе… Тихо, глухо. Издали доносился гул, а мы на острове.
– Я не могу, – сказал Миша. – Вот-вот будут раскрывать перемычки… Я тут сойду с ума. Сиди, как арестант, в идиотском халате! Эти халаты – хитрая выдумка, они напоминают тебе ежеминутно: ты не человек, ты больной, больной!
Миша – инженер и секретарь комсомольской организации своего отдела. Во время перекрытия он должен был находиться на самом мосту. Он кусает губы и рычит. К нему приходят друзья-инженеры, и мы в курсе всех событий на основных сооружениях. Несколько дней, еще несколько дней!
– Полина, отпустите меня! Клянусь, что буду осторожным.
– Сиди уж, герой! – машет рукой врач. – Раньше чем через две недели не выпущу. Даже и не думай, даже и не думай мне! Будешь хорошо вести себя – через полторы…
– Поленька, Полиночка, дорогая, золотая, я же умру!
– Попробуй!
– Повешусь!
– Сниму и оживлю.
– Вы изверги! Мясники!
– Поругайся, поругайся!
– М-м-м…
Я сам с невольной дрожью жду анализов; завтра рентген. Если все благополучно, меня выпишут, и Миша заранее с ненавистью смотрит на меня. Полина Францевна принесла ему целую стопку книг по его требованию : тут и Уэллс, и Джек Лондон, и Конан-Дойль, три тома «Жана Кристофа». Миша листает, задумчиво переворачивает страницы, но мысли его далеко…
– Что за гудок? Паровоз? Где? [165]
Опять к окну. Старенький паровозишко тянет платформу с рельсами, задымил полнеба. Убирают последние отрезки Восточно-Сибирской магистрали от стройки до Байкала, и там, где когда-то мимо меня летел поезд «Москва – Пекин», теперь остались только кучи шпал… Поезда пошли через горы, по новому пути. Теперь до самого Байкала Ангара пустынна: ни огонька, ни звука. Ждет моря. Сам Байкал благодаря Иркутской плотине поднимется на метр, станет шире, и, говорят, на его берегах переносят стоящие у воды постройки.
…Как-то я лежал один в палате (у нас все «ходячие» ушли обедать) и тосковал, глядя в потолок. Это дикое, страшное чувство: бессилие и одиночество.
Открылась дверь, и в белом халате вошла женщина. Я не ждал никого и не повернул головы. Она подошла ко мне. Это была Москаленко. Маленькая, запутавшаяся в полах халата, осторожно присела.
– Леонид прибежал, говорит: забрали Анатолия в больницу. Что с тобой?
– Да вот… сам не знаю. Так обидно…
– Ну, ничего, Толя, поправишься. У нас врачи хорошие. А теперь на приемке вместо тебя Валя… ну, она не так… Без тебя скучно стало.
– Да чего уж там…
– Я правду говорю. Тебе только смелее надо быть. У нас ведь народ какой – горлопаны! Будешь всем потакать – на шею сядут… Вот тебе гостинец. Куда поставить? В тумбочку?
– Да что вы!
– Ладно, кушай, набирайся сил. Не грусти. Еще в жизни, знаешь, сколько будет всего! Ох! Длинная она, Анатолий, и нелегкая, сил много надо. Девочки собираются к тебе прийти. Может, тебе денег надо? Как кормят?
– Нет. Хорошо, ничего. [166]
– Лишняя десятка не помешает. Вот я положу в тумбочку. Дашь сестре – она сбегает, яичек тебе купит или чего…
– Ой, что же вы! Да не надо мне ничего!
– Лежи, лежи! Будь здоров. Поверь мне, все, все будет хорошо! Поверь!
Она улыбнулась ласковой, доброй улыбкой, ее лицо, почти старческое, все залучилось морщинками. И опять в ее глазах было что-то грустное и недоговоренное. Она тихо вышла, а я лежал и думал: так кто же она?
…Утром следующего дня я выполз из палаты и пошел гулять во двор. Трава, скамейка, солнце; некоторые больные, собравшись в кружок, играют в преферанс, другие щелкают домино.
– Вас зовут, – сказала, проходя, сестра.
Я недоверчиво оглянулся. Опять ко мне пришла женщина. Это была Тоня.
Она нарядилась в лиловое платье, косы туго уложила на голове; была свежая, румяная, тонкая и смущенная.
Мы подошли друг к другу и не знали, о чем говорить. Она протянула узелок с передачей, и я готов был провалиться сквозь землю. На мне заштопанный, мышиного цвета халат, из-под него – подштанники с веревочками, тапочки на босу ногу. Какой у меня должен быть дикий и беспомощный вид рядом с ней! На нас оборачивались больные, компания преферансистов прекратила игру и уставилась. Лопнуть бы вам!
– Сядем?
– Гм…
– Тоня, спасибо…
Проходили мимо сестры, и мы помолчали, пока они пройдут.
– Тебе лучше?
– Как видишь. Гуляю уже. [167]
– Хорошо… Тамара и Оля передают тебе привет.
– Спасибо…
– Хочешь книжки? Тут и «Алые паруса». Черешня на рынке вот появилась…
– Ну, зачем все это? Как здоровому – так ничего не дают, книжку не выпросишь, а как заболел – сразу все! Надо, значит, болеть чаще.
– А ты не ворчи.
– Тоня…
– Что?
– А… вы береговую стену закончили?
– Угу. На днях перекрытие. Такое творится!.. Все кипят.
…А после обеда примаршировал целый взвод: Петька-фотограф, Кубышкин с Галей, Леонид… и тот старый наш знакомый по столовой – «угрозыск» Саня. Леня был прав: он таки завербовал его – правда, не в свою бригаду, в подсобники, но одел, откормил его. Куда там – стал «угрозыск» франт франтом!
Захар Захарыч передал мне пять пачек «Казбека» и шоколад. Никогда в жизни у меня не было сразу столько вкусных вещей. Вся палата грызет мои конфеты и печенье.
«Взвод» гостей тормошил меня, хлопал по плечу, хохотал так, что мне даже стало грустно смотреть, как они стараются подбодрить меня.
Мне не верится, что это взаправду. И мне как-то неловко-неловко. Я в больнице увидел не только беды и страдания людей, я узнаю что-то другое, чего не понимал до сих пор.
Вечер. Только что произошло чрезвычайное событие. Вся больница кипит. Докторов осаждают. Полина Францевна заперлась в кабинете и не открывает дверь, [168] а у двери стоят больные и кричат, скребутся, умоляют. Послезавтра перекрытие. Официально объявлено. Мишка Ольхонский напомнил об этом всем. Он добыл через товарищей костюм и сапоги, сбросил халат, переоделся, перелез через забор и сбежал.
О ЛЕБЕДЯХ, О КЛОПАХ И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ
Тревога! Тревога! Дома что-то произошло, но что, я не могу понять. Комната была другой, воздух другой, мир другой.
Кубышкин женился? Вынесли его кровать? Да, они с Галей получили комнату в первом поселке и начали многотрудную и сложную семейную жизнь. Мы осиротели. Но не это главное. Что-то другое…
Захар Захарыч собирался, брился, пахло одеколоном. В дни перекрытий шоферы переходят в палатки на берег Ангары. Там и спят, там и столовая, медпункт.
Захар Захарыч, в свежей рубашке, подтянутый, в скрипящих сапогах, казался помолодевшим на десять лет. Он расхаживал от зеркала к шкафу и напевал – я впервые услышал, как он поет, – смешным, гудящим и срывающимся басом:
– Эх, батя, и представительный же вы мужчина! – сказал Петька, наблюдая, как старик повязывает галстук. – Куда вы только так собираетесь? Добро бы, на гулянку!
– Дурашка ты, Петро, – добродушно ответил Захар Захарыч. – Где тебя только воспитывали?
– А чего? [169]
– «Чего, чего»! Разворошил кровать, разбросал грязные носки – и сидишь, доволен. Ну что скалишь зубы? Последний человек, кто не может за собой следить.
– А мне и так ладно.
– Знаешь что? Вот я посмотрю, как ты выбрит, и скажу, какая тебе цена.
– А какая мне сейчас цена?
– Копейка, конечно.
– Хо-хо-хо! Нет, батя, ей-богу, вам жениться надо! Честное слово, пора. Возьмите себе бабу, молодуху, – она вам каждый день будет подшивать крахмальные воротнички. Как штык!
– Воротнички я и сам могу…
– Ну вообще для солидности! Право, батя, женитесь! За вами очередь. Ну, поглядите на себя: какой жених пропадает! А?
– Да уж по этой части я бы, Петро, тебе сто очков вперед…
– Так об чем разговор? Кубышкин в авангарде, вы за ним. Ну, а мы с Толькой как-нибудь постараемся.
– Хм… Нет, Петро.
– Что «нет», что «нет»! Вы что, думаете, я не знаю, куда вы деньги носите? Видел, видел, кто вам стирает. Баба ничего, одинокая, вот только карапузов четверо – да и то вам под старость занятие.
– Перестань, Петро!
– Ага, попались!
– В чем?
– Ничего, батя, не смущайтесь. Я сватом у вас буду, ладно? А после вашей мою свадьбу закатим.
– Не мели глупости, теленок! С такими понятиями тебе еще рано жениться. Пороть тебя еще надо!
– И то правда… Я уж лучше подожду. Эх, погуляю с девками вволю, а женюсь под старость! [170]
– Дело твое. Правду говорят: не дал бог ума, считай – калека.
– Батя, да ведь врут все, а? Ведь врут, что нужно век жить с одной женщиной? Что изменять – плохо, волочиться – плохо! Скучища ведь, а, батя?
– Не знаю. Видишь ли, это как для кого. Люди ведь бывают разные. Скажу тебе, Петро… по мне, знаешь как: если уж любить, так любить. Может, и однажды любить, да так, брат, чтобы всю жизнь осветило… Как-то мы охотились в Барабинской степи и подстрелили лебедя. И вдруг, откуда ни возьмись, лебедка. Видел бы ты, как она стала летать, как она кричала! Стреляли по ней – не можем попасть. А она летала, летала, била крыльями… Ночь пришла, дружка-то ее уже общипали, сварили, а она в вышине курлычет, носится, как демон. Наутро думали – улетела. А она явись – и ввысь, все выше! Сложила крылья – и камнем о землю. Только пух разлетелся. Вот как, брат! Не пережила. Мы все там ошалели, чуть не разорвали дружка-то, который лебедя убил. Наш проводник, казах, рассказывал, что лебеди сходятся однажды, на всю жизнь, и, если один погибнет или умрет от старости, другой живет несколько дней, потом поднимается в высоту – и камнем о землю. Ты не замечал: одиноких лебедей ведь не встречается… Я с той поры и вкус к охоте потерял, будь ты неладна!
– Да-а… Ну, это, если у меня жена помрет, мне, значит, с колокольни?
– Я не о том, дурачок! Это к тому, что ты еще не знаешь, что такое любовь. Ты пока так – играешь в любовь: за одной приволокнул – поклялся, за другой приволокнул – поклялся. Так и любовишка-то ненастоящая… Так иной весь потратится по пустякам, а потом кричит: любви нет, семья – предрассудок, захотел – полюбил, надоело – бросил! А ведь он-то,[171] Петро, ведь он-то не узнал, какая она бывает на свете, любовь!
– А какая она?
– Что я буду тебе говорить? Вырастешь – узнаешь. Только настоящая любовь – она настоящему человеку и дается. Попомни это!.. Разволновал ты меня. Куда это я бумажник положил?
Я слушал эту сцену с волнением, с чувством какого-то преддверия открытия. Я видел, что Петька балабонит, но и он чем-то взволнован.
– Батя! А что бы вы делали, если б снова стали молодым?
– Молодым, Петро?
– Ага!
– А кто его знает? Да, пожалуй, то же самое, что и делал.
– Это на броневике-то?
– Ну да.
– Ах, нет, я не про то! Не так! Вот если бы вы – на моем месте, на Толькином месте. Если б сейчас стали молодым вдруг. Вы старый, жизнь прожили, вы все видели. Скажите нам, что вы поняли. Чтоб нам не искать заново. Ну вот, зачем жить, как жить? Помрете ведь – все с собой унесете. Молчите вы, старики, жадничаете! Отдайте нам…
– Да что жадничать? Будь я молодым, Петро, я бы сейчас сердце берег. Не жалел когда-то, а сейчас вот болит. Да вы, молодые, разве поймете?
– Батя! Будем беречь сердце! Еще скажите. Ничего не уносите!
– Смешной ты… Мне нечего уносить, Петро.
– Я говорю, понятие о жизни. Ну, что бы вы делали теперь на моем месте?
– Сейчас?
– Сейчас! [172]
– Строил бы Иркутскую ГЭС.
– Правда?
– Правда.
– И мы правы? Правильно идем?
– Правы… Эх, поставь-ка утюг… нельзя так выходить, разок проглажу… Знаешь, Петька, уж если такой разговор зашел, то ты знай одно: надо прожить жизнь насыщенно. Чтобы все было большое: любовь – так уж любовь, а не картошка, дружба – так уж дружба, радость – так уж радость, а не пустяки, горе – пусть будет и горе, как океан. А живут так те счастливые люди, которые маленького не ищут, то есть живут не только для себя. Вот и кумекай! Чтоб прошла твоя длинная жизнь, и цели были, и дело рук твоих было, и люди спасибо могли тебе сказать… Я уж не говорю, Петро, про подлецов, что живут за чужой счет. Этих надобно бы давить, как клопов. Только и свету, что в щели, – и сам не смог увидеть, и от других хочет закрыть. Клопом прожить – какая радость! Надо ничего не понять в жизни, все чувства свои, да и чужие, оплевать и в этой блевотине так до смерти и про-скользить.
– Бр-р! Как вы выражаетесь, батя!
– Я бы не так еще сказал. Смотришь иной раз – обидно! Зх, сколько глупости в человеке! Разве счастье в деньгах, разве счастье в сытом и одетом брюхе, в шестикомнатной квартире? Это пустяковина, это мелочь, это само собой! Счастье – вот тут оно; счастье – это буря, это битва, это – солнце в сердце, которого хватит и для других, и для себя, и после смерти останется бродить по свету, и будоражить, и звать, и светить! Ах, Петро, что ты меня спрашиваешь о жизни! Это чувствовать надо, это голову и сердце надо иметь человечьи, а не клоповьи. Любить надо жизнь, Петро, а не быть свиньей к ней! Вот! Разволновал ты меня, а сам небось [173] смеешься… Ладно, замнем для ясности. Я уж чего-то и забыл, наверно. Ну, вспомню – заеду. Бывайте здоровы, ребята!
– Мы к вам придем, батя! Не простудитесь там. Ночью холодно. Вот вам взять бы мое одеяло, а, батя!
– Ни-че-го! Ваш «батя» старый солдат. Приходилось ночевать и в снегу, накрывались дождичком, под голову ветерок клали, да еще и взбивали. Так-то, чертенята! А в гости приходите!
Захар Захарыч хлопнул дверью, простучал по коридору, и еще в темноте, за окнами, слышались его тяжелые шаги и дребезжащий, гудящий бас:
Распелся старик! И тут с грохотом ворвался Ленька. В земле, в грязи, запыхавшийся:
– Чучелы! Что же вы сидите?! Перемычку раскрывают!
Рассвет был сырой, холодный. Над Ангарой повисли молочные клочья тумана. Почему-то пахло снегом– может быть, ветер приносил этот воздух с далеких гор. Я стучал зубами – от прохлады и от волнения. Тонкая перемычка, по одну сторону которой ангарская вода, по другую – наш котлован. Два шагающих экскаватора друг против друга протянули стрелы с берегов.
В тишине они начали взрывать землю. Жутко выли их моторы; с лязгом, так, что колебалась под ногами земля, ухали в утрамбованный грунт их ковши с большими зубьями. Затрещали «юпитеры»: кинооператоры начали съемку перекрытия. [174]
Вздох пронесся по толпе: показалась вода. Еще удар ковша – и пенистый, грязный ручеек поплыл с комьями земли вниз, в котлован. Экскаваторщики заторопились, словно от быстроты что-то решалось; стрелы чуть не со свистом резали воздух. Уже поток, шумливый, мутный, льется вниз, размывает перемычку – и… грянула вода!
Это было величественно и жутко. С ревом и гулом низвергаясь в котлован, вода десятками метров отхватывала перемычку, экскаваторы задвигали лыжами, попятились назад, прочь от водопада. На берегу кричали, бросали в воду камни. Уходили под воду – навсегда – те дороги, по которым мы бегали и спешили, по которым ездили и ломали рессоры шоферы; уходили под воду камни, на которых мы сидели перед сменой, уходила площадочка, где стоял буфет и собирались слоны – двадцатипятитонные «МАЗы», место, где стояла контора, на крыльце которой нам вручали знамя и Николай произносил свою речь… Больше никто никогда не увидит этих дорогих нам, памятных мест. Разве что водолаз пойдет осматривать устои лет через сто…
Мой Петька рычал, стонал и щелкал аппаратом. Кто-то радостно орал:
– Братцы, я там лопату забыл!..
А «там» уже все кипело, вода была мутная, грязная, плавали щепки, мусор, бревна, доски вертелись в водоворотах. Наши быки, водосливы уходили под воду.
Начинался второй этап: раскрывали другую перемычку. Воды с двух концов наполняли котлован. Он уже как полная чаша. Мы стоим на эстакаде – и нет высоты, под самыми ногами бурлит и движется по кругу мутная, в клочьях бурой пены вода. Казалось, что теперь Ангара сама пойдет через станцию, через раскрытые проходы, не будет делать излучину. [175]
Но река и не думала идти сюда. Наполнив котлован-провал, она понеслась по прежнему ложу, а в котловане вода утихла и остановилась.
Главное предстояло впереди: заставить ее свернуть! С моста будут валить камни и кубы, пока не перегородят реку. До окончания моего бюллетеня оставался день, но я пошел на смену. Да разве можно было ждать, когда на береговом полигоне наша бригада делала бетонные кубы?!
Сначала это было похоже на праздник. Понтонный мост был разукрашен флагами, плакатами. Был погожий летний теплый вечер. Из поселков толпами спешили разнаряженные девчата, старики, шли целыми семействами, с детишками, словно на гулянье. Уже на подходах к берегу чувствовалось тревожное напряжение. Ровными рядами выстроились сотни грузовиков. Горы кубов из бетона, целые сопки камня; зло рычат и попыхивают паровые «Шкоды».
Шоферы заводят, гоняют моторы, собираются в кучки у радиаторов, хохочут, хлопают рукавицами; из громкоговорителей несется: «Товарищ Попов, зайдите в штаб…» Шум, разговоры, смех. У самого моста кинооператоры построили вышку, возятся с аппаратами. На мост не пропускают, он пустынен и дрожит под бешеным напором воды. Он удивительно короткий, до того берега, кажется, рукой подать. Ангару сжали насыпями до предела, и бутылочно-стеклянная вода со скоростью поезда, упруго изгибаясь, вылетает из-под понтонов, гладкая, цельная, и, только пролетев метров семь, рассыпается на белые буруны, шипит и брызжет. Ни разу в мире еще не перекрывали реку с такой силой течения. [176]
В семь часов вечера все началось очень тихо и осторожно. Лязгнул экскаватор, вывалил в первый кузоз ковш камня, самосвал рванулся и пошел на мост. Грузовики задымили, закопошились, затолпились в очередь к экскаватору. А груженые, воя и сигналя, вылетали на мост, разворачивались задним ходом и высыпали камень.
В толпе на берегу переживали, вскрикивали:
– Вон несет, несет! Куда! И до дна не доходит!
– Его теперь за версту лови!
Иная глыба несколько мгновений скользила по поверхности; мелкий щебень несло, как пыль. Ангара показала свои зубки!
А «МАЗы» ревели, шли, шли, сыпали, сыпали… Дым из выхлопных труб сизыми лентами потянулся от берега к берегу, трепетали в дыму флаги. Грохот камня, водопадный шум реки, едва слышные слова из громкоговорителей: «Соблюдайте осторожность! Не сбавляйте темпов! От вас зависит…»
Передавали слова начальника стройки: непрерывная работа шоферов до завтрашнего вечера. Сутки! Если не больше… Ничего не известно, как поведет себя Ангара.
– Захарыч! Захарыч!
Старик возил камень. Он высунулся в окошко, помахал нам с Петькой и скрылся за дымом и пылью.
Мы побежали «перенимать» его у экскаватора. Петька пять раз щелкнул; старик смущенно улыбался и делал страшные глаза: уйдите, не путайтесь!
– Захарыч! Возьмите в кабину!
– Нельзя. Приказано никого не брать. Опасно, ребята!
У моста была каша. Дежурные выбивались из сил, упрашивая, умоляя, бранясь:
– Пройдите с дороги! Уйдите с моста! [177]
Самосвалы проносились перед толпой, как танки, быстро-быстро, ни секунды передышки. Камень валится и валится в реку, а она несет, а она несет… Желтые пузыри и буруны на миг – и снова гладкая, живая, кристально-холодная вода, так что голова кружится, когда смотришь на нее.
Я читал где-то об Ангаре и наткнулся на такое слово: аквамариновая вода. Я не знаю, какой это цвет, но, наверно, это точно. Простого слова нет, чтобы передать потрясающую, необыкновенную красоту этой неправдоподобной, неестественной воды. Она прозрачная, как хрусталь; она неуловимо играет, как драгоценный камень; она ак-ва-ма-ри-но-вая! В этот вечер кинооператоры испортили сотни метров пленки, пытаясь заснять ее краски. Нет-нет, да и хватались они за аппараты и напряженно снимали буруны, поток… Петька сознался, что и он потратил полпленки на воду; знал, что не выйдет, что эти дивные переливы не уловишь ничем, и не мог устоять. Это можно только видеть, и я смотрю, и все смотрят, жадно, взволнованно.
А мост раскачали сотни машин. Он горбится, вздымается, проваливается и скрипит. Одни понтоны ныряют, другие взлетают, грузовики колышутся на них. Дым! Дым! Темнота пришла неожиданно. Зажглись сотни прожекторов. Похоже на ночную киносъемку. Шум, голоса, ярмарка; машины вылетают на освещенное пространство, репродукторы надрываются, читают что-то похожее на стихи. Я устал. Голова как чемодан. Нет сил бегать, стоять, смотреть…
Так длится час, так длится два, три…
– Товарищ диспетчер! Разрешите сесть в машину. Я корреспондент, мне нужно посмотреть.
Диспетчер подозрительно оглядел меня, но из кармана у меня торчала авторучка, и это спасло.
– Садитесь. Два рейса. [178]
– Захарыч! Я с вами!
«МАЗ» рванулся, и вот я с замирающим сердцем болтаюсь в кабине уже на мосту. Девчонка с флажком манит машину к себе, Захарыч слушается ее, как школьник. Мост качается, как палуба корабля. Когда он проваливается вниз, сердце замирает и подбирается легкая тошнота. «Шух-шух-х-х!» Брызги, муть – и мгновенно чистое зеркало воды.
– Неужели не уносит?
– У-но-сит! Теперь наши камни у самого Иркутска…
– Захарыч, зачем же сыпать?
– А вот и будем сыпать, пока не пересилим. Али мы ее, али она нас.
– Захарыч!
– А что ж ты думал? В бирюльки играем?
– Правда, что вы будете работать сутки?
– По-добровольному. Кто желает. Может, больше…
– А отдых?
– Какой отдых?
Я у Захарыча в кабине впервые. Хватаюсь за ручки, держусь за дверцу, но меня чуть не стукает головой о крышу. Тряска. Внутренности переворачиваются. Рев мотора, бензиновый дух. Прыгают стрелки на освещенных циферблатах.
Захар Захарыч бешено крутит баранку; высунувшись, что-то кричит.
– Ну и работка у вас!
– Работка у нас, Толя, обыкновенная.
– Как вы только выдерживаете?
– Привычка – все.
У меня, как в калейдоскопе, проносятся перед глазами ковш экскаватора, поток камней в кузов, бегущая полоса дороги, толпа у моста, аквамариновая вода, желтые пузыри и опять ковш экскаватора. Так быстро, стремительно… Стучит в висках, кружится голова. Я уже пьян. [179]
– И что удивительно, – говорит Захар Захарыч, – работа у нас сегодня без норм, без учета. Шоферяги – ведь народ какой: не проставь ему ходку, он пальцем о палец не ударит, машину с места не сдвинет! А тут посмотри, что делается! Каждый норовит вперед, каждый норовит скорее да больше. Никто ведь не узнает, сколько он привез. Артелью работаем! А они лезут. Ты не знаешь, почему? Ты не знаешь, почему ни один не отказался работать сутки? Все, все как один! Что же это такое? Ты понимаешь, скажи нам сейчас в воду бросаться – ей-богу, найдутся такие, что бросятся, машинами своими загородят! [180]
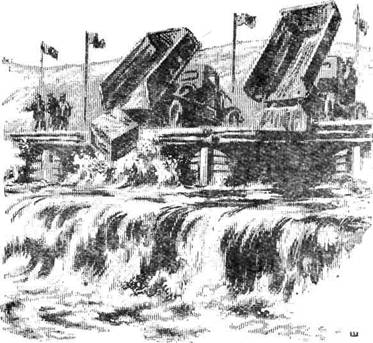
И я верю этому! Но не могу осмыслить – устал от тряски. Выскакиваю на мосту.
– Ага-а! Вот где ты попался мне в руки! – Попадаю прямо в объятия Мише Ольхонскому. Он носится с рулеткой. – Ты видишь, что творится? А? Ну что, Сибирь плоха? А хочешь, я тебя туда брошу?
На миг в его глазах сверкнули дикарские искорки, что-то чингисханское, мне даже стало не по себе – но только на миг. Миша уже кричал, радостно сверкая глазами:
– Скорость течения увеличилась! Ты понимаешь, беспомощный человек! Да ты ничего не понимаешь!
Он побежал, забыв обо мне. Я перегнулся через край моста, заглянул в зеленую пучину.[181] Искорки призрачного света неслись в ней время от времени, про жектор ощупывал толщу у воды, и она вдруг просвечивала насквозь… Дна не было видно… Скоро полночь. Пошатываясь, напрягая внимание, чтобы не угодить под колеса, я выбрался с моста и сел на гравий откоса. Тут в толпе переговаривались:
– Кубы пошли! Кубы!
Вот оно когда началось, самое главное! До сих пор была разведка боем. Теперь загрохотали краны, двинулись колонной новые самосвалы. Первый бетонный куб упал в воду с пушечным выстрелом. Высоко взлетали фонтаны брызг, куб перевернуло, подбросило и понесло, как спичечную коробку. На берегу глухо застонали: бетон несет Ангара!
Кубы заплюхались один за другим. Уже все до единого самосвала переключены на кубы. Большие, малые, продолговатые – их везут и везут на мост, пушечные выстрелы канонадой стоят над рекой. Ничего не поймешь, что творится на середине. Обманчивая вода иногда, кажется, показывает лежащий где-то в глубине куб, но всмотришься – это игра света, больше ничего. Выстрелы, выстрелы, выстрелы… Далеко за полночь. На берегу чуть не весь поселок. Тут в толпе я встречаю Октябрину, Валю Середу с Вовкой, Кубышкина с Галей, Тамарку – всех, кого только знаю. И все возбуждены, и никто не уходит домой.
Раздают какие-то листовки, отпечатанные красной краской. Тревожные слухи: лопнул один из тросов моста. Если мост сорвет, все пропало и вряд ли кто-нибудь на мосту спасется…
Аквамариновая вода… Аквамариновая вода… [182]
И вдруг крики, стон над толпой:
– Показался! Показался-а!
Очередной куб, рухнув в воду, не ушел вглубь, а чудом лежит на поверхности, прямо посередине реки. На чем он держится? Что за чудо?
Начинаю понимать, что баррикада кубов уже достигла поверхности. Этот первый куб торчит из воды, как сломанный зуб, а вокруг него буруны; кажется, что он качается, сейчас исчезнет, как мираж. Нет, лежит. Лежит!
Валят еще, валят… Теперь мост приподнялся; он словно висит на покатом, круглом валу воды – и в центре вала зуб, сломанный зуб! Ангара перекатывается через баррикаду, поднимается все выше, тросы скрипят. Перед мостом уже сплошной водопад.
– Второй показался! Показался-а!
– Слушайте, слушайте! Ангара пошла через станцию!
На нашем полигоне было очень тихо и спокойно. Слабо светит фонарь, наскоро прицепленный Петькой к столбу, возятся таинственные тени, над чем-то колдуют. В земле вырыты кубические ямы, в них самосвалы заливают бетон, там он и застывает.
Штаб сообщил: еще потребуется более тысячи кубов. Перекрытие будет закончено только через сутки. Перелом наступил, но Ангара будет подниматься и дыбиться, шоферы будут валить.
– Тоня, добрый вечер!
– Ты спишь? Уже доброе утро! Что ты не отдыхаешь, чудной? Тебе же в восемь часов нас сменять!
– Когда же тут спать, если такое творится! [183]
– Толька, голубчик! – встрепенулась Даша. – Постой за меня, повибрируй! Вы, бездельники, прохлаждаетесь, а мы ничего не видим. Хоть на пять минут! Подмени!
– Давай!
– Только ты смотри тут мне, не халтурь, такой-сякой! Вибратор слабый, не стукай им.
Издали несся грохот. Канонада продолжалась; пробегают по дыму лучи фар и прожекторов. Похоже на великое пожарище: дымка, зарево, копошащиеся фигурки людей.
А мы с Тоней рядом, плечо к плечу, опускаем вибраторы в яму, и бетон дрожит, пузырится, плывет.
– Как было б скучно жить, если бы все уже было построено…
– Такого никогда не будет, – говорит Тоня.
– А это хорошо?
– Хорошо.
– Правда?
– Правда.
– Откуда ты знаешь, о чем я говорю?
– Потому что думаю о том же. Я ведь тебе об этом говорила.
Она мне никогда об этом не говорила, но мне кажется, что это было, такое чувство, как будто у нас с ней был сложный спор, невидимый, незримый, а – острый.
– А сегодня ты одна. Такая, как на танцах, и такая, как в блоке, блоке, одна.
Она взглядывает на меня, и вдруг я понимаю, что меня тянет к ней, и она тоже поняла это и ждет и боится. И, если я сейчас обниму ее, она не скажет ни слова, она будет так же смотреть… И если я поцелую ее…
Я качнулся к ней, взял за руку у локтя, за теплую, живую ее руку… [184]
– Тонька! Толька! Где вы?
По доскам бежала Дашка, за ней Валя Середа тащила за руку своего Вовку, приговаривая:
– Не ныть, не ныть мне, шлепки дам! Ты вылежишься хоть до вечера, а мамке на работу. Только и гулять мне с тобой!.. Девочки-и, скоро машина? Мы с Вовкой уезжаем! Скажи тете «до свидания».
Тоня бросилась к малышу, возилась с ним, насупленным, обиженным, вытирала ему нос. А Даша подозрительно посмотрела на меня, на нее и безразлично сказала:
– Уходи. Я уже насмотрелась.
Что-то колотилось во мне. Я сел в кабину грузовика, села Валя с Вовкой, и я рад был, что Вовка хнычет, отвлекает ее; я смотрел вдаль, на зарево, на одинокий фонарь нашего полигона. Дорога петляла среди колдобин, столбов, и зарево появлялось то справа, то слева.
Валя с Вовкой жили на втором этаже деревянного дома, в крохотной угловой комнатушке. Тут едва помещались кровать, люлька, столик и стул. Разбросаны разные тряпки, целлулоидные игрушки; хлебные корки на столе вперемешку с книгами, зеркалом и бутылочками лекарств.
Мне не нужно было к ней, но я не мог сопротивляться, а она настойчиво тащила, словно от чая должно было зависеть бог знает что. Или она хотела сказать мне что-то важное?
– Вот так и живем. Богато, правда? Извини, что не прибрано: некогда. Вовка весь день в детском садике, я на работе. Только спим дома.
– Валя, у тебя родные есть?
– Нет, померли. Одна. [185]
– Одна?
– А я не плачу. Чего плакать? По всякому поводу реветь – слез не хватит. Надо ведро воды в день пить, как лошадь… Вовка, не бери в рот гребешок!.. Хороший у меня сын, Толя?.. А ну, давай нос! Сморкайся, еще! Еще! Ох ты, радость моя, ох ты, горюшко! Ну, сели, гоп!
Она налила чаю себе, Вовке, мне. Хлебнула, чуть задумалась.
– Живем одни… а папки нету. Вот так, Толя, среди вашего брата находятся… аглоеды. Мы глупые, девки, доверчивые, все отдаем, а он… Не очень торопись обнимать девушек, Толя, не шути. А если любишь, не обижай, не бросай, прошу тебя! Слышишь, прошу тебя!
Она сказала это так страстно, так горячо, что я невольно вздрогнул.
– Ты понимаешь меня?
– Да.
– Вовка! Не разливай на скатерть! Ну?.. Что? Не хочешь? Спатки? Скажи дяде «спокойной ночи».
Вовка капризничал, хныкал, лег в постель и не хотел спать.
– Мама, машины, машины!
– Насмотрелся, бедненький, теперь не уснет! – сказала Валя с досадой. – Он у меня впечатлительный.
В окошко было видно зарево; казалось, и сюда доносится гул канонады. Или это гудел ветер?
– Ну что, и спать не хочешь? Говорила тебе, идем раньше домой. Нет, «не хочу, не хочу»! Слушай, я тебе про белого бычка расскажу…
– Не хочу!
– А чего ж ты хочешь?
– Про Ангару.
– Да я уже тебе два раза рассказывала.
– Еще!
Тогда Валя, тихо покачивая кроватку,[186] начала рассказывать про красавицу Ангару, про седой Байкал, и богатыря Енисея, и грозный Шаманский камень.
Она кончила, а Вовка не спал.
– Еще! – тревожно и капризно требовал он.
– Все уже, сынуля, спи, родной!
– Нет, не все!
– Ну как же не все? Я все тебе рассказала.
– Не все!
– Ну ладно, постой… Не вертись… Слушай.
Я тоже слушал, и это был – конец сказки
…И жили вместе Ангара и Енисей тысячи лет.
Они были счастливы, как могут быть счастливы только самые красивые и самые смелые люди. Они нежились на гибких постелях среди сопок, плескались на заре, и Ангара разбрасывала свои радужные, алмазные брызги.
Однажды некий старый человек сказал им:
– Вы не задумывались над тем, что жить, только нежась и разбрасывая алмазные брызги, – это еще не счастье? Я знаю настоящее счастье. Хотите, я дам его вам?
Ангара засмеялась, и улыбнулся Енисей в черные как смоль усы. Кто смел учить их жить?
На их берега сходились народы. Люди бросали в воду камни. Ангара пенилась, кипела, уносила камни прочь, как легкие пушинки. Люди бросали. Ангара была сильная – они сильнее, Ангара была смелая – они смелее, Ангара была непокорная – они непокорнее.
Они заставили Ангару и Енисея работать. Добывать для людей свет, радость и тепло.
Тогда случилось чудо. [187]

Тогда поняли Ангара и Енисей, что до сих пор было их счастье малым, и ничего они в жизни не знали и не видели. Потому что настоящее счастье приходит не там, где мы ждем его, и оно не такое, каким мы его представляем. И уж никогда оно не бывает легким.
Настоящее счастье – трудное счастье.
Ты вырастешь, мой сын, и поймешь это. Не пытайся искать легкой, счастливой жизни: ее нет в мире. И никогда не будет.
Потому что жизнь – это работа для радости, и тот, кто не трудится, а только разбрасывает алмазные брызги, – тот ничего в жизни не понял.
Потому что трудиться, нести с собой свет, радость и тепло – это и есть самое большое, самое великое счастье на земле…
СОБЫТИЕ, ДЛЯ ИСТОРИИ НЕ СУЩЕСТВЕННОЕ
Наконец-то я получил зарплату. Аванс я пропустил в больнице, поэтому получил сразу все. В последнее время деньги у меня были. Наш Захар Захарыч, оказывается, миллионер, у которого можно всегда одолжить. Он ведь один, а зарабатывает порядочно и охотно помогает всем. Он нашел какую-то бедную сторожиху с четырьмя детьми; она ему стирает, а он ей помогает сводить концы с концами. Петька у него бессовестно берет на химикаты. Так что если фотолетопись стройки когда-нибудь появится, то знайте, что сие фундаментальное предприятие полностью финансировал Захар Захарыч. Когда старику отдают долг, он всякий раз искренне удивляется: «А разве ты у меня брал?»
Получив деньги, я не знал, что с ними делать. Отродясь я не держал в руках такую пачку. Несу в кулаке – чего-то стыдно, неловко. Положил в карман – брюки отдуваются. [189]
Сначала я, конечно, роздал долги: Николаю, девушкам, Захарычу. Кого-то из девушек забыл, и одна десятка осталась. Кого ни спрашивал – не берут. После я отправил триста рублей матери. Отложил на еду. И осталось четыреста рублей.
Я решил купить часы. Никогда в жизни их у меня не было. Как я завидовал другим! Витька носил часы с пятого класса. У Захарыча, у Тони, у Леньки… да у всех есть часы! Нет, до зимы еще далеко, пусть пальто подождет, я куплю часы.
Мишке Ольхонскому тоже нужно было в Иркутск, и он вызвался консультировать меня в столь важном жизненном шаге. Мы выехали с ним на попутном катере «Орел», пристроились на корме среди бухт каната и пожарных ведер.
Медленно уплывала в дымку шестерка портальных кранов. Станция, затопленная водой, теперь низкая, распласталась над бурунами. Эстакада дрожит и вибрирует; над отверстиями колодцев, над штрабами настелили доски, чтобы кто-нибудь нечаянно не оступился – если упадешь в воду, тут тебе и конец: унесет в спиральные камеры, в рабочие колеса. Для любителей-рыболовов наступил праздник. Свободные от работы, они лепятся по карнизам у выходных ворот, обдаваемые брызгами, и нет-нет, да и подхватывают самодельными сачками обалдевшую, обессиленную рыбину.
Где аквамариновая вода? Нет ее! Бурая, мутная, неспокойная, она несет из котлована уже целую неделю ил, мусор, роет дно своего нового ложа, вырывает корни и траву. Шутка ли, такой поворот в жизни реки! Есть от чего потерять холодный ослепительный блеск.
Я помню, в детстве, когда мы гостили у бабушки в деревне, ребятишки «гатили гатки». Мы шли на ручей, шапками, пригоршнями, дощечками складывали гору песка, набрасывали в ручей камней, а потом обрушивали песок – торопились, утаптывали, укрепляли.[190] И на полчаса ручей вдруг останавливался,- растекался по овражку мутной лужей. А мы прыгали, вопили, бродили по колено в «глубокой воде». Радость какая!
Радость! Что это за чудо – знать, что ты участвуешь в настоящем деле, бетонируешь выше и выше и прочно стоишь на ногах над бурлящей под эстакадой Ангарой! И если есть забота на сегодняшний день – так это покупка часов.
– Ты, Мишка, удивительный человек. Но ты стиляга.
Мишка удивленно осмотрел свой костюм, свои новые туфли на микропоре и вдруг прорвался потоком брани:
– Дурак! Ничтожество! Глупости только и знаешь болтать! Что же, всякий хорошо одетый человек по-твоему – стиляга? Стиляга – это социальное явление. Ты спроси у него: откуда он взял это? На чей счет он живет? Что он ищет в жизни? Стиляга – это не микропора на ногах, это микропористая душа!
– Эх, Мишка, у тебя замечательный рот: как ты его раскроешь, так и вылетает тезис к докладу! Видно, тебя только могила исправит. А хочешь, я тебя туда брошу?
– Ну-ну, не мни костюм…
– Ага, испугался, стиляга! Ладно, давай лучше обсудим, какие мне купить часы.
Полдня мы потеряли в магазинах. Обошли все комиссионные и безжалостно забраковали выставленную там продукцию. Золотые часы мы сразу отвергли как пережиток капитализма, тем более что они стоят более тысячи. Карманные – это предрассудок. «Звезда» – слишком уж дешевы, нет шику. «Победа» – это уже старо. «Кама», «Маяк» и прочее – модно, но чего-то такого – изюминки! – не хватает.[191]
 Мы купили «Москву» ровно за четыреста рублей, на шестнадцати камнях, маленькие, с золотистым циферблатом, зелеными светящимися цифрами и центральной секундной стрелкой. Прямо маленький секундомер! Второго часового завода в Москве, что на Ленинградском шоссе. Там еще есть остановка троллейбуса номеров «12» и «20». Как едешь на «Динамо», кондуктор объявляет: «Белорусский вокзал, следующая – Второй часовой завод…»
Мы купили «Москву» ровно за четыреста рублей, на шестнадцати камнях, маленькие, с золотистым циферблатом, зелеными светящимися цифрами и центральной секундной стрелкой. Прямо маленький секундомер! Второго часового завода в Москве, что на Ленинградском шоссе. Там еще есть остановка троллейбуса номеров «12» и «20». Как едешь на «Динамо», кондуктор объявляет: «Белорусский вокзал, следующая – Второй часовой завод…»
Родным-родным повеяло на меня… Они оттуда, из Москвы, мои часы, и собирала их какая-нибудь девчонка, которая бежит сейчас, наверно, в столовку или спускается на эскалаторе в метро и не знает, где, у кого теперь те самые часы, что держала она в своих руках. А мы построим ГЭС, уедем, и кто-нибудь будет идти по шоссе на ее гребне, тронет рукой стену – и не узнает, где же те люди, что вот здесь ее заглаживали, даже следы пальцев видны!
В Историческом музее на Красной площади я видел глиняные черепки посуды эпохи неолита; все забыл, а одно осталось в памяти: вмятины от пальцев на [192]
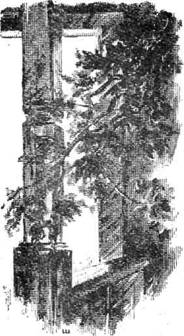 горшке – от пальцев человека, который жил семь тысяч лет назад… …В тот же вечер мы устроили в общежитии грандиозную пирушку. Пришли Тамарка, Тоня. Жалели, что нет Захара Захарыча.Вот кого нам не хватало! Но он ушел в ночную смену. Леонид принес патефон, но пластинки не устроили Мишу, и он приволок чемодан танго, вальсов и фокстротов. Ну, я же говорил, что он стиляга! А русские песни – это мы пели, уж когда расставались. Петька увековечил нас за праздничным столом, предупредив, что, хотя свету и достаточно, снимки могут не получиться из-за нового усовершенствования в аппарате, которое он сейчас испытывает. Я был озабочен тем, чтобы рукав пиджака не опускался слишком низко,и старался держать руку на столе. Мы надымили, было жарко, душно. Тоня встала и ушла на крыльцо.
горшке – от пальцев человека, который жил семь тысяч лет назад… …В тот же вечер мы устроили в общежитии грандиозную пирушку. Пришли Тамарка, Тоня. Жалели, что нет Захара Захарыча.Вот кого нам не хватало! Но он ушел в ночную смену. Леонид принес патефон, но пластинки не устроили Мишу, и он приволок чемодан танго, вальсов и фокстротов. Ну, я же говорил, что он стиляга! А русские песни – это мы пели, уж когда расставались. Петька увековечил нас за праздничным столом, предупредив, что, хотя свету и достаточно, снимки могут не получиться из-за нового усовершенствования в аппарате, которое он сейчас испытывает. Я был озабочен тем, чтобы рукав пиджака не опускался слишком низко,и старался держать руку на столе. Мы надымили, было жарко, душно. Тоня встала и ушла на крыльцо.
Я вышел, подошел к ней близко… обнял и поцеловал.
Она доверчиво прижалась ко мне, беззащитная, нежная, вздрагивающая от ночной свежести, и вдруг разрыдалась. [193]
Это было так неожиданно. Я стоял, немного растерянный, но знал, что так нужно; а она плакала, как будто долго томилась и у нее было горе, и тяжести, трудности, плакала, проводила рукой по моему плечу…
Вышел Миша Ольхонский, зевнул, посмотрел на звездное небо, сказал:
– Ага, вы тут. Ну ладно.
И ушел.
Здравствуй, лопух!
Интересно, почему ты не отвечаешь на мои письма? Может, ты, старик, сделался идейным товарищем? Делаешь биографию? Что ж, это забавно. Впрочем, в нашем мире целина или Сибирь – весьма и весьма желательный (и убедительный!) пункт автобиографии, как говорит мой гениальный папахен.
Да, Толик, в этом отношении ты, может быть, и прав. В жизни нужно играть по крупной – и без сентиментов. Люди – волки, шакалы. Если ты зазеваешься или пойдешь наперекор, тебя попросту сгрызут. Лучше вой по-волчьи, хапай и не зевай!
Твои передовики плевать хотели на оное «светлое грядущее». Деньги да квартира, пожрать да напиться – вот все их интересы. Животная жизнь. Предвкушаю, чего-то ты мне нарасскажешь, когда встретимся! Надеюсь, теперь уже скоро?
Ну, напишу о себе. В техникум принят. Но было дело с большим скрипом. Папахен и мамахен на радостях обещают мне мотороллер. Хорошая вещь – и не так уж дорог. Будем гонять, Толъка! Я даже ходил в магазин, присматривал. Скажу по секрету, что родитель затеял сейчас одну авантюру, и, если она выгорит, прибавочная стоимость для роллера будет! [194]
Пока я добыл магнитофон «Яуза», записываю с приемника джазы. Эх, Толя, «буги-вуги» – доисторическое дерьмо! Мы тут в одной компании затеяли попробовать «рок-н-ролл». Говорят, потрясающая вещь. В Москве появились новые туфли на каучуке – мечта! Мне шьют костюм из импортного материальчика. Короче: пора обретать человеческий облик.
Задумал я, старик, между прочим, жениться. Знаешь, в жизни, как говорится, не повредит. Юнка, кажется, не против, но у нее хахалей, как всегда, легион, – попробуй перепижонь! Впрочем, я заливать умею, ты меня знаешь. Эх, Толя, я здорово изменился! Тебя не шокирует мое письмо? Весело что-то!
Будь здрав и ради бога черкни же наконец, жив ли ты. Мне ведь ужасно интересно все-таки. Постарайся поскорее приехать, да гульнем вместе тут «с веселой братвой, по прозванью шпаной», как поется в одной уркаганской песне. Ты знаешь, сейчас в нашей компании признак хорошего тона – воровские песни. Экзотика! Сила!
«Подлюга Муська, ты меня любила…»
Жизнь, Толя, жизнь – лафа! Не теряй времени, юность проходит. Жги!
Утром пришла страшная весть: умер наш Захарыч.
Он умер в ночь, собираясь на смену, налаживая мотор. Все самосвалы разъехались, а «МАЗ» Захарыча почему-то стоял. Диспетчер окликнул его – не отвечает. Подошли – а старик в кабине за рулем уже холодный: остановилось сердце.
В то утро дверь в нашу комнату перестала закрываться:[195] у Захарыча оказалось столько знакомых, столько людей было потрясено его смертью, они прибегали – многих мы никогда не видели в глаза – и спрашивали, спрашивали, как будто мы что-то знали.
Захара Захарыча в общежитие решили не перевозить. Его костюм пришел взять кто-то из шоферов; старика обрядили там же, в гараже, в красном уголке. Когда мы с Петькой прибежали туда, он уже лежал на составленных столах – спокойный, с корявыми, плохо сложенными на груди руками; волосы его опять показались мне серыми на белоснежной подушке.
Стулья в красном уголке составили в угол, и было как-то полутемно и неуютно; все время входили и выходили люди, шаркали ногами. Стоял почетный караул; никто не плакал.
В углу профорг шептался с шоферами насчет красного сукна, подушечек для орденов и гроба:
– А доски пусть возьмет на рембазе, я уже договорился… А ты, Нехода, повезешь завтра, слышишь? Машину приведи в божеский вид. Борта опустим, поведешь на первой скорости…
– Знаю…
– Да, а какое же понесем знамя?..
Мы с Петькой постояли, помолчали, и нам показалось, что мы чужие и лишние и наш «батя» – уже не наш. Вот он лежал, и его тут не было. Мы отправились домой…
Похороны состоялись на другой день. Собралась огромная толпа людей, и опять никто не плакал. Фальшиво играл клубный самодеятельный оркестр; день был пасмурный; сырой ветер трепал знамя, заворачивал на грузовике красное сукно. Шофер не мог пристроиться к идущим. Процессия вдруг разрывалась, кричали: «Подождите!» В кучках у ворот переговаривались : [196]
– Он с какого участка?
– Не с участка, из гаража. Помнишь, в наш двор трубы привозил?
– Так это он?
– Ну да!
– Вот так: был человек, и нет его…
В сопках строителями положено начало небольшому кладбищу – с десяток холмиков. Странное, невыносимое чувство давит меня при виде вот таких глухих сибирских кладбищ, где нашли конец пути буйные головы, неспокойные сердца, занесенные бог весть куда освоители земель. И вспомнилось, как однажды говорил один старый рабочий: строители приходят и уходят, и после них остается не только станция, но и десяток могил. Моряки умирают в море, а строители – на стройках.
Постель Захарыча комендантша унесла, и осталась голая железная кровать. Мы с Петькой присмирели и старались не смотреть в угол. После Захарыча остались только пустой чемодан, бритвенный прибор и недочитанная библиотечная книга «Искатели».
Нужно сказать, что все происшедшее я впервые осознал только через несколько дней.
Шел со смены, уставший, взмыленный, сел отдохнуть в траве, на склоне у деревянной лестницы. Светило красное закатное солнце; спешили домой кучки рабочих; урчали, ворочались внизу самосвалы. Пахло пылью, железом; стройка шумела и звенела, как всегда. Я засмотрелся и задумался.
Захарыч… Человек… Он растворился в жизни весь, без остатка. Он ничего не нажил и не оставил никакого барахла. Водил в революцию броневик, строил заводы, возил снаряды под Ленинградом, валил кубы в Ангару – этому он отдал всего себя.
Внизу подо мной течет в новом русле река, стоят [197] стены, – как узнать, как выделить, что сделал тут Захар Захарыч? И, тем не менее, тут дело рук его, тут!
Его памятники по всей стране – всюду-всюду! – безымянные, огромные, живые. Что холмик в сопках? Простая условность! Захар Захарыч не там, он весь целиком в гуле и движении мира.
Смогу ли я быть таким? Вот Миша Ольхонский, Леонид-сибиряк или – вспомнились! – Дима Стрепетов, Иван Бугай и Васек – они, пожалуй, будут. А Гришка-жадюга? А Лешка – добродушный вор? Какой памятник останется после него? Стопка ворованных стаканов и колода карт… А Витька, нашедший «в нашей жизни клад»?..
Путник, проезжающий через станцию, турист-путешественник или художник, если ты будешь смотреть когда-нибудь Иркутскую ГЭС, ехать в поезде на ее энергии или читать книгу при ее свете, ты знай, что эти серые стены, эти быки и водосливы, ставшие поперек Ангары и поднявшие ее на тридцать метров, сделаны нами, бетонщиками, вот этими нашими руками.
Ленька-сибиряк копал землю и строил опалубку для них, Кубышкин скручивал арматуру, Петька-фотограф тащил свет, а Захар Захарыч возил щебенку; крепкие и веселые девушки наши укладывали бетон, и Тоня поливала его из шланга, а Даша заботливо укутывала брезентом.
Мы мучились от жары и жажды летом и замерзали зимой, мы жгли по ночам костры, проливали бетон на эстакаду, делали брак, исправляли, получали знамена, рассказывали детям легенды. Нам хотелось яблок, и у нас болели руки. [198]
Это была наша жизнь. Я говорю – наша, потому что стал настоящим строителем и не представляю себя другим.
Станция вступает в строй, и мы сворачиваем по житки. Рыжий Николай взвалит на плечо свои складные стулья, Валя заберет Вовку из детского сада – и мы уедем. Вот так. Я как выехал из дому в дальнюю дорогу, так и еду, еду…
Может, мы направимся на Братскую ГЭС, где мои далекие Дима Стрепетов, Иван Бугай и Васек натянули палатки, валят сосны и таскают бревна – язык на плечо. Там еще нет бетонных работ. Они будут, когда приедем мы.
Мы еще встретимся, Димка! Мы еще вместе будем учиться, Иван, в институте – береги свои учебники. У меня нет ваших адресов, только фамилии, но я твердо верю, что мы встретимся, потому что дороги строителей пересекаются.
Вот с тобой, Витька, мы, пожалуй, не встретимся… Если ты и закончишь свой торговый техникум, ты ведь все равно не приедешь сюда: ты по блату устроишься в столице. И ты всю жизнь проживешь волком, так никогда и не узнаешь, бывает ли на свете настоящая жизнь. Эх, дивно мне и обидно: что же с тобой случилось, кто тебя сделал таким? Откуда столько гадости, столько трусов? Болван ты, Витька, ой, болван же ты какой… и враг!
Да, я теперь вижу, что мы с тобой стали врагами. Я не мог писать тебе, мне было очень трудно. Но твое первое присланное сюда письмо камнем легло мне на сердце. Ты не жди меня в своем любопытном лесу; и мама твоя не дождется кедровой шишки. Я не могу тебе ответить одним словом, я написал записки. Они – [199] со всей правдой, со всей искренностью и болью – ответ тебе. А если кто-либо расценит эти записки как вызов, то и тут он не ошибется. Да, готовься!
Мы будем вас уничтожать. Все в мире только начинается! Нам много еще предстоит в жизни борьбы. Наше поколение только вступает в нее.
Мы принимаем эстафету от Захара Захарыча. Слышите вы, строители собственных дач! Слышите, хлюпики, впадающие в панику перед лужами!
Да, пожалуй, я понемногу становлюсь зрелым, потому что начинаю кое-что понимать… Наверно, зрелыми люди становятся тогда, когда понюхают пороху в жизни. Жизнь! Нет, она не принадлежит вам, клопы и трусы! Жизнь принадлежит людям, которые строят не только свое собственное благополучие. Они – соль и гордость земли. Без них вы пропали бы в двадцать четыре часа, и они же вас сметут метлой! У них солнечные сердца, а руки – ох, и крепкие, мускулистые, в кровавых мозолях! Эти руки сумеют построить удивительную жизнь, и ее приход никто, ничто, никогда не остановит!

Не засиживаться! Ведь дома ждет стирка, а если мой фотограф загулялся, то и обед. Я торопливо зашагал к общежитию, но кто-то окликнул:
– Ахо! Старый знакомый! Как жизнь молодая?
Первыми бросились в глаза золотые зубы. Мой «рвач» был в новеньком, с иголочки, шевиотовом костюме, в фетровой шляпе, модельных туфлях.
– Вы, видно, в гости? – улыбнулся я.
– Почти. Крестины у меня. Вот послали бабы в магазин.
В руках он держал плетеную корзину, из которой торчало десятка полтора запечатанных сургучом горлышек.
– Детишкам на молочишко?
– Го-го-го! Да ты, парень, востер! – с искренним удовольствием рассмеялся он, тяжело хлопая меня по плечу. – Ну-ка, пошли ко мне.
– Что вы! В таком виде…
– Ни-че-го! Все мы работяги, народ свой.[201] Пошли! – Он зашептал: – С девочкой, слышь, познакомлю. Эх, губки!
– Нет, спасибо. Не хочу. Устал.
– Как хошь. А жаль! Работать-то еще вместе придется. Ну, будь! Еще встретимся!
– Да… Мы еще встретимся.
А дома Петька, к счастью, сварил обед. На койке в углу уже была свежая белоснежная постель, и на ней сидела новая личность.
Итак, на место Захара Захарыча к нам поселился самый что ни на есть настоящий хохол, чернобровый, статный, смуглолицый, и уже ругался:
– Оце менi цii фотографи! Як почне карточки робить, то тiкай з хати.
– Ладно, – говорил Петька, прихлебывая щи. – Ты вот что – слышишь, Васыль? – будешь шуметь, я за цветную возьмусь. Отравлю тебя, к дьяволам.
– Iди, чортяка, я тебе сам отравлю!
– Ну-ну, помалкивай, паря! Сопли утри.
– Сам утри.Хочешь знiмать–iди в калiдор, хоч утопись там у свойому закреттелi-прояв1телi, а менi тут вiкна не завiшувай! Не завiшувай, говорю!
– Да ты кто такой? Это хамство: заявиться в чужую комнату и сразу наводить свои порядки! Да мы тебя вышвырнем!
– Хто? Ти? Попробуй! А ну-ну!
Петька стал закатывать рукава. Я подоспел вовремя, чтобы усадить его. Васыль принялся жаловаться, что он меняет уже третью комнату – и все попадает на фотографа, а он готовится в техникум, ему нужны свет и тишина. Через пять минут он уже кричал о другом:
– Ви байбаки! Ви свинi! Розвели тут свинюшник i сидять, як кнури! Чого твoi штани на стол1 лежать? Toбi шкафу нема, да?
Потом он прицепился к тому, что мы не снимаем сапоги за дверью, что у нас душно.[202] Мы с Петькой только переглянулись: «Да-а…»
Васыль лег, накрылся с головой, но тут же вскочил и так, сидя на постели, кричал и болтал, к нашему неописуемому ужасу, весь вечер. Поведал, что он плотник и у него есть грамоты, что техникум, в который он готовится, заочный, показал свои книги, тетрадки, задачники,сообщил, что у него «дiвчина на Украiнi така, якоi на свтi нема», и прочел письмо от матери-старушки из села Старые Петривци: «Дорогий синочку! А еще посилаю тобi сала та груш десяткiв зо три. Та все плачу, щоб ти не похудав…»
– А где сало? – осведомился Петька.
– Еге! Я вже з'iв!
– А еще будет?
– Буде!
Этот чертов Васыль пришел – все перевернул, взбудоражил нас. Мы погасили свет, но спать не хотелось. Лежали в темноте, молчали. Потом Петька нерешительно спросил:
– А какие документы нужно для техникума?
Васыль подхватился с кровати, как бомба. Он, шлепая ногами, сначала побежал к выключателю, зажег свет, а потом уже, стоя посредине комнаты, завопил:
– Ах, трясця б тобi побрала! Та ти ж дурний, що ти ранiш думав? Ти ж електрик,тобi ж учиться та учиться! Треба учиться, поки молодий, а то потiм тебе й дiдько не заставить за книжку взятися! Вставай, паразит, стiльки дорог перед тобою, а ти тут закопався! Вставай, пиши заявленiе. Вставай, та вставай же!
Он тащил одеяло, бросал подушки. Петька моргал глазами и чесал в затылке. Они сели за стол и стали планировать Петькину жизнь. До меня, к счастью, в эту ночь очередь не дошла.
Но я сам уже не спал до рассвета и думал: в чем [203] же дело? После школы был такой ужас, а теперь действительно передо мной открываются везде дороги. Что случилось с моими глазами и со мной? Нет, я, конечно, ни за что не останусь просто бетонщиком. На следующий год подам заявление в заочный строительный институт. Практика на производстве есть, за зиму можно подготовиться, все повторить и осилить немецкий.
«Нужно достать учебники, – думал я, – купить будильник. Нужно научиться не уставать на работе; после смены должен быть еще второй полный рабочий день; нужно сидеть по вечерам при лампе, читать новые книжки, не пропускать кино и газет, научиться быстрее собираться утром и высыпаться за шесть часов…»
И учиться, учиться!.. Долгие, многие годы. Мне хотелось сейчас же вскочить и бежать, покупать тетради, чернила, у меня руки чесались: я соскучился по всему этому!..

ОГЛАВЛЕНИЕ ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ В дороге....................................... 3 В сутках двадцать три часа..................... 4 Из седины минувших дней........................ 8 Письмо от Виктора.............................. 11 Дальняя дорога и казенный дом.................. 13 В нашем купе................................... 15 Это беда или счастье? ......................... 22 Огни большого города........................... 26 Васек познает жизнь............................ 29 Что слаще: хрен или редька? ................... 32 Мы будем перебирать пряники.................... 34 Открытие Америки............................... 36 ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ Три звездочки.................................. 38 Древнеегипетский трамвай....................... 41 Гениальный чистильщик.......................... 46 Байкальский омуль с душком..................... 48 Поворот на 180 градусов........................ 55 Чижик, где ты был? ............................ 60 Где эта улица, где этот дом? .................. 65 Наша славная коммуна........................... 65 Крещение....................................... 73 Выдержу, или нет? ............................. 76 Ливень......................................... 79 Деревянная лестница............................ 81 Письмо от Виктора, полученное вскоре........... 84 ТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ Почем фунт лиха? .............................. 87 Днем и ночью................................... 89 Шишка.......................................... 92 Без женщин жить нельзя на свете................ 95 «Эх вы, ночи, матросские ночи»................. 99 Друзья и враги................................. 102 Ласточкино гнездо.............................. 105 Все за одного.................................. 109 Гладиаторы в клетке............................ 112 Кто же они? ................................... 117 Такой-сякой.................................... 122 «Ой, да по синю морю корабель плывет».......... 124 Во имя чего мы нужны? ......................... 127 Мы собирали фиалки............................. 129 Тревожная ночь................................. 136 Приятное утро.................................. 142 Как жена на Николая шипела..................... 145 Витамин «С».................................... 148 Естественные яблоки............................ 150 Страница из блокнота. Черновик................. 154 ЧЕТВЕРТАЯ ТЕТРАДЬ Палата номер пять.............................. 156 «Нет мира под оливами!»........................ 161 Родные мои! ................................... 164 О лебедях, клопах и еще кое о чем.............. 169 Начинается..................................... 174 Битва.......................................... 176 Еще битва...................................... 182 Продолжение битвы.............................. 183 Продолжение легенды............................ 185 Событие, для истории не существенное........... 189 Письмо от Виктора.............................. 194 Моряки умирают в море.......................... 195 Лирическое отступление......................... 198 НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ ТЕТРАДИ В дороге....................................... 201