Лихоносов В. И.
Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж: Роман.— М.: Советский писатель, 1987.— 608 с.
Новый роман талантливого советского прозаика Виктора Ивановича Лихоносова охватывает огромный пласт жизни Кубани — от начала XX века до наших дней.
Главный герой этого удивительно емкого лиро-эпического повествования — Память. Память — как вечность и непрерывность человека, как постоянное движение духовности из поколения в поколение.
---------------------------------------------------------
OCR и вычитка: Александр Белоусенко, сентябрь 2009.
Виктор Лихоносов
НЕНАПИСАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ
Роман
(окончание)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ОТБЛЕСКИ ВОЙНЫ
— Ну что ж: значит, быть по сему...
(Из разговора)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
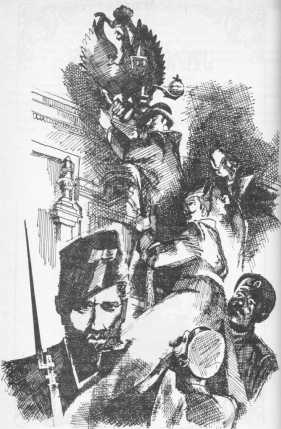
...И случилась эта несчастная война.
«Братья,
творится суд Божий. Терпеливо и с христианским смирением в течение веков томился русский народ под чужеземным игом, но ни лестью, ни гонением нельзя было сломить в нем чаяния свободы. Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться с морем, так нет силы, которая остановила бы русский народ в его порыве к объединению.
Да не будет больше подъяремной Руси!
Достояние Владимира Святого, земля Ярослава, Осмомысла, князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой, великой и нераздельной России, да свершится Промысел Божий, благословивший дело великих собирателей земли русской, да поможет Господь Бог царственному своему Помазаннику Императору Николаю Александровичу всея России завершить дело великого князя Ивана Калиты, а ты, многострадальная и братская Русь, стань на сретенье русской рати.
Освобождаемые русские братья, всем вам найдется место на лоне матери России.
Не обижая мирных людей, какой бы они ни были народности, не полагая своего счастья в притеснении иноземцев, как это делали швабы, обратите меч свой на врага, а сердца свои к Богу с молитвой за Россию и за русского Царя.
Верховный Главнокомандующий
генерал-адъютант
Николай
5 августа 1914 года». [273]
...За слезами и плачем забылось воззвание великого князя Николая Николаевича, но ясно было одно: иди и умирай за Отечество. И был поначалу великий патриотический подъем. Извозчик Терешка отдал армии вороного жеребца за вексель в полторы тысячи рублей. Купцы братья Тарасовы и Черачев одели на войну своих служащих на собственные деньги и платили их семьям по пятьдесят процентов зарплаты. Даже в «Союзе Михаила Архангела» отрекались от брани с инородцами, закупали на взносы соленое и свежее сало для фронтовиков. В день объявления военного положения многие станицы выслали конокрадов.
Любопытно то, что блестящий хвост кометы появился на небе в безлунную ночь под выстрелы первых боев. В начале августа комета находилась в созвездии Рыси, приблизительно в том же месте, где распускала сияние комета в Отечественную войну 1812 года. В начале сентября комета скрылась, а в октябре она перешла в созвездие Большой Медведицы.
Уже первые сводки выкрикивали мальчишки с газетами в руках, уже лица убитых и раненых замелькали на полосах быстрых журналов. Черноморская станция все провожала и провожала новобранцев.
— Прощайте, прощайте на земле и на небесах.
— Не журитесь, раз стрельну и вернусь...
— Возвращайтесь с Георгием! [274]
НЕДЕЛЯ БЕЛЬЯ
Разъезд начался в четыре часа утра. У второго общественного собрания Терешка поджидал молодых господ. Рюмка водки в обжорке Баграта да гусачок подкрепили его, и он тепленько сидел на козлах, раздумывая, каким повышением цен на рынке грозит война. Пока все шло, слава богу, так же, как и всегда: базары были окружены возами с хуторов и станиц, фунт баранины не подскакивал выше 15 копеек. Переваливались на возах из станицы в станицу ярмарки. Но и богатая публика так же, без тревоги, ездила на курорты в Минеральные Воды, и балы (правда, под видом благотворительности) не прекратились. Только разве мадам Бурсак остепенилась, не заезжала за бриллиантами в банк и не мечтала больше о Париже.
Терешка по роду своего ремесла лучше других знал, кому как обходится война с немцем. Попсуйшапка, например, приостановил в своем дворе постройку каменного сарая. Лука Костогрыз передал ему, что генерал Бабыч отложил празднование своей полувековой службы в офицерских чинах до полной победы над врагом. В день его рождения шесть пекарей несли к дворцу трехаршинный пирог от Кёр-оглы; полиция задержала процессию: показалось, что революционеры волокут генералу гроб! На Новом базаре Попсуйшапка сорвал со столба объявление: «Нужна интеллигентная немка к детям». Персы спешно продавали свои лавки и уматывали к себе на родину.
Заскочил было в Екатеринодар забияка Фосс, поврал, будто едет на Кавказский фронт толкать пушки, но никто, даже Баграт и Бадуров, уже не накормил обжору бесплатно.
4 сентября провели по улицам первую партию пленных; и так же, как в турецкую войну, нижние чины поставлены были на казарменное положение, а офицеров растолкали по квартирам, связав их одним честным словом. Екатеринодарские вдовушки, ветреницы зазывали к себе на постой немцев и австрийцев и жили с ними, наплевав на позор. Никакой наказный атаман не мог бы запретить им. Мало ли когда-то турки увезли на родину русских жен; увезут и эти, если захочется, когда наступит мир. На третий месяц войны Манечка Толстопят записалась в Общину Красного Креста, которую возглавляла супруга наказного атамана. Община выпустила воззвание «Добрые русские граждане!», Манечка прочитала и затрепетала от слов: «Слава наших героев — наша слава, и их беспомощность — наше несчастье [275] и позор». Написала заявление и побежала во дворец. На душе было то же чувство, что и в августе, когда по всем церквам звонили колокола, а на другой день в семьях прощались с сыновьями и внуками, давали на дорогу серебряные рубли и плакали: «Сыночек мой! От ветра я тебя укрывала, от солнца я тебя защищала. От службы царской не упрятала я тебя-а...» Манечка шла по улицам за конным строем, слушала, как пели новобранцы, и плакала. С детства любимым ее занятием было встречать полки казаков. Они ехали обычно по Котляревской улице и всегда пели. И не она одна выбегала любоваться лихими всадниками. Кто жил поблизости, вставал от трапезы, растворял окна или выскакивал на улицу. Со временем екатеринодарцы избаловались зрелищами шествий и парадов, а в прошлом веке их внимание к родному воинству было воистину родственным. Покойный ее дедушка надевал черкеску и гордо стоял на тротуаре, опершись на кизиловый костыль. Манечка бежала за конными казаками до епархиального училища; там перед черным узорным крестом в оконном стекле наверху песня смолкала.
Еще через месяц Манечку как-то подозвал к себе отец. Его заполошный окрик в первое мгновение ее испугал. В семье и так за него боялись. После горя, причиненного ему сыном Петром, после смерти прапрадеда, в котором так вольно жила душа предков-запорожцев, мало было надежды на его выздоровление. Но вот с марта он, сухой и костлявый, какой-то присмиревший и виноватый даже перед женой, стал похрамывать там и сям на улицах, на базарах, шуметь в городской думе из-за дров, тротуаров и прочего. В письмах к Петру в Персию Манечка с плачем молила братца покрыть позор ревностной службой на ратном поле — иначе отец умрет. Он каждый вечер спрашивал: «От персидского нашего шаха нема звуку?» Манечка и сейчас подумала, что отец прикажет ей добавить еще одно нравоучение. Петр между тем уже сражался с турками.
— Дитятко,— сказал он.— Клади александрийскую бумагу, садись и пиши.
— Что, папа?
— А я скажу. Такая ты у нас козочка худенькая, маленькая. И война, и ты без жениха до се.
— Ну папа! Вечно вы...
Тут Манечка обратила внимание на то, что отец надел черкеску, на боку у него шашка, и к поясу прицеплен посеребренный кинжал.
— На Бабыча имя пиши...— Он поднял голову, вздрогнул плечами, словно подтянулся перед начальством.— Его-о превосходительству господину наказному атаману и... все отличия, тебя учить не надо. Пиши: прошу вашей милости приказать зачислить меня в Первый Кубанский полк на Кавказский фронт.
— Мама вас не отпустит.
— А то я ее послушаю. В своем полку родился как боевой казак, в своем и помру, если убьют. Там девять Георгиевских [276] кавалеров... Пиши... Находясь в полном здоровье и силе и желая на склоне своих лет принести жизнь свою на пользу Отечества, я... Чего? Чего смотришь так? Пиши, пиши храбрей. Имею опыт персидского похода, еще не последняя спица в колесе...
— Так не надо, папа,— робко поправила Манечка.
— А как? Тогда напиши, шо есаул Толстопят Авксентий Данилович соглашается идти младшим офицером. Могу нести как строевую, так и административную службу.
— Как же вы, папочка, будете нести строевую службу? С ногой на деревянной колодке.
— Ну! — отец топнул властно.— Когда в восемьдесят восьмом году приезжал на Кубань с царем граф Воронцов-Дашков, то мой батько, а твой дед стоял в почетном ряду. Воронцов раньше был с ним в отряде против горцев. Узнал батька. Батько раз двенадцать пуль схватил в битве. Воронцов спрашивает: «Что бы ты желал, Толстопят?» Батько прокричал ему: «Снова служить в строю!» А я не в него?
— Куда-а ты надумал? — плачем уговаривала матушка, растопыривая руки, запачканные белейшей мукой (она на кухне готовила благотворительный пирог для «Чашки чая»).— Опять поеду за тобой, как в ту японскую? Ой, боже, ой, лихо... он на турку собрался. Да ты до базара дойдешь и пыхтишь.
— Царю я уже послужил, теперь хочу спасение души заслужить. Ты стряпаешь там и стряпай. Казак не без доли. И никак с бабских языков не счешешь того, шо налипло. Глянь! — показал он на икону Саваофа.— Как бог на тебя сердито смотрит.
— То на тебя.
— Я, наверно, сейчас за палку возьмусь.
— Та есть у тебя ум?
— Я с тобой живу больше тридцати годов, а ты, кручена овца, так и не вразумила, шо такое есть казак. Казак есть камень. Сколько б на него не лилось, а он не мокнет. Только стряхнулся, как гусак, повертел крылами — и геть вода с того гусака. Я к тому ж ще и выборный гласный.
— Прямо в диковину! На фронт ему. Бородой трясти. А то молодых нема.
— И уродится ж такая зуда! — рассердился отец.— Ну, я пошел. Давай заявление, дочка. Что ты, моя дуронька, плачешь?
— Папа,— сказала Манечка,— вы нас пожалейте.
— Ничего, дитятко. Я белье буду на фронт возить. Вина в графин наточите, приду, шоб стоял графин.
Он взял палку, перекрестился на выходе и скрылся за дверью.
Над церковной площадью кружились черные птицы.
«Ишь, иродова птица! — сердился Толстопят.— И она сюда! Це плохая примета... О, господи, шо оно дальше станет с нами? Молю — укрепи мои силы».
Бабыч (уже снова военный генерал-губернатор) принял его тотчас же. [277]
В 1905 году между ними прошел сквознячок, они поссорились и девять лет не здоровались.
Бабыч повертел заявление и своего согласия не изъявил.
— Белье с вагоном сопровождать — поезжай...— только и сказал.— Немецкое колбасное войско разобьем, и турки руки вверх поднимут. Война будет короткой. Живи.
— Сколько ни живи, а два века не проживешь.
— Все умрем, да не в одно время.
— К животу припарки ставить, к ногам толченый лук — моя доля?
— Ничего, и без одного цыгана бывает ярмарка. Опять заместо чужого солдата верблюда убьешь. Не пущу, в окоп упадешь.
«Э-эх...— на кого-то обижался Толстопят на улице.— В девяносто четвертом году, девятого августа, прибыл я в лагерь под Сарыкамыш в Первый Кубанский полк... После закуски в столовой дежурный трубач как заиграл тревогу, казаки выстроились! «Кубанцы! — слышу.— Взять и покачать подъесаула Толстопята». Меня качали, и музыка играла, и казаки стреляли с холостых патронов. Бабыч теперь верблюда вспомнил. Ну, было. На персидской границе на кордоне раз наварил я каши. Стрелял в татарина, откуда взялся верблюд? Может, караван шел? Увидел — татарская шапка с камыша показалась, в нее и нацелился. Как сказали хлопцы, шо я верблюда убил, так меня аж в жар бросило: верблюд двести целковых стоил, где ж деньги брать? И какая могла нечистая сила попутать, колы у меня на шее был крест с распятием? Поскорее закопал верблюда, пока хозяин не нашелся. А Бабыч и до се не забыл... Ну а папаху ты мне не запретишь сшить! Сейчас же зайду!»
В мастерской у Попсуйшапки он вступил в спор о том, что было бы, если б Тарас Бульба не выронил люльку; потом, когда все ушли, похвастался перед мастером Василием, какая у него дочь Манечка.
— Моя ж она козочка! Она ж у меня и в Красном Кресте, и в «Чашке чая». У них там ктось бросил в кружку кольцо, а один — золотой крест святой Анны. На войну. И записка лежит: «Дай бог перебить всех врагов». Вы почему не на фронте?
— Казакам в армию папахи шьем. Белые билеты выдали.
— И не спите небось?
— Мы, Авксентий Данилович, не так, как в Зимнем театре,— едко заметил Попсуйшапка, разглаживая шкурку.— У них «Веселый рогоносец» танцуют.
— А моя Маня в четыре встает, в час ложится. Раненых привезли, она на станцию: надо ж принять в зале, чаем угостить, холодной закуской, порасспросить. Она и комару, который ее вжалит, перевяжет ногу. Им, сестрам, воспрещено театры и рестораны посещать. У них в «Чашке» войсковой симфонический оркестр три раза в неделю играет; публика с театра едет к ним кофе пить. За месяц три тысячи рублей собрали. Рука дающего [278] не оскудеет, так же? А утром соскочит, еще не умылась — уже про белье думает. К вашему двору не подъезжали фургоны?
— Труба так гудела, что мы с братом проснулись. Я дал носки теплые, одеяло.
— А наша Маня таскала, таскала от матери и со счету сбилась. Раненым пять тысяч коек расставили — и в военном собрании, и в «Монплезире», в епархиальном ведомстве, и так, по домам...
— И как России не везет,— сказал Попсуйшапка.— В несколько миллиардов война с Японией обошлась, а эта во сколько? Ей и конца не видно.
— Побьем... Недаром персюки да турки уже лавки попродавали и на родину кинулись. Чуют.
— Вы не ходили во дворец поздравлять Бабыча с пятидесятилетием в чинах?
— Не. Я сердитый на него с девятьсот пятого года. Я заявление написал на позиции, но не вышло. «Война,— сказал,— недолго будет».
Так бы он сидел в мастерской до вечера, если бы не вскочил пристав Цитович. Попсуйшапка позеленел, думал, что Цитович ворвался с обыском. «Так твою, ты что за рыло? Пущу протокол и будешь в кордегардии!» — его приемы на службе. Но Цитович сладенько поздоровался, глянул на все стороны и холопом вытянулся перед Толстопятом.
— Просили передать, чтобы вы срочно шли к наказному атаману!
— А я был.
— Просили передать — срочно! Извините, вас ищут через полицмейстера. Извините, господин есаул, муж жену избил — мне на Карасунскую.
Во дворце Толстопят с ходу спросил у Бабыча:
— Чем я провинился?
Бабыч встал и важно зачитал телеграмму.
На другой день Толстопят обошел всю родню, гордо толкался по базару, был в церкви.
Его поздравляли: за геройство в бою с турками сына Петра наградили святым Георгием 3-й степени.
Через неделю старый Толстопят, Манечка, мадам Бурсак выехали на Турецкий фронт с вагоном белья и подарков. Сопровождали вагон и те три казака, которых осенью 1911 года поручение выпросить у Бабыча племенного бычка завело аж в Тамань. Ехали помочь доброй услугой, а заодно и внуков проведать. [279]
НА ВСЕ ЦАРСКАЯ ВОЛЯ
Через неделю, наевшись яичницы, отправился к Бабычу и Лука Костогрыз. Некогда заласканный почетом, праздничными жестами высокородных лиц, на старости лет Лука Костогрыз вздумал писать жалобы, а точнее сказать — тягаться с властью. Но на его жалобы не было почему-то из Петербурга ответа. Лука решился прощупать наказного атамана.
Первым делом он щедро поздравил Бабыча с 50-летием службы в офицерских чинах. Запев ему удался, так как Лука поставил Бабыча выше атаманов, тем более русских, всяких там графов Сумароковых-Эльстонов и Евдокимовых. Круглоголовый Бабыч скупой самовластной улыбкой отвечал ему, но особой благодарности не проявил. Он постарел. Маленькие синие глаза атамана глядели на Костогрыза устало. Все уж надоело ему!
— Опять стихи? — спросил Бабыч.
— Не-е, я за умом пришел к тебе. По своим старческим летам неправды тебе не буду говорить.
— Когда это казаки жалобами распинались?
— Жалобами своими я добиваюсь одной только правды, а не какого-либо корыстолюбия. Мне ничего не надо, меня смерть ждет. А по словам в бозе почивающего Александра Второго, милость и правда да царствуют в России!
— Ты, бисова душа, всех зацепишь.
— Свадьба сорочку найдет. Мне и правда ничего не надо. Капитул орденов сообщает, шо на мой именной крест идет пенсия, но, ввиду того, шо я потерял документы, денег не выдают. Ладно, я пасекой проживу.
— Что ж, будем в войну заваливать государя вздорными прошениями? И у меня на столе их сколько!
— За себя просить не буду. В России порядка нема. И у нас на Кубани. Я приходил к тебе насчет нового пашковского атамана, ты меня не выслушал, а позавчера, смотрю, он хватает казака, приказывает идти с ним в лавку для избрания ему сукна на чекмень. Это атаман?
— Та я ему голову оторву! — взнуздался вдруг Бабыч. Он и сам порою применял ухватки станичных атаманов.
— Мало голову оторвать; надо и ноги выдернуть. Я боролся всеми силами, ничего с глупым народом не сделаешь. Теперь атаман бросает казенные гроши черт знает куда — я тут ни при чем. Он как поступил на должность, хотел похвастать, лучшую [280] школу поставить, а гроши в кассе не подсчитал, а может, счету не знал. Отдал техникам полторы тысячи, а тогда разглядел, шо не за что строить, то со стыда запрятал ту смету молча в стол, пока атаман отдела не привязался, как ему кто шепнул в ухо: «Дай объяснение!» И опять запятая с точкой атаману! И кто ж виноват? Сбор. И не докажешь. Казначей полкассы замотал. Одним чудом Пашковка держится.
— Враждуешь с атаманом? Учить нас вздумал?
— В Сечи как было? Ежели в каком курене атаман неисправный, то господину кошевому вольно его покарать и доброго зараз поставить.
— Сейчас не время думать о нашем неустройстве. Все должно стремиться к победе.
— Атаман купил на пятнадцать лошадей сто хомутов. Зачем?
— Ему виднее. Враждуешь.
— Такой атаман не может нажить врагов, так как от него всем тепло, одной станице беда. Ошибка будет твоя, батько, так думать, гласность пускай не устрашает тебя. Я побежал к писарю за приговором сбора, который он похитил домой и положил в папку,— так он начал стрелять в меня! А зачем воровал бумаги? Чтоб самому атаманом стать.
— И ты про це царю написал?
— Не писал, це ты сам разбирай, а я писал кое-что побольше. Слава господа через пророка Михея: начальники требуют подарков, судьи судят за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и превращают дела на свой лад; лучший из них как терн колючий, справедливый — хуже колючей изгороди. Читай: глава седьмая, стих третий, четвертый. Это было за несколько тысяч лет до Христа, а сейчас еще хуже тех в десять раз. Карманы полопались от взяток, а бедных только мазнут по губам салом — и все.
— Брешешь!
— Было, спрашивает моего деда атаман Бурсак: «Шо б ты сделал, як бы на тебя сказали «брешешь»?» — «Бил бы!» — «Та брешешь!» — «Ей-богу, бил бы!» А я своего кошевого жалею.
Бабыч немножко сдался; адъютант доложил, что пришли из городской думы, но Бабыч рукой отвел: подождут, мол.
— А какой же черт тебя дернул писать в Петербург?
— Атаман навел меня на размышление. Посадил меня, смердячья жаба, под домашний арест. У ворот поставил казака с шашкой. До чего дело дошло? Ладно, бисова душа. Я вам всем покажу. Пишу ему записку: выпусти меня, я в баню схожу да быка посмотреть у кума надо, бык набрюшился. Сижу в хате и думаю. Покойный Петр Бурсак, шо с кручи бросился, снится средь бела дня. Была слава у нас. Всевышний внушил мне святую мысль и желание идти на помощь. И вся неправда за шкуру полезла, вспомнил, шо в жизни видал и шо сейчас. Война идет, а тут агент компании Зингера стучится, в рассрочку [281] машинку швейную навязывает. Кто кровь проливает, кто наживается. В Петербурге министры зевают, а я ж столько видел за службу! На них костюмы русскоподданные, а сердце и зубы волчьи. Полевые враги истребляют нас живыми и ранеными. Сколько уже за три месяца с лишним осталось от убитых и раненых воинов молодых жен с детьми, стариков и старух?
— Что ж ты хочешь?
— Удалить всех немцев с должностей. Прикрыть тюрьмы и переименовать их на учебные и ремесленные заведения. Туда поместить больных и увечных воинов, безродных стариков. А конвой тюремных отправить в действующую армию.
— Перекрестись, Лука!
— Перекрестился, и опять за свое. Можешь подумать, шо я без разуму, так не! Я за чужим разумом не гонялся, бо у меня с роду его больше, чем нужно. Я могу лучше богу и царю служить, нежели подлости. Вы нас, стариков, за хорьков или зайцев считаете? Мы покоряли Кавказ. Конечно, стыдно и грешно мне об этом вести переписку, но я не последнее лыко в войске. Я выработал проект на высочайшее имя.
— Пока в хате под арестом сидел? Ну и что ж ты там на спасение Отечества выдумал?
— Назначить комиссию, проверить книги почтовых учреждений, кто сколько денег послал до войны на большие проценты в Германию, с виновных взыскать за каждый рубль по двадцать пять копеек на военные нужды. В банках забрать капиталы на военный заем. Все спрятанные товары продать с публичных торгов, а кто купит товар, продавать по дешевой цене. Таким путем победим.
— Мы и без того победим скоро,— сказал Бабыч.— С нами бог был на Куликовом поле, в Полтаве, с нами бог был в 1612 году и в 1812-м. И сейчас будет с нами.
— На небо нетрудно залезти, как назад вертаться? Это газеты брешут про победу? Ну, говорят, шо за морем дешева собака, да дороги мухи. Дальше. Проверить кассы монастырей и белосвященников и лежалые деньги забрать на заем. Зачем на деньги графа Воронцова-Дашкова (два миллиона) строить какое-то учебное заведение? Взять на войну! Компания Зингера грабит весь Кавказ, агенты, как цыгане, ходят по дворам, иную машинку за один год три раза продают. Господин министр финансов с мертвых пчел собирает мед.
— На Кубани накачали двести шестьдесят тысяч пудов меду, не знают, куда сбывать! Чего ты? До ста пудов в день принимает хлебный рынок и полтора миллиона пудов пшеницы, ячменя отправляется из Ейского порта за границу. В России тридцать девять миллионов лошадей, и всех кормим.
— Пропадет Россия со своими кацапами.
— Не забывай, что Россия тысячу лет строилась и разбиться так — ей не с руки.
— И не увидите, как развалится. [282]
Тут Бабыч, немалый наместник самодержавия, решил поучить Костогрыза; сам пусть послушает и другим казакам передаст.
— Угодно вам оставаться казаками, так помните: защищаете вы Россию — хорошо, и она вас не забывает, а чуть против нея — то на кой хрен вы ей сдались? На ваших землях мужиков можно в три раза больше посадить, да и забот станет меньше. Как блоху раздавят, только дух нехороший пойдет.
— Мало наши косточки похрустели,— тихо сказал Костогрыз.
— А то чистый смех! Вам лясы точат, а вы уши затыкаете. Дадут вам дарового коня, так чем же вы от других будете отличаться? Снаряжение свое? У драгун оно лучше. Или долой панов? А паны разве с неба падали? Чепига у Карасуна в какой хатке жил? Много ли земли осталось у ваших панов. Вся продана почти. У меня и дома своего нет. А начни отнимать, похерите закон собственности, а землю похерить — похерить и кое-что прочее. Не казачье дело во вражью дуду играть!
— Мы с тобой, батько, поругаемся, как в корчме. Мне нельзя на тебя кричать — я урядник, а ты генерал. И то сказать: от Сечи повелись оба, казаки. Не накажешь меня по статье двести восемьдесят третьей Уложения?
— И статьи уже выучил?
— И цены все подсчитал. Спички продают с приварком. Чай Высоцкого два рубля. На мыло цены вздулись до двадцати пяти копеек за фунт.
— Зато фунт баранины по пятнадцать копеек держится. Я подписал приказ, чтоб такса была ровная. Война скоро кончится.
— Ку-уда! Пока мы заводы устроим, неприятель перекрестит Россию вдоль и поперек. И скажут старые казаки: «Про...ли Россию! Катерина нам землю дала, а кацапы басурманов напустили». Изучайте мой проект. Проект я создал не из книг, а из книги жизни, писал своеручно.
— На каком основании ты указываешь государю?
— Никто не должен жить для себя, а все должны жить для всех. И за всеми заботиться без гордости и самолюбия. Я работаю на пользу Отечества по высочайшему повелению от третьего июня 1891 года и шестого августа 1905 года.
— Ты же, Лука, у нас не красная девица и не студент, чтобы изнывать от тоски и неверия: «О жизнь, зачем ты избрала меня своей жертвой?» Или ты балуешься?
— А зачем же ты, батько, булаву на кухню отнес? На кухню! И кашу ею мешаешь.
— Ты, Лука, с ума сошел и хочешь, чтоб и мы с тобой?
— Это тебе кажется, батько. Я тебе больше скажу. Так как впоследствии возбуждается война от Китая, в такую тяжелую годину я не могу молчать. Святые книги предсказывают, а я уже вижу. Жалко, по моей бедности и старости не могу добраться до его величества. Через внука Диониса передам. [283]
— Нету уже там твоего Диониса,— сказал Бабыч, но Костогрыз будто не расслышал или принял слова Бабыча за пустой звук.
— Я бы вот шо сделал,— продолжал он,— когда война с немцем кончится. После войны я бы все кандалы, решетки, штыки, ружья, пушки, шашки переделал на плуги, косилки, молотки. На память всеобщей войны и мира построить надо с союзными державами три больших монастыря с престолами для каждой религии, с отделениями для стариков и малолетних сирот.
— Побрехали, и хватит,— сказал Бабыч и достал какую-то бумагу.— Будем жить, Лука, как жили. А менять — на то царская воля. Я слушал тебя из уважения к твоим заслугам. А теперь обороняйся... От внука Диониса было письмо?
— На третий день войны.
— Мне бумага пришла... Внук твой Дионис...
Костогрыз, чуя беду, побелел и мелко три раза перекрестился, губы его распались, и он сидел немой и жалкий.
— ...сбежал из конвоя!
— Та не может быть... Дионис? Не верю.
— Плохо воспитывал.
— Малым был — чуб ему мял раз в неделю. Та вы ж знаете меня! Та я его стопчу, собаку! Ну, рассказывайте.
— А чего рассказывать. Пришло предписание: найти, револьверы отобрать и возвратить в конвой. А за ним пришло уже другое. Деньги за лошадей, которые конвой продал, направить войсковому начальству. Серебряные часы за джигитовку, серебряный бокал и подстаканник не забирать. Беглецы уже в действующей армии.
— Та как же они, бисовы души, сбежали?
— Прибыл к нам офицер конвоя Рашпиль и рассказывал так.
Тут Костогрыз выслушал такую историю. В жизни он так не слушал усердно, хотя истории бывали похлеще этой. Все же родной внук!
Обнаружили, что нет на месте Диониса Костогрыза и его товарищей, на утренней уборке. Накануне они были в отпуску и явились в казарму в четыре часа утра. Взводный дежурный послал Диониса на уборку конюшни, но Дионис отпросился к прачке и так с узлом под буркой и ушел. Взяли они с собой походные сапоги, черкески защитного цвета, шубы, револьверы, узкие кинжалы и шашки, компасы и захватили по пути в царскосельской лавке еще пять фунтов табаку — «для братьев-раненых», как они сказали лавочнику. Дионис давно искал напарников и многим предлагал «удрать на войну» и прославиться так же, как пятеро бежавших солдат из железнодорожного полка.
— А что ж теперь будет им, батько?
— Благоугодно было повелеть: не возбуждать дело о предании виновных суду и взысканию до окончания военных действий.
— Сла-ава тебе, господи...— Костогрыз осел назад от счастья,— Это значит вернется с Георгием. Я его знаю. В нашу [284] породу. От бисовы Костогрызы, и сроду они такие! То значит — выиграем войну. А где ж они в действующей армии?
— Прислали письмо в Первую сотню, а полк не указали. Разведка нашла: Первый Хоперский великой княгини Анастасии Михайловны полк на Западном фронте. Участвовали в тридцати боях. Полк перебросили на Кавказский фронт.
— Из конвоя исключили?
— На третий день. Без всяких преимуществ за службу. Так что жди, Лука, когда война кончится, а там царская воля: прощать или...
— Я, может, не доживу, батько, до победы, а наказание ты смягчи. А ты отказался от меня из-за проекта, как Петро от бога.
— Я тебе сказал уже, Лука: мы с тобой не на охоте в Красном лесу.
«Сколько ни говори ему,— разочарованно думал Костогрыз, проходя мимо памятника Екатерине,— все равно как по воде батогом. Им укажешь? Пока булава в руках, им кажется, шо все вечно...»
А Бабыч приказал адъютанту: «Больше его ко мне не пускайте». [285]
ЯВЛЕНИЕ ЦАРЯ НАРОДУ
В Екатеринодаре 17 ноября выпал снег; извозчики катали обывателей на санях, в Карасуне стала замерзать вода, но — откуда ни возьмись — подул через неделю теплый ветер, и город сразу почернел. 23 ноября, в воскресенье, публика гуляла по Красной в шляпах, наблюдая за украшениями. За три дня до этого генерал Бабыч получил шифрованную телеграмму: «Встречайте Екатеринодаре хозяина».
24 ноября, в день св. Екатерины, приезжал царь.
Питейные заведения, магазины, лавки, булочные были закрыты с раннего утра.
Говорили потом: по всей линии следования царского поезда, от Тихорецкой до Екатеринодара, выставлены были поверстные часовые из конных казаков. Но ежели и не от самой Тихорецкой, то от станицы Динской, за восемнадцать верст до столицы казачества, было именно так; каждые двести метров по обеим сторонам полотна восседал на лихом скакуне казак с шашкой наголо. Как только паровоз, ведомый потомком запорожского войскового судьи Головатого, дворянином, променявшим наследственные льготы на службу машиниста, равнялся с всадником, тот гнал свою лошадь до следующего поста.
Надо вспомнить наивность тогдашнего простонародья. Все, кто мог, побежали к вокзалу.
Попсуйшапке было не до встречи. Три дня назад он со станции Динской отправил в Екатеринодар четыре ящика с папахами и теперь требовал с багажного кассира свой груз или, если он окончательно потерян, 2029 рублей 25 копеек.
По Екатерининской улице свисали с балконов дорогие ковры; нарядные жильцы глядели в сторону вокзала. Калерия Шкуропатская прошла у гостиницы «Националы» и заторопилась мимо городовых и строевых казаков вниз к Царским воротам. Зачем ей надо было разделять любопытство толпы? Может, душа толкала ее отвлечься от горя? С тех пор как умер ее первый младенец, она сиднем сидела дома и плакала. С мужем Дементием она разговаривала мало, да и он, чтобы она забылась, не трогал ее. Накануне Бурсак читал вслух обращение полицмейстера помогать ему в охране царя, зло ругался и предсказывал поражение России в войне. «Все вырождается,— сказал,— и цари, и знать». Калерия молчала, но как будто от того, что ей тяжело, соглашалась с ним. Уже погибла в Мазурских болотах армия [286] Самсонова. Что ж, царь родился несчастливым и нес тем несчастие России. И она пошла посмотреть, какой он.
На Котляревской она, как ни странно, поддалась гипнозу толпы. Ее теснили в спину. Когда она спешила, у нее на ботинке сломался каблук, и теперь Калерия держала его в руке. Старухи поминутно спрашивали: «Чи нема его?»
Шла война, и визиту царя в маленький город придавалось особое значение, но народу было не больше, чем в годовщину войскового круга. И охрана была какая-то незаметная, словно состояла она всего из двух живых стен по сторонам мощеной улицы.
Старухи переговаривались:
— О, сказали, шо царь будет ехать, а его нема.
— Як нема?
— А где ж он?
— Та ото ж проехал!
— Ого? Та то ж москаль полицейский.
— А царь чи не москаль?
— Казак в черкеске.
Владелец бани Лихацкий, с алой лентой через плечо, лез показаться в первый ряд. Вдали у перекрестка взобрался на фаэтон Терешки Попсуйшапка и, пока царь задерживался, жаловался на пропажу ящиков с папахами. Кто-то совал извозчику рубль, только бы пустил в чеботах на чистое сиденье. «Умойтесь, причешитесь и идите на Красную»,— наставляли вчера гимназисток, и они пришли в одинаковых фартучках.
В теплый день можно было ждать сколько угодно. Пока на Черноморском вокзале на устланной сукном платформе подносили царю хлеб-соль, потом в стеклянной галерее с тропическими растениями радовали его еще крепким духом депутации от станиц (из стариков-конвойцев, из гвардейцев прошлых войн), на Екатерининской прислушивались к первому удару пятисотпудового колокола на Александро-Невском соборе.
Вдруг с городской каланчи дежурный казак махнул флагом всем звонарям. Сперва увидели высившегося в фаэтоне толстого грека-полицмейстера. «Сзади меня едет его величество государь император! — кричал он на все стороны.— Сзади меня...» Калерии почему-то думалось утром, что царь прибудет с наследником, дочерьми и супругой. Нет, он был лишь с дворцовой свитой.
Царь, как из сказки, выплыл на черной машине из арки триумфальных ворот.
Так было и двадцать шесть лет назад.
В счастливое время, когда был еще наследником-цесаревичем, сопутствовал он по Кавказу своему августейшему отцу и провел три дня на земле кубанского казачества. Еще жив был брат Георгий. Еще мать их, императрица Мария Федоровна, на которую он так похож, полагала, что до старости будет носить на голове корону государыни и стоять на молитве рядом с мужем. [287]
В 1888 году они пожаловали в Екатеринодар 21 сентября. Во всю ширину Екатерининской улицы застыла на взгорке новая арка с четырьмя золочеными орлами на башенках. Отец крестился на образ Александра Невского, украшавшего нишу. «Да осенит тебя, великий государь, божиею благодатью твой ангел-хранитель». Нельзя было запомнить всех, кто их приветствовал, но бросались в глаза заслуженные старики, герои с Георгиевскими крестами, плакавшие с простодушием крестьянского сердца. О вольнице запорожцев напоминали войсковые регалии, строгие атаманы с насекой, хлеб-соль на деревянных резных блюдах. Купцы подставляли хлеб на серебре чеканной работы. Где эти блюда? — он и не ведал, так много было раболепных подарков за годы царствования без отца. Блюда с медальонами, с золотыми кистями по бокам, с изображением короны, в русском стиле XVI века, с вензелями, надписями: «С нами Бог». Да где сами те люди, старики великаны, генералы, бабы-казачки в белых платках, дамы в нежнейших воздушных платьях? Сколько их умерло, состарилось, не пришло нынче? «Из уст в уста,— говорили,— счастье и радость передадутся потомству»,— но много ли их, кто благодарно помнит 88-й год? Теперь холод, война, тоска, нет мужества улыбаться. Верны ли ему слуги?
У дворца наказного атамана отцу, наследнику и брату Георгию подводили лошадей с богатыми седлами, подавали шашки, кинжалы, бурки и башлыки, обшитые золотой тесьмой. Девять лошадей отправились за ними в Петербург, на гнедой он ездил до самой коронации. На обеде казаки гнулись похвастать изобилием. Разварные осетры и севрюги, шашлыки, кавказское вино, малороссийские пироги на белых скатертях, слова к чарке: «Покорнейше просим осчастливить нас, принять от Кубанского войска чарку вина!» — и тосты, один другого благодарственней, и в ответ «милостивые расспросы» гвардейцев-стариков о прежней службе, разговоры в почетной сторонке о бывших подвигах — все, все было настроено на одно: на прославление нынешней жизни, такой красивой и благополучной, какой она, увы, никогда не была! Церемониальное величие, всегда сопровождавшее русских царей в явлениях народу, было той уздой, за которую власть подтягивала доставшийся ей порядок. Перед лицом пышности и расписанных правил парада сама жизнь как бы теряла право показывать свое сиротское нутро. Власть всем своим видом призывала идти с ней в ногу, радоваться и верить в указующий перст. Стыдливо прикрой свое рубище! Вон там плачет и крестится вдова убитого воина? Но то, верно, слезы умиления? Нету равенства? Но и в царской семье не все равны. В 1888 году наследнику Николаю подороже и позлащенней, чем брату Георгию, вручались от казачества дары. Если наследнику сукно на черкеску, тесьму и перчатки, то Георгию тесьму для часов и перчатки; если первому вышитый тенями ковер и два полотенца, то второму сорочку и полотенце; если Николаю [288] азиатское одеяло из верблюжьего сукна с вензелем посредине, то Георгию лишь полотенце.
Что еще было? Стеклянные шары на высоких проволоках, щиты, звезды в блеске разноцветных шкаликов, бюсты их величеств на балконе общества взаимного кредита, шесты с иллюминацией на гигантских дубах во дворе полковника Бурсака, терем и государственный герб в городском саду. Нынче все скромнее. Война. Отец посетил тогда в больнице тифозных, женскую и тюремную палаты. До того ли сейчас?
На сей раз не было в шествии льготных казаков-конвойцев Луки Костогрыза. В конце концов не мужик в чеботах, а он заплатил Терешке рубль (с головой императора) и глядел вместе с Попсуйшапкой вдоль улицы. В кармане свернуто было прошение, и Лука придумывал улучить момент, чтобы выскочить к царю, стать на одно колено и вытянуть руку с бумагой при всем честном народе. Царь может узнать его, приласкать, и Бабычу будет позор.
Так когда-то, в том же 1888 году, устроил переполох старый, недавно схороненный Толстопят. Отобедав в доме наказного атамана, царь Александр III со свитой ехал по Котляревской улице. За нынешним домом священника Четыркина по завалященькому забору были натыканы длинные восковые свечи, а посредине пыльной улицы стоял на коленях сивый Толстопят в поношенной черкеске, весь усеянный почетными наградами. Дородный кучер придержал лошадей. Царь, привлеченный редкой выходкой казака, сошел на землю.
— Что такое, казак?
— Ваше величество! — кричал Толстопят, прижимая руки к груди.— Я Толстопят! Я Толстопят!
— Поднимись с полу, что такое?
— Я Толстопят, ваше величество! Колы ваш батько пошел гулять в Атаманский сквер, я за ним доглядал. Ото как вы наш гость, я хочу пожелать вам здоровья и дожить до тех лет, как наш сотник Блоха.
— Везите его за мной,— сказал царь.
Когда уже потчевали царя в палатке в лесу Круглик, подозвал он Толстопята к себе и спросил:
— Так что же сотник Блоха — чем он прославился?
— Он ще из старой Сечи и жил долго-долго, ваше величество. Но только простите меня, не накажите? — и жил до тех пор, шо когда, бывало, лезет на мажару поспать, то п.....!
Один разве Костогрыз и помнил эту выходку нынче. Цари всегда любили грубые шутки.
Грусть на бледном усталом лице, мерцание отрешенных от Мира житейского глаз, что-то сломленное, фатально-покорное в маленькой фигуре — вот каким запомнился Калерии последний русский монарх. И через пятьдесят лет бывшие мариинки, гимназистки, девочки-казачки, когда их спрашивали о царе, отмечали одно: глаза. [289]
— Глаза! глаза!
— Глаза печальные, красивые.
— Да, глаза, а сам плюгавенький.
Одет он был в серую черкеску с погонами полковника, на голове высокая казачья папаха, на которую больше всего и глядел Попсуйшапка, думая, что, может, то папаха его работы. Невзрачный вид царя и погоны полковника ввели в заблуждение старых казачек, да не только старых. Генерала Бабыча с белыми жирными эполетами они принимали за императора. «Удостоилась! — шептала какая-то бабка.— Живого побачила». Калерия не перепутала Бабыча с Николаем II, но разочаровалась: не таким хотелось видеть венценосца в годину ратного испытания.
Пока Калерия прибивала у сапожника каблук, свершалось в городе все намеченное церемониймейстерами. Окропляли святой водой в соборе царскую голову, пели многолетие, благословляя нижайше: «Пода-аждь, господи, победу благочестивейшему нашему императору Николаю Александровичу!» Прикладывался царь к кресту, целовал руку владыки, а владыка царю. И еще не кончилось торжественное действо, а журналист «Кубанского края» Шевский вертел в голове строки статьи: «На долю горожан выпала радость видеть и приветствовать его величество, которая повторится ли снова — бог весть». В Мариинском институте, когда девочки в шестнадцать рук сыграли на роялях гимн, потом спели «Засвистали козаченьки» и царь при этом всплакнул, приласкал хроменькую казачку, бросил на память детям носовой платок, Шевский воссиял оттого, что все это хорошо ляжет в хронику. Но он не заметил, как тряслась от страха в лазарете Красного Креста Манечка Толстопят. Ей казалось, что ее раненые, лежавшие на кроватях семьи Бабыча, пожалуются на плохой уход санитарок, на пищу и белье. Она не запомнила даже лица царского,— все глядела во время расспросов на бедных солдат. Между тем все обошлось: раненым нацепили кресты и медали, в складе лазарета полно было табаку, дамы тут же при царской особе выкроили несколько рубашек.
— Никогда не сомневался в моих славных кубанцах,— сказал царь.— Благодарю сердечно за готовность жертвовать во славу и защиту Отечества.
Он всегда так говорил, но было приятно услышать живой голос.
После Шереметьевского приюта, во время легкого отдыха у наказного атамана, начальник походной канцелярии подал царю пакет: «От Ея Величества».
«Мой родной,— читал царь, отрекшись от всех,— драгоценный. Запоздалый комар летает вокруг моей головы в ту минуту, как я тебе пишу. У нас сегодня утром было четыре операции в большом лазарете, а затем мы перевязывали офицеров. Я осмотрела несколько палат. Мы прошли целый фельдшерский курс [290] по анатомии и внутренним болезням, это будет полезно и для наших девочек. Я по обыкновению помогаю подавать инструменты, Ольга продевает нитки в иголки. Мне пришлось перевязывать несчастных с ужасными ранами... они едва ли останутся мужчинами в будущем, так все пронизано пулями — страшно смотреть; я все промыла, почистила, помазала йодом, подвязала. В. смотрела так равнодушно, совсем уже, как она сама говорила, очерствевшая, ей постоянно нужно что-нибудь новенькое. Она снова увлеклась своим молодым оперированным другом,— помнишь Петра Толстопята? Он был в твоем конвое офицером и послан в Персию, отличился в бою с турками, его перебросили с полком на Западный фронт, и он едва не был убит. Она ездила с целой партией наших раненых в город и очень веселилась в вагоне, ей страстно хочется играть роль и потом без конца рассказывать о себе и о том, какое впечатление она произвела. Раньше она ежедневно просила о большом количестве операций, а сейчас ей все это надоело, так как это отвлекает от ее молодого друга, хотя она навещает его ежедневно после обеда или вечером. Конечно, это нехорошо, что я на нее ворчу, но тебе известно, как она может раздражать. Увидишь, когда вернешься, она будет тебе говорить, как ужасно без тебя страдала, хотя она вполне наслаждается обществом своего друга Толстопята, которому кружит голову, но не настолько, чтобы позабыть о тебе. Будь мил и тверд, когда вернешься, не позволяй ей грубо заигрывать с тобой, ее постоянно следует охлаждать. Я по вечерам всегда целую, родной, и крещу твою подушку и жажду обнять своего милого. Но мы никогда не даем воли выражению своих чувств, когда мы вместе, да это и бывает редко. Будь здоров, да благословит, защитит и хранит тебя Бог от всякого зла, спи хорошо,— святые ангелы и молитвы твоей женушки охраняют твой сон...
Твое Солнышко».
Царь понюхал душистые листки, поцеловал и сложил в конверт. Еще надо было проехать в станицу Пашковскую.
У Луки Костогрыза от топтания на Красной болели ноги. Добираясь ни с чем назад в Пашковскую, он думал, как зальет ему бабка горячей водой перерез и он залезет в него отпариваться. Третьего дня ходил Лука на остров за Кубань рубить лозу. На зорьке лед еще сухо звенел под ногами и был толстый. Перешли спокойно и в какие-то три часа нарубили лозы большую кучу. Она стояла высокая, ровная. Поднялось солнышко, стало тепло. Лука рубил и рубил себе в охотку. К обеду подъехал на подводе внук. «Давай, деда, бросать, поверх льда вода выступила». Лука отмахнулся. «Уже вода нам за голенище будет,— стращал внук через час,— давай бросать. Зачем она нам?» — «Не хватит на подводу».— «Да как мы ее будем брать? Как [291] нам отсюда выбираться? Вода с аула растет». Лука только напевал что-то черноморское и продолжал свое дело. Потом стал носить лозу к берегу. Воды натаяло много. Лука сел на кучу лозы, разулся, стащил с себя штаны и голый поперся в воду: «За мной!» В подошву кололо, вода была выше колен, но Лука перебирался туда-сюда, пока не перетаскал на другой берег все; затем забрал свои сапоги, штаны и топор, оделся, сложил лозу на подводу и, завязав веревками, закурил свою допотопную люльку. «Нужна была она вам, эта лоза?» — укорял внук. «Нужды в ней нет, но можно использовать в хозяйстве. На базаре она рубль подвода, нанять перенести — такого дурака не найдешь». В хате он налил стакан водки, распорол ногтем стручок перца, высыпал весь и духом выпил. Проснулся как живой, но вот теперь, после дня суетни на улице, ноги что-то ломило.
В тот час, когда он сошел на улице Петра Великого с трамвая, по Введенской площади под пение хора и музыку двигалась после церковной литии печальная процессия: впереди несли святыни, за ними крышку гроба, с оружием и двумя Георгиевскими крестами сверху, дальше шли священники с причтами, в светлых облачениях, за ними гроб, еще дальше стройные отряды полусотни казаков (с ружьями на караул) и растянувшаяся на версту толпа. Провожали в последний путь героя Кавказского фронта; в бою он зарубил шашкой четырнадцать турок и пал сам. Лука снял папаху.
На трамвае же прибыл спустя два часа с неожиданностью для атамана станицы царь Николай II.
Костогрыз, уже раздетый, курил перед пустым перерезом с углями; вдруг вбежала жена Одарушка и закричала: «К Турукало, к Турукало повели!»
— Кого?
— Та царя ж!
— О, бисова лягушка, перепугала меня. Я думал, корова наша отвязалась. Чего он? Мы его тут не ждали. Давай мне штаны!
— Лука...— мягко, как всегда, упрашивала Одарушка, еле переваливаясь на толстых ногах.— Оно тебе нужно? Опять с прошением сунешься... То без тебя там не знают, как им управляться...
— Козочка моя, я ж сроду такой.— И взвился: — Я им покажу! Я Бабыча в дугу согну! Отнес атаманскую булаву на кухню.
— На какую кухню? — не понимала жена.— Сиди, ради бога. Зачем тебе ця булава? Чи ты Бабыча согнешь? У него погоны жирные.
— Он меня в строй льготных конвойцев не поставил, он меня за пояс запхнул, побоялся, шо я царю на ухо шепну, как у нас жалобы по годам лежат без движения. Не нужен стал казак Лука. Нужен был, колы в крови от бомбы лежал на мосту? Нужен был, колы в плавнях сидел мокрый? А когда слово за обедом говорить перед Воронцовым-Дашковым — нужен был? [292] Рубаю, как секирою, и всякое слово в дело, не боюсь ни тучи, ни грому. Господи, дай же мне маленько... та где ж мои штаны, козочка?
— И вода уже нагрелась, попарился бы, куда ты поскачешь?
— Может, последний раз дотолкнусь, погляжу на царя,— я ж у его батька как нянька ходил. Ему было, наследнику, годиков семь, и так он мне, чертенок, надоел: бежит мимо и крикнет: «Здравствуй, братец!» Я на посту. Пока ему отвечу по всем правилам, он бежит уже назад и снова: «Здравствуй, братец!» Да иной раз по целому часу так мучил. Зато когда кто приходил к нему (уже постарше был), то, бывало, примешь у него шинель, а он за это жменю серебра мелочью мне, иной раз больше рубля. Или он забыл казака Костогрыза?
— У него вас много таких...
— Ач! Тихо. Где серебряная шашка от него за турецкую войну? И конвойский мундир.
Пришествие царя в станицу застало врасплох все начальство. Пока атаман советовался с обществом стариков, кому подносить хлеб-соль, кто-то побежал за ключами от церкви к настоятелю — церковь была заперта. Старики в один голос постановили: хлеб-соль должен подносить Лука Костогрыз. Но атаман, затаив на него зло со дня выборов, заупрямился. Старики погнали своего скорохода в хату Костогрыза. Запихав прошение под бешмет, Лука впритруску выскочил со двора.
Ах, не та доля стала у репаного казака! Атаман напрочь отстранил Луку от подношения блюда с хлеб-солью. И, видно, заручился поддержкой у Бабыча. Ах, начальники чертовы, бисовы души. Где те простоватые черноморские казаки-лебеди, что пришли по воде, проплыли по земельце в лубяных сидельцах, пили дорогою горилку с маком и ели пироги с таком? Не снимут шапок с бритых голов и не моргнут усом. Все прошло, все заросло новыми порядками. Эти зачванились. Побороли Луку? Но не тот казак, что поборол, а тот, что вывернулся.
«А шо! Удастся нашему телятке волка задрать? Сто чертей вам в задницу!»
Хорошая речь уже навернулась на ум:
«Да позволено будет мне, семидесятилетнему молодому человеку, от лица детей Кубани чистосердечно пожелать вам, ваше...— Тут он перебрал свои самодельные стихи и остановился на том, который читал еще и тридцать и двадцать лет назад женам наказных атаманов, покидавших область Кубанскую.— Не знайте в жизни дней ненастья, цветите сердцем и душой, и пусть судьба цветами счастья вам посыпает путь земной...» Слаб человек, обида мигом прошла, и Лука воображал перед собой благодарное лицо государя и восторженную толпу, в кругу которой он был опять тем же героем, что в старые добрые времена молодости и почетной службы. Слова потекли. — Государь! Посещением своим окраины необъятной России и сегодня нас, кубанцев, вы воскресили нашу казацкую жизнь. [293] Наши деды и отцы дружно поили своих лихих коней в водах от Сены до Евфрата и от Дуная до стен Константинополя. Да будет так и ныне! Как бы царю-батюшке угодить, верой и правдой послужить? — Лука передохнул, оглянулся, никто его не слышит.— Кубанцы! Возблагодарим от искреннего нашего казацкого сердца государя императора! Пью бокал, ваше величество, за ваше здоровье — и гаркну: «Ура-а!»
«Шось я болтаю? — осекся Костогрыз.— Какой бокал? Мы ж не на завтраке. Тьфу! Разтакую мать! Сивая моя головушка! Привык, привык почитать власть. А она меня?»
У хаты Турукало висли на деревьях малолетки. Толпа давилась; лезли к забору и вскоре повалили его. Хатка у Турукало была длинная и маленькая, еще меньше, как в клетушке, была дверь, так что даже нерослому царю пришлось, видно, сгибаться. Они жили бедно, казак был на турецком фронте, дома старая мать да дочка с мальчиком. Дочка, завидев, как во двор наступают чины с погонами, с переполоху побежала и закрылась в уборной. Мать месила тесто и стояла перед большими господами виноватая. Царь (потом рассказывали) погладил по головке маленького мальчика и спросил: «Вырастешь, пойдешь, казак, ко мне в конвой? Ваша гордость. Можете рассчитывать всегда на мою поддержку. Надейтесь на меня как на каменную гору». Мать без конца приглашала садиться и извинялась, что ей нечем угостить — тесто еще не подошло, а то б пирожков подала.
«У меня ж и мед есть,— думал Костогрыз о том, как бы он принял,— и рыбка сушеная, и вареники бабка б такие сделала! Чего их повели в первопопавшуюся хату? У них семь дочек, без земли жили, никогда хлеба не хватало. Нема головы у атамана. Не знают на кого темляк и шашку надеть».
— Будет общество забор ставить! — крикнул сапожник, дурачок Приступа с мокрыми руками, которыми он сгребал с подбородка слюни.— Атаман поставит.
— Гляди...— сказал Костогрыз.— Наш атаман поставит. Наш атаман в своем дворе убил из револьвера чужого гусака, сжарил и сам съел.
— Девушки, голубушки! — завопил Приступа.— Люблю вас, люблю вас. Как летела моя курка мимо вас, мимо вас.
— Иди, Приступа, иди.— Костогрыз оттолкнул его.— Иди сапоги сшей царю-батюшке. Успеешь. Пока он вареников у Турукало попробует, ты и сошьешь.
— Нехай сперва царь-батюшка подивится на меня. Я ему словечко скажу. И возьму его руку и погадаю, от чего ему смерть будет.
— Та пропустите его,— сказал толстый урядник,— ему уже сорок годов.
— Ну и шо, як сорок,— ответил Приступа невозмутимо,— а все равно ще малый.
— Малый! Пудовую гирю поднимаешь. [294]
— Пуд не пуд, а сорок фунтов будет.
— Просись в действующую армию. И чин офицера. Вернешься с Георгием.
— Цыц! — успокоил Костогрыз.— Не иначе выходят...
Но пробиться к царю не было никакой возможности.
«Куда он, атаман, опять их повел? — Костогрыз привстал аж на цыпочки.— Нашему атаману конец, нехай другой штаны полатает. Чайник привяжем. К Морозу повел. Там поминки готовят, с кладбища вот-вот будут».
Костогрыз вдруг прослезился. Наверно, просрочил он свой век на земле. Полой водой сошли с нивы жизни все те, кто был ему примером, и никого вокруг похожих на них больше нет. И сам он со своим старым рыцарством никому не нужен. Зачем ему было лезть в толпу несмышленых, раболепных, чопорных? Запрячь лучше линейку да поехать к дряхлым товарищам в Васюринскую — оно слаще будет.
«Скажу сейчас бабке, шо поплыву в Иерусалим ко гробу господню. Да куда! — уныло вспомнил он.— Война. На Новый Афон разве?.. Война. Жизнь прожил и мира не видал...»
В поезде царь писал жене ответ:
«Моя возлюбленная душа Солнышко,
мне кажется, мы так давно разлучились! Сегодня у меня первый свободный день.
Мы едем по живописному краю, для меня новому, с красивыми высокими горами по одну сторону и степями — по другую. Со вчерашнего дня сильно потеплело, и нынче чудесная погода. Я долго сидел у открытой двери вагона и с восхищением вдыхал теплую свежесть воздуха. На каждой станции платформы битком набиты народом, особенно детьми; их целые тысячи, и они так милы в своих крохотных папахах на голове. Конечно, приемы в каждом городе были трогательно-теплые. Но вчера в Екатеринодаре, столице Кубанской области, я испытал другие и еще лучшие впечатления,— было так уютно, как на борту, благодаря массе старых друзей и знакомым лицам казаков, которых я с детства помню по Конвою. Разумеется, я катался на моем автомобиле с атаманом, генералом Бабычем, и осмотрел несколько превосходных лазаретов с ранеными Кавказской армии. У некоторых бедняг отморожены ноги. После лазарета я на минутку заглянул в Кубанский женский институт и в большой сиротский приют, все девочки казаков, настоящая военная дисциплина. Вид у них здоровый и непринужденней, попадаются хорошенькие лица.
Скажи Ольге, что я много думал о ней вчера в Кубанской области. Великолепен и богат этот край казаков. Пропасть фруктовых садов. Они начинают богатеть; а главное, непостижимо, чудовищное множество крохотных детей-младенцев. Все будущие подданные. Все это преисполняет меня радости [295] и веры в Божие милосердие; я должен с доверием и спокойствием ожидать того, что припасено для России. Еще раз повторяю: все наши впечатления восхитительны. То, что вся страна делает и будет делать до конца войны, весьма замечательно и огромно.
Но, любовь моя, я должен кончить,— целую тебя и дорогих детей горячо и нежно. Я так тоскую по тебе, так нуждаюсь в тебе! Благослови и сохрани тебя Бог!
Всегда твой муженек Н и к к и.
Поздравляю тебя с наступающим Георгиевским праздником!» [296]
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
В своем письме в Екатеринодар упоминала царица о Толстопяте неспроста — в Феодоровском лазарете в Царском Селе снова его увлекла знакомая нам мадам В.! Он увидел ее в окно. Она была в изящном манто, в шляпе из черного бархата. Все так же, как раньше, она готова была пользоваться счастьем не совсем открыто, с маленьким риском попасться на глаза мужу, знакомым.
«Хоть и говорят,— думал Толстопят в первые дни,— что la soupe rechauffee ne vaut rien1, но легко простить ту, с которой когда-то хоть немножко был на седьмом небе. Не во сне ли она явилась мне? Она ли это?»
В палату мадам В. вошла в одеянии сестры милосердия. Красные кресты на рукаве, на шапочке, на груди и белизна халата чудесно преобразили ее: как будто с мехами оставила она там, за дверью, где переодевалась, все грешные помыслы, всю обольстительную жизнь свою и пришла воистину сострадать, выхаживать, любоваться героями. Большинство посетительниц-патронесс мелькали в палатах словно затем, чтобы произнести несколько сочувственных фраз, которые, как положено думать, должны воодушевлять больных. У Толстопята все спрашивали: «Вы женаты? Ах, ну так мы вас женим!» Фразы, toujours des grandes frases2. Царица тоже имела обыкновение навещать лазареты. Едкое остроносое лицо ее становилось приветливым; она касалась больного рукой, склонялась, крестила ему голову, а собиравшимся снова на фронт дарила пояски с молитвой св. Серафима, которые носили солдаты в японскую войну и оттого якобы не были убиты. Мадам В. сопровождала царицу, стояла за ее спиной и на первых порах ничем не выказывала своего интереса к Толстопяту. Глазами она поздоровалась с ним, улыбнулась и как бы пообещала что-то. Толстопят отвечал на вопросы царицы, но каждую секунду чувствовал, что мадам В. слышит его. Когда царица отошла к другой койке, мадам В. приблизилась к подушке Толстопята.
— С Западного фронта? А были на Кавказском. Я все о вас знаю... Вас, кажется, можно поздравить с Георгием?
— Принимаю с благодарностью.
--------------------------------------
1 Вчерашний суп ничего не стоит.
2 Всегда одни фразы. [297]
— Поздравляю даже трижды. Нет, четырежды, чтобы в будущем вам дали все четыре степени.
— Принимаю и четырежды кланяюсь.
— А вы все так же милы, друг мой...— сказала она потише.
Взгляд намекнул ему на темные ночи любви в Петербурге и сцепил его с красавицей надеждой на тайну. Но теперь он был немощный казак, пострадавший в боях. Его надо было жалеть. Вдали от дома и товарищей по полку ему нужна была чья-то ласковая рука.
— Поправляйтесь... Я приду еще...
Неужели она правда воскресла в любви к нему? — так нежна, заботлива была она с ним в поздние дни выздоровления. Истосковавшийся по женщине вояка был благодарен за каждое доброе слово и кокетливый взгляд. Он теперь был зависим от мадам В. гораздо больше, нежели в часы парфорсной охоты в 1910 году. Все нити общения она держала в своих руках и как бы говорила: ну! где же ваша казацкая прыть? Когда ему стало легче, они каждый вечер гуляли по Боболовскому парку, и Толстопят показывал, где казаки его сотни занимали 4-й пост, 17-й и где однажды Дионис Костогрыз в воротах № 9, недалеко от 14-го поста, взял под уздцы лошадь наследника Алексея, ехавшего в санях с доктором и няней и едва не столкнувшегося с автомобилем Суворина-сына. Хотя возвращение в Царское Село на лечение было грустным, хотя в первые минуты кололо сердце от воспоминаний о позорном прощании с конвоем, о скитании по чужой Персии, уже вскорости Толстопят ни о чем не жалел. Что было, то было, и главное — его пощадила пуля: он не убит и опять видел то же, что раньше. Может, права его сестричка Манечка: он родился в рубашке! Его могли отправить на тот свет еще по дороге в Персию. Куда только не закидывает судьба кубанского казака! Где только его нет?! Зачем ему нужна была Персия? Едешь, едешь — то вдоль узкого русла горного ручья, то по долине с грудами камней, то берешь перевал, виснешь на краю пропасти (из темных ущелий ползет туман, холодно и сыро) — где ты, кто тебя помнит? Вначале изредка попадались разгонные почтовые станции — помещения с двумя деревянными диванами и табуретками, с картинками на стене да с книгой жалоб на длинном шнуре, припечатанном к подоконнику сургучом (а часто и хлебом). Тут еще, поблизости от русской границы, жена ямщика напоит молоком и намажет масло на хлеб. А потом по чарвардарской дороге все реже встречаются караван-сараи: сзади Россия, впереди Персия. Вот и персы в цветных длиннополых зипунах нараспашку (вроде наших извозчичьих кафтанов), на головах высокие черные барашковые шапки с государственным гербом, в руках палки — знак власти и служебного положения. Вот уже и грязные улицы, ханэ — дома с куполообразными и плоскими крышами, без окон, вместо дверей — узкие низкие дыры, кругом навоз. Слышится странное монотонное пение. По крыше разгуливают персы и тянут свою [298] вечную молитву, поворачиваясь при этом во все стороны. Так вот он какой, золотой Восток! Поневоле вздохнешь и о Царском Селе, и о богоспасаемом граде Екатеринодаре. Загнала его коварная мадам В. в гибельную ссылку! Что ей казак? Его заменит улан. А казака зарежут бахтияры, и не скоро дойдет весть о том на Кубань. Дорога казалась бесконечной, вокруг дикий вид: ни кустика, ни зверя, ни птицы. Фарсах (английская миля), еще фарсах, еще. Как в анекдоте: собрался перс в дорогу, намотал на ноги онучи, обвил их веревкой, закурил трубку и пошел мерить землю. Вдруг веревка перервалась, сел перс перевязывать онучи — фарсах прошел! Что ей, мадам В., казак, где он скитается? Ей все равно. Вот впереди движутся серые кучи — то идут ослы, навьюченные саманом. Вдали, значит, караван-сарай, чайханэ. Сюда бы мадам В. В вечно не чищенный с круглыми башнями по углам и по стенам караван-сарай. «Газыр чай вар? (Есть горячий чай?)» — спрашивал Толстопят у сидевшего на кошме перса с плетенным из камыша веером. В такой земле еще оставить свою голову? И чуть не оставил. В караван-сарае села Кохруд едва его голова не свисла на плечи. Их было четырнадцать человек: десять казаков, две женщины с детьми и чарвардарцы, ехавшие с ними в Исфаган. Караван-сарай был у самой дороги, в котловине, и все жилища стояли по склонам гор. Они выставили русский флаг и легли почивать. В двенадцать часов дня горы и крыши жилищ заняли люди какого-то Машал-хана, у которого бахтияры украли сына. Закрылись ворота; персы направили свои ружья на казаков и сказали, что будут сообщать в русскую миссию и просить похлопотать за сына. Если не помогут, казаков постреляют. И все бы так и случилось, но спасло их провидение: прибыл исфаганский консул.
Война вернула его в Царское Село.
— Не зря душа моя так тосковала по тебе,— ластилась теперь мадам В.— Но разве я стою одного твоего мизинца?
— Но и ты тоже что-то пережила за эти годы.
— Да-а,— неохотно соглашалась она.— Господь умудряет младенцев. Боже избави меня теперь умиляться речами, ужимками, вроде: «Нельзя ли поцеловать эти пальчики в перстнях?»
— Разве я тебе такое говорил?
— Я не о тебе.
— А мне можно все-таки?
— Я буду счастлива.
— В Петербурге научат всему. И — amour de ligre.1
— Вы, мужчины, чему не научите! Как это досадно, что нас, женщин, не берут на войну!
— Почему же? — Толстопят был как-то хмур и строг с ней.— Наша казачка Елена Чоба из Роговской станицы бьется в мужской гимнастерке. Георгия получила.
--------------------------
1 Жестокая любовь. [299]
— Одно и слышу здесь от конвойцев: казаки, казачки. Ну что в вас такого? — И она, чтобы исправиться позаметней, приставила свою ладошку к щеке Толстопята, нежно потерла ее, но Толстопят отвернулся.— Полно, полно хмуриться, казак Толстопят. Женщина его любит, а он морщится. Прости меня.
На следующий день гуляния в Боболовском парке Толстопят впервые после разрыва поцеловал ее.
Царица, фрейлина А. с костыльком и мадам В. устраивали в лазарете посиделки, приглашали в комнату и Толстопята с товарищем. Война, Георгиевский крест списали с Толстопята злополучный конвойский грешок. У царицы были еще два любимца-офицера (оба кубанские казаки), о которых она даже пеклась в письмах на фронт к своему Никки.
Царица по обыкновению что-нибудь вязала, потихоньку сплетничала, а Толстопят с товарищем играл в карты. Толстопят виду не подавал, что слышит, кому дали орден, как поживает императрица Мария Федоровна на Елагином острове. Куда не вознесет на легких крыльях любовное родство с женщиной! Никакие воинские подвиги, никакая слава не поставили бы его рядом с теми, кто самим родом своим выше его на сто голов. Недаром же бабушка его думала, что царские дети не могут играть в песочек подобно казачатам, а слепой звонарь из Тамани дивился, что царь ест лук и чеснок. Между тем хотелось поскорее выздороветь и уйти на фронт. Пусть они обсуждают, как им властвовать, быть ли царю Иваном Грозным, Петром I, являть силу или милосердие. Участь казака — рубать шашкой. Мадам В. виновата, но это ненадолго, он ее не любит уже, хитрит с ней, греется возле нее в своем лазаретном сиротстве.
Царица порою вздыхала:
— У меня все дни расширено сердце. Трудно быть счастливее, чем мы были. Ночи так тоскливы. Мне, когда гляжу я на нашу Ольгу, тревожно: что ее ожидает? Ах, какие испытания посылает бог нам. Жизнь же великая тайна: то ожидают рождения человека, то опять ожидают отхода души. Какое было холодное лето, когда родилась моя Мария! До этого у меня были ежедневные боли. Спала плохо. И сейчас плохо сплю, засыпаю после трех, а вчера после пяти; лежу и думаю: что нас ждет?
— То же, что и Россию. Война скоро кончится. Зачем гадать?
— Лучше предугадывать события, чем просыпать их. Мы должны передать беби сильную страну. Как давно, уже много лет, говорили мне то же: Россия любит кнут! Это странно, но такова славянская натура. Никки очень добр.
— Бог поможет,— пусто утешала ее мадам В.
— Бог над всеми, но я боюсь, что нам придется пережить еще много страданий. Вокруг нас гнездо вранья. Представь себе, О. дала мне честное слово, что никогда ничего против меня не говорила, а старая княгиня утверждает, что говорила, а князь передавал грязные сплетни в Ливадии обо мне своему другу Эмме. Во всем видно масонское движение. [300]
— Колокола звонят...
— Я очень люблю эти звуки,— у меня в комнате окна все раскрыты. Вчера в церкви было чудесно, много народу причащалось: солдаты, три казака. Толстопят, вы нас слушаете?
— Боюсь сказать, ваше величество...
— Никки очень любит кубанцев. Казачки красивее наших петербургских дам?
Толстопят на мгновение замялся: выгодно ли сказать правду? Может, лучше угодить? Но натура: а вот и скажу!
— У казачек наших совсем нет живота, ваше величество. Грудь высокая, но живота нет. Это у кацапок: тут ничего, тут ничего — и вот такой живот!
Царице-немке это очень понравилось.
— А все-таки мы Толстопята женим!
— Ни за что, ваше величество. Мне воевать. Жена ждать не станет.
Захотелось рассказать побрехеньку, но опять он съежился и замолк. Потом махнул рукой.
— У нас в старое время, когда еще на кордоне сторожевали, такой случай был. Сидят в плавнях, скука, тоска, пьют горилку, салом заедают. Один урядник возьми и похвались: моя жинка целые дни обо мне плачет, а убьют — с ума сойдет. Поспорили и написали записку жене, что урядник убит, «ожидаем вас, чтобы слить наши слезы в одну урну печали».
— Жестоко,— сказала мадам В.
— Так то ж побрехенька. И послали с казаком. Вернулся. «Шо ж ты — отдал барыне? Плакала?» — «Может, плакала, но я не видел, только слышал, как она приказывала, шоб порося резали. А колы заехал со своего хутора ще раз, то на дворе вашем было много купцов, скотину покупали. «Скажи,— говорит жена,— сотнику, нехай, шо после пана осталось — в город пришлет, я еду жить в Екатеринодар». И уже на возы скрыни складывают. «Чего ж ты, сто чертей твоему батьку, не сказал, шо пан живой?» — «Как приказали. Назад воза не повернёшь».
— А что такое «сто чертей твоему батьку»?
— Ругань.
Царица хмыкнула: побрехенька ей показалась пустой.
— Многовато чудес на вашей Кубани.
— Ну! Индюки были такие здоровые, что как зарежут, бывало, одного, так добудут с него три дежки сыру, коробку масла та сотню яиц.
— И глупостей немало,— сказала царица.
Больше Толстопята в отдельную комнату лазарета не звали, но мадам В. встречалась с ним ежедневно.
С Кубани от Манечки, от Бурсаков шли письма, оповещая о раненых и убитых соседях, о том, что отец покупает свежие газеты, мать вяжет носки на турецкие позиции, и еще о том, как пленный австриец, настраивая у мадам Елизаветы Бурсак фортепиано, сыграл для пробы победный австрийский марш [301] и никто не возмутился. Что было казаку вылеживаться в Царском Селе?
Ему дали короткий отпуск на Кубань.
Прощались они с мадам В. в ресторане Кюба.
Шариком остриженные гарсончики бесшумно хлопотали, как и до войны.
— Вы нам подадите,— сказала мадам В.,— бульон из ершей и дьябли с пармезаном. Велите только не пережаривать сухарики и нарезывать из одного мякиша. Да-а, пармезан взбить с яйцом, и только немножечко кайенского перца. Потом... есть камбала?!
— Камбала, устрицы, омары, лангусты ежедневно поступают из-за границы.
— Ну и прекрасно. Или, Пьер, может, соус трюфельный с шампиньонами?
— Мне все равно.
— А может, по котлеточке Мари-Терез? Только, пожалуйста, без дурацкого фарша, а просто разрезать крыло пулярды вдоль, вложить туда тонкий пластик паштета, затем уж обвалять в маленьких сухариках и — в кипящее масло. Будете любезны? А филейчики тогда не надо.
— К котлеточкам что подать?
— Зеленого горошка по-английски.
— К десерту?
— Дюшес и мускатного винограда.
«Война,— думал Толстопят,— а Петербург все тот же...» Все так же, как тогда, в 1911 году, съезжались поздно, после театра, повидать друг друга господа, собрать компанию, чтобы потом поскакать куда-то дальше за город. «Война, братья наши на сырой земле мерзнут,— осуждал Толстопят всех подряд,— а им подай воздушных пирогов...» И он тоже уступал мадам В. потому только, что хотелось напоследок повторить минувшие мгновения и провести ночь в особняке.
— Теперь из гостиных и дворцов жизнь vraie societe1 перебралась сюда?
— Жизнь никогда не теряет свое лицо, мой друг.
— В конвое танцы около казармы кончились. А тут — как до войны. Наши казаки в бою.
— Опять «наши казаки»! Нельзя обо всем судить по казакам.
— Я виноват, что родился казаком?
— Но ты же сейчас со мной...
Он глядел вокруг с раздражением. С лукавым задором велись прежние речи о водах, о чьем-то хлебосольстве, о кружевах, шляпках и уборах, marques au coin du gout le plus pur u le plus distingue2, вспоминались чья-то безупречная tenue3 в свете, величавость приемов, вызывавших одобрение самых
-------------------------
1 Настоящее общество.
2 Отмеченные самым чистым и изысканным вкусом.
3 Манера держаться. [302]
collets montes1, и шепотом вопрошала какая-нибудь tete ardente2: «Есть ли счастье?» — и звучали вялые ответы: «Счастья нет; есть только известное состояние духа, как говорится, при котором тебе только менее скверно, чем обыкновенно», и тот же пылкий голос возражал: «Ты, видно, никогда не любила...»
А там, на фронте, скачут по полю лошади с порванными постромками, из разоренных деревень бегут спасаться в леса женщины с младенцами на руках, на перевязочный пункт приходит старушка с обуглившимися руками. Там в лесу стоят замаскированные австрийские пулеметы. Атака! Придется ли вернуться?
То звонко топает конница, тянутся в несколько рядов обозы с провиантом и фуражом, то бегут лазаретные линейки, скрипит щебень под колесами орудий, то медленно, влекомая четверкой дохлых от старости лошадей, тащится щегольская карета с подвязанными к задку чемоданами и корзинами, и в запотевшие окошки глядят лица женщин, то вдруг покажется из-за поворота огромная, как Ноев ковчег, фура с пожитками, и еврей тихим шагом идет рядом, держа в одной руке вожжи, в другой лампу, за ним семенят дети мал мала меньше. И тоже видна везде жизнь. Но какая? Спешат занять фланги отряды, мечут искры походные кухни на привалах, и толкутся бабы у сеней уцелевших хат. Вокруг валяется по межам и канавам черт-те что. Какая-то бляха. Лоскут конверта с иностранным штемпелем. Продырявленный чайник и разбитое зеркальце. Из корявых веток крест над свежей могилой, венчик из ельника. Стонет, кажется, сама тишина по полям.
Ты лежишь в дальней дали бесконечного поля, тебя бросили, ты один. В овраге хрипло ссорится воронье. Когда Толстопят очнулся, приподнялся на локте и взглянул на потухающий закат, обиженно подумалось опять, что его забыли, и он бессильно заплакал. Еле-еле, опираясь на шашку, встал на ноги, пошел к густым кустам. Далеко-далеко где-то выли волки. И счастье его было в тот день в том, что на него вскоре наткнулся казачий разъезд.
— Какие густые усы у кавалергарда,— сказала мадам В.
Из хрустального кувшина с желтым соком Толстопят налил себе немножко и отхлебнул. Мадам В., разглядывая издали кавалергарда, нисколько не завидовала даме, которая была с ним, она втайне гордилась своим казаком, с которым была уже когда-то в самой близкой связи. «Вам не понять,— могла бы она возразить высокомерным,— вы не знаете, как он пленяет, когда мы одни...» Она взяла бокал и томительно подождала, когда Толстопят поднесет свой — чуть слышно торкнуться.
— За тебя, Пьер... за твою дорогу домой. И за Царское Село!
-------------
1 Чопорных.
2 Пылкая головка. [303]
— Благодарю тебя, моя сестра милосердия,— сказал Толстопят игриво. Глазами, движением губ она выразила ему свою любовь.
— Я и правда хотела быть тебе сестрой. Я справилась?
— Отменно.
— Ты не думал, что я могу?
— Не думал.
— Я старалась ради тебя. Государыня часто говорила: «Ну, тебе пора уже к своему Толстопяту. Благословляю».
— Разве она не знает, за что меня исключили из конвоя?
— Могла и позабыть.
— Ну и слава богу.
— Мы не знаем, что с нами будет... Да? Одна госпожа Тэб предсказывает: русскую армию ждут торжества; над головами твоих казаков на турецком фронте она видит сияние. Причем крест будет воздвигнут на иерусалимских высотах. Русские возьмут Дамаск.
— У нас в станицах бабки лучше гадают.
— У вас! У вас, ты говорил, цыгана приняли за архиерея...
— У нас сидит на хате старый дед без штанов, а голые ноги со стрехи свесил. Баба под ним руки растопырила и держит штаны. «Бабка на старости лет штаны мне пошила, так не доберем толку, как их надеть».
— Казаки смешные. Ты куркуль? Опять ты скоро будешь в грязи, в снегу. Мне жалко тебя. Где мы теперь увидимся? Я дам тебе на шею кипарисовый образок мученика Иулиана. Никогда не снимай с себя этого образка. Никогда.
— Никогда! — сказал он.
— Появится на небе белая звезда, она раз в столетие бывает. Знаешь? — аллах превращает женщину, которая сама не знала, чего хотелось, в белую звезду. Взглянешь на нее — теряешь вкус к жизни.
— А ты не гляди-и... Гляди на кавалергардов.
— Противный казак!
— Тебе надо было родиться персиянкой. Ткала бы гильдузи — застилать пол. А? Жила бы на Востоке? Роскошные сады вокруг стен; дворец древних владык, купол кажется окаменевшей влагой, звезды отражаются. Ты умащиваешь свое тело мазями. Хотела бы?
— Благодарю. Я хотела бы уснуть с тобой в Тамани, в той хатке звонаря слепого, где ты красовался в своем мундире перед какой-то Шкуропатской. Наше счастье с вами. Воюйте и возвращайтесь. Боже, спаси Россию, сохрани ее крепость духа. Еще, кажется, недавно был мир, я ездила в Москву на грандиозный бал. Тысяча двести приглашенных. Съезд в десятом часу. В аванзале роскошно сервированный буфет с чаем и фруктами; тут же ледяные глыбы для прохладительных напитков. В Синей гостиной царские портреты. В Оранжевой — чай. После [304] танцев в первом часу ночи богатый ужин. Кого там только не было!
— И ни одного казака!
— Разумеется.
— Я в это время глотал пыль в Персии.
— Из-за меня... Прости...
— Ради бога,— сказал Толстопят, и сказал с легкостью, потому что его ожидала роскошная ночь с нею. Мадам В. наклонилась к нему через стол:
— Можно я тебя спрошу? Можно?
— Можно я тебя спрошу?
— Сколько угодно.
Толстопят помолчал.
— У тебя был кто-нибудь после меня?
Мадам В. соображала, говорить или нет.
— Был...
Странное дело: Толстопяту, пока она собиралась с духом, хотелось надеяться, что мадам В. горевала без поклонников. По какому праву она должна была страдать за него? Он не рассуждал. Так легче душе, так что-то остается в ней вечное, обманчиво-прекрасное, ведь у него никогда такой женщины из чужого мира не было и не будет. Но он быстро успокоился. Что делать? Никто никого не ждет. Только казачки ждали своих мужей из плавней, походов, с турецких и японских войн. А чего было не сгорать в огне страстей мадам В., когда они так скверно испортили свое начало и скверно расстались?
У мадам В. горело лицо, но не от стыда, а от волнения и воспоминаний.
— Но я во всех церквях ставила свечки за твое здравие.
— Спасибо.
— Почему ты спросил?
— Я в Персии вспоминал тебя.
— И долго у тебя это будет продолжаться?
— По-моему, все кончилось. Если из-за любви стреляться, мало кто в живых останется.
— А твой друг Бурсак счастлив? Он ее любит?
— Они живут плохо, по-моему. Дементий Павлович слабый человек. Он сердится и быстро прощает. А быстро прощать женщинам нельзя.
— Ой ли?
Толстопят решил схитрить и промолчал. Впереди была блаженная последняя ночь с мадам В. Может, его осенью убьют где-нибудь под Сарыкамышем,— зачем же он будет портить себе часы расставания? [305]
У ОТЦА С МАТЕРЬЮ
«Господи боже...— шептала Манечка перед сном накануне приезда брата.— Прости меня за то, что я не хотела грешить, да ничего не исполняю...» На столе лежал ее дневничок. Она переписала туда стихотворение великого князя, в прошлом году погибшего в бою, и теперь учила его наизусть, чтобы в конце марта на благотворительном вечере в честь воинов прочитать всем. Первые десять строк она уже знала. Отец с деревянным стуком подошел к постели, спросил:
— Чего ты бормочешь, дитятко?
— Учу стихи.
— Ото ще! Из стихов брюк не сошьешь. Спи.
— Ладно, папа, я усну.
В темноте она повторяла еще раз последние строчки:
...И вновь зовет к себе Отчизна дорогая,
Отчизна бедная, несчастная, святая,
Готов забыть я всё: страданье, горе, слезы
И страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы
И самого себя. Себя ли? Да, себя.
О, Русь, страдалица святая, для Тебя.
«О боже,— вздыхала Манечка, зарываясь в подушку,— и уже убили... И наших братиков кубанских побило сколько. Скорей бы до Трапезонда дошли. Не забыть завтра к Шкуропатским зайти — что от приюта будем посылать на фронт? — Зажгла свет, ткнула в Евангелие пальцем, и ей выпало: «...чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни...» — Да, я уже получила, и я живая, а там? А братику Пьеру еще что предстоит? Скорей бы он ехал к нам! Уж папа сколько раз надевал черкеску и ждал на углу. Братик мой шалопутный. Завтра свечку поставлю. Ой, и билеты еще по дворам распространять, на меня собаки лают! Зашла к мадам Бурсак, а у нее сибирские коты за столом и все кушают из блюдечка... Устаю. Но ведь правда говорится в писании: «...понеже сотворите единому из сих братии моих меньших, мне сотворите...» Спать... Папа ему невест приглядывает: Георгиевский кавалер, кончится война — все равно женится... Спать...»
Ей снилось: Пьер открыл ворота и въехал во двор, посвистывая на быков. «Ось як мы к вам приехали! — кричал он с дрог.— Ну а теперь як же мне с дрог добраться до вашей хаты?» — [306] «Доски сейчас положим,— сказал отец и захромал к сараю.— «Ото та-ак. Сейчас видно — администрация!»
— Манюша, вставай, братик приехал!
Широкоглазый Пьер стоял над ее постелью, а матушка бросила к изголовью халат. Манечка, чтобы брат не видел ее пухлого лица, закрылась рукой и сказала:
— Поцелую тебя в Георгиевский крест. Я тебя во сне видела. Тебя Терешка вез? Мы его предупреждали, что вызовем.
— Почему ты все, моя шалунья, только нас во сне видишь? Неужели в Екатеринодаре мало кавалеров?
— Хорошие-то воюют. И никто не берет.
— Тебе нужен казак, который бы на полном скаку с земли носовой платок брал?
— Мне нужно, чтобы я его любила.
Отец, из-за всякого пустяка повышавший голос, закричал из другой комнаты:
— Она у нас архиерея ждет. Чего она там понимает? Любовь! Любовь — ее за пазухой, около титек, долго носить не будешь. У твоей матери дед какой был? Уйдет к любушке на неделю, а жена должна встревать его за два квартала. Раз не встретила, так от страха залезла на дерево. Любовь.
— Когда любят, к чужим не бегают, папа,— сказала Манечка.
— Ну и сиди. Ты не дочь золотаря, я за тебя двадцать пять тысяч приданого давать не буду.
— Завелся, завелся наш батько, — вышла успокаивать мать.— Он не может.
Отец усовестился перед сыном-героем и замолк. Манечка оделась, умылась, выпила молока и в комнате обняла брата, да так и не отпускала, покачиваясь вместе с ним из стороны в сторону.
— У тебя ничего не болит? Ты опять был в этом Петербурге? — Она прищурилась, подумала, наверно, о той женщине, которая погубила три года назад ее братца. — Ты ж мой братик, — поцеловала она его, — ты ж мой роднулечка. Папа как тебя встретил?
— «Ну подойди до меня, бисова душа, чи правда ты храбрый казак?»
— Он жда-ал тебя. На маму: «Смотри мне, бисова душа, шоб тесто было готово». Каждый день пироги пекли. И настойка всегда на столе. А я серебряный стаканчик получила. За усердие.
— И медаль получишь, если будем долго воевать. Все такая же худенькая. Одни косточки.
— Мой братик... Страшно там? Много турок убил?
— Не знаю.
— Говорят наши дамы: нынешняя война есть война за мирную цивилизацию. Разве страдание может быть мирно?
— Я себе голову этим не забиваю.
— Та свисни ты с его! — прикрикнул отец.
— Садитесь уже, — позвала матушка. — Все готово. [307]
— Мне уже бежать надо, — сказала Манечка, — фургон наш ждет, наверно.
— Кого ждет жених, а Манечку нашу фургон.
— Врачевать увечных и недужных — мое призвание.
— А ранняя пташка росу пьет.
— Выходить замуж a tout prix1? Хоть за лавочника? Продавать подсолнухи с ним? Здесь лежал один сотник. Я еду, говорит, на фронт, получу полковника и женюсь на вас. В первом бою погиб. Четыре чина, говорил, получу за храбрость.
— Ну идите, идите! — толкала их мать, — Борщ свежий.
— Сколько раз звать? — сердился отец. — А ты чего как лисица хвостом машешь? — на мать. — Чего-нибудь с погреба нам давай. Наточи в графин. Хоть языком лизнуть цю заразу. Как поднес мне сорок лет назад атаман чарку на площади, с тех пор я и не пил.
Так было в их семье в марте 1915 года, когда Пьер из виноватого и грешного стал гордостью и опорой старой фамилии. От этой домашней радости отцу казались теперь все милыми и хорошими, даже городской голова, которому еще вчера он не давал спуску.
— Я ж, сыночек, и на базаре всем рассказываю, за шо тебе крест дали, — сказал старик со слезами, чокаясь с сыном. — В нашу породу.
— Ото... — сказала матушка и сама заплакала... — Ото и радости... шо живой.
— Отдыхай, казак... У нас тихо. Бабыч запретил увеселения, и елок на Новый год не ставили, маскарады отменили, — ни визитов с поздравлениями, ничего. Оно правильно: надо в молитве проводить дни. Так! До Бурсака сходишь, и ладно.
— Съездим в Панский кут! Чай подадут целым самоваром. Отвык.
— У Бурсака малышка умер, знаешь? Калерия плачет день и ночь.
Отец, не любивший чересчур козырявшего своим адвокатством Бурсака, перебил Манечку:
— Ну а в Петербурге ярмо чи хомут не нашел себе?
— Нашел, батя,— смело ответил сын.
— А ну! шо за краля? какого роду?
— Княгиня!
— Тогда бери в сарае веревку и вешайся! Опять скрутила та змея?
— Я их никого не люблю. Я женюсь на казачке.
— Тут есть одна. Ох, она хорошая, со всех сторон хорошая, но не казачка.
— Дай бог кончится с немцем,— сказала матушка,— подберешь себе друженьку по летам. Нехай она будет не богата, но мягкосердечна, а не такая крикуха, как у Бурсака.
--------------------
1 Любой ценой. [308]
— Калерия? Она же добрая.
— Была добрая, пока мать на руках носила. Хвост закрутит — и бегом со двора.
— Он ничего мне не писал.
— А и не час теперь с бабою сидеть,— прикрыл об этом разговор отец.— Война! Кругом война. За царем немка, а теперь нас топчут ногами. Оце так родичи! Наточи нам, мать, казаку холодно. С Турции ще не отогрелся.
— Да-а,— вздохнул Пьер.— Как были в походе — а мороз! Снегу в горах так много, и окопы все завалены. Сапоги мои разбились.
— Я тебе новые чеботы справил.
— Спасибо, батя. Снял сподники, обмотал ноги. Ремешки от седла связал и замотал. Сутки промёрзли в снегу, а утром взяли турецкую деревню. И там я достал себе турецкие чувяки — так немножко теплее стало.
— Колы батьки ваши так воевали, то вы шо ж? Не такие люди? Мы под Ляояном в китайских фанзах ночевали — бумага вместо стекла. Ложились рядами, прижмемся друг к другу, под низ три-четыре шинели, крайним все равно холодно. А строить палатки — колышки не влезали в землю. На рождество у деревни Фыньдятунь начальство достало в Харбине колбасы и водки для нас; сидим в землянках при свечках, пьем водку, а япошки с сопки навели на нас свет из прожекторов, но не стреляли.
— У вас и колодцы были общие,— напомнила матушка.
— По очереди туда ходили, то они, то мы. И хоть бы кто стрельнул. Всяко бывало. Все ж живые люди. У всех мать, дети...
— А Шипкинский редут? — подогревала отца Манечка.
— Ну! Бывало, без патронов солдата выручал штык, а казака шашка та дебелый кулак. Ось як мы воевали! А теперь мне городовой в трамвае права качает: «Вас таких много». Я его выкинул с вагона.
— Ешьте уже,— подгоняла матушка.— И отдохнуть же надо. Пороху нанюхался, тай ще придется понюхать. Ой боже...
— Иногда везло. Коня подо мной ранило, дважды бурку пробило, и головка кинжала отлетела, а меня ничего.
— Ешьте, ешьте.
Но хотелось поговорить со своими. Толстопят разомлел, вытянул ноги и с доселе неизвестной ему лаской смотрел на старых родителей, жалел Манечку. Его тоже жалели. Матушка, пока сидели, несколько раз потужила, что сынок ее все еще без семьи.
К Бурсаку Толстопят не являлся два дня. Он съездил в Пашковскую, проведал самую любимую свою тетушку, та поплакала оттого, какой он стал большой и красивый, угостила его наливкой; в станичном правлении он покрасовался перед атаманом, выслушал, как встречали пашковцы царя, прогулялся мимо дедовской хаты и про друга не то что забыл, а что-то не лежала душа к скорой встрече, какая-то кошка пробежала между ними, [309] была маленькая досада на Бурсака: он не ответил Толстопяту на письмо из Царского Села.
25 марта прилетели первые ласточки, малиновки, дрозды; в полях кочевали тучами скворцы. Через два дня подул холодный ветер, запестрел над землею снег, ночью морозило.
Было воскресенье. Калерия с вечера ушла к матери и там ночевала; Бурсак на веранде флигеля читал газеты. Когда жена уходила к матери, Бурсак грустил. В доме детства ее сердце! Было бы стыдно перед другом, если бы он узнал, как они живут. Обоим было тяжело. Мальчик умер от скарлатины, и Бурсак едва-едва боролся со своей тоской. Калерия по целым дням сидела у окна. Он подсаживался к ней, брал ее руку:
— Ты позволишь мне поговорить с тобой?
— Ну, говори, я слушаю.
— Ну что же делать, моя дорогая, что же делать?
— Не надо, не надо! Ради бога. Уйди.
Бурсак опять тыкался в газеты. Писали как будто против него. В чем только не обвиняли в те месяцы русскую интеллигенцию! В отщепенстве, в слепоте, в том, что она не хочет видеть нашествия изнутри, в умственном косоглазии, в преклонении перед прогрессивными фетишами. Бурсак чувствовал, что и он попадает в этот разряд. Критикуешь высокопоставленных лиц? Жалеешь инородцев? Защищаешь в суде «борцов за освобождение, надевших на себя кандалы партийной дисциплины? Отказываешься написать статью в «Книгу русской скорби»? Грань между дозволенным и недозволенным в человеческой душе разрушена, порок приобретает черты гражданства, и вы, господин Бурсак и прочие, не понимаете этого? Какие же вы-де русские, если благословляете темные силы? Все изменится: власть лучших (по крови и уму) сметется господством худших, и воссияют лозунги: «Чем тяжелее теперь, тем скорее наступят светлые времена!» Идеалы животного довольства станут на первое место, все будут одинаковыми. Печать уже забрызгана грязью улицы, скверным сорочьим стрекотанием, угождением обывателю. Очнитесь! — летело в лицо Бурсаку.— Сорок сороков в белокаменной Москве волнами носят звуки церковного благовеста. Придите в умиление, как молится в храмах святая Русь, поймите, что не иссякла вера ее, и не трогайте, не сворачивайте Русь на другую дорогу. Скажите себе: «Здесь, перед святым крестом, клянусь...» Меньшиков из «Нового времени» прямо-таки заклевал Бурсака, хоть он его никогда не видел, разумеется. И Бурсак, развалясь на диване или бродя по городу, отвечал не кому-нибудь, а именно Меньшикову, и так он проводил в отповедях и спорах немало часов. «До чего мы дожили! — немо кричал с улицы Графской в Петербург Дементий Павлович.— Ваше правительство отстало от времени, вы под властью старой исторической инерции, вы и родились-то в крепостные времена, впитали с молоком матери психологию «старого величавого порядка», когда народ почти отрицался (это он тоже [310] вычитал, но в левой газете). А уж все не то, другое время, милые мои. Что рядом у вас с православными заклинаниями? А вот: «ходатайство о субсидии», «просили взаймы», «требовали за службу», «растратили», «не дали отчета». Ваши правые газеты? Из «Московских ведомостей» сделали трактирный листок». Утром эти правые газеты шпарили ему ответы: русские по вере и крови не отдадут своего первородства за чечевичную похлебку; еще древний Рим ставил вечный завет: щадить покорных и смирять заносчивых!
За этими «беседами» застал его Толстопят.
— Я помню тот день...— говорила мне через пятьдесят лет Калерия Никитична Шкуропатская, уже на другой улице, в другом доме.— Я часто ночевала в своей детской у мамы. Когда я пришла, они уже обо всем переговорили, но почувствовала, что прежней свободы между ними нет. Дементий Павлович в суде имел дело все время с несчастными случаями, очень переживал иногда за кого-нибудь, монархистов не любил, вообще он был, что называется, демократ, либерал по натуре. Очень мягкий человек. А Толстопят офицер, герой, казачина я тебе дам, и умом, конечно, не блистал. То, что хорошо было в молодости, прошло, и общих интересов стало все меньше и меньше. Кто из них был прав — это жизнь рассудила лучше, вам думать над этим, но я вошла тогда и сразу заметила маленький раскол.
Толстопят, в форме, с Георгиевским крестом на груди, прохаживался по комнате и немножко задирал друга.
— Где ее величество? Поссорились, что ли?
— Querelles de families1 ничего не значат,— оправдался Бурсак.— Не-ет! У женщин бывает.
— Да-а, не с той ножки встанут, то погода плохая. Женщина как ящик с хрусталем, наверху надпись: fragile2.
— Пошла на мамин борщ и задержалась.— Бурсак счел нужным таить затянувшуюся хмурость супруги.— Ты у нас когда женишься?
Толстопят, ломая кисти рук, уставился на портрет предка Бурсака и молчал.
— Разве я стою хоть одной их слезы? — сказал наконец.— Свершится воля господа: когда-нибудь женюсь. Если не убьют! Уйду к сорока в отставку, буду пить чай с пятью сортами варений и на ноге подбрасывать наследника. Если не убьют...
— Ты почти в седле.
— Ага, я взобрался крепко. Впереди отборная кавалерия турок-сувари, тебе надо врубиться в ее середину и погнать назад. А там впереди еще два табора, орудия и тысячи две курдов на взгорке. Пока моя невеста рассуждает, возможен или нет брак на камне чистоты, меня уже, может, орлы клюют. Так-то, Демушка.
--------------------
1 Семейные ссоры.
2 Хрупкий. [311]
Ему, видно, хотелось подобострастного внимания к себе, но друг сидел перед ним, заострив нос кверху, и ни о чем не расспрашивал. Толстопят сам стал привирать о Царском Селе, о царице, поставившей свое имя в записной книжке по выписке его из лазарета. Бурсак все качал ногой. Ах, обыватели! Они тут наслаждались оперой Пуччини в Зимнем театре, симфоническим оркестром Черкасского, фокусами математика Арраго, сиянием свечей и пением в теплом храме, а казаки, как перешли в 12 часов 21 минуту турецкую границу, сняли шапки, перекрестились и поздравили друг друга с боем, так и вылетело из головы, что есть на свете неприсутственный день, городской голова и его заботы об очистке снега с Соборной площади, что важны слухи о дуэли между губернским и уездным предводителями дворянства, о выстреле в доме свиданий и прочее, прочее. Никто ни в чем не виноват, но все же, все же...
И хотя бы спросил этот чертов присяжный поверенный: ну как там ты лечился в Царском? Кто тебя перевязывал? Облепился газетами.
— Там кровь льют,— нарушил он молчание,— а у вас в городе читают лекции о любви к чернокожей на Малакских островах! Казак два года жены не видит, детей — и увидит ли их вообще? — а они о наслаждении с папуасками рассуждают. Ну живете!
— Женись-ка ты, братец,— сказал Бурсак лениво.— Тебя раздражает наш быт, потому что ты не женат. Ты и сам этого не знаешь.
— Да ты вот у нас женат и на снегу не лежал, а я чего-то не вижу на твоей физиономии довольства.
— Меня борют общественные страсти! — Бурсак ухмыльнулся, и как будто эта ухмылка была в свой адрес, но Толстопят счел ее за высокомерие.— Я ведь «нанятая совесть». И все же пора тебе жениться.
— Женюсь, женюсь! — с злым весельем сказал Толстопят и повернулся к зеркалу: какой казак пропадает! — Может, на турчанке? Будет по Красной закутанная в одеяло на ослике ездить! А-а, Демушка? Ты входишь — она чадру на рожу. А-а, Дема? Позавидуешь султану Толстопяту? Восточные сладости вкуснее.
— Нет. Турчанки худые.
— И я ведь не одну привезу, четыре-пять. Весь Первый Екатеринодарский полк сбежится посмотреть. У них женщина — «цветок на окне моего дома». Волосы на уши, узлы любви, м-м.
Бурсак наконец улыбнулся, сбросил с себя присяжную сухость.
— Ну, начал дурачиться уже, господин подъесаул. Ты не стал серьезней.
— Женюсь, женюсь!
— А мы вот опять вдвоем. Нету нашей малышки.
— Да, да, я понимаю...— устыдился Толстопят своей пустой [312] болтовни.— Бедная Калерия, сколько она пережила... Но вы не отчаивайтесь. Еще будет, еще все впереди. Лишь бы война кончилась. А вот и сама!
Толстопят, крыльями распуская в стороны руки, пошел навстречу усталой печальной Калерии и точно со сцены посылал ей приветствие пением:
Радость мне и счастье обещала.
Ты ушла, и жизнь ушла навеки за тобой...
Он обнял ее и долго так держал возле себя, обнял и ластился без прежних намеков, а как солдат, с чувством уже только екатеринодарского родства, как солдат неубитый. И она поняла это.
— Усы, усы-ы! — поразилась Калерия.— Когда женитесь?
— После победы над врагом, козочка. Так же?
— Вам война не принесет счастья, вы чересчур храбрый.
Как они ни старались опростить отношения, та кража на извозчике мешала им глядеть друг на друга долго. А Бурсак, словно чувствуя их тайные мысли, сидел с ними лишним.
— Да вы поцелуйтесь, что ли...— вдруг говорил он, и только Калерия соображала, отчего это ее муж балуется шуточками, Толстопяту же было невдомек. То ночью в постели, то днем в столовой Бурсак посмеивался над ней: «Ну уж скажи, что ты любишь Толстопята, а за меня вышла — это ему отомстила. Признайся? Какие усы!» Нет, он не ревновал и ничего не опасался, но ему было чуток обидно, что в душе Калерии тлеет пепел нежности к другому и даже, может, томит ее порою сон о несбывшейся страсти. Один мужик надежней, а другой слаще.
Во время обеда, потом снова в гостиной Толстопят уже говорил для Калерии. Он изображал в лицах петербургских господ, сестер милосердия в Царском Селе, нянек, офицеров, царицу Александру Федоровну и «одну тигрицу любви», которая на него «даже не взглянула» (то, конечно, была мадам В.). Калерия при этом таинственно поблескивала глазками. Лихому Толстопяту она все, кажется, простила бы, даже если бы он был ее мужем.
О будущем не гадали. Все силы на победу, а там как-нибудь.
Дома на Гимназической Манечка составляла список благотворительных даров. Толстопят на носках подошел сзади, взглянул через плечо, прочитал: «От семьи А. Н. Камянского — 10 руб. и 2 пирога; от Ирзы — ведро «Медка»; от Б. Черачева — дюжина ножей; от Арзаманова — 5 скатертей; от В. Попсуйшапки — 15 рублей». И т. д.
— Трехсаженное письмо пишете?
— Ой, ты меня напугал!
— А от нас что?
— Там, говорят, граммофонные иголки собирают на производство оружия, у нас целая баночка старых. Завтра благотворительные скачки — не пойдешь? Ника у Келебердинских [313] приз возьмет. А у меня вся неделя занята. Кружечный сбор, мы записываем на «красное яичко» воинам. Музыкальный вечер. Рублей сто пятьдесят выручим. За порцию пожарских котлет берем два рубля, два ломтика осетрины — тоже два. А как же? Потом в городском саду дивертисмент, а в июле сбор лекарственных растений.
— А потом замуж?
— Отстань... Я не хочу, мне противно! — тряхнула она рукой.
— Где наш батько?
— Передает опыт в думе, как опрыскивать деревья в саду. Летом принимаем оркестр из Москвы.
— Не до музыки,— сказал Толстопят.— Беднота ложится спать рано, а оркестр играет с девяти вечера. Пуд мяса восемь рублей стоит, а им музыка. Худенькая ты у нас...
— Я всегда буду как наша бабуля.
— Ну, иди спи, козочка.
Толстопяту было так жалко ее, так жалко, будто он уже провидел ее судьбу.
На другой день отец созвал родню, было человек тридцать. Так они сидели вместе последний раз. Все тосты были за толстопятовскую породу, за героя Петра, ее прославлявшего ныне. Манечка весь вечер тревожно глядела на братика. У нее было лицо молодой монашки, готовой на подвиг смирения и сочувствия. Хотелось вернуться с фронта живым и опекать ее до конца. Она сказала ему потом, что хотела бы записаться в его полк, не отступать от него ни на шаг, но он ее с собою не брал.
Через неделю он уехал на Кавказский фронт под командование генерала Гулыги. [314]
НИКТО НЕ ЛЮБИТ БЕДНОСТЬ
В апреле 1916 года, когда кавказские войска взяли Трапезонд, полицмейстер Екатеринодара, грек, браво вошел в кафе «Монплезир» и поздравил всех с приятными вестями. В Трапезонде из ста тысяч населения восемьдесят тысяч было греков, и «Монплезир» радовался вдвойне. Тотчас же принесли серебряное блюдо и накидали шестьсот рублей на постройку водолечебницы в Теберде для раненых, а глава колонии Акритас добавил, что это лишь первый взнос, который просят передать генералу Бабычу екатеринодарские греки. Манечка в тот вечер разносила с дамами угощения в «Чашке чая». Что такое? — не к одиннадцати, а намного раньше в кафе повалила шумная публика, а на Красной разрастался веселый галдеж.
— Дни Турции сочтены! Трапезонд взят! Недалек тот день, когда русские пушки будут на берегах Босфора!
10 апреля с крашеными яичками пришли пасхальные дни. Магазинщики зазывали к себе щедрыми рекламами в газетах. По реке Кубани плавали разряженные лодочки, и, поскольку пароходы не катали до Хомутовских мостиков и обратно вверх к Бжегокаю, лодочники без устали зарабатывали рубли, переправляя обывателей в «Аквариум», на другую сторону. Там продавали мороженое, бузу. Вечером в городском саду зажглось электричество, играли в летучую почту, телефон и телеграф. Сюда же, рядом с музыкальной раковиной в Ореховой аллее, перебралась на летний сезон «Чашка чая». Но в мае спустились холода, потом от гусеницы погибали сады. Один Авксентий Толстопят разве со своим хитрым промыслом и неутомимостью мог ждать урожая к осени.
И подошла троица, косили у дворца наказного атамана траву, продали женщины на базарах все ветки ясеня, клена и лещинника, по станицам беднее, чем до войны, отторговались ярмарки — Пантелеймоновская, Ильинская, и Попсуйшапка, конечно, объездил несколько станиц, раскладывая на прилавке остатки папах, шляп и фуражек. В троицын день Манечка ушла с пашковскими парнями и девчатами в Панский кут. Повесили на сучке дерева крест; девушки, взявшись за руки, обступили дерево кругом. Красивый парень выбрал Манечку, назвал кумой, вывел из круга и поставил возле креста. По обряду парень этот принял на себя обязанность охранять Манечку от обид, быть советчиком при выборе жениха, но сам жениться на ней не имел права,— [315] зато до смерти принуждала его клятва носить крест. Он ей так понравился, что она подумала: ей хочется нарушить клятву, которую она со злости давала брату, — жалеть увечных и обиженных и никогда не бросаться замуж.
Еще прокатились в июне по станицам погромы лавок. Торговцы впадали в панику. Поползли всякие слухи. По просьбе торговцев Екатеринодара городской голова Сквориков созвал совещание управы с участием полицмейстера и начальника сыскного отдела. Авксентий Толстопят пришел поздно и рассказал в семье о положении дел.
— Ничего,— успокоил он.— Полицмейстер сказал, у него сто шестьдесят городовых. Лучшие, правда, на фронте. Нет средств на пополнение. Ну, Бабыч даст сотню казаков, как резерв — дружинники и школа прапорщиков. Применят плетки.
— Зачем? — сказала Манечка.
— То ж власть. Не я. Покричу на вас и забуду.
С петровского поста, когда богатые люди набились в экипажи и подались в Теберду, Манечка собирала с учениками лекарственные травы.
От брата Пьера опять не было известий.
Прибывали в отпуск с Западного и Кавказского фронтов казаки и офицеры; родные были счастливы, что они живы, так же как в доме Толстопята, когда две недели гостил Петр.
В одном поезде приехали в августе месяце Аким Скиба и Дионис Костогрыз.
В вагоне из сблизило происшествие. В Баку к ним подсел черноволосый мрачный Георгиевский кавалер и на одной из станций послал скромного Скибу за кипятком. Тот вдруг с бранью отказался: «Я тебе не слуга!» Кавалер зарычал: «Ах ты, кацап проклятый! Посеку в капусту! Извинись сейчас же». Скиба достойно молчал. Дионис с легким своим шутовством кинулся ему на выручку, стал перед кавалером на одно колено и, скосив к переносью глаза, прошамкал, как беззубый старик: «Господин Георгиевский кавалер! Простите меня, старика, не жалуйтесь по начальству, я за вас помолюсь, куплю свечку в церкви, понюхаю, а если она ладаном вкусно пахнет, то и съем за ваше здоровье. Чего с парня взять? — ткнул он пальцем на Скибу.— Сколько прожил — штанов не носил, а как баба штаны купила, то он залез на крышу, ноги свесил, баба штаны растопырила, и он упал в них ногами. Они жили и ниткою хлеб резали. Он был парубком, а дед его ще был невеличком, а батька его и на свете ще не было. Ну!» Кавалер зареготал и простил Скибу, набрал сам на следующей станции чайник кипятку и все дергал Диониса: «С Пашковской станицы, говоришь? Ну юла, ну брехло!»
А Скиба вышел в тамбур, уткнулся лбом в дверное стекло и, припоминая шутку Диониса о штанах, грустно думал о своем детстве. Он часто удивлялся, почему уцелел на свете. Видно, [316] кто-то берег его. Маленьким он бежал за матерью и плакал, чтобы она взяла его с собою; мать закрыла ворота и не успела отойти, как ворота упали и чудом не задели малышку Акима. Много раз суждено было ему умереть и после, но он не умер.
Семья у них была большая, семеро детей: четыре брата и три сестры. А шестеро умерло до рождения Акима, и двое уже при нем. Кто же его спас? За что? За то, что он плутовал меньше других ребятишек и в десять лет читал «Кормчего»?
Старший брат научил его грамоте. Он писал соседям письма и читал над покойниками псалтырь, за что полагалась ему буханка хлеба, пятьдесят копеек и тот платок, который хозяева обыкновенно стелили под псалтырь.
В православном журнале «Кормчий» он нашел статью о святом Геннадии, прочитал и спросил у брата: «А вот правила святого Геннадия о вере и жизни христианской — это как понимать? Сказано: человек богатый есть ветвистое дерево, и если поклонишься, то свободнее пройдешь. А я у хозяина работал, подсолнухи молотил, они меня оставили на току на ночь, а рядом кладбище, всю ночь под воскресенье гроза. Утром приходят, жена его спрашивает меня, не страшно ли было, глядит на меня и жареными семечками угощает. Хозяин ее чуть не убил за это! Как же я ему поклонюсь? Он, бесстыдный, садился оправляться прямо перед женой. После лихорадки у меня все губы обсыпали прыщи, рот еле раскрывал. Так он что? — нарочно отрезал широкую скибку арбуза и гигикал оттого, что я мучаюсь».— «А ты кланяйся не богатому и не бедному,— сказал брат,— а человеку. Священные книги не по нас, ты запутаешься. Живи сердцем».
Он и жил сердцем, рос умненький, вокруг умирали, а он рос и рос.
Может, потому, что мать привечала странников?
У этого злого хозяина, про которого Аким говорил брату, боронил он один землю под сев. Земля была сырая, и борона часто забивалась комьями; двенадцатилетний Аким, надрываясь, поднимал борону, очищал, а хозяин лежал на повозке и кричал, чтобы забороновал он еще поперек нивы. На узком загоне он закружился на частых поворотах, кони покусывали друг друга, а когда борона ударила углом коня по ноге, кони всхрапнули и понесли. Аким упал, острые зубья бороны перелетели через него. Как он остался цел? Хозяин прибежал, стегал кнутом — раз по несчастным животным, раз по Акиму, приговаривая: «Вот так возят! Вот так погоняют! Вот так возят! Вот так погоняют!» Была у хозяина привычка точить Акима за столом, припоминая ему все грехи за прошлое лето. Кто прятал груши в траву? Кто сорвал перед хатой яблоко? Кто на гнедом Мальчике катал чужого человека? Такой пытки Аким уже не мог стерпеть, и ушел он на табачную плантацию к грекам.
От Армавира Аким и Дионис ехали, не отступая друг от друга ни на шаг. Уже в то время предвещался между людьми разброд. [317]
Так, на станции Кореновской Дионис Костогрыз схватился с господами. Они с Акимом забежали в буфет купить папирос. В зале за большим столом сидели офицеры из 2-го Лабинского полка и закусывали; за маленьким столиком занимали места двое в судейской форме, один из них был не кто иной, как Дементий Бурсак. В коридоре по чьему-то пьяному требованию заиграли гимн; все встали и сняли фуражки. Бурсак же громко сказал: «Мне нравится музыка гимна, но «Марсельеза» лучше». Дионис вспыхнул и взял Бурсака за плечо: «Кому надо «Марсельезу»? Что вы чушь несете? Кокарду носите, состоите на коронной службе и такие речи?»
— Не вам судить обо мне. Вы дикарь! Не знаете правил благочиния.
— Пластунской постромы покуштувать захотелось? Гадость... Убирайся отсюда!
— Кто вы такой?
— Я верноподданный государя императора Николая Александровича!
Бурсак встал. Дионис правой рукой толкнул Бурсака, и тот, к удивлению, пошатнулся и повалился на стол.
— Вешать таких господ! Получишь как-нибудь кинжалом в бок. Разводить смуту?
— Я вправе вызвать вас на дуэль.
— Выйдем!
Оба вышли из зала к подъезду. Дионис развернулся и ударил Бурсака по щеке.
— Вот тебе и весь дуэль!
Кто-то закричал; позвали жандармов, но в эту минуту засвистел паровоз, и казаки с офицерами побежали к вагонам. Скиба до самого Екатеринодара молчал.
— Не хотелось марать рук об эту морду,— сказал Дионис,— но не стерпелось. Правильно? — спросил он у казака, но тот молчал. Казак побывал в турецком плену и все дни переживал: что скажут в станице? Засмеют! «Шо ж,— будут издеваться,— без турецких ковров приехал!»
С разным настроением возвращались домой: Дионис погордиться наградами, Аким помочь по хозяйству, отыскать в городе старых товарищей-подпольщиков да поблагодарить от солдат Манечку Толстопят за теплое белье, носки и табак, которые она присылала от имени общины сестер милосердия.
Ее-то он и увидел первой в доме на улице Гимназической. Она что-то писала в дневничке, когда ее позвал отец. Она переписывала послание пластунов: «Зная ваше отзывчивое сердце, я от лица своих товарищей обращаюсь к вам — помочь по мере возможности: собрать нам на зиму теплых перчаток, простых, базарных, из козьего пуха. Поклон дорогим екатеринодарцам...» На последних буквах ее и прервал голос отца. Она вскочила — может, письмо от брата!
На пороге стоял солдат, не казак — синеглазенький, с тонким [318] носом, невеликого росточку! Она тотчас сообразила, что он с фронта, с того полка, который недавно выбил турок из ущелья.
— Мария Авксентьевна, здравствуйте, я Аким Скиба, можно к вам на минутку?
Отец, добрый час ворчавший на городскую думу, вдруг присмирел и заулыбался. Матушка вышла с кухни напуганная — она в каждом госте ждала почтальона с дурной вестью. Вид солдата с турецкого фронта ее успокоил, и она поспешила на кухню разогревать пирожки.
— Какой станицы? — вежливо допрашивал отец.— Марьянской? Городовик? Ну и шо ж вы, так и живете голотрепами?
— Есть и казаки голотрепы, чуть ли не мы.
— А золу с печи около двора небось высыпаете?
— Бывает.
— Э-э, меня нет. Я, бывало, в Пашковке конюха вызываю: «Митрохван, запряжи волов, подавай к правлению». Тот кричит: «Господин атаман, санки готовы».— «Ага! Зараз поедем по дворам». Сена положили, ковром постлали. Поехали. «А ну подожди! — зола чернеет.— Давай хозяина!» Выглядывает без шапки. «Иди, иди сюды. Шо це чернеет? Баба насыпала? Так вот: я проеду до того краю, а оттуда вернусь — щоб цего не было, а у меня в правлении положишь на стол пять рублей штрафу».
— О, хвалишься,— сказала матушка.— Посади человека. Он же с дороги. И голодный?
— Чи казак стул будет таскать?
На кухне его расспрашивали о боях; Скиба и раз, и два, и три поблагодарил за посылки.
— Пойду,— сказал,— мне поручили солдаты письмо наказному атаману передать. Хоть часовому, хоть как.
— Чем недовольные?
— Чтоб не лишали пособий семейства. Пишут бабы: как что — лишают атаманы пособия в станицах. Ехал казак мимо своего двора и забежал повидаться с женой, матерью — лишить пособия! За что? А то, говорят, мы штыки в землю и шашки в ножны, а там как хотите. В Тифлис Николаю Николаевичу напишут.
— Пахнет разбоем. На базаре болгарин овощи продает, а серебряные рубли с головой государя бросает себе под ноги, в ямку. Цитович его за ворот — и в кордегардию. Дела-а... До свидания, хлопец. Возвращайся живой.
Манечка проводила Скибу до тротуара.
— Красивый мужик,— сказал отец,— да бедный, как церковная мышь.
Чем бы в тот месяц ни начинался разговор екатеринодарцев, цены на продукты и товары были главной занозой. Жизнь вздорожала. Старики поминали прошлое.
Между тем жизнь дорожала всегда. [319]
В молодости Лука Костогрыз тащил с базара поросенка за 15 копеек, а в начале германской войны гуси подскочили до рубля, поросята до полутора рублей, куры до 60 копеек. Бабы возвращались с базаров недовольные.
— Я все подсчитал,— говорил Костогрыз и выносил бумаги.— Министру внутренних дел отдай двадцать шесть тысяч рублей в год. Нашему Бабычу со столовыми тысяч двенадцать, так им можно по восемь рублей за пуд мяса платить. В Ейске бунт был, и у нас жди.
— А были б вы царем, шо б делали? — спрашивал Дионис, закрывая один глаз.
— Ач! Был бы я царем... как говорил тот городовик: сало с салом ел бы и спал бы в теплой хате на соломе!
В обжорке Баграта тоже калякали о ценах, проклинали время.
Скиба успел зайти в дом на улице Новой и поинтересоваться новостями. Из окна дома видна река Кубань; там, на острове, были зарыты когда-то бомбы и оружие. В дом наезжали полицейские чины, в том числе и помощник полицмейстера, виновный в смерти братьев Скиба; квартирантка, связанная с подпольщиками, узнала, что помощник полицмейстера под видом наблюдения за островом оставался у хозяйки ночевать. То было давно. Квартирантка все еще жила там же. Ее, бедную, несколько раз забирали в кордегардию и требовали от нее указать на политических преступников, стращали увезти в номер гостиницы и там надругаться над нею, но она держалась.
— Тот помощник полицмейстера умер недавно в тюрьме,— сообщила она теперь.— Царь так и не скостил ему вину. Второй раз его судили за мошенничество с монетами.
В обжорке Баграта беженцы-армяне, коих набилось в Екатеринодаре немало, скучились в углу, кормили детей, не пили и сидели тихо.
За столиком Скиба молчал. Баграт посылал армянам лишние порции.
— Теперь, к чертовой матери,— говорил он,— такой закон, что и водки не достанешь.
— Наш государь не самостоятельный,— сказал злой мужик Терешке.— Что министры подсунут, то он и делает. При Александре Третьем больше порядка было.
— Как же государь не самостоятельный,— воспротивился Терешка,— когда он подписывает «быть по сему»?
— Не подпишет, его министры коленом под зад.
— Каша у тебя в голове. Без царя знаешь что будет? Темнота. Интересно: тебя царем поставить, что бы ты делал?
— Я бы! — мужик погрозил кулаком.
— Ты бы и трем свиньям толку не дал. Ты этими речами не ошибайся.
— Махать я хотел! Пусть меня жандарм арестует. Что они меня — кормят? Или он мне дал этот рваный костюм? Какой [320] он мне подарок сделал? Махать я хотел! И государя, и престол, и корону махать я хотел. Ты знаешь ход жизни моей? Ну а чего ж ты? Иди донеси.
— Сам на себя наносишь,— сказал Терешка, жалея.— Бог тебя накажет. В святых книгах сказано: «Бога бойтесь, царя чтите...»
— В Библии и про Саула сказано: «Царь дан народу в наказание». Царю только наше тело нужно, наша грудь, чтоб мы подставляли под пули. Бог ни при чем. Если хочешь знать (ты, наверно, лавку держишь?), в Библии сказано: был благоверный царь, и по смерти заступил его сын, сделал пир, велел принести священные сосуды, которые отец его забрал в Ерусалиме, и когда они пили, высунулась из каменной стены рука и начала писать на стене: не быть тебе царем, не быть тебе царем, не быть тебе царем! Так и теперь. Был у нас Спаситель, да и не спас от грабителей, но придет другой, спасет от всего,— постойте...
— Проспись, дурак, и жди своего призыва на фронт.
— На хрена ты мне нужен, такой красивый. Проиграли войну, как с японцами. Настала пора скинуть ярмо. Дураки солдаты, что идут на войну и кладут головы.— Мужик взглянул на Скибу и сказал как бы ему, моргнул: — Государь с государыней в карты играют да водку пьют.
— Ты там был?
— Не был, и не надо.
— Кто ж будет, по-твоему, защищать Отечество?
— Лучше собаке служить, чем...
— Нельзя так скверноматерно говорить о государе. Смотри не греши, это дело не маленькое.— Терешка оглянулся, кто там вокруг. Мужик подумал, что он выглядывает городового.
— Я никого не боюсь. Я уже был в Сибири и никого не боюсь,— сказал.
— Не греши.
— Вынуждают к этому. Нечего бояться. Надо действовать, а будем прятаться друг за друга — ничего хорошего ожидать нельзя. Придет время, народ побратается с войском и возьмет верх. Выдумал войну, сукин сын! Что ему, жалко нас? Дураки солдаты, идут. Если б сделали так, как на станции в Армавире,— убили офицера.
Тут Терешкино терпение кончилось, и он, надувшись, встал и застегнул пуговицы.
— Я жалостливый,— поводил он пальцем по воздуху,— приставу не скажу, но в другой раз не выражайтесь так, а то будет плохо. Стоит перед тобой стакан, допивай и иди спать. Богатеют от честного труда, бережливости и жизни по заповедям божиим. А власть ковырять — дурацкое дело.
— Махать я хотел,— сказал мужик, когда Терешка ушел.— Мне пятьдесят пуль в грудь, а государя долой. Его дядю убили в пятом году, а руку нашли на другой день, и с ним то же [321] будет. Сына у него нет. Мать его, Мария Федоровна, родила своего и отдала ему, чтоб был наследник. Махать я хотел весь романовский дом!
Мужик ругался в ту минуту, когда беженцы-армяне вставали с места и шумно выходили. Скиба положил свою руку на руку мужика:
— Мой вам добрый совет. Пока молчите. А то вас заберут в тот момент, когда мы будем нужны. Я ничего не слышал. До свидания.
— Махать я хотел... Девять месяцев крепости, а то и три, а то и семь суток аресту — подумаешь!
— То раньше было. А сейчас упекут в Сибирь.
— Да вон недавно одного — он царя дураком обозвал,— на семь суток всего под арест.
— И все же...
Возле шапочной мастерской Скиба раздумался, с какой подводой добираться ему в Марьянскую.
В мастерской Василий Попсуйшапка спорил с братом о том, был ли Тарас Бульба на самом деле или его придумал Гоголь, и доказал бы, что такой человек все-таки был, и еще раз посокрушался бы, зачем же у Тараса выпала люлька (его б не поймали), если бы вдруг за окном не послышались крики, брань, вопли о помощи. Василий быстро вскочил и, заметив взъяренную толпу, закрыл дверь на ключ. Выпали тотчас из ума гоголевские бранные страсти в повести! Люди с тех пор не помирились. Пока они в мастерской спорили, все двадцать семь трактиров, дюжина погребков, более двухсот пивных лавок, буфетов, греческих кофеен, много магазинов перестали обслуживать обывателя — где заперлись на все замки и выставили в окна иконы, а где уже поминали разбитые стекла, посуду и мебель; даже постоялые дворы затворили свои двадцать шесть ворот. Только волосатый Баграт в обжорке никого не боялся — босяки и базарная чернь любили его.
Что же произошло там? С чего началось?
Бунт подняли на Сенном рынке жены запасных, настаивая на проверке таксы. Кто-то ограбил лавку — и пошло! Со всех углов стекался народ. Пристав Цитович надорвал горло, уговаривал: «Ваши действия только на руку нашим врагам». Бабы зажимали его в кольцо.
— А почему у нас дорогие ситцы? Сахар вешают неправильно, кладут много бумаги!
— Весь базар переверну,— грозил Цитович, взбираясь на бочку.— Не допущу! Понюхаете у меня клоповника на голых досках.
— Мы будем жаловаться.
— Жалуйтесь на меня! На кого науськиваете? На Отечество наше? [322]
— Какое право ты имеешь ругаться матерно? Передадим Бабычу, и тебя уберут.
— Его нет в городе. Я за него наведу порядок. Кому и для какой цели нужен разгром? Цены не понизятся, а повысятся еще больше. А долг перед Россией? А помощь тыла? Понизится дух войска. Погром на руку немцам. Стыд, позор!
— Берите, бабы, дрючки и гоните его! Паршивая полиция! Живодеры!
— Убить полицейских!
— Уби-ить!..
Над головой Цитовича повис тяжелый кувшин. Сзади стояли мужики с Покровки и с Дубинки и ждали: если полиция откроет огонь, тысяча душ, вооруженных палками и гирями, выступит в защиту баб, а к ним уже обещают припрячься выздоровевшие в лазарете нижние чины. Виновных не найдешь.
Пожарная команда спряталась, брандмейстер наотрез отказался разгонять толпу водой. И никого из черной сотни нету.
Скоро возмутители перекинулись на магазины по Красной улице, ныне Николаевскому проспекту. Уже несли тряпки, обувь, одежду. Трамваи остановились.
— Я ни на минуту не остановлюсь перед усмирением беспорядка! — сказал по телефону полицмейстеру помощник Бабыча и вызвал шестьдесят конных казаков и сорок юнкеров.— Пишите воззвание к населению. Утром приедет Бабыч.
Наказный атаман Бабыч был в Тифлисе. Городской голова Сквориков, тот самый, что после избирания в думу просил отца рассчитать старого кучера Евтея, соединился с помощником Бабыча.
— Я их расстреляю! — подтвердил помощник.
— Ваше превосходительство,— сочно булькал в трубку городской голова,— я уверен в вашей распорядительности, но расстрел применяйте в крайнем случае. В воздухе висит гроза. Не проливайте крови. Довольно будет, как ни стыдно это говорить, одних плетей.
— Я сам сейчас выеду.
Толпа уже рекою текла к обувному магазину Сахава. За женщинами, подростками, сотней хулиганов топталась полиция и казаки на лошадях.
Городской голова растерялся; лучше ему было наблюдать за толпой с балкона гостиницы «Большая Московская». Уже теребили бельевой магазин Чехмахова. Со взводом казаков подъехал в фаэтоне помощник Бабыча и что-то кричал. Фаэтон повез его дальше; грабеж продолжался при «декоративном присутствии войск» и затерянных в давке полицейских. Голова вздумал спуститься вниз и произнести речь, но переменил решение: власть передана военному начальству, и всякое вмешательство будет потом поставлено ему в вину.
— Почему не разгоняете? — крикнул он казакам.
— Не приказано. [323]
— Сам наместник разрешил грабить, ничего нам не будет! — орал кто-то.
Уже был час дня. По всем улицам тащили добро.
«Почтенная интеллигенция с удовольствием наблюдает,— думал городской голова.— И никому нет дела. Грабеж может перейти на мирных жителей. Ни у кого сердце не шевельнется. Уже лавку Аветисьяна растаскивают. Извозчиков захомутали, о-ой! Корсеты несут от... Все на руку врагу».
В четвертом часу его позвали в войсковой штаб на Борзиковскую.
— Что вы думаете дальше? — спросил помощник Бабыча, генерал, такой же плотный и седой, но грубый.
— Дело защиты передано военным властям — нам думать не полагается. Поэтому я позволю себе спросить: что вы думаете делать? — Никто не хотел, видно, брать на себя смелость — время неуверенное.— Общий голос таков: для спасения имущества ничего не делается.
— Нагайки употреблялись. У казаков одни рукоятки остались.
— Господин полицмейстер Михайлопуло ручался за казаков, как за самого себя.
— Если полицмейстер ручался, то это его дело. Он, как офицер, не ручаться за русских воинов не мог. Я несколько успокоил баб. Сказал, что распоряжусь, чтоб городской голова собрал думу, купцов и торговцев и установили цены такие, как до войны, с надбавкой на двадцать процентов. Полагаю, довольно. Немедленно привлечь к ответственности уличенных в сокрытии товаров. Запретить вывоз мануфактуры в станицы. Никаких самочинных обысков и арестов.
— Вы, осмелюсь сказать вашему превосходительству, пообещали бабам невозможное. Дума не устанавливает цен. На цены влияет много причин. Посевная площадь сокращена, рабочих рук не хватает.
В эту минуту за окном мимо гостиницы Губкиной побежала к Новому базару толпа баб. Генерал посмотрел туда и сказал:
— Вот, извольте видеть. Что прикажете делать? Побежала баба в красном сарафане, я ее видел уже в двух местах.
— Энергичные меры, ваше превосходительство.
— Меня не упросят употреблять оружие против такой толпы. Пусть меня судят царь и бог, пускай снимают с меня эполеты, но я не пролью крови, выйду из этого суда со спокойной совестью.
— Утром вы обещали расстрелять толпу. Я первый просил вас не допускать этого.
— Не буду же я вызывать для усмирения донских казаков? Издали приказ о невыходе на улицу с девяти вечера до шести утра — хватит. Погром начался из-за пустяка. Кто-то из мелких торговцев продал барыне один фунт сахару за шестьдесят копеек. Так и надо им, паршивым торгашам, два года пили кровь. Привыкли шкуру драть, теперь дрожат. [324]
— Послать телеграмму наместнику,— осторожно подсказывал городской голова.
— Послали. Завтра утром приедет наказный атаман Бабыч.
— Почему,— кричали с улицы,— продают одни кости и головы? Где же мясо? Разным гостиницам, а нам?
К вечеру в 1-й полицейской части пристав Цитович допрашивал арестованных. Захвачена была и казачка станицы Елизаветинской Федосья Христюк. Она приезжала на базар с молоком, распродалась и хотела добыть сахару. Крики и столпотворение у лавки замешали и ее в грех, она даже не заметила, как стала помогать бабам в нападении на полицию, потом побежала по Красной в плотной куче и бросила в широкое итальянское окно аптеки глухого Каплана свой камень. Цитович уже в полной безопасности, позабыв про «защиту Отечества», терзал жертв дознаниями. Федосья, длинная, костлявая, никогда не боявшаяся в станице ни атамана, ни заслуженного урядника, слушала, слушала пристава да вдруг сорвала с головы белый платок и, смотав его на кулак, вызверилась на Цитовича:
— Вы чего, бисова душа, на меня гавкаете? Или я вином с бочки торговала? Или я ворую сорочки с мертвых, а меня саму по репьях мужики тягали да ты меня впоймал? Шо ты на меня так кричишь — ты мне разве на свадьбе бычка дарил? Я с тобой под арбой на степу не спала, обнявши руками.
На столе у Цитовича лежала надкусанная морковка; он хрустнул ею, зажал в кулаке.
— Это ты меня ударила по фуражке и согнула кокарду? Ты кричала «паршивая полиция»? Хочешь свозить сор на дрогах в Карасун? Я тебе устрою, красная твоя морда!
— И ты будешь меня помнить! — пристукивала кулачком по столу Федосья.— Я до наказного атамана дойду, и он тебя пустит коров пасти, там револьвером и пугай. Ишь отъелся, как кабан. Лазишь по квартирам, бурдюки с запахом араки ищешь,— ну до меня ты не подлезешь. У торговцев вино отбираете, а куда его? К себе в хату?
— Фантазия досужего стряпчего. И ты мне арапа запускаешь?
— Забрал меня, а у меня в хате дети беспричальные сидят. Я не девка, а хозяйка. Куда смотрите? Бабам под юбку?
— Что ты мне бунт поднимаешь? Ты разве не знаешь, какое сейчас время? Из-за этого может быть всеобщий погром.
— Если будет погром, я первая пойду. Одна разве власть имеет суждение? Мы тоже видим. У бедных выливаете вино на землю, а немец Бруно торгует, вы ему ничего.
— Одни ли купцы и торговцы виноваты? А какие цены загибают бабы на полку, косовицу, жнивье? Залили керосином чувал рису и, думаете, вам пройдет? На сколько вы сегодня принесли убытку? — Он отложил морковку, пальцы на левой руке согнул, на правой выскочил указательный.— У Сахава в обувном товаров [325] на сто семьдесят тысяч. Это тебе что? У Фотиади Христофора — на пятьдесят тысяч. Это тебе как нравится? У братьев Тарасовых — на сорок тысяч. Это — что-о? — заревел Цитович.— Пляски?
— Ну чего ты так их защищаешь? Они уже спят, а ты ще морковку не доел. Доешь.
— Тю-у, дура. Сию же минуту пущу протокол, и ты будешь в тюрьме. Я не свят дух бегать за вами по городу. Взять дрын да прогнать тебя кругом Елизаветинской, чтобы не оглядывалась.
Федосья встала.
— Так не томите мою душу, кончайте скорее, отрубите голову, повесьте! Я такая, но подо мной земля горит в три аршина. У меня никого нет,— сочиняла она,— я злая, хуже меня и грешнее нету. Бог моих молитв не слышит, я страшная преступница и грешница. Я нанимала у Лавриненко квартиру, а он начал меня обнимать; легла с ним спать — клопы кусают. Я такая скверная,— стала рыдать Федосья,— красная, немытая, подо мной земля горит. Я в Киев молиться иду. На чертова батька мне ваш сахар...
«Она сумасшедшая прямо! — Цитович разинул рот и откусил морковку.— Как горбыль худая, страшнее турецкой войны. Чего она мелет? Отпущу...»
— Слушай-ка,— сказал он, убирая листы в ящик.— Иди, иди, ради бога, от меня подальше и больше не попадайся вместе с покровскими бабами. Помни: попадешься — не сорвешься. Клоповника понюхаешь. Ты казачка. Имей гордость... Моли бога, что я отвязал камень с твоей шеи... Бры-ысь!..
«Это он отпустил меня оттого, что голодный...— подумала Федосья.— Такую мать! — порядки охраняют, и перекусить им некогда... Ах, где ж мои кони? Наверно, Миновна уехала без меня... Чи пешком теперь? Клоповник! Я тебе покажу клоповник! Та чем же мне добираться до хаты?! Божечко мой, та то не Аким мне махает рукой?..»
Ах, этот августовский степной вечер 1916 года! — куда он развеялся? За долгую жизнь накопится немало маленьких радостей, но вечер тот по дороге на Елизаветинскую, хата Федосьи, семилинейная лампа в сарае и сон на гарбе под звездным небом — никогда! И ах эти казачки! — мастерицы унимать боль, прогонять сиротство в душе, награждать часами заботы, хлопотливым вниманием и почти материнским уходом. Не тому только было суждено вспоминаться, что она в зените ночи растолкала его на гарбе, прилипла большими губами и придавилась худым теплым животом, а и тому, как кинулась к солдату навстречу на улице, заплела за руку и уговаривала ехать ночевать к ней («У тебя ж в городе никого и покормить некому!») и побежала к Сенному рынку искать елизаветинского казака с возом. Душою взяла баба, сама некрасивая, но душа на троих!
И поехали они на вечер вольною кубанскою степью. У фермы [326] Гначбау остановились, сбегала Федосья в хату (где в 1918 году будет убит Корнилов), потом выпросила четверть молока, напоила своего дружечку Акима. Бородатый казак погонял да курил, а Федосья и Аким разговаривали за его спиной. За аулами горцев, по ту сторону Кубани, в низине, обливались последним красноватым светом просторы. Ехать бы вдвоем — было б слаще. Но и за спиной чужого человека можно коснуться руки, живота, сладко потерпеть в мыслях о темноте в хате. Он ее заметил случайно на Красной, когда шла она злая из 1-й полицейской части от этого проклятого крючка Цитовича. Кто-то им подворожил, наверно. Он уже, как всегда в юности, намерился выплутать к дороге у Бурсаковских скачек и шлепать двадцать пять верст до своей станицы Марьянской. Что ночь! — он не боялся.
Его с детства любили девчонки, жалели, но считали «глазливым». Виною было пристрастие Акима всматриваться в лица. Он отводил свой взгляд, если кто-то замечал, что за ним наблюдают. Лицо забывшейся женщины, девки цвело как радуга: то очистится мыслью высокой, таинственной, то зальется нежною лаской, то вскинутся брови, то губы скривятся в усмешке или подернутся плаксою. В лице столько оттенков, сколько в степи ранней весной,— смотришь и не насмотришься. Федосья Христюк, пришедшая на табачную плантацию из Елизаветинской, будучи старше Акима на восемь лет, говорила напарницам про его глаза: «И как они хороши! Да была б моя воля, обменялась бы я с ним глазами и додачи бы не пожалела». На танцах дурачились на все лады, пели неприличные песни; Акима переодевали в армяночку, а Федосья изображала ухажера, целовала его в щеку; ее синие зрачки (как крошечные колокольцы) не смеялись, а были зовущи. «Погадаешь мне!» — просила Федосья. Аким, гадая, раскидывал всего четыре карты. Каждый вечер перед сном она его выкликала нахально: «Ну, кто ночевать? Раз — кто ночевать? Два — кто ночевать? Три — и...» Зря приполз он к ней во тьме — ее на полу не было. Аким не спал всю ночь, придумывал всевозможные кары изменнице. Днем облюбовал он во дворе обрезок дуба и, когда все легли спать, внес это бревно в казарму и положил рядом с Федосьей. При этом шепнул: «Пусти ночевать».
На черкесской стороне колыхались дымки, под обрывом Кубани плоско текла вода, а вдали, за нескончаемой степной долиной, темнели на горизонте барашковые силуэты садов. Городская пожарная каланча прощально перебиралась по небу своей верхушкой. В лицо дул теплый ветерок. Сытые лошадки с охоткой трусили к дому. Всякий раз, когда млела душа чувством к родной вольной округе, хотелось запеть что-то дедовское. Раньше, шагая в одиночку по прямым дорогам, взгоркам и балочкам, Скиба всегда пел в полный голос, и только птицы да кони в табунах слышали его.
Не раз слышала степь и Федосью.
И когда совсем потемнело вокруг и Аким откровенней подпирал плечом ее спину, завела она материнскую, и Аким вторил ей: [327]
Козак отъезжав,
А дивчина плаче:
«Куда едешь, козаче?
Козаче-соколе,
Возьми мэнэ с собою
На Украину далеку...»
— О-ох! — громко вздохнула Федосья, когда кончили песню, и боком повалилась на Скибу.— Забунтовалась баба, а в хате дети ждут.
— Полюбила городовика? — посмеивался возчик, казак из Новомышастовской, тайком презиравший бабу за связь с иногородним.
— Полюбила-невзлюбила, тебе шо за дело? А злее вас никого в свете нема. Я сама казачка, а их не терплю. От души говорю. Он тебе за сто годов не забудет.
— А офицеры?
— И офицеры таки ж. Они хорошие на службе, но не по семейной жизни. Его не учили, как с бабой жить, а чтоб скакал, стрелял. Оно ж народом поется: «Не дивися, казак, як дивчина плачет». Мой дед: «Бери, Фроська, мазницу, мажь колеса, а я подмогу, а то я замажу черкеску. Да будешь вести бычков за налыгач. Хлеба взяла? А сало, пшено? Я не могу запылиться, я ж в казачьей форме». Не доведи господь. Себя берегли. А гуляли!
Возница больше не заикался, и Федосья, повспоминав прошлое время в молчании, тихонько рассказывала уже только Акиму:
— Я тут работницей была. Стоп — оцего ще не было: стал хозяин ухаживать за мной. «Лука Иванович,— ему,— если будешь меня так цеплять, я скажу атаману. Не будь Серком. Чего ты?» Цап, цап.
— Добрая была?
— На меня указали, шо я девкой согрешила, и батюшка назначил целый год в церкве молиться. Я походила, походила и думаю: «Какая мне польза? Хозяин меня выгонит». Говорю батюшке: «Отец Антоний, знаете шо? Я служу у хозяина, меня выгонят; работать надо, а я в церкву». А он: «Федосья, привези мне свинью на подводе и арбузов».— «Батюшка, а где я возьму вам?» — «Я буду тебе помилование творить, а ты мне не заплатишь? Приди спать до меня». От это не брешу, истинно. Пришла в церкву, я уже вижу, шо он сварится на меня. Я не подхожу Евангелие целовать. И так я не пошла до него, помилование он мне не сделал. Я дулю ему скрутила! «Ось,— говорю.— Ты батюшка! Кто ж тебя слушать будет?» Оце не брешу, сама себя выдала, тебе чи нужно было знать?
— А ничего,— сказал Аким.
— И как же ты не побоялась, на пять душ пошла? — спросил казак.
— Решила, замуж пора. Иду в церкву, а мама говорит: «Федось, я была на похоронах, умерла Шевченчиха, ну так кричали, так кричали дети, а он как плакал! Ты бы пошла за него, тебе бы [328] господь простил все грехи». Поговела в церкви, молебен отстояла. Колы навстречу тот самый Шевченко. Белая папаха, красный вершок. Казак! «Федосья Кузьминична, можно тебя на минутку?» — «Нет, я иду с церквы. Если тебе нужно, так ты знаешь, где мой батько и мать, иди туда. Буду я с тобой ковылять та балакать, шоб все знали, шо ты меня сватать хочешь». И пошла. Бросила кавалера своего. Мама спрашивает: «Ну, Шевченко был?» — «Та видела в церкви. Вышла, а он меня зацепил, так я ему отповедь дала и не знаю, придет теперь или нет». Колы идет! «Отак и отак, мамаша, папаша, я встретил Федосью, а она от меня отвернулась». Я слушаю и говорю: «Не надо с церквы встречать та сватать! Ты ж веришь, и я верю». Посидели. Батько: «Шо ты с ума сошла — на пять душ!» — «Молчите, папа, я сама отгавкаюсь».— «На черта он тебе сдался, такой старый?» — «Пускай он скажет, шо у него есть». А у него одна корова, пара коней. Наутро я встала, мать: «Федосья! Тебя кличут. Не Шевченковы дети?» Я к дверце подхожу: «Здравствуйте, детки! Чего пришли?» — «Мы по маму. Идемте до нас жить».— «Я не могу».— «Мы наловили рыбы, папанька пожарил, сказали, шоб вы пришли».— «Не пойду».— «И мы без вас не пойдем». Они так кругом меня стоят, ручка за ручку, и хором: «Ой, мамочко! Ой, мамочко!» Хоть бы там камень и то лопнул бы. Думаю: «Оце шо это такое? Ну шо это такое?» И все соседи смотрят. Так я тогда пошла, нарядилась — было во что нарядиться. Иду. «Куда?» — люди спрашивают. «Иду замуж».— «За кого?» — «За Шевченко».— «Малахольная. Куда ты идешь?» — «Пойду. Значит, так должно быть». Вот...— И Федосья заплакала.— Плевали мне в глаза: куда тебя черт несет? Пойду и пойду, сказала себе. Он чистый, красивый мужчина,— ну, шо ж, шо на двадцать лет старше? Я его таким хозяином сделала! Двенадцать коней стало, пять коров, хату перерубили, линейку купили, возили на Сенной молоко. А он взял и умер. Вот. Ну, значит, так должно быть. Такая моя доля. И у тебя она есть. Ты веришь?
— А как же.
— Другая, глядь, маменька не скажет: «Возьми, сыночек, съешь каши». А я скажу... Уже и станица наша. Сейчас баню тебе сделаю.
Уложив почивать своих деток, она нагрела три ведра воды, затащила в сарай корыто, поставила на бочку семилинейную лампу.
— Ну, солдат Аким,— сказала она,— готова тебе турецкая баня. И потру, и веничком похлестаю.
Так купают ребенка. Она намылила его, потерла ему спину, обливала водой и не переставая разговаривала.
— И нужны мне эти дармоеды! Как что — кричат: дойдем до Босфора, займем Дарданеллы! А мне в корыте хорошо, зачем Дарданеллы?
Чем же вас там кормили, що у тебя одни косточки? Куда вы без бабы! — кто вам штаны поштопает, кто руку под голову подложит? Поворачивайся, я не вижу, не стесняйся. Ото ж я косточки твои прощупаю, покормлю, пускай на них, как на кабане, жирок [329] отложится. Я люблю за мужиком ходить. Домой завтра приедешь — мать и не узнает: чистенький та румяный. Вот. Поворачивайся. А теперь вставай, я на тебя полью. Ото крючок Цитович не знает, какая Федосья.
— Дай поцелую.
— Просохнешь, я тебе на гарбе постелю, а сейчас не цепляй меня...
— Офицеры небось пристают?
— Я им неровня, а они мне не по нраву. Была моложе, урядник мне: «Поедем с тобой Петербурх, поедем без венчания». И за руки. «Давай,— говорю,— я тебя до венчания поцелую. Подставляй губы». Обмакнула мочалку в корыто — та по губам, по губам ему. «Ах ты стерва! Так я тебе в глотку саблю воткну!» — «От стервы слышу».
— С корыта не хочется выбираться. И как ты меня заметила?
— Господь подсказал: иди на Красную.
— А на дачу Бурсачки ты ходишь?
— Не... Калерия ласковая со мной, а тетка Бурсака как собака: не видит, а гавкает.
— Ну, они скоро нагавкаются. Не все нам их караулить. Хватит нас вешать, мы уже сами веревки сучим.
— Словами улицы не мостят,— сказала Федосья.— Я тебя уже раз выручала? Ой, не попадайся... Иди...
— С корыта не хочется ступать.
Закутанный в холстину, Скиба пил чай из большой кружки, Федосья еще долго возилась в сарае.
На заре он ушел в Марьянскую. Никто из них не догадывался, как надолго они расстались и как перевернется вся жизнь через несколько месяцев... [330]
ТАК ПРОХОДИТ СЛАВА ЗЕМНАЯ
Все! Все кончено в один миг. Утром генерал Бабыч проснулся, и мысль болью сдавила его: все кончено, власти в руках больше нет. Вчера был наказный атаман, царский слуга, сегодня уже никто, частное лицо, Михаил Павлович Бабыч, казак, муж, отец. В преданиях пишется: «Уже тебя, господина, слуги Твои не знают». Но то стряслось с кем-то в оны веки, а зачем пало проклятие на них? И кто бы это мог ожидать? — царь отрекся от престола. Слепыми глазами разглядел Бабыч на столе бланк (его бланк, начальника области) и по привычке заполнил строчкой: «Господи, даруй добрый день!» И перекрестился, крепко придавливая персты. Жена, маленькие дочки еще почивали; подойдя к иконе, он без прежней торопливости шептал слова, которым учила его мать Дарья Федотьевна:
— ...Избави всех с верою тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от скорбей, бед и напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховныя жизни и оставления прегрешений...— Пресвятая богородица, заступница казаков-запорожцев, отвечала ему вечным своим пречистым взглядом. Бабыч помолчал.— Да сохрани мирну страну нашу, да утверди державу благочестивейшего самодержавнейшего государя нашего, императора Ни...— И запнулся, скривил рот, заплакал.
Все кончено. Неужели все? Неужели брат царя Михаил Александрович не наследует трон? Или цесаревич Алексей?
— Господи, даруй добрые дни!
Еще четыре дня назад, 3 марта, Бабыч выезжал для встречи его высочества принца Ольденбургского; нынче все величества и высочества окликаются, как простые граждане. 2 марта на ночь читал он воспоминания о короновании Александра II и смеялся: на одной странице писалось, как московские кадеты, развлекаясь с маленькими великими князьями, подложили наследнику (тоже Николаю Александровичу, давно уж покойному) жгут и лупцевали его легонькими ударами. «Как ты смеешь меня бить? Я наследник русского престола!» — прикрикнул великий князь. «А ну-ка хорошенько его, этого наследника русского престола!» — послышался голос отца, государя. Все вскочили и вытянулись перед ним. И даже Бабыч в минуту чтения распрямил в судороге пальцы ног. Беспечные времена, вы уже далеко! В Успенском [331] соборе венчались на царство русские цари, и последний — там же. При великом стечении народа произносил государь Символ веры, и перед державным супругом преклоняла колена царица. В уединении Александрийского дворца в Нескучном готовились они три дня к принятию св. тайн постом и молитвой, слушали всенощную накануне в церкви Спаса Золотая Решетка. И гудел колокол Ивана Великого, и с Тайницкой башни стреляли пушки. В Андреевской зале государь садился на трон. На сколько лет? Оказалось, до 1917 года. С Красного крыльца ступал государь под гимн «Боже, царя храни». И уже заменили гимн пока на «Коль славен». Не бывать прошлому? «Наложи на главу его венец от камене чистого и даруй ему долготу дней, даждь в десницу его скипетр спасения...» — не бывать и сему? Не перед кем будет исполнять кантату Чайковского на слова А. Майкова? В парадной золотой карете станет ездить какой-нибудь хам Родзянко?
Сам царь сложил свой жгут. Сам! И перед кем? Перед горластой Государственной думой. «Да поможет господь бог России» — последние царские слова.
Бабыч плакал: Россия республика! Как это?! Как такое могло случиться?! Разве можно всему царству повалиться в один день? Только что, в январе, феврале, все текло по-другому, по волею божиею укоренившемуся закону. «Казаки! — поздравлял он с Новым годом.— С новым счастьем, родные мне кубанцы и обыватели высочайше мне вверенной области...» Уже дума почтила вставанием павших в революционной борьбе. Где оно, великое царство? Какая, казалось, твердыня! Какие парады, обеды, сколько горячих молитв в церквах, какие манифестации патриотизма у Зимнего дворца и на площадях российских городов! Какая блестящая свита, гвардия, какие войска! Конца, казалось, нет этому царству и под его рукою содеянному порядку. Даже шнуры балдахина несли 16 генерал-адъютантов. «Благословен, грядый, во имя господне». Купечество Москвы к 300-летию дома Романовых в ознаменование посвящения государем московской купеческой управы ассигновало 300 000 рублей на благотворительные цели. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и на Боярской площадке накрыли обед свыше чем на семьсот персон, и из внутренних покоев следовал к столу высочайший выход. Кто кричал «ура» на знаменитые царские слова: «Наша поездка по Волге и по древним русским городам доказали, что те единение и связь между царем и народом, которыя встарь отличали матушку-Россию, нерушимо существуют и ныне»? Почему же они не подают голоса в защиту помазанника божьего? Не купцы ли то, не жаждавшие ли приглашения к обеду от высочайшего двора предали государя? Где духовенство? При кликах «ура» шествовали с народом через Красное крыльцо в Успенский собор, поклонялись святыням и принимали благословение от митрополита московского иконы св. Ермогена и в Чудове монастыре тоже кланялись святыням. Что же они?! [332]
«Старый мир потерпит крах,— гадала как-то госпожа Тэб.— Наступит час для проявления героизма и для героев».
Героями, по Бабычу, могли стать в такой момент несколько генералов, конвойцы, гвардейские полки. Еще один переворот! Но назад.
Дочки пришли из Мариинского института и сказали, что бюст государя валяется на полу, а на портрете у царя проколоты глаза. Между нами всегда живут скрытые ненавистники. Они своего дождались. И это в женском Мариинском институте! Два года назад завороженно глядели девочки и дамы в глаза государя, на клочки разорвали его носовой платок, пели ему казачью песню. Ну кто же это поколол теперь ему светлые очи? Сторож Бабкин? Как к этому привыкать? Уже проклинают и отрекаются, матом кроют высокородные имена, как крыли в 1905—1907 годах некоторые пьяные казаки, за что Бабыч гнал их в Сибирь на поселение или наказывал крепостью. Тогда можно было в защиту режима вызвать полк из Самурских казарм, а теперь? Сбылось — не единицы лают на власть, а тысячи и тысячи. Рады! Чему? Ведь рухнет само русское государство без царя. Они это понимают? Какой же он слабый, отрекся, оставил в самую бойню войны свой народ на развал, а старым, таким, как Бабыч, не дал и на пенсию выйти с почетом. Что теперь будет-то?
Последние атаманские распоряжения лежат на столе в стопке: запретить продавать печеный хлеб третьего сорта выше 8 копеек за фунт; три тысячи рублей штрафа или три месяца ареста за нарушение извозчичьей таксы; двенадцать тысяч рублей в год новому городскому голове Глобе-Михайленко; за спекуляцию сахаром арестовать на три дня миллионера Тарасова. Последние жалобы казаков. Последние его слова к депутации из станицы: «Во дни испытаний личность монарха священна». А монарх взял перо, подписал отречение. Как теперь защищать Отечество? Сказал бы как Петр Великий: «У меня есть палка, а я вам отец». Или как прадед его Николай Павлович: «Или я погибну сегодня, или завтра буду императором!» За кого поднимать чарку? 23 февраля, в день приезда царя в Ставку в Могилев, Бабыч, выслушав доклад о дебатах в городской думе (где больше всех чудил старый Толстопят), удалился в домашнюю половину дворца, достал из шкапа бутылку с вином, налил полный чайный стакан и вдруг невольно, с близким чувством, сказал тост: «Пью за здоровье вашего величества и за здоровье государыни! Да продлит господь вашу драгоценную жизнь». И уже висит, говорят, в приемной доктора Лейбовича царский портрет с надписью на лбу: «Дурак». Детям в глаза смотреть стыдно. Разве он не знал, что его слабости только и ждут? Босяцкая Покровка выползла на улицы с манифестацией: свобода! Не те ли там дерут горло, кто выносил ему, Бабычу, смертный приговор в списках? А какая его вина? Наказывал, ссылал, строжился? На то власть.
Три дня не верил, не передавал Бабыч в печать телеграммы о государственном перевороте, скрывал от помощников. Но [333] известие пришло стороной, через телефонисток, и в 11 часов ночи явилась к нему депутация городской думы во главе с будущим комиссаром Временного кубанского правительства Бардижем1. Бабыч все сопротивлялся. Примет власть царский брат — и еще кто кого! Он ждал также приказа от кого-нибудь (скорее от великого князя Николая Николаевича) о призвании на помощь армии. Но солдаты Самурских казарм вывесили красные флаги свободы; но приказа не было. Рухнуло! Рухнуло самодержавие в один час. Счастливчик покойный батько говорил в 1881 году, в час известия о покушении на Александра II: «Дал бы бог не дожить до того дня, когда народ будет избивать панов дрекольями и оглоблями». Не к этому ли дело идет? Уже арестованы министры, а на Дону — наказный атаман. Что ждет его?
«Смерть и разрушение! Да водрузится будущее!» — вот что всем обещают.
«Третий день весны,— думал он, поглядывая из окна на памятник Екатерине II.— Уже в степи бабак свистнул. Нехорошо, если на первый день великого поста заходит женщина. А как раз черт принес мадам Бурсак Елизавету. Нет чутья у бабьей породы. А у меня оно было? Привыкли жить так, не думали не гадали, э-эх... Маты Катерина, дала ты нам землю, чего ж стоишь с крестом ко дворцу спиной? Скажи хоть одно какое мудрое слово... Ты на них была мастерица... Не скажешь, ты свое отправила. Ставили мы памятник запорожцам в Тамани, а как гуляли за столами! Думали, конца не будет казачеству... Нема батька, нема дела...»
8 марта при поездке бывшего верховного главнокомандующего кавказских войск великого князя Николая Николаевича через Кубанскую область в Ставку Бабыч передал ему прошение об увольнении от службы, но великий князь считал, видно, не все потерянным и отказал. «Верный слуга Вашего Императорского Высочества»,— подписался Бабыч, а кубанское войско уже в руках временщиков. Не от государя, не от великого князя принесли ему бумагу: «Начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанских казачьих войск генерала от инфантерии Бабыча уволить от службы, согласно прошению,— по расстроенному здоросью с мундиром и пенсиею...» Все кончено. Не надо будет ему вызывать на парады по Красной две роты Анапского резервного батальона, Екатеринодарский полк и конную кубанскую казачью батарею. Так проходит слава земная... Почетный старик более тридцати станиц, кавалер почти всех российских орденов, Бабыч должен был выселяться из дворца и искать кров. Только тот, кто держал в руках немалую власть, познает, до чего же трудно с ней расставаться под силою врагов. Привык думать, что твердыню не сломишь. Он ради утешения, ради того, чтобы убедиться, что он был главным на Кубани, листал прошлогоднюю подшивку «Кубанских областных ведомостей» с собственными приказами на первой полосе. Вчера, вчера еще грозою стояло его
--------------------------
1 В 1918 году будет расстрелян с сыновьями и брошен в море.— В. Т. [334]
имя! Вчера же укрепляли порядок каким-нибудь новым зовом к памяти предков: кто-то предложил награждать матерей воинов-георгиевцев орденом св. Ольги: «Со Святославом начинается наша национальная гордость». Начали подписку на памятник Ярославу Мудрому. Во исправление ошибки Петра Великого хотели перенести столицу на холмы Москвы. Неужели все сразу предали самодержавие: и льготные конвойцы? и станичные атаманы? и мытари черной сотни? И ему, кошевому батьку, никто не пришел выразить соболезнование. Но атаманскую насеку он временщикам не отдаст.
Он подходил к большому зеркалу, скорбно глядел в свои глаза, на чистенькие белые усы, на мундир. «29 января с. г. в Зимнем дворце Его Величеству Государю Императору имел счастие представляться г. Начальник Кубанской области М. П. Бабыч...» Впервые видел он свои глаза в слезах и жалел свою старость. Что ж! — прошла его слава земная...
9 мая Бабыч пришел к Елизавете Александровне Бурсак. Она во флигеле пила за столом под зеленой лампой чай и сердито препиралась с племянником Дементием. Бабыч и прежде хаживал к ней поиграть в карты, послушать о Париже да поворчать на свою моложавую супругу. Именно ей, когда-то помыкавшей своим мужем, он доверял секреты своего сердца,— таковы странные повороты жизни. Бабыч даже прощал ей дружбу с доктором Лейбовичем, особой знаменитой, но подозрительной.
Елизавета Александровна была в черном платье, у племянника на шее малиновый галстук. Дементий нарочно злил тетушку.
— Не знаю,— сказала она, встречая Бабыча,— не знаю, Михаил Павлович, какую газету взять, чтобы узнать правду. Сколько народу совратили с девятьсот пятого года этими листками. Перепутали, где правда божия, где ложь ненавистная...
— Господь, Елизавета Александровна, сказал: «По делам узнавать их». Подождем.
— Чьи мы теперь будем? Господи, господи...
— Ничего, надо привыкать. Бурсак шлепнул карты на стол.
— Не надо было обманываться и говорить: «За нами стоит народ-богатырь», когда этот народ разут и раздет. Вся эта «безграничная преданность народа своим царям» — на бумаге. Завтра же царя забудут. Они в андреевских лентах шествовали с парада на парад, открывали «польский» и изволили «отбывать во внутренние покои». Сколько самоуверенности, самомнения! «Мы, Николай Второй...» Уж так отстать: можно ли это слышать? Нет, просто ничего не бывает. Заслужили.
— Государь чувствовал,— сказал Бабыч тихо; в другой раз он бы разделал этого остроносого племянничка, как тушку.— Во вчерашней газете со слов лейб-медика пишут, как он с семьей встречал Новый год. А мы и не знали. Играл в домино с дочерями, свечи [335] на елке не зажгли. Медик поздравил: «С Новым счастьем!» И сам, говорит, почувствовал, что будто странно звучат его слова.
— Война проклятая! — сказала тетушка.
— Воевали и раньше,— поправил Бабыч.— Прозевали опасность крамолы. Плакали по усадьбам, по оранжереям, а оно нынче не о том плакать придется. Интеллигенция отдала свою собственную заботу на пользу иноземца. Взмостились на ходули западной цивилизации, свои коренные устои ослабляли год за годом. Пропала Россия!
— Что вы хотите, Михаил Павлович...— Елизавета Александровна родственно подвинулась к бывшему наказному атаману.— Уже в десятом году стало заметно, как что-то изменилось у нас. Такой, например, жизни, какая была еще в восьмидесятые годы, никогда, наверное, больше не будет. Даже балы не те. На балах стало больше народу разного. Допускались уже те, кто никогда не допускался. А разве можно было раньше подозревать горничную, что она что-то унесет у господ? Все упростилось, а сердечной простоты, что была, все меньше. Бывало, выйдет человек на улицу, со всех сторон кланяются, а потом? По Красной гуляют проститутки. Казак шел старый по Борзиковской, тяжело. «Доведи меня, деточка, до угла, я тебе и на платье наберу, и копеечку дам». Это надо было видеть!
— Батько мой Павел Денисович, если спрашивали, как поживаете, всегда отвечал: «В спокойствии духа и совести».
— А нынче Сенька выбрал шапку по себе-е...
— Уже «Чашку чая» обругали! — Бабыч усмехнулся.— «Чашка» им не такая.
— Все вырождается,— сказал Бурсак,— и цари, и знать. Сколько духовенство ни осеняло бы путь монарха и сколько раз по десять тысяч рублей ни кинь городам — этого мало: надо накормить всех. Разодрали русское знамя себе на ливреи. Кровь лили.
Бабыч задвигался на стуле, словно чесал зад.
— Государь не подлежит обсуждению. Он не может сделать зла. Что, вся кровь, пролитая в России, пролита по высочайшему повелелию?! Никогда!
Тетушка закивала:
— Рано, рано дали свободу русскому народу. Еще будут локти кусать, воображаю, какая грустная жизнь наступит лет через двадцать. И сквозь золото льются царские слезы. Намучаются и поймут, что при государе им жилось не так плохо. Государь родился в день многострадального Иова.
— Все вырождается,— повторил Бурсак.
— Уж несут заявления: «...так как я настрадался от действий кошмарного режима...» Делопроизводителю кричат: «Уходи как не соответствующий современному государственному строю!»
— Этот строй еще в люльке лежит,— сказала Елизавета Алексадровна.— Пусть они сначала юродивого Григория Босого в Екатеринодаре вышлют. [336]
— Кто это?
— Появился на днях на Сенном рынке «Христос». С «апостолами» и «богородицами». Бежал по Красной от городовых с криком: «Христоса ловят!» А эти грязные «богородицы» целуют у него ноги и вопят: «Спаситель наш! Спасителя нашего ведут на распятие!» Такая тоска, такая мука. Чем все это кончится? Вам пенсию дали?
— Две тысячи шестьсот пятьдесят пять рублей в год, сверх того, из эмеритальной кассы две тысячи сто сорок пять. На службе мне платили пять тысяч жалованья и пять тысяч столовых. Ну, нам хватит. Не в том дело. Сколько уж тут жить осталось? Восьмой десяток догрызаю. А дочки, даст бог, вырастут с матерью. Недвижимого имущества не нажил. Так проконопатил на службе с места на место, и земля отцовская к немцам перешла,— вы ж знаете, колония Гначбау под Нововеличковской, то наша была земля. И под Ахтанизовской. Отец получил наградной участок — тоже немцам перешел, арендовали на девяносто девять лет. И дом отцовский, где ночевал Александр Второй, снесли. Я, Елизавета Александровна, верный служака. Сегодня надень шапку в шесть вершков, завтра трех; сегодня черкеска черная, а завтра красная; сегодня сумы холщовые, а завтра ковровые. До сорока лет был на привязи. Раздайте карты. Посидим, а завтра пойду на могилы. Попрощаюсь, да надо будет мотать из Екатеринодара.
— А куда ж ехать?
— В Кисловодск на дачу Соколовой, что в Ребровой балке. Подальше от греха.
— Рано, рано,— еще раз сказала Елизавета Александровна,— дали свободу. Настрадается русский народ.
Дементий Бурсак не выдержал:
— Может, тетя Лиза, разумней говорить об этом в прошедшем времени?
— Нема батька, нема дела,— ответил за тетушку Бабыч и подкинул ей пиковую шестерку.
Играли они в своей жизни последний раз.
10 марта передал он помощнику печати, бланки, допустил описывать казенное имущество, но почтальон Евлаш все еще носил письма на его имя. Казак, некогда гонявшийся за ним в Тамань с желанием заполучить племенного бычка, плакался, что в станице нет ни одной мукомольной мельницы, возят зерно за двадцать пять верст и ждут там по неделям, а потому нижайшая просьба: освободить от военной службы в действующей армии в 6-й батарее единственного хозяина мельницы такого-то. Палач слал ему требование уплатить 150 рублей, по 50 за каждого казненного им в марте 1914 года,— деньги якобы присвоил делопроизводитель канцелярии. Пусть теперь отвечает департамент полиции! Заведующий бараками для военнопленных умолял распорядиться о розыске блудной жены, попавшей под влияние «людей [337] старого режима». Из тюрьмы просился домой под честное слово Г. на близящийся праздник св. пасхи. И к рождеству, и к пасхе, и к казачьему празднику Бабыч приказом атаманам отделов освобождал всех, кто отбыл треть наказания. «Посидите, голубчик, при новом режиме. При мне вы у стены с цирковым медведем баловались, вот теперь знайте». Вдобавок ко всему прискакал чистить грешников Лука Костогрыз. Быстро наглеют люди! Как у себя в хате, ходил Лука по комнате и хватался то и дело за кинжал на поясе.
— Ач! Наказачились. Я говори-ил, не послушали меня, я чу-уял, куда ветер камыш гнет. Видите, шо теперь.
— Что тебе от меня надо, Лука?
Костогрыз продолжил ту свою гневную речь, которую он начал в трамвае из Пашковской.
— Христос построил церкву на двенадцати камнях? Та-ак. В старом режиме я правды никакой не добился, и новое правительство осталось на мою просьбу глухим. Нигде не написано, шоб церква делала ограбление. Куда мне кричать? Внуки против немцев и турок кровь проливают, а честным судом свою домашность не возьму. Тогда скажите, бога ради, чего ж мне думать? С коленопреклонением просил — отдайте мое имущество.
— Кого просил?
— Наше кубанское правительство.
— Жди, пока утихнет, и власть установится как следует.
— Жди.
— А что такое?
Костогрыз сел, нацелил люльку на Бабыча.
— В тысяча восемьсот шестьдесят четвертом году мой дед построил на церковной площади дом с лавкой, крытый железом. После его смерти поп Геласий самохрапно завладел тем домом, поставил в шестнадцатом году туда вдовствующую попадью, якобы просвирницей. Поп-черносотенец до сего дня служит и молится за царя Николая. Вчера со слезами говорил в церкви: «Нужно молиться за своего царя».
— А ты кому служил? — печально спросил Бабыч.
— Служил, а теперь его уже нет. Настал праздник свободы. Народ изливает свою обиду.
— Где твоя совесть, Лука?
Костогрыз отодвинулся назад, перепугался по старинке атамана, потом сморгнул гнев, устыдил себя мыслью: «Атаман кошевой несчастный — как с креста снят». И глупо улыбнулся.
— На Сенном рынке совесть забыл, Лука? Стьдесят лет назад у вас лавку отобрали, ты молчал, а теперь на старый режим жалуешься? Так ты к ним и ступай. Ведь свобода! Нема совести. У тебя от царей награды, ты им в ноги кланялся и ходил за ними как нянька. Отрекся государь-батюшка, и ты ему тоже нож в спину?
— И ходил за ним, и ходил, Михайло Павлович, да шо хорошего от них казакам было? Мало казак той беды принял? Что она, [338] Русь! Бывало, какой черт ни возьмется оттуда, требует казачью лошадь и казачью охрану. Великими князьями не ты ли, батько, казаков отрывал от полка, шоб их, чертей, на охоту везли в Псебай? Ото москали покуражились над нами. Если у русского крестьянина один сын, его в армию не брали. А казаков всех поголовно. Даже слепые на один глаз служили. Вон в Первом Ейском полку казак станицы Копанской слепой на один глаз был. Бисову мать! Некогда и хлеб было посеять, занимались охраной матушки-России. Хлеб при недородах покупали в Азове. Я увидел первую сеялку в семьдесят девятом году.
— Интересы казаков всегда были близки царскому сердцу.
— Это так под рюмку балакали по праздникам. А мы помним. Четыре года отбудешь на службе, а лошадь продать не смей, тебя ще во вторую очередь поставят, и не запряги; как найдут след хомута на шее — бракуют. Охо-хо-о. Всю зиму в строевых занятиях, а май в лагерях. На границе в холодное время в буйволятниках жили.
— Чего ты пришел ко мне?
— Та я пришел проститься с тобой,— вдруг смирился Костогрыз.— Старый я, и ты старый. Нам уже до бога идти. Нехай без нас поживут. Без нас в электробиографе «Тайны гарема» смотрят. Нехай.
Бабыч сидел как каменный; ничто не трогало его. Ему все были противны. Все предатели, все нечисть. Скорей бы закрыл дверь Костогрыз. А тот отпустил ручку двери и вернулся на середину комнаты.
— Я ж не с тем пришел к тебе, Михайло Павлович... Не, не так. Я б не пришел до тебя, если бы сон не увидел. Проснулся, и ото так же, как я тебе приходил рассказывать сон про могилу Бурсака, так же у меня засосало: кому рассказать? Почесал за ухом: чи дома он, батько, чи уже арестован и без оружия? А я, как луку с салом поем (ты знаешь по охоте), меня за веревку дергает! Пойду! Давай, Одарушка, черкеску с медалями!
— Что ж за сон такой?
— Разреши мне присесть.
— Так тогда давай уж я скажу, чтоб нам стол накрыли. Оно, может, правда наш век кончился.
— Та чего я буду вас объедать теперь! Я сытый.
— Где готовится обед для двоих, там и третьему можно не быть голодным. Или Кубань нас не кормит? Хоть ты уже и отпил чай, но хоть чашечку и со мною выкушай, и то мне совестно одному.
— Ну, пожалуй, уж выпью.
Бабыч позвал супругу; она приготовила закуску. На столе появилась квашеная капуста, соленые огурцы.
— Ач! — рассмеялся Костогрыз.— Вспомнилось, как в восемьдесят восьмом году, колы я после крушения царского поезда вернулся на лечение, трубач Шкуропатский угощал. Батько [339] того, шо на Борзиковской сейчас. Понаставил, налил, а сам взял в руки скрипку и туда-сюда ходил, играл со мной и разговаривал.
— Сон...
— Сон! Снится мне под тот день четвертого марта. Будто все то давно, аж при первых атаманах. Поехали наши казаки с Вышестеблиевского куреня за солью в Крым. И я с ними. Уже синичка запела: «Бросай сани, бери воз». И не день и не два идем после переправы в Тамани. Бог миловал: никакой оказии. Допхались до Крыма, натягали на возы чувалы с солью, помолились на заход солнца и — назад. Сплю, вижу сон и знаю, шо сон, а не встаю. Татар миновали, въезжаем в православное село в косарский полдень,— как раз Великая пятница была. За селом стали табором. Перекрестили место, выпрягли своих воликов. Пришла пора кулеш варить. Тот кизяки собирает, тот перекати-поле, а тот таганки ставит. А я взял будто баклагу на плечи, набил роменским табаком люльку, потянул в село по воду. Ач! — навстречу люди. Я шапку снял, поздоровался: «А то вам, добрые люди, нечего делать, шо вы по улице шляетесь?» — «Мы люди крещеные,— они мне,— были в церкви, сегодня Великая пятница. Сегодня бог умер». А я будто: «Правда? А где он лежит?» — «От дурень так дурень! Иди в церкву и увидишь». Эге! Пойду ж. Пришел, поставил баклагу под церковью, вынял с пояса кисет с табаком, воткнул туда люльку, положил на баклагу, выкашлялся, обтерся полою, шапку снял — и ее на баклагу. Вхожу — колы там мертвый человек лежит. Я как об пол ударился!
— Та опять брешешь,— сказал Бабыч недовольно.
— Истинно, батько. Лежит мертвый бог. Упал я на колени и стал креститься. А из церквы иду, кисет с люлькой запхал в пазуху, забыл и курить. Шапку аж на очи надвинул. Набрал воды, иду и думаю: шо мы теперь на свете без бога будем делать? Старые люди говорили: без бога нет дороги. Без него нас москаль заездит. В таборе сел у воза, подпер голову и молчу. «Шо ты там ходил,— спрашивают,— шо видел и слышал?» — «Бог умер,— говорю будто.— Лежит посреди церквы в селе». Они повставали, поснимали шапки: «На шо ж он нас осиротил? Москали будут нас обижать, и некому за нас заступиться. Ложились до краю!» И стали кричать, кого выбрать заместо покойного бога. Толстопят-старик поддувает под каганком кизяки та молвит: «Нехай будет богородица». А я и говорю: «Не-е. Хоть она и мати божия, а она жинка, ей нельзя в алтарь входить».— «Колы богородица не подходит,— вскричал трубач Шкуропатский, несучи до таганка оберемок перекати-поля,— так нехай будет боговать Никола».— «Сгодился бы,— отвечаю,— ну одно горе: он дуже с москалями познался».— «Так на кого ж кинем?» — мой внук Дионис кричит. «Та чего тут думать! — это ты, батько, обозвался, громко, как звонница на площади, подал голос.— Нехай будет Георгий! У него своя коняка, и шлях насыпет и уровняет. Оце так! На что змей крылатый был лют, так он и тому попал копьем в глаз и пришпилил [340] до самой земли. Нехай будет Георгий!» — «Оце так! — и я закричал.— Оце правда». И проснулся.
Бабыч молчал. Жена принесла им чай. Дымок вился над стаканами. Два казака сидели словно в полном одиночестве.
— И знаешь шо, батько? Знаешь, какой то сон? Когда я был маленький, рассказывали старые черноморцы про Сечь. И я забыл на шестьдесят лет целых. И вот оно!
— Они сложили, когда их Екатерина выгнала из Сечи.
— Ясное дело — тогда. Чую, придется переселяться казачеству опять. Потеряем землю черноморскую. То моя душа пророчит.
— Нам с тобой уже мало осталось,— сказал Бабыч.— Переселяться некуда...
Ночами Бабыч не спал, думал о том, где доживать век. Дождаться окончания войны, купить плановое место в родной станице Нововеличковской и сиживать сычом на кургане перед заходом солнца. А пока с глаз долой!
— Может, в Эривань поедем? — спросил он супругу Софию, которую там и засватал. Это был его второй брак, взял моложе себя на целых двадцать пять лет. О чем ни спроси, никогда не знаешь, как она ответит.
— Ради бога! — сказала жена из столовой. Но как это понимать?
— Что, Сонюшка?
— Поедем, пока не арестовали, в Кисловодск!
— Меня не за что арестовывать. Пенсию виновным не назначают.
— Повыпустят босоту из тюрем — найдут твою вину.
Бабыч отошел к окну, задумался. От памятника Екатерине хромал к двору Авксентий Толстопят. Куда он шел? Бабыч раскрыл окно, Толстопят увидел его и остановился. С 1905 года они дулись друг на друга и даже в Тамани на открытии памятника запорожцам не покорились в праздничном братстве.
— Иди, иди! — крикнул Бабыч и позвал рукой. О смута, она разодрала отношения старых товарищей.
В том 1905 году революции Авксентий Толстопят командовал полком 17-го пластунского батальона. Бабыч был помощником наказного атамана. В ноябре за его подписью прислали батальону указание выступить из станицы Уманской в направлении бунтующего Новороссийска. Станица провожала казаков угощением; старики, матери, жены ехали за ними на подводах до станции Кисляковской, пели, плакали, кричали; казаки стреляли в воздух. Все были пьяные. «Нам царь-батюшка,— кричали,— в табельные дни отпускает водку, а потому мы пьем и других угощаем. Нас везут охранять купцов,— где такой приказ? Две службы нести нельзя!» Семь дней бездействовали казаки на запасных путях в Екатеринодаре в вагонах-теплушках. Участились массовые [341] самовольные отлучки по харчевням и грязным домам с девицами. Сторублевое пособие нельзя было отправить семьям из-за забастовки почты — оно пошло на веселье. В Новороссийске казаки вдруг отказались грузиться на пароход «Великая княгиня Ксения»: потопят!
— Вас мобилизовали по высочайшему повелению!
— Покажите нам высочайшее повеление. Государь ничего не знает. Нас собрали для охраны купцов, на их средства и содержат. Не поедем в Батум!
Ночью прибыл генерал-майор Бабыч, застал Толстопята в вагоне в одном нижнем белье.
— Они еще в станице решили не идти на погром,— сказал Толстопят генералу.
— А ты где был? Привел оборванцев.
— Я тоже не хочу стрелять в толпу. Стоит, дескать, убить двух-трех евреев, и беспорядки в городе прекратятся. А я так не считаю.
— Тогда подавай рапорт об отставке! — приказал Бабыч и пошел уговаривать Третью сотню. Речь его была гневной:
— Вы позорите свое родное Кубанское войско. Не только войско, но и станицу и свою семью. Что скажут старые казаки, если встретят на улице ваших детей? «Оце сынок позорного батька». Вы с этими вопросами не считаетесь? А оно будет, а, может, уже есть... Вы кого послушали? Бунтовщиков, агитаторов? Они вам посулят много, а что дадут, спрашиваю вас? Кроме позора — ничего. Они выкинут вас с честной и святой земли, что добыта вашими прадедами, дедами и батьками. Зачем? Чтобы самим стать хозяевами на вашем месте. А вы их слушаете. И вы возьмете ком грязи и бросите в чистое солнце? Вы замараете войско. Надо помнить, что казак без доброй вашей славы и чести, казак на печи и в кожухе с клюкою не казак. Деды ваши были еще темнее, но лихая слава сопутствовала им до конца. Призываю вас на борьбу с ворогом государства!
Третья сотня послушалась Бабыча, погрузилась. Уже был поднят флаг и готовились снять сходни, как вдруг с парохода сошла вся команда. Другие казаки предупредили ее, что перестреляют всех, если пароход тронется с места. 17-й пластунский батальон вернули назад в станицу Уманскую.
«Помните одно,— советовал Толстопят нижним чинам,— будет следствие и суд. Не подводите невиновных товарищей. На меня же вам трудно будет свалить вину, так как я поступал по закону. Я мог быть преступником, но подлецом не был».
Бабыч ему этого простить не мог.
— Читал?
Бабыч сперва не понял, о чем спрашивает Толстопят. Он стоял перед дворцом, задрав голову.
— Читал, шо про тебя пишут? [342]
Толстопят точно флажком водил газетой по воздуху. Постоял без всякого сочувствия и пошел опять к памятнику.
В «Кубанском курьере» публиковали интервью с комиссаром Временного правительства Бардижем.
«Правда ли, что высшая администрация области старалась спрятать под сукно телеграммы о государственном перевороте?»
«Бабыч и др. сделали попытку замолчать. В городе начались волнения. Тогда под моим давлением Бабыч разрешил напечатать в газетах телеграммы. Привычный к бесконтрольной власти, Бабыч не хотел уступать своего места. Тогда население потребовало сместить атамана, а иные требовали его ареста...»
Бывшая прислуга дворца уже выносила в сад красную и мягкую мебель, кровати с сетками, плетеные и венские стулья; супруга упаковывала портреты, образа и иконки. Жалко было мраморного столика, за которым играли в карты с наместником графом Воронцовым-Дашковым, но столик был казенный. Ничего не взяли чужого. Родной сестре Бабыч дарил венецианское зеркало...
— Подушечку, Соня, под ноги не забудь...
13 марта Бабыч посылал за Терешкой и ездил на кладбище поклониться родителям. Так у него было заведено: перед дальней дорогой и по возвращении он навещал семейные могилы. В еще голом кладбищенском лесу постоял теперь у мраморных плит, вспоминая самое дорогое из своей счастливой жизни под кровом отца-матери. Лучший кусочек клала ему матушка на тарелку; а батюшка воспитывал казачонка лихим. Золотую, с бриллиантами, табакерку (подарок отцу от Александра III) он уже носил с собой в правом кармане. Коллекцию старинного оружия супруга сложила в сундук. Что ж, отец повоевал на славу — племена натухайцев, шапсугов и абадзехов произносили его имя со страхом. Три года в походах, в двадцать два года получил орден св. Георгия и увенчал свои подвиги орденом Белого орла. Скакал казак от Темрюка, Анапы, Геленджика и Гагр до Силистрии в Болгарии. В 1846 году, когда ему, Мише, было два годика, отец начальствовал в крепости Фанагорийской, а в 12 лет он молился за него по наущению матушки — чтоб вернулся живой из битвы с горцами, потом англо-французами на Таманской горе, на косе Чушке и в станице Ахтанизовской. Спи, батько... Он попрощался с тревогой, и когда пошел, то несколько раз оглянулся с чувством, будто мать и отец следили за ним.
— Повезешь в Кавказскую? — спросил Терешку.— Там на поезд.
— Были бы вы начальником области, опять бы заработал семь суток аресту — не повез. А теперь повезу.
— Когда я тебя арестовывал?
— Послали за мной казака на биржу, а я отказался. Но я досидел, вы мне три дня скостили, пасха настала. А чего бы вам не остаться в Екатеринодаре? Вон панычи хвалились: у нас как в Париже! [343]
— Да, у вас теперь как в Париже — свобода...
Как ни согнули его дни переворота, а в осанке, в важной речи чувствовалась гордость властного человека. Стояла ласковая весенняя погода. Галдели лавочники. Птицы кружили над Александро-Невским собором. Бабыч во спасение свое скоро перекрестился и потом смотрел только вперед. На пожарной каланче краснел флаг. В «Чашке чая» было пусто. Какие обеды устраивали, какие речи текли, сколько воспоминаний! Объехав вокруг памятника Екатерине II, взглянув направо на деревца над могилами старых атаманов, Бабыч встал у дворца и расплатился с Терешкой.
— Завтра подъезжай с утра. Да скажи Евстафию Сухореброву, пускай один экипаж еще пришлет. На дочек. С крытым верхом.
— Хо-о! — крикнул на лошадей Терешка.
У городского сада в фаэтон сел Попсуйшапка.
— Как дела?
— Дела будут идти,— сказал Попсуйшапка,— если не спать. На ярмарку готовлюсь. Чего Бабыч говорил? Эх, я думал, опять он закажет папаху из тибетского козла. Кончилось царство. Руби столбы, заборы сами повалятся. Я маленьким был, когда коронование случилось. У нас в деревне Новая Водолага сколько было у торговцев возле лавок керосиновых бочек (и смола была там, деготь), так все выкатили на площадь и зажигали. А мы, мальчишки: «Пошли на пожар!» Раздавали на коронацию фрукты, чашечки с вензелями... Ну, оно, может, к лучшему?
— А чего нам их жалеть? Они нас кормят?
14 марта Бабыч выезжал за город в степь, по Ставропольскому шляху. Прощай, Екатеринодар.
«Прощаюсь с тобой, батько, не без душевной грусти,— сказал в тот раз Лука Костогрыз,— но на все есть воля божия». Проезжая пашковские сады, Бабыч позавидовал казакам, которым не надо менять жилищ и которые и при новом правительстве, если не обберут их в правах, будут кричать во все глотки: «Готовы ринуться по первому зову!» За садами скрывалась внизу Кубань; эти места были опасны еще во времена его молодости, и где-то здесь мать Луки Костогрыза захватили черкесы.
Кисловодск не Кагызман на границе Карской области, у реки Аракс, но и не земля родная. Опять Кавказ, Азия! Там на службе казаки дружно поругивали Русь. Три тысячи футов над уровнем моря, в 15 верстах город Александрополь, в нем три тысячи турок, армян, татар. Бесконечные строевые занятия, карты, танцы в офицерском собрании по праздникам. Российская казна вечно побиралась и отнимала у казаков суммы на постройку своих казарм. Казаки ютились в казармах глинобитных, тогда как русская драгунская конница, пограничная стража и пехота возделали себе помещения на славу — целые городки. В конце века русская Кавказская армия (в лице командиров) напоминала богадельню, в которой высшие чины доживали свой век на казенных [344] хлебах. В Кагызмане командиры бригад были престарелые, причем один был глухой, а другой слепой. Командующий войсками Кавказского военного округа являл собою настоящие мощи. И в Петербурге был тоже склад древностей с великим князем Михаилом Николаевичем во главе. Только с такой рухлядью можно было выкидывать разные штучки. Один старец (начальник дивизии) требовал, чтобы на постах разводили огороды и бахчу. Догадливый офицер Шкуропатский (дед Калерии) накануне приезда начальника заставил татар вспахать землю, перенести бодылья арбузов, дынь, посадить и попривязывать нитками. Удостоился благодарности! Он же в селении Топаджык, под самым Карском, устроил банкет и пригласил губернатора. Привез за шестьдесят верст из Саракамыша сосен, натыкал в землю рядами, и так в один день вырос на голом месте парк. Губернатор диву давался!
Россия-матушка! Полный благих порывов и идеалов казачий офицер сталкивался на первых порах с дельцами и мошенниками. Да, Россия гнила потихоньку, признавал теперь огорченный Бабыч, и всю эту гниль прикрывали императорской мантией. В армии пили. Тогда и Бабыч много пил, и дело доходило до того, что офицеры, меняя бутылки, подсовывали ему вместо вина холодный чай. Лошади бежали под горку, словно спускали его на воспоминания в эту самую Азию. Сколько там казаков сложило головы! Не раз, награждая белым крестом, произносил Бабыч речи: «Прежде чем получить белый крест, каждый из вас ждал себе другого креста,— и не на родной стороне, а на далекой чужбине. Вот почему поднимается рука ломать шапку перед вами, и первее всего хочется вспомнить ваших товарищей, что оставили свои кости на чужой стороне». За каким крестом теперь едет он сам? Ехал, и обиды на Русь все разрастались. В 1894 году на перевалах Сенак-Баш и Караван-Сарая завязалась перестрелка с курдами, и на фланге был ранен русский прапорщик; казак станицы Новоминской достал его, лежавшего впереди стрелковой цепи, взвалил на себя и под пулями вынес в укрытие. Русский прапорщик получил золотую медаль 1-й степени за храбрость, казак — ничего.
«Проморгала Русь все! — злился он теперь, потому что кара пала не просто на царскую власть, а и на ее слуг.— Бисовы души! Не парады, не памятники и публичные молитвы были нужны, а...— Он не мог подсказать что.— Говорили же: придет время, и людские слезы камнем упадут на их головы. «Рады стараться, ваше императорское величество!» А кому ж теперь кричать? Выборным? Дулю. Генералы предали Россию. Скрутили государя. Дулю вам, дулю! Все равно России нужен царь, одна рука, а не десять. Дулю вам!»
Когда сели в поезд на станции Кавказская, Бабыч сразу же лег на устроенную женой постель и заснул. Теперь едва ли прицепится кто-нибудь с отмщением. Снилось ему, будто совал ему Лука Костогрыз газету «Новое время» и дергал за руку: «Вставай! [345] Государь ждет расписаться в особой книге в память о посещении твоей хаты». На пустой странице чернело: «ТОСТЫ БЫЛИ ПОКРЫТЫ ВОСТОРЖЕННЫМИ КЛИКАМИ «УРА!».
Проснулся — на станции красные флаги. Что будет-то?
«Храни нас, господи,— шептали ему уста покойной матушки Дарьи,— пресвятой ангел мой господь, храни меня. Во все минуты храни меня, во все часы...» [346]
СВОЯ ВЛАСТЬ
И упала прошлая жизнь!
И заговорили те, кто молчал, и примолкли всегда говорившие.
Помещичьей России не вернуться.
«Плакала Временная власть! — разговаривал сам с собой Аким Скиба.— Наляскались. У них только и хватило ума, чтоб в газетах разорвать наряды Романовых. А у народа животы пухли и потолки валились. Сколько в пользу голодающих ни устраивай Грандиозных вечеров, не накормишь; греко-итальянская капелла с этого вечера все тарелки с балыком и утащит. Ни в ком здоровья настоящего не было. Кончилось! В один год столько событий. Еду, а не верится, что Екатеринодар уже другой. Все господа еще на месте, а уже не господа. И что ни газета — аршинными буквами наша СВОБОДА смотрит. Назад ходу не будет... Зимний дворец наш...»
— Терентий! Назад ходу не будет, слышишь?
— А я назад не поворачиваю, я ж по Длинной взялся везти,— отвечал свое Терешка.— Теперь бегунам с фронта не надо скрываться. И что ж это будет?
«Не надо мне скрываться... Воткнул раньше других винтовку в землю, а позовут завтра большевики — возьму... Вези в длинную жизнь...— радостно благословлял Аким.— Заслужили. Наши товарищи хорошо поработали. Где ж тот помощник полицмейстера, что убил моих братьев? И где Бабыч в папахе и комиссар Временного правительства Бардиж? Назад ходу не будет. Ни-ко-гда. Власть народная. До скончания века...»
На магазине братьев Богарсуковых окна закрывали красные дорожки лозунгов.
— Надолго? — крикнул Терешка, отваливая голову вбок.
— До скончания века,— как отрезал Аким.
— А жена пристава Цитовича вчера заливалась под воротами: «Погодите шапки кидать, мы перебьем эту босоту...» После пятого года говорили: «Придет время, будем панов люшнями бить». Так, значит, пришло оно.
Все крючки-полицейские куда-то разбежались. На пожарной каланче резво трепыхался красный флаг. Не будет у них больше царства над бедными. Вот-вот появятся из далеких тюрем екатеринодарские подпольщики. Эхом звучали в ушах опасные речи смельчаков на фронте: «Зачем вам внешняя война? Зачем воевать с турками? Это наши братья, у нас враги внутри, они нас [347] триста лет мучили». Но впереди еще, видно, будут сражения. Вчера с вокзала вез Терешка двух солдат Кавказского фронта; рассказывали кое-что. Солдаты были как раз из того батальона, где воевал Аким. Когда в Петрограде свалилось Временное правительство, все титулы в армии умерли сразу. Уборные были закиданы погонами. Военное богатство, оружейные арсеналы, склады с продуктами, обозы передали чужим войскам, солдаты же погрузились в пустые эшелоны и поехали в Тифлис. На складах и платформах Саракамыша ворохами лежали товары и обмундирование, горы сапог, и их всякий тянул себе на ноги. Брали сапоги, палатки, шинели, валенки, и никто не спрашивал, зачем берут. На станциях, когда отходил поезд, солдат было полно не только на крышах вагонов, но и вокруг дымовой трубы паровоза. В Елизаветполе стояла «дикая» дивизия, прибывшая с германского фронта, и отбирала оружие. Ночью завязалась с нею ружейная перестрелка. Вслед за бронепоездом двигалась масса татар с окрашенными бородами. Началась малая война. Как спаслись, как отбились — бог ведает.
В Армавире на вокзале все окна были выбиты, и в каждом выставлены пулеметы.
Борьба еще впереди.
На родине Акима, в станице Марьянской, казаки подписали на сборе приговор: «...в присутствии станичного атамана имели суждение относительно тяжелого положения нашего родного края и о том, защищать ли его или отдаться всецело в руки большевиков... Постановили — сходиться с большевиками против панов...» [348]
С КАКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ?
Что бы там ни гремело вокруг, личная жизнь не убавляет своих ударов, хлопот, огорчений. 28 октября по старому стилю, через два дня после переворота и крушения временной республиканской власти, Василий Попсуйшапка повез старенькую свою матушку в Новую Водолагу, на Украину. Его как будто не касалось событие, которому наречено быть великим,— тогда такие, как Попсуйшапка, не понимали сразу, куда с этого дня вступает Россия. Засыпал Попсуйшапка с мыслью о том, как пристроить в родной деревне матушку и хорошо ли ей будет там. Там жила дочь, жила не в ладах с мужем, и Василий переживал: нужна она им? «Отвези меня,— просила мать,— отвези умирать». Он ее долго упрашивать, обещал ей снять комнату у швейцара городской управы, раз уж она чувствует себя у снохи чужою. Но она ни в какую! Она была характером мягкая, гостеприимная, очень верующая: перед пасхой даже воды не пила. Ему было стыдно перед товарищами-шапочниками. Так храбро, по многу раз, рассказывал он им о ворожбе цыганки и до женитьбы ни на минуту не сомневался, что мать будет жить с ним до скончания дней своих. А вышло? Сдал он ее на руки сестре, положил на расходы и питание запас денег, наказал и дальним родственникам присматривать за матерью его и вовремя извещать о неблагополучии. 3 ноября уехал назад, прикупив по пути в Керчи связку смушек.
В Екатеринодаре уже целиком перетряслась обстановка, но Василий все жил своими думами и домашними заботами. Уладится!
Но совсем схорониться от событий нельзя было. Именно в воскресенье, в декабре 1917 года, когда затянула его жена в Пашковскую к Костогрызу, чуть не убил его Дионис, сорвавшийся с развалившегося фронта на Кубань. В этот день на далекой стороне умерла мать, и никто Василию о том не сообщил. Кто знает, как она померла. Они с братом Моисеем не могли себе простить, что послушались ее и отвезли в Новую Водолагу.
В то воскресенье пошел он на Старый базар купить мяса на борщ. «Сон хороший был,— вспомнил Василий утром.— Ловил рыбу и поймал судака вот такого. Это заказчик будет хороший».
Рыбный магазин тоже не пропустил. Гриша Хаджиев на месте. [349]
— Что у тебя, Гриша? Только севрюга, осетр, а лососины нету?
— Ну как! Пожалуйста.
Пока все есть. Жить можно.
Знакомых на базаре — не просунешься! Идет навстречу богач Обухов — как не поклониться? Приказчик из магазина братьев Тарасовых (вишневый компот — его слабость) — ну тоже здравствуй, тоже доложи ему про дела. Казак станицы Северской привез сало — ну, как там, вышла замуж Маруся, научилась чистить селедку? О ярмарке в Каневской поговорили, другому казаку совет дал: «Когда закончится ярмарка, не вези домой товар. Купи сливочного масла, его любая кондитерская возьмет. Малосольное по восемь рублей, свежее десять пуд, в кадушках». Вон жестянщик, согнул спину в горе, жену похоронил. «Поздно теперь плакать,— думал Василий,— поздно. Когда она, бывало, на тын выйдет та в подоле навоз тащит, вот когда надо было жалеть». Пожаловался ему утильщик Лапенко: грыжа замучила; по этому поводу Василий пошутил: нету отца Иоанна Кронштадтского, а то б к нему поехать — «поболтать», как те студенты. Старик хиромант сам взял его за руку, пощупал кисть: «Будешь вдовцом. А проживешь долго. Хотите, я срисую вашу руку и через два дня дам ответ?» Попсуйшапка отвернулся: «Через два дня я и сам узнаю». Старый черкес, адъютант бывшего наказного атамана, нес бочонок соленых огурцов. Попсуйшапка сказал ему, что из Китая прислали ему шкурку тибетского козла, а шить папаху некому: старая власть в Кисловодске проживает. И добавил: «Заседало с чаем кубанское Временное правительство, хватились, а кто-то семь серебряных ложек украл в бывшем атаманском дворце. Черносотенцы шепчутся: погоди, все вернется как в девятьсот пятом году». Теснота, все друг друга знают. Извозчик Гойда, каждый день подававший к крыльцу сына Асмолова (взял 16 000 приданого с торговца станицы Кущевской), похлопал Василия по плечу, пошел дальше. На базаре всяк гордится своим благополучием. Василий тоже такой: если муха пролетит, он знает — зачем. «Над нами, конечно, есть, но и под нами людей сколько!» Манечка вот, ну до того она кроткая, некрасивая, так хорошо работала в общине сестер милосердия, что пила чай из чашечки атаманши. Батько, наверно, послал на базар. В углу за прилавком торговала от монастыря Швыдкая. Увидела и отвернулась — ниточница,— с ней брат Моисей баловался в 1903 году. Ее пригласили на именины к писарю мещанской управы, брат купил двадцать стеариновых свечек, налепил на ограду во дворе и зажег. Два гармониста Бобылевы старались вовсю. Брат протанцевал с ней два раза, потом взял ключи от лодки и повлек ее кататься на Карасун. Ей теперь стыдно.
И откуда ни возьмись — дед Лука Костогрыз с горшком масла в руке.
— Дионис приехал! Бери жинку — и к нам. [350]
Так всегда перед несчастьем: в трамвае животы надорвали над шутками Костогрыза. Внучка стыдилась:
— Та спрячьте вы горшок!
— Ач! Не краденое. Це кума Мокрина попросила продать горшок масла, но шоб кум Василь не знал. Не хотел было брать. Чуяла душа беду, да пожалел Мокрину. Давали за масло хорошо, но я просил дороже. Уж и солнце под обед, а все поджидаю купца. А может, такая рука у меня скверная. Пора уже и до хаты ехать, думаю. Пойду куплю на юбку Одарушке, а себе на бешмет, а тогда завезу масло на Красную в булочную Гезе. Пошел я ситцу покупать, зашел в лавку, а горшок у дверей поставил — неудобно с горшком к приказчику. Ко мне бежит: «Ваня, подай господину уряднику стул!» Купил, повернулся, а горшка нету. Убьет меня кума Мокрина! А его приказчик на стол поставил. Слава богу, а то б Мокрина убила. Та шо! Она меня и вас свалит. И не продал масло, пожадничал.
В хате Костогрыза выпили, закусили и мало-помалу начали галдеть о текущих событиях. И черт дернул Попсуйшапку возражать пьяному Дионису. Тот налил вина и, чокаясь о кресты св. Георгия и медали на своей груди, скомандовал:
— Идем рубать босяков!
— А я не пойду...— тихонечко, вежливо сказал Попсуйшапка и отставил стакан. Сказалась тут еще и привычка гордиться своей самостоятельностью, привычка мастера, учившегося «за три копейки у дьякона».
— Та ты шо? — Дионис встал и долго рассматривал Попсуйшапку, как червяка.— Против? Не пойдешь стрелять большевиков?
— С какого благополучия?
— Нужно эту гадость уничтожить.
— Они же не турки в красных фесках, они такие же люди, как мы. Идти против своих?
— Ты большевик!
— Какой я большевик? У тебя язык с душой не сговорился. Если б я шел с ними с оружьем в руках, тогда другое дело. Но я не буду стрелять. С какого благополучия? И тебе не советую.
— Я с фронта и приехал защищать казачество. Я теперь сотник и кавалер. Вот моя шашка, и твоя голова долой. Я три года рубил этой шашкой врагов и буду рубить всех, кто против казаков. Кайся передо мною, революционер. Я человек скаженный, так голова и слетит. Мы казаки, и нас на басни не подманешь.
Попсуйшапка вытянулся к нему, желая победить Диониса умным словом.
— Дионис Тарасович... если мы возьмем ружья и пойдем этих большевиков стрелять, то что же между нами будет? Оттуда, я не уверен, что мой брат двоюродный не идет, а ты не уверен, что твоей жинки Матрены не идут братья сюда [351] на Кубань. Чего ж мы с тобою будем лезть? Мое дело шапки шить. Я не политический.
— Ты и на действительной не был. И батько, наверно, твой не служил.
— Я без батька вырос.
— А без царя жить нельзя! — закричал Дионис.— Нема нашего заступника. Он же казачий старшина. Казачество держится на царской милости. И как он, бедняжка, поддался Алексееву? Нас там не было. Не дали б ни за что! Теперь жди горя да беды.
— Э, нет,— повел пальцем Попсуйшапка.— Как ты любишь свою жинку больше ночью, так я люблю правду светлым днем. Ты мне балакай, что хочешь, а я стрелять в своих не пойду. Я вашего царя не знал.
— Ты ему кум!
— Ну ясно.— Попсуйшапка ухмыльнулся.— Я только что ему папаху не шил, а так он у меня каждое воскресенье в хате гулял. Кум. Конечно.
— Не конечно, а кум. Ты мою дочь крестил?
— А как же? Тебе я кум.
— А царь крестил моего сына. Кто ж вы с ним?
Попсуйшапка вытаращил глаза, потом подумал и засмеялся.
— Чего ж тогда он меня, если мы кумовья, к себе ни разу не позвал? Кум. Пускай кум. Его нету, он под арестом в Тобольске, а я стреляться за него не буду. Не хочу кровопролития.
— Тогда я тебя расстреляю...— Дионис кинулся в комнату и вышел оттуда с деревянной кобурой.
Лука Костогрыз, отлучавшийся во двор напоить скотину, ахнул, когда увидел, как вцепились в Диониса с мольбой молодухи. Что такое?
— Братик,— плакала жена Попсуйшапки,— я тебя прошу, не делай этого, у меня уже, ты видишь, дети, будь добренький, пожалей!
— Выходи, бисова душа, во двор, ставай к стенке! Цыц, шлюха!
— Сними эту царскую побрякушку,— сказал Попсуйшапка, тыча в награды.
— Ач! — спокойно прервал ругань Костогрыз.— Ухо на ухо!
Диониса ветром вынесло за дверь.
— Валяй! Перевертай ворота так, как мы возы перевертали.
— Я думал,— обнялся Попсуйшапка со стариком,— на позициях дураков нет, а они есть. Чего ж он, такой патриот, пришел с позиций? А я с какого это благополучия побегу на большевиков? Там, может, мой брат идет. «Я тебя сейчас расстреляю!» За что?
— Дурной, аж крутится,— сказал Костогрыз.— О времечко! Крепкая арака, как на рождество была. Выпил, проспится, дурак, и зараз такой же станет. Вы, бабы, капусты б на стол подали. А ты, Василь, не притесывайся к нему сбоку,— подальше. Крепкая арака. [352]
— «Я тебя застрелю!» — махает.
— Куда ему? — протягивала, словно просила помощи, руки к деду жена Попсуйшапки.— Он гуся зарезать боится.
— Та кто его гонит — я, чи шо?
— А чего ж брат напал?
— Ну, прискакала сорока до света не срамши, подумаешь! Не настрелялся с турками.
— Шлюхой меня назвал. Яка я ему шлюха? Шо, своими жинками меряете?
— Сволочи, подлецы! — слышалось под окном.— Страна воюет, а они спят с бабами. Шапки шьют.
«Свят, свят, господь! — шептал и крестился Костогрыз.— Вот-от оно, началось. Жили и не знали этого».
— Обдерут наше казачество вплоть до люльки! — Дионис опять стоял на пороге и грозил пальцем.— Время еще не все упущено, надо организовать свои полки и с божьей милостью уничтожить голодранцев. Мотня расстегнута, а они управлять! Завтра отслужим молебен, попросим господа, шоб помог нам.
— Ты один такой.
— Задешево отцов своих и дедов не продадим.
— Не пугай бабу великим... кхм...
— Наслушались провокаторов. Жили городовики на нашей земле сто лет гостьми, нехай и теперь так же живут. Казаки не побежали с фронта гурьбою. У нас в сотнях осталось по семьдесят штыков, и мы с этой горстью уже были готовы перейти перевал Бачер-паша; там снег. Ну, не-ет, мы потягаемся с вами. Дух казачий еще не потерялся.
Обиженный и злой, вернулся Попсуйшапка из Пашковской и зашел утихомирить душу к брату Моисею. Тот как ни в чем не бывало кроил шкурки. Он еще в марте не соображал, к чему это вывесили флаги, и хотел оторвать кусок — на подкладки к папахам.
— Пускай идут,— сказал, выслушав брата.— На то у них и шашки. Нам с тобой за товаром в Ростов надо ехать.
— Я сам. Да куда ж ехать? Там, говорят, бои.
— Тогда прямо в Москву. Василий всегда слушался брата.
— В Москву так в Москву.
Было предчувствие, что ехать не нужно. Все мастера отговаривали его, но Попсуйшапка перевязал чемоданы и попрощался.
Долгим было его путешествие! [353]
СКИТАНИЯ
В Москву Попсуйшапка повез рыбу и удачно ее распродал, а «чтобы назад даром не ехать», накупил дамской обуви — подарить родне да сбыть в какой-нибудь дальней станице. «Товар надо уметь купить»,— говорил он часто. Он хитро и долго выбирал товар, вертел в руках, приговаривал: «Для Екатеринодара сойдут...» Рядом терся какой-то рослый мужчина с заросшими щеками; Попсуйшапка глянул на него и обомлел: Толстопят!
— О, земляк! — сказал ему.— Все Толстопяты широкоглазые.
— Тише, тише,— толкнул его Толстопят.
Так они поехали домой вместе. Толстопят был в гражданской одежде, всякого мужика с ружьем сторонился и сам старался выглядеть мужиком. Он пробирался на юг с Западного фронта. Кончилась его офицерская служба: спрятал он шашку и черкеску на чердаке русской избы, сбрил усы, опростился. Лишь бы кто-нибудь не узнал. Попсуйшапка был человек надежный.
— Что там дома? — спрашивал Толстопят, когда шли к Курскому вокзалу.
— Что дома... Уже того, что было при вас, нету. Советы депутатов командуют. В Москве разве не видели? Вот и у нас такое же. Вашему брату плохо будет, офицеру (если не перейдете на их сторону), а мы, мастера, работаем как работали. Дом свиданий «Швейцария» ликвидировали, оно и правильно... Богатые попритихли. Бабыч уехал в Кисловодск.
— Еще что?
— Выбрали нового городского голову, как pa-аз на пятое марта; пока он речь держал, зал опустел, и заседание закрыли. Топлива ж нет, чего его слушать? Уголь восемьдесят копеек пуд. Что ж дальше будет, по-вашему?
— Гадалка видит на Севере орла с распростертыми крыльями и свет вокруг головы.
— Старики вздыхают: пропала Россия!
— За Россию не знаю, а армии уже нет. Мы повоевали не плохо. На Огнепоклонной горе под Исфаганом наша сотня как пошла широким наметом за бахтиярской шайкой, за перевалом как нагнали — они по скалам, они по скалам. И мы по лаве как открыли огонь! Воды ближе, чем на двенадцать верст, [354] нет, губы пересохли, а все ж семьдесят две лошади взяли в плен, сто тридцать бахтияр убили. Сардар-предводитель удрал на верблюде. То ж армия была! А присяга, она старше миллионов. Ты не воевал?
— Я шапки на фронт шил. И обувь. Ваш полк далеко зашел в Турцию?
— Еще немного, и к лету Босфор бы заняли. Все было готово. Перебросили к западной границе, а тут...
— Сказал же генерал Алексеев: переворот совершился волею божией. У царя якобы на счету больше миллиона. Да у царицы столько же, да у дочерей не меньше.
— А кто подсчитывал? Алексеев?
— Ну, наше дело маленькое.
— Наше дело такое, что и домой не проберешься. Хлопнут по дороге.
На Курском вокзале они нашли в багажном отделении всесильного старшину носильщиков, который за плату добыл им три билета в купе. Третий билет припасался для приятеля Толстопята Дюди, бывшего кавалериста, ныне липового помощника санитарного транспорта земского союза. Всюду толпы, толпы. По путям пробрели они в конец к международному вагону, но и тут люди с бранью и криками карабкались на подпорки, цепляли друг друга, стаскивали, вырывали вещи, и товарищ комиссар с наганом в руках, стоявший на площадке, не мог остудить их животного напора ни матом, ни угрозами. С помощью все того же старшины носильщиков троица взобралась в вагон.
«Что за счастье иметь плацкарту! — думал Толстопят.— Бог помогает пока».
— Скорей бы,— волновался Попсуйшапка.— Там дома без хозяина товар плачет.
— Торопишься получить на шею толстую веревку?
Красивый высокий Дюдя, поуспокоившись, мечтательно сказал:
— Нет ли где заплаканных прекрасных глаз? А?
В вагоне публика была pour le temps qui court1 достаточно приличная: какие-то мужчины комиссионного вида, две-три скромные дамы, несколько актеров и много бывших офицеров, переодетых под «товарищей», начиная с элегантного сумского гусара, кавалергарда с холеными ногтями и кончая молодыми людьми во всем защитном, в толстых солдатских сапогах. Еще недавно, до войны, с таким удовольствием подъезжали они к вокзалу на извозчиках, за ними носильщик волок багаж, они усаживались, и в том, что поезд трогался, что они ехали, не было никакого события,— обычная жизнь, братец мой! Теперь они должны были благодарить господа бога за то, что всякими неправдами доставят их в Курск, а оттуда по
-------------------------
1 По нынешнему времени. [355]
степи, через деревни, к Белгороду, где близка уже Украина и властвуют немцы без всяких Советов. В купе говорили отвлеченно, но несколько раз кавалергард, изображая из себя коммерсанта, проговаривался. Все познакомились и поняли втихомолку, кто есть кто. Когда поезд застучал, разгоняясь, оставляя за окном несчастливых, Толстопят вздохнул и тихо, про себя, перекрестился. Попсуйшапка уже болтал о ценах и шкурках. Толстопят огляделся. Старый русский международный вагон! Каким чудом он еще курсирует? Со смешанным чувством смотрел он на знакомые стены. Но всюду что-то то и не то: где не хватает крючка, где ручки, задвижки; в купе нет ковров, тюфяков, о белье, конечно, смешно и подумать; в уборной все переломано и с трудом можно умыться при свечах. Мест в купе не четыре, а шесть — по два на нижних диванах и по одному наверху. Толстопят и Дюдя улеглись бок о бок, отвернулись, чтобы не дышать друг на друга. Ночью на одной из подмосковных станций проверяли документы, их филькины грамоты, а утром в Туле они выпили скверного черного кофе и только в Орле истратили по 14 рублей на брата за обед из двух блюд, посердились на время и вернулись в вагон, где публика стояла уже и в коридоре. В Курске стали думать, как перебираться через границу. В залах первого и третьего класса люди часами ожидали очереди, чтобы сесть на стул. К пограничной станции поезд подходил на рассвете. Где ночевать? На прилавках базара? В заплеванном семечками кинематографе? Офицеры уже открыто, без оглядки, вспоминали свою бывшую военную жизнь. Эта курская лунная ночь возле базара, потом стук колес до Прохоровки, потом досмотр в конечной станции Беленихино, о которой бы никогда в другой доле и не вспомнилось, стали вечным отголоском, вечным эхом раз и навсегда сломанного бытия. Более трех часов томились на проверке. Отбирали материю, мыло, спички. Утомленный комиссар поставил наконец на бумагах число. Зашитые в подкладку на плече тысячерублевый билет и офицерские документы были спасены. Теперь до Белгорода полем! Всего сорок семь верст, а подвод не найдешь. По комиссарскому пропуску (маленькой бумажке с четырехгранной печатью) выбрались они при лунном сиянии впятером, сговорившись с возницей за 250 рублей. Дорога спускалась в глубокий овраг,— то ведь была Русь, а не кубанская степь, но за оврагом вдруг выстлалось ровное поле. Сидеть было неудобно, и они часто соскакивали и шли пешком по обочине. Как раз на полдороге возница свернул в сторону, на свой хутор, чтобы переночевать, перепрячь поутру лошадей и ползти дальше. Часу в четвертом ночи притащились лошадки к избушке возницы; путники тотчас же завалились спать на солому, разбросанную по глиняному полу.
Попсуйшапка проснулся раньше всех. Голодный и продрогший, он пожалел о том, что поддался слабости и согласился пробираться домой кружным путем,— проще было ему, ни [356] в чем не виноватому, пуститься по дороге на Воронеж. Теперь поздно каяться, но можно пропасть ни за что.
Проснулся и Толстопят, вышел угрюмый, злой. Попсуйшапка отрезал ему из своих запасов кусочек сала, разломил сухой хлеб и незаметно куда-то отлучился.
— Идите сюда! — позвал он через минуту Толстопята, загребая рукой к себе. Можно было подумать, что Попсуйшапка раскрыл какую-то тайну. Да так и вышло: странная то была тайна!
Господи, что за тайна сам русский человек?!
В сумеречной избе, припав к полу коленями, молились возница и его жена. Головы их задирались к иконе, но что это была за икона? От пола и почти до потолка тлела красочным сиянием картина в золоченой раме; на ней изображался палач Малюта Скуратов, вихрем врывавшийся с топором в келью митрополита Филиппа. Пастырь при появлении жестокого Малюты поднес руку к горящей свече,— наверное, для того, чтобы не предаться искушению страха и приготовить себя к мукам. Ни возница, ни жена его не чувствовали чужого присутствия и все крестились и клали поклоны. В углу спали под тряпками дети. В избе была такая бедность, что Толстопят позабыл свои несчастья. Из чьей помещичьей усадьбы вынесли они эту дорогую картину? И зачем? О чем они молились? Что просили для своей души? В ту пору даже Толстопят не разбирался, какому времени посвящена сия картина. А было это при Иване Грозном. И неужели эти крестьяне каждое утро шепчут монаху какие-то слова?
— Тамбовщина! — сказал Толстопят во дворе.— Везде одна и та же Тамбовщина. Вся Русь. Рассказывают анекдот такой. Из степей забрел на Тамбовщину верблюд. Ну, люди побежали к попу просить спасения от какойсь загогулины, которая дергает с крайней избы солому. Иначе все, мол, село сожрет. «Ой, пропала наша Бамбовщина!» А одна тетка упала перед верблюдом на колени, взмолилась: «Ой, матушка-загогулина, да не ешь ты наш Бамбов, а поверни ты на Пензу, там народ покрупнее будя». Вот и извозчик не хуже бабы той...
Через полчаса возница, чмокая и матерясь, дергал за вожжи лошадок; впереди, за перелеском, была желанная Украина.
Им повезло. Бумажка с красным крестом и изысканными печатями, солидная наружность приятеля Дюди внушали немцам доверие; их пятерых пропустили без карантина прямо в Белгород.
В самом городе всюду поблескивали немецкие каски.
Через два часа Дюдя повел Толстопята из гостиницы на Соборной площади к тетушке своей княгине Волконской. Попсуйшапка даже по этим временам к обществу бывших пристать не мог. В Белгороде они и расстались. Затурканный Попсуйшапка случайно встретил на базаре екатеринодарского [357] шабая и уехал с ним до Харькова. С какого благополучия терпеть ему невзгоды?
Между тем у княгини за черным кофе с горячим белым хлебом кончились колебания Толстопята — куда пристать? В городе генерал Т. регистрировал русских офицеров для переправки на Дон в Добровольческую армию. У офицера нет другой дороги. Стать на сторону народа? Но еще в окопах солдаты глядели на своих младших начальников подозрительно. Да, другой дороги нету.
В соборе зычно, угрожающе гудели проповеди святых отцов:
— Бога бойтесь, с мятежниками не сообщайтесь; они снуют везде, чтобы обольщать народ несбыточными обещаниями. Они обещают водворение порядка, а водворят настроение. Не слышно будет звука молотилок; остановится колесо; заржавеют соха и борона. Невозможно будет ни пройти, ни проехать безопасно: в городах — денной и ночной грабеж, и некому будет спасать от этого. Да сохранит нас бог от печали...
На прощанье Толстопят и Дюдя заглянули в местный сад с верандами. Под звуки немецкого оркестра поужинали с водкой и глинтвейном — первый раз в этом году. Утром княгиня-тетушка повела их в собор к мощам св. Иосифа. Измученная сомнениями душа надеялась у гроба святителя, что она беспорочна, что есть истина и живет правда вовеки, что существуют как вечное мучение, так и вечная радость и торжество. В подземелье, у раки с мощами, в тесноте подождали очереди, прослушали акафист святителю. Образки, бутылочки с елеем переходили из рук в руки. В правом приделе собора помещался стеклянный гардероб, хранивший нетленные облачения святого: митру, омофор, палицу, панагию, наперсный крест, туфли.
— Не переменили ли одежду? — усомнился Дюдя.— Двести пятьдесят восемь лет, а целая.
— Когда же это могло быть и кто бы на это дерзнул? — сказала богатая дама,— Сорок лет я здесь живу и ничего такого не слыхала.
В седьмом часу вечера по берлинскому времени они уехали в Харьков, оттуда через станцию Лихую в Новочеркасск. Уже в Лихой при проверке документов чисто одетыми донскими казаками от сердца отлегло что-то тяжелое. На долгое ли, короткое время, но жизнь спасена. В Лихой Толстопят увидел первого русского офицера в форме, с шашкой на боку, офицера без пристяжных немцев, без украинского контроля, и вновь глаза затекли от воспоминаний о великой армии. В дачном вагоне второго класса доставили их в Новочеркасск; зашибленное, старорежимное чувство патриотизма вздохом выходило из груди. Рукой подать и до Кубани.
Дюдя поспешил обзавестись кокардой и погонами, Толстопят раздобыл черкеску, шашку, кинжал. Тут была еще старая жизнь. Офицеры отдавали друг другу честь, казаки козыряли офицерам, [358] и после кошмарного перерыва Толстопяту казалось, будто все вокруг были произведены в офицеры, и он сам как новичок любуется своей формой,— свершилась какая-то сказка, сон прошел, все сразу принялись за обычную работу. На Платовском проспекте часовой так лихо брал на караул своей шашкой, что Толстопят, не смея приписывать себе такую честь, вздрагивал от неловкости. В местном саду шумела оперетка; на террасе подали им во льду николаевскую водку, к жаркому бордосское красное вино и отличное рейнское к персикам. Так не обедали с мирного довоенного времени. От полноты чувств Дюдя дал лакею на чай лишний билет.
— Не надо меня освобождать от славных преданий Андреевского стяга! От присяги! От долга! — говорил пьяный Дюдя, воспаляясь с каждым словом все больше, глядя на товарища, но посылая свой гнев тем, кто покинул фронт, восстал против господ.— Кто не изменил России теперь, тот не изменит ей никогда!
— Печальны наши дела, друг мой,— отвечал ему Толстопят.— Доляпались господа в ладошки.
— Будь у меня сейчас десять тысяч юнкеров, я через две недели въехал бы в Москву на белом коне!
— Покричи, покричи. Полегчает. Ты не знаешь даже, что с тобой будет завтра.
— Боже мой! — вскричал умиленный женственный Дюдя, когда вышли за ворота сада.— Гляди! Гляди, какой красавец жандарм стоит! Унтер-офицер. Лапушка. А-а? Моя Ирочка влюбилась бы в него. Я обниму его, а?
— Не смей.
— Пье-ер! Кого же мне обнимать? Лучше я погибну сейчас же. Ты знаешь, мне порой кажется, что я смог бы стать во главе Добровольческой армии. А-а?
Через три дня в здании гимназии на Ермаковском проспекте им выдали квитанции о зачислении в Добровольческую армию, а в конце недели выстроили на распределительном пункте. Серьезный полковник скомандовал «на молитву шапки долой», несколько раз набожно перекрестился, бесконечные шеренги развернутого фронта сделали то же самое. Затем полковник громким голосом сказал, что с сегодняшнего дня они числятся в Добровольческой армии и потому всякое уклонение от службы будет считаться дезертирством и судиться по законам военного времени.
— Вам предстоит сейчас идти через город на вокзал. Покажите, что вы являетесь представителями русской армии; по тому, как вы пройдете, будут судить о всей армии.
Лихо, с пением шагали они под взглядами обывателей по Соборной площади на вокзал. Там им пришлось долго дожидаться отправки, и лишь около полудня тронулся их эшелон. Хотя начальник штаба воспрещал исполнение гимна в общественных местах, херсонцы под первые стуки колес запели его, [359] и Дюдя, подстраиваясь своим звонким голосом, заплакал: с 6 декабря 1916 года, с последнего парада, он не слышал этого родного мотива.
Огромная новочеркасская гора с домишками и азиатски величавым собором оседала на глазах, и до темноты, до тумана вечерних сумерек все поблескивал золотом купол, все маячил и наконец растаял белой точкой, как звезда в небе...
Под серпом месяца проскочили разоренную станицу Кагальницкую.
Думал Толстопят об отце-матери, о сестре Манечке и заснул грустно, безутешно, без надежды на скорую встречу с Екатеринодаром. [360]
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ТРИЗНА
ЭПИЗОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
— Придет время, и людские слезы
камнем упадут на их головы...
(Из разговора в 1908 году)
ЧЬИ ДНЕВНИКИ?
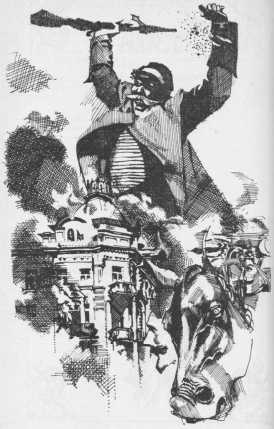
Был ли когда-то этот грозный 1918 год?! Через полвека спокойными слабыми голосами рассказывали о русской сечи ссохшиеся старики, кое-что перепутывая, забывая имена, числа, местечки сражений. С дорог и глухих тропинок невесть куда уйдут озлобленные люди, и со временем составится о них общая Книга их далекой невероятной судьбы. Но не все победы, не все дни и недели, не все летописи войдут в эту Книгу: много листочков выпало, много оставлено себе на память, много валяется в чужих сундуках.
Ровно шестьдесят лет спустя я на улице Коммунаров (бывшей Борзиковской) купил за три рубля чьи-то дневники без начала и конца. У подъезда двухэтажного узкого дома с красивой виньеткой на дверях торговала книжками, поношенными вещами, посудой, всяким ненужным домашним скарбом старушка; торговала каждое воскресенье из года в год. Видно, никто у нее ничего не брал, и она тогда поставила на землю послевоенный патефон с пластинкой Вадима Козина. На тарелке лежала тетрадочка с обгрызенными углами. Я присел на корточки и не поднялся, пока не прочитал половину. Листик начинался записью от 12 февраля 1918 года. «Господи, благослови. Екатеринодарцы друг друга спрашивают: возьмут или не возьмут?»
— Чья тетрадка?
— Не знаю,— то ли солгала, то ли правду сказала старушка.— В войну кто-то занес в наш дом.
— Имени нет.
— Берите.
— Так вы точно не знаете, чья это тетрадка?
— А зачем вам? Вы все равно не могли знать этого человека. Тетрадь неизвестной...1
Я ушел радостный, думая, что все равно этой тетрадкой когда-нибудь воспользуюсь.
------------------------
1 Позднее установлено, что эта тетрадь принадлежала Манечке Толстопят.— В. Г. [363]
ИЗ ДНЕВНИКА МАНЕЧКИ ТОЛСТОПЯТ
12 февраля 1918 года. Господи, благослови. Екатеринодарцы друг друга спрашивают: возьмут или не возьмут? Всех ли богатых будут резать или только избранных? Всюду нервозность. Выдержит ли Екатеринодар? Одно ясно: если у города загремят пушки, как и полмесяца тому назад, то такого подъема, как 22 января, уже не будет. Не побегут вновь со всех сторон к «Метрополю» нарасхват разбирать оружие. Казаки по-прежнему спят. Трудно ожидать, что 170 добровольческих штыков удержит 5 красных полков. На улице единичная стрельба. Когда трусят, всегда стараются открыть стрельбу.
14 февраля. Читала в газете и согласна. Все оказалось в России ложью: ея мощь, ея религиозность, ея монархичность, так же как и ея стремление к свободе. Буквально все принципы европейской культуры оказались совершенно непригодными для нас, русских. Все, за что тысячелетиями боролось человечество от века Перикла до последнего билля британского парламента,— все это в России даже не возбудило внимания, простого хотя бы любопытства. Обыватель полагает, что ради него льется кровь человеческая, «аки вода». Дементий Павлович Бурсак сегодня заметил: грядущее потребует от человека таких жертв, которых он еще ни разу не приносил. Оно, это грядущее, выучит его, что такое государство Российское, и выучит раз и навсегда, ибо теперь мы дошли до предела не обывательского мнимого страха, а реального ужаса, распада человеческого общежития.
18 февраля. Ходят всякие провокационные слухи. Жители то ожидают большевиков, то надеются на приход немцев. Якобы из Новороссийска большевики подвезли 8 тяжелых орудий для осады Екатеринодара. После 9 часов на улицах жутко. В «Чашке чая» безумцы пели ультрапатриотического «Олега» (за царя, за Русь) под оркестр.
19 февраля. Говорят, корниловская армия в составе 8 тысяч штыков и сабель с артиллерией пробивается к Екатеринодару.
28 февраля. Тучи сгущаются. Краевое правительство и партизанские войска покинули Екатеринодар. Водопровод перестал подавать воду — забастовка рабочих. Паника охватила, кажется, уже всех. Все советуют уезжать, но куда, и как, и зачем? В садах зарывают драгоценности, вазы, офицерские [364] формы и оружие. Мы спокойны. И только одни мысли: где наш Петюшка и что будет с папой? Он ушел вместе с этой кубанской стихией в степь. Там он надеялся найти Петюшку. Накануне, после совещания Рады и Кубанского правительства, все бросились на базар в «азиатский ряд» — покупать амуницию, но большинство пришло во двор реального училища в том, что захватило на скорую руку. Мы попрощались, и они на заходе солнца тронулись в путь, двуколка за двуколкой, по направлению к железнодорожному мосту и к Траховскому — через Кубань. В учебных тужурках и пальто, с узелками, ушли серьезные гимназисты. Тысячи обывателей спрятались за их спинами. А день теплый, солнечный. Мне как-то было не по себе при мысли о том, что детям придется по необходимости стрелять и убивать. Что их ждало, что станется с их беззащитными родными? Ушли на ночь по дороге на аул Тахтамукай. [365]
В ОБОЗЕ
Как хотелось добраться к своим в город! Никогда бы Попсуйшапка не подумал, что так будет переживать разлуку с семьей, и никогда не обдавали его холодом страхи за жену и детей, как в эти последние недели. Он шел по степи и мечтал: «Хоть бы какой напарник попался». Но никого вокруг! Точно вымерла степь. Такой тишины он, пожалуй, и не слыхал за всю свою молодость. В степи ему становилось жутко, и он часто оглядывался: а вдруг выскочит кто? Один день двенадцать верст уходил он от какого-то мужика, неожиданно появившегося на конце хутора. Попсуйшапка с испугу не шел, а летел. Кто знает, чем он дышит, сейчас время такое: убить не жалко. Только под станицей Попсуйшапка дал себя обогнать и чтобы скрыть трусливое намерение, сел и стал переобуваться. Мужик сказал: «Ну, ты ж идешь! Я чуть не лопнул». У Попсуйшапки от быстрой ходьбы хоть и кололо под боком, но он уверенно ответил: «И не догнали бы, если б я не стер ногу».
За Ростовом Попсуйшапка попал в обоз отступающей Добровольческой армии. Деваться было некуда: поезда в Екатеринодар уже не ходили. Генерал Корнилов вел армию как раз в сторону дома. «Пойду. С ними, может, жив буду. Там где-нибудь в Васюринской отстану,— рассчитывал Попсуйшапка,— потом до Пашковки, а Лука отвезет в город. С какого благополучия я буду все время с ними?»
За армией на две-три версты тянулся обоз беженцев. Повозки, запряженные лошадьми, волами, застревали в грязи. Многие шли пешком. Впереди скрипели лазаретные двуколки с белыми навесами и алым крестом. Кого только не увидел Попсуйшапка в обозе! Мог бы разве в прежнее царское время идти он рядом с петербургской светской дамой, княгиней? Под дождем, в грязи, в страхе быть настигнутым вражеской конницей уравнялись все! Вот она, правда на земле: перед роком все люди. «Э-э! узнали! — и корил, и жалел Попсуйшапка.— Узнали, как в степи люди жили. Казаки пришли, им так вот и доставалось: грязь, да ветер, да пули горцев, да болезни. Это не дома с ванной и лакеем». Но он помогал женщинам: нес их сумки (свое уж давно потерял в дороге), подкармливал салом, искал для них свободное место на повозках. На привалах Попсуйшапка (на то и родился таким) расспрашивал господ о чем только можно и прежде всего о том, где их мужья, сколько [366] детей, на какой улице жили. И на неслыханную простоту ответов, как бы в знак благодарности, но ни на минуту не забывая, что он все же бывший приказчик, ныне шапочный мастер, что он не барин, отвечал любезными разговорами о Петербурге, о важных своих клиентах и о Луке Костогрызе, двадцать пять лет служившем в охране царя. Старая привычка угождения жила в нем еще. Каждый в обозе искал, к кому пристать понадежней. И за Попсуйшапкой увязалась белокурая красивая дама в заляпанном дорогом пальто. Попсуйшапка не утерпел спросить, где она шила.
— Мы были с мужем в Париже. Там.
— То я смотрю, не наш фасон. В Екатеринодаре портной Рожков сшил моей жене пальто, но не такое.
— Одни воспоминания,— вздохнула дама.— Сколько мы так будем идти?
— А кто его знает. Меня уже потеряли в Екатеринодаре. На то, что вас будут встречать с хоругвями, и не надейтесь, милая. Абы живой остаться. Меня, может, и помилуют, а вы спасайтесь. Интересно, где мой шурин Дионис? Пришел с фронта, хотел меня застрелить.
— За что-о же?
— Я сказал: не пойду, стрелять своих братьев. «А-а, так ты за босяков?» Ну, жена упала на колени: «Бра-атик, у нас дети». Я теленка боюсь зарезать — куда мне стрелять? А Дионис, он, конечно, из конвоя его величества. Им и командовал такой же вспыльчивый: сотник Толстопят, я ему хорошую в пятнадцатом году папаху сшил.
— Как его зовут?
— Петр Авксентьевич. Невыдержанный казак: слова поперек не скажи. Он у нас украл по молодости барышню на извозчике. Но что-то у него не получилось. Вы наших казаков не знаете?!
«Господи,— всполохнулась в душе мадам В.— Помоги, чтоб он был здесь, с нами».
— Где он? Не убили ли? Мы с ним с Москвы добирались, но я потерялся. А дома у меня плачут. Та кто знает: может, и нет. Жили недружно. Позвольте руку, тут яма.
Под боком была станица, но всю ночь предстояло провести на холоде.
«Наверно, здесь придется и замерзать,— горевал Попсуйшапка.— Не поехал бы с Толстопятом, давно бы дома был. Эх!»
С 23 февраля начались бои.
Станица Уманская, почуяв приближение Корнилова к Кубани, протрубила сбор. Казаки раздали пятьсот ручных бомб, триста винтовок, двадцать пулеметов и всего шестьсот патронов. Первым делом на окраине взорвали мост, но красные снова навели его и угрожали расстрелять станицу с бронепоезда. На поле сражения вышло три тысячи казаков; батарея [367] сделала несколько выстрелов и повернула назад. Казаки с разными хитростями — кто воду пить, кто обедать, кто за кожухом — возвращались в станицу, и через три часа сто пятьдесят человек выкинули белый флаг. Что за сеча была там, как расстреляли на станции родного брата Бабыча, узнали потом, через несколько дней, когда генерал Корнилов передавал Уманской свой поклон до земли за восстание, давшее ему возможность перейти невдалеке линию железной дороги и соединиться с войсковым отрядом.
В Лежанке в сумерки Попсуйшапка пошел искать повозку, под которой можно было бы уснуть, укрывшись от ветра. Настала уже черная туманная ночь, сырость пронизывала до костей. Солдаты кое-где поставили офицерам две-три палатки. В темноту сквозь щели тянулись полоски света, слышался говор. В одной палатке было тихо и уютно. На столике и чурбанах горели свечи в подсвечниках. Шумел самовар. Коренастый офицер наливал по стаканам чай и посасывал янтарно вспыхивавшую трубочку с золотым ободком и золотым колечком. «У нашего солдата,— говорил,— есть удивительная способность: по-домашнему устраиваться где попало». Попсуйшапке нечего было надеяться на гостеприимство в кругу офицеров.
Он пошел блуждать дальше. До чего же перевернулась жизнь! Под экипажем, согнутый в три погибели, сидел в бурке и в мохнатой шапке не кто иной, как Толстопят. Значит, и ему не было теплого ночлега! Дул холодный ветер, и, казалось, не существовало на свете души, которая бы пожалела его. Придет время, слыхал он от одного социалиста в 1908 году, когда убили братьев Скиба, и людские слезы камнем упадут на головы всех виноватых. Вот оно. Так проходит слава земная. В Лежанке все с вечера позакрывались на запоры, окна завесили плотной тканью. Кругом так зловеще тихо! Но мало кто спал. Лежанка занята, но какой ценой? Сомкнутыми рядами, как на параде, шли вперед под пулями офицеры, и как уцелел Толстопят — непонятно. По горло в ледяной воде переходили они речку. За ними, когда красные побежали из села, двинулись по мосту обозы. Где же хлеб-соль? Станицы давали добровольцев с недовольством, и армия все оставалась такой же малочисленной, какой она вышла. «Опять со станиц! Хлеб со станиц, скот со станиц! Все со станиц. Уже все поотдали, сколько можно? Весна на носу, кто будет землю пахать?» Какой-то член бывшей Государственной думы, не разбираясь, что перед ним простой шапочный мастер, вчера рассуждал: «Наряду с мечом воинским должен блеснуть и меч духовный, меч правды святой. Храм осквернен, погасли светильники, и во тьме бродит русская душа». Ну, ясно, ему не привыкать болтать языком; вынести б ему, как студентам, стакан с водой от отца Ивана Кронштадтского, чтоб поболтал ложечкой, да уже нет ни отца Ивана, ни святого Петра. Домой, домой!
— Убьют нас и зароют,— сказал Толстопят. [368]
— Будет ли кому зарывать?
— А я думал, ты уже дома,— сказал Толстопят утром.
— Дома, может, и позабыли, как звать меня.
— Теперь, если убьют нас с тобой, то хоть на казачьей земле. Корнилов нас приведет в Екатеринодар.
— Ой, не знаю. Вас, может, и приведет, а мне надо самому добираться. Не хочу, чтоб надо мной выли, как вчера одна казачка выла над убитым сыном: «Я ж на тебя не насмотрелась на живого. Хотел быть знатным, богатым, заслужил чинов, а теперь счастье твое на небе». Я шапки шил и шить буду.
— Некому станет шить, если вы все так рассуждать будете,— построжился Толстопят.
— А я ни против кого не пойду.
— А ну перекрестись! — вскрикнул Толстопят и выдернул шашку из ножен.
— Если вы меня порубаете, то, может, и женщину начнете рубать, которую я по степи чуть не на руках нес? Красавица.
— Какую женщину?
Попсуйшапка назвал фамилию, имя и отчество.
— Где же она?!
— Здесь, в обозе.
— Сей-час же найди ее мне!
— Найду обязательно, у меня рука легкая.
Часа через два Попсуйшапка вернулся.
— Идите,— сказал он Толстопяту.— Там в хате казака, возле церкви. Я ей ничего не сказал про вас. Она ноги отморозила, ее укутали в одеяло.
Еще издалека он услыхал голос Вари Паниной, некогда (словно в прошлом веке) знаменитой певицы. Родные звуки спокойного времени! «Побудь со мной, побудь со мною...» И оказалось, что пластинку завели на граммофоне в той самой хате, где грелась теперь мадам В. Толстопят взволновался, душа уже летела обнять ее, бедную беженку, сироту петербургскую, заброшенную в грязную стужу далеко от дома, сжать ее колени и виновато, за всех и за себя, молчать, молчать и молчать — потому что что же говорить в пору такого несчастья и бессилия?
Старый казак, тот самый каневской, что гнался с товарищами за генералом Бабычем в Тамань из-за племенного бычка, не хозяин, а тоже заблудший гость, столкнулся с ним на пороге, оскалился, но, увидев на рукаве и папахе белые повязки добровольца, подобострастно сугодничал и промолвил: «Заходите, заходите, господин есаул».
Их сразу же оставили вдвоем.
В чужой натопленной хате они с помощью хозяев отпраздновали за столом встречу, которая была одновременно и расставанием,— в любую минуту могли послышаться в огородах выстрелы, начнется бой и — кто знает? — не ему ли суждено [369] свалиться на землю? Он узнал от нее, что муж убит в Орле, дети пропали без вести, где-то в деревне у бабушки, что сама она отдала по дороге все золото, лишь бы пробраться на юг, к армии. Как странно, как допотопно, убивая воспоминаниями, звучали слова с пластинки! Кто тогда жил? Они ли? Была ли парфорсная охота в Дидергофе, ресторан Кюба, сырые петербургские улицы? Ценили ли они что-нибудь? И так хотелось мира, покоя, так хотелось домой, к родным, за общий стол, под высокие дубы во дворе!
Задумчиво ко мне на грудь
Головку нежно вы склонили...
А впереди что? Смерть?
— Мне снилось в Ростове,— говорила ночью мадам В., прижимаясь к Толстопяту,— что я твоя невеста. Я проснулась, раздвинула занавески. Шел дождь. Как в этих просторах тоскливо! Хочется плакать. Я смотрела вдаль и чувствовала себя сиротой.
— Мертвым, но буду в Екатеринодаре. А тебя отправлю с Попсуйшапкой в Хуторок к Калерии Шкуропатской — может, там тихо. Пересидишь. Они хорошие. Завтра же! Не хочу, чтобы ты погибала с нами.
— А я хочу погибнуть. Нечем жить. Я ночевала в хате в Кущевской. Они русские. Хозяйка рассказывала. Заскочили казаки. На стене висел портрет дедушки, фотография. Сыны ушли с красными. Заскочили, а в хате только четырехлетняя девочка. Казаки стреляли в портрет! А девочка бегает и кричит: «Уже! Уже дедушку застрелили!» Ну что это! А взрослые в кадушках спрятались. Ну как это понимать?
— А так и понимай.— Толстопят пальцами пощипывал мочки ее ушей.
— Серьги я сама сняла и отдала, а то б с ушами выдрали.
Она, точно маленькая, совалась к нему лицом под мышку, дрожала, цеплялась ногами за его ноги. Потом внезапно:
— Ты меня любишь? Ты помнишь что-нибудь?
— Помню,— шептал Толстопят.— Помню, как ты взяла шкатулку, вынула засохшие фиалки, мою карточку, я на обороте написал три строчки каких-то пустяков.
— Еще что? Рассказывай.
— Однажды ты назвала меня «жуиром весьма дурного тона».
— Ну уж... ладно тебе. В ресторане мы были с тобой?
— Как же! Обязательно. Да-а, все видели и сознавали, до какой степени плохо кругом, но никто палец о палец не ударил. Только бы ростбиф или индейка к обеду.
— Не надо сейчас об этом... Сейчас мы несчастные. Вспоминай другое.— Она гладила его, целовала.
— Где твое пианино из палисандрового дерева?
— Я о нем не жалею.[370]
— Вижу тебя в десятом году в маленькой шляпке с лиловым бантом. Высокие серые ботинки. Si jolie, si douce1.
— А потом мы пошли в лес, и там...
Она не дала ему заснуть до утра.
Каждый раз, когда он уходил в бой, она долго, до конца (пока отряд не скрывался из виду) стояла на окраине седа и прощалась с ним. Но он возвращался невредимый. Она грела воду и в бочке-перерезе купала его: со сладостью мылила, терла его сухим веничком, обливала из ковша и на время надевала на него свою просторную ночную рубашку. Стала такой обыкновенной бабой-казачкой!
Вскоре двинулись по степи дальше. Дул сильный ветер. Как-то в отдалении завиднелись яркие огни станции. Она была вся освещена внутри, как перед приходом курьерского поезда.
Едва солдаты разместились за дровами, приладив винтовки к выступам, и едва Толстопят, вспомнив статью воинского устава, стал на место, самое удобное для наблюдения за своими солдатами, как уже во мраке с правой стороны сверкнул короткий ясный язычок и первый револьверный выстрел глухо тяпнул в тумане. Тут Толстопят разглядел, что перед ним. То были окна вокзала, большие и широкие. Свет был так ярок, что даже похоже было, словно пройдет немного времени — и впорхнут сюда барышни в белых платьицах, изящные молодые кавалеры, грянет музыка и начнется блестящий бал. Но то, что увидел Толстопят за светлыми стеклами, столь поразило его, что он сперва не поверил. Там мирно сидели за столами в мягких креслах казаки в шапках. На богатой люстре были развешаны портянки и носки для просушки. Винтовки кучей лежали в буфете.
Через два дня армия по открытой степи направилась дальше. Не раз священник произнес над убитыми молитву: «Да успокоит господь твою чистую душу в селениях праведных...» Каждый день к дороге подходил кто-нибудь и спрашивал: «Чи вы, дяденька, не видели нашей матери, старой та необутой? Казака на рыжей коняке? Корову с красным матузочком на шее?» На молитве станичный атаман, певший и в будничные годы на клиросе, крепким голосом читал перед алтарем Евангелие. Потом кричал на площади: «Всех иногородних до люльки вырубить!» И всюду, куда ни входили под благословение хоругвий и икон, не кончались на площадях речи.
— Армия наша, подобно евангельскому горчичному зерну, разрастается в многоветвистое древо, которое своими ветвями захватит всю русскую землю! Да хранит же вас господь в сем благом подвиге.
— Чада возлюбленныя! О сколько плачевен ныне удел наш. Умален и отвержен пред миром народ русский. Черная печаль томит сердца. При жизни вкушаем мы горькую смерть. Где
---------------------------
1 Такая красивая и нежная. [371]
слава недавняя? Где держава великая, православная? Но да будет благословенна карающая десница господня, ибо и во гневе отвержения есть любовь божия. Осмердела земля наша, зачумел воздух. Ближайшее время решит — быть ли России свободной под знаменем святого креста или рабою — под масонской звездой.
— В Кремль, в Успенский собор за святою водой!
— Боже, помилуй нас в смутные дни! Боже, царя нам верни!
И опять причитания матерей: «Сыну смерть выела очи. Или я в бога не верила? Или я не то тебе у судьбы просила? В чем мне каяться? Сыночек, дитятко родимое. Где мне с ним встретиться? За божьей оградой».
Вскоре на армию наткнулся крестный ход. Дети несли кресты из живых цветов, народ держал букеты и зажженные свечи. За ними колыхались хоругви, а далее, по четыре в ряд, шли женщины с иконами. Ряды богоносцев заканчивались большой иконой Успения и Голгофой — изображением Христа, распятого на деревянном кресте. И последними шли певчие и духовенство в золотых облачениях. Они освятили уже много станиц, призывая братьев не убивать друг друга.
Попсуйшапка узнал, куда направляются со своей миссией люди, и, попрощавшись с Толстопятом, пристал к ним с мадам В. На постели под подушкой Толстопята лежала ее фотография с надписью на обороте: «Увидимся ли опять? Будем надеяться, что да. Куда бы меня ни закинула судьба, я тебя никогда не забуду. Пусть старое сохранится, а новое сбудется. 17 марта 1918 года».
— Если меня убьют,— сказал он ей, расставаясь,— то, когда жизнь наладится, не выпускай из виду мою сестричку Манечку. Это чудо-человек, следи хоть издалека за ее жизнью... Отец с матерью уже старые.
— Я тебе обещаю...
В станице Роговской Попсуйшапка свернул на дорогу в Хуторок к Шкуропатским.
«Слава те господи,— радовался он,— ближе к дому...»
Все разлагалось. В Марии-Магдалинском монастыре пьедестал гроба господня выбросили в сарай, крышку гроба в пономарьку. Киот двунадесятых праздников со святыми иконами валялся в дровяном сарае, закиданный окурками и чайными крошками. Жертвенник в алтаре опустошен, лампады уничтожены; лестница под колокольней пала.
«Кого люблю, тех обличаю и наказую»,— вспомнил Попсуйшапка.
— Как мы это допустили? — вопрошала мадам В., прикладывая руки к лицу.
— У вас, в России, не знаю, а на Кубани каждый казак мог крикнуть на иногороднего: «Не смей, москальская душа, казачьей земли пахать!» Докричались. [372]
— Заманят народ красными словцами о кисельных берегах, переведут всех честных слуг и разграбят страну. Погибло все, для чего жить? На что мне теперь жизнь? Как жили! Проснешься в Петербурге, дождь, осень, ничего не хочется. Пошлешь денщика с паспортом формальности выполнить, а вечером уже в поезде, еду на юг Франции, в Ниццу.
— Вы верующая?
— Да, да,— сказала мадам В. и испугалась: была ли она в мирное время взаправду верующей или только подчинялась обрядам?
— А я любил хор слушать. Если обернется так и дальше, я вам советую: выходите замуж за простого человека, доброго, пересидите, а там видно будет. Нечего плакать об отцовских хоромах, надо жизнь свою спасать.
— Вы думаете, большевики победят?
— Я не думаю, я вижу, куда дело клонится.
— Только лай собак... Ставни у всех закрыты, нигде ни огня.
В хуторе Шкуропатских, там, где когда-то ночи казались короткими, где наутро закладывались экипажи и гости с хозяевами уезжали на целый день в Роговскую или в монастырь, а к возвращению готовился на ужин молочный кисель, где вся жизнь велась от года к году размеренным порядком, теперь приуныли и сидели в дожди на запорах. Недавно и здесь побывал отряд, но, слава богу, никого не тронули. На прощание было сказано Калерии: «Ваш муж Бурсак? Присяжный поверенный? Он защищал на суде революционеров, живите...» Долгими зимними вечерами теперь развлекались чтением вслух. Дементий Павлович Бурсак жил в Екатеринодаре. [373]
ДНЕВНИК МАНЕЧКИ ТОЛСТОПЯТ
1 марта 1918 года. Поздно вечером с некоторыми повозками отправилась за Кубань и я. Мне хочется найти брата и поберечь папу. В 2 часа ночи я была в ауле. Вокруг костров из камыша грелись пехота, артиллерия, еще говорили о Екатеринодаре.
Утром отряды двинулись к аулу Шенджий. Обоз растянулся на несколько верст, и каких только экипажей не было в нем: и походные двуколки, и четырехколесные повозки, и арбы, и линейки, и фаэтоны с извозчиками на козлах. И сколько знакомых лиц и примелькавшихся на улицах физиономий! Какие странные костюмы на тех, кого привыкли видеть прекрасно одетыми! А эти генералы и полковники, с которыми приходилось встречаться в клубах, на концертах! Вот на остановке старый-старый генерал подвязывает торбу с овсом к лошадиной морде. Там сидит на повозке чиновник и с аппетитом уплетает сухой хлеб. Сколько, однако, женщин в отряде в форме добровольца, сестер милосердия и просто дам, девиц, не решившихся отпустить своих мужей в одиночку. И молодежь, молодежь. В ауле Шенджий армия опять ночевала под открытым небом, а я в чистой сакле, где черкешенка хлопотала у очага, приготовляя пышки без соли. Стакан молока в ауле стоит 1 рубль. Зато в станице Пензенской оказались и хлеб, и яйца, и молоко, и вареники, и даже чай (по 6 рублей за полфунта). В станице из газеты «Новый курьер» мы узнали, что вблизи Екатеринодара находится армия генерала Корнилова. Решили идти на соединение с ним. Над станицей пролетели дикие гуси, повалил снег. Там, с Корниловым, мой брат? 6 марта отряды вышли обратной дорогой на аул Шенджий, где ждали радиотелеграммы от Корнилова; посланы были разведчики. В ауле с трудом добывали себе пищу. Ругались, что не взяли из города муки, что на станции Энем остались полные вагоны сахару, галет и т. п. Похоже, никто не заботился о продовольствии армии. 8 марта получены были точные данные, что Корнилов на днях прошел Кореновскую и по расчетам времени должен был подходить к Пашковской, отстоявшей от аула Лакшукай (куда мы пришли) версты на 3—4, на противоположном берегу Кубани. Там шла ружейная и артиллерийская перестрелка с большевиками, окопавшимися у Пашковской. Тратить снаряды и патроны бесцельно: Корнилова нет. Мы не знали, что корниловская армия переправлялась на нашу сторону Кубани. Казаки расстреляли все патроны на Пашковской переправе. Унылые и испуганные, отходили [374] они от берегов Кубани, от аула Лакшукай к станице Калужской через аул Гатлукай. Обоз вытягивается версты на три. Вечером 10 марта был дан приказ сократить обоз. Бросили одну двуколку и разбили часть телефонных аппаратов. Шли быстро всю ночь, в иных местах без дороги по степи. Попадались трупы неизвестных мужчин, одетых по-простому, нескольких офицеров, устанавливавших связь с Корниловым. Взошло солнце. В полдень показался большевистский разъезд и сейчас же скрылся. Часа в два голова обоза подошла к небольшому леску. Вдоль его опушки протекала речка. Мост через нее был разрушен. Отряд взял вправо и пошел вниз по течению речки, ища переправы. Прошли около двух верст, вдали, прямо, стал вырисовываться на горизонте какой-то аул, занятый большевиками. В банковском обозе заволновались, так как он остался без прикрытия. В это время мы достигли небольшого деревянного моста через речку. Обоз переправился на левый берег. Прошли еще несколько верст. Дорогу пересекала балка. Несколько глубоких ериков с водой, протекавших по ней, и молодой запущенный лес, плотно обступивший дорогу, задерживали обоз. Подводы сбились в кучу, обоз застрял. И вдруг совершенно неожиданно раздался ружейный выстрел, за ним другой, третий. Снаряды рвались над обозом и даже сзади него. Отряд был застигнут врасплох. Казалось, спасение уже немыслимо. Многие стали рвать документы, последний патрон оставляли для себя. Спешно стала подтягиваться пехота и сейчас же рассыпалась в цепи за лесом, в четверти версты от обоза. К лесу подвезли орудия, и завязался бой 11 марта.
Пути назад были отрезаны, обоз застрял и при отступлении весь бы целиком попал в руки неприятеля. Ясно, что армия или победит, или погибнет. На карту была поставлена судьба всего отряда. Стали чистить повозки законодательной рады. Часть повозок оставили, лошади пошли под верх. Из повозок выпотрошены были картофель, крупа, мыло, сахар, выбрасывали одежду и белье, сапоги и упряжь.
Боевые старые офицеры говорили потом, что на германском фронте они не часто слыхивали такую перестрелку. Снарядов не жалели и достреливали последние. Но большевики держались стойко. Их было что-то очень много, больше пяти тысяч. С полудня до вечера стрельба не умолкала. Уже солнце заходило, когда в обоз прискакал офицер с приказом всем могущим носить оружие идти в цепь.
Отделение, бывшее, как и вся рота, в резерве, сразу направилось бегом вперед. Бежали, шли в беспорядке, гурьбой, во весь рост. Поднялись на холм и продолжали идти дальше, по-прежнему не пригибаясь. Это незнание военного строя спасло, к счастью, все положение. Большевики дрогнули, увидев новые толпы наступающих. Передовая цепь, чувствуя за собой поддержку, перешла в атаку. Собственно, это была не цепь, так как на протяжении версты растянулось всего человек 30, не более; так малы были силы партизан.[375]
Скоро совершенно стемнело. Выстрелы смолкли. Пошел частый холодный дождь. Земля сразу намокла, разбухла. По пахоте невозможно было идти, к ногам прилипали тяжелые комья грязи. Цепи стянулись, набралось три роты. Пошли влево по направлению дороги на Калужскую. Вдали засветился огонек. Дождь все лил и лил не переставая. Все совершенно промокли и еле плелись. Наконец дошли до маленького хуторка, в котором расположился наш штаб, обоз и куда стягивались все войска. Хуторок был всего в несколько десятков хат, и немногие попали в них. Большинство же принуждено было спать в сараях, под заборами, подводами, прямо в грязи. Хлеба достать тоже нельзя было, а многие не ели целые сутки. Найдешь кочан кукурузы и не знаешь, самому ли сгрызть или отдать лошади.
12 марта к помещению штаба подъехала группа всадников с белыми повязками и отпечатанными черепами на левой руке. То был корниловский разъезд. Известие сразу облетело весь отряд. Войска начали волноваться: многие настолько разуверились в существовании корниловской армии, что приняли корниловцев за большевистских шпионов. Бывший начальник войскового штаба полковник Гаденко предложил разъезду выдать оружие, поставил в стороне взвод с наведенными винтовками и только после этого приступил к переговорам. Сам генерал Корнилов стоял уже в ауле Шенджий.
15 марта выпал глубокий снег. Дороги замело. Горные речки вздулись. По грязи и снегу части Кубанской армии, делая в час одну версту, добрались до Новодмитриевской. Переправы через речки были порою ужасны. То всадник перевернется вместе с лошадью, то опрокинется двуколка, и какой-то банковский чиновник в тулупе, в синих очках стоит по пояс в воде. Войска взяли Смоленскую станицу и Григорьевскую слободу, а затем и станицу Георге-Афипскую. Переход от станицы Афипской был самым тяжелым из всех закубанских походов. Талая вода совершенно размыла дорогу, подводы застревали среди дороги, до маленького аула Панахес еле довезли 1500 раненых. Где мой брат? Разве доберусь я к нему среди рек грязи? Уже чувствуется весна. На деревьях видна первая зелень. Там, за рекой, Екатеринодар. Всех охватывает нетерпение поскорее перебраться на другой берег, но в первую очередь после артиллерии и авангарда перевозят раненых. Мы сидим на берегу третий день. Переправа идет одним паромом, по двадцать повозок в час. Верховые переправляют лошадей вплавь. Генерал Корнилов был уже на той стороне, и его передовые части уже достигли окраин Екатеринодара. Мы жили слухами. 28 марта мы переправились и вошли в станицу Елизаветинскую. Казачки угощали нас блинами, бубликами и молоком. Говорили, что бои уже идут на Сенном рынке.
— Крестный путь на Голгофу позади,— сказал кто-то в те дни,— впереди подвиг спасения России...
Я всеми правдами и неправдами решила пробраться домой в город. Надо было сказать матушке, что братец мой жив, а папа потерялся под Калужской.[376]
ОБОРОНА ЕКАТЕРИНОДАРА
В ночь с 30 на 31 марта Попсуйшапка в числе домовладельцев стоял в карауле на своем квартале: проверял документы у поздних прохожих, пропускал мужчин с винтовками, прислушивался к крикам, к дальним взрывам снарядов. Переменчива была в те месяцы доля людская: еще в феврале Попсуйшапка тащился по степи в корниловском обозе, в Хуторке пристроил у Шкуропатской мадам В., еле пробрался через Пашковскую, Дубинку на свою Динскую улицу; когда добровольцы-кадеты и казаки Рады переправились у Елизаветинской через Кубань и пошли на штурм, его поставили на оборону города. На защиту поднялись Дубинка, Покровка, жители кожевенных заводов. Извозчики и дрогали с подводами перевозили раненых. Делегаты Второго съезда Советов днем заседали в Зимнем театре. Скиба ночью бился на Сенном рынке. Никто не знал, что делается на тридцать шагов от него. Генерал Эрдели обошел Екатеринодар с севера и пересек железнодорожную линию, напугал Пашковскую, но вход в город загорожен ему был частями большевиков. У полковника Покровского гимназисты на ветру обморозили руки. Пашковская отрядила в добровольцы несколько сот человек, среди них немало было казаков-черноморцев с сивыми бородами, они-то и кричали: «Не дадим поделить батьковщину!» Уже три дня корниловцы вели ожесточенные атаки на территории кожевенных заводов, на четвертый Покровский кинулся к Черноморской станции. На втором пути стояли вагоны с винтовками, прибывшие из Киева. Скиба подговорил машиниста, и вагоны пометили мелом, загнали в депо на ремонт, и там рабочие переложили винтовки в старые паровозы. На Дубинке за спирт наняли четыре подводы; ночью в дождь все винтовки в мешках попали к рабочим. Терешка, не ездивший без копейки и квартала, покорно перевозил снаряды. Но на Новой и Кузнечной улицах обыватели выставили в своих дворах столы с водой и продуктами. Ждали. Но кого?
Несколько дней назад у Луки Костогрыза добровольцы-разведчики отобрали лошадь «под генерала Корнилова». 31 марта Костогрыз писал жалобу самому Корнилову. Густо заклеенный конверт так и завалялся в гвардейском сундуке казака: к вечеру донеслась к пашковским хатам весть, что генерал Корнилов убит. С кого было требовать лошадь? [377]
ДНЕВНИК МАНЕЧКИ ТОЛСТОПЯТ
5 апреля 1918 года. Позавчера видела тело генерала Корнилова. С утра уже разносились слухи о том, что тело нашли в степи в колонии Гначбау, где-то вдали колодезных журавлей, где добровольцы, отступая, спешно предали земле своего генерала. Хоронили его тайно, но из окон немецкой колонии кто-то видел. Пленная сестра милосердия опознала его.
Теперь уже потихоньку рассказывают, как проходил бой за город и как генерала убило.
В семь утра, в двадцати шагах от крыльца хаты, в которой был Корнилов, убило шрапнелью пятерых юнкеров. Тут же снаряд попал в стену хаты; из окон посыпались стекла, повалил дым. Офицеры вбежали в хату. Генерала Корнилова застали на полу в синих брюках с лампасами, присыпанного штукатуркой, со слабыми признаками жизни. Из виска сочилась кровь. Через десять минут он скончался на круче реки Кубани. Это было в семь часов тридцать три минуты. Из Китая Корнилов вывез золотой перстень с таинственным иероглифом. Генерал Алексеев снял его с руки мертвого вождя армии и передал Деникину. Убили его на сорок восьмом году жизни, а цыганка нагадала ему шестьдесят четыре... С восковым крестиком в руке его повезли на телеге в Елизаветинскую. После панихиды в доме казака гроб на подводе отправился вместе со штабом армии в отступление. Екатеринодар праздновал победу.
И вот нынче труп Корнилова привезли в Екатеринодар. Лошадь тянула скверненькие дроги. Корнилов лежал в рубашке и в кальсонах.
Я не пошла сначала во двор гостиницы Губкиной, куда свернула повозка. Двор заполнился красноармейцами. Но я не выдержала и пришла на Соборную площадь. Через некоторое время красноармейцы выкатили на себе повозку на улицу и сбросили тело на панель. Появились фотографы. С трупа сорвали рубашку. Ниже живота положили клочок сена. «Тащи на балкон, покажи с балкона!» — закричали. Но тут же послышались противоречивые возгласы: «Не надо на балкон, зачем пачкать,— повесить на дереве!» Уже несколько человек влезли на липу, что стоит напротив 1-й мужской гимназии, и подвязали голого Корнилова вниз головой. Толпа прибывала. Кто-то выразил сомнение, что это не Корнилов, а похожий на него калмык-доброволец. Но, кажется, это был он: во рту такой же золотой зуб.[378]
— Э, червяк! Нашел себе смерть. Черт тебя принес!
— Да он не православный, не русский. Калмык.
— Да это не он, брехня! Разве это генерал?
— Как мальчик, сухонький, маленький...
Через два часа с таким же шумом потащили повозку с останками Корнилова к Свинячьему хутору; его стегали плетками, били палками, на повозку вскакивали босяки с Покровки, рубили шашками, плевали в лицо; издалека кидали к повозке камни. На городской бойне Свинячьего хутора тело обложили соломой и в присутствии Сорокина и Золотарева подожгли. Солдаты ширяли в костер штыками. Жгли остатки и на следующий день. А сегодня по Красной шествовала шутовская процессия ряженых, изображая «похороны Корнилова». Останавливались у подъездов, звонили, требовали денег «на помин души Корнилова». И только в «Чашке чая» молодые люди с маникюренными ногтями по-прежнему мило беседовали.
6 апреля. Где же наш брат Петюшка? Где папа? Встретились ли они в степи или на том свете? Накануне, 31 марта, мама топила баню, ждала, что отец и сын вот-вот войдут в город и постучат в дверь. Вода остыла, но мама ее так и не вылила из чана. Господи, сохрани нам их... Услыши, Господи!
10 апреля. В лазарете Лейбовича и князя Вачнадзе я ухаживаю за ранеными красноармейцами. Все живое на свете страдает, им больно, и я не отхожу от них по целым суткам. Иные из станиц, иные из русских губерний. Во сне кличут родных.[379]
ЭПОПЕЯ ПОПСУЙШАПКИ
Всю весну и осень 1918 года Попсуйшапка оборонял разные участки Кубани в красном отряде. Сперва в Екатеринодаре, в дни осады Корнилова, он дежурил на своем квартале, передавал снаряды в артиллерийскую батарею на набережной. Потом копал окопы под станицей Некрасовской. И сам не заметил, как вместе с другими очутился в ополчении, вынужденном защищаться от белых. В Понежукае, когда черкесы разулись на молитву, они напали с отрядом и разогнали пол-аула в лес. Затем его записали в 1-й Кубанский полк. Междоусобная война колобродила по всей Кубани; с августа в Екатеринодаре царствовала белая власть. Поспешное отступление Добровольческой армии в апреле спасло ее. Известие о гибели генерала Корнилова поразило ее громом небесным, все надежды казаков увидеться со своими, стряхнуть ужасных паразитов с белья, помыться лопнули; надо было опять уходить в степь без снарядов, без перевязочных средств, замерзать ночью под голым небом. Гибель была, кажется, неминуема: против армии стали вдоль железных дорог выступать броневые поезда. Положение на Дону было неизвестно. Куда идти? Обосноваться в Ейском отделе или двигаться по направлению к Баталпашинску? Восьмиверстная змея обоза спешила проскочить железнодорожные переезды, теряя линейки, повозки, вещи, чемоданы. Рада возила с собою кухню. Здоровые, упитанные господа в строевые части не влились. Наконец в станице Успенской началось формирование Кубанского казачьего войска. 16 апреля есаул Толстопят получил под командование полк. В селении Горькая Балка он мог бы попасть под пулю товарищей Попсуйшапки и в четверг на страстной неделе не послушал бы в церкви чтение двенадцати евангелий. Попсуйшапка с 1-м Кубанским полком гонял осенью белых в Терской области.
Через пятьдесят лет в бессонные текучие ночи вел он заочные разговоры то с Толстопятом, то с учителем Лисевицким, то еще с кем-нибудь, увлекался и рассказывал о своей эпопее в 1919 году; рассказывал с таким внутренним убеждением, будто о гражданской войне никто ничего не читал и кино не смотрел, порою вставал с постели и сиротливо смотрел в темное окно. Вот эта речь: — В Терской области мы быстро разогнали казачьи отряды. В одну станицу пришли, двор атамана разграбили, работник-старик показывал, где что спрятано. Все нашли. Ко мне обратилась пожилая дама, атамана жена, просит меня: «Дорогой сынок,[380] помоги мне, поведи в свой штаб полка, я попрошу вашего командира, чтоб больше меня не обыскивали. Я вам заплачу за ваше сочувствие. Вы же видите, что делается в моем дворе». Я согласился с ней пойти, она боится, полная станица вооруженных, и есть пьяные, выражаются в бога и Христа, как кому вздумается. Я повел эту барыню в наш штаб. Зашла она к командиру полка, объяснилась, кто она и что, пожаловалась, что у нее растянули все и без конца идут, ругаются в бога и Христа. Попросила: «Дайте справку, чтоб больше не было у меня обыска». Командир знал, что справка эта не поможет ей, но дал. Успокоилась, просит меня, чтобы я провел ее до дома. Я согласился. А там солдат полно, та-щут. Ну, она меня поблагодарила, вытянула с пазухи, отвернулась, отсчитала пятьдесят рублей николаевских денег, а они уже не ходили на стороне большевиков, а у белых ходили. Я ее оставил в доме, сам ушел. Она меня еще поблагодарила, сказала: «Господь тебя защитит от меча и от врага твоего», а я ей сказал: «Не жалейте ни о чем, время пришло такое, пусть берут все, лишь бы не убили. Не выходите из дома».
Время было суровое. Как-то я с товарищем, отличавшимся сонливостью, поехал в разведку. На краю села мы наткнулись внезапно на двоих кавалеристов, нас разделяли каких-нибудь тридцать метров. Кавалеристы были в бурках, и один из них с пикой, на одежде никаких отметок. Это меня сразу насторожило. Я остановился, те тоже остановились, увидев мою винтовку со взведенным курком. Они стали звать нас, чтоб мы подошли ближе. Простоватый товарищ мой пошел к ним, а я, почему-то чуя неладное, остался на месте, не спуская с них внимательного взгляда. Напрасно они звали меня. Потом один сказал:
«У тебя винтовка заткнута листьями, разорвет при выстреле».
Дуло винтовки у меня действительно было заткнуто, чтобы в ствол не набивалась пыль.
Они поняли, что без урона ничего не добьются, и решили удалиться.
«Такие дураки и по своих стреляют»,— сказали на прощание.
«Чего ты боялся?» — спросил меня товарищ.
«Ты лучше стань за плетень и посмотри, куда они поедут».
Проехав вдоль села, кавалеристы спустились в балочку, а на ту сторону не выехали. Через некоторое время они выскочили далеко влево, около самой горы.
«Теперь ты видел, какие это свои?»
«А чего они тогда нас не трогали?»
«А того, что одного из них я бы обязательно застрелил. А подошел бы — они б уложили нас».
Настала зима; наши большевики были раздетые, из дома пошли летом, кто в чем, никакой военной формы, вольная одежда сносилася. А я в то время перешел в конную разведку, и вот наша конная разведка отрезала в балке скопившихся беженцев-казаков терских с семьями на подводах; и на каждой подводе полно [381] домашнего барахла, подвод триста. Командир полка приказал: назначить два десятка бойцов и у мирных беженцев конфисковать все мужское одевание (сапоги, папахи, бешметы, бурки, шубы, штаны, рубахи, черкески, чекмени). Вот нам наотбирали вороха, а потом отпустили подводы беженцев домой. И я надел чекмень, рубаху, брюки, шубу, шапку белую, башлык белый. «Ну вот, все стали казаки у меня»,— говорил командир.
В декабре мы вернулись к Минеральным Водам. Арсенал всей нашей армии и оружейная мастерская были в то время в вагонах, двинулись по путям. Заведующим этими оружейными мастерскими был мой кум из станицы Пашковской. И он набрал в мастерскую всех своих. Они в тылу живут, в вагонах. А я с передовой на передовую, не рад своей жизни, вот-вот с часа на час ожидаешь смерти. И за что такая кара? Отдыха не дождусь, хотя бы поспать спокойно, подышать без страха и без тревоги, без паники. Какой я несчастный: жену не вижу, родных оставил на территории белых, не знаю ихнее положение, казаки белые уже пронюхали, что я ушел с большевиками. Могут издеваться над женой. А мы все отступаем без боя и отступаем. У меня в душе таится недоверие к командиру. Нам надо вперед, а нам приказ — отступать. Куда отступать? Кубань сдали белым, Ставрополь оставляем, куда отступать? В Каспийское море? Услыхал, что в арсенал приехал Аким Скиба, арсенал и мастерская стоят в пятигорском тупике. Поеду, Аким меня помнит по Екатеринодару, я его раз выручал от беды. Поговорю с ним. Пусть скажет,— может, из-за нас уже белые побили наших родных и жен, а мы все отступаем. Что мы завоевываем? Я оседлал коня и поскакал. Приехал, нашел. Стоит длинный эшелон, эта самая оружейная мастерская. Вылез из вагона Скиба, он к товарищу заехал на денек. Я подвел коня, конь был умный, повода накинул на луку, по шее пошлепал рукой, сказал «Стоя-ать!». Аким навстречу мне: «Здравствуй, Василий, живой?» — «Да пока живой!» — «А лошадь твоя? Ты б привязал ее».— «Не надо вязать, она будет ожидать меня».— «Ну, посиди минут пять сам. Я сбегаю чайку принесу, угостить больше нечем».— «Напрасно ты беспокоишься, я к тебе не на угощение приехал, а просто поговорить и посоветоваться, горе разделить, а то его накопилось — девать некуда. Сам не дам ладу».— «Побегу, потом будем говорить...» — ухватил чайник и побежал. Недолго бегал, несет кипяток, белый хлеб и две большие грудки сахара. «Ну, садись, горяченького чайку выпьем». Я сказал: «Спасибо. Я ничего не хочу. У меня душевная боль. Я приехал к тебе, ты в партии давно, ближе к начальству. Ты мне скажи такую вещь: за что мы с тобой воюем? Бросили своих родных на гибель и страдание. Они ответят за нас жизнью, а мы их после не вернем». Аким выслушал спокойно и сразу мне: «Вот, дорогой мой, что я тебе скажу. Я пошел добровольно в большевики. Я себя пожертвовал. И так решил: что там делают белые с нашими семьями — мы не знаем. Но хотя не перед глазами с них издеваются. Пусть и я погибну, лишь бы остался жив Ленин [382] и сохранилась новая власть. Пусть погибнут наши родные и я погибну в степи». Мне стало жарко, в глазах темно. Я на слова Скибы ничего не ответил, только слезы потекли. Забилось сердце, не мог ничего сказать. Взял шапку и сразу к дверям на выход. «Куда ты? — он мне.— Погоди, не иди». Я ничего не мог говорить, я просто ушел. Все замкнулось. Только когда вышел, сказал: «А кому будет счастье, если погибнут родители, жены, дети? И мы с тобой? Кто будет иметь счастье в будущем?» Скиба понял, что он меня убил этими словами. Стоял. Я со слезами вскочил на коня, круто повернул — и ни «до свидания», и не оглянулся, уехал. Что он потом думал, не знаю. Еду я дорогой, вот, думаю, зачем я к нему приехал, у меня в груди легче было, а сейчас? Не знаю, выдержит ли мое сердце такую печаль. А я еще, дурачок, думал проситься к нему в отряд. Нет, умирать будем не вместе, а врозь.
Приехал в свою часть такой грустный. Тут командир разведки кричит: «Попсуйшапка, сюда быстро!» Я думаю: что случилось? «Вот, дорогой, тебе надо сейчас же ехать с этим пакетом у штаб полка, срочно. У тебя лошадь самая лучшая». Первый час дня, штаб полка в тылу за двадцать пять километров. Он вытащил карту и показывает: станица Александровская. Одежда на мне была вся казачья, хорошая и теплая. А зима, пятое января девятнадцатого года. Я вскочил на коня. «Давай побыстрей!» Я был выполнимый, без слов взял пакет и тронул в путь. Оружие у меня было — карабин, сотня патронов и две ручные гранаты. И казачья сабля, плеть. И все. Прискакал я в станицу Александровскую за три часа, сдал пакет. Начало вечереть. Хотел было вернуться на ночь в часть, но лошадь пожалел: голодная и наморена. Решил остаться заночевать. «Где,— спросил в штабе писаря,— с вами могу я переночевать?» — «Со всем бы удовольствием,— писарь,— ну ты сам видишь, что нас много у одного хозяина, Вот я тебе советую, рядом сосед, богатый казак, там никого нет. Для тебя будет удобней. Заедь к нему. Да тут вообче станица пустая, войск нету никаких. Вот только наш штаб и нашего полка тыловой обоз. И все». Я согласился. На пакет взял расписку и выехал. Соседа двор тоже такой, богатый забор, шилеванный под закрой. Вышина такая, что в калитку любая лошадь с всадником, пригнувши немного голову, вполне проходит. Я в калитку постучал плетью, крикнул: «Хозя-аин! Выйди!» Отворяет казак высокого росту, русый, с усами, примерно лет пятидесяти. «Вы будете хозяин этого двора?» — «Я»,— и строго смотрит на меня. «Разрешите у вас заночевать?» — «Кто вы будете? И сколько вас?» — «Я один. Красный. Вот у соседа вашего наш штаб полка».— «А, знаю...» Открывает калитку и говорит: «Заезжайте. Снимайте седло, вот в конюшне свободное место. Я сена принесу, за драбину наложу, чтоб хватило на всю ночь». Я сложил седло, сумы и плеть и верхнюю уздечку. «Ну, а оружие понесем в хату».— «Давай теперь закурим»,— говорит хозяин. «Благодарю за предложение, но я не курю».— «Тебя первого встречаю из красных — не куришь. А откуда [383] сам родом?» Я это ожидал, что спросит богатый казак. А на мне вся одежда с ног до головы казачья, мне надо было умело отвечать. Я отвечаю: «Я ваш терский казак, станицы Шелковой Кизлярского отдела. А фамилия Шахворостов Василий Иванович».— «А давно ты у красных?» — «Нет, одиннадцать дней».— «А как же ты попал в мужичий полк?» — «Нашу станицу заняли красные, отец скрывался, красные нашли, убили, а мне вот дали коня и мобилизовали. И я в тылу у них, на передовую не посылают, пакетик привез».— «Пойдем в дом»,— он идет впереди, а я за ним несу карабин, а гранаты я оставил в сумах. Дом богатый обстановкой, много было икон разных, горели лампадки и сидел бородатый старик. Примерно не меньше восьмидесяти пяти лет. И с ним женщина лет пятидесяти, а две молодые (одной лет двадцать пять, второй тридцать). Я поздоровался. Старик спросил сына: «Кто ето такой?» — «Батя, ето наш казак терский».— «А чего ж он у красных служе?» — «Ладно, батя, всяк приходится. На то война внутренняя». Старик было начал ругать большевиков, но сын предупредил отца, сказал: «Вы молчите. Ваше дело помалкивать». Старик скривился, но замолчал. Старшая женщина спросила: «Ну что, можно готовить?» Сын кивнул головой, поворачивается ко мне: «Вот сюда иди в ету комнату, здесь оставляй оружие свое и одежду. Здесь будешь сам спать. Вот на той койке тебе постелют». Я наконец снял шашку, бурку, шубу, башлык. «А сейчас пойдем с нами вечерять, знаешь, что завтра крещение?»
На столе поставлено было много кушанья. Старик встал со стула, сказал: «Ну, бабы, идите помолимся». Все строго подошли к столу, начали креститься. Старик остановился, и все бросили молиться. Старик полез первый за стол, потом сел хозяин и рядом подсунул стул мне. Сели и женщины. Началась вечеря. Хозяину подали большой чайник и деревянную цветастую чашку. Я не понял, что в чайнике. А в чайнике было налито вино трехлетнее, но я молчал. Налил хозяин полную чашку вина, преподнес старику, в чашку влазило около литра. Старик перекрестил чашку и выпил. Хозяин налил себе, выпил, налил жене — она отказалась, спросил вторую — тоже отказалась. Ну а третьей не предложил, долил полней и поднес мне. Я половину выпил и оробел, вино было пьяное. Покушали. Старик первый вылез помолиться, пошел в какую-то комнату, женщины тоже. Хозяин говорит на меня: «Ты сиди, пока я встану». Налил еще вина, выпил сам, налил и мне поднес: «Пей, спать лучше будешь». Я немножко глотнул и отказался.
«Вот что, казак, здесь против нашей станицы фронта нет, открыто — красных войск нету. Сегодня белая разведка в два часа дня приезжала в нашу станицу к церкви и сказали, что завтра ожидайте нас, приедем в вашу станицу, крестить будем». Я, конечно, хозяину не поверил, подумал, что он меня изучает: как я — сробею или нет. Я попросил хозяина: если есть зерно, то завтра дать моему коню хоть немного. Хозяин сказал: «Ладно, найдем».[384]
Я лег спать, но сам думаю: хозяин ушлый, хочет меня напугать. Но я все же не дал виду. Не может такого быть, чтобы наш штаб полка не знал. И уснул. Крепко.
Утром проснулся, на дворе было видно. Напоили мы с хозяином девять лошадей, я помогал воду с колодца вытягивать и лить в корыто. Напоили коров, овец (больше двадцати). «Ну,— хозяин говорит,— помоги сена заложить, ты лошадям, а я коровам». Я начинаю собираться ехать в часть, ближе к фронту. «Ты куда?» — «Буду ехать, меня ожидают».— «Ничего, живого дождутся. Не езжай. Вот скоро отец придет с церквы, воду принесет свяченую. Пообедаешь хорошо и поедешь. А я сейчас усыплю твоему коню ячменя. Успеешь на передовую еще, война затянется долго, много погибнет людей без вины... Ну вот и отец пришел, сейчас пообедаем».
Вошли в хату; хозяин берет кропило и воду святую, а мне говорит: «Будешь идти за мной и писать кресты мелом». А женщинам сказал: «Быстрей готовьте на стол, а то парень торопится». Ну мы обошли все базы, кошары, катухи — я везде пишу мелом кресты; закончили, пошли в дом, и в доме он кропит, я пишу кресты. «Ну, теперь к столу». Стол был накрыт богатый.
«Чем садиться,— старик,— давайте помолимся». Все стали к столу, лампадки горели, начали молиться по-вчерашнему.
Еще на середине обеда послышались частые выстрелы из винтовок, а затем и пулемет заговорил. Я вздрогнул и хотел сразу встать из-за стола, а хозяин говорит: «Сиди, кушай, это наши казаки приехали станицу крестить, я тебе говорил вчера — вот так и есть». У меня в кармане большевистские деньги, больше ста рублей, и большевистские документы. И вдруг я в плену! Мне сразу петля. Я прошу хозяина: «Пусти, я вылезу, посмотрю, что за стрельба». Вылез, сразу оделся. Хозяин советует: «Не выходи со двора, убьют. Во дворе я тебя спасу». Я все-таки — до калитки, глянул по улице — в ту сторону и в другую. Ездит кавалерия, на шапках белые ленты; против соседского двора, где стоял штаб полка, тачанка с пулеметом, и взяли в плен нашу канцелярию. На улице линейки нашего полка, врач большевиков и казаки верхом. Я закрыл калитку — и в конюшню седлать коня. Хозяин за мной: «Подожди, не смей выезжать». Только проговорил — бьют в калитку. Я быстро из кармана деньги и документы выхватил, кошелек, разгорнул конские говна и затоптал. И стал на дверях конюшни. Смотрю на калитку и думаю: «Все, пропал. Сейчас зарубают или застрелят». Распахнулась калитка, верхом казак в бурке и шапке (белая лента), за ним второй, третий.
Первый увидел меня, крикнул: «Ты кто такой? Большевик?» — «Никак нет, господа! Такой казак, как вы». Тут, спасибо, хозяин бросил закрывать калитку и говорит: «Нет, нет, господа казаки, я за него ручуся, он казак терский станицы Шелковой. Я его прячу от большевиков две недели». Тот первый, в бурке, указал на одного из тех, что во двор заехали: «Оставайся, пусть сейчас седлает коня, и ты его отправь в штаб полка, командир с ним сам [385] разберется. А мы поехали!» Я пошел в конюшню седлать лошадь, хозяин опять ко мне близко подошел и сказал: «Не робей, а то заметно; пусть допрос делают, а ты не бойсь, крой смело; врут, не повесят. Ему волки нужны. Когда останешься в живых, постарайся мне сообчить как-либо». И мы стронули со двора. А сам думаю: «А что я буду говорить, если встренется казак знакомый, а я пленный да вдобавок в полной казачьей форме. Как быть? Только отказаться, что я терский казак. На одном буду стоять. Фамилия никакая, а Шахворостов Василий Иванович». Так твердо решил. А иначе мне вешалка. Едем по этой станице, смотрю — впереди толпа, стоит подвода, линеечка, и верховых пять казаков. Ближе едем — наши пленные: Бараненков и фельдшер, фамилию не помню, дразнили Кащей, худой был. Вот угадают меня и продадут! Я отвернул лицо, мимо проехали, правда, им было не до меня. Слава богу, прошло; как дальше — не знаю. Конвой помалкивает, только говорит: «Суда». Мы выехали в степь вдвоем, я спрашиваю: «А далеко?» — «Десять километров». Солнце. В полдень приехали в другую станицу, свернули в улицу. Стоит кирпичный дом, висит знамя — полоса широкая белая, ниже синяя, поуже, и еще ниже узкая красная. Штаб полка. Казак открывает дверь — сидят много, пишут, открываем вторую — сидит полковник (я сразу снял головной убор), полковник крикнул на меня: «Ты кто такой?» — «Я казак, господин полковник, Терской области, станицы Шелковой, господин полковник».— «Ты что, у красных добровольцем служил?» — «Никак нет, господин полковник. Мобилизовали красные, отца убили, а у меня забрали оружие, мне не доверяли, господин полковник. Я ушел от красных, я у красных три дня был, господин полковник».— «Так вот, будешь служить во втором Черноморском полку, в четвертой сотне, полк сейчас стоит здесь на площади. Явишься к командиру четвертой сотни».— «Слушаюсь, господин полковник! Напишите записку, а то меня не примут». Он крикнул: «Никаких записок! Скажи командиру, что полковник Непокупной приказал записать! Иди!» Выхожу, мой конь стоит. Конвой отвязал своего и уехал — куда, мне неизвестно. Думаю: «Прошла черная гроза мимо моей головы. Что делать дальше? Нету у меня никаких денег и документов. Ехать надо домой. Хотя б узнать, живые родные или нет. А где ж Скиба, что он думает обо мне? Ну, ехать на риск, законов не знаю, поймают — пропаду. Давай поеду в поле дня на четыре, на пять, не больше, придумаю что-либо; может, поездом быстрей и удобней, в толпе лучше уехать. Ну, сел, тронул на площадь этой станицы, а сам твержу: «Второй Черноморский полк, четвертая сотня, командир полка Непокупной!» Приехал к церкви, поют казаки кубанской сотни песни, один табун, второй, третий. Я подъехал к одному табуну, спросил четвертую сотню второго Черноморского полка. Показали: вон. Подъезжаю, отходит от круга казак в бурке. Я спрашиваю: «Скажите, как мне найти командира четвертой сотни?» — «Я командир. Что вам?» — «Меня полковник Непокупной послал к вам, чтоб вы записали [386] меня в свою сотню. Я терский казак».— «Ага! Хорошо, давай. Взводный! — закричал вовсю.— Четвертого взвода, ко мне!» Бежит среднего роста белявый казак. «Запиши терского казака в свой взвод. А оружие у тебя есть? Выдай винтовку, шашку, пятнадцать штук патронов, вот там в обозной подводе есть». Повели меня к бричке, нашли винтовку, пехотинскую шашку, патроны, а потом вытащил блокнот: «Говори фамилию». — «Шахворостов Василий Иванович».— «Сейчас ночевать будем, квартирьеры приедут и поедем по квартирам». Через десять — пятнадцать минут команда: «По коня-ам!» Стали в строй, смотрю, все черноморцы станицы Кореновской, Дядьковской, Платнировской. Но знакомых не вижу. «По пять человек во двор!» И я поехал пятый во двор. Три женщины, одна пожилая, две молодых. Повязали лошадей под котным сараем, сена нету, наложили соломы пшеничной. Был небольшой мороз. Кручусь я на дворе, много думок, ничего не придумаю, что дальше делать. Зовут в хату: «Терец, терец, иди скорее ужинать». Уже сели. На столе две сковороды сала с яйцами нажарено, самовар шипит. «Ого,— думаю,— вот где правда. Вчера у красных, сколько прошел станиц, ни разу так не угощали, даже за деньги и то плачут: «Нету хлеба, нету сала», а тут вот как белых кормят, я-асно. Выходит, что белым последнее отдают: куда там завоевать красным. Пропал мой Скиба. Но все равно я стрелять на него и соседей не буду. Посмотрю завтра, вырвусь домой, а там пусть вешают дома, пусть соседи увидят, как казаки казнить будут меня». Сел ужинать, кушать хотелось. Я у того хозяина не наелся. Шестого января в плен попал и шестого к вечеру с белыми за одним столом, И думаю: что было б мне, если б они знали мою тайну! Но терпи, душа: возможно, я добьюсь своей цели. Поел сала вволю, выпил чаю два стакана. Хозяйки бегают веселые; наверно, ихние мужья в белых. Ну ночь. Спать. В большую комнату принесли соломы, хозяйка внесла длинную полость, раскатила по соломе. «А подушек,— говорит,— нету».— «Спасибо за это». В хате тепло, я шубу свою в голова, а буркою укрылся. Остальные двое легли, а двоих нету. Шутят где-то с молодыми хозяйками. Я сразу уснул. Слышу, кто-то дергает. Я луп — в хате темно, отзывается казак: «Терец, терец»,— гукает тихонько. Я ответил: «Что такое?» — «Вставай!» Я думал: тревога. А он шепчет:
«Иди, вон в той комнате дерут хозяек».
«Я не пойду. Я больной, у меня живот болит».
И уснул.
Седьмого рано утром поднялись, опять сало жареное и большой самовар шумит. Вот, думаю, дела! Как хозяйкам не стыдно! Позавтракали, бежит посыльный верхом: «Выезжайте к командиру сотни, быстро!» Оседлали и выехали. Тронулись в ту станицу, в которой я попался в плен. Ну, думаю, как же заскочить к тому хозяину, который меня спас от смерти, он просил меня. Спрашиваю с моего взвода, того, который будил меня ночью, говорю: «Слушай, давай заскочим в ту хату, там казак хороший, знаком [387] мне, на одну минуту». Он ни слова: «Давай свернем». Заскакиваем, я постучал, вышла жена хозяина: «Его нету, ушел в правление». Я попросил; «Скажите, что я во втором Черноморском полку, все в порядке, а хозяину большое спасибо». Она угадала, засмеялась. Нагнали свою сотню, выехали со станицы колоннами, нигде никто не стрельнул, едем в город Георгиевск. На дороге брошенные ломаные подводы, больные раненые лошади, кухни бросили большевики. Нашему полку якобы было задание брать город Георгиевск, но почему-то его бросили красные и отступили без боя. В Георгиевск зашли первая Черноморская конная дивизия, второй Черноморский полк. Мне наряд — мост охранять на окраине города. Я вижу, что плохо, с той стороны стреляют редко с винтовок, там Скиба и все соседи — и вдруг убьют меня? Нет, не пойду в караул. Сразу к взводному, заявляю, что у меня сильно заболел живот и понос, я не могу идти в караул на мост. Он позвал санитара, тот дал пилюлек — две, глотай сейчас, от караула освобождаю. Я не пошел мост охранять, там, где взводный, там и я дремал до утра. Рано утром сняли наш взвод с моста, пришла пехота на мост, наш полк на площадку в конце Георгиевска выстроили 8 января 1919 года в одну линию, и стоим, кого-то ожидаем. Вот бежит сотня, видно черкесы, и на палках знамя, и верхом сам генерал Покровский. Добегают рысью, он кричит: «Здравствуйте, братцы казаки, второй Черноморский полк!» Пробежал до конца, здоровался с каждой сотней, назад шагом.
«Благодарю вас, господа казаки, за взятие Георгиевска».
А потом указывает, что впереди, что взять. Кричат: «Постараемся, господин генерал!» И уехал, откуда приехал. Пришли командиры, говорят: задание — сегодня взять хутор Орловский. «По коням!» Едем, стрельбы никакой. Остановились. Командир подходит: «А где терец?» Указали, подошел поздоровался.
«Ну что, терец, ты, видимо, журишься, тебе скучно с черноморцами? Вот скоро займем твою станицу Шелковую, то мы тебя атаману сдадим. «Возьми,— скажем,— господин атаман, своего казака, а нас за то, что сохранили целым, угости вином. А может, у тебя в доме найдется вино? То мы напомни-им. Смотри, не поскупись, угости, если есть».
«Было спрятано две бочки, одну разопьем всей сотнею».
«Смотри,— повзводному,— береги терца, чтоб жив был, будешь со своими станичниками, тебе будет веселей».
«Ого,— думаю,— откладывать нельзя ни одного дня, а то в Шелковой повесят. Что-то пора придумать».
Если бы пошел бой, я бы себя ранил в ногу. Нету! Большевики отступают без боя, не догонишь и не знаешь, где у них ближе фронт. Как сделать? Голова кружится. Один выход: ранить себя так, чтоб не заметили. Если я сумею себя ранить (хотя легко), я отстану от этой части, то еще поживу, иначе мне петля.
Без боя поздно вечером приехали в хутор Орловский. Команда подалась: «Повзводно во двор, отпустить подпруги в седлах, а седла не снимать».[388]
Заезжает мой взвод во двор — бедный, хатка камышом крыта, во дворе стожок соломы пшеничной, сена нету, маленький сараишка, одна сторона без стены. С вечера потянуло на мороз и начал идти снег. Весь взвод спешили. В хату — покушать, все голодные как собаки, а мне не до еды, решаю судьбу свою. Придумал найти во дворе какие-либо вилы и прохромить правую руку — и завтра в госпиталь, а они пусть гонятся за большевиками. Хожу по двору, в сарай, ищу вилы. Нашел вилы с двумя рожками. Рожки толстые и концы тупые, не нравятся, тяжело прохрамливать ладонь: держак длинный. Но других не нашел, темно, снег идет тихий с морозом. Но как сказать, если прохромлю ладонь? Решил так: прохромлю и с собой беру вилы, тащу в хату к взводному и буду ругать: кто, мол, устроил вилы держаком в скирду в солому, а рожками наружу? вот я разогнал руки в солому насмыкать коню, а оно темно, и пробил ладонь на эти вилы. Так и сделал. Встромил держак покрепче в землю, чтоб не посунулись вилы, наложил мякиш правой руки между большим пальцем и указательным, левой сверху, для того, чтоб крепче надавить, и глаза зажал. Как давану на рожок! Так на четверть наружу выскочил рожок вил! Сразу выдернул назад! Затошнило, оглянулся — кругом никого нет. Я эти вила под руки и в хату. Кричу:
«Господин взводный! Какой дурак встромил вилы в солому держаком в скирду, а рожками наружу?! А я пошел коню смыкать соломы, разогнал руки, хотел больше выдернуть и... вот на рожок, пробил ладонь. Вот эти вилы!»
«А как узнать, кто встромил? — взводный.— Выбрось их на двор, я сейчас скажу фершалу, пусть перевяжет руку».
Фельдшер посмотрел, помазал йодом, забинтовал. И все.
В хате было тесно, никто не раздевался, лежать негде. Я сел в углу, там, где рогачи стояли и кочерга; руку дергает, думаю: вот все, она до утра распухнет, и я в госпиталь. А там мимо и домой. Рука беспокоила до полночи, а потом тише. И я уснул, сидя с рогачами. Утром санитар вскакивает в хату, говорит: «Кто больной? К врачу!» Врач сказал: «Ехать только с обозом». И все. Пропала моя надежда и весь мой труд. Что делать дальше? Надо только стрелять, лишиться ноги или руки, иначе весь пропаду — близко Шелковая станица, а большевики отступают без боя, в день двадцать — тридцать километров. И вот утром девятого января девятнадцатого года поехали в направлении на станицу Государственную, от хутора Орловского примерно двадцать километров. Приехали без выстрела, станица громадная. Поставили квартирьеры меня и еще трех казаков в бедный двор. Молодой казак недавно построил хату и конюшню, колодца во дворе нету, хозяйка молодая, две девочки маленькие, сидят на русской печке. Я решаю ночью что-то предпринять. Рука моя проклятая уже не чувствует боли, надо что-то сильней, мне не спится. Утром хозяйка встала, зажгла лампу, поднялись и мы втроем, на дворе было видно. Пошли к лошадям. Вот бежит вестовой верхом на лошади, кричит: «Давайте за завтраком! [389] Берите у хозяйки посуду, получите с кухни!» Кто ж пойдет? Я ответил — не могу, рука у меня болит. Взял казак ведро и пошел за завтраком. А второй казак пошел чистить коня. А хозяйка взяла цибарку и пошла через улицу по воду. Малые две девочки сидят на русской печке. Я в то время сообразил выход с тяжкого положения! Быстро в хату, пока никого нет, вытащил обойму патрон с шубы и в чужую винтовку зарядил один, на боевой взвод поставил и к столу все три винтовки поставил, заряженную винтовку приметил по ремню. Сам вышел с хаты в конюшню и думаю: хозяйка принесет воду, она винтовки не тронет, а надо только, чтоб этот казак, что в конюшне чистит лошадь, не пошел в хату до тех пор, пока второй казак принесет завтрак. А по-военному завтрак — быстро, не чухаются. Я рассказываю этому казаку дребедень, дабы он только не пошел в хату, а то он уберет винтовки от стола, тогда пропал мой план. Стою на дверях конюшни, разговариваю казака, а сам посматриваю на ворота, чтоб не прозевать, когда будут нести завтрак. И думаю: вслед идти в хату буду я, затем казак с завтраком, а завтракать будем на столе, а там приставленные винтовки, их нужно будет убрать — то я охотно схвачу эти винтовки и буду переносить в какой-либо угол и наложу большой палец левой руки, потому что правая больная, и прикладом крепко об землю толкну, пусть летит большой палец, дабы я сам остался целым. В станице Шелковой мне вешалка. Но так и получилось. Вот открывает казак калитку, несет ведро с супом: «Пошли завтракать, а то скоро выезжать будем». Я за казаком вслед. «Кто винтовки поставил к столу?» — «Не знаю,— говорю.— А что, прибрать?» — «Да мы же завтракать будем на столе».— «Я сейчас уберу».
Хватаю в левую руку заряженную винтовку под мышку, большой палец кладу на дуло, в правую беру две и несу в угол, где рогачи стоят. Приподнял левой рукой заряженную, толкнул раз об землю — не выстрелила, я приподнял второй раз выше и крепко нажал на руку. Как выстрелит, пуля разрезала большой палец и пошла в потолок. Я испугался, как будто неожиданно; с руки, то есть с пальца, потекла кровь. Казак, что принес суп, выскочил и ушел доложить взводному. Бежит взводный!
«Чья винтовка заряженная?»
«Моя», — казак.
«Вот тебе наряд: два дня вне очереди дежурить за ето! Чтоб знал, что в тылу винтовку надо разряжать».
Завтрак никто не кушает. Я пошел со взводным к врачу.
«Перевяжи палец».
«В госпиталь направлю. Чья лошадь, твоя?»
«Нет. Дадена. И седло даденое».
«Фершал, запиши фамилию, имя, отчество».
Я хотел было заменить фамилию свою, но тут стоит взводный,— нельзя. Ладно: Шахворостов Василий Иванович.
«Иди сдай лошадь, седло, оружие и что твое — забери с собой. Приходи сюда, я тебя отправлю в полевой госпиталь».[390]
БОИ
Красные отступали к станице Урупской. С боем прорвавшись через Синюхинские хутора, белая бригада завела на окраине какой-то станицы лошадей во дворы. Казаки пили чай. Внезапно принесли донесение о бое на переправе. Толстопят поехал туда.
С кургана было видно, как за оврагом залегла цепь противника. Впереди них, в двухстах шагах, за скирдами соломы притихли две сотни казаков. И вот из оврага поднялась густая лава красной конницы. Было ясно, что на плечах казаков красные ворвутся на батарею, стоявшую за курганом. Так и вышло. Команда «на задки!» не помогла. Было поздно: неприятельские всадники уже опрокидывали орудия.
Толстопят побежал к кукурузному полю; в стороне врассыпную скакали казаки и бежали артиллеристы.
— Господин подъесаул! — услышал Толстопят.— Возьмите мою лошадь.
Толстопят отказался. Офицер настаивал, продолжая ехать рядом с ним.
— Не возьму, не возьму. Скачите в хутора, ведите сюда линейцев и черкесов.
Вдали скакали навстречу три всадника. Толстопят схватился за револьвер. В эту минуту показалась лазаретная линейка с сестрами милосердия и раненым полковником. Толстопят побежал, догнал ее и вскочил на ходу. Всадники стали отставать. К вечеру белые части достигли реки Урупа. Урупская и Бесскорбная несколько раз переходили из рук в руки. Наконец седьмого октября пала станица Урупская.
Красные отошли на правый берег. Дул уже северный ветер. Бригада, в которой был Толстопят, зашла в тыл противника.[391]
РАССКАЗ АКИМА СКИБЫ
Мы отступили к Урупской, заняли позиции на высоком правом берегу. Последние дни осени были сухие и жаркие. Мы там очень страдали без воды. Я решился на отчаянный поступок. Я знал, что за экономией в камыше под бугорком есть отличный родник. Сказав ребятам, что иду по воду, я взял котелок и спустился вниз. На их предостережение, что меня могут убить кадеты, я уверенно ответил: «Не убьют!» С экономического сада я забрался во двор. Известно, что человека, идущего к вражеской позиции, тем более если он один, ни за что не станут убивать издали, а засады в экономии я не боялся — она была на нашей стороне Урупа. И в обед едва ли кто из кадетов останется в ней. Пройдя через двор, я выбрался на открытое место, начал снижаться к роднику; припав к холодной струе, я пил ее и пил, и не только за себя, но и за всех моих жаждущих товарищей, после чего, полежав немного, я еще раз напился и, набрав котелок воды, беспечно пошел назад, думая про себя: может, не заметят? Но меня заметили. Едва я прошел десяток шагов, как рядом со мной в кремнистый берег начали впиваться пули. Тогда я, стараясь не разлить воду, упал и притворился убитым. Стрельба сразу прекратилась, и я, подбирая под себя ноги для нового броска, злорадно думал: «А что, чертовы души, взяли большевика?» Я схватился и дал деру. Я уже подбегал к амбару, как пуля врезалась в него, а вслед за нею раздался дружный залп, но четыре стены амбара с закромами надежно прикрыли меня. Воды было всего полкотелка. Взводный, передавая его, сказал: «Только по глотку, и по женскому, а не по обычному».
Мы отступали и дошли почти до станции Свечка. Потом четыре дня опять наступали на Урупскую. Белые, размахивая шашками, бросались в атаку из-за холма; во все дни перед нами были только небольшие кавалерийские группы, которые, обстреляв нас, безнаказанно уходили, да изредка било по нас орудие. Во время наступления перед нашей цепью бежали зайцы; один из них затаился в траве и был пойман нашим бойцом. Как заяц, бедный, жалобно кричал! И боец пожалел его, кинул его назад цепи. На спуске к Урупу нас встретил жестокий пулеметный огонь; многие побежали вниз по дороге, но я решил скатиться с крутизны, вполне уверенный, что по одному стрелять не станут, а навстречу мне на крутизну мчались зайцы. Мы перешли Уруп и вдоль дороги окопались и заночевали. На другой день белые [392] в пешем строю пошли из-за холма на нас в атаку. Вот они уже близко.
— Бей золотопогонников!
Белые понеслись обратно. Пулемет их косил без пощады. Вдалеке из-за увала выскочил офицер на серой лошади и стал лупить плетью отступающих.
— Бей его, гада! Это офицер!
Старик, некогда охотившийся на диких свиней, прицелился, и через минуту офицер упал с лошади.
А через две ночи к нам в тыл зашли белые, и мы, перейдя Уруп, окопались на правом берегу, но через день в прорыв между нашими солдатами вклинилась белая кавалерия. Нас осталось тринадцать человек.
Какая-то животная покорность овладела мною, я потерял способность сопротивляться. «Вот это так, значит, берут в плен»,— подумал я. Оглянувшись вокруг на пустую степь и не видя себе поддержки, я, следуя примеру других, воткнул винтовку штыком в землю и пошел навстречу белым с поднятыми вверх руками. Теперь меня уже не интересовали пробегающие с пустыми седлами кони. К старику, позавчера убившему всадника на серой лошади, подъехал пожилой казак и со словами «Тебе стрелять?» всадил ему пулю в живот. На нас кто-то почти в упор резанул из ручного пулемета, но, видно, от волнения плохо прицелился — пули просвистели у меня над головой, не задев.
— Стой, не стреляй! Скидай шинель! — сказал уже мне низенький казак.
Отдавая ему шинель, я увидел, что поперек седла у него уже висело еще три или четыре шинели.
— Марш, догоняй своих!
С горы я с тоской посмотрел на жидкий кустарник. Даже скрыться негде. А то бы удрал. Я почему-то был уверен, что нас всех расстреляют, и, вспомнив свою бабушку, три раза набожно перекрестился. Уже вечерело, когда подошли к аулу, в котором недавно наши поживились; воспользовавшись тем, что жители разбежались, брали все съестное, стащили в окопы кто ведро муки, кто курей, кто горшок молока, некоторые взяли жаровни и там в окопах жарили семечки, пекли на шомполах кочаны кукурузы, а кто варил галушки. Да простят мне все, кто считает большевиков непогрешимыми,— нас плохо кормили, а то черт бы нас заставил грызть эту крепкую как камень кукурузу. В этом ауле я все же сделал одно доброе дело. В одном дворе увидел я в базу привязанного к пустым яслям истощенного жеребенка. Он призывно заржал. Несмотря на то что по мне начали стрелять, я отвязал жеребенка и вывел его на улицу, и он пошел к Урупу, качаясь на своих тонких ногах и как будто благодарно кивая головой. И вот я вторично в ауле, уже пленный. Какой-то казак пропускал нас между собою и плетнем и нещадно лупил плетью.
Окруженные с двух сторон сплошным конвоем, мы в сумерки повернули к Урупской.[393]
Казаки спрашивали, нет ли среди нас матросов. Все молчали. Потом они начали обсуждать результаты сегодняшнего боя.
— Там их навалили, лежат как снопы.
— Если бы я знал, кто вчера гнался за есаулом Толстопятом, я бы его изрубил, как капусту! Эй, краснопузые! Кто из вас вчера тройкой гнался за нашим есаулом?
— Та они и сегодня добры. Ты им кричишь: «Стой!», а они станут та по нас залпом, та залпом.
Но вот в разговор конвойцев вмешался кто-то из наших, он начал восхвалять казаков и насмешливо отзываться о большевиках.
— Вы знаете,— говорили,— какая у них паника бывает! Как смешаются обозы с войсками та с беженцами, так сам черт не разберет, кто кого душит та кто на кого стреляет. Дрожь бегает по-за шкурой.
— А ну замолчи, собачья твоя душа. Ластишься, как цуцик. Ишь, добрый. А ты у них, должно, был первым оратором? Подлипайло.
В Урупской нас загнали на верхний этаж кирпичной школы и наутро выстроили во дворе для расправы. За ночь люди осунулись. На нас посыпались насмешки, на которые кубанцы большие мастера. Вдоль строя прошел черноротый казак-корниловец с черной каймой вокруг погон и такой же ленточкой поперек и белой лентой навкось через папаху.
— Вот так большевики, вот так чудо-богатыри, гадко и на щепку взять. И скажи, пожалуйста, этим большевикам ще добрых три года треба по-под стрихами воробьев драть.
Казаки засмеялись; они сейчас бы ни за что не поверили, что удирали с бахчи именно от нас. Но вот вышло к строю начальство.
— Кто среди вас комсостав? — Мы молчали.— Так что, у вас нету комсостава? Я вам русским языком говорю: все отделенные, взводные и командиры шаг вперед!
«Все равно будете расстреливать всех, так зачем вам командиры? Тем более что они у нас выборные».
— Если не выдадите командиров, через одного буду расстреливать! Отправлю, как вы недавно генерала Бабыча в Пятигорске, нюхать фиалки.
И тут в наших рядах кто-то сказал:
— Ну что, ребята, выходите, не пропадать же всем...
И командиры вышли.
— Вот этого тоже надо,— подошел и показал казак на нашего товарища.— Его брат в нашей станице все ораторствовал.
— Так то ж брат, а не я.
— Выходи! — сказал офицер.
Наших командиров увели на расстрел, а нас загнали опять в школу.
Люди сели молча вдоль стен, всем было как-то не по себе. А я взял из шкафа газету «Великая Россия» и сел читать.[394] Так. Что там творится на белом свете? В Екатеринодаре белые. Таскают тех, кто «совершил преступление при большевиках». Уже и вождь Добровольческой армии генерал Алексеев сдох в доме Ирзы. «Честь! Отечество!» В здании первого реального училища устраивается грандиозный бал-маскарад в пользу семей павших участников этого самого похода. Цена билета с шампанским пятьдесят рублей, без — двадцать. Идет предварительная запись на столики к Новому году — в здании первой женской гимназии, в той гимназии, где я в дни обороны города от Корнилова сидел на Втором съезде Советов. Баня Лихацкого по-прежнему топится. Речь генерала Деникина: «Настанет день, когда, устроив родной край, казаки и горцы вместе с добровольцами пойдут на север спасать Россию, спасать от распада и гибели...» Судят доктора Лейбовича, обвинение: в ночь на 1 марта 1918 года, когда Рада покидала Екатеринодар, Лейбович приступил к организации власти и порядка и готовил встречу революционным войскам к утру. Ну а что там на последней полосе? «Благородная дама предлагает свое большое терпение для больного». На памятнике Екатерине II недостает нескольких сотен букв и деталей. Утерян лорнет! Ушел со двора щенок Шерри! «Ищу офицеров лейб-гвардии Уланского Его Величества полка».
На меня зашикали. Я бросил газету и подошел к окну. Далеко-далеко белели вершины Кавказского хребта. О как мне тогда захотелось скрыться в тех снежных горах!
Вошел офицер, легонько тронул меня сложенной вдвое плетью по рукам (руки надо опустить); он был ниже меня ростом, глаза серые, губа надменно выпячена, кривые тонкие ноги замотаны; если бы с него снять одежду, он бы смахивал на лягушонка.
«Дать бы тебе сейчас по уху, чтоб аж твои курячьи ноги поломались!»
— Кто из вас служил в четырнадцатой дивизии?
— Я! — сказал и вышел один из бойцов.
— На австрийцев в атаку ходил? Кем ты служил?
— Артиллеристом!
— Потеряли всю Галицию, Буковину! У меня служить будешь?
— Так точно, ваш-ство!
«Вот и есть один предатель»,— подумал я.
— А еще кто желает служить у меня?
Но таких не оказалось.
— Этого обмундировать, а с остальных снять все казенное.
К вечеру нас, босых и раздетых, погнали на Армавир. Мы тесно прижимались друг к другу, спасая себя от холодного ветра,— по-видимому, мы тогда были похожи на кучу толпящихся баранов.
В Армавире мы заночевали на потолке сарая. А на другой день нас спустили в бетонный подвал, в котором воды было почти по щиколотку. Просидели мы там день или два. Жрать хотелось до безумия. Армавирские женщины, отогнув с улицы [395] густую сетку на окне подвала, бросали нам всякую снедь. Наконец нас выстроили во дворе. Один из офицеров сказал:
— Ну что, сволочи, наелись свободы? Копала свинья землю, ну и копай, так нет же, равенства захотелось! Самодержавие сменить хамодержавием? Проклятые картузники хотели завоевать казаков? Нет, не удастся. Не удастся тюремщикам казаками командовать. Мотня рваная... Не было этого и не будет во веки веков.
Мне не было страшно даже когда он сказал: «Расстрелять каждого десятого!» Мы в это время стояли и курили. Дело в том, что, пока он нас ругал, какой-то офицер шел вдоль рядов и давал каждому по папиросе, а через каждые десять человек давал одному прикурить, шепча при этом: «Не бойсь, не бойсь...»
Нас опять спустили в подвал. «Значит, расстреливать не будут, раз не отсчитывают десятого». Но, когда я дошел почти до двери, казак, преградив винтовкой дорогу, сказал: «Хватит, там и без вас тесно».
Нас, человек сто, вывели на улицу, где ждал нас конвой. И погнали нас в сторону Константиновской. Шли мы очень долго. Потом была подана команда «Стой!».
«Неужели тут, прямо на дороге, будут расстреливать?»
В это время на взмыленном коне примчался казак, отдал конвою бумагу и, соскочив, стал рвать пучки стерни и стирать с коня хлопья пены.
— Ну, голодранцы, поворачивайте назад, на Армавир. Конвойцы повеселели и заулыбались.
— Видно, меж вами счастливая душа, за яку мама добре богу молится.
В подвале я заболел, и меня отвезли в больницу имени Довжиковой. В комнатах лежали раненые кадеты, а в коридоре — большевики — другие няни тут ухаживали. Над головой у меня на стене висел скорбный лист, на нем писали температуру. Лежу и смотрю в потолок, а там вертится черная точка, но вот она все ниже и все больше и больше, вот сейчас задавит. Как-то утром проснулся и увидел, что я привязан к кровати простынью.
— Жарко? Жарко? — спрашивала няня.— Ой, большевик, большевик. Ху-удой.
В бреду я ругал кадетов на чем свет стоит, и один офицер ударил меня поясом.
— Кто вам дал право? — спросила женщина-врач.
— Он меня оскорблял. Он большевик.
— Медицина делит всех на больных и здоровых, но красных и белых здесь нет. Это вы у себя в штабах разбирайтесь.
Вскоре я поправился. Няня маленькая обняла меня, повела в раздевалку.
— Ну как он пойдет, ну как он пойдет? — ахала она.— Пара белья да тонкие рубашка и брюки, а на дворе ветер.
---------------------------------
1 Офицер тот был Толстопят.— В. Т. [396]
Она где-то достала чувяки, носки и портянки, солдатскую шапку, в которую я нырнул как в кадушку, хотела дать и шинель, да она была сильно в крови. («Эти кадеты такие дураки, на ком больше крови, того больше бьют!»)
Так в одной рубашке я и ушел, на дворе меня ждал конвой.
Меня отвели в штаб, где спросили, какой я части и откуда родом да где проживаю. После штаба увели меня в подвал, на этот раз хотя и бетонный, но сухой; несмотря на то что там людей было очень много, там было и сильно холодно. Подстелив под себя кусочек рогожки, скорчась в три погибели, я застыл как пенек. Очень долго я так сидел скрючась и от нечего делать слушал, как кто-то высокопарным голосом проповедовал смирение. Кто-то сболтнул, будто в Москве на Лобном месте соорудили памятник Стеньке Разину из деревянных шпал. Под утро я свалился и уснул мертвецким сном. Проснулся — уже было видно на дворе; в подвал зашел офицер и разделил нас по отрядам. Поднимаясь, чтобы встать в строй, я понял, что от холода у меня отнялась левая нога. Нас вывели на станцию. Пронизываемые холодным ветром, мы стояли в строю, цокая зубами. Но вот нас, к великой радости, загнали в товарный вагон, где мы, сбившись в куток, надеялись согреться. Поезд тем временем тронулся.
В Усть-Лабинской нас тоже загнали в подвал с нарами и деревянным полом. Зная от пленных, что по ночам в подвалах немилосердно избивают, я залез под нары и в самом куточке согнулся калачиком. Прошло порядочно времени, пока загремели запоры, дверь отворилась, и в подвал вошел один человек. Я видел только его ноги.
— Есть казаки?
— Мы,— разом ответили два парня.
— Хороши, голубчики. Так вы тоже свободы захотели? Простительно вон тем голодранцам, а чего вам надо? У вас права, у вас земля. Так вам еще чего надо? Здесь вам глаза черви выедят.
— Скоро мы поменяемся ролями. Вы, офицеры, будете сидеть в подвалах, а мы вас охранять,— сказал казак.
— Этого быть не может!
Две звонкие пощечины огласили тишину. К счастью, офицер скоро ушел, и до утра мы спали спокойно.
На другой день нас повели в комендатуру, поместив за железными воротами. И сейчас же через ворота женщины стали нам подавать милостыню: кто булочку, а кто просто кусок хлеба, кто пару или больше бубликов, кто большую булку. О милые, добрые русские женщины, вы всегда готовы помочь страждущему, и нет той преграды, куда бы не проникло ваше любящее сердце. За все время плена нас ничем не кормили. Мы только и жили что подаянием, а у ворот появлялось женщин все больше и больше. Конвоец-казак расхаживал тут же, принимать милостыню нам не запрещали, но требовал, чтобы женщины не толпились [397] у ворот, и, по-видимому, злился. Но, не зная, на ком сорвать зло, накатился на меня. «Оцей, бисовой душе, не давайте, хай здыхае, воно тоже, г... паршивое, ходило стрелять казаков». И наши пленные, деля милостыню, не стали давать мне ничего. Казак, расхаживая, наблюдал за выполнением своего приказа. Я сидел понурый под стеной и вдруг услышал, что меня дернул за рубашку сосед. И тут же в мою руку попала булочка. Когда конвоец не смотрел на меня, я поспешно жевал. Но вот на посту казака сменил черкес. Видя, что все едят, а я нет, он сказал: «Твоя зачем не кушай? Ево тебе не давай?» Он подошел к воротам и, подставя полу своей черкески, сказал женщинам: «Давай, давай, ми знай» — и, собрав кило два всякой снеди, он принес и все высыпал передо мной: «Кушай!» А заметя улыбки на лицах остальных, сварливо сказал: «Что ваши зубы покажи, разве я не правда сделал? Ваша душа, а его собачья, а?»
Вскоре одна сердобольная старушка подарила мне женскую кацавейку, и, хотя в ней было полно гнид, мне все-таки стало теплее. Тут же, перед воротами, остановились два верховых казака. Вызвав по списку группу людей, в которую попал и я, погнали нас дальше.
Шли мы, ярко светило обеденное солнце, на дворе было тепло, как весною.
Степь уже просохла, шел я и слушал хвастливые речи конвойца — как они, изменив большевикам, перешли на сторону белых и как они вон там, где спускается с увала дорога, изрубили два полка. Одетый в куцую кацавейку, в огромной шапке, я вызывал насмешки конвойцев, да и другие, чтобы им угодить, посмеивались надо мною.
— Эй, малый,— сказал один конвоец мне,— богато побил казаков?
— Кажется, ни одного,— серьезно ответил я.
— А все ж стрелял и добре целился?
— Целился как следует.
— Дать бы тебе плетей, сукиному сыну, шоб ты знал, як воюют. Куда тебе идти?
— В Марьянскую.
— Жаль, там тебя бить не будут.
— А может, будут?
— Сразу бить не будут. Сперва соберется суд стариков, а там посмотрят: если много нашкодил, то будут бить, а нет, и не будут. Сейчас бить зря и особенно по дороге строго запрещено. А то, думаете,— показал на меня,— я оцему вышкварку не дал бы плети? Ого, аж шкура б полопалась.
Наш этап казаки прогнали через всю станицу Пашковскую, где нас предупредили, что нынче ночью такой же этап был посажен в подвал атамана, а потом пьяный атаман и конвой порубили арестованных. У духана стоял старик городовик в шапке с белой лентой наискось. Белые приказали всем мужикам носить белые ленты на шапках.[398]
Около правления станицы на бревнах сидело несколько стариков. Один из них подошел к нам и, тыча мне палкою в живот, сказал: «Оця, бисова душа, тоже ходила на казаков воевать». Глядя на его черную бороду, я спросил: «Дедушка, а у вас есть сыновья?» — «А тебе какое до них дело?» — «Да я думаю, что они могут попасть к большевикам в плен». Брызжа слюной, старик крикнул: «Господа старики, идите-ка сюда та послухайте, що ця гнида маринованная каже! А где ты видел, шоб казак сдался в плен? Та он скорее костьми ляжет. Ах, ты, гнида маринована!»
Медленно подходили другие старики.
«Наверно, сейчас начнут бить»,— подумал я.
Но, на мое счастье, в правлении открылось окно, выглянул оттуда атаман, крикнул:
— Господа старики, отойдите от пленных! Что у вас власти нету? Власть сама знает, с кем и как расправиться.
И сейчас же между мною и стариками просунулась голова лошади конвойца.
— Затворить их в каземат! — крикнул атаман.
В каземате было сухо и тепло, на земле валялась солома, я с удовольствием растянулся на ней.
На другой день завели нас прямо к атаману, и опять я оказался самым передним.
— Ай да вояки! — сказал атаман.
Присутствующие засмеялись. Не успел он задать мне два-три вопроса, как сзади послышался шепот: «Скиба, Скиба...» Ко мне протискивался огромного роста угрюмый казак.
— Что тебе надо? — спросил его атаман.
— Да вот его сестра оставила мне его одежу и просила, если увижу, так чтоб дал ему кусок хлеба, так вы, господин атаман, пустите его до меня, хай повечеряет та переночует.
— Нет, не пустим. Передачу можете сделать. Затворить их в казематку!
Угрюмый казак принес мне нашу расейскую свитку, кусок сала и хлеба, и я поверил, что была у него Федосья и за меня просила.
Наутро меня посадили на подводу, в том числе и казака-конвойца, и отправили в Екатеринодар; там я пробыл три дня. Казак повез меня домой и по дороге рассказывал, как он был у белых в обозе.
— Вот тут,— показал он кнутом на рвы,— стояли таманцы, а отак казаки, на штыки не сошлися сажень на десять, и казаки кинулись тикать; тикают, а они по них бьют, а они по них бьют, та с орудий, та с орудий. И только орудия — як гром гремит, а пулеметы аж захлебываются. Все за ними как в котле кипит. Дивлюсь я, а казак лежит и кишки сверху, просит: «Дай воды». А я-й думаю: «Ой, голубчик, та где ж я тебе воды достану?»
Хитрый казак так сложил свой рассказ, что он якобы жалел белых и ругал таманцев, но я чувствовал, что у него язык с душою [399] не сговорился. Конвоец молчал, а я смотрел вперед. Далеко впереди маячила одинокая фигура, и чем она становилась ближе, тем яснее что-то знакомое в ней казалось мне, уже до нее версты полторы, идет она как-то по-утиному, одна-одинешенька. Кто его знает, может, дома тоже все погибли, она и идет от горя сама не зная куда. Поравнявшись с подводой и увидя меня, Федосья весело сказала: «Ага, ты, значит, идешь до дому?» — «А ты куда?» — «Тебя встречать!» — «Как будто ты знала, когда я вернусь».— «Знала,— уверенно ответила Федосья, берясь рукою за подводу.— Кадеты хвалятся, шо загнали в бутылку большевиков, осталось только пробку заткнуть».
В правлении казак отдал мой сопроводительный пакет; вскрыв его, писарь в присутствии старшины стал читать. В течение семи дней меня должны были приставить в город Екатеринодар.
— Хорошо им так писать, а где взять обмундирование? — сказал старшина, жирный и брюхатый человек.
— Что же с ним делать? Затворить, что ли? — спросил он у писаря.
— Зачем? Пусть идет домой да хоть воши стряхнет. Ты не убежишь?
— Нет.
— Ну и хорошо. А завтра придешь, мы тут кое-чего запишем. Ну, вали.
Федосья повела меня к своей хате в станицу.
— А почем ты знала, что я еду?
— Сказали. Я была в Екатеринодаре у самого старшего, и он сказал, шо я вашего брата пришлю домой...
Перед кем она унижалась и кого просила, осталось тайной; она все просила, чтобы ее допустили до самого старшего, говоря, что расскажет ему всю правду. Кто ее принимал, она не знает, но принял ее, по-моему, в доме братьев Тарасовых есаул Толстопят.
— Кто ж он? Начальник тюрьмы или городской голова? Какой он на вид?
— Какой там голова. В черкеске, с крестами та медалями, красивый есаул, та ще бляхи на нем висели.
— Он сам был в комнате или еще кто с ним?
— Двое было не наших, в зеленой одежде и с великими карманами.
— Они вас о чем спрашивали?
— Не, они сидели в сторонке, шось шептались меж собою, и один чегось изредка окейкал. Я как вошла, то он меня спросил: «Шо вы хотели?» — «Мой брат у вас в плену. Так я хотела его повидать».— «А вы знаете, что ваш брат враг Отечества?» — «Ни-и, мои братья не враги, мой старший брат три года бился с турками, и не его вина, шо русские стали биться меж собой, а ему ж треба було стать на якусь сторону». — «А где ж ваш старший брат?» — «Убитый».— «Кто ж его убил?» — «Кадеты. Они ще в марте месяце как пошли вместе с Корниловым через [400] нашу станицу, то наши солдаты бились против них, от тогда его и убило».— «А сколько вашему брату, вот этому, что у нас в плену, лет?» — «Тридцать».— «Так он, значит, добровольно пошел к красным?» — «А то якый бы из его был брат, шоб сидел дома сидьма. Его ж брата убили». — «А вы понимаете, что вы говорите?» — «А чего ж це я не знаю, та я кажу только правду».— «По-своему вы, конечно, правы, корниловцы были вам врагами; конечно, это все правда, как правда то, что вы сестра двух большевиков, что, к вашей чести сказать, вы и не скрываете. Но вот знаете ли вы, куда пришли? И кому вы все это говорите? И знаете ли вы, что ваш тот и этот брат не только корниловцам, но и нам злой враг? За что мы его и расстреляем».— «Я все знаю, знаю, шо вы его расстреляете, на то ваша воля, бо он у ваших руках. Ну знайте вы и то, шо он только вам лихой ворог, а мне он родной брат, и я повинна знати его долю, яка бы она ни была. Я хочу последний раз его повидать, от и все. А милости у вас я не прошу, вы не подумайте. Та не забудьте вы то, что кроме них у меня ще один, он хоть и малый, но он колысь так вырастет на вашу голову».
— Ты так и сказала?
— А ты шо думал — стану я перед ним богу молиться? Тебя поведут расстреливать, а я буду ему в зубы заглядывать, чи шо?
— Что ж потом тебе ответил есаул?
— А он трошки подумал и сказал: «Вы все-таки опять правы, ей-богу, вы сестра. Быть по-вашему: вы увидите своего брата». И начал писать якусь бумагу. И сказал: «Вы очень счастливая сестра. Я вам завидую, у вас столько братьев, и если они такие же смелые, как вы, в чем я не сомневаюсь, то они, наверное, и белых постреляли немало».— «Не знаю, як цей меньший, а тот добре стрелял. За три года он и турков перебил немало».
В кабинет вскочили два телохранителя.
«Вот истинно русская женщина! Идите с ней и во что бы то ни стало разыщите ее брата. Пусть она приведет его ко мне».
Когда она выходила от Толстопята, то он, наверно, гордясь перед английской миссией, сказал им: «Ну, какова, а?» Те хвалили его за гуманный поступок. Не столько милосердие Толстопята, сколько присутствие англичан спасло меня. Надо было выдобриться перед союзниками.
Сопровождал Федосью, по-видимому, адъютант. «Мы с ним куды ни придем, то все казаки перед ним как на пальчиках». Он добросовестно помогал Федосье разыскивать меня, сам заходил в подвалы и окликал мою фамилию, требовал от конвойцев, чтобы те принесли фонари, и все его приказы сразу же выполнялись. В одном подвале он сказал: «Повернитесь лицом, не ради меня, а ради вот этой женщины, она такая же большевичка, как и вы, ищет своего брата... которому командованием дарована свобода». Все повернулись, да напрасно: сколько она ни всматривалась в изможденные лица стоявших и лежавших в беспамятстве, меня там не было. Тщательно осмотрели весь подвал,[401] даже стены и решетки, после чего проводник о чем-то поговорил с конвойцем и сказал Федосье: «Очень жаль, но не нашли. Это уже последний подвал. Идемте к есаулу Толстопяту».
— Значит, не нашли? А что, если он больной? И вы его просто не узнали?
— Та он бы меня узнал! — сказала Федосья.
— Посидите немножко.— И взял какой-то язычок, потарабанил в него, потом поднял какую-то кривульку, приклал ее к уху и стал что-то в нее говорить.
Вместо меня вошел в кабинет еще один пан, шел навытяжку и держал руку возле головы, стал и клацнул подковами.
— Где ее брат? — спросил Толстопят.— Он был у вас, вы его расстреляли? Вот она спрашивает: «Где мой брат? Я последний раз взгляну на него». Это ее святое право. И заметьте, что милости она не просит, а что я ей скажу? А вы калечите людей в застенках без всякого разбора? Молчать! Эта кровь все-таки русская, а вы губите их по дорогам да вешаете по станицам, чем ожесточили уже народ против себя до безумия! Марш!
Тот вылетел мигом.
— Ух, вислоухие политики... Ваш брат, наверно, где-то на этапе, но мы его разыщем и пришлем домой целого и невредимого. Тому порукой мое честное слово. Идите домой.
В тот час я был по дороге на Константиновскую. Ведь недаром же казак так измучил коня, догоняя нас. По всему видно, что над нами затевалась жестокая расправа, и Федосья спасла жизнь не мне одному.
«А на шо ты вспоминаешь про це?» — отвечала она, когда я позже ее спрашивал, и я до самой ее смерти уже не возвращался к этому. [402]
СТАНИЧНЫЙ ПРИГОВОР
«...Мы, нижеподписавшиеся, собрались первый раз после пропажи москальской власти, — мы, потомки запорожцев, по своему слабоумию или недохвату в науке не так давно изменили родной Кубани, дали большевикам такую власть, якою сами владели, памятуя, шо они наши братья по нашему государству,— ну наша думка была гнилая, и плода с нее доброго не вышло. Но пословица «Бог не без милости, а казак не без щастья» не умирает. Те наши батьки-паны, поруганные нами, не допустили ихних покорных детей до погибели, стали на оборону перед теми каторжанами, с якими мы побратались: и вывели нас с москальской неволи. Мы, как мала детина (побачивши красно яичко), вздохнули своею грудью, як вздыхали раньше, то было не только на степу не усидишь, а даже было опасно с хаты носа показать. И мы, казаки, сегодня на своей раде все дружно закричали: «Ура!» И спасибо вам, паны генералы и весь начальствующий состав, просим за прежнюю нашу ошибку простить нас, даем казачье слово, шо до гроба не дадим своим батькам-панам измены, будем идти тою ж дорогою, що шли наши предки. Помогай вам Бог дальше спасать Кубань и батьковский порядок нам давать. Мы чисто раскаянные дети. Да здравствует единое казачество. Для цего прикладаем свои руки, кто грамотный... Станица Марьянская...»
Так перевернулись после приговора в октябре девятнадцатого земляки Акима Скибы. Куда ж было ему идти? [403]
ЕКАТЕРИНОДАР, 1919 ГОД
«И придут времена, и исполнятся сроки». Все изменилось. Раньше, в мирное время, Екатеринодару случалось принимать высоких вельможных гостей; дважды взирали жители на царских особ; наезжали сюда наместники Кавказа, министры, князья, генералы. Но тогда они лишь мелькали, были над народом; их речи, взгляды, приветствия белыми перчатками были величественны и легки, позы уверенны; между народом и ними всегда был забор: цепь вооруженных казаков и офицеров, свита, толпа почетных гостей и местного начальства. Нынче растерянные господа толкались среди обывателя везде и всюду, и было их так много, что можно было коснуться и заговорить. Вся Россия, казалось, сбежала на узкие улицы степного города.
Да! — казалось, вся титулованная и богатая Россия, тонкая ее косточка, перекочевала в маленький Париж. Такое можно было представить только во сне или в нелепых мечтах. Случилось несчастье, и те, кто никогда бы не подумал без гримасы об этой куркульской дыре, были рады, что их приютили и спасают им жизнь. Если бы каким-то чудом успокоилась взбаламученная Россия, вернулась на «круги своя» и присмирела, Екатеринодар в одну ночь стал бы ее столицей — в нем были все или почти все, кроме царской семьи. Присутствие высочайших чинов кое-кому прибавляло духу: не померкнет держава, которую всегда охраняли от попустительства погоны, шубы, трости, белые воротнички.
С пожарной высоченной каланчи любопытно было наблюдать в теплую погоду за шествиями по Екатерининской и Красной улицам.
Воистину: кого там только не было! И в ресторанах, кафе, в театрах, на лекциях князя Е. Трубецкого, о. Шавельского, о. Восторгова кого только не увидишь! Тут были камер-пажи вдовствующей императрицы Марии Федоровны и камер-пажи, несшие шлейф некогда юной царевны в тот час, когда она впервые вступила на русскую землю, и камер-пажи, трогавшие во время репетиции последнего коронования трон Ивана III в Кремле. В квартире на улице Рашпилевской собирал членов Государственной думы Родзянко. Копошилось с планами дворянство и земство. В Управлении продовольствия армии на Кирпичной улице слышалось: «Княгиня, не будете ли вы так любезны достать дело номер 14522 А?» Чванились жены членов Государственного [404] совета. Но былые заслуги, звания и отличия не имели больше никакого значения. Лавры оплетали головы участников Ледяного похода и героев последних сражений.
Все подходили поклониться памятнику Екатерине II на Крепостной площади, повздыхать и передернуть бранным словом в адрес черни. Памятник высился так же гордо, как и в Петербурге у Александрийского театра, в том Петербурге, где уже нет старой власти и неизвестно что происходит в домах с золочеными ручками. Но неужели?! неужели все погибло?! Ложились спать по екатеринодарскому времени, служащие вставали на работу по петроградскому.
Гусары нанимали извозчика Терешку везти в шашлычные и погребки. Он быстро приноровился к генералам и государевым слугам всех мастей. Его дело везти, а кого, куда и зачем — неважно. Так же возил он и при большевиках. Возил дам в поисках квартир; возил офицеров к ферме Гначбау на символическую могилу генерала Корнилова — это там же, на Бурсаковских скачках, он как-то мок под дождем из-за Бурсака и Шкуропатской. Вокруг могилы наросло бурьяну, чуть подальше бросил кто-то телеги, брички. И кругом кучи навоза. Офицеры ругались матом и клялись, что, когда победят, поставят на берегу усыпальницу, а рядом устроят большой приют-санаторий для участников Ледяного похода и прочих увечных добровольцев. Терешка курил на козлах и слушал, но так, будто его ничего не касалось. Из речей мудрецов он запомнил, что писатель Чехов (которого он никогда не читал и не знал, что он уже покойник) Россию не любил и «замешан на одних разговорах», что народ достоин своей интеллигенции, что Русь погибла из-за масонства.
— Россия — жертва чудовищной провокации. Иудино дело сделано. Я вижу, Россией еще полстолетия можно будет управлять только палкой и виселицей.
— Франция когда-то дала всем игрушку, и мы за ней. У нас были свои светочи. Отплатил нам сторицей русский народ за те чувства, которые мы к нему питали. Походит по нему чужестранная плеть. Пустили свиней в сад, они и деревья подрыли.
— А чем вам плохой русский народ? — вдруг обиделся Терешка и повернул голову.— Он виноват? Значит, довели. Вы в Панский кут едете деньги мотать, а нет чтобы раненым белье купить? У них там, в лазаретах, лоскутки от старых рубах вместо полотенцев.
— Твое дело погонять. Ах, до чего распустили! И правда ведь с именем республики связано все предательство, продажность и бесстыдство. Нужен царь. Монархизм — это склад души. Это подчинение иерархическому началу. Дисциплина. А это что?
— Мне надо лошадей покормить. Я не поеду,— сказал Терешка.
— Да ты большевик проклятый! Немедленно его в полицейскую часть! Полиция! [405]
Так Терешку сдали в кордегардию, и, пока пристав Цитович разбирался с ним, прошла ночь.
С тех пор Терешка возненавидел приезжих всей своей хозяйской утробой.
«Понаехали, еще и недовольны. Из-за вас и цены подскочили. Ничего не купишь по старым ценам. Пора бы вам уже и лоб перекрестить — гром грянул. Только и знаете объявления в газетах вешать: пропала собачка, пропали два кольца с рубинами, нож с рубинами за пять тысяч. Раненых почему некуда девать? А вы ж все позабрали: постоялые дворы, углы у частников, номера в гостиницах. Денег-то много. А пожертвовать обществу жалко? Ну конечно, кое-кто жертвует, так они и не обзывают русский народ. Они понимают: на то вражда. Когда шестого августа прошлого года белые входили, им пели «Спаси, господи, люди твоя». Ишь, каждый думает, что воюют за него. А сам чего ж сидишь? То называли меня «товарищ», а как вошли отряды казаков с белыми повязками, сразу: «Господин извозчик!» Э-э, люди. Из подворотни вылезли, навязали белых носовых платков на рукава, белые бумажки повтыкали в головные уборы, поверх лайковых перчаток кольца надели, «ура, ура!». То наряжались в оборванные платья, чуть ли не в душегрейки, а то и ну кошельки выворачивать, и забегали по дворам: «Всех дрогалей послать к железнодорожному мосту!», «Зажечь на всех дверях свет!» И задымили, и задымили толстыми папиросами в первых рядах Зимнего театра. Оперетки им готовы: «Аромат греха», «Счастье только в мужчине». Ну конечно: наелся, выпил, давай бабу. Да мелом по зеленому столу рулетки цифры выводят. И все русский народ виноват им — отобрал Панский кут! Вот и вся статья. Так вашу мать! Сдыхать будешь — мимо пройдут. «Родная земля отвернется от вас, если вы руки свои запачкаете невинной кровью». А вы в руках деньги и рюмки держите. «Печать Каина...» И не проситесь в мой экипаж...»
А кормиться чем-то надо было. И опять подвозил он к «Чашке чая» какую-то даму. Она приклеила к дверям объявление о том, что здесь «дружина памяти учащихся-добровольцев» производит запись желающих собирать портреты погибших, ухаживать за могилами, собирать материалы к описанию геройских подвигов и средств на создание памятников. От Рашпилевской и к Длинной довез он как-то дочь генерала Корнилова, худую и молоденькую; она расплатилась и пригласила в городской сад на благотворительное гуляние и концерт в пользу Белого креста. К вечеру Терешка не раз подгонял туда экипаж с пассажирами. Был праздник св. троицы и св. духа. Чтобы собрать с обывателя денег побольше, устроили шествие по Красной с цветами, что должно означать возрождение России. Для беженцев из столиц уголки сада декорировали под былой Петербург, Париж и Рим. Пригласили самых знаменитых гадалок. Напечатали пятьдесят тысяч билетов к лотерее-аллегри и назначили выигрыши: до пяти тысяч керенскими и николаевскими бумагами, остальные — [406] дарственными вещами. Шла торговля цветами, шампанским, черным кофе и кавказскими сладостями. С американского аукциона продали: бутылку шампанского за 3450 рублей, пять фунтов рафинада за 150 рублей, яблочного поросенка за 2745 рублей и... серебряный самовар Анисьи, подарок от великого князя Михаила Николаевича, тот самый самовар, о котором она хлопотала когда-то перед наказным атаманом. Бурсак был в саду, но не видел этого. Облетевшая столики после своего номера артистка Добротина собрала на тарелочку три тысячи. Она пригубила бокал «в честь самого милого и щедрого из гостей», и бокал тут же продали за несколько сотен. Накануне по подписным листам было собрано 65 000 и на 15 000 пожертвовано продуктов и вин. В кабаре, украшенном зеленью и национальными флагами, набросали 10 000.
После 12 ночи стулья из зала Летнего театра убрали, и публика заняла изящные столики. В изобилии подавали шампанское, вина, фрукты. Ели и пили под остроты артистов и музыку столичного оркестра. Есаул Толстопят с блеском танцевал мазурку. Жены командующих Добрармией к 8 утра валились от усталости: они были организаторами. Растроганные российские дамы набросали на прощанье много колец и бриллиантов.
На этом празднике Терешка тоже хорошо подзаработал.
— До родной хаты! — кричали офицеры.— Пусть наши лихие штыки и шашки не покроются позором измены, пусть наши знамена развеваются над головою казака. Гони, Терентий!
— Хо-о!
Так и жил город: панихидами, благотворительными гуляниями, слухами, хозяйством. Всюду было много глазеющих. Осенью 1918 года, когда хоронили вождя, генерала Алексеева, все улицы забились любопытными: на тротуарах, на балконах, в окнах, на крышах и телеграфных столбах все жаждали взглянуть на покойника. Куда один, туда и все. Но и на похоронах — все на плечах армии. Недаром как-то жаловались пьяные офицеры: горькая им досталась участь — нести самый тяжелый крест и погибать. По всей Екатерининской улице, до самого Александро-Невского собора,— шпалеры войск. Странная армия! Как она одета? В лафете с гробом усопшего вся запряжка офицерская, вся прислуга, все ездовые — офицеры. Целые шеренги пехоты — офицеры разных родов оружия: саперы, артиллеристы, пластуны, моряки. На них гимнастерки, белые и цветные рубахи, сапоги, краги, ботинки, обмотки. И только винтовки русские. Не так пышно хоронили генерала Бабыча. Фаэтон Терешки нанимала семья. Тело Бабыча привезли из Пятигорска зимой 1919 года. Гроб так и не открыли. И опять было одно любопытство: как его убили? Его взяли в Кисловодске, препроводили в вывернутой наизнанку генеральской шинели в Пятигорск и под Машуком на кладбище расстреляли. Другие рассказывали, будто его зарубили шашками и перед тем самого заставили копать могилу.[407]
Лошади Терешки вымотались; клиенты стучали в его ворота день и ночь. Как было отказать тому, кто просил отвезти на городское кладбище поправить чужую могилу? У многих не было на юге родственников, и за гробом шли два-три воинских товарища да сестра милосердия из лазарета.
Никогда не дремлет жизнь. Обыватель пирует во время чумы: хоть день, да мой! За спиной армии, то белой, то красной, укрывались живоглоты, спекулянты, черная свора и просто «милые люди», пережидавшие момент. Едва в шесть утра подкатывал первый трамвай, толпа спекулянтов с Дубинки забрасывала вагон чувалами, корзинами, ведрами и спешила на базар в Пашковскую забрать по любой цене все, что выставят казаки на прилавок: молоко, хлеб, сыр, рыбу. Жизнь продолжалась. Открывались курсы по пчеловодству, созывался съезд северокавказских городов. Тучами налетали гастролеры. Продавались подворья, дачи в Геленджике, процветало в Круглике тайное винокурение, выделывались кроличьи шкурки, шла торговля с Италией. На почтамте контрабандисты, ехавшие в Москву, брали за большие деньги письма и поручения: «Беру без политики. С политикой тоже вожу, но по тройному тарифу». И как всегда: прошлое забывалось, а будущее было туманно. Забыли, как летом 1918 года бежали в Новороссийск, уже с надеждой взирали на потрепанный турецкий пароходишко в бухте. Но и там, чуть заблестела надежда на перемену, екатеринодарская буржуазия осаждала коммерческий клуб. В Тамани были немцы. Едва прогремел бой под Кореновской, платили Терешке любую цену, лишь бы вывез через Трахов мост за Кубань. Забыли, как вчера еще в белоколонном зале Дворянского собрания перепелами кричали на концерте Д. Смирнова: «Ожили дни прошлого! Снова литургия искусства!» — и несли цветы пианисту Дм. Покрассу. Забыли, потому что не верили в полный крах. Пройдет, пройдет эта смута.
В вагонах на станции лежали полураздетые отверженные воины, чумные. И когда Терешка вез Манечку Толстопят из лазарета князя Вачнадзе, она ненавидела всех, всех, кто шел по городу, кто был жив и здоров. «Явился Спасителю в Гефсиманском саду ангел с небес и укрепил Его. Явись же и ты ко мне, Господи. И укрепи. Я порою ненавижу людей»,— думала она. Ее сердца хватало на всех. Когда стонет раненый, грешно думать, на чьей стороне он сражался. Она уже вытаскала из отцовского дома все белье, все рубахи, все братовы кальсоны.
Иногда она забегала к Калерии Шкуропатской.
— Где же общество? Где оно? Разве они не видят?
— Помилуй, Манечка. Такое время.
— Но пройдите по Красной. Всмотритесь в этих сытых людей. Они довольны. Ювелиры еще никогда так не торговали, как сейчас. Берут только валюту, чтобы в крайнем случае не менять в Константинополе московские «колокола». Шестого августа крестились, плакали, целовали офицерам руки. Под копыта [408] лошадей бросали цветы. Не я же прислушивалась к каждому пушечному выстрелу. А теперь? Им жалко разрознить дюжину белья? Я не могу больше. Мне хочется умереть. Мне жалко всех.
Екатеринодар 1919 года! В газетах останется его приблизительная жизнь, и никому не будет дано оглянуть и разом схватить его тогдашний миг и миг каждого. Кто был тогда тут, стерег свою безопасность, торговал, блудил, спорил в кафе, плакал по убиенному государю, одиноко думал, ждал с поля боя своего брата, отца, мужа, таился, лукавил, тихо обменивался мыслями с родственниками, спасал от преследований красноармейцев — сие есть тайна каждого. Пока кто-то писал приказы, стонал после перевязки, Манечка Толстопят молилась о братике Пьере, чтобы он уцелел, и пока она молилась, братик ее, может, в ту же минуту в издыхании чувств (в сыром поле или в греческом духане за стаканом вина) повторял другую молитву, сочиненную товарищами-офицерами:
О Боже, снятый, всеблагий, бесконечный,
Услыши молитву мою!
Услыши меня, мой заступник предвечный,
Пошли мне погибель в бою!
Смертельную пулю пошли мне навстречу,
Ведь благость безмерна твоя!
Скорей меня кинь ты в кровавую сечу,
Чтоб в ней успокоился я!
На родину нашу нам нету дороги,
Народ наш на нас же восстал,
Для нас сколотил погребальные дроги
И грязью нас всех забросал.[409]
ЭПОПЕЯ ПОПСУЙШАПКИ
(Продолжение)
— Меня выручил фельдшер. Госпиталь — большое длинное помещение, бывшая школа. Между раненых и больных ходит хромой фельдшер. Казаки лежат на соломе, сыро, холодно, все стонут. «Ого,— думаю,— вот это госпиталь, тут здоровый заболеет или замерзнет». Я присмотрелся к фельдшеру: хромой на левую ногу, низенький, белявый. У меня является чувство, что он не из казаков, а иногородний. Думаю, как точно узнать, кто он? Если он иногородний, то я выйду из положения, фамилию чужую заменю, и тогда обязательно уеду поездом домой и узнаю судьбу семьи. А там видно будет, что делать дальше.
Фельдшер вынес из кабинета маленький самоварчик, налил водой, распаливает. Я похаживаю по коридору взад-вперед и не придумаю, как его затронуть. Ну а затем сказал:
«Господин фельдшер, вы сами откуда? Мне кажется, ваша личность мне знакомая, я где-то вас видел, но не вспомню».
«Вы не могли меня видеть. Я издалека».
«Ну а все-таки».
«Я из Екатеринодара».
«О-о,— я засмеялся,— тогда точно! Я вас там и видел».
«А как вы меня могли видеть, когда вы терский казак станицы Шелковой?»
«У меня там дальний родственник, лихач первого разряда».
Фельдшер утупил глаза на меня, курит; в самоваре чай греется.
«А на какой улице он живет?»
«Угол Базарной и Котляревской. В монастырском подворье. Напротив владелец скобяного магазина, у него нету двух пальцев, мизинного и подмизинного».
«А как зовут извозчика?»
«Терентий Гаврилович Трегубов».
Фельдшер как будто обрадовался, сказал:
«Вот теперь я верю».
Самовар закипел. Фельдшер схватил его и понес к себе в кабинет. И зовет меня:
«Господин казак, зайдите ко мне, чайку горячего попьем».
Я этого не ожидал. Я захожу, разделся, тело у меня свербит,[410] чувствую, что вша завелась. Сел за маленький столик; налил он мне чаю в стакан, а себе в кружку, выпиваем.
«Господин фельдшер,— прощупываю,— вы кто будете, казак или иногородний?»
«Я иногородний».
«А как вы попали в белую казачью армию, вы ж иногородний? И притом инвалид».
«Да, господин казак, я попал по несчастью. Я фельдшер, меня мобилизовали. Приходится, хочешь ли, нет, а вот надо».
«Давно у белых?»
«Как заняли они Екатеринодар, так и меня забрали. Да так плохо, что не имею сведений о семье, жива она? — не знаю. И жена обо мне не знает, жив я или нет. Вот так и воюем».
«Ага,— думаю,— вот я попал на своего. Значит, я не без счастья. Теперь буду дома вполне».
Выпил я стакан чаю, время было три часа дня — 9 января 1919 года. Фельдшер налил второй. Я теперь думаю: надо просить его, чтобы он меня немедленно направил в какой-либо город, может, в Екатеринодар.
«Господин фельдшер, мы уже с вами почти нашли общий язык. Я вас хочу просить, чтоб вы меня завтра направили в Екатеринодар, в госпиталь. Я вашей жене передам от вас записку. Не откажите».
«Я бы со всей душою, так я не имею никаких прав. Я только могу направить вас в первый ближайший госпиталь в Минеральные Воды».
«Спасибо и за то. Только, будьте добры, чтоб не позже, как завтра».
«Если дадут в правлении достаточно подвод, я всех больных и раненых отправлю».
«Господин фельдшер, если не будет ни одной подводы, дайте мне одному документ, я пеши пойду до станции Копанской, а там уеду поездом».
«Ладно. Иди».
Закрыл кабинет и пошел. Я волнуюсь, переживаю: а как же мне переменить фамилию? С этой фамилией терской мне домой ехать нельзя. А черт его знает! — он иногородний, ну и что же, может, сын какого купца или лавочника, может, белый доброволец? Как ему признаться? Ладно,— решил,— признаюсь! Один на один. Уже темно, началась ночь.
Пришел фельдшер и говорит:
«Еле-еле выпросил одну подводу, и то на быках. Приедет до зари, чтобы пораньше ему вернуться».
Зажег лампу, я зашел в кабинет. Достал он бумагу и хочет писать.
«Господин фельдшер, или товарищ, или друг, прошу тебя, не пиши в документе фамилии Шахворостов, а пиши Попсуйшапка».
«А почему не Шахворостов?» [411]
«Вы мне сказали, что у белых служите по несчастью. А я был Шахворостов и казак также по несчастью».
«Вот оно как, значит! — Фельдшер подал мне руку.— Мы с тобой братья».
«Да еще кровные. Распозналися в своих несчастьях. Прошу тебя, брат, выручай».
«Это очень хорошо, что ты так меня понял, а то, не дай бог, сразу повесят».
«За мной ходила вешалка, но не без счастья; Прошу, пиши документ».
«Сейчас. Подожди... Тело мое дрожит. Немножко посиди, я успокоюсь. Расскажи, как это произошло, что ты по несчастью был казак. И фамилия чужая».
«Да, но ты мне выпиши документ, а потом я тебе расскажу все».
Фельдшер согласился, написал документ в Минеральные Воды.
«Ну, теперь говори, какую тебе писать фамилию».
Я говорю, он пишет. Вдвоем сидим в кабинете полностью.
«Получай, Попсуйшапка Василий Афанасьевич. Теперь расскажи».
Я признался ему открыто, как кровному брату. А он мне признался. Он с первых дней войны был фельдшером у красных. Их захватили белые в плен — на вешалку. Он со слезами просился, клялся богом, что будет служить белым честно, и его оставили живым, потому что они имели нужду в медицине. И вот с тех пор он служит, боится бога, что клятву дал. Но я усмехнулся, ничего не сказал. После признания друг другу фельдшер начал писать письмо жене.
И так мы с ним провели время до трех часов ночи.
В четвертом часу подъезжает казак-старик; на ходу у него по бокам лежали доски; запряженные волы масти серой, большие.
«Отправьте меня,— подошел еще один казак с перевязанной головой,— я дальше пешки дойду, у меня вещей мало».
Фельдшер согласился, выписал казаку документы, я слушаю, откуда этот казак. Фамилия его Скиба — из станицы Каневской. Не того ли Скибы брат, что служил у Бурсачки?
«Ого,— думаю,— вот сосед!»
Ну, он моего документа не видел и не знает. А слыхал, что я терский казак, да и форма говорит. Я фельдшера поблагодарил, и 10 января 1919 года на быках тронули мы в пять часов утра. На станцию Копанскую ехали, шли пешки, и хозяин быков пеши почти всю дорогу. Приехали к станции Копанской, солнце поднялось в дуб. Стоял паровоз и вагоны товарные. Старый казак повернул домой, а мы с Скибой к паровозу.
«В Минводы будет паровоз?» — спросили у машиниста.
«Скоро поедем в Минводы и в Армавир».
«Скиба,— говорю,— давай выбирать вагон». [412]
Но они все пустые; залезли в вагон, сидим вдвоем. Вот свисток. И поехали в Минеральные Воды. Уже считался у белых глубокий тыл. Вылезли мы, зашли в вокзал. У меня нету никаких денег, ни копейки. И продуктов — ни куска хлеба. Жрать хочется после вчерашнего, желудок пищит, просит чего-либо.
«Пошли скорей в госпиталь»,— Скиба говорит.
А у меня мысли другие, мне госпиталь не нужен, мне домой надо. У Скибы голова сильно болит, конь копытом ударил по голове, а у меня рука перевязана левая, бинт через шею, и правая забинтована. Но, спасибо, правая не ощущает боли от вилкового прокола. А от пули боль есть, но терпимо.
«Ну пошли»,— говорю.
Нашли,— там полно раненых, больных. Не стали и спрашивать места.
«В этом госпитале здоровый умрет,— говорит Скиба,— давай ехать в Армавир. Там город другой, будет госпиталь, да и врачи лучше».
Вернулись на станцию. Ну, пришли, а купить не на что.
Я Скибу оставляю на вокзале.
«Пойду искать коменданта. Потребую пайки хлеба. А кипяток на станции есть. Поезда не будет до ночи».
Подаю коменданту свой документ.
«Господин поручик, прошу продукты на семь человек».
«А где остальные?»
«На станции. Они тяжелые».
Он ни слова не сказал, пишет бумажку — выдать раненым белого хлеба десять фунтов и сахару четырнадцать грудок.
«Вон ларек»,— указал пальцем.
Приношу Скибе,— сидит, дремает. Выпросил у людей посудку и попили с белым хлебом кипятку. Остальной хлеб Скибе в сумку, так как у меня ничего не было, а сахар в кармане.
Стою я. На мне вся одежда — шуба, бурка, белый башлык, белая лохматая шапка, ну — казак грозный! Подходит офицер (есаул) и держит поднос. А на подносе черная булка хлеба и в руке нож.
«Господин казак,— на меня,— я вас прошу, сделайте одолжение, перережьте вот эту булку,— и ножом почертил корку,— я вам заплачу, если вам можно».
«Могу».
«Вот пойдемте, я поставлю поднос, там удобней резать, а то здесь общество, офицерам не разрешают резать в обществе».
Я взял нож в правую забинтованную руку, левая подвязанная под буркой была. Я левым локтем придавливаю булку, а правой режу и на поднос складываю. Офицер стоит, смотрит по сторонам. Я половину срезал, офицер говорит:
«Хватит, господин казак. Остальное возьмите себе. Мне достаточно.— Вытащил с кошелька двадцать пять рублей и подал мне: — Это вам за труд, возьмите».[413]
«Благодарю, господин есаул».
Я был, видно, до того заросший и вымученный, что Толстопят меня не узнал. А ведь мы с ним прошли в 1918 году до самого Белгорода. Я его сразу узнал и лицо отворачивал. Как я буду выкручиваться, если он меня вспомнит? И деньги взял. В карман их, а хлеб приношу Скибе. Теперь мы не голодны будем.
Ночью под одиннадцатое число мы выехали с Минеральных вод в пассажирском поезде, одиннадцатого, помню, было воскресенье, солнце поднялось высоко. Подъезжаем к городу Армавиру, поезд идет так тихо, что любая старушка успеет. Мы вышли со Скибой, идем рядом со своим вагоном. Оказывается, поезд отцеплен, рядом кавалерия казаков, а пехотинцы по вагонам и по-над вагонами проверяют документы. А у нас документы в Минводы. Я решил не показывать. Иду впереди, Скиба за мной. Вот казак подскочил: «Предъявите документы!»
Я сразу обозлился:
«Ух ты, тыловая крыса! Вон туда на фронт, а не тут у калек документы спрашивать! — Вытащил с-под бурки руку: — Вот остался без руки, а ты, тыловая крыса, документы спрашиваешь. Ступай на фронт, там проверишь».
А сам иду не останавливаюсь, и Скиба мне вслед. Казак тот остолбенел:
«Чиво вы серчаете... я обязан... меня заставили...»
Как дальше быть? Скиба только за госпиталь свой и разговаривал.
Пошли к коменданту. Я подал документы. Поручик сразу же все написал. Вышли с помещения, стал я читать, не можем прочитать. Идет прапорщик. Я остановил: «Где госпиталь?»
«Во-он, смотрите, его хорошо видать».
Мне госпиталь не нужен, ну ладно — пойду, узнаю, есть ли при госпитале распределительная комиссия или нет и когда она бывает. Я-то теперь свою фамилию ношу, но на фронт ни за что не поеду; как-то запутаю Скибу; хотелось мне и Скибу довести до его двора.
Распределительной комиссии не было. Мы ушли.
«Сюда,— говорю Скибе,— в любое время успеем. Ты каневской, а я поеду в Екатеринодар, там госпиталь лучший, а ты в Каневскую, дома всех увидишь».
«Так как же мы поедем без документов?»
«Мы сейчас опять пойдем к коменданту, я буду говорить, а ты молчи. Скажу, что врач послал нас в Кавказскую».
Ну, Скиба согласился, мы пошли к коменданту, бумажка-то, что комендант писал в госпиталь, у меня. Заходим — никого нет, один комендант. Подаю ему его записку и говорю:
«Господин комендант, были мы в этом госпитале. Врач сказал, что нет мест, езжайте в Кавказскую. А никакой бумажки в Кавказскую у нас нет».
Комендант схватил ручку, листок бумаги: [414]
«Ваша фамилия?»
Штамп приложил и подал.
«Вы не напишете,— говорит Скиба,— отдельно?»
«Зачем отдельно?»
«Мне не по той дороге ехать».
«Как не по той? Ты куда хочешь ехать? Хотите ехать по домам? Дай сюда бумажку! — крикнул мне. Я подал, он ее порвал на клочки и бросил на пол.— Идите отсюда!»
Я обиделся на Скибу.
«Я тебе говорил раньше, чтоб ты молчал. А ты с больной головой выскочил. Я б тебе ее отдал, если б тебе хотелось ехать, а я бы поехал без нее в Екатеринодар. А теперь давай разделим хлеб и сахар — и кто куда!»
Попрощались, я пошел по путям, там формируются эшелоны. Смотрю, полно в вагонах казаков-пластунов. Иду дальше. Дверь открыта в вагоне, на одну сторону стоит тачанка, на вторую — лошадь. Вот мой вагон,— думаю.
«Господа казаки, возьмите раненого».
«Пожалуйста».
«Не смогу залезть, высоко, одна рука».
Быстро соскочил один, а второй подал руку, а этот под задницу, и затянули в вагон.
Сел возле колеса тачанки на чувал с зерном, вытащил кусок хлеба и грудку сахара и ужинаю. Паровоз толкнул, прицепляется. В вагон сиганули два офицера, походные койки развернули и положились. Я заснул, проснулся — Кавказская. А тут глубокий тыл. Барышни ходят, шляпы с перьями, полна станция людей, ожидают поезда в Екатеринодар. Проходят мимо меня две барышни в шляпах, одна глянула в свои часы, сказала: «Второй час. Ровно через час будет на Екатеринодар». Как же мне уехать? Мне только до Динской, а там я степью в Пашковскую.
Вот сразу как двинется публика в двери, пришел поезд! Я скорей к вагону, очень большая очередь, я к другому, там кричат: «Вольные, назад! Там теплушки есть!» Полно-переполнено! Я вижу, что по-хорошему останусь. Я бурку закачиваю за левый локоть, чтоб рука забинтованная виднелась, и кричу: «А ну, вольные, к чертовой матери! За вами раненому пропадай! Не влезешь! Пропустите!» Услыхал в вагоне какой-то казак, кричит: «Не лезьте, вольные, пропустите раненого».
Я посильней нажал передних, неизвестный казак подал из вагона руку и втащил.
Приехали — Динская. Тихо, кучи снега лежат.
Было 12 января 1919 года. Люди забудут, а мы — никогда. То наше время. 12 января я подходил со стороны Старокорсунской к станице Пашковской.
Вдали на дороге что-то чернело. Подхожу ближе и вижу: стоит человек, ноги раскорякой, сам нагнулся вперед и руками опирается на палку. И сколько я шел к нему, столько он стоял в таком положении. Это показалось мне подозрительным.[415]
ПО ДОРОГЕ НА ИЕРУСАЛИМ
В 1835 году на этом же месте, где Попсуйшапка нашел раскорякой стоявшего Луку Костогрыза, пахала в предпасхальные дни землю под баштан мать Костогрыза. Прозвонили к вечерней службе, но ей хотелось еще два-три раза пройти с бороной, а то назавтра она бы уже не смогла: она ждала родов.
Ее и соседей захватили тогда черкесы, переправили их за Кубань. Уже стемнело. Мать лежала на возу и стонала. Черкесы развели костер и, когда он перегорел, жар сгорнули в сторону, нагретое место полили водой, сверху застлали соломой, покрыли солому буркой. На этой бурке и родился Лука Костогрыз. В ауле черкешенка взяла младенца в чистую пеленку и понесла в саклю. Через неделю их выкупили за пленных черкесов. Мать поклялась десять раз побывать у киевских святых мощей, что потом и исполнила.
Зимой 1919 года Лука Костогрыз шел ко гробу господню в Иерусалим.
У крыльца правления, где старики ругали «москальскую власть» и надеялись на победы генерала Шкуро, Костогрыз жаловался:
— Мало вижу в очках, мало слышу, а зубов осталось только четыре. Хожу тихо и то с одышкой — горе, тай годи!
Уже все предсказывало ему, что скоро вытянется он на койке и будет звать тихим голосом свою старуху.
«А интересно бы узнать,— думал он вечерами, облокотившись на плетень,— чем оно кончится? Долго ли панов будут люшнями бить? После пропажи москальской власти вера и дисциплина распались, но сыны вывели нас с новой москальской неволи, побачили мы снова красное яичко и вздохнули так, как раньше вздыхали. А то было опасно из балагана носа показать, бо скрозь матюкаются новые наши братья и нас тюрьмою стращают. Спасибо вам, паны, генералы и весь начальствующий состав, особо родному батьку Бычу1. Чем кончится? — узнать, а там в лоно Авраамово. Киевского митрополита Владимира расстреляли, а недавно его наперсный крест из Мамврийского дуба, нательный крест отобрали на Красной у дамочки. И Бабыча все же расстреляли, сам могилу себе копал, а я ж говорил, я ж им подсказывал: це добром у вас не выйдет! Где мой
-----------------------------
1 Председатель Кубанского краевого правительства при белых.[416]
Дионис? Вошел в чины и забыл деда? Живой ли? Убил двоюродного брата и не охнул. Рассыпалась храмина. Подарила казакам царица Катерина землю, а теперь шо? Собираться и грабить? Не взойдет больше святое солнце воли, восстала кара над нами... Не станет Савл Павлом и не будет блудница праведной? Корнилов забрал у меня коняку, его убили, а где ж она, бедная, мотается? На базаре один сказал, шо уже и церкви не надо.
В субботу вышел он к трамваю, взлез на ступеньки и поехал в город. На Соборной площади пугливая мысль поторопила его зайти напоследок своих земных дней в Александро-Невский войсковой собор, помолиться и послушать певчих. Оттуда занесли его ноги к пивоварне «Новая Бавария», где когда-то, в далеком детстве, в большой хате размещалась певческая школа, кем-то окрещенная в «сичь». То было в 1843 году! Дядя привел его за руку к регенту, велели ему тянуть под скрипку «а-а!», но он кричал «не хочу!». Однако его взяли, и жил он сперва с другими казачатами на частной квартире возле реки Кубани, в которую, когда купались, прыгали разом человек по десять, чтобы сом не ухватил. Иногда регент посылал их в степь нарвать клубники. Сичь! Надо ж и правда написать воспоминания, приставал же к нему с мольбою архивариус Кияшко. И взволнованный подувшим на него ветерком детства, временем, когда по Красной улице бродили свиньи и куры, повернул он было вниз к пристани Дицмана, но ноги пристали, и он махнул рукой извозчику Дятлову: подвези на Динскую к внучке. Там за чаем погадали они с внучкой о Попсуйшапке (где он, что он), повеселил квартирантку (мадам В.) нравами «сичи».
— Оно ж маленькое ще, дитятко, спать ему хочется, а его будят в собор на утренню. А то ще ночью по грязи шли через весь город. Вздумается взрослым ночью повеселиться, то дежурные должны собрать тридцать шесть певчих. Собаки кругом, грязь, лезешь через заборы по садам от Дмитриевской улицы до «Новой Баварии». Пьяное собрание ждет. Да любило начальство слушать «круглый молебен», до того неудобный, шо нельзя при добрых людях ни одного слова повторить. Всякое бывало. Поминки, поздравления с именинами и праздники — певчие! Делимся пополам, одни по правую сторону Красной, другие по левую, и поздравляем. Духаны, трактиры, погреба и даже, прошу прощения, дома терпимости — «Здравствуйте, позвольте пропеть». И все нас угощают. И жил бы себе, да мать забрала в степь.
И к матери потянула его память. Как будто с пашковского кладбища, из-под тяжелой земли взывала она к нему, но взор почему-то видел все пустынное время той казачьей жизни, когда воевали только с горцами и турками. Батько служил на кордоне у берегов Кубани — с зарослями камыша по одну сторону и тучного леса — по другую. Он лежит в секрете, а в это же время мать встает на восходе солнца, кладет Луку в торбину вместе с кубышкой воды и краюшкой хлеба и идет жать свою ниву.[417]
Отец скоро придет на льготу — на год, чтобы обеспечить семью, хотя в тот же год позовут его на усиление кордонной службы не на казенных, а на своих сухарях. Они ждали отца, вот он скоро-скоро появится, принесет им маленькую торбочку гречневой крупы, возьмет Луку на руки и скажет: «Расти, сынку, добрый казак будешь...» Отчего это мать сегодня не плачет, чего она бегает по всем закоулкам, подметает хату, перестилает на скрыне скатерть, наставляет мисок и пляшек? Лука бегает верхом на палочке. Чу, где-то песня; мать, как угорелая, хватает Луку за руку, и он бежит с ней, не чувствуя колючек в ногах. Вот они и за станицей; вдали казаки залихватски поют что-то; какой-то инструмент издает звуки, словно кто колотит в пустую бочку; у одного казака на длинной палке болтается что-то красное, кто-то пляшет... Потом? Мать вдруг стала прижимать его к себе и кричать... Отца среди казаков нету...
Тем же вечером Костогрыз достал из гвардейского сундука, из того ящика, где хранил он всякие бумажки, медаль и кресты (низ сундука был засыпан мукой), тетрадку, в которой начинал писать воспоминания под заголовком: «Досужие минуты кубанского казака». Читал, наверное, когда-то, запомнил сочетание слов, понравилось. «Так, братцы! — брызнул чернилами и точно крякнул.— Понесу свои слова в общую скарбницу. Восемьдесят четыре года моей жизни кануло в вечность; я лишился двенадцати наших казацких атаманов, и ничего не остается мне, старику, как только сетовать о разлуке с птенцами Кубани и молить Бога: да упокоит он мою душу в лоне Авраамовом...
Было, да быльем поросло, и горько вспоминать...»
Что-то помешало тогда продолжить; как будто на последних словах махнул Костогрыз рукой, прослезился и бросил. Может, перебила какая хозяйская мысль, потому что на полях, поперек листа, нацарапал: «Корова перегуляла 22 мая...» Теперь Костогрыз задумался: в каком это году принесла корова теленка, сколько раз он водил ее еще к быку, резал с племянником осенью годовалых бычков? Перечитал и раз, и два. Про что дальше?
— «Да позволено будет мне, 84-летнему старику...— диктовал он вслух себе и давил на ручку неподатливыми крупными пальцами,— ...свято по силам исполнить долг православного...— И надолго задумался.— В детстве своем письменной премудрости наметался я у дьячка, когда был в певческой школе, а поступив в службу и проходя ее, природным умом своим и запорожскою шуткою привлек я внимание сильных местного мира сего и попал в Петербург в гвардейцы... Я недаром потратил свою жизнь. Меня уважали. Характер у меня от предков, пластунский. Жили наши предки бранью, защищали Черноморию. И ни одна святая личность, долгое время озарявшая горизонт нашей Кубани, не может быть забыта. Я о них расскажу. Что вы, добрые люди, знаете про жизнь казачью?..»
Но он только подразнил сочным своим словом и поставил на этом точку.[418]
Ночами он стал бредить, выкликать умерших родственников, атаманов, войсковых товарищей.
— Пойди, Одарушка, выгони телят, а потом уже принеси воды и замети хату.
Жена в одной сорочке склонялась к нему, клала ладонь на лоб.
— Сетую о разлуке с вами,— бормотал Костогрыз,— и молю бога: да пошлет он вам здоровья на многие годы для блага Кубани. Прощайте. Свято и по силам исполняйте долг православного воина.
Утром ему было легче, сознание прояснялось; он вставал, кушал борщ, спрашивал:
— Шо я там ночью вскакивал с речами?
Снилось ему все старое, хорошее, доброе. Снились умершие малютки — дети. Снился себе молодым, где-то в ущелье, стрелявшим в кабанье око. Снилось, будто подносил он принятому в почетные казаки станицы Пашковской графу Воронцову-Дашкову (уже покойному) кавказское оружие (шашку, кинжал, газыри и проч.); по старинному запорожскому обычаю поднес ему вино в деревянной, точенной из ореха чарке, называемой михайлик. Снилось еще празднование двухсотлетия Кубанского казачьего войска, фейерверки за Кубанью.
— Как же я буду с вами расставаться? — вздыхал он.— Сто рублей, Одарушка, как умру, послать в Ерусалим в пользу гроба господня и сто на святую гору Афонскую. Ночью шел я по скорбному пути на Голгофу. Было четыре остановки.
Последнюю неделю он ходил по станице и всем говорил, что собирает на храм и скоро пойдет ко гробу господню в Иерусалим, а оттуда на гору Афонскую.
В том помешательстве шел он за пашковскую греблю в смертный свой час.
— Куда, Лука Минаевич? — спрашивали.
— В Ерусалим.
У правления разорялся отец генерала Шкуро:
— Та якый вин Шкуро? Шкура вин, ось хто! Бог его знает — хранцуз який нашелся? Я ему кажу: «Чего ты, собачий сын, в Шкуро перевернулся?» Здравствуй, Лука! Куда ты?
— В Ерусалим.
— А-а, ну давай, це недалеко.
Он шел по снежной дороге на Старокорсунскую, и ему казалось впереди светлое царство. За Киргизскими плавнями он вдруг вздохнул, наклонился на палку переждать и застыл раскорякой. Попсуйшапка побоялся его трогать и побежал к первой хате выпросить сани. Говорили, что это был, наверное, единственный случай такой смерти — стоя.
Лука Костогрыз умер — было известно через день в Екатеринодаре и окрестных станицах. Но до него ли было? [419]
ХИРОМАНТКА ПРЕДСКАЗЫВАЕТ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Совсем не так, как когда-то наказный атаман Бабыч, поздравила газета «Вольная Кубань» с новым, 1920 годом. На россиян-беженцев сыпались одни упреки. Шумною толпой устремились-де они за Добровольческой армией, но не затем, чтобы принести ей помощь, нет, жаждали возврата своих имений и угодий. После гибели самостийников Рябовола и Кулабухова казаки не доверяли деникинцам. Упрекали и генерала Шкуро за то, что он раздает автографы смолянкам, держит у себя в доме на Крепостной невестку бывшего наместника покойного графа Воронцова-Дашкова и стоит за единую и неделимую Россию. Его «волчья сотня» с черным знаменем и сам он на скакуне в серой папахе из волчьего меха кое-кому уже не внушали восторга. Красные захватили Новочеркасск. 20 февраля Рада учредила орден «Спасения Кубани» и медали I и II степени. Генерал Шкуро упивался криками толпы, ездил всюду в сопровождении собственного хора песенников и балалаечников. По-прежнему звали: «На Москву! На Москву!» Но еще чаще между собой: «Пропала Россия!» Дамы с собачками покупали билеты на поезд в Новороссийск, к морю. Там управление вооруженных сил взяло на учет даже публичные дома, скопившие иностранную валюту. Деникин признавал, что борьба внутренняя для него тяжелее фронта. В октябре 1919 года он отправил жену и мать в Кисловодск. Ночью в саду посвистывала птаха, и Манечка думала: «Душа чья-то кричит». На Котляревской улице по линиям рук, по году и дню рождения и по Библии хиромантка предсказывала настоящее и будущее. Хотелось пойти к ней. Но ей уже гадала один раз по руке красавица мадам В., возлюбленная братца Пьера. Вместо этого она пошла в Зимний театр аплодировать артистам МХАТа — В. Качалову, О. Книппер, А. Тарасовой.
В воскресенье 9 февраля добровольцы отметили в Зимнем театре вторую годовщину Ледяного похода. Были генералы во главе с Деникиным.
— Два года,— сказал он,— но сколько лет горя они будут стоить России!
В начале марта все чаще стрелялись прибывавшие с фронта офицеры. В часовне на Крепостной площади каждый день стоял гроб, усыпанный цветами.[420]
Беженцев с севера все прибавлялось. С фронтов поступали тревожные сводки.
Калерия Шкуропатская не очень-то пугалась вторичного нашествия красных на город, потому что ее Дема, Дементий Павлович, защищал в суде подпольщиков и красноармейцев. За милосердие не накажут. Сама она выдавала книжки в пушкинской библиотеке.
— От своего народа не бегают,— сказал Бурсак как-то за чаем в день окончания процесса над доктором Лейбовичем. Речи его, правда, были уже не столь передовыми, как в царское время. Изменился он после того, как прочитал беседу с бывшим другом Толстого Чертковым. На вопрос, что сделал бы теперь Толстой, этот Чертков ответил без колебаний: «Как в николаевское время ответил Толстой на расстрелы статьей «Не могу молчать», так и теперь сказал бы: «Поставьте и меня к стене». Вдруг Бурсак напал на интеллигенцию: она-де не признавала ничего своего, самобытного, жила готовыми, принесенными с Запада теориями.
— Стыдно сказать, но ведь было даже приветствие кое от кого из русских японскому императору по случаю японской победы над нами. Кто сейчас погибает? Офицеры. А их всегда считали дикарями.
Калерия не напоминала ему о том, что он говорил раньше. Она еще не знала, что в эти месяцы созревал тот Бурсак, который с ней вскоре простится. Уже повисло над ним слово «никогда». Никогда больше не соберутся они в своем доме. А пока они порою были даже беспечны.
— Я перед ними не виновата,— говорила тетушка Бурсака, все дни носившая черное платье.— Я везла им на Кавказский фронт двадцать пудов муки.
— В революции, тетя Лиза, виноват тот, кто не становится на ее сторону.
— Если не будет нашей победы, то что же мне — вешаться?
— Если победят они, значит, они России нужнее. А вас, впрочем, выручит доктор Лейбович, тогда с ним будут считаться. Вот я попросил в речи взять его на поруки за сто тысяч. Двадцать тысяч пообещал сразу купец Квасов, а десять вы. Спите спокойно.
— Четыре года каторги — шутка ли? Ему шестьдесят пятый год, он не выдержит. У него такие заслуги, сколько орденов от царской власти: святой Владимир, святая Анна, еще. А что он сказал в последнем слове?
— Он встал, руки простер: «Возьмите Евангелие, там написано: когда сказали Христу, что его ученики рвут в субботу колосья, Христос ответил: «Не человек для субботы, а суббота для человека». И в субботу, значит, можно делать добрые дела. Ради того, что я делал для граждан, вы должны простить меня».
— Но прокурор ему припомнил связь с социалистами в девятьсот седьмом году? [421]
— Обвинений много. Свидетели говорили разное. Якобы из всех раненых белых партизан он думал воспитать инструкторов Красной Армии. В «Чашку чая» входил с красноармейцами для сбора пожертвований в пользу большевиков. И на японскую войну ездил, дескать, с целью подрыва дисциплины в войсках. Другие — будто он прятал у себя в доме белых; возмущался расстрелом господ, те собирались встречать Корнилова цветами.
Тетушка, вся пунцовая от злости, сказала:
— Мерзавцы! Обыватели всегда обыватели. Я вот о чем думаю, племянничек. Все бумаги Бурсаков я отдала архивариусу Кияшко и жалею. Пропадут, если... Говорила тебе: отдай кому-нибудь, найми, пусть напишет. Уже бы книга была.
— Но если род наш на Кубани оборвется, зачем книга?
— Да кто тебе сказал? Деникин не сможет, Врангель поведет на Москву.
— Жаль, нет Толстопята, он бы почитал вам, какие стихи сочинили офицеры. Все надеются на них, а сколько их? Горсточка. И гимназисты. Нет, тетя Лиза, надо было получше кормить народ. Не знаю, не знаю, чем это кончится.
— Уйдем и вернемся с союзниками.
— Я пока уходить не собираюсь.
— У тебя семь пятниц на неделе. Не забывай, пожалуйста. И не забывай, что если придет хам, то на полях Кубани взойдут не добрые всходы, а плевелы.
— Вы меня обижаете, тетя Лиза. Я боюсь толпы, но я всегда за демократию, и я понимаю, почему взбунтовался народ. Мы не были на фронте, и значит, ничего не видели. Русский народ не отступится.
— Да ты же только что сомневался!
— Иногда я боюсь за себя, тетя Лиза. От этого. Лобанов-Касаткин печатает в газете стихи, а я думаю: ну так, так: «разграбившим храмы твои», так. Но где ж вы все были раньше?
— А ты где был?
— Защищал в суде попавшихся революционеров.
— Бомбистов. А ты где была, Манечка?
— Я училась, Елизавета Александровна.
Манечка Толстопят слушала их разговор с грустью. Но она ничего не боялась. Привыкшая в лазарете к стонам раненых, к смертям тех и других, она давно перестала беспокоиться о себе. «Наше святое дитя»,— звали ее Бурсаки. Она всегда при старших молчала. На лице ее, ниже глаз, остро лоснились косточки — так она похудела за два года.
— Больше ничего доктору Лейбовичу не приписывали? О лазарете у кладбища не поминали?
— Нет.
В лазарете Манечка выполняла все поручения доктора Лейбовича. Как-то, когда он еще был на свободе, она пошла даже на риск. У них во дворе стояли с лошадьми корниловцы, позволявшие ей ездить верхом. Там, где спустя десятилетия поместят [422] вендиспансер, белые устроили возле кладбища хрупенький госпиталь и свезли в него раненых красноармейцев. Свезли на смерть, оставив без всякого присмотра и медикаментов. «Я дам тебе лекарства,— сказал ей Лейбович,— ты потихоньку передай в госпиталь». Перевесив через спину лошади санитарные сумки без крестов, Манечка от дома доктора спускалась на лошади к Кубани и глухой улицей выезжала к госпиталю, отдавала сумку какому-то санитару. И так один раз в неделю. Потом она научилась красть одежду. На пустыре Крепостной площади, возле часовни, кучей лежали окровавленные военные кители. В туманные утра она набирала их в корзину и на трамвае привозила домой. Кто в госпитале выживал, надевал китель и ночью скрывался в Свинячьем хуторе. «Господь бог, храни всех, храни и брата моего Петюшку»,— шептала она на ночь.
Вот почему она спрашивала о том лазарете. И помалкивала.
Последние лекции читал в «Монплезире» князь Е. Трубецкой, но еще не знали, что последние.
В эти дни неисправимый силач Фосс еще раз накушался за чужой счет: зашел в лавку, натолкал в рот на три рубля колбасы и, нагнав панику, удалился, не заплатив ни копейки.
— Брызги жизни! — сказал на прощание.— Я Фосс! Фосс не платит.
Говорили также, будто на следующий день на него в Пашковской положили двадцать пудов досок, и верховые казаки проехали по этим доскам несколько раз. И проспорили бочонок меду.
Десятого марта Калерия ходила с мужем в «Чашку чая». Вправду толкуется: никто не может предсказать будущего. «Чашка чая» перебралась на улицу Гоголя под Зимний театр. В светлом большом зале, украшенном тропическими растениями, в тот вечер вместо барышень обслуживали раненые офицеры.
Кто же там был?
Как нарочно, в тот вечер зашли обогатить кафе содержатели магазинов, лавок, старые казачьи генералы в папахах, уже плохо слышавшие, плохо видевшие и мало что понимавшие в политическом вихре. Там был обувной король Сахав, покупщик первой легковой машины, скандалист и бабник. С ним сидели другие богатые армяне: братья Богарсуковы, Демержиев, Ходжебаронов; владелец Старокоммерческой гостиницы седой вежливый Папиянц и благодушный, вечно дававший ссуды Черачев. Там были давно на Кубань залетевшие греки: Акритас, Мавраки, хозяин «Националя» Азвездопуло, родня Фотиади, в доме которого на Соборной стоял Деникин, торговцы музыкальными инструментами братья Сарантиди, бывший полицмейстер Михайлопуло. Там были турки: пекарь Кёр-оглы, Гасан-Мамед-оглы и еще кто-то. Не все персы уехали в 1914 году, и они пришли. Там были ювелир Ган и аптекарь Каплан. В группе пожилых офицеров сидели дамы: начальница Мариинского института княгиня Апухтина, директриса гимназии Понофидина,[423] вдова генерала Ассиер, классная дама Толстая. Там были и господа петербургские, московские и прочих губерний.
Сбор пожертвований по объявлению удался вполне.
Пристав Цитович с городовыми следил на выходе за порядком.
Вечер этот запомнился на всю жизнь: в «Чашке чая» сидел с мадам В. раненый Толстопят. Такое было в их жизни, и от этого никуда не денешься. Запомнилось еще Калерии: Бурсак подарил Толстопяту русско-французский словарь «Общественно-полезные разговоры».
— Шел сегодня мимо магазина Запорожца и купил.
— Подпиши,— сказал Толстопят невесело.
Бурсак подозвал офицера и попросил принести ручку и чернила. На титульном листе он сделал надпись, которую не раз потом они перечитывали с грустью. «Пьеру Толстопяту, моему другу, на будущую жизнь. 10 марта 1920 года. Екатеринодар, «Чашка чая». Д. Бурсак».
— Спасибо,— сказал Толстопят.— Пора утончаться.
И передал мадам В.
Она полистала, зачитала несколько фраз:
— L'empereur a publie un edit... Je m'abandonne a mon malheur... Ces temps sont passes... j'ai dessein de passer l'hiver a Paris...1 — И она медленно, безнадежно опустила книгу на колени.
— Кто там шумит? — Толстопят обернулся к оркестру и долго разглядывал молодецкого офицера с двойным гвардейским серебряным галуном.
— Это сумский гусар,— сказала мадам В.— Он пробрался к нам с Урала. Вчера он рассказывал, как они в Тобольске хотели выкрасть государя. В январе восемнадцатого года они выехали из Москвы до Тюмени и потом триста верст ехали на ямщицкой тройке к Тобольску. За ними должны были прибыть сто гардемаринов. Государя охраняли триста солдат Гвардейской стрелковой дивизии. Мечтали даже захватить телеграф. Но они плохо организовали похищение. И не было денег.
— Сейчас на Кубани весь Сумский полк,— сказал Толстопят.
— Монархисты,— заметил Бурсак равнодушно,— люди определенной психологии. У них особый склад души.
— Царя уже забыли,— сказала Калерия.— А прошло не так много времени.
Бурсак зло, будто Калерия перед ним виновата, пробурчал:
— Или у людей нет собственной жизни?
Они утром поругались и еще не помирились.
— Чего ты сердишься? — удивилась Калерия.— Я не к тому говорю, что его нужно жалеть, я просто так сказала. А детей мне жалко.
— Они наследники власти. Они были опасны потому, что в любую минуту могли знаменовать своим существованием
----------------------------
1 Государь дал указ... Я предаюсь своему несчастью... Эти времена прошли... Я намерен провести зиму в Париже...[424]
власть. Старую власть.— Бурсак злился все пуще.— У женщин нет логики.
Калерия решила перемениться.
— Давайте поговорим о другом.
Но мадам В. продолжала свое:
— Правильно кто-то сказал: муха, севшая на Исаакиевский собор, не подозревает о его стиле. Я думаю: какая грустная жизнь ожидает всех. Или уйдете и опять вернетесь? Такое уже было. В Турцию уйдете и оттуда вернетесь.
— Когда они вернутся,— сказал подслушавший их купец с другого столика,— иголка рубль будет стоить. Извините.
— Все мы в положении евангельской смоковницы,— сказал очнувшийся Толстопят.— А я, друзья мои, так устал, что молчал бы, кажется, всю жизнь. Легко говорить этим магазинщикам. «Ешь нашего хлеба,— говорили запорожцы,— та не заедайся, бо мы тебе его дали, мы и отнимем». Вода прибывает весной, и она прет на греблю, и поначалу помалу пробивается, а дальше как заревет, то и греблю снесет. Так будет, к бисову батьку, и с нами.
— Что с тобой? — мадам В. приложила руку к его плечу.— Рука болит?
— Я воюю с четырнадцатого года. Когда я почувствую на своей груди штык, я не испугаюсь. Иногда хочется этого штыка.
— Зачем же так?
— Ты, Дема, не был в первом походе под Лежанкой. Ты мало видел. Вон они кричат,— протянул он руку в сторону дальних столиков,— слышишь?
— Сегодня для многих последняя застольная беседа,— кричал там офицер.— Многих не будет между нами к следующей встрече. Вот почему не станем ничего желать себе. Нам ничего не надо, кроме одного: да здравствует Россия!
И слева за столиком тоже говорили, тоже жаловались:
— До чего все разложилось... Какой-то священник Четыркин в церкви на кожевенных заводах отворил во время пения певчих царские врата, пошел к певчим и приказал, чтобы они прекратили пение.
— Я написала войсковому атаману,— говорила вдова военного инженера,— написала: если вы в добром расположении духа, читайте мое письмо. При наступлении Корнилова на Екатеринодар был убит мой сын, потом мой муж. Я не знаю, каким богам молиться и сколько слез пролить, чтобы дождаться внимания, мне не на что жить. У меня две дочки. Я на старости лет научилась шить обувь. Сегодня обед, а завтра один картофель. Сегодня один ботинок порвался, завтра другой. «Ваша дочь не может быть принята в гимназию, она не казачка!» Когда моего сына Боричку привезли раненого, он стонал и рыдал,— это для господ атаманов ничего не значит, а я всю свою жизнь и средства отдавала для Родины святой. Я была попечительницей на Шпалерной, двадцать шесть, рядом была казарма конвоя его величества, даже бородатые отцы-казаки приходили в мой приют [425] с детьми, я их учила молиться, любить Россию, на собственный счет привозила корзины еды, чаю, сахару. Во время японской войны отдала безвозмездно полный этаж под лазарет донских казаков, это наши ангелы-хранители были, а эти пауки из краевого правительства мучают меня! Что за иезуитские новые штуки? Прикажите, умоляла, на войсковой счет принять. Ничего не добилась...
Мадам В. вздохнула:
— Рим спасли гуси, а нас кто?
— Я ухожу,— сказал Толстопят.— Завтра мне в войсковой канцелярии надо получить деньги за двух лошадей.
— За каких лошадей?
— За таких. Убитых в Турции подо мной. У меня есть рапорт и свидетельство. Казенная расценка лошади была сто пятьдесят рублей, теперь за эти деньги не купишь и плохой рабочей лошади. Так-то, господа казаки. Я офицер, мне еще воевать. Я присягал. Может, и мы больше не соберемся вместе. Встать! На молитву шапки долой! Ура! Пошли, пошли. Чего на купцов глядите?
Они вышли, и вдруг Толстопяту захотелось подняться на пожарную каланчу. До Екатерининской улицы шли и молчали. Было тепло, и от Соборной до Крепостной площади гуляли парочки. На каланче была широкая площадка, в мирное время туда взбирались влюбленные и разглядывали окрестности. С высоты было видно до самой станицы Марьянской. В густых сумерках ползла по черной земле гибкая река Кубань. А на востоке в Пашковской, под Дубинкой поблескивали Карасунские озера. Широкую землю держали в своих руках деды! Толстопят прижал к себе мадам В. за плечо.
— Что это там за звезда, знаешь?
— Наверное, Меркурий.
— Я пойду к тебе на Динскую.
— Я ждала, когда ты это скажешь.
— А что это, господа, за звезда? — спросил Бурсак.
— Наверное, Меркурий...
— Такая тишина в степи у Елизаветинской, не верится, что идет война.
Никакая хиромантка не смогла бы нагадать, что они все вместе глядят на родной город с высоты в последний раз.[426]
ИСХОД
За сто с лишним лет город еще не знал такого нашествия калмыцких кибиток, телег, верблюдов, пеших скуластых беженцев. Везде попадались брошенные пустые телеги. Калмыки шли через мост на Новороссийск шестой день. Ту ночь 16 марта Толстопят провел без сна. Толстопят лежал у нагретой стены, протянув руку под голову отдыхавшей от ласк подруги, ласк каких-то смирных и горестных, будто оба они просили прощения. «Золотой мой...— все шептала несчастным голосом мадам В.— Любимый...» Никакое другое время не свело бы их больше вместе. Так нареклось. Они даже были счастливее, потому что многие пары уже разорвались: кто-то погиб, отстал, предал. Теперь мадам В. нуждалась в Толстопяте как ни в ком другом.
Ей приснился сад, необозримый, волшебный. Она, маленькая девочка, заблудилась и попала во владения великой царицы. Робко шла по аллее. То тут, то там возникали грот, ажурный мостик, дальше домик, похожий на пряничный гриб, по сторонам стояли железные скамейки. Она присела на одну из них. Стало темно. Вдруг вдали замелькали огоньки, к павильону приближалась нарядная толпа. Впереди шла дама под руку с высоким смуглым красавцем. Откуда-то, точно с верхушек деревьев, слетела музыка, закружили пары, появились ароматные напитки в граненых кувшинах с длинными горлышками, сласти и лакомства в хрустальных вазах.
Она шевельнулась и обняла рукой Толстопята. Он не спал.
— Болит рука?
— Нет, нет,— ответил он.— Я гляжу, как двор снегом укрывается.
— Который час?
— Наверное, четвертый.
— Ты совсем не спал?
— Дремал.
Кажется, всего на одно мгновение он сомкнул глаза и потерял мир; сразу очутился у себя дома на Гимназической. Читал Евангелие. Дверь на балкон была растворена настежь. Он читал Евангелие на старославянском языке. Вдруг что-то толкнуло его в бок. Он повернулся. О ужас, в дверях стоял покойный уже, царство ему небесное, государь Николай Александрович, точно такой же, каким он входил на молитву в Феодоровскую церковь в Царском Селе, но в то же время чем-то похожий на его батька [427] Авксентия. Что делать? Встать и поклониться? Толстопят с непосильным трудом привстал, но двинуться вперед не удалось. Попроситься снова в конвой? «Примите меня, ваше высочество, к себе на службу»,— сказал будто Толстопят и тут же пожалел: на кой черт он унижается перед ним? И к тому же его уже расстреляли. Царь вдруг заплакал: «Что же вы меня предали, конвойцы?» И ясный его образ стал тонуть в белом тумане и исчезать. Глаза Толстопята были мокрыми. Он почувствовал, что подруга его тоже не спит. Пасмурной белизной сияло окно. Полосами летел снег.
Он встал, оделся и сел у окна. На сердце не было ничего, кроме предчувствия долгой беды, которая вот-вот разломится над его головой и которую не поправить ничем и никогда. Впереди Голгофа. Почему он глядит на чужой снежный двор, почему не дома, с матушкой, с Манечкой? Уж в этой жизни они больше не встретятся!
Что-то подгоняло его уйти и добраться к родным.
— Я пойду,— сказал он мадам В.
— Постой, я провожу тебя.
Уже одетая в теплое платье, она на прощание обняла его у окна. Она так прижалась, что оторваться от нее — значит обидеть. Пустота какая-то отняла у него все слова; он ее не увидит; если он погибнет, надо было все же сказать ей что-то, что она запомнила бы навеки. А он молчал.
— На всякий случай все собери.
— У меня давно готово.
— Ну, пошли.
Надо же! — за воротами он увидел, как издали едет извозчик. То был Терешка. Он подозвал его рукой, тот остановился.
— Терентий Гаврилович, милый. На Гимназическую. Скорей. И перевезешь ее к Бурсакам. Потом.
С конца улицы он оглянулся. Она стояла с поднятой рукой. Чувствовала? Толстопят виновато махнул ей напоследок.
Утром 17 марта, под глухой звон колокола Александро-Невского собора он выехал на Красную, перекрестился и через полчаса был на дороге за мостом.
В два часа дня в Екатеринодар вступили буденновцы. На гривах, на хвостах их коней позорно висели офицерские погоны добровольцев. Народ ликовал.
...В квартирах, на постоялых дворах, в лазаретах, в сараях ненужными валялись трофеи добровольцев и беженцев: рубахи, кальсоны, английские перчатки, браунинги, кисейные юбки, френчи защитного цвета, полушубки, портянки, седла, кинжалы, телефоны, иголки для сшивки ран, щипцы для жеребцов, восковые свечи, книги, меховые вещи, ордена, медали, ленты, румынские, персидские монеты, енотовые шубы и даже золотое кольцо Мефистофель, печати, кувшинчики с армянским сыром...
И жертвенник погас,
Но дым еще струится... [428]
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ЖИЗНЬ ПРОШЛА
— Не сплю, думаю: «Божечко ж ты мой, шо ж я из
всих одын остався? Кругом парни та дивчата,
це новое племя. А мое племя где ж?
(Казак А. В. С-в)
ЦИФРА 7
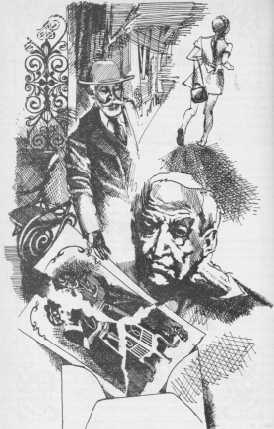
Ничего нет в жизни случайного, и наверное, так надо было, чтобы в 1956 году приехал я в Краснодар и присох к нему на четверть века почти. Было лето: июль, 27-е. Ни одной знакомой души, я иду с вокзала по улице Мира, по Суворовской к общежитию, посматриваю на пекарню, хлебный магазинчик, аптеку с крыльцом, а сам думаю о тамбовском городке, с которым попрощался позавчера. Нынче я бы много дал, чтобы явился тот день со всеми приметами, но это невозможно. Нет такой волшебной палочки. Все было мне незнакомо тогда, а сегодня даже местные историки не знают о городе того, что знаю я. И мне кажется, что уже в первый день мимо меня прошли все, кто потом рассказывал о своей молодости, и я опять восклицаю: это знак! Наверное, так надо было, чтобы в картинной галерее задержался я у «Портрета неизвестной дамы» дольше всего. И может, не обманывает меня другой сон воспоминаний: на Новом рынке покупал я к вечеру персики у низенького беленького и чрезвычайно любезного старичка из станицы Васюринской, и то был не кто иной, как Попсуйшапка. Он тотчас просветил меня, где я живу: напротив Старого базара и знаменитой обжорки Баграта в бывших номерах гостиницы «Керчь». Но меня это нисколько не тронуло.
Я пил по утрам кофе в закусочной (теперь выясняется, что то была когда-то прихожая дома полицмейстера Черника), хлеб брал напротив — в доме с балкончиком, но не просто в доме, а в бывшей гостинице «Лондон», обедал в столовой по соседству с кинотеатром «Кубань», некогда электробиографом «Монплезир». И так — одновременно из сегодняшнего дня и из дальней дали — гляжу я уже на все городское.
За двадцать с чем-то лет исчез и город моей молодости. На месте подписного магазинчика возле посудной лавки, на месте армянских дворов по улице Орджоникидзе (б. Базарной) и затем на месте магазина с великими темно-желтыми ставнями (со стороны улицы Шаумяна, б. Рашпилевской, где, кстати, Толстопят умыкал на извозчике Калерию) стоит все другое, новое. Я застал еще круглую деревянную пивную на углу улиц Ленина и Красной. На свою прошлую жизнь глядишь не взором завхоза, а как-то иначе, возвышенней. Но не нами она здесь начиналась, не нами и кончится, и не один еще скажет в будущем: «А я помню, вот там было то-то...» [431]
Судьба! Мне суждено вспоминать там, где я не родился. И виновата моя бабушка. Это она раскрасила мне Кубань в своих воспоминаниях на завалинке. Не на тамбовском толчке приобрел я за старый рубль роман Вас. И. Немировича-Данченко «Кулисы», роман плохой, но я храню его как реликвию — ведь уже в первые южные дни присаживался я на корточки среди разложенной на подстилках всякой всячины, выбирал дореволюционные книжки. О толчке на улице Северной, тогда еще не заслужившем того, чтобы его разгоняли, а потом и вовсе закрыли, я пожалел, когда занялся сбором материалов к роману,— там немало еще было истых екатеринодарцев. Они уже все на погосте.
Умерла и моя бабушка, тамбовская кацапка, бегавшая в девичестве к усадьбе Воронцова-Дашкова, того самого графа, кавказского наместника, коего генерал Бабыч с дрожью встречал в Екатеринодаре в начале века. Провожая меня на Кубань, бабушка наказала мне разыскать в станице Елизаветинской казачку, у которой она «до переворота» на заработках стояла во дворе целый месяц.
— Там спросишь Христючку, звать как, забыла. Она характером легкая, хоть на руках неси...
Долговязая Федосья Кузьминична Христюк передала со мной бидончик молока Калерии Никитичне Шкуропатской на улицу Коммунаров (б. Борзиковскую), 48. Во дворе Шкуропатской росли два толстых дуба, уцелевших, видимо, с черноморских времен. Я тогда не раскрыл, что Шкуропатская носом и глазами очень схожа с дамой на портрете в картинной галерее. Не мне, а квартирантке Верочке Корсун сказала Калерия Никитична: портрет свой она видела в последний раз в 1939 году.
В хохотушку Верочку с прямым носиком я сразу влюбился, и она не испугалась моих взглядов. Я был удивлен ее быстрым смирением: терпеть мою внешность. Я считал себя безобразным, девчонок чурался и уже подумывал, что во всем белом свете мне нету пары. Уж где там волочиться за каким-нибудь цветочком на улице; даровалось бы счастье жениться к сроку — и ладно. А Верочка была хороша собой: невысокая, с красными губками, озорными глазами. Я при ней трещал не умолкая и, может, этим привлек ее внимание к своей особе. Калерия Никитична, пуще всего боявшаяся того дня, когда квартирантка зазовет на свидание парня (да еще, не дай господи, спрячет его в комнате на ночь), почему-то благословила нашу дружбу и сама приглашала меня на вечерние чаепития. Затем, в лунный час, мы сиживали под дубами, и Верочкино шелковое платье сводило меня с ума. Но как было всего коснуться откровеннее? Не должна ли Верочка попросить об этом сама? Святое время! Как-то в Горячем Ключе мы попали под дождь на горке и забежали укрыться в хате. Там жил старик Аким Скиба.
Что-то заставило его посчитать нас мужем и женой.
— Любите своего мужа? — спрашивал он Верочку, когда я отлучился попить.— А он вас? А то научу, как приворожить.[432] Когда я был маленьким, прислали брату книжку «Секреты женской красоты». Я втайне прочитал ее. А потом у сапожника работал и прочитал книгу заговоров. Или вы и так друг друга любите? Как казачка из Елизаветинской Федосья мне говорила: «Я его как побачила, так и сказала, що це будет мой. На него можно садиться прямо с плетня и погонять куда хочется». И у вас так? А то поворожу.
Я, пока ходил пить, высмотрел старую книжку о какой-то княгине, жаждавшей казнить своего мужа неверностью. На титульном листе черными чернилами кто-то написал: «Из книгъ м-мъ Бурсакъ Е. А.»
— У нее была дача под Елизаветинской,— сказал Скиба.— Не знаю, жива ли Федосья Христюк, она там прислуживала, а я к ней приходил.
— Федосья жива. Я от нее молоко возил Шкуропатской.
— И Шкуропатская жива?
— Я у нее стою на квартире,— сказала Верочка.
— Шкуропатскую я видел на той же даче с Бурсаком. Приезжайте ко мне почаще. Можете у меня переночевать. Я один. Я вам порассказываю.
Но молодость! — зачем ей чужие дряхлые воспоминания? Еще не оглядывался я назад. Не придал я никакого значения рассказу Верочки о том, как ее прадедушка гонялся за наказным атаманом Бабычем — выпросить для общества племенного бычка симментальской породы. Еще много надо было прожить до того лета, когда я отыщу в «Кубанском крае» за 1910 год отчет, о процессе над убийцами братьев Скиба, в той же газете о похищении барышни Ш. сыном есаула Т. И намного позже прозвучит в моих ушах прозвание Екатеринодара: наш маленький Париж! Со своим пристрастием к преувеличениям я ухвачусь за это. Да! Покойная моя бабушка не ведала, что подсылает меня к Федосье Христюк недаром. От нее потянулась цепочка ко всем остальным моим кубанским старожилам. Лишь с Толстопятом я сошелся без посторонней помощи. Но тоже, видать, не случайно. Все мои встречи отмечены числами, в которых есть цифра 7. А в цифру 7, говорят, надо верить.[433]
ЧУДЕСА ВРЕМЕНИ
В здании бывшего епархиального училища, где я после занятий покупал французскую газету «Юманите», вдруг устроились за прилавком киоска новые продавцы, старик и старушка. Продавцы были очень вежливы, не позволяли забывать на тарелочке сдачу (пусть и одну копейку), киоск свой закрывали поздно. Они как будто жили в этом киоске, дома им вроде бы было скучнее. Всякий раз я ловил себя на том, что подойти к разложенным на широких пюпитрах журналам и брошюрам, полистать и не взять что-нибудь хоть на грош как-то неудобно. Кто они, откуда? Есть милые приветливые люди, с которыми боязно сближаться,— кажется, что ты недостоин их, слишком прост, неотесан. Они были сама вежливость, сама мягкость: сухой высокий старик, подавая газеты, обязательно заглядывал вам в глаза, а супруга его в очках тонкой серебристой оправы, с гладко стянутыми на затылке пуховой белизны волосами касалась своими птичьими пальчиками чего бы то ни было с какой-то музыкальной тонкостью. Однажды, в каком месяце — не помню, именно в том, когда во Франции к власти пришел генерал де Голль, я попросил «Юманите» за три числа, и старик, доставая газеты из укромного места, пробормотал что-то по-французски. Я ни слова не понял. Тогда он спросил:
— Вы свободно читаете?
— Очень слабо. Я самоучка. Со словарем разве пойму, что за птица де Голль.
— Де Голль напомнит французам о национальной гордости.
— А вы, наверно, француз? — спросил я.— Из Парижа? Вы недавно у нас? Нравится наш Краснодар? — спрашивал я глупости и, главное, с глупой интонацией.
— Это мой родной город, молодой человек.
И он занялся делом, дал понять, что спрашивать его больше не следует.
Но мы почти познакомились.
Наверное, я привлекал людей робостью, и потому, кажется, старики быстро допустили меня к себе; через месяц я стал бывать у них дома. Они жили по улице Советской, недалеко от картинной галереи. В маленькую комнату с круглым столом посредине я ходил расспрашивать их о Шаляпине, Бунине, Коровине, Мозжухине, которых они видели за сорок лет своей жизни в Париже не один раз. Большой новостью для меня были [434] воспоминания Л. Д. Любимова «На чужбине» в двух номерах журнала «Новый мир»; эти номера, как и через год «Современные записки», одолжили мне старики. Воспоминания киоскеров о Петербурге, Екатеринодаре, Париже дополняли мои исторические впечатления. Юлия Игнатьевна пекла чудесные булочки, и раз в десять дней я пил у них чай. Скажу теперь, что Юлия Игнатьевна — это известная нам мадам В., а муж ее — Толстопят Петр Авксентьевич. Не надо опасаться, будто они занимались моим перевоспитанием. Они не думали об этом нисколечко, обо всем говорили между прочим, как это и бывает с людьми. Они любили кормить, за столом сидели у них всегда долго, по-старинному, тарелки убирались и вновь ставились, чаеванье растягивалось бесконечно. Каюсь, я непременно читал свои сонеты и каждый раз слышал от месье Толстопята одно и то же: «Дема Бурсак тоже поэт. Че-орт его знает!» Но я не обижался на то, что Толстопят был глух к моей поэзии,— ведь он сам сказал о себе: «Извините, я простой казак». Зато Юлия Игнатьевна подстрекала меня (думаю, не совсем искренне) почаще приносить «что-нибудь новенькое» и обычно перед чаем торжественно объявляла: «Господа! А Валентин Павлович, кажется, написал новый сонет. Попросим?» У меня их было уже числом до ста сорока, и я вместо одного распевом читал с десяточек. В то время я жаждал понравиться своими сонетами всем. Любезная чуткость Юлии Игнатьевны спасала меня от страданий.
1 мая мы смотрели с Толстопятом демонстрацию с тротуара возле Пушкинской библиотеки. Впору было пожалеть, что вымерла мода на белые костюмы: Толстопят выглядел в своем прекрасно. Мы караулили открытие парада. Вдали на перекрестке, у картинной галереи, в ожидании команды переминались военные. Вдруг они выровнялись, стали как-то выше, теснее, точно чрез их ряды пустили ток, и затем взмахом сапог потянули себя вперед под музыку, никого вокруг не признавая.
Шла армия!
Глаза Толстопята искрились от слез. Вспоминал ли он со сладостью парады казачьего войскового круга, великорусские парады под Петербургом? Или вступление советских войск в города Европы, когда в зале кинотеатров плакали все эмигранты? Он был воин, человек русский, и шла перед ним в торжестве дисциплины и неумолимой присяги все та же родная русская армия, защитница. Да, он плакал.
За такие минуты слабости я и полюбил его.
В тот весенний праздничный день мы несколько часов гуляли по нарядной улице Красной, не могли расстаться; всем это знакомо.
— Вот видите,— останавливался он у Ворошиловского сквера напротив Доски почета, за которой должен бы выситься Александро-Невский собор, но его не было.— Здесь ваш покорный слуга стоял. Музыкантский хор нес две серебряные войсковые трубы. За ними знамена от царей. Белое и голубое — от [435] Екатерины. Потом несли грамоты. А за ними наказный атаман Бабыч с булавой, лицо серьезное, будто на войну отправляется. За ним два офицера с булавами на бархатной подушке. Красиво было. Лес хоругвей, певчие, диаконы, три архимандрита в белых ризах и, наконец, епископ Иоанн с крестом и святой водой. Ста-аренький. А теперь сквер, лавочки. Неужели я оттуда выходил? Там пусто, березы растут. Че-орт его знает...
Именно на этом месте, где он сейчас рассуждал без всяких воздыханий, Калерия Шкуропатская гадала у цыганки на Толстопята в 1908 году.
Красная улица длинная, версты на четыре, раньше она утыкалась в памятник казачеству, а после войны проросла почти до бывшего Свинячьего хутора. Мы прошли туда-назад раза три. Я слушал Толстопята с детским интересом. Хорошо рассказанная жизнь становится завидной. Персия, Карс, война с турками — как героически далеко, сколько истлело костей, а тот, кто тогда мерз, стрелял, носил ордена, идет и указывает пальцем на бога Гермеса, венчающего бывший музыкальный магазин братьев Сарантиди. Захочется вдруг пожить чужой жизнью. Но тут я узнаю еще одну подробность. Когда мы уже завершали гуляние, на улице Ворошилова (б. Гимназической) Толстопят подвел меня к дому с широким балконом над тротуаром, помолчал и потом сказал, что из этого отцовского дома он ушел в 1920 году в марте месяце с деникинской армией.
Я кое о чем догадывался и раньше, я понимал, что это наша история, но все-таки я как-то немножко похолодел и даже оглянулся вокруг. Потом сообразил: да ведь еще жив командарм Буденный, еще в скверах на лавочках читают по утрам свежие газеты толстопятовские ровесники, сморщенные и сгорбленные красные бойцы,— чему ж удивляться?! И все же: неужели вернулись домой люди из презренного небытия? Почему? Зачем? Так давно отгремела эта небывалая гражданская война, и неужели я хожу с бывшим белым офицером? Но какой же он офицер: это изящный старик в светском костюме, советский гражданин, и ничего в нем нет ни от «бандита» (как их называли в послевоенных учебниках), ни от «рыцаря тернового венца».
Лето свое провел я на Тамбовщине, рассказывал бабушке о Федосье Христюк, и встретились мы с Толстопятом только в конце сентября, опять на торжестве: за высокий урожай правительство наградило Кубань орденом Ленина. С портретами, флагами и транспарантами шли крестьяне на митинг к краевому комитету партии. Сбоку по тротуару ускорял шаг Толстопят. Я догнал его.
После митинга мы гуляли. С насыпного вала в городском саду мы спустились к шоссе, взошли на мост, перебрались через насыпь железной дороги. В вечернем солнечном тумане лежали топкие поля.
— Что здесь было раньше? — спросил я.
— Пустота. И военный лагерь. Учебный лагерь строевых [436] частей стоял. Тридцатого августа в лагере танцевальный вечер. Экипажи из Екатеринодара. Цветные фонари загораются. Утрамбуют место и покроют навощенным брезентом. Буфет, столы для играющих в карты. Ведь раньше везде, везде играли в карты. Цыгане появляются! Станичники себе в уголку песни поют. Молодежь танцует.
Есть ли что удивительнее времени? Ну так ли уж давно было войску пятьдесят лет? Толстопят родился в 1886 году и как о вчерашнем дне слышал от Костогрыза и от своего прапрадеда о торжествах и гуляниях в честь пятидесятилетия войска за рекою Кубанью, в низине, куда сейчас мы смотрели. О время! Одно от другого так рядом: за праздниками Крымская война, конец кавказской, потом русско-турецкая, японская, за ней николаевская, потом революция, гражданская война, Отечественная, и вот никого уже нет...
Поздней осенью был я с Толстопятом на старом войсковом кладбище. Калерия Никитична Шкуропатская поправляла там отцовскую могилку; мы поговорили с ней о многих екатеринодарцах, давно успокоившихся под крестами и тумбами.
Прошлое потихоньку приближалось ко мне.[437]
ЧАЙ С ЦЕРЕМОНИЕЙ
У Толстопятов не переводились гости. Если идешь к ним, кого-нибудь там застанешь. Стол, конечно, накрыт, и чувствуешь, что без тебя говорили о чем-то интересном. Чаще других сидела у них богомольная ярославская старушка с сыном-холостяком, и тогда до полуночи велись самые задушевные разговоры. Старушка любила пирожное, и я с удовольствием шел в магазин и покупал. Чай с церемонией (из самовара, с полотенцем на груди) оживлял воспоминания. У Толстопятов я бы, кажется, сидел вечность, слушал и без конца с восторгом удивления повторял: «Правда?» Только потом оценил я, как умели они спокойно, без досады в голосе, повествовать самые обидные истории своей жизни и как хорошо супруги спорили между собой: ни в чем друг другу не уступали, а все ж возражения были ласковыми, взгляды родными.
Бесед было много, но из всех составилась в памяти как бы одна, самая будто необходимая для характеристики моих престарелых знакомцев.
— Кто из русских,— спрашивала Юлия Игнатьевна, послушав новости по радио о Югославии,— кто подарил в двадцать втором году королю Сербии Александру браслет на его свадьбу, ты не помнишь, Петя?
— Уж, конечно, не я, Дюдик1, конечно, не я...— Толстопят глядел в телевизор, слушал женский разговор сбоку, выходил и приходил, потом вдруг продолжал чью-нибудь фразу, мысль, но на свой лад.— В двадцать втором году я чинил в Болгарии железную дорогу, там, кстати, и видел царя Бориса. На границе с Грецией. Мог бы озолотиться однажды. Попросили перенести чемоданчик на греческую сторону, к вагону. В чемоданчике, как выяснилось, бриллианты.
— Мы были рядом. Молотили зерно, я у половы стояла. Казаки женились на болгарках. «Пойдем к станичному поговорим». Одна тема: «Как я женился на Кубани». Расходились курить потом в разные стороны — слезу роняли.
— Я очень недоволен тобой, Дюдик. Почему ты не позвала меня на болгарский супчик? Я тогда как раз последний бумажник потерял, материн подарок. В нем кольцо, деньги. Я его носил в заднем кармане. И пошел, простите, в туалет. Он мне мешал,
----------------------------
1 Почему они так обращались друг к другу — я не знаю.— В. Т. [438]
я вытащил, положил его сбоку. И забыл! Никогда себе не прощу. А тут пасха. Да спасибо, один хорунжий пригласил. Сели и давай Кубань вспоминать. Хорунжий: «А-а! Хотя и царское, но бог меня простит». Вынимает перламутровый браунинг, подарила ему одна из фрейлин за какую-то услугу. Он в первой сотне конвоя у Рашпиля, ты, Дюдинька, знала его? Рашпиля, у нас в Екатеринодаре по их фамилии улица называлась, сейчас Шаумяна. Его убило в марте восемнадцатого под Екатеринодаром, во время штурма.
— Его сестра в Бельгии жила, в доме престарелых скончалась.
— И побежали мы, голодранцы, четверо, в греческую деревню, с нами еще два белорусских гусара. Загнали браунинг. Дали нам греческой водки, две бутылки коньяку, сардинки. А хлеба не было. Пустили за стол генерала. «Ваше превосходительство!» — казаки ему. «Что вы! — говорит.— Называйте меня просто по имени-отчеству. Сегодня христово воскресение!» Идиотизм.
— Как это идиотизм, как это идиотизм, Петя,— возмущалась легкомыслием мужа Юлия Игнатьевна, легкомыслием потому, что он говорит об этом вслух, а кроме того, и неблагодарностью к тем, кто все-таки пострадал и потерял все; но в возмущении ее не было злости.— Как это идиотизм? Они так считали.
— Как?
— Свержение царя, они считали, и династии есть уничтожение русского народа. Потому так они и поступали, Петя.
— Я думал, это жена, а передо мной, оказывается, сидит оригинальное учебное пособие по русской истории. Нашим казакам я уже тогда говорил: «Не в Москве вам гулять придется, а пасти верблюдов на Камчатке. Наши знамена втоптали в дерьмо». Даже король испанский Альфонс Тринадцатый (с его дочерью, инфантой, я как-то купался в море) предвидел: настанет время, когда в мире будет только пять королей: трефовый, бубновый, червовый, пик и... английский. Он понимал! А наши лопухи все надеялись въехать в Москву на белом коне.
— Как говорится: «И в судный день, посыпав голову пеплом, плакать и бить себя в грудь». Дюдя говорил. А ты не плакал, Дюдик?
— Не плачу уже лет тридцать. Я тогда больше всего боялся умереть. Могилы, могилы. Десять лет, и дожди смоют надписи, потом хорваты разровняют, и взойдет кукуруза.
Юлия Игнатьевна (не столько ради правды, сколько по домашней женской строптивости) выкатывала свои васильковые глаза.
— Ты же говорил мне, что, когда читал мемуары о событиях гражданской войны, каждый раз казалось, что еще можно победить.
— Так хотелось домой! С горя я едва не ушел в монахи на святой Афон. Дюдя (теперь отец Ювеналий) ходил.
— Я была один раз у него на исповеди. Я боялась его. Однажды пришла, он протянул ко мне руки и сказал ласково: [439] «Гряди, гряди, голубица». Взгляд детский. Я сразу заплакала. А говорили: слезы на исповеди — это посылаемая богом благодать. Они знак покаяния.
— Что же он вам сказал? — спросил я.
— Да все то же,— сказал Толстопят.— Уповайте на господа, и он не оставит вас.
— Но он поддержал меня, Петя, он сказал: «России можно служить и на чужой земле. Примите вашу бездомность».
— С кем, Дюдик, я бы сейчас жил, если бы тебя сманили в монастырь. Вот тут бог мне помог. Я тяжелое создание. Не правда ли? — Толстопят поворачивался ко мне: — Как можно служить России на чужой земле? Черт его знает! Как может офицер служить России в другой стране? Готовиться в поход? Ювеналий (вы его видели? он теперь в Екатерининском соборе) спрашивал как-то офицеров: «Верите ли вы, что бог слышал ваши молитвы и может исполнить ваши мольбы? Любите ли вы Россию? Встань тот из вас, кто, веря в силу молитвы, денно и нощно вопиет к богу, моля спасти Россию?» Никто не встал.
Юлия Игнатьевна покачала головой: вот, мол, хороши, голубчики. Петр Авксентьевич меланхолично улыбался своим мыслям: странные, дескать, времена были, и я их застал. Мы все трое долго молчали, словно стукнувшись о преграду, за которой в глухом углу лежит ужасная тайна. С Юлией Игнатьевной у меня не было той простоты отношений, как с Петром Авксентьевичем. Я недолюбливал ее за некоторое высокомерие, за нет-нет да и прорывавшееся отчуждение: это, дескать, мы, а это вы. Иногда, видимо, она забывалась, перепутывала время, и порою дело доходило до курьезов. «Петя! — говорила она вдруг утром.— Пойди закажи у приказчика продукты к обеду». Во мне ее пугало плебейское происхождение, что-то ненадежное, всегда готовое обернуться коварством, жестокостью, предательством; вместе с тем я казался ей милым, добрым и хорошим человеком. Но я чувствовал между нами именно родословную пропасть; Юлия Игнатьевна, сама того не сознавая, тонко унижала меня. И так же она рассказывала о прошлом. Вам, мол, никогда не понять той великолепной жизни, тех блистательных благородных людей, героев войн, вы не можете сочувствовать великому русскому горю, которое постигло невинных людей, патриотов России, и потому, сколько бы вы, деточки, ни читали старых журналов и ни слушали нас с Петром Авксентьевичем, никогда вам не вдохнуть воздух жизни, которая нас обласкала и которая давно кончилась. Что-то такое могла бы она сказать мне мягко, жалеючи. Но тогда бы я рассердился и больше к ним не пришел. Она понимала это.
Пока молчали, я достал с полочки книжку стихов (парижское издание 1932 года, меня еще на свете не было), прочел стихотворение Г. Адамовича.
Когда мы в Россию вернемся, о Гамлет восточный, когда?
Пешком, по...[440]
— Можете взять...— сказал Толстопят.— Юлии Игнатьевне подарили.
Я захлопнул книжицу и поставил на место. Мне пока довольно было того, что я прочитал в «Современных записках».
— Вам надо писать воспоминания,— сказал я.
— Один в Париже писал книгу о женщинах и назвал ее «1005». А мне? Я бы свои назвал: «Так проходит слава земная». Но я артист. Мы вернулись жить, а не вспоминать старые конюшни. Ты помнишь, Дюдик, мы обедали в Париже с помещиком? Он рассказывал: послал крестьянам своей усадьбы письмо: «Грабьте, жгите, рубите все, не трогайте только липовую аллею моей матушки, на этих аллеях я вас, подлецов, вешать буду, когда вернусь на родину». И таких много было. И об этом я вспоминать не хочу.
— Оно и лучше,— сказала Юлия Игнатьевна.— Меньше переживаний.
— Мы теперь старенькие.
Они были старенькие, а старость всегда жалко. И я жалел их, как и всех прочих, уже за одно это.
— Ее бабушка молилась перед старинным киотом каждое утро: «Благодарю тя, господи, что допустил мя жизнь прожить дворянкой. Не возношусь сим, но смиренно кланяюсь ти». И вот так же наши кубанские казаки гордились регалиями. Двадцать первого июля тридцатого года в первый раз за десять лет вскрыли в Югославии ящики и вытащили оттуда все: девяносто одно знамя, тридцать три военных трубы, семнадцать атаманских знаков и эмблем, двадцать четыре пернача, насеку кубанского войска. Речи говорили: «Будем верить, что настанет день, когда эти знамена опять развернутся и мы опять пойдем отстаивать нашу казачью свободу». Ошиблись. «Не будет того!» — я сказал, так и вышло. «Эх,— говорил,— не вывезли для вас шомполов. Осталась в кладовой Екатеринодарского банка братина для крюшона (конвой в шестнадцатом году подарил Железнодорожному полку), и не попьете из нее в честь победы, так и сдадут ее в музей, и все наше былое вольноказачье царство накроют музейным кожухом. Ото держит казак рукоятку булавы атамана станицы Благовещенской Юхно, а сама булава где? Поверьте мне». А я как будто чувствовал: сине-малиново-зеленый кубанский флаг опять в сундук положат. А они кричали: «Дай, боже, чтоб под этим флагом мы собрались в родной Кубани».
Я уж всего не помню, но вот что осталось из жалоб Толстопята на самостийников.
До самой войны (и даже после войны) в разных европейских местечках жили казаки в устроенных станицах, где начальство соблюдало все обычаи потерянной старины. Станицы носили имена черноморских кошевых атаманов (Белого, Чепиги, Бурсака) и атаманов кубанских. Не хотели и в изгнании прощаться с мыслями о возвращении. Все у казаков вдруг стали виноваты. Желчный гной самостийников забрызгал страницы казачьей [441] печати. Уже ничего не боясь, дружно прокляли вековые связи с великороссами, обидам не было конца. Полили казаки кровью землю в гражданскую войну, и теперь себе только и приписывали почести: «Сыны Кубани не запятнали себя изменой». Одними проклятьями увенчали самостийные газеты даже генералов Деникина, Врангеля, Шкуро, даже бывших казачьих вождей. И, как когда-то после 1905 года в «Союз Михаила Архангела», пробралось к безумным рыцарям казачества много оголтелой рвани, вострившей ножи и кинжалы на всякое молчаливое благородство. Сами рыцари превращались на глазах в лютых волков. На чем свет ругали они Московию: «Оце за то, шо не послушали дедов и прадедов, и наказаны; если вернемся, то в станицах ни одного москаля не будет. Мы вам на народном казачьем суде напомним! Станем на свой истинный казачий шлях! И не будем мы слугою московского лаптя». Еще не собрав адресов разогнанных по свету кубанцев, терцев, уральцев, донцов, вожди уже делили российскую землю, вычерчивали на карте пограничные полосы КАЗАКИИ — от хребта Кавказского до Уральского, отрезаясь от России навеки. Так и кричали станичники: «Жив казачий дух! Звенят наши воскресные колокола». Напиваясь в ресторанах и трактирах Праги, Белграда, Парижа, звали за собой: «Дай, боже, сил для неравного боя. Пусть спят спокойно богатыри, Чепига, Белый. Пусть люльку курит Сагайдачный. Правду мы поищем». А утром в газете на всю первую полосу тянулся жирный клич: «Все мы потомки рыцарей степи. Славься казачество — от Урала до Днепра, от моря Хвалынского до старого Темрюка!»
— Бежит Кубань аж у Тамань,— передразнивал Толстопят строчкой известных стихов.— Не выйдет у них ничего. Не дождаться им божьей ласки. Плакать и рыдать на Вавилонских реках.
В 1923 году Толстопят попал под плеть журнала «Вольное казачество». Из лагеря Селимье под Стамбулом он перебрался в болгарский городок Эски-Джумия поближе к кубанцам, основавшим станицу. Местная власть и жители городка ежегодно 30 января угощали казаков обедом в благодарность за освобождение от турок в 1878 году. Шестеро стариков идти с общиной в отель «Борис» отказались: «Богоотступники, не признаете царем Кирилла Владимировича,— не надо нам вашей брехаловки! Мы без вас». На двести левов старики монархисты задали на квартире русского волостного старшины пир горой. Толстопят был с ними. Ночью пришли изъясняться пьяные самостийники.
«Да здравствует Казакия!»
«Вы из ума выжили? — отталкивал их Толстопят.— Ваши гробы тут закопают, а вы уже делите русскую землю. Бабычам и Маламам не стать больше правителями Кубани».
«Да здравствует Казакия! А ты ж чей?»
«Я из великой России. Чего вы осатанели? Какой дурак вас подкармливает? Вы хотите всем подарить пустой казенный [442] сундук? Ваши вожди уже продают кубанские земли германским предпринимателям. А под чьим бы сапогом Россия ни стала, она должны быть единой и неделимой».
Завязалась жаркая драка.
В свежем номере самостийного журнала Толстопята выругали и затоптали как предателя казачества. Его клеймили, что он бегает по русским выражать свое преклонение пред «красотой мисс России»; ему угрожали расправой на будущем вольно-казачьем суде; его упрекали в жертвах на русские алтари и в добровольном лежании под российским кнутом из сыромятной кожи. Нет, мол, Московии, есть ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО КАЗАЧЬЕ, и всё!
Тогда-то Толстопят и записался в «Союз возвращения на родину». И, наверное, вернулся бы в числе немногих, если бы не пугали в газетах жестокостью и тюрьмами на Кубани. Пугали, будто в Екатеринодаре бывшие дамы подметают улицы, колокола с войскового собора сняли, и там теперь по вечерам танцы, а в подвале хранится картошка. Жены бывших военных якобы сошлись с чекистами и отныне строят свое благополучие на несчастье других. Памятника Екатерине нет; казаки в станицах формы не носят. На скамейке в Булонском лесу кто-нибудь читал воспоминания о боях с большевиками, и, пока не кончалась еще книга, ему все казалось, что прошлое еще можно спасти, части еще не отступили, город Екатеринодар так никогда и не займут, и он вздыхал и делился вслух своими мыслями. Толстопят вскакивал и бежал в город к ресторану — напиться. А напившись, шел по парижским улицам и, покоряясь общему русскому унынию, шептал: «Пропала жизнь, пропала, пропала...» Позвали их как-то попеть у кубанского генерала, неподалеку от штаба бывших галлиполийцев, почти в центре Парижа, и Толстопят растрогал хозяина и гостей одной песней. Он спел то же, что беспечно пел ночью 1908 года, когда возвращались с Бурсаком из «Яра»: «Прощай, мой край, где я родился...» Как привыкнуть к этой чертовой чужбине? Сколько раз на рассвете, еще в полудреме, перепутывалось сознание: досыпаешь и уже чувствуешь утро, и кажется, что ты в Екатеринодаре, и уже думаешь, куда нынче поскорее надо проскочить по улице Красной; глаза разлипаются — о ужас: солнышко встает не над кубанскими хатами и тополями, а над крышами Парижа! Ему снились пудовые кабаки в посохшей траве, из коих матушка, добавив ячменя, варила кашу собакам, а Петя, отрок, наливал в миску жирного холодного молока и кормил. Сейчас бы сказал матушке: «Чего-то захотелось мне борща с индюком». Это вам, господа, не борщ а-ля мадам Бурсак — его до сей поры готовят в ресторанчике на рю Бонапарт. На два часа раньше светлеет в Екатеринодаре, и куда ж, в какой угол ткнется бедная мать, с кем перемолвится словечком? Жалко было и ее, и сестру Манечку. Если не суждено будет благополучно вернуться, то умрет мать и бросят ей в могилу жменю земельки чужие люди. Боже, боже (если ты есть), помоги же нам, святый крепкий, святый [443] бессмертный, спаси и помилуй, как прежде. За что ты нас покарал? Или мы всех злее? Или это кто-то наметил сокрушить навсегда Россию? Всякое слышалось и читалось теперь, но любая запоздалая мудрость не утешала: вместо дома на Гимназической — уголок под мансардой в Париже.
Вдруг, точно с неба, свалилась мадам В.
В Париже Толстопят жил на седьмом этаже на улице Латура и видел из окна бесконечные костлявые черепки на крышах. Спасение его было в том, что он имел голос, пел и порою надолго покидал Париж с маленьким ансамблем казаков. Они пели в концертных залах, в ресторанах, в домах российской знати, богемничали и на короткий миг не чувствовали своего нищего домашнего быта. Все менялось тогда. Искренний русский надрыв, чистая бескорыстная печаль и безбрежное сиротство схватывали его душу в те именно минуты, когда он входил в русский ресторанчик и слышал тонкие звуки скрипочки. Плакать хотелось. Бедные, блудные дети, изгнанники... О чем они говорят, думают? На этом крошечном русском островке небытия они спорили о России, в которой потеряли гражданство, обставляли квартиры, которые у них отобрали, поучали молодежь, которая росла без них, вспоминали о свергнутом и убитом монархе, о генералах, атаманах станиц, о том, чего не было уже в русской жизни. Нелепость надежд и снов сладко помрачали ум. Какие-то имения, сады под станицами, скачки в присутствии наказного атамана, пароходы по Дону, Кубани, парады войскового круга, великолепие прежних праздников, европейские моды, воображаемые права в воображаемой усмиренной России. Все теперь были так умны, предусмотрительны, все знали, как надо было жить в старом порядке и как будут жить, если вернутся, знали, куда надо было поворачивать полки и кого слушаться, какими дарами задобрить бедных крестьян, кого вовремя проклясть, повесить, кому ни на полслова не верить. И звучало на ежегодных полковых собраниях с обедом неизменное если бы. Ах, если бы не был таким слабым государь; если бы не убили в 1911 году премьер-министра Столыпина; если бы царь не отрекся, не бросил свой народ, Германию бы задушили через несколько месяцев; если бы не убили в марте 1918 года генерала Корнилова; если бы Добровольческая армия не отпугнула казаков; если бы в 1920 году не отступили воды озера Сиваш; если бы... если бы... союзники... если бы сидели они сейчас дома, никто бы не повторял со слезами такого вот стихотворения:
Над Черным морем, над белым Крымом
Летела слава России дымом.
Над голубыми полями клевера
Летели горе и гибель севера.
Летели русские пули градом,
Убили друга со мною рядом.
И ангел плакал над мертвым ангелом.
Мы уходили за море с Врангелем.[444]
Стихи чаще всех декламировал полковник, нынешний «храбрый вождь русских казаков», которого Толстопят едва не застрелил в последний день отступления из Крыма. Сорок казаков певческого хора, конвоя покойного генерала Бабиева и Толстопят с двумя нижними чинами прибежали на пристань около полуночи, просили доложить о себе командиру парохода, полковнику С. «На пароходе нет места тем, кто без оружия»,— ответил полковник. Вся пристань была завалена винтовками и пулеметами. К великому счастью, Толстопята заметил с палубы казак Турукало, связал вьючки и уздечки, спустил вниз, и казаки один за другим поднялись на пароход. Но не все. Взбешенный полковник С. перерубил шашкой спасательный самодельный канат. Оставшиеся казаки плакали. Где они теперь? Они дома, а он в Париже. Почему?! И хоть ясен ему был ответ, он каждый божий день спрашивал: почему? почему мы сидим в Париже?! За что такая жестокая кара? «А хорошо бы, господа, перед зеркалом застрелиться!» — шутил он когда-то. Отчего бы не попробовать нынче!
Я спрашивал:
— С Кубани вестей не было?
— Мать с Манечкой даже посылки присылали. А с тридцать второго года все прервалось. Я ничего о них не знал. К тому времени я уже Юлию Игнатьевну нашел. Да нет, ра-аньше! В соборе на рю Дарю.
В Петербурге, даже в Екатеринодаре в 1919 году ею восхищался всякий; тогда, весною 1927 года, ее всякий бы пожалел. Она молилась с закрытыми глазами, подняв голову. Первые признаки старения — скобочки по углам рта, две твердые жилки от подбородка к ключицам — всколыхнули память Толстопята: семнадцать лет прошло с тех пор, как она поразила его на парфорсной охоте! Легкое крылатое пение хора Н. Афонского исторгало в душе великое чувство, но трудно было бы найти слова, какое оно: то, верно, было чувство прожитых страданий и потерь. Из церкви, полной сиятельных особ, дам, родовитых стариков, сидевших у стены на стульях, и некогда бравых вояк, всех этих корниловцев, марковцев, дроздовцев, казаков из «волчьей сотни» Шкуро, Толстопят вышел раньше, подождал мадам В. (Юлию Игнатьевну) на улице.
Они пошли разговляться к пашковскому казаку, и там было немало станичников; бывший атаман, самый, пожалуй, лучший в Пашковской выборный хозяин довоенного времени, сказал прочувствованное слово:
— Вспомним в великий день здесь, на чужбине, про Кубань, про белые церкви, сады казачьи. И собор войсковой на Красной улице, в нашей родимой столице Екатеринодаре. Та вспомним и атаманов и парады. Та вспомним и газыри свои, кинжалы и дедовские шашки. И девчат, и сестер милых наших, шо цвели колысь як мак по степям бескрайним. Дай же нам долю, Господи, возвратиться к нашим хатам, укажи всем козаченькам шлях-дорогу... Выпьем.[445]
Толстопят с сочувствием выпил, а потом приобнял печальную Юлечку, Юлию Игнатьевну.
— Ни в каком романе не описать нашу встречу,— говорил он мне не раз.
И Юлия Игнатьевна не могла ее забыть; то мне, то ярославской старушке рассказывала, как он взял ее за локоть в толпе и прошептал скривившимися губами: «Здравствуй, моя роднулечка.... Я искал тебя». Однажды, когда Петр Авксентьевич лежал в больнице и очаровал там сестер и врачей, Юлия Игнатьевна гордилась тем, что выбрала его когда-то и в эмиграции искала его.
— В Константинополе я дала себе слово никогда больше не танцевать. И вот в двадцать пятом году Добровольческая армия устраивала бал. Я пошла. Много было военных в белых гимнастерках с русскими погонами. Я решила было уйти, чтобы не заразить своей тоской других. Заиграли «офицерский вальс». Ко мне неожиданно подошел военный. Угрюмый, с большими бровями. Я не успела ему отказать, как он повел меня.
Мы кружились в вальсе, мои друзья делали мне знаки, чтобы я перестала танцевать с незнакомцем. «Благодарю вас,— сказала я,— теперь я должна танцевать с другими».— «Сегодня вы будете танцевать только со мной». Я словно поняла что-то. «Хорошо,— говорю,— я буду танцевать с вами...» Тогда он пооткровенничал: «Я получил сегодня письмо. У меня была невеста, она должна была приехать, но полюбила другого. Теперь мне жизнь не нужна. Я пришел сюда в последний раз повидать моих боевых товарищей. И увидел вас. Вы на нее очень похожи! Но, извините, вы старше немного. Вы посланы, чтобы спасти меня. Танцуйте только со мной». Как могла я не отозваться? Каждый виноват за каждого. Я решила быть с ним, пока он не пообещает, что захочет жить. И он пообещал мне потом простить свою бывшую невесту, молиться и верить, что нам посылается то, что нам нужно. Я читала его дневник. Просил меня стать его женой, но зачем? Он моложе. И потом я ведь давала слово: пока не найду Петра Авксентьевича, буду уходить от всякого. И как знала: осенью двадцать седьмого года мы с Петей обвенчались в Сергиевском подворье и пили вино Каны Галилейской...
И оттого, видно, что я родился в другое время, нигде не был, не погибал и не разлучался, мне завидна была их судьба и я хотел отпить вина Каны Галилейской... Смешной, темный и добрый был я в ранней молодости! Все спрашивал:
— Не тоскуете по Парижу?
— Почти сорок лет на камнях Европы,— отвечал Толстопят,— почти сорок лет, мон шер. Думаете, это так просто? — И вставал, шел на кухню, выносил оттуда чайник.— Ну, чайку? По рецепту моей покойной сестры Манечки.[446]
СО СКРИЖАЛЕЙ СЕРДЦА
Когда мы в Россию вернемся, о Гамлет восточный, когда?
Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода.
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем.
Больница... Когда мы в Россию... колышется счастье в бреду.
Как будто «Коль славен» играют в каком-то приморском саду.
Как будто сквозь белые стены, в морозной предутренней мгле
Колышутся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле.
Когда мы... довольно, довольно. Он болен, измучен и наг,
Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг,
И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло.
Когда мы в Россию вернемся... но снегом ее замело.
Пора собираться. Светает. Пора уже двигаться в путь.
Две медных монеты на веки, скрещенные руки на грудь...
...В русском кабачке под музыку оркестрика, составленного из старичков, давнишних приятелей, под ту ноющую волшебно-старинную музыку, которая звучала с двадцатых годов и которая напомнила ему компании, разговоры, слезы, лица россиян, казаков, сколько уж лет погребенных землей, Толстопят слушал это стихотворение поэта, доживавшего не то в Ницце, не то в Париже, слушал из уст корректора газеты «Русская мысль». Сам Толстопят ничего, ничего уже не читал, да и после того, что видел и пережил, не верил ни в какую писанину. Разве что любопытно поймать кого-нибудь на неточностях в мемуарах. Да! Уже прошли века, а он все еще в Париже. «Сколько могил! А я жив. Это ж когда писал поэт? Когда я слушал его в Русском клубе? До войны-ы, до войны. Еще Шаляпина не хоронили. И Манечка с Кубани писала мне, и матушка жива была...»
До войны жизнь текла быстрее и домашнее, потому что русских было еще много. Было к кому пойти, и в церкви на рю Дарю молились еще те господа, те старцы, которые воистину были людьми «другого времени» и невозвратимой России. Но теперь, в 1951 году? Все истаяло как снег, и где-то лишь под кустиками, в прохладе, не растопило солнышко крохотные белые островочки: это они, дряхлые российские остатки, странные картинки для туристов-соотечественников. Почему не погиб он тогда, в 1920 году, у себя дома?!
Кто-то «спешно, без коммерческой цели, только для подарка» покупал через газету русскую шашку и кинжал. Зачем, кому? Пора умирать.[447]
«Скончался и 6 сентября с. г. похоронен на кладбище в St. Genevieve de Bois поручик Корниловского полка Кирилл Максимович Ольховский, о чем сообщают опечаленные родственники и друзья покойного. Мир праху твоему, дорогой друг».
«Всечестная игуменья Диодора, в миру ее величество княгиня Татьяна Владимировна, скончалась 28 августа с. г. в Иерусалиме, о чем с глубоким прискорбием сообщает Объединение членов рода Романовых».
«Божией волею 6 сентября скончалась Валерия Михайловна Бибикова, урожденная гр. Толстая. В 9-й день кончины будет отслужена панихида в храме св. Серафима Саровского».
От всего уже, от всех российских праздников и памятных дат, отвыкал Толстопят Петр Авксентьевич,— один год чествовал или молился, другой забывал, потом опять... Полнее жила в его душе армейская традиция. Как радостно было прочитать извещение в «Русской мысли» о приближении Дня русского инвалида в мае — дня помощи, тарелочного сбора, простодушных обращений к доброму сердцу русских, что-то в таком роде: «Большинство инвалидов ушло в лучший мир. Уцелевшие ждут своей очереди. Старость, болезни, ранения дают знать о себе. Помогите облегчить их последние дни». В жалких помещениях дышали на ладан, но все же мощно и гордо выстраивали под траурной рамкой свои названия общества и союзы — как ревнители священной памяти императора Николая II: Корпус Императорских Армий и Флота, Правление Российского Красного Креста, Союз Георгиевских Кавалеров, Союз пажей, Александрийские Ее Величества Гусары, Союз Дворян, Орден Потомков Всероссийского Благородного Дворянства, Фрейлины И. И. В. Государынь Императриц, Общество ревнителей русской военной старины, Национальная Организация Русских Разведчиков Имени Императора Петра Великого и проч. Все так же, как в России, только на чужой земле. Еще устраивали раз в год молебны и дружеские завтраки полки, военные училища. «Форма завтрака — привал»,— сообщалось в газете. В Доме Белого воина на улице Мериме соединялись на пасхальную встречу корниловцы, 18 мая по новому стилю все еще пелась скорбная молитва по Августейшей семье Императора и «верным слугам, с ним смерть принявшим». Гусары, уланы, кирасиры, кавалергарды из листков воспоминаний составляли и печатали книги о службе — с непременными списками служивших перед революцией и крохотным списочком тех, кто еще где-то жил. Одни царские конвойцы ничего о себе не собрали. Изредка выпускал кто-нибудь семейную хронику. Все писали о России, и от всего этого было так грустно Толстопяту, что на первых десяти страницах обычно и заканчивалось его чтение. Еще кое-где вспоминали: у кого в Петербурге был спрятан в сейф золотой портсигар с бриллиантовым орлом, забавные случаи с императором Александром III; при Александре II говорили всем «ты», а при сыне его только «вы»; на Александре III при посещении им Преображенского полка был темно-зеленый сюртук с белым [448] крестом на шее, ноги обуты в высокие сапоги со шпорами; все сложные переплетения браков; в гофмаршальской части постоянной прислуги было тысяча триста человек и тысяча двести — поденных. Конвойцы вспоминали светлейшего князя Д., который в Ливадии, когда государь позвал его, махнул через стол. Но уже не стрелялись в спорах о том, кому надлежит быть царем. Толстопят разыскивал казаков из станицы Пашковской. Грустно! Связи, скрепленные когда-то свежей бедой, нарушились. Все чаще узнавал о смерти кого-то по русским газетам, ну и по письмам, конечно. В Александро-Невский собор на рю Дарю Толстопят ездил все реже. Всегда их убеждали, что эмиграция и есть настоящая Россия, что на родине погибли все русские основы, коли вернуться — жить не с кем, но прошли десятилетия, и вдруг терпению наступил конец.
Как-то в самородных казачьих музеях в Нью-Йорке и под Парижем пересняли ему фотографии улиц Екатеринодара, выборных Пашковского станичного сбора, полковых застолий и проч. Было у него и несколько семейных карточек. И Толстопят, редко их перебиравший, больше часа всматривался в кубанские приметы, в дамские шляпки, в ордена, в бороды и глаза. Ничто так не бьет в душу, как старые фотографии. И к тому же целый век не был он на родной стороне. Везде-везде они бывали когда-то все: и в гостинице «Европейской», и в «Чашке чая», и у памятника Екатерине II. Вот во всем белом Калерия: шляпка, платье, туфельки; и зонтик белый ткнула в пол — как тросточку. Уже она старушка — и где сейчас, в эту минуту? Главное, что она дома. И вот, вот! Старина глубокая, черноморская: дед с бабушкой; он возле нее как часовой, до того серьезный, что кажется сердитым, в черкеске, с Георгиевским крестиком на газырях, а бабушка с посохом в руке, с прижатым к сердцу белым платочком, в юбке до самых пят. Ну и, конечно, Манечка, золотая его сестра,— в группе выпускниц Мариинского института (с учителями, инспектрисой Ассиер и начальницей княгиней Апухтиной). Тотчас вызвал у Толстопята улыбку Лука Минаевич Костогрыз. Он полулежал спереди, у ног атамана, вместе с четырьмя такими же старыми орлами, как сам. Похоже, что он думал в эту секунду про атамана Авксентия Толстопята: «Атаман, кабак печеный, в церкву с насекой под конвоем стариков гвардейцев ходит, там на турецком ковре ноги переминает, у батюшки обедает в Макковеев день, а как у хаты с коня встанет — «давай, баба, исты»! Не-е, колы я с коня вставал, то мне «давай бабу!». Я ж запорожского духу!» О каждом что-нибудь вспомнил Толстопят.
Лежала в его папке и вырезка из «Огонька»: 1943 год, советские войска в Краснодаре! И аж застонал бывший офицер: домо-ой бы, домой! Прямо сейчас!
30 сентября 1951 года, в день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, в доме возле Булонского леса, где жили до войны их добрые знакомые, артисты Мозжухины, Юлия Игнатьевна читала мужу старую, двадцатых годов поэму «Станица Пашковская».[449]
Толстопят разволновался, стал ходить по комнате, удивлять Юлию Игнатьевну своей памятью:
— В сочельник мать накроет стол, поставит пироги, рыбу, взвар, кутью с медом. А дед снимает со стены ружье, всыплет туда маку и тонкой палочкой заткнет шерсть, а потом мы с ним на двор гурьбой. Поднимет ружье, что-то там сделает, и около руки вдруг огонь, а потом огонь на конце ружья, и как ахнет! Садимся за стол. «А ты чего не ешь?» — на меня. А мне сдается, что и в пирожках порох. «Ничего. Оно, может, и бахнет, колы добре наешься, а огня не будет». Лежим в постели. «Та не крутись. Ждешь, пока в тебе мак бахнет? Сегодня не жди, оно бахнет завтра». А теперь где я? Правильно писали в поэме: «Таки ж и хаты — та не ридны, таки ж и люди — не свои...» Дюдик...
— Что, Петя?
— Знаешь что, Дюдик...
Но он не сказал больше ничего в тот вечер.
Через неделю прилег к полуночи на постель к жене, листавшей книгу Бунина, какой-то том сочинений в издательстве «Петрополис».
— Что, Дюдик, читаешь?
— «Поздний час».
— Почитай сначала, я, может, скорей засну.
Он закрыл глаза и ждал звука ее голоса.
— Ну читай же... читай, моя козочка.
— «Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полн...»
— Дюдик. Я уже несколько месяцев собираюсь сказать тебе. Знаешь, Дюдик, что... Поедем в Россию! На Кубань. Не к тебе в Киев, а на Кубань. Ты читаешь, а я увидел семь дубов на краю усадьбы Кухаренчихи. И шашлычную Бадурова, где всегда подавали шашлык по-карски, из майского барашка. Балкон наш над тротуаром небось цел. Поедем?
— А ты не будешь потом жалеть и ругать меня, что я согласилась?
— Я, конечно, сло-ожная натура (не правда ли?), но уверяю тебя, в своем родном Екатеринодаре я даже виду не подам, если что...
— Ах, Петя... Смотри сам, а я тебя не брошу.
Но они просидели в Париже еще шесть лет.[450]
ПИСЬМО Д. П. БУРСАКА
Дорогие мои! Мне грустно от мысли, что я вернусь через неделю в Париж, а вас уже там не застану. Да поможет и да сопутствует вам Господь в вашем пути в Россию! В сущности, это заветная наша мечта. Увы! Все как-то топчемся на одном месте — верно, от усталости, и не могу себе представить реально, что то, чего желаешь больше всего, может стать действительностью. Боже, Боже, ты сотвори, ибо сами мы ничего не можем! — вот это моя молитва, и я все отдаю в его святые руки. Милая Юлечка и друг мой Пьер, напишите мне подробно о себе и о том, какой стала наша «ридна Кубань» и чем она вас встретила. Я вижу, как поедете вы с Черноморского вокзала по Екатерининской, доедете до Красной, и тут думаю: куда же им сворачивать? Где их дом? Я так жду от вас весточки. Хотелось бы знать побольше о... нашем маленьком, маленьком Париже. Да! Бывают минуты, когда в серую мглу комнаты войдет луч солнца, и как странника Божия может принять его вдруг просветленная душа. Десятки лет одиночества, сиротства, бесчувствия и греха могут тогда забыться, и в слезах поймешь, что «любовь все покрывает» и что «времени уже не будет». Не то ли с вами, мои дорогие? Перечитываю стихотворение поэта, помнишь? На войсковом кладбище поклонитесь от меня моим родным и екатеринодарским знакомым, почивающим в селениях праведных. Но главное — привет городу Краснодару, улицам, городскому саду, мосту Трахова, всему, что осталось от нашего старого времени. Счастливой жизни дома! Ваш Бурсак Д. П. Июль 57 год. Вашингтон, США.[451]
ПЕРВАЯ ОТКРЫТКА ИЗ КРАСНОДАРА В ПАРИЖ
Дёмушка! На станции Выселки, где мы стояли десять минут, я купил газету «Советская Кубань» и сохраню ее до смерти. Вернулись в иную жизнь. Обо всем тебе напишет Юлечка. Живем пока в гостинице возле Нового рынка (бывший дом сестер Саморядовых). И придут времена, и исполнятся сроки.
Пожарной каланчи, с которой можно бы увидеть мою Пашковскую, нет. Обнимаем. Твои Толстопяты. 1957, август.[452]
КАК ВО СНЕ
Нужны ли они кому дома? Не зря ли затеяли они эту одиссею возвращения туда, где нет никого? Позднее Толстопят признавался: «Как только пересекли границу, заунывный голос птицы повторялся. Юлия Игнатьевна испугалась: «Дюдик, мы пропали!» На станции Чоп принесли в вагон советские газеты; все, к чему они привыкли, сорвалось пограничной чертой.
В Краснодаре на бывшей Гимназической, 77, целеньким стоял родительский дом. Широкая веранда свисала над тротуаром. С нее отец обычно кричал в воскресенье знакомым, проходившим мимо с Нового рынка. А розовый лук в сетке крепился, наверное, к тому же гвоздю, что и в 1910 году! В теплые дни они всей семьей пили на веранде чай и о чем-нибудь говорили. О чем? Кто бы каким-то чудом прокрутил теперь слово в слово! Голоса отцовского он не слышал нынче так же четко, как в годы разлуки до революции или в первые десять лет эмиграции. Приглохли, помертвели батькины интонации. Но на секунду-другую он вышел на веранду в черкеске, неодобрительно (как всегда) глянул вниз, словно спросил: «Где ж вы, бисовы души, мерили землю своими ногами? Наши с матерью косточки пораспадались... В хате вашей теперь чужие люди». В дом Толстопят так и не пошел, без него ходила тайком Юлия Игнатьевна, поспрашивала, кто тут жил, и одни сказали: «помещики», другие: «не знаем». Зато на войсковом кладбище у отцовской могилы (с памятником в виде папахи) какая-то старушка обрадовалась им: в молодости она торговала вразнос, и матушка Толстопята частенько брала у нее нитки, чулочки. Значит, еще помнили в городе Толстопятов; значит, были еще екатеринодарцы, никуда не выезжавшие.
И вот что интересно: первые месяцы Толстопят скитался по родному городу с чувством удивления: неужели ему позволили вернуться домой и он снова кубанец, а не парижанин? Не в воображении, а наяву мог он пройти в городской сад, подняться на вал, возвратиться назад к Почтовой, к бывшему саду Кухаренчихи, своротить к плану адвокатов Канатовых, потом мадам Бурсак, постоять, заложив руки за спину, у здания милиции, напротив б. дома Калерии Шкуропатской. Но удивление не кончалось: как же так, его не было почти полвека, а улица Красная все тянется к Свинячьему хутору, и одноэтажный центр с глубокими зелеными дворами все тот же, все тот же?! Он шел по улицам и плакал. Он плакал и на том месте, где был в марте [453] 1920 года Александро-Невский собор,— на него он и перекрестился напоследок.
1920 год...
Они бежали спешно, но, думалось, не навсегда. В сейфах, в сундуках, в дамских ридикюлях и за подкладками пальто увозили реликвии, иконки, бумаги и брильянты не затем, чтобы хоронить их в новых музеях или менять на хлеб за границей,— нет: это на время, от порчи и грабежей. Они тогда не знали и потом долгие годы упрямились не понимать, что случилось с ними великое несчастье и застрянут они в Европе и Америке до самого смертного конца. Когда выскакивали с винтовками и шашками из своих ворот и прыгали на лошадей, не тосковали в страхе, что видят родную улицу, белый собор, дома, вывески магазинов в последний раз; когда грузились в Новороссийске на английские пароходы и кричали с палуб рыдавшим на дебаркадере: «Потерпите! Мы еще вернемся!», то кто ж мог сомневаться из них, что так оно и будет?! Но, видно, сильна была над их поколением кара господня. Тянулись один за одним жестокие годы изгнания, и у свежих казачьих могил все меньше слышалось, а потом и совсем не стало призывных речей. От воинства, некогда забившего все дороги Европы, остались лишь запорожские знамена в музеях, кипы бранных газет да такие выпотрошенные старички, как Толстопят. «Мы еще вернемся...» А решилось так, как рассказывал о них после войны Попсуйшапка: «...и как в двадцатом году ушли-и, то и по сей день идут!...»
Но история и Время не сразу уносят своих свидетелей на кладбище.
Если бы какой-нибудь местный чуткий летописец смог всепроникающим божеским оком обозреть с высоты свой южный город, какая пестрота судеб людских, простых и таинственных, приоткрылась бы ему во всем трагизме, величии и неумолимости истории. По одним улицам, в одни магазины ходили, на одни лавочки в скверах присаживались, одни газеты покупали участники истории, стоявшие некогда по разные стороны баррикад, втайне несогласные друг с другом и по сию пору. Жили и жили, и уже друг другу не мешали. Одних история чтила, других нарочно не помнила. Жили на пенсии великие разведчики; по праздникам надевал ордена и медали офицер, водрузивший флаг над рейхстагом; с белым бантом плелся из магазина бывший адъютант главкома, расстрелянного за анархизм в гражданскую войну; в столовой № 8 обедал седой старец, служивший немцам в 1943 году; довоенный председатель горисполкома ехал вместе со всеми на дачу с ведром и тяпочкой; акушер-профессор, грузинский князь по роду-племени, опирался руками на трость в первом ряду театрального зала, его лысина сверкала в день премьер; маленький русский йог рылся в магазине в новинках философии и скрипучим голоском ругал все на свете; знаменитый партийный секретарь (в немецкую оккупацию беззубый нищий-подпольщик) в городском саду сражался в шахматишки; матрос с броненосца [454] «Потемкин» заезжал в Краснодар на лечение; дальние родственники великого историка, племянники и племянницы художников, артистов, военачальников, министров и знаменитостей всякого рода жили не тревожимые краеведами. В 1957 году еще было с кем поговорить о России и революции. Жил и ни у кого не вызывал интереса (кроме разве что писателя, задумавшего эпопею) бывший — страшно выговорить! — врангелевский генерал, казак станицы Лабинской, писал книжку о первых русских летчиках, клеил картонные папки и однажды осенью консультировал режиссера фильма «Хождение по мукам». Молодой человек, донельзя любезный (будущий профессор), выспрашивал у бывшего эмигранта о самостийниках и в душе был недоволен, что пустили на родину «недобитое казачье». Бывшие эмигранты (парижане, белградцы, харбинцы и проч.) знали друг о друге, но не встречались. Морской офицер играл на виолончели в театре оперетты, «югослав» пел в церковном хоре, казак из Канады писал мемуары, а старый больной царский полковник днями сидел у телевизора да отвечал в Нальчик на письма товарищу, участнику рейда Мамонтова на Москву.
С некоторых пор в Краснодаре каждое лето появлялись иностранные туристы. Из Европы, Америки, Канады все чаще приезжали проведать родню бывшие екатеринодарцы и станичники. Несколько знакомых Калерии Никитичны Шкуропатской нашли за морями своих сестер и по их приглашению ездили к ним, пожили там, попрощались навсегда и вернулись домой. На улице Красной возле сквера, где она когда-то прогадала кольцо на Толстопята, остановил как-то Калерию Никитичну приличный пожилой господин в хорошем костюме.
«Простите,— сказал господин тоном исключительной мягкости,— вы напоминаете мне одного человека...»
«Кого же?»
«Неужели это не вы?! Я иду за вами три квартала. Позвольте, я скажу открыто и сразу: вы не были у меня в старое время гувернанткой, не ездили со мной по Европе?»
«Не-ет... как можно... я всю жизнь прожила дома...»
«Как жаль, я обознался... Простите... Я чувствую потребность говорить с вами, глядеть на вас... Я приехал на пятнадцать дней из Парижа... Я бы все отдал, чтобы взглянуть на нее... Как я истосковался по Кубани... Вы, говорите, прожили дома? Это счастье...»
Вскоре после возвращения, то есть осенью 1957 года, Толстопят дал о себе знать родственникам в станице Пашковской и как-то в воскресенье поехал туда на трамвае.
В Париже окрестности Пашковского куреня представлялись Толстопяту такими, какими они были в златые дни его детства. Но без него кут Головатого с садом Роккеля, с оврагами и старой Кубанью, и Карасунский лиман срослись с городскими постройками. Забылись и люди. Только теперь вспомнилось: дочь садовода Роккеля приезжала в гимназию в коляске с белыми рысаками,[455] и влюбленный в нее Петя Толстопят страдал оттого, что его отец не позволит сыну приблизиться к богачам неказачьего сословия. Роккель, Роккель! Цветы из его сада до сих пор росли во дворе. Где дочь, интересно? Пока шли к Введенской площади, к бывшему (все уже бывшее!) станичному правлению, Толстопят что-нибудь рассказывал жене о детстве.
— Туда, за станицу, провожали нас на службу. Впереди артельный воз, за возом казаки по четыре в ряд, с урядником сбоку. За ними станичный атаман, дежурные несут сулею с водкой, рюмки и закуски. В самом хвосте родственники. «Гладили» дорогу казакам добрый час. Прощались. И-и казачья песня! Замахали платками и шапками бабы и старики. Мы в пляс. Сначала двое, потом еще двое, и так, когда все пустимся пыль топтать, уже провожающих не видно. И говорили: «Где ты был?» — «Казаков провожал в поход».— «Чего ж так долго провожали их?» — «Того, шо мне жалко их было». По этой же дороге провожали конвойцев в Петербург. Чтоб кое-кто с тобой, Дюдик, повстречался...
— Ты столько помнишь, записал бы...
— Для кого писать? — возражал Толстопят! И, видно, вспыхнул, расстроился мигом и добавил: — Для кого, милая? Мы с тобой люди далекого прошлого, а ты все думаешь, что без нас не смогут? Здравствуй, племя младое, незнакомое — вот наша песня... Стоит ли наша хата?
Не на той ли лавочке сиживали казаки-пластуны с бородами и все разом вставали, когда он шел мимо в конвойском мундире, весь как будто уже не пашковский, а петербургский? «Доброго здоровьица, Петр Авксентьевич! — прокричали почтительно.— В гости к нам пожаловали?» Храбрые степные рыцари, где они почивают?
Длинная-длинная хата пряталась за высоким каменным домом и служила нынче сараем. В 1900 году отец, перебираясь в город, продал ее казаку Турукало. Почему ее не сломали, построив каменный дом? Толстопят некоторое время раздумывал, надо ли стучаться ему в чужую калитку и проситься пройти во двор, объяснять, зачем ему это, и, может, пугать людей. Забор был ему по плечо, Толстопят у калитки придержал шаг, показывая Юлии Игнатьевне на хату, где он родился. В эту минуту увидала их с огорода женщина. Чем ближе она подходила к ним, тем опасливее и удивленнее устремлялся на них ее взгляд, и наконец что-то вроде вздоха выразилось в ее лице: божечко мой, неужели оттуда вернулся? Это была младшая сестра Диониса Костогрыза, и Толстопята она знала лишь потому, что в 1919 году он несколько недель провел с полком в станице. Забыть его было нельзя и через сто лет: ни у кого в станице не было таких глаз! Толстопят ее не помнил.
— Кто вы? — почему-то закричал Толстопят.— Как вас зовут, чья родом?
— Я б вам сказала, та в горле дерет.[456]
— ??
— Ха-ри-ти-на...
— Ах, во-от оно что! Харитина... Турукало? Сестра Диониса?
— Она. А вы не Толстопят?
— Петр Авксентьевич. И супруга моя, Юлия Игнатьевна, но она не казачка. Значит, узнали меня?
Она стала продолжать разговор так, будто они в спешке прервали его в первый раз недавно; она все поняла, не соображала только одного: надолго они приехали или повидаться с родными местами.
— Тут приезжал недавно наш казак, оттуда. У него там новая семья, здесь старая жена. «На весь век приехал?» — спрашивали бабы. Но жена отказала ему: «Я принимать не буду. Пускай там и живет». А он, видно, прощупать приезжал.
— От брата вестей нет? Жив он? Дионис.
— Нема. Наверно, бог прибрал уже.
Он видел Диониса до войны в Югославии, во Франции; слыхал от кого-то, будто с казачьей конницей Шкуро очищать родную землю с немцами не пошел, но и после войны искать родню на Кубани, видимо, не пытался, а может, умер давно.
— Где-нибудь в Европе. Последний раз мы с ним были в церкви в Париже в сороковом году. Он приезжал из Югославии. Церкви давно нет?
— Давно свалили. Ее не свалили, а подкопали, пиленые бревешки подсунули, подожгли, она сама упала. А птицы кричали!
— Батько покойный любил на пасху приводить нищих, странников. Раз заболел, не смог пойти к всенощной. Послал с куличом и яйцами меня. «Та зови ж кого-нибудь». Я привел дедушку с котомкой. Из Тамбовской губернии. Шел на Афон. Отец в черкеске уже нас ожидал. Похристосовался со стариком, в хату завел. Молитву пропели — и за стол. «Да не забудьте на обратном пути с Афона зайти. Расскажете». И прошло года полтора, зашел старик. Побывал и на новом и на старом Афоне (это в Греции). Вот в этом дворе и было. Да где они теперь все?! — Толстопят уныло помолчал.— Уже и нам пора к ним. Одна?
— Одна. И дедушки моего нет. Копаюсь в огороде, та сяду и заплачу. Кабы вдвоем, он то, а я то. А то вся дорожка моя. И жить сейчас можно.
Зашли во двор. Но еще раньше, чем он вошел, от его ног побежал босиком маленький казачонок и полетел над крышею крик: «Петя!» Рано приучали его вставать, и теперь, если бы спросили, он мог бы рассказать, кто выезжал на волах из станицы на степь, как выгоняли коров в череду, каким порядком чабаны собирали овец из разных дворов, куда улетали галки, скворцы, которых, говорят, теперь распугали. Он не заплачет, но плакать хотелось. Знали бы деды и прадеды, каким ясным осенним днем, под гул самолетов в небе, вошел на их усадьбу последний Толстопят! «Отак снарядили мы воз на ярмарку,— слышал он дедушку,— как казака в поход». И слышал себя: «А разве воз похож на [457] казака?» Дуб, застлавший собою все пространство над хатой, тоже подтолкнул его память: не забыл позднюю воскресную обедню? Раньше в воскресенье не ели до окончания службы в церкви: «Ось, скоро выйдут с церкви,— говорила мать,— тогда все будем садиться». И Толстопят канючил: «Чи скоро выйдут с церкви? Уже и солнце поднялось над дубом». Еще тяжелее было ждать пасхи. В пятницу на страстной неделе и почти всю субботу поста носа не позволялось сунуть в хату. Упаси боже отворить дверь или окна — застудишь тесто. В день выноса плащаницы не давали есть до тех пор, пока не кончался обряд в церкви. И в этой хате, в том вон уголку, ложился Толстопят спать пораньше, чтобы не прозевать пасхальной заутрени, ложился, выбрав к свячению самую большую и высокую пасху.
— Утром, не успею еще умыться, батько тычет чуть не в губы желтую дыню или арбуз: «Дыню держи руками, а кавун зубами». Ой-её-ёй: почти сорок лет не стоять в батькином дворе! Чи стою? — топнул он ногой.— Чи я це, Дюдик? Казак станицы Пашковской, чи я это?
— Та ты, ты,— успокоила его Турукало.— Ты. Глазастые вси Толстопяты. Ты. А моего брата гдесь носит. Или в земле лежит.
— Батько! Диду! — крикнул Толстопят в небо.— Я тут, чуете? Я уже дома.
Турукало закрыла лицо платком. Толстопят обнял ее одной рукой.
— А чи вы не помните меня, Харитина Тарасовна, на скачках?
— Та, може, и вспомню, як постою с вами подольше. Близ царя служил.
— Ой-ей-ей... Когда ж это было! «Оце казак,— хвалили старики,— за зиму десяток волков загнал! У него и кожух с волков и укрывается волками, а всех собаками добыл, стрелять не годится, шкуру сгубишь. Заходь до менэ, може, найдется какая чарка горилки». И атаман не раз подносил чарку: «Дай боже, шоб оно тебе пошло на счастье, шоб як женишься, то и дети были як ты сам». Когда было, когда было!
Турукало молчала, скорбно провожая памятью утекшее время.
— Мы родились як,— промолвила позже,— за Кубанью переправы ждали по неделе. Так было. На весь век приехали?
— Пока аж сердце не остановится.
Надо же было ступить и в хату.
Юлия Игнатьевна и сестра Диониса с бельмом на левом глазу беседовали в сторонке, пока Толстопят стоял в хате, засоренной бутылками, ржавыми кастрюлями, лопатами, поломанными стульями и всяким старьем. К той вон койке, теперь проржавевшей, бабушка подзывала его: «Пошукай мне вошек, а я тебе про запорожцев скажу». С порога батько кричал ему вслед, когда уходил он первый раз на службу: «Ты ж там, Петро, смотри, чеботы не загуби!» [458]
О горе, горе человеческое, самое большое горе: умирание времени. Все умерли, все не слышат и не видят его, все, кто спал, обедал, любил, ругался в этой хате более ста лет.
«А это там что?.. О господи, то ж сундук гвардейский...»
Он сбросил пыльные тряпки, поднял за железный язычок тяжелую крышку. На дне сундука лежал смятый хромовый сапог. Медная дощечка засорена была мышиными зернышками. Толстопят взял ее, перевернул, пальцем стер пыль и узнал изображение того, кому он подчинялся в конвое беспрекословно,— князя Г. И. Трубецкого. «Во все сотни давали в 14 году, перед его уходом в императорскую главную квартиру. Меня-то уж не было, но мне говорили — давали...» Чтобы сундуки не перепутались в вагоне, мастер-ювелир нацарапал красивым письмом на том же язычке: «Собственный Его Величества Конвой 1910 год Царское Село Д. Костогрыз». Дно крышки Костогрыз обклеил фирменными бланками и открытками с изображением заграничных фей. Боже мой! Века прошли!.. Какой-то 1910 год, Царское Село; государь император Николай Александрович; наследник цесаревич едет в автомобиле в Боболовском парке; воздушной нежности царские доченьки гуляют по дорожкам... века! Уже три четверти русских не знают даже, что они были. И где он сам, и его Юлечка? Где твоя белая ручка, гладкая луковичная кожица на лице, соблазнительные ножки-копытца? Моя милая! Юлия Игнатьевна как раз подошла, стояла сбоку, скрестив по-старушечьи руки на животе и в той позе разглядывания, какую принимают люди в музее. Они глядели за всех, кто не вернулся домой, кто лежит на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем и на бесчисленных кладбищах прочих земель. Только Харитина Турукало, в девичестве Костогрыз, не думала заодно с ними, стояла около, положив руку в карман платья, точно сторож, отомкнувший им двери на минутку.
А уж кто-то видел их у ворот, уже прослышали бабы-казачки, что приехал, приехал, как и обещал, в станицу «хранцуз» Толстопят с женой и вошел во двор к бабке Турукало! И не успела Турукало помыть яблочки и поставить их на тарелке, не успела повспоминать, как в войну перевертывала она лицом к стене портрет мужа в конвойскай форме, вдруг понаскакивали во двор бабы в чистых платках, казаки в пиджаках, с палочками и без, потомки всех этих вековых фамилий Пашковского куреня: Савицкие, Литвиненко, Гончаренко, Левицкие, Савоцкие, Шрамко, Опомах, Тараны, Архипенко, Лысенко, Коробко, Швыдко и пр.
Почти всем отвечал Толстопят на один и тот же вопрос:
— А нашего там не видели? [459]
СВЯТЫЕ И ГРЕШНЫЕ
Тот грустный и трогательный день в родной станице кончился неожиданной встречей с В. А. Попсуйшапкой. Можно ли через сорок лет угадать состарившегося человека по голосу? Возвращались домой в город под вечер, трамвай катился на солнце. Толстопят сидел с женой впереди на четвертой скамейке; все еще гудели в его ушах голоса станичников. Ехал и договаривал с ними и про себя удивлялся, что они с Юлией Игнатьевной уже не в Париже. Но даже после разговоров в Пашковской, после слез казачек и родной их ласковости чувствовали они себя еще гостями; в Париже они были смелее. Надо привыкать и к родной земле!
Трамвай повернул вниз, мимо дачи мадам Бурсак (где теперь был простой скверик), и тут, словно с того света, врезался громкий голос:
— В этом доме была четвертая полицейская часть! Приставом, помните, был кто? Ци-то-вич. Его поймали один раз хулиганы с Покровки, посадили на забор и заставили кукарекать. Вот тебе: ты нас пришел ловить, а мы тебя кукарекать заставим. Несмотря на такую фамилию, он был казак. Служил со своим полком в Тавризе, хорошо знал персидский язык. Его наши екатеринодарские персы считали своим. Персы у нас торговали раньше вовсю, помните? Ах, вы моложе. Целую зиму дыни висели в подвязках. А Цитович так хорошо наводил в городе порядок, что его перевели из одной полицейской части в другую и наконец бросили аж на Дубинку (мы ее только что проехали), самая трудная часть, иногородних много. И Дубинка стала шелковая! Умер где? На острове Лемносе, где греки живут. Вы давно в Краснодаре?
— Шестой год.
— Вы гость.
— А вы?
— С тысяча восемьсот девяносто пятого года,— по слогам проговорил пассажир.— В Новой Водолаге, откуда я родом, отец мой еще при лучине черевички шил. Вы, наверное, с образованием? А я за три копейки у дьякона учился. Оттого и все помню. Всех учеников помню, и батькив их, и по нашему городу старому всех — как свои пять пальцев.
За три копейки у дьякона мог учиться только Попсуйшапка. Он и до переворота всюду повторял это. И это он сказал Толстопяту в марте рокового 1920 года, когда уходил Петр Авксентьевич [460] в есаульской форме от мадам В., то бишь Юлечки, Юлии Игнатьевны, Дюдика (от голубушки, теперь такой старенькой, думавшей о чем-то рядом, может, об имении родителей в Киевской губернии): «Торопитесь, господин Толстопят, уже за Свинячьим хутором пушки бьют! Мы люди невоенные, а вашему брату несдобровать...» И еще раньше, в конце 1917 года, когда бежали они вместе из Москвы на юг, тот же голос предупреждал его: «Вашему брату плохо будет, а мы, мастера, работаем как работали...»
Весь в белом (в белом пиджаке, белый картуз на голове), маленький этот старичок с мышиными глазками тыкал в собеседника полусогнутым пальцем так же, как и в молодости, и каждое слово произносил со вкусом и удовольствием. В 1910 году Попсуйшапка шил Толстопяту кубанскую папаху. В 1910 году! Черные усы и бородка стали снежной чистоты, вот и все.
Да! Шли на родине годы, зацветали и желтели сады, повторялись праздники; уже закрыли старое войсковое кладбище, и росло, отбирая колхозное поле, новое, а в ящичках адресного бюро еще можно было отыскать фамилии екатеринодарцев. Попсуйшапка среди них был не самый старый.
На остановке у Нового рынка через сорок лет, а точнее, через тридцать семь, они и пожали друг другу руки. На этой остановке всегда толчея: тротуар узкий, окошки с цветами ловят мелькание голов. Много видела и слышала эта остановка, много ступало тут ног, много разговоров велось знакомыми и близкими и еще больше думалось затаенных дум.
— Дом вашего батька Авксентия еще стоит на Гимназической, я недавно проходил, поднял голову, не-ет, никого на балконе не видно,— так начал беседу Попсуйшапка после того, как они узнали друг друга на этом толчке.— Я обычно спрашиваю, живой кто из хозяев, нет, и не приезжал ли кто издалека. А вы ж у меня на квартире стояли в девятнадцатом или двадцатом году на Динской?
— В вашем дворе росли чудесные розы,— сказала Юлия Игнатьевна.
— Оттуда я выехал в тридцать первом году в Нальчик. И до сих пор жалею, что продал.
— Вы так хорошо выглядите, Василий Афанасьевич.
— Слава богу, Юлия Игнатьевна.— Он с первого взгляда узнал и ее и вспомнил ее имя, едва Толстопят отозвал его в сторонку. Не забыл с 1920 года случайную петербургскую даму, квартирантку. И Юлия Игнатьевна была тронута.
— Сколько вам?
— Ну, считайте. С тысяча восемьсот восемьдесят третьего года. Считайте. Я ровесник маршала Буденного Семена Михайловича. У него, правда, усы гуще. Я черный был, многие в молодости со мной здоровались по-гречески, по-армянски. Считали своим. «Калимера!» — греки. Я вас провожу. Пойдемте туда, дорогие мои, мимо бывшего мебельного магазина Амирханова и гостиницы «Москва», там всегда Евсюткин останавливался, помните [461] Евсюткина? Мехами торговал. Один раз привез смушку, а волоса на них не видно. Высушены плохо, вымыты плохо, кровь позасыхала. А товар — золото! Я вижу, что никто не покупает, даю ему, сколько хочу. И купил по пятнадцать копеек за штуку. В одиннадцатом году, как раз снег выпал.
Супруги переглянулись: ну кто теперь мог напомнить Юлии Игнатьевне о людях ее круга? В каком дворе искать ту даму, того старца? Нет их.
— А направо, где автобусная станция, помните шашлычную с кабинетами? Дом повиликой заплетен, во дворе большой фонтан, и плавала рыба. Гость пожелает, сейчас: «Зажарь судака». Мой кум. Он умер давно. Жена его — казачка станицы Баталпашинской. Вы по Красной пройдетесь?
Они с какой-то радостной робостью покорились ему, он повел их как заморских экскурсантов.
— То за театром Старокоммерческая гостиница Папиянца. Фосс там любил покушать. Фосса помните? Обжора, силач. Предлагал свои услуги генералу Деникину, пушки перетаскивать. Над ним посмеялись. Ну а на Красной прошла ваша молодость, тут я и помолчу.
Узенькая Красная улица, некогда совершенно голая, стрекотавшая стуком копыт, загородилась от небесного света зелеными арками. Старых домов было еще много. Кто в них жил? Еще никто не останавливал Толстопята, не спрашивал: куда идете? как ваше здоровье?
— Сейчас по Красной скамеек нету,— читал лекцию Попсуйшапка,— а бывало, идешь вечерком... Там, где собор был, сидят! Акулов, купец, Лихацкий, банщик, братья Поляковы (оба члены управы), Бондаренко, кожевник, братья Бережные (у этих шубное дело), братья Облогины (дом их и сейчас на Карасунской). А теперь пенсионеров много, но моих знакомых никого.
— И моих нет, Василий Афанасьевич! — сказал Толстопят почти с осуждением...— Что ж...
Но Попсуйшапка не понимал замечаний и, уже заведенный на воспоминания, умолкал лишь на мгновение.
— Здесь, в соборе Александро-Невском, я венчался с первой женой, внучкой Костогрыза Луки Минаевича, помните? «Слава героям, слава Кубани!» — здоровался. Терешка-лихач три раза обвез вокруг. Я заплатил ему пять рублей. Тогда стоила мука самая лучшая, с мельницы Ерошова, восемьдесят копеек пуд!
— Как и в девятьсот десятом году, вы все знаете,— сказал Толстопят.
— Ну ясно.
— Вы так быстро идете! — весело упрекнула Юлия Игнатьевна.
— Не осудите. Так вот пройдешься, а тебя обязательно вслед пронижут. Я шел недавно, сидел старьевщик, казак. Я присел около. Двое военных наблюдали за мной. «Спасибо вам! — говорят.— [462] Как вы прошлись!» А как я прошел — не знаю. Шаги простые, нога чтоб не виляла, держать голову ровно.
— Грудь вперед...
— Боюсь только, что сглазит кто-нибудь. Глазливые люди те, которых мать от груди отлучала. А оно ж просит сиси, она даст ему. Бывает, и второй раз отлучит,— вот эти дети самые на глаз нехорошие. Глаза тяжелые. А я не люблю плестись сзади.
На том месте против бывшего собора, где на фотографии 1919 года Толстопят стоит на коленях во время панихиды, Юлия Игнатьевна вздохнула и что-то прошептала. Может, ей казалось, что она ступила точь-в-точь на тот камень, которого касался коленом ее драгоценный супруг? На углу Красной и улицы Мира (б. Екатерининской) Юлия Игнатьевна, надумав купить в гастрономе колбасы и голландского сыру, сказала: «Вы постойте, а я зайду в «Чашку чая».
Попсуйшапка аж помолодел от такой нежданной встречи. Всегда добрый, готовый распластаться перед хорошим человеком, он теперь прямо изнывал от желания угодить супругам, приставшим к родному берегу, затронуть их чувства любым пустяком.
— Помните здесь на углу самого высокого городового Степана? Как-то в девятьсот восьмом году в марте месяце ушел с поста на пожарный двор. «Побалакать трошки». А на самом деле, Петр Авксентьевич, от стыда. А стыд почему, знаете? Днем на этом кутку ходил жандарм, еще выше, чем городовой. Ну как же стерпеть!
— В марте месяце — и это ж надо помнить! Мне приятно, что я вас встретил. Мы с Юлией Игнатьевной просим пожаловать вас к нам,— сказал Толстопят Попсуйшапке.
— Что ж... если вам угодно, то я с удовольствием.
— Я хорошо завариваю чай.
— А чай, помните, где брали? В магазине Мерцалова и Усань — у-угол Красной и Карасунской, за гостиницей Папиянца. Чаю так чаю. Костогрыз Лука Минаевич, когда вишня наступает, по десять стаканов выпивал. Ну что ж... я со всем удовольствием, Петр Авксентьевич. Такие встречи, как наша, бывают раз в столетие или реже. Где вы живете? Ну ясно, там был салон шляп мадам Казн, помните? Ее любовника я видел последний раз на Новом рынке в тридцать шестом году. Одет бедно...
В зеленом дворике на улице Советской (б. Графской), тихом, безлюдном, они, нагибая головы под бельевыми веревками, прошли в самый конец, к акации. В коридоре пахло яблоками. В мгновение ока Попсуйшапка все заприметил, оценил. Живут в комнатушке, коридор служит им и кухонькой, кровать у стены никелированная, покрывало на ней красивое, парижское, подушки-думочки с вышитыми красными узорами на черном, посредине комнатки круглый стол, в шкафах книги, ну и прочее, ничего особенного. Главное, есть с кем доживать. По обеим сторонам зеркала висели на стене фотографии в рамочках — запечатленные [463] странички жизни Петра Авксентьевича, Юлии Игнатьевны, их родни и друзей. Вдвоем не так грустно глядеть на них.
— Без очков не разберу,— сказал Попсуйшапка,— вы с какой-то дамой, Петр Авксентьевич.
— В Петербурге с Юлией Игнатьевной. Булла снимал в одиннадцатом году.
— Булла? Гм... Царский фотограф. Это ж вы еще в конвое поженились?
— В конвое, конвое, Василий Афанасьевич,— сказал Толстопят, не желая разочаровывать Попсуйшапку.
— Замечательная пара! Как в стихах. И тумбочка хорошая. Шашка убрана серебром. Да! Было время, что люди жили так. А я жалею, что свои фотографии отдал сыну. Он их уничтожил перед войной. У нас в Екатеринодаре Чернова была фотография. А в чьем вы доме, не скажете?
— Офицера по особым поручениям при наказном атамане Бабыче! — крикнула с кухоньки Юлия Игнатьевна.
— Фамилия? Я всех помню. Ваш, Петр Авксентьевич, батько был гласным городской думы. Выступал всегда с казачьей хитрецой: «Может, я не так сказал, то отдайте мои слова назад».
— А осенью в есаульской форме торговал яблоками со своего сада.
— То ж свои, Петр Авксентьевич, а не ворованные. Генералы жили в отставке на хуторе, сядет у гребли в шароварах: «А ну, хлопцы, полейте мне на спину, я вам на конфекты дам». Вы, Юлия Игнатьевна, зря столько наставляете, я только чаю выпью и пойду. Мне далеко ехать.
— Без этого нельзя. Мы иначе не можем.
— Ну, пожалуйста,— согласился Попсуйшапка, кашлянул и решил вести беседу поосновательнее.— Я нарочно вас, Петр Авксентьевич, не спрашивал, давно ли вы в родном городе и откуда. Не все вопросы можно задавать. Иной все равно не ответит. Ну, а теперь мне кажется, вы прибыли с того конца Европы, где Бурсачка до переворота кожу на лице перетягивала, омолаживалась.
— И где умерла, Василий Афанасьевич.
— Дом ее на Бурсаковской (угол Бурсаковской и Графской, тут рядом с вами) стоит, и там рядом старая хата, табличку повесили, что это дом Бурсака, первый дом в Екатеринодаре. И знаете что интересно, Петр Авксентьевич? Я заметил уже давно. Подойдешь к старому дому, и он так смотрит на улицу всеми окнами, будто ждет хозяев. Я часто где-нибудь иду, остановлюсь, стою и смотрю. Мне жалко тех, кто там жил. Они уже там. Думаешь, вот жили в тех комнатах замечательные люди: отец с матерью, барышни, сыновья, даже слышишь их голоса, и на рояле как будто играют. А ведь это обман, Петр Авксентьевич. За этими стенами всякие люди жили, и поганых было даже больше, чем хороших. Но почему жалко?
— Само время ушедшее жалко, Василий Афанасьевич.[464]
— Может быть, Петр Авксентьевич. Как жалко и вас с Юлией Игнатьевной. Я глядел на фотографии эти и думал. Но, представьте, кое-кто приезжает в Краснодар поглядеть на батьковщину. Иду как-то по Борзиковской и вижу, стоит старик, голова кверху. А я, если почую, что с человеком можно заговорить, то не миную. «Что вы разглядываете?» — спрашиваю. А наверху, на фронтоне, две каменные вазы. «Да вот,— отвечает,— вазы еще целы... а двери кирпичом заложили...» — «Вы знаете, чей это дом был?» — «Я в нем родился...» Вот оно что, думаю. Вот почему ты стоишь; приехал попрощаться перед смертью. И он зашел, я за ним. В углу кафельная печь. И, видно, ремонт был, так кафель кто-то масляной краской замазал. Это ж какую надо иметь голову? — кафель замазать! Так я психанул и ушел... А другой — мне передавали — прислал в горисполком письмо: я, мол, старый уже, скоро умру, но буду и на том свете каяться, если скрою,— там во дворе, за сараем, где беседка под дубом, я зарыл в двадцатом году ящик с драгоценностями, найдите и передайте на пользу моего родного города. Это хорошо, я так считаю, Петр Авксентьевич. Это правильно. Я гляжу на вашу кровать и думаю, что у меня была лучше.
— Из комиссионного...
— Мою кровать купила гречанка в двадцать седьмом году, когда уезжала в Афины. Муж ее ссыпщик. Присяжные поверенные Хинтебидзе и Гелешвили (наискосок от дома Фотиади жили, где Деникин стоял) уезжали в Персию и нигде не нашли такой мебели, как у меня. Значит, вы, Петр Авксентьевич, всю свою домашнюю обстановку в Париже оставили... Ну, ясно. Устали, Петр Авксентьевич, скитаться?
— Хватит, Василий Афанасьевич. Нагулялся по свету,— с усмешкой сказал Толстопят.
— Будем садиться,— пригласила Юлия Игнатьевна, но сама опять ушла на кухню.
Попсуйшапка не молчал ни минуты. Недаром он перед кем-то гордился недавно: «Я с любым найду о чем говорить». Меньше часа ни с кем не стоял на базаре.
— Скатерть у вас хорошая. В двадцать втором году, когда было ущемление, у меня скатерти забрали. Разные ж люди были. Один честный, а другой... И одну скатерть первая жена моя вышивала. Она одну букву вышила, и все. Иголку вколола, и красная нитка осталась. «Мы привезем»,— говорили. Везут и до сего дня.
— Не жалейте,— сказал Толстопят.— В Париже плакала все время одна баронесса. Не могла вспомнить, в каком месте в своей усадьбе закопала ларец с фамильными драгоценностями. Полагала еще вернуться.
— И на Кубани прятали, надеялись переждать. Года два назад стою у трамвая. Вышла женщина со двора, вылила из ведра, я ее подозвал. Она сестра моего бывшего соседа-шабая. Думаю: где тот сундук? Кому он достался? Хотел спросить ее. Мы в двадцать втором году закрывали ставни вечером, он и спрашивает у меня: [465] «Куда деть золотишко?» — «Гм... Какой вопрос задал,— я ему.— И ты не сваришь своей головой? У тебя сундук есть? Купи четыре бруска деревянных, выбери долотом ямочку, застели туда тряпочку, положи туда золото и прибей ко дну сундука». А он, как шабай, любил шлепнуть по руке. «Э! Давай руку!» Так кому этот сундук достанется? Шабай умер. Я хотел сказать сестре, а она говорит: «У меня белье замочено, мне некогда». И я не сказал. Я хотел сказать ей: «Кому вы, мол, продали сундук брата? Ведь там золото». Терешке матрас достался, помните?
Полвека спустя интересно было услышать любое екатеринодарское имя, и Толстопят кивал, улыбался, ахал и желал одного: чтобы теребили его кубанские чувства! Над ними витало это невыразимое великое волшебство протекшей жизни. Извозчик Терешка. Подумать только! В 1910 году он был просто лихач; нынче и бывшие престарелые мариинки восклицали: «Терентий! Ну ка-ак же! Он к венцу возил мою сестру...»
— Я смотрю на графин, это там вино у вас?
— Племянница в Пашковской налила нам домашнего,— сказал Толстопят.
— А я вспоминаю графин Терешки. Он знаете, какой был скупердяй. Уже, бывало, Александро-Невская ярмарка прошла, цыплята на базаре хорошие, а у него постный борщ. И тридцать первого июля начинается спасовка, Преображенский пост, потом будут разговляться, и пригласит к себе на обед, а борщ постный. Графин вина нальет и с рук не пускает. Брат мой Моисей Афанасьевич откровенный был человек: «Терентий Гаврилович! Та поставь ты его на стол, нехай стоит спокойно...»
В иные годы, до переворота, Юлия Игнатьевна и слушать бы не стала о каких-то извозчиках, а в старости, если бы все осталось, как было, не Попсуйшапку бы угощала она чаем. «Так проходит слава земная»,— часто повторял Толстопят, ни о чем не жалея. Теперь они все просто старики.
— Вы счастливые, Петр Авксентьевич.
— Почему, Василий Афанасьевич?
— Сейчас скажу.
— Может, все-таки по рюмочке выпьем? За встречу.
— Наливайте. Что же перед пустым стаканом спрашивать?
Толстопят брал рюмочку и на весу отливал в нее из бутылки темного тягучего пашковского вина; делал он это с каким-то величайшим удовольствием, рюмочку опускал на стол как драгоценность, спрашивал у Юлии Игнатьевны, все ли она принесла, точно собирался гадать на тарелках, а когда сел, то к чему-то значительному стал готовиться Попсуйшапка: нежно зажал горлышко рюмочки, вытянулся вперед и уже говорил про себя; Толстопят и Юлия Игнатьевна еще переговаривались, и, только когда они замолкли, он торжественно встал и, прокашлявшись, повышенным тоном заговорил без запинки:
— Я хочу, дорогие мои, поздравить вас с возвращением, с окончанием вашего скитальческого пути, ибо господь простил [466] блудного сына и поставил на круги своя... кх... Я хочу, чтобы вам, Юлия Игнатьевна, и вам, Петр Авксентьевич, жилось на Кубани приятно и не вздыхалось, когда вы будете думать о молодости. Земля отцовская вас долго ждала, так живите, пока бог здоровья даст. Уже нас мало таких. Жизнь человеческая как свечка: ветер дунул — и свечка погасла... Кх...
Супруги потянулись к Попсуйшапке с рюмочками, и он, будто чествовали его, благодарил их легким поклоном, но речь свою не кончал: на помощь ему пришли и «дорогой наш Александр Сергеевич Грибоедов», и «другой Александр Сергеевич, тоже поэт», и «Михайло Васильевич Ломоносов», и Лука Минаевич Костогрыз, «тоже покойный».
— Горчицу сами заваривали или купили? Сами? Хорошая горчица. Я на свою первую свадьбу брал горчицу на Старом базаре у Квочкина,— помните Квочкина?
— Берите масло на хлеб,— просила Юлия Игнатьевна, улыбаясь.
— Благодарю вас, Юлия Игнатьевна, сердечно, я намажу,— сказал Попсуйшапка, снял ножом пластик масла и стал бережно разглаживать его по хлебному кусочку (точно ласкать).— Хорошее на Кубани масло. Ну я вам скажу так. Масло, Юлия Игнатьевна, у нас на Кубани, осенью на ярмарке, на покров (месяц стояла ярмарка; наша кончается — едем в Березанскую, шестнадцать верст от Выселок),— так там масло продавали в соленом виде. А вот когда в погреб спускаешься, а мать другой раз гулять не пустит (это еще в Новой Водолаге) — «колоти качалкой!» — так ту сметану, Юлия Игнатьевна, и то, что остается, тоже с удовольствием ешь. Помните? А-а, вы ж не с деревни.
— Она у нас барышня усадебная,— сказал Толстопят.
— Масло в станице шесть рублей пуд, соленое. А малосольное — восемь. Свежее — десять. В кадушках. «Сколько ж у вас коров?» — спрашиваешь. «Та я хозяин молодой, у меня семьдесят коров». Его на аржаной хлеб намажешь, на житный — так того масла я бы с удовольствием и сейчас съел!
Толстопят хотел улыбнуться, но сдержал губы.
— Гляжу на вас, дорогие мои, и думаю: семейное счастье — прожить свой век с первой женой... Вы счастливые, потому что живете первым браком. А моя жизнь?..
Видимо, мысль о семье всякий раз причиняла Попсуйшапке страдание. Он горько, как о самом важном в жизни, задумался. Мало ли, мол, что свершается на белом свете, а семья — это главная крепость. Толстопяты ждали, пока он промолчится.
— Одну схоронил, опять женился. И эта заболела. И еще женился, и эту схоронил. Что же это за счастье, скажите мне, пожалуйста? Самый счастливый брак тот, когда вся жизнь вместе. Вот я гляжу на вас и радуюсь. То-то мне Костогрыз Лука Минаевич часто снится. Как он меня встречал всегда на рождество, на пасху, на заговенье! А во сне выразил мне свое неудовольствие.[467]
«Ты,— говорит,— только и знаешь жен себе выбирать». Ну а как же: ведь я с ними не дрался и не разводился ни с одной. Как же вы хотели, чтобы я жил один в молодые годы? У меня же дети. Я женился и всегда говорил: «Если мы сведем свою жизнь, то дети чтоб были одно целое. Если нести гостинец, то нести всем». Мне только один товарищ завидовал: первая девушка и вторая девушка.
Попсуйшапка сам протянул рюмочку, чтоб налили.
— Сказок мир мне был неведом, и узнал его я — как? Очень просто: за обедом пил я шустовский коньяк. Помните, Петр Авксентьевич? Трактирщик Баграт читал. Коньяк Шустова был...
— Я всю жизнь пью только коньяк,— сказал Толстопят.
Разной была их жизнь, и они, чтобы приятно побеседовать, цеплялись за далекие екатеринодарские дни. Там, в сумерках лет, у них тоже была разная жизнь, но теперь та разница стерлась, и они о мадам Бурсак говорили как об их общей родственнице или доброй соседке.
— Их усадьба,— поражал, как всегда, точностью Попсуйшапка,— их усадьба стояла на углу Бурсаковской и Графской, напротив сейчас седьмая поликлиника.
— Балыков на дубах нет? — с шуткой спрашивал Толстопят.— Свекор мадам Бурсак Елизаветы Александровны привязал под дубом медведя, чтоб балыки не крали. А Елизавета Александровна не вникала в хозяйство. Приехала раз из Парижа, спрашивает Харитона: «Зачем пастуху рубль заплатили? Я ему даю без того».— «Та за корову, шо погуляла».— «А как погуляла?» — «Та шо бегала за бугаем».
— Она давно умерла?
— Давно-о... В Ницце.
— Рассказывали, будто доктор Лейбович (его дом жгли в десятом году, помните?) был в Париже в двадцать пятом году на каком-то форуме врачей и зашел к ней. Она его не приняла: «Большевик!» А фаэтон Терешки, бывало, частенько стоял у ее дома. Между ними была, как это считается, интимная связь.
— Не думаю,— Толстопят поморщился.— Она любила молоденьких офицеров, а Лейбович старик. Она после нас выехала. Из Новороссийска.
— Рассказывали, будто вышла фальшиво за турка замуж, и тот ее вывез.
— Невестка подкупила матросов итальянского парохода. Впрочем, ее нет на свете, и теперь можно полагаться на одни легенды. Наш маленький Париж кто теперь помнит? А уж тем более какую-то мадам Бурсак. Для кого она сказка города? Их уже нет. За Карасуном,— сказал вдруг Толстопят,— где нынче железнодорожный вокзал, в дубовом лесу батько мой в молодости бил гадюк. Считалось, что за убитую змею бог снимает грех. В себе змею надо убить. Какой мерой меряешь, тою и тебе отмеряется. Странно мы жили раньше...[468]
— У тебя, Дюдик, какие были политические взгляды?
— Тогда этого вопроса никто не задавал. Тем более — военному.
— Вспоминаю...
— Странная Россия,— продолжал размышлять Толстопят.— В пятнадцатом году, когда шла эта война, только из нашего Ейского порта вывезли за границу полтора миллиона пудов пшеницы, больше миллиона пудов ячменя, а меду собрали столько, что не знали куда девать, а между тем сколько в России было голодных-холодных!
— А я вам скажу так, Петр Авксентьевич...— начал было долбить воздух согнутым пальцем Попсуйшапка, но его перебила Юлия Игнатьевна, желавшая возражать своему мужу в их вечных, по-видимому, спорах о России, которые они вели еще там, в Париже. «Какой вздор несешь, Петя!» — поправляла она его, когда Толстопят слишком уж противоречил самому себе. У кого-нибудь на обеде вдруг ни с того ни с сего он оскорблял всех неожиданным осуждением старых порядков и обычаев: дамы держали-де свору собачек и по вечерам играли в винт с полицмейстером; никто в нас не вложил сознания обязанностей гражданина, связанного со своим народом; котильоны, мазурки, места в министерских ложах — весь смысл жизни; проспали Россию, ни о ком не думали и никого не жалели. Юлия Игнатьевна в таком случае наказывала его унизительным приговором: «Вы, господин казак, в свете не жили, и вам простительно не знать». Нынче Юлия Игнатьевна уговаривала мужа не повторять глупостей и всегда помнить, какими словами встречали родственники некоторых эмигрантов по прибытии их на родину: «Что вы тут забыли?»
— Дюдик, не греши на людей, они переживали трудности вместе с Родиной, и они, что б ни сказали нам, будут правы. И это они могут требовать себе в исполкоме квартиры, дрова, уголь, а мы... только смиренно просить. Не заслужили.
— Если, Петя, полистать старые газеты, то, наверное, не раз можно встретить твою фамилию. И отца, и деда.
— О да, Дюдик! Особенно внимательно листай за октябрь десятого года, когда приезжал с гастролями Шаляпин и мы с Демой отличились.
— Кх...— откашлялся Попсуйшапка.— Весь город говорил: Бурсак с Толстопятом подрались с Шаляпиным в гостинице «Европа» — угол Екатерининской и Красной, ее немец спалил, а наши доломали.
— Черт его знает! — удивлялся Толстопят.— Россия-матушка: ничего не ценили. Великого русского певца хотели побить два казака. Из-за чего? Из-за певички Тамары Грузинской.
— А я, Петр Авксентьевич, из-за Шаляпина попал в первую полицейскую часть, на всю ночь в кордегардию. Не из-за самого, конечно, Федора Ивановича... Я шел по городскому саду к летнему театру и наступил сзади на пятку члену «Союза Михаила [469] Архангела», толстенький был, помните? Как тот размахался, как закричал: «При-истав! Взять его, он пьяный!» А пристав Цитович столбом стоял рядом, услыхал, подскочил: «Ты что за морда?» — «Я вам не пригульный скот, нечего меня тащить».— «В клоповник!» Весь город слушал Шаляпина, а меня в клоповник упрятали на всю ночь. Сижу так я, не битый, не мятый... «Это ж меня люди видели! — обдумываю.— Позор. Вели через весь город под руки. Все заказчики от меня откажутся». Наутро Цитович вызывает, а они с моим братом были соперники, была Шамрицкая Дуся, помните? Интересная, и брат мой приударивал. А у меня золотые часы были, сорок рублей стоили, и деньги в бумажнике. Цитович сидит за столом, красит чернилами белые нитки, чтобы пришить пуговицу. «Закон,— говорит,— виновных карает, а невинно пострадавшим честь восстанавливает». Забрал я часы с бумажником и ушел. Пока вы, Петр Авксентьевич, слушали «Дубинушку», я страда... кх...
— Если бы, Василий Афанасьевич, я не был офицером, в ту ночь мы сидели бы в клоповнике вместе. Когда в Париже я пел в труппе князя Церетели (Шаляпин солист, я — в хоре), когда потом пол-Парижа его хоронило, я говорил Бурсаку: «А помнишь наше бесстыдство в «Европейской» гостинице в Екатеринодаре? Здесь он гордость России, но он ведь и там, в самой России, был ее гордостью, а кто это понимал, когда Россия стояла цела-невредима?» Манечка, сестра моя, понима-ала...
— Я видела ее всего один раз,— сказала Юлия Игнатьевна,— и никогда не забуду. Она была кроткая, как свечечка.
— Отец говорил ей в пятнадцатом году (она в Красном Кресте была): «Здоровье тратишь, горишь как свечка перед святым».
— В ее жизни,— сказал Попсуйшапка,— рука милосердия видна во всем. Знаете, Петр Авксентьевич, как ваша сестра погибла?
— Немножко.
— Без меня, Петр Авксентьевич, солнце не взойдет, я все видел и слышал. И я эту историю знаю. А почему знаю, Петр Авксентьевич и Юлия Игнатьевна, дорогие мои, потому знаю, что я сам был во время облавы немцев на Новом рынке. В сорок втором году тринадцатого октября. Мы шли тогда с вами от трамвая, мимо рынка, а я посмотрел, извините, на туалет (он уже новый) и вспомнил Швыдкую. Помните, она заколотила свое заведение под названием «Красный фонарь» и ушла в Марии-Магдалинский монастырь под станицей Тимашевской?
— Кое-что помню, Василий Афанасьевич.
— И жила там, Петр Авксентьевич, до сорок первого года, монастырь уже разорили, она жила в хате. Раз уж про нее речь зашла, я расскажу. Вот немец заступает на Кубань. Стреляют мирных жителей ни за что. Швыдкая надевает мантию. «Вы зря стреляете. Это черные люди. Они невинные. А те, советские, уехали. Карайте меня за правду, но так...» Они ее не тронули, пришел час — посадили в машину и повезли в Тимашевку открывать [470] церкву. Пообещали ж казачеству вернуть старые порядки. А казаки, Петр Авксентьевич, не все ж перекрасились, некоторые того и ждали. И под Тимашевской были такие случаи. Вот Швыдкая и открыла церковь по православному обряду. Шла, а назад не поворачивалась. А когда повернулась у алтаря — сзади немец с овчаркой! «Рабе божие... Я не буду открывать церковь... Вы кобеля завели в храм...» И ушла. Закрыла церковь и вышла. И домой пешком! Они ее догнали, валяли по земле, грозили, а она ни в какую! Так и ушла. Вот вам и Швыдкая, бывшая содержательница «фонаря», а потом монахиня.
— В двадцатом году, за месяц до нашего ухода, давала в газете объявление: «Желаю ухаживать за тифозными больными...»
— Я ее видел и после войны. Она так и жила на той монастырской земле. И, представляете, была уже уверена, что она святая. За ней две монашки ухаживали. «Я,— говорила,— заслужила похоронить меня ангелом». Лицо ее можно открыть тогда, когда ударишь сто поклонов. Ее повивают (черная мантия в виде ленты), ее заматывают. Висячую лампаду позолоченную отвезли в Киевскую лавру. Вот вам Швыдкая. Так она от немцев все же спаслась, а Манечка, ваша сестра, сама на смерть напросилась. Мария Авксентьевна была замужем за племянником доктора Лейбовича. Вы знали доктора Лейбовича? У него царские ордена были, но он, представьте себе, сочувствовал революционерам, помогал деньгами в девятьсот пятом году, а Деникин за то же самое, за сочувствие, судил его в девятнадцатом году, но тогда меня в городе не было. Он жил на Рашпилевской, тот дом и сейчас стоит. С балконом. С того балкона, когда черная сотня погром устроила, рояль сбросили. Вы знали, что Манечка замужем за его племянником?
— В двадцать седьмом году она писала мне.
— Дядя его, доктор, умер до войны еще, у него в тридцатом году были большие неприятности из-за тайных абортов, тогда их запрещали. А Марию Авксентьевну, сестру вашу, я видел, когда приезжал из Васюринской. Увижу — поздороваюсь, конечно: «Где ваш брат? Не слыхать?» Ну, а потом уж такое время было, Петр Авксентьевич, что не подходили, лучше не знаться.
Толстопят сказал глазами, что понимает все очень хорошо, хоть и жил далеко.
— Немец когда взял город?
— Восьмого августа сорок второго года. Улица Красная вся в муке была, обыватель тащил с хлебопекарни в канун вступления немцев.
— Как же им позволили? — удивилась Юлия Игнатьевна.
— Власть из города ушла, а кто из начальников-коммунистов задержался, немец повесил в первый же день. Как стали облавы делать на рынке! Хватали всех, кто без документов, а евреев подряд.
Толстопят кивал: понятно, все понятно.[471]
— Я из Васюринской, Петр Авксентьевич, последнюю капусту привозил и потому видел, как брали Лейбовича и за воротами в душегубку толкали. Сестра ваша была человек благородный, замечательный, она пошла за мужем. Ее отталкивают, а она как клещ: уцепилась за него, берите, дескать, меня с ним. Вот. Ваша сестра. Святая у ней была душа.
— А в «Голосе казачества», в эмиграции, написали, будто она погибла на Севере в лагере.
— Не-ет! Она погибла на моих глазах на Новом рынке, когда села за мужем в душегубку. Так и знайте.
— Она родилась сестрой милосердия,— сказал Толстопят.— Матушка правильно сказала про нее: «С воды узор снимет». Всех ей было жалко.— Толстопят вздохнул и умолк.
— Редкая женщина в наше время поступит так. Ну, а на Лейбовича, я думаю, нарочно указали те из верующих, кто не мог простить ему двадцать второй год.
— Что же именно?
— В двадцать втором году, Петр Авксентьевич, было большое изъятие церковных ценностей в пользу голодающих. Лейбович заведовал ликвидационным отделом. Тогда председателем комиссии был Берцман. Откуда я это знаю? А оттуда: лихач Терешка был уже в то время ключарем в Александро-Невском соборе и мне рассказывал. Больше пяти пудов изъяли из храма золота: риз, крестов, чаш, лампад, крышек с Евангелий, а по Кубани больше ста. Так вот, когда гитлеровцы зашли в Краснодар, кто-то Лейбовича и раскрыл.
— А Манечка когда за него вышла замуж и почему?
— Не скажу, Петр Авксентьевич, не знаю. Знаю, что при немцах она покупала рваные чулки, латала их, вставляла пятки и носки и продавала, это был тогда ходовой товар. Из трикотажной кофты, пальтишка она сошьет вам рукавицы мужские и женские. Мужа своего она сперва прятала в сарае, закладывала дровами.
— Интересно, жива ли и где та женщина, которой я в Новороссийске, перед посадкой на пароход в Крым, отдал вещи, кольцо, портсигар с бриллиантом для Манечки? Думал, что убьют. Она ей передала всё, Манечка мне написала в Париж.
— Может, и жива, Петр Авксентьевич,— сказал Попсуйшапка.— Да где ее теперь шукать?
— Я вам налью еще чаю, Василий Афанасьевич,— сказала Юлия Игнатьевна.
— Благодарю вас, Юлия Игнатьевна, не пора ли мне вставать? Там дочка потеряла меня. Заболтаюсь, как те студенты, что пришли к Ивану Кронштадтскому. Им вынесли стакан с водой и ложечку: нате, поболтайте.
— Посидите, Василий Афанасьевич, я вас провожу. Берите печенье. Юлечка, подлей горячего.
— Печенье сливочное? На Новом рынке на одном сливочном масле и яичке продавали по тридцать копеек фунт. [472]
— И как вы помните?
— Я вам, если понадобится, все распишу. Булка хлеба до десяти фунтов — сорок копеек. Обуховский калач десять копеек фунт. Я ходил недавно, так хотел знать, живы его дети, нет. Гаврила Обухов, чтоб вы знали, Юлия Игнатьевна, спек калач пятнадцати пудов весу. В девятьсот восьмом году на выставку. Корова немецкая тридцать пять рублей стоила. Овца в двадцать седьмом году — пятнадцать рублей.
— Пашковского? — предложил Толстопят.
— Подлейте. Я смотрю на эту ложечку; такую же, только крученую, толстую, здесь красивый кончик, дарил мне тесть-покойник. Отец второй жены. Обе ложечки исчезли. Это белое серебро. Он был приказчик у Демержиева, до переворота. А кассиры были все матвеевской биржевой артели,— помните?
Толстопят покорно кивал, приравнивал себя к торговой среде,— лишь бы текла речь Попсуйшапки.
— А кто вам, Петр Авксентьевич, в девятнадцатом году на станции Армавир помогал резать хлеб?
— В девятнадцатом? Какой хлеб?
— Значит, забыли.
И Попсуйшапка рассказал всю свою эпопею блуждания по степям, не сказал только про то, как наколол вилами руку, чего-то стыдился. Тут они все трое стали вспоминать всякие истории времен гражданской войны.
— В двадцатые годы,— сказал в заключение Попсуйшапка,— те казаки, которые в Новороссийске не сели на пароход и вернулись в станицы, говорили, что якобы грузились на пароход, а матрос ящик с вином уронил с трапа; и пьяные повставали на колени и давай лизать эти лужи. А сверху на них смотрит кто-то из депутатов Государственной думы, махнул рукой и сказал: «Э-эх! пропа-ала Россия!..»
— Это, по-видимому, уже из области легенд,— сказала Юлия Игнатьевна.
— За что купил, за то и продаю, Юлия Игнатьевна. То жестокое время прошло, и слава богу. Раз русских из Парижа в Россию назад пускают, значит, гражданская война затихла окончательно. Разрешите поблагодарить вас, дорогие, и ретироваться. Вот так наше течение жизни идет. Веселые годы, счастливые дни, как вешние воды промчались они. Замечательные слова.
В полночь Толстопят проводил Попсуйшапку до трамвая...
Осенью того же года в Краснодар приехал певец Вертинский. Через двадцать лет пластинка с его голосом будет свободно лежать в магазинах, затем появится вторая, с другим портретом на конверте, но и за нее редко кто будет платить один рубль двадцать пять копеек в кассу, а тогда (теперь уж почти в старину) весть о концерте Вертинского была ошеломляющей. Маленький [473] одноэтажный городишко что-то вспомнил! Впервые появились театральные заботы: как достать билет? Единственный концерт Вертинского состоялся в филармонии, в том самом здании у рыбного магазина, где он в далеком 1919 году, при белых, пел о юнкерах.
Теперь я часто страдаю, когда думаю о том, как мало у меня городских впечатлений за первые годы, потому что я жил своей обособленной молодой жизнью: учился, сидел над свежими журналами в Пушкинской библиотеке, танцевал в городском саду или в толпе гуляющих мерил улицу Красную из конца в конец до самой темноты. И все мне кажется нынче, что я упустил что-то в местной жизни значительное, проворонил старожилов, которые тогда мне были бы скучны, а сейчас столь необходимы. И о концерте Вертинского, об этом в некотором роде историческом событии, я знаю со слов учителя Лисевицкого и одного журналиста, которому Вертинский давал интервью.
Из каких-то углов, из каморок и затянутых паутиной комнат, из квартир, ныне заселенных родственниками, из длинных дворов с бельевыми веревками и общими туалетами повылазили старцы, эти последние гимназистки, воспитанницы благородного Мариинского института, букинисты, врачи, нотариусы, уцелевшие гласные городской думы, агрономы, музыканты, преподаватели иностранных языков педагогического института, профессора медицины. Кто в немодной шляпке с пером, кто с кружевами на плечах, с китайским веером, с брошками бабушек, с перстнями на птичьих пальцах. За минуту до появления артиста из-за кулис (точно с того света) воцарилась в рядах предслезная тишина; сидели, вспоминали молодого попрыгунчика-арлекина, а вышел высокий худой старик. И как током ударило: жизнь прошла! Прошла судьба их города, их эпохи — они уже на самом краю. Два часа — и в те минуты, когда заметили друг друга в зале, и в те, когда живой голос кумира напоминал голос на пластинках, и тогда, когда после пира воспоминаний выходили на улицу Красную, одно чувство владело всеми екатеринодарцами: жизнь прошла! Единственная жизнь...
— В девятнадцатом году,— говорил Толстопят дома,— когда он пел в «Монплезире» после сеанса «Отца Сергия» с Мозжухиным... ты была?
— ...Не была, я не любила его арлекинство...
— ...И когда он спел «Ах, скажите, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть... какой-то там, забыл, рукой...», то... пробежали на сцену и буквально на кончиках пальцев...
[Не дописано.] 1
----------------------------
1 Так в рукописи.— В. Л. [474]
«А НА ЧТО ОНО ВАМ?»
В какой-то миг меня заворожила мечта: написать о Екатеринодаре все так, как оно было. С этой мечтою ходил я по старым длинным дворам. Город все еще был одноэтажный, маленький, в воскресенье по Красной семьями гуляли до городского сада, куда нынче никто уже не ходит, кроме шахматистов. Иногда казалось, что дворы кого-то ждут, что ручки дверей, колышки заборчиков помнят последнее прикосновение тех, кто когда-то отсюда ушел навсегда.
Уже не с кем было воскрешать «старовыну». Представьте себя на минуту глубокими старцами, дотянувшими до середины двадцать первого столетия, до той дальней поры, когда уже никому вас не понять кровно и близко, и подумайте, захочется ли вам, немощным и больным, никого не радующим в родном кругу, захочется ли вспоминать для постучавшегося юноши события, имена, секреты и прочее, прочее?! Пока я пишу эту книгу, один за другим умирают последние, и когда она выйдет (если выйдет), мне ее не подписать им с благодарностью. А что скажут новые люди? «Зачем и кому это нужно?»
Редко где в комнатах тикали и звонили старинные часы; сломанные пружины и молоточки обрекли их на многолетнее молчание, и этой немотой они как бы сберегали верность своим невозвратным хозяевам. Печать бесполезности лежала на всем старом. Бесполезны были рассохшиеся шкафы, кузнецовская посуда, треснувшие помутневшие зеркала, завязанные в платки и сунутые в дальний угол комода серебряные ложечки, шкатулки. Оттуда, из какой-то мифической дали, смотрят на прихожих с фотографий мать, отец, дедушка. Зачем тревожить их, выкликать и судить? Вперед, вперед, в завтрашний день!
Больше всего меня огорчали грамотные интеллигентные дамы, то есть уже не дамы, а старушки, эти бывшие гимназистки, мариинки, бестужевки. Они почти ничего не сохранили письменного, а если что было, то не давали, и не потому, что скаредничали, нет,— они как-то кисло смотрели на всех пишущих в этом городе.
«Должно же что-то лежать и для себя. Кто-то будет глядеть на наши лица или менять эти твердые картонки с вензелями на обороте на открытки? Я лучше сожгу...» [475]
Старость не верит, что кому-то чужая жизнь может быть интересна и что можно воскресить тех, которых давно нет.
Я то бродил по длинным городским дворам, то уезжал на трамвае в Пашковскую. Я сразу же пугал немощного собеседника: без всякой прелюдии пускался называть фамилии гвардейцев, станичных атаманов, священников, богатых дам, купцов, выписанных мною в блокнотик из старых екатеринодарских газет. Иногда, чтобы поскорее влезть в доверие, я балакал по-малороссийски, восхвалял в казаках запорожскую удаль, читал стихи из «Кубанских ведомостей» некоего Жарко. «Це колы було! — разочарованно подавала голос жена казака.— Оно вам нужно? Уже никого нема». В другой раз внуки не пропускали меня во двор — якобы дед болен: «Да что он там помнит, зачем вам?» Гостеприимная казачка Лукерья, всегда кормившая меня варениками в сметане, обещавшая подарить мне гвардейский сундук своего деда, за воротами вдруг придумывала, в какую хату мне еще можно зайти: «Сходите-ка еще вот туда, они много знают, но на нас не ссылайтесь». Но там бабушка лишь вздыхала: «Як, скажите, с того света моего б дедушку поднять? Он бы рассказал. Не гневайтесь, детка, а если что нехорошее задумали, дело ваше». Лукерья спрашивала потом: «Ну? Что-нибудь выпытали?» — «Ничего не помнят».— «Ото брешут. Их жизнь потрепала. Та уж столько прошло, кому они нужны? Ото ж лю-уди. Они трудолюбивые были, и батька я их знала, самый чистый двор был в станице. А певцы! Я как-нибудь их проберу...»
Нечему удивляться: большие грозы прогремели над пашковскими семьями за десятилетия; крестьяне к тому же всегда были разумно-осторожны в беседах с посторонними.
Кому-то все же было скрывать кое-что.
Умирал в те годы в станице Пашковской дряхлый казак и напоследок высказал своим родичам тайну: «Ах, не дожил! А я думал доживу, когда наши казаки оттуда придут...» Их уже с горстку уцелело под небом там, в чужих землях, но он до последнего дня думал о них. И уже после войны — надо же только представить! — после, казалось бы, полного упразднения старого, после торжества пятилеток, измен, победы над фашистами, внутренними полицаями, после того, как все надежды на возврат к прошлому уплыли в историю, в некоторых дворах с хмурой тоской жили несмирившиеся. Не так все просто!
Подруга Верочки Корсун стояла на квартире у какой-то старухи, замкнутой и неласковой. Муж ее погиб якобы в гражданскую войну в красном отряде, братья умерли от ран, дети подорвались на мине в эту войну. Старуху порой навещали два казака преклонного возраста, обычные с виду советские граждане. Говорили о ценах на рынке, о лекарственных травах и прочем. Но однажды раскрылось нечто священное. Два раза в год — 31 марта и 6 августа по старому стилю — появлялись эти казаки с белыми лилиями, присаживались к столу, накрытому [476] хозяйкой с особым старанием. Чувствовалось — ни одна душа больше к сему столу допущена быть не могла. Из нижних секретерчиков шкафа доставала хозяйка посуду царского времени, зажигала у иконы свечки, ставила на патефон шипящие старые пластинки; шторки на окнах сводила вместе, а потом, с сумерками, закрывала внутренние ставни. Недоступна нам всякая человеческая жизнь! Все обыкновенно, привычно и просто на улицах: горят огни, идут с сумками, с портфелями, под руку и в одиночку люди, слышатся добродетельные речи, смех; утром на лавочках читают газеты пенсионеры, почтальоны несут невинные письма. И не придет никому в голову, что за ставнями сорок лет скорбит кто-то по утраченному. Муж старухи (проговорилась знакомая после ее смерти) погиб при штурме Екатеринодара корниловцами, именно 31 марта, когда и сам генерал; братья нашли свою смерть в приморско-ахтарских плавнях — с десантниками Врангеля. Двое сыновей отступили с немцами, но она всех убеждала, что их расстреляли полицаи. Вот она и собирала стол 31 марта — в день гибели всех надежд, а 6 августа — в день торжества: в 1918 году белые вошли с Деникиным в Екатеринодар. Она же записывала в церкви на листок поминовения имена вроде бы семейные: Николай, Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей. Но кто это такие? У кого это были четыре дочки и один сын? У старухи? Нет. У царя с царицей. Забыл я прибавить, что в тайные дни эти один из казаков переодевался в казачью офицерскую черкеску, тихо произносил по-старинному тосты и плакал. Можно бы об этом и не упоминать, но я хочу сказать, что, наверное, и я порою не знал, с кем беседовал, потому что в человеческой правде главное не то, что на ставнях, а что за ставнями. Мне, бывшему сельскому мальчику с Тамбовщины, внуку красноармейца, не почувствовать до конца этих тайн, однако и бояться их нечего: все прошло, и народились другие люди. Пишущему же нельзя делать вид, что история наша скользила по гладкому льду.
Зачем я связался с призраками «старовыны», уверовал в силу своего проникновения, пугал, обнадеживал, травил чувства иногородних и казаков вопросами? Как часто я страдал, возвращаясь длинной дорогой вдоль трамвайной линии из станицы Пашковской в город!! Окна, ставни, заборы, глухие сады, камышовые крыши ветхих хат мне словно подсказывали: не ищи, не трать сердца, не жди чудес! С той же унылостью сдавал я к вечеру подшивки газет, папки с документами в архиве. Я перебрал много дел. Полная молодая женщина не успевала мне носить связки из подвала Дворца пионеров, где временно (впрочем, уже десятый год) сырели старинные документы. Я устал, но рылся изо дня в день. Может, в фонде № 332 я найду интересную историю любви? Но попадались строчки, слова, целые инструкции, приказы, возбуждавшие меня тою исторической тьмой, которая поразила однажды мальчика Арсеньева [477] из романа Бунина: пролетел над головою ворон, и мать ему сказала, что он, может, жил еще при Иоанне Грозном! Таким вороном казался мне Толстопят, фамилия коего мелькала в делах конвоя его величества. Вот ему в 1910 году, в день богоявления господня, надо быть в 11 часов утра у Большого царского дворца к литургии и шествию для водосвятия, где грот. Между тем он в эти минуты, пока я читаю о нем, сидит на улице Советской в Краснодаре и смотрит передачу «Клуб веселых и находчивых». Вот он по заведенному обыкновению просит к рождественской елке подарок (сухарницу), в другой раз пишет: «Я ценю все, что Ея Величество изволит пожаловать...» Вот жалобы, дознания нижних чинов. Вот телеграмма в Ейский отдел атаману: «Воистину воскрес поздравляем с праздником кобыл брать нельзя Толстопят». Он же вместе с другими возлагает у негасимой лампады венки на гробницы царей в Петропавловском соборе. Это с ним я пью чай? Листы пахнут пылью. Ну, еще, еще. Расписания наряда в Гербовый зал, Военную. галерею и Николаевский зал Зимнего дворца. Диониса Костогрыза Толстопят подвергает аресту на одни сутки за то, что тот недостаточно быстро подошел на дежурстве к телефону, когда звонил командир конвоя князь Трубецкой. 3 марта 1912 года Дионис кашеварил, а через неделю стоял старшим на разъезде в Боболовском парке. В ноябре кавалеры св. Георгия и лица, имеющие украшенное бриллиантами золотое оружие или знак отличия Военного ордена, приглашаются к высочайшему цесаревича обеденному столу в Николаевском зале в 6.30 вечера. Неужели все это было в России? Без него, Толстопята (он уже стонал от жары в Персии), конвойцы возлагали серебряный венок на гроб бывшего наказного атамана Маламы. Для меня самое странное в том, что он сидит сейчас дома на улице Советской. Однажды я прямо из архива пришел к «месье Толстопяту» и с порога спросил: «Так что вы делали двадцать шестого января двенадцатого года в двенадцать часов дня? А я знаю! «При проезде «ура» не кричать, всем держать руку под козырек, номер восемнадцать».
После смерти Толстопята я нашел обвинительные письма мадам В., листы дознания, приказ об увольнении из конвоя и проч. Я выходил на улицу, по которой только что неслись извозчики, а в городе жили все, кого вдруг не стало, и с трудом привыкал к современному виду жизни. И так было несколько лет. В семье уже позабыли, когда я зарабатывал деньги. Я жил мечтой о книге, о сказке, которая будет потому только сказкой, что это свершилось давно, когда город дразнили маленьким Парижем. На улице я смотрел на прохожих и думал: они не знают, в каком месте живут, они ни разу не представили себе, что ходят по тропинкам вырубленного дубового леса. Я расскажу им. Нас с удовольствием станет возить по городу знаменитый извозчик Терешка. Может, я и роман назову так: «Извозчик Терешка». Меня встречал профессор истории, веривший только [478] в пятисотрублевый оклад, который он хватал на кафедре ежемесячно, и говорил: «Ну как ваши казачки? Все еще мечтают о возврате?» Я разводил руками. В просторном дворе под тяжелою грушей ответит вам на вопрос о здоровье усатый девяностолетний дед привычным присловьем: «Слава богу, шо мы казаки!» Но что с того?
Иду как-то в августе из Пашковской: тишина, вечернее благословение над садами, закат — прожит всеми нами еще один день на земле. Иду по тому самому Ставропольскому шляху, на котором сырой ночью распевал молодой Толстопят что-то запорожское и покрикивал порою на извозчика Терешку. Все во мне разрывается от одинокого чувства. Почему я? Почему я, чужой, тамбовский, а не какой-нибудь юный казак живет этим? Неужели выродилась черноморская степная душа? Как странно. И каким образом передалось это мне? Не лучше ли бы мне заглядывать в русские избы? Когда кончается осень и на целые месяцы закрывают окрестности южные дожди, я тоскую, вспоминая наши снега, скованные реки и свое детство.
А без Толстопята, Шкуропатской, Попсуйшапки я тоже теперь не могу вообразить свою жизнь. Были бы у меня еще где-нибудь такие часы?
Каким волшебным пером описать вечера разговоров, часы каких-то внезапных вдохновений, когда случайно сойдутся давние знакомцы и невзначай увлекутся преданиями, и уже нету этому конца, нету предела желанию вернуться в колыбель навсегда, и даже грусть о потере былой молодости превращается в какое-то редкое счастье? Тут в разговор вперемежку заскочит все: слова исторических деятелей, дорогие имена, свадьбы, похороны, праздники, красивые здания, кто на ком был женат, кто когда умер, и от какой болезни, и какие бывали зимы, наводнения, и сколько, допустим, стоила дюжина стульев. Постороннему (кто помоложе) надо лишь притаиться и жадно слушать. Вечер тянется долго, как тот, когда встретились после сорока лет Толстопят и Попсуйшапка, и неохота вставать, и на душе что-то трогательное, и когда расстаются, то вроде бы что-то теряют, сожалеют, что их элегическое пребывание в раю воспоминаний оборвалось, и такое уж повторится не скоро.
Так однажды сошлись четверо: Попсуйшапка, Шкуропатская и чета Толстопятов; себя с Лисевицким я не считаю. Пили чай, а потом Лисевицкий показывал открытки и дореволюционные журналы. Он пришел позже нас, снял у порога ботинки, в носках протопал в комнату, облобызал всех и тотчас вспотрошил своей крикливостью тихую, рассудительную беседу. Точно вошел в класс на урок. Хозяева и гости поначалу сидели смущенно: до чего же невоспитанный, безалаберный человек! Извиняла его только ласковость, такая детская, непритворная.
— Я так счастлив видеть екатеринодарцев! — кричал он.— Вы прекрасный букет кубанской сирени! Вы помните, сирень [479] была достопримечательностью нашего города? О боже мой, вы все в бронзе. Калерия Никитична, в вас все та же молодость, все то же очарование... Считаю за великую честь показать вам свои находки.
Портфель, будто набитый камнями, еле расстегнулся.
— Вам, певец Екатеринодара, певец Кубани, певец любви,— сказал он мне и протянул «Кубанский сборник за 1899 год».
— Почему... любви? — удивился я.
— Но вы же не сможете обойти похищение прекрасных дам на фаэтоне Терешки? О как я счастлив вам чем-нибудь быть полезным. Да-а! — вдруг переменялся он.— У нас в городе живет Герой Советского Союза. Я у него вчера был дома. Скромнейший! Брал рейхстаг. У него орден Александра Невского, Отечественной войны I степени. Боевой офицер. Нужен? Четыре тяжелых ранения. Я вас познакомлю. Он выступал у меня в школе. Я всегда рядом с историей. Я маленькая книжная шашель, только и всего, ха-ха.
Настоящая фамилия Лисевицкого была Костогрыз. Его дед и знакомый нам урядник конвоя его величества Дионис, бежавший в конвое императрицы Марии Федоровны, двоюродные братья. В 1920 году Дионис застрелил брата «за предательство интересов казачества». Он посадил его на телегу, провез его по станице и за садами, возле реки Кубани, поставил над обрывом. «Я пятнадцать лет не был в церкви,— сказал брат, тогда тридцатилетний казак-красноармеец,— дай помолиться мне». Он помолился, отцепил с груди Георгиевский крест, приготовился. «Стреляйте,— сказал,— только лицо не попортьте...» Жена его, бабушка Лисевицкого, ночью нашла мужа у воды, обмыла, принесла чистую одежду и зарыла его там же, на берегу. Лисевицкий ходил к тому месту с березой каждый год. Может, и не под той березой лежал дед, где-то там, напротив дубовой рощи, у бывшего Панского кута с рестораном «Яр».
Лисевицкий поменял свою фамилию на материнскую в юности, когда стал ухаживать за девушками. В детстве его неприлично дразнили, и ему подумалось, что сама фамилия отпугнет ту красавицу, которую он полюбит. Зато после того, как «предмет любви» цветочком клонил к нему головку, он раздвигал занавес своей родословной: «Я не Лисевицкий, я Костогрыз! Во мне запорожская кровь, моего славного предка привезли в бочке. У нас в роду был Лука, его шутки передавались из уст в уста по всей Кубани. А по матери мы из Полтавы. Но я до мозга костей русский интеллигент, ха-ха...» О годе своего рождения, 1931-м, он собрал все номера «Огонька» и газеты «Известия». Калерия Никитична Шкуропатская с улыбкой прощения называла его «умным дураком». Он жил в одном дворе с нею. За таких, считала она, нельзя выходить замуж: его ничего, кроме книг, не занимало. Летом окно ее было раскрыто, он просовывал голову и кричал: «Милая, драгоценная Калерия Никитична, как почивали? Чем могу быть полезен вашему сердцу или бренному телу?» [480] Несу «Живописную Россию» с богате-ейшими иллюстрациями, не хотите взглянуть? Нет... «Кубанский календарь» за тринадцатый год. Все чины войска, все фамилии атаманов, директоров гимназий, купцов. В очень хорошей сохранности. И достал еще супницу старинную с гербом».— «Отстаньте, Юрий Мефодьевич, со своим хламом»,— прогоняла его Шкуропатская, но была уверена, что любая ее строгость не дойдет до Лисевицкого: на следующий день он просунет голову снова с теми же радостями. Такой вот холостяк-чудило процветал в их дворе. Можно сколько угодно изумляться его доброте и любопытству к истории, наведаться в его захламленную квартиру, но жить с ним вместе невыносимо. Одного часа достаточно. Его огромная, с высокими потолками квартира в особняке покойного гласного городской думы была складом старья, но от Плюшкина он все же отличался: раздавал свои реликвии налево и направо. Иногда за редкую книгу я предлагал ему деньги, он возмущался: «Да как вам не стыдно, я не могу вам продавать, я подарю!» Со стен свисали полосы черной паутины, пол мыла последний раз его покойная матушка, проходы были заставлены столбами книг, журналов, а спинка дивана, на котором он спал, украшена, как грудь какого-нибудь героя русско-турецкой войны, орденами, крестами и медалями. Сам же он бегал по городу в чистом костюме и всегда улыбался. Надо добавить, что он был весьма симпатичен: голубые глаза, хороший рост, прекрасный большой лоб. Спал он от трех до семи, днем и вечером достучаться к нему было нельзя: три массивных, императорских, как он шутил, двери отделяли его покои от входа. Закрывшись на все ключи, он переступал через стопы книг, поднимал какую-нибудь, нюхал («Ах, аромат девятнадцатого века, клеем нельзя надышаться»), брякался на диван и читал. К урокам он не готовился, просто напихивал портфель иллюстрациями, кинжалами, орденами и шпарил перед детьми назубок. «Меня, как августейшую особу, встречают криком «ура»! О наши дети, цветы жизни...» Почему же во дворе прославился он как «умный дурак» и то же сочетание слов вертелось на уме у прочих, его узнавших? Наверное, потому, что он тысячу раз переспрашивал и как новинку рассказывал одно и то же; еще, наверное, потому, что все знал и понимал вроде как люди, но пылкая наивность и телячий восторг по пустякам лишали его и в зрелые годы степенности; и еще потому, думаю, что надсадно борющиеся за жизнь люди сердятся, когда к ним пристают с подвигами и биографиями покойников и вообще черт знает с чем детским. Его в трепет приводило все то побронзовевшее от времени, что другим казалось лишь мертвечиной или антикварной выручкой на черный день. Но Лисевицкий не был сумасшедшим ученым, графоманом-историком, голодным поэтом провинции. Он был никому не нужным устным кладезем истории своего города. Я мистически думаю, что в казачьем городе, где издавна воспоминания о прошлом сочли лишними, природа на место ленивых, трусливых,[481] пустоглазых историков поставила вот эту неприкаянную, милую, но смешную копилку.
— Я полюбил историю,— говорил он в тот вечер,— когда ребенком хоронил свою бабушку, до войны. Тогда на старом кладбище еще цела была церковь, и ее там отпевали. Священник махал кадилом. Меня, мальчика, в восторг привели кресты, мраморные плиты, каменная казачья папаха на могиле, надписи: «Адвокат Канатов», «Генерал-лейтенант Рашпиль...» Что за люди, из какой жизни? Я поступил в наш институт и проводил там время с утра до вечера. Прослушаю лекции на филологическом, а после обеда иду слушать на исторический. Мне показалось мало, и я поступил на исторический в Ростовский университет. Если бы в юности понюхали, как пахнет на развороте старой книги клей, вы бы тоже кончили исторический.
Он говорил, топтался и вертелся по своей оси, снимал то и дело какую-нибудь книгу, нюхал и ставил назад. Старики улыбались, а я уже привык к его закоренелым странностям.
— Что нового в нашем маленьком Париже?
Его околдовало это прозвание, сравнение с городом мира, в котором он не бывал и не мечтал побывать, и он в этом надоедании тоже не знал меры.
Вечер ломался в угоду Лисевицкому. Вместе с журналами и книгами вытащил он из портфеля тяжелый кусок сала, купленный на ужин, но тут же бухнул его на стол: к трапезе с вами, милые мои старики!
— «Солнце России» за шестнадцатый год. Взгляните на фотографию военного министра Сухомлинова с супругой. Редчайший снимок.
— Рассказывали, даже писали, по-моему, как он под Ниццей в тринадцатом году зашел в деревушке в трактир. Хотя он путешествовал инкогнито, хозяйка от шофера узнала, кто он. Подала к столу, потом села за разбитое пианино и сыграла русский гимн. Сухомлинов прослушал с непокрытой головой, а зате-ем,— Толстопят интонацией выразил приятное удивление,— наш военный министр сел в свою очередь за клавиши и сыграл «Марсельезу».
— Потому и проиграли всё,— сказал я.— Обольщались своей силой.
— Но какая пара! Как он, старец стоит с ней! И царь его простил. Супруга выдавала секреты армии, а царь простил. Ну что это? А вот! Имам Шамиль, его два сына, снятые в плену в Калуге. Красавцы! Сколько достоинства. Как одеты! А ведь в плену...
— Я как-то проезжал местечко, где бывал Шамиль,— сказал Толстопят.
— Вы счастливый, знали времена русской славы.— Лисевицкий не замечал насмешливых (впрочем, очень любезных) улыбок Толстопята, Юлии Игнатьевны и Калерии Никитичны.— И достал я «Всемирную новь» за два тома Дюма, это большое [482] везение. Прошу взглянуть очами на табакерку восемьсот двенадцатого года. Лента к ордену святого Владимира. А вот и сам орден. Монеты Крымского ханства времен Султан-Гирея. Кубанские Гирей — их потомки.
Калерия Никитична не утерпела подъесть Лисевицкого:
— Зачем оно вам?
— Все это меня, драгоценная Калерия Никитична, интересует с чисто декоративной точки зрения. Я никогда не думал, полезно ли и важно то, что я делаю, но теперь уж мне, право, не к чему меняться, ха-ха...
— Хулу и клевету, Юрий Мефодьевич,— затянул ничего не понявший Попсуйшапка,— приемли равнодушно... Коротко и ясно Пушкин сказал. Дорогой наш Александр Сергеевич. Я люблю книги. Чтоб у меня не заломился ни один уголок! Так.
— Еще, пожалуйста,— Лисевицкий продолжал очищать портфель.— «Огонек». Похороны Дзержинского, Сталин идет за гробом. У кого вы теперь это найдете? А у меня есть.
— Позвольте, позвольте...— Юлия Игнатьевна подвинулась ближе.— В гимнастерке.— И больше ничего не сказала, села в сторонке и задумалась.
— Еще «Огонек» за двадцать восьмой год. Умерла мать Николая Второго, ее портрет, даже «Огонек» напечатал ее портрет, представляете? И фотография ее камер-казака Диониса Костогрыза. Убил моего деда.
— Да ну? — Толстопят оторвался на шаг вперед.— Неужели Дионис? Похож.
— Мсье Пье-ер! Я счастлив преподнести вам редчайший сюрприз. Это сравнится только с находкой гробницы Тутанхамона или какого-то там Аменхотепа! Иду я по улице — сидит на ступеньках крыльца калека: костыли; губы и щеки размалеваны; черные очки-колеса на глазах. Она больная, не в своем уме. Гляжу, голая, без корочки тетрадка, яти, еры в словах. Почерк женский. Я цап! За пятерку. «Где ты взяла, красавица?» — «У тетечки квартирантка в музее служила, они там выбрасывали». Как стал читать — бо-оже мой: наш город, тысяча девятьсот восьмой — двенадцатый годы. Конца нет. И вдруг фамилия: Толстопят!
— Да неужели?!
— Месье Пьер, честно. Че-естно! И вдруг про брата Пьерушку, про скандал с барышней, про его письма из Петербурга...
— Не может быть...— мертво сказал Толстопят.
— Я торжественно вручаю вам тетрадь вашей сестры Манечки... месье Пьер Авксентьевич Толстопят.
Толстопят нежно взял тетрадку, положил ее на ладонь и понес в угол к дивану, сел и замер в одиночестве.
— И еще я принес «Историю гражданской войны», богатейшие иллюстрации.— Лисевицкий развернул том, желая удивить стариков чем-то необыкновенным. Но все снимки были известные.— Пожалуйста: генерал Корнилов на московском совещании [483] в семнадцатом году. Василий Афанасьевич, Корнилова убили, вы участвовали в защите города или шли на штурм с белыми?
Такая бесцеремонность, даже неделикатность покоробила Калерию Никитичну, и она вздохнула безнадежно, переглянулась с Юлией Игнатьевной. Однако Попсуйшапка того ровно и ждал: отвечать на любой вопрос.
— Корнилова остановили... угол Кузнечной и Бурсаковской. Труп его сожгли на Свинячьем хуторе. Среднего сына кузнеца Нимченко помните? У него была фотография Корнилова на телеге. Я живу как раз в том белом домике Гначбау, куда попал снаряд и убил Корнилова. Сбоку Бурсакова скачка.
Лисевицкий онемел, потом пришел в себя, зачесался, проговорил:
— Как... как вы туда попали?
— Я ж из Васюринской переехал. Жить негде. На Сенном рынке встречаю Федосью Христюк. Так и так. Она и привела меня. Одни выезжали, а мы поселились. В ту же комнату, куда снаряд залетел.
— Приходят люди?
— Писатель Аркадий Первенцев, что «Кочубея» написал, завозил начальство. Вроде музей думали открыть в честь победы над добровольцами, но нас же надо выселять, а там пять семей. Заглохло, и слава богу. Кубань рядом, воздух хороший. Одно только: крысы. Желтые! А вы, Юрий Мефодьевич, до переворота в какой части города жили?
Все засмеялись.
— Я же после революции родился,— сказал Лисевицкий.— Мать жила на Посполитакинской.
— А-га. У Ильинской церкви? Там потом дом купил Копейкин Иван. Их четыре брата. Один на Дмитриевской купил.
Так его и слушали весь вечер с улыбкой. Спрашивали иногда только затем, чтобы он говорил подольше.
— Царь приезжал,— помните?
— Вот мне удивительно, почему он не остановился у наказного атамана. Почему он остановился в гостинице «Метрополь»? Он пока проехал от Гоголя до городской больницы, ему подано было три прошения. По Красной он ехал на маленькой машинке «фордик».
— Ну и как это было? — наседал Лисевицкий.— Приехал...
— Кто? А-а? Царь... Ну, приехал в Екатеринодар. Война ж. Охрана была маленькая. Выходит из парадного подъезда гостиницы «Метрополь». Ему подали машину. Они сели: великий князь, дядька его Николай Николаевич, и повернули на Красную.
— Царица с ними была?
— Нет. Николай Николаевич, великий князь, дядька его. Сухой мужчина высокого росту, бородка маленькая и усы.
— Все помните! — похвалила его Юлия Игнатьевна.
— Ну а как же?
Но даже Попсуйшапка уже ошибался. Время затуманило и [484] его память. Я часто ловил на путанице и других старожилов.
— А вот и не все,— с потешной радостью ощерился Лисевицкий.— И не так, и не все!
— Великий князь Николай Николаевич приезжал не с царем, а один,— сказал Толстопят.— В шестнадцатом году.
— Разве? — опешил Попсуйшапка, никогда вроде бы не ошибавшийся.— Разве царь не в шестнадцатом?
— Царь приезжал в четырнадцатом году! — прокричал Лисевицкий.— В ноябре. Ни в какой гостинице он не останавливался, прошений ему не подавали, он был в Екатеринодаре всего несколько часов.
— У меня сломался каблук,— сказала Калерия Никитична.— Бежала, и он сломался.
— Вам бы надо было, Калерия Никитична, тут же за угол завернуть, на Борзиковскую, и пожалуйста — сапожник Заплюйсвичка, замеча-ательный! — Попсуйшапка советовал так, будто это было вчера, а не полвека назад.— Вы помните, как впереди ехал Бабыч с жирными эполетами и кричал: «Сзади меня едет государь император Николай Александрович»?
— То кричал полицмейстер Михайлопуло,— подошел и крикнул в самое ухо Попсуйшапке Лисевицкий, хотя тот слышал еще неплохо.
— Разве?
Лисевицкий знал больше шапочного мастера? Юлия Игнатьевна убивала все эти исторические пререкания светской улыбкой. Казалось, она-то знает все! Но не екатеринодарское (подумаешь!). Было что в жизни поинтересней. И она не желает снизойти до воспоминаний. Иногда она была иной, но редко. Зато она всегда оживлялась, если говорили о ее муже Петре Авксентьевиче.
— Водка почем была?
— Я уже помню, как монополия настанет, возле нас — сорок три копейки казенная бутылка.
— То-то офицеры барышень воровали на извозчике,— сказал я.— Водка была дешевая.
— Это была замечательная традиция,— сказал Лисевицкий,— воровать чуде-есных дам...
— Была...— подтвердил Толстопят.— Что было, то уплыло. Нет пути к невозвратному.
— Но какой это был позор,— сказала Калерия Никитична.
— Зато сколько огня, страсти, божественных чувств к героине своего сердца,— заговорил, как всегда в таких случаях, бездарными строчками пропавших романов Лисевицкий.
— Я помню-у...— Попсуйшапка, по всей видимости, готовился к длинной речи, покхекал, прочистил горло и обратился лицом к Калерии Никитичне.— У нас об этом в девятьсот восьмом году писали в «Кубанском крае». Так же украл офицер первого Екатеринодарского полка дочь покойного генерала. Она была наследница большого состояния, он сделал ей предложение, но получил отказ. Он еще раз сделал предложение и еще получил отказ.[485] Тогда он что? Решил похитить эту барышню. В один прекрасный вечер она возвращалась от доктора Лейбовича по Рашпилевской улице.
Попсуйшапка взглянул на Калерию Никитичну, но не понял, почему она столь таинственно улыбается. Улыбались и Толстопят с Юлией Игнатьевной. Значит, история заинтересовала их, решил Попсуйшапка.
— Вдруг к тротуару подъезжают сани, на нее набрасывают плащ, посадили и повезли в гостиницу Губкиной. Офицер потребовал, чтобы она была его женой, написала под его диктовку матери письмо, мол, я сбежала добровольно с намерением, значит, обвенчаться. Она написала. Мать подослала людей, потребовали ехать к матери, но офицер посадил ее опять на извозчика, и началась погоня. Догнали аж на Дубинке. Жертву отобрали и увезли домой. Так он, офицер, что потом? Стрелял в пристава первой части Цитовича при попытке обуздать его, когда он шашкой пытался рубить крыльцо у дома генеральской дочки. Мне рассказывал Терешка, когда мы с ним сидели в ресторане Старокоммерческой гостиницы Папиянца в феврале восьмого года, как раз полетел снег.
— Не я ли это был, многогрешный? — сказал Толстопят. Тетрадка сестры Манечки лежала у него на коленях.
— Месье Толстопят! — Лисевицкий вскочил как ошпаренный.— Дамы нашего маленького Парижа падали к вам в объятья, а тех, кто отворачивал чудную головку, вы покрывали казачьей биркой и увозили в гостиницу Губкиной и рисковали погонами за миг сладострастия! О господи,— замотал он головой,— среди каких достопочтенных людей я сижу... Что за нравы, что за жизнь удалая... Счастлив прикоснуться к вашей руке.
Женщины, Калерия Никитична и Юлия Игнатьевна, смотрели на него как на милого неисправимого идиота.
— Только это немножко не так было,— поправился Толстопят.— По-моему, я шашкой порог не рубил. Или рубил? — Он взглянул на Шкуропатскую.— Кое-кто лучше меня должен знать, но едва ли это теперь интересно.
— Очень! — затрепетал Лисевицкий.— Он все опишет,— ткнул он в меня,— это будет интереснейший роман о маленьком Париже, месье Пьер, и вы обязаны занять там свое место. Почти как у Наполеона: от похищения дамы на извозчике до похищения турецкого офицера под Трапезондом — всего один шаг, ха-ха.
— М-да. Но все же вы, Василий Афанасьевич, кое-что прибавили.
— Возможно, Петр Авксентьевич, был другой, кто порог рубил. Ну, вы же помните, казаки были горячие, так что в другой раз могли и вы шашкой порубать.
— Мог бы, Василий Афанасьевич, мог бы. Батькиной дури во мне много было. Но Зелим-ханом1 меня не посчитаешь, правда?
--------------------------
1 Зелим-хан — известный в начале века разбойник на Кавказе. [486]
«Если для них это уже тьма,— думал я,— то что же там можем разглядеть мы?»
— Толстопят воровал благородно,— сказала Калерия Никитична.— С размахом.
— Неужели, Калерия Никитична, я когда-то кого-то украл? Это теперь как во сне. Надо нам спеть, знаете что? «Счастье мне-е и радость обещала...»
— «Ты ушла-а,— подхватил Лисевицкий,— и жи-изнь ушла навеки за тобой!»
— Петр Авксентьевич,— с какой-то тайной нежностью, с той памятью о золотом времени, которое сверкало ей когда-то, сказала Юлия Игнатьевна,— был самый красивый офицер в конвое. Душка! И в Париже еще был красив. Но вспыльчивый — просто невозможно.
— Какой роман ваша жизнь! — вздохнул Лисевицкий.— Напишите воспоминания. Наш поэт еще больше вдохновится.
— Я лучше так расскажу. Приходите, друзья. Спасибо за тетрадку Манечки.
— Жизнь человеческая как свечка,— потусторонним голосом пропел Попсуйшапка,— ветер дунул, и свечка погасла. Торопитесь.
— Да-а! — вскрикнул и опять задергался Лисевицкий.— В нашем городе маленькая сенсация. Вам, наверное, известно, что там, где ломают старый дом, ничего не пропустит скромный червяк Лисевицкий. Кому нужны двери, рамы, подоконник? Обеспечу. Но кувшин из-под золотых монет мне не достался. То, наверное, был кувшин, назначенный родственниками Бурсака тому, кто выловит его тело в Кубани.
— Бросился с лошадью в прошлом веке,— уточнил Попсуйшапка.
— Так точно. Я позвонил в музей: а вдруг кувшин тот? Забрать в память о Бурсаках. Мне ответили: «Не было на Кубани Бурсаков, а были Барсуки». Никто ничего не помнит.
— И мы-то сами уже все перезабыли,— сказал Толстопят.— Дементий Павлович Бурсак живет в Париже с нами. Ему кажется! А все забыто.
Мне стало жаль их всех какой-то высокой жалостью. Но они ни от кого сострадания не ждали.
Долго говорили еще у Шкуропатской в тот вечер. Мы с Лисевицким ушли раньше.
В городе зажглись огни на белых длинных столбах; в кафе и в столовых кверху ножками переворачивали на столы стулья и чистили швабрами полы, гремели ложками официанты, не чая поскорее убраться домой к любимым или постылым мужьям, к детям, в гости, на танцы; уже над темною привокзальной площадью дымом рассеивали лучи прожекторы, в ожидании поездов перемогались какие-то чужие, не южные люди; кто-то скреплял дружбу в ресторанах, спаивал красавиц, кто-то кривлялся на сценах театров, участвуя в жизни, которой никогда не было, и так,[487] в одни часы, чувствуя только свой час, жили новорожденные, молодые и старые современники, краснодарцы, наследники времени. О чем и о ком вы там вспоминали? — укором летят от них невидимые искры. Они свое прожили, торопитесь, живите и вы!..
Если бы я родился в этом городе, мне бы с детства больше перепало впечатлений, семейных бесед и т. п. О многом и многом уже не у кого спросить. Одни выехали в другие города, другие умерли. Между тем мне интересно все, даже то, например, как окончили свои дни староста извозчиков Евстафий Сухоребров или мадам Гезе, владелица кондитерской. Вообще как странно: я за столько лет не смог почувствовать в казачьей столице старинных связей людских — наверное, понаехала тьма иногородних, таких вот, как я. Что бы сказал нынче Лука Костогрыз?! Когда он родился, в Екатеринодаре было шесть тысяч триста сорок три человека, а нынче шестьсот тысяч!
— Ах, как я счастлив! — все повторял Лисевицкий.— Вы довольны вечером? Хоть одной рукой прикоснулись к истории? Я рад за вас,— сказал он, хотя я не успел выразить удовольствия.— Вы войдете в бессмертие. Что вы? Стрела большой мысли пронзила вас?
— Думаю о стариках. Они разошлись по своим куткам. Думаю: и раньше они оставались одни. Раньше оставались со своей радостью, горем, мыслями о будущем, а теперь ушли и остались наедине со своей старостью. Вот, Юрий Мефодьевич.
— Так проходит слава земная? Хотите, я покажу вам екатеринодарские дворы? Поэзия.
— Но уже темно. Во дворах одни сараи и туалеты.
— Остатки фонтанов.
— Вы почему не женитесь?
— А куда же я тогда дену свои сокровища? Жена наведет порядок, половину книг сдаст букинистам. Что вы! Я доволен свободой.
— Нельзя жить одними покойниками.
— Но вы же сами напечатали статью «Кто замазал фрески?». И не боитесь. Они вам отомстят. И по имени-отчеству назвали бывшего екатеринодарского голову. Вас выдрали уже.
— Я написал и не отрекаюсь, но живу как все люди.
Мы расстались во втором часу ночи, уже наступило воскресенье, а в восемь утра я купил «Советскую Кубань», обернул ею тетрадку для записей и поехал на трамвае в Пашковскую к одноглазой казачке, уроженке станицы Копанской, которую выманивал натихую от ее осторожного зятя к соседке через дорогу. Святая простота, она мне все:все о себе рассказывала, и, когда я возвращался к вечеру назад пешком, ее голос и голоса других казаков звучали в моих ушах:
— Ездила на родину, в станицу Копанскую, в прошлом году. Было б не умываться месяца два, ото б облизали. Ото кума, ото ж племянница...[488]
— Идите, идите, ничего не знаю... Правду скажешь — нехороший будешь.
— Был в Екатеринодаре шапочный мастер Попсуйшапка, их два брата. Моисея убили бандиты, а Василий, наверное, давно умер...
— Терешка-лихач вез красавицу Шкуропатскую на фаэтоне в гостиницу «Большая Московская», она раскрывала зонт. Я бежала следом, смотрела. Ее уже нет. Калерией звали. Она в Новороссийске в заговоре была замешана, ее и расстреляли. В двадцать втором году.
— Толстопят? Офицер первого Екатеринодарского полка, батько его тут рядом, возле Роккеля, сад имел. Толстопят из-за барышни прыгал на лошади, как тот старый Бурсак, с кручи в Кубань. И ничего. А убили его на ферме Гначбау во время осады Екатеринодара. Красивый был казак.
— Ну как же, Толстопят, офицер Екатеринодарского полка! Приехал из Франции? А слухи давно ходили, что его убили под Афинской в восемнадцатом году. Приехал. Оно ж тянет к родной хате...
— Шкуропатскую я видела последний раз после войны, поздоровались, но разговаривать не стали. Теперь она уже померла.
— Бурсак Дементий до войны работал нотариусом, а потом уехал в Нальчик. Его жена Шкуропатская простудилась, заболела, да так и не поправилась. Дети где-то здесь...
Даже своя жизнь постепенно за годы стирается в памяти; про других никто уж ничего толком не помнил. Путали даты, события, имена, семейные связи. Поживем, посмотрим — будем ли кого-нибудь помнить мы с вами? [489]
ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ
Тысячу раз повторяю: никто не знает, что нас ждет впереди. Когда в новогоднюю ночь Лисевицкий позвонил Толстопяту из ресторана «Кубань» и полчаса желал на 1962 год себе и старожилам того-то и того-то, он еще был один как перст и ничего не предчувствовал. И до самого лета носился он вечерами по старикам, чудил, восторгался, спрашивая одно и то же. Жизнь его все время катилась по одной тропе. Герою штурма рейхстага показывал он книжные новинки о последней войне; бывшего адъютанта главнокомандующего Северокавказской армией в гражданскую войну теребил вопросами: а правда, что...? а правда, что...? Бывшего партийного работника, руководителя Краснодарским подпольем при немцах, заводил в классы при восторженных ученических кликах «ура!» (причем сам кричал громче всех), потом вместе с учениками провожал домой и каждую неделю звонил: «Ну как вам наши дети? Не правда ли, они готовы пойти за вами на новые подвиги?» Толстопята Лисевицкий позабыл месяца на три. 18 июля он пожарным стуком разбудил его в седьмом часу утра.
Толстопят покорно впустил его, оделся, поставил чайник на плитку.
— Вы, Юрий Мефодьевич, изменили расписание. Обычно приходили к одиннадцати ночи. Я как-то ходил к вам, звонил, звонил.
— Я же сплю голый, услыхал ваш звонок, пока оделся — вы ушли. Голый король. Купил на базаре последний генеральский мундир за пять рублей. Для меня ваше прибытие будет такой честью, что меньше чем в чине генерала принимать вас не смогу.
— Сколько в вас жизни, непосредственности,— сказал Толстопят, повеселев.— Ценю.
— Докладываю, месье Пьер. Душа полна. Вы первый, кто узнает великую тайну моей биографии. Ведь ни в одном архиве обо мне не сохранится ни листочка. Все декамеронские страсти свои унесу в селения праведных, ха-ха...
— У вас неприятности?
— Месье Пьер! У меня не может быть неприятностей, я человек неженатый.
— Так что же?
— Случилось то, что вы предсказывали своим гениальным чутьем. Я величайший любовник города. О лепестки любви! Я их сорвал и засушу.[490]
— Так и должно быть,— догадался Толстопят.— И к вам маленькое солнышко заглянуло в окно.
— Не верится, месье Пьер, что это со мной. Не зря я крутил пластинку Вавича: «Время изменится, горе развеется. Сердце усталое счастье узнает вновь...»
— Вавич? Ах, Вавич. Я помню. Он пел у нас в Екатеринодаре в девятнадцатом году. А Морфесси вы слышали?
— «Мы сегодня расстались с тобою,— запел Лисевицкий,— без ненужных рыданий и слез...»
Толстопят большими пальцами оттягивал подтяжки и смотрел в пол. Обычно манера пения Лисевицкого развлекала его, он хохотал; на сей раз слушал, не разжимая губ.
— На душе весна, месье Пьер. Я горю чистым пламенем любви. Сейчас откроется магазин, я сбегаю на угол, дадите мне какую-нибудь сумку? «И лелея-ал свою я ме-ечту-у...»
В семь он выскочил и побежал по улице Пушкина, в магазине с такой жадностью набирал продуктов, сластей, бутылок с водой, вином, с таким сочувствием, когда торопился назад, запоминал утро, взирал на дома, таким ощущал себя счастливым оттого, что ему с детства попадались интересные люди, которые к нему привыкали и ему доверялись и от которых он узнал столько чудес, и, конечно, счастливым оттого, что его провожала на заре за ворота богиня в халатике и тапочках. «Что за лето! — думал он горячо.— Какая у меня прекрасная жизнь! За что мне такое? Господи, не отними... И ее не отними... Нет никого счастливее маэстро Лисевицкого... Мне едва ли забыть, дорогая моя, эту чудную ночь, эту трель соловья! Стихи из альбома какой-нибудь пташки».
— После утомительных трудов дневного послушания пора укрепиться трапезою!
— Еще утро, Юрий Мефодьевич...
— Ах, в самом деле! Еще роса на ресницах любимой...
Толстопят, подпоясанный белым передником, расставляя тарелки, резал хлеб и хотел выпить. Он и вчера и позавчера был пьян, сидел перед телевизором и плакал.
— У вас такой хороший вид, месье Пьер,— сказал Лисевицкий.— Я вам буду читать стихи кубанских поэтов. Ах, хочется петь.
— Между прочим, я сегодня пел во сне арию из «Хованщины». Наша «Кубанская чашка чая» в Париже (была такая), кубанские и донские казаки, почему-то с ними князь Феликс Юсупов (что убил Распутина), Кшесинская (возлюбленная последнего нашего императора). Знаете?
— Ну как же!
— И я так пою, так пою Мусоргского! А все хлопают, плачут и кричат: «Домой, домой, в Россию! Хватит страдать. Господа, к пароходу!» И вы стучите.
— А я уж думал, что никогда не полюблю,— говорил Лисевицкий.— Как я жил, нет, месье Пьер, как я жил? Меня все [491] считали за идиота. Но я же нормальный, вы видите... Я могу полюбить навеки.
— Вы ее покажете мне?
— С гордостью, месье Пьер. И мы вместе перед нею споем. Ах, как хорошо у вас! Я отдыхаю. Сижу у вас, и... люблю. Как вы считаете, она думает сейчас обо мне?
— Не знаю.
— Но от горя и слез, дорогая моя, я увез бы тебя в золотые края...
— Сочинили?
— Стихи из альбома какой-то пташки. Хотите, подарю вам Георгиевский крест? Я приведу ее, и вы нацепите. Пусть она знает, с какими историческими личностями я общаюсь. Ваше здоровье!
Толстопят быстро захмелел: глазами, полными горя, он глядел на фотографию Юлии Игнатьевны на книжном шкафу. Лисевицкий глядел туда же и блаженствовал.
— Вы глубоко задумались, месье Пьер? Что-то вспомнилось историческое, окрашенное в голубой туман чудес?
— Да, немножко. В конвое, в день нашей иконы, после молебна, в помещении столовой ставился на серебряное блюдце графин и скромная закуска. Вахмистр наливал водку. Первую чарку поднимал командир сотни: «За здоровье вашего командира, за ваше здоровье, братцы!» И клал на блюдо деньги.
— Зачем?!
— Такой был обычай.
— Ну как бы это нам с вами завести свои нетленные обычаи.
— Они у нас есть. Вы всегда приходите в неурочный час.
Лисевицкий даже не помыслил, к чему Толстопят сказал это. По радио в концерте по заявкам объявили романс Чайковского. Кто-то заблудился в войну в снежных донских степях, потерял всякую надежду на спасение, его нашел без сознания сержант и три версты нес на себе в часть. Для него и звучал нынче Чайковский. Толстопят прослезился, когда услышал.
— Я шел от нее мимо железных ворот и ни о чем не пожалел. Представляете? У меня была история когда-то, и я ни о чем не жалел, вспомнив ее...
Он чувствовал только себя, видел сон, любил только свое. Он в самом деле ни о чем не жалел. Шел мимо ворот, из давнего-давнего времени выступали на мгновение лица, дни и ночи, но ничем не задели его душу. Кто теперь спал в этом большом доме с железными воротами, жив ли хоть кто-нибудь?
Было раннее утро, часа четыре или половина пятого? Уходил ли кто-нибудь в эти часы от любимой? Но казалось, что так, как уходил он, Лисевицкий, не уходил никто, разве что очаровательный казак Толстопят. Томные розы во дворе уже ярко выделялись завитыми головками. Вера — все та же Верочка Корсун, которая ему еще ничего не открыла в своей прошлой жизни,— поцеловала его в комнате у окна, последний раз прислонилась к нему, уже зависимая, породнившаяся в полночь, и, предупредив [492] пальчиком, неслышно повела за собой через одну дверь, другую, потом по длинному двору с кустами роз. С правой стороны, за ветками, горело окно, но уже не так четко, как ночью. Соседи там ссорились до утра. Слева окошко пристройки было невысоко от земли, и Вера мигнула в их сторону, желая убедиться, что никто не видит, как она уводит мужчину.
За воротами утро показалось светлее, и Вера (в цветном халатике, в тапочках на босу ногу) смущенно гадала, что в его глазах: любовь? осуждение? обещание? Лисевицкий в слепоте чувств мнил себя первым, кого она провожает на заре. Молча, пятясь, отходил он от нее. Теперь в Краснодаре есть уголок, который связал его не чужими историями и великими событиями, а его собственными возвышенными часами с женщиной. То говорил он в прогулках по городу: «Это дом Вишневецкого, на ковре сабли висели... это Бурсачки... а это Христофора Фотиади, грека, в восемнадцатом — девятнадцатом годах Деникин стоял... подворье извозчика Терешки, мою бабушку к венцу возил...» А с этого дня? «Там мы с ней сидели... с пристани Дицмана поплывем к дачам... Дай бог... дай бог...» Не будет конца его любви! На душе такая же нежность, как к старым книгам. «Ты моя радость... Из-за тебя я полюбил краснодарский рассвет...» О, сейчас он все расскажет Толстопяту, споет ему романсы и арии из оперетт и потом подарит ей лучшие книги — о, так хотелось задарить всех! Он многих любил, всегда готов был рвать свою душу, но нынче из-за Веры любил всех подряд. Но что это за Клуб речников? На фанерной афише название индийского фильма: «Цветы персика». Чуть подальше дом с высокими железными воротами. О боже, это же тот дом и те ворота! Вон и узкое окно с другого двора, куда он стучал пятнадцать лет назад. «Пятнадцать лет!» — тут же высчитал он. Это столько по всей земле смертей, войн, удивительных событий, столько любовных союзов, разлук, столько деток, родившихся и уже выросших! Столько он книг перечитал, всяких разговоров вел, путешествовал — без нее, девочки в темно-красном платье. Пятнадцать лет! Где она теперь? Жива ли? Он ничего, ничего не знал о ней. Он позабыл ее вовсе. Можно ли так забыть? Ее давно нет в этом городе. Возможно ли так забывать когда-то святую любовь? Сейчас ничто не шевельнулось в нем. Из какого-то далека повеяло смутно-знакомым теплым ветерком, и все. Ничего страшного, горького. Было — прошло. Она, видно, уже толстая суетливая мамаша, а он еще моложавый веселый господин. Ужас! — он ни о чем не жалел. Удивительно. Он ни о чем не жалел, как, возможно, и та вон старуха в высоком овальном окне. Чего она не спит в пять утра? Она, кажется, перепутала время и дожидается, сложив на подоконнике руки, когда стемнеет? Но уже утро, утро... «Она не знает, откуда я иду...— думал Лисевицкий.— Я счастливый!»
— Я жил, месье Пьер, в ином мире,— говорил он Толстопяту, совсем разомлев от живых сновидений.— Я только и знал, что [493] ходил к книжному магазину, как вы в Париже к церкви на рю Дарю,— нет ли кого там из знакомых? Да бегал в вечернюю школу, а днем по заводам и фабрикам, докладывать парторгам, чтобы они принуждали рабочих не пропускать занятия. И дворы!
— Не кричите мне в ухо, я прекрасно слышу.
— Виноват, школьная привычка. А где ваш чудесный приемник «Шнейдер»?
— Техник сказал: его только выбросить!
— Вы что! И вы выбросили?! Месье Пьер! Ай-яй-яй! Нельзя так жить. Все терять, терять, терять. Я бы у вас купил.
— Я терял больше,— сказал Толстопят, прихлебывая чай.— Когда мы в двадцатом году уплывали в Черное море, мы теряли все. А звезды оставались над Крымом. Не знали, что многим их с того места никогда больше не увидеть. Сказано в Библии: «Лучше надеть жернов мельничный...» Вещей не жалко.
— Но теперь вы дома!
— Этим я и дорожу.
— Хотите, я дам вам «Ниву» за девятьсот четвертый год?
— Не кричите так громко.
— Простите, все школа, школа научила. Вы всех видели, месье Пьер. Еще несколько слов со скрижалей вашего сердца, пожалуйста. С царицей в карты играли?
— Да-а, если бы у меня был заведен синодик, в который бы я записывал имена, он был бы очень велик.
— Ах, как у вас хорошо! Она подарила мне мелодию Штрауса. И возникла божественная музыка чарующей красоты. Я очищаюсь. Мой милый непередаваемый Петр Авксентьевич, не знающий всей грязи жизни.
— Это я-то?
— Хотите, я принесу вам чудесную императорскую раму — из окна бывшего ювелира Гана?
— Заче-ем?
— Извините, от избытка чувств. Вы скромнейший, деликатнейший человек, месье Пьер.
— Нисколько. Я очень вспыльчивый, бываю груб невыносимо, я неуживчивый.
Все-таки на Лисевицкого постоянно действовало то, что Толстопят жил сорок лет в Париже и что в четырнадцатом году он получил офицерского Георгия. Есть такие люди: чужая биография затмевает им все.
— Вам не одиноко? — спросил Толстопят.
— Что вы! У меня же столько книг! Скоро у меня день рождения, я уже всего накупил, буду у вас.
Толстопят молчал, в глазах стояла боль, руки, когда он брал рюмку, дрожали. Лисевицкий пел, доставал с полки книги, нюхал корочки, рассказывал о первой своей любви в студенческие годы. Так бы ничего и не заметил добрый Лисевицкий, если бы Толстопят не заплакал и не сказал, что две недели назад у него умерла жена, Юлия Игнатьевна, спутница его, страдалица.[494]
ОДИНОЧЕСТВО
Я никогда не забуду, как Толстопят невыносимо страдал. В тот год жил я в Тамани; о смерти Юлии Игнатьевны Петр Авксентьевич сообщил мне через два месяца. Я приехал. Едва он увидел меня на пороге, заплакал и сказал: — А я один. Моей Юлии Игнатьевны нет больше. Моего солнышка.
Она долго болела. Ее душила астма, но она курила. Порою она не могла лежать и ночь целую простаивала у стены, вытягивая голову. «Дюдик! — говорил Петр Авксентьевич, просыпаясь.— Чем тебе помочь, моя милая? Зачем твои страдания бог не передал мне?» Раз как-то, глядя на ее мучения, он сказал: «Ты как Иов». Она вскрикнула: «Что ты, что ты! Я в чистоте и в тишине, а Иов был на гноище». Она медленно умирала. За две недели до смерти она сложила ко дню рождения супруга большое стихотворение, в котором напомнила всю их жизнь, со дня первой встречи на парфорсной охоте. Оно начиналось так: «Тому назад уже полвека...» Когда я читал это незамысловатое стихотворение, то думал: дай бог, чтобы на старости лет сохранилась у меня с женой такая благодарность за совместную жизнь.
«Ты бы, Дюдик, взял Лисевицкого, сходили в хороший ресторан, поужинали».
Перед смертью она за три дня ничего не ела и вдруг попросила варенья, присланного любимой племянницей из Киева.
— Надо бы исповедаться «за всю жизнь»...
Толстопят встал перед ней на колени, просил прощения за все, чем обижал ее; она вытирала его глаза платком. Взгляд ее уходил от него. Толстопят чуть слышно, заместо священника, затянул «Тебе поем...».
— На кого же я тебя оставляю? Бог не дал нам детей, Петя... Но наша жизнь с тобой... наш крест осененн...
Она не могла говорить.
— Помолись,— подсказывал ей Толстопят.
Она перекрестилась широким крестом и притихла. Толстопят будто умирал вместе с ней. Ему думалось, что она совершает последнее таинство. Она глубоко вздохнула, и глаза ее остановились. Толстопят приложил свою руку к ее руке. В эту минуту родная его Юлия Игнатьевна покинула его навсегда. Он взглянул на часы: было 6 часов 15 минут утра... Он до полудня никого не звал, сидел перед покойной с раскрытой псалтырью на коленях...[495]
Весь свой отпуск я пробыл в городе и по три-четыре раза в неделю проведывал Толстопята. Он сам приглашал меня: «Почаще бывайте. Мне с вами так спокойно. Я покажу вам письма Юлии Игнатьевны». Каждый раз я приносил вина или водки, потому что Петр Авксентьевич все равно пошел бы в магазин за бутылочкой. Его раздирали воспоминания, он говорил об одном и том же до самого расставания.
— Бурсак Дементий Павлович пишет мне из Парижа: «Будь на людях, ее не вернешь». Я знаю, что не верну. Потому и плачу. Будь на людях! Что я ему отвечу? У меня тут полно родни, у них своя жизнь. «Наш хранцуз осиротел». Тащут мне с огорода все, а мне ничего не надо. Я го-ордый! Даже двоюродный брат по материнской линии заходил. «Петя, мы тебе найдем невесту».— «Моя невеста,— говорю,— еще в люльке спит». Че-орт его знает! Он, когда мы приехали, высказался по пьянке: из-за меня они, мол, тут страдали. Я вам рассказывал? На самом деле их никто не трогал. Почему они должны были за меня отвечать? Мало ли у кого родственники за границей? А во время войны, когда немцы стояли в Пашковской, он говорил фашистским офицерам: «У меня брат во Франции белый офицер». Это он понима-ал.
— Значит, надевал черкеску и шел приветствовать к правлению?
— Юлечка умерла, и Калерия Никитична написала ему: Петр Авксентьевич очень горюет. Ни слова от него! Только через два месяца пришла открытка от него к Седьмому ноября: «Поздравляю с великим праздником...» О чувстве сожаления ни строчки...
Я глядел на постель с парижским одеялом, где спала Юлия Игнатьевна, на угол у стола, где она всегда сидела, вспоминал ее пуховые белые волосы, ее глубокие, видевшие на свете так много глаза, слышал ее голос, видел, как она перебирает пальчиками модистки мелкие предметы на столе и смущается, когда Петр Авксентьевич гордится тем, что писатели Куприн и Бунин баловали ее комплиментами, и погружался в вечное недоумение: как же это? Там, где недавно была она, уже пустота. Варшава, Петербург, Париж, Краснодар — и нет для нее уже ничего! И Петр Авксентьевич опустился в один миг.
— Вы не представляете, Валя, какая это была женщина! Вы застали ее больной. Солнышко! Больше мы не увидим ее ангельской улыбки. Деликатная, ласковая, воспитанная. Ее все любили. Мне ни перед кем не стыдно, что я плачу каждый день. Я один! Я без нее пропадаю...
Я молчал; мне даже было стыдно немного своего благополучия.
— Не хочу жить... У меня приятели в Ростове, бывшие парижане, два брата. Их внуки меня просто обожают, поди-ка ты. Мне ничего не нужно — это, наверное, многим нравится. Так они все приехали — и в один голос: «Месье Пьер, вам тяжело, мы напишем в Париж ее сестре, позвольте...» Никто мне не поможет... Больше жить не хочу.[496]
— А надо.
— Налейте мне,— протягивал он чарку. Я покорно наливал.— Удивить ее ничем было нельзя. Все видела, все имела. В Мариинском театре над царской ложей сидела. Плачу! Водой холодной глаза умою и выхожу на улицу. Соседи сочувствуют: «Приходите обедать, Петр Авксентьевич». Покойница вынянчила тут девочку, и эта девочка — она уже в школе учится — подойдет ко мне, руку мою гладит и молчит. «Зачем вы ездили лечиться, если вы курите?» — ей говорили. Она курила страшно, ей бы в старое время Асмолов подарок сделал за непрерывный стаж. Скривит губы: «Я не хочу остаться после Петра Авксентьевича».
Заходил посочувствовать Попсуйшапка.
— С трамвая встал на Новом рынке, мне надо было где Фотиади дом или дальше проехать. Горюете, Петр Авксентьевич? Вы еще счастливый, с одной женой жили, а я пятерых похоронил. Тут вот где толкучка на Покровке, мне один сказал: «Хочу вас соединить. Она еще не старая, чистенькая, была когда-то модисткой». «Нет,— говорю,— ничего не будет. И не затрудняйтесь». Думаю про себя: какие теперь могут быть секреты с посторонней женщиной? Вижу, он ее в сторону отводит, на меня показывает и разговаривает. Нет!
— Наши невесты, Василий Афанасьевич, еще в люльке.
— Но жалею, Петр Авксентьевич, что последняя моя жена выбрала мне хозяйку, а я не послушался. Завещала мне: «Ты не живи один, когда я помру, ни одного дня. Сейчас же женись. Я тебе выбрала невесту».— «Катя,— говорю,— где ж ты выбрала невесту, здесь или в Васюринской?» — «В Васюринской».— «Кого?» — «Ивановну. И не живи ни одного дня. Сейчас же езжай и женись. А там или она продаст свой дом да до тебя перейдет, а скорей всего ты до нее перейдешь. У нее готовый дом». А я не послушал и не выполнил ее последнюю волю. Вот так укусил бы себя за локоть, что продал свой дом.
— Да, это вам не повезло,— пять жен.
— Пять. Нужно было и найти и похоронить всех.
— Примем коньячку по стопочке?
— Если поддержать, то с удовольствием. Говорил Баграт в обжорке: после рюмочки шустовского коньяка всякий танец хорош.
— Знаете, я всю жизнь пил только коньяк. Со времен петербургских. Если меня угощали вином, водкой, я весь вечер пил воду. Нальем полнее обычного.
— Шустовский коньяк рекламировали в газетах стихами. «Разумно дни я коротаю и провожу весь век свой так, и винам всем предпочитаю я чудный шустовский коньяк». Я любил в обжорку к Баграту ходить. Сальничек стоил копейка штука. И хлеба дадут кусочек, и подливочки, покушаю как следует. Вы ж помните, сальник из бараньего гусачка, в баранью сеточку замотанный и прожаренный в своем жирку. Петрушечка там и зеленый лучок, и горький душистый перец. Пять копеек рюмка [497] водки, восемь-десять копеек чайный стакан. Ну, тогда из чайного стакана никто не пил.
Все у них повторялось, но они безвольно слушали друг друга. Что требовать от старого ума?
— Последняя моя жена была замечательная хозяйка. Она приготовит и соус синенький с барашкой — все хорошо. И обращение было очень вежливое. Прожил и не крикнул.
— Хоть бы Бурсак приехал! — стонал Толстопят.
— Бурсак? Какой? А-ах, племянник той Бурсачки. Ну ясно.
— Жду его, жду. Когда приезжают из Парижа наши казаки, прошу: «Зайдите к Бурсаку, расскажите ему, как я живу. Почему он редко пишет?» С покойницей часто говорили о нем. Сидим дома или гуляем по городу, обязательно вспомним: где он сейчас, Дементий Павлович? В кафе, в Доме инвалида? Она мечтала, когда он приедет, повести нас в ресторан «Центральный»...
— ...На месте гостиницы «Большая Московская». Что же, Петр Авксентьевич. Разве песней успокоиться: «Как бы можно, братцы, жить начать сначала». Дамский портной Рожков пел эту песню. А все равно, Петр Авксентьевич, надо стараться пожить в добром здравии и благополучии. Мне жизнь никогда не надоест. Я бы еще в Болгарию поехал, там кума моего брата, и в Анапе хотелось бы проведать дрогаля, не виделись с тридцатого года. Пойду сейчас дочитаю газеты. Там сегодня пишут — в Америке устроили покушение на наше представительство. Сколько Россия терпела и терпит!
Попсуйшапка вставал, и Толстопят начинал думать, что он опять будет один. Но они никак не могли расстаться: почистив щеткой ботинки, Попсуйшапка разгибался и говорил: «Недавно сносил туфли, покупал у Сахава в девятьсот тринадцатом году...» И, уцепившись за этого Сахава, рассказывал о своей службе приказчиком, потом о всякого рода товарах, ярмарках, шабаях; в конце концов они снова садились, и теперь уже Попсуйшапка слушал Толстопята, слушал о Савве Турукало или Тимофее Рыло, казаках станицы Пашковской, которых хорошо знал в Париже.
— Я помню, ага,— сиял Попсуйшапка оттого, что все помнит,— любил пробовать силу.
— Здоровый бугай и дурной. Через него Лука Костогрыз передавал царю записку. А в Париже мы пели в одном ансамбле. До войны прислуживал у великого князя Андрея Владимировича. И как-то затащил к нему нас с Юлией Игнатьевной. Привозит. Сверху спускается великий князь, вежливый сухой старичок, настоящий аристократ, держится просто и величественно. «Ваше высочество, хочу познакомить вас, это мой товарищ, кубанский казак есаул Толстопят». Товарищ, а в конвое он был нижний чин, дрожал от моего слова. Ладно. «Очень приятно,— подает мне князь руку (как написали бы раньше, «милостиво» или «удостоил подаяния руки»),— какого полка?» Я сказал. «Это у вас в Екатеринодаре мой двоюродный брат пригласил мариинок [498] в вагон и потом их едва не исключили из института? Станция Тихорецкая есть? Дорога на охоту в Псебай?» — «Было, было,— говорю,— была станция».— «Почему была?» — «Потому что мы в Париже, ваше высочество».— «Ах, да, была великая Россия». Мы в тот день поехали еще петь в Аньер. У меня был го-олос! Запою, бывало, мне говорят: «Послушайте, Толстопят, как вам не стыдно! Что же вы здесь сидите? В Белград поезжайте, в Софию. У вас такой голос!»
И это он говорил Попсуйшапке, Лисевицкому, мне и потом еще повторял при других: «У меня был голос!»
— Их и там звали «высочество»?
— Все оставалось как в России. Князь Феликс Юсупов, убивший Гришку Распутина, одно время работал таксистом, но к нему всегда обращались так: князь! Трудно отвыкать. Позвали нас петь в один дом. Говорят: «Сегодня у нас будет генерал-губернатор Самары». Ну и ладно, нам все равно — споем, покушаем. Не помню, была ли на столе скатерть, хватало ли стульев. Входит генерал-губернатор с адъютантом. «Ваше превосходительство! — к нему.— Просим, очень рады». В Париже-то! Сели. Пили чаек. Так и уехали голодные. Не дали кусочка и за «Боже царя...» — Он помолчал.— И придут времена, и исполнятся сроки. Грустно это.
— Да, грустно, Петр Авксентьевич. Проморгали Россию, так чего уж рядиться в костюмы. Или думали вернуть свое?
— Ду-умали. Думали, идиоты. Савва Турукало подслушивал их разговоры и мне рассказывал... Так этот Савва Турукало появляется в прошлом году в Краснодаре, стучит ко мне. Боже, какая радость! Словно с того света, из Парижа. Савва! Вечер. Мы сидим с покойницей у телевизора. А она тоже любила, когда кто-нибудь приезжает оттуда. Са-авва! Здоровый бугай! Это тот Савва, который приходится братом старухи из Пашковской, может, знаете, Василий Афанасьевич, она живет возле сквера, рядом с домом Мороза, у них великий князь Николай Николаевич во дворе был в шестнадцатом году. Я теперь так понимаю: тачанку разобранную он спрятал на крыше.
— Какую тачанку?
— Казаки ж думали вернуться. И разобрали тачанку, смазали, уложили под крышу. А когда после войны рабочие ремонтировали, нашли. «Не трожьте, хлопцы,— старуха им,— оно исты не просит... не вами положено».
— Ну ясно,— сказал Попсуйшапка.— Могло быть. Они ж, пашковцы некоторые, и немца ждали и встречали с хлебом-солью. Они меня чуть не расстреляли в девятнадцатом году.
— И появляется. Хорошо одет, бравый, оре-от! А Юлечка — она же добрая у меня была, ласковая, нету такой! — приготовила нам все, сама дышит плохо, понаставила на стол, волнуется. У него почему-то котелок, и там приготовлена баранина с картошкой, он едет, оказывается, от родни из Пашковской, завтра рано ему сестру встречать из Новороссийска. Я обо всех [499] расспросил. Уже ночь. Укладываем его спать. Он та-ак храпел, я его проклял. Утром дарит мне галстук. Едем на вокзал. Выходит из вагона его сестра, дряхлая, маленькая. И он тут же меня забыл, свинья! «Я к тебе приеду, — говорю, — еще потолкуем». — «Да знаешь, — мнется, — я дня четыре побуду еще — и в Париж». Вот люди! Нижний чин. Трепетал передо мной в Царском Селе, но прошло-то пятьдесят лет. Он подумал, что я его стесню. Да у меня в станице полно знакомых, родня! Болван. Людей ничто не переменит, — какие родились, такие и умирают. А Юлечка, солнышко мое, умница, она заметила, что дареный галстук старый, но не сказала мне. Они там стали меркантильными, как французы, научились, да не тому. Я взрывался в Париже. Один привез сюда мемуары, жалкий лепет какой-то, ходил я с ними в альманах «Кубань». Оставил, наказал мне проследить и только об одном говорил: «Пусть они мне деньги пришлют!» Скуповаты казачки. Он умирать будет, на сундук ляжет, а не отдаст. «Знаешь, — говорит мне Савва, — дураки мы были, шли за царскими генералами, за дворянами. Они добро свое защищали, а мы шли за ними». Ты шел! А я сам за себя отвечал. Поэтому ты в Париже живешь, идешь за подачками в разные антисоветские организации, а я на родине. Мне не все равно, где жить... Я там ссорился с одним казаком. «Горжусь, — говорит, — что я француз». Я на него с кулаками. Я сорок лет рвался на родину.
Попсуйшапка хмыкал удивленно, странный мир эмиграции, мир русских людей, которых он знал вроде назубок до великой смуты, поражал его, он ведь тоже, как все, позабыл о них, и вот Толстопят вытаскивал всех на сцену. «Дивные дела твои, господи! — повторял Попсуйшапка. — Сколько чудес, горя, странностей, превращений». Сам Толстопят был чудом. Чудо то, что он, такой недоступный раньше офицер, разговаривает с ним с родственной откровенностью.
Чужим несчастьем всегда пользуются.
Признаться, невольно пользовался желанием Толстопята излиться и я. Ему было все равно, кто и как применит его слова, рассказы, эпопеи, кому передаст. После смерти Юлии Игнатьевны он стал еще говорливее, а вещи в его глазах потеряли всякую цену. Уже многое исчезло из его квартиры за два месяца. Платья, шляпы, пальто, халаты, шелк и французские отрезы разобрали соседки; швейную зингеровскую машину увезла в Пашковскую свояченица; несколько номеров «Современных записок» с рассказами Бунина, Шмелёва, Ремизова, романами Алданова, Набокова, Берберовой, статьями политических деятелей, историков засунул в свой портфель Лисевицкий и трепетал над ними как над реликвией, ни строчки не читая; плетеное кресло Толстопят насильно вручил старику Скибе. Мне он позволил разобрать бумаги Юлии Игнатьевны: письма, альбомы со стихами и надписями, всякие листочки, вырезки из журналов и газет за целые полвека. Лежала там и надорванная страничка из «Нивы» — [500] окончание стихотворения все того же великого князя, августейшего соблазнителя чувств екатеринодарских барышень:
...И вновь зовет к себе отчизна дорогая,
Отчизна бедная, несчастная, святая,
Готов забыть я все, страданье, горе, слезы
И страсти жадныя, любовь и дружбу, грезы
И самого себя. Себя ли? Да, себя.
О Русь, страдалица Святая, за Тебя.
— Валя! — умолял меня.— Приходите ко мне чаще. Я полюбил вас. Мне тяжело. А чтобы вы не утомлялись от моих разговоров, я буду петь вам гусарскую песню «Где друзья минувших лет?». Вы скоро уедете?
Мы ездили с ним к Панскому куту, к Карасунскому озеру в Пашковской, спускались к реке Кубани (в том месте, где она поворачивала к бывшей ферме Гначбау), оттуда шли мимо Троицкой церкви, тогда еще служившей, и на Красной заглядывали в букинистический магазин к Марку Степановичу (я полчаса ждал, когда они наговорятся), а в теплые сухие вечера приставали к шествию горожан от улицы Гоголя до сада и обратно (это были последние годы ежевечернего общения людей в уличной тесноте на дорожках сада). Улица Красная долго была южным Невским проспектом. Она и длинная такая же. Иногда мы с Толстопятом сходили с ее камней чуть ли не последними. Уж кое-кто спал; на дверях магазина в бывшем зеленом богарсуковском доме висел замок. В поперечных темных улицах дома казались совершенно екатеринодарскими; и только колокола на красном соборе уже не били ни полночь, ни утреню. Толстопят теперь пел в церковном хоре, зарабатывал денежки; я раза два провожал его к собору, сам заходил туда, и, когда с высоты раздавалось песнопение, я выделял сильный голос Петра Авксентьевича. С его слов я знал всех хористов, их характер и возраст, хотя ни разу никого из них не видел:
— В Париже ко всем казакам обращались попросту, а ко мне: «Господин Толстопят!» За голос. Дмитрий Смирнов, знаменитый тенор, артист императорского театра (его в Париже ставили выше Собинова), прослушал меня и сказал: «Не надо вам учиться. Поете? Ну и слава богу. И будете петь, пока будет голос. Где же вы в Париже достанете средств учиться? Пойте». Я пел ему на слова Дениса Давыдова: «Я помню глубоко, глубоко мой взор как луч проникал и рощи, и бор...»
Однажды Лисевицкий привел к нему Верочку Корсун. Готовил Лисевицкий встречу с трепетом, больше всего желая, чтобы Толстопят очаровал Верочку своей удалой биографией и знаменитостями, которых он «имел счастье лицезреть».
Потом он раз десять переспрашивал Верочку о впечатлении от знаменательного вечера: «Ты почувствовала прилив счастья с есаулом Толстопятом? Георгиевский кавалер. Сколько тончайших вин перепил он, сколько полосатых тигриц перецеловал! [501] И ты, скромная милая дама, пролила женский бальзам на его раны жизни... Ха-ха...»
Верочке старый Толстопят в самом деле понравился; раз-два в неделю она приходила к нему без Лисевицкого. Толстопят ожил, привык к ней и когда она какую-нибудь неделю пропускала, он с веселой горестью говорил ей: «А я думал, что вы меня уже бросили навсегда». И ей, молоденькой, была приятна тоска старика. Есть, оказывается, старики, возраста которых не чувствуешь. Ей хотелось поухаживать за ним, постирать занавески, скатерти и рубашки, сварить ему вкусного борща. И она ни с кем так много не болтала, как с ним. А уж он ей тоже порассказывал! С дней его детства и до самого отъезда из Парижа пропутешествовала Верочка и, когда касалась речь женщин, вроде бы даже завидовала, что не она жила в те годы.
Верочка тоже ласково глядела на него и частенько, прощаясь, говорила:
— Я завтра в обеденный перерыв прибегу, супчик сварю вам...
— Не много ли чести мне?
— Пе-етр Авксентьевич... Мы все вас так любим...
— Вы как моя сестра Манечка. Та всех жалела. Ах, наши русские женщины. Нет их милосерднее. Хорошо, что я вернулся на батьковщину. Юлечки моей только нет.
— Вы... изменяли Юлии Игнатьевне?
Толстопят сделал вид, что не расслышал.
— Меня тут сватают за вдову с шубами и коврами, я злю-усь: как они не поймут, что я после Юлечки никого не найду? Неужели им не ясно? Мне никто не нужен. Солнышко мое!
К закату дня их стали видеть на Красной, в Ворошиловском сквере на лавочке — его, гвардейски стройного, в берете, без морщинок на лице, и тонконогую Верочку,— и кое-кто стал сплетничать, а Лисевицкий, попадаясь им на пути, вздымал руки и кричал: «Замрите вот так! Я вызову фотографа Булла: одна эпоха передает эстафету другой!»
— Здесь вот я обидел последний раз Юлию Игнатьевну, перед самой ее смертью,— сказал Толстопят, когда они поравнялись у сквера с Доской почета, за которой росли деревья и белел каменный прямоугольник с железной дверью...— Там Александро-Невский собор был. Она мне говорит, покойница: «Постой, Дюдик. Вот тут ты на коленях во время панихиды снят, в восемнадцатом году осенью или в девятнадцатом. Где та фотография?» — «В журнале «Часовой», но я ведь все журналы оставил в Париже».— «И не вырезал?!» — «Зачем ты, Юлечка, напоминаешь об этом? Я приехал жить, а не вспоминать. Что я буду возвращаться к старым конюшням?!» Накричал на нее, и она так обиделась, что слегла. Солнышко мое. Я грубиян. Зачем я ее обидел, старый дурношап? Не могу простить себе. Я сказал правду, а иногда лучше промолчать. Не могу. Привык.
— Вас любят за правдивость, месье Пьер...
— Однако видите, как получается...[502]
— Вам лучше бы не ходить здесь, забудьте.
— Вы думаете? К одному месту у реки Кубани я не могу подходить. Это за Бурсаковскими скачками, поближе к Елизаветинской. Только с той, черкесской стороны. Восемнадцатый год, март, нам надо взять Екатеринодар. Небольшая перестрелка была, мы еще не переправились. Гляжу: на другом берегу солдат прилег к воде, напиться. Я прицелился, бах, он головой в воду. Зачем убил? Когда переправились, я подошел, рубаху раздернул: крестик на груди. Вот, друзья мои. И я стараюсь не ходить к тому месту.
Верочка глядела на него и думала, чем бы отвлечь Петра Авксентьевича от воспоминаний. Но он сам оборвал себя:
— А вон там я впервые ел мороженое. Это было пятнадцатого мая. Мне восемь лет. Пятнадцатого мая — это знаете что за день? День коронации Александра Третьего. Осенью этого года он скончался в Ливадии. Я учился уже в Екатеринодаре и вдруг на Красной увидел батька и матушку. Семьдесят лет прошло, а я, когда иду там, вспоминаю об этом с нежностью к ним. Вечером я опять ел мороженое в городском саду, а батько закусывал с чиновником хозяйственного правления станицы Старощербиновской. На другой день батько купил мне книги в магазине Галаджиянца и уехал в Пашковскую. Живите, Верочка,— и обнял ее за плечо.— Любите, страдайте. Ну что, поглядим на закат?
Они несколько минут без прищура смотрели на большое смуглое солнце, клонившееся за Кубань прямо над последними домами улицы Ворошилова.
— Вот что я вспоминал в Париже,— сказал Толстопят.— В августе солнце всегда садилось в восемь часов на краешек нашей Гимназической улицы. Время по волоску отнимает нашу жизнь... Ничего не жалко, ни отцовского угла, ни устоев, а жалко Времени: оно как падучая звезда! «...И лишь земля пребывает вовеки...» Но я бы, дети мои, вместо «земли» говорил «небеса». Только сейчас, повидав страны и моря, я чувствую, что живу не просто в городе, на такой-то улице, а живу истинно, истинно под небесами... Пойдемте, друзья мои, я вам покажу, где жила у Попсуйшапки в девятнадцатом году Юлия Игнатьевна, а оттуда заглянем к нашим молодоженам — Шкуропатской и Скибе.[503]
ЭТО ЖИЗНЬ
Бывший участник гражданской войны, ежегодно стоявший в часы праздничных демонстраций на трибуне вместе с такими же ветеранами, двоюродный брат тех самых Скиб, которых в 1908 году без суда расстрелял темной ночью на улице помощник полицмейстера, жил с некоторых пор у Калерии Никитичны Шкуропатской.
Нет человеку счастья в одиночестве, и он ищет союза с другим. Аким Скиба теперь еще чаще, чем в молодости, думал: «Кто же меня берег? Как это я уцелел на долгом пути?» Не взяла его пуля в войну с турками, не расстреляли его белые, миновала его смерть в голодовку, спасся в последнюю войну от полицаев. Стольких друзей похоронил он, потерял без вести, столько сверстников свернулось от болезней. А он еще бодр и в музее железнодорожного клуба развешивает фотографии бойцов и читает лекции. Кто ж его берег?!
Добрые русские люди. Или это судьба?
В тепле, в чистоте лежал он на кровати и пел то красноармейские, то современные маршевые песни. Калерия Никитична постепенно привыкала к нему, разделяла его симпатии, а главное, ценила его доброту, честность, патриотизм. Все хорошее в самом человеке.
— Кого-то же и я берег,— говорил он.
Когда вспыхнула война с Польшей, его призвали в армию и повезли через Россию. В Воронежской губернии подсели к ним в товарный вагон две молодайки; с наступлением ночи их стали насиловать солдаты. Насиловали их и днем. Скиба лежал на нарах, не вытерпел и изо всей силы турнул двери ногою. Они открылись настежь, и солдатня предстала в скотской наготе.
— Кто отворил двери?!
— Я!
— Бей его! Выкинуть с вагона!
— Ах вы, соборня несчастная! Кого будешь бить?
Они, к удивлению, притихли. И решили они выбросить молодаек на полном ходу. Скиба опять закричал не своим голосом: «Не трожь!» Где-то близ Пензы эшелон остановили, приказали всем выйти и построиться. Вскорости мимо прошли несколько вооруженных красноармейцев и двое гражданских; они вели под руки молодайку с забинтованной головой. Она внимательно вглядывалась в солдат. Из рядов вывели троих и тут же у водокачки расстреляли. Эшелон тронулся. «Ну что? — спросил Аким.— [504] Выкинете меня из вагона?» Все промолчали, никто больше до самой Казани не поддевал его. А ведь его могли выкинуть вместе с молодайкой. Что спасло?
И как он не погиб потом, на Севере?
В Казани им выдали обмундирование, и они все сразу стали одинаковыми. Кубанцы распознавали друг друга по казацкому чекменю, по поясу и шапке, а то и по стоптанному сапогу. Потом в сопровождении вооруженной охраны повезли их к Вологде, с Вологды в Котлас. Там у него опухли ноги. До Великого Устюга шли пешком шестьдесят верст. Скибу положили в больницу, где над ним подтрунивали: «А-а, раз с Кубани, значит, бывший белогвардеец».— «Вы здорово не белите,— отвечал он,— не знаете кубанцев, так помалкивайте. Мы всякие». И решил он удрать за своей частью. Пошел от деревни к деревне, напоминавшим Кубань только колодезными журавлями, ночевал в избах с тараканами; роса в полях не сходила круглый день, и солнце нисколечко не грело. Кое-где звездочку на его фуражке считали антихристовой печатью, и напрасно было просить хлеба. Почему он не умер, не замерз? Опять кто-то хранил его. Весной чувствовал себя плохо: какая-то вялость, безразличие, сонливость. За хлеб он пилил жителям дрова. И тараканы! Кругом тараканы, даже в свекле. «Они, бывает, как невзлюбят новую сноху, то загрызут»,— поделился один мужик. Заря ночью была такая ясная, что, стоя на посту в двенадцать часов ночи, читал газету. Первый пароход встречали всем городом, и думалось, что на этом пароходе везут в каждый двор по родственнику. Пахали только сохой. Ему не верили, что на Кубани в железный плуг впрягают по четыре лошади. Зубы стали шататься, по ногам пошли синие пятна: если нажать слегка пальцем на пятно, мясо проваливается до кости. «Тебе только и жить на юге»,— сказал доктор. И отослали Скибу домой.
В тот 1921 год была на юге небывалая засуха. Но все же Кубань! На Кубани даже нищие и те отличались от северных. В Великом Устюге пройди десяток дворов, и вынесут где-нибудь кусочек грамм в двадцать. На юге нищие бродили с гармошкой, с маленькими девочками, певшими звонкими голосочками: «Когда ж тебя, детка, поранят, пишися ты в мой лазарет». У нищего справа сума для хлеба, слева для сала, на спине — для муки.
В станице Марьянской у хаты сидел старый отец.
— Сети не продали? — первым делом спросил Аким.
На другое утро он принес домой полтора пуда рыбы.
«Богатая жизнь» — под таким заголовком мечтал он написать о себе. Но все было некогда. Я подговаривал Калерию Никитичну и сам подбивал его взяться за мемуары, подарил ему амбарную книгу. Вечерами, пока Калерия Никитична что-нибудь подшивала или готовила ужин, мы с ним рассуждали на разные темы. Он рассказал, как набился к Калерии Никитичне в мужья.
Старики в таких случаях долго мнутся, выверяют, советуются со всеми подряд; им кажется, будто последний в их жизни брак воспримется людьми как сделка и будто нарушают они этим [505] верность всему прежнему, что было дорого и единственно, и письма в шкатулках, подарки, фотокарточки тех, кто сопутствовал им когда-то, немо укоряют их в измене. А что делать? Как жить одному? Кто добудет лекарства, поднесет воды? Это жизнь.
Давно ушло то время, когда Шкуропатская бегала с подружками на вокзал к великому князю, она этого и не помнила и много лет совсем иначе глядела на все. Но как когда-то ее матушка в Хуторке привечала всякого, кто нуждался в тепле, пище и добром слове, она открывала теперь свои двери одиноким. Лет за восемь до Скибы приняла она из жалости старичка. «Я вдовец,— сказал он ей в магазине,— не подскажете, есть на вашей улице старушка без семьи?» Он напросился к ней попить чайку. Пил, грелся и читал ей пушкинского «Мазепу». Ему, видать, понравилась ее терпеливость, и он пришел еще. В гражданскую он был в коннице Буденного, пережил всех родных, теперь никого. У Калерии Никитичны стояли две девочки-квартирантки. Он им приносил конфет, подговаривал: «Скажите Калерии Никитичне, чтобы она оставила меня у себя. Я ведь командир полка Красной Армии, а она одна. Скажите, что вам без меня скучно». Капля камень долбит, Калерия Никитична пожалела его. Через три года он умер. «Золотце»,— называл он ее.
С Акимом Скибой она повстречалась в Горячем Ключе в профсоюзном пансионате. Однажды к ним на вечер пришел ветеран гражданской войны. Он не только живо вспоминал былые походы, но и читал стихи собственного сочинения, патриотические, длинные. Калерия Никитична поднялась на сцену и преподнесла ему цветы. Он приобнял ее и поцеловал в щеку. Потом они станцевали три раза, гуляли гурьбой под баян культурника по лесным дорожкам и несколько раз одни. Он пел, читал стихи. «Очень добрый и ласковый,— написала она подруге в Ленинград,— и еще интересный: нос горбинкой, прическа под ежика. Сыновья погибли на фронте, жена умерла. Просит соединить жизнь». «Будет сенсация на весь город,— ответила подруга,— на семидесятом году выйти замуж!»
В решающий день Калерия Никитична достала из шифоньера, из кучи белья, фотографию молодого Дементия Бурсака, которую она чудом не уничтожила до войны и, видно, где-то прятала — быть может, закапывала на огороде,— от сырости по краям стекали желтые мутные пятна. Глядел в сторону молодой-молодой господин, бережно зачесанный на пробор, в хорошем дорогом костюме, в белоснежной рубашке и с белоснежной широколистой бабочкой. Глядел он чуть вкось, и нос его казался еще острее.
— Видите, какой у меня был муж?
— Ну что ж...— сказал Скиба, ничуть не смутившись.— Я вам не помешаю помнить о нем. Он был справедливый присяжный поверенный. Я помню, вы с ним на дачу Бурсачки приезжали. Умер?
— Он в Париже. Он меня бросил, но я ему все простила. Ему было так лучше — уехать, пускай. Пускай будет ему лучше. Я [506] вытерпела. Когда немцы в сорок третьем году издавали у нас в Краснодаре газету, появилось однажды объявление: «Б. присяжный поверенный 1-го окружного суда Д. П. Бурсак запрашивает из Франции, нет ли в городе кого, кто его помнит». Я не отозвалась...
— Ну что ж...— опять не смутился Скиба.— Вас можно понять. А он почему уехал?
— Он знаете какой человек? Из той интеллигенции, честной, порядочной, но которая в любое время чем-нибудь да недовольна. Он всегда прав, всегда «выше этого». При царе был недоволен, царя не стало — опять. Так и уехал.
— Что ж...— сказал Аким.— Значит, так ему суждено. А я женился поздно. В двадцать третьем году иду ночью по станице, ору песни: «Дремлют плакучие ивы». Соседи ругались: «Ну чертов бурлак! И когда он женится?» Сижу на гулянке и думаю: куда ж делись мои друзья? Все переженились, а для новой молодежи я уже дядько. Меня никто не любит, и я никого, а где ж моя пара?
— Трудно представить, что вас не любили.
— Любила когда-то казачка Федосья, она спасала меня от жандармов. Думала, что я погиб, и вышла замуж. Но свою судьбу конем не объедешь. Шли с братом по степи. За хутором переходит нам дорогу девушка, но, видно, вспомнила, что с пустыми ведрами нельзя, и остановилась. Боже, как хороша! — гляжу. Что лицо, что фигура, ну чистая божия матерь. Я даже забыл поздороваться. Стали знаться. Она всякие песни манерные пела. «Ты богу молишься?» — спрашиваю раз. «Молюсь».— «А зачем же такие песни поешь?» — «Это я нарочно. Я совсем не такая». Я поцеловал ее и чувствую, что она мне без души отвечает. Но я забрал ее. Она ревновала меня к книгам. «Чертовы евангелисты, повлипают в те книжки, как клещ в корову, та понадуваются, что аж ничего не видят и не чуют. У нас казак начитался так, что полез на потолок бахчу садить». Зато готовила быстро и вкусно. Умерла в войну.
Простота и душевность Скибы сломили все сомнения Шкуропатской.
Зажили хорошо, друг другу ни в чем не мешая. Шкуропатская писала десятки открыток во все концы, следила за новинками литературы, Скиба оформлял уголок гражданской войны в железнодорожном клубе, выступал по школам. Они неугомонные были, эти ветераны. Скиба завел тетрадку «Лечение своими средствами», снабжал собственными рецептами журнал «Здоровье» и не сердился, когда ему не отвечали. Заметив неправильности в краевой карте Кубани, он строчил в Институт геодезии и картографии; в другом письме советовал тополя у дорог заменить липами; еще как-то возражал меднадзору, потакавшему обработке артезианской воды хлоркой; от телевидения требовал передач о чести и совести; по случаю избиения малолетками орденоносца дал затрещину судьям: суд скорый, правый,[507] милостивый и равный для всех — тогда только искореним преступность. Некоторые письма он не отсылал. Иногда, разгоряченный голосами международных обозревателей, чувствуя святую необходимость поддержать Отечество «словом народа», Скиба до ночи готовил отповедь Пентагону и самому американскому президенту, причем, как всегда бывало с людьми его поколения, он писал и сам слышал громкое эхо своих слов по всему миру: «Знаете ли вы,— сливался его голос с голосами живых и упокоенных ветеранов,— знаете ли вы, горе-политики, что за ваши плутни вас уже сейчас ненавидит простой народ всего мира, ибо везде действует закон простого человека, не записанный ни на каких скрижалях, но это закон, который разрушил Вавилон, разметал древний Рим и растерзал Византию, а в недалеком прошлом и царскую Россию? Так зачем вы, господа, лезете к нам с ножом к горлу? Зачем окружаете нас военными базами,— что мы вам сделали плохого? Обвесили, или обсчитали, или, может, на картах обжульничали?»
Утром его что-то удерживало, он стыдился того, что лезет не в свои дела. Совсем другое, когда надо перед своими защитить память о героях.
С Толстопятом он в охотку обсуждал международные события. О прошлом, о том далеком буйном прошлом старались не вспоминать, разве что рассказывали всякие детские истории. И все же однажды они неловко столкнулись. Толстопят пожалел своих товарищей, доживающих в Монморанси в доме для престарелых. «Ну дак что ж,— погрозил голосом Скиба,— они сами того добивались. Удрали. Наверно, у них в девятнадцатом году руки от крови не просыхали». И тут Толстопят в своем казачьем упрямстве вздумал их защищать: «Да знаете, Аким Михайлович, разные ведь и среди них люди были. Иной увидит у красноармейца крестик на груди и пожалеет. А погоны к плечам гвоздями никогда не прибивали». Скиба вспыхнул: «Не прибивали! А в станице Ханской красноармейца решили повесить, не нашли, так повесили его мать. Не ваши ли то были казаки?» — «Не мои, не мои, Аким Михайлович. Мои казаки никого не вешали».— «Вы это так говорите, Петр Авксентьевич, будто в том ваша заслуга».— «Тогда в армии, Аким Михайлович, было заслугой убивать, но ведь прошло сорок с лишним лет, и я недаром вернулся».— «За давностью лет простилось...» — уже мягче сказал Скиба и налил Толстопяту чаю. Женщины помогли им успокоиться, отвлекли на заботы нынешних дней,— живите, мол, уже тем, что устоялось.
Однажды мы с Толстопятом застали его совершенно взбешенного. На столе лежали стопами тома собрания сочинений Ленина, и, едва мы поздоровались, он стал зачитывать нам страницу о бюрократах.
Случилось вот что. Сын первого комиссара Новороссийского округа, организатора обороны Екатеринодара от Корнилова, позднее члена Екатеринодарского ревкома, умершего в 1937 году, прислал Скибе толстый пакет с жалобами, точнее, «Избранные [508] места из переписки с болванами и сволочью» — документ жуткой обиды на издателей, не желающих печатать его «Размышления над бумагами отца». Аким от одних воспоминаний о товарищах вскипел ненавистью к «неблагодарным потомкам».
— «Болваны и сволочи» — это ленинское определение волокитчиков,— говорил он нам и тыкал в страницу толстого тома.— Я пойду куда следует. Так нельзя. «Тащить волокиту на суд гласности»,— Ленин пишет. А это что?
— Но, Аким Михайлович! — вступал я.— Может, рукопись никуда не годится. Заслуги заслугами, а надо же еще уметь писать об этом. Прошло пятьдесят лет, народ вырос.
— Пообещали сначала — так держите свое слово. А не перекидывайте бумаги от одного к другому. Десять лет тянется...
— Уладится, Аким Михайлович,— считал нужным сказать нечто успокоительное и Толстопят.— Много ли у вас сил. Я согласен с Валентином Павловичем: не все написанное годится. В Париже выходило много журналов, книг. Было что почитать иногда, а в основном такая дребедень, каждый со своей колокольни такую чушь прет!
— Я в Париже, Петр Авксентьевич, не был, и слава богу. А что это за ответ: сперва — мнение о вашей книге положительное, а потом — издатели очень перегружены рукописями о первых годах жизни советского народа? Коновалы! «Нужна команда». Какая команда? Откуда? Какие «современные требования к исторической литературе»? Волокита, она волокита и есть.
Все же он сходил куда-то, ему там что-то объяснили, и он больше разговора об этом с нами не вел.
Все чаще выступал он в школах.
Каждый раз он рассказывал о чем-нибудь новом, перед тем лежал день на кровати и вроде не знал, про что еще вспомнить. Вдруг прискакивал Лисевицкий, кричал: «Напротив магазина братьев Тарасовых сломали дом! Я притащил императорскую раму». И рекой потекли в памяти события. Двадцатые годы. На лакированных фаэтонах разъезжают коммерсанты. В ресторанах Армавира, шашлычных, харчевнях гуляют, свершают сделки владельцы магазинов, торговых складов, лавок. В апреле среди бела дня был убит сотрудник уголовного розыска Чу-Фын, китаец. Его место занял агент первого разряда Аким Скиба. На улице Троцкого, 72 жила официантка ресторана Маша, дочь купца Тарасова. Нет, она не была дочерью, это ее мать работала у купцов прислугой. «Маша,— сказал он ей,— вы готовы нам помочь ликвидировать банду?» И так далее. Тема выступления найдена!
После выступления перед школьниками он еще раз пересказывал то же самое дома Калерии Никитичне. Однажды мы пришли и ждали его, пили чай.
Все чужая жизнь, и я каждый день слушаю, расспрашиваю, и вот чувствую, что устаю, теряю свои дни, очарование молодости, и мне хочется переменить свои интересы. Но я сижу, я уже прирос к людям, они меня зовут, им скучно, им что-то нужно, они [509] цепляются за жизнь всеми коготками, и это я, я их толкаю назад, в молодость, в детство, в невидимые годы.
— Ушли, ушли наши годы,— вздыхал Аким.— Молодежь живет в достатке, не знает, сколько мы мук и горя приняли. Я им всегда говорю: «Милые дети, разыщите фамилии героев, поклонитесь им своей памятью».
Мне хотелось поклониться им, но они не оставили письменных следов. Они не умели писать, и в их многочисленных мемуарах, затолканных в шкафы по архивам, одни общие слова и перемалывание того, что мы знаем по учебникам средней школы. Нет там жизни! Надо было родиться в их семье, жить с ними и подслушивать случайные разговоры, в которых они раскрывались, особенно в те минуты, когда их что-то заденет.
Раз пили мы по обыкновению чай за столом, а по телевидению крутили пьесу Чехова «Три сестры».
Аким Михайлович вдруг прервался и, точно на стук в дверь, повернул голову к экрану.
— Вы говорите: прекрасна жизнь,— певуче, по-мхатовски, говорила актриса.— Да, но если она только кажется такой! У нас, трех сестер, жизнь не была еще прекрасной, она заглушала нас, как сорная трава...
— Ах, бедняжечки! — с долей ехидного сочувствия сказал Аким Михайлович.— Сколько раз смотрю, и все им плохо, плохо. Да вы встаньте с того света вместе с Чеховым и порасспрашивайте своих деток и внуков, как они работали, что перенесли, голод и холод пережили и никогда не плакали принародно.
— Вы как будто одними словами с моей покойницей Юлией Игнатьевной рассуждаете,— сказал Толстопят.— Она не любила Чехова. «Нытик»,— говорила. Где он видел таких женщин?
— А были, были,— вмешалась Калерия Никитична.— У меня в Екатеринодаре была подружка, она сейчас в Ленинграде. Так ее мама... Пойдет в магазин к Мерцалову, наберет продуктов в долг, ее запишут в тетрадочку, она принесет домой, руки опустит: «Ах, в чем смысл? Живешь — не знаешь зачем...»
— Ну она же не рожала по тринадцать детей! — прикрикнул Аким Михайлович.— Как наши матери. Да во дворе две-три коровы, да овцы, свиньи, утки, гуси, куры, да в поле семь десятин у казаков земли, а ее обработай, собери да привези, и она, бедная баба, круглый год не знает покоя, рта раскрыть некогда: «В чем смысл?» Плачут: работать, работать. В Екатеринодаре даже Бурсачка занималась благотворительностью. Жены офицеров-казаков коров доили. Кто этим сестрам мешал работать?
Калерия Никитична не соглашалась:
— И все же и они разные были...
— О том и речь,— согласился Толстопят.— Некоторые заняты были исключительно фасонами шляп и покроями платьев. Зависть к чужим наслаждениям, выездам. Котильоны, мазурки, места в министерских ложах. Даже в Париже гордились: «Мне на золотых блюдах подавали фазанов».[510] Их же предупреждали: «Prenez garde aux consequences» (берегитесь последствий). Не верили. Так же и эти сестры чеховские: что они могли предвидеть?
Как всегда, разговор потянулся в сторону, первое раздражение забыли, у каждого находилось свое слово, уводившее еще далее; так было и на сей раз. Толстопят уже повествовал о самостийниках, мечтавших за рубежом о Казакии. Калерия Никитична зачитала две страницы из романа Радченко «На заре». Аким Михайлович поспорил, сказал, из какой автор станицы, назвал другую станицу, из которой в период раскулачивания выселили всех поголовно, и опять, в какой раз за свою жизнь, воскликнул: «Как я выжил? Кто меня берег? И голодовку пережил».
— В тридцать первом году сдавали мы табак. На ночь приехали в Елизаветинскую, остановились на краю. И я порыскал, порыскал по дворам, ночлег искал. А станица как вымерла. Ни огонька, ни звука. Постучал в одни ворота — не слышно. Я захожу во двор. Двери дома забиты навкось доскою, а рядом так... большой подскотный сарай. Я отворил ворота, обоз впустил. Сарай был настолько вместительный, что мы закатили в него все свои тринадцать подвод. В колодце ребята достали воды, но она ту-ухлая. Понюхали, дали лошади: она фыркнула и отвернулась. Тогда мы что? Поставили ведра под желоба, с них с крыши сбегала теплая вода талого снега. Пока вода набегала в ведра, лошадям дали сена, потом мочили в ящиках полову и посыпали ее смесью — там кукурузы немножко, ячменя.
Ночь. Я залез под брезент и приготовился «возить дрогалей» до самого утра. Вдруг слышу, как наш извозчик кричит во все горло: «Стой, растак твою! Сюда, ребята! Бей его!» И тут же чей-то голос: «Стой, стой, не бей, с нами судья. Мы его сперва осудим». Когда я подбежал, вижу: малый Иван держит левой рукой под уздцы лошадь, а правой за шиворот человека. Тот сидит в грязи.
«Понимаешь,— говорит Иван,— смотрю, лошадь пошла от арбы. Когда гляжу лучше, а у ней шесть ног. Понимаешь, сволочь, он повод перерезал. Тащите его в сарай, а ты, Прошка, выйди за ворота, нет ли кого».
И я начал суд.
«Встать, суд идет! Ты что? Оглох?»
«Нет мочи».
«А красти коней мочь была?»
«И чего мы с ним воловодимся? — возчики кричат.— Жмякнем его раза три оземь — и в колодезь».
«Ты с этого двора?» — спрашиваю.
«Нет, я с другой станицы, тут я случайно».
«Зачем лошадь брал?»
«На мясо».
«А почему ж не взял две?»
«А вам же надо ехать на чем-то дальше».
Я уже и не знал, о чем спрашивать. Голод! Кругом голод.[511]
«Посветите, я посмотрю на него».
«Нечего тут смотреть,— говорит,— пожалеешь. Лучше кончать в потемках».
Но ребята мои засветили аж три спички.
Ох и вор! — тощий, улыбка жалкая, молит о пощаде. Я сразу и примолк надолго.
«Прежде чем судить человека,— меня брат старший учил,— поставь себя на его место». И я поставил себя на его место, испугался и сказал: «Ребята, дайте ему хлеба».
Ох, его аж подбросило! Стал на колени и говорит: «Дорогие мои, братцы милые!» Хватал нас за руки, пробовал целовать их, но возчики руки отдернули и ушли. Тогда он, никогда не забуду, припал головою к переднему колесу и так зарыдал, так зарыда-ал. А возчики воротились, дают ему хлеб, сало, курятину. Он все пихал в рот и ел. Остальное мы вложили ему в шапку, подняли его и вывели из сарая.
Кто-то сказал вслед: «Обожрется и погибнет».
Мы постояли в темноте, помолчали. Утром меня дразнили: «Додумался, скажи пожалуйста, вору салом губы помазать. Ты б ему еще штаны свои отдал. Говорят, шо Соломон был мудрый. Ну, он не додумался бы помазать вору салом губы».
«Оно,— говорю,— как бы и нам не пришлось отведать конинки. Хоть бы петухи закукарекали, никого нету кругом».
«Их еще в тридцатом году поели».
Мы завели в хату лошадей, я лег на холодную печь и заснул как убитый. Проснулся — в хате тепло. Нас всю ночь грели лошади. И думаю: чи живые мои три младшие сестры? Они вышли замуж и переехали из Марьянской. А вор тот и сейчас мне встречается. Он в темноте меня не видел тогда, а я ему не говорю. И вам не хочется говорить. Он не виноват.
— Ну кто, скажите,— попросил я.
— Вы его знаете...
— Кто?
— Ну зачем вам? Ведь это такое время было, не дай бог никому. У одного три мешка сала на чердаке было, а семья недоедала. Берег на самый страшный день. Так что...
— И все же...
— Потом скажу.
А «вором», как выяснилось после смерти Скибы, был Попсуйшапка Василий Афанасьевич. Сам же он до того стыдился этого случая, что никогда не вспоминал о нем. Только повторял часто:
— Мне везло на добрых людей... Столько раз я попадал в переплеты, и, если б не душевные люди, меня б давно на свете не было. В тридцать первом году, когда голод был, так я никогда не забуду... в Елизаветинской... Но боже упаси задеть человека за живое — он тебе ничего не прощает.
— Отчего так?
— А если жизнь его под угрозой, то тем более. Это ж надо так! — за катушку ниток (а она стоила в двадцатом году две тысячи) [512] можно человека сгубить. Ну, ладно, идет бойня, а ты ж все равно будь на человека похож. Жену мою избили за что? Вы помните? — забывался он.— Ах, вас же тогда не было. Соседка была с белыми, ну и бежала бы с ними, а она — белые ушли — сделалась красноармейкой. «Мы были белые, а теперь красные». Да ты и не белая, и не красная, а подлая! Насылала по дворам, чтобы брать с людей взятки (у кого муж дезертир), и это хорошо, что у некоторых были документы липовой льготы. А то б крышка. Грозили: «Не видеть вам ваших товарищей, их уже побили»,— а теперь? А теперь кто в красных был, они доносят — был в белых. Разинет рот и кричит: «Ты, Попсуйшапка, дезертир! Ты грабитель был в Красной Армии». И не она одна такая.
Беседовали вдвоем, Скиба и Попсуйшапка, я слушал в сторонке.
— Это жизнь...
— На человека трудно надеяться, когда он за шкуру свою боится. Ну, я ни на кого не донес. И кто прятался на чердаке, когда белые отступали (чтоб не мобилизовали его), и кто из Новороссийска вернулся, не сел на пароход, а когда бывших офицеров позвали в Зимний театр на регистрацию, он притаился. И я его пожалел,— ну что уж теперь? Хватит, постреляли друг друга. У него ж дети. Куда ему было деваться, офицеру? Такая дисциплина у них. А их ведь как вывели с Зимнего театра на вокзал, так и с концом. Дети сироты. И так же у красных сирот сколько. Правильно?
Скиба молчал.
— Остались по сараям рубахи, кальсоны, английские вязаные вещи, тулупы да бешметы — убегали деникинцы налегке. «Они сберегают кадетские вещи!» Кто сберегает? Да я их выкину! А причина в том, что я ее мальчику когда-то фуражку не сшил. Как собака бросается. И не пойду я на нее жаловаться. Пускай.
— Всякие люди есть.
— Я у красных, а в нашу квартиру поставили раненого офицера. А жена куда денется? Она ж баба. Она с-под него судно выносила, стирала белье, ну он и оставил ей, как сказал, за труд сапоги шевровые и два чемодана вещей, что ордена забыл (там пять орденов, мечи золотые, медали серебряные), так она не видела. И кругом перед соседками виновата, а это ж соседки и кричали: «Недолго повластвуют большевики, скоро наши с победой придут! Мы тогда покажем». Можно ли на людей надеяться?
— Это жизнь,— замечал Скиба.
Я сидел, слушал их, жалел и думал между тем, что ни в каком романе невозможно описать их жизнь. Сплетения жизни — такие, какие они есть, всегда были и будут,— перенести на бумагу нельзя. На бумаге все торчит... оглоблей... Но что делать? — я буду несчастлив, если не намекну краснодарцам о том, что здесь давно миновало... И может быть, кто-то когда-то...1
------------------------
1 Не окончено.— В. Л. [513]
РАЗГОВОР ДО УТРА
Летом 1964 года приезжал из Парижа Дементий Павлович Бурсак. С его первых часов в Краснодаре началось наше повествование. Вернуться на родину через сорок лет — событие, да еще какое, но кому оно могло быть заметно теперь? Смерть ни с кем не считается, а еще ведь были и войны и голод. Сам Бурсак всего шесть месяцев назад прощался в парижском госпитале со своей жизнью.
Мы никогда не знаем, доживем ли до старости, а если доживем, то не предскажем, в какой день она кончится. Кругом всегда, каждый день, умирали люди, и Бурсак с юных лет понимал, что стихнет и его сердце когда-то. Но угроза была бесконечно далека, и оттого, может, казалось, будто чаша смерти минует его вообще. И вот за чередой больших и малых житейских утрат подкрался срок утраты неизмеримой,— пробил его час вечной разлуки. Нынче умирал он. Бурсак умирал по ночам, страдал, лежал в гробу и с ужасом опускался в свежую яму, оставляя наверху, как будто под небесами, счастливую кучку друзей, знакомых и посторонних. Им суждено о нем помнить. Он умирал и позаботился о том, чтобы послали на родину другу Толстопяту траурное извещение хотя бы к сороковому дню, к поминкам. Отделу объявлений газеты «Русская мысль» он сам заплатил положенную сумму, так что и десять лет спустя кто-нибудь из соотечественников сможет прочитать о давнишней его кончине и даже зажжет за упокой его души свечку и помолится. А на родине? Прошлым летом, вместо того чтобы пристроиться к туристам в путешествие по России, слетал он в Америку проведать старую свою даму, с которой он жил до войны три года. В госпитале нелепые сны видел он: все купцы и лавочники Екатеринодара несли ему свои товары — Сахав, Демержиев, Шоршоров, братья Тарасовы, пекарь Кёр-оглы; Попсуйшапка сшил ему шляпу рафаэлевского фасона; в магазине Запорожца он купил «Историю Кубанского казачьего войска» Щербины; извозчик Терешка вез его в церковь венчаться с Калерией. Лаяли в ночном городе собаки, тарахтели возы по Базарной улице; днем в ограде реального училища орал осел. В скетинг-ринке пела Варя Панина. В «Чашке чая» бегала с подносом долговязая Федосья, та грубоватая бедовая казачка, что мыла им с Калерией яблоки на тетушкиной даче за Бурсаковскими скачками. Неужели они на том же месте? Он просыпался и, еще спеленатый сновидением, лицами далекого екатеринодарского [514] прошлого, про себя вскрикивал: «Но уже скольких нет! Все умерли! Теперь мой час...» Слова Толстопята в письмах из Краснодара припоминались ему и жгли укором: «...всегда рад встрече с тобой на этой земле, а под землей встречи нету...» Что ж, и над ним сбываются слова поэта Адамовича: «...две медных монеты на веки, скрещенные руки на грудь...»
Но он выжил. Видно, парное молоко, которое подносили ему к постели с раннего детства, укрепляло его сосуды и сердце на долгий срок. Он зажил как прежде и в Ницце даже посватался к шестидесятилетней дочери бывшего русского посла, но, прежде чем сходиться, решил совершить путешествие на родину. Господи, до чего ты милостив: летним июньским утром поезд Москва — Новороссийск медленно тянулся по кубанской степи! Это вам не Европа. Слава богу, хоть в России можно еще часами глядеть на пустынные нескончаемые поля и хорошо выспаться до крупной станции. Однажды терпеливо ждали встречного, и, когда тронулись, над дверями каменного служебного домика открылись за листвой и пропали слова: «Разъезд Бурсак». Как нарочно! Так он еще существует, этот маленький разъезд, названный по табунным угодьям предков?! Сердце глухо забилось. Наверное, один он теперь знает про бурсаковские табуны. Но точно никому не известно, о чем думал старый Бурсак, эмигрант: о прежних картинах во время приближения к дому? о сорока годах в Париже? о последнем дне в 1924 году? Разница с прежним возвращением в Екатеринодар была в том, что году в двенадцатом он, проснувшись в вагоне после Ростова, перебирал в уме родных, соседей, товарищей в окружном суде, подумал об всем, что составляло тогда обывательскую жизнь в городе, где он родился и вырос. Теперь он думал о людях ему незнакомых, о каких-то русских людях, которых стало в пять раз больше. Кто там еще, кроме Толстопята и Калерии Шкуропатской?
Но я забыл в самом начале сказать, что после исторического музея Бурсак все-таки не вытерпел и набрался духу подойти к своему флигелю, где жил он когда-то с молодой Калерией. Он попал не в комнаты, а в подвал, и случилось это вот как. Во дворе женщина мыла кастрюли, он поздоровался с ней. Женщина мыла кастрюли, разогнулась и с любопытством ждала, о чем ее спросит явно нездешний господин. Бурсак попытал ее, не живет ли кто во дворе из стариков.
— Там в подвал приходит старушка, ей девяносто лет, а мы здесь недавно...
В каменном подвале с тремя дверями по ступенькам сидела у печки маленькая старушка. Из окна, наполовину срезанного землей, рассеянно и скудно лился свет. Она сморгнула короткими, словно обожженными ресницами забывчивость и молчала. Бурсак заговорил о хозяевах этого дома. Полчаса она ему объясняла, потом достала фотографию на картонке, ладошкой стерла пыль. На фоне богатого казацкого дома была заснята свадьба. Спереди сидели, полулежали; двое наливали из бутылки в стакан,[515] позировали; старик с белой бородой держал между ног четверть; мужчины в офицерской форме, в фуражках, папахах, атаман посредине, ниже молодых; много женщин, дети сбоку, несколько мальчиков в бедных одеждах, и рядом с ними девушка (нынешняя старуха). Бурсак узнал в молодых отца и мать!
— Дементий Павлович? — угадала его старуха.— Меня не помните? Я на Бурсаковском хуторе за коровами ходила...
Бурсак, к стыду своему, никак не мог вспомнить ее молодой.
Свадебную фотографию она отдала ему после беседы, сказала, что все равно она пропадет после ее смерти. В подвале она спасалась в войну и ходит сюда летом в жаркие дни.
Толстопят караулил его на углу.
— Я заблудился! — сказал Бурсак другу за чаем.
— Я уже учил тебя, как спрашивать. «Где здесь живет француз, у которого недавно жена умерла?» Все знают.
— Мда... Можно ли было представить в каком-нибудь девятьсот восьмом году, что на старости я так буду плутать к твоему двору? Обязательно напишу стихи.
— Дома и стены помогают,— что ж.
— Шел и думал: одни стены и помнят меня! Семь дубов Кухаренчихи еще царствуют. Я узнал все дома, всех хозяев, представь себе, вспомнил.
Дома, домишки, флигеля, особнячки с вазами на фронтоне, с крылечками, с узорными вензелями над окнами, подворья, арочные ворота извозчиков, чугунные ступеньки завода Гусника в один миг вернули его душе город детства. Дома сами называли себя фамилиями бывших хозяев: Калери, Вишневецкий, Камянский, Вареник, Канатов, Кравчина, Малышевский, Кияшко, Борзик, Рашпиль, Скакун, Свидин, Шапринский, Савицкий, Гулыга, Черачев, Сквориков, Дицман, Поночёвный, Барыш-Тыщенко, Меерович, Соляник-Красса, Холявко, Ждан-Пушкин, Келебердинский, Лихацкий, Гаденко... Жили-были...
— По-моему, ни одной такой фамилии сейчас в городе не существует,— сказал Толстопят.— И дальних родственников нету.
— Ну. Что ж ты хочешь! Мир раскололся, и трещина прошла через мое сердце. Гейне говорил. Обязательно напишу стихи. И первая строчка будет такая: «Нам суждено ли край родной увидеть снова?» Одобряешь?
— Че-орт тебя знает! — поднимал Толстопят плечи от недоумения. Он всегда посмеивался над парижским занятием друга.— Какие в наши годы стихи?
Бурсак немножко напускал на себя чужой мудрости:
— Счастье это или проклятие, что мы еще живы?
— Я не философствую,— сказал Толстопят.— Я живу. Мы с тобой уже едем не на ярмарку, а с ярмарки. Подыши родным воздухом. Медленно походи.
— Жестокость в том, что от всего можно отвыкнуть.[516]
— И снова привыкнуть! — Толстопят повысил голос.— Я живу, будто и не уезжал.
— Серьезно? Может, оттого, что ты приехал раньше? Ты чувствовал потерю? А я, что я нынче чувствовал? Первые минуты: жизнь прошла! Потом: неужели никого нет?
Бурсак вопрошающе взглядывал на седого величественного друга, молчанием вытягивал из него какой-нибудь утешительный ответ; тот бодро, с улыбкой глядел на него, словно повторял ему мудрые, ставшие как бы собственными слова: так, милый мой Дема, проходит слава земная. Может, все-таки надо было Бурсаку тогда же, в 1957 году, в день всеобщего покаяния и поста, объявленный русской зарубежной церковью взамен ДНЯ РУССКОЙ СКОРБИ, да, в «день покаянного плача», поехать домой с четой Толстопятов и восемь лет гулять не в Монсури, а по Красной? Может, простила бы его Калерия, приняла и доживали бы они вместе остаток лет?
— Сильно страдала Юлия?
— Она бы прожила еще, но курила. Ее хорошо лечили, а все равно. Без нее я стал стареть. Ты не представляешь, как я тебя ждал! Меня тут не оставляли, русские везде русские, но если бы ты знал! А и то сказать: пожили — хватит. Пора умирать. Стыдно: мы с тобой всех пережили.
— А супруга моя?
— Она ждет, что мы придем. Я читал ей твои письма. Она рада будет. Помнишь Скибу? Помнишь, братьев Скиба расстрелял помощник полицмейстера в девятьсот восьмом? На Ростовской улице, суд был?
— Ну как же!
— А их двоюродный брат, они иногородние, замешан был в какой-то революционной деятельности, и к тебе приходила некая Федосья...
— Может быть, может быть...
— Между прочим, тоже пишет стихи. Что такое? Калерия пишет к годовым праздникам и памятным датам. Один я без дарований. Будешь знакомиться заново и обживать град сей.
— Успею ли за три недели?
— За три недели еще раз проживешь свои молодые годы. Я так рад, что мы вместе в нашем богоспасаемом Екатеринодаре.
— Да,— грустно поддержал Бурсак.— В нашем маленьком Париже. Не верится. Кто нас поймет?
Бурсаку хотелось грусти, меланхолии, но Толстопят, столько месяцев ждавший его на пир и не раз в воображении раскрывший на этом пиру свою душу, никак теперь не мог приспособиться к другу: хотелось разговаривать так же просто, как с соседом. Слезы и сожаления будут потом. Если будут.
— Поищи, может, кто из родни вашей остался?
— Они все выехали в двадцатом году. А твоя родня?
— Двоюродных много. Дочь моего любимого дяди живет в Кишиневе. Гостила у нас с мужем. Еще при покойнице. Мужу [517] было очень интересно со мной, упрашивал жену пожить еще. Ни в какую! Я накричал, поссорились. Когда Юлечка умерла, Калерия Никитична написала ей: приезжайте, Петр Авксентьевич горюет. Она приехала. И мы не ужились. Курит, пьет.
Толстопят опустил руку вниз с таким отчаянием, что никакими словами не сказал бы он больше, чем этим жестом.
— Племянников пруд пруди. Но они мной не интересуются. Один вопрос: «А что, дядя Петя, во Франции шмоток полно?» А я-то думал, что меня спросят о другом.
Бурсак в эту минуту с любовью смотрел на друга.
— Был брат Митя, хорунжий, георгиевский кавалер. Он погиб в девятнадцатом году. А дочь жива, в Таганроге. Сказала сыну, когда узнала, что Петр Толстопят вернулся на Кубань: «А зачем он приехал? Чего не видел? Тут давно ничего нет». Одну родственницу обидел, пять лет не ходит. Раньше ж в станице любимым делом было — поискать гнид в волосах. Я как-то вспомнил, а ей передали. «Я не хотел тебя обидеть,— говорю,— прости меня. Я просто вспомнил нашу жизнь до революции». Обиделась!
— А супруга моя?
— Добрее ее нет,— сказал Толстопят.— Хочет поглядеть на тебя. Юлечка ее очень любила. И говорила тоже: «Добрее женщины нет». Солнышко мое трудно было чем-нибудь удивить. Все видела. Но Калерию Никитичну обожала. Сестру Юлечки часто видишь?
— Ни разу. Она в Ницце.
Толстопят вдруг заплакал.
— Не могу, Дема, ходить на кладбище. Мой характер не сахар, ты знаешь, я часто бываю несправедлив, но как я плачу за ней! Я простил ей все романы, которые были до меня,— что романы! летела на ветер сама жизнь...
— Я бы на твоем месте женился. Заболеешь, кто будет за тобой ухаживать?
— А за тобой? — резко спросил Толстопят.— Мы тут часто о тебе разговаривали с покойницей. Как он там? Заболеет — кому он нужен? Кто позвонит, лекарства принесет? За все заплати. «Давай ему, Петя, напишем. Давай напишем. Если сразу не дадут квартиру, мы его к себе возьмем». Она же была ангел, мое солнышко. Вы мне все советуете жениться. Невест полно. У одной пенсионерки трехкомнатная квартира, ковры, сервиз, дети далеко. Другая музицирует, мещаночка. Но на что они мне? Разве могут они мне заменить Юлечку, умницу мою. Я буду вспоминать ее и злиться на новую жену, хоть она и не виновата ни в чем. Белое прошлое я выдирал из себя годами, а прошлое с Юлией унесу в могилу. Ты заметил, из всех моих друзей она тебя выделяла и любила? Она только не понимала твоего поэтического увлечения. Ну, ты уж прости покойнице, ведь ей читал в кафе стихи сам Бунин! Я только не понял, почему вы — она говорила — познакомились не то в Анапе, не то в Геленджике?!
— Она, наверное, что-то напутала...— скрыл Бурсак от друга [518] свое увлечение Юлией Игнатьевной (мадам В.) в 1908 году, как скрывал он и прежде. То была молодость, все скоро прошло и потом затянулось паутиной прочих связей и влюбленностью в Калерию. Бурсак, когда бывал в гостях у Толстопятов в Париже, смущался даже целоваться с Юлией Игнатьевной при встрече и расставании. Мало ли что случалось на рассвете жизни. Он с годами все больше убеждался, что чувственная Юлия Игнатьевна подходила известному среди казаков певцу Толстопяту гораздо больше. С Бурсаком она бы соскучилась.
— Мне с ней было хорошо везде...— сказал Толстопят.— И здесь у нас быстро образовалось вокруг нее общество. Дамы-музыкантши, профессорши с кафедры иностранных языков, медики. И молодые люди: один выспрашивал нас о «старовыне», хочет написать, он, гляди-ка, зайдет. И чудаки, вроде Лисевицкого. Ты помнишь, был такой знаменитый на Кубани болтун, казак из Пашковской, конвоец, Лука Костогрыз? Этот Лисевицкий его двоюродный внук... Добрейший! Он за мной как нянька ходит... Нельзя пропасть на родине, Дементий Павлович. Однако как я тебя ждал! Попрошу ребят, пусть достают машину, повозим тебя по краю.
— В Каневскую. Интересно, где бумаги моего деда Петра?
— Да в архиве, наверно.
— Когда-то я мечтал сгрести все бумаги и отдать кому-нибудь, чтобы написали историю нашего рода.
— Когда-то! — опять сурово сказал Толстопят.— Когда-то батько мой в форме есаула торговал фруктами из сада. Когда-то мои удальцы из первого Екатеринодарского полка у дам с шляпок цветочки срубали шашками. Не будем...
— Слушаюсь, господин Толстопят.
— В Тамани, когда открывали памятник запорожцам, слепой звонарь говорил мне: «Доктор медицины, профессор латыни, та уси будемо там, уси будемо там...» Так вот, мы еще не там. Съездим, съездим в Тамань! Ах, мой золотой друг, как хорошо, что ты приехал. Че-орт его знает... le vin est tire, il faut le boire1. «Радость мне-е,— запел он,— и счастье обещала, ты ушла, и жизнь ушла навеки за тобой!»
Они проговорили до четырех утра; спали до двенадцати. Позавтракали и опять увлеклись, Толстопят пересказал «всю эпопею» семилетней жизни в Краснодаре. В шесть часов вечера пошли к Шкуропатской, но не застали ее дома: она ушла в больницу к Скибе.
Встретились они на третий день; встретились как-то бережно, с троекратными поцелуями, с какими-то возгласами, но без всякого волнения и без слез. Уже столько было говорено о встрече до этого в письмах к Толстопяту, и к этому дню чувства их выдохлись, а скорее всего — они крепко отвыкли друг от друга, прожили в своих интересах почти полвека, и, может, ни сожалений, ни
-------------------------------
1 Вино налито, надо его выпить.[519]
боли по поводу старого родства у них не осталось. Истинные чувства всегда схватывают нас в одиночестве, невзначай. Пожалуй, больше всего обратили они внимание на то, как изменились их лица, как постарели телесно. Прошла жизнь, прошла! Седая, плосковолосая, с разбухшими ногами, неторопливая, это ли Калерия Шкуропатская, бегавшая к вагону великого князя? Без нее ли он не мыслил когда-то прожить и полмесяца, а прожил сорок лет? Умирая в госпитале, он воображал встречу трагичней, а все обошлось просто и буднично. Другое время над ними, другой город и чужая младая жизнь толкает их в спину. И задуматься — так совсем рядом жили они, до Парижа два часа лету, это как от Краснодара до Москвы, но сколько препятствий!
Может, помешала их слезам подружка из Ленинграда, низенькая, с большим животом?
Они вошли, когда Калерия Никитична читала ей свое новое стихотворение о космонавтах. Листик из ученической тетрадки лежал на столе, и Бурсак, усаживаясь, пробежал глазами несколько строчек. Его стихи были гораздо минорнее. Белые лилии, которые он принес ей, Калерия Никитична поставила в длинные узкие (еще материны) вазы. Толстопят кружил по комнате, обозревая развешанные картинки, вырезки, открытки с кошечками и множество фотографий на комоде. Фотографии Бурсака не было.
В 1924 году, пересекая границу, Бурсак надеялся, что Калерия не вытерпит «массового энтузиазма» и сорвется вскорости вслед за ним. Увы, она не была женой бывшего помощника наказного атамана. В 1922 году этот генерал подбивал в сапожной на углу Борзиковской и Базарной каблуки. Однажды кто-то спросил у его супруги, кормившейся по дворам: «Мадам, а кто был ваш муж? Говорят, начальник? Он убежал за границу?» — «Что вы! — ответила жалкая на вид, но вдруг возгордившаяся генеральша.— Я бы за хвост лошади уцепилась, чтобы уйти с ним». Калерия Никитична такой преданности мужу своему не изъявила. Да и не было уже между ними любви. Из библиотеки имени Пушкина она перевелась на должность машинистки в ревком, тем и зарабатывала денежки целых десять лет. Не поехала она и к матери в Польшу, а потом в Бельгию. После смерти отца в 1920 году мать приноровилась к пожилому инженеру, повезла с ним свою младшую дочь на лечение в Вильно, и вихрями событий была занесена в чужую землю. «Неужели мы так уже никогда и не увидимся? — писала она ей.— Пусть хранит тебя божья матерь от болезней и всяких невзгод житейских». Но все слова матери и супруга Дементия Павловича в письмах давно потеряли смысл. Она выжила среди утешений и помощи совсем других людей.
Они пришли не вовремя: Скиба лежал в больнице, и надо было нести ему передачу.
— Мы охотно тебя проводим! — сказал Толстопят.
— Я пойду еще на Сенной рынок.
— Мы знаем, где находится Сенной рынок.[520]
От Сенного рынка Калерия Никитична, подруга Клава, Бурсак и Толстопят шли по Медведовской улице. Подруга не была в родном городе с 1937 года. Она тайно вела их к своему дому.
Бурсаку после Парижа улицы и дома Краснодара казались деревенскими. Они добрели до здания бывшего Мариинского института, но поглядеть на сад, где воспитанницы любили кататься на «гигантских шагах», не решились. Через Шереметьевский переулок вышли к ограде больницы. Женщины перебивали друг друга.
— У тебя были две длинные темные косы, румянец, черные глаза, ты настоящая южанка. Ты мне часто играла на фортепиано, где оно?
— Мамино я продала в двадцать седьмом году греку Акритасу, он увез в Афины,— без сожаления отвечала Калерия Никитична.
— А в пальцах твоих, помню, такая сила, что, вытирая стакан, ты умудрялась его сломать.
— Это правда,— сказал Бурсак.
— И были в твоей библиотеке все сказки на свете. Мне нравилось, как тебя одевала мама: в волосах бант, короткое пикейное белое платьице и светлые башмачки на пуговичках сбоку.
— И ты это еще помнишь?
— В Краснодаре никого из нас не осталось, и я потому все помню. Я около своей калитки набрала земельки.
У ворот больницы Толстопят распрощался:
— Я вас бросаю, господа. Ко мне придет мастер, чинить телевизор. Акиму Михайловичу привет, пусть крепится, поправляется.
— И я тогда пойду,— сказала подруга.— Я забегу к племяннице. Если не вернусь, значит, я у нее заночевала.
— Вечером ждите меня,— сказал Толстопят.
Полчаса Бурсак сидел на лавочке у больничного корпуса, от нечего делать размышлял. Через дорогу, за трамвайной линией возвышался городской сад; на территории больницы торчали над зданиями трубы с радиолокационными устройствами. Могилы первых кошевых атаманов были там, где сейчас играли в домино обитатели туберкулезного диспансера. А поближе к воротам, у самой проходной будки наверное, покоился с 1899 года его дядюшка Павел, на его могиле тетушка Елизавета поставила часовенку. Почему она не похоронила его на войсковом кладбище? Ах, значит, старость. Ведь дядюшка из того же рода, что и знаменитый кошевой атаман, лежавший рядом с могилами Чепиги и Котляревского. Лука Костогрыз как-то поднимал шум, бегал к наказному атаману. То-то: стар стал Дементий Павлович. Нельзя долго жить за тридевять земель. Выветривается из памяти даже самое кровное. Он взглянул на подъезд, откуда должна была выйти Шкуропатская, но появлялись больные в потертых халатах и в штанах на резинке. Вдруг из того же подъезда мелькнула модная [521] шляпка, и Бурсак жадно глядел, как приближается по дорожке молодая особа. Так игриво, кокетливо и с веселым вызовом ходила когда-то Калерия. Бурсак был бы счастлив, если бы «очарова-ательная» (другого слова его поэтический опыт подобрать не мог) женщина по какому-то сказочному сюжету попросила бы у него пустяковой помощи и потом составила бы ему компанию в прогулках по Красной. Наверное, она почувствовала что-то и поглядела на него с улыбкой и издалека оглянулась. Какие предки? Вечный дамский угодник, он только за то, чтобы посидеть с нею вечер на людях, без конца говорить, отдал бы все свои валютные деньги. Только поговорить, полюбоваться глазками, шейкой, мочками ушек и шутя поцеловать нецелованные местечки между пальцев. Своим благополучием за границей не женщинам ли он обязан? Как только нападала на него язва нищеты и отчаяния, тут как тут была доброхотка. «Во мне похоронено столько тайн,— говорил он во хмелю Толстопяту еще до войны,— что открывать их невозможно. С каждым ли так?»
«Неужели она была моей женой?» — думал он о Калерии.
— Привет вам от Акима Михайловича,— сказала она, появившись.— Пускай, говорит, бросает он чужие углы, просится домой. Он помнит, как вы ему помогли в трудный год.
— Спасибо и на том. Ему лучше уже?
— После операции легче. Сколько в нем жизни! Опять стихи сочинил.
— В самом деле?
— Все к какому-нибудь случаю пишет. Сейчас о врачах. Он сам говорит: никакой я не поэт, а пишу наболевшим сердцем. Нет надлежащего образования.
— Поэтами рождаются,— изрек Бурсак снисходительно и пожелал вечером почитать Калерии свои стихи. Их он заведомо ставил выше прочих любительских, а может, выше даже кубанских поэтов, до сборников которых он намеревался добраться завтра же в магазине. Одно стихотворение он пристроил в 1947 году в сборник «Звено», составленный самим Г. Адамовичем,— то было восьмистишье о могиле Шаляпина на кладбище Батиньоль. Его каждый раз при гостях заставляла прочесть последняя жена Бурсака, вдруг как бы нечаянно объявлявшая перед чаем: «Господа! А Дементий Павлович вчера написал новое стихотворение». Бурсак, потакая лжи, тяжко вставал, закладывал руки за спину (остроносое лицо его удивительно походило в такую минуту на бунинское), кашлял и произносил искусственным баритоном первую строчку: «Там, где сияет свод небес...» Еще одно (всего четыре строчки) напечатали в настенном календаре 1955 года; этот календарь он возил с собой всюду. На родину взял он не без умысла рукопись в изящной папке, о чем в удобную минуту наметил доложить Толстопяту и посоветоваться: удобно ли кому-нибудь показать? Бурсак был из тех неглупых в обыденности людей, которых самодельное художество и страсть им блистать мгновенно превращают в недалеких и пустых.[522]
— Чтобы не забыть... У вас, кажется, выходит какой-то альманах?
Надо в самом деле отвыкнуть, чувствовать себя не очень желанным гостем или виноватым перед городом, чтобы так говорить о месте, где родился и где похоронены все предки: у вас! Шкуропатскую это сперва покоробило, а потом она даже пожалела своего бывшего супруга. Вообще он первые часы соблюдал какую-то церемонность, выказывал себя парижанином, человеком другого мира и той России, за чувство к которой он, дескать, столько перестрадал. Тут, на камнях родного Екатеринодара, он вдруг возгордился своим происхождением, тем, что улицу Красную основали Бурсаки, что нынешнюю улицу Коммунаров старожилы помнят как Бурсаковскую и где-то еще в старой газете 1911 года хоронятся о предках легенды. Калерия (он тоже это чувствовал) молчаливо отстаивала свое: свою сорокалетнюю жизнь с народом — в трудах, горестях и свершениях.
— Выходит альманах «Кубань». А что?
— Я написал два рассказа, очень маленькие такие воспоминания,— может, они заинтересуют редакцию?
— Не знаю даже, что сказать... Я так далека от этого... О чем воспоминания?
— О моих скитаниях.
— Дементий Павлович! Вы же должны понимать! Были бы это воспоминания общественные.
Мимо них прошли офицеры с тяжелыми большими портфелями.
— У вас офицерам позволено таскать портфели? А мне снилось перед отъездом: собака не пустила меня на порог родного дома. Что это за ателье? В Париже я заказываю какой угодно костюм... Но кубанской земельки, посыпать на гроб, там не купишь. Мне друзья наказали привезти.
В семьдесят восемь лет Бурсак был стройным, свежим, на лице всего несколько ворсяных морщинок, спина не горбилась, ногти молочной белизны, а серая бабочка под белоснежным воротничком приравнивала его к какому-нибудь американскому конгрессмену. Но любоваться им не давала грусть: жизнь прошла, и чужие женщины стояли между ними, другие города светили им вечерними окнами. Бурсак еще несколько раз бросал в разговор: «А у меня в Париже...», «в Париже нижнее белье носят только черное...»
— Когда умерла тетушка? — спросила Калерия Никитична.
— Дай бог памяти, году в двадцать седьмом. Или в двадцать восьмом? Она умерла в Ницце. На месяц позже великого князя Николая Николаевича, который тоже умер в Ницце. Часто взыхала: «Что теперь в нашем маленьком Париже? Кто в нашем доме?»
— За ее дачей на Дубинке вырос новый район, Черемушки. Я, когда после войны уезжала на Север (пенсию надо было получить повыше), очень тосковала по Краснодару. Я не представляю, как можно без него жить.[523]
— Не захочешь, да сможешь,— сказал Бурсак.— Париж — сказка. Пьер пытается меня жалеть, но не хочу лукавить: у меня в Париже есть все, и я смирился.
— Даже так?
— Даже так.
— А я вам не верю. По-моему, вы себя убеждаете в этом. Значит, сильно обижены на что-то.
— Проще. Все проще. Если не видишь чего-то сорок лет, что остается? Какой-то туман. Вот на этом месте ты в тринадцатом году стояла с кружкой. В день Белой ромашки.
— А чуть дальше меня остановила цыганка, и я прогадала ей колечко. В девятьсот восьмом году. Пятьдесят шесть лет назад. Да, конечно: и люди, если не живут вместе, отвыкают.
— Но родство душ возобновляется при встрече. Когда я вошел одиннадцатого июня в Екатерининский храм, меня тотчас узнал архиепископ Ювеналий. Мы оба вздрогнули! Он был нашим духовником в Париже. Уехал после войны.
— Его ведомство на улице братьев Игнатовых.
— А кто такие братья Игнатовы?
— Партизаны, подорвались в войну у моста. Отец написал книгу «Мои сыновья».
— А вот и мы жили — ну что было о Кубани? Один историк Щербина, которого я не дочитал до конца. Такая история — и ничего.
— А какие характеры были,— ты ведь помнишь?
— Манечка Толстопят говорила: «У нас на Кубани не было узаконенных великих людей, но были в самом деле великие богатыри».
— И не осталось от казачьего города ни-че-го. Только чертежи прямых, как в Петербурге, улиц.
— Ты просто отвык, Дема,— сказала Калерия Никитична, впервые обратившись к нему на «ты».
— Себя я не хвалю. Чтоб ты знала. Если бы сказали мне, что меня похоронят на старом войсковом кладбище или на берегу Кубани, у Бурсаковских скачек, я бы в последний день своей жизни согласился вернуться.
— Сырая земля всех примет, но люди...— Калерия Никитична сначала посмотрела, не сердит ли Бурсак, и только потом продолжила: — Ведь ты пойми-и, люди пережили голод, войну.
— О да, конечно, я понимаю. А пожарную каланчу давно сбросили? И «Европейской» гостиницы нет. Ничего нет! Когда это исчезает потихоньку на твоих глазах, оно понятно, не замечаешь. Но у меня перед глазами все так, как было, когда я уезжал.
Видно, он не чувствовал перед нею никакой вины за свое добровольное бегство из города, перекладывал всю горечь «на плечи истории», как он не раз говорил в эмиграции. Шкуропатская же если и думала когда-то (а может, и сейчас) нечто такое, что сокрушало всякие «гражданские», либеральные помыслы бывшего супруга, то не считала нужным превращать свою личную [524] и общественную обиду в злую отповедь. Вылетела птица на волю, ну и пускай, ей так лучше, она чует свою дорогу, держать ее насильно возле себя мало выгоды. А главное в том, что все случилось слишком давно, настала старость, и уже нет времени и желания даже на легкие возражения; ведь яснее ясного, что Бурсак приехал проститься с Кубанью перед смертью. Когда Толстопят передавал ей от него приветы, она спрашивала: «Приехать-то обещает?» Что ж, ей хотелось не по одной фотографии разглядеть, как он постарел. И вот взглянула, услышала знакомую, по-старинному растянутую речь его, удивилась чудесам жизни: это он самый! не призрак! Но все как во сне.
За те полчаса, что прошли они вдвоем по улице Красной и Ворошилова, много кой-чего вспомнилось им, и уголки, перекрестки вдруг поведали им о когда-то важных случаях их жизни. Кого просить, кому молиться, чтобы на минуту хоть, по неписаному волшебству, возвратилась молодость? Бежали мимо куда-то несмышленые дети с цветочками в руках, в обнимку шла парочка влюбленных. Им некогда думать о дне будущем. Вечернее солнышко трепетало в густой листве. В детском магазине (на месте бывшего здания ювелира Гана, где Калерия не раз поджидала под часами подружек) закрывали двери на ключ. Хотелось глядеть вокруг и молчать. И они молчали до самого дома Шкуропатской. Ведь иногда в минуты молчания понятно, о чем думает каждый.
Молчанием на фотографиях объяснила Калерия Никитична своему Бурсаку и всю жизнь свою без него. Дома она подала ему альбом, папки, и, пока она была привязана к кухне, Бурсак все перебирал и разглядывал. У него в Париже тоже хранились альбомы (все больше с европейскими видами, с карточками друзей и подруг). Он долго глядел на фотокарточку работы Сумовского, увековечившую день их венчания; как раз подошла Калерия Никитична, положила ему руку на плечо (в груди как-то потеплело от этого) и сказала: «Это мы с тобой... Помнишь, папа привозил полковой оркестр?»
— Терешка три раза вокруг церкви обвез. Он когда умер?
— Никто не знает. До войны, конечно.
— А еще есть у тебя? Где мы с тобой. И втроем, с Толстопятом. В день Белой ромашки в городском саду. У памятника Екатерине.
— У памятника Екатерине... Отдала Лисевицкому, учителю истории. Много карточек я сожгла. Тогда такое время было.
— Надо кого-то попросить, чтобы нас сняли. Аким Михайлович не будет против?
— С чего же? Он все понимает. Уже совсем другое время, разве мы виноваты, что наши родители были казаками и носили награды?
— Да, да,— вздохнул Бурсак,— уже все другое, и никому до нас нет дела. Другие свадьбы играют.
— Ну смотри, а я еще повожусь там.[525]
— Пожалуйста, пожалуйста. Мне так приятно вспомнить. Я покопаюсь в твоих архивах.
Труженица, она, его первая жена, наполучала за многие годы почетных грамот за доблестный труд и общественную благотворительность; в шкатулках лежали письма со всех концов от знакомых, которых она завела в домах отдыха, санаториях, и Бурсак ревниво отгадывал, перебирая общие фотографии, кому могла она нравиться, кто водил ее, молодую, по дорожкам парков и долго помнил ее. Кызыл-дере, Кисловодск, Москва, Тбилиси, Ленинград, Одесса, Горячий Ключ — везде побывала. И на всех изображениях веселая, компанейская, с тайной своего мимолетного счастья, о котором по прибытии домой никому не рассказывают. И еще один альбом, и еще. И тетрадки, папочки. Вот ее детство, юность. Вот ее сочинение по истории в Мариинском институте: «Екатерина II вступила на русский престол в 1762 году». О боже мой, да с тех пор перевернулся весь мир, и учат иначе, и дети иные. Даже страшно подумать, как далеко отстоит теперь Россия их детства.
И еще был у нее длинный альбомчик, souvenir, с записями стихов, шуток, пожеланий, самодельных посвящений. На пятнадцатой странице Бурсак узнал свой почерк. Уже тогда он чужое шутливое сочинение выдал за свое?
Adieu, mon ange1, я удаляюсь,
Loin de vous2 я буду жить,
Mais cependant3 я постараюсь
Jamais, jamais4 вас не забыть.
Je vous assure5, что вы мне милы,
Что я люблю вас de tout mon coeur6,
Но почему вы так унылы,
Ведь это портит mon bonheur7.
1910 год
От тетушки Елизаветы:
Пусть сам Христос Спаситель
Тебя от зла спасет
И ангел твой хранитель
К добру тебя ведет.
1916 год
Еще страница:
Незабудку дорогую
Ангел с неба уронил
------------------
1 Прощай, мой ангел.
2 Вдали от вас.
3 Но однако.
4 Никогда, никогда.
5 Я вас уверяю.
6 ...всей душой.
7 ...мое счастье.[526]
Для того, чтобы родную
Я, как ангела, любил.
(Писал поэт, у которого фамилии нет)
А вот и опять его почерк:
Охотно б тебе на головку
Я руки свои возложил,
Прося, чтоб Господь тебя вечно
Такою прекрасной хранил.
1917, август, Бурсак
Бурсак волновался, вспоминал, погружался в какой-то туман, в каждом стихотворении искал следы дружбы, встреч, праздников, грусти, снов, подражаний тем, кто уже пожил и все познал. Если бы составить оглавление, оно бы даже первыми строчками рассказало о чувствах писавших: «Перестань, замолчи, мне о счастье не пой...»; «Слыхала я, что белый свет одною дружбою прекрасен...»; «Ангелом назвать не смею, нету крылышек в плечах»; «Мне не жаль, что тобою я не был любим...»; «Судьба горемычная, злая меня разлучила с тобой»; «Я помню все, и голос нежный, и ласки, ласки без конца...»; «Я умереть хочу весной, с возвратом радостного мая...» и т. д.
Но начинала альбом Елизавета Александровна Бурсак, ей он принадлежал, и она-то подарила его Калерии. Всего одну страницу заполнили тетушке гости:
Всё прошло, не вернуть,
Всё забыто давно.
И волнует мне грудь
Чувство грусти одно.
(Маскарад 1888 год, Рождество Христово!
В конце на корочке уже чья-то старческая рука написала: «Рецепт приготовления кваса — на три ведра кипятку взять десять лимонов, порезать и непременно вынуть косточки. Положить туда же семь фунтов сахару и полфунта изюма». И т. д.
И сохранилась полустертая (пальцем, видать, стирали) запись самой Калерии:
«24.VIII.18 — 12 часов ночи. На дворе тихо, темно. На Кубани лягушки квакают. На душе жутко, на лампе нет стекла, на постели нет одеяла...»
Что это?! Где был Бурсак? Не вспомнит. Так проходит слава земная.
— Ни в каком романе не описать нашу встречу,— сказал Бурсак, когда ужинали.— Прости меня, ради бога.
— Ну что ты, что ты...— не дала ему воли терзаться Калерия Никитична.— Выпей.
— Не для того прошу, чтобы ты оправдала меня... а... понимаешь меня?
— Понимаю, понимаю! Я тут часто жалела тебя; где он там [527] скитается по чужим дворам? Дома бы уже председателем коллегии адвокатов был.
— Да разве в этом дело? Честно говоря, я думал когда о нашем свидании, то боялся, что ты, может, и видеть меня не захочешь.
— Почему?
— А рассказывали мне в Париже... Бывший офицер из Костромы приехал года два назад в Россию. Там, в Париже, у него дети от другой женщины. Он уже решил проситься домой совсем. Дети тотчас же от него отреклись: «Чего тебе ехать к босякам? У нас, в Париже, все есть, а у этих босяков никогда ничего не было и не будет!» Едва не подрались — так отец замахнулся на них, оскорбленный. Им чего, они французы, русского языка не знают. Поехал он сперва туристом. Бывшая жена не вышла к нему. «Зачем он мне нужен?» — сказала. Может, она права, кто знает. Его фамилия Позднеев. Всегда говорил: «Позднеев, но писать надо через «ять», только через «ять». Я кацап, великоросс!» И умер в Монтаржи, в доме престарелых. А у тебя ангельское сердце. Аким Михайлович понимает, что ему повезло?
— Мы живем с ним дружно. Он такой честный, обо всех заботится. Я не преувеличиваю. Если бы все такие были, как он, давно бы коммунизм построили. Ты б посмотрел, что он сделал в музее! Всех героев разыскал, их документы, фотокарточки, воспоминания о них, у кого квартира плохая была — он тут ходил к самому большому начальству, его принимают, потому что он на трибуне стоит в день демонстрации. А не так, то в «Правду» напишет, не побоится. Человек хоро-о-ший. Не зря же его Федосья спасала. Когда ущемляли в двадцатые годы, он с милицией ходил по дворам, то, говорит, ни одной серебряной ложечки не взял себе, ни одного шерстяного отреза. Я ему верю! А по плавням сколько полазал, бандитов вычищал.
— Да...— только и сказал Бурсак.
— Вот так. А у тебя там никого нет?
— В Ницце сватает меня одна старушка. Дочь бывшего русского посла в Голландии. Но я привык один. Ты провожала меня в двадцать четвертом году до угла. Поздний вечер, туман. Я шел и оглядывался, а ты все стояла,— помнишь? «Уж в этой жизни мы больше не встретимся»,— словно кто-то шептал надо мной.
— Так, видно, суждено было.
Бурсак перевернул страницу альбома, остановил взгляд на фотографии молодой женщины в широкой шляпе с перьями, невысокого роста, глазами похожей на Калерию.
— Давно умерла мама?
— После войны. В Париже. Девяноста лет от роду! Писала: «Прожила в стране, где не с кем мне говорить; каких бы сказок не рассказала тебе о своей жизни, если бы [528] увиделись!» Зять ее невзлюбил, называл ее она. «Дожила до того, что даже дочери родной мешала. Чем жить? Не жить же интересами ее бесконечных романов? Гадать ей на картах?» Но главное — зять. А ведь мама отдала им все золото, когда им было трудно. «Если б я знала,— писала мне,— что я даже на пять лет расстанусь с тобой, я бы не поехала никуда». Писала еще: «Я расскажу тебе, почему вышло так, что я рассталась с тобой». Да так и не сказала. Вспомнила перед смертью романс, который они пели в молодости: «Вот близится утро, румянятся воды». Мне советовала: если судьба не пошлет какого-нибудь «принца», то, может быть, пошлет хорошего человека, а это, пожалуй, лучше, чем принц. У меня был хороший муж, но погиб на войне.
— Как же мы не видели твою маму?
— Но она же долго жила в Бельгии. Это она умерла в Париже. Сестра и сейчас там. Расстались мы молодыми и вот после переписки решили встретиться.
— Все же переписывались?
— В войну прервалась, а потом я ее снова нашла. Для меня переписка с ней, ее жизнь там, в чужом пиру, была каким-то мифом, далекой сказкой, с годами тем более... Всех потеряли, постарели и стали как-то ближе, душевнее друг к другу, ласковее. Она где только не была: в Персии с первым мужем, в Индии со вторым; потом вышла за француза, родила сына, у которого почему-то было тройное имя: Михаил-Борис-Франсуа.
— У французов так.
— Разговаривала с ней как-то по телефону, услыхала ее быстрый голос, решила поехать. Назанимала денег, купила ей в Москве каракулевую шкурку (она просила для шапки), вышила дорожку, подушечку и портрет казачки, взяла несколько баночек черной икры и две бутылки водки (больше нельзя, учти). Да шоколадных конфет, да две-три книги о Кубани с видами побережья. Конечно, мои подарки были скромными. С собой больше ничего такого не взяла. Я ни минуты не думала, что могу не вернуться на родину. Она меня встречала на Северном вокзале с плакатом «Шкуропатская». Обнялись. «Ты довольна,— говорю,— что видишь меня?» — «Лерочка, я счастлива!» Всю ночь мы с ней разговаривали. Утром поехали в наше посольство. У меня была виза на сорок пять дней, но потом я осталась еще из-за ее болезни.
— И ты довольна, что съездила?
— Как тебе сказать, Дема... Она, как мама в моем детстве, входила ко мне перед сном, желала спокойной ночи, крестила и целовала меня, а расстались мы чужими. В одну из ласковых задушевных минут, на сон грядущий, я спросила ее: «Поехала бы ты в Россию доживать свои дни?» Она сурово глянула на меня: «Я от своих близких никуда не уеду!» Мать — это понятно, могила ее там, а остальные? Дети сторожат ее драгоценности. У нее индийские столики, китайские сервизы, ценности [529] в сейфе (она их мне так и не показала). Мне она в первый день подарила три шерстяных тонких кофточки, полотенце махровое, ночную рубашку и перед отъездом дала пару старых платьев, демисезонное пальто, которое она не носила.
— Изменилась?
— Не узнать! Одинокая какая-то, всего боится: мне хотелось повидаться с русскими, у меня было несколько адресов,— она меня не пускала. «Не надо никаких русских! Я за тебя ответственная, я боюсь за тебя, ты понимаешь? Я знаю старых русских, а теперешних русских я не знаю». Я ее не понимала. И одну русскую я встретила в магазине,— она прямо кинулась обнимать меня и говорила, что в моем лице она целует родину своего отца, донского казака.
— Мне это знакомо,— сказал Бурсак,— французы любят комфорт и наших научили. Француженки устраивают свой очаг, хранят старинные родовые вещи, занимаются своей внешностью. Любят хорошо поесть... и чужую постель.
— Гостей водят в кафе, в ресторан — меня это удивляло. Вспомни, как у нас принимали гостей дома. Сестра переродилась. Было, как мне показалось, тяжелое подозрение на меня в пропаже ее кошелька. Вдруг нет кошелька! Она дает мне бумажку в сто франков, я пошла, купила что надо, и еще походила по рынку, посмотрела товары, запоминая цены и прикидывая, что я на свои деньги смогу купить домой. Вернулась, отдала ей покупку и сдачу. Она спрашивает: «Где ты была так долго? Я ходила тебя искала, не нашла, молока купила! А кошелек нашла в кухне, лежал на твоем месте». Я удивилась вслух: «Почему на моем месте кошелек, почему не сказала, что молоко еще надо купить? И еще бегала меня искала?» Непонятно мне было, необъяснимо как-то это нахождение кошелька на моем месте. Мелочи, но они оставили у меня в душе неприятный осадок. Свои деньги я расходовала: когда приехала, отдала ей на дорожные расходы. Покупала и продукты. Ей принесли налог на триста франков, она ахала, охала, жаловалась на платежи. Я отдала ей двести пятьдесят франков. Она обрадовалась, сказала, что вернет. Я ее отговаривала: не надо. Я вела дневник, и вот на прощание она мне говорит: «Я не хочу, чтобы твои знакомые знали, я верну тебе деньги, а ты запиши это в дневник». И она выкинула на тахту франки. Я расплакалась. Я сто шестьдесят восемь франков не успела израсходовать, зачем мне ее долги? Я ее на вокзале поблагодарила за все, но она молчала. Я обняла ее, прижалась к ней последний раз — к такой замкнутой. Она показалась мне жалкой, одинокой, такой старой. Она покрестила меня, что-то прошептала. И когда вагон тронулся, я почувствовала облегчение: что-то грустное, горькое кончилось. Слава богу, что я еду домой, на Кубань. Теперь мне будет легче. Так я съездила. Осталось одно какое-то жалостливое чувство к сестре.[530]
— Мама про тебя, помнишь, как говорила? «У нашей Калерии много фантазий».
— В письмах спрашивала: не очень ли ты, детка, устала вести образ жизни сестры милосердия? Она, видно, вспоминала случай в Хуторке. Мы детьми как-то шли гулять, и кто-то наступил на цыпленка. Я схватила этого цыпленка и побежала назад. Взяла иглу и стала зашивать цыпленку живот. Мне было восемь лет.
— Ты всегда была ангелом. Я бы много потерял, если бы не повидал тебя,— сказал Бурсак улыбаясь и положил руку на грамоты, которые его бывшая супруга заработала без него.— Ты узнаешь меня?
— Еще бы.
Нет, никакая она не бывшая, это все та же Калерия, к которой он ездил в 1912 году в станицу и которую воображал вдалеке. Родство восстановилось легко. И только одно проклятие висело над ними: старость, приближение конца. Ну и чувство потери.
Они выпили по рюмочке.
В 1910 году он шутил с ней: «Pouvez-vous faire mon bonheur eternel?»1 Она уезжала в Анапу. И он так ждал ее оттуда, так ждал! Она послала ему с песчаных дюн Бимлюка пять писем, в каждом несколько строчек, и ни слова о том, когда она будет в Екатеринодаре. Он проводил бессонные ночи. «Где ж ты, моя милая? — вопрошал он в потемках.— В Анапе? В Джемете? В Сукко? Вспоминаешь ли наше ночное крыльцо?» Крыльцо! Они в полночь забрели в заросший двор Швыдкой, уехавшей на вечное моление в Марии-Магдалинский монастырь. Пароходом «Удобный» они приплыли в сумерки из Хомутовских мостиков. Почему-то даже городовых не было на углах и извозчики проезжали редко. А все уже сузилось от пышных ветвей по улицам, шатрами покрыли дворы высокие деревья, лесная тишина таилась у окон. На Старом базаре лишь, в трактире Баграта, хлопала дверь. Что заставило их после прогулок идти в этот дворик? Они тотчас заметили, что ставни дома закрыты и дверь забита доской. Значит, никого нет! Можно посидеть на крыльце. Крыльцо, спереди и с боков, было опутано ветвями. Он сел на скрипучий венский стул, она — к нему на колени. «А мне в четыре утра надо быть пред светлыми очами маменьки и папеньки»,— сказала она.
Он входил туда, где они были как-то вдвоем целые сутки, глядел на уголки, где она сидела, лежала с книжкой, валился на диван к подушке и шептал: «Ты мой ангел, приди ко мне на крыльцо». Почему жгло его предчувствие неминуемой потери? Когда она грянет: завтра? Через год? Через десять лет?
— Я подолью тебе немного?
— Это еще мамины рюмочки?
-----------------------------
1 Можете ли составить мне счастье навеки? [531]
— Бабушкины. Чистое серебро.
— У меня в Париже ложечка твоя есть...
— А кольцо?
— Кольцо потерял. Петр Авксентьевич, наверное, беспокоится. Куда пропал, скажет?
— Он придет за тобой. Он так изменился после смерти Юлии Игнатьевны. Стал чаще ходить к нам. Я и не знала, что у них было тогда в Петербурге. Из-за связи с ней его и выгнали из конвоя.
— Красивый казак был! Разве ты не помнишь, как екатеринодарские мамы боялись за своих дочек? «Ты была с Толстопятом?!» А отцы и того пуще. «На! — подает веревку.— Вешайся заранее». Да где они все? Надо сходить на войсковое кладбище, целы еще могилы, памятники?
— Кое-что есть. У атамана Рашпиля плита целая. Кладбище закрыли. Через несколько лет ухаживать за могилами будет некому, и кто-то прикажет: снести!
— А какое кладбище в Париже! Какое кладбище! Пантеон ушедшей России. Мне уже там места нет. Где-нибудь в Монморанси.
— А чего бы тебе не попроситься домой?
— У меня там пенсия. Нас там много таких: тоска великая, а не едем. К кому ехать? Я думаю, что город детства, по мере того как умирают старшие, родные, близкие, соседи, становится все более чужим. Это уж город поколений, наступающих нам на ноги.
— Но в Париже так же.
— И в Париже, конечно. Везде. Но на родине, где у детей и внуков не встречается ни одной старой казачьей фамилии, мне было бы еще печальней. Не скажешь: «Вы сын Келебердинского? Внук Канатова? Дочь, внучка, правнучка Поночевного?» Как это трагично! Ты не находишь?
— Я не думала об этом. Или думала когда-то, да привыкла. Выпей еще, оно легкое.
До глубокой ночи отпивали они по нескольку глоточков к тосту и разговаривали о том о сем... Мы не беремся передать их тот близкий, особо задушевный разговор. В родстве, в товариществе, в семейных союзах, в старых отношениях бывают часы, минуты, в которые никто не посвящается,— оно и не нужно. Должно же, любила повторять Калерия Никитична, что-то оставаться и для себя.
Кто-то вдруг деликатно постучал в окно с улицы. Калерия Никитична, тяжко переступая на толстых ногах, вышла и сняла с двери крючок.
— Уже третий час ночи, господа мои, а вы и не думаете спать?
— Пё-ётр Авксентьевич... Вы меня напугали.[532]
Толстопят, какой-то нарядный, в костюме, в галстуке (настоящий ухажер), хозяином вошел в комнату, поклонился, точно со сцены, своему другу, упер руки в бока. Оба они выглядели намного моложе своих лет. Страдали, тосковали вдали от земли кубанской, но ведь не сидели в окопах, не мокли в болоте, не спали на снегу и не рыскали по лесам с партизанским отрядом. Тридцатые годы не вынуждали их жевать сладкий корень, лепешки из лебеды и щавеля.
— В Париже еще только одиннадцать,— сказал Бурсак.
— Если бы не отборочный матч на первенство мира, я бы уже уснул. Хватился: где он? Как-никак гость. За Терешкой не пошлешь.
— Кто играл?
— СССР — Дания. Долбанули! — как теперь говорят. Мы их долбанули. Последние известия прослушал. Завязли американцы во Вьетнаме. Бомбят мирное население. А все же не умеют воевать! Русский солдат за два месяца бы справился.
Толстопят сел у стола, раскрыл альбом, поглядел на фотографию молодого поручика, сложившего на тумбочку руки с большими чистыми ногтями. Перевернул, прочел надпись: «28.II — 18.VIII 1918 года, Екатеринодар — Георге-Афипская». Подумал о чем-то и захлопнул с треском, словно распрощался еще раз с далекой историей.
— Милая наша хозяюшка! Ты устала? Ложись ты спать, а я поведу молодого человека к себе.
— Куда торопитесь?
— Только в рай, только в рай,— сказал Толстопят.— Так, господа! Не было дня на земле, чтобы кто-то не умер.
— Я вспоминала недавно, Тхоржевский, переводчик Омара Хайяма, хорошо написал: «Легкой жизни я просил у бога. Легкой смерти надо бы просить».
— Вот именно,— согласился Толстопят.
Бурсака что-то толкнуло, он величаво поднял руку вперед и натянутым голосом прочитал четверостишие:
В кружевах наших слов умирают земные обманы.
Из мерцающих звезд в облаках вырастают дворцы.
Мы одни в нашем царстве, в волнах серебристых туманов,
Среди старых легенд мы с тобою одни.
— Это я написал в прошлом году на вокзале Сен-Лазер, когда ждал поезда.
Он солгал, и ему почему-то хотелось солгать, похвалиться своим вдохновением, впечатлительною душою, не заглохшей, мол, во многих страданиях, и поскольку ради своего поэтического престижа он лгал часто, то запамятовал, что четверостишие это, переделанное из строк умершей в 1925 году в Сербии бывшей донской гимназистки, он уже читал при Толстопяте одной известной даме с горностаем, и было это в Барселоне, где Толстопят пел два вечера в казачьем ансамбле.[533]
— Отсталый человек, ничего не соображаю в стихах,— сказал Толстопят.— Чувствую только, что не Пушкин и не Лермонтов. Зато у меня был голос! «Ныне отпущаеши раба твоего....» — запел он.— Я забираю поэта к себе, наша красавица; отдохни немножко. Уже светает...
Но Толстопят еще подсел к фортепьяно и тихонько пропел вечнолюбимый пророческий романс Нежальской:
Счастье мне и радость обещала,—
Ты ушла, и жизнь ушла навеки за тобой...
Никогда жизнь не кажется такой мирной и кроткой, как в те часы, когда спит большой город, да еще город родной, где столько недоразумений нарастает за век, столько разлук и печалей нападает на нас. И больше всего любишь людей, уголки улиц, всякие окошечки и фронтоны именно утром, на серой заре, в улегшейся за ночь тишине. Именно утром возбуждается желание пожить еще некий срок, что-то успеть, кому-то из родных помочь, поставить на ноги детей, завершить свои интимные дела. В бессонницу, за беседой с другом или так вот, как провели ночь эти старые екатеринодарцы, вовсе расширяется твое чувство, и, когда идешь домой, к постели, чего-то в этой жизни жалко немножко, в жизни, такой короткой и такой все же чудесной,— она ведь не повторится.
Бурсак и Толстопят шли медленно. Над ними, где-то в зеленых верхушках акаций и еще выше, словно звучала, покрывала собою всю окрестность какая-то волшебная, классическая музыка, слышимая внутренним вниманием, и была ли то музыка утрат, прошедшего времени, нашей любви ко всему живому или одинокой радости — уточнить было нельзя, да и зачем? Сколько на свете невысказанного! И это самое, может, лучшее, самое дорогое, чем мы жили.
Сперва они молчали, потом изредка кто-то один ронял слово, другой так же кратко отвечал ему, и снова они шли и просто глядели. Молча же постояли они перед Доской почета в Ворошиловском сквере. Бурсак подумал о давнишних своих встречах на этом тротуаре с Калерией, а Толстопят вспоминал последнюю прогулку с Юлией Игнатьевной, когда она ему напомнила о молитве в 1919 году. Потом они как-то незаметно попали на улицу Ленина, и у самого угла улицы Шаумяна, несколько шагов дальше к Красной, Бурсак толкнул Толстопята и кивком головы указал на овальное окно второго этажа. Не спала какая-то старуха с черными бровями, повалилась на подоконник и глядела вниз. То была та же старуха, которую видел Лисевицкий на рассвете, когда возвращался от Верочки.
— Интересно, о чем она думает? — спросил Бурсак.
— Не о нас, не о нас. Прошли, скажет, какие-то приезжие. Я ее не первый раз вижу. Может, наша ровесница. Может,[534] знает, что были на свете Бурсаки. Не понимаю, зачем тебе ехать назад в Париж. Как это дико!
— Ну а что же мне делать? Ты успел вскочить в свой поезд, а я прозевал. У меня там две пенсии. В Париже я с вечера заказываю обед на завтра. А здесь что я буду делать? Кому я здесь нужен?
— А там ты ну-ужен... Аким Михайлович уже тяжелый, долго не протянет. Вернешься, и будете доживать с Калерией... Чего уж теперь. Страницы жизни перевернуты...
— А раз так, то и тебе я привез... это не сюрприз... это называется... Да вот сейчас придем, покажу...
Дома поставили чайник на плитку, открыли окно. Толстопят со вздохом повалился спиной на постель, подложил под затылок любимую думочку Юлии Игнатьевны; Бурсак, чувствуя, что друг не забыл его обещания, распустил на чемодане ремни, поднял крышку, что-то долго перебирал.
Наконец вынул длинную книгу, обернутую бумагой с цветками, но прежде, чем протянуть ее Толстопяту, зацепил ногтем страничку, отвернул и прочитал:
— «14 октября 1921 года, в день покрова по старому стилю, наша семья, состоявшая из шести человек, погрузилась в Константинополе на пароход, предоставленный Красным крестом для русских беженцев...» Интересно?
— Странный ты какой-то, братец Дема, черт тебя знает... Почему это должно быть интересно? Роман, что ли? Я романов не читаю.
— Маленький роман о любви. Пять страничек.
— Ты меня чем-то разыгрываешь...
Бурсак отлистал четыре странички, опять прочел:
— «Мир праху его. И. К. Сафьянщикова». Говорит тебе что-нибудь эта фамилия?
— Сафьянщикова? И. К.? — Толстопят поднялся с постели.— Сафьянщикова... Не та ли? Я дал ей три года назад отповедь в нашей газете «Голос Родины».
— Сафьянщикова по мужу, а девичью не знаешь?
— Откуда же мне знать? И зачем?
— Сафьянщикова И. К.
— Уж не помню, мой друг, прости, пожалуйста. Из Аргентины?
— Да, сейчас она там. Что же ты написал в «Голосе Родины»?
— Я им всем писал,— сказал Толстопят жестко.— Она опубликовала статью в «Новом русском слове». Мне в Москве показали. Статья — одна брань. Ну как брань: все в России опустилось, опростилось, ехать туда, мол, незачем. Я подскочил: ка-ак? Опять?! Ставлю заголовок: «Почему я пересмотрел свои взгляды». И написал: не слушайте злых языков! Обиду на Родину никогда нельзя иметь. Это родина-мать. Я провел на чужбине сорок лет и вернулся по велению своей совести, и мне, блудному сыну, простили былые заблуждения.[535]
Бурсак слушал внимательно и настороженно.
— Так.
— Я не принял иностранного подданства,— продолжал Толстопят, накаляясь,— а мог бы. Все мы были беспаспортными беженцами, и от нас часто шарахались, как от зачумленных.
— Ну, это ты чересчур.
— Как же чересчур, как же чересчур, братец? — Толстопят даже вытянулся вверх.— Да я же помню двадцатые годы.
— То двадцатые. Как бы то ни было, Франция дала нам кров.
— Спасибо,— поклонился Толстопят.— Но я написал нашим: довольно скитаться! Я живу здесь не по милости, а по праву. Мне не надо сострадать, я и без того доволен. Жил за границей, сам себя наказывал.— Толстопят вспомнил про чайник, вышел; Бурсак прошелся за ним.— Еще я написал: мне сейчас смешно вспоминать те предсказания, которыми напутствовали там. Возвращайтесь домой! Живут и никогда не умрут наши народные обычаи. Возвращение на Родину — ни с чем не сравнимое счастье. Зачем терпеть, чего ждать? Вздыхать по прошлому, даже если оно у вас было безоблачным, сейчас поздно. Если есть еще соотечественники, которые говорят: «А что нам дала Россия? Нас отвергли», то их мало, они холодные эгоисты. Они рассуждают так: «Да, мы жили в старой России и жили хорошо». Одна дама, когда мы уезжали, вырвала у моей жены сумку с деньгами и кричала проклятья. Она, верно, и сейчас сидит у входа в русский магазин и как будто просит милостыню. Но она не нищенка. У нее фабрика. Ее родным детям страшно, что мама еще говорит по-русски. Что хорошего?
Бурсаку хотелось перебивать Толстопята, но он знал его вспыльчивый нрав, и, чтобы не доводить друга до крика, отвечал ему взглядами.
— А как, Петя, зачеркнуть годы, прожитые в эмиграции? Там тебе не было легче?
— Дело не в том, Дема, где легче, а в том, где ты чувствуешь себя дома. Там, где был наш Панский кут с «Яром», где мы с тобой кутили, теперь свалка. Может, оно и правильно.
— Ну хорошо. Я приеду. А с кем жить? Города моего нет, никого нет. Все другие. И чужие, как в Париже.
— Бог тебе судья. А коли уж я русский, то слова Петра Великого помню:, «Кто к знамени хоть единожды присягал, тот у оного до смерти стоять должен». Трехцветное российское, красное советское — все одно знамя Родины.
Бурсак молчал. Но в запасе у него был удар, и этот удар он привез ему в чемодане. Книга в обертке все еще была в его руках.
— Вот это все я и написал. И еще, и еще другое. Я им напомнил о Шульгине1, принимавшем как-никак отречение царя,
--------------------------------
1 В. В. Шульгин (1878—1976) — монархист, член Государственной думы, после революции белоэмигрант. Умер на родине.[536]
он сейчас живет и здравствует во Владимире. Разочаровался в белом движении давно. Я, говорит, не видел в нем ни одухотворенной идеи, ни смысла, ни справедливости. За что мы боролись? За сохранение своих классовых сословий и имущественных привилегий? Это Шульгин!
— Наверное, вынудили сказать.
— Да не-ет,— засмеялся Толстопят, отмахиваясь и жестом унижая друга, верившего в ежеминутное насилие в родной стране.— Не-ет! Поезжай, поговори. От Москвы близко.
— Мне кажется, Петя... Мне все-таки кажется... извини меня... мне кажется, что, как только русский оттуда переступает границу (на восток), он говорит фальшиво уже на другой день. Его что-то стесняет.
Бурсак говорил и побаивался Толстопята. Побаивался его страшного гнева, которым славился тот все сорок лет за границей. И даже в молодости. Но Толстопят улыбнулся.
— Ты у меня в гостях, Дементий Павлович. Печально, но ты, Бурсак, твои деды в кошевых атаманах ходили, приобретали ату землю, а ты в гостях... а-ах, как мне тебя жалко. У меня характер скверный, боюсь обидеть тебя. Но ты знаешь кто? В чем твое горе, трагедия, знаешь?
Толстопят минуты три только качал головой. Бурсак невозмутимо, даже победоносно ждал банального обвинения. Но слова Толстопята стали для него новостью.
— В чем?
— Не обидишься?
— Мы старые друзья.
— Мы старые друзья. Ты добрый, честный, но ты, Дементий Павлович, вечный либерал. Как писали про вас в «Новом времени», такие вы и нынче.
— А ты, кажется, все еще монархист.
— Я Толстопят! Я всю жизнь проигрывал, на фронте с турками (как мы их ни били), я подавал заявление во французскую армию, а они сдали немцам Париж. Я казак, а с самостийниками разминулся, и меня ненавидели. Но я вернулся домой, и это все... Я был в пекле, а вы, мои умные беспочвенные Милюковы, всю жизнь только рассуждали и кривили губы... Ваша участь — быть всегда чем-нибудь недовольным. Я бы раздраконил тебя, милый мой, да ты у меня в гостях. В гостях, боже мой. Бурсак в гостях. Даже мне тяжело. Че-орт тебя знает! В доме для престарелых в Монморанси он хотел бы умереть...
— Хотел бы здесь...
— Так давай умирать! Рядом положат. И от батькив будем недалеко, они на старом войсковом. И тополя какие высокие. Так давай... Ну что тебе этот Париж? Он, конечно, сиреневый, ему нет равных, но наш, маленький, лучше, главное — родней. «Ныне отпущаеши раба твоего...» — запел Толстопят вдруг, взмахнул руками и сел.— Шульгин правильно написал из Владимира эмигрантам: «Моим домом будет этот, хотя его больше уже [537] и нет». У меня есть вырезка из «Известий». И Толстопята того уже нет. Приехал — значит, хотел быть своим. Никогда не кривить душой. Меня тут опекает Верочка Корсун. И вот гуляли мы с ней, гуляли по городу и зашли на Екатеринодарское кладбище. И там я ей вдруг рассказал о том, что себе самому запретил помнить. Никто этого, кроме меня, во всем городе не знает. И в Париже уже никого нет из посвященных. В двадцатом году, мой друг, перед уходом белых, вызвали двадцать пять высших офицеров и почему-то меня в их числе. Показали нам на листочке чертежик. На чертежике указано место, куда из Екатерининской церкви перенесли прах генерала Алексеева. «Вот, смотрите, изучайте, запомните. Когда бы вы ни вернулись в Россию, вам, кому-нибудь, может, последнему, придется указать могилу вождя Добровольческой армии. Она здесь». Листочек на наших глазах порвали. Могила в правом углу кладбища. Я не искал, хотя я как раз остался последний. Но я приехал, Дементий Павлович, не на поминки генерала Алексеева.
— Тогда прочитай....— Бурсак шлепнул книгу на стол.— Хроника одной московской семьи. Но читай сначала то, что тебя касается... Страница сто шестьдесят...
— С удовольствием...[538]
ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
14 октября 1921 года, в день покрова по новому стилю, наша семья, состоявшая из шести человек, погрузилась в Константинополе на пароход, предоставленный Красным Крестом для русских беженцев. Мы уже привыкли кочевать по миру нищими и бесправными скитальцами; все имущество наше уместилось в нескольких мешках. Большинство русских продолжало надеяться вернуться в Россию, споры о ее будущем и причинах катастрофы волновали всех. Это было время, когда все рушилось, когда хотелось успеть полюбить. Мне шел двадцатый год.
С тех пор как себя помню, я жила любовью. Такие приливы любви были у меня к матери, к тете, к сестре и другим людям. Но Петр Авксентьевич Толстопят был моей первой сознательной любовью. Она началась в самые трагические дни нашей жизни, когда наша семья вместе с разбитой белой армией отступала из Новороссийска. В косынке сестры милосердия я пыталась помочь больным, раненым. Он был одним из них. Он поправился и уплыл в Крым на пароходе «Владимир Святой». Я не знала, жив он или погиб. Потом мы оказались в Константинополе.
И вот случайно мы встретились на улице Стамбула. Ему предстояла новая операция. Мы с сестрой навещали его в госпитале. Он держался сухо со мною, но за этой суровой сухостью прорывалось иногда что-то другое.
Однажды наша компания решила уехать на весь день на прогулку. Я отказалась, мне хотелось одиночества. Когда любишь, так сладко быть одной. А потом я еще и ждала. Я сидела одна, читая переписку Гоголя с друзьями. Кто-то постучал в дверь. Она открылась — это был он. Он вошел очень просто, как будто иначе и не могло быть, как будто я ожидала его.
Он встал против меня, прислонившись к стене, и стоял долго, молча, сияющими, полными любви глазами смотрел на меня. «Я пришел наконец,— сказал он,— чтобы сказать, что я вас люблю. Я любил вас всегда, с первого взгляда, но я знал, что я не должен вас любить, и боролся. Я уезжаю через два дня и хочу, чтобы вы это знали, чтобы вы не грустили и не мучили себя». Он говорил как бы сам с собой, иногда закрывая глаза. Я слушала его молча, опустив голову. Я знала, что он уедет и ничто не может остановить его.
«Не отвечайте мне ничего,— сказал он,— я приду к вам [539] завтра, мы уйдем куда-нибудь, чтобы мне еще в последний раз побыть с вами». Он хотел уйти. «Не уходите, подождите»,— попросила я и протянула ему мою книгу; на ее полях были мои мысли, всегда обращенные к нему, как будто я читала вместе с ним. Он взял ее, улыбнулся и, не сказав ни слова, ушел.
Я осталась одна. Я не знала, была ли я счастлива. Он сказал, что любит меня, но говорил как будто с самим собой. Я думала, что любовь — это другое, что это жизнь и простота. Почему он так ушел? Почему он уезжает? Побежать за ним? Но, может быть, он опять встретит меня холодно и сухо? Любовь хрупка и пуглива, особенно в молодости, когда наша жизнь перемешана с нашими фантазиями и мечтами. Я не побежала за ним. Мне казалось, что это был сон. Я ждала завтрашнего дня. Я так мучительно ждала его. «Но, может быть,— думала я,— он передумает и не придет». Но он пришел. Я услыхала его шаги на лестнице, открыла ему дверь, и мы вышли на улицу.
— Неужели вы не понимали, неужели не чувствовали,— говорил он,— что вам не надо было знать о моей любви? Вы так молоды, перед вами вся ваша жизнь. Простите меня, что я огорчал вас!
Он привел меня в тишину заброшенного сада. Мы подошли к низкой стене; перед нами открывался вид на Босфор, на высокие темные кипарисы. Мы стояли долго-долго, потрясенные, потерянные, он с закрытыми глазами, но я не могла смотреть на его лицо.
Он ни разу не прикоснулся ко мне, не положил свою руку на мою, и это было не нужно. От него лилась на меня такая нежность, такой свет исходил из его странных, таких когда-то непроницаемых широких, а теперь открытых передо мною глаз. Только однажды, когда я подошла к нему поближе, он вдруг побледнел и сказал: «Не подходите ко мне, будьте милосердны». Я тихо отошла и смотрела на Босфор.
Он проводил меня домой, не сказав, увижу ли я его или нет до отъезда. Весь следующий день я ждала его, но он не пришел. Поздно вечером, когда все уже спали, кто-то чуть слышно постучал в дверь. Я кинулась открывать. Передо мной стоял еще молоденький офицерик. Он принес мне письмо. Я убежала к себе в комнату: на небольшом листке, вырванном из записной книжки, стояли слова: «Я не могу жить без вас. П. Т.»
На следующий день он пришел под вечер. Он был спокойный и радостный. «Пойдемте со мной»,— попросил.
Мы молча шли по улицам. Я не спрашивала его, нужно ли, чтобы он уехал. Я знала, что все было кончено, что ничего нельзя изменить. Но и у меня было на сердце чувство покоя и счастья. Мы вышли на улицу, спускающуюся к морю. Внизу виднелась гавань и пароход на рейде.
— Вы не пойдете дальше, я не хочу, чтобы вас видели. Мы расстанемся здесь.
Он взял мою руку и стал целовать. Он целовал ее долго, нежно и трепетно. Он смотрел мне в глаза последним, долгим [540] взглядом любви. Внизу послышались отрывистые тревожные гудки парохода, он все не выпускал моей руки. И мне показалось, что у нас одно сердце, переплетенное одной тоской.
Он ушел.
Он писал мне длинные письма, похожие на дневники. В них он рассказывал все, чем жил. Я тоже писала ему, как и он, ждала его писем, жила ими. Однажды он написал мне: «Как жаль, что я не умею больше рассказывать сказки. Я чувствую себя как птица, которая долго была в клетке, и, когда пришла ей возможность лететь, ее крылья уже не могли подняться, чтобы рассекать воздух. Моя любовь к вам не изменилась, но она все глубже уходит от жизни». Моя любовь к нему тоже уходила куда-то на дно, отрывалась от реальной жизни, может быть, она никогда не была связана с ней. Он писал мне:
«Господи, какая вы хорошая и добрая, что решили мне написать из Галлиполи, этого страшного города, рожденного страстным желанием Русской армии жить, а не умереть. Мы здесь, на пограничной сербской страже, хотим сохранить русскую армию, но только я теперь думаю, что нам это не удастся. Теперь наша армия без души, это только внешняя форма, но это уже не старая русская армия. Я многое понял. Это огорчит вас, но выражение: «Нет офицеров, а много солдат в офицерских погонах» — до тоски правдиво. Здесь только два сорта офицеров: вундеркинды Добрармии и офицеры гражданской войны. Это особого образования люди. Одни для этого должны были отказаться от многого старого, другие — этого старого не видели. Так или иначе, они не несут в себе того особого, золотого зерна, которое было обязательно в сердце каждого офицера старой русской армии. Производство в первый офицерский чин было актом признания меня достойным высокого звания офицера. В полку все могут быть самых различных характеров, но все обязательно дорогие, родные и понимающие друг друга. Вот из этого золотого зернышка души офицерской семьи вытекало рыцарство, благородство, порядочность, безжалостность в исполнении долга. Отсюда вытекало понятие, что офицер стоял выше, он имел обаяние, был хранителем ценностей, которыми солдаты жили и за которые умирали. Офицер был носителем души армии. Теперешний же офицер сам умрет героем, но не может воспитать «желание умереть», он ничего не может дать взамен инстинкта жизни. Теперь я понял, почему настоящие кадровые офицеры старой русской армии сейчас — вне армии. Они ждут времени, когда пойдут воевать в Россию и за Россию. Тогда будет идея, около нее можно будет начать жить армии, быть РУССКОЙ АРМИЕЙ, для которой должно жертвовать всем, так как она станет действительностью, а не мифом...»
Мы уехали в Сербию. Однажды он написал мне, что между нами лежит непреодолимое препятствие — это то, что он родился на пятнадцать лет раньше меня.
«Может быть,— думала я,— он устал любить меня», и я [541] решила «проверить» и «убедиться» и написала ему: «Пусть это будет мое последнее письмо». В самой глубине сердца я знала, что поступаю неправильно, я теперь так знаю, что надо всегда слушать голос нашего сердца. Но я все-таки послала это письмо. Я так ждала, что он ответит, что он, как прежде, скажет: «Нет, я вас никому не отдам». Но он не ответил. Сколько раз я решала написать ему, но что-то меня удерживало, какая-то глупая гордыня, и я молчала. Когда, наконец, после многих месяцев я написала ему, письмо вернулось, не застав его. Вскоре мы уехали в Сан-Франциско.
Спустя пять длинных лет я случайно узнала его адрес и написала ему. Он мне ответил: «Ваше письмо я получил вчера, и сегодня я шлю низкий поклон моему Солнышку. Я беру ваши руки, целую их и опускаюсь около вас на землю. Я хочу поцеловать ваши колени и, примкнув к ним, быть так долго, пока не отдохну, не начну быть из мертвого живым, пока не смогу хорошо улыбнуться вам и сказать: есть силы, есть смысл жизни. Целую ваши руки. П. Т.»
Я читала письмо и перечитывала. Я плакала над ним, как плачут над умершим. Я знала, что теперь поздно, что это все ушло безвозвратно, что не течет река назад. Когда я получила его письмо, я любила уже того человека, которого искала и ждала всю жизнь: и не смогла уже ответить П. Т-у, как раньше.
Мне в Константинополе на улице гадала по руке одна петербургская дама, некая Юлия Игнатьевна В.: «Вас будут любить многие, и никогда вы не будете знать неразделенной любви». Меня многие любили, и среди любивших меня была иногда такая странная связь, как будто была нить, связующая меня с ними и их друг с другом. Так меня любили два человека, оба они знали и любили Толстопята, не зная, что он любил когда-то меня.
Я почему-то всегда предчувствовала, что мне в жизни счастья не будет дано, того простого человеческого счастья, которое дается иногда людям. Но я не жалею, мне было дано другое.
Единственная, подлинная любовь к человеку есть в то же время печаль об этом человеке. Но, кроме этой любви, позволено ли нам любить по-иному? Увлекаться, давать себя любить? Или это грех? А может быть, грех отталкивать любовь, стараться убегать от нея?
...Говорили мне после войны, что П. Т. погиб или в Испании или в Париже при немцах. Я дважды в последние годы бывала в России — в Ленинграде, в Москве и на Северном Кавказе,— и вспоминала там, что П. Т. был родом с Кубани, из Екатеринодара... Мир праху его...
И. К. Сафьянщикова
— Вот и пусть думает, что меня давно-давно нет на свете,— сказал Толстопят в полдень, когда Бурсак проснулся и пришел за стол пить чай.— Так будет легче... [542]
ТАК БЫЛО
Если верить Бурсаку, то мало в его жизни было путешествий, подобных прогулке по кубанским степям в сторону Тамани — через Елизаветинскую, бывший Копыл (Славянск) и Темрюк. Наверное, это так, потому что путешествие было прощальное. О том, что время жизни исчерпано, напомнила лишний раз смерть архиепископа Ювеналия.
Он умер за неделю до этого.
В Париже до войны о. Ювеналий был духовником многих казаков, кубанских, донских и терских. Один Толстопят не ходил к нему: в 1923 году он в приступе своей вспыльчивости ударил по лицу будущего священника, а тогда всего-навсего корнета Дюдю, с которым в 1918 году пробирался на юг к Добровольческой армии. Ударил в каком-то горячем споре о судьбе России, о роли монарха в ее падении и прочем. Это было, кажется, в тот же год, когда монархисты-офицеры избили в поезде в Сербии бывшего председателя Государственной думы Родзянко, обвиняемого в предательстве государя и в развале самодержавия. Причина ссоры забылась, но дружба с Дюдей лопнула навсегда. И уже в Краснодаре, сколько ни звал его к себе о. Ювеналий, Толстопят не пошел к нему. Зла не помнил, однако покориться не хотел. Приехал домой — значит, лучше похоронить прошлое.
Бурсак навестил архиепископа Ювеналия в епархиальном управлении на улице братьев Игнатовых. Седой, иконописный пастырь с тончайшими ручками, в золотых очках принял его с милостивостью поистине старозаветной. Ни о чем особо не говорили, вспомнили немного тридцатые годы да поспрашивали друг друга о здоровье. Толстопяту послал он через него великодушный поклон. В апреле они могли бы повстречаться в Париже: архиепископа посылали от московской патриархии в Трехсвятительское подворье, верное юрисдикции Московского патриархата. В 1931 году Ювеналий (тогда иеромонах) стал одним из первых насельников этого подворья и немало вынес страданий за преданность Москве. Все, кто отошел к Константинополю, преследовали его где и как только можно. Он спал на полу, подметал улицы, терпел оскорбления. Гордый Толстопят, конечно, ценил его за патриотические подвиги, но склонить голову не возмог. Неисповедимы пути! — он объехал весь мир, читал лекции, скупал у антикваров иконы для своего [543] прихода, писал статьи, в первый день войны с Германией закончил молитву словами: «Все кончится добром!», а ныне обрел напоследок тихое южное пристанище в Краснодаре, на родине Бурсака. Вот вам и Дюдя, корнет, некогда самовлюбленный высокий красавец с черными усиками. Он любил теперь в простом разговоре проронить что-нибудь назидательное, глядя поверх собеседника и прикладывая тонкую, из одних косточек, руку к сердцу: «Во время жизни не обретают мира для души, не там его ищут, где можно стяжать. И так и живут и умирают во вред душе своей».
Теперь он умирал. Он умирал на закате, не принимал пищи, и только вода с примесью нескольких капель вина поддерживала его угасавшее тело. Накануне ему исполнилось семьдесят пять лет. Он исповедался и приобщился св. таин. Какие-то старушки допускались посидеть возле него под предлогом поздравления и желали получить его последнее благословение. Он с некоторыми прощался со слезами.
Бурсак шел по улицам среди незнакомых людей, глядел на киоски с газетами и журналами, на девушек и парней в легковых машинах, ехавших куда-то развлекаться, читал афиши с именами неизвестных артистов (не то что в Париже, там всех он знал), потом афиши, звавшие на конные скачки (о какие скачки устраивались и раньше!), читал строки на плакатах в окнах книжных магазинов, пережидал на улице Горького переполненный болельщиками трамвай и думал о том, что из России ему надо будет привезти в Париж побольше лекарств, они тут очень дешевы.
Когда Бурсак сочувственно-скорбной походкой прошел в покои Ювеналия, тот улыбнулся ему и пошевелил рукой, но вытянуть ее к нему у него не хватало сил. Бурсак склонился и поцеловал косточку запястья так воздушно, будто касался лепестка.
— Ну вот,— сказал Ювеналий, красивый в своей немощи, с той ласковостью в глазах, которая прощает всех,— слава богу, теперь у меня ничего не болит. Все это земное теперь кончено. Мне ничего не жаль... теперь все божие.
Уже пересчитали его деньги: «Снимите с меня, прошу вас, эту тягость, я буду спокойнее». Избавили его и от подарков, и он успокоился: «К чему это? Пустые мирские затеи. Не мне дарили. Если бы я не был владыкой, подарили бы? Как бы не так...»
Худой служка сидел возле него и тихо плакал. Ювеналий раскрыл глаза, улыбнулся Бурсаку и подозвал к себе:
— Ты свидетель, ты и пиши...
— Свидетель чего?
— Ты свидетель... ты и пиши...
И снова закрыл глаза. В эту-то минуту явился в дверях Толстопят. Бурсак вышел. Как принесли владыке крест, подставили к устам, как он задышал с хрипами в горле (что [544] называется колокольцем) и начали читать канон на исход души, ни Бурсак, ни Толстопят не видели и не слышали. Толстопят же рассказал по дороге, что они успели все-таки попрощаться.
— Прости меня...— шевельнул губами Ювеналий, в эту минуту не святой отец, а Дюдя, его спутник по несчастью в 1918 году по российским губерниям и по Константинополю в 1921-м.— Хотел бы в ноги тебе поклониться, прощения просить, да не могу, слег. Так прости...
— Ты меня прости...— ответил Толстопят.
Мысли человеческие меняются, и только душа наша живет по-старому.
И вечером, и через неделю в машине, когда ехали в Тамань, Бурсак гадал: почему Ювеналий так сказал? «Ты свидетель, ты и пиши...» Свидетель чего? Почему он, Бурсак?.. Если бы внушил ему бог написать про всех, кого он видел, и написать так, как оно было, вышла бы, наверное, редкая КНИГА СУДЕБ. «Все, что видели глаза мои, о том они скажут когда-нибудь...» Видимо, каждый, кто заканчивает свою жизнь, огорчается в какие-то пронзительные минуты воспоминаний: о жизни, которая была крестным ходом целого поколения, так никто вещего слова и не сказал. А душа ждала! Должно же остаться о русской судьбе нетленное слово!
— Я одно только могу уже совершить, Петя,— сказал он Толстопяту.— Не буду я больше писать этих дурацких стихов.
— Благослови господь! Я мечтал сказать тебе это еще в двадцать седьмом году, но я боялся, что ты обидишься.
Под станицей Ивановской, по левую руку, вдали к Кубани, застил простор Красный лес, некогда место охоты начальственных лиц. По нему на десять верст протекал Ангелинский ерик. В лесу раньше водились олени; осенью и зимой, когда олени теряли рога, жители собирали этих рогов до десятков пудов и продавали в ремесленные школы по двадцать шесть копеек за фунт.
— Кожа шла на сбруи и стремена,— сказал Толстопят.— Когда казаки в семнадцатом году с фронта вернулись, перестреляли всех. До тысячи погибло в Протоке под Славянской.
— Сейчас опять есть,— сказал Лисевицкий.— А вот и Ивановская, родина академика, пшеничного батьки Лукьяненко. Скромнейший!
В дороге иногда подолгу молчали; мелькавшая степь помогала думать... Степь, небо и ты, и это прихотливое перескакивание мыслей через пропасть лет, через земные версты, от волнений бытия к кладбищу, от любимых барышень к старухам, от философии к пустячку, к тому, например, что затылок у Лисевицкого выпуклый, а ботинки Толстопята стоят в Париже столько-то франков. Искрами пролетали в сознании смутные тени подсудимых Темрюкского отдела, которых Бурсак [545] защищал в некие туманные годы,— какие-то (существовавшие все же на свете) бабы, воровавшие у господ драгоценности и платья, молодые казаки (насильники девочек), убийцы, неверные жены, да, все были отсюда, с хуторов и станиц, жили, затевали делишки ради какой-то нестерпимой цели, и, может, кто-то еще досе сидит на кухне и кусает беззубым ртом хлеб. Зато о жизни после 1924 года не выколупнуть ничего. Ангелинский ерик под Ивановской, Гнилая гора, Мыска, Замостянские низы с болотцами у дворов в Темрюке, валы Голубицкой — все молчало, точно ехал он голландскими землями. И оттого казался он себе чужим. Нет воспоминаний, и нету жизни. Случилось все же утрата. Эти балки, горушки, плавни и перелески в чудесном фантастическом сне могли бы перечислить ему события новой истории и каверзно спросить: а ты где тогда был? копал ли ты рвы, наводил мост через Кубань, тонул при немцах на катере в гирле Пересыпи, шел в сорок третьем трое суток пешком в Краснодар передать хлебушек узнику-страдальцу?
В Пересыпи они поглядели с кручи на морскую равнину и на вылизанную волнами песчаную полосу, покричали дельфинам.
— Пересыпь была началом Суворовского редута,— как-то устало, без обычной громогласности просвещал Лисевицкий.— Вокруг островки затоплялись водой. На холме был греческий город Тирамба, до нашей эры. Ахтанизовский лиман обмелел: в начале века, когда вы с мадам Бурсак отдыхали в Анапе, тут ходили до Темрюка маленькие пароходы.
— И это тогда-а уже,— замечал Бурсак.
— Верблюжью колючку где бы достать,— говорил мне Толстопят; мы стояли в стороне.— Помогает.
— Я бывал в Греции,— все беседовал Бурсак с Лисевицким.— Представьте себе, в Дельфах, на развалинах театра, я стою в кругу, а вы на вершине лестницы для зрителей, и только я чуть-чуть пошевелю губами, а вы уже слышите...
— Верблюжья колючка в Средней Азии, Петр Авксентьевич. Я напишу дяде.
— А недалеко от Салоник святая гора Афон, там наши монастыри русские,— спросите у Петра Авксентьевича, он там бывал, неужели не рассказывал? С писателем Борисом Зайцевым...
Лисевицкий держался пальцами за пуговицу бурсаковской рубашки и дудел свое:
— У нас в Тамани жил, по некоторым сведениям, дед оратора Демосфена...
— Замечательно! Напишите об этом.
— Природа вырвала у меня перо из рук, когда я еще был в пеленках, месье Бурсак. Я не умею. Но как я люблю жизнь, месье! — Лисевицкий, словно ради доказательства, обводил [546] рукой вокруг.— Я оптимист неслыханный. Мы выкинули лозунг: превратим Тамань в советскую Шампань! Слыхали? Ах, простите, вы ведь живете в Париже. Забыл. Я все считаю вас кубанцем. Оставайтесь на родине. Я подарю вам массу великолепных книг. Оставайтесь. Ваш богатейший опыт поможет нашему общему движению вперед. Какая красота! Какие богатые земли! По этой дороге, мимо Ахтанизовской, мимо горы Блювака, тянули возы ваши предки... Ах, я счастлив... Едем! Впереди героическая Тамань...
В Тамани, приморенной зноем, на этом краешке земли с известковыми пятнами хаток, с приморскими улочками по буграм, земляной стеной у сухого озера и увитым до самого дна травою рвом, кончавшимся близ вонючей морской камки, у словно нарочно не сваленной, какой-то кособокой сказочной хатки в одно окошечко, с пристанью и, конечно, памятником родному запорожцу, они пробыли три часа. У памятника Толстопят сурово молчал, как молчат люди, которые были здесь когда-то в другой компании и что-то важное переживали. Он даже не подошел к старичку Нестору, говорившему Лисевицкому о местном Толстопяте, двоюродном дядюшке Петра Авксентьевича, о его печальной смерти в 1917 году; не подошел, но все слышал. Зачем ему? — он знал все это, и отец его знал, и сестра Манечка. Неведомо почему баламутный Лисевицкий сдержался и не подтащил старика к Петру Авксентьевичу: «Да вот же Толстопят, познакомьтесь! Есаул конвоя его величества!» Наверное, забылся.
За баней, на раскопках города Гермонасса, он взял за руку Бурсака и провел вдоль проволочного заборчика почти к краю обрыва, стал напротив дверцы, не пускавшей во двор с круглым колодцем. Вся белая, игрушечная хатка с ведром на трубе накрылась тенью от деревьев.
— Здесь... В одиннадцатом году. Ночевала красавица Калерия Шкуропатская. Ясно? У слепого звонаря.
Он позабыл, перепутал. Не здесь, а к востоку за рвом ночевала Калерия. Он забыл даже, что там рядышком стояла церковь Вознесения.
— Не лермонтовский ли звонарь?
Толстопят пожал плечами.
— Доктор медицины,— говорил,— прохвессор латыни, та уси будемо там, уси будемо там. Мы должны с тобой, Дементий Павлович, почаще становиться на колени и благодарить бога.
— За что же это?
— За то, что-о... По всем кладбищам лежат наши товарищи, родственники, сверстники, а мы еще на ногах! Рассказ я читал недавно, фамилии не помню автора, в «Огоньке» было. Плачу и рыдаю, пишет, егда есть жизнь!
— Юрий Казаков,— сказал я.
— Плачу и рыдаю, егда есть жизнь. И глаза мои еще открыты. Радуйся, Дементий Павлович. В Париже будешь как о счастье [547] вспоминать. Вон и Керчь видна, я даже гору, по-моему, Митридата вижу. И вон детишки с пристани бычков ловят. И какая-то красавица переулком идет. Все как всегда. Ни на минуту не останавливается жизнь.
В церковь пустила нас неприветливая морщинистая старуха в черном платке; мало кто знал, что она из Смоленской губернии. Я беседовал с ней еще в те годы, когда она жила на краю станицы и в церкви свечами не торговала. Она была очень заметна в Тамани своей чопорностью в разговоре, монашеским черным платком и необщительностью. Лисевицкий ей что-то шепнул, и она тотчас открыла церковь. За своей оградкой в углу, под иконами, она тайком прислушивалась, о чем говорят Толстопят и Бурсак.
— Гляньте, гляньте,— суетно звал Лисевицкий.— Святая икона Николая-чудотворца. Надпись: «Усердием И. И. Толстопята». Ваш дядюшка, месье Пьер?
— Ну что ж. Надеялся на прощение грехов. Не в церкви будь сказано, но в одном белье, бывало, из печи вылезал, весь в саже. У казачки ночевал и спрятался, когда постучали.
Я устал и загрустил. Нельзя, видно, бесконечно ловить вчерашний день. Все же я не Лисевицкий: среди одних воспоминаний я жить не могу. Со мной часто случалось такое: в разгар интересной беседы в доме Толстопята (все, конечно, о том, как он пел по городам Франции, купался с испанской инфантой, видел великих княгинь, царских сестер, то да се) на меня наваливалась такая тоска по несвершенным заботам, меня тянуло к сверстникам, в текучку, черт знает куда, но чтобы жить и тратить часы на отпущенное мне бытие. «Да,— говорил я,— все это прекрасно, мило, старые люди, история, чужие предания, но, но, но!.. Они свое прожили. Не засиделся ли я возле них?»
— Стыдно признаться,— сказал Бурсак, когда выезжали из Тамани,— но... я начинаю тосковать по Парижу.
— Вас разве ничто здесь не тронуло? — спросил я.
— Меня, мой милый друг, трогает все. Но! Il ne faut pas me vouloir il faut me comprendre1. О моих переживаниях, воспоминаниях и прочем лучше не говорить, пусть они останутся при мне. На этом, пожалуй, можно и поставить точку.
Всю обратную дорогу молчали. С вами бывало так? Иногда в городе долго с кем-нибудь водишься, а потом поедешь с ним на денек в глубинку и поймешь, что жить с ним тяжело — чужой и противный. И так же вдруг ударило меня нынче. Чем-то раздражал меня холеный господин Бурсак. Мне показалось (хотя не было доказательств), что он никогда никого не любил и ничему не был предан во святости. За границей чванился перед голью сиротской своей запорожской фамилией, а на родине забытые заслуги предков позволяли ему
----------------------------
1 Не надо обижаться на меня, надо меня понять.[548]
нести себя как бы выше других. Едва ли я ошибался. Холодный какой-то господин, уже не свой, не кубанский. Не то что Толстопят, открытый и всем милый Петр Авксентьевич.
В вежливом равнодушии Бурсака я еще раз убедился вечером, когда заглянули мы в Елизаветинской к Федосье Христюк. Затащил нас к ней нетерпеливый Лисевицкий.
Она сидела за воротами с соседкой, испуганно дивилась, как из машины вылезают четверо (двое молодых и с ними два хорошо одетых старика — наверное, начальство). Лисевицкий полез обнимать ее, кричал на всю улицу. Она повела нас в хату. Высокая, как метла, нескладная, Федосья усадила гостей, надела красную кофту и стала рассказывать «ученым людям», как она поживает.
Лисевицкий теребил ее престарелыми вопросами:
— Журналов не завалялось? календарей? черкески или шашки?
— Моя ж ты деточка,— жалела старуха, что ничего у нее нету,— когда мои подружки учились, я на конях навыпередки бегала, а книжек не читала. Фотокарточки вынесу.
Три фотографии на картонках освежили чувства Бурсака и Толстопята. На одной она стояла со Скибой у крыльца дачи мадам Бурсак в Елизаветинской. На второй молодые Бурсак и Калерия у того же крыльца, а Федосья вдали с граблями. И на третьей чья-то большая семья, в центре важный казак в новой черкеске — атаман станицы.
— Это вы замужем? — спросил Бурсак, отбирая у нее фотографию, где она со Скибой.
— Не-е. Це работник. И я была в работницах у Бурсачки. Она сама жила в Екатеринодаре. Я ей была неровня, а она мне не по нраву. Любила, шоб у ней ручку целовала после чая. Ну она мне привозила ситцу на сподницу. Сбежала чи в тот Париж, чи в Турцию.
— И вы всю жизнь одна? — не первый раз донимал ее Лисевицкий, хотя давно изучил назубок ее биографию.
— Я рано, деточка, замуж вышла, семнадцати годов.
Толстопят спросил:
— Вы в каком году родились?
— В восемьдесят четвертом. У нас в роду по сто годов жили. И живу, а нема никого. Вот нема уже моих годов. Семь женщин, сказал председатель, семь душ на станицу таких, как я. Пятеро мужиков схоронила. А цего,— ткнула она пальцем на фотографии в Скибу,— спасала от бандитов.
Я в уме своем приближал ту минуту, когда старики вдруг узнают друг друга. Но пока в их глазах ничего такого.
— Скиба! — Лисевицкий схватил фотографию, мечтая навечно спрятать ее в свой портфель.
— Ей-богу,— перекрестилась Федосья.— Не брешу. Его взяли белые. Я поехала в Екатеринодар. Захожу, сидит офицер. Молодой. «Что вы хотите?» — «Мой брат у вас в плену».— «А-а, как фамилия? Ваш брат враг отечества». Я стала плакать: не-е,[549] мой брат не враг отечества. «Знаете вы, куда пришли? Мы его расстреляем».— «Я хоть последний раз взгляну на него». Меня повели в подвал, я его там не нашла.— Она заплакала.— Не буду дальше рассказывать.
Толстопят слушал хмуро. В 1919 году много приходило женщин в штаб, плакали, просили — может, и Федосья была у него. Не помнил.
— У нас тут девяносто душ расстреляли. И сына нашего расстреляли в плавнях.
Лисевицкий задергался.
— Это было уже после Корнилова?
— Ага, после Корнилова.
— А как привезли убитого Корнилова, вы помните?
— А я ж его купала,— сказала Федосья так просто, как будто она купала ребенка.
— Да-а вы что-о? — Лисевицкий вскочил.— Купа-али? Как купали?
Я расхохотался. В одно мгновение идиот Лисевицкий позабыл, что генерала Корнилова привезли мертвым.
— Обмывала мертвого.
— Да не может быть! Обмывали? Корнилова? Кто же вас подпустил к командующему Добровольческой армии?
— Мертвые не командуют,— сказал Толстопят.
— А ну расскажите. Это же история. Это было во время штурма Екатеринодара тридцать первого марта восемнадцатого года,— пулеметом сыпал слова Лисевицкий.— Белые переправились через Кубань под Елизаветинской и пошли в атаку к кожевенным заводам и Сенному рынку. Генерал Эрдели обошел с конницей Екатеринодар с севера. Уже на Кузнечной кое-где обыватели выставили столы с водкой и продуктами. И вдруг снаряд попадает в хату и убивает Корнилова. Паника. Не вы, Петр Авксентьевич, сидели во дворе занятого дома и обсуждали будущее, когда пришел кто-то и сказал: «Четверть часа тому назад убит генерал Корнилов»? Командование принимает Деникин, и начинается отступление.
Толстопят с улыбкой слушал Лисевицкого. Можно ли было тогда, в марте 1918 года, представить, что спустя полвека вот так кто-то будет сидеть в станице Елизаветинской у старухи и самоуверенным голосом долбить о смерти белого генерала, про которого ему известно столько же, сколько и про другие смерти добровольцев.
— Вот сказали,— начала старуха,— шо Корнилова убили. Ось вступили до нас, уже войско вошло в станицу. Ось вступили до нас, привезли Корнилова в станицу в дом Левченко.— Федосья постучала по столу.— «Хозя-айка! — ко мне идет человек с винтовкой.— Можно к вам?» Я выхожу: «Кто там? Если с винтовкой, то можно, я никого не боюсь».— «Вы Христючка?» — «По батьку, а по мужу Шевченко. Какого лиха надо?» — «Собирайтесь!» — «А я собрана».— «Пойдемте».— «А куда?» От, думаю, арестовывают [550] меня. «Скажу куда. Еще бы одну, как вы». Я кричу соседке: «Миновна! Идем со мной. Меня арестовали, а я тебя арестую». А дети мои в плач: «Мама, не ходить, мама, не ходить... Война, це вас там расстреляют». А меня ж тягают за сына. Приводят нас в хату. С соседкой.
— А ваша соседка жива?
— Жива!
— Жива?! — Лисевицкий никак не мог поверить.
— Жи-ива!
— Где живет?
— Ось! Я б вас повела, она б вам рассказала, вы б тогда поверили мне. Це я вам правду кажу. Входим в хату — лежит! Так вот,— она перекрестила на животе руки.— «А,— спрашиваю,— шо нам делать?» «Сейчас. Вода греется»,— сказал солдат. Ставни так закрыты. Лампадка горит.
Толстопят склонил голову, давил в себе чувство. Так не хотел он всегда, чтоб прошлое возвращалось, но теперь его возвращала простая казачка Федосья. Лисевицкий онемел от чудес: перед ним старуха, которая обмывала Корнилова! Это все равно что найти рукопись Цицерона.
— Воды налили, раздели его. Он весь в крови, повыпачкано тут и тут, и пазуха в крови. Мы его обмыли хорошенько, повытирали. Белье принесли, часы золотые и кинжал золотой. Надели на него все.
— И кровь была? — не верил Лисевицкий.
— Была, была.
— А похож на русского?
— На черкеса.
— Калмык!
— Невысокого росточку, скуластый.
— Вам сказали, что это генерал Корнилов? — допрашивал Лисевицкий.
— Сказали. Нам в хате сказали: «Знаете, женщины, вот вы моете генерала Корнилова, а кто из вас пар из рота выпустит, пока мы уйдем из станицы, то вас расстреляем за это. Никто нигде!» Привели нас с винтовкою до хаты и сказали: «Вот так шобы. Все! Ни от кого не слыхали, и никто не знает!» Вот истинная правда. Це на моих глазах, на моих руках.
— Куда ж его повезли?
— Дорогою вперед поехали. Выкопали в немецкой колонии яму, закидали и конями затоптали.
Лисевицкий, знаток гражданской войны, не унимался:
— А когда в городе потом труп таскали, это он был?
— Солдата бедного якогось. Конь же тягал. Я могу перекреститься. Вот. Это законный Корнилов, а то солдат.
— И никто не знал, где закопали?
— Никто-никто.
Толстопят повел губами. Двадцать пять высших офицеров получили на руки чертеж-карту захоронения белого вождя — [551] с тем чтобы кто-то (пусть последний) вернулся когда-нибудь и указал место. Они все уже умерли в эмиграции.
— А в чьей хате обмывали?
— Сейчас скажу. Она и сейчас стоит. Ой, забыла. Ну нехай!
— Так никто и не узнал?
— А кто ж узнает, если из рота не выпустишь?
— Сколько лет молчали?
— Та года два. «Кума,— говорю,— смотри ж, шоб мы были правы». Нас с винтовками вели и сказали: «Если вы выпустите пар из рота, вот этой винтовкой вас...» Вот. Я старуха, брехать не буду. Так было, чего ж?
— Какая потрясающая у нас история! — воскликнул Лисевицкий, привстал и обнял Федосью: — Вы историческая личность. А это...— Лисевицкий подумал уже было сказать все по правде, но я мигнул.— А это... профессора мединститута, они на пенсии.
— А-а... Я ничем не болею.
— Жизнь ваша такая тяжелая,— сказал Лисевицкий.
— Не. Я хозяйка была хорошая. Я и в колхозе была передовичка.
И надолго замолчала.
Великая печаль паутинкой приспустилась к Бурсаку. Где же та небесная душа, те скрижали мира сего, которые помнят все и всех? Не сама ли степь? Какие минуты! — за полосой домов несутся по дороге машины, по станице от двора к двору со свежими газетами и письмами ходит почтальон, везде снует забота текущего дня, а во дворе Федосьи Христюк сидят они, свидетели целого века. Федосья с невинной крестьянской простотой поглядывала на них с Толстопятом. И Бурсак думал, удивлялся: какой-то дождливый вечер 1908 года, дача тетушки Елизаветы у Бурсаковских скачек, работник Скиба и с ним Федосья, круча, с которой прыгал в Кубань дед Петр Бурсак, Екатеринодар во все времена года, 300-летие дома Романовых и свадьба с Калерией, война, революция, отъезд в двадцать четвертом году за границу, Европа. На целые десятилетия улицы Парижа, русские газеты, генералы, великие князья, сестры покойного государя, писатели, певцы, казаки-скитальцы, опять война, очереди сорок шестого года в советское посольство, опять города Европы, Америки... а она, Федосья, жила и жила себе в этом дворе — как и ее отцы и деды. Это всегда так: если куда-то вернешься после долгого отсутствия, странное великое чувство охватывает душу: здесь была жизнь? без меня?! И он даже повторил: «...1908 год, войны, Европа, а она жила в своем дворе...»
— Вы ж Шкуропатскую знаете? — спросил Лисевицкий.
— Ну а как же!
— Бурсаковские скачки где?
— У домика, где Корнилова того убили. Он стоит, в нем люди. Це старый Бурсак с лошадью там прыгал. Так казаки рассказывали. Завязал коню глаза, тю-у — бурку накинул, разогнал [552] и прыгнул. Тому, кто тело поймает, обещала семья кувшин золота. Мой дед и поймал его.
— А где ж кувшин?
Федосья посмотрела на него с подозрением, подумала-подумала и вздохнула:
— У меня был, я в него крупу ссыпала, а потом с колышка у меня его кто-то снял и унес.
— Это невозместимая утрата,— с трагедией в голосе сказал Лисевицкий.— Может, как-то поискать, поспрашивать во дворах?
— То, деточка, до войны было, где ж искать? А зачем он?
— Какой роман, какой роман! В духе Дюма пламенная любовь казака, прыжок с лошадью в Кубань, золотой кувшин с монетами, кувшин похищает у деда внучка, у нее похищает любовник, любовника убивают в гражданскую войну и т. д. Ха-ха. Можно так и назвать: «Потерянный кувшин». Успех у масс был бы потрясающий. Так неужели же нельзя его найти? — снова пристал он к Федосье.— Скажите, я заплачу любые деньги тому, кто отдаст. Это же реликвия. Я бы с великим удовольствием напился из этого кувшина воды и был бы здоров как бык — от счастья, что этот кувшин... этот кувшин...
— Ну пойдемте,— сказал я.
— Приходите осенью, картошки дам по ведру.
Лисевицкий наклонился и крикнул ей в ухо:
— А песни старинные поете?
— Пожалуйста.
Лисевицкий страстно припал к ней, задергал:
— Ну спойте, спойте одну!
Она с достоинством кивнула: ладно.
Козак отъезжает, а дивчина плачет:
«Куда едешь, козаче-е?
Козаче, соколе, возьми мене с собою
На Украину далэку-у...»
Старики прощались. С почтением к старцам в гладких костюмах прощалась Федосья, звала к себе еще, еще раз пообещала, что даст осенью по ведру картошки и бурячков. Еще раз потрогал «драгоценную руку из XIX века» Лисевицкий. Бурсак церемонно поклонился и вышел задумчивый. Толстопят сказал: «Увидимся у Шкуропатской, приезжайте». Я пообещал наведаться как-нибудь.
На сухой ветке старого ореха Лисевицкий потрогал опрокинутый донышком старинный кувшин, побарабанил пальцами, но даже у него, антикварной крысы, не хватило воображения подумать, что, может, то кувшин бурсаковский, хранивший золотые монеты. И одним небесам было ведомо, что кувшин тот самый.
— Какой роман, какой роман...— бормотал Лисевицкий.— Надо было сказать, кто вы. Как бы она обрадовалась! Ехали, говорит, по степи со Скибой, а я пела...[553]
— А теперь,— сказал Толстопят громко и протяжно,— поедем ко мне, и я угощу вас борщом собственного приготовления. По рецепту моей матушки. Не будем заезжать на Бурсаковские скачки? Хватит на сегодня, как считаете?
Мы проехали мимо берега Кубани, мимо домика, где был убит генерал Корнилов, миновали ГАИ, сельскохозяйственный институт, повернули, еще раз повернули и оказались на Красной, там, где она кончалась в старину у пустыря, невдалеке от Братского колодца...
Золотой осенью Лисевицкий заехал к Федосье Кузьминичне отнять у нее любой ценой фотографии и, прощаясь, сказал:
— Федосья Кузьминична! А знаете, кто у вас был тогда? Остроносый, в красивом костюме, и второй, широкоглазый? То ведь был Дементий Бурсак, племянник Бурсачки, и...
Старуха Федосья презрительно молчала.
— Я их узнала,— сказала она наконец.— Да зачем? То отжило уже, зачем их мучить? Про второго я не сразу сообразила, шо то, наверное, я к нему ходила хлопотать за Акима Скибу в девятнадцатом году чи в восемнадцатом. Засыпать стала, думаю: наверное, я к нему ходила. Такой же широкоглазый. Та на шо оно? Уже то давно похоронено и уладилось. Пускай думают, будто я такая старая и не признала...[554]
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
Напоследок Бурсак съездил в станицу Каневскую один, нашел тетушкин дом возле камышей, с теми же окнами, из которых он тогда, за бумагами деда Петра, любовался снежным покровом; побывал он и на хуторе, перешел по мостику речку Челбаску, побродил, ни о чем никого не спрашивая, только оглядывая дворы, огороды и степные раздолья с птицами. Был ясный звенящий день, и казалось, то же Время царит над степью, под голубым нетленным небом, только разве бурсаковских табунов не видно... Где-то в станице, застроенной домами и гаражами, лежит вся его родня — от самых первых запорожцев. «Слабым будет последний род»,— говорилось в писании. Прощайте! Уж близок и мой час,— несла им душа в вечную обитель свою весть. Уж некому больше будет прийти сюда, потосковать о вас. Прощайте.
За день до отъезда еще раз повидал он Пашковскую, Панский кут, Бурсаковские скачки, а в городе обошел все уголки детских и юных впечатлений: сад со сторожевой насыпью, низины за рекою Кубанью, Чибийские плавни, кут Кухаренчихи (семи дубов уже не было), уголок Канатовых (там в новом здании почта), сад Ирзы, Карасунское озеро, двор с пивоварней «Новая Бавария», пристань Дицмана, Чистяковскую рощу и от конца до конца улицу Красную.
— Да-а...— сказал он Толстопяту.— Вот именно, именно: здравствуй, племя младое, незнакомое!
Держался сухо и строго все часы, но когда укладывал в чемодан белый мешочек с земелькой, взятой на хуторе, Бурсак потер пальцем глаза и сказал себе: «Ну всё! Всё уже, всё...» [555]
ИЗ МОЕГО ДНЕВНИКА
Писание свое надо таить от людей до тех пор, пока оно не окончено. У меня все сложилось иначе: о моих помыслах были осведомлены почти все. Милый, отзывчивый Лисевицкий, ждавший моей книги с трепетом, вредил мне своей откровенностью еще пуще. Он всюду славил мой несуществующий роман: «Офицеры воруют барышень! Скачки по всему городу! Дамы ездят в Париж делать пластическую операцию лица. Будет Петербург, Царское Село, высочайший двор, описание дома свиданий и прочая светская жизнь с балами, флиртом и разного рода пикантными приключениями. Масса детективных элементов». Мне советовали поменьше рыться в архивах и тревожить старожилов, побольше сочинять, но я упрямился. Сочинять было стыдно. Через пятьдесят лет даже кафе «Чашка чая» выплывает сказкой. Город, в котором молодыми жили мои герои, ушел в небытие. Сначала мне нужно было собрать по зернышку его черты. Выбор героев зависел от самой судьбы: на страницы романа взошли те люди, которые пережили других и больше всего мне рассказали. Разумеется, не все, а некоторые. Я временами чернел от мысли, что стараюсь напрасно. Нужно ли вообще оборачиваться так далеко назад? Погляди на нынешний день: не тени забытые, а живые люди трутся о твое плечо в трамвае, несут детушек в сад, поют песни, горюют и читают в газетах о страшной войне во Вьетнаме. Я все это понимал и ничего с собой поделать не мог: жалко было и горожан, никем никогда не помянутых. Между тем нам никогда не проникнуться прошлой жизнью как следует. Тайна ее лежит на самом дне. Еще и сочинять?! Всякая литература искажает историю. Да и кто я такой, чтобы писать о Екатеринодаре?
Я измучился: мне досаждали еще скрытые недуги — вроде нагловатого профессора истории. «Посмотрим,— хмыкал он с какой-то даже угрозой,— что вы нам преподнесете». Да, были в городе люди, которые почему-то взяли манеру говорить от имени всего общества, которое их об этом не просило. «Я бы этих недобитых казачков — всех расстрелял! Были же годы!..»
— Пишите,— торопил меня Толстопят,— пишите, пока мы живы. Что-нибудь да подскажем.
— Вот осенью в Париж съезжу — тогда примусь вовсю.
— С кем в Париж?
— С туристами.[556]
— Черт его знает! Париж. Поезжайте. Я вас буду встречать.
Задолго до сентября я всем разболтал, что еду в Париж. Дела мои разделились: это до Парижа, это после. «Вот вернусь из Парижа,— обещал я старикам в Пашковской,— тогда зайду». Мои беседы с Толстопятом прерывались мечтаниями о моей поездке.
— Вы меня возбудили, мон шер,— сказал он как-то.— Я засыпаю и думаю о том, как вы поедете, увидите Булонский лес, Елисейские поля, Монмартр и, может быть, домишко, в котором жил ваш покорный слуга. Зайдите в церковь на рю Дарю, где я в двадцать седьмом нашел Юлию Игнатьевну. Бедняжка, ее нет с нами. Позвоните Бурсаку. Поезжайте, поезжайте. Не пожалеете. Когда-то мадам Бурсак ездила каждую зиму. А вы чем хуже?
Десятого августа я встретил Верочку. Она стояла на углу улиц Ворошилова и Красноармейской с Лисевицким, одетым во все белое. Я шел из архива и напоминал, видно, того неудачника, который чем-то увлечен, но пока никакого толку. Минуту назад Верочке было весело и хорошо с Лисевицким, и вот она на глазах изменилась; ей почему-то неудобно за него, она даже отступила на несколько шагов, сдвинула брови, словно и я был виноват в том, что застал их в конце аллеи Ворошиловского сквера. Она еще более злилась на Лисевицкого во время нашего разговора. Все романы кончаются. В первое утро, провожая Лисевицкого к акациям за ворота, она устрашала себя: «Вот и все, больше он не придет...» Потом она раза три ночевала у Лисевицкого, почти не спала, караулила первый свет в окошке. Пять часов утра! Она идет вдоль трамвайной линии, и ей кажется, будто во всем мире она такая одна — и счастливая, и немножко грешная: все, кажется, живут так обыденно, откровенно, им нечего таить, и нынче ночью только она, Вера, обнималась с мужчиной. Так она нашла счастье в скрытой любви. Ради этого книжника она лгала поклонникам и подругам: уезжаю-де в станицу, болею, устала и т. п. Лгала в день своего рождения, чтобы никто к ней не пришел. Все ради него, полоумного книжника. Ее жалели, такую красивую, одинокую, подсылали к ней женихов, но она почему-то ломалась. «Я все равно сбегу,— говорила.— Без любви не могу». Ей звонили сорокалетние холостяки, по телефону им легче было утонуть в нежности к ней: «Если б вы знали, что у меня на душе, когда слышу ваш голос». Она невинно смеялась и отказывала в свидании, отказывала все же мягко, безобидно, так что еще приберегалась вроде надежда (по крайней мере, звонить и уговаривать). Одинокой женщине нужно на всякий случай поддерживать мужской восторг. Долго ли бы она протерпела — не подоспей Лисевицкий? Месяц, два. Однажды ехала бы она из станицы, где записывали они по дворам народные песни, и сказал бы ей стройный, как мальчик, добрый кандидат наук в вельветовой куртке что-то ласковое, предложил бы завернуть к своим на ночевку. И была [557] бы тишина, степное одиночество, и она бы, не напуганная мыслями, что должна беречь себя для другого, приняла час своей участи с роковой покорностью, как что-то позволенное и спущенное ей самой судьбой. Лисевицкий успел.
Ее выбора никто бы из подруг не одобрил. Наверно, недаром она скрывала свою связь. Ее порою раздражала нескончаемая детскость Лисевицкого. Со своими легендами о екатеринодарских старушках, наивными задолбленными вопросами, он крутился на людях подобно опереточному персонажу. Во всем городе не было театрала, который бы стучал в гримерную с бутылкой шампанского. Тысячу раз спрашивал он при ней у Толстопята: «Ну и что? Царь в четырнадцатом году махал рукой сидя или просто стоял? Бабыч ехал за ним или впереди? Впереди?! И что ж он — лицом к царю был или спиной? Да что вы говорите! Так и кричал полицмейстер: «Сзади меня едет государь!» А вы где? Ах да-а, вы же были на фронте! Вы шли аллюром три креста. Так вы же навеки в истории великих войн!» Сколько же можно было слушать? Кому теперь нужны войны, парады, громкие имена, кафе и погребки, дамы и господа, все эти мертвые души? И это «вы навеки в истории» и «дайте вашу бронзовую руку» она слышала каждый раз. Сначала было очень мило, но потом утомляло. Святая простота, оказывается, не так уж удобна. Но молодость! Но жажда любви, уединения, ласки, прикосновения! Верочка все равно жаждала минуты укрытия, и какая-то радость была, когда наконец-то прощались со стариком, мимолетно намекнувшим им о романической истории в 1908 году, какая-то торопливость слов и фальшь сожалений о «расставании с вами, месье Пьер»,— скорей, скорей сбежать к себе, защелкнуть на замок двери и соблазнять друг друга обещаниями вечной любви! Молодость еще с ними, и угроза будущего так далека! Верочка летела к своим воротам как на крыльях. Но на своей улице, вылавливая во тьме номера домов (40, 34, 30, 28), приближаясь к акациям, она стерегла мгновение: не скажет ли он вдруг «до свидания»? Лисевицкий повернул ручку и, подобно хозяину, пригласил Верочку во двор. Верочка уже с трепетом ловила пальцами в сумочке холодные ключи...
Мы молчали. Верочка грустно, с воспоминанием поглядывала на меня. Она будто звала меня на заговор против Лисевицкого. Она теперь была рада мне; вижу: ей одиноко, грустно. Давно кончилась наша короткая юношеская история, но каждый раз при встрече искрами взлетал тот день, когда она призналась в письме, что выходит замуж. Как я страдал тогда! Кто тот ненавистный человек, вдруг всю хрустальную нежность мою разбивший на кусочки? Через три года она разошлась, и я снова ее видел на Красной. Но мне мешало снова кинуться к ней ее трехлетнее прошлое. Я женился, и Верочка никак не соприкасалась с моей жизнью.
— Какие новости?
— Новости? — Лисевицкий вытянул свое худое лицо.— Разве [558] вы не читаете «Советскую Кубань»? Скоро начнется расчистка Карасунских озер, будем плавать на лодках. Покататься, а потом в награду получить ласку прелестной женщины. А вы? Опять по станицам собирать материал?
— Не-ет, в сентябре в Париж уезжаю...
— Да что-о вы говорите?! Неужели насовсем?
Верочка вихрем сорвалась с места и тихо пошла по аллее — так тяжело было ей переносить младенчество Лисевицкого.
В сентябре суждено было мне поехать с Верочкой под Тимашевку. Был чудесный день, 15-е число, то число, которое должно было ознаменовать мое прибытие в Париж. После французского обеда мы полетели бы в средиземноморскую Ниццу. Вместо этого меня трясло в разбитом автобусе, жужжавшем на ростовском шоссе. Я глядел на часы: вот уже вылетели из Москвы, развалились, пьют воду, курят; вот летят над Европой; вот уже аэропорт Орли, французские слова на щитах и указателях, и вот Елисейские поля! С собой в Тимашевку я взял зачем-то путеводитель по Парижу на английском языке. Мне были понятны только названия площадей, гостиниц, театров да исторические имена. Там была еще карта Парижа, но я не нашел ни предместья Сент-Женевьев-де-Буа, ни улочки Жака Оффенбаха. Для меня она была главной улицей в Париже. Я как будто и летел туда ради одного Бунина. «Ну что ж,— успокаивал я себя,— что ж теперь делать... Умру, а Парижа не увижу. Подвела медицинская справка».
До полудня я помогал Верочке записывать кубанские песни, направлял микрофон да в перерыве расспрашивал казачек.
Завело нас нечаянно в то место, где родилась и впервые оступилась Швыдкая, впоследствии монахиня Марии-Магдалинской пустыни. Проговорились наши певуньи. Сама пустынь, вернее земля пустыни, была в трех верстах за озером. И что же наша Швыдкая? Наверное, она думала на старости лет, что замолила свои грехи и покрыл бог тайною ее непутевую молодость, но нет: если и вправду очистишься, наложишь на себя вериги святости, все равно уцелеет какая-нибудь простушка с хорошей памятью и выболтает все темное.
— Стоял полк у нас. Она одному полковнику, Шкуропатскому, носила молоко.
— Это у них была дача под Роговской?
— Брата его. Я их знала, дочка у них Калерия где-то в Новороссийске пропала. И она, Олимпиада эта, понравилась Шкуропатскому, дяде Калерии. Ее мужик работал на степу: цоб-цобе, цоб-цобе. Она и погналась с полковником. Носит молоко и носит. И, видать, договорились уехать. Как же ехать? Полк уже отправился в Карс. Поехала якобы за водой к озеру, набрала бочку, выехала, быков распрягла, за ярмо привязала, рубаху свою скинула, на ярмо повесила. А тут уже был подан фаэтон. И прощай, родная сторона. Полковник ее там же бросил. И она умотала в Екатеринодар, повелась с нехорошими дамочками.[559] Надоело, и написала она Ивану Кронштадтскому: так и так, что мне делать? Хочу бросить блуд, а деньги в монастырь внести. Все распродала и поступила в монастырь Марии Магдалины. Сколько людей, столько и толкований! У каждого своя память. Доходит ли к потомкам хоть что-то в точности?
— Когда умирала после войны,— продолжала казачка,— то говорила, что я, мол, святая. И на лицо мое можете посмотреть, если ударите господу сто поклонов. Я, мол, заслужила, чтоб похоронили меня ангелом... Могилу ее разорили; поедете если, увидите крест, туда дальше к забору, чуть не в озеро падает...
Именно за озером, через греблю, жил в поселочке позади сараев бывшего монастыря коммунар. Площадь монастыря, лишенная церквей, засевалась ячменем, его уже скосили; на месте бывших могил стояли комбайны. В двухэтажной гостинице устроили дом для престарелых. Я бы ни за что не догадался, что некогда было здесь святилище земное, остановка на молитву паломникам, юдоль для смирившихся женщин. Старушки то лежали на койках, по-мертвецки закинув головы, то кормили свиней в сарае, то просто созерцали солнечные осенние перелески.
— Видела? — говорил я Верочке.— Вот. Люби жизнь, люби... Живи, наслаждайся каждой минутой. Говори себе почаще и когда невыносимо: я живу! я вижу! хожу! я просыпаюсь здоровой!
— Я послушаюсь тебя. Я чувствую, что жизнь проходит,— сказала она жалобно и отвела взгляд. Тоски ее я не понял. «Надо описать все это,— подумал я.— Но как? Как передать нашу молодость, оранжевые дали, озеро и престарелых колхозниц на лавочке, оставшихся на закате дней без кормильцев? Как сказать о том, что вот здесь молились, читали святые книги, хоронили и ставили кресты, а теперь пусто? Ни имени, ни строений, ни церквей. В стардоме я нечаянно открыл дверь, то была купальня: повеяло сыростью, холодом, две скелетные старушки немощно сидели возле тазов; стены внизу поросли грибковым мхом. Забыть нельзя, но чем пожалеть и какого председателя выматерить за такое отношение к старости?!
У коммунара, богатыря с большой круглой бородой, с зычным голосом, хозяина просторного двора, полного кур и индюков, последнего коммунара, потерявшего с течением лет всех соучастников общего котла, мы побыли недолго. Жена, дочки, внуки слушали его так, словно прибыли вместе с нами. «О-о! О-о!» — то и дело восклицал он, вспоминая, как сказку, идеальные замыслы коммунаров. Коммуну они устроили прямо в монастыре. Под рукодельной, во флигеле и под амбарами, монашки прятали хлеб, семечки; на огороде зарыли ящики с частями от локомобиля и мельницы; мешочек с золотом закопали в саду возле беседки; сундуки с вещами отвезли в лепрозорий для прокаженных на речку Вторые Кочеты. Монахиня Иулиания (та самая Швыдкая) только в 1922 году перешла служить в хлебопекарню; в тот год коммунары отправили церковные ценности весом [560] до пяти пудов в центр, на помощь голодающим. Опять услыхал я о бандитах, которых монашки переодевали в черное и заводили в неприкасаемые кельи, чтоб те потом перебили коммунаров, и про воспротивление Швыдкой («Где в законе божьем сказано, чтоб я завела в келью мужчину?»), и про ее поступок в Тимашевской церкви при немцах.
Верочка устала, и мы уехали в Тимашевск.
— Довольно искать! — сказал я ей в ресторанчике, куда мы вошли голодные как волки.— Прекращаю! Всех в романы не вместишь. Устал, я жутко устал. Душа моя измочалилась.
— Напиши о любви.
— Можно я тебя в образе Калерии Шкуропатской украду на извозчике?
— Если так пишутся исторические романы, то какова им цена?
— Такая и цена.
— Тогда пиши о любви.
— Нет уж, погоди.
— Я буду радоваться за тебя, когда ты окончишь.
— Но какое отчаяние по ночам! Кажется, никто не поймет тебя и не получится главное. Я ведь всего-навсего журналист, начинал с районной газеты. В романе о жизни, да еще такой, нет места пошлости. Я это понимаю. Всепоглощающая любовь к живому — и только. И трагедия Времени. Лежу в темноте, а призраки будто посылают мне с небес обиды. Зачем ты приехал на нашу землю и молчишь, думаешь, что до тебя здесь ничего не было, а если и было, то только плохое? Чем мы так провинились? Зачем же мы переселялись в стародубовских кибитках из Сечи Запорожской, мерзли на Ейской косе, разбивали вдоль Кубани сорок куреней? Наши дети, внуки и правнуки мокли под ливнями, кормили своей кровью полчища насекомых, лежали на холодной земле в секрете. А кто рубил первую просеку в Екатеринодаре? Кого посылали в конвое в Персию? А турок кто бил? А сады разводил разве тамбовский мужик? Церкви и хаты строил, корчевал терновник? То-то. Так что же вы забыли нас, прокляли и ни единой доброй строкой не помянули столько десятилетий? Хотя бы чей-то слабенький голосок раздался!.. Вот такое они мне ночью говорят. Я, наверное, в чем-то бываю похож на Лисевицкого.
— Ты не огорчайся,— сказала Верочка.— Все у тебя получится.
— Почему ты нынче такая разбитая? Я заметил это еще утром.
Чужие судьбы, память о ком-то, кто закончил свой век, мгновенно улетают от нас куда-то в далекую пустоту, когда мы подумаем о своей участи, о часах и днях, в которые нам хочется быть посчастливее. Так и мы: в одну секунду мы забыли обо всем, что мошками витало вокруг нас только что. Верочка молчала, обдумывала, видно, что мне ответить. Лицо [561] ее с прямым носиком стало скорбно после моего вопроса. Я ждал. Она все молчала.
— Не будешь на меня сердиться?
И она рассказала мне то, что утаила от Лисевицкого.
— Я целый месяц живу под знаком ужасной потери... Я сама себе все перекраиваю, ты понял уже? Я всегда злюсь только на себя. Наверное, важно вовремя сделать единственный выбор, а я всегда металась, всегда между. По крайней мере, в любви. Помнишь, я тебе говорила, что в школе с седьмого класса дружила с одним мальчиком? Он любил меня. У меня был целый ящик его писем. Когда я с тобой познакомилась у Калерии Никитичны, он тоже писал мне.
— Хоть в чем-то, но женщина всегда изменяет. Я думал, ты от меня ничего не скрывала.
— А мужчина? А ты не скрывал?
— Тогда мне нечего было скрывать. Я был глупое невинное дитя. Ну!
— Он поступил в институт международных отношений; сейчас мы разговариваем с тобой, а он во Франции, в нашем консульстве в Страсбурге. В каждом письме звал меня замуж. А мы только и поцеловались на выпускном вечере разок. Мама уговаривала меня: иди.
Я человек покорный — слушал ее без всякой обиды. В день, когда она меня предала, думал, что никогда больше не поздороваюсь с ней, если где-то увижу. Сейчас я глядел на ее уши в сережках, понимал, чей это подарок, и мне было все равно.
— Сижу я теперь в июле у мамы, отпуск, я в ее халате, хозяйничаю. Подъезжает машина, идет во двор мужчина с трехлетним сынишкой. Ну... Возил меня всюду, где мы бывали в детстве, и рассматривал меня, и жалел, и предлагал мне выйти за него замуж,— хотя у него двое детей. Поздно! Я давно так не плакала. И с тех пор у меня такая печаль, такое ощущение потери... Я сломала себе жизнь.
— Женщина любит не того, кто достоин, а того, кого хочется.
Мне нечем было ее поддержать. Нужно ли молодой женщине сочувствие вместо любви?
— Верочка Корсун,— бормотал я,— Верочка Корсун... Наши фотографии у тебя сохранились?
— Все твои письма и наши фотографии я сложила у мамы, в шифоньере под бельем. У меня там есть уголок.
— Это так давно было. Я тогда не знал даже, в каком году основан Краснодар. Искал счастья в чужих книжках. Помнишь хлыщей на Красной с девицами? Нет, мы не местные, мы приехали с Запада, поднимайте воротнички рубашек, закатывайте рукава, держите сигарету на нижней губе вот так. Газеты их называли «плесенью». Осанка как у героев американского фильма «Рапсодия». Не с тобой мы смотрели этот фильм? Молчишь. Покажи книгу Швыдкой.
Я развернул газету, перекинул корочку, пахнущую сараем,[562] свечами и еще чем-то церковным. «Четьи-минеи», том 12, декабрь. Внутри корочки надпись: «Книга послушницы Иулиании. Дух господень на мне». Другой рукой, через много лет добавлено: «Умерла 28 мая в самую зеленую неделю». И на задней корочке, под ценой 3 р., кто-то недовольно выразился: «Не стоит!»
— Все умрем...— сказал я со вздохом, думая о своей болезни.— Потому надо торопиться что-то сделать.
— Если тебе будет грустно,— сказала она тоном сестры,— приходи ко мне в гости...
Мы были рядом, одни, никто нигде не мог помешать нам, золотистый осенний денек окутался бы волшебным сном, нежное возмездие утолило бы несбывшуюся тоску любви. Но время незаметно сточило что-то в душе.
— Жена ревнивая.
Настала минута, когда вольному внезапному чувству легко увлечься, но я сдерживался.
— Приезжал Бурсак из Парижа, слыхала? Калерия Никитична принимала его.
— Она его никогда не любила. Мне она говорила давно: «Я часто,— говорит,— лежу и думаю: кого же я любила? Замуж вышла за Бурсака — вроде бы по любви, но нет». Потом дня через два чай пьем, она вдруг говорит: «Неправду тебе позавчера сказала. Любила. Такое было время, перебивалась на хуторе, муж в Екатеринодаре, жили с ним уже без чувства. Всю жизнь просыпаюсь оттого, что вижу, как уезжает из Хуторка на телеге врач. Его я любила. Он заезжал с отрядом в Хуторок. А уходили ночью. «Душенька, жди письма». Махал мне и плакал». Я к ней заходила на днях. «Опять,— говорит,— мне приснился, наверно, я умру. Просыпаюсь и слышу, как говорит мне: «Душенька, жди письма». Наверно, погиб где-то. Иначе бы написал...» А Бурсака она не любила.
Мы вышли из ресторанчика. Назад в Краснодар я вместе с Верочкой не поехал. До 25 сентября я ночевал в колхозных гостиницах, в кабинетах маленьких клубов, в красных уголках на хуторах. Наконец-то я исполнил наказ Шкуропатской — проведать ее Хуторок, где она не была с 1920 года.
Сперва я через станицу Чепигинскую проник в угол бывшего Лебяжьего монастыря, поглядел на пруды, порасспросил птичниц и мужиков и ушел на заросли к западу. В окрестностях станицы Роговской я плутал полдня. Никто не знал, где скрывается этот Хуторок, никто не слыхал фамилии Шкуропатских. Вывел меня на тропу конюх. Там, где однажды поселился неведомый черноморец, где росли высокие толстенные осокори, где с кургана табунщик видел и косяки лошадей и Кавказские горы, где дети при свечке сидели над букварем и часословцем и обломок бутылки заменял им чернильницу, откуда бабушка Калерии в 1861 году уезжала в Екатеринодар хлопотать перед Александром II о муже, посаженном в крепость за возмущение переселением казаков за Кубань, там, где вдали с двух сторон сквозь [563] степное марево дымились трубы двух монастырей, мужского и женского, где барышню вопрошали о судьбе спиритические духи, где читали «Войну и мир», «Обломова», газеты «Порядок», «Новое время» и «Русские ведомости», где столько родственников время перенесло из люлек в гробы, там лежала ныне сплошь распаханная желтая сжатая нива. Да неужели в той или вон той неуловимой точке, в нынешней пустоте, стоял дом, в нем была комната, отдыхала там на душистой постели юная Калерия и как-то ночью соскочила к окну на горячий шепот усатого, широкоглазого, молоденького Толстопята?! Нет ничего.
Дал себе отдохнуть, много читал. В издании 1918 года прочитал никогда более не публиковавшуюся статью В. О. Ключевского «Добрые люди древней Руси» (нет ее и в восьмитомном собрании сочинений). Окунулся как во что-то родное, понятное сердцу; слог изумительный, русский, простой. О чувстве сострадания, о личной милостыни, благотворительности. В «Новом мире» роман неизвестного мне Ю. Домбровского — «Хранитель древностей».
В ночь тяжких сомнений, усталости и самопроверки, с 1 октября на 2-е, я открыл свой секретер, набитый блокнотами, толстыми тетрадями, прозрачными синтетическими папочками с главами романа, вывалил ежедневники с записями разговоров, ксерокопии документов и перенес на постель. Везде я ставил числа, по ним можно вспомнить личную жизнь! Мне сделалось страшно! Куча бумаг! Казалось, я никогда не доберусь до конца. Хватит ли души, чтобы все объять? Я сложил по порядку написанное и стал читать. Какую откровенную книгу задумал я! Сколько полуночной обнаженности! И сколько многоточий там, где должна быть неповторимая жизнь...
В шестом часу утра я вышел к пустырю за двором, сгреб пересохшие желтые листья и в маленькую кучку зарыл свои рукописи; потом решительно, чтобы не испугаться, поджег. «Не мне, не мне писать,— успокаивал я себя,— не мне. Самое вдохновенное мое слово не будет стоить и копейки рядом с «Досужими минутами бывшего черноморского казака». Прощайте, казаки. Не окропить вас живой водой — все молчит, все ушло и не вернется вовеки...»
Вечером ребятишки принесли мне обгоревший по углам листок.
— Это вы там жгли?
По случайности в кипу рукописей попался листик с моими записями бесед.
— Шкуропатская? Чудный характер! Муж ее был присяжным поверенным. Она до войны (или после?) работала в регистратуре 7-й поликлиники. Куда уехала — не знаю.[564]
— Шкуропатская один раз приехала в институт в батистовом переднике, и ее не допустили к уроку.
— Шкуропатская очень красива. В двадцать втором году я видела ее с Бурсаком на Красной. И помню я такую сцену. Товаров в магазине было уже мало. Небольшой магазин на Красной на правой стороне, и витрина вот так низко, а возле окна стоят супруги Бурсаки. Она: «Ты посмотри, неплохо бы вот такую сорочку»,— с плечиками, словом, даже по тем временам это была очень бедненькая сорочка. И я поразилась: «Она обратила внимание на это белье. Как же они живут?» Они так дружно стояли, а я подслушала.
— В двадцатом году Толстопят выехал за границу. У него была гражданская жена из Петербурга. Говорили, что дорогой она овдовела и жила потом в Белграде, работала в ресторане посудомойкой. Уезжая, она мне оставила кенаря Петрушку. Жива? Кто знает?
— Наш маленький Париж? Екатеринодар — это же была глухая провинция... Глухая...
Я спрятал этот листик — на память о людях, мне доверявших.
На другой день нашлось среди газет письмо от восьмидесятилетнего красноармейца, мудрого и честного, с которым познакомил меня Скиба. «Удачно ли съездили в Париж? Дай бог вам успешно закончить то, что взвалили вы на себя; мы ждем! Мне как-то стыдно просить вас, чтобы вы помогли мне издать маленькую, в одну тетрадь, автобиографическую повесть под заглавием «Последняя исповедь». Условий никаких не ставлю. Как-нибудь пришлю. Ф. Я.»
В фанерном ящичке для фруктов отправил он мне год назад тетрадки своих поразительных по искренности воспоминаний, и я до костра еще вернул ему две последних,— помню, девятая тетрадка обрывалась записью: «...когда-то носил я пятипудовые мешки пшеницы под рукой, а теперь, так или иначе, приближается конец моей жизни...» Как же я поступил? Старики благословляли меня, ждали, а я без слез поджег тоненькой спичкой листы с их словами, отражениями бесед с ними и проч.
Еще через день из той же Широчанки под Ейском пришла весть: «Вчера в 13 часов дня папа пришел с почты, получил от вас в бандероли две тетради. В 15.00 стало ему плохо, в 00.10 минут скончался в памяти и ясном уме... А-ва».
В первом часу он умер, а в шестом часу я жег свои рукописи.
И днем и во сне я страдал; во сне же листал я в Париже на улице Жака Оффенбаха седьмой академический том Герцена. «А ЖАЛЬ, ЖАЛЬ ИХ — ЭТИХ БЛАГОРОДНЫХ ПРОШЕДШИХ!» — надгробно мерцали его слова на всех страницах.
И я проснулся несчастным и виноватым...[565]
ИГРА В ПОКЕР
и опять после долгих нудных дождей и мартовских ветров явилась в Краснодар ласковая пышная весна: забелели по улицам акации, а во дворе Шкуропатской расцвела старинная персидская сирень! Еще одна наша весна на земле.
Для Лисевицкого новая весна была печальной. Странно жил Лисевицкий. Жил и не помнил себя. Чем дорожил? В таком-то году гастролировал знаменитый виолончелист, в театре оперетты была премьера «Горной ромашки», осенью Кубань наградили за хлеб вторым орденом Ленина, тогда-то праздновали годовщину освобождения Краснодара от немцев, выступал в клубе большевик такой-то, умерла революционерка пани Вишнякова, двенадцатый раз посмотрел кинофильм «Хождение по мукам», отмечали у Шкуропатской юбилей Скибы, на Рашпилевской разрушили дом, в котором жила начальница 2-й женской гимназии Понофидина, умер лихач-извозчик Дятлов и т. п. Своих красных дат вроде не было.
— А вы любите свою жизнь,— говорил ему Толстопят.— Бог вам ее даровал, он ее и отнимет, так живите же!
— О, я живу, месье Пьер. Еще как живу.
— По-моему, вы вообще не чувствуете времени. Вы звоните мне в шесть, а приходите в одиннадцать.
— Но я же работаю в ауле Козет, пешком хожу за Кубань.
— Все равно, мон шер. Я ждал вас полтора месяца.
Нет, Лисевицкий не понимал, что он виноват. Ему казалось, будто он всюду успевает в положенный час. Он не нанес визит Толстопяту, но ведь в эти часы занимал другого старика — в чем дело?
Позавчера он спешил в баню, вернее — в душевой номер гостиницы, куда его пускала «церберша» за пятьдесят копеек; по пути заскочил в книжный магазин и нахватал послевоенных изданий русских классиков по сносной цене, встретил на углу приятеля и, все повторяя, что месяц целый не мылся, последовал за приятелем в театр оперетты, сдал портфель с книгами и бельем гардеробщице, и три часа лицо его излучало восторг от актерских прыжков и ломаний; потом в двенадцатом часу ночи затарабанил в дверь пенсионера, бывшего лектора из общества «Знание». Прошлый раз он обещал ему очистить шкаф от бумаг, закисших плесенью фарфоровых чайников и блюдец, протереть и переставить книги и, может быть, выпросить [566] Шопенгауэра, «Спутники Пушкина» Вересаева, «Нескромные сокровища» Дидро (иначе утащит их один самостийный краевед, чинивший старику крышу). В большом кованом казачьем сундуке хранились письма к матери и, наверное, еще кое-что, но запустить туда руку Лисевицкий пока стеснялся. Итак, в полночь он прибирал комнату с дряхлым ковром на стене, а старик ходил от кровати к зеркалу и читал ему начало своих мемуаров: «Домик стоит на крутом обрывистом берегу Кубани, как и пятьдесят лет назад, когда он принадлежал молочной ферме екатеринодарского сельскохозяйственного общества. В нем по-прежнему всего лишь шесть крошечных комнатушек. Почти ничто не изменилось в его неказистом облике. Лишь кровельное железо на крыше сменил кто-то на шифер. А между тем он фигурирует на страницах бессмертной исторической трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам», романа «Над Кубанью» Аркадия Первенцева, на скрижалях монументальных исторических трудов...»
— На скрижалях! Какая образность! — хвалил Лисевицкий, поднимая над головой веник.
— «... В многочисленных книгах мемуарного порядка...»
— Замечательно! Это останется навеки в Пушкинской библиотеке или в архиве. Какая художественность! Ах, как мне хорошо у вас... Можно я позвоню от вас Толстопяту? ...Здравствуйте, милый, драгоценный Петр Авксентьевич,— ласкался он уже к Толстопяту, в мгновение забывая, зачем звонит,— я наслаждаюсь, когда слышу ваш исторический голос, буду безмерно счастлив навестить вас с шампанским и ящиком винограда — приближается мой день рождения. Умерла дочь казачьего полковника, родственники выбросили ее альбом с фотографиями, письмами в мусорник. Мне удивительно повезло — я все выгреб! Вас это мало интересует? О вы, наш божественный Петр Авксентьевич. Что? Я вас разбудил? Могучий ум отдыхал перед новым всплеском? Простите. Это на мне сказывается тяжелый грех любви к Верочке. В восемь утра еду в Майкоп: на бывшей территории шоссейной дистанции зарыт архив первого Екатеринодарского полка, история полка была завернута в черную клеенку.
Когда Лисевицкий вернулся ни с чем из Майкопа, в почтовом ящике не было от Верочки даже записочки.
Последние недели он трусливо предчувствовал: она изменит ему! Она должна изменить... Ничто не сравнится с ресторанной тоской, когда под звуки забубенной музыки выходят на круг парочки, и дамы, разбуженные вином, без стыда валятся к партнеру. Лисевицкий ужинал в Майкопе один и вспоминал Веру. Вот так же когда-нибудь (и, наверное, уже скоро) выведет ее из-за стола какой-нибудь спортсмен и они заговорщицки коснутся друг друга (о, этот взгляд, обещающий что-то откровенное наедине). «Это случится,— думал он,— или уже случилось...» [567]
В печали вдруг озаряла Лисевицкого прозорливость; он понимал, каким он кажется людям. Как-то в доме материной приятельницы он до глубокой ночи забавлял молодежь своими познаниями, пением романсов Вертинского и Вавича. Ему улыбались, подставляли тарелки с борщом и котлетами, и он, уплетая, покрикивал: «Ах, как хорошо иметь семью!» В одиннадцать, двенадцать, в час ночи он все сидел, не соображая от счастья, что хозяевам пора спать. Наконец в половине второго, уложив в портфель книги и журналы, хлеб, бутылку постного масла, он ушел, еще потоптавшись, правда, у вешалки и кланяясь: «Спасибо за царский ужин! Ах, как хорошо в семье; я одинок, укрываюсь в пять одеял, я же не топлю» (это он уже говорил много раз). Во тьме на улице он все повторял: «Ай да чай! Что значит жить в семье! Какие замечательные люди! Накрыли высочайший стол — как августейшему гостю. Я тоже доставил им большое удовольствие. Завтра куплю им всем билеты в оперетту. Не дальше второго ряда! «Принцесса цирка». Только в оперетте, в музыке Штрауса, Кальмана, Легара, можно почувствовать божественное прославление любви, этой самой лучшей радости, данной нам свыше, когда засыпаешь на груди возлюбленной, ха-ха... Какая ночь!»
И он смеялся, то смехом подбадривая, то легонько осуждая самого себя.
В квартире, которую он клялся прибрать на каникулах, но так ни разу и не смахнул пыль веничком, вытащил Лисевицкий патефон 1948 года, подкрутил ручкой пружину и насадил тяжелую пластинку с голосом Вари Паниной. Ударил бутылку ребром о пол, вытянул пробку, налил в шесть серебряных рюмочек венгерского рислинга, подходил и выпивал: «За ваше здоровье, месье Лисевицкий! Ах, вы несчастный! Пьете? Развешали по дивану ордена?» «Мне эта ночь навеяла сомнения...» «Чудный вечер!» Кружил вокруг стола, мысленно держа за талию даму. Опять брал рюмку: «За здоровье нашего милого Лисевицкого!» «И вся в слезах задумалася я-а...» Богиня Панина, о как ей аплодировали. «Вы покорили меня, Варвара, извините, не знаю, как по батюшке,— обращался он к певице, точно она сидела тут же, на диване, глядел на пластинку.— Вы покорили меня, и я навсегда ваш поклонник. И Шаляпин хвалил вас. И умерла, бедняжка, в одиннадцатом году...»
Так он ходил вокруг стола около часа, а Варя Панина все пела ему о том, чем живет занятая собою душа,— о сомнениях, напрасных воспоминаниях, о святой любви, о том, чтобы поняли и все простили. В некоторые мгновения он, впрочем, хватал какую-нибудь книгу и нюхал ее.
— Не спится вам, милый Лисевицкий... Создали себе свой мир? Дышите пылью веков. Где Вера? Ей неуютно в моем шалаше.
Вдруг его что-то царапнуло, когда он припомнил свой гогот в семье материной подруги, хвалил борщ и дрыгался перед ними [568] в позах артистов оперетты. Теперь, дома, он уловил и разобрался в их взглядах. Они потешались над ним, он всего-навсего шут, полуночный холостяк, городское перекати-поле.
Спать, как всегда, не хотелось. Бывало, он выходил за ворота и смотрел на пустые светлые трамваи, потом на самом последнем уезжал к Верочке, проскакивал по ночному двору, шептал ей в форточку: «Княгиня, вы спите?»
Где она?!
И он вскочил с дивана в каком-то трепете, словно настал час поймать Верочку на преступлении, поймать и тогда уж распрощаться с нею навсегда. Он порою хотел быть наказанным за свою слабость и ничтожную верность самому себе. Зачем Верочке, такой красавице, такой переменчивой душе, вечно ждать какого-то долговязого, с лицом пинчера, книжника? Его ли совести было выгадывать? — он часто отпускал ее, желал ей мужа, советовал «жить как тебе хочется». Но это не избавляло его от ревности. Мысленно провел он трамвай через все остановки, сошел и... И он накинул пиджак, подцепил пальцем связку длинных ключей, быстрыми выстрелами закрыл двери и побежал через двор. О идиот! Куда он направился? Был уже четвертый час ночи. Длинная рельсовая дорога под зелеными арками была пуста, теплый огонек не сверкал в далеком ущелье улицы. Лисевицкий не боялся ночных хождений, раньше двенадцати он домой никогда не возвращался, но сейчас идти к Верочке пешком не решился. Она терпела, терпела и сорвалась? По той же дорожке к тому же окну его соперник прошел к ней по ее немому зову и за тем же столом с цветной клеенкой, спиной к этажерке, уселся понадежней? Она зажгла свет, и за белыми непроницаемыми занавесками они пили вино. И потом — о, Лисевицкий все знал! — Верочка выключила большую лампочку и нажала на кнопку лампы настольной. Через стол они протянули руки друг к другу; она, подав знак, тут же, из приличия, убрала свою. А потом они стояли во мраке у форточки и смотрели на смутные головки роз. Верочка впервые за вечер взяла в пальчики сигаретку, и это ее волнение он расценил как... как что?! И неужели он вышел на заре воровски, с победной улыбкой, оглядываясь и замечая ее у окна, уже доступную, давшую ему воспоминания о поцелуях на подушке?
Трамвая все не было и не могло быть, но Лисевицкий стоял.
Он стоял потерянный, самого себя презирающий и горько благословлял Верочку на счастье — если оно настигло ее так же, как тогда, в летний июньский день, после путешествия в Горячий Ключ.
Но как привыкать без нее, не слышать ее «небесный голосок», лишиться ее писем, дней рождения, снов?
«Зачем это мне? — говорил он в комнате, озирая кучи книг.— Разве я тот самостийный краевед, который превратил свою квартиру в филиал казачьего музея? Милый Лисевицкий, ты [569] учитель истории, и только. Зачем тебе свалка? Сдать! Свезти в магазин к Марку Степановичу».
С остервенением чистоплотной хозяйки, которая явилась и нашла свою квартиру загаженной, принялся он разгребать завалы.
В шесть утра он уже раскрыл и все створки шкафов.
«Жизнь Иисуса Христа»... Эту себе. Библию с иллюстрациями Доре — себе. У-у, какой запах. Выменял на чепуху: пять книг зарубежной фантастики. Цвейг! Волшебник. «Фуше», «Мария Стюарт» — нет, это тоже себе. Альбом с открытками — Верочке. Будет листать с мужем. Дай им бог. «Огонек» с двадцать пятого года по шестьдесят второй. Оставляю за сорок девятый год со Сталиным, теперь это редкость. «Столица и усадьбы», двенадцать номеров, бумага, бумага мелованная, пушкинские дамы, пруды, беседки — подарю автору «Элегии». На рубероидном заводе у рабочих за пол-литра: три тома Костомарова и «Роман императрицы» Валишевского. Себе? Сколько бесценной литературы разрубили и спустили в чан с кислотой! Вагонами везли из Ростова. За пол-литра можно было библиотеку перетащить. Кому Валишевского? Верочке? Плохой я стебель для этого нежного цветка. «За нас! Уже мы с тобой почти четыре года». Откуда у меня эта порнографическая открытка?! Слава богу, ей не попалась. Четыре года. Душистый аромат счастья. В увядающем саду своей жизни я рву последние весенние цветы. О как желанна ты мне! Мои сорок лет,— набавил он себе годы,— вблизи тебя кажутся легки и незаметны. Где ж ты теперь? Кто тебе целует пальцы?» Лисевицкий уже совсем слился с томными мужчинами и дамами на открытках. И вздыхал-то он как бы за тех, кто клонил головки и держал в пальчиках лепестки. «В пятьдесят лет уйду на пенсию, хватит, стаж выработал. Но я оптимист, вы не представляете, какой я оптимист, месье Пьер,— это он уже перекликался с Толстопятом,— я очень люблю жизнь, месье. Вам нужен «Половой вопрос» Августа Фореля? Подарю. Дети чувствуют мой оптимизм. Или Августа Фореля в музей? Им ничего не нужно. Под рисунком дома Бурсака написали: «Дом Барсука»! Вместо запорожских пищалей положили охотничье ружье 1950 года. Такие работнички. Открытка 1922 года, дом Ипатьева, и на-адпись на обороте. Боже мой, тогда еще писали с гордостью, волна народной победы несла всех на крыльях: «Дом Ипатьева, где был расстрелян Николай II и его семья». Отослать в Москву историкам. «И придут времена, и исполнятся сроки». Да, нас уже не будет. Я вам, Василий Афанасьевич, подарю пуговицы 1899 года, это чудо! К полотняному белому пиджаку — как раз! Не думайте, Василий Афанасьевич, что только вас женщины за нос водили. Они и сейчас такие. Она стоит с чужим мужчиной, и ей самой незаметно, что она уже готова изменить. Только книги нам не изменят. И не говорите мне, месье Пьер, будто я причиняю ей страдания. О бурное время! «Гражданская война на Кубани»,[570] издание Истпарта, 1922 год. Дарю! Ну, возьмите в свою бронзовую руку, Аким Михайлович,— нынче я приду к вам в больницу с сыром. А-а, фотография казаков-черноморцев, ездивших к Бабычу за племенным бычком. Переснять — и на стену. А Верочке это не нужно. Она современная. И все в своем времени. Один я отстал. Надо жи-ить, вы правы, месье Пьер. Надо жить! Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать (Пушкин). Я страдаю, Аким Михайлович. Поднимайтесь с койки, поедем на вашу родину в станицу Марьянскую, я поведу вас за вашу мраморную руку. Я страдаю. Где она? Кто ей целует пальцы?»
Тишина в комнате царила смертельная, но Лисевицкий вдруг громко говорил: «В соседней комнате часы звонко пробили шесть ударов». Потом влипал глазами в зеркало на шифоньере: «На него глянуло что-то тупое и безысходно унылое». Брался рукой за сердце, и так долго держал руку, ступал вокруг стола, высоко поднимая ноги над кучами книг, наконец брякался на диван. «Мысли у него бессвязно толпились в голове,— шептал он,— и не хотели сосредоточиться. Отчего так уныло и жутко? Но вместо ответа тупая боль еще крепче сжала ему одинокую грудь... Верочка... Вы имеете полное основание утешаться тем, что так красиво отомстили месье Лисевицкому... Погасла любовь — чудный огонек жизни...»
Пушистый кот сладко спад на подушке: и на бок-то повернулся, и лапки-то вытянул. Жалея его сон, Лисевицкий бросил на пол стеганое одеяло, лег на него и уставился на пустой телевизор.
Проснулся в полдень, долго валялся, отгоняя новыми синими трусами мух.
Лисевицкий заходил во двор к Верочке в обед, и вечером, и на другой день. Записка его все торчала в щелке двери. Верочка пропала. Сквозь слегка отворенные внутренние ставни он едва рассмотрел ее пустую застланную постель, на которой (так мнилось ему) уже кто-то чужой провел ночь-другую. «Что ж,— думал он.— Ее жизнь проходит. Все проходит. Не пробуй, милый Лисевицкий, диктовать неизбежному порядку вещей свои соображения...»
Три дня вывозил Лисевицкий книги в букинистический магазин. На пустых полках лежала толстая пачка денег, его не умилявшая. Пол он так и не подмел.
На лавочке во дворе больницы он бессмысленно тормошил слабого Акима Михайловича Скибу: как в 1918 году ходила Федосья к Толстопяту спасать его? за что белые высекли в саду Буфф жену Попсуйшапки? чем кончился плен у Деникина? Скиба ему рассказывал много раз, но Лисевицкий любил, чтобы всё повторялось.
— Героика ваших дней не даст вам заметить старости,— увещевал он больного, тряся ногой.
Худой, с костистыми скулами, Аким Михайлович глядел в сторону ворот — там у бывшего Екатерининского сквера [571] начиналась улица Красная; так хотелось выйти туда, и оказаться дома, и жить без угрозы врачебных приговоров. Лисевицкий же зачем-то напоминал ему о первом казачьем кладбище под нынешними зданиями туберкулезной больницы.
— ...И все-таки еще один нескромный вопрос: вы в девятнадцатом году ставили на бланках подпольные печати?
— Было. Когда после пленения пришел в Марьянскую.
— Заболели тифом, болели двадцать три дня, дальше что?
— Да, подхватил тиф и заболел...
— Простудились и заболели возвратным, дальше? А в то время большевики отступали на Маныч и Астрахань, а вам атаман дал бумагу на месяц, на вас заявили, что большевик скрывается в станице, а вы, мол, его не забираете ни в тюрьму, ни в казачью армию, дальше?
— Я выехал на балку к старику,— неохотно продолжал Скиба,— у него два сына в большевиках; на степу хорошо видно, кто куда едет. Там не Калерия Никитична с сумкой в воротах?
Он ее ждал, хотя третьего дня запретил ей в письме ходить к нему. Она тоже болела, и он переживал: кто там покупает ей хлеб и выносит мусор к машине? Он за короткий срок так привык к ней! Дома, когда ночью ему было тяжко и не спалось, он лежал навытяжку и боялся ее потревожить, но ей порою даже снилось, что он страдает, и она тихо звала его: «Тебе чего-нибудь дать, Аким Михайлович?» — «Да нет, Калерия Никитична,— отвечал он пободрее,— ты спи, я так, перевернулся...» Ночью ближе к нам смерть, и было гораздо спокойнее ему оттого, что живая душа всегда рядом с ним, жалеет и волнуется. Несколько раз под утро они, так-то вот выпав из небытия, разговаривали до света и не о чем-то своем, а... о политике, об Орджоникидзе, Кирове, Сталине, Молотове и других вождях, и тут Аким Михайлович очень сильно просвещал жену. Этому прикосновению к истории способствовало и то, что накануне они что-нибудь читали мемуарное. И в больничной палате после того, как все заснут, он беседовал со своей милой старушкой, тоже, может, лежавшей во тьме с открытыми глазами. Даже три стихотворения сочинил Аким Михайлович о ней в больнице, не ахти, правда, какие звучные, да ведь это всего-навсего домашнее признание в благодарности. С нянечкой он переправлял записки Толстопяту, упрашивал почаще бывать у Калерии Никитичны, а тот ему на листочке же докладывал, как она без него перебивается, докладывал честно, потому что сама Калерия Никитична ни на что бы не пожаловалась. В больнице природа всех уравнивает, и никто уже никому не указ: ты думаешь так, а я так. Везде народ не прочь затронуть политику. И чего только не наслушаешься! Ночью он продолжал возражать кое-кому, кто побранился с ним и спал, и отповедь Акима Михайловича в те минуты была злее, непримиримее. Время сложное, и никак нельзя им, старикам, позволить младшей смене растратить самое дорогое из того, что они добывали и защищали. И у него уже складывалось хорошее [572] письмо, слова текли, и вот его уже слушали в ЦК, благодарили, и он в спокойствии засыпал. Утром, собирая склянки на анализ, он горевал от своей старости и душой стеснялся вмешиваться во что бы то ни было. Но и это смирение пройдет. Он знал. От себя не отступишь. Дома научилась его успокаивать Калерия Никитична. Всё-всё есть жизнь, и надо нести ношу, которую она на тебя взвалила, до конца. И писателям все рассказывать, и суматошного Лисевицкого не прогонять. И газеты читать с сердцем.
— Так, простите меня опять: вы взяли печать у соседа?
— Ему каким-то манером удалось украсть кадетскую печать.
— Вы взяли бумажку, суконку, чернила и пошли в амбар, проверили: она! И стали заверять?
— «Пущен такой-то в отпуск».
— Печать, поручик такой-то?
— Поручик такой-то. Многие подавали атаману документ, он почитает, пишет резолюцию «проверено».
— И образовался штаб поддельных документов? О боже, на скирде соломы вы совершали подвиги. Дайте вашу руку. Вы уже в бронзе, а я червяк.
— А чего вы усы отрастили?
— Усы, Аким Михайлович, предупреждают поцелуй, а я все еще хочу жениться. Я вам принес роман «К оружию!», читаете?
— Ну и ну! У него, оказывается, убирали в первую очередь овес, а ложек, вилок и ножей не стало в продаже в сороковом году. Овес убирается в последнюю очередь, а вилки, ножи и вся мануфактура исчезли с прилавков еще до тридцатого года. Как же они будут писать про жизнь еще более дальнюю? Что они о ней могут знать?
— Напишут, но на более высокой ступени таланта,— защищал Лисевицкий всех кубанских писателей разом.— Вам надо поправляться, драгоценный Аким Михайлович. Правая трибуна на демонстрации без вас немыслима. Я пройдусь мимо вас осенью с пластинкой Штрауса. Какое ликование жизни! какие восторги любви! Арфа прямо по струнам сердца дергает. Я всегда в Доме офицеров призы за вальсы брал. А теперь Верочка переживает, наверное, сладострастие с другим, а мне не помогает даже камешек гробницы Тамерлана,— я привез его из Самарканда. Ношу в карманах жизнь всего человечества, ха-ха...
В субботу вечером он нанес визит Толстопяту.
— На Новый год пойду в ресторан встречаться с куртизанками.
— Ха-ха,— смеялся Толстопят, не в силах представить Лисевицкого в таком обществе.
— Заплачу шестнадцать рублей, подсяду к компании. Скажу сразу: «Перед вами мужчина, который ни разу не был пьяным, не выкуривал ни одной сигареты, ни разу не целовался». После третьего тоста как кинутся на меня! Даю вам слово. Оргия. Спою им. «Разъезд начался в пятом часу утра»,— как написали бы в «Кубанском курьере». Чудесный у вас пирог. Сами пекли? [573]
— Вы мне надрываете живот, мон шер. Очень вы забавный человек.
— Я идиот, каких свет не видывал. Вам хорошо, вы уже в бронзе, а мне еще десять лет ходить в аул Козет.
— Не кричите мне в ухо. Я слышу, много раз говорил вам.
— Извините. Привычка.
— У меня наутро соседи спрашивают: «Кто это у вас был? Так кричал». Ну что вы страдаете? Сколько у нас красавиц. Я вот хожу за хлебом. Кассирша — чудо. Более изящной брюнетки во всем городе нет. Давайте мы вас женим.
— А я хочу вас женить.
— Моя невеста еще в люльке.
Как-то в конце апреля показал он Толстопяту двухэтажный дом на улице Ленина с полукруглым окном наверху.
— Когда я шел первый раз от Верочки на рассвете, из этого окна глядела на меня старуха. Мне казалось, что она все про меня знает. И столько уже прошло, а я еще с ней не познакомился. Когда бы я ни шел, она у окна. Ей не спится, она вспоминает райские дни молодости, правда? Наверное, и она любила, как вы думаете? Я ее считаю соучастницей моего романа. Я шел от любимой, а она видела.
В мае месяце в грустное утро разлуки с Верочкой Корсун он позабыл поднять голову и улыбнуться неизвестной старухе. Час еще был ранний, не такой, правда, ранний, как четыре года назад, когда он впервые шел от Верочки мимо высоких железных ворот и на улице Ленина глядел на старуху в окне. Но вроде бы это утро было копией давнишнего. И точно так же никто не знал, откуда он идет и что у него на душе.
Душа Лисевицкого опьянела от внезапного горя и обиды.
«Верочка, Верочка... Легче теперь тебе? Все эти дни ты маялась, как сказать мне. Ты просыпалась и говорила: «Я Лисевицкому изменила». А завтра проснешься и с облегчением подумаешь: «Он уже все знает». Ты мне изменила, а в открытке написала: «Я в лесу спросила у кукушки, сколько еще буду с тобой». Зачем так лгать? Значит, бесследно прошло мое воспитание. Да что, Верочка! — из тех книг, которые я тебе дарил специально, искал их для тебя, хотел, чтобы ты в минуты чтения чувствовала то же, что и я, ты почти ни одной не прочла. А на последней книге, самой моей любимой (я рад бы был, если б и у тебя она была настольной), ты не позволила сделать надпись. Значит, уже береглась. Ведь все теперь, или позже, тебе надо будет прятать. Письма увозить к матери или сжигать. Фотографии рвать. Миг — и прошлое выброшено. Ни-че-го от меня не переняла. Я смешон, но в глазах обывателей. И в глазах профессора-историка, которого ты выбрала. Ты мне изменила с моим недругом. И как низко, пошло. Ты лгала мне уже за несколько месяцев. «Я замуж не хочу,— говорила.— Просыпаться и видеть чью-то рожу». Так лжет только женщина. Она себя не видит и не слышит».[574]
Мгновение — и он уже разговаривал со старухой. Она шла впереди, кланяясь земле, и уронила газету. Лисевицкий поднял, догнал старуху и, сгибаясь к ней, прокричал:
— Испытываю огромное удовольствие познакомиться с вами. Вижу, что вы екатеринодарка. Вы, наверное, кладезь неисчерпаемых знаний о нашем великом городе. А я учитель истории.
— О, я ничего не помню. Мне девяносто один год семь месяцев и девять дней. Но, если хотите, приходите ко мне. А что вы желаете от меня услышать? Про ста-арый город! Извините, я иду кормить Чижика.
— Я с удовольствием провожу вас. Дайте мне вашу сумку.
Старуха шла еле-еле, отвечала не Лисевицкому, а тротуару, и Лисевицкий нелепо топтался возле, порой забываясь и воображая сбоку Верочку. «Вот видишь, Верочка,— говорил ей,— я снова в своем репертуаре...»
— Спасибо,— сказала старуха у двухэтажного дома на улице Ленина.— Вон мое окно.
Лисевицкий обомлел. Вот чьи старческие глаза не раз глядели на него из этого полукруглого окна!
— Как только мне будет легче,— сказал Лисевицкий,— я навещу вас, можно?
— Пожалуйста, но мне девяносто один год, семь месяцев и девять дней.
На углу, недалеко от его двора, еще торговали молоком из бочки. У хвоста очереди Лисевицкий вдруг тихонько запел то, что он часто (и вчера перед сном) пел Верочке,— фетовское:
На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит...
Шел по двору и пел, открывал одну дверь, другую, и в комнате, раскачиваясь, подражая артистам, закончил чудесный романс.
— Несчастный,— сказал,— ты опять в своей берлоге. Ты вспомнишь меня, Верочка, в горькую минуту, роднулечка моя. Ах, молока купить!
Он взял пыльный сверху бидончик и посеменил к бочке.
Он не помнил, как платил за молоко, снимал полный бидончик, прошел двор, ткнул ногой дверь и она открылась (ключи между тем были в руках), налил в кружку молока, выпил и все мстил, все мстил своей изменнице длинной речью...
Чего сидеть? Впору бежать куда-то, вздыхать и жаловаться. Но куда? Опять и опять к старикам? Хоть куда-нибудь, лишь бы не быть одному. Телефон автора ненаписанного романа о Екатеринодаре молчал. Лисевицкий купил в зеленом гастрономе пять плиток шоколаду, две пачки хорошего чая и направился к Шкуропатской. На его пожарный стук в дверь выглянула Калерия Никитична, испуганная и недовольная. «Я не могу вас пустить,— сказала,— Аким Михайлович только заснул, ночью ему было плохо». О боже мой, кругом своя беда, своя жизнь. К Толстопяту? В том же зеленом гастрономе набрал он сыру,[575] колбасы и поскакал, поскакал на улицу Советскую. Он уже воображал, как они вскипятят в чайнике воду, заварят, присядут за круглым столом (при этом Лисевицкий в сотый раз похвалится: «Счастлив быть приглашенным к высочайшему обеду!»), и они хорошо порассуждают «о любви и коварстве». Но Толстопят уехал в Пашковскую к племяннице, пришлось все покупки со смущением нести назад. Тогда он зашел в книжный магазин к Марку Степановичу, раздал шоколадки продавщицам, купил парочку книг о Вере Фигнер (одну отослать в Москву старику Коптеву, другу всех последних народовольцев), назвал красавицей толстенькую с облезшими бровями кассиршу, и оттуда ноги понесли его далеко через весь город к темно-зеленым воротам напротив бывшего храма божией матери всех скорбящих радостей, во двор, где жила Верочка. Но уже нельзя! Уже все кончилось, прошла последняя ночь, было и утро, и Верочка призналась ему во всем...
Снова пережил он это тревожное утро.
Надо вовремя верить предчувствию, ловить в себе эти настораживающие толчки. «Не ходи,— словно шептала ему накануне душа,— не ходи к ней, ты там больше не нужен!» Но он пересилил себя, пошел все же, чтобы не обидеть Верочку. От всего как-то увертывалась Верочка перед сном: от интимной беседы за столом, от прикосновений и прочего. Глаза ее точно засорились, она часто мигала, когда смотрела на Лисевицкого. Вечная драма жизни: еще вроде бы все то же и так же, но уже что-то таинственно треснуло, переломилось и грозит переменой. Всегда грядет минута, в которую возлюбленному не дано еще знать, до какой степени он уже чужой и ненужный. Именно эта тягучая минута была вчера, когда они пили чай за столом и Верочка ни о чем (ну ни о чем вовсе) не спрашивала Лисевицкого, думая только о своем предательстве и том, как безопаснее его открыть. А полоумный Лисевицкий еще пробовал петь: «На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит...» Спали плохо, ночью она вставала и расшибла лоб о косяк. В семь утра Верочка ушла на базар. У Лисевицкого откуда-то взялось желание проникнуть в ее тайнички, нечаянно найти чью-то записку, фотокарточку, помучиться ревностью и снять с себя какую-то долю вины. Но он закрыл глаза и уснул. Верочка принесла с базара ряженки, овощей, но стол накрывала с противной обязанностью — как официантка в ресторанчике. Потом они легли отдохнуть. Молчали. Странно молчали: каждый, казалось, чувствовал, о чем думает другой. «Что с тобой?» — уже приготовился спросить Лисевицкий. И успокоился, тихо запел: «На заре ты ее не буди...»
Верочка спросила:
— Ты слыхал, ночью под полом крыса скреблась?
— Наверно, к беде...
Она перевернулась к нему, мелко затряслась. Лисевицкий подумал, что она плачет от обиды, и стал жалеть ее рукой: [576]
— Ну, ну...
— Этот молодой профессор истории... которого... ты не любишь... В тот день, когда ты уехал в Майкоп, он зашел ко мне и провел у меня всю ночь...
— Как так?!
— Не знаю.
— Ты выпила?
— Нет.
— А ты его любишь?
— Нет.
— Со зла, значит?
— Вот ты все улыбался...
«Такая низкая измена...— думал он днем.— Я всегда знал, придет какой-то солидный господин, предложит ей свою руку, и она мне честно скажет: я хочу выйти замуж, нам надо расстаться... Но изменить так пошло?»
До вечера руки пахли ее духами и мазями. Лисевицкий проклинал ее, но она была еще с ним, он с ней все время разговаривал. Такая измена! В свою комнатку она впустила мерзкого профессора с разными глазами, того профессора, который однажды подошел к ним в кафе «Мороженое» и нарочито громко сказал: «Все разговариваете о патриархальщине, господа? О казаках? Мало их постреляли!» — «Мы говорим о любви, товарищ профессор,— отлупил ему Лисевицкий.— А вам семеро в санях снятся, всего боитесь». Как она забыла? Как могла забыть?
Лисевицкий лежал на диване, пел, подражая Морфесси, давно умершему и оттого еще более любимому:
Мы сегодня расстались с тобою,
Без ненужных рыданий и слез...
О, за него, Лисевицкого, переживал весь мир; наивный, он ласкал себя и жалел словами людей, которые ни в какую пору его не любили. Он слышал: «О, Юрий благороднейший человек. Юрий Мефодьевич странный, да, но добрейшей души человек и никому никогда не делал зла. Это ходячая энциклопедия нашего города. Да вы знаете, кто такой Лисевицкий? Такие люди появляются раз в столетие. Мадам, я нисколько не преувеличиваю. Спросите о нем у графа Воронцова-Дашкова! — Лисевицкого уносило в еще более далекое время.— В Черноморском войске по книжности он мог сравниться разве что с протоиереем Российским. Он знал самого герцога Ришелье и графа де Монпере, описавшего Тамань. Когда Лермонтов проезжал Екатеринодар, то Лисевицкий разговаривал с ним в гостинице «Куцая пани». И такого человека предала женщина. Еще Суворин говорил, что нет никого лживее женщины. Хлестаков невинное создание перед ними. Для них первое дело — страсть. Мы, мужчины, не знаем их. Жена генерала Бабыча изменяла с Батыр-Беком Шардановым. А как Лисевицкий поет песни Вертинского! Он был на его концерте и даже разговаривал с ним. Когда открывали [577] памятник в Тамани в одиннадцатом году, Лисевицкий обворожил всех дам. Но нынче его предали. Он с горя опять бросился к старухам...»
Обольщенный поддержкой, Лисевицкий вскакивал, на минуту трезвел и опять ложился. Слава утешала его. И он заснул мертвым сном, как младенец.
Он поспал немножко, но, когда открыл глаза, прошедшая ночь с Верочкой, расставание с нею казались ему далеким невозвратным временем, и он спрашивал Верочку, не ту, вчерашнюю, хитрую и коварную, а другую, Верочку первых месяцев: помнишь? Лисевицкий глядел на корочку «Божественной комедии», но видел улыбающееся женское лицо. Помнишь первое утро и розы во дворе? Облепиху в лесу под Федоровской? Снежные горы, ущелья, быстрые речки? А помнишь, как я стучал в твое светлое, завешанное окно и ты тотчас вскакивала и показывалась у форточки? Помнишь еще зиму, теплую стену у печки, разглядывание фотографий? А не забыла ты станицы, высокие берега, трамвай №5, синие низкие кресла, большое зеркало у стены, разговоры о твоих поклонниках? Куда ж мы все это дели? Помнишь, я провожал тебя на Покровку к портнихе, ты примеривала юбку из бостона, а я ждал тебя в голом декабрьском саду, под темным небом?..
В девять часов он пошел к 90-летней старухе на улицу Ленина.
Старуха с большими бровями играла в покер с подругами,— одной было семьдесят восемь лет, другой шестьдесят шесть. Они играли в карты с утра, потом обедали, кормили кошек, мыли посуду и снова играли. Не хватало четвертой, восьмидесятилетней швеи, сломавшей три дня назад руку, и пришествие Лисевицкого было желанным. Но какое кругом убожество! В узком коридорчике воняло кошками, тухлой рыбой и еще чем-то. Как страшна затянувшаяся старость! И как прекрасны юные лица на больших фотографиях под стеклом, висевших на четырех стенах.
— Вы кто? — очнулась вдруг старуха хозяйка.
— Мы познакомились сегодня на улице Ворошилова, вы шли из магазина.
— Когда я шла? Не помню, я ничего не помню. Сегодня? Куда же я шла? Что я обещала? Рассказать про старый город? Вы садитесь, мы играем в покер. Боже, какая я старая стала. Мне девяносто один год, семь месяцев и девять дней.
— С утра ты говорила девяносто три,— сказала толстенькая подруга.
— Я все забываю. Вы встретили меня на улице Гимназической? Теперь я помню. Вы очень похожи на сына городского [578] головы Скворикова. Чижик, чижик,— обратилась она к коту.— У тебя лапка поправилась? Он у нас молодой, ему всего второй год, а мне девяносто один. Хлеб не ест, а я и сама не ем ни рыбы, ни мяса. Вы играете в покер?
Лисевицкий не умел играть в покер, и его дружно учили. Между делом Лисевицкий подбрасывал старухам вопросы: «Красивые были в Екатеринодаре кавалеры? Какой извозчик возил их венчать? Видели ли Бабыча, Деникина, купцов? Знали ли Бурсачку?»
— А что это за часы? Ваши? Какого века?
— Я ничего не помню! — кричала старуха, полагая, что Лисевицкий тоже глухой.— Мне девяносто шесть лет, семь месяцев и девять дней.
— Простите, а как ваша фамилия?
— Швыдкая Олимпиада Михайловна.
— Да не может того быть! — по слогам простонал Лисевицкий.— Вы же ушли в Марии-Магдалинский монастырь. И после войны скончались.
— Что-о?
— Вы умерли после войны! — прокричал Лисевицкий старухе в самое ухо.— Просили похоронить вас ангелом. И вот, о чудо, вы воскресли и я с вами играю в покер... Вы помните Попсуйшапку?
— Я ничего не помню... Ваш отец Сквориков был городским головой. А в канасту вы играете?
«О Верочка, спасай меня... Вытаскивай из музея... Иоанн Кронштадтский, «Красный фонарь» на Пластуновской, Терешка с матрацем, Швыдкая в монастыре, революция, гражданская война, голод 33 года, немцы в Тимашевке, храм и овчарка, игра в покер... Кому верить? Все перепуталось на этой земле... Одни говорили, что она умерла ангелом, другие — убежала с немцами, а ей то девяносто один год, семь месяцев и девять дней, то девяносто шесть, и она раздает карты... Верочка, Верочка, ты меня бросила в объятия старух...»
— Записываем! [579]
МОЙ ДНЕВНИК
Нашел у поэта Батюшкова замечательные слова: «Давай вспоминать старину. Давай писать набело, expromte1, без самолюбия, и посмотрим, что выльется; писать так скоро, как говоришь, без претензий, как мало авторов пишут, ибо самолюбие всегда за полу дергает и на место первого слова заставляет ставить другое». Но мне уже поздно следовать совету Батюшкова. Я устал и потерял свежесть...
Ночь. Мне не спится. Я выхожу во двор, прохожу мимо темных окон и иду по улице. Ночью, только ночью так открыто пробуждается душа, так чувствуешь пространство и время и соединяет тебя в странствии со всеми, кто был и есть, с домом и звездами. Хочется поклониться всему: кладбищам, храмам, дебрям, горам и пустыням Востока, полям Европы и Сибири, лазурным берегам морей, хижинам, дворцам, пирамидам и т. д. Бесконечна дорога жизни, и не пересчитать книг о ней. Зачем еще и со своими листами? Душа моя выше моих слов,— я теперь это вижу, перечитывая свою работу и вспоминая то, что неуловимыми знаками трепетало во мне. Теперь мне горько: так мало я выразил из того, что чувствовал. Иду и думаю: кому это нужно? Много ли я унесу с собой навсегда, как уносят все люди, что-то в душе своей созерцавшие и наутро ничего никому не сказавшие. Иногда я увлекался чтением какой-нибудь чудесно правдивой книги, и тогда еще более жаждал, чтобы и у моей книги была совесть, было то, за что не стыдно ни перед кем,— ни перед теми, кто жив, ни перед теми, кто с того света возразить не может. Во дворе, на кухне, где я часами курил перед темным окном, никого со мной, кроме моих героев, не было. Жизнь обогнала нас, а мы еще торчали там, в екатеринодарском времени.
Всему бывает конец. Каждая глава приближает меня к своим дням. Скоро ли последние слова? Скорей бы! Уж я соскучился и тороплю месяц, число, когда оборвется мой сон.
----------------------
1 Экспромтом.[580]
ИХ УЖЕ НЕТ
Я все позабросил, бумаги свои засунул в нижние полки шкафов, ездил по станицам и писал в наши газеты статейки об урожае, о бригадирах и председателях и как ветхий сон вспоминал свое увлечение кубанской стариной. В прошлом году ко мне подошла на улице Красной нарядная Верочка, такая веселая толстушечка с черными ресницами и намазанными ободками под глазами, и заполошно, радостно заговорила со мной, сказала, что она уже целый год думает передать мне одну новость, да все как-то не было случая. Летом 1969 года она плавала на теплоходе с туристами вокруг Европы, и в Югославии на пристани у нее была встреча с казаком-эмигрантом, уже стареньким, седым, трясущимся от нездоровья. Он громко спросил: «Нету ли кого-нибудь с Кубани, со станицы Пашковской?» С Кубани в группе было десять человек, но они уже забрались в каюты или бродили перед последним гонгом по палубе.
— Я уже не вернусь на родину,— сказал он ей, заплакав,— скоро умирать, у меня семьи нет, а друзья в могиле, так я вас попрошу, если вы мою просьбу выполните. Я принес тетрадочку с воспоминаниями, отдайте ее в музей, может, кому понадобится когда. Я казак станицы Пашковской, у меня там сестра, она малограмотная, писем от нее нету, может, умерла. Моего деда Луку знала вся Кубань...
И Верочка взяла эту тетрадку Диониса Костогрыза, и я ее прочитал в архиве.
В 1971 году я снова стал перебирать свои бумаги. Как-то после тяжелого сна сидел я неодетый в кресле, пил чай, курил и долго глядел на старинную фотографию петербургского мастера, которую приставил накануне к лампе Лисевицкий. «Попросите кого-нибудь переснять,— сказал он мне несколько раз,— чуде-есная пара! Жалко, нет фамилии». Он горланил в моей комнате до часу ночи и, как я ни упрашивал его сбить свой голос до шепота, не смог совладать со своим темпераментом. В семь утра он позвонил: «Доброе утро, драгоценный мой. Ну как, помогла вам хоть немножко моя фотография в вашей работе?» — «Странный вы человек, Юрий Мефодьевич, ведь я ночами не пишу. Я же говорил вам, что все выбросил, сжег».— «Какое горе, это может сравниться только с моим пожаром, ведь я горел, знаете?» — «Знаю. Вы горели в шестьдесят третьем году».— «Вы правы».[581]
С фотографии смотрели на меня двое, еще не потасканные жизнью, и они были моложе меня. Но их уже давно не было на свете.
Мне кажется, по огромной стране нашей много людей сидело так-то вот перед старыми фотографиями и чувствовали то же, что и я: а их уже нет, никого нет на этой земле!
В прекрасной черкеске кубанский казак, чтобы сравняться головой с головкой супруги, склонился на локоть к высокой резной тумбочке, а она в бархатном длинном платье с нашитыми на груди и на рукавах кокетками стояла чуть-чуть сзади. Лица их были счастливыми и привлекательными: у него живые круглые глаза, загибающиеся усы, гладкие, точно приклеенные, волосы, круглым листиком свернувшиеся надо лбом; у нее патриархально-покорное лицо молодой жены-провинциалки и уложенная на голове коса. Она, казачка, еще не избалована Петербургом, ее приведи в гостиную — она растеряется и за весь вечер не проронит слова, но все заметит верно и потом скажет мужу; он, службой приученный к придворной толпе, гораздо смелее жены.
Не у кого спросить, кто это.
Да, кто они, из какой станицы, какого года рождения, кто их родственники? Может, я не раз встречал его фамилию в послужных списках? А из чьей семьи она?
Не к кому понести фотографию.
И что с ними стало? Отслужил ли он до войны, или его бурным ветром снесло как листок на юг в перевороченный город? Погиб ли он сразу или уехал из Новороссийска навсегда? Казалось бы, зачем знать и спрашивать? Но так же гляжу я на любую фотографию, на лица людей, которым не было дела до нас, еще не родившихся, но которые нам загадочно интересны...
На другой фотографии красноармейцы хоронили в 1919 году своего товарища. Подписи не было. Пока я читал о них, они были живы, были со мною: служили, женились, ходили на базар, воевали, писали жалобы. Все кончилось.
Но что! — то незнакомые люди, я их никогда не видел.
Нету уже и тех, кого я слышал, с кем здоровался за руку.
Иду ли мимо дворов, вытащу ли письма из папки, переверну ли записи — я думаю: их уже нет, их никого-никого нет! Они там, где «несть ни печали, ни воздыхания».
Нет какого-нибудь мужичка, читавшего псалмы над покойником, говорившего мне, что в их курской деревне любому прохожему давали ночлег. Нет казака из станицы Пашковской, все певшего гостям «Прощай, мой край, где я родился». Висит у вдовы извозчика Ляхова хомут, который Терешка надевал на шею своей лошади,— самого Терешки давно нет, и в прошлом году не стало Ляхова. Нет добрых екатеринодарских женщин, ходивших на войсковое кладбище убирать могилы отцов и старших братьев, погибших в японскую и германскую войны; нет [582] порою тех, кто приходил на могилы войны последней. Вчера еще, кажется, я бродил по улицам среди людей, которые ограждали меня живой стеной у того скорбного края жизни, куда клонится все живое; нынче их нет, и край тот стал ближе.
Нет Акима Михайловича Скибы. На 50-летие Советской власти он в числе немногих старых большевиков открывал шествие, потом махал рукою, словно веточкой, с трибуны; вечером Шкуропатская вызывала «скорую помощь». В ноябре приезжала к нему Федосья Христюк из Елизаветинской, привезла свяченую воду в бутылочке, которая у нее стояла на окне с 1930 года. «Кто знает, когда смерть возьмет. Давай, Акимушка, попрощаемся. Прости меня».— «И ты меня прости». Умирал тяжело. В железнодорожном клубе возле камеры хранения лежал он в гробу, поставленном на бильярдное зеленое сукно между лузами, с измученными от болезни щеками. Давние товарищи его по кубанскому подполью сидели на скамейках в оцепенелой думе о прожитом, поднимались на ноги с помощью комсомольцев, присланных в почетный караул, а до кладбища проводить сил не было: потрогали Акима Михайловича за холодные руки, помолчали, глядя последний раз на его выросшие в мученические дни усы и закрытые веки. Толстопят везде был рядом с Шкуропатской. Лисевицкий распоряжался машинами, напоминал кому следует о поминках, раздавал венки. Никто, пожалуй, так не плакал в последнюю минуту, как он. На кладбище ездил и Попсуйшапка, заодно проведал могилу своей жены, подобрал сор, поговорил с нею шепотом: «Ты мне, Катя, советовала сразу же поехать в Васюринскую и жениться на Ивановне, я не послушал, но дело в том, что и ее уже нету...» Как-то через год брал я интервью у знатного животновода в станице Елизаветинской и от него узнал, что Федосья Кузьминична Христюк скончалась летом, легла на ночь и не проснулась. Накануне еще выпила с гостями рюмочку, пела. Наверное, то же и пела, что нам: «Козак отъезжает, а дивчина плачет...» На чердаке у нее Лисевицкий нашел фарфоровую супницу и хвастался, какой знаменитой старухе она принадлежала.
К. Н. Шкуропатская после смерти Скибы пустила в переднюю комнату девочек-студенток, в слабости нанимала соседок ходить за продуктами, даже в обиде боялась проронить слово против: ведь она одна, ей со всеми надо жить мирно, иначе горе ей будет, когда сляжет в постель. Как-то возле Екатерининского храма старик в грязной одежде, называвший себя о. Сергием, сказал ей: «У вас дома лежит Евангелие, а вы в него не заглядываете!» Она испугалась: он угадал! На ночь она в тот год читала в журнале «Звезда» исследование Касвинова «Двадцать три ступеньки вниз», ее принесла подруга юности — на закате жизни они все увлекались мемуарами. Я видел ее последний раз у ее дома под акацией: она стояла с соседями, ждала машину, чтобы освободить от мусора ведро. Тогда-то она и отдала мне коробку из-под отцовского ордена Станислава 2-й степени — я хранил в ней [583] открытки Екатеринодара. И тогда же она позвала меня к себе и показала поминальную карточку: «Волею Божией 5 июня с. г. в госпитале Монморанси после тяжелой болезни скончался ДЕМЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ БУРСАК, о чем с глубокой скорбью извещают друзья его. Отпевание было совершено 9 июня с. г. в церкви ДОМА РУССКИХ ИНВАЛИДОВ, погребение на русском Инвалидном участке кладбища в Монморанси. В 9-й день кончины в субботу 13 июня в 11 час. в церкви Дома Русских Инвалидов в Монморанси будет отслужена панихида по усопшему». К. Н. Шкуропатская умерла в декабре в дождливый день, я был в командировке.
Из Парижа Бурсак прислал мне однажды открытку с видом церкви в Ницце, а в архив — книгу «Два года гражданской войны на Кубани» Д. Скобцова, мужа знаменитой матери Марии (бывшей поэтессы Кузьминой-Караваевой, в девичестве Пиленко). Просил Бурсак передать привет всем-всем, кто привечал его на родине в 1964 году. Умер, и некому было на Кубани печалиться о нем.
Так проходит слава земная.
Но всегда жили и будут жить в своем веку последние.
В хорошую погоду можно было видеть в городе, как гуляют два старца — один высокий, величавый и молчаливый, другой маленький, разговорчивый и какой-то хозяйственный. Оба, кого-нибудь встретив, так чинно и добродетельно раскланивались, что хотелось у них этому поучиться. Кто издавна жил здесь, знал, что это за люди, а остальные, городу не родные, лишь удивлялись: откуда они?! чего они так степенно ходят туда-сюда в белых костюмах? То были Толстопят и Попсуйшапка. В дни майских и октябрьских демонстраций я неизменно заставал Толстопята на тротуаре у Пушкинской библиотеки; и всякий раз, когда стройно шла мимо армия, он радостно плакал…1
-------------------------------
1 Не окончено.— В. Л. [584]
НЕНАПИСАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
ПЕТР БУРСАК
Из записок кавказского офицера
Вместо князя Барятинского 6 декабря 1861 года наместником кавказским стал Великий князь Михаил Николаевич. 16 февраля 1862 года он проследовал из Варениковского к Крымскому, Ильскому и Григорьевскому укреплениям.
Для встречи мы выстроились в походной форме, со скатанными шинелями. Около полудня замаячили всадники. Впереди ехал двадцатидевятилетний красавец Михаил Николаевич, рядом граф Евдокимов, а далее свита. Великий князь принял рапорт Бабыча, которого обнял и поцеловал, а затем начал здороваться с каждой частью. После легкой походной закуски в особом шатре он двинулся дальше, конвоируемый всем Адагумским отрядом. Дорога пролегала по границе абадзехских земель, по местности, еще не пройденной нашими войсками и известной только по расспросам. Горцы, конечно, узнали, что мы встречаем царского брата, и весьма возможно, что у них явилась дерзновенная мысль попытать счастье и захватить самого Великого князя в плен.
Как только наш головной отряд втянулся в дефиле, горцы не выдержали и подняли стрельбу из-за поваленных бревен и с деревьев. Весь отряд мгновенно стал.
Кавалерия тем временем набрела на богатый аул и, ввиду ночлега, произвела обильную фуражировку, захватив до ста штук рогатого скота. Перестрелка не прекращалась, хотя была довольно слабая, урывчатая. Отряд приблизился к глубокой балке, заросшей дубовым лесом. Три раза горцы переходили в атаку, теснили наш арьергард. В это время по правой цепи из засады неожиданно раздался залп, и партия абадзехов с гиком кинулась на нас в шашки.
Его Высочество все время находился на возвышенном пункте и в бинокль следил за ходом битвы. В официальном донесении дело справедливо названо «поистине молодецким».
Через неделю после великокняжеского проезда по земле шапсугов были предприняты разведки через лазутчиков — искали пропавшего пять месяцев назад казака Толстопята. С радостью мы все узнали, что он жив, и шапсуги не прочь его [585] выдать за известный выкуп. Началась торговля, и в конце концов сошлись на двух тысячах серебряных рублей. Деньги были немедленно высланы графом Евдокимовым. И вот, когда мы все ждали, что со дня на день нас известят о привозе Толстопята, вдруг прибыл лазутчик и объявил, что другая какая-то партия шапсугов выкрала Толстопята и теперь требует за него на пятьсот рублей больше. Пришлось согласиться. В тот момент в войсковых ящиках не нашлось достаточного серебра. Трогательно было видеть, с какою готовностью солдаты и казаки несли свои рубли и абасы (двадцать копеек).
Наконец мы выступили к пункту между Абином и Хаблем. Я вез в переметных сумках деньги и новую одежду. Часам к одиннадцати мы были на месте. Я с несколькими офицерами забрался на холм, и оттуда мы жадно всматривались в опушку леса, с нетерпением ожидая появления нашего несчастного товарища. Как бы новая какая партия не увезла беднягу, чтобы начать торг!
Наконец на краю просеки замелькало несколько горцев. Среди них без шапки, в одной рубахе, ехал пленник. Он еще издали махал нам руками. Я проехал навстречу. Уполномоченные-горцы взяли от меня мешок, разостлали кошму и начали считать деньги, раскладывая их на кучки и внимательно осматривая каждую монету, иную даже пробуя на особом камушке. Окончив, они сказали: «Яхши, чек яхши».
Толстопяту развязали ремни, которыми были опутаны его ноги. Он с трудом слез с лошади и, шатаясь, подался вперед, но, пройдя несколько шагов, споткнулся и упал. Казаки, никого не слушаясь, бросились вперед, подхватили беднягу и принесли его на руках. Несчастный целовал их, плакал и стонал: «Братцы, братцы мои! Наконец-то!» Истощенный, бледный, с ввалившимися щеками, он даже стоять не мог на ногах и тут же упал с рыданиями на разостланную шинель. Мы наклонялись к нему и целовали его...
21 мая 1864 года война на западном Кавказе завершилась навсегда. Едва шестая часть горцев осталась в пределах области; большинство должно было поселиться в Турции, где им было обещано так много и где оно большею частью нашло голод, нужду и деспотизм власти. Нам больше не с кем было воевать.
(Продолжение следует.)
П. Бурсак
П. А. ТОЛСТОПЯТ
Сегодня 5 октября старого стиля, день Алексея и бывший праздник всех казачьих войск. Коли судьба заставляет меня приступить к воспоминаниям, пусть они будут чистыми, объективными фотографиями прошлого. Не знаю, в чьи руки после моей смерти попадут они и успею ли я их написать. В настоящих [586] условиях, без перспектив в личной жизни, приятно вспоминать то, что прошло как сон.
Перекладывая свои вещи, между ними нахожу вышитыя Манечкой полотенца, которых у меня было изрядное количество, уцелело только два, все остальныя, в числе прочего имущества, пропали. На одном, кроме узора, вышито: «15 мая 1906 года». Вышила сестра Манечка и подарила мне его при моем отъезде в армию. Это полотенце вот уже шестьдесят лет сопровождает меня на моем жизненном пути и весьма ценно для меня как воспоминание о моей любимой сестре. Это единственная моя вещь, столь долголетняя. И вещи жены-покойницы, которую я не могу забыть...
Мы не смели в детстве оставаться в гостиной позже восьми вечера, а шли спать. После чая и еды мы целовали руки своих родителей. В 1-м Екатеринодарском полку я наблюдал, как зять командира полка постоянно при встрече, не только в доме, целовал руку своему тестю. Кое-где родители заставляли своих мальчиков приветствовать не только старших, но и младших сестренок, целуя у них руку. Так я приветствовал сестру Манечку...
ЮЛИЯ ИГНАТЬЕВНА (мадам В.)
...Я храню твои засушенные цветы, лепестки сирени. Хранишь ли ты мою засушенную розочку? Слушаешь ли «Осенний вальс» Джойса и ждешь ли меня, мой родной? Зачем думать о смерти? Будем жить — ты меня этому учил всегда. Но как было бы прекрасно, думаю я здесь, на древних каменных скамейках театра в Эпидавре, вновь на склоне лет оказаться там, где, по словам Кольцова, соловьем залетным юность пролетела,— на родине. Не дождусь, когда повезут меня к тебе в Париж. Храни тебя бог. Юля. Июль, 1933, Греция.
А. М. СКИБА
...До рассвета, все еще спят, мать затопит печь, месит тесто — хлебин на десять. Мы встаем, умываемся, молимся Богу,— на столе уже самовар, чай. Мать напечет драных коржей, орешков на сковороде, а то яичницу на сале. А в комнате висит впереди кровати колыска, подвешенная к сволоку, она редко бывает пустая, в ней убаюкивают ребенка. Когда мать перестанет кормить ребенка грудью, она жует хлеб (иногда с сахаром) — вкладывает его в марлю и сует в рот. А мы после школы помогаем по хозяйству: выгоняем с база скот и лошадей к корыту у колодца, замешиваем лошадям полову, накладываем скоту соломы, наносим в хату топлива — кизяка и дров или одной соломы — да принесем от церкви доброй воды. В хате печь большая, залезем на печку, там и уроки учим. На ночь рядном вносится солома,[587] расстилается ровным слоем в головы потолще, застилается рядном, и на этой постели, помолившись Богу, ложатся покотом спать, укрываясь рядном, а если холодно, то и кожухом. Мать вечером садится за прялку или веретено, прядет пряжу для полотенца, мешков, штанов, портянок. Нам дает каждому вымнять по одной или две мычки (горсть волокна), а в колыске ребенок заплачет — надо качать. Все мы уснули и не знаем, когда мать легла, а утром она будит нас. Мати моя, где ты теперь, горюшко? Целы ли твои косточки?..
В одну из первых встреч с Калерией Никитичной я сказал ей: «Без доверия друг к другу у нас не получится откровенного разговора. Надо верить, что твои или мои слова не будут брошены в грязь, на посмешище соседям». И она заверила меня в том, что, о чем бы мы ни говорили, она сохранит в тайне.
— Бедная моя сиротиночка,— сказал я и хотел приласкать ее, взяв за голову, но она закрыла ее руками.
Уезжая в Горячий Ключ, я сказал ей: «Поеду, поищу себе женщину, может, в приймы пристану».— «Езжайте»,— сказала она. А когда я вернулся, то сказал: «Не стал я искать себе женщины, авось сгорю и так, как-то деды наши же сгорали. А лучше тебя все равно не найдешь».
Ее лицо прояснилось улыбкой.
— Погоди, пожалуйста, я хоть обойму тебя...
И обнял ее руками, как малое дитя, приник к ее чистой и святой груди, а руками стал ласково поглаживать ее спину, а она стала поглаживать мою голову...
В. А. ПОПСУЙШАПКА
Вы спрашиваете, кого ж я помню? Да я всех помню. Я ж не сплю и всех вижу по очереди. Помню скрипичного мастера Гавриленко — в старости спал на кровати Рубежанского, купил у его дочери в тридцать четвертом году; старосту извозчиков Дейнеку — простой как три рубля; сестер Саморядовых — возле Нового рынка теперь в их доме столовая; ассенизатора Кочкина — его сестра училась в купеческом училище, уехала с греком в Афины; священника Куща — у него была горничная Настя, я поухаживал за ней немножко, один раз сказал: «Возьми в театр кольца на пальцы — пригодится»; комиссара нового рынка Деревлева — съедал за завтраком двадцать штук яиц, двадцать стаканов чаю выпивал, москаль; вора Гаврилу Святодухова — после переворота служил в милиции; сына атамана станицы Суворовской, за сокрытие ему десять лет высылки дали, вернулся; Мусю Голопышку — я водил ее в баню, когда вдовец был,— она за красоту получила первый приз в Армавире, при всех достоинствах женщина, ушла с волчьей сотней Шкуро в Пятигорск да там и пропала; Н. Коренухина — его покусала собака Данилюка в девятьсот десятом году; владельца [588] скобяного магазина Н. П. Кобылянского — его хоть об дорогу бей, а он все вам на здоровье жалуется; доктора Платонова — в восемнадцатом году отступил в Калужскую, снег был по колено, он пошел по воду (прислуги ж с ним не было) и упал в колодец, его вытащили за веревку, а умер в Каире; Процая — ездил с оркестром в Ливадию, у него все четыре степени Георгиевских крестов; Одновалова — яблоко дает пробовать из кармана, а насыпает из мешка. Ну и других, их много было, теперь никого нет. Дома их стоят. Я иду мимо, кто окажется за воротами — спрошу: вы не такого-то дочь? И про каждый дом что-нибудь вспомню и назову хозяев: кто, что, когда умер, убит, где дети. Жизнь человеческая как свечка: ветер дунул — свечка погасла...
1979
ДИОНИС КОСТОГРЫЗ1
...21 февраля 17 года стало известно, что в Петрограде беспорядки, а 2 марта, что Государь отрекся от престола. Узнав это, я сделался больной, с меня служащие смеялись, но я молчал. Я в то время после ранения был камер-казаком у Ея Величества Императрицы Марии Федоровны. Императрица скоро уехала в Могилев в Ставку к Государю. Государь был в форме кавказской — серая черкеска и бешмет серый, погоны 6-го Кубанского пластунского батальона, ботинки на шнурках, цвета красного. На меня подействовало то, что Ея Величество, когда выходили из вагона, сказали Государю: «Вот я тебе и Костогрыза привезла». Государь ответил: «Очень рад, мама». Эти слова засели в сердце на всю жизнь и для поучения детям моим. В Ставке мы прожили четыре дня, жили в поезде, завтракать ездили во дворец, а к обеду Государь приезжал к нам в поезд. После этого приехали два разбойника Государственной думы, одного фамилию забыл, а один был Бубликов.
Когда Государь приехал в автомобиле, то за ним были двенадцать гимназисток, провожали и плакали. Когда они добежали до нашего поезда, то стали просить хорунжего Ногайцева, конвойного офицера, чтоб он доложил, что они просят у государя что-нибудь на память. Тогда Государь взял лист простой бумаги, порвал на карточки и написал на каждой «Николай» и отдал хорунжему Ногайцеву, а тот раздал гимназисткам. Они целовали листочки, прятали и плакали. Было несколько лишних — то стоящие люди, старики и старушки, просили и то же делали. Эта картина была вся слезна. Когда поезд был готов к отправке, то доложил Государю флигель-адъютант полковник принц Лихтен-
---------------------------
1 Несколько листочков дневника из той тетрадки, которую Дионис Костогрыз передал в 1969 году Верочке Корсун в Югославии.— В. Т. [589]
бергский, как бы в то время дежурный. И когда государь выходил из вагона, то Императрица его благословляла, осеняя крестным знамением, и обливала слезами. Мы стояли...1
5/18 июля 1919 (Лондон)
Утром Ея Величество возвращалась от Королевы и несла в руках вырезку из английской газеты. Я спросил: «Ваше Величество, что хорошего есть?» Она мне сказала, что статья написана Сувориным об России. Он пишет, что никто ничего не знает за Россию, и вообще сказала, что статья очень хороша и правдива... И я сегодня совершенно успокоился. Был в 12 ч. 20 минут утра Великий князь Михаил Михайлович, женатый на внучке Пушкина Софии, говорил со мной, любезно спрашивал, имею ли я сведения от своей семьи и как дела на Кубани. Я сказал, что все хорошо. Он сказал: «Очень рад, слава Богу». И спросил меня: «Как Вам нравится Лондон?» Я ему сказал: «Меня ничто не радует, когда у нас России нет, и чужая радость меня не утешает».
22/9 июля. Представлялись дети в. к. Михаила Михайловича, сын и дочь. Оба были ко мне очень любезные и говорят на русском языке. Очень хорошие. Я спросил, были ли они в России. Нет. Я за это в душе своей их осудил. Как они могут любить Россию, когда в ней не были?
ИЗВОЗЧИК ТЕРЕШКА
...Чаши серебряные, позолоченные, кресты серебряные, тарелки серебряные, мельхиоровые, блюдца, кадильница, плащаница, дубовый иконостас, иконы, облачения, ковры, все прочее имущество, означенное в сей описи, приняли на хранение и пользование для религиозных и обрядовых целей, что и свидетельствуем своими подписями...
Терентий Трегубов
Екатерина Трегубова
Надежда Трегубова
улица Базарная, 28 1921 г. 2 июня
НЕИЗВЕСТНАЯ
В середине 1922 года в жаркий день появилась на набережной в Новороссийске высокая старая женщина в черном. Она выжидающе смотрела вдаль на море. Я указал на нее моей маме, и она мне сказала, что это мадам Елизавета Александровна Бурсак, из-за которой стрелялся молодой офицер. Она стояла как вкопанная и чего-то ждала. Наконец к бухте, отгороженной от моря двумя молами, приблизился рыбачий баркас. У пристани
---------------------
1 Нет листа.— В. Т. [590]
рыбак протянул к мадам Бурсак руки и, подхватив ее, посадил в баркас. Тотчас же баркас отплыл. Говорили, что «эта старая женщина» зарегистрировалась с турецким рыбаком и уехала в Турцию на пароходе. В 22 году была как раз объявлена репатриация всех иностранцев, проживавших в России и желавших уехать на родину. Многие наши женщины регистрировались с ними и отправлялись за границу, где этот брак не признавался...
К. Н. ШКУРОПАТСКАЯ
...Когда мы заканчивали Мариинский институт, сдали экзамены, наказный атаман Бабыч пригласил выпускниц в театр, купил тридцать мест, и мы решили, что пойдем не в платьях, а последний раз в форме. В ложе для каждой из нас лежала коробка шоколадных конфект...
При маме на бал еще ездили по нашему Парижу на волах...
Д. П. БУРСАК
Что же я вам скажу, милый молодой друг, какие теперь воспоминания, коли завтра мне покидать Россию и затем где-то умирать в Париже? Жизненный путь так долог, что выпадают из памяти не только месяцы, но и целые годы. Род приходит, и род уходит... До свидания, до свидания, прощайте, не судите нас кое-как, живите, а мы уже свои земные дни исчерпали. Аминь...
Краснодар, 1964 г., месяца не знаю, бо календаря не маю (шучу). Д. Бурсак (последний из запорожского рода).
ИЗ ДНЕВНИКА
Прошли годы, и я начинаю чувствовать, что живу не там, и, наверное, скоро уеду отсюда,— назад, к себе, на Тамбовщину. Все-таки это юг, это не Русь, и мне тяжело без нашей чистой великоросской речи и бедненьких изб, без лесов, снега, мороза, без валенок (хоть их уже мало кто носит). Есть еще что-то, чему я не смогу найти объяснения, зато чувствую; другая душа у моей Руси, я там рожден, и это предки, наверно, зовут меня поближе к своим крестам и распавшимся холмикам. Зовут и старинные журналы, где даже в барских воспоминаниях много нашего, коренного. Чем больше живу на юге, тем сильнее начинаю страдать. Все мы поразъехались по великой стране, и только иногда понимаем, сколько счастья потеряли. Старуха, не выезжавшая из родной деревни весь век, счастливее нас, перелетных птиц. И нечего сваливать на цивилизацию! Домой, скорее домой! Там отраднее воспоминания...[591]
ГОРОД НЕВЕСТ
(Послесловие)
Уже тысяча девятьсот восемьдесят третий год. Рукопись Валентина Т. заканчивается годом семьдесят восьмым, потому что после этого года Толстопят1 уже не появлялся на улице Красной, редко прогуливался даже в своем дворе. Моя дочка Настенька была у него несколько раз в гостях, и он подарил ей парижские открытки, вышитое полотенце (от сестры Манечки) и на будущее — французский словарь «Общественно полезные разговоры». Он уже все свое раздавал.
Настенька, пока я доводил чужие бумаги до кондиции, часто подбегала к моему столу, трогала листы пальчиками, изредка задавала мне какой-нибудь вопрос и звала в большую комнату поиграть с кукольным медвежонком Потанькой.
Однажды без меня она написала: «Папа, желаю тебе скорее закончить дядин роман и поиграть со мной, если ты друг. Настя. 21 мая, 83».
— Как ты выросла! — сказал я.
— Зачем ты над стариной сидишь? Старина уже выбыла. Давай я тебе продиктую свое сочинение «Весна пришла». Только я не буду называться Настей, а по-другому.
Полчаса записывал я ее длинный рассказ, который кончался словами: «И все-таки: как хорошо было бы, если бы весь год стояла зима».
— Как ты, деточка, выросла! — повторил я и прижал ее к себе.
— Почитаешь Лисевицкому, ладно? «А я,— скажет,— глубоко одинок и закутываюсь в пять одеял, ведь я не топлю».
— Ждешь его? Любишь его подарки?
Она, видимо, запомнила, как Лисевицкий расхваливал ее в прошлом году: «Будет удивительная красавица! Сказочная красавица. Даже царские дочери не сравнятся с ней. Мама-государыня ею довольна? Ах, я шел из аула полем, такой аромат цветов, кизяка... И августейшее дитя льнет к свету жизни...»
Настенька вытянулась за последние два года, многому научилась в школе, а еще недавно она ничего не знала. До обеда я закрывался в своем кабинете, но она каждые десять минут стучала
---------------------------
1 Всем уже знакомым героям даю здесь те же фамилии, что и в рукописи.— В. Л. [592]
ножкой в дверь и покрикивала: «Папа, откройся! Ну на минуточку! Ну, папа... Какой ты...» Когда кто-нибудь приходил, она взбиралась ко мне на колени и слушала непонятные ей разговоры. Маленький седой Попсуйшапка был для нее странной живой игрушкой. «Вот, Настенька,— говорил я,— это сама история; Василий Афанасьевич на девяносто лет тебя старше». Это ее нисколько не удивляло. Попсуйшапка между тем терзал пальцами пуговицу на старой шубе и, заметив, как Настенька смотрит на руку, пояснял со старческой важностью: «Это, Настенька, кх... пуговица тысяча девятьсот двадцать четвертого года... Вот считай: в двадцать четвертом году купил я эту шубу. Шуба хорошая. Хорьковый мех, черно-бурый, самый лучший в старое время...»
Что ей тот 1924 год?
Еще неведомы ей пути человеческие, непонятна в радиоизвестиях гражданская война в Сальвадоре, и страдает она оттого, что мама выгоняет на улицу кота Тимошку. Ничем еще не напугана Настенькина душа.
Завтра мы пойдем с ней по городу. Она за ночь позабыла, что вчера поздним вечером обижалась на меня. Все забегала ко мне из своей комнаты и не хотела ложиться спать. Мама уже читала в постели «Женский портрет» Г. Джеймса. Я ловил Настеньку, укладывал, но она снова прибегала мешать мне, пряталась в уголку. Тогда я ее отшлепал. Она заплакала.
— Открой мне шкаф, я возьму рубашку.
Я ей открыл, она надела через голову рубашечку, смяла в пальчиках платочек, вытерла носик и легла, безутешно всхлипывая, прикрывая платочком глаза,— подобно женщине, не знающей, куда деваться от своего горя. Мне стало ее жалко. И пока я сидел у себя, в какой раз перебирая листочки «Нашего маленького Парижа», раскладывая потом части по конвертам, подписывая адрес издательства, мне все хотелось подойти к ней, сонной, и ладошкой попросить прощения. Завтра мы понесем конверты на почту. Если роман напечатают, Настенька когда-нибудь прочтет, доберется до первой строчки последней главы: «Уже тысяча девятьсот восемьдесят третий год» — и взгрустнет: «Как давно это было...» Все на свете движется к старости. Я сижу и боязливо мечтаю. Жить бы ради нее долго-долго, чтобы у нее всегда была где-то под боком верная защита. Мне хотелось бы знать, станет ли она такой, какою я мечтаю ее вырастить. Я ее буду все годы подталкивать, чтобы она прилежно читала лучшие книги, верила им даже тогда, когда в суете и обидах они кажутся нам обманом. И чтобы она потом перечитывала то же, что много раз в году кладу себе к ночи на столик я: «Жизнь Арсеньева» Бунина, его поздние рассказы, «Даму с собачкой», «Дом с мезонином» Чехова, «Казаки», «Войну и мир» и «Два гусара» Толстого, «Тихий Дон» Шолохова, «Унесенные ветром» М. Митчелл, «Свечечку» Казакова, всего Пушкина, «Жизнь Пушкина» А. Тырковой-Вильямс и все прочее, что указано в моем дневнике. Хочу, чтобы она [593] играла на пианино, пела старинные романсы. Не терпела лжи, была простодушна, но мудра, была ласкова, как в детстве. Чтобы любила нашу историю. Чтобы ты, Настенька, говорил я наедине, съездила в Новосибирск, в Топки (где я родился), в Тамань, в Пересыпь, в Тригорское, Константиново, в Москву, туда, где я провел лучшие дни моей жизни. А пока ты маленькая и еще не чувствуешь, как убывает время. С тобой я рад бы побыть на земле до ста лет — как Попсуйшапка.
Легок на помине Василий Афанасьевич. Утром вышел я на звонок и вижу: в новом белом костюме, в соломенной шляпе, с палочкой в руке просится ко мне всем видом Попсуйшапка! Я усадил его в кабинете на низкое кресло. Он бережно снял с головы шляпу, потом очки; мутнеющими глазами поглядел на меня, и я понял, что у него ко мне какое-то дело. Белые усы, такая же бородка украшали его — как всегда. Ничто, кажется, его не берет, и рукопожатие у порога было крепким.
— Хотел возле дома Фотиади встать... Ну, на рынке встал, на автостанцию зашел: нет ли кого из Васюринской? Нет никого. Всегда кто-нибудь едет. Поговорю, про всех расспрошу в станице...
Мы помолчали.
Позавчера ему поменяли в милиции паспорт, и он без единого слова похвалился им. Он и не думал умирать. На лице почти не видно морщин, так, какие-то паутинки. Но на фотографии в паспорте Василий Афанасьевич был древний. Глаза глядели на нас из далекого-далекого времени. Сколько ему еще ходить в пашковскую баню, на Сенной рынок и к шапочным мастерам в ателье? Я так привык к его долголетию и его младенческому интересу к жизни, что иногда со страхом думаю: неужели он когда-нибудь умрет?!
— Я вот чего к вам,— начал он, подчищая голос покашливанием.— Помните, я вам рассказывал, как в тысяча девятьсот восьмом году, когда Швыдкая ездила к Ивану Кронштадтскому (помните?), меня ограбили на Пластуновской?
— Вас ограбили Драганцев, Цвиркун и Парфенов.
— Правильно. Трое. Они отобрали у меня кошелек...
— ...А там двести двадцать рублей сорок копеек было.
У Василия Афанасьевича от обиды закрылись глаза и долго качалась голова.
— И я подумал вчера: пойти к сестре Парфенова, чтоб она выплатила мне те двести рублей через милицию. А для того взять газету «Кубанский курьер», где написано про меня, она ж у вас?
«Вот она, смерть,— испугался я и пожалел старика.— Сознание потухает, первые странности, забывчивость, неузнавание и тому подобное».
— У меня газеты нет,— говорю ему,— я в архиве читал. Она подшита, на государственном хранении.
— M-м...— протянул он и задрал подбородок.[594]
— Семьдесят четыре года прошло, кто ж вам отдаст те деньги? Сестра-то при чем? Это еще при старой власти было. И почему вы вспомнили?
Я был изумлен и не узнавал Василия Афанасьевича.
— А потому, что люди придут, а я за что их буду принимать? Ведь они сказали: «Мы придем». А я не в состоянии накрыть стол.
— Кто сказал?
— Вот эти, что работают в ателье мод головных уборов. Я ж тоже принадлежу к этому цеху пожизненно. Я всегда захожу к ним. Везде в металлических шкафах холодная газированная вода, а у них теплая, комнатного содержания, я и попью. Там моих напарников покойных дети работают, вдовы их сыновей.— Он перечислил всех по имени-отчеству.— Я им, Виктор Иванович, сказал, что мне через год сто лет — на праздник трех святых: Ивана Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова. Так мать моя покойница говорила.
— Знаю.
— Мне сто лет — пожалуйста, новый паспорт получил. Вынимаю. «О, на ваш юбилей мы придем». Господи,— думаю,— а как я их буду обслуживать? Это ж надо не осрамиться, стол накрыть, подать и принять. Я ж не работаю. Пришел домой и думаю: чем я буду их встречать? Живой человек о живом и гадает. Я и вспомнил стишок, как один пришел Настю сватать.
Настенька засмеялась.
— Поставили барабульки нечищеные, вареники, а я, говорит, на них косо поглядываю. Пришло время, погасили свет, а я за те вареники та с хаты шукать себе место, чтобы вареники слопать. Поел вареников, макитру свиньям выкинул. Вот я и пришел к вам, чтоб моя коротенькая пьеска была сполна.
— Семьдесят четыре года прошло,— сказал я.— Не ходите никуда. Вы пережили всех воров и судей. А юбилей мы вам отметим.
— Ну спасибо, дорогой Виктор Иванович, если вы так говорите. У дочки я не имею права просить, она учительница.
— Давно уже другое время, все поумирали, забудьте о тех деньгах.
— Я забыл, а тут — не сплю ж — и вспомнил. Я дверь закрыл, ключ положил и поехал к вам.— И добавил медленно, врастяжку: — Я уже, может, больше не приеду к вам.
— Что снится?
— Снилась два раза покойница жена. Пятая, самая крайняя. Лежала в платье на той кровати, которую мы с ней продали в Нальчике,— железная, со спинками. Лежала в той кровати в бордовом платье, и волосы не распущены, а так, целиком, и аж до колен. И во второй раз — в том самом платье.
— Слабеете?
— Глаза... По две капли закапывал в глаза, а теперь по четыре. Ноги болят. Уже и пчелы не помогают.
— А что это у вас? [595]
— Картонка. Подобрал на Красной у зеленого гастронома. Хороша на подкладку. Для фуражки. Валяется, я по привычке поднял. Нету хозяина.
Настя теребила меня:
— Папа, когда на почту?
В двенадцать часов мы с ней закладываем пакеты в сумку и выходим на улицу Ленина. На углу ждем, пока проскочат машины. Солнышко светит на деревянный зеленый магазинчик (наверное, то была когда-то персидская лавочка, двери ее забили, и так до сих пор). Старый город не сносят как будто в угоду Попсуйшапке. Через год сто лет, а ему еще хочется полететь в Болгарию на свидание с кумой Христовой. «Интересно, Виктор Иванович. Все в жизни интересно».
— Я такая легкая,— говорит Настенька возле дома Фотиади,— могу идти долго-долго. Наш маленький Париж!
— Кто тебе сказал?
— Я прочитала у тебя на столе. Папа! Сейчас меня приняли в октябрята, потом в пионеры, а потом в комсомол?
— Никак не дождешься?
— Ага. Как ты догадался?
— Я сам ждал. Под дверью стоял, боялся — не примут. Троек нет, четверок нет, в кружках участвую, а стою и боюсь, что не примут.
— Приняли? Ты рад был?
— Я не спал целую ночь, хотел похвастаться поскорее в классе, какой у меня на груди значок.
— Я тоже хочу поскорее значок.
В Ворошиловском сквере я покупаю газеты.
Если у Дома книги мы не застанем Лисевицкого, то, значит, на каких-нибудь океанских островах совершился переворот — только так это можно и объяснить. Но Лисевицкий на месте, в кучке книголюбов. В его руках бумажная сумочка за четыре копейки, лоб его блестит, как помазанный. Он мгновенно предает кружок менял и семенит к нам.
— Здравствуй, чудное дитя! В какие неведомые дали? Дайте прикоснуться к вашей бессмертной руке, маэстро.
Он держится за нас руками, отскакивает, вновь приступает. Мы с Настей смеемся. Лисевицкий никогда не изменится. Раз сто уже он славил мою руку.
— И кажется мне — не из плоти рука, а в мраморе, в бронзе уходит в века! Сам сочинил. Экспромт. Иногда вдохновение осеняет. Стою на перехвате, делать нечего. Я когда-то написал песню о Кубани, ее печатали в пятьдесят седьмом году к фестивалю в «Комсомольце Кубани». Я и музыку написал, и стихи, и сам пел. Как Вертинский. Наш поэт Варавва обещал напечатать в сборнике кубанских народных песен.
— Вы классик. Что еще?
— Думаю о том, как бы мне проникнуть в дом Фотиади и посмотреть на ванну из розового мрамора. Я бы отдал сто рублей [596] сразу только за то, чтобы залезть и тут же вылезть. Крошечка Настенька смеется. Я, деточка, не могу жить иначе, ха-ха... Да-да! Достал! «Записки кавказского офицера» Петра Бурсака полностью. Огромная тетрадь.
— Поздно. С «Записками» Бурсака вы опоздали. Кому это теперь нужно? Вам, мне. Но и я уже стариной не занимаюсь.
— Глубоко дышите современностью? Понимаю. К вам вопрос. Роман, как вы считаете, будет иметь успех?
— Читать-то особенно некому. Это как фотография на память: более всего говорит она чувству родственников. Тем, кто разбирается в нашей истории хоть немного, и тем, у кого здешние бабушки, будет заметнее при чтении романа, как много уходит вместе с людьми. Так же что-то уйдет и с нами. И с ними,— показал я на Настеньку.
— Дитя заскучало с многомудрыми старцами, ха-ха... Еще вопрос к твоему папе, Настенька, навеки занесенному...
— ...в амбарную книгу...
— ...чудесной Кубани. Скажите, где бы вы ни были, вы обязательно вникаете в психологию людей? Изучаете пороки, страсти человечества? Вы, как Штраус, записываете на банкнотах, на клочках, а потом ваша музыка облетает весь мир?
— Хорошо с вами, но надо идти.
— Постойте рядом с простым смертным, ха-ха... Как будто Гоголь ходит по Миргороду с Афанасием Ивановичем и...— кивок в сторону Настеньки,— с Пульхерией Ивановной... Не удивляйтесь, на меня действует весна. Наша Кубань — край вечной весны, вечной любви и истории, ха-ха... Неужели Попсуйшапка еще жив? Значит, и я буду жить да жить. Священный старец покрывает меня своим омофором, ха-ха... Уходить мне на пенсию?
Двадцать лет он клялся познакомить меня со своей тетушкой, которая без очков вдевает нитку в иголку и сама таскает лук на горище; лет пятнадцать обещал найти в своих ящиках старую карту Кубани и уже около десяти лет отправлял себя на пенсию по выслуженному стажу.
— Придется вас вставить в роман. Оригинал!
— Я буду счастлив, если вы поднимете из праха мою мумию.
— Жду в гости, но не в одиннадцать.
— Да как вы можете ложиться в девять? Только начинается жизнь. Слышны голоски комаров, лепет крылышек всякой моли и букашек. С высоты небес летят души великих людей. Бедный месье Толстопят, он уже там, где нет ни книг, ни воздыханий. Вы помните, что он сказал в парикмахерской в первый год приезда? «Вам шею побрить?» — мастер спрашивает. «Голубчик! — по-офицерски ответил ему месье Пьер.— Шею брили только кучерам». Ответ, достойный священных скрижалей!
И опять он повторялся. Может, мы напрасно считаем, что ничего на свете не повторяется? Повторяются слова, люди, мысли, характеры, женские лица и проч. И Верочка Корсун повторяла те же самые слова другому человеку и даже так же восторгалась [597] им ночью. Она сейчас шла по тротуару под тенью недостроенной гостиницы «Москва», разговаривала с дочкой. Лисевицкий заметил, повеселел, сказал: «Недавно встретились на трамвайной остановке, я проводил ее, и говорить было не о чем». Полная пожилая дама, вполне счастливая, шла вдали, и я припомнил некоторые страницы романа, в котором Верочка может узнать себя.
— Нет, ваше величество,— сказал он печально,— не все повторяется на этом свете. Уже Верочка не то что никогда не скажет, а и не поверит, что так говорила: «Я счастлива, я все время колдую, чтобы ты тоже думал обо мне, ты снишься мне с того дня, когда выпал снег. Я счастлива, что просыпаюсь с твоим именем. Я бы согласна умереть, но только бы знать, что у тебя не будет ни одной женщины». Плачу и рыдаю, но ни о чем не жалею...
Настенька тянула меня от Лисевицкого:
— Ну, па-па...
Мы прощаемся с книжником.
— Лисевицкий пирожок откусил...
Вот и Настенька уже посмеивается над его странностями; всегда эти странности, нелепости его характера на первом месте. Но кто же, кроме него, согласится полдня бродить с учениками по улицам города, угощать их всех до единого мороженым и сладостями или в другой раз вести их на опытное поле к академику, «пшеничному батьке»? Кто вдруг подзовет на старом кладбище курсантов военного училища, расчищавших завалы мусора:
— «Мальчики, помогите поднять плиту над могилой офицера!» — и полчаса красочно рассказывать им «великие подвиги войны и мира»? И кто бегал по аптекам за морфием для корчившегося в предсмертных муках ветерана, покупал венок? Не профессор же истории, всегда тупоумно правильный и назидательный. Лисевицкий! Побежал к девяностолетней тетушке своей, «нюнечке», с четырехкопеечным бумажным пакетом, полным пирожков. Если напечатают «Наш маленький Париж», купит триста штук и будет разносить по дворам: «Читайте! Это же про наш город. Боже мой, как я счастлив! Будто это я написал...»
— Папа,— говорит Настенька мне у филармонии,— ты... Только ты не сделаешь...
— Ну, ну...
— А ты сделаешь? Вечером поиграешь со мной? Если ты друг.
— Конечно. Мы сейчас с тобой сдадим бандероли, и вечером я ничем заниматься не буду.
На почте принимает заказные корреспонденции все та же кругленькая женщина в темном халате. Очередь у нее идет быстро. Я еще раз проверяю адрес издательства, шепчу на конверт заклинание, отмечаю про себя: 7-е, счастливое число. За мной два красивых высоких эфиопа. Настенька побаивается их. Впереди меня простая женщина из станицы Северской. Грустная почему-то, смущенная. Ей, кажется, трудно подавать большой [598] конверт с австралийским адресом. «В Австралию?» — спрашиваю как можно невинней. «Брату». Фамилия казачья, и это значит, что он беженец последней войны. Заблудился ли, увезли немцы или был полицаем? Я вспомнил, как Лукерья из Пашковской рассказывала мне: «Рано, рано,— говорю им,— хлопцы, вы взяли винтовки. Ой, хлопцы. Придут наши — будет вам». И пришли наши. Они сели на коней, запели, да так горько: «Прощай, мой край, где я родился...», а матери идут за ними и плачут... А теперь что? Кому там нужны?» Вот и этот неведомый казак сидит на «чердаке человечества» — в Австралии.
Настенька меня теребит, ей не хочется домой — мама ее там посадит на вертящийся стульчик у фортепьяно.
У Дома книги я поднялся с Настенькой в кафе-мороженое. Мы скушали две порции мороженого, выпили кофе, потом Настенька с конфетами в руке побежала вперед по Красной. Одноглазый старик в черкеске, в папахе опять прохаживался туда-сюда по улице, словно нарочно дразнил обывателей своим музейным нарядом, пренебрегая усмешками и порою репликами. Фронтовик, потерявший глаз в разведке, почему он в черкеске кажется людям дикарем?
«Да-а...— думал я.— Блажен, кто все помнит. Ура простодушным... Настенька бежит себе... Город невест. Нигде нет столько красавиц... Настенька! не беги... Нигде нет... И в Париже их нет. Таких нет. Только в нашем, маленьком... Иди сюда, деточка. Я буду счастлив, если роман выйдет. Счастье в исполненном долге перед совестью. Блажен, блажен, кто помнит и у кого душа справедлива. Душа всегда справедлива. Если она у тебя есть... И придут времена, и исполнятся сроки... Да-да, и придут времена... И не постареет лишь одна улица Красная...»
Улица Красная!
С той казачьей поры, как в дубовом лесу вырубили просеку, плугом провели первую борозду и наставили турлучных хаток, вытянулась она за два века на много верст. Всем позволяла она ступать на мостовые. Ходить по ней — вспоминать свою раннюю жизнь. В каком бы углу города ни свили мы себе гнездо, на главной улице Красной скопилось столько неисчислимых наших забот и приятных мгновений. Куда это, с кем мы все шли и шли по ней? кого замечали? кто останавливал нас голосом или рукой? в чьи лица мы влюблялись, от кого отворачивались, с кем долго, до сумерек стояли на углу? кого ждали и не дождались? кого дождались себе на радость или вечное несчастье? какую заветную книгу, какой костюм, платье, какую брошь или сувенир там купили? Все это наша жизнь — узкая улица Красная. Когда-то прошли мы по ней в первый раз; когда-то пройдем и в последний. Когда летней порой погаснут окна и ты по Красной, в тишине и одиночестве, добираешься домой, вдруг промелькнет теплое чувство к главной улице. Красная! ты забудешь меня, как позабыла тысячи прочих! Я твой незаметный прохожий...
Я убыстряю шаг, на улице Орджоникидзе беру Настеньку за [599] руку, и мы идем не сговариваясь к затону. Под высокими сводами деревьев на улице Тельмана, у домика, где жила когда-то любимая моего приятеля, Настенька вырывается и бежит вперед напевая:
Один раз в году сады цветут...
— Папа! — кричит она.— Ты мне вечером историю про Потаньку расскажешь? Если ты друг...
Она уже далеко, я тороплюсь за ней и тихо кричу:
— Настенька! Подожди... Настенька... Куда же ты бежишь, деточка?
Она оглядывается, взмахивает рукой и ждет, когда я подойду. «Ради нее мне и надо жить долго-долго...»
1978—1983 гг.
Краснодар — поселок Пересыпь
[600]
Валентин РАСПУТИН
«ЧТО НИ ВОЗЬМИ, ОДНИ ВОСПОМИНАНИЯ»
Если наша литература, как мы говорим и как оно есть на самом деле,— литература памяти, то с этой книгой в нее добавляется сейчас одно из интереснейших произведений.
По внешней своей структуре это роман об Екатеринодаре (теперешнем Краснодаре) и о кубанском казачестве, которому еще Екатерина даровала привилегии, выделившие кубанцев в силу их пограничного положения и императорского благоволения к ним в особый отряд служилых людей, до последних дней царской власти составлявших своей отборной частью конвой его величества. Поэтому в романе есть все — и Царское Село, и приемы казачьих депутаций императором и членами императорской семьи, и российские юбилейные торжества, и празднества, связанные с историей казачества, и гражданская война, и исход с отступающими частями Добровольческой армии в зарубежье, и нелегкая, мытарская жизнь там, вдали от Родины, а больше всего — многослойная и красочная жизнь в столице Екатеринодаре, военный и будничный быт кубанцев. От высочайших особ и до простых казачек и монашек, от чистопородных великих князей, от знаменитостей искусства и политики до греческих и турецких иммигрантов, содержателей обжорок и притонов — круг действующих лиц в романе. От начал Запорожья и до наших дней — время его действия. От Парижа и до Хуторка в степной глуши — место действия.
И все это в воспоминаниях. Это роман-воспоминание не только по материалу, но и по форме его изложения, когда автор отказывается пользоваться ширмами, скрывающими ветхие углы. «Из воспоминаний», «Из записок», «Из дневника» — обычное начало глав. «На этом записки обрываются» — случающийся их конец. Люди говорят, перебивая друг друга, нередко об одних и тех же событиях говорят вразнобой, при повторении не обязательно прежнее воспоминание накладывается на новое. «Что ни возьми, одни воспоминания»,— замечает один из самых говорливых и охочих до прошлого героев романа.
Здесь говорят не только герои. Надпись на могильном камне: «О люди! Что теперь вы, то и мы были некогда; что теперь мы, то и вы скоро станете». Даются объявления о смерти, документы и манифесты, письма, записки, стихи, газетные заметки, слухи. Чисто авторские страницы, где Виктор Лихоносов является в полное свое замечательное лирическое перо, то и дело перемежаются хроникой. И опять вступают в свою роль герои. «Будем же вспоминать! — приглашает автор.— Всякое время пройдет, и всякому человеку придется оглядываться назад, туда, где уже нет никого». Он зовет к воспоминаниям с настойчивостью и нетерпением, с тревогой, что еще несколько лет, и не останется людей, способных дать важные свидетельства в пользу истины. Верно, что «история и время не сразу уносят своих свидетелей на кладбище», и все-таки нужно спешить, успеть в последний момент [601] запечатлеть то время, после которого наступили другие времена, потребовавшие других летописцев.
«Выбор героев зависел от самой судьбы: на страницы романа взошли те люди, которые пережили других и больше всего мне рассказали. Разумеется, не все, а некоторые. Я временами чернел от мысли, что стараюсь напрасно. И как все это связать, убедить современников в невинности своих взглядов, и нужно ли вообще оборачиваться так далеко назад? Погляди на нынешний день: не тени забытые, а живые люди трутся о твое плечо в трамвае, несут на горбушке деточек в сад, поют песни, горюют и читают в газетах о страшной войне во Вьетнаме. Я все это понимал и ничего с собою поделать не мог: жалко было и горожан, никем никогда не помянутых. Между тем нам никогда не проникнуться прошлой жизнью как следует. Тайна ее лежит на самом дне».
Должно быть, только наш писатель способен выставить как серьезную причину и право: «жалко было и горожан, никем никогда не помянутых». И возразить на эту наивную, казалось бы, и слабую причину нечем — столько в ее слабости и наивности силы и любви к человеку, столько милосердия и доступности, что она отчетливо воспринимается не как чудачество, а как изначальный закон, по которому безвестных где-то в каких-то глубинах отбирали для жизни и слова. Задумаемся, отрешившись на минуту от суеты и тесного движущегося круга сегодняшнего бытия: да разве может приходивший в жизнь и заслуживший добрую память уйти окончательно, не получив ответного отзыва в наших днях? Красиво это, справедливо, порядочно? И если не заноет от такой несправедливости душа — что стало с этой душой?
Обслуживающее наши движения припоминание — это не память, а только функция памяти со всем тем деловым, что есть в этом слове. Память — понятие духовное, она есть родительское продолжение в живущих, неустанный отбор и обережение лучших человеческих качеств, действующая доброта, единственно правильная ответственность за судьбу родной земли. Сколько в человеке памяти, столько в нем человека. Сколько памяти — столько жизни в прошлом и будущем. Одни начинают жить с Киевской Руси, другие и собственный недолгий праздник испортят грубым пиром. Из всех столпов любого государства память имеет самое большое и самое важное значение, и она должна быть первым гражданином государства. Народ велик не числом жителей, а животворной памятью, подвигающей к благим и безошибочным деяниям. Не только народы, но и цивилизации исчезали, если поколения живущих заражались эгоизмом и самостью.
Вот в чем прежде всего нужно видеть смысл этого романа, вот о чем наперебой и по-разному говорят его герои.
Нетрудно заметить, что в нем нет разделения на тех, кому играть роль и кому подыгрывать, кому изрекать истины и кому служить фоном для изрекающих. Да и сам роман — не роман в привычном обозначении жанра. Тут свободно, когда хотят, берут слово, без затруднений из героя превращаются в повествователя, переставляют с места на место времена. В нем не существует обычных строгостей «романного строя», действие вольное и широкозахватное. Даже автор здесь в двух ипостасях, как принято было в старой литературе: сначала якобы собирал воспоминания и писал один человек, а затем после его смерти дописывал и готовил рукопись к публикации другой. Казацкий язык звучит тут рядом с французским, грубоватые шутки соседствуют с изысканностью, старомодность с новейшими манерами. Чтобы [602] сказать окончательное слово, здесь возвращаются из небытия, сплошь и рядом возможны удивительные случайности и странные несоответствия. Герою на этих страницах позволяется говорить больше, чем автору, и в такие пускаться дебри многословия и пируэты острословия, которые обычному роману не выдержать. Это — как разлив, подхвативший всю ту жизнь, какая оказалась на его пути, со всеми водоворотами, зигзагами, омутами и возвратными путаными течениями.
Вместо Петра Толстопята, Дементия Бурсака, Калерии Шкуропатской, Василия Попсуйшапки, Луки Костогрыза, Акима Скибы и наказного атамана Бабыча в романе, вероятно, могли быть другие люди (они и вопринимаются не как созданные воображением автора герои, а как бывшие под собственными именами люди), но неизменным осталось бы их время. Теперь уже исчезнувшее время. Изчезнувшее? Но прошлое не уходит бесследно, в каждом из нас оно оставляет следы и протягивается дальше. У прошлого нет границ, его отменить нельзя. Забвение прошлого — несчастье и ужас для последующих поколений, когда принявшие забвение уподобляются зверям, на рассвете нового дня пожирающим мясо растерзанных стариков, а не принявшие — мучаются от неполноты и неисполненности, от укороченности и духовного плебейства своего поколения. До сих пор мы не можем изжить в себе язычество и до сих пор невольно, из природы своей, поклоняемся отмененным божествам — как же нам отменить то, что было всего лишь десятки лет назад?!
Бессомненно, главный герой этого романа — Память. Память — как вечность и непрерывность человека, как постоянное движение из поколения в поколение духовного вещества. Нельзя жить на земле, не помня, чем здесь жили прежде, не зная о трудах, славе, присяге и искренних заблуждениях наших предков. Не помня по именам самых знаменитых из них и праведных, чьими мыслями и заслугами мы продолжаем пользоваться как само собой разумеющимся, как извечно существующим, подобно творениям природы. Безымянное и беспамятное пользование — тоже воровство. Собственность, в чьих бы руках она ни была, должна иметь духовное наследование. Мы уверенней и сильней себя чувствуем, когда получаем не только власть над нею, но и право на нее, от этого мы становимся продолжительнее во времени и надежнее в своих внутренних связях. Наконец мы обретаем совесть, обретаем ее не на словах, а на деле, в принятом человеческом законоположении. Мы начинаем ощущать, что мы есть в полном движении времени.
Эти мысли невольно сопровождают чтение романа. О роли нашего поколения в ряду поколений, о мере возможного восстановления литературой и искусством нарушенной памяти, о наполнении жизнью минувших дат и событий. Вот для чего звучат и звучат, перебивая друг друга и боясь не досказать, голоса под аккомпанемент: «и придут времена, и исполнятся сроки» — да еще: «Так проходит слава земная», под аккомпанемент трагического и комического, возвышенного и простого. Мы не истину в готовом виде получаем из этих воспоминаний, а жизнь, оставшуюся вслед за нею картину, из которой можно вывести часть истины. Память становится здесь материальным ощущением времени, людские судьбы рисуют его общую судьбу. И горькая правда настигает нас: самодовольство живущего — лишь по праву живущего, не умеющего слышать и понимать голоса.
Жили люди и были не последнего ума и сердца, совершая поступки во [603] имя Отечества, рассуждая о нем то с отрадой, то с горечью, но с неизменной надеждой. Всякий поступок оставляет после себя след. А мысль? Она тоже, бессомненно, участвует в поступке, но сама она, неподхваченная и незаписанная, но составленная искренней душой, достигающая порой абсолютной верности, услышанная абсолютным слухом, высвеченная божественным озарением,— не пропадает ли она, сказанная в «полевых условиях» жизни, навсегда, так что людям затем останется искать только ее слабые подобия? Задумывались ли мы когда-нибудь над тем, что в трагические моменты истории, каковым явилась в нашем народе гражданская война, человеческое откровение, доходившее в страданиях до последних пределов, наполовину безвозвратно утеряно? Не произошло ли то же самое в Отечественную войну? Единицы вели записи своих чувств, наблюдений и дум, десятки могли после воспроизвести их приблизительный и смутный след, главное же богатство (не есть ли это также национальное богатство?) кануло окончательно.
Мысль, кажется, не имеет воспоминания, но такова общая температура этого романа, что верится — имеет, что многие и многие рассуждения о Родине и ее судьбе дошли до нас в собственном звучании, в документальной записи. Испытываешь сквозь искушенную душу невольное чувство радости, что сохранилось и спустя много лет отыскалось въяви доносящееся теперь, как эхо, многоголосое незатихшее слово отстрадовавшихся кубанцев.
Да нет же: и мысль, и чувство, конечно, имеют воспоминания, только, как и для поступка, для этого им нужны весомость и полнокровность, первоточность и страсть, способные произвести сильное впечатление. Наверное, благодаря неверному воспоминанию и появилось — «мысль изреченная есть ложь». Но это уже другой разговор, не имеющий отношения к роману.
Строгий и придирчивый критик легко отыщет в этом романе недостатки. Прежде всего он обратит внимание на много- и велеречивость героев и экипировку действия, подвигающегося не боевым казацким порядком, а растянувшимся обозом, подбирающим всякого, кто в него попросится. «Зачем,— с справедливым укором спросит он,— столько внимания и страниц было уделять, например, Олимпиаде Швыдкой, женщине сомнительной репутации и непредсказуемых поступков, вплоть до того, что, отмолившая тяжкие свои грехи и почившая, вновь появляется она в наше время в верхнем полукруглом окне двухэтажного краснодарского дома? Ну, коли как реликвия рода и потребовалась Олимпиада Швыдкая, то к чему бабушки бабушек со своими полусвязными воспоминаниями, к чему приблудшие к действию, рыскающие по степи казаки, ищущие наказного атамана, чтобы выпросить у того всего лишь бычка симментальской породы, к чему напрочь забытые ныне знаменитости в своих и чужих пределах, сгружающие и без того заполненный роман и замедляющие его движение?»
И он будет прав, этот взыскательный критик. Он будет прав — если смотреть на роман как на должное существовать в строгих литературных нормах обычное произведение. Если смотреть на него как на работу, которой не удалось стать обычной, или, правильнее сказать, выдающейся в обычном. Но этот роман с самого начала так был задуман и так создавался, что он сразу вышел из ряда, и законы этого ряда к нему применять бессмысленно. Не из тщеславия или литературного бунта он вышел, а из сознательного и открытого доступа в себя всякого, кому есть что сказать даже как бы и по [604] сказанному — для подтверждения сказанного или сомнения в нем. Автор заботился не о стройности фигуры своего романа, а о полноте памяти, о воссоздании по возможности всех живых связей.
Эта книга с нарочитой, с небывалой, пожалуй, свободой рассказывания, когда меняются и стили, и голоса, и языки, когда блестящее по своей выразительности перо автора, каким оно является нам в некоторых главах, со вздохом обрывает себя и переходит на документальную запись времени. Здесь властвует Время, властвует везде и во всем, над человеком и над землей. «И кто слыхал бы их в то прохладное утро осени 11-го года, все равно не узнал, кто они, откуда, зачем движут... Ранней степью простучали на подводе какие-то люди и исчезли. Как всегда, как во веки вечные. Проехали, и нету их до сего дня...» — вот для чего, вот для какого звука и слуха в безвестности понадобились автору три казака, едущие степью с заботой о бычке симментальской породы.
Образ Времени даже и в широком ограничении для человека, вышедшего за его пределы, имеет обычно монументальные и застывшие черты. Хотим мы того или не хотим, но первое двадцатилетие нынешнего века существует в нашем сознании в виде определенных символов — ушли люди, отзвучали голоса, погасли страсти, одни деяния живших тогда мы признали, от других отказались. Мы смотрим на него с собственных позиций и с мерками собственной жизни, а оно было полнее, живее, величественнее, проще и трагичней. Отражаясь в человеке и его истории, оно тем самым имело начала и концы, продолжения и притоки, ошибки и заблуждения, само же по себе оно было могущественным, бесконечным и единственным течением.
Растерянно и восторженно прислушиваясь к космическому движению Времени с тщетой человека установить в нем себя — «Ранней степью простучали на подводе какие-то люди и исчезли. Как всегда, как во веки вечные. Проехали, и нету их до сего дня...», Виктор Лихоносов предпринимает героические усилия восстановить земной облик Времени не в столь отдаленном его течении по кубанским пределам. И это ему удается вполне. Читатель не однажды с удивлением поймает себя на том, что он словно бы не читает, а прислушивается: так звучало Время. Роман впустил в себя множество голосов, и по ним, а не наоборот, отыскивал он своих героев. Отыскивал иногда за тридевять земель, чтобы по возможности составить полное свидетельство принадлежавшей им эпохи. Судить или возвеличивать их — это уже наше дело, однако кроме нашего приговора они уже судимы и возвеличены Временем.
Открытая озвученность романа произведет, вероятно, на читателя необычное и непривычное впечатление и вызовет споры и противоположные суждения. Но отказать ему в беспристрастности и правде нельзя. Эта правда шире и вместительней, чем мы привыкли видеть ее в книге, она не есть готовое, художественным словом сказанное мнение, а только данные для мнения, которые потребуют немалой духовной и исторической подготовленности, немалого нравственного труда при восприятии и для сердечного отзыва.
Быть может, главное в романе: человеческий отзыв на человеческую жизнь, право каждой жизни и каждого времени на неиспорченную память.[605]
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие ... 4
Нет ли там кого? Пролог … 7
Часть первая. Старые открытки
По старому стилю ...13
Официальный отдел ...14
Печаль стариков ...18
Небесный голосок ... 33
Наш маленький Париж ... 39
Панский кут ... 42
Одна сотая святого золота ... 48
Обжорка Баграта ... 53
«Чашка чая» ... 57
Политика ... 65
Quel vin — tel amour … 67
Молодой человек ... 80
Великокняжеский самовар ... 92
В степи ... 102
1909 год ... 111
Стремление к личному счастью … 113
Встреча у Бурсаковских скачек … 118
Ничего не происходит ... 126
1910 год ... 133
Часть вторая. Праздники и частная жизнь
Собственный его величества конвой ...137
Конь без хвоста ... 140
Приезжая особа ... 153
С какого благополучия? ... 161
Неизвестные лица ... 168
На пароходе ... 174
Тамань ... 180
У памятника предкам ... 190
Старая хлеб-соль не забывается ... 196
Первое несчастье ... 209
В Ливадии ... 223
Августейший атаман ... 231
1912 год ... 237
Разоблачение ... 239
Екатеринодар, Гимназическая, 77 ... 242
Наказание ... 249
Бурсак и Шкуропатская ... 253
1913 год ... 261
Часть третья. Отблески войны
Официальный отдел ... 273
Неделя белья ... 275
На все царская воля ... 280
Явление царя народу ... 286
В Царском Селе ... 297
У отца с матерью ... 306
Никто не любит бедность ... 315
Так проходит слава земная ... 331
Своя власть ... 347
С какого благополучия? ... 349
Скитания ... 354
Часть четвертая. Тризна (Эпизоды гражданской войны)
Чьи дневники? ... 363
Из дневника Манечки Толстопят ... 364
В обозе ... 366
Дневник Манечки Толстопят ... 374
Оборона Екатеринодара ... 377
Дневник Манечки Толстопят ... 378
Эпопея Попсуйшапки ... 380
Бои ... 391
Рассказ Акима Скибы ... 392
Станичный приговор ... 403
Екатеринодар, 1919 год ... 404
Эпопея Попсуйшапки. (Продолжение) ... 410
По дороге на Иерусалим ... 416
Хиромантка предсказывает настоящее и будущее ... 420
Исход ... 427
Часть пятая. Жизнь прошла
Цифра 7 ... 431
Чудеса времени ... 434
Чай с церемонией ... 438
Со скрижалей сердца ... 447
Письмо Д. П. Бурсака ... 451
Первая открытка из Краснодара в Париж ... 452
Как во сне ... 453
Святые и грешные ... 460
«А на что оно вам?» ... 475
Любовь и смерть ... 490
Одиночество ... 495
Это жизнь ... 504
Разговор до утра ... 514
Забытая история любви ... 539
Так было ... 543
Последний раз ... 555
Из моего дневника ... 556
Игра в покер ... 566
Мой дневник ... 580
Их уже нет ... 581
Ненаписанные воспоминания ... 585
Город невест. (Послесловие) ... 592
Валентин Распутин. «Что ни возьми, одни воспоминания» ... 601