ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ
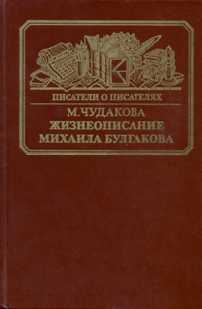
Мариэтта Чудакова
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
МОСКВА «КНИГА» 1988
Вступительная статья Фазиля Искандера
Рецензент С. Г. Бочаров
Разработка серийного оформления: Б. В. Трофимова, А. Т. Троянкера, Н. А. Ящука
Общественная редколлегия серии: Ю. Гениева, Д. А. Гранин, А. М. Зверев, Ю. В. Манн, Э. В. Переслегина, Г. Е. Померанцева, А. М. Турков
Дополнительная вычитка и форматирование – Александр Продан
Чудакова М. О.
Жизнеописание Михаила Булгакова. — 2-е изд., доп. — М.: Книга, 1988. — С. 672.
Первая научная биография выдающегося советского писателя М. А. Булгакова — плод многолетней работы автора. Множество документов, свидетельств современников писателя дали возможность автору не только скрупулезно воссоздать вехи жизни Булгакова, но и его творческий облик. Книга написана в яркой художественно-публицистической манере. Жизнь писателя дается на широком историческом фоне эпохи, ее литературной и социальной жизни.
Для широкого круга читателей.
ISBN 5-212-00075-0 © Издательство «Книга», 1988
УРОКИ МУЖЕСТВА
Насколько я знаю, эта книга Мариэтты Чудаковой — первая научная биография Михаила Булгакова. Ко многим фактам, которые были обнародованы благодаря ее усилиям («Архив М. А. Булгакова», 1976), трудам других исследователей, теперь добавляются новые, а главное, они выстроились в трагическую, но ясную линию жизни.
Что было основным в жизни этого веселого, доброго, сильного человека? Борьба, а точнее сказать — сопротивление. Борьба эта была ему навязана бюрократией, и Булгаков, сохраняя достоинство мыслящего человека, вынужден был принять бой.
Булгаков никогда не выдвигал и не защищал антисоциалистических идей, хотя именно в этом обвиняли его тогдашние демагоги. Он защищал святое для художника право на свой взгляд, свой ум, свое воображение. Он защищал право художника быть самим собой, то есть такое право, без которого художник перестает быть художником.
Хорошо, что Мариэтта Чудакова поименно называет критиков, хуливших Булгакова. Это была странная борьба. Его ругали в печати, а ответить своим критикам по условиям тогдашнего времени он не мог. Как у птицы, которую бьют влет, у него не было никакой защиты, кроме крыльев творческого воображения.
Не успевала затихнуть ругань по поводу старой пьесы, как появлялась новая. И эта, новая, была такая же талантливая и казалась особенно дерзкой, потому что в ней не было ни малейшего оттенка учета вульгарно-социологической критики. Это воспринималось как издевательство. В высшем смысле так оно и было.
Как, он еще жив? Он еще пишет?! И теперь новая критика, ничуть не поумнев, становилась еще злее, еще беспощадней.
Горько и поучительно следить за извивами этой неравной борьбы. Воздушные замки надежд обрушиваются с трагиче-
5
ской реальностью собственного дома: разрешить, запретить, разрешить, запретить... А жизнь проходит.
Что двигало замыслом его последнего поистине великого романа, опубликованного уже в наши дни?
«Мастер и Маргарита» — это плод отчаянья и выход из отчаянья сильного человека. Это философский итог жизни и это духовное возмездие бюрократии, навеки заспиртованной в свете вечности. Как в поэме великого итальянца, здесь каждый навеки пригвожден к своему месту. Поражает благородная завышенность требований к художнику, то. есть к самому себе. Вероятно, так и должно быть.
Где мера страданий, необходимых художнику? Та мера, которая топчет его, как топчут виноград, чтобы добыть вино жизни. Страдания, боли, испытанных Булгаковым, хватило на великий роман, но оказалось избыточно для жизни.
Последние страницы биографии читаются с особым волнением. Полуслепой, умирающий писатель продолжает диктовать жене, вносит в роман последнюю на виду у смерти правку. Кажется, только пафос долга продлевает его последние дни. Роман закончен, Михаил Булгаков умирает.
Рукописи не горят там, где художник сам сгорает над рукописью.
Фазиль Искандер
Памяти родившихся в девяностые годы XIX столетия
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Начиная с середины 1960-х годов, когда была издана большая часть драматургического наследия Булгакова и вышел однотомник, включивший значительную часть его прозы, имя писателя, хорошо известное до этой поры главным образом историкам литературы и зрителям пьесы «Дни Турбиных», привлекло интерес широкого отечественного читателя. Когда же в конце 1966 — начале 1967 г. был опубликован и вслед за тем переведен на многие языки его последний роман «Мастер и Маргарита», творчество Булгакова получило мировой резонанс, изменив в определенной степени представление о русской прозе 1930-х годов.
В те самые годы, когда выходил роман, у вдовы писателя Е. С. Булгаковой был приобретен государством архив Булгакова, сохраняемый ею более четверти века после смерти мужа, и силою вещей автору данного жизнеописания выпала задача разбирать этот архив и делать его научное описание. Творческая работа писателя открылась тогда в ее неизвестной до этого времени полноте, многие биографические и литературные факты были в процессе разбора и описания рукописей и иных документов впервые введены в культурный обиход.
Весьма важными для уяснения особенностей личности и биографии писателя были беседы с Еленой Сергеевной Булгаковой во время наших многочисленных встреч 1968— 1970 г. в ее квартире, в Москве, на Суворовском бульваре, столь памятной исследователям и почитателям Булгакова.
Стремясь пополнить и архив писателя, и знание его биографии, в то время страдавшее очень существенными пропусками, мы разыскивали его родственников и друзей, постепенно расширяя круг поисков. Так были записаны сотни страниц бесед с современниками писателя, очевидцами его жизни.
7
Конечно, воспоминания современников, записываемые во время устных бесед, нередко бывают осложнены многими дополнительными факторами, вольно или невольно деформирующими информацию, в том числе, скажем, осторожностью в высказывании религиозных или иных убеждений, в освещении тех или иных событий и их восприятия. Эта столь характерная для соотечественников старших поколений, столь понятная (и оттого не менее печальная) осторожность, даже в отношении своих воззрений очень далекого времени, изменившихся в течение жизни мемуариста, сказывалась и в том, как очерчивалась личность Булгакова. Между тем кажутся важными любые штрихи портрета столь замечательного человека, каким является наш герой: ведь только живая, подвижная, меняющаяся в течение жизни совокупность этих штрихов, в том числе утрированность одних качеств и притушенность других, поможет нам выпукло представить себе личность автора «Мастера и Маргариты». Здесь мы следуем за тем, кто еще в середине прошлого века разработал новый для своего времени и актуальный и плодотворный и сегодня подход к биографии — за Павлом Васильевичем Анненковым (которого читал и любил Булгаков) , остающимся до сей поры лучшим биографом не только Пушкина, но и Гоголя, Белинского, Тургенева — всех, о ком оставил он свои воспоминания. «Прежде всего хотелось бы нам, чтобы навсегда отвергнута была система отдельного изъяснения и отдельного оправдания всех частностей в жизни человека, — писал он, — а также система горевания и покаяния, приносимого автором за своего героя, когда, несмотря на все усилия, не находится более слов к изъяснению и оправданию некоторых явлений». Иными словами, П. Анненков предостерегал от изолированных объяснений и оправданий отдельных поступков и качеств, призывая исходить из целостного характера творца и творческого итога жизни, не замещая «старание понять и представить живое лицо легкой работой вычисления — насколько лицо подошло к известным общепринятым понятиям о приличии и благовидности и насколько выступило из них. При этой работе случается, что автор видит прореху между условным правилом и героем своим там, где ее совсем нет, а иногда принимается подводить героя под правило без всякой нужды, только из ложного соображения, что герою лучше стоять на почетном, чем на свободном и просторном месте» (подчеркнуто нами. — М. Ч.). Мы стремились, во всяком случае, не подводить нашего героя под правило, а понять по возможности его «живое лицо».
8
В этой книге широко использованы записанные нами неопубликованные воспоминания вдовы писателя Е. С. Булгаковой (1893—1970), первой его жены Татьяны Николаевны Кисельгоф (1889—1982), сестры Надежды Афанасьевны Земской (урожд. Булгаковой; 1893—1971), двоюродной его сестры Александры Андреевны Ткаченко, а также материалы многочисленных бесед с друзьями и знакомыми писателя начиная с гимназических лет до последних дней его жизни. О многих фактах жизни и творчества Булгакова здесь рассказывается впервые. Разумеется, для целей данного жизнеописания были важны и полезны работы советских и зарубежных исследователей, число которых за двадцать лет достигло весьма внушительной цифры.
Следует пояснить — мы пишем о человеке, который почти не оставил прямых высказываний на важные для каждого биографа темы — от политических до религиозных. Это не исключительный, но достаточно редкий случай; мы хотели бы, чтобы наш читатель отдавал себе в этом отчет. Все, что относится к тому, что называют взглядами человека, биографом Булгакова должно реконструироваться только по косвенным данным. В этом смысле особенно драгоценны были материалы, связанные с детством и отрочеством — временем формирования личности. Здесь важны были и самые косвенные свидетельства — такие, например, как присланные нам в 1977 году Екатериной Петровной Кудрявцевой ее воспоминания об отце, Петре Павловиче Кудрявцеве, с 1897 года занимавшего кафедру истории философии в Киевской духовной академии. Она писала нам, что в ее мемуарах «нет даже упоминания о писателе или его родителях», она справедливо поясняла, однако, что ею охарактеризован не столько «быт профессорской среды того времени (а писатель рос как раз в семье профессора Духовной академии), как — в основном — та культурная, интеллектуальная, моральная обстановка, которая и способствовала до известной степени формированию его «внутреннего» образа. Ведь Булгаков не только большой художник, но и писатель редкой широты, какой-то «раскрепощенности мысли», если можно так выразиться, а ведь все это формируется у человека — в его сознательной или подсознательной сфере — с детства».
Нам всегда казалось, что исследователь литературы и общества нашего времени должен порываться к пониманию истинной картины, независимой от плюсов и минусов, расставленных задним числом, и что только в этом может выразиться дань уважения биографа к большому писателю, над
9
жизнью которого он берется размышлять и решается сообщать читателю результаты своих размышлений.
Булгаков предстал перед своими читателями четверть века спустя после смерти, в середине шестидесятых годов. Он входил в отечественную культуру на излете общественного подъема, уже переходившего в те годы в некую судорогу; отсюда — и некоторая судорожность в тогдашнем этапе освоения его биографии и творчества, чувствующаяся до сего времени. Перед многими Булгаков предстал как вожделенный, давно искомый образец, объект веры и поклонения. При этом разные слои общественности приписывали ему собственные ценности, им в его лице и поклонялись.
Общество нуждалось в легенде — и получило или сформировало ее. Отсутствие даже первоначального очерка биографии и при этом свойства самих произведений, впервые прочитанных, — подчеркнутая автобиографичность «Театрального романа», простор для прямых и косвенных биографических отождествлений, открытый автором в романе «Мастер и Маргарита», — к этому толкали.
Готовые оценки шли с разных сторон. Уже вне всякой веры и поклонения, а в сугубо прагматических целях они формировались и навязывались и официальными инстанциями, задачи которых были сдерживающие: требовалось притушить разгоравшееся общественное чувство, очевидное предпочтение «нового» писателя 20—30-х годов — тем его современникам, чей авторитет был давно узаконен и поддерживался специальными усилиями. Булгакова стремились посмертно усыновить — по уже сложившемуся обряду или сценарию; его биографии придавали удобные в обращении очертания, мало имевшие отношения к действительным фактам. Навстречу этому, в соответствии со структурой социальной ситуации, в немалой мере шла и общественность, в том числе литературная и научная среда. Биография писателя, еще только формируемая, тут же деформировалась — ее приспосабливали к нуждам издания его наследия, приближение которого к читателю шло с огромными трудностями. Возобладал утилитарный подход к биографическому факту. Слово о писателе получало значение какого-то рычага, при помощи которого двигались некие косвенные по отношению к его биографии дела.
Эта общественная привычка к доопытным суждениям о биографии и личности писателя и сегодня создает для его биографа некоторые трудности. Читающие и любящие Булгакова свыклись не только с легендарным представлением о нем, но и с косвенным, двусмысленным способом изложе-
10
ния его биографии — вполне в соответствии, впрочем, со сложившимся за минувшую четверть века аллюзионным способом повествования об отечественной истории. Поэтому считаем необходимым и в то же время возможным для себя предупредить читателя этой книги — он не должен искать в ней аллюзий, не должен пытаться читать за текстом. Автор этой книги пытался воплотить в прямом слове то, что хотел предъявить своему читателю.
Это относится и к свидетельствам современников о тех или иных чертах личности или убеждений писателя на разных этапах его жизни — независимо от того, «нравятся» ли эти черты автору книги или ее читателю, — да и ко всему остальному. Там, где не удавалось достигнуть ясности для уверенных суждений об отношении писателя к тем или иным проблемам, — там и оставлена эта неясность, не восполняемая биографом искусственно.
Вообще в книге не участвует вымысел, давно завоевавший себе широкие права в повествованиях о биографии писателя. Автор этой книги полагает, что повествования промежуточного жанра, строящиеся по типу «Жизни замечательных людей» между беллетристикой и наукой, в немалой мере себя исчерпали. Мы считали необходимым строить биографию только на фактах, четко обозначая границу между ними и гипотезой, стремясь и тут всякий раз не скрывать от читателя большую или меньшую степень ее обоснованности. Без догадок не обойтись, да и не нужно, — важно не выдавать их за нечто уже доказанное или само собой разумеющееся.
Герой этой книги — человек, не только думавший о своей посмертной биографии, но — говоривший о ней с друзьями и близкими, размышлявший о ней вслух, ее готовивший; человек, немало думавший о соотношении легенды, вымысла и факта в биографиях исторических личностей. Е. С. Булгакова любила повторять его слова, что о каждом крупном человеке складываются легенды, но о каждом — своя, особенная, не похожая на другие. Бытование этих легенд — непременная часть культуры, и смешон был бы тот, кто вознамерился бы с ними покончить.
Однако тот, кто берется писать биографию, обязан делать источниковедческие усилия, чтобы отделить легендарное от фактического.
За двадцать лет все мы много лучше узнали биографию Булгакова, чем в год печатания главного его романа. Но что мы знаем о его личности?
Каким он был? Веселый. Артистичный. Блестящий. Его
11
повседневность, его домашняя жизнь не была похожа в своих внешних формах на житие строгого и замкнутого подвижника — подвижническим был внутренний смысл этой жизни.
Веселясь, играя, перемещал он черты повседневности в создаваемые им художественные миры. «Вслед за дамой в комнату входил развинченной походкой, в матросской шапке, малый лет семи с необыкновенно надменной физиономией, вымазанной соевым шоколадом...» («Театральный роман»). Домашние смеялись—это был верный портрет младшего сына Елены Сергеевны. «Старший, Женечка, обижался, — рассказывала она нам в один из ноябрьских дней 1969 года, — что Сережка есть в книгах Михаила Афанасьевича, а его нет. — Знаешь, Женя, это можно, — серьезно отвечал Булгаков, — но денег стоит! Если, например, я напишу: «Мимо скамейки, где сидела Маргарита, прошел молодой человек», — про тебя напишу, то это будет стоить — три рубля. Если напишу — «красивый молодой человек» — это уже на пять рублей. А если — «какой красивый! — подумала Маргарита», то это — десять рублей!».
Каким он был? Замкнутый. Закрытый. Не терпящий фамильярности. Высоко ценил дистанцию в общении, умел ее поддерживать. Раскрывался, и то, видимо, не очень, только узкому кругу ближайших друзей.
«...Порою мнительный в мелких обстоятельствах жизни, раздираемый противоречиями, он в серьезном, в моменты кризиса не терял самообладание и брызжущих из него жизненных сил, — писал в 1940-м году П. С. Попов в первом, оставшемся неопубликованном очерке биографии писателя — ирония у него неизменно сливалась с большим чувством, остроты его были метки, порой язвительны и колки, но никогда не коробили. Он презирал не людей, он ненавидел только человеческое высокомерие, тупость, однообразие, повседневность, карьеризм, неискренность и ложь, в чем бы последние ни выражались: в поступках, искательстве, словах, даже жестах. Сам он был смел и неуклонно прямолинеен в своих взглядах. Кривда для него никогда не могла стать правдой. Мужественно и самоотверженно шел он по избранному пути».
Автор этой книги глубоко благодарен близким, родным, друзьям и современникам Булгакова, беседы с которыми только и давали возможность хотя бы в какой-то степени почувствовать личность того человека, который мог быть нашим современником, но, однако, его облик, пластику не запечатлел, кажется, ни один кинокадр.
12
Личность эта могла появиться в книге (если все-таки появилась) только на пересечении разных свидетельств о ней — и это не скрыто в самом построении нашего повествования.
«Жизнь и творчество» — привычное сочетание слов скорее обозначает проблему, чем предлагает ее решение.
Автором этой книги избран путь последовательного жизнеописания — о творчестве говорится лишь в той мере, в какой возможным оказывалось увидеть и проследить его более или менее непосредственно явленные связи с биографическими фактами.
13
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Киевские годы: семья; гимназия и университет. Война. Медицина.. Революция.
I
И отец, и мать Булгакова были родом из Орловской губернии. «Мы были колокольные дворяне, — вспоминала сестра писателя Надежда Афанасьевна Земская, — оба деда — священники; у одного было девять детей, у другого — десять».
Дед со стороны матери, Михаил Васильевич Покровский, сын дьячка, был протоиереем, настоятелем собора в городе Карачеве Орловской губернии. На сохранившейся фотографии 1880-х годов он смотрит на нас прямым, открытым взглядом. Лицо молодое, как и у попадьи Анфисы Ивановны (урожденной Турбиной). На фотографии она, как и муж ее, сидит, но и так видно, что женщина статная, с гордо посаженной головой, обвитой косой. Здесь же и все девять детей — старший сын Василий, студент Военно-хирургической академии в Петербурге, рано умерший, старшая дочь Ольга стоит, положив руку на плечо брата; гимназисты Иван и Захар. Здесь же мальчик лет девяти — будущий известный московский врач Николай Михайлович Покровский — с ним впоследствии многие годы будет поддерживать племянник-писатель родственные отношения и далее сделает его героем одной своей повести... И рядом, еще младше, Михаил — тоже будущий врач, чье лицо мы не раз увидим на фотографиях семьи Булгаковых в Киеве; и маленький Митрофан — будущий статистик. А на руках у няньки — Александра, в замужестве Бархатова, и тут же — девочка лет двенадцати с очень серьезным личиком, будущая мать писателя.
Дед со стороны отца, Иван Авраамович Булгаков, был много лет сельским священником, а ко времени рождения внука Михаила — священником Сергиевской кладбищенской церкви в Орле. Бабушка Олимпиада Ферапонтовна стала крестной матерью Михаила Булгакова.
Отец писателя Афанасий Иванович Булгаков родился
14
17 апреля 1859 года, учился сначала в Орловской духовной семинарии, а потом в Киевской духовной академии (1881 — 1885); затем два года учительствовал — преподавал греческий язык в Новочеркасском духовном училище. С осени 1887 года — доцент Киевской духовной академии, сначала — по кафедре древней гражданской истории, а спустя год с небольшим — по кафедре истории и разбора западных исповеданий; в 1890—1892 годах одновременно преподавал в Институте благородных девиц, а с осени 1893 года исполнял должность киевского отдельного цензора — цензуровал книги на французском, английском и немецком языках. В 1890 году А. И. Булгаков женился на учительнице Карачевской прогимназии Варваре Михайловне Покровской. 3 мая 1891 года у них родился первенец. При крещении, происходившем 18 мая в Киево-Подольской Крестовоздвиженской церкви — ее можно увидеть и сегодня, если, спускаясь на Подол, свернуть на Воздвиженскую, — ему дали имя Михаил — скорее всего в честь хранителя города Киева архангела Михаила. Это подтверждается тем, что в семье Булгаковых его именины отмечали не в один из нескольких возможных по святцам дней, более близких к началу мая (скажем, 7 (20) мая — день рождения Михаила Улумбийского), а 8(21) ноября, в день архангела Михаила.
Единственным ребенком Михаил себя не запомнил, сразу — старшим братом: ему не было и трех лет, а у него было уже две сестры — в 1892 году родилась Вера, в 1893 — Надежда. В 1895 году родилась и третья сестра — Варя. А в октябре 1898 года появился Николка. И в год, когда Михаил отправился в приготовительный класс, — Ваня (1900).
В это лето родители стали строить дачу. Надежда Афанасьевна Земская рассказывала нам в 1969 году семейные предания: «Когда родители поженились, долго колебались, как поступить с маминым приданым — покупать ли дом в Киеве (может быть, в Лукьяновке) или дачу». В 1899 или 1900 году были куплены две десятины леса—в Буче, в 29-ти верстах от Киева по Юго-Западной дороге. Решили строить там дом — «снимать для такой семьи было и дорого, и трудно...» В первое лето 1900 года на дачу ездили через Пущу-Водицу: последняя остановка трамвая, потом на лошади или пешком. На следующий год туда провели железную дорогу; следующая станция после Бучи — Ворзель. От станции до дачи было около двух верст... Выстроили одноэтажный дом в 5 комнат, с большой кладовой, с двумя верандами. Было много посуды, ее оставляли на зиму, в город
15
не возили. Летом отец приезжал из Академии, снимал сюртук, надевал косоворотку и соломенную шляпу и шел корчевать пни на участке, который отвели под огород и фруктовый сад, — посадили только хорошие сорта яблок, слив; груш сажали мало. ...На пруду была плотина, стояла мельница и рядом жили четыре брата-украинца. Они были мельники. И хутор их так и назывался «Мельники», с ударением на конце; около версты от Бучи. Туда ходили купаться — к Мельникам...»
В памяти детства — той, которая опускается на самое дно человеческой личности, которая и не память уже, а некое неделимое ядро этой личности, — осталась и просторная дача в Буче, где не было тесноты, всем доставало места, где царило родственное и дружеское единение и согласие, осталась и залитая солнцем роскошная зелень украинского лета. (Не потому ли впоследствии никогда не любил подмосковной дачной жизни? Зелень, наверное, казалась пыльной, и любое обиталище — тесным, убогим.)
18 августа 1900 года девятилетнего Михаила зачислили в приготовительный класс Второй гимназии; в гимназии этой учителем пения и регентом был младший (на 14 лет моложе) брат отца Сергей Иванович Булгаков, крестный отец младшего брата Михаила — Николая.
...Спустя восемьдесят лет, осенью 1980 года, нам посчастливилось познакомиться и беседовать с тогдашним соучеником Булгакова Евгением Борисовичем Букреевым. (Имя врача-кардиолога, лечившего несколько поколений киевлян, хорошо известно в городе, как и имя его отца, профессора математики Бориса Яковлевича Букреева, прожившего 104 года и в столетнем возрасте продолжавшего читать лекции в университете.) Невысокий, одетый со старомодной тщательностью, с серьезным лицом практикующего врача, Евгений Борисович начинал разговор с сомнений.
— Не знаю, чем я могу быть вам полезен. В друзьях я с Булгаковым не был — ни в Первой гимназии, ни в университете. Учились мы на одном факультете, но он ведь медицину забросил, как вы знаете, — говорил старый доктор с едва заметным оттенком неодобрения.
— Но некоторое время практиковал...
— Да, он был сифилидологом, а меня это совершенно не интересовало. Я с ним и в университете и позже совершенно не контагиировал...
Сама речь нашего собеседника уже восстанавливала связь с далекой эпохой, хотя он настойчиво повторял: «Вообще передать дух такого далекого времени — невозможно».
16
Единственный год, когда Булгаков с Букреевым были близки, — именно приготовительный класс Второй гимназии. Память старого доктора об этом времени — источник уникальный, и оттого любые мелочи приобретают ценность.
— Дружили ли? Да, мы были приятелями — шалили вместе. Он меня дразнил — Букрешка-терешка-орешка... Вот почему-то так. Вообще он был невероятный дразнилка, всем придумывал прозвища. В приготовительном у нас был учитель Ярослав Степанович, мы его звали за глаза «Вирослав». Он был, верно, болен туберкулезом — длинный, худой, часто кашлял. Тогда как-то не придавали этому значения — допускали к преподаванию в гимназиях даже с открытой формой... Преподаватель рисования был Борис Яковлевич. Мы звали его — Барбос Яковлевич. Тех, кто грязно пишет и плохо рисует, он называл — Марало Маралович!..
Так из полной тьмы, окутывающей для нас тот год, когда приготовишка Миша Булгаков с ранцем за плечами бежит утром во Вторую гимназию («Его водил кто-нибудь в гимназию? Вы видели его родных, прислугу?» — «Нет, никогда не видел. Мы все ходили одни»), начинают доноситься какие-то звуки, различаются отдельные слова и словечки.
Ровесник Булгакова Илья Эренбург, который тоже родился в Киеве, но детство провел в Москве, а в Киев лишь приезжал, вспоминал о городе: «В Киеве были огромные сады, и там росли каштаны; для московского мальчика они были экзотическими, как пальмы». Для мальчика, который жил в Киеве с рождения, каштаны были привычны, как тополя для москвича; для Булгакова, надо думать, отсутствие их в городах, где пришлось ему жить, ощущалось как пустота.
Писчебумажный магазин Чернухи на Крещатике («там продавали школьные тетради в блестящих цветных обложках; в такой тетради даже задача на проценты выглядела веселее»), кондитерский магазин Балабухи — в нем продавали сухое варенье («в коробке лежала конфета, похожая на розу, она пахла духами»). «Прохожие на улицах улыбались. Летом на Крещатике в кафе сидели люди — прямо на улице, — вспоминал Эренбург, — пили кофе или ели мороженое». Этот городской облик сохранился до самого начала войны, возможно и позже — почти теми же словами описывала его в одном из наших разговоров первая жена Булгакова Татьяна Николаевна: «Киев тогда был веселый город, кафе прямо на улицах, открытые, много людей...»
17
...Веселые, беспечные лица киевлян первого десятилетия века потом вспоминались Булгакову; он все не мог привыкнуть к хмурой озабоченной московской толпе двадцатых — начала тридцатых годов и, начиная пьесу о будущем — «Блаженство», — передал это ощущение намечавшейся было, исчезнувшей в окончательном тексте героине: «...Ваши глаза успокаивают меня. Меня поражает выражение лиц здешних людей. В них безмятежность. Родоманов. Разве у тогдашних людей были иные лица? Мария. Ах, что вы спрашиваете. Они отличаются от ваших так резко... Ужасные глаза».
22 августа 1901 года Михаила Булгакова приняли в первый класс Первой гимназии, прекрасное здание которой на Бибиковском бульваре, описанное потом в «Белой гвардии», сохранилось до сего дня в неизменном виде. Гимназисту Булгакову повезло — время благоприятствовало основательности обучения. Вспоминая об этом, Е. Б. Букреев, поступивший в ту же гимназию и в тот же год, но на другое отделение (сегодня мы сказали бы — в параллельный класс), писал нам 4 ноября 1980 года: «Прежде, чем отвечать на поставленные вами вопросы, разрешите ознакомить вас с общими изменениями, которые произошли в жизни средней школы около 1900 года. В девяностых годах решили произвести ряд перемен в Министерстве народного просвещения, и министром был назначен генерал Ванновский, который предложил органам просвещения проявлять в своей работе попечение и «нежное» отношение к ученикам средней школы, а также поднять уровень образования на более высокую ступень путем приглашения в среднюю школу преподавателей более высокой квалификации — профессоров университета».
Память не подвела гимназиста девятисотых годов. Действительно, в середине минувшего учебного года умер от раны, нанесенной 14 февраля 1901 года киевским студентом Карповичем, министр просвещения Н. П. Боголепов, жестоко подавлявший студенческие беспорядки (незадолго до покушения 183 киевских студента были сданы в солдаты). На смену ему и пришел П. С. Ванновский (которому еще в 1899 году были поручены расследование студенческих волнений и выработка предложений по их предотвращению) — ему принадлежали широко известные в ту пору слова о необходимости «сердечного попечения о школе».
Е. Б. Букреев прекрасно помнил, что «в Киеве для такого эксперимента была избрана Первая гимназия. И с 1900 года туда были приглашены для преподавания профессора из Киевского политехнического института и университета. Так,
18
например, естествоведение (совершенно новый предмет, ранее никогда не преподававшийся в средней школе) вел профессор Добровлянский, преподававший в Политехническом институте. Зав. кафедрой психологии и логики Киевского университета Челпанов преподавал в седьмых и восьмых классах психологию и логику (Г. И. Челпанов — профессор психологии и философии в Киевском университете с 1902 по 1906 год, позже — основатель и директор Московского психологического института. — M. Ч.). Его сменил доцент университета Селиханович...» Таким образом, преподавание было поставлено на университетский уровень; значение этого в последующей жизни выпускников гимназии трудно переоценить.
Булгаков учился на втором отделении, Букреев на первом, учителя у них были разные, но учитель пения и классный надзиратель был общий для всех классов — Платон Григорьевич Кожич. «Кожич, «Платоша», был регент церковного хора, — вспоминает Букреев, — очень милый, порядочный человек...» Это по меньшей мере второй (считая дядю Сергея Ивановича) уже регент в жизни мальчика Миши. Можно вообразить себе, как слово сначала слышится в доме, многократно произносится, потом персонифицируется в одном, другом человеке, — чтобы через много лет «вылепился из жирного зноя» тот, кто укажет Берлиозу на злосчастный турникет: «Прямо, и выйдете куда надо. С вас бы за указание на четверть литра... поправиться... бывшему регенту! — кривляясь, субъект наотмашь снял жокейский свой картузик».
Но будем слушать дальше Евгения Борисовича Букреева: «Латинистом был Субоч; мы пели ему:
— Владимир Фаддевич, Выпьемте, выпьемте!
Это потому, что он всем говорил — «Никогда не пейте!».
После революции, когда латынь стала не нужна, он быстро переквалифицировался на преподавателя арифметики.
В гимназиях был институт классных надзирателей. Это были полуинтеллигентные люди зрелого возраста. Один из них — лет под шестьдесят, голова, как яйцо... не то Лукьян, не то Лукьянович — был порядочный человек, как мы говорили, — не ставил под часы и вообще относился либерально. Брюнет, два верхних резца выбиты... Миша почему-то назвал его Жеребцом». Это был, несомненно, Яков Павлович Лукианов, прослуживший надзирателем с 1876 по 1910 год (возможно, и позже!); на фотографии преподавательского
19
состава гимназии 1910 года хорошо видна его «голова, как яйцо».
Так коридоры Первой гимназии заполняются призрачными, но все же в какой-то степени видимыми фигурами («Говорил Селиханович очень плохо, шепелявил. Всегда являлся на занятия в помятом, плохо вычищенном сюртуке. Брюки были бутылками, всегда взъерошен — небрежно причесан...»), озвучиваются фрагментами гимназического фольклора.
«Самый неприятный в гимназии был педель Максим. Какой-то выпуск пригласил его на прогулку и выкупал в Днепре. С тех пор его дразнили: «Максим-с, холодна ли вода в Днепре-с?» Он любил говорить на «-с». Булгаков, впрочем, тоже любил слово-ер: «виноват-с», «благодарю-с»... (Дальше мы узнаем, впрочем, о том, как в 1919 году Максим сыграет благородную роль в жизни одного из братьев Булгаковых... — М. Ч.)
Был еще Василий, швейцар, борец атлетического сложения. В праздничные дни он стоял у дверей гимназии в ливрее из синего сукна, расшитой галунами, в треуголке с булавой».
И двадцать лет спустя в «Белой гвардии» возникнет «четырехэтажным громадным покоем» гимназия уже иного времени — зимы 1918 года, и, свесясь с балюстрады, Алексей Турбин увидит внизу «белоголовую фигурку» на разъезжающихся больных ногах». «Пустая тоска овладела Турбиным. Тут же, у холодной балюстрады, с исключительной ясностью перед ним прошло воспоминание.
...Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхищении валила по этому самому коридору. Коренастый Максим, старший педель, стремительно увлекал две черные фигурки, открывая чудное шествие.
— Пущай, пущай, пущай, пущай, — бормотал он, — пущай, по случаю радостного приезда господина попечителя, господин инспектор полюбуется на господина Турбина с господином Мышлаевским. Это им будет удовольствие. Прямо-таки, замечательное удовольствие!
Надо думать, что последние слова Максима заключали в себе злейшую иронию. Лишь человеку с извращенным вкусом созерцание господ Турбина и Мышлаевского могло доставить удовольствие, да еще в радостный час приезда попечителя.
У господина Мышлаевского, ущемленного в левой руке Максима, была наискось рассечена верхняя губа, и левый рукав висел на нитке. На господине Турбине, увлекаемом правою, не было пояса, и все пуговицы отлетели не только на
20
блузе, но даже на разрезе брюк спереди, так что собственное тело и белье господина Турбина безобразнейшим образом было открыто для взоров.
— Пустите нас, миленький Максим, дорогой, — молили Турбин и Мышлаевский, обращая по очереди к Максиму угасающие взоры на окровавленных лицах.
— Ура! Волоки его, Макс Преподобный! — кричали сзади взволнованные гимназисты. — Нет такого закону, чтобы второклассников безнаказанно уродовать!
Ах, боже мой, боже мой! Тогда было солнце, шум и грохот. И Максим тогда был не такой, как теперь, — белый, скорбный и голодный. У Максима на голове была черная сапожная щетка, лишь кое-где тронутая нитями проседи, у Максима железные клещи вместо рук и на шее медаль величиною с колесо на экипаже...»
И эти же драки ребяческих лет живут в памяти другого бывшего гимназиста Первой гимназии. «Кишата — так называли гимназистов младших классов. Мы однажды избили двух восьмиклассников-братьев. Нас было человек восемьдесят... Все равно, когда один из братьев двинул как следует, — мы с него так и посыпались. На драку эту нас Михаил подбил. Но вот Паустовский (он учился в той же гимназии, но двумя классами позже. — М. Ч.) написал в своих воспоминаниях: «Где появлялся Булгаков — там была победа». Это преувеличение, — с точностью естественника замечает Евгений Борисович Букреев. — Он участвовал в драках, но каким-то особенным он не был. Вот был у нас такой гимназист Ипат. Патька — небольшого роста, но невероятной физической силы. Вот его всегда звали при драках, кричали: Патька, Патька! — и он действительно всегда обеспечивал победу... Но Булгаков был непременный участник драк.
Дрались на школьном дворе, часто устраивалась «конница», — те, кто послабей, забирались на плечи тех, что посильней. Один из сыновей профессора Духовной академии Голубева всегда был «конем», за что и получил постоянное прозвище «конинхен»...
Впрочем, после четвертого класса все это отступало на второй план.
«Переходя из четвертого класса гимназии в пятый, мы, можно сказать, начинали жить общественной жизнью. В четвертом классе, например (т. е. в 13—14 лет), полагалось непременно прочесть Бекля (так произносит наш собеседник) и Дреппера. В пятом классе мы начинали участвовать в разнообразных кружках — экономических, философских, религиозно-богословских. Булгаков никогда не участвовал
21
ни в одном из них, — определенно утверждает его соученик. — В пятом классе гимназии мы контагиировали уже с шестым, седьмым, восьмым. Кружки были общие для всех этих классов. В них участвовало обычно по 5—8 человек из класса. Но все это — вне стен гимназии, собирались только на дому. Кружками руководили непременно преподаватели гимназии. В кружке Селихановича разбирались литературные и философские вопросы — нужно было, например, в пятом классе изучать учебник по философии Виндельбанда. Булгаков не участвовал и в этом кружке, он был инертен в этом отношении... В пятом классе нас застал 1905 год. Мы, конечно, били стекла, швырялись чернильницами; Булгаков в этом участвовал — как во всех такого именно рода коллективных действиях... Конечно, было очень интересно забаррикадироваться и не пускать учителей на уроки! Мы выбирали также общественный совет гимназии — 1—2 человека от класса. Помню собрания на каких-то квартирах, валялись на постелях, курили... произносили зажигательные речи, — на этом все кончалось... Булгаков ни в каких советах, митингах, собраниях никогда не участвовал. Три-четыре недели в гимназии царило полное безвластие, полный хаос, потом все наладилось. Благодаря директору, Е. А. Бессмертному, никто из учеников не пострадал».
(Это немало, заметим в скобках. Не каждое среднее учебное заведение и не в каждую эпоху отечественной истории могло бы похвастаться таким поведением своего руководства по отношению к воспитанникам — и это при нажиме вышестоящих организаций *.)
Предшественником Бессмертного был Посадский-Духовской — «чрезвычайно масляная улыбка, масляные глазки», по определению Е. Б. Букреева; он был математик, а также автор печатных трудов по школьной гигиене, составитель сборников «Памяти Пушкина» (в трех томах; Киев,
* Нелишним, однако, считаем с благодарностью привести замечание, сделанное по поводу этого эпизода и нашей его трактовки читателем журнального текста «Жизнеописания» доктором физико-математических наук Р. И. Пименовым: «Неудачный пример, хотя мысль верная. Забастовки и демонстрации в гимназиях в 1905—06 были столь массовыми и упорными, что власть бывала благодарна, когда эти беспорядки кончались, ей было не до репрессий, превалировал страх спровоцировать продолжение бесчинств. Доказательство: от книги «Забастовки в средних учебных заведениях СПб», составил Ал. Пиленко, 1906, до пастернаковских строк: «А мы безнаказанно греку дерзим, ставим парты к стене, на уроках играем в парламент и витаем мечтой в нелегальном районе Грузин» (10 ноября 1987 г., Сыктывкар. 1900)
22
и «Памяти Гоголя» (Киев, 1902). Бессмертный, преподававший в гимназии древние языки, «был чрезвычайно точный человек. Про безобразия любил говорить «кавардак» и «верхоглядство». После 1905 года его заменили Немолодышевым, по странной случайности тоже преподавателем математики. Довольно угрюмый человек, медвежьей складки — широкоплечий, кривоногий. Миша его назвал Волкодав, и это прозвище за ним и осталось — жестковатый был». Новый директор, автор учебных курсов и задачников по геометрии, был почти на десять лет старше своего предшественника, перемещенного в августе 1907 года в Саратовскую гимназию.
Продолжим этот рассказ соученика и ровесника Булгакова, человека, резко отличного от него в ту пору по своим, хотя еще и полудетским, убеждениям.
— Я в 1905 году в пятом классе был убежденным анархистом, — рассказывает Е. Б. Букреев, — (каковым остаюсь, впрочем, и по сей день). У меня была лучшая библиотека в Киеве по анархизму, был весь Кропоткин. Тогда на Крещатике, недалеко от угла Фундуклеевской и Крещатика, на втором этаже была квартира зубного врача Лурье, и гости ная ее была отдана анархистам — там на столах везде лежала анархистская литература, и каждый мог приходить и читать.
Каков же был в те же самые годы гимназист Булгаков? Мы знаем уже — участник всех драк, не участник любых общественных сборищ.
— Вы должны знать, — продолжает Евгений Борисович, человек трезвого ума и очень ясной памяти, — что Булгаков в гимназические годы был совершенно бескомпромиссный монархист — квасной монархист. Да-да, так говорилось тогда — не только «квасной патриот», но и — «квасной монархист». (Напомним здесь, с какой прямотой говорит о своих убеждениях в 1918 году столь симпатичный автору герой «Белой гвардии»: «Я, — вдруг бухнул Турбин, дернув щекой, — к сожалению, не социалист, а... монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского». И когда пишущие о Булгакове комментируют эти слова так: «Важно отметить, что монархизм героев не автобиографичен. К семье Булгаковых все это никакого отношения не имеет» — здесь не позиция биографа, а энтузиазм поклонницы, желающей сказать как можно больше хорошего о любимом писателе).
Уже в гимназии, и не только в старших классах, а и раньше, под воздействием многих обстоятельств — семьи, круга
23
лиц, бывающих в доме, наличия или отсутствия такого человека, авторитет которого сможет перебороть в глазах подростка авторитет родительский, — закладывались различия в убеждениях, надолго определявшие миросозерцание и социальное поведение ровесников-соотечественников. Какие же убеждения преобладали в Первой гимназии — той, где учился и Булгаков, и — не случайно — будущий герой его первого романа?
— На сорок человек гимназистов в классе было обычно двенадцать-пятнадцать казеннокоштных: было много вся ких стипендий — и государственных, и частных, — вспоминал Е. Б. Букреев. — Казеннокоштные, конечно, составляли более демократически настроенную среду... Вообще же — сложение характера человека происходит в совершенно особых условиях. Восстановить обстановку этого процесса невозможно. Вам остается неизвестно множество мелочей. Но жизнь состоит именно из мелочей. Поэтому восстановить дух этого времени, приблизиться к той обстановке невозможно. Булгаков, например, в гимназические годы избегал евреев, но тут надо учитывать условия воспитания, семейную обстановку. Это очень трудно понять на таком временном расстоянии... В нашем отделении на сорок человек было шесть евреев. Священники относились к ним по-разному, некоторые более разумно... Когда дежурный докладывал: «Батюшка, Гинзбург остался на закон божий», один законоучитель говорил: «Что же, пусть послушает, Христос проповедовал и для иноверцев». (Нельзя не отметить некоторой исторической неточности в этом высказывании, вернее, его стилистической модернизованности; имеются в виду, среди прочего, известные слова в Послании к римлянам апостола Павла о благовествовании, «во-первых, иудею, потом и эллину», 1,16; позднейший смысл слова «иноверцы» не вполне применим к ситуации ранних веков христианства. — М. Ч.). Вообще же к выкрестам относились хуже, чем к иудеям.
Евгений Борисович стремится возможно точнее определить и оценить умонастроения Булгакова — подростка и юноши, в конкретном времени, в конкретной обстановке — внутри стен Первой гимназии.
— Если говорить о семье Булгакова, то вообще профессорская среда считалась не зажиточной. Монархистами были дети из очень богатых, чаще помещичьих семей или городских низов — уже с черносотенным оттенком. У Булгакова такого грубого оттенка, конечно, не было, но вообще наша гимназия была известна более либеральным по сравне-
24
нию с другими заведениями уровнем, поэтому даже таких, как он, все же было не так много... Вообще в Первой гимназии сконцентрировались противоположные взгляды. Например, там учился Пятаков — значительно старше нас...
(Леонид Леонидович Пятаков — тремя годами старший Булгакова и Букреева — был, как и его брат Георгий, одним из руководителей борьбы за Советскую власть в Киеве, убит гайдамаками в начале 1918 года.)
— В то же время у нас учились Лелявские — дети очень зажиточных киевских помещиков, учились дети крупных чиновников, а также два брата Голубевы — сыновья невероятно черносотенного профессора Духовной академии. Конечно, Булгаков не был с такими ярыми черносотенцами. Можно сказать, что он придерживался правых взглядов, но умеренного порядка.
Как можно было понять из бесед с Букреевым, выражалась такая ориентация главным образом пассивно — нелюбовью к каким угодно сборищам, выступлениям, публичному объявлению своих взглядов и соображений. Когда много позже в «Белой гвардии» Алексей Турбин заговорит про гетмана: «Да ведь если бы с апреля месяца он начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. <...> Самый момент: ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас», — обратим внимание на реплики хорошо знающих его слушателей: « — Ты... ты... тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны, право, — заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его.
— Алексей на митинге незаменимый человек, оратор, — сказал Николка.
— Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой остряк», — обрывает его старший брат. Из иронических реплик слушателей явствует, что Турбин — не оратор, эта роль для него непривычна. В этой же степени, по-видимому, непривычна она была для молодого Булгакова. На этом соображении настаивает, по крайней мере, наш собеседник, не раз к нему возвращаясь: «Повторяю, он был совершенно аполитичен... В гимназических скандалах участвовал, сидел потом в классах после занятий по два-три часа, это он все проделывал, как и все. Но от любых форм общественной жизни совершенно уклонялся...»
...Итак, «правее» среднелиберального большинства гимназистов... Мальчик, в котором, видимо, заметна была домашняя, семейная закваска — сдержанное отношение к иноверцам, естественный для семьи преподавателя Духов-
25
ной академии консерватизм — то есть спокойное приятие существующего порядка, нежелание колебать устои. Нежелание это оказалось таким стойким качеством, что и спустя два десятилетия с лишним, наполненных потрясениями, находясь в иной, в сущности, действительности, чем та, в которой прошли его юношеские годы, Булгаков сам упрямо назовет в решающем для его судьбы письме к правительству важную черту своего творчества — «глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции...»
Говоря о национальной самоориентации Булгакова-подростка и юноши, нужно иметь в виду не только, скажем, избирательность дружеских домашних связей, естественным для семьи преподавателя Духовной академии образом завязывавшихся в основном в кругу людей одного с ним вероисповедания. Нужно знать и специфическую ситуацию Киева начала XX века — города, в котором и вокруг которого жили люди нескольких национальностей, сохраняя не только замкнутость своего круга, но и взаимные претензии, уходящие в далекое и не очень далекое историческое прошлое. Один пример: в 1903 году известный киевский театральный критик Н. И. Николаев публикует статью о столетнем юбилее киевского театра — и весь его запал обращен на перипетии борьбы между польской и русской администрациями театра в первой половине минувшего века. Межнациональное напряжение в годы киевской юности Булгакова очень велико, оно побуждает к национальному самоограничению, к подчеркнутому отождествлению себя с определенной этнической общностью, нередко доводя этот процесс до уровня почти болезненной остроты. Это отличало родной город Булгакова от многих других областей и городов тогдашней России, где пестрота местного населения могла оставаться фактом преимущественно бытового порядка. Здесь же именно национальная принадлежность (в соединении с конфессиональным признаком) выступала нередко на первый план, — когда, например, вставал вопрос о необходимости каких-либо групповых действий в общественно-политической сфере. Описывая ситуацию, сложившуюся в Киеве в 1906 году в момент подготовки к выборам во II Думу, В. В. Шульгин, земляк Булгакова, пишет в своей последней, вышедшей в 1979 году в Москве книге «Годы. Воспоминания бывшего члена Государственной думы»: «Самой многочисленной группой были крестьяне... Второй по численности была группа польских помещиков, третьей — русских по-
26
мещиков. Четвертая группа — горожан, которые почти все были евреи. Пятая — священников, русских по национальности. Наконец, шестая группа — чехи и немцы, колонисты». Шульгин показывает, что объединиться могли по разному, в том числе и по социальному признаку («по классовому признаку мог быть блок всех помещиков без различия национальности, то есть союз русских и поляков. Если бы к этому союзу примкнули евреи-горожане, то такой блок имел бы большинство» — речь шла о количестве мест в Думе). Но ситуация сложилась так, что вместе выступили «помещики, батюшки и крестьяне» — то есть, как комментирует эти события Шульгин, «идея национального единства, поддержанная церковью, одержала верх». Все это (в том числе и комментарий Шульгина) очень характерно для настроений в Киеве 1900—1910-х годов. К моменту выборов Булгаков был еще несовершеннолетним, но, возможно, интересовался их ходом, а позже — деятельностью и II, а затем и III Думы, на которую возлагались надежды умиротворения. Может быть, именно здесь уместно будет, несколько забегая вперед, отметить, что Булгаков не только сознавал тюркское происхождение своей фамилии, но и считал необходимым подчеркивать это начало в своем роду. Об этом говорят по меньшей мере два факта. Один относится к 1929 году, и к нему мы обратимся в свое время, другой — к 1936-му, когда писался роман «Записки покойника». Герою этого романа, подчеркнуто близкому к автору, Булгаков дает фамилию Максудов, «татарская» окраска которой еще очевидней, чем его собственной — хотя образована она от арабского по происхождению имени. Возможно, память писателя вынесла эту фамилию почти два десятилетия спустя как раз из юношеских впечатлений от газетных отчетов о заседаниях III Думы. На одном из этих заседаний, в январе 1909 года, В. В. Шульгин говорил о смертной казни. В русском народе, сказал он, «есть инстинктивное отвращение к смертной казни и к жестокостям правосудия вообще». Это явление «составляет нашу национальную гордость и наше национальное утешение, и оно крепко поддерживает нашу веру, когда мы говорим, что хозяином в этой огромной империи должен быть русский народ, потому что мы верим в то, что только он будет владыкой кротким и милостивым. (Рукоплескания справа, С. Н. Максудов, с места: «А кто русский народ?») Комментируя впоследствии этот эпизод, сам выступавший пояснял: «Сатретдин Назмутдинович Максудов по происхождению чистокровный татарин, образованный человек, окончивший в 1906 году в Париже юридический факультет.
27
Он, вероятно, хотел сказать, что в составе русского народа достаточно «инородцев», в том числе и татар». Не исключено, впрочем, что Булгаков мог встретить в печати эту фамилию и позже, в Москве, — в тот самый год, когда делался первый набросок будущего романа: в № 12 журнала «Печать и революция» за 1929 год сообщалось, что секцией литературы, искусства и языка Комакадемии намечен на 1930 год доклад Максудова «О состоянии марксистской критики в Татарии»...
Национальное самоотождествление не всегда и не везде является одинаково простым и естественным делом. В городе, где проходила юность Булгакова, этническое пересекалось с социально-политическим, исторически-традиционное, вероисповедное — со злободневными сословными и иными интересами. В. В. Шульгин, например, говоря о крестьянах, живших в это время вокруг Киева, определял их так: «По национальному признаку они были русские или, как тогда называли, малороссияне, по нынешней терминологии, украинцы». Для него важно и значимо лишь давнее общее прошлое — Киевская Русь; позднейшие процессы национального формирования во внимание не принимаются, как бы не существуют. Такая избирательность исторического взгляда, особенно рискованная для политического деятеля, была нередкой в предреволюционные годы в среде киевской русской интеллигенции. Отпечаток этой избирательности лежит и на некоторых страницах «Белой гвардии», что помогает реконструировать в какой-то степени взгляд на национальные проблемы молодого Булгакова. Но примечательно, что даже в семье Булгаковых его тогдашние умонастроения разделялись не всеми. В одну из наших встреч 1969 года, показывая семейные фотографии, Надежда Афанасьевна Земская, сестра писателя, сказала: «А это М. Ф. Книпович, мой тогдашний жених. Он был щирый украинец, как тогда говорили, то есть настроенный очень определенно; я тоже была за то, что Украина имеет право на свой язык. Михаил был против украинизации, но, конечно, принимал Книповича как друга дома...» (Через несколько лет Надежда Афанасьевна вышла замуж за филолога-русиста Андрея Михайловича Земского.) Небезразличен для биографа и тот факт, что близким к семье — особенно при жизни ее главы — человеком был профессор Духовной академии, автор трудов по истории украинской литературы XVIII—XIX веков Н. И. Петров, крестный отец М. А. Булгакова. Один из слушателей Академии (принятый в нее в 1910 году), М. Я. Старокадомский, в своих неопубликованных воспоминаниях
28
(любезно предоставленных нам в 1977 году Е. П. Кудрявцевой) свидетельствует, что в «Киевской академии неофициально существовал украинский «гурток», воодушевленный идеями украинского национального движения. Члены его представляли собой одну из наиболее активных групп студенчества. Они посещали украинский клуб «Просвіта», украинский театр, на своих собраниях ставили доклады на исторические и литературные темы и хором распевали мелодичные украинские песни. Через этот гурток я оказался вхожим в дом историка проф. Н. И. Петрова, <...> большого знатока украинской старины. У проф. Петрова в определенные дни (на «журфиксы») собиралась прогрессивная профессура: <...> Кудрявцев, Рыбинский, Экземплярский, Завитневич...»
Вообще в среде петербургской профессуры еще в 1900-е годы бытовало мнение, что «Киевская академия по свежести и прогрессивности теперь у нас первая», это прямо связывалось с тем, что «она находится в руках такого человека, как Кудрявцев, который, не будучи членом Совета, держит последний в руках. Я просто испугался этого распространяющегося мнения, — писал Кудрявцеву в декабре 1906 года его петербургский корреспондент К. М. Агеев. — Вспомнились выпады против тебя Голубева...» Внутреннее движение в Академии, столкновение мнений, видимо, нарастало с начала века, и можно думать, что А. И. Булгаков занимал позицию умеренную, серединную, возможно, и примиряющую. Именно ее, нам кажется, будет впоследствии со всей осторожностью, требуемой условленным языком некролога, стремиться очертить Вл. Рыбинский: «Когда в Киеве несколько лет тому назад образовался кружок духовных и светских лиц, имевший целью обсуждение церковных вопросов и уяснение основ назревшей церковной реформы, Афанасий Иванович был одним из усерднейших членов этого кружка и принимал самое горячее участие в спорах». И пояснит специально, что «почивший профессор был очень далек от того поверхностного либерализма, который с легкостью все критикует и отрицает; но в то же время он был противником и того неумеренного консерватизма, который не умеет различать между вечным и временным, между буквой и духом и ведет к косности церковной жизни и церковных форм». Такого рода душевный склад и интеллектуальное поведение, авторитетное для сына при жизни отца, быть может, еще более глубоко было продумано им впоследствии.
После ревизии, проведенной в Академии в 1908 году
29
архиепископом волынским Антонием (который, среди прочего, назвал П. П. Кудрявцева «русским Вольтером»), после написанной прогрессивным крылом Академии в ответ на итоги ревизии «Правды о Киевской духовной академии», введения нового устава и уже определившегося раскола академической корпорации на «левых» и «правых» прогрессивные веяния продолжали витать и на кафедрах, и, видимо, еще более — на домашних «журфиксах». В свои юные годы Булгаков всегда имел прямую возможность встать ближе к этим веяниям — хотя бы по семейным связям с Н. И. Петровым, В. И. Экземплярским, В. 3. Завитневичем, — но пока нет фактов, которые позволили бы утверждать, что этой возможностью он воспользовался. Мы спрашивали, например, Татьяну Николаевну (первую жену Булгакова), ходил ли он к зданию суда в дни процесса по делу Бейлиса (в 1913 году, когда Булгаков был уже студентом). Нет, она уверенно отвечала, что не ходил, они только проходили мимо суда, направляясь по своим делам, в момент объявления приговора и видели, как обнимались и целовали друг друга люди. О том же говорит Е. Букреев: «Я уверен, что он не был на суде». Сравним с этими свидетельствами воспоминания дочери П. П. Кудрявцева: «Активно, горячо боролся отец с юдофобскими настроениями в дореволюционном Киеве. Помню нашумевший в 1913 году процесс Бейлиса. Была я тогда в VI классе гимназии, было мне, следовательно, лет 15—16. Мама решила в одно из воскресений устроить вечеринку, собрать молодежь, наших сверстников. Вышло так, что это было как раз накануне объявленного уже суда над Бейлисом. Помню, как взволновался папа, узнав о готовящемся на завтра вечере: „Как, — говорил он маме, — Бейлиса завтра осудят, а вы танцевать будете?" Вечеринка была, конечно, отменена».
Давно уже стало наивным представление о том, что большой писатель всегда, в любой момент своей жизни тяготеет к «левому» краю общественных умонастроений. Биографии великих предшественников Булгакова, русских писателей XIX века, показывают, что нередко дело обстояло далеко не так (еще более наивно, впрочем, делать отсюда вывод, что всякий, кто тяготеет к малопочтенным предрассудкам, тотчас оказывается под защитой великих авторитетов). Но Булгаков, в отличие от них, все еще никак не завоюет в нашем общественном сознании право иметь свою собственную, а не чью-нибудь чужую биографию. Его современники нередко старались ухудшить его анкету, сегодняшние поклонники стремятся ее «улучшить».
30
Современному читателю, пожалуй, особенно трудно понять (и потому тяжело принять), что быть в стороне от общественно-политической активности вовсе не означало сразу оказаться на некоем противоположном этой активности полюсе, застыть на какой-то одной, заранее определенной точке. Спектр возможностей при таком отстранении был достаточно широк, и одной из них была жизнь частного лица, оберегающего свою независимость и при этом отнюдь не стремящегося противопоставить или навязать свой способ существования тем, кто живет и действует иначе. Желание противопоставить являлось лишь в моменты обострений, когда такое жизнеповедение уже нуждалось в защите. В последующие десятилетия эта защита становилась невыполнимой задачей.
2
Биографов знаменитых людей привычно занимает вопрос — выделялись ли эти люди в отрочестве? Возлагали ли на них особые надежды учителя и однокашники? Что думали о Булгакове его гимназические учителя, мы уже вряд ли узнаем — учителя редко доживают до славы своих питомцев, тем более когда она так сильно запаздывает.
Положение в толпе ровесников говорит немало — не о степени таланта, а о типе личности.
Каким же был или, верней сказать, каким слыл Булгаков в годы учебы? Е. Букреев: «В первых классах был шалун из шалунов. Потом — из заурядных гимназеров. Его формирование никак не было видно. Вот Кожичи — в классе на год нас старше, — они формировались уже в гимназии...» — Речь шла о сыновьях П. Кожича, будущих режиссерах В. П. Кожиче и И. П. Кожиче (Чужом).
«Была ли неожиданностью для однокашников его литературная карьера?
— Совершенной неожиданностью! Про него никто бы не мог сказать: «О, этот будет!..» — как, знаете ли, говорили в гимназиях обычно про каких-то гимназистов, известных своими литературными или другими способностями. Он никаких особенных способностей не обнаруживал...»
(Напомним свидетельство современницы Гоголя, С. В. Скалой, провожавшей его, девятнадцатилетнего, в Петербург: «В то время мы ничего особенного в нем не видели».)
Центр его жизни был не в гимназии, не в кружках по склонностям, а в семейном кругу и в домах близких товарищей. Аттестат зрелости, выданный 8 июня 1909 года,
31
свидетельствует, что «при отличном поведении» сын статского советника Булгаков обнаружил знания отличные лишь по двум предметам — закону божьему и географии, по остальным же — хорошие и удовлетворительные.
Заканчивал гимназию Михаил Булгаков, однако, совсем в другой семейной ситуации, чем начинал.
В 1906 году заболел отец. «Уже весной 1906 года, — напишет потом автор некролога, — Афанасий Иванович стал чувствовать какое-то подозрительное недомогание. В течение лета болезнь, которой сначала покойный не придавал значения, усилилась и к началу текущего учебного года резко выразилась потерей зрения и общим сильным ослаблением организма. Произведенными врачебными исследованиями скоро констатирована была наличность у Афанасия Ивановича серьезной хронической болезни почек. Началось энергическое лечение. Но все усилия врачей киевских, а потом и московских сломить болезнь не привели ни к каким результатам. Болезнь так быстро прогрессировала, что близость печального исхода ее была ясна уже для всех». Через много лет судьба заставит Михаила Булгакова вспомнить весь скорый ход болезни отца...
Сохранились последние фотографии Афанасия Ивановича тем летом в Буче, в окружении всех детей, с самой младшей — четырехлетней Лелей, единственной из детей похожей на отца, воспринявшей его темный цвет волос, круглый овал лица.
Последняя дочь Афанасия Ивановича родилась в 1902 году, и принимала ее жена его младшего брата Сергея Ивановича, акушерка по профессии. В том же 1902 году скоропостижно умер двадцатидевятилетний Сергей Иванович. Это была, по-видимому, первая смерть близкого родственника в жизни одиннадцатилетнего Михаила. Вдову брата Ирину Лукиничну Афанасий Иванович посчитал долгом пригласить жить в свой дом. Все последующие годы она прожила в доме Булгаковых, главным образом занимаясь Лелей — своей любимицей.
В 1906 году был снят тот самый дом № 13 на Андреевском спуске, которому суждено было надолго стать пристанищем семьи и прообразом места действия романа «Белая гвардия».
Начались тяжелые для семьи осень и зима 1906—1907 годов. Михаил и старшие сестры, Вера и Надя, знали, что отец умирает. «Его лечили от болезни глаз, а это было только следствие, — рассказывала нам Надежда Афанасьевна. — Отец очень исхудал. Когда он уже не мог читать сам — я чи-
32
тала ему статьи на чешском языке, и он был недоволен моим произношением. Сам он прекрасно знал латынь, греческий, французский, западнославянские языки (читал также на немецком и английском — просматривал, как уже говорилось, поступившие в цензуру книги и на этих языках)...» Одни языки Афанасий Иванович, видимо, знал лучше, другие хуже, но живой этот пример остался в памяти Булгакова навсегда и через много лет отозвался в ответе Мастера Ивану, окрашенном авторской почти детски-простодушной гордостью за своего героя: «Я знаю пять языков, кроме родного, — ответил гость, — английский, французский, немецкий, латинский и греческий. Ну, немножко еще читаю по-итальянски», еще более — в реплике Ивана: «Ишь ты! — завистливо шепнул Иван».
11 декабря 1906 года Афанасий Иванович был удостоен советом Духовной академии степени доктора богословия. Совет возбудил также ходатайство перед синодом, как повествует некрологист, «об удостоении Афанасия Ивановича звания ординарного профессора, с присвоенным сему званию содержанием. 8 февраля 1907 г. Св. синод удовлетворил это ходатайство. На получение ординатуры Афанасий Иванович возлагал большие надежды...»
Действительно, служба в Академии доставляла А. И. Булгакову 1200 рублей годовых и ровно столько же — служба цензора. Постоянная необходимость в дополнительной работе для заработка, видимо, мучившая его и по жестокой иронии судьбы отпавшая лишь в последний месяц жизни, осталась, нам кажется, устойчивым представлением в памяти Булгакова; это могло усугублять раздражение от возникшей в начале двадцатых годов и не оставлявшей его уже до смерти подобной же необходимости.
«9 марта Афанасий Иванович подал прошение об увольнении по болезни от службы в Академии, — сообщалось далее в некрологе. — 11 марта он приобщился св. Тайн и с великим благоговением принял св. Елеосвящение. 14 марта, около десяти часов утра, Афанасия Ивановича не стало... В тот же день, в 4 часа пополудни, была отслужена академическим духовенством у гроба почившего панихида, на которой присутствовали профессора Академии и студенты. 15 марта гроб с останками почившего был перенесен в Св. Духовскую церковь Братского монастыря, а 16-го в великой Братской церкви состоялось отпевание». В надгробной речи один из сотоварищей А. И. Булгакова, Д. И. Богдашевский, вспоминал о его последних днях: «Беседовали мы с тобою о разных явлениях современной жизни. Взор твой был такой
33
ясный, спокойный и в то же время такой глубокий, как бы испытующий. «Как хорошо было бы, — говорил ты, — если бы все было мирно! Как хорошо было бы!.. Нужно всячески содействовать миру". И ныне Господь послал тебе полный мир... „Отпусти" — вот последнее твое предсмертное слово своей горячо любящей тебя и горячо любимой тобой супруге. „Отпусти!.." И ты отошел с миром! Ты мог сказать: „Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему с миром" (Лук. II, 29)». Через тридцать с лишним лет последнее слово умирающего найдет отзыв в последней главе последнего романа его сына: «Отпустите его, — вдруг пронзительно крикнула Маргарита..,»
Так в марте 1907 года Михаил, которому не было еще шестнадцати, стал старшим сыном в семье, оставшейся без отца.
Давно овдовевшая бабушка Анфиса Ивановна, каждое лето приезжавшая на дачу к Булгаковым из Карачева, сказала ему: «Ты, Миша, уже взрослый, тебе пора маму звать на вы». С этого времени он так и обращался к матери.
Академия хлопотала о возможно большей пенсии — и семья получила содержание большее, чем Афанасий Иванович зарабатывал на двух должностях.
В судьбе семьи умершего профессора принимали участие его сослуживцы, среди них — Василий Ильич Экземплярский, профессор нравственного богословия; вместе с А. И. Булгаковым он был деятельным членом Религиозно-философского общества им. Владимира Соловьева (председателем общества был П. П. Кудрявцев), а в 1916 г. стал основателем журнала «Христианская мысль».
...Если следовать от дома Булгаковых вниз к церкви Николы Доброго, в те годы еще целой, то по левую руку окажется улица Боричев Ток. На правой стороне улицы, в доме не совсем обычной архитектуры, в два с половиной этажа, и проживал профессор. Осенью 1980 года невестка о. Александра, 75-летняя, уже смертельно больная Татьяна Павловна Глаголева, когда-то — в пореволюционные годы — ходившая к Экземплярскому вместе со своей сверстницей Лелей Булгаковой, водившая его под руку гулять, сказала нам с невыразимой убежденностью: «Самый умный и самый изумительный человек, которого я встречала в своей жизни». И она показала хранившуюся у нее собранную им огромную коллекцию, о которой еще в апреле 1975 года сообщили нам киевские поклонницы творчества Булгакова Н. Елшанская и М. Л. Кондратьева — со слов священника о. Георгия, ученика Экземплярского.
34
Это была коллекция фоторепродукций с изображением Христа. Прекрасный фотограф (лучшие фотографии семьи Булгаковых сделаны им), В. И. Экземплярский делал эти фотографии с определенной целью. «Он ставил себе цель — написать работу «Лик Христа в изображениях», — сказала Татьяна Павловна.
Это были фотографии в основном одного и того же формата, большей частью коричневого тона, наклеенные на серые паспарту. На обороте Экземплярский помечал синим карандашом имя художника, название картины или гравюры и ставил порядковый номер. Судя по некоторым из этих номеров, коллекция состояла из более чем десятка тысяч воспроизведений... Коллекцию эту помогала впоследствии разбирать ослепшему профессору Леля Булгакова, но старший брат, несомненно, видел ее, и, можно думать, не раз, гораздо раньше. Отроческие и юношеские впечатления от множества собранных вместе изображений евангельских эпизодов, возможно, остались в зрительной памяти и воздействовали на будущие замыслы писателя — вместе с росписями стен киевских соборов, вместе с панорамой «Голгофа» на Владимирской горке.
Летом по-прежнему выезжали на дачу. Появлялись, как рассказывала нам Надежда Афанасьевна, привычные лица — Корней Лукьянович Стрельцов, жена его Авдотья Ивановна. (В 1923 году фамилия эта вспомнится Булгакову — он присвоит ее персонажу рассказа «Налет».) Зимой он был истопником при Религиозно-философском обществе, а летом — дворником на даче Булгаковых; жена его была у них кухаркой. В саду Корней устроил купальню, вода туда была проведена из колодца. «Идите, мальчики, скорее умываться, Вера в купальню собирается!» — кричали сестры. Старшая из сестер была копуша.
Вместе с Булгаковым переезжала на дачу жившая в их доме тетка Ирина Лукинична — прислуга звала ее «черная барыня»: в отличие от Варвары Михайловны она была брюнетка. Каждое лето на даче гостила бабушка Анфиса Ивановна. (Умерла она в 1910 году, в Москве, у сына — врача Николая Михайловича Покровского.) По свидетельству Надежды Афанасьевны, была она «не очень грамотная, но любознательная, с живым умом. Вдруг взялась читать Достоевского и все время читала. А на мой вопрос сказала: «Надечка, ты пойми, мне ведь мало осталось жить — не могу же я не знать такого писателя!» Переезжали и племянники Афанасия Ивановича, Константин и Николай, также постоянно жившие у Булгаковых дети его брата Петра,
35
священника русской миссии в Японии (в Токио). Когда в 1915 году единственная их дочь умерла в Токио от менингита — после мгновенной скарлатины, жена Петра Ивановича, по рассказу Надежды Афанасьевны, приезжала и просила у матери: «Отдайте мне Лелечку! У вас семеро, а у нас теперь никого нет». Было очень много волнений по этому поводу. Братья и сестры не отдали». В Буче, как и в городе, жила у Булгаковых и Иллария, Лиля, дочь брата Афанасия Ивановича, Михаила Ивановича, постоянно проживавшего в городе Холм Люблинской губернии — он преподавал там в семинарии. В 1909 году из Карачева приехала на лето младшая сестра Варвары Михайловны Александра Михайловна Бархатова (урожденная Покровская) с семилетним Алексеем и четырехлетней Александрой, приезжали они и в 1912 году. Спустя более чем полвека Александра Андреевна Ткаченко (урожденная Бархатова), двоюродная сестра писателя, вспомнит в первую очередь это многолюдство и общее впечатление веселья, радостной доброжелательности.
Понятно, что чем более все это удалялось в невозвратное прошлое, тем более, по контрасту с новым бытом, разрасталось, укрупнялось впоследствии в памяти писателя.
К 16 августа по старому стилю — к началу занятий в гимназии — семья возвращалась в город. Старшие задерживались, ездили в гимназию по железной дороге.
Друзьями гимназических лет Булгакова были Платон и Саша Гдешинские, младшие из пятерых сыновей Петра Степановича Гдешинского, помощника библиотекаря Духовной академии. Семья эта была очень близкой Булгаковым, почему и скажем о ней несколько подробней. Старшие сыновья (от первого брака Петра Степановича), Поликарп и Николай, в те годы были уже священниками под Киевом.
Киевлянин С. А. Касьянюк сообщил нам 15 октября 1987 года некоторые свидетельства о юноше Булгакове своей родственницы, Нины Поликарповны Гдешинской, по мужу Мошковской (1900—1986). Когда в середине 60-х годов ей прочли вслух отрывок из романа «Мастер и Маргарита», она, не зная автора, будто бы угадала Булгакова. Старшая из четырех (Нина, Зина, Лида, Наталья) дочерей Поликарпа Петровича (род. в 1876 г.), учениц епархиального училища, она, оказывается, бывала вместе с сестрами в доме Булгаковых по воскресным дням: «Мишка любил играть с нами. Шутил. Разыгрывал. Начинал словами: «Поедем в эваку». План эвакуации у всех будоражил воображение. И начинались фантазии — куда и как будем ехать.
Любил всякую чертовщину. Спиритические сеансы. Рас-
36
сказывал всякие чудасии...». Как справедливо написал наш корреспондент, «Глубокое знание «чертовщины» и обыгрывание ее в 10—15 годы XX в. М. Булгаковым, «вызревание» этой темы издавна — «штрихи к биографии» писателя.
Впоследствии сестра Соня (1898 года рождения), чьи воспоминания мы будем цитировать, стала, по словам вдовы Александра Гдешинского, «страшнейшая атеистка. Когда она в селе учительствовала (с 1916 года), то читала лекции об атеизме и говорила: «Если я даже не совсем могла убедить — мне важно было заронить искру сомнения». Такой же была и сестра Катя, намного ее старше. А их старший брат Гриша очень страдал от этого и даже ездил к сестрам из Одессы, где был священником, — убеждать их. Но Соня мне сказала: «Пожалуйста, передайте ему, что я в эти сказки не верю и пусть меня оставят в покое».
Пока же, в описываемое нами время, младшие сыновья Петра Гдешинского, как в свое время старшие, учатся в духовной семинарии. Но долго учиться им там не придется. «Миша часто иронизировал над их семинарским званием, — вспоминает одна из сестер, Софья Петрушевская, в письме к Ларисе Николаевне Гдешинской от 10 декабря 1971 года. — Как-то он приехал на новеньком велосипеде. Саша и Тоня стали тоже учиться ездить, и когда у них плохо получалось, Миша садился на велосипед, выделывал невозможные зигзаги и утверждал, что так ездить могут только семинаристы». «Невероятный дразнилка» (Е. Букреев)... Уже в мальчишеских проделках — та страсть к «показу», к театрализации, которая сохранится на всю жизнь и пронижет и домашний уклад (мы не раз еще обратимся к эпизодам этого рода), и литературу. И эти самые велосипедные зигзаги по меньшей мере дважды станут предметом изображения в его романах: «Патрикеев взгромоздился на машину <...> тронул педали и нетвердо поехал вокруг кресла, одним глазом косясь на суфлерскую' будку, в которую боялся свалиться, а другим на актрису <...> Патрикеев поехал снова, на этот раз оба глаза скосив на актрису, повернуть не сумел и уехал за кулисы» («Театральный роман»). Это было, так сказать, воспоминание о том, «как ездят семинаристы», — в отличие от той залихватской, виртуозной езды, к которой стремился, видимо, в юности он сам, и в память об этом стремлении в «Мастере и Маргарите» выезжает на сцену варьете маленький человек на обыкновенном двухколесном велосипеде. «Проехавшись на одном заднем колесе, человечек перевернулся вверх ногами, ухитрился на ходу отвин-
37
тить переднее колесо и пустить его за кулисы, а затем продолжал путь на одном колесе, вертя педали руками...»
Другая сестра, Катя, пишет Ларисе Николаевне 22 ноября 1971 года: «Влияние Миши на моих братьев сказалось прежде всего в том, что мои братья, которые учились тогда в духовной семинарии, стали готовиться к поступлению в институт». Об этом же слышала от своего мужа Лариса Николаевна: «Саша говорил, что по светской дороге они пошли под влиянием Миши — оказали свое действие вечера в „открытом доме" Булгаковых, с музыкой. Он их ввел, так сказать, в светскую жизнь — заставил полюбить все это. И, по-моему, уговаривал их уйти из семинарии — хотя это было трудно, везде в других заведениях уже надо было платить за обучение». Из семинарии братья один за другим ушли из четвертого класса — сначала тайком от отца и, кажется, сами зарабатывали на свое обучение.
Любовь Михайловна Скабаланович, дочь профессора Скабалановича, рассказывала нам 10 октября 1987 г.: «Мой отец был очень далек от политики. Когда в Академии проводили ревизию, архиепископ сказал: «Тут всех надо поразгонять, кроме Скабалановича. Он предан душой и телом религии». Когда мой отец в 1906 году перевелся из Мариуполя в Киев, он занял кафедру богословия. Мы жили на Подоле, рядом с Академией, в трехэтажном старинном академическом доме, в огромной квартире из девяти комнат, предназначенной для ректора... К нам заходил доктор Иван Павлович Воскресенский, лечивший в тот год А. И. Булгакова. Он приходил к нам всегда поздно, меня мать будила, чтобы он осмотрел; он говорил мне: „Вы простите, Любочка, что я так поздно — был у Булгаковых". Скоро пришло время мне идти в приготовительный класс — в знаменитую немецкую гимназию на Лютеранской улице, рядом с немецкой кирхой, и я увидела девочек Булгаковых, оканчивающих гимназию в тот год, как я в нее поступила. Леля, младшая, пришла к сестрам — там мы познакомились, она стала у нас бывать. В нашем доме жил помощник библиотекаря Академии. Одна из его дочерей, Соня, была старше меня на два-три года, но мне не очень-то позволяли к ней ходить. Мать моя находила, что это испорченная девочка. Помощник библиотекаря — это считалось неподходящая компания. — А в чем видели эту „испорченность"? — Ну, она не слушалась родителей, грубила... После революции ее мать, простая добрая женщина, сказала: „Я теперь стара, помирать скоро буду, не знаю, куда деваться. У Сони я жить не могу, потому что меня там похоронят, как собаку, без от-
38
певания". Гдешинские была семья малочитающая, малоинтеллигентная. А девочки Булгаковы были более начитанные. Как-то однажды я была у них (меня из дому мало отпускали). Мне было лет 10 или около того. И вышел брат их; ему было лет 20. Он с нами почти не разговаривал — так только, для приличия, ведь мы были намного моложе. Запомнился человек совершенно замкнутый, уединенный. Довольно плотный, не очень тонкий — Гдешинские по сравнению с ним были довольно тонкие. Лицо самое заурядное, ничем не примечательное. Я взглянула на него — так, без интереса...»
Над семьей Скабалановичей жила семья профессора Кудрявцева. «Академическая корпорация жила очень замкнуто... В семье Кудрявцевых тоже были две девочки». Одна из них, Екатерина Петровна, передавала нам свои впечатления давних лет (дочери преподавателей Академии учились в одной гимназии, основанной группой немцев-колонистов в Липках — аристократическом квартале; полное ее название было — женская гимназия при Киевском евангелическом обществе св. Екатерины: «Перед глазами стоит обычная картина — Надя Булгакова с сосредоточенным видом ходит по коридору со старшей Френкель, и они говорят на философские темы. Мы жили потом на Боричевом Токе в одном доме с профессором Экземплярским. И вот я сижу в гостиной в нашем доме, и горничная доложила, что кто-то пришел. Пришел Михаил Афанасьевич за Лелей, она у нас играла — ей было лет 10. Помню, пока она собиралась, молодой человек беседовал с моей мамой. Помню его слова: «— Знаете, а я женился». И мне показалось, что он сказал — сегодня».
...Летом 1908 года в жизни Михаила Булгакова завязалась романтическая история.
В то лето в Киев приехала саратовская гимназистка Татьяна Лаппа, дочь тамошнего управляющего Казенной палатой. В Киеве жили ее бабушка и тетка по отцу — Софья Николаевна, она дружила с Варварой Михайловной Булгаковой — кажется, на почве общих занятий в образовавшемся в тот год в Киеве Фребелевском обществе (объединявшем деятелей дошкольного воспитания).
Спустя семьдесят лет без малого Татьяна Николаевна, Урожденная Лаппа, рассказывала: «Тетка сказала: „Я познакомлю тебя с мальчиком. Он покажет тебе Киев".
Познакомились. Гуляли почти все время одни; были в Киево-Печерской лавре. Потом переписывались. Я должна была приехать в тот год на рождество, но родители не пустили почему-то — в Киев послали брата Женю, а меня в
39
Москву, к бабушке. А в это время Мишин друг, Саша Гдешинский, прислал телеграмму: „Телеграфируйте обманом приезд Миша стреляется". Отец сложил телеграмму и отослал в письме сестре: „Передай телеграмму своей приятельнице Варе"... Михаил кончал гимназию, сильнейшим образом увлеченный. Препятствия к встречам обостряли роман.
Трудно судить, по своей ли воле или повинуясь воле матери (на этом настаивает только сестра Гдешинских в своих воспоминаниях) выбрал он летом 1909 года, заканчивая гимназию, профессию врача. Иван Павлович Воскресенский, ставший вторым мужем матери, был врачом-педиатром. Врачами были несколько братьев матери. У юной подруги Михаила Татьяны Лаппа yе сохранилось в памяти впечатления о каких-либо его колебаниях по поводу этого выбора.
В тот год, когда он окончил Первую гимназию, готовился поступать в приготовительный класс его младший брат Ваня (в первом классе он будет учиться — на разных отделениях — с будущим поэтом Николаем Ушаковым), а в первый — брат Николай (вместе с Виктором Сынгаевским, на год моложе его). Два года до гимназии оставалось будущему режиссеру В. В. Кузе, с которым столкнет судьба Булгакова в Москве; в третий класс перейдет будущий драматург и будущий сосед по лестничной площадке Борис Ромашов; в шестой класс пойдет кузен и любимый друг Костя Булгаков (на три года младше Михаила).
Итак, с гимназией было покончено. «О восемь лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного и отчаянного для мальчишеской души, но сколько было радостного. Серый день, серый день, серый день, ут консекутивум. Кай Юлий Цезарь, кол по космографии и вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но зато и весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, и, главное, вечный маяк впереди — университет, значит, жизнь свободная, — понимаете ли вы, что значит университет? Закат на Днепре, воля, деньги, сила, слава.
И вот он все это прошел...»
...Не осталось ни дневника, ни писем восемнадцатилетнего Михаила Булгакова. У нас почти нет достоверных свидетельств о круге его мыслей, чаяний, о его жизненных целях. Воспоминания Алексея Турбина в «Белой гвардии» — едва ли не наиболее убеждающие для наших задач. И можно, не сомневаясь, описать это время в жизни юноши Булгакова как время надежд — надежд на обретение уве-
40
ренности, силы, славы. Какой именно славы? Тогда, видимо, именно славы врача. Многие атрибуты этой профессии были притягательны для юноши Булгакова. Впоследствии он признается своему биографу, что работа врача казалась ему «блестящей». Это слово важное, значащее, почти символическое. Оно не раз отзовется в его прозе, где работа врача или биолога-экспериментатора всегда будет нарисована в ореоле таинственности, притягательности, и блестящий в буквальном смысле инструментарий будет немаловажным ее аксессуаром. И брату своему, окончившему медицинский факультет уже не в России, уже навсегда расставшись с матерью, братом и сестрами, он пожелает в письме: «Будь блестящ в своих исследованиях».
В начале десятых годов (точнее: 1909—1913), когда Булгаков начал осваивать избранную им специальность, занятия в университете пошли неровно, прерываясь студенческими волнениями. 9 ноября 1910 года известие о смерти Льва Толстого вызвало демонстрации, и за беспорядки несколько студентов университета было арестовано. Можно с равной степенью уверенности предположить, что смерть Толстого произвела на Михаила Булгакова глубокое личное впечатление и что к каким-либо общественным выступлениям по этому поводу он не был причастен. Вообще пока не обнаружено следов участия Булгакова в студенческих волнениях 1910—1911 годов (хотя предприняты, как можно видеть по печатным работам, настойчивые поиски документов этого именно рода) ; напротив — есть основания предполагать, что он остался от них в стороне, что довольно бурная политическая жизнь киевского студенчества тех лет оставалась не более чем фоном его собственной жизни. Но мы предполагаем, что фактом его биографии ранних студенческих лет стало переломное событие в жизни друга их семьи В. И. Экземплярского, связанное с именем Толстого. Ранней осенью 1911 года он издал брошюру под названием «Гр. Л. Н. Толстой и св. Иоанн Златоуст и их взгляды на жизненное значение заповедей Христовых», где писал: «Толстой не учитель церкви. Та «часть истины», которая прошла через его сознание, уже с первых веков христианства заключена в творениях великого церковного учения, заключена во всей полноте... Но гр. Л. Н. Толстой — это живой укор нашему христианскому быту и будитель христианской совести... Усыпляется совесть этим мнимо христианским бытом, и сладко сознание, что можно считать себя последователем Христа, сделав его Крест украшением своей жизни, но не нося на себе тяжести этого Креста».
41
За эту брошюру об отлученном от церкви писателе Экземплярский был уволен из Академии. Об этом в кругу родных и близких Булгакова, разумеется, велись разговоры. Обсуждалось скорее всего и содержание брошюры, которая, надо полагать, была Булгаковым прочитана. А если так, то мысль автора могла стать одним из первых толчков к размышлению Булгакова вообще о роли писателя в оценке соответствия современного ему быта христианским заповедям, об огромности возможного масштаба взятой на себя писателем широкой учительской задачи. Пример Толстого, многосторонне важный для него в последующей литературной жизни, возможно, уяснялся еще при чтении брошюры Экземплярского.
В январе 1911 года Совет Министров ликвидировал автономию высших учебных заведений, запретив студенческие сходки в стенах университета. В ответ 1 февраля началась забастовка, длившаяся до начала апреля 1911 года. Занятия в университете почти прекратились. Этому противодействовала партия академического порядка студентов университета; она стремилась к сохранению непрерывности занятий, и профессорам по ее просьбам разрешено было читать лекции, даже если на них присутствовал только один студент. Опять-таки с немалой долей вероятия можно предполагать, что сочувствие Михаила Булгакова было на стороне именно этой, «академической». Им владело желание скорей получить специальность, диплом врача, стать свободным...
«...За восемью годами гимназии, уже вне всяких бассейнов, трупы анатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных...»
Весь 1911 год был неспокойным. Весной — суд над студентом Крыжановским. В сентябре — в городском театре убийство на глазах всей публики председателя Совета Министров П. А. Столыпина.
Незадолго до этого события, всколыхнувшего город и всю Россию, в конце июля 1911 года, приехала в Киев Татьяна Лаппа, окончившая в Саратове гимназию. Некоторое время она гостила у Булгаковых — на даче. Хотела остаться в Киеве, у бабушки и тетки, но отец не разрешил: «Поработай год — тогда поедешь в Киев!», и в начале сентября пришлось уехать в Саратов (начинались занятия в училище, куда Татьяна поступила классной дамой). В доме Булгаковых царило то молодежное оживление, которое установилось после смерти отца, при жизни которого домашний уклад был иным, более строгим, когда каждое воскресенье у них читали вслух Евангелие. Для понимания формировавшихся
42
в молодые годы умозрений Булгакова по вопросам основ- « ным, онтологическим, биограф располагает, в сущности, двумя основными источниками: общее представление об историко-культурном контексте 1900-х годов, складывающееся из множества данных, и единичные свидетельства современников. К ним мы должны быть особенно внимательны. «Евангелие читал вслух, видимо, сам отец, — вспоминает Е. Б. Букреев в нашу последнюю встречу 8 сентября 1983 года. — Семья была богобоязненная. Но дети все отнюдь не были религиозны. Атмосфера в доме после отца была иная... Поклонники Варвары... Она была очень похожа на Мишу. Некрасивая, но чрезвычайно женственная. Вообще студенты в те годы были совершенно индифферентны к религии. Еще медики, знаете. Они вообще этим не интересуются». Смерть отца, занятия на медицинском факультете, новые и сильные впечатления от знакомства с дарвиновской теорией происхождения человека, воздействие отчима-врача, влияния времени, поставившие под вопрос то, что было незыблемым для отца Булгакова, — все это оказало свое действие. «С благоговением вспоминаем, — говорит над гробом А. И. Булгакова один из его учеников по Академии, — что на свое христианское звание — я — прежде всего христианин! — покойный всегда указывал в частной своей жизни», что «его высший религиозный интерес, соединявший в себе и церковность, и настроение, был для него не одним из многих интересов его жизни, а как бы самым существом его жизни», что он верил — «и теперь, когда, кажется, кругом вас все возмутилось против вас и ваших верований, возможно наивно-чистое, религиозно-цельное христианское мировоззрение...» Для старшего сына Афанасия Ивановича это было уже невозможно.
В марте 1910 года в дневнике сестры Булгакова Надежды Афанасьевны засвидетельствован отход старшего брата от обрядов (он не хочет соблюдать пост перед Пасхой, не говеет) и его решение религиозных вопросов в пользу неверия.
Десятилетие спустя, пережив роковые события века, Булгаков заново вернется к этим решенным в юности вопросам.
Вернемся еще раз к нашей беседе с невесткой священника церкви Николы Доброго А. А. Глаголева, послужившего прототипом о. Александра в «Белой гвардии». Она была женой его старшего сына, также священника, о. Алексея. После смерти А. И. Булгакова о. Александр предложил Варваре Михайловне давать уроки его маленькому сыну —
43
«его возили к ней на саночках». Были еще дочь Варвара, Вава, еще один сын. Дружили ли они, когда подросли, с молодыми Булгаковыми? «Нет, — возразила сразу же Татьяна Павловна и пояснила: — Булгаковы все же были такие вольнодумные...» Но это — подчеркнем! — на взгляд жены и невестки священника. Тому, кто размышляет над биографией и творчеством Булгакова, всегда надо иметь в виду: что бы ни происходило со старшим сыном доктора богословия в первые годы после смерти отца и в последующие десятилетия — все это воздвигалось на фундаменте, заложенном в детстве: он был уже невынимаем.
Итак, в доме на Андреевском спуске в университетские годы Михаила Булгакова было оживленно, весело. По «нечетным субботам» устраивались «журфиксы» — собиралась молодежь, танцевали, пели, Коля и Ваня играли на балалайке, на гитаре... В эти вечера, вспоминает Софья Петрушевская-Гдешинская, братья ее шли на Андреевский спуск; Саша играл там на скрипке под аккомпанемент сестры Михаила Вари — она училась так же, как Саша Гдешинский, в консерватории, по классу рояля; «Саша играл тогда Первый концерт Вьетана, „Колыбельную" Эрнефельда, „Цыганские напевы" Сарасате, Гайдна и Крейслера». Музыка окружает в то время Булгакова, заполняет его жизнь, будит уже и личные надежды. Музыкальная жизнь Киева в те годы и роль этих впечатлений в его последующем творчестве — особая и важная, еще совсем не исследованная тема. Он постоянно ходит в оперу, не пропускает гастролей оперных певцов и сам едва ли не всерьез задумывается над такой карьерой. Это увлечение со временем прошло, но исключительная любовь к оперному пению сохранилась навсегда, как и пристрастное отношение к пению вообще (пошло еще с юности — пущено было им про сестру, певшую после гимназии в хоре: «Голосок у Веры маленький, но противный»).
Первые литературные попытки относятся к этому же времени. Сестра писателя Н. А. Земская в письме к Е. С. Булгаковой (от 18—25 апреля 1964 года) сообщала: «Я помню, что очень давно (в 1912—1913 годах), когда Миша был еще студентом, а я — первокурсницей-курсисткой, он дал мне прочитать рассказ „Огненный змей" — об алкоголике, допившемся до белой горячки и погибшем во время ее приступа: его задушил (или сжег) вползший к нему в комнату змей (галлюцинация)...» Пока это были скорее мечты о писательстве (как еще недавно — о карьере оперного певца), чем тот выбор, который становится бесповоротным.
44
В доме № 13 у Булгаковых появились между тем новые « соседи — дом купил инженер Василий Павлович Листовничий и поселился в нижнем этаже с женой, полькой Ядвигой Викторовной, и маленькой дочерью Инной. «Мы покупали дом вместе с жильцами, — рассказывает его дочь Инна Васильевна Кончаковская. — Варвара Михайловна пришла к отцу и очень умно с ним говорила. „Я вдова, у меня семь детей..." — в общем, уговорила его не трогать их, обещая, что они не хлопотный народ». В это время Михаил уже имел в квартире свою комнату — угловую с балконом. Дочь Листовничего рассказывает о размолвке Михаила с ее отцом из-за этой комнаты: перевезли из Чернигова больную открытой формой туберкулеза мать Листовничего, и он, боясь заразить жену и дочь, попросил у Варвары Михайловны во временное пользование комнату Михаила: «Там был сделан отдельный вход, с улицы, так что с Булгаковыми бабушка не общалась совершенно. В июле она к нам переехала, а в октябре уже умерла... Варвара Михайловна дала согласие, а Мишка наговорил дерзостей» (запись Я. Б. Вольфсона).
Если бы ситуацию излагал кто-либо из членов семьи Булгаковых, она, видимо, выглядела бы иначе: внизу в семи комнатах жили четверо (с горничной), вверху в семи — видимо, не менее одиннадцати человек (включая двух двоюродных братьев и Ирину Лукиничну, жившую в одной комнате с Лелей). Даже временная потеря комнаты была очень чувствительна.
Отношения с Листовничим у старшего из Булгаковых сразу же стали складываться напряженно. Смягчались они лишь тем, что все переговоры с домохозяином брала на себя Варвара Михайловна.
Булгаков прожил около десяти лет бок о бок с этим человеком, и его биографии должно найтись хотя бы малое место в нашем повествовании (само собой ясно, что биограф не может подменять Василисой «Белой гвардии» представление о реальной личности, послужившей возможным импульсом к работе романиста; между тем такая подмена стала привычной для обихода поклонников Булгакова, как и множество других подмен).
В. П. Листовничий был уроженцем Киева (р. 1876), происходил из купцов I гильдии; у них «была скобяная лавка и шорная торговля на Подоле, — сообщает дочь И. В. Кончаковской, Ирина Павловна. — Потом Листовничие обанкротились и, когда рос Василий Павлович, это была уже очень бедная семья <...> Материальное благополучие В. П.
45
заработал себе сам, своими силами, и не торговлей, а инженерным трудом». Кончил Киевское реальное училище, затем Институт гражданских инженеров в Петербурге; с 1911 года был архитектором Киевского учебного округа, строил гимназии, училища. Память о банкротстве семьи, видимо, осталась навсегда. Внук В. П. Листовничего, врач Валерий Николаевич Кончаковский, приводит такой рассказ: «Мама спросила раз: „Папа, зачем ты так много работаешь?", а дед ей: „Кто много трудился в детстве и юности, в том всегда живет внутренний страх перед нуждой, а я хочу спокойно нянчить внуков". Видимо, голос предков-купцов звучал и в нем, ставшем уже дворянином (и почетным гражданином г. Киева) : на старости мечтал открыть букинистический магазин (был знатоком книги)». В том же письме, адресованном автору этой книги, корреспондент стремится наметить возможные пункты взаимного раздражения соседей: « — Дед мой купил дом в 1909 г., когда Булгаковы были там почти старожилы. Пришел молодой 33-летний новый хозяин, очень энергичный и деятельный. Завел во дворе конюшню, каретный сарай, держал пару лошадей.
— Вскоре раскопал двор, вывез десятки кубометров грунта и устроил под двором кирпичное помещение. Работы велись вручную, землю вывозили подводами (грабарками), т. ч. все лето ни пройти ни проехать. Вообще, стал устанавливать свои порядки.
— Забрал у Булгаковых часть веранды и устроил там пожарную лестницу на чердак, на год отобрал угловую комнату с балконом!..
— Очень много зарабатывал, держал горничную, кухарку, дворника, кучера. Булгаковы жили скромно (хотя имели прислугу), отсюда м. б. недоброе «буржуй» (что тоже вполне по-человечески понятно, многим из нас свойственно).
— Во время войны имел в своем распоряжении служебный автомобиль — длинный открытый «Линкольн», который постоянно маячил под окнами дома. А тогда на весь провинциальный тихий Киев было м. б. несколько таких автомобилей...»
«На Рождество, — вспоминает Татьяна Лаппа, — Михаил приехал в Саратов: привез к нам из Киева мою бабушку, Елизавету Николаевну Лаппа... Была елка, мы танцевали, но больше сидели, болтали...» Булгаков познакомился с родителями — Николаем Николаевичем и Евгенией Викторовной. Было ясно, что Татьяна скоро уедет в Киев. Пока она продолжала служить классной дамой в женском училище, чувствовала себя в этой роли неуютно. «Там девушки
46
были в два раза больше и толще меня. Преподаватель закона божьего спрашивает однажды: „Где ваша классная дама? — Вот она. — Ну, вы скажете! Ха-ха-ха!"... Домой я после занятий приходила совсем без голоса...»
Семья, с которой он сближался в этот год, была совсем иной, чем его родная семья.
Татьяна Лаппа родилась в Рязани, где отец служил податным инспектором: потом на такой же службе жил он в Екатеринославе, затем назначен был управляющим Казенной палатой в Омске; там Татьяна училась в прогимназии. «Отец выстроил здание Казенной палаты в Омске; когда перевели в Саратов — и здесь выстроил». И в Омске и Саратове собирались съезды податных инспекторов — и в доме Николая Николаевича давались обеды: «Стол накрывали на 100 человек — нам, детям, было раздолье! В Омске преподнесли отцу две дорогих китайских вазы. На следующем съезде — серебряный самовар, потом — столовое серебро на 12 персон... Когда мы познакомились с Михаилом, отец дослужился уже до действительного статского советника. У отца был курьер; в доме были горничная, кухарка, бонна. Семья была тоже большая — шесть детей, я старшая. Лакея не было: на стол подавала горничная. Закусок к столу не подавали — у отца были больные почки, так что в гостях мы любили консервы... Михаилу наш стол нравился». Вообще ему нравилось в этом богатом, но, видимо, не чопорном, не холодном доме. Через много лет в пьесе «Дни Турбиных» Лариосик будет рассказывать: «...Я говорил речи и не однажды... в обществе сослуживцев моего покойного папы... в Житомире... Ну, там податные инспектора...» В то время уже нет с Булгаковым Татьяны Николаевны, и отец ее, принимавший Булгакова за своим столом, — уже несколько лет как покойный, и вот, по тем законам, по которым литература рождается изо всего решительно, с чем сталкивается писатель — и не знает в этом ограничений, — потревожена его тень и сказалась, может быть, та легкая ирония, с которой воспринимались Михаилом рассказы Татьяны про сослуживцев отца, про съезды с обильной едой и многословными речами...
Детей в их семьях воспитывали по-разному. У Варвары Михайловны, как рассказывала Надежда Афанасьевна, «была идея, что дети должны быть заняты», и по этому поводу были даже как-то сложены Михаилом шуточные стихи — о том, как мать с утра всем задает работу: «Ты иди песок сыпь в яму, ты из ям песок таскай...»
Эти характерные для определенных слоев русской интеллигенции подчеркнуто демократические традиции семей-
47
ного обихода, диктующие «трудовое воспитание» детей и т. п., семье Лаппа не были свойственны. «Я приходила из гимназии, бросала верхнее платье на пол, мать говорила: «Не подбирай, горничная уберет; неизвестно, как сложится жизнь, пока позволяют обстоятельства — ничего не делай!" Нас ни к чему не готовили... Что я думала о своем будущем? Я жила сегодняшним днем, и мысли о будущем не было!» При этом сами родители детей не баловали. «Когда отец уезжал куда-нибудь — он привозил подарки, вещи только матери, нам не полагалось ничего. Одевали нас просто. Но я была плохая дочь, непокорная! Папа меня не пускает на концерт или куда-нибудь — все равно убегу с черного хода. Сколько раз он приходил за мной на каток... Я училась музыке; отец любил, когда я играла; ложился на диван, слушал...»
Старшая любимая своенравная дочь в семье богатой, с обычными традициями хлебосольного русского губернского дворянства... Читая своего любимого — в юношеские годы особенно — писателя Салтыкова-Щедрина, Булгаков узнавал теперь черты служилой аристократии, с которой, видимо, впервые соприкоснулся так близко.
Конец зимы и весну 1912 года двадцатилетний Михаил провел в тоске, в метаниях; заброшены были академические занятия; текущие экзамены он сдавать не стал. Обучение затягивалось по меньшей мере на лишний год... (Можно представить себе настороженность, озабоченность матери.) И снова он приехал летом 1912 года в Саратов. И в Киев в августе уехали уже вместе. «Я уехала под предлогом поступления на Историко-филологические курсы... И поступила на эти курсы, на романо-германское отделение, но некогда было учиться — все гуляли... Я снимала комнату у какого-то черносотенца... На Андреевском спуске у Листовничих во дворе была собака, я ее ужасно боялась. И говорю Михаилу: „Как хочешь, я через двор к тебе не пойду". — „Ну, тогда звони с улицы, я тебе открою". Все к ним, конечно, ходили через двор — лестница из их квартиры к парадному входу была довольно крутая, не будешь всем ходить открывать. Они ее обычно держали закрытой». («Три двери вели в квартиру Турбиных. Первая из передней на лестницу, вторая стеклянная, замыкавшая собственное владение Турбиных. Внизу за стеклянной дверью темный холодный парадный ход, в который выходила сбоку дверь Лисовичей, а коридор замыкала уже последняя дверь на улицу». Описание в «Белой гвардии» досконально точно.) В этом парадном братья Булгаковы курили тайком от матери...
48
Осень и зиму 1912—1913 годов Булгаков и Татьяна Лаппа почти не расставались. «Что делали? Ходили в театр, "Фауста" слушали, наверно, раз десять... Мать Михаила вызвала меня к себе: „Не женитесь, ему рано". Но мы все-таки повенчались в апреле 1913 года.
Мать Михаила велела нам говеть перед свадьбой.
Вообще у Булгаковых последнюю неделю перед Пасхой всегда был пост, а мы с Михаилом пообедаем у них, а потом идем в ресторан... у нас в семье (в Саратове) обряды не соблюдались, а у них всегда был пасхальный стол, о. Александр приходил, освящал.
Фаты у меня, конечно, никакой не было, подвенечного платья тоже — я куда-то дела все деньги, которые отец прислал. Мама приехала на венчанье — пришла в ужас. У меня была полотняная юбка в складку, мама купила блузку. Венчал нас о. Александр.
...Почему-то хохотали под венцом ужасно. Домой после церкви ехали в карете. На обеде гостей было немного. Помню, много было цветов, больше всего — нарциссов...»
Документы архива Н. А. Земской показывают, каким болезненным было для матери решение сына. Ему грозило отчисление из университета из-за несдачи экзаменов; она, возможно, догадывалась, как далеко зашли их отношения (Татьяна Николаевна рассказывала нам, что деньги, присланные ей отцом, были истрачены на врачебное вмешательство) ; в такой напряженной ситуации готовились молодые к свадьбе.
Шаферы молодых Булгаковых — Борис Богданов, Константин Булгаков, Платон и Александр Гдешинские — это и есть самый близкий круг их тогдашних друзей. «Борис часто приходил, приносил мне соломку от Балабухи (были такие конфеты в коробках) : «Ты, Тася, ешь конфеты, а мы с Мишей пойдем поиграем в бильярд». Бильярд любил и двоюродный брат Константин Булгаков.
«...Но в чем он истинный гений, что занимает целый день его тоскующую лень, это — карамбольный бильярд у Штифлера, и, право, студенту прежнего времени похвала Грановского или Пирогова не доставляла столько гордого и стыдливого удовольствия, как современному студенту-драгуну — брошенное вскользь одобрение всегда полупьяного маркера Якова: „Вот этого шара вы — ничего, чисто сделали". Другое его развлечение — винт...» Это — отрывок из очерка Куприна «Студент-драгун», вошедшего в первую его книжку «Киевские типы» (несомненно, с детства читанная Булгаковым, она многократно, как и вообще творчество Куприна,
49
отзовется в его прозе) и, по отзывам критики, особенно нашумевшего, рисует только формирующийся тогда тип студента-белоподкладочника. От этой среды Булгаков был, видимо, достаточно далек (хотя бы по имущественному положению), но игре в бильярд предавался с жаром.
Е. Б. Букреев рассказывал, как в их студенческие годы «был выстроен такой флигель... Поляк Голомбек открыл бильярдный зал. Там было восемь бильярдов. А рядом пивная — студенты весьма охотно ее посещали. Ее хозяин был такой Федор Иванович... С залысинами, с зализанными височками, с острым носиком... Винт — это серьезная игра, в которую играют люди почтенные. А студенты играли в железку...» Пристрастие и к бильярду, и к винту (в него играли друзья отца, старшее поколение) Булгаков сохранит и в последующей своей жизни, столь отличной от киевской юности.
Но занятиями в университете Булгаков после свадьбы уже не манкировал. «Ходил на все лекции, не пропускал, — рассказывала Татьяна Николаевна. — В библиотеку ходил — в конце Крещатика, у Купеческого сада открылась тогда новая общественная библиотека. Читальный зал очень хороший. Он эту библиотеку очень любил. Меня брал с собой, я читала какую-нибудь книжку, пока он занимался. Разговора про литературу тогда никакого не было. Он собирался быть врачом, и, я думаю, он бы хорошим был врачом. Мы с ним много говорили о музыке, о театре. Еще когда познакомились, Михаил удивлялся, как я хорошо знаю оперу. А я в Саратове прослушала все оперы, какие шли в театре Очкина, — у падчерицы Очкина, моей подруги, была закрытая ложа, и я могла пойти в театр в любой момент, прямо в чем была дома... В Киеве мы с ним слушали „Кармен", „Гугенотов", „Севильского цирюльника" с итальянцами. Ходили в Купеческий сад на каждый симфонический концерт. Михаил очень любил увертюру к „Руслану и Людмиле", любил „Аиду", напевал „Милая Аида... Рая созданье". Больше же всего любил „Фауста" и чаще всего пел „На земле весь род людской" и ариозо Валентина — „Я за сестру тебя молю...".
...Мы ходили с ним в кафе на углу Фундуклеевской, в ресторан «Ротце». Вообще к деньгам он так относился: если есть деньги — надо их сразу использовать. Если последний рубль и стоит тут лихач — сядем и поедем! Или один скажет: „Так хочется прокатиться на авто!" — тут же другой говорит: „Так в чем дело — давай поедем!" Мать ругала за легкомыслие. Придем к ней обедать, она видит — ни колец, ни цепи моей. „Ну, значит, все в ломбарде!" —
50
Зато мы никому не должны!"... В Киеве был такой магазин ,Лизель" — там сосиски продавались и колбаса. Купишь московской колбасы полкило — и сыт.
На что жили? Михаил давал уроки... А мне отец присылал 50 рублей в месяц. 10—15 рублей платили за квартиру, а остальное все сразу тратили...»
Опера, концерты. В близких молодым Булгаковым домах, как и на Андреевском спуске, — тон «детской», тон дома, где много детей разного возраста, тон беспечного семейного веселья. Музыкальные вечера, танцы, домашние спектакли, «море волнуется», «испорченный телефон», журфиксы, ужины, именины, поклонники сестер с ежедневными букетами (Надежда Афанасьевна: «Миша приехал как-то в Бучу, прошел по даче: — Что такое — букеты, как веники стоят!» Остается гадать — то ли память родных подвергалась воздействию творчества Булгакова, которое стало разворачиваться перед ними беспрерывной чередой произведений с начала двадцатых годов, то ли собственные его давние реплики впечатывались в пьесу, где Николка объясняет Лариосику про сестру: «Прямо несчастье! Оттого всем и нравится, что рыжая. Как кто увидит, сейчас букеты начинает таскать. Так что у нас все время в квартире букеты, как веники, стояли»).
Бильярд, кафе, кинематограф...
«...Это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей родины жило беспечальное юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно: зори, закаты. Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой — не холодный, не жесткий — крупный, ласковый снег...
...И вышло совершенно наоборот.
Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история».
Спустя десятилетие в очерке «Киев-город» Булгаков точно укажет «момент ее появления» — «10 часов утра 2 марта 1917 года». Но первые признаки этого появления обнаружились уже не менее чем на три года раньше.
Летом 1914 года семья Булгаковых, как всегда, оказалась в Буче. Одна из фотографий запечатлела картину, освещенную солнцем и окрашенную весельем и беззаботностью. На фото взрослые — гостящие у родных дядьки — врачи Николай Михайлович и Михаил Михайлович, Иван Павлович Воскресенский, Ирина Лукинична и дети, уже
51
ставшие взрослыми, но этого еще не сознающие, — Вера, Надя, Варя, их подруга Мария Лисянская...
Михаил с женой поехали в это лето в Саратов. Там за стало их начало войны, ставшей мировой.
3
Евгения Викторовна Лаппа, мать Татьяны, организовала госпиталь при Казенной палате. С фронта стали привозить раненых. «Михаил стал работать в госпитале, — рассказывает Татьяна Николаевна. — Мы оставались в Саратове до начала университетских занятий». Студент-медик Булгаков среди персонала госпиталя и раненых — одна из лучших его юношеских фотографий.
«Когда осенью возвращались в Киев, отец предложил забрать серебро (это было ее приданое), а я отказалась — тяжесть, я об этом и не задумалась!» Продолжалась молодость, беспечность.
Оставалось еще два университетских года. Многие товарищи уже были на фронте. Ушел Платон Гдешинский, Борис Богданов стал вольноопределяющимся.
Отправилась на фронт и сестра Татьяны Софья. Шла Галицийская битва; поздняя осень 1914 года была благоприятной для русской армии, и фронт показался далеким. «Сестра приехала в Киев, — вспоминает Татьяна Николаевна, — привезла шоколад «Гала-Петэр», горьковатый, и печенье «Каплетэн» — кругленькое с солью и тмином, рассыпчатое».
Продолжалась та же жизнь, что и до войны.
В начале 1915 года Булгаков испытал второе после смерти отца сильное потрясение, след которого протянется далеко.
В доме Булгаковых по-прежнему бывал Борис Богданов, уже мобилизованный, но еще не уехавший на фронт. В это время он посватался к Варе Булгаковой, но получил отказ и на другой день пришел к ним в дом почему-то со сбритыми усами... Надежда Афанасьевна рассказывала: «Я спросила у Бориса: — Что это?! — А Миша ответил за него: — La petite démonstration (небольшая демонстрация)».
О том, что случилось далее, мы знаем из рассказов Надежды Афанасьевны и Татьяны Николаевны, совпавших до деталей.
Борис Богданов долго не появлялся в доме Булгаковых и вдруг прислал записку — просил Михаила зайти.
Когда Михаил вошел, тот лежал в постели, — видимо, раздетый. Михаил хотел закурить. Борис сказал:
52
— Ну, папиросы можешь взять у меня в шинели.
Михаил полез в карманы шинели, стал искать и со словами «Только тепейка (так называли они на гимназическом, видимо, еще жаргоне копейку) одна осталась» повернулся к Борису. В этот момент раздался выстрел.
Много раз всплывет позже в его памяти увиденная картина. Описание ее можно найти в одном из его рассказов: «Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху, а затем его нижняя челюсть стала двигаться, как будто он давился комочком и хотел его проглотить. Ах, тому, кто видел скверные револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо это движение!» («Морфий»).
Представим себе, как метался студент-медик у постели, возле залитого кровью человека, с которым он несколько лет сидел на одной гимназической парте, который держал венец на его венчании, который сватался к его сестре...
На папиросной коробке осталась записка: «В смерти моей никого не винить». Михаила вызывали к следователю, поскольку он был единственным свидетелем самоубийства.
Татьяна Николаевна вспоминает, что они с Варварой Михайловной и с Михаилом ездили по всем делам, связанным с похоронами, — кажется, и в морг. Варвара Михайловна тяжело переживала эту смерть, она любила Бориса. Матери у него не было. На могиле сына отец благодарил Варвару Михайловну за то, что она относилась к его сыновьям по-матерински.
О причине самоубийства говорили, как и почти всегда, разное: отец объяснял, что сын не поладил с начальством; брат Петр говорил, что это из-за того, что кто-то назвал Бориса трусом (быть может, кому-то показалось, что он медлит идти на фронт); по городу гуляла романтическая версия — вольноопределяющийся Богданов покончил с собой из-за Вари Булгаковой.
Для Булгакова мысли о причинах были, можно думать, оттеснены на задний план кружащимися на одном месте мыслями о том, что его медицинских познаний оказалось недостаточно для спасения умиравшего товарища.
И навязчивый мотив самоубийства из револьвера (или браунинга), с которым мы не раз столкнемся в его прозе, поведет свое начало, возможно, именно от этой биографической коллизии. (Заметим здесь, что и еще одно самоубийство близко коснулось в те годы молодых Булгаковых — накануне войны в Саратове застрелился по причине, так и оставшейся неизвестной, младший брат Татьяны, гимназист.
53
...До государственных экзаменов было еще не меньше года.
В августе положение на Юго-Западном фронте стало катастрофическим. Немцы заняли Луцк, открыв себе прямую дорогу на Киев. Подумывали о сдаче Киева и отводе войск за Днепр.
Киев был заполнен беженцами, а между тем из самого города многие уже отправляли детей. Варвара Михайловна отправила к сестре Александре Михайловне в Карачев троих младших, и родственники, как рассказывала А. А. Ткаченко, шутя называли их беженцами.
«В Киеве паника, — записывала 24 августа 1915 года двадцатилетняя барышня, правнучка фельдмаршала Витгенштейна, дочь одного из владельцев южнорусских имений. — Все укладываются, собираются, бегут. На улицах и в трамваях все озабочены, только и слышны разговоры — куда бежать и как достать билеты. А эта последняя вещь трудная: у городской станции чуть ли не трое суток ждут очереди. С другой стороны, весь вокзал завален беженцами, начиная с перронов и всех залов и коридоров и кончая ступеньками подъездов. Завален в полном смысле этого слова, т. е. вся бесчисленная толпа этих стариков, детей и женщин лежит вповалку на своих узлах и просто на полу. <...> В день нашего приезда их прибыло 10 000 человек! Это беженцы из района действующей армии: из Ровно, Владимира-Волынского, Каменца, Проскурова...». Все это наблюдает и Булгаков, не предвидя, наверное, что в ближайшие годы он увидит в родном городе картины гораздо более страшные. «Влиятельные лица и военные», как записывает автор дневника, говорят, «что «кажется» будет неизбежно отдать весь Юго-Западный край и Киев. Я думаю, что «кажется» — только чтобы смягчить такое ужасное решение.
Отдать Киев — матерь русских городов, со всеми его святынями, с Печерской Лаврой, со всем, что дорого русскому сердцу, первый русский город, святой Киев! <...> Пусть разрушат наши имения, пусть сделают нас и тысячи людей нищими, но пусть защищают Киев! Разве после такого удара, который потрясет всю Россию, разве можно во что-нибудь верить, на что-нибудь еще надеяться?» У Булгаковых не было имения, но это отношение к Киеву им было, видимо, очень близко.
Осенью 1915 года в Саратов были эвакуированы некоторые факультеты университета; медицинский остался в Киеве — он готовил врачей для нужд фронта. Еще в конце
54
декабря 1914 года было досрочно выпущено несколько десятков врачей — из тех, с кем вместе Булгаков поступал
первый курс (в том числе и Е. Букреев — «Букрешка-решка-орешка» приготовительного класса Второй гимназии) и от которых отстал во время своего романа с Татьяной Лаппа. Ясно было, что и его курс будут выпускать досрочно.
Многие студенты — не только пятого, но и младших курсов — уже находились на фронте, в санитарных отрядах ЮЗОЗО (Юго-западной областной земской организации); Булгаков еще в 1915 году был признан «негодным для несения походной службы», но было очевидно, что его ожидают госпитали.
Обычно государственные экзамены на медицинском факультете, состоявшие из 22-х предметов, тянулись (вместе с временем, дававшимся на подготовку) в течение четырех месяцев — с июня по сентябрь. В 1916 году испытания уложились в пределы февраля — марта и завершились к 6 апреля. Университет был окончен.
«Михаил никогда не бывал пьян, пил мало. Один только раз я видела его пьяным — пили со студентами после окончания университета. Он пришел и сказал: «Знаешь, я пьян. — Ну, ложись. — Нет, пойдем гулять». Мы прошли немного вверх по Владимирской, потом вернулись. Это было уже на рассвете».
Можно вообразить себе, что испытывали в эту ночь студенты-медики, досрочно ставшие врачами. В ту весну фронт трещал. Нарочская операция, начатая 5 марта, не дала успеха русской армии. Военный министр Сухомлинов был арестован по обвинению в противозаконном бездействии и других преступлениях — вплоть до государственной измены. Дальнейшее течение войны, ее продолжительность — все это терялось в тумане совершенно неясного будущего. И уж во всяком случае окончательно потерялось в тумане то, с чем связывался когда-то университет в мечтах гимназиста, — «воля, деньги, сила, слава»...
Закончив испытания (но еще не получив диплома), Булгаков, как рассказывает Татьяна Николаевна, «записался в Красный Крест» — то есть добровольно пошел работать в киевский госпиталь, находящийся в ведении Красного Креста. Вскоре госпиталь перевели в Каменец-Подольский, ближе к театру военных действий.
Представить себе атмосферу, в которой работал молодой врач, поможет в какой-то степени рассуждение одного из персонажей (занимавшего видную должность в Красном Кресте) уже цитированной нами книги воспоминаний
55
В. В. Шульгина «Годы»: «В смысле возможностей Красный Крест куда слабее военного ведомства. Оно оборудовано куда сильнее. Много врачей, санитаров, госпиталей всяких. Способы передвижения, то есть санитарные обозы для вывоза раненых и больных, не сравнимы со средствами Красного Креста. <...> Но значение Красного Креста совершенно не соответствует слабости его материальных возможностей. Оно гораздо выше. И я им твержу: „Помните, что вы — совесть военных врачей!» Да, совесть, потому что, это надо признать, военные врачи часто бывают бессовестны! <...> Трудно даже объяснить, отчего это происходит. Казенщина? Но вся армия казенщина. Однако бойцам доступно истинное геройство. Они не только убивают, они и сами умирают. А врачи нет. Их обязанность прежде всего самим уцелеть. И это порождает какую-то иную, более низменную психологию. А впрочем, может быть, и не так. Но, во всяком случае, Красный Крест хранит какую-то высокую традицию человечности. И он может и должен быть примером для опустившихся врачей военного ведомства. В этом наше значение!»
Легко предположить, что молодой, досрочно выпущенный врач именно этими идеями и воодушевлялся, работая в госпиталях Красного Креста.
Готовилось то наступление русских войск, которое впоследствии получило название брусиловского — по имени генерала А. А. Брусилова, ставшего недавно главнокомандующим армии Юго-Западного фронта. Совсем недавно, в конце марта, в Каменец-Подольском был государь, он посещал госпиталь, раздавал кресты.
22 мая началось наступление. Каменец-Подольский находился не более чем в 50 километрах от линии фронта; с этого момента у хирургов госпиталя работы все прибавлялось.
25 мая был взят Луцк; австрийцы в панике отступали; за первые три дня наступления войска достигли значительного, уже забытого на русском фронте успеха.
В начале июня русские войска форсировали Прут и захватили Черновицы. Поскольку наступление развивалось, госпитали подтягивались к фронту. Вместе со своим госпиталем Булгаков оказался в Черновицах. К началу июля линия фронта отодвинулась от Черновиц благодаря успешным действиям войск под командованием Брусилова не менее чем на 80 километров.
Волею судеб Булгаков оказался близ театра военных действий в момент, быть может, наиболее успешных за всю войну действий русской армии.
56
«Я тоже приехала туда, — рассказывает Татьяна Николаевна. — Вдруг объявили, чтоб жены уезжали в 24 часа». /По-видимому, это был один из опасных моментов наступления, когда линия фронта заколебалась.) «Я уехала, но не прошло, наверное, и двух недель, как пришла от него телеграмма. Я опять к нему приехала. Михаил приехал за мной в Орш, в машине. Солдаты спросили пропуск, он протянул рецепт — они были неграмотные. Нас пропустили. Перед отъездом Надежда (сестра Булгакова) — она тогда увлекалась агитацией, хождением в народ — насовала мне прокламаций, чтобы разбрасывать, и я — такая дура! — взяла. Потом ужасно боялась, что Михаил увидит, — он бы меня убил! Когда приехали — сожгла в камине...
В Черновицах в госпитале я работала сестрой, держала ноги, которые он ампутировал. Первый раз стало дурно, потом ничего... Он был там хирургом, все время делал ампутации... Очень уставал после госпиталя, приходил — ложился, читал. В боях он не участвовал, на позиции, насколько я знаю, не выезжал.
Неожиданно Михаила срочно вызвали в Москву — за новым назначением. Поехали, не заезжая в Киев; он поехал прямо в военной форме.
В Москве его срочно направили в Смоленск; мы даже к дядьке не зашли (Николаю Михайловичу Покровскому)...»
Это был, по-видимому, конец лета 1916 года. Булгаков ехал на новую службу, даже не получив диплома врача (диплом датирован 31 октября 1916 года).
Сестра писателя, Н. Земская, вспоминала позже (в письме к Е. С. Булгаковой) : «Весь выпуск при окончании получил звание ратников ополчения 2-го разряда — именно с той целью, чтобы они не были призваны на военную службу, а использовались в земствах: опытные земские врачи были взяты на фронт, в полевые госпитали, а молодые выпускники заменили их в тылу, в земских больницах... Но назначение киевских выпускников в земства состоялось не сразу, и Михаил Булгаков получил возможность все лето 1916 года проработать в прифронтовых госпиталях на Юго-Западном Фронте, куда он поехал добровольно, поступив в Красный Крест».
Призыв Булгакова на военную службу с зачислением его в резерв чинов Московского окружного военно-санитарного Управления («сверх штатного состава чинов резерва»), а конкретно — с направлением в Смоленскую губернию состоялся еще 16 июля.
57
Выпускники 1916 года призывались на действительную военную службу — но значительная их часть сразу по призыве была зачислена в резерв нескольких окружных военно-санитарных управлений, сверх штата этих управлений. Молодые врачи числились на военной службе и считались командированными в земства. Эта ситуация описана будет позже в дневнике героя рассказа «Морфий» доктора Полякова: «Весь мой выпуск, не подлежащий призыву на войну (ратники ополчения 2-го разряда выпуска 1916 года), разместили в земствах».
Шестьдесят лет спустя Татьяна Николаевна рассказывала, как, переночевав в Смоленске, они отправились поездом в Сычевку, маленький уездный городишко, — там находилось управление земскими больницами. Был сентябрь, но стояла уже настоящая осень, холодная и дождливая. Среднерусский пейзаж открылся взору человека, только что расставшегося с теплом, солнцем, разнообразием красок и плодов позднего киевского лета, в пугающей неприглядности.
«Службу врача Булгакова в Сычевском уезде Губернская управа будет считать с 27 сентября», — сообщалось в письме губернской управы, пошедшем, видимо, одновременно с движением молодого врача к месту назначения.
«По-видимому, мы пошли в управу... нам дали пару лошадей и пролетку — как она называлась, — довольно удобная. Была жуткая грязь, 40 верст ехали весь день. В Никольское приехали поздно, никто, конечно, не встречал. Там был двухэтажный дом врачей. Дом этот был закрыт; фельдшер пришел, принес ключи, показывает — „вот ваш дом"...» Дом состоял из двух половин с отдельными входами: рассчитан он был на двух врачей, необходимых больнице. Но второго врача не было.
«Наверху была спальня, кабинет, внизу столовая и кухня. Мы заняли две комнаты, стали устраиваться. И в первую же ночь привезли роженицу! Я пошла в больницу вместе с Михаилом. Роженица была в операционной; конечно, страшные боли; ребенок шел неправильно. Я видела роженицу, она теряла сознание. Я сидела в отдалении, искала в учебнике медицинском нужные места, а Михаил отходил от нее, смотрел, говорил мне: «Открой такую-то страницу!» А муж ее сказал, когда привез: «Если умрет, и тебе не жить — убью». И все время потом ему там грозили.
В следующие дни сразу стали приезжать больные, сначала немного, потом до ста человек в день...»
Отношения с крестьянами не были идилличными.
Больница в это время имела 24 койки (и еще 8 коек для
58
острых инфекций и две родильных), операционную, аптеку, библиотеку, телефон... Был отличный инструментарий, выписанный стараниями предшественника Булгакова — Леопольда Леопольдовича Смрчека, чеха, выпускника Московского университета, проработавшего в Никольском более десяти лет. «я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший... — расскажет позже Булгаков в «Записках юного врача». — Гм, — очень многозначительно промычал я, — однако у вас инструментарий прелестный. Гм... — Как же-с, — сладко заметил Демьян Лукич, — это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.
Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафчики». Внизу, в аптеке, «не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего». И наконец в кабинете герой рассказа «как зачарованный глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов...» («Полотенце с петухом»).
Размещалась больница в бывшем помещичьем доме, проданном его последним владельцем земству. Белый двухэтажный дом смотрел фасадом на озеро: оно образовалось, когда протекавшую близ больницы речку перегородили плотиной. Больницу окружал лиственничный парк (несколько уцелевших огромных лиственниц местные жители и сегодня называют «немецкими елками»). На том берегу речки, дугой огибавшей территорию больницы, находился заповедник. («...Однажды, это было в светлом апреле, я разложил все эти английские прелести в косом золотистом луче и только что отделал до глянца правую щеку, как ворвался, топоча, как лошадь, Егорыч в рваных сапожищах и доложил, что роды происходят в кустах у Заповедника над речушкой». — «Пропавший глаз».)
С трех сторон больницу окружал лес, а с четвертой лес быстро кончался, и за лугом в версте видна была деревня Никольское. С другой стороны, за заповедником, в полутора верстах — имение Муравишники и деревня Муравишниково.
Потомок хозяев имения Александр Леонидович Расторгуев рассказал нам подробности, которые несколько меняют
59
представление об одинокой, замкнутой жизни, которую вел на 3-м Никольском пункте молодой врач.
У владельца имения Василия Осиповича Герасимова, которого не раз посещал Булгаков, нередко гостил его родственник, известный историк Николай Иванович Кареев. Жена владельца имения, умершая несколько лет назад, хорошо помнила Булгакова. Летом в имении бывали с семьями художники Фаворский и Верейский, с которыми также мог, как выяснилось, встречаться Булгаков...
Один из сыновей владельца имения, Михаил Васильевич Герасимов, был в то время председателем Сычевской уездной земской управы (с ним, несомненно, познакомился Булгаков, получая в Сычевке назначение в Никольское), второй сын, Владимир Васильевич, врач, был хорошо знаком с Булгаковым.
«Напротив больницы, — вспоминает Татьяна Николаевна, — стоял полуразвалившийся помещичий дом. В доме жила разорившаяся помещица, еще довольно молодая вдова. Михаил слегка ухаживал за ней...»
Обнаружился и письменный источник, проливающий некоторый свет на обстановку тогдашней жизни Булгакова, — это неопубликованные воспоминания Н. И. Кареева, написанные им в июле 1923 года. Он вспоминает Муравишники как имение своего деда со стороны матери, Осипа Ивановича Герасимова: «Я помню Муравишники и при деде, и при младшем его сыне, которому досталось это имение, «дяде Васе», и при его сыновьях Коле, Мише и Володе, умерших один за другим в молодых годах уже в начале XX века. Здесь перед моими глазами, в этом „дворянском гнезде", жили и сошли со сцены три поколения...» В этом доме Булгаков бывал, видимо, до зимы 1916/17 года у В. О. Герасимова (который охарактеризован Кареевым как «человек добрый, слабохарактерный и ленивый», «выпивоха»), когда, по свидетельству Кареева, за несколько дней до Февральской революции «тамошний дом сгорел со всем содержимым по неосторожности сторожа». (Воспоминание о пожаре, очевидцем которого Булгаков, живший в полутора километрах, вполне мог быть, возможно, нашло впоследствии отражение в описании пожара большого усадебного дома в рассказе «Ханский огонь».) С обитателями же его Булгаков, конечно, общался и позже.
Татьяна Николаевна рассказывала:
«Примерно в феврале 17 года Михаилу дали отпуск. Мы поехали в Саратов. Там нас застало известие о революции: прислуга сказала: «Я вас буду называть Татьяна Никола-
60
на, а вы меня теперь зовите Агафья Ивановна». Жили мы отцовской казенной квартире. Плохо помню то время, помню только, что отец с Михаилом все время играли в шахматы... Возвращались через Москву. Видимо, был уже март — перед Никольским верхом на лошадях перебирались через озеро — оно уже оттаяло; другой возможности добраться домой не было». (И Кареев описывает, как едва ли не в тот же год, собираясь в Сычевку «на масленицу, провалились в ручей по грудь».) В марте 1917 года Булгаков съездил в Киев. Вернувшись, участвовал, видимо, в Чрезвычайных уездных земских собраниях в Сычевке. И конечно, горячо обсуждал происшедшие события и возможности будущего их развития с теми немногими собеседниками, которых предоставляла ему жизнь в Никольском. Их тоже можно в какой-то степени вычислить по воспоминаниям Кареева. «Взрослых сыновей у муравишниковского дедушки было двое — Петр и Василий. Петр — становой пристав. Старший его сын Ося, кончивший историко-филологический факультет», не только двоюродный брат, но и свояк Кареева, был, по его словам, «превосходный педагог»; после Февральской революции он вновь стал товарищем министра народного просвещения и вскоре приехал в деревню «с большим запасом наблюдений и с очень определенными предсказаниями, которыми и стал делиться со мною. Герасимов не верил в то, что соберется Учредительное собрание, настаивал на возможности гражданской войны и т. п., хотя в то же время был уверен почему-то, что крестьяне останутся спокойными»; «за первые четыре месяца после революции, которые я провел в Петербурге, Герасимов был, пожалуй, единственный человек из тех, с кем я встречался, который знал, что у нас делается не по газетам только да по слухам». Мы предполагаем, что О. П. Герасимов был одним из тех немногих людей, чьи свидетельства и умозаключения мог с жадностью слушать и обдумывать двадцатипятилетний Булгаков, оторванный в Никольском от событий, происходивших главным образом в столицах.
И вновь обратимся к свидетельствам той, что делила труды и дни молодого земского врача.
«Летом 17 года моя мама гостила у нас в Никольском с младшими братьями, Колей и Вовой. В это время, после воззвания Керенского, старшего из братьев, Евгения (он Учился в Петербурге в военном училище), направили на Фронт и в первом же бою его убили, денщик привез вещи». (Возможно, это произошло во время июньского наступления на Юго-Западном фронте.) «Папа прислал об этом
61
письмо, мама сразу уехала, а братья оставались с нами еще около месяца...»
В то время, когда они жили в Никольском, произошло, как рассказывала нам Татьяна Николаевна, следующее: отсасывая через трубку дифтеритные пленки из горла больного ребенка, Булгаков случайно инфицировался и вынужден был ввести себе противодифтерийную сыворотку. От сыворотки начался зуд, выступила сыпь, распухло лицо. От зуда, болей он не мог спать и попросил впрыснуть себе морфий. На второй и третий день он снова попросил жену вызвать сестру, боясь нового приступа зуда и связанной с ним бессонницы. Повторение инъекций в течение нескольких дней привело к эффекту, которого он, медик, не предусмотрел из-за тяжелого физического самочувствия: возникло привыкание... Болезнь развивалась; борясь с ней, он нередко впадал в угнетенное состояние: «Я целыми днями ревела», — вспоминала Татьяна Николаевна. Она вновь забеременела (первый раз это было до свадьбы); муж сказал: «Если хочешь — рожай, тогда останешься в земстве». — «Ни за что!» — и я поехала в Москву, к дядьке... Конечно, мне было ясно, что с ребенком никуда не денешься в такое время. Но он не заставлял меня, нет. Я сама не хотела... Папа мой очень хотел внуков... Если б Михаил хотел детей — конечно, я бы родила! Но он не запрещал — но и не хотел, это было ясно как божий день... Потом он еще боялся, что ребенок будет больной...»
18 сентября 1917 года Булгаков добился перевода в Вяземскую городскую земскую больницу.
В этот день ему выдано было Сычевской уездной земской управой удостоверение, в котором перечислялись проделанные им за год операции, среди которых — одна ампутация бедра (вспомним рассказ «Полотенце с петухом» — о красавице, попавшей в мялку), поворот на ножку («Крещение поворотом»), трахеотомия («Стальное горло»), — операция, приведшая, как уже говорилось, к тяжелым личным последствиям для самого врача... Указано было также, что «1 раз произведено под хлороформным наркозом удаление осколков раздробленных ребер после огнестрельного ранения», — отсюда и персонаж, у которого «было видно легкое и мясо груди висело клоками» и который через полтора месяца «ушел у меня из больницы живой» («Пропавший глаз»)... В справке указано, что за год в стационаре перебывало 211 человек, а на амбулаторном приеме — 15 361 (то есть в среднем по 40 с лишним человек за день, считая все праздники).
20 сентября Смоленская губернская земская управа
62
командировала Булгакова в распоряжение Вяземской уездной земской управы. В Вязьме поселились на Московской улице, в трех комнатах рядом с больницей. (В 1981 году краевед А. Бурмистров опубликовал письмо Булгакова: "Г. Смоленск. Губернская Земская Управа. Г-ну бухгалтеру. Покорнейше прошу мое военное жалование высылать мне теперь по адресу: „Вязьма. Городская земская больница. С почтением. Д-р Булгаков. 10 октября 1917 года".) Условия здесь были совершенно иные — на меньшее количество населения, чем было в Никольском, приходилось три врача! «Тяжкое бремя соскользнуло с моей души, — писал впоследствии автор рассказа «Морфий», вспоминая, несомненно, свои впечатления этого времени. — Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением плода, меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции... Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками».
Булгаков заведовал в больнице инфекционным и венерическим отделениями.
Именно в Вязьме, по воспоминаниям Татьяны Николаевны, он начал более или менее систематически писать — в Никольском это удавалось только урывками. «Я спросила его как-то: „Что ты пишешь? — Я не хочу тебе читать. Ты очень впечатлительная, скажешь, что я болен". Я знала только название —„Зеленый змий", а читать он мне не дал...» Возможно, речь шла о том рассказе «Огненный змей», который, по воспоминаниям сестры, был начат еще в Киеве, либо — о набросках будущего «Морфия».
В Вязьме же застали Булгакова октябрьские события, сведения о которых дошли не сразу. 30 октября Татьяна Николаевна писала Наде Земской: «Милая Надюша, напиши, пожалуйста, немедленно, что делается в Москве. Мы живем в полной неизвестности, вот уже четыре дня ниоткуда не получаем никаких известий. Очень беспокоимся и состояние ужасное».
Мы не знаем, какие мысли занимали в эти дни героя нашего повествования, но пройдет несколько лет, и настроение, владевшее доктором Булгаковым, всплывет и найдет отражение в его прозе, преломившись в герое «Белой гвардии» докторе Турбине: «Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года...» Тогдашние знакомые Булгакова относились к происходив-
63
шему по-разному. Об О. П. Герасимове, например, Кареев вспоминает, что «после октябрьского переворота он остался жить у себя в деревне и, уезжая оттуда по делам в Москву в начале декабря, убеждал свою жену и гостившую у них мою дочь, что „ничего не будет". Потом, однако, все-таки было, и О. П. уже не возвратился в свое поместье и умер в одной из московских тюремных больниц...»; сам Кареев, живя в тех местах летом 1917и 1918 годов, «не отказывался от чтения лекций, ездя для этого в находящееся в четырех верстах от Амосова село Воскресенское, где был просторный народный дом, выстроенный по инициативе моего брата». Читал он и лекции в зайцевской школе — для крестьян. Многие ощущали, что дело идет к гражданской войне. Уцелевшие документы жизни Булгакова зимы 1917/18 года свидетельствуют о том, что он прежде всего поставил себе целью освободиться от военной службы — чтобы покинуть Вязьму и, по-видимому, вернуться в Киев. Возможно, он думал и о том, чтобы не подпасть под грядущие непредвиденные мобилизации. С этой целью он едет в начале декабря . из Вязьмы в Москву. Выскажем в связи с этой поездкой одно предположение.
По-видимому, еще в Вязьме он писал сочинение под названием «Недуг». В 1978 году Татьяна Николаевна, рассказывая нам о тяжелых проявлениях болезни, пик которой пришелся на 1918 год, сказала: «Недуг» — это, по-моему, про морфий...» (В 1973 году, до бесед с нею на эту тему, мы высказывали в печати предположение, что название «Недуг» ближе всего подводит, кажется, к рассказу «Красная корона» (1922), подзаголовок которого — «Historia morbi» (история болезни)». Таким образом, то, что мы знаем сегодня как большой рассказ «Морфий», начато было даже не по следам пережитого, а в процессе тяжело переживаемой болезни. Вряд ли верно поэтому утверждение, минующее уже давно известный исследователям факт несомненной автобиографической подоплеки рассказа: «Дело в том, что Булгакова никогда не интересовала патология сама по себе», — в этом случае как раз интересовала и была проанализирована с медицинской тщательностью. В рассказе «Морфий» доктор Поляков, страдающий морфинизмом, осенью 1917 года в Москве добровольно ложится в психиатрическую лечебницу, чтобы пройти курс лечения. Октябрьские бои он воспринимает сквозь дымку болезни: «14 ноября 1917 г. Итак, после побега из Москвы из лечебницы доктора... (фамилия тщательно зачеркнута) я вновь дома. Дождь сеет пеленой и скрывает от меня мир. И пусть
64
скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я никому не нужен в мире. Стрельбу и переворот я пережил еще в лечебнице. Но мысль бросить это лечение воровски созрела меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо морфию за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что вообще может испугать человека, который думает только об одном — о чудных божественных кристаллах».
Мы предполагаем, во-первых, что Булгаков мог поехать в Москву тайно от родных — ранее даты, сообщенной им впоследствии, — с тем чтобы попытаться провести какое-то время в клинике у коллеги-врача или, во всяком случае, проконсультироваться. Сложилось так, что события, переворачивающие российскую жизнь, совпали с тяжелейшей личной коллизией. Его состояние тех дней было, по-видимому, близко к состоянию доктора Полякова. Во-вторых, разделяя вполне обоснованное предположение Л. Яновской о том, что «Морфий», напечатанный в 1927 году, — это поздняя редакция того романа, который писал Булгаков через несколько лет после Вязьмы «по канве», как он сам обозначил, «Недуга», мы думаем, однако, что в тетради доктора Полякова вырезано в 1927 году «два десятка страниц» («Морфий») не потому, что «автору «Бега» не могли не казаться наивными его ранние страницы о гражданской войне». Это был, несомненно, жгучий документ тогдашнего самоощущения потрясенного роковыми событиями и личной катастрофой доктора Булгакова. Он не мог существовать на страницах печати 1927 года: в 1921 году автор писал его свободно, имея в виду, как будет ясно из дальнейшего, и возможную публикацию за границей.
После Москвы он побывал в Саратове — как написала позже Н. Земская в комментариях к письмам брата, «он проехал дальше на восток, в родной город его жены, чтобы повидаться с ее семьей и выполнить ее поручения к отцу и матери. Поездка была крайне трудна — транспорт был разрушен, с фронта хлынули толпы солдат, поезда осаждались толпами солдат и пассажиров».
31 декабря 1917 года Булгаков писал сестре Наде (в это время она была в Царском Селе), что в Москву «с чем приехал, с тем и уехал» (т. е. освободиться от военной службы не удалось) и «вновь тяну лямку в Вязьме». Он писал: «Недавно в поездке в Москву и в Саратов мне пришлось видеть воочию то, что больше я не хотел бы видеть. Я видел, как толпы бьют стекла в поездах, видел, как бьют
65
людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве. Видел голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров... <...>
Я живу в полном одиночестве. Зато у меня есть широкое поле для размышлений. И я размышляю. Единственным моим утешением является работа и чтение по вечерам. Я с умилением читаю старых авторов (что попадется, т. к. книг здесь мало) и упиваюсь картинами старого времени. Ах, отчего я опоздал родиться! Отчего я не родился сто лет назад. Но, конечно, это исправить невозможно! Мучительно тянет меня вон отсюда в Москву или Киев, туда, где хоть и замирая, но все же еще идет жизнь. В особенности мне хотелось бы быть в Киеве! Через два часа придет новый год. Что принесет мне он?»
Его волновали судьбы младших братьев в обстановке, становившейся все более сложной: он, несомненно, уже знал, что в конце октября 1917 года Николай поступил в юнкерское училище.
19 февраля 1918 года (по новому стилю) сестра Варя пишет Наде из Москвы: «У нас Миша. Его комиссия по болезни освободила от военной службы». 22 февраля Вяземская уездная земская управа выдает ему удостоверение в том, что Булгаков, врач резерва, командированный 20 сентября 1917 г. Смоленской городской управой, в Вяземской больнице «выполнял свои обязанности безупречно».
Отъезд был, пожалуй, своевременным. Летом 1918 года в Зайцеве, как вспоминает Кареев, был получен приказ из уездного города об аресте «всех б. помещиков, их управляющих или доверенных лиц, а также и прочих паразитов». Под «прочих» вполне можно было подпасть по недомыслию местных властей, а то и по чьему-то злому умыслу. Такой трагической оказалась судьба уже упоминавшегося знакомца Булгакова М. В. Герасимова. Кончивший курс в Дерптском ветеринарном институте, он, по воспоминаниям Кареева, «скоро забросил свою профессию и занял и потом долго занимал должность председателя уездной земской управы в Сычевке, где потом его выбрали в городские головы». Он погиб в 1918 году «во время, как ее звали на месте, еремеевской ночи (по личной, думают, мести)».
Итак, два трудных года кончились. Но возвращался Булгаков из российской глубинки, которой была в те годы Смоленская губерния, совсем в другой мир, нежели был тот, который он оставил два года назад.
Только что, в начале января, было распущено Учредительное собрание, и тем была подведена черта под любыми
66
иллюзиями. В феврале Германия предъявила свой ультиматум, одновременно продолжая наступление по всему фронту.
Все это не помогало Булгакову понять, каков был этот мир» в который он теперь возвращался. Но все больше уяснялось: этот мир меняется, катастрофически и неостановимо. Догадывался ли 26-летний врач, отдавший два года каторжному труду, насколько большие трудности, чем уже пережитые, ожидают его впереди?
Его физическое состояние, так же как и душевное, было ужасным: он все еще оставался во власти наркомании. Повторялись периоды тяжелой душевной депрессии, когда ему казалось, что он сходит с ума, и он просил, молил жену: «Ведь ты не отдашь меня в больницу?» Панически боялся, что его состояние станет известным окружающим, — и, не в силах справиться с собой, гнал жену в аптеку за новой порцией, не слушая ее увещеваний. Измученная всеми обстоятельствами последнего года, она также мечтала скорей попасть в Киев.
«Ехали мы через Москву. Оставили часть вещей у дядьки, пообедали в «Праге» и сразу же поехали на вокзал — в Киев из Москвы уходил последний поезд, позже уже нельзя было бы выехать. Мы потому еще ехали в Киев, что не было выхода, — в Москве оставаться было негде...»
Напряжение момента обусловлено было тем, что в эти самые дни заключался Брестский мир; реально Украина уже стала зависимым от Германии государством. Для Булгакова не менее значимым и болезненным было то обстоятельство, что родной город, в который он возвращался, не являлся больше частью России.
«...В Киеве, помнится, никто не встречал. Взяли извозчика, поехали к дому Булгаковых на Андреевском спуске. В городе везде немцы». Был март 1918 года.
Надо было обживаться, зарабатывать на жизнь.
В первые дни возвращения в родной город после почти Двухлетней выключенности из жизни было выслушано все, что могли рассказать друзья и близкие о виденном и пережитом. В марте 1917 г. власть в городе перешла к Исполнительному комитету, избранному общественными организациями (одним из трех товарищей председателя стал — представителем от офицерства — Л. С. Карум, новый родственник Булгаковых). В апреле была избрана Центральная Украинская рада, вскоре противопоставившая себя комитету — в качестве власти, выражающей волю большинства населения края.
67
...В ноябре 1917 года на улицах Киева шли ожесточенные бои. В них естественным образом участвовал один из младших братьев Булгакова, Николай, молодой юнкер. Если вновь воспользоваться дневником юной аристократки, которая живет в это время на Украине, в Бронницах и взгляд которой на события в определенных точках должен быть близок семье Булгаковых, то события эти в неофициальном их изложении выглядели так: «В Киеве казачий съезд решил наводить порядок, но, кажется, Центральная Рада хочет объявить себя на стороне большевиков. В городе <...> артиллерийский и пулеметный огонь. Везде все перевернулось и рушится» (3 ноября 1917); «В Киеве всем правит полковник Павленко (украинец) и товарищ Пятаков (большевик). Одного поля ягода. Рада захватила всю власть. Петлюра объявил себя командующим всеми вооруженными силами Украины...» (6 ноября), «...9 ноября Украина объявила себя свободной демократической республикой. Ее пошлый, напыщенный „Третий Универсал" (декрет, изданный Центральной радой во главе с М. С. Грушевским с марта 1917, объединившимся с украинскими эсерами. — М. Ч.) произвел должное впечатление на украинскую демократию, потому что дал ей сразу то, чего она желала: землю, восьмичасовой рабочий день, отмену смертной казни, амнистию за все политические преступления (а „контрреволюционерам" будет амнистия?) <...> „Универсал", конечно, отменяет дворянское достоинство, титулы, ордена и пр. Тут же он прибавляет, что Украина спасет Россию. Уж не при деятельной ли помощи Австрии наш Грушевский будет спасать Россию? (Опережая на несколько месяцев переговоры в Бресте, Грушевский повел сепаратные переговоры Украины с Австрией. —М. Ч.). У меня сердце обливается кровью, когда я думаю, каким позором покрыла себя Россия перед лицом всей Европы, всего мира, из-за политики товарища Троцкого-Бронштейна! <...> Русская Россия погибнет! Она опозорена, она жить дальше не может! Но пускай и мы умрем с нею, чтобы не видеть ее позора, не видеть презрение всего мира <...> Сейчас все настоящие русские пусть спрячутся подальше, чтобы те союзники, которые раньше уважали их родину, а теперь презирают ее, не слышали их стона.» Булгаков далек, надо думать, от такой женской экзальтации, но не поняв, до какой высокой степени накала могло подниматься национально-сословное чувство в тот роковой год, мы не сумеем понять и мироощущения Булгакова того времени, которое стало преддверием его вступления в литературу.
68
12 декабря 1917 года в Харькове на I Всеукраинском съезде Советов Центральная Рада была объявлена вне закона, Совнарком России признал новообразованное Советское правительство Украины единственным законным правительством, постановив оказать ему немедленную помощь. На Украину были направлены войска. В ночь на 16 (29) января в Киеве поднялось восстание, организованное большевиками. Но перевес войск Рады был слишком велик, а красные войска еще не подошли к городу. Как пишут авторы «Истории гражданской войны в СССР», у стен завода «Арсенал» «убили и замучили около полутора тысяч рабочих».
Восстание было заведомо обречено и подавлено, но вскоре украинские социалисты Рады не смогли противостоять наступлению красных войск. 26 января (8 февраля) Киев был ими взят; в последующие недели жизнь в городе была дезорганизована; усилились грабежи.
Петроградские газеты писали: «Шаг за шагом наши войска выбивали сторонников Рады артиллерией и штыками, и наконец Киев взят. Кое-где еще держатся кучки офицеров и юнкеров, но весь город в руках советских войск» («Голос труда», 22 января (10 февраля) 1918 года). 30 января (12 февраля) в Киев приехало Советское правительство (но менее чем через три недели оно вынуждено будет, по условиям Брестского мира, покинуть город). 1 марта в Киев возвратилась Центральная рада — вместе с вошедшими в него австро-германскими войсками; 29 апреля Рада будет смещена немецким командованием: социализация Украины не входила в его экономические планы.
14(1) февраля было объявлено первым днем нового стиля в России.
15 февраля пришло известие о самоубийстве генерала Каледина.
20 февраля Германия начала военные действия, 22 февраля Петроград был объявлен на осадном положении и выдвинут лозунг — «Социалистическое отечество в опасности».
Политическая жизнь Киева истекшего года, реконструированная Булгаковым по газетам и рассказам очевидцев, нашла впоследствии отражение на страницах «Белой гвардии», где за кратким перечнем основных событий года, приправленным значительной долей иронии по отношению к гибко реагирующему на все перемены Тальбергу, можно попытаться различить — хотя и со всей осторожностью, необходимой при «биографическом» подходе к художествен-
69
ному тексту, — черты тогдашнего отношения к происходящему самого Булгакова. «В марте 1917 года Тальберг был первый — поймите, первый, — кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то, в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. <...> К концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего...» Далее — о событиях, относящихся к концу января 1918 года (тех самых, о которых осталось несколько надписей на печке в доме Турбиных. «Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения», среди них «Слухи грозные, ужасные, Наступают банды красные!» — и печатными буквами, рукою того же Николки: «Я-таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского райкома. Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер. 1918 года. 30-го января»): «Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те, в шароварах, -- авантюристы, а корни в Москве, хотя эти корни и большевистские». Речь идет о конце существования Центральной Рады, о смене власти — до заключения Брестского мира, вновь изменившего обстановку: «Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами».
В апреле в Киеве готовились к выборам гетмана. Основная власть в городе перешла с этого времени в руки немцев. 18 апреля (1 мая по новому стилю) Вера Афанасьевна
70
Булгакова писала в Москву сестре Варе: «...в Бучу поедут только мама и Леля, да, может быть, Ваня с Колей, но едва ли: . у них какие-то дела в городе. Половину дачи, две комнаты с большой верандой, мама сдала Гробинским, а для себя и для гостей оставила 3 комнаты с малой верандой. Миша, Тася, Костя и я остаемся в городе. Мне компания педагогов предложила принять участие в открытии частной великорусской гимназии, смешанной, нового типа, это очень интересно, я с удовольствием буду работать.
У нас весна в полном разгаре, сирень в бутонах, на Пасху будет цвести».
В письме приписка дядьке, Николаю Михайловичу Покровскому: «Поздравляю тебя с днем твоего ангела, желаю тебе всего хорошего, а главное, чтобы мы поскорее зажили опять по-человечески. Сейчас у нас в доме царит утомление до последней степени. Мы 2 месяца без прислуги. Готовим по очереди, по дежурствам. Мама дошла до последней степени утомления физического и нервного. Финансовый вопрос совсем заел».
Младших братьев Булгакова, как и его самого, держали в городе, несомненно, события политические, которые должны были определить судьбу Киева и всей Украины.
Через несколько дней происходило событие, также отразившееся в «Белой гвардии»: «В апреле восемнадцатого, на пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой, боевой колонной и вел счет рук — шароварам крышка, будет Украина, но Украина «гетьманская», — выбирали «гетьмана всея Украины» (им был избран бывший царский свитский генерал Павел Петрович Скоропадский).
Это было относительно спокойное для мирных жителей время — после осады города в конце января, после боев в начале марта в городе соблюдался порядок; затруднения были главным образом чисто бытовые, на которые жалуется в письме одна из сестер Булгакова. О быте тех месяцев, о совместной жизни всех молодых Булгаковых рассказывает и Татьяна Николаевна: «Горничной в доме уже не было. Обед готовили сами — по очереди. После обеда — груда тарелок. Как наступит моя очередь мыть, Ваня надевает фартук: «Тася, ты не беспокойся, я все сделаю. Только потом мы с тобой в кино сходим, хорошо?» И с Михаилом ходили в кино — даже при петлюровцах ходили все равно! Раз шли — пули свистели прямо под ногами, а мы шли!» Но до этого было еще далеко. Пока в доме Булгаковых снова охотно собиралась молодежь, снова шло веселье.
71
Необходимо было, однако, за что-то браться, кормить жену и себя. «Михаил решил заняться частной практикой. Когда мы весной 17-го года уезжали из Саратова, отец дал мне с собой ящик столового серебра — мое приданое. Мы и в тот раз опять не хотели брать его, тащить, но отец настоял — „пригодится". Теперь я решила его продать. Как раз в это время я узнала о смерти отца — спустя шесть месяцев после того, как он умер — в начале 1918 г. — в Москве, в тот самый день, когда к нему приехала мама... Когда я узнала, я тут же послала ей через Красный Крест 400 рублей, но они, к сожалению, не дошли... На остальное мы купили все необходимое для приема больных. Я 5 тысяч получила за серебро, но быстро их все потратили.
Кабинет Михаила был устроен очень удобно — больные в приемной сидели за ширмой и не видели тех, кто выходил от врача; для больных венерическими болезнями это имело значение.
Смена властей очень действовала на прием: в начале каждой новой власти всегда было мало народу — боялись, наверно, а под конец — много. Конечно, больше ходили солдаты и всякая голытьба — богатые люди редко болели этими болезнями. Так что заработок был небольшой. Я помогала Михаилу во время приема — держала руку больного, когда он впрыскивал ему неосальварсан. Кипятила воду. Все самовары эти чертовы распаивала! Заговорюсь — а кран уже отваливается...»
Трудности с заработками были связаны, можно думать, и с особой ситуацией в Киеве 1918—1919 годов. Врач 3. А. Игнатович в неопубликованных воспоминаниях пишет: «В Киеве, как в узловом и большом городе, совершенно случайно находилось значительное количество врачей, которые возвращались в 1918 году с Южного и Юго-Западного фронтов и застревали в Киеве, не имея возможности из-за гражданской войны пробраться к месту постоянного своего жительства». Это, конечно, создавало конкуренцию.
Г. Н. Трубецкой в своих воспоминаниях рисует такую картину жизни Киева этих месяцев, которая деталями своими и даже эмоциональной окраской близка к некоторым страницам будущей «Белой гвардии»: «Аристократический квартал Липки был... жутким привидением минувшего. Там собрались Петербург и Москва, почти все друг друга знали. На каждом шагу встречались знакомые типичные лица бюрократов, банкиров, помещиков с их семьями. Чувствовалось в буквальном смысле, что на улице праздник. Отсюда доносились рассказы о какой-то вакханалии в области спе-
72
куляции и наживы. Все, кто имел вход в правительственные . учреждения, промышляли всевозможными разрешениями на вывоз, на продажу и перепродажу разных товаров. Помещики торопились возместить себя за то, что претерпели, и взыскивали, когда могли, с крестьян втрое за награбленное. Правые и аристократы заискивали перед немцами. Находились и такие, что открыто ругали немцев и в то же время забегали к ним с заднего крыльца, чтобы выхлопотать себе то или другое! Все эти русские круги, должен сказать, были гораздо противнее, чем немцы, которые, против ожидания, держали себя отнюдь не вызывающим образом». Материал для наблюдения нравов был, таким образом, огромен.
Кто бывал в это время у молодых Булгаковых? Николай Леонидович Гладыревский, врач, друг семьи, некоторое время, по его собственным словам, помогавший Булгакову в его практике. Ходил в дом и его брат, Юрий (Георгий) Леонидович Гладыревский, обладатель приятного баритона. «Пел «Эпиталаму», ухаживал за Варей, — вспоминал Н. Л. Гладыревский в 1969 году, отвечая на наши расспросы. — Был он в это время бывшим офицером; они пропадали где-то вместе с Михаилом, у них были какие-то общие дела, думаю, что дамские... Но я ничего не знал про это, и никто не знал... Брат мой — это Шервинский в «Белой гвардии» и потом в пьесе...» (Подтверждением этому служит имя героя в ранней (1922) редакции «Белой гвардии» — Юрий Леонидович, в последней редакции Леонид Юрьевич Шервинский *.) «А Лариосик — это мой двоюродный брат, Судзиловский. Он был офицером во время войны, потом демобилизовался, пытался, кажется, поступить учиться. Он приехал из Житомира, хотел у нас поселиться, но моя мать знала, что он не особенно приятный субъект, и сплавила его к Булгаковым. Они ему сдавали комнату...» Юрия Леонидовича Гладыревского помнит и Татьяна Николаевна. «Когда Михаил вел прием, мы с ним часто болтали в соседней комнате, смеялись. Михаил выходил, спрашивал подозрительно:— Что вы тут делаете? — А мы смеялись еще больше...» Неясные контуры зародившихся через несколько лет мизансцен «Дней Турбиных» — смех Елены, ухаживания Шервинского — проступают в этих расплывающихся, стираемых временем воспоминаниях. «Собиралась ли
* Во второй половине 1920-х гг. П. С. Попов записал со слов Булгакова о героях пьесы «Дни Турбиных»: «Фамилии вымышленные, но в основе лежат фамилии прототипов. Так, например, фамилия Шервинского кончается тоже на «ский». Далее приписка Попова карандашом (видимо, позднейшая). — «Если не ошибаюсь — Сынгаевский».
73
у нас тогда молодежь? Собиралась... Пели, играли на гитаре... Михаил аккомпанировал и дирижировал даже... В это время у нас жил Судзиловский — такой потешный! У него из рук все падало, говорил невпопад. Лариосик на него похож...» Приходил Петр Богданов, брат несчастного самоубийцы, вольноопределяющийся. Частым гостем был Николай Сынгаевский. В доме жил по-прежнему двоюродный брат Константин (Николай уже покинул Киев). На одной из фотографий этого года — довольно большая компания молодых людей в столовой Булгаковых — Н. Л. Гладыревский, H. H. Сынгаевский, двое поклонников младшей сестры Лели (один из них, — как говорила нам в свое время Н. А. Земская, — некий Млодзиевский; оба вскоре уехали в Польшу). В воспоминаниях, в уцелевших фотографиях — осколки той, всегда хаотичной, реальности, которая гармонизирована в стройном порядке турбинского дома в «Белой гвардии». С годами все больше уясняется, однако — и все больше поражает, — детальность соответствий. Так, Татьяна Николаевна припоминает, что и Карась «Белой гвардии» имел своего прямого прототипа: «Карась был точно — все его звали Карасем или Карасиком, не помню, это было прозвище или фамилия... (Напомним «Белую гвардию»: «...подпоручик Степанов, Федор Николаевич, артиллерист, он же по александровской гимназической кличке — Карась. Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася...». — М. Ч.) Он был именно похож на карася — низенький, плотный, широкий — ну, как карась. Лицо круглое... Когда мы с Михаилом к Сынгаевским приходили, он там часто бывал. А Сынгаевский был высокого роста, с длинными ногами (вспомним «ноги циркулем» Мышлаевского. — М. Ч.), вообще сложен хорошо...»
Напомним, что ранней весной 1918 года Булгаков приехал в Киев в очень тяжелом состоянии — после неудачных попыток излечиться (нашедших, по-видимому, достаточно адекватное отражение в рассказе «Морфий»). Состояние это наблюдала воочию во всех деталях, по-видимому, только его жена. «Когда мы приехали — он пластом лежал... И все просил, умолял: «Ты меня в больницу не отдавай!» — Какой же больницы он боялся? — «Психиатрической, наверно... Стал пить опий прямо из пузырька. Валерьянку пил. Когда нет морфия — глаза какие-то белые, жалкий такой. Хотела уйти куда-нибудь, да посмотрю — жалко...» Он посылал ее в аптеку за новыми порциями — она упорно стала отказывать ему в морфии; возвращаясь, говорила, что не дали. «Сказала однажды — „Тебя уже на заметку
74
взяли". Тогда он испугался, но потом снова стал посылать...» Боязнь огласки, ужас перед беспросветным будущим, совершенно ясным ему как врачу, — все это помогало на время, но затем он терял самообладание. Однажды, рассказывала Татьяна Николаевна, бросил в нее горящий примус, в другой раз — целился из браунинга. «Ванька и Коля вбежали, вышибли у него браунинг... Они не понимали, в чем дело... Спрятали потом куда-то этот браунинг. Конечно, он бы не выстрелил, просто угрожал... Ему самому было очень плохо, он мучился». Казалось, что, рассказывая спустя шестьдесят лет, она жалела его так же, как в те месяцы. Ей он обязан был и избавлением от болезни. Она стала обманывать его, впрыскивать дистиллированную воду вместо морфия; терпела его упреки, приступы депрессии. Постепенно произошло то, что бывает редко, — полное отвыкание. Как врач, он, несомненно, хорошо понимал, что случившееся было почти чудом.
В тот год в доме № 13 жила и еще одна семейная пара — сестра Варвара со своим мужем Леонидом Сергеевичем Карумом. По свидетельству Татьяны Николаевны, отношения между свояком и шурином были натянутыми; какие-то черты Карума — нового для Булгакова человека в доме (сестра вышла замуж в 1917 году) — подтолкнут его впоследствии к созданию фигуры Тальберга в «Белой гвардии», хотя, естественно, незачем искать в романе биографии или портрета реального лица. Зато для биографии Булгакова, для представления о его ближайшем окружении в 1918— 1919 году большую ценность представляют сведения, любезно сообщенные нам дочерью Л. С, Карума Ириной Леонидовной Карум. «Отец мой был немецкого происхождения; его отец был чистокровным немцем, но никогда не жил в Германии, а был выходцем из рижских немцев; в Риге жили его брат и его две сестры — Эльза и Анна, одна из которых была старой девой, а вторая была женой директора гимназии, в которой учился мой отец. Мать моего отца (моя бабушка) , Миотийская Мария Федоровна, была чистокровная русская; она была 16-м ребенком в семье управляющего имением под Бобруйском». Дед нашей корреспондентки, офицер Варшавского полка, познакомился с будущей женой, приехав в гости к владельцу имения. «Но по положению того времени офицер этого полка мог жениться только на девушке из знатной семьи. Дедушке пришлось оставить службу, выйти в отставку, после чего он женился на любимой. Мой отец их первенец. Папа был исключительно трудолюбивым, организованным и порядочным человеком; во
75
всем он любил порядок; он не был скупым, но тратил деньги на нужные вещи, распределял их равномерно и никогда в жизни (подчеркнуто автором письма. — М. Ч.) не имел долгов, чему научил и меня. Когда в 1918 году он с мамой жил одной семьей с Булгаковыми, он никак не мог согласиться с образом жизни дяди Миши и тети Таси, которые могли в один миг выбросить, как говорил папа, только что полученные деньги „на ветер". Жили ведь „одним котлом". <...> Совершенно шокировал папу и прием Михаилом Афанасьевичем морфия! Теперь, когда у нас в стране открыто описывают состояние морфинистов в тот момент, когда нет у них наркотиков, можете себе представить, что происходило с дядей Мишей! <...> Ну, подумайте сами, как мог реагировать на это высоко интеллигентный, спокойный, трудолюбивый папа, горячо любящий мою маму и старающийся оградить ее от подобных сцен! У него не укладывалось в голове, что работали сестры Михаила Афанасьевича, его жена, а он жил на их счет, ведя фривольный образ жизни! Конечно, в тот период отношения между папой и Михаилом Афанасьевичем были натянутыми, но мой отец ценил талант шурина <...> Он очень жалел тетю Тасю, к которой М. А. относился высокомерно, с постоянной иронией и как к обслуживающему персоналу...»
Несмотря на естественные для семейного предания преувеличения, можно различить в этих характеристиках, дававшихся Л. С. Карумом Булгакову, некую реальную основу. Татьяна Николаевна рассказывала нам о том напряжении в отношениях, которое порождено было главным образом разницей характеров, привычек, семейных укладов. «Помню, мы взяли у них с Варварой деньги в долг, а отдать сразу не могли. Я принесла как-то кофе, французские булки, масло, сыр. Ну, Карум и сказал Варваре: „Вот они едят, пьют, а долг не отдают". Мы же ели в общей столовой — каждый ставил себе еду и ел...» Да и семейная жизнь Булгаковых была уже совсем не так лучезарна, как в совсем, казалось бы, недавние, но уже очень отдалившиеся довоенные годы, и Л. С. Карум, пожалуй, имел свои основания считать поведение женатого шурина «фривольным». Татьяна Николаевна рассказывала, среди прочего, как на Пасху, в 1918 или 1919 году, муж ее «опоздал к заутрене. Прошатался где-то и пришел уже к Варваре Михайловне» (у матери, которая жила со своим мужем отдельно — напротив Андреевской церкви, — собирались дети сразу после заутрени). «И он сказал: — Ну, меня за тебя Бог накажет. — Он частенько потом это повторял».
76
Многие из завсегдатаев дома на Андреевском спуске состояли с Булгаковым, как выясняется, в свойстве. «Коля Судзиловский, который был в доме Булгаковых, — это двоюродный брат моего папы, — сообщила Ирина Леонидовна Карум в августе 1987 года, прочитав журнальную публикацию того «Жизнеописания», с которым знакомится сейчас наш читатель, — сын родной сестры папиной мамы — Варвары Федоровны Судзиловской (в девичестве Миотийской). Жили они в Житомире. А Гладыревский — тоже папин двоюродный брат, сын тети Ани и ее мужа Гладыревского (директора гимназии!), которые переехали из Риги в Москву». И когда через несколько лет в «Белой гвардии» Елена пояснит раненому Алексею явление Лариосика — «Сережин племянник из Житомира» — в этом будет нарочитая, на родных и близких, пожалуй, рассчитанная близость к племяннику Карума, Николаю Николаевичу Судзиловскому.
Приведем отрывок и из более раннего письма к нам И. Л. Карум — от 20 августа 1981 года (вызванного первой и единственной прижизненной публикацией воспоминаний Т. Н. Кисельгоф — в нашей записи, где Татьяна Николаевна указывала на прототипическую связь Тальберга с Карумом). И. Л. Карум писала, что в обстановке тех лет ее отец «без всякого труда мог эмигрировать из России, как поступила часть бывших царских офицеров типа Тальберга. Но отец ушел в Красную Армию и прошел с ней под командованием Буденного до Крыма. Он преподавал в Феодосийской пехотной школе (я родилась в 1921 г. в г. Феодосии) , затем был переведен в Севастополь, далее в г. Киев, где преподавал в военной школе красных командиров им. Каменева. Он любил мою мать, и они никогда не разлучались...» В 1933 году Карум был арестован и сослан в Сибирь. «Мы не знали, где он находится, что с ним; нас выгнали из квартиры, мама пошла работать на завод „Большевик" в школу ФЗО, мы ездили в Бучу. Дело в том, что прямо в том месте, где стояла дача Булгаковых, организовали пионерский лагерь завода «Большевик», заняв и оставшуюся нетронутой, но отобранную у хозяев дачу Лисянских. Мама доставала путевки мне в этот лагерь, это были 1933—1934 годы, и, когда она приезжала ко мне, как теперь говорят в „родительский день", мы всегда шли на то место, где стояла раньше дача, и мама очень плакала, я едва уводила ее оттуда...»
...Мы крайне мало знаем тем не менее о жизни Булгакова этих двух лет, о том, например, были ли у него попытки
77
завязать какие-либо связи в литературной среде. А среда эта в городе существовала, жила своей разнообразной жизнью. На Пасху в заседании Киевского историко-литературного кружка проф. И. А. Линниченко читал доклад о литературных мистификациях (тема, к которой впоследствии Булгаков проявил интерес). В мае начал выходить еженедельник нового типа — «Куранты искусства, литературы, театра и общественной жизни». В № 3, вышедшем в июне, печаталась рецензия П. Пастухова на книгу С. Федорченко «Народ на войне». Софья Федорченко, работавшая сестрой милосердия в военном лазарете и написавшая на основе увиденного и услышанного книгу, состоящую из солдатских разговоров, жила тогда в Киеве; в двадцатые годы, в Москве, Булгаков подружился с ней и с ее мужем; быть может, начало знакомства было положено еще в Киеве.
В № 7 в статье «Художественные сокровища Киева, пострадавшие в 1918 г.» «Куранты» писали: «С уходом из Киева большевиков те бедствия, которые обрушились на Киев, еще не оказались исчерпаны. Страшный взрыв на Зверинце, происшедший 5 июня, живо воскресил в памяти перенесенное в январскую осаду», журнал сетовал: «МВД хочет ликвидировать памятник Александру, Кочубею, Искре, остатки памятника Столыпину...»
18 ноября 1918 года вечерний выпуск газеты «Последние новости» сообщает о том, что 19 ноября в Киевском литературно-артистическом клубе состоится вечер литературы и музыки, на котором Илья Эренбург прочтет лекцию «О современной поэзии», писатель Андрей Соболь — отрывок из своей книги, а затем Эренбург и Л. Никулин (будущий беллетрист, в это время именуемый еще поэтом) — свои стихи. 30 ноября та же газета сообщила о докладе H. H. Евреинова (известного петербургского режиссера, драматурга и теоретика театра) «Театр и эшафот».
Это время жизни Булгакова остается, повторим, наименее изученным, но ясно одно — многие последующие литературные и личные его симпатии и антипатии ведут свое начало именно с этого времени, когда в исключительно сложной ситуации все время меняющейся власти в Киеве оказались многие литераторы, впоследствии ставшие участниками московской культурной жизни.
Из будущей московской и петроградской профессуры в Киеве в это время — филолог Н. К. Гудзий (в 1911 году окончил Киевский университет), В. Ф. Асмус (в 1919 году он, выпускник Первой гимназии, тремя годами младше Бул-
78
гакова, также заканчивает историко-филологический факультет Киевского университета), М. П. Алексеев (так же как и философ Асмус, академик Алексеев был уроженцем Киева, закончил Киевский университет в 1918 году).
Из будущих московских знакомых Булгаков мог встретить в это время в Киеве и Л. Никулина, который в сентябре в № 8 «Курантов» печатает статью под названием «Книги не умирают», пишет об изданиях последнего времени (о впервые опубликованном полном тексте пушкинской «Гавриилиады», о книгах Блока и Есенина, выпущенных издательством «Знамя труда») и отмечает, что среди футуристов выделяется «любопытное дарование Маяковского»; о Маяковском рассказывал и И. Эренбург в докладе «О современной поэзии». В № 9 печатал рассказ Е. Зозуля.
Шли гастроли известной исполнительницы романсов Плевицкой, спектакли московского театра «Летучая мышь».
В Киеве шла в это время своя научная и культурная жизнь, которая, возможно, не оставалась вовсе вне поля зрения Булгакова, но вряд ли занимала его. Так, весной 1918 года, то есть вскоре после Булгакова, в Киев приехал замечательный русский ученый Владимир Иванович Вернадский (родители ученого были киевляне, детство его прошло на Украине) и деятельно занялся работой по созданию украинской Академии наук. «Я поставил тогда условие, — пишет он в своих воспоминаниях 1943 года незадолго до смерти, — что я не буду гражданином украинского гетманства, я буду принимать участие в культурной работе на Украине в качестве академика Российской Академии наук». По типу этой Академии он и строил работу, организовывая комиссии — по составлению устава Академии и проч. «Время было революционное, и пришлось спасать библиотеки в имениях поблизости Киева. Была образована поэтому третья комиссия, председателем которой тоже был я». «Из окрестностей Киева был переведен ряд библиотек, много тысяч томов». В октябре 1918 года в газетах были опубликованы список членов новообразованной Академии, ее устав, 27 октября состоялось первое общее собрание Академии, на котором должен был председательствовать старший по возрасту, профессор Киевской духовной академии Н. И. Петров (крестный отец М. Булгакова), но по каким-то причинам председательствовал второй старший по возрасту, профессор О. И. Левитский... Президентом Академии единогласно был избран В. И. Вернадский, который 9 ноября сделал доклад о значении живого вещества в геохимии,
79
впервые обнародовав одну из самых блестящих своих научных концепций...
Хотя на поверхности жизнь Киева шла относительно спокойно, подспудно нарастали катастрофические события уже недалекого будущего. Еще в апреле фельдмаршал Эйхгорн издал «Приказ о весеннем севе», вызвавший озлобление крестьян (в нем содержалось указание о возвращении помещичьей собственности).
Летом напряженность положения стала очевидной. 9— 10 июля до Киева дошли известия о левоэсеровском выступлении в Москве и убийстве Мирбаха. В середине июля 1918 года шла забастовка железнодорожников, охватившая значительную часть Украины. Вышедшие из Киева два поезда были задержаны в пути, а спустя десять дней под Киевом взорвали поезд, следовавший из Одессы. В том же июле недалеко от Киева, у станции Боярка, произошли серьезные столкновения крестьян с немецкими войсками. 27 июля был арестован и заключен в тюрьму Симон Петлюра. В начале августа в самом Киеве было поднято вооруженное восстание, плохо подготовленное и окончившееся кровопролитно, с большим числом жертв. Однако остановить развивающиеся события было уже невозможно. На улицах Киева среди бела дня, как напишет потом Булгаков, был убит 30 июля главнокомандующий германской армией на Украине фельдмаршал Эйхгорн, а 10 августа на Лукьяновской площади был повешен убивший его левый эсер Борис Донской.
Газета «Последние новости» (несомненный прообраз газеты «Свободные вести» в романе «Белая гвардия») 20 июня сообщила на последней странице, в самом низу, в разделе «Хроника»: «В Киеве получены сведения, что в Одессе формируется новая „добровольческая армия", 16 июля в Киеве открылся съезд монархистов; 23 июля та же газета уведомила в характернейшем для положения беспартийной газеты стилистическом ключе: «Киевские монархисты решили завтра, в 9-й день смерти Ник. Романова, вторично отслужить панихиду по бывшем царе в ряде церквей». 13 сентября печаталось сообщение из Кельна, выдержанное в тональности, которая Булгакову и его окружению не могла казаться приличествующей случаю: «Его светлость Гетман всея Украины после осмотра Кельна изволил отбыть в виллу Гюгель...» Эта тональность должна была служить таким же успокоительным средством, как и двусмысленные, зыбкие уверения в корреспонденции из Вены: «...Если даже державы согласия еще шире опутают север России
80
своими кровожадными сетьми, во всяком случае, насколько это видно по газетным сообщениям, они готовы признать независимость Украины». Газета стремилась быть угодной всем сразу. 7 ноября был освобожден из заключения С. Петлюра. 8 ноября: «Киев! Лови момент! Грандиозный бал-маскарад!»; 9 ноября: «Слухи об отречении имп. Вильгельма.» Гастроли Плевицкой... Беспорядки на железных дорогах...»; 11 ноября: «Брожение в австрийских частях»; «Грамота гетмана всея Украины» — призыв сохранять в этот опасный час полный покой.
«Странное, ненормальное впечатление производили Киев и Украина в то время, — вспоминает В. И. Вернадский. — Киев был переполнен немецкими офицерами, которые расхаживали по Крещатику, сидели в кофейнях. Приходили немецкие газеты, которые давали неверное освещение тому, что делалось в это время у нас и в Западной Европе, но никаких других известий мы не имели. На юге, в Подолии, были австрийские войска. Внешне в Киеве казалось все благополучно... Мы, однако, чувствовали, что все окружающее нас — декорум, а действительность — другая. Наконец, гетману удалось послать в Германию для каких-то экономических переговоров профессора С. Л. Франкфурта. Он привез в Киев впервые более точные известия о том, что все, что мы видим, — есть декорум и что в действительности началось крестьянское восстание, а в Германии революция; она не может долго сопротивляться. В это время на Украине все усиливалась скупка продовольствия и увоз его в Германию. Крестьянство стало защищаться. <...> Началась уже явная пропаганда среди немецких войск и среди населения, появились новые люди, раньше где-то скрывавшиеся. В один прекрасный день явились немецкие и русские солдаты (пьяные, в расстегнутых мундирах), которые братались, пели революционные песни; дисциплина лопнула, офицеры попрятались, говорят, начались среди них самоубийства. Немецкая армия разваливалась. Процесс шел чрезвычайно быстро». Этот выразительный протокол происходящего — хороший комментарий к «Белой гвардии» (где так тонко передана эта вибрация, эта тревожная неясность, пронизывающая, кажется, самый воздух киевской осени 1918 года) и материал для реконструкции самых общих черт жизни Булгакова этих месяцев.
13 ноября 1918 года, почти одновременно с аннулированием Брестского мира, появилось сообщение о сформировании на Украине нового правительства — Директории.
81
Чтобы современный читатель мог представить себе хотя бы в самых общих чертах, перед каким именно выбором стоял Булгаков вместе с его братьями и друзьями в эти недели, какие варианты возможных действий имелись в наличии, поясним детали специфической обстановки в Киеве во второй половине 1918 года. В четвертом томе «Очерков русской смуты» («Вооруженные силы юга России»), вышедшем в 1925 году в издательстве «Слово», А. И. Деникин так описывал ситуацию этого момента: «Формирование вооруженной силы, на что было получено гетманом разрешение германского правительства еще в бытность его в Берлине, представляло, однако, непреодолимые трудности. Всеобщий набор, на котором настаивал военный министр Рагоза, не обещал никакого успеха и, по мнению гетманских кругов, мог дать ярко большевицкий (правописание Деникина. — М. Ч.) состав. Формирование классовой армии — «вольного казачества» из добровольцев — хлеборобов — имело уже плачевный опыт, в виде почти разбежавшейся сердюцкой дивизии. Составленный в генеральском штабе проект формирования национальной гвардии при сечевой дивизии, с ее инструкторами, готовил явно вооруженную силу не для гетмана, а для УНС (Украинского национального союза, созданного в августе 1918 года под председательством В. К. Винниченко и в ноябре явившегося организатором Украинской директории. — М. Ч.) и Петлюры... Вообще все формирования на национальном принципе встречали резкий бурный протест в российском офицерстве, которое отнюдь не желало драться ни за гетмана, ни за самостийную Украину». В этих сплетениях не двух, а многих противоборствующих сил и разных течений приходилось самоопределяться тем, кто составлял круг друзей и близких Булгакова. Перед ними вставал неминуемый для мужчины, осознанно берущего в руки оружие, вопрос — против кого и в защиту чего оно будет обращено?
Еще в середине октября, в то время, когда началась революция в Германии и стало ясно — Германия вот-вот должна будет уйти с Украины и видимость равновесия нарушится, гетман отдал приказ о формировании Особого корпуса, подчиненного непосредственно ему самому — минуя правительство. Корпус предназначался «для борьбы с анархией»; во внутреннем своем устройстве он должен был руководствоваться «положением бывшей российской армии, действовавшим с 1-го марта 1917 г.»; чинам корпуса присвоена была «форма бывшей российской армии». Одновременно была объявлена регистрация всех офице-
82
ров и дано предупреждение о предстоящей мобилизации • офицеров и сверхсрочных унтер-офицеров (до 35-летнего возраста) по их желанию в украинские войска или в Русский корпус. «Первая комбинация в глазах офицерства, — как поясняет автор «Очерков русской смуты», — приводила к утверждению украинской самостийности внутри страны» (это никак не могло входить в планы старшего и младших Булгаковых), «вторая — к их немедленному выходу на фронт для защиты ее же от внешних посягательств». д. И. Деникин утверждает: «И офицерство не пошло никуда. Идейное — по убеждению, беспринципное — по шкурничеству. И в той, и в другой среде начался сильный отлив из Украины — одних в районы русских добровольческих армий, других — в те края, где еще не было принудительной мобилизации, где можно было жить покойно, служить в ресторанах, зарабатывать «на лото» и спекулировать». Это расслоение в среде офицерства бегло покажет впоследствии Булгаков в «Белой гвардии», хотя там основным временем действия станет декабрь 1918 года — пик напряжения, когда в Киеве осталась уже более или менее однородная офицерская среда: все, кто хотел и мог, уже разбежались («Те, кто бегут, те умирать не будут, — напишет автор «Белой гвардии», — кто же будет умирать?»). «Ввиду полного провала правительственной организации и неудавшейся мобилизации, пришлось прибегнуть к частной». Министр внутренних дел «принял отвергнутое им ранее предложение — вступить в соглашение с существовавшими в Киеве офицерскими обществами самопомощи и дать им средства и полномочия для формирования «дружин»; эти части предназначались прежде всего для охраны спокойствия и порядка в столице. Так возникли дружины полковника Святополк-Мирского, генерала Кирпичева, Рубанова, Голембковского и др. — частью чисто офицерские, частью смешанного типа, с добровольцами — преимущественно из учащейся молодежи, которая вообще откликнулась на призыв по-разному: одни пошли в офицерские дружины, другие искали «более демократических формирований», третьи — и их было немало — заявили, что предпочитают советскую власть украинскому самостийничеству, и выжидали развития событий». (Отзвук этих последних «предпочтений» слышен в словах Мышлаевского в последней главе «Белой гвардии», где он говорит о том, как придут большевики, «по матери обложат и выведут в расход» — «зато на русском языке»). К учащейся молодежи, ставшей перед этим выбором, относился и родной брат
83
Булгакова Николай, с осени 1918 года - студент медицинского факультета. 14 ноября в киевских газетах появилось сообщение о приказе генерала Деникина, который объявлял подчинение ему всех войск на территории России и мобилизацию всех офицеров. Негласный представитель Деникина в Киеве генерал Ломновский передавал в связи с этим начальнику деникинского штаба: «Сейчас я был приглашен к гетману, который просил передать: сегодня командиры дружин и местных полков являлись ему и доложили о своем переходе в подчинение вам. Ввиду сложного и тревожного положения в Киеве осуществление этого может вызвать неурядицы. Необходимо выждать несколько дней до прихода сюда войск Согласия. Теперь здесь идут формирования дружин, и отлив офицеров может повредить делу. Мы находимся в области слухов, мало ориентированы». Начальник штаба генерал Романовский отрицал издание главнокомандующим такого приказа: «Был приказ о мобилизации офицеров только на территории, занятой Добровольческой армией. Само собой разумеется, что войска на этой территории подчиняются главнокомандующему». Он резюмировал: «Приказ, появившийся в киевских газетах, результат какого-то недоразумения». Если это было «недоразумение», то оно имело важные последствия.
Гетман, узнав, что сформированные отряды выходят из его подчинения и являются отныне «поборниками общерусских интересов», на другой же день опубликовал новую грамоту, в которой говорилось: «...после пережитых Россией великих потрясений условия ее будущего бытия должны несомненно измениться. На иных началах, на началах федеративных должно быть воссоздано прежнее величие и сила Всероссийской державы, и в этой федерации Украине надлежит занять одно из первых мест...» Гетман безуспешно старался удовлетворить интересы разных, в том числе противостоящих, слоев.
15 ноября утренние «Последние новости» под заголовком «Вчерашний день» повествовали: «На улицах после полудня царило крайнее оживление — публика с редким любопытством расхватывала вечерние газеты, ожидая из них узнать что-нибудь о положении в Киеве. На улицах в этот момент обращало на себя внимание необычное передвижение небольших отрядов, среди которых преобладали офицеры добровольческих частей».
Любопытство публики к газетам было понятно — в один и тот же день, 13 ноября, в помещении министерства пу-
84
тей сообщения на нелегальном заседании представителей политических партий избрана была Директория в составе писателя, председателя Украинского национального союза В. К. Винниченко, С. В. Петлюры и других («еще в сентябре никто в городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте, как Белая Церковь», — напишет впоследствии автор «Белой гвардии»); состоялось первое заседание немецкого Совета военных депутатов, шли студенческие собрания и митинги. 14 ноября последовал приказ гетмана о запрещении собраний и манифестаций, закрытии высших учебных заведений и о введении комендантского часа. В тот же день в университете была организована студенческая демонстрация с протестом против этих мер (газеты сообщали, что 8 человек убито, 12 ранено — «Відродження», № 188), а генерал Кирпичев объявил, что берет на себя командование добровольческими дружинами, которые призваны охранять «покой и порядок» в Киеве («Киевская мысль», № 215). 15 ноября по городу расклеено было воззвание Директории с призывом к свержению гетманской власти. При этом гетману и его министрам предлагалось уйти — без пролития крови, а офицерам — сдать оружие и выехать «куды хто схоче». В эти дни уже шло восстание против гетмана, движущей силой которого были сосредоточившиеся в Белой Церкви (куда тайно переехала из Киева Директория) галицийские сечевые части; полк перешедшего от гетмана к Петлюре Болботуна (того, кто стал, по-видимому, прообразом Балбачана в «Днях Турбиных») уже обезоружил офицерские дружины в Харькове и, не встретив препятствий со стороны немецких властей (сложно лавировавших между гетманом и Директорией), объявил власть Директории.
О том, как шел давно объявленный призыв в войско гетмана, достаточно красноречиво говорит короткое сообщение в утреннем выпуске «Последних новостей» от 15 ноября 1918 г.: «По сведениям генерального штаба призыв офицеров протекает во всех корпусных округах вполне нормально и успешно». В переводе с языка этой газеты на язык реальности это могло означать только одно — офицеры в гетманские войска шли неохотно. Для большинства из них особенно значимыми были в этой ситуации действия Деникина; сам он спустя семь лет писал: «Положение мое было весьма затруднительным. Нарождающаяся киевская вооруженная сила решительно отказывалась идти под знаменем гетмана самостийной Украины. Для поддержания
85
патриотического подъема офицерства и сохранения края от вторжения большевиков до ожидаемого прихода союзников, я решил дать киевским формированиям флаг Добровольческой армии». 17 ноября Деникин направил представителю Добровольческой армии в Киеве Ломновскому телеграмму с приказом «объединить управление всеми русскими добровольческими отрядами Украины, причем ему вменяется в обязанность всемерно согласовать свои действия с интересами края, направляя все силы к борьбе с большевиками и не вмешиваясь во внутренние дела края...». Эта программа скоро обнаружила свою неисполнимость. Пока же генерал Ломновский, получив такой приказ, 18 ноября посетил гетмана (о чем тут же сообщила газета). В тот же день была опубликована очередная грамота гетмана: «В виду чрезвычайных обстоятельств, общее командование всеми вооруженными силами, действующими на территории Украины, я вручаю генералу от кавалерии графу Келлеру на правах главнокомандующего армиями фронта... Всю территорию Украины объявляю театром военных действий, а потому все гражданские власти Украины подчиняются ген. графу Келлеру».
Таким образом, устранялось непосредственное подчинение добровольческих российских дружин — гетману, а вместе с тем — они косвенно выводились из подчинения командованию Добровольческой армии, хотя сам флаг ее символически реял над этими дружинами.
Грозный приказ нового главнокомандующего подчеркнул эту сложность взятой им на себя функции — он грозил военно-полевым судом тем, кто «отказываются принимать участие в подавлении настоящего восстания, мотивируя это тем, что они считают себя в составе добровольческой армии и желают драться только с большевиками, а не подавлять внутренние беспорядки на Украине» (утренние «Последние новости», 21 ноября 1918 г.).
Характернейшая по уклончивой стилистике и неопределенности содержания заметка появляется в вечернем выпуске «Последних новостей» 19 ноября 1918 года: «Киев 19 ноября. Снова туман, тяжелый осенний туман навис над нами и давит своей тяжестью. Откуда он пришел, какими ветрами занесло его к нам, говорить не будем, ибо никому это в точности неизвестно» (словом, ничто не могло «рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах» — в строках «Белой гвардии»). Но туман есть и жить в нем мы должны», («...вставал и расходился туман» — в прямой связи с обволакивающим туманом тех дней конча-
86
ет Булгаков впоследствии этими словами первую часть «Белой гвардии.» — М. Ч.). Нас со всех сторон окружают слухи и сплетни. В тумане родятся провокационные выступления. К нам доносятся призывы ко всякого рода выступлениям.
В такой атмосфере трудно сохранить спокойствие, но сохранить его необходимо».
Спокойствие сохранять было действительно трудно.
27 ноября ушел в отставку, не получив потребованной им полной власти, генерал Келлер — в своем прощальном приказе он пояснял: «...считаю, что без единой власти в настоящее время, когда восстание разгорается во всех губерниях, установить спокойствие в стране невозможно...»
Все чаще в газетах тех дней упоминается Энно — назначенный союзными державами в Киев французский консул «с особыми полномочиями». Прибыв в Одессу, он, начиная с 20 ноября, обращался оттуда к киевскому германскому штабу и гетманскому правительству с телеграммами от имени Согласия (Антанты). Напомним, что союзники находились с немцами в состоянии перемирия и готовились заменить их на Украине. До этого момента отодвигалось решение вопроса самоопределения Украины и его национального характера. Телеграммы гласили, в частности, что немцы обязуются поддерживать порядок в Киеве и во всем крае — до прихода союзников и что «державы Согласия ни в каком случае не допустят вступления войск Петлюры в Киев...»
Вот почему ожидание прибытия союзников становилось день ото дня все напряженнее. Из номера в номер «Последние новости» печатают в течение ноября — начала декабря сообщения под постоянной газетной шапкой, набранной очень крупным шрифтом: «К прибытию союзников», перемежая их обычной литературно-театральной информацией — «Поступило в продажу второе издание сборника рассказов Г. Н. Брейтмана „Ремонт любви"», «Вышел из печати очередной 23-й № сатирического еженедельного журнала „Урод"», «Московский театр „Летучая мышь" Н. Ф. Балиева...», «Вышла из печати и поступила в продажу книга профессора-священника Сергея Булгакова „На пиру богов" (современная диалогия)»...
19 ноября: «Союзный флот (от соб. кор.). Одесса, 18. По слухам, флот союзников сегодня выходит в Черное море». И тут же следующее сообщение, уже под новым заголовком: «Союзный флот в Черном море»: «...сейчас сообшают о выходе из Босфора двенадцати военных судов, сопро-
87
вождающих транспорты с цветными войсками, назначенными в Севастополь». С нового абзаца: «Команда пришедшего парохода «Посадник» видела на горизонте четыре миноносца».
26 ноября (во вторник) газета «Вечер» печатает сообщение «Перед приездом французского консула»: «Как выяснилось, находящийся в Одессе французский консул Энно несколько задержал свой приезд в Киев в виду заявления представителей железнодорожных властей о том, что через 3 дня его переезд из Одессы в Киев сможет быть обставлен большими удобствами и вполне гарантирован от каких бы то ни было случайностей. В четверг состоится совещание находящихся в Киеве представителей союзного консульства, на котором будет разработана программа торжественной встречи как г. Энно, так и прибывающих в Киев союзных войск».
И здесь же — «Жертвы долга. Опубликован новый список убитых в бою с петлюровцами офицеров. Сегодняшний список заключает в себе 33 убитых...» Среди них — полковники, подполковники, прапорщики братья Езерские, юнкер Якобенко... «Остальные 18 трупов до того обезображены, что опознать их нет никакой возможности. Трупы совершенно раздеты, у них вырезаны языки, отрезаны носы, уши, пальцы рук и ног и разрезано все тело. Сегодня в 12 часов трупы убитых доставлены в анатомический театр». Под аккомпанемент таких сообщений братья Булгаковы готовились защищать свой город.
Впрочем, сообщения о военных действиях на той же полосе «Вечера» выглядели так же оптимистически, как и в «Последних новостях»: «...державной вартой разбита шайка бандитов... 25 ноября шайка бандитов, под прикрытием утреннего тумана, напала на отряд правительственных войск, но была отбита, оставив на поле сражения 8 убитых... 25 ноября банда повстанцев, двигавшаяся на Миргород, разбита правительственными войсками и державной вартой» (полицией гетманского правительства).
Специальный корреспондент «Вечера» двадцатилетний Михаил Кольцов, недавний выпускник киевского реального училища, также оптимистически сообщал: «Добровольческие дружины дерутся храбро. Стальные французские каски на головах добровольцев хранят на себе следы настоящего исполнения воинского долга. Молодая сердюцкая дивизия тоже показала свою энергию и бесстрашие. Тоже можно сказать и про сердюцкую артиллерию. Медленно, но упрямо киевские войска оттесняют Петлюру от столицы». И далее
88
корреспондент оказывался непосредственно в петлюровском тылу, в шинке села Юровка: «Большинство заседающих в шинке принадлежит к разбитому добровольцами отряду. Какие разговоры! Какая злоба!» Он описывал двух людей, речь одного из которых проникнута «бешеной ненавистью против „вероломных" жителей украинской столицы, поддерживающих своими симпатиями антипетлюровцев, <...> и ведется на смешанном украинско-польско-галицийском жаргоне. Зато его собеседник, немолодой испитой человек в потрепанном френче, говорит по-русски, ясно, а для меня и совсем вразумительно:
— Обнаглели, совсем обнаглели, товарищ, эти киевские кошельки... <...> Да я бы на вашем месте, товарищ, перво-наперво блокаду им устроил. Мрите с голоду, собачьи дети! <...>
Глаза у него блестят, губы кривятся дрожаще и мстительно.
— Еще по шкалику, товарищ!
Шкалики звенят, объединяя, — в который раз! — недавних кровавых врагов, большевика и петлюровца.
Что же так примирило приблудшего (?) на Украину потрепанного коммуниста и этого ярого самостийного „ci4e-вика"? Какая платформа их объединила?
О платформе помолчим... Не дай Бог жителям Киева увидеть осуществление этой платформы». Булгаков, несомненно, со вниманием просматривавший в эти дни все крупные газеты в поисках какой-либо информации о реальном положении дел, должен был с изумлением читать эти строки человека, печатающего статьи против Петлюры и в то же время спокойно сидящего в шинке в его тылу. (На фоне именно этих киевских впечатлений будет он воспринимать впоследствии руководящую партийно-издательскую роль Михаила Кольцова в Москве). «...Много трагического и нелепого, печального и смешного придется увидеть в наши жутко-веселые дни», — заключал М. Кольцов. Булгакову было решительно не до веселья. Склонности к авантюризму он был, как нам представляется, начисто лишен.
29 ноября в полосе «Последних новостей», озаглавленной «Положение на Украине», — множество цензурных «дырок»; уяснить «положение» читателю невозможно, в третьей полосе целиком выбиты две колонки под шапкой «Перед выходом номера»: власти озабочены спокойствием читателя... 30 ноября, в вечернем выпуске — переговоры германского командования с консулом Энно; прибытие в Одессу сербских войск (Шервинский в «Белой гвардии»:
89
«Позвольте сообщить важную новость: сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров...» 2-го в газетах: «Проездом в эмиграцию промелькнули Юшкевич и Бунин. Они читали свои рассказы в Интимном театре. Ждали А. Толстого, но он в Киев не попал», — вспоминал Н. Ушаков. Утренние «Последние новости» сообщали 3 декабря: «Вследствие задержки в пути из Одессы в Киев вечер прозы и поэзии Ал. Толстого переносится на один из ближайших дней», но нового объявления не последовало. 2 декабря в вечернем выпуске: «Впереди нашего фронта стоят германские кавалерийские части... станция Фастов занята была вчера германскими войсками. Войска Петлюры, очистив станции, ушли в неизвестном направлении» (автор «Белой гвардии» процитирует газету «Свободные вести»: «...ушел в неизвестном направлении со своим полком и 4-мя орудиями...»). Это — момент, когда Петлюра двинулся из Белой Церкви через Фастов к Киеву, но захват им Фастовского железнодорожного узла парализовал уже идущую эвакуацию немецких эшелонов и вызвал столкновение с немцами, И у Петлюры и у восставших против него нескольких рот дружин Святополка-Мирского и других сил было еще недостаточно для перевеса одной или другой стороны. Оценить реальную ситуацию было, однако, невозможно — информации не хватало, оставалось ждать дальнейшего развития событий.
2 декабря: «В течение ближайших дней в Киев ожидается прибытие нескольких многочисленных отрядов союзных войск». 3 декабря — сообщение о гибели офицеров от руки повстанцев, а 5 декабря четырежды — в информациях от 2 до 5 декабря повторяется одна и та же сводка: «На фронте под Киевом и в городе спокойно!» Здесь же — сообщение о том, что крейсер «Мирабо» с французскими войсками прибыл в Одессу: «Первый эшелон отправился уже в Киев». (Через несколько дней появится отчаянно-оптимистический заголовок: «Французы в Жмеринке».)
В эти дни, когда чем спокойнее сводки, тем более насыщен беспокойством, кажется, самый воздух на улицах Киева, 7 декабря в газетах появилось очередное сообщение под примелькавшимся уже заголовком: «Мобилизация в Киеве»: «Согласно закона от 5 декабря 1918 г. о призыве родившихся с 1 января 1889 г. по 31 декабря 1898 г...» — и указывалось место регистрации призывников. Это относилось уже к двум братьям Булгаковым — Михаилу и Николаю. Но они, скорей всего, не спешили записываться в гетманские войска. В последующие дни газеты продолжали гипнотизировать горожан надеждой на скорое прибытие союзников. 11 декабря вечерний выпуск «Последних ново-
90
стей» сообщал: «Из достоверных источников нам известно, , что вступление первого отряда союзников в Киев ожидается в конце этой недели. В гостинице „Континенталь" приготовлены помещения для французских офицеров». И в тот же день — известие о скором прибытии сенегальцев... Газеты принуждали киевского обывателя возлагать на «цветные» войска какие-то особенные надежды, что окрашивало все происходящее дополнительным фантасмагорическим светом. Отблески его — на страницах романа «Белая гвардия»: «По сообщению нашего корреспондента ведутся переговоры о высадке двух дивизий черных колониальных войск. Консул Энно не допускает мысли, чтобы Петлюра...» — читает Алексей Турбин в газете «Свободные вести», а на изразцах печки в его доме — записи, сделанные рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения; «Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, — не верь, союзники — сволочи».
Игривы Брейтмана остроты,
— И где же сенегальцев роты? — шутят газеты; «И где же сенегальцев роты? отвечай, штабной, отвечай», — вопрошает Мышлаевский Шервинского — адъютанта гетмана. А тот уверяет — вслед за газетами: «Сам князь говорил мне сегодня, что в Одесском порту уже разгружаются транспорты: пришли греки и две дивизии сенегалов»...
Для воссоздания атмосферы последующего месяца — одного из наиболее драматичных в киевской жизни Булгакова и близких ему людей — воспользуемся свидетельством очевидца. Это — дневник военного врача Александра Ивановича Ермоленко (1891—1958), находившегося в Киеве в одно время с Булгаковым. «24 ноября. Седьмой день гремят орудия гетманские и петлюровские под самым Киевом. Петлюра со своими австрийскими сечевиками и приставшими (к ним?) большевиками — с одной стороны, и добровольческие дружины почти из одних офицеров (бывших) — с другой. Бой идет возле Поста-Волынского. Это так близко от нас, что прекрасно слышны ружейные залпы и пулеметы. Германские войска участия в бою не принимают» *. Это — те самые события, о которых тогда же рассказывает Турбиным ввалившийся к ним в дом полуобмо-
* Военно-медицинский музей МО СССР, Отдел фондов № ОФ— 60024/4, л. 48—48 об. (Далее цитаты из этой ед. хр., л. 48/об. —54 об.); за помощь в копировании этого важного источника автор благодарит старшего научного сотрудника Музея Валентина Петровича Грицкевича, составителя ценного печатного каталога рукописей «Воспоминания и Дневники в фондах Музея» (Л., 1980).
91
роженный Мышлаевский: «Сутки на морозе в снегу... Господи! Ведь думал — пропадем все... К матери! На сто саженей офицер от офицера — это цепь называется? Как кур чуть не зарезали!», «Нуте-с, в сумерки пришли на Пост. Что там делается — уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело, не знает. И главное — мертвых некуда деть!» («Белая гвардия»).
Автор дневника записывает далее: «11-го числа ходил я призываться. С 9-го началась мобилизация родившихся с 1889—1898. Врачей призвали на общих основаниях, т. е. под винтовку. Меня включили в какую-то «охранную дружину» и, как старше 27-летнего возраста, отпустили пока домой с тем, что, в случае надобности, призовут для охраны самого города».
Сохраняло ли силу — в условиях иной государственности — полученное Булгаковым еще в Москве освобождение от военной службы? Если нет, то это — и его ситуация.
Речи Турбина в «Белой гвардии» — косвенный (как всегда, когда мы имеем дело с высказываниями литературного героя), но, однако, едва ли не единственный источник для предложений о строе мыслей Булгакова в 1918 году. «Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел эту мразь с хвостами на головах? Гетман. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию? В двух шагах враг, а они дружины, штабы? Смотрите, ой, смотрите!
— Панику сеешь, — сказал хладнокровно Карась».
13 декабря врач — автор дневника — записывает: «Сегодня с полдни кругом Киева работает артиллерия. На улицах полно народа, и выстрелы никого не пугают. Напротив, большинство улыбается и особенно сильное гуканье сопровождается различными прибаутками. Создается такое впечатление, что Петлюра никого не пугает и скорее желателен толпе, чем антипатичен ей. Поезда теперь ни в какую сторону не ходят — всюду Петлюра. Цены на продовольствие вскочили: черный хлеб до 5 р. за фунт, а сало до 24 р., пуд дров — 8 р.
13 декабря. Днем почти все магазины заперты. Работать пришлось под трескотню пулеметов и оружейные залпы.
92
Кто-то говорил, что на Печерске уже Петлюра, а кто, что восстала какая-то дружина гетмана. Всюду чувствуется страшное напряжение, у всех нервы страшно напряжены. К вечеру на улицах стали собираться толпы, провожающие отступающие из Киева отряды гетмана — свистом и гиканьем. Не щадили толпы и Красный Крест. Ехавших на козлах двуколок сестер встречали площадной бранью. К вечеру разнеслась весть, что Петлюра вступил в Киев со стороны Святошина, что на Европейском базаре масса трупов добровольческих отрядов. Во многих местах работают пулеметы».
13 декабря 1918 года утренний выпуск «Последних новостей» сообщал: «Сегодня в совет министров внесен в срочном порядке законопроект о досрочном призыве новобранцев, родившихся в 1900 г.» Это срочно — досрочно призывался уже год Вани Булгакова — младшего брата...
В эти дни, по воспоминаниям Татьяны Николаевны, Булгаков, как и его младшие братья, уходит защищать город, еще не зная, что 14 декабря гетман бежал с немцами. «К нему приходили тогда разные люди, совещались и решали, что надо отстоять город. И он ушел. Мы с Варей вдвоем были, ждали их. Потом Михаил вернулся на извозчике, сказал, что все было не готово и все кончено — петлюровцы уже вошли в город. А ребята — Коля и Ваня — остались в гимназии. Мы все ждали их, а они к петлюровцам попали в ловушку».
О том, что происходило в это время в гимназии, сохранилась семейная легенда, записанная спустя пятьдесят лет Еленой Сергеевной Булгаковой со слов жены Николая Афанасьевича. Легенда эта имела даже название — «Как педель Максим спас Николку»: «Когда петлюровцы пришли, они потребовали, чтобы все офицеры и юнкера собрались в Педагогическом музее Первой гимназии (музей, где собирались работы гимназистов). Все собрались. Двери заперли. Коля сказал: «Господа, нужно бежать, это ловушка». Никто не решался.
Коля поднялся на второй этаж (помещение этого музея он знал как свои пять пальцев) и через какое-то окно выбрался во двор — во дворе был снег, и он упал в снег. Это был двор их гимназии, и Коля пробрался в гимназию, где ему встретился Максим (педель). Нужно было сменить юнкерскую одежду. Максим забрал его вещи, дал ему надеть свой костюм, и Коля другим ходом выбрался — в штатском — из гимназии и пошел домой. Другие были расстреляны».
(Напомним снова фрагменты из «Белой гвардии» —
93
толпа юнкеров и офицеров у музея, которую видит Турбин, и слова Малышева — «Я только что был там, кричал, предупреждал, просил разбежаться. Больше сделать ничего не могу-с», и описание бега Николки по проходным дворам: «Падая со второй стены, угадал довольно удачно: попал в сугроб...» и т. п.)
В тот же самый день 13 декабря в вечернем выпуске публиковалось сообщение от главного германского командующего. Оно гласило, что «в соответствии с теми обстоятельствами и фактами, что в большей части Украины власть находится в руках Украинской директории», «между германским военным командованием, солдатским советом и Украинской директорией заключен договор, по которому германские войска не будут оказывать никакого сопротивления вступлению Директории в Киев». Плохой русский перевод усиливал устрашающий смысл документа: «Сохранение порядка в городе является величайшей важностью.
Чтобы избежать актов мести со стороны украинских войск, безусловно необходимо воспрепятствовать, чтобы со стороны добровольческих отрядов перед их отходом не было произведено каких-либо террористических актов в отношении украинских войск. Если же это произойдет, то германские власти не могут взять на себя ответственность за последствия». Небольшая заметка «Специальный поезд» извещала: «Как нам сообщают, между высшим германским командованием и Директорией состоялось соглашение о пропуске особого поезда специального назначения из Киева в Швейцарию». (В этом-то поезде и уедет в «Белой гвардии» Тальберг...)
Оперативная сводка от штаба главнокомандующего войсками гетмана была, однако, по-прежнему почти безмятежна: «Ночью наши части на Житомирском шоссе вели перестрелку с разведкой противника.
На всех остальных участках киевских укрепленных позиций и в городе ночь прошла спокойно...» В том же номере газеты: «Новые гастроли!! Весь день в Би-Ба-Бо...»
На следующий день, в субботу, газета не вышла, а в воскресенье, переставив порядок старого и нового стиля в соответствии с вкусами новой власти — «2 (15) декабря», та же самая газета, которая ровно три месяца назад писала о том, как его светлость изволил отбыть в виллу, опубликовала его отречение и воззвание Киевской городской думы: «Граждане! Гетманский режим, режим реакции и насилия, пал. В город вступили войска Директории Украинской народной республики...» В воззвании, среди прочего, поставлен был вопрос об офицерах Добровольческой ар-
94
мии — их просили отпустить с оружием в Новороссийск. Лаконичное первое «Постановление Директории» за подписью Винниченко гласило: «Кто в этот момент препятствует народу бороться с гетманом, помещиками и капиталистами, кто препятствует утверждению народной власти республики, тот преступник».
На четвертой странице газеты заметка «Курьезы мобилизации» повествовала: «Как курьез следует отметить, что призыв молодых людей продолжался вплоть до вчерашнего дня.
Несмотря на доносившуюся канонаду, приемочная комиссия продолжала заседать и вербовать новобранцев. Только приход войск Директории прекратил, наконец, объявленную мобилизацию. Все завербованные с приходом войск Директории разошлись по домам. На этом закончилась своеобразная мобилизация». Читающий эти строки сегодня может легко вообразить то бессильное бешенство, с которым открывал Булгаков газету, описывавшую «курьез», едва не стоивший жизни его младшим братьям. Еще одна заметка, имевшая заголовок «По домам», кажется прямым комментарием к будущему роману и пьесе Булгакова: «В пятницу весь день шла усиленная работа по формированию особого корпуса мобилизованных. Когда к вечеру дежурные офицеры узнали сообщения вечерних газет, они обратились к мобилизованным: «Ребята, можно расходиться по домам».
Вернемся к дневнику очевидца — хронике жизни Киева этих дней: «15 декабря. Петлюра вчера вечером вошел в город. Гетман еще утром зрiкся влади». Сегодня днем в разных частях города трещат пулеметы, но в общем мало. Раненых почти нет. Директория в Киев еще не приехала.
19 декабря. Во всех церквах трезвон с утра. Днем приехала Директория: Винниченко, Петлюра, Швец, Андриевский. Прекрасные войска Петлюры (хорошо одетые, дисциплинированные) заполнили центр города. Всюду национальные флаги, всюду народ. Но как и вчера и позавчера, громко никто не говорит, все сосредоточены и молчаливы. Слышится почти исключительно украинская речь. Бывших офицеров, которых раньше одним взглядом можно было отличить, теперь нет и следа». Все это услышит и увидит Михаил Булгаков, унесет в своей памяти, уезжая из Киева, — и воссоздаст потом на страницах романа, облегчая задачу своим будущим биографам... «Софийский тяжелый колокол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть всю эту страшную, вопящую кутерьму...», «Два двуцветных прапора, наклоненных меж обнаженными шашками, плыли
95
следом за густым трубным оркестром, а за прапорами, мерно давя хрустальный снег, молодецки гремели ряды, одетые в добротное, хоть немецкое сукно», «Я на вашей мови не размовляю», «Тримай их! Офицеры. Офицеры. Офицеры... Я их бачив в погонах!»
Из разговоров 1980 года с киевлянкой, которая была юной девушкой в 1918—1919 годах и всю жизнь прожила на Андреевском спуске: «Часовня была напротив гастронома нынешнего — туда отнесли офицеров убитых. Ходили смотреть...
— Узнавать своих?
— Нет, не только узнавать — просто ходили смотреть... Около Андреевского спуска была небольшая церковь, там тоже была масса трупов... И на улицах лежали. Я шла однажды — вижу, лежит. Такой молодой, красивый. Бедный! Но он сам был виноват: ему говорили — не ходи! — а он пошел все равно». (И видимо, как в «Белой гвардии», «в переулке сверкнуло и трахнуло, и капитан Плешко <...> заплатил за свое любопытство к парадам. Он лег у палисадника церковного софийского дома навзничь, раскинув руки...»)
Известный историк З. (1904—1983) рассказывал нам в 1970-е годы, что он был в кадетском корпусе в Киеве в 1918 году. Ему было 14 лет; их отделение не выводили против петлюровцев. Корпус продолжал существовать и при петлюровцах, и при большевиках, хотя занятий не было. Когда после вступления в город Петлюры их вывели на прогулку на плац, они увидели убитого офицера — босого. Впечатление было очень сильным. Этот же очевидец рассказывал, как несколько месяцев спустя, весной 1919 года, на Киев шел Деникин; из города уходил эшелон с большевиками. «Мы с моим другом стояли — со споротыми нашивками — недалеко от путей. На площадке вагона медленно двигавшегося поезда стоял красный командир — видимо, бывший офицер. — Что, кадеты, своих ждете? — спросил он, довольно миролюбиво. Мы были тогда уверены, что Деникин вот-вот войдет. Мне было уже 15 лет; до сих пор не понимаю, почему я не пошел к нему навстречу, а спокойно ожидал в городе. Он не дошел 60 километров. Я никогда так не плакал, как тогда, когда он стал отступать». Размышляя над перипетиями последующей судьбы братьев Булгаковых, не упустим из виду силу этой эмоции, оставшейся живым переживанием для свидетеля тогдашних драматических событий и полвека спустя.
Рассказы очевидцев киевской жизни тех лет сходны до деталей.
В январе 1983 года Любовь Евгеньевна Белозерская го-
96
ворила нам: «Я была в Киеве в то же самое время — в 1918-1919 годах. Василевский-Не-Буква (ее первый муж. — М. Ч.) был редактором-издателем «Киевского эха» и сотрудничал в «Чертовой перечнице». Я его тогда не знала — мы поженились потом, в Одессе... В Киеве был ужас. Как-то я вышла из дому утром — лежит молодой человек с таким лицом... такое страдание... Он лежал в студенческой тужурке наполовину натянутой на китель — он торопился натянуть, и его застрелили, не успел!» И в ответ на наш вопрос: «Конечно, в «Белой гвардии» все очень смягчено! Даже на удивление! Там ведь было что-то ужасное! Тогда я ничего не боялась — а теперь я вспоминаю то, что видела, — мне даже иногда теперь это снится — вспоминаю, и меня охватывает страх! Вы можете себе представить?!»
Эренбург, проживший в Киеве с осени 1918 года по ноябрь 1919-го, пишет о том же самом времени, но можно увидеть отличия его угла зрения от угла зрения автора «Белой гвардии»: «Войска Директории подошли к городу. Напоследок белые офицеры опорожнили винные погреба, пили, пели, ругались, плакали и расстреливали «подозрительных». <...> Петлюровцы шли по Крещатику веселые, никого не трогали. Московские дамы, не успевшие выбраться в Одессу, восхищались: «Какие они милые!» Белых офицеров собрали и заперли в Педагогическом музее (очевидно, дело было в размерах помещения, а не в педагогике). Помню, как все перепугались: раздался грохот, во многих домах повылетали стекла. Обыватели поспешно стали набирать воду в ванны — может быть, не будет воды — и жечь петлюровские газеты. Оказалось, что кто-то бросил бомбу в Педагогический музей».
В какой-то из дней этой зимы в доме № 13 по Андреевскому спуску произошел эпизод, сохранившийся в памяти Татьяны Николаевны. «Один раз пришли синежупанники. Обуты в дамские боты, а на ботах шпоры. И все надушены «Кёр де Жаннетом» — духами модными. «У вас никто не скрывается?» Кого-то они искали. Смотрят — никого нет. Как Раз Михаил собирался уйти, он в пальто был. Они полезли под стол, под кровать, посмотрели туда-сюда, потом говорят: «Идем отсюда, тут беднота, ковров даже нет. Тут еще квартира есть — может, там лучше!» И пошли вниз — к архитектору этому, у которого снимали квартиру (Василию Павловичу Листовничему. — М. Ч.). Вот там они разошлись! Мы потом это узнали — там такой крик стоял, — они просили, чтоб мы спустились к ним...» Про этот грабеж рассказывала нам и дочь Листовничего: «Тогда ведь столько
97
было всяких банд — дед Влас, тетка Маруська — Подол весь был ею занят... Кто-то из них и нас однажды ограбил.
...Золотых вещей не взяли — что скрывать, они у нас были! — взяли только деньги...» Таким образом, сцена грабежа у Василисы в «Белой гвардии», как и многие другие, имеет свой реальный прообраз.
«Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, но 1919 был его страшней», — свидетельствует повествователь «Белой гвардии». В какой атмосфере готовился встретить этот год Михаил Булгаков?
Дочь домовладельца рассказывала нам в 1981 году: «Как-то у Булгаковых наверху были гости; сидим, вдруг слышим — поют: «Боже, царя храни...» А ведь царский гимн был запрещен! Папа поднялся к ним и сказал: «Миша, ты уже взрослый, но зачем же ребят под стенку ставить?» И тут вылез Николка: «Мы все тут взрослые, все сами за себя отвечаем!» А вообще-то Николай у них был самый тактичный...»
Неизвестно, к какому моменту относится этот эпизод, но, скорей всего, именно к ноябрю—декабрю 1918 года, к которому приурочена соответствующая сцена романа «Белая гвардия» и пьесы «Дни Турбиных» — гимн был запрещен и при гетмане.
...Дневник очевидца: «31 декабря. Не успела Директория въехать в Киев, не успели еще истрепаться уличные украшения, а уже в воздухе чувствуется что-то очень тяжелое. Уже уехали союзные консулы из Киева, уже перестали ходить поезда в Одессу... Всякие слухи, шепотом передаваемые другим, нервируют каждого. Говорят, большевики надвигаются, говорят, что союзные войска уже вступили в бой с петлюровцами возле Одессы.
Все это так правдоподобно... В городе неспокойно — то тут, то там раздаются отдельные выстрелы — круглые сутки. В самих войсках республиканских организованность совсем не такая, как это кажется на первый взгляд. Эксцессы с летальным исходом между солдатами и командным составом не совсем редки... Сегодня сделал я ампутацию ноги одному петлюровцу».
В ночь под Новый год движение по улицам Киева разрешено было не до 10-ти, как стало уже привычным, а до 2-х часов ночи.
В первом — новогоднем — номере газеты И. Василевского (Не-Буквы) «Киевское эхо» в заметке «Большевистская опасность» сообщалось: «Наступление большевиков на Харьковскую губернию, предпринятое советскими войсками
98
вызывает общее возмущение в кругах украинских и неукраинских демократических партий... Украинцы всегда (!) стремились жить в мире с советской Россией, сохраняя полный нейтралитет к ее внутреннему положению». Другая заметка в том же номере ставила вопрос: «Кто же виновник расстрела студентов?» Напоминалось, что 15 ноября возле университета «разыгрались кровавые события: собравшиеся студенты были расстреляны вартой и офицерской дружиной Святополк-Мирского»; автор уверял, что студенты манифестировали с красными флагами.
В вечернем выпуске «Последних новостей» от 1 января 1919 года — «Новогодний фельетон» В. Стечкина:
«— С новым «счастьем»!
— Это прямо оскорбительно!
— ...А старое было?
— ...Лет этак через пятьдесят — семьдесят — пожалуй.
— Согласен.
Хорошо бы, знаете ли, через анабиоз заморозить себя на примерное количество годиков, а потом оттаять.
С 1969-м-с! Позвольте поздравить.
Вышел на улицу, папиросу за шесть копеек десяток закурил.
Прислушался.
— Не стреляют?
— Не стреляют!
— Не грабят?
— Не грабят... Ну слава Богу.
— С новым счастьем, джентльмены».
Это, несомненно, было вполне в согласии с кругом мыслей доктора Булгакова — недаром через несколько лет герой его рассказа «Необыкновенные приключения доктора» воскликнет в своих записках, приуроченных к этому самому моменту: «За что ты гонишь меня, судьба?! Почему я не родился сто лет тому назад? Или еще лучше: через сто лет. А еще лучше, если б я совсем не родился».
«Новым счастьем», во всяком случае, и не пахло.
20 января в третьем номере — «Похороны сечевых стрельцов»: «Вчера Киев хоронил казаков, павших в борьбе с гетманщиной». Отпевание происходило во Владимирском соборе; С. Петлюра держал речь. В заметке «Разгрузка Киева»: «Как сообщают, в первую очередь из Киева будут высланы бывшие добровольцы и их семьи».
Булгаков, давно уже ставший политиком поневоле и жадным читателем газет («...купил у газетчика и на ходу
99
развернул газету... — Батюшка, что ж вы людей давите? Газетки дома надо читать...» — поведение Алексея Турбина на улицах Киева зимой 1918—1919 гг. — черта, несомненно, автобиографическая), следил, конечно же, за тем, как разворачивались дела в революционной Германии, размышлял, не пахнет ли мировой революцией. Он, возможно, не без внимания вчитывался 6 января 1919 г. в витиевато-саркастическую заметку Сергея Глаголина «Последнее танго» в «Утреннем бюллетене Вечернего слова», стремясь понять, удастся ли установить советским властям взаимоотношения с новой Германией: «Советская дипломатическая миссия ехала не в Германию, а к Либкнехту, и везде трубили о том, что они — гости званые, что немецкий народ устроил революцию именно для русских большевиков. Москва собиралась даже презентовать революционный фатерлянд несколькими сотнями тысяч аршин миткаля для красных флагов. А на деле получился конфуз: — Барина дома нет!»
В это время, когда, как вспоминал Эренбург, «никто не знал, кто кого завтра будет расстреливать, чьи портреты вывешивать, а чьи прятать, какие деньги брать, а какие постараться вручить простофиле», в Киеве циркулировали самые невероятные слухи. «Различные «осведомленные» беженцы клялись, что у союзников имеются ультрафиолетовые лучи, которыми они могут в течение нескольких часов уничтожить и «красных» и «самостийников»... («Люди, годы, жизнь»). Много раньше, еще в 1920-е годы, поэт Николай Ушаков тоже писал в своих воспоминаниях: «Ходили слухи об ультрафиолетовых лучах», о них упоминал и В. Шкловский.
Прекрасная память старого киевлянина Евгения Борисовича Букреева сохранила и этот эпизод — вплоть до нашего разговора в 1983 году: «Помню, когда наступали большевики — в 1918 году, — в городе было отпечатано и расклеено большое объявление: предупреждались граждане города, что против наступления будут применены лучи смерти! А в начале Цепного моста стояли прожектора с синими стеклами. И когда их включили — войска, наступавшие из-за Днепра, кинулись в первый момент врассыпную... Действительно, эффект от этих прожекторов в соединении со слухами был очень сильный...»
Это примечательное объявление было действительно обнаружено нами — в киевских утренних «Последних новостях» от 29 (16) января 1919 года.
«Приказ о фиолетовых лучах.
100
Главным командованием распубликовано следующее объявление к населению Черниговщины. Довожу до сведения населения Черниговщины, что, начиная с 28 января с. г. против большевиков, которые идут войной на Украину, грабят и уничтожают народное имущество» будут пускаться в ход фиолетовые лучи, которые ослепляют человека. Эти лучи одинаково ослепляют и тогда, когда человек к ним спиной. Для того, чтобы избегнуть ослепления, предлагаю населению прятаться в погребы, землянки и вообще такие помещения, куда лучи не могут проникнуть. Извещаю вас, граждане, об этом, чтобы избегнуть ненужных жертв».
Мы полагаем вполне возможным, что и красный луч повести «Роковые яйца», и лучи жизни профессора Ефросимова в пьесе «Адам и Ева» имеют своим первоначальным импульсом эту киевскую легенду зимы 1918/19 года.
Дневник врача: «4 января (1919). Вот уже два дня, как Киев красится и чистится. Директория приказала снять во всем городе вывески на русском языке. Крещатик имеет очень жалкий вид: там вывески заклеены материей, на других лишние буквы замалеваны краской, третьи просто обшарпаны. Жизнь здесь точь-в-точь такая, какой была в Юрьеве при большевиках. Беспорядочная стрельба круглые сутки, усиливающаяся по ночам. Масса пьяных. В Юрьеве только не было организованных шаек бандитов, а здесь что ни день, то полгазеты описания всевозможных нападений, убийств, насилий. Все убеждены, что не за горами господство большевиков.
20 января. Сегодня я призывался. С 18 числа началась мобилизация врачей. Нельзя сказать, что в санитарном управлении был образцовый или хотя бы простой порядок, . но все же дела идут в Директории энергично. Почти все врачи просятся „на комиссию" — никто не хочет идти в войсковые части».
Вскоре был мобилизован и Булгаков — возможно, он, как Доктор Яшвин из его рассказа «Я убил», вернувшись домой, застал «в щели пакет неприятного казенного вида... Кратко, в переводе на русский язык: „С получением сего, предлагается вам в двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения..." Значит, таким образом: вот эта самая блистательная армия, оставляющая трупы на Улице, батько Петлюра, погромы и я с красным крестом на рукаве в этой компании...»
Дневник очевидца: «24 января. Большевики уже близко. Нежин занят ими. О доме ни слуху ни духу.
101
27 янв. Ну вот, кажется, и канун большевизма. В городе растерянность. С утра эвакуирован державный банк, на каждом шагу подводы с воинскими вещами, куда-то все везут. Солдаты-республиканцы удирают кто куда и кто как: автомобилями, толпами и на извозчиках. Санитарная управа уехала еще вчера, оставив двух врачей, продолжавших давать назначения мобилизованным врачам... На Крещатике только и слышно: уезжаю, имею билет, не достал билета и т. д. Всюду только дорожные разговоры. Эх, как на душе мерзко! До того истрепались нервы, и до того душа сыта всякими политическими сенсациями, что жизнь опять потеряла всякую ценность. Она стала просто безразличной».
Это специфическое настроение — потерю ощущения ценности жизни — можно почувствовать и в рассказе 1922 г. «Необыкновенные приключения доктора», к которому мы еще обратимся, и в рассказе «Я убил», где настроение горожан в эти дни рисуется Булгаковым в тонах, весьма близких дневнику незнакомого ему (а кто знает — может быть, и знакомого хотя бы мельком!) коллеги-ровесника: «Из-за Днепра наступали, и, по слухам, громадными массами, большевики, и, нужно сознаться, ждал их весь город не только с нетерпением, а я бы даже сказал — с восхищением. Потому что то, что творили петлюровские войска в Киеве в этот последний месяц их пребывания, — уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, отдавая предпочтение евреям, понятное дело. Что-то реквизировали, по городу носились автомобили и в них люди с красными галунными шлыками на папахах, пушки вдали не переставали в последние дни ни на час. И днем и ночью. Все в каком-то томлении, глаза у всех острые, тревожные. А у меня под окнами, не далее как накануне, лежали полдня два трупа на снегу. <...> Так что в конце концов и я стал ждать большевиков. А они все ближе и ближе» («Я убил»).
В том же самом номере газеты, что и «Приказ о фиолетовых лучах», было опубликовано обращение Центрального информационного бюро при Директории «К населению Киева»: «В последние дни в городе распространяются нервирующие слухи о том, что большевики подошли к Киеву и что Директория и некоторые Министерства спешно эвакуируются... Эти слухи не имеют никаких оснований. Непосредственная опасность Киеву решительно не угрожает...»
Воскресный утренний выпуск 2 февраля в заметке «В правительственных кругах»: «...все гражданские учреждения выезжают в ближайшее время из Киева...»
«30 янв. Большевики немного отодвинулись назад. На
102
днях, кажется, опять начнется работа в эвакуированных было министерствах. Упование всех только на союзников. Если
они не вмешаются, сдача Киева — вопрос времени. 3 февраля. Все министерства, возвратившиеся было в Киев, вчера с раннего утра опять погрузились в вагоны и уехали в Винницу. Официально объявлено, что Киев будет сдан большевикам или ночью сегодня, или утром. Растерянность всюду почти та же, что и неделю назад, но в общем паники меньше. Ночью сегодня организовавшиеся бандиты хотели захватить город в свои руки. 3-й Черноморский полк, случайно задержавшийся в Киеве, отбил их поползновения, Во всех концах города массовые налеты грабителей — не то что на отдельные квартиры, а на целые дома. Слово «буржуй» теперь редко слышится, обирает просто брат брата или равный равного. Не знаю, как я буду жить. Денег почти нет, продукты опять начали дорожать. Уж скорей бы большевики занимали Киев. Может быть, тогда можно было бы уехать домой. Германцев в Киеве нет».
Утренний выпуск «Последних новостей» от 4 февраля сообщил: «На Слободке расположены значительные силы республиканских войск». Среди этих-то сил и находится в тот момент Булгаков. Судя по всему, его мобилизовали как раз в эти дни. 29 января напечатано было сообщение о «призыве новобранцев» — «...от 1899 г. и не достигших 35-летнего возраста...»
Татьяна Николаевна рассказывала: «Его сначала (т. е. в отличие от позднейшей мобилизации. — М. Ч.) мобилизовали синежупанники. Я куда-то уходила, пришла — лежит записка: „Приходи туда-то, принеси то-то, меня взяли". Прихожу — он сидит на лошади. „Мы уходим за мост — приходи туда завтра!" Пришла, принесла ему что-то. Потом дома слышу — синежупанники отходят. В час ночи — звонок. Мы с Варей побежали, открываем: стоит весь бледный... Он прибежал совершенно невменяемый, весь дрожал. Рассказывал: его уводили со всеми из города, прошли мост, там дальше столбы или колонны... Он отстал, кинулся за столб — и его не заметили... После этого заболел, не мог вставать. Приходил часто доктор Иван Павлович Воскресенский. Была температура высокая. Наверно, это было что-то нервное. Но его не ранили, это точно».
Через несколько лет эпизод в течение одного года дважды отразится в его прозе. «В ночь со 2 на 3 <...> Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки провел на обледеневшем мосту. Ночью 15° ниже нуля (по Реомюру) с ветром. В пролетах свистело всю ночь. Горел огнями на том берегу.
103
Слободка на этом. Мы были посредине. Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки. Конные. Пешие. И пушки ехали и кухни. На кухне сестра милосердия. Мне сказали, что меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бежать. Все ставни были закрыты, все подъезды были заколочены. Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами. Мне стреляли вслед. Но не попали. Я спрятался во дворе под навесом и просидел там два часа. Когда луна скрылась, вышел. По мертвым улицам бежал домой...» («Необыкновенные приключения доктора», 1922).
«У белой церкви с колоннами доктор Бакалейников вдруг отделился от черной ленты и, не чувствуя сердца, на странных негнущихся ногах пошел в сторону прямо на церковь. Ближе колонны. Еще ближе». Он бежит, в него стреляют. Когда прибегает домой — близкие с ужасом видят, что у него появился седой вихор. «Еще что-то хотел сказать Бакалейников, но вместо речи получилось неожиданное. Он всхлипнул звонко. Всхлипнул еще раз и разрыдался, как женщина, уткнув голову с седым вихром в руки» (ранняя редакция «Белой гвардии», 1922).
Потрясения этих дней — главным образом, по-видимому, вынужденное присутствие при убийствах, которым он не мог помешать, оказали огромное воздействие на построение существенных опор художественного мира Булгакова.
Прибегнем вновь к свидетельствам очевидцев, чтобы представить себе, что увидел на улицах родного города герой нашего повествования вслед за той «ночью со 2 на 3» февраля, которая многократно всплывает в его творчестве.
Академик Вернадский в своих воспоминаниях, расширяющих перед нами социальную панораму киевской жизни 1918 — 1919 годов, писал: «...скоро снова все изменилось — Директория просуществовала всего несколько недель — меньше двух месяцев... Директория внесла несколько изменений в устав Украинской Академии наук, между прочим — пункт, против которого мы протестовали, что Академия может печатать на всех языках кроме русского. Печатание на русском языке не было специально запрещено, но требовало особой мотивировки.
Очень скоро после этого правительство Директории уехало в Каменец-Подольский и предложило нам всем поехать вместе с ним. Очень много украинцев уехало. Мы же остались и решили собраться после отъезда „правительства". Появились слухи о том, что советские войска подходят к Киеву.
Рано утром 5 февраля, когда я вышел из дому пройтись,
104
Киев был занят какими-то войсками, по-видимому, русскими, которые не отвечали, кто они такие, но это не были украинцы Петлюры и не были большевики. Скоро они ушли, и все, казалось, было спокойно. Утром 5-го февраля 1919 г. мы собрали общее собрание Академии в доме, где я в то время жил, — в здании бывшей первой гимназии на Шевченковском (прежде Бибиковском) бульваре.
О. Е. Крымский через боротьбистов (левых эсеров, противостоявших и гетману, и петлюровцам. —М. Ч.) был больше всех нас в курсе дела. Для нас было ясно, что решается судьба Академии. Мы единогласно пришли к заключению, что после собрания отправим Крымского, как непременного секретаря Академии, встретить от имени Академии приближающиеся к Киеву большевистские войска. Как мы узнали, во главе были Раковский и Мануильский. Крымский все время был в контакте с новой властью. Въезд в Киев большевистских войск был торжественный. В положении Академии больших изменений не произошло».
И дневник врача: «5 февраля. В 2 часа дня в Киев вошли большевики. Но это не регулярные войска, а повстанцы. Вошли они со стороны Слободки через Цепной мост. Во главе отряда ехали верхами два всадника, разукрашенных красными широкими лентами. В правой руке каждый держал наготове револьвер, в левой бомбу. Сзади три вооруженных всадника. Затем бронированный автомобиль, за которым шел оркестр. На Крещатик вышли они под звуки Интернационала. Публика кричала „ура", все снимали шапки. Публика широкий пролетариат. Крещатик переполнен ими. Все „обиженные и униженные" подняли голову повыше. Громко шли разговоры о буржуях. Нищие, которых теперь тьма в городе, тоже повеселели. На моих глазах один подошел к небогато одетой даме и, когда та молча прошла дальше, он плюнул ей вслед и громко произнес: „Тьфу, паразит!" Петлюровских войск уже нет и близко. Директория укатила, как говорят телеграммы, в Станиславов».
6 февраля 1919 года вышел первый номер «ежедневной социалистической газеты» «Утреннее Киевское слово». Заметка «Встреча советских войск» говорит о том же, что зафиксировано — с большей полнотой — очевидцем: «Вчера штабом советских войск были высланы в Киев только несколько отдельных немногочисленных отрядов с чисто разведывательными целями.
Вступление полков Советской армии ожидается сегодня с утра...»
105
Все состоялось по расписанию: в 11 часов войска вступили в Киев; митинг открыл председатель исполкома А. С. Бубнов (еще недавно находившийся в киевском подполье, через десять лет, уже в качестве наркома просвещения, он войдет в соприкосновение с судьбой Булгакова). В том же первом номере газеты — описание событий последних дней: «Отход республиканских войск из Киева закончился еще до вчерашнего утра. До вступления советских войск в Киеве оставались только отставшие от своих частей сечевики. Только Цепной мост дольше всех оставался под охраной отряда сечевиков». Подряд печатаются девять первых приказов временного начальника гарнизона Киева (затем — коменданта города) Н. Щорса; одним из этих приказов город объявлен был на осадном положении; хождение по нему разрешалось до семи вечера.
Дочитаем запись в дневнике киевского врача от 5 февраля. К описанию въезда новой власти в Киев он присовокупляет замечание о своей частной жизни: «Что касается моих житейских ресурсов, то они улучшились» — его старшие коллеги дали ему «практику в городе». Такой же практикой зарабатывает в эти дни себе на жизнь доктор Булгаков. И можно попытаться продолжить дневник А. И. Ермоленко — дневником героя Булгакова «Необычайные приключения доктора», опубликованным четыре года спустя, — если иметь в виду, что путь от биографии к художеству временами, как уже не раз было сказано, у Булгакова подчеркнуто короток. В рассказе перед нами, во всяком случае, — некий образ происходящего с самим автором в те дни, и происшествиям этим по истечении нескольких лет придан колорит комический. Главка «Итальянская гармоника» датирована — «15 февраля»: «Сегодня пришел конный полк, занял весь квартал. Вечером ко мне на прием явился один из 2-го эскадрона (эмфизема), играл в приемной, ожидая очереди, на большой итальянской гармонии. Великолепно играет этот эмфизематик („На сопках Маньчжурии"), но пациенты были страшно смущены, и выслушивать совершенно невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира ему очень понравилась. Хочет переселиться ко мне со взводом. Спрашивает, есть ли у меня граммофон... <...>
17 февраля.
Спал сегодня ночью — граммофон внизу сломался.
Достал бумажку с 18 печатями о том, что меня нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на двери кабинета и в столовой.
21 февраля.
106
Меня уплотнили...
22 февраля.
...И мобилизовали».
Дневник А. И. Ермоленко:
«21 февраля. Опять мобилизация. Сегодня я призывался. Возможно, что для меня будет льгота как для ассистента Клинического института. <...> А вообще, как бы я хотел плюнуть на все и вся и жить себе потихоньку дома в Сыроватке. Но и это невозможно, т. к. и там тоже... мобилизация, А какой бессмысленной кажется вообще жизнь! И от этой бессмысленности ощущается ужасная усталость».
...В доме на Андреевском спуске шла зимой 1918/19 годов та жизнь, которая только через три-четыре года всплывет, претворившись и переоформившись, в художественных текстах — сначала в недошедшей до нас комедии «Самооборона» (1920), затем в главе из ранней редакции «Белой гвардии», где «Колька, ведавший в качестве секретаря домкома списком домовой охраны, не мог отказать себе в удовольствии в великую ночь на третье число поставить на дежурство именно Василису в паре с самой рыхлой и сдобной женщиной во дворе — Авдотьей Семеновной — женой сапожника. Поэтому в графе: „2 число; от 8 до 10 Авдотья и Василиса". Вообще удовольствия было много. Целый вечер Колька учил Василису обращению с австрийским карабином. Василиса сидел на скамейке под стеной, обмякший и с помутневшими глазами, а Колька с сухим треском выбрасывал экстрактором патроны...» Ближайшими соседями Булгаковых, участвовавших, по-видимому, в дежурствах домовой охраны („Самооборона"), были тогда Москвитины (а незадолго до них — генерал Комарницкий), Петр Александрович Гробинский с семьей (именно их и упоминает в цитированном ранее письме Вера Булгакова).
Наступила ранняя киевская весна последнего киевского года Булгакова. 8 марта коллега нашего героя киевский врач записывал в своем дневнике: «5-го числа праздновалась годовщина революции. Мои собственные дела совсем скверны <...> практики нет, денег — тоже. А жизнь здесь дорожает с каждым днем. Черный хлеб стоит уже 4 р. 50 фунт, белый — 6 р. 50 и проч. Впереди же — ничего нет», «8 апреля. Ну и жизнь же настала! А главное — в голодовке. Черный хлеб 12 — 13 р. ф. А конца этому не видно.
11 апреля. Позавчера в городе поднялась большая суматоха. Со стороны Куреневки надвигались восставшие крестьяне с лозунгами «долой коммуну» и «бей жидов». Очагов восстания сейчас на Украине много (неделю назад их насчиты-
107
вали 50) и приблизительно с такими же лозунгами. На Куреневке наступавшие устроили погром еврейский. Жертв 15 чел. Вскоре советские войска отогнали их. Теперь наступило затишье, но гроза чувствуется в воздухе». Вот как рассказывает об этом же в своих воспоминаниях Н. Равич («Молодость века», М., 1967): «Еще 10 апреля петлюровцы организовали восстание в самом Киеве на Куреневке. Под видом идущих на богомолье паломников, скрывая под одеждой оружие, они мелкими группами просачивались на Подол. Наконец, соединившись в банду, превышающую двести человек, они бросились в красноармейские команды. Внезапность удара и наличие в некоторых полках неустойчивых элементов из числа петлюровских перебежчиков могли вызвать беспорядки в городе, но часть банды занялась еврейским погромом, время было упущено...» Заметим, что восставшие двигались на Киев через Подол, поджигая дома, завязывая перестрелки, — все происходило, таким образом, недалеко от дома Булгаковых; восставшие дошли до центра города, напали на городской банк, телеграф, прежде чем восстание было подавлено.
Вернемся к дневнику врача. «29 апреля. Позавчера получил повестку явиться в санотдел Губвоенкома. Пошел, и сразу вручили мне предписание ехать в Москву. Это — назначение по мобилизации». Автору дневника очень не хочется «бросить все и ехать на голод и сыпной тиф. Кроме того, ведь в Москве дадут другое назначение, и обязательно окажешься на фронте. А что значит быть на фронте, то сегодня рассказал мне приехавший из Москвы мой однокурсник. Так легко я из Киева не уеду и без боя позиций своих не сдам. Если нельзя жить, поступая во всем прямо, то попробую косвенным путем действовать». Следующая запись датирована 2 мая: «Ничего нельзя сделать — придется ехать в Москву. Сегодня был боевой день. В моем деле принял большое участие комиссар, многим обязанный моему шефу. Но все же я остался за Москвой. Поеду санитарным поездом. Отправка назначена на 5 мая». На этом кончаются записи дневника, и мы расстаемся с созданным его автором ценным историческим документом, имея основания думать, что выраженное здесь отношение к мобилизации и отъезду в Москву коллеги и ровесника Булгакова сходно с неизвестным нам и остающимся в области предположений его собственным отношением к подобной возможности.
По-видимому, мобилизации удалось избежать (так же, как его коллеги, Булгаков действовал, надо думать, «косвенным путем»), но тяготы дорожающей жизни, скудной прак-
108
тики прочих тогдашних киевских обстоятельств пришлось пережить в течение этого года.
Воспользуемся выдержками из дневника киевской студентки: «6-го февраля. Сегодня вступили в город большевики. <…> Слава Богу, что обошлось без прошлогодних боёв, <...> уж лучше один чорт, но чтобы сидел крепко. Большевики так большевики. Вечные перемены власти могут ума свести. Которое это у нас правительство, начиная с 1-го января 1917 г.? Царское, временное, рада, большевики, рада, гетман, директория, теперь снова большевики. Большая часть знакомых бежала. Я была против бегства. Что могут сделать тихим, смирным людям, которые никого не трогают и политикой не занимаются <...> 7 февраля. Новая власть рьяно принялась за дела. Лучшие квартиры отводит для постоя». Рассказывают «ужасы о Липках (аристократической части города. — М. Ч.). Всех выбрасывают из особняков, не позволяя ничего забирать с собой. Частные дома занимают под казармы и учреждения. 12 февраля. <...> началась серия арестов. <...> 16 февраля. К нам вселили 2-х красноармейцев. Они — крестьяне Харьковской губ. <...> Постой нашей хозяйки ведёт себя хуже: в пять часов утра солдаты играли на рояле и пели. <...> 10 марта. Уничтожаются частные библиотеки. Частным лицам нельзя иметь никаких коллекций...».
«В марте 1919 года, — вспоминал несколько лет спустя поэт Николай Ушаков, — организовался первый киевский подвал поэтов «Хлам». <...> Он помещался в подвале на Николаевской. <...> Из подвала были видны ботинки мимо идущих красноармейцев. <...> На святой прибыли О. Мандельштам и Рюрик Ивнев (Пасхальная неделя в 1919 году пришлась на двадцатые числа апреля. — М. Ч.). Зеленый собирался взять Киев. В мае «Хлам» лопнул». Булгаков не участвует, видимо, в открытых формах литературной жизни; эта среда остаётся для него прежде всего чужой идеологически — это те, кто сотрудничает в БУПе: на Крещатике, около кинематографа «Экспресс» находится Бюро печати и информации рабоче-крестьянского правительства Украины. Оно ежедневно вывешивает сводки о положении на фронте, известия о революционном движении в Европе, на которое возлагаются большие надежды. В этом Бюро — те, кого через два-три года Булгаков встретит в литературных кругах Москвы: Лев Никулин (он напишет вскоре стихотворение «Киев 1919»: «Есть в революции российской Волнующий нерусский стиль: Пехота, золотая пыль, И знамени язык фригийский, И бро-
109
невой автомобиль — На старой площади Софийской»), Михаил Кольцов, поэт и переводчик Валентин Стенич (жил он тогда, как рассказывала нам его вдова Л. Д. Большинцова, в одном номере с Кольцовым в гостинице «Континенталь»), писавший о членах тогдашнего правительства: «О эти люди, твердые как камень, Зажженные сигнальные огни! Их будут чтить веками и веками И говорить о них страницы книг».
И снова вернемся к дневнику киевлянки. «16-го мая. Какая это была страшная неделя. Страшнее обстрела 18-го года. <...> На Киев шел Григорьев <...> Произошли массовые аресты русских купцов и членов Союза русского народа. Расстреляли несколько десятков человек».
В июне в Киев приезжал Троцкий, произносил угрожающие интеллигенции речи и уехал, заявив, по слухам, что Украина похожа на редиску: внутри белая, снаружи красная... Записывая это, киевская студентка отметит (28 июня 1919): «В городе снова серия обысков». В ночь на 7 июня арестовали В. П. Листовничего — как заложника. Татьяна Николаевна вспоминала:
«Летом одно время ушли в лес... не помню уже, от кого ушли. Жили у какого-то знакомого по Киево-Ковельской дороге, в саду, в сарае. Обед варили во дворе, разводили огонь. Недели две... Одетые спали, на сене. Варя, Коля и Ваня, кажется, с нами были. Потом вернулись пешком в Киев. Дачу в Буче к этому лету уже спалили — кажется, петлюровцы; зажгли посреди дома костер и спалили...»
Дневник студентки: «25 июля. <...> На каждом углу стоит ларь или киоск, битком набитые прекрасными изданиями. <...> Больно смотреть на эти книги. Почти все они с инициалами, многие с надписями. <...> 10 августа. Деникинцы приближаются и большевики, без сомнения, эвакуируются. На Прорезной находится военнаркомат и по ночам слышно, как из него что-то выносят. Даже днем около него стоят вагоны трамвая, которые нагружают полными мешками. Но в городе все еще по-старому; разве увеличилось количество безобразных футуристических плакатов.
Площади, скверы обезображены уродливыми бюстами советских деятелей. <...>. Названия улиц изменены так, что старожилы совершенно не могут ориентироваться, ибо большевики строго придерживаются своих названий.
Столыпинская называется теперь улицей Гершуни.
Мариинский сад превратился в кладбище. В 18 г. летом воздух во всех Липках был заражен благодаря этому са-
110
ду. Теперь часть могил приведена в порядок. <...> Липки пустынны. <...> Мимо Чека никто охотно не проходит. 24 августа. На днях стала выходить новая газета — орган чрезвычайки «Красный меч». Она выходит по воскресеньям, очевидно, чтобы услаждать отдых граждан РСФСР
30 августа. 7 ч. вечера. Уходят! <...> Город имеет страшный вид. Всё мертво, заколочено, только солдаты бегут по улицам и стреляют в воздух. <...> Утро было ужасно: в газете список расстрелянных в прошлую ночь. Есть знакомые фамилии».
Вместе с Красной армией город покидал Мандельштам — и впечатления этого именно последнего дня отозвались, по свидетельству жены поэта, в его стихотворении 1937 года:
Как по улицам Киева — Вия
Ищет мужа не знаю чья женка
Пахнут смертью господские Липки.
Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы
И шинель прокричала сырая:
«Мы вернемся еще, разумейте!»
Утром 31-го в город вступили галицийские части Петлюры и добровольцы, уже к вечеру Петлюра уступил город. «31 августа. <...> После 2-х часов стали возникать манифестации. Огромная толпа двигалась по Крещатику к Думе. <...> В Липках все помещения чрезвычаек были открыты. Их облегали огромные толпы. Женщины висели на заборах, жадно вглядываясь в щели. Действительно, говорят, что внутри Чека было ужасно. <...> Ужаснее всего в доме № 5 по Садовой: там в саду были расстреляны и тут же захоронены последние 67 жертв. Каретный сарай или конюшня в этой усадьбе уже давно служили застенком, там был устроен даже сток для крови. Трупы расстрелянных совершенно наги».
Накануне отхода красных повели на расстрел В. П. Листовничего. По семейному преданию его выводили к стенке трижды. «Расстреливали почему-то далеко от Лукьяновской тюрьмы — на Печерске, на ул. Садовой, в Кирпичных конюшнях. Киевляне ходили туда и видели на стенах кровь и мозги. Но Василия Павловича пока оставили пожить и в качестве заложника с группой арестантов последний раз провели по киевским улицам от Лукьяновской тюрьмы до Днепра, посадили на пароход и повезли на север. Рядом
111
с колонной арестантов от тюрьмы до Днепра шла дочь В. П. и всю дорогу плакала». Отец её в тюрьме поседел, оброс длинной седой бородой и усами. Он попытался бежать ночью с парохода, «вылез из окна уборной по одному борту, а инженер Нивин — по другому. Стреляли... В Киеве уже были добровольцы, Нивин пришел к Ядвиге Викторовне и рассказал о побеге, о том, как В. П. трижды водили на расстрел. В одной из камер Лукьяновской тюрьмы Инна Васильевна нашла нацарапанную на стене надпись: «В ночь на 31.VIII.19 г. без обвинения, суда и следствия расстрелян гражданский инженер В. П. Листовничий». Это — последний след его на земле». По-видимому, он был застрелен в воде.
В среду 21 августа (4 сентября) возобновлена была газета В. В. Шульгина «Киевлянин». Год назад, 14 декабря 1918 года, в бою под Киевом он потерял 19-летнего сына, выпускника той же Первой гимназии, воевавшего в рядах так называемой Орденской дружины, созданной Союзом георгиевских кавалеров. Дружина отказалась отступать: «Мы не получили приказания», и, как сообщал «Киевлянин», отмечая годовщину события, «погибли все 25 юношей». Этот факт, несомненно, был известен Булгакову и его братьям. Теперь газета Шульгина печатала на первом листе погрудный портрет А. И. Деникина и статью редактора под заголовком «Они вернулись».
Редактор «Киевлянина» напоминал далее в самых прямых выражениях ориентацию своей газеты. Она могла быть, на наш взгляд, в определенной мере близка тогдашнему умонастроению Булгакова — насколько может оно быть восстановлено по многим косвенным и некоторым прямым данным. Это не означает, что мы хотим и можем удостоверить солидарность Булгакова со всеми выражениями и оттенками мысли редактора «Киевлянина». Во-первых, можно не без основания предполагать, что формирующееся мироощущение художника все больше уводит Булгакова в тот год от резкостей политиканства — к более широкому пониманию пружин современных российских событий. Есть и более веские доказательства, о чем далее. И все-таки мы думаем, что он открыл с детства знакомую, солидную, с большой традицией газету с неким теплым ностальгическим чувством — хотя бы после изолгавшихся, никакой определенной программы не имевших «Последних новостей» (упомянем еще раз саркастический перефраз названия газеты в «Белой гвардии» — «Свободные вести»). Итак, Шульгин писал: «Полвека тому назад, открывая «Киевлянина», Виталий
112
Яковлевич Шульгин начал его словами: — Этот край русский русский, русский. Сегодня, после страшной грозы, которая пронеслась над нами, возобновляя «Киевлянин» на старом пепелище, я хочу повторить слова отца:
— Да, этот край русский... Мы не отдадим его — ни украинским предателям, покрывшим его позором, ни еврейским палачам, залившим его кровью». В политической ситуации тех лет Булгаков мыслил близкими к Шульгину категориями в отношении действий Центральной Рады. В «Белой гвардии" он с иронией упомянет о «писателе Винниченко».
Слова Шульгина о «еврейских палачах» основываются на не раз публиковавшихся им подсчетах национального состава Киевской чрезвычайки и, как всегда у этого автора, оставляют за пределами его оценки действия соплеменников — в рамках этих же и иных учреждений. Булгакову эта избирательность взгляда к тому времени, мы полагаем, уже чужда: «Мужички — богоносцы достоевские» («Белая гвардия») занимают в его едких размышлениях не меньшее место, чем иноверцы и инородцы. Если бы он разделял складывавшуюся в то время (и дошедшую до наших дней) концепцию революции как следствия исключительно инородческой заразы и вины — это не могло бы не отразиться в сугубо политической статье, которую он напечатает в одной из белогвардейских газет через два с лишним месяца.
Редактор же «Киевлянина» писал далее с приличествующим случаю велеречием: «В ряду величественных ступеней, ведущих в храм единой России, Киев — ступень предпоследняя. Выше его, на последней ступени, — зовущая, умоляющая и венчающая Москва.
Матерь городов русских, святая земля наших предков, безмерно выстраданная Родина — прими наш сыновний привет».
В статье «Памяти замученных» газета заверяла читателя: «В настоящее время исход борьбы Добровольческой армии с большевиками решен: большевистская сила окончательно сломлена, бандиты Ленина и Троцкого более не в состоянии оказывать Добровольческой армии мало-мальски серьезного сопротивления, и руководимым А. И. Деникиным армиям Май-Маевского, Сидорина и барона Врангеля остается только преодолевать пространство и налаживать тыл и гражданское управление в стране». Воображению автора и многих тогдашних читателей газеты рисовались картины недалекого будущего, «когда спасителей России торжественно встретит на Красной площади Москва и патриарх всея Руси... Сколько радости, сколько восторга и умиления».
113
13 сентября газета «Киевское эхо» (Василевский-Не-Буква, не теряя присутствия духа, продолжал выпускать ее при новой власти) сообщила: «Регистрация офицеров, чиновников и врачей у Киевской комендатуры (Владимирская, 45) продолжается... Ежедневно записывается не менее тысячи человек...», «Киевлянин», начиная с № 1, печатал списки расстрелянных в предшествующие месяцы.
18 сентября в газете «Объединение» сообщалось, что накануне было водружено на верхушке думского здания изображение архистратига Михаила — хранителя города (входящее в герб Киева). Газета день за днем сообщала о судебных процессах над оставшимися в городе и кем-либо опознанными деятелями разнообразных советских учреждений. Врач 3. Игнатович пишет: «Большинство временных властей, приходя в Киев, занимались мародерством, спекуляцией и грабежом населения. Деникинцы устраивали жуткие погромы». Первая городская больница была близко «от Бессарабской площади, где проживало много еврейского населения. Каждую ночь слышались исступленные крики, плач, били в какие-то металлические вещи, ведра, тазы — подлинный шабаш ведьм! По утрам вся Бессарабская площадь была покрыта пухом, перьями, ломаной посудой и другими атрибутами чудовищного разбоя!» *
Нет точных данных о том, когда Булгаков покинул Киев. С первых дней вступления в город генерала Май-Маевского разнообразные городские организации приняли участие в помощи Добрармии. 17 сентября «Объединение» сообщало, что Киевское бюро всероссийского союза городов постановило организовать санитарный отряд имени ген. Бредова, а также о том, что санитарная секция «резерва помощи Родине и Фронту» организует по районам г. Киева и его предместьям трехдневный сбор инструментов и медикаментов для нужд Добровольческой армии. В одном из сообщений (о собрании «представителей учреждений и организаций, обслуживающих Русскую добровольческую армию») обращает на себя внимание фамилия, использованная впоследствии в романе «Белая гвардия»: «Представитель «Резерва общественных сил» В. Г. Тальберг и др. представители других организаций указали на необходимость объединения всех организаций под флагом Комитета помощи Русской добровольческой армии» («Объединение», 7(20) сентября 1919 г.).
* Военно-медицинский музей Мин. Обороны СССР, Отдел фондов, ОФ—73662/7.
114
В том же номере газеты: «Вчера по случаю городского праздника чуда архистратига Михаила, совпавшего в этом году с восстановлением фигуры архистратига на думском здании, в зале городской думы отслужен молебен». Под рубакой «Партийная жизнь» сообщалось: «5 сентября состоялось первое со времени ухода большевиков заседание городского комитета партии народной свободы». 8 октября в Екатеринодаре умер генерал М. В. Алексеев, формировавший летом 1918 года ядро будущей Добровольческой армии и остававшийся до смерти ее верховным руководителем; сообщение об этом электризовало обстановку, особенно возбуждая, по-видимому, молодых участников борьбы.
8 октября в газетах объявили последний день регистрации родившихся в 1899 и 1900 годах... Неизвестно, был ли еще Булгаков в Киеве в дни, когда 13 октября, как сообщал через несколько дней «Киевлянин», «противник, благодаря значительному превосходству сил, прорвал наше расположение и устремился к Киеву. В ночь на 1 октября (газета выходит по старому стилю. — М. Ч.) большие силы его достигли Святошина и пошли в атаку. <...> К полудню город начал спешную эвакуацию. Число эвакуировавшихся достигло 50 тысяч. Среди беженцев женщины, дети, без всякого имущества. Изредка попадались евреи, — отмечает газета, стремясь проявить добросовестность. — Вечером Богунский и Таращанский полки заняли район Еврейского базара и часть Бибиковского бульвара». В центре города оказывалось сопротивление, затем Добровольческая армия отступила к Печерску. Спустя сутки началось ее контрнаступление. «На спусках к Подолу трещали винтовки», были пущены в ход пулеметы и гранаты. «Упорство большевиков было чрезвычайным, но оно все же было сломлено. Бои продолжались всю ночь, затем весь день 3-го октября, когда артиллерийская стрельба достигла своего апогея. <...> Наконец, 4 октября, утром, большевики с громадными потерями были совершенно отодвинуты к окраине города, откуда продолжали отстреливаться. 5-го октября на рассвете наши части выбили последние <...> отряды красных, направившиеся в Святошино, которое к полудню было занято нами». В среду 9 (22) октября «Киевлянин» уведомлял — «Сегодня похороны павших за Киев»; газета сообщала о «геройской гибели вольноопределяющихся» Дуси Забелло, Котика Биммана — о нем, 16-летнем гимназисте, газета писала двумя днями Ранее (отметим, что еще в № 3 «Киевлянина» в списках расстрелянных — поручик Евгений Бимман, — возможно, стар-
115
ший брат) : «Он, как и многие киевские гимназисты, с приходом добровольцев в Киев сменил гимназическую блузу на форменное хаки <...> и ушел из стен старого учебного заведения в ряды старого Кирасирского полка»; проведя ночь у Аскольдовой могилы, он, будучи в сводном эскадроне, принял смерть в первом бою; приводились и последние слова Котика: «— Я умираю за единую неделимую Россию»...
Все это — штрихи той атмосферы, в которой живут в эту осень и готовятся к возможной смерти младшие братья Булгакова. Это их юное патетическое напряжение передает три года спустя повторяющаяся реплика в рассказе «Красная корона» — «Брат, я не могу оставить эскадрон».
В октябре в газетах был опубликован приказ № 35 от 14 (27) октября 1919 года «Главноначальствующего и командующего войсками» ген.-майора Драгомирова о призыве на военную службу «для пополнения действующих частей». Нас в этом приказе должен интересовать главным образом пункт третий: «...3) медицинских и ветеринарных чинов:
а) кадровых военных врачей, состоящих за штатом, врачей запаса, ополчения и белобилетников, а также зауряд-врачей, в возрасте до 50 лет включительно...». Но скорей всего Булгаков был мобилизован еще раньше.
Татьяна Николаевна вспоминает: «Он получил мобилизационный листок, кажется, обмундирование — френч, шинель. Его направили во Владикавказ, в военный госпиталь... Помню, когда он уезжал, открылось новое кафе, очень фешенебельное, и вот я обязательно хотела туда попасть. И просила кого-то из друзей меня туда сводить, а тот смеялся: — Ну и легкомысленная женщина! Муж уезжает на фронт, а она думает только о кафе!
А я и не понимала — на фронт или нет: действительно, дура была!..
В Киеве он в это время уже мечтал печататься. Добровольцем он совсем не собирался идти никуда.
<...> Назначение было именно во Владикавказ, и не с санитарным поездом, нет... Почему я так думаю — потому что в Ростове он сделал остановку. Пошел играть в бильярд — то есть был сам себе господин. Он там сильно проигрался в бильярд, и даже заложил мою золотую браслетку. Эту браслетку мама подарила мне еще в гимназии. Михаил всегда просил ее у меня «на счастье», когда шел играть. И тут выпросил в дорогу — и заложил. И случайно встретил в Ростове двоюродного брата Константина (тот к армии отношения не имел, всегда был инженером) и сказал: „Вот тебе квитанция — выкупи Тасину браслетку!" И отправился дальше во Владикавказ!»
116
В Ростове он читал, конечно, местные газеты, с особенным вниманием — сводки о положении в оставленном им догадывался ли он, что навсегда? — родном городе.
В одной из них он мог прочитать следующее: «Минувшая неделя прошла в горячих боях по реке Ирпень. Красные, пропущенные Петлюрой, пытались пробиться на север через Киев на Чернигов. Попытка их безнадежно провалилась, разбившись о стойкость и упорство войск генерала Промтова. Неуспешность прорыва на Киев заставила красных начать отход в северо-западном направлении на Радомысль. Войска генерала Промтова тотчас же перешли в наступление и ныне преследуют уходящих красных по пятам. <...> Продолжающееся наступление с запада польской армии еще быстрее ускорит ход событий и ликвидацию в этом крае большевиков и банду «генерала» Петлюры» («В Москву!», 30 сент. (13 окт.) 1919 г.).
Верил ли он, что чье бы то ни было наступление с запада «еще быстрее ускорит» наступление мира и благоденствия на его земле? Скорее уж видел, как все более и более запутывается положение, в том числе и его собственное, и тем более — оставшихся в Киеве младших братьев.
«В Киеве я жила без него недолго, меньше месяца... Получила от него телеграмму из Владикавказа, и сразу вслед за телеграммой письмо: „Остановился я в Ростове и играл на бильярде". Поехала. Предупредили: если в Екатеринославе махновцы — поезд разгромят. Боялась, конечно...»
Неизвестно, при нем или уже без него вступили в Добровольческую армию его младшие братья, Коля и Ваня (в это время одному — 21 год, другому 19). На фотографии, где Ваня Булгаков снят вместе с другими юнкерами и вольноопределяющимися у пулемета, — еще не поздняя осень (стоит трава, на деревьях листья, юнкера — кто в шинели, кто в гимнастерке). Сохранились воспоминания жены Николая Ксении Александровны Булгаковой, написанные ею в конце 1960-х годов; там рассказано, что, когда Николай «с училищем уехал на юг по приказу белой армии, он очень тяжко заболел, и его поезд был отправлен в Киев с другими больными... Поезд стоял на Киево-Товарном. Мать ничего не знала, но каким-то материнским чутьем она вдруг очутилась на Киево-Товарном, и когда Николка открыл глаза в вагоне, он увидел перед собой мать. Для него это была радость, и ей тоже. Это был последний раз, что он видел мать. После этого Поезд пошел на юг. Поправившись, он оказался в Крыму, где был очень тяжело ранен, еле выжил, и затем училище было эвакуировано на «Рионе» в 1920 году».
117
Легко можно вообразить себе горькие сожаления матери о судьбе двух младших сыновей, несомненно, многократно усилившиеся после того, как в течение нескольких месяцев выяснился решительный неуспех той армии, в ряды которой они вступили и канули в безвестность. Обстоятельства последнего свидания матери с тяжелобольным сыном стали конечно, или тогда же, или позже известными Булгакову -как, возможно, и весть о тяжелом ранении брата. Это, а также неизвестные нам перипетии сходной судьбы младшего брата Вани обусловили замысел рассказа 1922 года «Красная корона», где одна из сцен, во всяком случае, кажется насыщенной биографическими мотивами.
«Старуха мать сказала мне:
— Я долго не проживу. Я вижу — безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю. Верни. Ты старший.
Я молчал.
Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль.
— Найди его. Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это — безумие. Приведи его.
Я не выдержал и сказал, пряча глаза:
— Хорошо».
И далее — о том, как брат уходит в бой, из которого выходит смертельно раненным. (Заметим, что два точных указания в рассказе ведут к младшему брату Ване как прототипу этого персонажа — «Ему 19 лет» и «Я старше его на десять лет».)
Во Владикавказе прожили недолго — Булгакова послали в Грозный. «Я поехала с ним, — вспоминает Татьяна Николаевна. — Раза два-три ездила с ним в перевязочный отряд — под Грозный. Добрались до отряда на тачанке, через высокую кукурузу. Кучер, я и Михаил с винтовкой на коленях — давали с собой, винтовка все время должна была быть наготове. Там была женщина-врач, заведующая этим перевязочным отрядом, она потом сказала — «никаких жен!» Он стал ездить один. Уезжал утром, на ночь приезжал домой. Однажды попал в окружение, но вырвался как-то и все равно пришел ночевать...»
(Перечитаем страницы рассказа «Необыкновенные приключения доктора»: «Чеченцы как черти дерутся „с белыми чертями". У речонки, на берегу которой валяется разбухший труп лошади, на двуколке треплется краснокрестный флаг. Сюда волокут ко мне окровавленных казаков, и они умирают у меня на руках»; «Я всегда говорил, что фельдшер Голен-
118
дрюк - умный человек. Сегодня ночью он пропал без вести. Но хотя вести он и не оставил, я догадываюсь, что он находится на пути к своей заветной цели, именно: на пути к железной дороге, на конце которой стоит городок. В городке его семейство». Страницы эти, бесспорно, могут служить характеристикой тогдашнего состояния духа военврача Булгакова.)
«Потом жили в Беслане — не доезжая Владикавказа. Все время жили в поезде — в теплушке или купе. Знакомых там не было. Вообще там ничего не было кроме арбузов. Мы целыми днями ели арбузы... Потом вернулись во Владикавказ — в тот же госпиталь, откуда его посылали. Жили сначала У каких-то армян — одну комнату занимали; у Михаила был вестовой. Дружили с атаманом казачьим — ходили к нему на вечера — и с генералом Гавриловым. Вообще в городе жизнь шла довольно оживленная — кафе, на улицах из них слышна музыка... Потом генерал ушел вместе с полком — при слухах, что красные наступают, госпиталь расформировали — еще при белых, а генеральша Лариса Дмитриевна пригласила нас жить к себе — в свободную комнату. Они сами снимали, кажется, у атамана дом. У нее был сын — мальчик, прислуга — финка Айна. У них, наверно, и встречали Новый год 1920-й...»
Чем был занят он поздней осенью и зимой 1919/1920 — помимо врачебных обязанностей?
Татьяна Николаевна вспоминала: «Когда я приехала во Владикавказ, он мне сказал: «Я печатаюсь». Я говорю: «Ну, поздравляю, — ты же всегда этого хотел».
Слова «Я печатаюсь» говорят о начале печатания; в этом ценность свидетельства Татьяны Николаевны. Другие данные подтверждают, как увидим, точность ее памяти.
В последующие годы Булгаков тщательно зашифровал и завуалировал этот начальный момент своего печатания. Мы хотим подчеркнуть — не попытался скрыть совершенно, а именно завуалировал: ему важно было сохранить самый след своей первой публикации, оставить намек.
Это был газетный фельетон «Грядущие перспективы» *, опубликованный 26 ноября 1919 года под инициалами «М. Б.».
Атрибутировать эту статью Булгакову помогает в первую очередь указание, оставленное нам самим автором: альбом газетных вырезок, заведенный им уже в Москве, открывается вырезанным фрагментом газеты — кусок заголовка — [Г] розны [й] — и дата. Чем, кроме своей первой публикации,
* «Грозный», 13 (26) ноября 1919 г., № 47.
119
мог открыть Булгаков такой альбом? Занимаясь в 1971-. 1972 годах обработкой этой части архива и придя к такому предположению, автор данной книги с тех пор постоянно побуждал исследователей и любителей в научных консультациях и публичных выступлениях к поискам данного номера газеты «Грозный», выходившей при деникинской власти.
Приведем также свидетельство П. С. Попова. В 1940 году, в предисловии к неосуществившемуся сборнику сочинений Булгакова, он написал: «Его литературный дебют относится к 19 ноября 1919 года». Здесь можно предположить как ошибочное прочтение даты (или ошибку в устном свидетельстве Булгакова, записанном Поповым), так и существование еще одной неразысканной публикации Булгакова — за несколько дней до «Грядущих перспектив». На наш вопрос — где печатался Булгаков в ноябре 1919 года— Елена Сергеевна отвечала осенью 1969 года с характерной для тогдашней ситуации уклончивостью: все, что могло повредить изданиям Булгакова, выводилось ею за пределы его биографии.
В последние два года экземпляры этой газеты отысканы *. Номер газеты с публикацией Булгакова вышел на одном листе. И выяснилось, что автор оставил в своем альбоме вырезок не только указание на место и время публикации — на обороте наклеенного на альбомный лист фрагмента газеты осталась и часть самого текста статьи со срезанными (вместе с начальной буквой названия газеты) на обратной стороне инициалами автора... Лицевая часть жизни с определенного момента стала оборотной, невидимой, скрытой от постороннего глаза.
Статья подводила итоги пережитого автором за истекшие два с половиной года и была окрашена мрачными ожиданиями. «Грядущие перспективы» рисовались в ней в тонах безнадежных. Два понятия главенствовали в этой статье, при помощи их описывал автор недавнее прошлое, настоящее и будущее — «безумие» и «плата». Мотив вины и расплаты, вины общенациональной, который тесно сплетется впоследствии в его творчестве с мотивом вины личной, берет свое начало, как теперь можно видеть, уже в первом пе-
* В частности, полный комплект хранится в Научной библиотеке Центрального государственного архива. Прочитав ту часть журнального варианта «Жизнеописания Михаила Булгакова», где высказано было наше предположение о первой публикации писателя («Москва», 1987, № 7), сотрудники Библиотеки любезно сообщили автору о том, что в их фонде имеется эта газета; пользуемся приятной возможностью принести на страницах этой книги свою благодарность А. В. Седюхину, О. А. Гришиной и Л. Д. Семеновой.
120
чатном выступлении Булгакова. Опубликованный три года спустя рассказ «Красная корона» сохранит в основе своей оба понятия-мотива, хотя они и будут трансформированы — и под влиянием пережитого за эти годы, и ввиду новых условий печатания («Ты умный и давно уже понимаешь, что все это — безумие»; «Да. Вот сумерки. Важный час расплаты»).
Настроение, выразившееся в этой статье, не было чертой индивидуальной. Недели за две до этого, открыв еженедельник «В Москву! Орган русской национальной мысли», выходивший в Ростове на Дону, Булгаков мог прочитать статью редактора-издателя газеты Н. Измайлова «Черная годовщина» и найти в ней нечто созвучное тогдашним своим мыслям; в первых же строках статьи можно заметить и сходство словаря: «Уже два года, как безумие и предательство справляют свою кровавую тризну над бедной нашей Родиной...
Уже два года, как в братоубийственной войне рекою льется русская кровь.
Уже два года, как по сатанинскому плану (вот этого хода мысли мы у Булгакова не найдем. — М. Ч.) голодом, холодом, мором, пытками и расстрелами истребляется русский народ, обманутый своей мечтательно-глупой интеллигенцией, и прежде всего ее „красой и гордостью" — кадетской партией». Автор статьи утверждал: «близорук и невежественен тот, кто думал бы, что большевики — причина всех бед, обрушившихся на Россию и терзающих ее. Большевизм — неизбежное следствие „великой революции" <...> Возникновение этой болезни относится ко времени образования так называемого „прогрессивного блока", поставившего своей задачей борьбу против Верховной власти. <...> Как смели они — все эти Милюковы, Гучковы, Маклаковы, Керенские <...> заводить „интрижку" с трагической дамой, имя которой Революция? Не их, дон-Жуанов, поцеловала она зачумленным поцелуем Альманзора, а Россию... <...> По их стопам вступили в мир вражда, насилье и разврат...» Булгаков, видимо, тоже винит тех, кто привел, по его словам, к «безумию мартовских дней, но явно не считает их, как Измайлов, «пешками в руках иудо-масонства». Это важные оттенки.
Газета сообщала об успехах на фронте Правобережной Украины и о готовности галицийских частей Петлюры перейти на сторону Добровольческой армии и констатировала «тяжелую, кровавую борьбу с наступающими большими силами красных на нашем главном операционном направлении на Москву». Это выглядело уже достаточно мрачно для опытного глаза.
121
Приведем статью Булгакова целиком ввиду особого ее биографического значения.
«Теперь, когда наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала „великая социальная революция", у многих из нас все чаще и чаще начинает являться одна и та же мысль.
Эта мысль настойчивая.
Она — темная, мрачная, встает в сознании и властно требует ответа.
Она проста: а что же будет с нами дальше.
Появление ее естественно.
Мы проанализировали свое недавнее прошлое. О, мы очень хорошо изучили почти каждый момент за последние два года. Многие же не только изучили, но и прокляли.
Настоящее перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть.
Не видеть!
Остается будущее. Загадочное, неизвестное будущее.
В самом деле: что же будет с нами?..
Недавно мне пришлось просмотреть несколько экземпляров английского иллюстрированного журнала.
Я долго, как зачарованный, глядел на чудно исполненные снимки.
И долго, долго думал потом...
Да, картина ясна!
Колоссальные машины на колоссальных заводах лихорадочно день за днем, пожирая каменный уголь, гремят, стучат, льют струи расплавленного металла, куют, чинят, строят...
Они куют могущество мира, сменив те машины, которые еще недавно, сея смерть и разрушая, ковали могущество победы.
На западе кончилась великая война великих народов. Теперь они зализывают свои раны.
Конечно, они поправятся, очень скоро поправятся!
И всем, у кого, наконец, прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинется на запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества.
А мы?
Мы опоздаем...
Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же, наконец, мы догоним их и догоним ли вообще?
Ибо мы наказаны.
122
Нам немыслимо сейчас созидать. Перед нами тяжкая задача - завоевать, отнять свою собственную землю.
Расплата началась.
Герои добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю.
И все, все — и они, бестрепетно совершающие свой долг, и те, кто жмется сейчас по тыловым городам юга, в горьком заблуждении полагающие, что дело спасения страны обойдется без них, все ждут страстно освобождения страны.
И ее освободят.
Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что родина умерла.
Но придется много драться, много пролить крови, потому что пока за зловещей фигурой Троцкого еще топчутся с оружием в руках одураченные им безумцы, жизни не будет, а будет смертная борьба.
Нужно драться.
И вот пока там на Западе будут стучать машины созидания, у нас от края и до края страны будут стучать пулеметы.
Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь и нам нет остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания и выпьем ее до конца.
Там на западе будут сверкать бесчисленные электрические огни, летчики будут сверлить покоренный воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться...
А мы... Мы будем драться.
Ибо нет никакой силы, которая могла бы изменить это.
Мы будем завоевывать собственные столицы.
И мы завоюем их.
Англичане, помня, как мы покрывали поля кровавой росой, били Германию, оттаскивая ее от Парижа, дадут нам в долг еще шинелей и ботинок, чтобы мы могли скорее добраться до Москвы.
И мы доберемся.
Негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны, уничтожены.
И война кончится.
Тогда страна окровавленная, разрушенная начнет вставать... Медленно, тяжело вставать.
Те, кто жалуется на «усталость», увы, разочаруются. Ибо им придется «устать» еще больше...
Нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном и в буквальном смысле слова. Платить за безумие мартовских дней,
123
за безумие дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станками для печатания денег... за все!
И мы выплатим.
И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кой-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас впустили опять в версальские залы.
Кто увидит эти светлые дни?
Мы?
О нет! Наши дети, быть может, а быть может, и внуки, ибо размах истории широк и десятилетия она также легко „читает", как и отдельные годы.
И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям:
— Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!» Последняя фраза была итогом размышлений последних лет.
Пять лет спустя, в октябре 1924 года, в короткой автобиографии, предназначенной для печати, Булгаков опишет, обдуманно затемняя конкретности и сохраняя какие-то важные ему самому черты подлинности, момент начала своей печатной жизни: «Как-то ночью, в 1919 году, глухой осенью едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали». Тьма неизвестности покрывает и город, и название газеты, и содержание рассказа. Скорее всего речь идет именно о статье «Грядущие перспективы»; жанр рассказа выглядел в 1924 году более безобидно — при упоминании о печатании в 1919 году.
В тот самый день, когда появилась статья Булгакова в газете, выходящей на Северном Кавказе, «Киевлянин» печатал статью без подписи «Узкие и слабые плечи», где проглядывает уже ожесточение Подступающего отчаяния. «Да, палка необходима нам», — пишет автор, удостоверяя, что вслед за кадетами необходимость твердой власти признают и другие партии. «И когда это случится, не будет надобности ни в каких искусственных „объединениях" политических и общественных групп, так как будет одна-единственная партия историей выкованной власти над единой Россией». На другой день, 14 (27) ноября, сам редактор газеты в статье «Две армии» пишет о том, что армия, основанная на грабеже, «недолговечна» (свое представление о моральной ги-
124
бели белой армии в эти месяцы он развернет через несколько лет в книге «1920-й год»): «Худшие перейдут к большевикам, средние разбегутся по домам, а лучшие погибнут». Эти погибельные интонации слышны и в статье Булгакова; но в ней - предчувствие не близкого конца, а долгого гибельного пути; в сущности, в ней возникает предощущение будущего мотива бега: — «нам нет остановки, нет передышки ..- выпьем ее до конца». (... «Покойся, кто свой кончил бег»).
Чрезвычайно характерной для склада личности Булгакова - естественника, врача, университетского человека, тяготеющего к позитивному, творческому действию, была та горечь, с которой автор статьи рассматривал фотографии, изображающие кипучую индустриальную, научную и прочую жизнь западной цивилизации, — Европа уже залечивала раны, нанесенные мировой войной, в его же отечестве конца разрушительной войне не было видно — предстояло не строить и учиться, а все еще драться... Автором «Грядущих перспектив» не утрачена вера в то, что наступят новые дни — но лишь в самом неопределенном будущем.
Через два дня после публикации булгаковского фельетона в той же газете «Грозный», вслед за статьей известного с довоенных времен критика Сергея Кречетова «Памяти воинов слава» (где звучал и мотив, близкий Булгакову, — «демоны безумия еще летают над русской землей»), напечатана была статья П. Голодолинского «На развалинах социальной революции (ответ на статью М. Б.)». Этот отклик представляет исключительный интерес, помогая прояснить тот идеологический контекст, в котором сформировалась и была объявлена политическая мысль Булгакова.
«Стыдно и больно читать статью М. Б. „Грядущие перспективы". Будто бы и не русский писал ее. Мрачным пессимизмом и каким-то жалким унижением дышат его строки.
Но, к счастью, не много так мыслящих на фронте. Все то, о чем говорит автор, уже думано и передумано, среди моих боевых товарищей, в часы затишья на позиции. И одна яркая мысль озаряет нас, терпеливо ждущих (несущих?) невзгоды и лишени<я>
Никогда большевизму не суждено укрепиться в России потому, что это было бы равносильно гибели культуры и возвращению к временам первобытной эпохи.
Наше преимущество в том, что ужасная болезнь — большевизм посетил нашу страну первой.
Конец придет скоро и неожиданно. Гнев народа обрушится на тех, кто толкнул его на международную бойню.
125
Не завоеванием Москвы и не рядом выигрышных сражений возьмет верх Добровольческая армия, а лишь перевесом нравственных качеств.
Вспомните те эпидемии, так молниеносно проносившиеся над Россией. Первой из них был разразившийся переворот и безумство толпы, мчавшейся безудержно к неосуществимым идеалам социализма в волнах красных тряпок.
Второй — неудержимый крик солдат «домой» и бегство с позиций. И третьей эпидемией, замирающей теперь, были лозунги „бей буржуев, офицеров и интеллигентов".
Возможно, что так же молниеносно придет четвертая — „Хотим мира! Давай твердую законную власть". Уже назревает этот последний момент, как нарыв, не выбравший еще место где прорваться. Слышим кругом: «Скорей бы мир, как хорошо жилось раньше".
Автор восторгается переходу союзников на мирное положение и восклицает: „Они куют могущество мира", но они вернулись только к старой культуре, а чтобы перейти к той, к какой придем мы, им придется также переболеть, как болеет наша страна. Новая культура не может быть продолжением старой. Между ними такая же колоссальная разница, как между культурой Рима и сменившей ее культурой варваров, достигшей в наше время такого могущества. В этом отношении мы не отстали, а уже перегнали другие страны.
Переболев тяжелой болезнью, мы будем гарантированы от ее повторений в будущем.
Автор не видит конца нищенскому существованию страны. Но он забывает, что по справедливости мы никому ничего не должны. Мы пролили кровь, сражаясь с центральными государствами, больше, чем каждый из наших союзников. Война принесла нам все ужасы революции и награды за все понесенные бедствия мы еще не получили. Час расплаты еще не пришел для нас.
Если будем говорить о расплате, то мы должны сами предъявить к оплате свои счета, в возмещение миллион (а) жизней, потерянных на полях европейской войны.
Мы никому не должны, это должно быть ясно союзникам, и трудно ожидать, чтобы они могли требовать уплаты по всем тем дутым векселям, на которых расписывались узурпаторы русской государственной власти.
Созидание уже идет. Оно мерно ведет свою работу еще под шумное завывание народных страстей. Разве не ближе нам стали за эту войну и особенно за революцию славянские государства.
126
Мы получили хорошую встряску и должны сознаться, что она разбудила засыпавший было народ. На дымящихся развалинах социальной революции мы возведем новую культуру, взамен старой, в большой мере заимствованной у чужеземцев. Еще настанет время живой работы, стремления к прогрессу всего народа — время светлых дней России.»
Автор отклика — возможно, самый первый из будущих мночисленных критиков Булгакова — был задет мрачным колоритом «Грядущих перспектив». В трагическом голосе, предрекавшем долгую «смертную борьбу», он услышал непатриотичную, «не русскую» ноту (противопоставив свою уверенность в «скором и неожиданном» конце войны). Черты мессианизма, подчеркивание славянской общности — в противовес западным союзным государствам, вера в неизбежность и благотворность смены старой европейской культуры — «новой», «культурой варваров», — этот выявленный в статье оппонента комплекс идей, родившихся еще в минувшем веке и укрепленных годами войны, Булгакову оставался в значительной степени чужд — в этом своеобразие его пути. Чужда ему, как показывает сопоставление двух статей, и вера оппонента в неизбежность мировой революции (Булгаков уверен, что это — «жалкий бред») в причудливом соединении с консервативными устремлениями.
Окрашенное окопной тоской и злобой противоположение России Западу (в том числе союзникам — «мы никому ничего не должны») в статье оппонента делает еще более отчетливой трезвость интеллектуально-общественной позиции, занятой Булгаковым. Уже в эти годы его патриотическое чувство питается не беспочвенной гордостью перед Западом, а горьким осознанием усугубляющегося отставания России от «титанической работы мира», катастрофического опаздывания, приобретающего непредсказуемый характер («никто из современных пророков» не скажет, «когда же, наконец, мы догоним их...» — опережающий характер булгаковской мысли не может не поразить современного читателя).
Оппонент Булгакова ищет виноватого на стороне — и легко находит его в стане европейских правительств. Виновны те, кто развязали мировую войну — она унесла миллион жизней и принесла революцию. Потому платить должны не «мы», а «нам» (идея аннулирования займов русского правительства, реализованная впоследствии, созревала, как видим, и в лагере, далеком от тех, кто возглавил революцию). Для автора отклика мировая бойня — свидетельство банк-
127
ротства правящего слоя европейских государств и доказательство краха старой культуры (для Булгакова это не так). Он зовет к отъединению от «чужеземцев» и строительству некоего своего нового мира на развалинах разрушенного «социальной революцией» (любопытны эти предвестия будущих лозунгов о социальном строительстве «в одной, отдельно взятой стране», самоизолировавшейся от враждебного окружения). Строителем будет «засыпавший было» и теперь разбуженный «народ» (для Булгакова это понятие в таком нерасчлененном виде в то время не существует; он совершенно чужд народопоклонству, традиционно присущему русской интеллигенции, — и в этом обособлен от нее).
Так слова «Интернационала», в которые через несколько лет будут напряженно вслушиваться — как в грозные звуки своего неведомого будущего — обитатели дома Турбиных на сцене столичного театра, поздней осенью 1919 года неосознанно проступали в высказываниях тех, кто пока еще с оружием в руках боролся против новой власти. И это крайне важно для понимания последующего хода событий и движения идей — и места Булгакова в потоке социальной жизни.
Сам Булгаков на роль пророчествующего не претендовал — и не был таковым (как мы в какой-то степени уже показывали, пророческие черты русского интеллигента-литератора в те годы его раздражают). Скорее уж в его статье — обыденный взгляд, предложенный без смущения, без извинения за эту обыденность, с искренним пафосом. Пафос этот прост и даже по тем временам простоват — колоссальные разрушения и реки пролитой крови в его глазах столь значимы, столь самоценны, что не нуждаются в оправдании какими бы то ни было грандиозными целями и не могут быть ими оправданы. Его нелюбовь к поэзии, впоследствии многими современниками удостоверенная, была, возможно, в согласии с его нелюбовью к каким бы то ни было слишком возвышенным задачам, которые одни люди ставят перед другими, к любой высокой игре, где ставка — чужая жизнь.
Впоследствии, когда такой взгляд на общественное жизнеустройство, при котором оно рассматривается под знаком интересов частной жизни человека, все больше терял свои акции, вытеснялся иными подходами, Булгакова в его собственном приятельском литературном кругу обвиняли в «мещанском» взгляде на вещи — и в определенном смысле вполне правомерно.
Важнейший мотив статьи — мотив вины общенациональной. В статье нет распространенных суждений о внешнем
128
источнике внутренних событий; автор пишет о «самостийных изменниках», но не об инородческой заразе. Всю ответственность и будущую расплату он возлагает на собственный народ, сурово обвиняя его за податливость к «одурачиванию», мечтая о времени, когда «мы вновь начнем кой-что созидать». Он уверен в неизбежности и правомерности расплаты.
Зимой 1919/20 гг. Булгаков, несомненно, продолжает печататься: 1 февраля 1921 года он пишет Константину Булгакову: «Помню, около года назад (подчеркнуто нами. — М. Ч.) я писал тебе, что я начал печататься. Фельетоны мои шли во многих кавказских газетах» — несомненно, речь идет именно о статьях (а не о фельетонах в современном смысле слова, которые он также пишет, но позже, уже в советском Владикавказе), печатавшихся в течение зимы 1919/1920 гг. Это подтверждается свидетельством Ю. Слезкина — двенадцать лет спустя, 21 февраля 1932 г., он вполне определенно запишет в дневнике, вспоминая знакомство с Булгаковым: «Встретились мы во Владикавказе при белых. Он был военным врачом и сотрудничал в газете в качестве корреспондента».
В его корреспонденциях, как можно предполагать, продолжалось осмысление происходящего. С понятным чувством он следил за известиями из Киева. 14 декабря 1919 года редактор «Киевлянина» со свойственной его газете прямотой оценки ситуации писал: «Бесполезно скрывать, что положение Киева серьезно, но из этого не следует, что оно безнадежно». Идет эвакуация гражданского населения. «...Многие говорят: поймите, жена не дойдет или не доедет без меня!... доедут и устроятся гораздо лучше без нас, чем с нами», — утверждает В. Шульгин, — «... защищая путь отступления, мы из отступающих сделаемся наступающими и этим сократим все невзгоды». Уже зовут «стать под ружье» в обращении «к старикам бывшей доблестной Русской армии» мужчин «года рождения 1862—1870», уже призывают последовать приказу большевиков, сумевших быстро собрать в Петрограде несколько тысяч коммунистов, чтобы отстоять город (15 декабря), учат «быть справедливыми и к врагу»: «Если большевикам в последнее время удалось вырвать у судьбы временные удачи — произошло это лишь благодаря той колоссальной энергии, колоссальному напряжению всех, как физических, так и психических сил, которые им удалось У себя развить. Если хотите — это сила отчаяния, но это все-таки еще сила» (Ярослав Г. Мы и они. — Киевлянин, 16 декабря 1919 г. № 83).
129
Все это — пища для размышлений Булгакова в эту зиму, материал для невидимых нам, проявившихся лишь через несколько лет изменений в мироощущении, в самом характере.
Один из рассказов он опубликовал в первую неделю февраля 1920 года (по старому стилю). Через год несколько отрывков из этого рассказа он вырезал из газеты (сам номер этой газеты еще не найден) и послал родным в Киев, при изменившихся обстоятельствах не решаясь, видимо, доверить почте полный текст. Он сопроводил его глухими намеками в письме на личную значимость этого материала, на связь его с какими-то хорошо известными семье Булгаковых событиями тех лет: «Посылаю три обрывочка из рассказа с подзаголовком: «Дань восхищения». Хоть они и обрывочки, но мне почему-то кажется, что они будут небезынтересны вам...» (письмо Вере Афанасьевне Булгаковой от 26 апреля 1921 г.). «В тот же вечер мать рассказывает мне о том, что было без меня, рассказывает про сына: — Начались беспорядки... Коля ушел в училище три дня назад и нет ни слуху...», «Вижу вдруг что-то застучало по стене в разных местах и полетела во все стороны штукатурка.
— А Коля... Коленька...
Тут голос у матери становится вдруг нежным и теплым, потом дрожит, и она всхлипывает. Потом утирает глаза и продолжает:
— А Коленька обнял меня, и я чувствую, что он... он закрывает меня... собой закрывает».
Несомненно, размышления о судьбе младших братьев, остающейся неизвестной с момента отхода Добровольческой армии из Киева, воздействовали на замысел рассказа и отражались в нем.
Реальная подоплека рассказа становится очевидной из письма, которое послала в свое время, 10 ноября (по старому стилю) 1917 года, Варвара Михайловна Булгакова дочери Наде — из Киева в Царское Село, где жили в то время Земские: «Что вы пережили немало треволнений, могу понять, т. к. и у нас здесь пришлось пережить немало. Хуже всего было положение бедного Николайчика, как юнкера. Вынес он порядочно потрясений, а в ночь с 29-го на 30-е я с ним вместе: мы были буквально на волосок от смерти. С 25-го октября на Печерске начались военные приготовления, и он был отрезан от остального города. Пока действовал телефон в Инженерном Училище, с Колей разговаривали по телефону: но потом прервали и телефонное сообщение... Мое беспокойство за Колю росло, я решила добраться до него.
130
29-го после обеда добралась. Туда мне удалось попасть; а оттуда, когда в 7 1/2 часов вечера мы с Колей сделали попытку (он был отпущен на 15 минут проводить меня) выйти в город мимо Константиновского училища — начался знаменитый обстрел этого училища. Мы только что миновали каменную стену перед Конст<антиновским> училищем, когда грянул первый выстрел. Мы бросились назад и укрылись за небольшой выступ стены; но когда начался перекрестный огонь — по Училищу и обратно — мы очутились в сфере огня — пули шлепались о ту стену, где мы стояли. По счастью, среди случайной публики (человек 6), пытавшейся здесь укрыться, был офицер: он скомандовал нам лечь на землю, как можно ближе к стене. Мы пережили ужасный час: трещали пулеметы и ружейные выстрелы, пули «цокались» о стену, а потом присоединилось уханье снарядов... Но видно наш смертный час еще не пришел, и мы с Колей остались живые (одну женщину убило), но мы никогда не забудем этой ночи... В короткий промежуток между выстрелами мы успели (по команде того же офицера) перебежать обратно до Инженерного Училища. Здесь уже были потушены огни; вспыхивал только прожектор; юнкера строились в боевой порядок; раздавалась команда офицеров: Коля стал в ряды, и я его больше не видела... Я сидела на стуле в приемной, знала, что я должна буду там просидеть всю ночь, о возвращении домой в эту страшную ночь нечего было и думать, нас было человек восемь такой публики, застигнутой в Училище началом боевых действий. Когда я пришла в себя после пережитого треволнения, когда успокоилось ужасное сердцебиение (как мое сердце только вынесло перебежку по открытому месту к Инженерн. Училищу) — уже снова начали свистать пули — Коля охватил меня обеими руками, защищая от пуль и помогая бежать... Бедный мальчик, как он волновался за меня, а я за него...
Минуты казались часами, я представляла себе, что делается дома, где меня ждут, боялась, что Ванечка кинется меня искать и попадет под обстрел... И мое пассивное состояние превратилось для меня в пытку... Понемногу публика выползла из приемной в коридор, а потом к наружной Двери... Здесь в это время стояли два офицера и юнкер артиллер<ийского> Училища, также застигнутые в дороге, и вот один из офицеров предложил желающим провести их через саперное поле к бойням на Демиевке: этот район был вне обстрела... В числе пожелавших пуститься в этот путь оказались 6 мужчин и две дамы (из них одна я). И мы пошли... Но какое это было жуткое и фантастическое путешест-
131
вие среди полной темноты, среди тумана, по каким-то оврагам и буеракам, по непролазной липкой грязи, гуськом друг за другом при полном молчании, у мужчин в руках револьверы. Около Инженерного Училища нас остановили патрули (офицер взял пропуск), и около самого оврага, в который мы должны были спускаться, вырисовалась в темноте фигура Николайчика с винтовкой... Он узнал меня, схватил за плечи и шептал в самое ухо: «Вернись, не делай безумия. Куда ты идешь? Тебя убьют!», но я молча его перекрестила, крепко поцеловала, офицер схватил меня за руку, и мы стали спускаться в овраг... Одним словом в час ночи я была дома (благодетель офицер проводил меня до самого дома). Воображаете, как меня ждали? Я так устала и физически и морально, что опустилась на первый стул и разрыдалась. Но я была дома, могла раздеться и лечь в постель, а бедный Николайчик, не спавший уже две ночи, вынес еще два ужасных дня и ночи. И я была рада, что была с ним в ту ужасную ночь... Теперь все кончено... Инженерное Училище пострадало меньше других: четверо ранено, один сошел с ума».
Мысль о судьбе младших братьев, Николая и Ивана, с конца 1919 года (момента отхода Добровольческой армии из Киева) и до первых известий о них (в начале 1922 года) была, по-видимому, мучительно неотрывной.
Эти размышления впрямую были связаны с необходимостью принимать решение относительно собственной жизни. Происходящее на фронтах ускоряло эти решения.
Зима 1919/20 года — переломная в жизни самого Булгакова: это, как увидим, и смена профессии, и окончательный переход из одного мира в другой, завершившийся через полтора года.
В субботу 15 (28) февраля 1920 года начала выходить газета «Кавказ», где в списке сотрудников значились Ю. Слезкин, Д. Цензор, Е. Венский, В. Амфитеатров (сын А. Амфитеатрова) и М. Булгаков.
Знаменательно следующее совпадение: спустя много лет, отвечая на вопросы своего друга и биографа П. С. Попова, Булгаков скажет, судя по записи его собеседника, следующее: «Пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе». Точности ради заметим, что Е. С. Булгакова недоверчиво относилась к этой записи и на наши вопросы — не помнится ли что-либо связанное с этой датой из ее разговоров с М. А. Булгаковым — пожимала плечами, посмеивалась: «Нет, ничего не помню. Да и стиль совершенно не Мишин — «душевный перелом»! Он никогда так не говорил».
132
Мы предполагаем, что слова о «душевном переломе» шифруют (или, скажем, — не расшифровывают) следующие внешние и внутренние события. Именно в эти дни (по старому стилю) должны были дойти первые известия о катастрофе - наступлении красных войск, опередившем планируемое широкое наступление белой гвардии и разворачивающемся успешно. В сражении при Егорлыкской была разбита главная сила белых — казачья конница. Событие прямо касалось жизни Булгакова. Перед ним встал грозный призрак недалекого будущего. В те дни он отказался от медицины — занятия, в то время, прямо связывающего с той или иной властью и ее армией, — и принял давно обдуманное решение избрать свободную профессию — литературу.
Тогда же произошла случайность, сыгравшая огромную роль в дальнейшей жизни Булгакова.
«Когда госпиталь расформировали, — рассказывает Татьяна Николаевна, — в первых месяцах 1920 года, заплатили жалованье — «ленточками». Такие деньги были — кремовое поле, голубая лента. Эти деньги никто не брал, только в одной лавке — и я на них скупала балыки... (Быть может, эти именно несколько фантасмагорические, скупаемые напоследок балыки возникнут потом в романе «Мастер и Маргарита», где Арчибальд Арчибальдович последним выйдет из горящего ресторана «с двумя балыковыми бревнами под мышкой», а Коровьев вынесет оттуда же «цельную семгу в шкуре и с хвостом». — М. Ч.). Было уже ясно, что белые скоро уйдут, но они еще не собирались. В это время Михаил послал меня в Пятигорск — не помню, по какому-то делу. Поезда не ходили, я вернулась. Но он во что бы то ни стало хотел добраться туда. Как раз на другой день пошел поезд, Михаил съездил — на сутки. Вернулся: «Кажется, я заболел». Снял рубашку, вижу: насекомое. На другой день — головная боль, температура сорок. Приходил очень хороший местный врач, потом главный врач госпиталя. Он сказал, что у Михаила возвратный тиф: «Если будем отступать — ему Нельзя ехать». Однажды утром я вышла и вижу, что город пуст. Главврач тоже уехал. А местный остался. Я бегала к нему ночью, когда Михаил совсем умирал, закатывал глаза. В это время — между белыми и советской властью — в городе были грабежи, ночью ходить было страшно; однажды на пустой улице ингуш схватил меня за руку — я вырвалась, бежала бегом... Во время болезни у него были дикие боли, беспамятство... Потом он часто меня упрекал: «Ты — слабая женщина, не могла меня вывезти!» Но когда мне два врача говорят, что на первой же остановке он умрет, — как же я
133
могла везти? Они мне так и говорили: «Что же вы хотите -, довезти его до Казбека и похоронить?»
Когда он выздоровел, немного окреп — пошел в политотдел. Там был уже Юрий Слезкин» (6 апреля «Известия Владикавказского Ревкома» публикуют приказ: «Тов. Слезкина Юрия Львовича считать зав. подотделом искусств Тверского Наробраза с 27 марта». — М.Ч.). В «Записках на манжетах» три года спустя Булгаков опишет: «В комнате, на четвертом этаже, два шкафа с оторванными дверцами, колченогие столы. Три барышни с фиолетовыми губами, то на машинках громко стучат, то курят.
Сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел. Тео. Изо. Сизые актерские лица лезут на него и денег требуют.
После возвратного — мертвая зыбь. Пошатывает и тошнит. Но я заведываю. Зав. Лито. Осваиваюсь».
Одна из этих «трех барышень», Любовь Давыдовна Улуханова, через много лет, 4 сентября 1980 года, рассказывала нам: «Комната на вид была очень ободранная — вновь рожденное учреждение... В этом же учреждении работала некая Марго — за ней ухаживал Слезкин, и Тамара Ноевна Гасумянц с двумя толстенными косами — она только что окончила гимназию и пришла на службу в Тео. Как ни зайду к ней — Булгаков лежит на ее столе: он, стоя, опирался на стол или сидел перед ее столом, положив локти... Он был со снятыми погонами, фуражка мятая, обмотки... Кто он по профессии — было неизвестно. Был насмешлив, сочинял шутливые стихи:
И над журналом исходящих Священнодействует Марго».
Все, что происходило с ним до февраля 1920 года, теперь подлежало забвению, поскольку могло стоить жизни. Спустя год он предупреждает сестру, чтобы с его владикавказской знакомой, едущей в Москву, родные не вели никаких «лекарских» разговоров, «которые я и сам не веду с тех пор, как окончил естественный и занимаюсь журналистикой. Внуши это Константину. Он удивительно тароват на всякие lapsus'ы» (письмо к Н. А. Земской от 19 апреля 1921 г).
Он ходил с женой гулять в парк — самую красивую часть города. Из городского сада, где играл оркестр, спускались на так называемый трек — гуляли по аллеям. «Был май месяц; Михаил ходил еще с палкой, опирался на мою руку. В это время как раз приехали коммунисты, какая-то комиссия, разыскивали белогвардейцев. И я слышу, как кто-то говорит: «Вот этот печатался в белогвардейских газетах». «Уйдем,
134
уйдем отсюда скорей!» — говорю Михаилу. И мы сразу же ущли. Я вообще не понимаю, как он в тот год остался жив — его десять раз могли опознать! Тогда время было трудное. То, например, выяснилось, что начальник милиции — из белогвардейского подполья... А в доме, где мы жили, оставался сын казачьего атамана Митя, он мне часто колол дрова, немного даже ухаживал за мной. И вот однажды он говорит мне: «Вступайте в нашу партию! — Какую? — У нас вот собираются люди, офицеры... Постепенно вы привлечете своего мужа...» Я сказала, что вообще не сочувствую белым и не хочу. А потом я узнала, что он предложил это же бывшей медсестре из детского сада, с которой у него был роман, а она сообщила об этом, и его расстреляли. А про Михаила, конечно, могли сказать, что он печатался в белогвардейской газете. Да даже этот Митя мог назвать его имя!
Тут организовался русский театр. Слезкин предложил Михаилу делать вступительное слово перед спектаклями. В театре этом три дня шла опера (там был очень хороший баритон — Любченко), три дня — драма. Слезкин однажды встретил меня: «Где вы работаете?» — «В конторе угрозыска». (А я там пишу-пишу, надо номер ставить, забуду — и другой поставлю. — Ну, что с вами делать? — Да я неспособна к этому). И он меня устроил в театр статисткой...
Однажды иду я в театр, вдруг слышу — «Здравствуйте, барыня!» Оборачиваюсь, — а это бывший денщик Михаила, Барышев, — когда я приехала во Владикавказ, у него был денщик, или вестовой... Я всегда ему деньги на кино давала. «Какая, — говорю, — я теперь тебе барыня?..» «Где вы живете?» — спрашивает. «Здесь, в городе, а ты?» — «Да я перешел в Красную Армию!»
Сначала продолжали жить у генеральши и столовались у нее одно время, но когда я в театр поступила, не успевала к определенному часу после репетиций, а генеральша, Лариса Дмитриевна, не оставляла мне обеда... Михаил узнал, и отказались от ее обедов.
Театр денег не платил — только выдавали постное масло и огурцы... Подотдел ему тоже не платил. Только за пьесы потом уже платили. Жили мы в основном на мою золотую цепь — отрубали по куску и продавали. Она была витая, как веревка, чуть уже мизинца толщиной. Длинная — я ее окручивала два раза вокруг шеи, и она еще свисала, еще камея на ней на груди была. С тех пор как родители мне ее подарили, я всегда ее носила не снимая, и в Киеве с ней спускалась дверь открывать. И вот не понимаю — как это во время этих
135
смен властей у меня ее не сорвали? Ведь просто могли дернуть с шеи и убежать... Вот на эту цепь мы и жили.
Я все больше покупала печенку на базаре, где-то брала мясорубку и делала паштет. Иногда ходили в подвальчик — далеко от театра, ели шашлыки, пили араку. Меня тошнило потом — она дымом пахла...»
В местной газете Булгакова уже называют писателем, ровно через месяц, однако, рецензент той же газеты В. Вокс помещает это слово в кавычки, публикуя отчет о концерте: «...„писатель" Булгаков прочел по тетрадочке вступительное слово, которое представляло переложение книг по истории музыки и по существу являлось довольно легковесным...» («Коммунист», 4 июня 1920 г.). Это был, по-видимому, первый отзыв печати о писателе Булгакове... И в следующем же номере газеты Булгаков публикует резкий «Ответ почтенному рецензенту», где парирует все выпады и рекомендует редакции не «поощрять Воксову смелость».
С конца мая Булгаков заведует уже не литературной, а театральной секцией и даже начинает организовывать Народную драматическую студию сценического искусства. А в июне на сцене 1-го советского театра идет его «Юмореск в 1-м действии «Самооборона» вместе с двумя «миниатюрами» — драма «Пламя» Ю. Слезкина и лубок «Красноармейцы».
Обращение к драматургическим занятиям было своевременным — служба его в подотделе уже подходила к своему, так сказать, логическому концу. «15 апреля в кинемо «Гигант» состоялся митинг на тему «Что такое Советская власть?», на котором с речами выступали тов. Киров, Бонквицер, Такаев, Наумов и др., присутствовало до 2000 чел. <...> С блестящей речью выступил тов. Киров. По его словам, он был сильно удивлен теми настроениями, которые еще существуют у местных обывателей. Они ничему не научились. Они все еще думают, что советская власть — временная, что она уйдет — они все еще шипят на всех углах и перекрестках, они забывают о том, что советская власть это неизбежность, это история и что ее не предотвратить никакими усилиями» (цит. по: «Театр», 1987. № 6. С. 137). Булгаков, по-видимому, все более и более сознавал эту неизбежность.
18 мая в газете «Коммунист» печатается рецензия на спектакль первого советского театра «Великий вечер» под псевдонимом Менестрель. Мы вполне поддерживаем предположение Г. Файмана относительно принадлежности этого псевдонима Булгакову. Два фрагмента рецензии особенно
136
решительно свидетельствуют, на наш взгляд, в пользу этого предположения: «Что касается остальных исполнителей пьесы, то их можно разделить на две группы: одну маленькую, которая, готовясь к пьесе, плохо, но учила роли, и другую — очень большую, которая совершенно ролей в руки не брала. <...> Говоря о постановке пьесы, нужно указать на неудачное изображение народной демонстрации со стрельбой за сценой. Треск пулемета, как каждому известно (характерный булгаковский стилистический ход. — М. Ч.), отнюдь не напоминает шума падающего дождя, он должен звучать гораздо внушительнее, да и пение небольшого хора, все время топтавшегося под окном, совершенно непохоже на грозное пение демонстрантов. Вообще сцена вышла очень жидкой, если, конечно, исключить ружейные залпы. Режиссеру театра необходимо обратить внимание как на отдельных актеров, которые не желают учить ролей и принуждают публику в течение всей пьесы слушать назойливые, заглушённые вопли суфлера из будки, так и на постановку массовых сцен» (цит. по: «Театр», 1987 С. 141—142).
В конце июня — начале июля в летнем театре, на треке, шел в течение трех вечеров диспут о Пушкине, вскоре подробно описанный Булгаковым в «Записках на манжетах»: «Обливаясь потом, в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине белые штаны». Готовясь в течение двух дней, он выступил со своего рода содокладом — в защиту культуры, в защиту великого наследия классики — и был горячо встречен аудиторией. «Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное, веселое: — Дожми его! Дожми!» Защитительная речь Булгакова на этом диспуте, построенном в излюбленной в то время форме суда над Пушкиным, вскоре также получила оценку в печати, в статье под названием «Покушение с негодными средствами»: «Русская буржуазия, не сумев убедить рабочих языком оружия, вынуждена попытаться завоевать их оружием языка. Объективно такой попыткой использовать «легальные возможности» являются выступления гг. Булгакова и Беме на диспуте о Пушкине. Казалось бы, что общего с революцией у покойного поэта и у этих господ? Однако именно они и именно Пушкина как революционера и взялись защищать. Эти выступления, не прибавляя ничего к лаврам поэта, открывают только классовую природу защитников его революционности... Они вскрывают контрреволюционность этих защитников «революционности» Пушкина...» («Коммунист», 10 июля 1920 г.).
Этот диспут описан, кроме «Записок на манжетах», еще
137
в одном литературном произведении — через два года, осенью 1922 года, в романе Юрия Слезкина «Столовая гора» (гора, у подножья которой расположен Владикавказ). Главный герой романа — Алексей Васильевич Турбин — имя главного героя пьесы «Братья Турбины», которую пишет летом 1920 года Булгаков. Эта пьеса была уничтожена через несколько лет самим автором, и содержание ее остается неизвестным. Остался список действующих лиц — семья Турбиных, мать — Анна Владимировна; по воспоминаниям Татьяны Николаевны, действие происходило на берегу моря, у горничной был роман с кем-то из действующих лиц (что ведет к одному из эпизодов первоначального варианта конца «Белой гвардии», где горничная Анюта беременна от Мышлаевского...). Печатные отзывы показывают, что действие пьесы отнесено было к 1905 году.
Но сейчас нас интересует другое — неслучайность выбора Слезкиным имени героя: целью была, несомненно, идентификация с Булгаковым, вложившим, как можно предполагать, много личного в своего «первого» Алексея Турбина — героя пьесы 1920 года. И значит, роман Слезкина может служить своеобразным источником, помогающим восстановить облик Булгакова 1920—1921 годов.
Занятия героя романа Слезкина совпадают с занятиями Булгакова весны и лета 1920 года. Придя к актрисе Ланской, Алексей Васильевич произносит монолог. «Пожалуй, я немножко устал, — говорит он, — и не откажусь от чая. Мы работали, мы строили новый мир. Я вертелся весь день как белка в колесе, не примите это за иронию. Утром я заведовал Лито: написал доклад о сети литературных студий и воззвание к ингушам и осетинам о сохранении памятников старины». Затем — «становлюсь по очереди — историком литературы, историком театра, „спецом" по музееведению и археологии, дошлым парнем по части революционных плакатов — мы готовимся к неделе красноармейца — и ходоком по араке». Упоминается «изумительный подвальчик в кавказском духе, где черный, как бес, персюк подает в самом заднем чулане горячую араку и шашлык», — тот самый, видимо, подвальчик с пропахшей дымом аракой, который запомнился Татьяне Николаевне.
По-видимому, Юрий Слезкин очень внимательно слушал Булгакова. Много позже он записал в дневнике: «Его манера говорить схвачена у меня в образе писателя в «Столовой горе».
Действительно — на страницах романа можно угадывать как бы обломки (потому что схватить нечто целостное
138
Слезкину уже не удалось) речевой манеры Булгакова — если реконструировать ее по воспоминаниям очевидцев и по некоторым речевым чертам его собственных персонажей. «Он не спешит, потому что в заднем кармане его брюк среди десятка всевозможных удостоверений и мандатов лежит пропуск. На лиловой бумажке — „разрешается хождение до двух часов ночи". Да, будьте покойны — разрешается. С этим ничего не поделаешь. Пожалуйста, можете свистеть сколько вам угодно. Это к нему не относится. Ни в какой мере»; «А вы еще говорите, что я индифферентен и не захвачен волной событий? Напротив — захвачен, можно даже сказать — захлебнулся ими». На то, что это, возможно, — прямые цитаты из собственных высказываний Булгакова, указывает их отличие — законченностью формулировок, энергией тона — от стиля самого Слезкина. Перед нами в некоторых случаях — устные, по-видимому, повторяющиеся рассказы самого Булгакова: жанр, к которому он тяготел на протяжении всей жизни. Рассказы эти — одного определенного плана: они как бы приоткрывают ту «маску», под которой все время гуляет герой романа, вызывая раздражение не только других персонажей, но и самого автора. «Скажите, Алексей Васильевич, были вы когда-нибудь искренним? — спрашивает Ланская. — Я смотрю на вас, и мне всегда кажется, что вы в маске. Вы точно все время чего-то боитесь, от чего-то прячетесь, что-то хотите скрыть, затушевать. Вы говорите и оглядываетесь. Я тоже боялась, но я все думала, как бы укусить, и это все видели. А вы мягкий, странный вы, Алексей Васильевич!» Не литературными средствами, и скорее с бытовой обнаженностью фиксируются черты, по-видимому, немаловажные в складе личности Булгакова, — неагрессивность, нежелание вступать в какие бы то ни было схватки (схватка «из-за Пушкина» была исключением— и характерным!), страх, связанный с желанием отойти в сторону — и только. Этот склад личности и, несомненно, какие-то эпизоды биографии Булгакова и стремится очертить автор романа «Столовая гора» доступными ему средствами — диалогами, внутренними монологами героя, его рассказами.
«Нет, Алексей Васильевич больше всего не терпел болтливости. Говорить можно помногу — он сам был не прочь поговорить и порассказать кое о чем, — но болтать... выкладывать себя целиком, бегать нагишом при всех... это и бесстыдно, и глупо.
Как много дураков на свете!... Нет, вы подумайте только, как много глупых людей, готовых вам рассказать о себе все,
139
изложить вам всю свою глупую биографию и все свои идиотские убеждения — это, по-моему, так, а это — вот как, — и потом еще обижаются, когда вы в свой черед не разденетесь перед ними или не скажете им тоже вполне чистосердечно, что они дураки.
Нет, все-таки и приличнее и безопаснее ходить одетым.
Алексею Васильевичу довелось однажды... собственно, даже не ему, а одному его знакомому, видеть такого обнаженного человека: он нисколько не стеснялся своей наготы. Он даже — наивный человек — гордился ею. Просто пришел и заявил — я такой и такой и иным не желаю быть и костюма не надену... Да, просто так и сказал, с полной искренностью, от чистого сердца. И представьте себе — ему поверили. Его приняли за того, кем он был на самом деле, потому что он и не собирался казаться чем-нибудь иным... Вот и все. Вы не верите, чтобы на этом кончилась его история? Но представьте — это так. С тех пор его уже никто не видел. Аминь».
Такие страницы романа Слезкина в какой-то степени передают, по-видимому, знакомые ему мысли Булгакова о формах исторически-социального и «житейского» поведения в переломные периоды, когда сама жизнь человека попадала в зависимость от степени откровенности его самовыявления.
Не побоимся в то же время назвать простые и, главное, общепонятные вещи простыми же словами: страх за жизнь и стремление сохранить ее в этот период — весьма важная, едва ли не существеннейшая черта настроения Булгакова. И ирония по поводу этого страха (следы которой заметны в авторской точке зрения в романе Слезкина) Булгакову претит, кажется неуместной — жизнь слишком большая для этого ценность. К тому же им, несомненно, владеет ощущение, что его подлинная жизнь, зависящая от его таланта, а не от воли случая, еще не начиналась.
Исследователь жизни Булгакова на Кавказе Д. Гиреев (погиб в 1981 году в автомобильной катастрофе) нашел в архиве «Доклад комиссии по обследованию деятельности подотдела искусств» от 28 октября 1920 года. На обложке этого доклада (сурово оценивающего деятельность подотдела) помета: «Изгнаны: 1. Гатуев, 2. Слезкин, 3. Булгаков (бел.), 4. Зильберминц». Возможно, помета «бел.» означает, что недавнее прошлое Булгакова настигло его — и еще в довольно щадящей форме.
В октябре 1920 года в театре идет пьеса Булгакова «Братья Турбины» (с подзаголовком «Пробил час») — «написан-
140
ная наспех, черт знает как, четырехактная драма», как определил сам автор в письме Константину. «Жизнь моя— мое страдание, — писал он в этом же письме от 1 февраля 1921 года. — Ах, Костя; ты не можешь себе представить, как бы я хотел, чтобы ты был здесь, когда «Турбины» шли в первый раз. Ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать, — писать.». (Этому опозданию действительно суждено играть роковую роль в годы литературного дебюта Булгакова — оно будет сказываться еще несколько лет.) «В театре орали «автора» и хлопали, хлопали... Когда меня вызвали после 2-го акта, я выходил со смутным чувством... смутно глядел на загримированные лица актеров, на гремящий зал. И думал: «А ведь это моя мечта исполнилась... но как уродливо: вместо московской сцены сцена провинциальная, вместо драмы об Алеше Турбине, которую я лелеял, наспех сделанная, незрелая вещь. Судьба-насмешница».
Это — первое документальное свидетельство о давних литературных мечтах человека, в двадцать девять лет оказавшегося в положении начинающего писателя. В том же письме — важные признания о работе, не находящей выхода в печати (и, добавим, так и оставшейся неизвестной — можно только предполагать, что несколько готовых произведений было привезено в Москву и напечатано в первый же год): «Потом, кроме рассказов, которые негде печатать, я написал комедию-буфф «Глиняные женихи». Ее, конечно, не взяли в репертуар, но предлагают мне ставить в один из свободных дней (то есть свободных от репертуарных спектаклей. — М. Ч.). И опять: дня этого нет, все занято. Наконец, на днях снял с пишущей машинки «Парижских коммунаров» в 3-х актах. Послезавтра читаю ее комиссии. Здесь она несомненно пойдет. Но дело в том, что я послал ее на всероссийский конкурс в Москву. Уверен, что она не попадет к сроку, уверен, что она провалится. И опять поделом. Я писал ее 10 дней. Рвань все: и «Турбины», и «Женихи», и эта пьеса. Все делаю наспех. В душе моей печаль.
Но я стиснул зубы и работаю днями и ночами. Эх, если бы было где печатать!» Итак, четвертая из пьес 1920—1921 годов — «Парижские коммунары» — была, видимо, написана в январе 1921 года и послана в Москву на конкурс под девизом «Свободному богу искусств».
Все в том же письме Константину он подробно рассказывал: «Бог мой, чего я еще не делал: читал и читаю лекции по истории литературы (в Университете народа и драмати-
141
ческой студии), читаю вступительные слова и проч. проч. ... Тася служила на сцене выходной актрисой. Сейчас их труппу расформировали, и она без дела.
Я живу в скверной комнате на Слепцовской улице, д. 9, кв. 2. Жил в хорошей, имел письменный стол, теперь не имею и пишу при керосиновой лампе».
Татьяна Николаевна вспоминает об этом же так: «Дом генеральши забрали под детский сад. Сама она куда-то уехала вместе с сыном. Нам дали неплохую комнату, около самого театра — на Слепцовской. Да, письменного стола там действительно не было — не покупать же было! ...Иногда ходили обедать к Милочке Беридзе — ее мать готовила обеды за деньги...»
Вместе с Людмилой Беридзе, как и со Слезкиным, и с Хаджи-Муратом Мугуевым, он выступал еще летом 1920 года на литературных вечерах Терекского отделения РОСТА, в помещении Летнего театра. И вся эта пестрая, разноплеменная литературно-театральная — и окололитературная, околотеатральная — компания трансформирована в персонажах романа Слезкина, где Алексей Васильевич Турбин питает к Милочке — девушке, стремящейся идти в ногу со временем и осуждающей Турбина за скептическое отношение к современности, — романические чувства.
В 1921 году Булгаков пишет последнюю — пятую — пьесу «владикавказского» периода. В письмах его эта пьеса не упоминается, однако в отличие от всех других пьес она — вернее, работа над ней — дважды описана в произведениях Булгакова — «Записках на манжетах» и рассказе «Богема». Там эта пьеса получает шаржированную, но тем не менее уничтожающую автооценку: «Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя в нетопленой комнате, ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности — это было нечто совершенно особенное, потрясающее. Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам! На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь... от людей скрыть. Но от самого себя — никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено!..»
В 1923 году, в Москве, Булгаков уничтожил свои экземпляры всех пьес. Однако будто в подтверждение слов писа-
142
теля — «написанное нельзя уничтожить» — спустя почти < сорок лет после написания (и через двадцать лет после смерти автора) был найден экземпляр именно этой, последней пьесы — «Сыновья муллы», которую писали «втроем: я, помощник поверенного (кумык Т. Пейзулаев, юрист по специальности. — М. Ч.) и голодуха» («Записки на манжетах»). *
В апреле он пишет сестре Наде в Москву: «На случай, если я уеду далеко и надолго, прошу тебя о следующем: в Киеве у меня остались кой-какие рукописи: «Первый цвет», «Зеленый змий», а в особенности важный для меня черновик «Недуг». Я просил маму в письме сохранить их. Я полагаю, что ты осядешь в Москве прочно. Выпиши из Киева эти рукописи, сосредоточь их в своих руках и вместе с «Самообороной» и «Турбиными» в печку. Убедительно прошу об этом.». Он посылал ей также вырезки и программы: «Если уеду и не увидимся — на память обо мне».
Еще в первом февральском письме кузену Константину есть такие строки: «Что дальше? Уеду из Владикавказа весной или летом. Куда? Маловероятно, но возможно, что летом буду проездом в Москве. Стремлюсь далеко...» Он посылал адресату «одну из бесчисленных» своих афиш: «На память на случай, если не встретимся». В письме от 16 февраля он возвращается к той же теме: «Во Владикавказе я попал в положение «ни взад, ни вперед». Мои скитания далеко не кончены. Весной я должен ехать или в Москву (м. б., очень скоро), или на Черное море, или еще куда-нибудь...»
Письмо к сестре Вере от 26 апреля 1921 года особенно отчетливо обнаруживает настроение Булгакова в истекший, очень трудный для него и психологически, и творчески год. «Я очень тронут твоим и Вариным пожеланиями в моей работе, — писал он. — Не могу выразить, как иногда мучительно мне приходится. Думаю, что это Вы поймете сами... Я жалею, что не могу послать вам мои пьесы. Во-первых, громоздко, во-вторых, они не напечатаны, а идут в машинных списках, а в-третьих, они чушь. Дело в том, что творчество мое разделяется резко на две части: подлинное и вымученное». Пишет он и «подлинную» прозу, но завеса над ней приоткрыта лишь в письме к Константину Булгакову от 1 февраля 1921 года: «Пишу роман, единственная за все это время про-
* В 1960 году единственный суфлерский экземпляр пьесы передала Е. С. Булгаковой Тамара Сослановна Гойгова; 20 декабря 1960 г. она писала вдове писателя: «Михаила Афанасьевича я хорошо помню. Мы вместе работали в отд<еле> народного образования в Орджоникидзе (т. е. Владикавказе — М. Ч.). Кроме того, он еще раньше знал мою старшую сестру, которая была на войне (1-ой империалистической) мед. сестрой, в то время как он был военным врачом» (ГБЛ, ф. 562, 34.9).
143
думанная вещь. Но печаль опять: ведь это индивидуальное творчество, а сейчас идет совсем другое».
Косвенные данные об этом романе и работе над ним можно на наш взгляд, извлечь из того же романа Слезкина: «Единственное, что он хотел бы написать, так это — роман. И он его напишет — будьте покойны. Роман от него не уйдет. Он будет-таки написан. Во что бы то ни стало.
Все эти заметки, фельетоны, рецензии — все это кусок хлеба, не более. Даже столь плодотворное дело, как заведование Лито и преподавание в студиях... дело первейшей важности, он не спорит, — но все же роман будет написан».
Премьера последней владикавказской пьесы Булгакова «Сыновья муллы», написанной на местном материале (гражданская война на Северном Кавказе), пьесы, в которой руку Булгакова узнать практически невозможно, состоялась 15 мая 1921 года. «В туземном подотделе пьеса произвела фурор, — повествуется в «Записках на манжетах». — Ее немедленно купили за 200 тысяч. И через две недели она шла». Играли ее ингушские актеры-любители. Участница спектакля Т. Т. Мальсагова вспоминала: «Народу было тьма, публика национально бурно реагировала, даже в патетический момент в публике раздался выстрел...» И эта реакция зала также запечатлена в «Записках на манжетах»: «Чеченцы, кабардинцы, ингуши после того, как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражни-ков, кричали:
— Ва! Подлец! Так ему надо!
И вслед за подотдельскими барышнями вызывали «автора!»
И далее в «Записках» — отражение переломного биографического периода, начало которого приходится, видимо, как раз на эти дни, когда коротким по времени, но тяжким трудом, сопровождавшимся даже определенной психологической травмой, заработана была необходимая сумма денег. (В рассказе «Богема»: «Сто — мне, сто — Гензулаеву. <...> Семь тысяч я съел в два дня, а на остальные 93 решил выехать отсюда. Вперед. К морю. Через море и море, и Францию — сушу — в Париж!
Косой дождь сек лицо, и, ежась, в шинелишке, я бежал переулками в последний раз — домой...
...Вы — беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я!»
Гротескное описание дальнейшего — в рассказе «Боге-
144
мa»: «В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать просто: нанять автомобиль во Владикавказе и по Военно-Грузинской дороге, где необычайно красиво. И всего 210 верст. Но в 1921 году самое слово «нанять» звучало во Владикавказе как слово иностранное. Нужно было ехать так: идти с одеялом и керосинкой на вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек. Вытирая пот, на седьмом пути увидал у открытой теплушки человека в ночных туфлях... Он полоскал чайник и повторял мерзкое слово «Баку».
— Возьмите меня с собой, — попросил я.»
И действительно — в Тифлис Булгаков ехал путем довольно длинным — через Баку. Выехал он, по-видимому, 26 мая, а 2 июня уже пишет из Тифлиса Наде и Константину — из гостиницы «Пале-Рояль», — давая им последние поручения; 11 июня Татьяна Николаевна пересылает им это письмо из Владикавказа в Москву: «Дорогие Костя и Надя, вызываю к себе Тасю из Владикавказа и с ней уезжаю в Батум, как только она приедет и как только будет возможность. Может быть, окажусь в Крыму... „Турбиных" переделываю в большую драму. Поэтому их в печку. „Парижские" <...> если взяли уже для постановки — прекрасно, пусть идут как торжественный спектакль к празднеству какому-нибудь, как пьеса они никуда. Не взяли — еще лучше. В печку, конечно. Они как можно скорее должны отслужить свой срок». Письмо заканчивалось следующим пассажем: «Не удивляйтесь моим скитаниям, ничего не сделаешь. Никак нельзя иначе. Ну и судьба! Ну и судьба! Целую всех, Михаил». На четвертый год «необыкновенных приключений доктора» сам он еще надеется решительно изменить свою судьбу.
На письме приписка Татьяны Николаевны: «Через два часа уезжаю к Мише в Тифлис»; помечено время: «3 часа ночи».
Об этом спустя много лет она рассказывала так: «...театр закрылся, артисты разъехались, подотдел искусств расформировался, Слезкин из Владикавказа уехал. И делать было нечего. Михаил поехал в Тифлис — ставить пьесу, вообще разведать почву. Потом приехала я. В постановке пьесы ему отказали, печатать его тоже не стали. Ничего не выходило... Мы продали обручальные кольца — сначала он свое, потом я. Кольца были необычные, очень хорошие, он заказывал их в свое время у Маршака — это была лучшая ювелирная лавка. Они были не дутые, а прямые, и на внутренней стороне моего кольца было выгравировано: „Михаил Булгаков" и дата — видимо, свадьбы, а на его: „Татьяна Булгакова"...»
145
Слабый свет его тифлисских литературных встреч — дарственная надпись Александра Порошина на книге «Корабли уходящие. Стихотворения» (Ахалкалаки, 1920): «Михаилу Афанасьевичу Булгакову. А. Порошин. 11 июня 1921. Тифлис» *.
«Когда мы приехали в Батум, я осталась сидеть на вокзале, а он пошел искать комнату. Познакомился с какой-то гречанкой, она указала ему комнату. Мы пришли, я тут же купила букет магнолий — я впервые их видела — и поставила в комнату. Легли спать — и я проснулась от безумной головной боли. Зажгла свет — и закричала: вся постель была усыпана клопами... Мы жили там месяца два, он пытался писать в газеты, но у него ничего не брали. Очень волновался, что службы нет, комнаты нет. Очень много теплоходов шло в Константинополь. «Знаешь, может, мне удастся уехать», — сказал он. Вел с кем-то переговоры, хотел, чтобы его спрятали в трюме, что ли. Он сказал, чтоб я ехала в Москву и ждала от него известий. «Если будет случай, я все-таки уеду». — «Ну, уезжай». — «Я тебя вызову, как всегда вызывал». Но я была уверена, что мы расстаемся навсегда. Я уехала в Москву по командировке театра—как актриса со своим гардеробом. По железной дороге было уехать нельзя, только морем. Мы продали на базаре кожаный «бауль», мне отец купил его еще в Берлине, на эти деньги я поехала. Михаил посадил меня на пароход, который шел в Одессу». В Одессе, при посадке на поезд, идущий в Киев, у нее украли вещи. Она приехала в Киев к матери Булгакова — без денег, без вещей, без надежды на встречу с мужем.
24 августа Надежда Афанасьевна пишет из Киева мужу: «Новость: приехала из Батума Тася (Мишина жена), едет в Москву... Пока он сидит в Батуме...» Одно из немногих свидетельств о его последних неделях на Кавказе — это свидетельство о встрече Булгакова с Мандельштамом в эти дни.
Возможно, познакомились они годом раньше — когда Мандельштам был недолго во Владикавказе: он упомянут в «Записках на манжетах». Первое свидетельство о следующей их встрече — видимо, в Батуме — в дневнике Е. С. Булгаковой, которая 13 апреля 1935 года записывала: «Миша днем сегодня выходил к Ахматовой, которая остановилась у Мандельштам (они жили в одном доме на ул. Фурманова — M. Ч.)... Жена Мандельштама вспоминала, как видела Мишу
* Надпись сохранилась в картотеке М. С. Лесмана и сообщена нам Р. Д. Тименчиком.
146
в Батуме лет 14 тому назад, как он шел с мешком на плечах. Это из того периода, когда он бедствовал и продавал керосинку на базаре». Второе свидетельство об этой же, возможно, встрече — в письме Н. Я. Мандельштам к Е. С. Булгаковой от 3 июля 1962 г. (в цитируемой части опубликованном нами в 1980 г.): «Знаете ли вы о первой встрече О. М. и Михаила Афанасьевича? Это было в Батуме в 21 году. Вы себе представляете, в каком виде мы были все трое. К нам несколько раз на улице подходил молодой человек и спрашивал О. М., стоит ли писать роман, чтобы послать его в Москву на конкурс. О. М., к тому времени уже знавший литературную жизнь, говорил, что на конкурс посылать ничего не стоит, а надо ехать в Москву и связаться с редакциями. Они иногда подолгу разговаривали именно на эту «практическую» тему. О. М. говорил мне, что у этого незнакомого юноши, интересующегося конкурсом, вид, внушающий доверие («В нем что-то есть — он, наверное, что-нибудь сделает), и что у него, вероятно, накопился такой материал, что он уже не в состоянии не стать писателем. Вскоре в Москве мы встретились с Булгаковым — автором рассказов и «Белой гвардии». Шумный успех «Турбиных» не был для нас неожиданностью». (Заметим в скобках, что Мандельштаму и его жене Булгаков кажется молодым человеком, тогда как он с Мандельштамом одного года рождения — поэт, по воспоминаниям современников и по немногим сохранившимся фотографиям, быстро старел, Булгаков же в эти годы выглядел моложе своих лет). К пересечениям в творчестве и биографиях Мандельштама и Булгакова мы еще не раз обратимся, пока же подчеркнем то, что кажется знаменательным: в решительный момент определения Булгаковым своей дальнейшей судьбы разговоры с Мандельштамом — одно из многочисленных в основном неизвестных нам слагаемых, приведших к решению — ехать в Москву.
В начале сентября Татьяна Николаевна приехала в Москву; здесь уже служил давний знакомый Н. Гладыревский; он помог ей устроиться в общежитие медиков на Большой Пироговской — в одной комнате с уборщицей. Что ей делать дальше — было совершенно неизвестно. 11 сентября она писала Наде в Киев: «С каждым днем настроение у меня падает, и я с ужасом думаю о дальнейшем» — то есть о приближающейся зиме. 18 сентября ей же: «Я все еще живу в общежитии у Коли <...>. Я послала Мише телеграмму, что хочу возвратиться, не знаю, что он ответит. Костя меня все время пилит, чтоб я уезжала».
Татьяна Николаевна не знала, что 17 сентября Булгаков
147
уже приехал в Киев, потерпев неудачу всех своих планов в Батуме и приняв решение ехать в Москву.
След пережитого им в конце августа — начале сентября — в «Записках на манжетах», в финале первой части: «На обточенных соленой водой голышах лежу как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинает до поздней ночи болеть голова. И вот ночь — на море. Я не вижу его, только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет. И шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за темного мыса — трехъярусные огни.
«Полацкий» идет на Золотой Рог».
Об этом пароходе, о борт которого разбились надежды Булгакова, сообщала 29 августа одна из батумских газет: «20 августа в батумский порт прибыло два парохода — «Палацкий» (так!) и «Шефельд», доставившие большое количество грузов и пассажиров».
«Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так... значит... значит...» И последняя, самая короткая главка, названная «Домой»: «...Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег — пешком. Но домой. Жизнь погублена. Домой!.. В Москву! В Москву!!
...В Москву!!!
Прощай, Цихидзири *. Прощай, Махинджаури. Прощай, Зеленый мыс!»
* Цихисдзири
148
ГЛАВА ВТОРАЯ
Первые московские годы
В двадцатых числах ненастного московского сентября 1921 года Булгаков приехал с Брянского вокзала, с его знаменитым шуховским стеклянным куполом, в Москву.
Это был совсем не тот въезд, который мерещился ему в трагедийном свете ноября 1919 года.
Если рассматривать какие-то страницы «Записок на манжетах» как биографический документ, он въехал в город глубокой ночью. Значит, идти в Тихомировское общежитие, где жила в это время его жена, не мог и ночевал, возможно, как рассказано в «Записках», у незнакомых людей. Это подтверждается и словами Татьяны Николаевны — прежде, чем они увиделись, она услышала от кого-то,что муж ее разыскивает.
К тому времени она жила в Москве уже недели три. «Когда я приехала, я понимала, что с Мишей я больше не увижусь и что мне надо разыскать мать и сестру. Мама, когда отец умер в Москве в 1918 году, не хотела возвращаться в Саратов и переехала жить к моей сестре в Петроград. Два моих брата к тому времени уже погибли, третий, курсант военного училища, ушел на рынок и не вернулся — так и до сей поры ничего о нем не известно...» Найти родных она не смогла — только много позже удалось выяснить, что мать и сестра в Великих Луках. «Не знаю, что бы я делала, если б не Коля Гладыревский (он тогда ухаживал за Лелей Булгаковой и хотел на ней жениться). Варвара Михайловна из вещей дала мне только подушку... Может быть, Михаил сначала меня не застал, или еще как-то было, но только, помню, кто-то мне сказал: «Булгаков приехал» и что он меня разыскивает. Но я настолько была уверена, что из Батума он уехал за границу и мы никогда не увидимся, что не поверила».
Несколько дней они еще прожили в общежитии — в комнате уборщицы Анисьи. От тех дней почему-то осталось в памяти Татьяны Николаевны Анисьино присловие: «Живу хорошо, дожидаюсь лучшего»...
149
Прежде всего надо было определиться на службу, а потом уж думать о жилье. По-видимому, на руках у Булгакова было удостоверение Владикавказского подотдела искусств и какое-то рекомендательное письмо. Он отправился разыскивать родственную организацию и обнаружил ее на Сретенке, в помещении того огромного здания акционерного общества «Россия», которое и сейчас стоит по левую руку, если встать лицом к Сретенскому бульвару. Это — один из самых первых домов, порог которых переступил Булгаков в Москве. «В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем шестиэтажным зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них» («Записки на манжетах»).
Он нашел в этом здании Литературный отдел Главполитпросвета Наркомпроса. К тому времени названия, к звуку которых с ужасом прислушивался в марте 1920 года очнувшийся после тифа при новой власти герой «Записок на манжетах» («Подотдел искусств откроем! — Это... что такое? — Что? — Да вот... подудел? — Ах, нет. Под-отдел! — Под? — Ущ! — Почему «под?»), были уже им хорошо заучены.
В «Записках на манжетах»: «Это шестиэтажное здание было положительно страшно. Все пронизано продольными ходами, как муравейник, так что его все можно было пройти из конца в конец, не выходя на улицу». Автор «Записок» находит в Лито двух людей: «Один высокий, очень молодой, в пенсне. Бросились в глаза его обмотки. Они были белые, в руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой седоватый старик с живыми чуть смеющимися глазами был в папахе, солдатской шинели. На ней не было места без дыры, и карманы висели клочьями. Обмотки серые и лакированные, бальные туфли с бантами. «Нельзя видеть заведующего? Старик ласково ответил: — Это я». (Схема «узнавания», конечно, нескрываемо восходит к встрече Чичикова с Плюшкиным. «— Эх, батюшка, а ведь хозяин-то я!») «Больше всего он походил на обритого Эмиля Золя».
30 сентября 1921 года датировано заявление: «Прошу о зачислении моем на должность секретаря Лито. Михаил Булгаков» *. На нем резолюция: «Худ. отдел. Прошу зачис-
* Этот и последующие документы выявлены в ф. 2306, ф. 2313 и др. ЦГА РСФСР и подготовлены к печати Р. Янгировым, который любезно предоставил нам возможность использовать эти документы и комментарии к ним.
150
лить секретарем Лито взамен т. Гольдебаева. Т. Гольдебаева оставить членом Редакц. Комиссии. Зав. Лито ГПП А. Готфрид». «Старик» в столь недвусмысленном для взгляда Булгакова костюме — это и есть А. П. Готфрид, член РКП (б) с декабря 1918 года, организатор Советов на подмосковных станциях. Он был заместителем А. С. Серафимовича, заведующего Лито Наркомпроса, — ему подчинялось Лито Главполитпросвета...
В тот же день Булгаков заполнил первую свою московскую анкету — как увидим, весьма обдуманно: «... Какие местности России хорошо знаете, сколько лет там прожили и были ли за границей. — Москва, Киев, за границей не был; Участвовали ли в войнах 1914—1917» — прочерк, «1917—1920» — прочерк; специальность — литератор; социальное положение до 1917 года и основное занятие — студент». Все, что было связано с семьей отца, с дипломом «лекаря с отличием», с участием в качестве военврача в обеих войнах, давно уже не подлежало оглашению.
На вопрос «Считаете ли нужным в настоящий момент Применять ударную форму работы, предпочитая ее углубленным формам работы», он ответил уклончиво — «В некоторых случаях», а на вопрос «Принимали ли участие в революционном движении до 1917 года» вполне определенно — «нет».
И приказом от 1 октября он был зачислен на искомую должность секретаря Лито, заместив на ней Александра Кондратьевича Гольдебаева и так и не узнав, возможно, о том, что волею судеб соприкоснулся тем самым с Чеховым, который лично отредактировал когда-то рассказ Гольдебаева для «Русской мысли»... «Вступив в литературу почти на четверть века позже Чехова (притом, что был лишь на три года его моложе. —М. Ч.) и пережив его на двадцать лет», Гольдебаев успел еще, таким образом, уступить свое служебное место вступающему в литературную московскую жизнь Булгакову...
В обязанности секретаря вменялось «общее руководство всей письменной работой, направление бумаг, ведение протоколов коллегии Лито, деловая переписка с лицами и учреждениями, составление «Повестки дня» (обратим внимание — это словосочетание еще только входит в обиход и потому пишется в кавычках. — М. Ч.) для заседаний коллегии, проведение в жизнь постановления заседаний коллегии доклады заведующему или заместителю о текущей работе и общее наблюдение за работой канцелярии...»
151
Первый же протокол, который вел Булгаков 2 октября 1921 года, отметил: «Начало заседания: 8 час. вечера. Окончание: 12 ч. ночи».
Некоторые подробности этого времени припомнил незадолго до своей кончины, в одной из наших бесед в январе 1978 года, литератор Георгий Петрович Шторм, оказавшийся одним из первых московских сослуживцев Булгакова. Запомнилось неожиданное начало разговора, когда Георгий Петрович сказал — после первых же слов: «Он сохранил лик, а я надел личину».
Наш собеседник прекрасно помнил то здание, где они познакомились и где «квартиры были соединены — через лих шел тот бесконечный ход, который описан у Ильфа и Петрова...». Начальствовал, как ему запомнилось, «некий Богатырев и был еще старик, который почему-то часто повторял: „Поученье — соленье Мономахово..." („молодой" — В. С. Богатырев был заместителем А. П. Готфрида). Сам Г. Шторм появился в Лито вскоре вслед за Булгаковым — чтобы и отпечатлеться в недалеком будущем в «Записках на манжетах»: «Утром в 11 вошел молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал: Шторн.
— Чем могу вам служить?
— Я хотел бы получить место в Лито». И рассказчик «Записок» написал резолюцию на его прошении. «Потом приехал кудрявый, румяный и очень жизнерадостный поэт Скарцов». По словам Г. Шторма, это был Иван Иванович Старцев (1896—1967), впоследствии известный библиограф, а тогда — юный имажинист, приехавший в столицу летом 1921 года, вскоре ставший приятелем Есенина и написавший о нем пять лет спустя воспоминания, довольно откровенно рисующие подробности (изъятые в поздних изданиях) обыденной жизни поэта, открытой в то время взору многих современников. Старцев стал постоянным лицом в кафе «Стойло Пегаса» ( в которое заходил Булгаков) и получил своеобразную известность в тогдашней литературной Москве — один из авторов воспоминаний о Есенине писал: «Ваня Старцев был совсем молодой и жизнерадостный парень, но отъявленный неряха. Поэты сложили по этому поводу про него и про Есенина частушку: «Ваня ходит неумыт, а Сережа чистенький, Потому Сережа спит Часто на Пречистенке». На Пречистенке жила Айседора Дункан, с которой в ту осень познакомился Есенин — в студии Якулова, которая, по словам того же мемуариста, «блистала стеклянной крышей на верхотуре высокого дома, где-то около «Аквариума», на Садовой»; это произошло, как полагают,
152
3 октября 1921 года — т. е., видимо, как раз в те дни, как в этом доме поселился Булгаков.
Иван Старцев, зачисленный в Лито, как теперь установлено, 4 октября, а 1 ноября уже уволенный, по-видимому, был одним из первых специфических впечатлений Булгакова от молодой литературной Москвы. Это было одно из слагаемых будущих двух Иванов Булгакова — поэтов Ивана Русакова «Белой гвардии» и Ивана Бездомного «Мастера и Маргариты».
«Ходили на службу в самое несуразное время, — рассказывал Г. П. Шторм, — после 2-х часов... Нужно было сочинять лозунги для Помгола (Общество помощи голодающим Поволжья. —М. Ч.). Недалеко был переулок Милютинский (ныне Мархлевского), напротив церкви там были Окна РОСТа, а в подвале столовая. Обедали вместе, ели картофельный суп (он ненавидел), картофельные котлеты (я ненавидел)...» (В «Записках» — «в пятницу ел в столовке суп с картофельной котлетой...»).
...«Печальный Шторн», «тихо сказал» — удивительно, что всего два штриха, черкнутых в беглом портрете одного из персонажей «Записок», и шестьдесят лет спустя остались самыми заметными внешними чертами оригинала...
На заседании 10 октября уже присутствовали инструкторы Шторм, Старцев, а Булгакову поручено «проведение в жизнь вопросов о снабжении всех сотрудников пайком, причитающимся им по положению». Вопрос о пайке был, разумеется, основным из всех, что занимают в этот момент секретаря Лито. На том же заседании поручено было сотрудникам изготовление в срочном порядке лозунгов для борьбы с голодом. На заседаниях 11 и 12 октября лозунги представлены, частично приняты и оплачены.
Когда читаешь лозунги, сочиненные Булгаковым и уцелевшие в архиве —
Ты знаешь, товарищ, про ужас голодный,
Горит ли огонь в твоей честной груди,
И если ты честен, то чем только можешь,
На помощь голодным приди,
— то вспоминаются и строки из одного его будущего письма («С детства я терпеть не мог стихов...»), и двустишие из газеты «Свободные вести» в романе «Белая гвардия» — Кто честен и не волк, идет в добровольческий полк.
20 октября Булгаков протоколирует заседание литколлегии Бюро (!) художественных фельетонов (при том же самом Лито), где слушается доклад заведующего Бюро
153
«О поступлении фельетонов и порядке просмотра их». На заседании 22 октября, которое он также протоколирует, слушаются и отклоняются фельетоны литераторов, известных еще с 900-х годов, — В. Тана-Богораза, с которым через несколько лет Булгаков встретится на страницах одного из московских журналов, и В. Муйжеля. 25 октября, 27 октября... 25 октября — важная веха в летописи московской литературной жизни Булгакова — едва ли не начальная. В этот день на очередном заседании того же Бюро приняты и оценены несколько фельетонов, среди которых — фельетон М. Кольцова (еще три года назад Булгаков читает его на страницах киевских газет, но только тогдашние фельетоны Кольцова звучали в иной тональности) и собственное произведение М. Булгакова «Муза мести».
Месяц с небольшим спустя, 1 декабря 1921 года, Булгаков так описывал в письме к сестре Наде, продолжавшей жить в Киеве, свои, по-видимому, самые первые попытки войти в литературную жизнь Москвы: «Написал фельетон «Евгений Онегин» в «Экран» (театральный журнал). Не приняли. Мотив — годится не для театр <ального>, а для литер <атурного> журнала. Написал посвященн(ый) Некрасову художественный фельетон «Муза мести». Приняли в Бюро худ<ожественных> фельет<онов> при Г. П. П., который должен выйти при Тео Г. П. П. Заплатили 100. Сдали в «Вестник искусств». Заранее знаю, что не выйдет журнал, или же «Музу» в последн<ий> момент «кто-нибудь найдет не в духе... и т. д. Хаос». Предсказание оказалось верным, и «Муза мести» так и не вышла. Этот фрагмент из письма был опубликован нами еще в 1973 году *, но «Музу мести (маленький этюд) » обнаружили только более десяти лет спустя — среди материалов «Художественного отдела Лито» в папке, объединявшей «Стихотворения и рассказы различных лиц, посвященные борьбе с голодом и революционной борьбе»; в виде машинописной копии, под псевдонимом, которым пользовался Булгаков в первый московский год, — М. Булл. **
«Украшают тебя добродетели, До которых другим далеко...» — выбрав в эпиграфы известные некрасовские строки, Булгаков начал статью словами: «Так язвительно засмеялся поэт над безликим представителем того класса, который
* «Вопросы литературы», 1973, № 7, с. 252.
** Тщательные розыски в архиве велись параллельно Г. Файманом и Р. Янгировым; оба они и опубликовали фельетон («Вопросы литературы», 1984, № 11, с. 196—199; «Неделя», 1984, № 48, с. 14); к сожалению, и тот и другой публикаторы сочли возможным согласиться на некоторые купюры.
154
вместо добродетели на самом деле был украшен лишь фуражкой с красным околышем» (дворянская фуражка). В статье слились разные задачи автора и отразились, не сливаясь, разнородные его чувства. Перед нами — человек, уже испытавший и переживший горечь поражения, случаем не связавший свою судьбу с побежденными, уже прошедший закалку классовых, пожалуй, в точном смысле слова, литературных боев с победителями во Владикавказе. Теперь он должен был влиться в столичную литературную жизнь — приспособиться к новой жизни, не теряя себя, предложить печати итоги своих мучительных размышлений последних лет, не оказавшись, однако, среди тех, кто поддакивал победителям, не размышляя.
В его фельетоне о Некрасове сквозь толщу формулировок, уже становящихся общепринятыми, все время проступает индивидуальная мысль, силящаяся выразить себя в коллективных словесных формах. Непреложная необходимость «коллективности» (и в прямом, и в переносном смысле) в творческой работе была с провинциальной прямолинейностью преподана ему во Владикавказе и Батуме. Напомним его слова в письме Константину Булгакову 1 февраля 1921 года о работе над романом — «...единственная за все это время продуманная вещь. Но печаль опять: ведь это индивидуальное творчество, а сейчас идет совсем другое». Фельетон о Некрасове стал попыткой написать то, что «идет» (в преддверии некрасовского юбилея), выражая, однако, нечто глубоко продуманное. Он описывал поэта, который смеялся и негодовал над теми, кто его «породил самого»; «Когда в творческой муке подходил к своему кресту (ибо тот, кто творит, не живет без креста), на нем безжалостно распинал, изменив своему классу, дворянскую музу во имя жителей Заплатова, Дырявина, Неурожайки тож».
Для изображения коллизии избраны столь сильные средства, что кажется — автор рисует свое собственное нынешнее внутреннее состояние. «За поэтом, как бы он ни был гениален, всегда, как тень, вставал его класс.
И с каждой строки гениального Пушкина он — класс — глядит, лукаво подмигивая. (Не размышление ли это о возможно собственном литературном будущем? — М. Ч.)
Утонченность великая, утонченность барская. Гениальный дворянин.
Раба Пушкин жалел, ведь не мог же полубожественный гений не видеть
Барства дикого.
155
Но духом гений, а телом барин, лишь чуть коснулся волшебным перстом тех, кто от барства дикого стонал непрерывным стоном.
Воскликнул:
Увижу ль я, друзья,
Народ неугнетенный.
И ушел от раба, замкнулся в недосягаемые горние духа, куда завел его властный гений». Девять лет спустя Булгаков напишет о самом себе, как сделавшем тот же выбор в гораздо более острой исторической коллизии, и, не колеблясь, назовет чертой собственного творчества «упорное изображение русской интеллигенции, как лучшего слоя в нашей стране» (письмо к правительству СССР, 28 марта 1930 г.).
«Все на свете имеет конец. Наступает он и для хорошей жизни». Для описания этого конца Булгаков нашел такие слова, которые, возможно, именно своей прочувствованностью, недостаточной риторичностью помешали печатанию фельетона.
«...В урочное время звенел золотой брегет, призывая от одного наслаждения к другому.
И так тянулось до наших дней.
Но однажды он прозвенел невиданно тревожным погребальным звоном и подал сигнал к началу неожиданного балета. (Перефразировались пушкинские строки —«...звон брегета им доносит, что новый начался балет»... —М. Ч.).
От зрелища его поднялись фуражки с красными околышами на дыбом вставших волосах. И многие, очень многие лишились навеки околыша, а подчас и вместе с головой». Недавние страшные картины вставали перед мысленным взором пишущего, и он корректировал их далее необходимой оценкой ситуации: «Ибо страшен был хлынувший поток гнева рати-орды крестьянской».
И, как в статье «Грядущие перспективы», он пытался в конце фельетона угадать далекое будущее: «И пройдут еще года. Вместо буйных огней по небу разольется свет. Выделанная из стали неузнаваемая рать-орда крестьянская завладеет землей. И наверно, тогда в ней найдутся такие, что станут рыться в воспоминаниях победителей мира и отыщут кованые строфы Некрасова и, вспоминая о своих униженных дедах, скажут:
— Он был наш певец. Нашим угнетателям, от которых был сам порожден, своими строфами мстил, а о нас печалился.
Ибо муза его была — муза мести и печали».
«Победителей мира» — обратим внимание на эти именно слова. «Победа» и «поражение» — для Булгакова это крайне
156
важные оппозиции. Они определяют в это время и строй его социального размышления, и некоторые черты мироощущения художественного. Первый его московский фельетон — слово, обращенное к победителям, слово о них самих и об их поэте.
...Стоя перед дверью Лито ...в первый раз, герой «Записок на манжетах» рисовал в воображении такие картины столичного официально-литературного быта: «Там вот что: в первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь — вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно, кто? Лито? В Москве? Да. Горький Максим. На дне. Мать. Больше кому же? Ду-ду-ду... Разговаривают... А вдруг это Брюсов с Белым?..»
Толкнул дверь — и первое столкновение со столичной литературой его потрясает: «Да я не туда попал! Лито? Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека».
Литература помещалась явно за пределами Литературного отдела.
К тому моменту, когда Булгаков оказался в столице, литературная Москва еще продолжала переживать и обсуждать два известия — о смерти Блока, последовавшей в Петрограде 7 августа 1921 года, и расстреле Гумилева 24 августа 1921 года. По Москве известие о гибели поэта разнеслось только в первых числах сентября; 3 сентября в дневнике Ивана Никаноровича Розанова запись: «В „Содружестве" от Ю. И. Айхенвальда услыхал о расстреле Гумилева. «Я думал, — сказал он, — что русский Андре Шенье будет Блок, а оказалось, что вот кто настоящий Андре Шенье». В этот же самый вечер в одном из известных московских кружков — «Никитинские субботники» шло первое после летнего перерыва заседание — посвященное памяти Блока. 6 сентября по Москве прошел слух, что «Гумилев расстрелян не тот, а другой, что Гумилев арестован был за продажу каких-то рукописей в Финляндию». А 7 сентября в дневнике того же москвича-литератора записано со слов поэтессы В. М. Мониной, «что Вешнев о Гумилеве соврал: в газете напечатано — поэт-дворянин», — все еще обсуждалось сообщение, опубликованное 1 сентября в центральных газетах. В этом же дневнике записана со слов той же поэтессы, Жены Сергея Боброва, и еще одна облетевшая Москву «новость»: «3-го дня умерла Анна Ахматова, и Полонский просил Сергея Боброва отзыв его о «Подорожнике» переделать в некролог.
157
О Гумилеве Полонский сказал, что об этом мерзавце не стоит и говорить, что-то в этом роде...»
Эта специфически московская атмосфера слухов — один другого причудливее, фантастичнее — окутала Булгакова в первый же месяц его столичной жизни, можно думать, поразила его (хотя и киевские слухи были хорошо ему знакомы). Страсть горожан к пересудам по поводу трагических происшествий получит спустя несколько лет гротескное отражение в первой (вскоре уничтоженной) редакции «Мастера и Маргариты», где поэтесса Степанида Афанасьева сообщала по телефону всем знакомым литераторам «потрясающие подробности» смерти Берлиоза («Оказывается, у Берлиоза была связь с докторшей Катер (иной Тривольской), каковая несчаст(ная связь и довела его) до трамвая»).
Весь конец 1921 года в литературных кругах Москвы шли вечера памяти двух поэтов. В дневнике И. Розанова записи: от 2 ноября — «...я в „Литературном особняке", где 3 доклада о Гумилеве: Мочаловой, неизвестной, Бруни. Прения. Вас. Федоров о «брюсении» Гумилева. Л. М. Росский» (поэтесса Ольга Мочалова читает в эти месяцы по разным московским домам свои воспоминания о Гумилеве); от 28 ноября — «Вечером был в Союзе писателей. Там Ю. Айхенвальд читал о Гумилеве и Ахматовой».
Имя Гумилева, конечно, было знакомо Булгакову — и, может быть, в первую очередь не по стихам (к новой поэзии он был в основном равнодушен, хотя Татьяна Николаевна помнила у него на столе в Киеве новые книжки «Аполлона» — за современной литературой он следил), а по «Запискам кавалериста», печатавшимся с начала 1915 года по начало 1916-го в «Биржевых ведомостях». Скорее всего они были прочитаны студентом-медиком, который знал, что ему предстоит участие в этой войне, а в то же время уже задумывался о литературе. Военные реляции, написанные литератором, должны были остановить его внимание. Поведение раненого офицера, который «потребовал, чтобы его положили на землю, поцеловал и перекрестил бывших при нем солдат и решительно приказал им спасаться», могло запомниться и отозваться впоследствии — когда сам он задумается над фигурой русского офицера — Малышева, Най-Турса и Турбина. Зато описанное Гумилевым чувство, испытываемое «только на охоте за крупными зверьми, леопардами, буйволами», теперь ему, врачу, повидавшему войну в лицо, скорее всего было чуждо, претило. И вспоминался, может быть, среди толков об обстоятельствах трагической гибели поэта,
158
вызывал на размышление, на спор или согласие конец его «Записок»: «Есть люди, рожденные только для войны, и в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было. И, если им нечего делать в „гражданстве северной державы", то они незаменимы „в ее воинственной судьбе",а поэт знал, что это — одно и то же» (Гумилев приводил здесь строки пушкинской «Полтавы»).
Если вернуться к строкам из «Записок на манжетах» — о том, что не Брюсов ли с Белым беседуют за воображаемой дверью Литературного отдела, — заметим, что вскоре Булгаков имел возможность увидеть и услышать знаменитого поэта: в начале октября на первом заседании новооткрывшегося московского отделения Вольной философской ассоциации (куда вошли Н. А. Бердяев, М. О. Гершензон, Г. Г. Шлет — киевлянин, старше Булгакова на 13 лет, выпускник одного с ним университета, преподававший в его гимназические годы психологию в женской гимназии на Фундуклеевской, совсем недалеко от Первой гимназии) Андрей Белый читал лекцию о Достоевском, а в воскресенье 16 октября в Союзе писателей были проводы Белого, уезжавшего в Германию; он читал новую поэму «Первое свидание», в ней воспеты были те «Москвы кривые переулки», которые предстояло обживать Булгакову.
Вообще же московские литераторы находились не в Лито, где надеялся найти их новосел Москвы Булгаков, а в кооперативных книжных лавках, где торговали своими и чужими книгами. В лавке на Арбате торговали Брюсов и Пастернак, в лавке «Содружества писателей» — Ю. И. Айхенвальд и В. Г. Лидин (с ним Булгаков вскоре познакомился), в лавке «Звено» — Н. С. Ашукин. В книжных лавках издательств «Задруга», «Колос» можно было полистать и купить заграничные русские издания. В декабре 1921 года читали «Современные записки», где напечатан был роман А. Толстого «Хождение по мукам» (возможность возвращения автора в Россию в тот момент еще не обсуждалась).
13 декабря 1921 г. И. Н. Розанов отметил в своем дневнике, что в «Задругу» (издательство и книжный магазин) принесли «Смену вех». Это означает, что сборник оказался в кругу чтения московской интеллигенции и именно с этого момента уже мог попасть в руки Булгакову. Скоро он был переиздан в Твери — в той же обложке («...сборник статей Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева-Пушкина, С. С. Чахотина и Ю. Н. Потехина. Июль 1921. Прага»), тиражом 10000 экземпляров; его широко читали. Можно предположить, что именно теперь
159
Булгаков впервые прочитал и ту книгу, с названием и содержанием которой спорили новые авторы, — «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции».
В 1909 году «Вехи», как известно, едва успев выйти, стали сенсацией — совершалось публичное отречение культурно-авторитетной части интеллигенции от веры в революционные пути преобразования общества, объявлялся переход к религиозно-метафизическим основам мировоззрения. В тот самый год юноша-Булгаков как раз отходил от метафизических основ, от религии, но при этом, вопреки тогдашней схеме общественного сознания и поведения, вряд ли приближался к радикализму. Если не тогда, то позже он мог, пожалуй, разделять метафизическую часть воззрений авторов сборника — там, где они говорили о «теоретическом и практическом первенстве духовной жизни над внешними формами общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия...» Но при том он, возможно, остался тогда равнодушным к философствованию о социализме и будущей революции. Теперь метафизика стала реальностью; о ней он уже не мог не размышлять.
Вполне возможно, что в тот же первый московский год он прочел и второй сборник тех же авторов, только теперь, спустя три года после выхода, объявившийся в Москве *.
Ближе всего ему должно было оказаться в «Вехах» то, Что было связано с критикой интеллигентского «народолюбия» в его предельной, жестоко опровергнутой событиями революционных лет форме. «Символ веры русского интеллигента есть благо народа, удовлетворение нужд «большинства». Служение этой цели есть для него высшая и вообще единственная обязанность человека, а что сверх того,
* Сборник „Из глубины" «был закончен печатанием к осени 1918 года. Но после покушения на Ленина и убийства Урицкого начался красный террор — решено было, что выпуск сборника в данных условиях невозможен, и он остался лежать в типографии <...> Три года спустя, в 1921 г., по-видимому, в связи с теми настроениями, которые вызвали Кронштадтское восстание, наборщики типографии Кушнарева самовольно пустили сборник в продажу. Правда, дальше Москвы распространение его не пошло, и в Москве он, видимо, разошелся по рукам, не попав в книжные магазины. Большая часть экземпляров была, вероятно, после конфискована. Проживавших еще в России нескольких участников сборника спасло, по предположению С. Л. Франка, то, что на обложке остался помеченным год издания — 1918. Сборник этот стал величайшей библиографической редкостью — за границу попало едва ли больше двух экземпляров его». (Сб. памяти С. Л. Франка. [Мюнхен], 1954, с. 54).
160
то — от лукавого, — писал С. Франк. — Именно потому он не только просто отрицает или не приемлет духовных ценностей — он даже прямо боится и ненавидит их». Эта догматическая обязательность непременного служения каждого— общественному, «народному» благу, при том, что кто-то другой определяет за тебя, что же именно представляет собой это благо, — была Булгакову скорей всего антипатична; он сам искал свои жизненные цели. Вместе с П. Б. Струве он мог бы, судя по тому, что мы знаем сегодня о его умонастроении первых пореволюционных лет, обвинять интеллигенцию за революционизацию масс, полагая, что тут «не просто политическая ошибка, не просто грех тактики. Тут была ошибка моральная. В основе тут лежало представление, что «прогресс» общества может быть не плодом совершенствования человека, а ставкой, которую следует сорвать в исторической игре, апеллируя к народному возбуждению».
В сборнике же «Смена вех» несколько тезисов в статьях Н. В. Устрялова (собранных под названием «Патриотика») должны были, как нам представляется, обратить на себя его внимание, и вот один из них: «Судороги массового недовольства и ропота, действительно, пробегают по несчастной исстрадавшейся родине. <...> Согласимся предположить, что, усилившись, они могут превратиться в новый эпилептический припадок, новую революцию. Что, если это случится? Могу сказать одно: следовало бы решительно воздержаться от проявлений какой-либо радости на этот счет — „сломили-таки большевиков". Такой конец большевизма таил бы в себе огромную опасность, и весьма легкомысленны те, которые готовятся уже глотать каштаны, поджаренные мужицкой рукой, — счастье этих оптимистов, если они не попадут из огня да в полымя... (Этот риск, как кажется, предполагал, и остро, Булгаков. — М. Ч.).
При нынешних условиях это будет означать, что на место суровой и мрачной, как дух Петербурга, красной власти, придет безгран<ич>ная анархия, новый пароксизм «русского бунта», новая разиновщина, только никогда еще не бывалых масштабов. В песок распадется гранит невских берегов, «оттает» на этот раз уже до конца, до последних глубин своих государство Российское...».
Страх перед «толпой» и предпочтение порядка, укрепившееся в Булгакове в годы войны, сыграет, возможно, свою роль во всем его дальнейшем пути.
Каждый вечер шли чтения новых произведений — в Союзе писателей на Тверском бульваре, в кружках «Звено», «Литературный особняк» (под председательством Олега
161
Леонидова, вскоре ставшего знакомым Булгакова), «Лирический круг»... За вечер, не удаляясь за пределы Бульварного кольца, можно было пешком зайти на несколько таких собраний. «Никитинские субботники" готовили свой первый альманах. 10 октября в Союзе писателей читали Липскеров и Ходасевич; об этом — запись в дневнике Розанова, который 9 ноября отмечает, что приглашен был на чтение П. П. Муратовым его комедии, а 23 ноября — его же «Магических рассказов». Он же отметил в этот вечер: «На обратном пути у Никитских ворот выстрелы. Человек с револьвером гнался за другим». Приобретенные за годы революции новые черты городского быта еще не выветрились с московских улиц.
20 ноября открылся Дом Толстого в Хамовниках. Толстой вообще будто еще присутствовал в жизни. Его внучки жили здесь же, неподалеку, они были частью литературной Москвы: жена Сергея Есенина (с 1925 года) Софья Андреевна — она жила на Пречистенке (и, кажется, ее лечил дядя Булгакова H. M. Покровский), куда через несколько лет переедет и Булгаков, Анна Ильинична — она станет в 1925 году женой П. С. Попова и подружится с Булгаковым. В те годы она весело рассказывала приятельницам: «Еду я в электричке, теснота, толкаются, одна баба и говорит: «Ишь, графиня какая!» А я отвечаю: «Графиня и есть!» (это рассказывала нам в 1987 году К. А. Марцишевская).
...Это присутствие Толстого в Москве как бы удостоверялось одной деталью тогдашнего облика города: прогуливаясь близ Новодевичьего монастыря, по аллеям и дорожкам сквера, «который москвичи называют Девичье поле, или попросту Девичка, <...> можно было вдруг, довольно неожиданно для себя встретить как бы прогуливавшегося, как и вы, человека, старца с разметавшимися волосами и длинной бородой, просто и скромно заложившего за пояс свои каменные руки, так как и сам он был из камня. Любой прохожий сразу же узнавал в нем Льва Николаевича Толстого (скульптор С. Д. Меркурьев, 1911 г.). Ощущение от этой встречи даже у человека, знавшего об этом эффекте, всегда было особенным».
В Ясной Поляне жили Т. А. Кузминская и дочь Толстого Александра Львовна; к ним ездили московские литераторы, они радушно принимали их.
С июня 1921 года толстовский дом назывался Музеем-усадьбой, и хранителем была назначена А. Л. Толстая. Москвичи знали, что в предыдущие годы ее несколько раз арестовывали. Весной 1920 г. она услышала ночью, как «загреме-
162
до в соседней камере, точно тело упало. Прибежал надзиратель, засуетились, забегали, подымали тяжелое, выносили. Мы вскочили и, прислушиваясь, старались понять, что делается за дверью. Я не знала тогда, что в соседней камере умер от разрыва сердца Герасимов, когда-то давно живший у нас в доме в качестве репетитора моих братьев, товарищ министра народного просвещения при Временном правительстве». Это был тот самый О. П. Герасимов («прекрасный педагог», по определению Н. И. Кареева), с которым, как мы предполагаем, Булгаков встречался и беседовал в бытность свою в селе Никольском и Вязьме.
Дочь Толстого привлекалась по делу о так называемом Тактическом (Национальном) центре; перед судом, который проходил с 28 июля по 3 августа, она вместе со многими другими была отпущена на свободу и вновь взята под стражу после приговора. Главными обвиняемыми были проф. H. H. Щепкин, С. Н. Трубецкой, С. П. Мельгунов, несколько женщин. M. M. Осоргин описывает в своих воспоминаниях: «Слушали дело в Политехническом музее в аудитории № 1, где когда-то Женя (Е. Н. Трубецкой — М. Ч.) читал свои прогрессивно-либеральные лекции. Злая ирония: там, где когда-то бессознательно шатались основы, приведшие к настоящему хаосу, там судится один из тех, которые хотели вновь водворить порядок или клеймили и осуждали бессмысленность происшедшего и судится только за желание водворить тот порядок, который самим обществом, их отцами был преступно низвергнут или недостаточно продуманно осуждался. Дело озаглавлено было «О национальном центре», но главные пункты обвинения были: создание будто бы тактического центра для объединения всех противобольшевистских организаций в одно единое для борьбы с существующим порядком и как практическое средство — соглашение будто бы с военными организациями и постоянное сношение с зарубежными силами, воюющими с большевиками. Несмотря на серьезность обвинения, все подсудимые были на свободе, за исключением восьмерых» — это тоже было чертой времени — судьи полагались на добросовестность подсудимых, испытывали определенное уважение к ним. Осоргин описывал со слов родных, как С. Трубецкой говорил на суде «совершенно хладнокровно, слегка подбоченясь, как, бывало, у себя дома; на вопрос о происхождении отвечал: „Княжеского рода и рожден дворянином". На все вопросы Крыленко ответил прямо и просто». Один из участников «возразил Крыленко, назвавшему обвиняемых предателями: «Предателями они никогда не были, потому что любят
163
Россию и во всяком случае не предали ее, как вы, господа судьи (и он махнул рукой в сторону трибунала) и как вы, господин обвинитель, бывший главнокомандующий (кивок в сторону Крыленко), сдавая позиции неприятелям, братаясь с врагами...»
Этот ход рассуждений был близок Булгакову; он, несомненно, расспрашивал москвичей о подробностях процесса, участники которого, по слухам, обсуждали возможность изменить сложившееся положение. «Смерть витала над головами людей, — вспоминала А. Л. Толстая. — Положение было жуткое. Не было смысла отрицать виновность, <...> но и страшно было впасть в другую крайность, начать каяться и просить прощения». Она же описала, как в зал суда «не спеша, уверенной, спокойной походкой вошел человек в пенснэ с взлохмаченными черными волосами, острой бородкой, оттопыренными мясистыми ушами. Он стал спокойно и красиво говорить, как привычный оратор» — по непонятным причинам Троцкий вступился за одного из обвиняемых как молодого ученого, нужного республике; это повысило шансы на сохранение жизни обвиняемых.
А. Л. Толстая на вопрос прокурора: «Гражданка Толстая, каково было ваше участие в деле Тактического центра?» — ответила: «...Я ставила участникам Тактического центра самовар... — И поили их чаем? — закончил Крыленко. — Да, поила их чаем. — Только в этом и выражалось ваше участие? — Да, только в этом». И скоро по Москве пошли гулять шутливые стихи, сочиненные литератором А. М. Хирьяковым: «Смиряйте свой гражданский жар. В стране, где смелую девицу Сажают в тесную темницу За то, что ставит самовар...» А. Л. Толстая получила три года заключения в концентрационном лагере — в Новоспасском монастыре; оттуда возили на принудительные работы в Комиссариат народного продовольствия, где, на углу Тверской и Газетного, она печатала на ундервуде и ходила ночевать домой. «Один раз, забыв, что я на положении заключенной, пошла на Толстовский вечер. Выступал В. Ф. Булгаков. Как всегда, горячо и смело говорил о моем отце, о насилиях большевиков, о смертных казнях, и вдруг, совершенно неожиданно, упомянул, что здесь, в зале, присутствует арестованная и находящаяся сейчас на принудительных работах дочь Толстого». Через несколько дней ее снова отвезли в лагерь — прокурор республики Крыленко, узнав, «что я присутствовала на Толстовском вечере, рассердился, велел меня немедленно водворить обратно в лагерь и держать там „под строжайшим надзором"; за нее, однако, многие хлопотали, и вскоре ее
164
выпустили. И уже сама она хлопотала за людей перед А. С. Енукидзе, М. И. Калининым, Менжинским — так, она описывает, как к ней «пришел писатель, я знала его по работе на фронте в Земском Союзе. Он только что приехал из Сибири. Работал у Колчака, потом скрывался в Москве. — Я хочу легализироваться, — сказал он. — Не можете ли Вы помочь мне?» После ее визита к Менжинскому «писатель получил бумаги, остался жить в Москве и стал заниматься своей литературной деятельностью». Не был ли это один из участников будущей «Зеленой лампы»?..
Через несколько лет Булгаков сблизился с П. С. Поповым и А. И. Толстой. Послереволюционные судьбы детей писателя, литературным наследником которого он ощущает себя в эти годы, — одна из весьма вероятных тем дружеских бесед в доме № 10 по Плотникову переулку, и приведенные здесь факты биографии А. Л. Толстой — одно из направлений реконструкции этих неизвестных нам бесед.
19 января 1922 года, в крещенский сочельник, в Политехническом музее Маяковский проводил «чистку поэтов» (она шла несколько вечеров — до 17 марта). На литературных заседаниях можно было встретить Ходасевича, Цветаеву, Мандельштама, с которым прошлым летом Булгаков познакомился на Кавказе.
Если учесть, что уже осенью 1922 года Булгаков приступает к составлению библиографического словаря (!) современных писателей (замысел, позже оставленный), то следует предполагать, что он должен был бывать там, где собирались литераторы.
Впрочем, поздней осенью 1921 года и зимой времени для этого у него почти не оставалось — все отнимала борьба за существование, за кусок хлеба и жилье.
В первые московские дни положение с жильем было безвыходным. Разрешилось оно тем, что Булгаковых пустил жить в свою комнату муж сестры Нади, филолог Андрей Михайлович Земский, уезжавший в это время к жене в Киев.
Это был дом № 10 по Большой Садовой, которому суждено было многократно отразиться в творчестве Булгакова, — пятиэтажный доходный дом, который московский миллионер Пигит выстроил в 1906 году. Один из жильцов дома вспоминает: «До реконструкции Садового кольца, еще не стиснутый громадами каменных соседей, дом выглядел внушительно — шикарные эркеры, лепные балконы... Нарядный палисадник отделял здание от тротуара. Поверх чугунной ограды рвались на улицы тугие соцветия невиданной крупной сирени. ...Главным образом здесь квартировала
165
интеллигенция: врачи, художники, адвокаты, артисты» (В. Лев-шин, Садовая, 302-бис— «Театр», 1971, № 11, с. 112 и др.). А пятый этаж здания принадлежал Высшим женским курсам, которыми заведовала Мария Даниловна Земская; она сумела выделить одну комнату брату своего мужа — Андрею Земскому — и закрепить ее за ним в первые революционные годы, когда постановлением районного Совета из дома были «выселены классово чуждые элементы. Взамен исчезнувших жильцов появились новые — рабочие расположенной по соседству типографии. Одни расселились в опустевших помещениях, другие заняли комнаты в квартирах оставшихся. Оставшиеся — это интеллигенты, из тех, кто либо сразу приняли революцию, либо постепенно осваивались с ней». В это время дом Пигита «становится первым в Москве, а может и в стране, домом—рабочей коммуной. Управление, а частично и обслуживание его переходят в руки общественности» (В. Левшин, Садовая, 302-бис). О том, к чему это приводило, рассказано — конечно, в гротескных очертаниях, вплоть до пожара, полностью уничтожающего дом, — в рассказе Булгакова «№ 13. Дом Эльпит-рабкоммуна», одном из первых московских рассказов (В. Левшин отмечает, кстати, что пожар — тоже не выдуман, хоть и доведен Булгаковым «до масштабов катастрофических»). На памяти Татьяны Николаевны: «Однажды утром в комнате рядом с нашей у женщины рухнул потолок — от снега на крыше: снег никто не чистил. Слышу — грохот и крик... Она чудом спаслась — в другом углу оказалась. Потом в этой комнате поселился хлебопек с хорошенькой женой Натальей. Там все время были драки. Она так кричала! А Михаил не мог слышать, когда бьют кого-нибудь... Однажды он вызвал милицию — Наталья кричала: „На помощь!" Милиция пришла, а те закрылись и не пустили. Так с Михаила чуть штраф не взяли за ложный вызов... Вообще дом был знаменитый... Кого только в нашей квартире не было! По той стороне, где окна выходят на двор, жили так: хлебопек, мы, дальше Дуся-проститутка; к нам нередко стучали ночью: „Дуся, открой!" Я говорила: „Рядом!" Вообще же она была женщина скромная, шуму от нее не было; тут же и муж ее где-то был недалеко... Дальше жил начальник милиции с женой, довольно веселой дамочкой... Муж ее часто бывал в командировке; сынишка ее забегал к нам...» Татьяна Николаевна думала, что именно эта семейка похожа на персонажей рассказа «Псалом». «На другой стороне коридора посредине была кухня. По обе стороны ее жили вдова Горячева с сыном Мишкой — и она этого Мишку лупила я не знаю как,
166
типографские рабочие — муж и жена, горькие пьяницы, самогонку пили. Еще жил ответственный работник с женой. Она была простая баба, ходила мыть полы, а потом его послали в Америку, она поехала с ним, вернулась в манто, волосы завитые, прямо ног под собой не чуяла и руки с маникюром носила перед собой вот так (показывает). Они получили другую квартиру, уехали... И в домоуправлении были горькие пьяницы, они все ходили к нам, грозили выписать Андрея, и нас не прописывали, хотели, видно, денег, а у нас не было. Прописали нас только тогда, когда Михаил написал Крупской. И она прислала в наш дом записку — «Прошу прописать»...
Первой московской машинистке Булгакова, Ирине Сергеевне Раабен, это запомнилось так: «Он жил по каким-то знакомым, потом решил написать письмо Надежде Константиновне Крупской. Мы с ним письмо это вместе долго сочиняли. Когда оно уже было напечатано, он мне вдруг сказал: «Знаете, пожалуй, я его лучше перепишу от руки». И так и сделал. Он послал это письмо, и я помню, какой он довольный прибежал, когда Надежда Константиновна добилась для него большой 18-метровой комнаты где-то в районе Садовой». Рассказ этот вызывает доверие своими деталями — много позже, в тридцатые годы, Булгаков посоветует Анне Андреевне Ахматовой, пришедшей к нему, чтобы напечатать на машинке письмо к Сталину с просьбой об освобождении своих близких: «Напишите своей рукой — вы поэтесса, это лучше!» И она так и сделает. А историю своего письма Булгаков опишет в начале 1924 года несколько иначе — в рассказе «Воспоминание...».
Уже в письме к матери от 17 ноября 1921 года Булгаков пишет о сворачивании учреждений и сокращении штатов, о том, что «мое учреждение тоже попадает под него и, по-видимому, доживает последние дни. Так что я без места буду в скором времени. Но это пустяки. Мной уже предприняты меры, чтобы не опоздать и вовремя перейти на частную службу. Вам, вероятно, уже известно, что только на ней или при торговле и можно существовать в Москве. И мое, так сказать, казенное место было хорошо лишь постольку, поскольку я мог получить на нем около 1/2 милл. за прошлый месяц. На казенной службе платят туго и с опозданием, и поэтому дальше одним таким местом жить нельзя. <...> Вчера я получил приглашение еще пока на невыясненных условиях в открывающуюся промышленную газету. Дело настоящее коммерческое, и меня пробуют. <...> Труден будет конец ноября и декабрь, как раз момент перехода на частные
167
предприятия. Но я рассчитываю на огромное количество моих знакомств и теперь уже с полным правом на энергию, которую пришлось проявить volens-nolens. <...> В Москве считают только на сотни тысяч и миллионы. Черный хлеб 4600 р. фунт, белый 14 000. И цена растет и растет! Магазины полны товаров, но что ж купишь! Театры полны, но вчера, когда я проходил по делу мимо Большого (я теперь уже не мыслю, как можно идти не по делу!), барышники продавали билеты по 75, 100, 150 т. руб! В Москве есть все: обувь, материи, мясо, икра, консервы, деликатесы — все! Открываются кафе, растут как грибы. И всюду сотни, сотни! Сотни!! Гудит спекулянтская волна.
Я мечтаю только об одном: пережить зиму, не сорваться на декабре, который будет, надо полагать, самым трудным месяцем».
В это время у него возникает обширный драматургический замысел. В том же письме к матери он обращается с просьбой к сестре Наде: «Нужен весь материал для исторической драмы — все, что касается Николая и Распутина в период 16 и 17-го годов (убийство и переворот). Газеты, описание дворца, мемуары, а больше всего «Дневник» Пуришкевича — до зарезу!
Описание костюмов, портреты, воспоминания и т. д. Она поймет!
Лелею мысль создать грандиозную драму в 5 актах и к концу 22-го года. Уже готовы некоторые наброски и планы. Мысль меня увлекает безумно. В Москве нет «Дневника». Просите Надю достать во что бы то ни стало! <...> Конечно, при той иссушающей работе, которую я веду, мне никогда не удастся написать ничего путного, но дорога хоть мечта и работа над ней. Если «Дневник» попадет в руки ей временно, прошу немедленно теперь же списать дословно из него все, что касается убийства с граммофоном, заговора Феликса и Пуришкевича, докладов Пур<ишкевича> Николаю, личности Николая Михайловича и послать мне в письмах (я думаю можно? Озаглавив „Материал драмы"?). Может, это и неловко просить ее обременять этим, но она поймет. В Румянцевском музее нет комплектов газет 17 г.!! Очень прошу».
Этот замысел вполне соотносим с содержанием фельетона «Муза мести».
Нервозно, порывисто, приводя в какой-то доступный обнародованию порядок свои мысли о роковом переломе, сполна им пережитом, стремится он как можно скорее войти в литературу.
Неясно, каково было содержание его второго не пошед-
168
щего в печать фельетона — «Евгений Онегин». Возможно (как предполагает Р. Янгиров), речь идет о рецензии на оперу Чайковского «Евгений Онегин», возобновленную в Большом театре. Премьеры шли 17, 19, 25 ноября и 1 декабря. Мимо внимания Булгакова не прошла, мы думаем, специфическая атмосфера этого события. (Она определила, возможно, и замысел фельетона и то, что он не был напечатан.)
Еще в ноябре 1921 года в Доме печати проходил диспут — «Нужен ли Большой театр?» Среди докладчиков был Мейерхольд («Правда», 10 ноября, 1921 г.) В декабре 1921-го в Москве уже говорили о назревающем закрытии Большого театра — по причинам и экономическим, и идеологическим. Совнарком по предложению Луначарского принял единогласное решение — театр сохранить. Это решение вызвало гневное письмо Ленина в Политбюро с требованием поручить Президиуму ВЦИК отменить постановление СНК, а Луначарского вызвать «на пять минут для выслушания последнего слова обвиняемого и поставить на вид как ему, так и всем наркомам, что внесение в голосование таких постановлений, как отменяемое ныне ЦК, впредь повлечет за собой со стороны ЦК более строгие меры». Однако благодаря развернутой Луначарским аргументации Большой театр удалось сохранить. Судьба его окончательно выяснилась лишь в марте 1922 года — 14 марта нарком просвещения получает выписку из протокола заседания Политбюро ЦК РКП (б): «Слушали доклад... о Большом театре, постановили: «Утвердить ходатайство ВЦИК от 6.02.22 года (о нецелесообразности закрытия Большого театра)». Луначарский цитировал впоследствии в своих воспоминаниях слова Ленина о Большом театре (один из двух выдвинутых им аргументов в пользу закрытия театра): «А все-таки это кусок чисто помещичьей культуры, и против этого никто спорить не может». Луначарский пояснял: «Специфически помещичьим казался ему весь придворно-помпезный тон оперы». Для Булгакова этот «помпезный» тон оперы был неотъемлемой частью родной, с детства впитанной культуры («Прощай, прощай надолго золото-красный Большой театр, Москва, витрины...» — с тоской подумает рассказчик «Записок юного врача», оказавшись в Никольском), с которой он ни в коем случае не хотел бы расстаться.
О событиях в конце ноября 1921 г. рассказано в «Записках на манжетах»: «просунулась бабья голова в платке и буркнула:
«—Которые тут? Распишитесь.
Я расписался.
В бумаге было:
169
С такого-то числа Лито ликвидируется. ...Как капитан с корабля, я сошел последним. Дела <...> приказал подшить и сдать. Потушил лампу собственноручно и вышел. И немедленно с неба повалил снег. Затем дождь. Затем не снег и не дождь, а так что-то лепило в лицо со всех сторон.
В дни сокращений и такой погоды Москва ужасна. Да-с, это было сокращение».
23 ноября 1921 г. Лито был расформирован. В приказе от этого числа Булгаков объявлен «уволенным с 1/XII с. г. с выдачей за 2 недели вперед».
1 декабря Булгаков получил справку о том, что он уволен из Лито «за расформированием». В этот же день он писал сестре Наде: «Я заведываю хроникой „Торгово-промышленного вестника" и если сойду с ума, то именно из-за этого. Представляешь, что значит пустить частную газету». И в том же письме: «буквально до смерти устаю. Махнул рукой на все. Ни о каком писании не думаю. Счастлив только тогда, когда Таська поит меня горячим чаем. Питаемся мы с ней неизмеримо лучше, чем в начале». В эти дни, 3-го декабря, он получает трудовую книжку — важнейший личный документ тех лет, без которого оформление на службу было почти невозможно. В ней бывший доктор Булгаков записывает свою новую профессию — «Литератор» и в графе «образование» — «среднее» (вспомним слова Максудова в «Театральном романе» о том, что он окончил церковно-приходское училище): напомним еще раз — с владикавказской весны 1920 г. Булгаков скрывает свое высшее медицинское образование. В трудовой книжке отмечено, что он принят на учет 22 ноября 1921 г. — недельный срок, прошедший до ее получения, вполне соответствует горделивому заявлению повествователя в написанном через несколько лет фельетоне «Москва 20-х годов»: «Я, граждане, человек замечательный, скажу это без ложной скромности. Труд. книжку в три дня добыл, всего лишь три раза по шесть часов в очереди стоял, а не по шесть месяцев, как всякие растяпы». И далее — «На службу пять раз поступал, все преодолел...». — Итак, второй службой стал «Вестник» — московская «еженедельная газета, посвященная практическим нуждам средней, мелкой и кустарной промышленности», знамение зарождавшейся новой экономической политики. Редакция ее помещалась в Третьяковском проезде (д. 11, помещ. 9). Весь декабрь 1921 г. прошел в напряжении далекой от литературных занятий работы — репортерской, хроникерской. Первая и часть второй, третьей и четвертой полос «Вестника»
170
были отданы объявлениям, которые составляли главную материальную опору газеты. Постоянным отделом газеты была «Торгово-промышленная хроника», которую и вел Булгаков. В ней печатались кратчайшие информационные заметки — «Деятельность центральной торговой биржи», «Пересмотр промыслового налога» и проч. Информацию эту, как и объявления, приходилось добывать в учреждениях и ведомствах в самых разных концах Москвы. Описание этих двух месяцев жизни Булгакова — с конца ноября 1921 до середины января 1922 г. — оставлено им в фельетоне 1924 г. «Трактат о жилище», начинающегося строками, ставшими уже хрестоматийно известными: «Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921 —1924 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался почти во все шестые этажи, в каких только помещались учреждения, и так как не было положительно ни одного 6-го этажа, в котором не было бы учреждения, то этажи знакомы мне все решительно. Едешь, например, на извозчике по Златоустьинскому переулку в гости к Юрию Николаевичу и вспоминаешь:
— Ишь, домина! Позвольте, да ведь я в нем был! Был, честное слово! И даже припомню, когда именно. В январе 1922 года. И какого черта меня носило сюда? Извольте <...> Это было, когда я поступил в частную торгово-промышленную газету и просил у редактора аванс. Аванса мне редактор не дал, а сказал: „Идите в Златоустьинский переулок, в 6 этаж, комната № ..." — позвольте, 242? а может, и 180?.. Забыл. Неважно... Одним словом: „Идите и получите объявление в Главхиме"... или Центрохиме? Забыл. Ну неважно... „Получите объявление и вам 25 процентов". Если бы теперь мне кто-нибудь сказал: „Идите, объявление получите", я бы ответил: „Не пойду". Не желаю ходить за объявлениями. Мне не нравится ходить за объявлениями. Это не моя специальность. А тогда... О, тогда было другое. Я покорно накрылся шапкой, взял эту дурацкую книжку объявлений и пошел, как лунатик. Был совершенно невероятный, какого никогда далее не бывает, мороз. Я влез на 6-й этаж, нашел эту комнату № 200, в ней нашел рыжего лысого человека, который, выслушав меня, не дал мне объявления. <...> Где я только не был! На Мясницкой сотни раз, на Варварке — в Деловом дворе, на Старой площади — в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. И я его находил — правда, скудное, неверное, зыбкое. Находил я его на самых фантастических и скоротечных, как чахотка, должностях, добывая его странными
171
утлыми способами, многие из которых теперь, когда мне полегчало, кажутся уже мне смешными. Я писал торгово-промышленную хронику в газете, и по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли...»
«Я завален работой в „Вестнике", — пишет он 15 декабря сестре Наде в Киев. — Мы с Таськой питаемся теперь вполне прилично. Если „Вестник" будет развиваться, надеюсь, дальше проживем. Получаю 3 миллиона в месяц. Скверно, что нет пайка». Но часы этого относительного благополучия уже были сочтены.
Новый 1922 год встречали по-родственному — у Бориса Михайловича Земского, старшего брата Андрея Михайловича Земского. Работал он в те годы в Научно-техническом комитете при Военно-воздушной академии им. H. E. Жуковского, что приносило его дому определенный достаток. Жил он в Воротниковском переулке. «Там был детсад „Золотая рыбка", — вспоминает Татьяна Николаевна. — Заведующей садом была Мария Даниловна, по-домашнему Пупочка, жена Бориса Земского. Это был дом вроде особнячка, внизу детсад, а наверху жили Земские — Борис с женой и детьми. Жена его была маленькая, полненькая, черненькая... Помню, когда вернулись домой, в комнате нашей было наводнение: ночью началась оттепель, а так как снег с крыши никто не убирал, крыша протекла. И всю ночь мы возились с тазами».
Об этом упоминает Булгаков в письме к сестре Наде от 13 января 1922 г., в котором он пишет ей: «Меня постиг удар, значение которого ты оценишь сразу <...> Редактор сообщил мне, что под тяжестью внешних условий «Вестник» горит. Редактор говорит, что шансы еще есть, но я твердо знаю, что он не переживет 7-го №.Finita! <...> Через два дня дело будет ясно. <...> Ты поймешь, что я должен чувствовать сегодня, вылетая вместе с „Вестником" в трубу.
Одним словом, раздавлен.
А то бы я описал тебе, как у меня в комнате в течение ночи под сочельник и в сочельник шел с потолка дождь».
Через несколько дней «Вестник» закрылся — вслед за Лито прогорела и вторая московская служба Булгакова.
И в эти же самые дни Булгаков обдумывает возможности литературного заработка — и представляет себя в роли автора газетного художественного фельетона о Москве. Он просит сестру Надю — в том же письме от 13 января — предложить его в этой роли «в любую из киевских газет по твоему вкусу (предпочтительно большую ежедневную)».
172
В качестве первой пробы он предлагает написанный той же ночью, что и письмо, фельетон «Торговый ренессанс (Москва в начале 1922-го года)»; подписывает он его псевдонимом «М. Булл», который вскоре будет использовать в печати в репортерских заметках. Этот первый из известных нам собственноручных творческих текстов писателя — документ сразу и литературный, и биографический: он дает возможность увидеть Москву начала 1922 года и несколько более раннего времени глазами самого Булгакова. Потому мы приводим его здесь полностью.
«Для того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь она неузнаваема, настолько резко успела изменить ее новая экономическая политика (НЭПО, по сокращению, уже получившему право гражданства у москвичей).
Началось это постепенно... понемногу... То тут, то там стали отваливаться деревянные щиты, и из-под них глянули на свет, после долгого перерыва, запыленные и тусклые магазинные витрины. В глубине запущенных помещений загорелись лампочки, и при свете их зашевелилась жизнь: стали приколачивать, прибивать, чинить, распаковывать ящики и коробки с товарами. Вымытые витрины засияли. Вспыхнули сильные круглые лампы над выставками или узкие ослепительные трубки по бокам окон.
Трудно понять, из каких таинственных недр обнищавшая Москва ухитрилась извлечь товар, но она достала его и щедрой рукой вытряхнула за зеркальные витрины и разложила на полках.
Зашевелились Кузнецкий, Петровка, Неглинный, Лубянка, Мясницкая, Тверская, Арбат. Магазины стали расти, как грибы, окропленные живым дождем НЭПО... Государственные, кооперативные, артельные, частные... За кондитерскими, которые первые повсюду загорелись огнями, пошли галантерейные, гастрономические, писчебумажные, шляпные, парикмахерские, книжные, технические и, наконец, огромные универсальные.
На оголенные стены цветной волной полезли вывески с каждым днем новые, с каждым днем все больших размеров. Кое-где они сделаны на скорую руку, иногда просто написаны на полотне, но рядом с ними появились постоянные по новому правописанию с яркими аршинными буквами. И прибиты они огромными прочными костылями. Надолго, значит.
И старые, погнувшиеся и облупленные, железные листы среди них как будто подтягиваются и оживают, и хилые твердые знаки так странно режут глаз.
173
Дальше, больше, шире...
Не узнать Москвы. Москва торгует.
На Кузнецком целый день кипит на обледеневших тротуарах толчея пешеходов, извощики едут вереницей, и автомобили летят, хрипя сигналы.
За саженными цельными стеклами буйная гамма ярких красок: улыбаются раскрашенными ликами фигурки-игрушки артелей кустарей. Выше, в б. магазине Шанкса из огромных витрин тучей глядят дамские шляпы, чулки, ботинки, меха. Это один из универсальных магазинов Московского Потребительского Общества. Оно открыло восемь таких магазинов по всей Москве. На Петровке в сумеречные часы дня из окон на черные от народа тротуары льется непрерывный электрический свет. Блестят окна конфексионов. Сотни флаконов с лучшими заграничными духами, граненых, молочно-белых, желтых, разных причудливых форм и фасонов. Волны материй, груды галстуков, кружево, ряды коробок с пудрой. А вон — безжизненно-томно сияют раскрашенные лица манекенов, и на плечи их наброшены бесценные, по нынешним временам, палантины. Ожили пассажи.
Громада Мюр и Мерилиза еще безмолвно и пусто чернеет своими огромными стеклами, но уже в нижнем этаже исчезли из витрины гигантские раскрашенные карикатуры на Нуланса и По, а из дверей выметают сор. И Москва знает уже, что в феврале здесь откроют универсальный магазин Мосторга с 25 отделениями, и прежние директора Мюра войдут в его правление.
Кондитерские на каждом шагу. И целые дни и до закрытия они полны народу. Полки завалены белым хлебом, калачами, французскими булками. Пирожные бесчисленными рядами устилают прилавки. Все это — чудовищных цен. Но цены в Москве давно уже никого не пугают, и сказочные, астрономические цифры миллионов (этого слова уже давно нет в Москве, оно окончательно вытеснено словом «лимон») пропускают за день блестящие, неустанно щелкающие кассы. В б. булочной Филиппова на Тверской, до потолка заваленной белым хлебом, тортами, пирожными, сухарями и баранками, стоят непрерывные хвосты.
Выставки гастрономических магазинов поражают своей роскошью. В них горы коробок с консервами, черная икра, семга, балык, копченая рыба, апельсины. И всегда у окон этих магазинов, как зачарованные, стоят прохожие и смотрят, не отрываясь, на деликатесы...
Все 34 гастрономических магазина М. П. О. и частные
174
уже оповестили в объявлениях о том, что у них есть и русское и заграничное вино и москвичи берут его нарасхват.
В конце ноября «Известия» в первый раз вышли с объявлениями, и теперь ими пестрят страницы всех газет и торговых бюллетеней. А самолеты авиационной группы «Воздушный флот» уже сделали первый опыт разброски объявлений над Москвой, и теперь открыт прием объявлений «с аэроплана». Строка такого объявления стоит 15 руб. на новые дензнаки.
Движение на улицах возрастает с каждым днем. Идут трамваи по маршрутам 3, 6, 7, 16, 17, А и Б, и извощики во все стороны везут москвичей и бойко торгуются с ними:
— Пожалуйста, господин! Рублик без лишнего (100.000)! Со мной ездили!
У Метрополя, у Воскресенских ворот, у Страстного монастыря, всюду на перекрестках воздух звенит от гомона бесчисленных торговцев газетами, папиросами, тянучками, булками.
У Ильинских ворот стоят женщины с пирожками в две шеренги. А на Ильинке с серого здания с колоннами исчезла надпись «Горный совет» и повисла другая с огромными буквами «Биржа», и в нем идут биржевые собрания и проходят через маклеров миллиардные сделки.
До поздней ночи движется, покупает, продает, толчется в магазинах московский люд. Но и поздним вечером, когда стрелки на освещенных уличных часах неуклонно ползут к полночи, когда уже закрыты все магазины, все еще живет неугомонная Тверская.
И режут воздух крики мальчишек: — Ира рассыпная! Ява! Мурсал! Окна бесчисленных кафе освещены, и из них глухо слышится взвизгивание скрипок.
До поздней ночи шевелится, покупает и продает, ест и пьет за столиками народ, живущий в невиданном еще никогда торговокрасном Китай-Городе».
В январе наладилась наконец связь семьи сначала с одним из младших братьев Булгакова, ушедших вместе с Добровольческой армией; 16 января 1922 года Николай, к тому времени — уже студент университета в Загребе, писал матери: «Милая моя, дорогая мамочка, и все близкие моему сердцу братья и сестры! Вчера я пережил незабываемые драгоценные минуты: нежданно-негаданно пришло твое письмо, когда я только что вернулся из Университета. Слезы клубком подошли к горлу и руки тряслись, когда я вскрывал это драгоценное письмо. Я рыдал, в полном смысле этого слова,
175
до того я истосковался и наволновался: столько времени ни о ком ни полслова!
Боже милосердный, неужели это правда! Милая мамочка, почему ты ни слова не пишешь о Верочке, где она, что делает, здорова ли, пишет ли вам что-нибудь. Как я волновался за Мишу с Тасей и золотую мою Варюшечку, ведь только стороной, от чужих людей, я узнал, у нее будет ребеночек. Поздравь ее с Леней, пожелай выходить хорошую дочку — ведь я так горячо люблю хорошую, добрую Варюшу. Как Надюша с Андреем выглядят, вспоминают ли меня когда-нибудь? Поцелуй их крепко, крепко. Строчки твоего письма о Лелечке глубоко меня потрясли и взволновали: добрая, золотая девочка. Пусть вспомнит она, как подружились мы с ней в последние дни, трогательно горячо расстались. Дай Бог ей здоровья, счастья и благополучия — я столько раз вспоминал ее, молился о ней и рассказывал своим знакомым. Ее крепко целует Оля Орлова, которая со мной иногда встречается и рада поговорить о Киеве. Она танцует в балете».
С прочувствованными словами Николай обращался к Ивану Павловичу Воскресенскому: «С Вашим образом у меня связаны самые лучшие, самые светлые воспоминания как о человеке, приносившем нашему семейству утешение и хорошие идеи доброго русского сердца и примеры безукоризненного воспитания. На словах мне трудно выразить мою глубокую благодарность за все то, что Вы сделали маме в нашей трудной жизни, нашей семье и мне на заре моей учебной жизни. Бог поможет Вам, славный, дорогой Иван Павлович!» Двоюродному брату Косте он напоминал «о совместной нашей жизни в период учения, службы и встреч у Варюши с Леней. Передайте ему, что о нем неоднократно справляются его родители, печалятся, что он не пишет» (вскоре Константин уехал из Киева за границу). «Ванюша не отвечает ни на одно мое письмо, и я уже начинаю беспокоиться. <...> Теперь расскажу кое-что о себе: я, слава Богу, здоров и, вероятно, страшно переменился за эти годы: ведь мне уже 24-й год. Посылаю вам одну из последних карточек...» Он рассказывал о своей бедной и заполненной напряженной работой студенческой жизни, упоминал, что с того момента, как видел мать «в последний раз перед отъездом за границу, я абсолютно ничем не болел...» (так косвенно подтверждается, что в последний раз мать видела его больного) . Он просил прислать удостоверение Киевского университета о своих отметках и «карточки всех моих родных, если это возможно».
176
Постепенно это письмо должно было достигнуть Киева,, а затем и Москвы.
Вторая половина января и первая половина февраля 1922 г. — тяжелое время в жизни Булгакова — оказались продокументированы уникальным образом.
Точнее было бы сказать, что таким же образом были в свое время продокументированы все первые годы московской жизни, но уцелели лишь крохотные фрагменты этого обширного документа: дело в том, что в течение 1921—1925 года (а скорее всего и начала 1926-го) Булгаков вел дневник. Этот дневник был отобран у него при обыске 7 мая 1926 года и возвращен после ряда настоятельных просьб в 1929 г. Как рассказывала нам Е. С. Булгакова, получив дневник, он сам его уничтожил, не желая хранить глубоко интимный документ, прочитанный чужими глазами. При этом он вырезал ножницами четыре фрагмента текста—как свидетельство самого существования дневника (такого рода жест был, как увидим впоследствии, для него характерен. Но существует и другая версия — что дневник возвращен не был, и эти несколько листков — лишь случайно уцелевшая в доме после обыска его часть). Так как текст дневника писался на обеих сторонах листа, в этих фрагментах у некоторых строк оказались срезаны нижние части букв, у других — начальные буквы, утрачены также даты на оборотах страницы. Удалось восполнить с достаточной степенью точности недостающие части текста. Приведем далее почти все уцелевшие фрагменты дневника (восстановленные строки, слова и буквы заключаем в квадратные скобки, полностью утраченные строки отметим точками).
«Сильный мороз. Отопление действует, но слабо И ночью холодно.
25 января (Татьянин день). Забросил я дневник. А жаль. [з]а это время произошло много интересного. [Я] до сих пор еще без места. Питаемся [с] женой плохо. От этого и писать [не хочется].
[Чер]ный хлеб стал 20 т. фунт, белый [...] т.
[К] дяде Коле (Н. М. Покровскому. — М. Ч.) силой в его
отсутствие из Москвы, вопреки всяким декретам. . . . . . . . . . . .
вселили парочку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Здесь читатель волен усмотреть прототипическую основу будущей повести «Собачье сердце». — М. Ч.) 26 (?) января.
Вошел в бродячий коллектив актеров: буду играть на окраинах. Плата 125 за спектакль. Убийственно мало. Конечно, из-за этих спектаклей писать будет некогда. Заколдованный круг.
177
*
Питаемся с женой впроголодь.
*
Не отметил, что смерть Короленко сопровождена в газетах обилием заметок. Нежности.
*
Пил сегодня у Н. Г. водку». «Н. Г.» — по-видимому, Николай Леонидович Гладыревский (он-то, по словам Т. Н., и был склонен к водке, тогда как Булгаков предпочитал вино; по ее уже словам, Гладыревский редко ходил к ним — они с Т. Н. друг друга недолюбливали — обычно к нему ходил Булгаков). Через несколько дней ему суждено было невольно сыграть роковую роль в жизни Булгакова и его родных. Возможно, на следующий же день Н. Гладыревский уехал в Киев. О дальнейшем он рассказывал нам сам в 1969 г. «В январе 1922 г. я приехал в Киев. Оставил вещи у знакомых и пошел к Булгаковым. Переночевал — на другой день температура 40°. Я заболел возвратным тифом. В это время, пока я лежал у них, заболела их мать и умерла. Она пошла в баню (хоть ей и не советовали) и заболела. А все говорили, что я ее заразил. А я не мог ее заразить — у нее была двойная форма тифа, совсем другая, чем у меня...»
Варвара Михайловна скончалась очень быстро — 1 февраля 1922 года. 2 февраля Булгаков получил из Киева телеграмму: «Мама скончалась. Надя». «В день, когда пришла телеграмма, — рассказывает Т. Н., — он как раз должен был играть в этой бродячей труппе. И поехал с тяжелым сердцем — и тут же вернулся. Спектакль не состоялся — труппа распалась».
9 февраля Булгаков записывает в дневнике: «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем. Пришлось взять у дядьки немного муки, постного масла и картошки. У Бориса миллит. Обегал всю Москву — нет места.
Валенки рассыпались».
По-видимому, это же самое время запомнилось и Татьяне Николаевне. На вопрос: «Вот вы с Булгаковым пережили Киев 1918—1919 гг., потом были в разных обстоятельствах на Кавказе, потом попали в Москву — какое время помнится как самое тяжелое?» — она ответила: «Хуже, чем где бы то ни было, было в первый год в Москве. Бывало, что по 3 дня ничего не ели, совсем ничего. Не было ни хлеба, ни картошки. И продавать мне уже было нечего. Я лежала и все. У меня было острое малокровие. Я даже
178
обращалась к дядьке-гинекологу... Но он сказал, что это, временно... Потом Михаил от дядьки приволок мешок картошки...»
На обороте листка с дневниковой записью от 9 февраля запись со срезанной датой — возможно, 10 февраля. «Москва с...
Возможно, что особняк З. (видимо, Земских. — М. Ч.) заберут под детский голод<ный> дом.
Ученый проф. Ч. широкой рукой выкидывает со (так!) списков, получающих академ<ический> паек, всех актеров, вундеркиндов (сын Мейерх<ольда> получал академическ<ий> паек!) и «ученых» типа Свердловск (ого) унив <ерситета> преподавателей».
Уцелевшие записи многое говорят о самом характере дневника, о стремлении автора фиксировать детали текущей жизни, ее вещественные подробности (вплоть до цен на товары). Примечательно, что в записи об академических пайках (понятен острый интерес к этому голодающего Булгакова, не имеющего ни пайка, ни жалованья) — имя Мейерхольда: то самое имя, которое первым слышит Булгаков, переступая первый раз порог Лито: «Мелькнула комната, полная женщин в дому. Дробно застучала машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд». И снова возвращается он в эту комнату, и уже «не бас, а серебряное сопрано сказало: Мейерхольд. Октябрь театра». И третий раз повторит Булгаков на страницах «Записок на манжетах»: «Мейерхольд феноменально популярен в этом здании, но самого его нет». Вскоре после приезда Булгакова в Москву театру, руководимому Мейерхольдом, было присвоено имя режиссера — что, несомненно, должно было поразить Булгакова, привыкшего к тому, что различным заведениям имена ныне здравствующих лиц давали только в том случае, если лица эти принадлежали к царствующей фамилии.
15 февраля. «Погода испортилась. Сегодня морозец. Хожу на остатках подметок. Валенки пришли в негодность. Живем впроголодь. Кругом должны. «Должность» моя в военно-редакционном совете сведется к побе[гушкам, но и то спасибо] ». Так после месяца безработицы обнаружилась возможность устроиться на службу в Научно-технический комитет — к Борису Михайловичу Земскому, главной опоре Булгакова в тяжелые зимние месяцы 1921—1922 годов. В той же записи после отрезанных строк — речь о состоя-
179
нии республики, которое «в пожарном отношении в катастрофическом положении (возможно, запись эта сделана в связи с упоминаемым В. Левшиным пожаром в доме Пи-гит — пожаром, отраженным через несколько месяцев в рассказе о доме «Эльпит-рабкоммуна», о полном отсутствии в этом доме противопожарных мер, приведших к катастрофе. — М. Ч.). Да в каком отношении оно не в катастрофическом? Если не будет в Генуе конференции, спрашивается, что мы будем делать. <...> «порошин, а не Погодин!» — каламбурно вспомнился автору дневника прошлогодний батумский знакомец.
Последняя уцелевшая запись, вернее, первые ее строки — от 16 февраля: «Вот и не верь приметам! Встретил похороны и... 1) есть какая-то надежда в газете «Рабочий»...» — что следовало вторым пунктом удач этого дня, мы так и не узнаем.
Газета «Рабочий», ежедневный орган ЦК ВКП (б), начала выходить 1 марта 1922 г., и Булгаков, видимо, стал работать в ней с того же времени — в № 1 под псевдонимом «Михаил Булл» помещена его первая заметка «Когда машины спят» (о 2-й ситцевой фабрике в Москве).
Месяц спустя приехавший из Киева Н. Л. Гладыревский привозит Булгакову письмо от сестер Нади и Вари с сообщением о том, что их младший брат Ваня жив и здоров. (До этого Николай Булгаков в первом письме, написанном родным 16 января 1922 г., сообщал: «Ванюша не отвечает ни на одно мое письмо, я уже начинаю беспокоиться. <...> Даже адреса своего до сих пор не сообщил»). Ответное письмо Булгакова сестре Наде от 24 марта 1922 г. дает подробное и выразительное представление о его жизни истекшего месяца: «Милая Надя, получил от Коли твое и Варино письмо. Не могу выразить, насколько меня обрадовало известие о здоровье Вани». Далее он описывал свою жизнь, сообщая, что часто бывает у Боба — Бориса Михайловича: «Живет он хорошо. Как у него уютно кажется, в особенности после кошмарной квартиры № 50! Топится печка. Вовка ходит на голове. Катя (младшая сестра Б. М. — М. Ч.) кипятит воду, а мы с ним сидим и разговариваем. Он редкий товарищ и прелестный собеседник.» Скорей всего именно черты Б. М. Земского отразились в одном из персонажей «Театрального романа» — тот «друг», «инженер», у которого Максудов крадет револьвер, чтобы застрелиться, а потом потихоньку кладет на место; по словам Татьяны Николаевны, Земский всегда ходил в военной форме и, пожалуй, только он из друзей Булгакова имел личное оружие.
180
В том же письме Булгаков сообщал, что состоит в Научно-техническом комитете заведующим издательской частью (сестре Варе в письме от того же числа он упоминает, что «устроился только недавно»). Хроника событий истекшего времени, как и в дневнике, охватывала и родственников: «Дядю Колю, несмотря на его охранные грамоты, уплотнили. Дядю Мишу (брат Николая Михайловича и матери Булгакова Михаил Михайлович, врач терапевт, который, по словам Т. Н., имел в доме брата постоянную комнату, нередко приезжал и подолгу жил; он, по свидетельству той же Татьяны Николаевны, страдал какой-то формой душевного расстройства, — М. Ч.) выставили в гостиную, а в его комнате поселилась пара, которая ввинтила лампочки одну в 100, другую в 50 свечей и не тушит их ни днем, ни ночью, В смысле питания д(ядя) Коля живет хорошо.
*
Кроме Н. Т. К. я служу сотрудником новой большой газеты офф(ициальной). На двух службах получаю всего 197 руб. (по курсу Наркомфина за март около 40 миллионов) в месяц, т. е. 1/2 того, что мне требуется для жизни (если только жизнью можно назвать мое существование за последние два года) с Тасей. Она, конечно, нигде не служит и готовит на маленькой железной печке. (Кроме жалованья у меня плебейский паек. Но боюсь, что в дальнейшем он все больше будет хромать.)
...По счастью для меня, тот кошмар в 5-м этаже, среди которого я 1/2 года бился за жизнь, стоит дешево (за март около 700 тыс.)... Топить перестали неделю назад.
Работой я буквально задавлен. Не имею времени писать и заниматься как следует франц<узским> языком. Составляю себе библиотеку (у букинистов — наглой и невежественной сволочи — книги дороже, чем в магазинах)».
В тот же день, сообщая эти же сведения о своей жизни сестре Вере, он писал: «Знакомых у меня в Москве очень много (журн<алистский> и артистич<еский> мир), но редко кого вижу, потому что горю в работе и мечусь по Москве исключительно по газетным делам». Действительно — с 1-го по 30 марта в газете «Рабочий» напечатано 8 его репортерских заметок — под псевдонимом «Михаил Булл», «М. Булл», «Булл», под инициалами; за каждой заметкой — посещение какого-нибудь предприятия или учреждения, что видно уже из заголовков: «Инжектора. У немецких эмигрантов на инженерном заводе», «Из ничего создаем! (3-й государственный авторемонтный завод) ».
181
По вечерам он продолжает бывать у Б. М. Земского. 9 апреля тот пишет своему брату Андрею и его жене Наде: «Булгаковых мы очень полюбили и видимся почти каждый день. Миша меня поражает своей энергией, работоспособностью, предприимчивостью и бодростью духа. Мы с ним большие друзья и неразлучные собеседники <...> Можно с уверенностью сказать, что он поймает свою судьбу, — она от него не уйдет». Через много лет эти слова вспомнит вскоре после смерти Булгакова автор первого его биографического очерка.
18 апреля 1922 г. Булгаков в письме к Наде вновь сетует на полное отсутствие свободного времени, нужного для работы: «Извини, что не успел поздравить со Светлым праздником. Я веду такой каторжный образ жизни, что не имею буквально минуты. Только два дня вздохнул на праздники. А теперь опять начинается мой кошмар. <...> Топить перестали в марте. Все переплеты покрылись плесенью. Вероятно, на днях сделают попытку выселить меня, но встретят с моей стороны сопротивление на законном основании (должность: у Боба старшим инженером служу с марта). Прилагаю старания найти комнату. Но это безнадежно. За указание комнаты берут бешеные деньги. <...> Всюду огромное сокращение штатов. Пайки гражданск<ие> отменены. ... Д[ядя] Коля живет прекрасно. Уплотнен». У него прибавилась за это время третья служба: «Временно конферансье в маленьком театре, <...> за апрель должен получить всего 130—140 млн». Еще недавно, судя по его письмам, этой суммы должно было хватить хотя бы на пропитание, но цены растут, и плата за его комнату в апреле уже 11/2 млн. В комнате сыро.
«Плебейский паек» в Научно-техническом комитете был своеобразным, как все тогдашние пайки, но и его он скоро лишился, Татьяна Николаевна рассказывала: «Булгаков работал там недолго, месяц с лишним. Только один паек получил — и его сократили. Этот паек — хлопковое масло — я несла в судочке, держа на вытянутых руках за ручки, через весь Петровский парк до Садовой — трамваи же тогда не ходили. Но это было не зимой — иначе бы я не донесла. Дали еще муки немного — может быть, ее Михаил сам принес, я не помню. Ну, я принесла это масло, нажарила пирожков, пришли Стонов и Слезкин и все съели...»
К этим литературным знакомцам Булгакова мы еще обратимся. Пока упомянем лишь, что, действительно, в апреле 1922 г. Слезкин, с которым Булгаков расстался во Владикавказе, уже в Москве. Он живет в Трехпрудном переулке,
182
совсем недалеко от дома № 10 на Большой Садовой, и они встречаются — и у Булгакова, и — вскоре — у новых знакомых Булгакова.
Но прежде остановимся на еще одном из самых первых — совсем не литературных — его знакомств. О нем рассказывает Татьяна Николаевна.
«Еще в Батуме Михаил дал мне адрес в Москве — Воротниковский переулок. Там должны были быть родственники Нади. Я пошла туда, в этот детский сад, прямо на второй день, когда приехала в Москву. Но Земских никого не застала, там была одна Вера Федоровна Крешкова. Мы разговорились. Она меня пригласила к себе; они с мужем, Иваном Павловичем, жили на Малой Бронной, дом 30, на 5-м этаже» Таким образом, когда приехал Булгаков — в Москве, кроме дома Бориса Земского, уже была еще одна семья, куда можно было прийти вечером, выпить по-московски чаю.
«Вера Федоровна была, кажется, дочерью священника, Иван Павлович — сын чиновника из Владикавказа. Он преподавал математику в Военной академии, в Петровском парке. Она была такая... солидная женщина, и Булгаков от нее млел — он любил пышных. И все говорил мне: «Позови к нам Веру Федоровну, а Ивана Павловича не зови». И Иван Павлович не любил, когда она говорила: „Пойду к Татьяне Николаевне" — ревновал ее к Булгакову».
У них дома проводились спиритические сеансы, к которым Булгаков относился насмешливо. Татьяна Николаевна вспоминает, как однажды он уговорил ее: — «Знаешь, давай сделаем сегодня у Крешковых спиритический сеанс!» Они распределили роли — Булгаков толкнет ее ногой, а она будет стучать по столику. Таких мистификаций было, видимо, несколько. Но полная ссора с Иваном Павловичем произошла после публикации рассказа «Спиритический сеанс» («Рупор», 1922, № 4), где тот узнал себя, свою жену, их домработницу... Реплика домработницы и оказалась главным свидетельством. Рассказ начинался так: «Дура Ксюшка доложила:
— Там к тебе мужик пришел.
Madame Лузина вспыхнула:
— Во-первых, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты мне «ты» не говорила! Какой такой мужик?
И выплыла в переднюю.
В передней вешал фуражку на олений рог Ксаверий Антонович Лисиневич и кисло улыбался. Он слышал Ксюшкин доклад.
183
Madame Лузина вспыхнула вторично». И только Лисиневич, поцеловав руку, «собрался бросить на madame долгий и липкий взгляд, как из двери выполз муж Павел Петрович. И взгляд угас.
— Да-а, — немедленно начал волынку Павел Петрович, — «мужик» ...хе-хе! Ди-ка-ри! Форменные дикари. Я вот думаю: свобода там... Коммунизм. Помилуйте! Как можно мечтать о коммунизме, когда кругом такие Ксюшки! Мужик... Хе-хе! Вы уж извините, ради Бога!»
Когда в 1978 году этот рассказ был прочитан Татьяне Николаевне вслух, она вспомнила, что Вера Федоровна пересказывала ей как комический эпизод именно эту фразу своей горничной: «Там тебя мужик спрашивает!» И именно эта фраза рассказа возмутила Ивана Павловича — что к его жене мужик пришел, что такое вынесено в печать... Madame Лузина, по словам Татьяны Николаевны, «похожа на Веру Федоровну внешне, но не похожа по поведению, а Ксюшка на их горничную очень похожа». С рассказом повторилась, в сущности, история с «Попрыгуньей» — одному из прототипов достаточно было для того, чтобы почувствовать себя оскорбленным, самому узнавать в рассказе знакомые ситуации. «Наполеон, повинуясь рукам Ксаверия Антоновича, ухитрившегося делать сразу два дела — щекотать губами шею madame Лузиной и вертеть стол, взмахнул ножкой и впился ею в мозоль Павла Петровича».
Ивану Павловичу (не участвовавшему, как помнилось Татьяне Николаевне, в спиритических сеансах, а сидевшему в это время в соседней комнате с маленькой дочкой) казалось, по-видимому, особым бесстыдством, что человек, ухаживающий за его женой, еще изображает эти ухаживания в печати!
Но повод для возмущения был, видимо, не единственный. Можно предполагать, что и монологи хозяина дома — «Я и говорю, — продолжал Павел Петрович, обнимая за талию гостя, — коммунизм... Спору нет: Ленин человек гениальный, но... да вот, не угодно ли пайковую... Хе-хе! Сегодня получил... Но коммунизм это такая вещь, что она, так сказать, по своему существу... Ах, разорванная? Возьмите другую, вот с краю... По своей сути требует известного развития... Ах, подмоченная? Ну и папиросы!.. Вот, пожалуйста, эту... По своему содержанию... Погодите, разгорится... Ну, и спички! Тоже пайковые... Известного сознания...» — давали некий точный словесный портрет, уязвлявший именно своей точностью. Лейтмотивом этих монологов— или, скорее, их камертоном — служит одна-
184
единственная фраза, запомнившаяся Татьяне Николаевне, и запомнившаяся именно потому, что повторялась (сравним в рассказе: «волынку начал немедленно»): «Он меня всегда встречал одной и той же фразой: «Вы видите, какая бордель?» или «Когда же кончится эта бордель?» Я отвечала: «Никогда не кончится». Здесь-то и заключено биографическое значение рассказа — т. е. значение его для прочитывания умонастроения Булгакова в первый московский год, — умонастроения, для представления о котором у нас так мало источников.
В рассказе разворачивается такая сценка: «— У вас никого посторонних нет в квартире? — спросил осторожный Боборицкий.
— Нет! Нет! Говорите смело!
— Дух императора, скажи, сколько времени еще будут у власти большевики?
— А-а!.. Это интересно! Тише!.. Считайте!..
Та-ак, та-ак, застучал Наполеон, припадая на одну ножку.
— Те-ор... и... три... ме-ся-ца!
— А-а!!
— Слава Богу! — вскричала невеста. — Я их так ненавижу!»
Эта, быть может, одна из самых резких у Булгакова гротескных сцен кончается приходом в квартиру ЧК — эпилог рассказа таков: «Боборицкий сидел неделю, квартирант и Ксаверий Антонович — 13 дней, а Павел Петрович — полтора месяца». Понятно, какое впечатление должен был произвести этот эпилог на того, кто узнал себя в Павле Петровиче.
Почему же были выбраны такие «сильные» литературные средства, эффект которых в отношениях с данными читателями рассказа, конечно, нетрудно было предугадать? Перед нами — кажется, первый (но далеко не последний) в творчестве Булгакова случай такого гротескного и в то же время достаточно обнаженного воспроизведения прототипа.
Подобными же средствами изображаются Булгаковым бесспорно презираемые им человеческие качества — политическая изворотливость Тальберга и Шполянского, связанная с гибелью людей. Что же именно в героях рассказа «Спиритический сеанс» и их прототипах вызвало у него столь сильную отрицательную эмоцию (не ненависть, но уничтожающую насмешку)? Мы не располагаем почти никакими высказываниями Булгакова тех лет — письменными и устными — о современной ему социальной ситуации;
185
умонастроение его выясняется именно из косвенных источников — в том числе и посредством анализа его произведений и контекста их рождения. Представляется, что рассказ о котором идет речь, подтверждает нашу гипотезу о Булгакове 1921—1922 годов как о человеке, для которого прочность установившейся власти — факт, не подлежащий сомнению и активно принимаемый им во внимание. Отсюда — насмешливое и презрительное раздражение против тех «социально близких» людей, которые продолжают тешить себя несбыточными иллюзиями, размагничивающими энергию и, во всяком случае, противоположными творчеству. «... Ночью спец, укладываясь, неизвестному Богу молится: — Ну что тебе стоит? Пошли на завтра ливень. С градом. Ведь идет же где-то град в два фунта. Хоть в полтора. И мечтает:
— Вот выйдут, вот плакатики вынесут, а сверху как ахнет...
И дождик идет, и порядочный. Из перержавевших водосточных труб хлещет. Но идет-то он в несуразное, никому не нужное время — ночью. А на утро на небе ни пылинки!
И баба бабе у ворот говорит:
— На небе-то, видно, за большевиков стоят...
— Видно, так, милая...
В десять по Тверской прокатывается оглушительный марш. Мимо ослепших витрин, мимо стен, покрытых вылинявшими пятнами красных флагов, в новых гимнастерках с красными, синими, оранжевыми шевронами, в шлемах, один к одному, под лязг тарелок, под рев труб, рота за ротой идет красная пехота». Это — очерк-фельетон «Москва краснокаменная», датированный июлем 1922 г. Ровно через год, 15 июля 1923 г., Мандельштам опубликует в «Огоньке» очерк «Холодное лето», где есть близкое описание, но булгаковской почти безэмоциональной констатации прочности новородившегося здесь соответствует эмоция радости, которая окрашивает авторское восприятие вещественных сгущений разворачивающейся перед глазами поэта жизни: «Меня радует крепкая обувь горожан (ср. у Булгакова год назад описание того, как одеты москвичи — «На ногах, большей частью, подозрительная стоптанная рвань с кривыми каблуками. Но попадается уже лак. Советские сокращенные барышни в белых туфлях»), и то, что у мужчин серые английские рубашки и грудь красноармейца просвечивает как рентгеном малиновыми ребрами».
Вернемся к соображениям, вызываемым или подтверждающимся рассказом «Спиритический сеанс». Напомним
186
первый документ, засвидетельствовавший булгаковскую оценку современной жизни, — письмо к матери от 17 ноября 1921 г. Пытаясь передать, «что из себя представляет сейчас Москва», он пишет: «Коротко могу сказать, что идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни». Уже здесь, как кажется, новые условия жизни восприняты как данность, вряд ли отменимая.
«В числе погибших быть не желаю», — написал он в том же письме. В первые месяцы московской жизни у него не было минимальных условий существования — их приходилось ежедневно добывать. Это разительно отличало его образ жизни от жизни тех московских домов, куда он ходил по вечерам пить чай. Там эти условия были; была возможность пассивного ожидания того часа, «когда уйдут большевички», как пели в известной песенке «Цыпленок жареный». Перед Булгаковым же, как написал он через два с лишним года в фельетоне «Сорок сороков», «ясно и просто <...> лег лотерейный билет с надписью — смерть. Увидав его, я словно проснулся. Я развил энергию неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то, что удары сыпались на меня градом...»
Понятно, что эта разнота положения была лишь дополнительной краской, но она-то и придала, возможно, уничижительный характер насмешливому описанию участников спиритического сеанса. Несомненно, что уверенность в прочности новой власти была привезена Булгаковым уже с Кавказа.
Мы ничего не знаем, как уже говорилось, о том, какие надежды он возлагал на поначалу успешные действия Добрармии, с каким чувством ехал в форме военврача на Кавказ. Оттуда, во всяком случае, он уезжал, уже повидав конец белого движения, убедившись, как можно думать, в полном его поражении. В его отношении к новым московским знакомым — адвокатам, преподавателям, просидевшим всю войну в московских квартирах, быть может, присутствовало еще и легкое презрение обстрелянного, видевшего воочию, как совершалось совершившееся.
То, что подробности его жизни последних лет приходилось от них скрывать, придавало, наверно, его отношению к этим людям особое напряжение, о котором они вряд ли догадывались. Оно обнаруживало себя неожиданно — как в этом рассказе.
Умонастроение Булгакова этих лет представляется определяющим для понимания, быть может, наиболее важного в последующей его жизни, в самой судьбе.
187
Приведем относящееся к этому же времени свидетельство. В 1961 г. в письме к Н. Мандельштам биолог А. А. Любищев, принадлежавший к поколению старше Булгакова, писал: «Старая русская интеллигенция несколько лет после окончания гражданской войны жила иллюзией недолговечности советской власти, а когда эта иллюзия кончилась, оказалось полное моральное опустошение. Поэтому они пошли на гораздо большую капитуляцию, чем те, для которых с самого начала советская власть не была призраком. Хорошо помню встречу с умным профессором В. М. в 1921 году. Я только что вернулся из Крыма в Петроград и встретился с ним в коридоре Университета. Близко мы с ним не были знакомы никогда, но тут он остановился, стал разговаривать и произнес такую фразу: «Ну что же наша власть раздаст еще продовольственные пайки, а потом свалится». Я прямо остолбенел, услышав от несомненно очень умного человека такую чушь, и даже ничего не мог возразить: это бывает у меня всегда, когда я слышу нечто абсолютно неожиданное, к чему я совершенно не подготовлен. Все это несомненные признаки «башни из слоновой кости»; контраст с ожидаемым так разителен, что при столкновении с реальностью теряется не только физическое, но и моральное сопротивление».
Обстоятельства детства и юности Булгакова отделяли его, как мы показывали в предыдущей главе, не только от революционно, но даже от либерально настроенной интеллигенции; это определило многое в его отношении к революции, только отчасти — хотя несомненно откровенно — высказанное в 1930 году в письме к правительству. В его духовном багаже не было тех иллюзий, которые могли быть поколеблены текущими событиями. Личный же опыт революционных лет убедил Булгакова в необратимости совершившегося (это и зафиксировано в одном из самых первых его московских рассказов). Два эти обстоятельства в первую очередь обусловили, на наш взгляд, энергию, жизнестойкость, неколебимость в том, что сам он считал существенным, — качества, удивлявшие его современников и ретроспективно восхищающие мемуаристов и их аудиторию. Приведем далее мемуарную запись, противоречащую вышесказанному: «21 февраля 1932 г. Ю. Л. Слезкин, вспоминая историю отношений с Булгаковым, пишет среди прочего следующее: «Жил тогда Миша бедно, в темноватой сырой комнате большого дома по Садовой, со своей первой женой Татьяной Николаевной. По стенам висели старые афиши, вырезки из газет, чудаческие надписи (ср. далее у
188
В. Катаева. — M. Ч.). Был Булгаков стеснен в средствах, сутулился, подымал глаза к небу, воздевал руки, говорил: «Когда же это кончится!», припрятывал «золотые», рекомендовал делать то же». Отношение мемуариста к Булгакову, меняющееся в разные годы, но неизменно напряженное, обусловливает, на наш взгляд, и здесь, как и в других случаях, смещение действительных пропорций. На Булгакова переносятся «родовые» черты всех тех, кто в общем не приветствует новую власть. Индивидуальные признаки именно булгаковского отношения к происходящему, его энергия в достижении поставленной цели и проч. — то, что было замечено Б. М. Земским, — Слезкиным остается незамеченным или непонятым. «Золотые» требуют особого пояснения: речь шла о золотой десятке — десятирублевой «николаевке» чекана 1899 года. С ноября 1921 года печатались бумажные деньги — совзнаки, быстро падающие (об этом выразительно пишет Булгаков родным именно в первые месяцы хождения этих денег). Спустя год стали печататься банковские билеты — советские червонцы, приравнивавшиеся к «золотым», становившиеся постепенно твердой валютой. Сохранение золотых монет в этих социально-финансовых условиях стало восприниматься как признак нелегальности, неблагонадежности: закрадывалась мысль — не подумывает ли этот человек об эмиграции или, хуже того, о реставрации?
Ситуация, запечатленная в «Спиритическом сеансе», для Булгакова в те годы — навязчивый литературный мотив. В «Записках на манжетах» укажем на следующую сцену: «В четверг я великолепно обедал. В два часа пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке открыла дверь.
Странное ощущение. Как будто бы десять лет назад. В три часа слышу, горничная начинает накрывать в столовой. Сидим, разговариваем (я побрился утром). Ругают большевиков и рассказывают, как они измучились. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не ухожу. Наконец, хозяйка говорит:
— А может быть, вы пообедаете с нами? Или нет?
— Благодарю вас. С удовольствием».
После подробного перечня поданных блюд (описание глазами голодающего человека) следующий пассаж: «Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представилась сцена обыска у них. Приходят. Все роют. Находят золотые монеты в кальсонах в комоде. В кладовке мука и ветчина. Забирают хозяина...
189
Гадость так думать, а я думал». Вот это «забирают хозяина» для Булгакова тех лет — некая воображаемая ситуация отмщения тем, кто имеет золотые десятки и соответственно ежедневный обед из нескольких блюд. И эта ситуация неоднократно реализуется в его творчестве — и в рассказе «Спиритический сеанс», и в «Белой гвардии», и затем — в романе «Мастер и Маргарита».
*
Несомненно, однако, что с первых же недель жизни в Москве Булгаков стремится обрести и литературные знакомства, войти в среду московских писателей.
В это время публичная литературная жизнь по-прежнему сосредоточивалась в основном в так называемом Доме Герцена на Тверском бульваре. Надежда Павлович в корреспонденции «Московские впечатления» («Литературные записки» 1922, с. 7) писала в начале 1922 г.: «Есть Союз писателей, собирающийся каждый понедельник и дающий приют литературным обществам — «Звену» и «Литературному Особняку», есть вторники «Лирического круга», объединяющего Сергея Соловьева, Эфроса, Лидина, Липскерова, Софью Парнок, Глобу и др., есть понедельники ассоциации пролетарских писателей, есть религиозно-философские собрания, объединяющие Бердяева, Флоренского, Чулкова и др.». Н. А. Бердяев вспоминал впоследствии о том, что в стихии революции он «очень скоро почувствовал опасность, которой подвергается духовная культура. Революция не щадила творцов духовной культуры, относилась подозрительно и враждебно к духовным ценностям. Любопытно, что когда нужно было зарегистрировать Всероссийский Союз писателей, то не оказалось такой отрасли труда, к которой можно было бы причислить труд писателя. Союз писателей был зарегистрирован по категории типографских рабочих, что было совершенно нелепо. Миросозерцание, под символикой которого протекала революция, не только не признавало существование духа и духовной активности, но и рассматривало дух как препятствие для осуществления коммунистического строя, как контрреволюцию. Русский культурный ренессанс начала XX века революция низвергла, прервала его традицию. Но все еще оставались люди, связанные с русской духовной культурой. У меня зародилась мысль о необходимости собрать оставшихся деятелей духовной культуры и создать центр, в котором продолжалась бы жизнь русской духовной культуры. Это не должно было быть возобновлением религиозно-философских обществ.
190
Объединение должно было быть более широким, охватывающим людей разных направлений, но признающих самостоятельность и ценность духовной культуры. Я был инициатором образования Вольной Академии Духовной Культуры, которая просуществовала три года (1918— 1922 гг.). Я был ее председателем и с моим отъездом она закрылась. Это своеобразное начинание возникло из собеседований в нашем доме. Значение Вольной Академии Духовной Культуры было в том, что в эти тяжелые годы она была, кажется, единственным местом, в котором мысль протекала свободно и ставились проблемы, стоявшие на высоте качественной культуры. Мы устраивали курсы лекций, семинары, публичные собрания с прениями. Собственного помещения ВАДК, конечно, не могла иметь, так как была действительно вольным, не государственным учреждением. Публичные доклады мы устраивали в помещении Высших Женских Курсов, лекции же и семинары в разных местах, в каких-нибудь учреждениях, в управлении которых были знакомые <...> Я говорил всегда свободно, нисколько не маскируя своей мысли. Так же свободны были прения после публичных докладов. Особенный успех имели публичные доклады в последний год. На трех докладах (о книге Шпенглера, о магии и мой доклад о теософии) было такое необычайное скопление народа, что стояла толпа на улице, была запружена лестница, и я с трудом проник в помещение и должен был объяснить, что я председатель. Однажды в качестве председателя я во время доклада получил записку от администрации женских курсов, что может провалиться пол от слишком большого скопления людей. При этом нужно сказать, что никаких объявлений в газетах мы не делали и о собраниях обыкновенно узнавалось на предшествующем собрании или через лавку писателей. Была большая умственная жажда, потребность в свободной мысли».
В том же 1922 году Булгаков мог познакомиться и с книгами Флоренского; одна из них — «Мнимости в геометрии» (1922) — стала его любимой.
Виктор Мозалевский (с которым в 1922 году, если не ранее, встретится Булгаков) в неопубликованных воспоминаниях пишет: «В 1921—26 гг. в Москве немало расплодилось всяких литературных кружков и собиралось всяких литературных собраний — «Вторники Окунева» (собирались у писателя Окунева), «цех поэтов» <...>, там царствовал Сергей Городецкий. Собирались где-то на улице Герцена». Упоминает он и про Всероссийский Союз писателей в Доме Герцена, в котором «устраивались вечера — писатели
191
читали рассказы, поэты (что реже бывало) — стихи». Упоминается доклад Л. П. Гроссмана о Пушкине, читки И. Шмелева, Сергея Клычкова, Герасимова, Кириллова, П. Романова. «Каким-то страшным рассказом попугал Павел Муратов (автор «Образов Италии», романа «Эгерия»)». По-видимому, это был один из «Магических рассказов» П. Муратова, отмеченных даже в «Обзоре художественной литературы за два года» (1921—1922) И. Н. Розанова (Литературные отклики. М., 1923, С. 74)
П. Муратов, В. Мозалевский, А. Чаянов — все это было то сплетение фантастики и быта, которое неустанно ткала беллетристика первых пореволюционных лет, на фоне которой рождались замыслы Булгакова.
«Нередко слыхал я там рассказы (вернее, отрывки из романов) из уст автора Бориса Пильняка. Многие писатели и просто слушатели смотрели с восхищением на рослого веселого юношу Пильняка, «подававшего» им по-театральному умело свои произведения. Он выкристаллизовывался, по мнению многих тогдашних арбитров, в большого писателя, писателя эпохи».
На каких-то из этих читок в первые месяцы своего пребывания в Москве Булгаков, надо думать, бывал, но свидетельств об этом нет.
Понятно, что не менее важным, чем знакомство с литературной средой, было для него знакомство с печатными возможностями того времени. Издательские начинания тогда нередко были связаны с литературными кружками. Так, «Никитинские субботники» печатали в 1922 году 2-й и 3-й выпуски «Свитка» с рассказами А. Насимовича, А. Яковлева, Н. Ляшко, Б. Пильняка.... Булгаков был связан с «Никитинскими субботниками», но, возможно, не в первый год.
Продолжим перечень тех московских альманахов, которые вышли в 1922 г., и, значит, подготовка их к печати и собирание следующих выпусков под тем же названием происходили уже «на глазах» Булгакова.
«Северные дни», сб. 2, с рассказами Б. Зайцева, Вл. Лидина, А. Соболя, «Современник», сб. 1 (с повестью В. И. и Н. И. Пожарских «Фантастическая провинция»), «Твори» — с рассказами Мих. Волкова, Ив. Жиги, Ал. Кречетова-Волжского...
Московское издательское товарищество выпустило «Трилистник» (альманах 1-й) с рассказами С. Заяицкого («Деревянные домики»), Е. Зозули, Муйжеля, Б. Пильняка, со стихотворениями Мандельштама и Пастернака. Там же печатался рассказ А. Франса «Христос из океана». Начали
192
выходить сборники литературы и искусства «Шиповник» под редакцией Ф. Степуна. В № 1 печатались рассказы Б. Зайцева, Н. Никитина, Л. Леонова, Б. Пастернака («Письма из Тулы»), П. Муратова; вышел альманах «Наши дни» (№ 1) под редакцией В. Вересаева, «Лирический круг. Страницы поэзии и критики», где в № 1 были помещены стихи Ахматовой, Верховского, Липскерова, Мандельштама, Ходасевича, С. Шервинского, А. Эфроса, а в отделе прозы повторялись те же имена — Эфрос, Липскеров, Ходасевич; там же был напечатан рассказ Вл. Лидина. В один год вышли два выпуска альманаха «Новая жизнь» (в издательстве «Новая жизнь») с сочинениями С. Клычкова, Н. Телешова, И. Рукавишникова, Дм. Стонова (его рассказ «Полынь» был посвящен памяти В. Г. Короленко), второй выпуск альманаха «Пересвет» — 1-й вышел в 1921 г.; в нем печатались Пильняк, Замятин, Б. Зайцев, П. Муратов; прозаики И. Новиков и Н. Ашукин выступали со стихами.
Упомянем также «Московский альманах», издававшийся «Книгоиздательством писателей в Москве» и печатавший Б. Зайцева, Н. Телешова, В. Вересаева, В. Шишкова, А. Белого.
Как видим, круг авторов достаточно узок и примерно один и тот же (мы оставляем в стороне, скажем, сборники «Кузница» и «В огне революции», где авторы были иные, но куда Булгаков и сам не понес бы свои произведения — из-за несовместимости их с направлением сборников): все это были люди, еще до революции составившие себе определенное литературное имя, что резко отличало от них Булгакова, только пытавшегося войти в литературу. Ни в одном из этих альманахов ему напечататься не удалось — ни в 1922 году, ни в 1923-м.
Сохранились мемуарные свидетельства об одной из его, по-видимому, самых ранних попыток напечататься в альманахах. Т. Н. рассказывала нам: «Наверно, в Союзе писателей он познакомился с Николаем Архиповичем Архиповым, Однажды приходит, говорит: — Я был у Архипова, читал ему свою вещь (сейчас уже не помню, что он ему читал). Ему очень понравилось, смеялся... Насколько помню, так ничего из этого и не вышло, Архипов не сумел ему помочь напечатать...»
Воспоминания Виктора Мозалевского вместе с другими источниками могут послужить комментарием к этому свидетельству. «В 1921 (или 1922) познакомился я с писателем и издателем Н. А. Архиповым. Он и «вел» тогда издательство «Костры», издавал альманахи «Феникс» <...>
193
К сожалению, «Костры» горели недолго. В конце 1923 г. или в 1924 г. «Костры» прогорели. <...> Н. А. Архипов был человек дельный, приветливый и весьма доброжелательный к писателям, платил, как издатель, щедро по тому времени». В доказательство этого В. Мозалевский упоминает о том, что один его рассказ был напечатан, а второй напечатать не удалось, но издательством он был хорошо оплачен.
Издательство «Костры» издавало альманах «Феникс» (вышел только № 1) и альманахи «Костры». Мы располагаем экземпляром «Феникса» с дарственной надписью Н. Ф. Бельчикова Ю. Г. Оксману («на память о Москве 1 авг. 1922 г.», с датой 27 окт. 1922 г.), помогающей датировать выход альманаха временем примерно с 1 августа до 27 октября 1922 г. На обороте листа с оглавлением — объявление о содержании первой и второй книги альманаха «Костры» — проза Леонида Андреева, А. Глобы, Б. Зайцева, И. Новикова, М. Пришвина, И. Эренбурга, А. Яковлева. Вторая книга так и не вышла.
Таким образом, встреча с Н. Архиповым, о которой вспоминает Т. Н., могла произойти не позже чем в 1922 году (если не в конце 1921) — позже Архипов уже не имел в своих руках издания. Какое же произведение читал ему Булгаков? Скорее всего это были «Записки на манжетах» — или первая их часть, еще не пристроенная в «Накануне», или вторая. Но это мог быть и один из рассказов, напечатанных в 1922 г. в «Рупоре» — «Спиритический сеанс» или «Необыкновенные приключения доктора» (в сущности, продолженные «Записками на манжетах»).
Печатавшиеся в этих альманахах произведения тут же выпускались книгоиздательством «Костры» отдельными книгами. Желание напечататься в «Фениксе» или «Кострах», а если повезет, то и отдельной книгой и привело, по-видимому, Булгакова в какой-то из дней 1922 г. в дом 1 на Моховой, где помещалось издательство и где, надо думать, и сидел Архипов.
Сам Н. Архипов печатал в первой книге «Феникса» свою «Повесть о человеке», показывающую автора, как тогда это называлось, «крепким бытовиком», изображающим жизнь отбросов общества с подробностями, которые находились от литературных вкусов и интересов Булгакова на неоглядном расстоянии. Процитируем хотя бы описание трапезы того, кого прозвали «генералом Скобелевым»: «Питался он необычно. В каком-нибудь черепке, быть может, только что найденном в навозе и в невымытом и в невытертом, он разводил месиво, которое бы не всякая
194
свинья стала есть: арбузные корки, извлеченные из помойки, селедочная головка, испорченные и выброшенные кильки, спелые вишни; иногда все это поливалось желтой ржавой водой, сохранившейся на дне консервной жестянки, после дождя, шедшего недели две тому назад, а иногда он вываливал месиво или в ту же самую жестянку с дождевой водой, или в иную посудину, на дне которой была какая-то подозрительная жижица, уцелевшая от старого месива. Все это долго мешалось первой попавшейся мусорной щепкой, несколько раз перекладывалось в разные посудины, бралось руками и поедалось медленно, со смакованием и скабрезными приговариваниями».
Зато рассказ В. Мозалевского «Двойная смерть», печатавшийся в том же «Фениксе», мог быть интересен Булгакову — и прямой проекцией на Пушкина, и старомодным обрамлением (которое встретим мы позже и у самого Булгакова— в «Театральном романе»), или, вернее, частью рамки — эпилогом в виде письма, где говорилось: «С искренней готовностью спешу сообщить вам все, что знаю о последних минутах жизни вашего племянника Викстона...» В рассказе можно встретить даже фразы, перекликающиеся с прозой Булгакова, не полностью чужеродные его повествовательным поискам: «Между тем история чертила яркой кистью по глобусу его родины. Выходил Великий Сеятель («Выходил неизвестный, непонятный всадник...» — в финале «Белой гвардии». — М. Ч.) и сеял по глобусу солнца. В эфире хрустальном повис ряд солнц, пугая филистера буржуа. Города, а на глобусе их было немного, стали алыми, (ср. позже в «Мастере и Маргарите»: «Мой глобус гораздо удобнее <...> видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война». — М. Ч.). Одни люди закричали: горим, горим, сердца испепелим, но мы из пепла не воскреснем, другие: горим, горим, из пепла темного воскреснем. Кто из них прав — скажет историк». Даже сама эта апелляция к будущему историку, рефрен рассказа, был также рефреном «Записок на манжетах» и других ранних вещей Булгакова.
Виктор Мозалевский — одно из имен, помогающих воссоздать литературно-бытовой фон, на котором развертывалась жизнь Булгакова в первый московский год.
В конце 1921 — начале 1922 г. одновременно с Булгаковым в Москву съехались из разных уголков России московские литераторы, те, кто в 1910-е годы образовывали пеструю, «разноэтажную» городскую литературную среду. Эта среда за годы революции и войны распалась и сейчас
195
собиралась заново — сильно разреженная и теперь обновляющаяся — главным образом за счет петербуржцев и иных горожан. Среди них были и те, кого знал Булгаков на Северном Кавказе, от Е. Венского до Слезкина.
«Недавно приехал сюда из Полтавы Ю. Слезкин, — пишет 25 апреля 1922 г. Б. А. Садовскому молодая поэтесса Екатерина Александровна Галати (выпустившая до революции одну книжку стихов), с которой примерно через полгода Булгаков встретится в одном литературном кружке, — тоже претерпевший много и едва избежавший больших неприятностей. Сообща с ним и некоторыми другими издаем альманах «Кольцо» и журнал «Новая жизнь». Первая книга в наборе. Участвуют в ней Б. Зайцев, И. Новиков, И. Шмелев, Слезкин, Белый, Шенгели и я. Просим у вас материалы — беллетристики, статей, воспоминаний — для второго альманаха». Второй альманах в свет не вышел. По-видимому, Булгаков не был приглашен и в эти издания.
Через год Булгаков в очерке «Сорок сороков» так вспоминает «свой» апрель 1922 г.: «На самую высшую точку в центре Москвы я поднялся в серый апрельский день. Это была высшая точка — верхняя платформа на плоской крыше дома бывшего Нирензее, а ныне Дома Советов в Гнездниковском переулке. Москва лежала, до самых краев видная, внизу. Не то дым, не то туман стлался над ней, но сквозь дымку глядели бесчисленные кровли, фабричные трубы и маковки сорока сороков. Апрельский ветер дул на платформу крыши, на ней было пусто, как пусто на душе. И все же это был уже теплый ветер. И казалось, что он задувает снизу, что тепло поднимается от чрева Москвы. Оно еще не ворчало, как ворчит грозно и радостно чрево живых больших городов, но снизу, сквозь тонкую завесу тумана, поднимался все же какой-то звук. Он был неясен, слаб, но всеобъемлющ. <...>
— Москва звучит, кажется, — неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами.
— Это — НЭП, — ответил мой спутник, придерживая шляпу.
— Брось ты это чертово слово! — ответил я, — это вовсе не НЭП, это сама жизнь. Москва начинает жить.
На душе у меня было радостно и страшно. Москва начинает жить, это было ясно, но буду ли жить я? Ах, это были еще трудные времена. За завтрашний день нельзя было поручиться. Но все же я и подобные мне не ели уже крупы и сахарина (в предыдущей главе фельетона описывалось, как зимой 1921/22 г. люди питались «какими-то
196
инструкциями и желтой крупой, в которой попадались небольшие красивые камушки вроде аметистов». — М. Ч.). Было мясо на обед, Впервые за три года я не «получил ботинки», а «купил» их, они были не вдвое больше моей ноги, а только номера на два. <...> Это был апрель 1922 года».
В воскресенье 26 марта 1922 года вышел первый номер газеты «Накануне». Издавалась она в Берлине, но вскоре в Москву приехали два ее редактора — эмигранты, участники сборника «Смена вех», провозгласившего необходимость сближения с новой Россией как полноправной наследницей России прежней, — и в июле открыли московскую редакцию газеты. «Накануне» всячески поощряли в столичных официальных кругах — она обращалась к русскому зарубежному читателю, который должен был поверить новым перспективам. Булгаков быстро оценил возможности, открывавшиеся ему на страницах этой, как написал он впоследствии в одной незаконченной автобиографической повести, «презираемой всеми» газеты. Ему был интересен, прежде всего, ее читатель, интеллигентный, начитанный, жадно ждавший и бытовых и литературных новостей из России, понимавший толк в традиции старого, в духе сытинского «Русского слова» воскресного газетного фельетона. Булгаков взялся возродить и обновить эту традицию.
В марте же в Петрограде вышел первый номер журнала «Новая Россия» — близкого сменовеховскому толка, однако после второго номера журнал был закрыт. Через несколько месяцев журнал возродился в Москве под названием «Россия» и вскоре Булгаков встретится с его редактором И. Лежневым.
Какие события в ту весну могли привлекать его внимание? 27 марта открылся XI съезд партии, газеты печатали фотографии съезда, где в президиуме были В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев. Программа НЭПа, предложенная съездом, по-видимому, как-то обсуждалась и Булгаковым с некоторыми из его знакомых — во всяком случае, с партийцем Борисом Земским. С другой стороны, трудно предположить сколько-нибудь живой его интерес к начавшемуся в эту весну следствию над группой членов ЦК партии эсеров, обвиненных в контрреволюционной деятельности, — процесс, к которому было привлечено внимание и эмиграции и разных слоев внутри страны, к которому резко отнесся Горький. Несомненно его небезразличие к личности и судьбе патриарха Тихона.
Непрекращающийся интерес Булгакова к делам церкви, не оставивший следов ни в каких биографических доку-
197
ментах, прочитывается в разнообразных его произведениях — в «Белой гвардии», где Всевышний говорит Жилину: «Ума не приложу, что мне с ними делать, то есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы», но «Жалко, Жилин, вот в чем штука-то».
О спорящих в те годы церквах — «живой», автокефальной и старой (т. е. патриаршей) — говорится, и довольно страстно, в очерке «Киев-город» весной 1923 года. Наконец, в 1928 году пишется глава первой редакции «Мастера и Маргариты» — с желчным изображением отца Аркадия, распродающего прямо в церкви с аукциона ценности...
Несомненно, в 1921—1922 годах в поле его зрения была компания по изъятию церковных ценностей в пользу голодающих. В связи с ней вставали в тот год два главных вопроса — одним из них был вопрос о контроле за расходованием Центральным комитетом Помгола собранных средств (еще осенью 1921 года зарубежные газеты писали, что «вместо употребления денег русского народа на борьбу с голодом, большевики бросают их на содержание огромного заграничного штата шпионов, провокаторов и поджигателей мировой революции») — то есть о гласности в этом всенародном деле. Вторым был вопрос о согласовании чрезвычайных мер в отношении церковных ценностей с богослужебными нуждами и церковными установлениями. Патриарх Тихон еще 22 августа 1921 года выступил в газете «Помощь» (1922, № 2) с посланием «В президиум Всероссийского Комитета по оказанию помощи голодающим». Патриарх писал: «Православная церковь никогда и ни при каких обстоятельствах не проходила безучастно мимо постигших русский народ бедствий.
Так и ныне, при надвинувшемся на значительную часть России голоде, Церковь должна приложить и приложит все свои силы к облегчению участи страдающего от голода населения.
Я уже обращался через представителей церковной власти к народам тех стран, которые Господь благословил обилием хлебного урожая, с призывом придти на помощь голодающему населению России. Теперь же считаю священным для себя долгом обратиться ко всем верующим чадам Церкви Российской — духовенству и мирянам с воззванием по чувству христианского милосердия принять самое широкое и деятельное участие в оказании помощи всем пострадавшим и страдающим от голода.
Я уверен, что каждая епархия, каждая приходская
198
община, каждый отдельный член Церкви почтут своим христианским долгом внести посильную лепту на это великое ' дело и примут возможное участие в работе Церкви по оказанию помощи голодающим.
Вся работа церкви в этой области будет происходить под моим общим руководством и наблюдением. Для ближайшего же руководства как сбором пожертвований (денежных, вещевых и продуктовых) в Москве и в провинции, так и распределением их по местам через соответствующие вновь создаваемые с тою же целью церковные организации, мной образован в Москве Церковный Комитет в составе духовенства и мирян.
К сему добавлю, что работа Церкви в деле оказания помощи голодающему населению может быть успешною только в том случае, если она будет поставлена в условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного развития ею своей деятельности, а именно:
а) Церковный Комитет должен пользоваться правом собирать необходимые денежные и материальные пожертвования путем устной проповеди в церквах, изданием соответствующих воззваний, устройством религиозно-нравственных чтений, духовных концертов и т. п.
б) Церковный Комитет может или самостоятельно, или при содействии Всероссийского Комитета приобретать продовольствие в России и получать в свой адрес денежные, вещевые и продовольственные пожертвования из-за границы.
в) Церковный Комитет имеет право организовывать на местах, пораженных голодом, через своих особых уполномоченных или через местные вновь возникшие церковные же организации возможно широкую помощь голодающим без различия вероисповеданий, классов, сословий и национальностей устройством столовых общественного питания, складов продовольствия и раздаточных пунктов, открытием пунктов медицинской помощи и т. п., в полном согласии с планами Всероссийского Комитета.
г) Все денежное и материальное имущество Московского Церковного Комитета, так равно и местных Церковных комитетов не подлежит ни конфискации, ни реквизиции.
д) Члены Церковного Комитета и его уполномоченные, при исполнении ими своих обязанностей, пользуются правом устройства периодических собраний.
е) Деятельность Церковного Комитета не подлежит контролю Рабоче-Крестьянской Инспекции. Отчетность по всем своим мероприятиям Церковный Комитет представ-
199
ляет в президиум Всероссийского Комитета. Ревизия денежных сумм и материалов возлагается на ревизионную комиссию, мною назначаемую.
ж) Для установления живой связи с Всероссийским Комитетом и его местными органами Церковный Комитет назначает особых уполномоченных.
Вот главные положения, которые, по моему глубокому убеждению, должны лежать в основании учреждаемого мною Церковного Комитета для наиболее верного и скорейшего достижения намеченных им целей.
Питаю уверенность, что Всероссийский Комитет со своей стороны будет оказывать в пределах предоставленных ему прав всякое возможное содействие Церковному Комитету, а равно и всем провинциальным его органам, в деле осуществления намеченных им целей». Послание датировано было 5 августа 1921 года. В феврале 1922 года патриарх напоминал, как в тот момент он обратился с посланиями к главам отдельных христианских церквей «с призывом, во имя христианской любви, произвести сборы денег и продовольствия и выслать их за границу умирающему от голода населению Поволжья.
«Тогда же, — писал он в послании от 15 (28) февраля 1922 года, — был основан Нами Всероссийский Церковный Комитет Помощи голодающим, и во всех храмах и среди отдельных групп верующих начались сборы денег, предназначавшихся на оказание помощи голодающим. Но подобная церковная организация была признана Советским Правительством излишней, и все собранные Церковью денежные суммы потребованы к сдаче и сданы правительственному Комитету».
За первые месяцы жизни в Москве и особенно службы в ЛИТО, работы под лозунгами для Помгола Булгаков, надо думать, уже напитался рассказами москвичей о перипетиях попыток участия общественности в помощи голодающим в прошлое лето. Б. К. Зайцев вспоминал впоследствии: «В это как раз время, летом 1921 года, Россия очень пострадала от голода. Следуя давним заветам, русская интеллигенция, не преследуя никаких политических целей, решила прийти на помощь. Был образован Комитет для сношений с иностранными благотворителями (Гувером, Нансеном и др.). В этот Комитет вошел и я, от писателей. Сначала власти разрешили нам собираться и заседать, под председательством Каменева, потом вдруг всех арестовали. Бюро Комитета было выслано в восточные губернии. Меня выпустили через два дня». Н. А. Бердяев вспоминал о том,
200
как вместе с еще одним членом правления Союза писателей он был у Калинина и хлопотал об освобождении из тюрьмы М. Осоргина, арестованного по тому же делу.
В декабре 1921 года правительство предложило церкви делать пожертвование деньгами и продовольствием. «Желая усилить возможную помощь вымирающему от голода населению Поволжья, Мы нашли возможным, — пояснял позже патриарх Тихон, — разрешить церковно-приходским Советам и общинам жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления, о чем и оповестили Православное население 6 (19) февраля с. г. особым воззванием, которое было разрешено Правительством к напечатанию и распространению среди населения. Но вслед за этим, после резких выпадов в правительственных газетах по отношению к руководителям Церкви, 10 (23) февраля ВЦИК для оказания помощи голодающим постановил изъять из храмов все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды и проч. богослужебные предметы, — писал патриарх. — С точки зрения Церкви подобный акт является актом святотатства, и мы священным нашим долгом почли выяснить взгляд Церкви на этот акт, а также оповестить о сем верных духовных чад...». Патриарх пояснял, что не может одобрить изъятие из храмов, хотя бы через добровольное пожертвование, «священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской церкви и карается Ею, как святотатство, — мирянин отлучением от Нее, священнослужитель — извержением из сана...»
16 марта 1922 г. «Правда» печатает заявление Тихона о том, что не так уж много в церквах драгоценностей и что нельзя извлеченные из церквей для нужд голодающих художественно и исторически ценные вещи продавать за границу. 28 марта «Известия» публикуют перечень «врагов народа», где первым указан патриарх Тихон «со всем своим церковным собором», происходит беседа М. И. Калинина с епископом Антонином, где председатель ВЦИКа подчеркивает, что не может быть и речи об изменениях в декрете о церковных ценностях, и епископ Антонин, высказавшись за изъятие церковных ценностей, изъявляет готовность работать в Центральном комитете Помощи голодающим.
Можно с уверенностью предполагать, что в погибшем дневнике Булгакова было отмечено и начало судебного процесса над священниками 26 апреля 1922, и выступление патриарха Тихона 5 мая в здании Политехнического
201
музея на процессе в качестве свидетеля, и приговор (10 священников приговорены были к расстрелу; впоследствии 6 помилованы, четверо расстреляны в ночь с 12 на 13 августа). Приговоры и расстрелы шли и по другим городам. Событием для Булгакова был и арест патриарха в мае 1922 г., и переход в эту весну духовной власти к «живой церкви», отношение к которой Булгакова отразится через год в его очерке о Киеве.
Конечно, Булгаков следил за подготовкой Генуэзской конференции (интерес к ней зафиксирован, как мы видели, еще в уцелевших фрагментах дневника за февраль этого года) ; вряд ли он остался равнодушным к убийству монархистом бывшего министра В. Д. Набокова, совершенному в Берлине 29 марта 1922 г., хотя у нас нет никаких данных для суждения о том, каков был ход его собственных мыслей при чтении откликов сменовеховцев на это событие (Василевский-Небуква писал, например, в № 5 «Накануне» — под общей шапкой «Под первым впечатлением» с А. Толстым — о том, что у монархистов никогда не было мужества в годы гражданской войны, не было и в то время, когда они имели возможность спасать царское семейство, находившееся под арестом, и только на шестой год после революции нашлось — для выстрела, предназначенного П. Н. Милюкову и убившего В. Д. Набокова). И можно думать, с особенным, разнообразно окрашенным интересом он следил за статьями тех, кто готовил себе дорогу к возвращению в Россию — то есть тех, кому удалось осуществить не удавшийся ему отъезд в Константинополь и далее в Европу, чтобы затем разочароваться в своем выборе, — сменовеховцев, с которыми он вскоре встретится в Москве.
25 апреля «Известия» перепечатали из «Накануне» «Открытое письмо гр. А. Толстого Н. В. Чайковскому» — московские литераторы узнали о его решении вернуться в Россию.
В июне 1922 года Ю. В. Ключников (один из редакторов «Накануне») и Ю. Н. Потехин («при ближайшем участии» которого выходила газета) напечатали в «Накануне» несколько корреспонденций из Москвы, куда приехали они в начале месяца. В фельетоне под названием «Принц НЭП» Потехин пояснял, что «с Москвой 1918 года, когда я покидал ее, нынешнюю просто и нельзя сравнивать...» («Накануне» № 75). Но особенно любопытен для нас одной своей деталью фельетон Ключникова «Москвичи», напечатанный в том самом номере «Накануне» (№ 68), в литературном
202
приложении к которому печатались «Записки на манжетах».
Ключников обратил внимание на глаза обитателей того во многом нового для него города, в котором он оказался — пока еще временно. «В глазах москвичей и москвичек неизменно какая-то тайна. Что-то не подлежащее высказыванию. Что-то только для себя. «Глубинное». <...> Если вы любитель зеркально открытых глаз — и к тому же у вас есть доллары — поезжайте в Америку». Эта черта физиономического облика городского населения начала 1920-х годов, открывшаяся взгляду свежего, стороннего наблюдателя, была, возможно, у него-то и подхвачена впоследствии Булгаковым. Не раз и не два упомянет он «встревоженные», «беспокойные» и даже «ужасные» глаза жителей города, ставшего для него постепенно своим.
«Тайна» в глазах, зорко подмеченная Ключниковым, имела глубокую подоплеку. Она отражала несколько слоев адаптации к новым условиям, происходившей в течение пореволюционного пятилетия. Без внимательного рассмотрения этих слоев вряд ли будут хоть в какой-то степени успешными попытки воссоздать самоощущение Булгакова первых московских лет и последующую его эволюцию.
Философ и литератор Федор Августович Степун, которому придется через несколько месяцев покинуть отечество (а с его братом, Владимиром Августовичем, через два-три года Булгаков сойдется настолько близко, что в квартире его устроит банкет по случаю первой своей московской премьеры), два года спустя попытается дать социально-психологический анализ той самой среды, в окружении которой и предстояло Булгакову врастать в новую жизнь и положение которой во многом было аналогично его собственному, но в чем-то, как увидим, и разнилось от него. «Первая идея, которую оставшаяся в России интеллигенция попробовала противопоставить советской власти, — писал Степун, — была идея «бойкота». Но бойкот долго длиться не мог. Кроме государства, в стране не было ни одного работодателя, страна же с каждым днем все глубже и глубже засасывалась в безвыходную нужду. Так складывалась неразрешимая альтернатива — или смерть, или советская служба, — разрешавшаяся, естественно, в пользу службы». Весной 1923 года в одном из фельетонов «Накануне» Булгаков опишет тот момент, когда он оказался в Москве «как раз посередине обеих групп» — сытых «буржуев» и «голых, как соколы» героев. «...И совершенно ясно и просто передо мною лег лотерейный билет с надписью —
203
смерть. Увидав его, я словно проснулся. Я развил энергию неслыханную, чудовищную. Я не погиб <...> Я перенял защитные приемы в обоих лагерях. Я оброс мандатами, как собака шерстью». Степун пояснял: «Но службы для власти всегда было мало; она требовала еще и отказа от себя и своих убеждений. Принимая в утробу своего аппарата заведомо враждебных себе людей, она с упорством, достойным лучшего применения, нарекала их „товарищами", требуя, чтобы они и друг друга называли этим всеобщим именем социалистического братства. Протестовать не было ни сил, ни возможности. <...> Слово „товарищ" было, однако, в донэповской России не просто словом, оно было стилем советской жизни: покроем служебного френча, курткою — мехом наружу, штемпелеванным валенком, махоркою в загаженных сов-учреждениях; селедочным супом и мороженой картошкой в столовках, салазками и пайком. (Через все эти элементы донэповского быта Булгаков методичнейшим образом прошел — начиная с Владикавказа 1920 года вплоть до первого московского года. — М. Ч.). Как ни ненавидели советские служащие „товарищей"-большевиков, они мало-помалу все же сами под игом советской службы становились, в каком-то утонченнейшем стилистическом смысле, „товарищами". Целый день не сходившее с уст и наполнявшее уши слово проникало, естественно, в душу и что-то с этою душою как-никак делало. Слова — страшная вещь: их можно употреблять всуе, но впустую их употреблять нельзя. Они — живые энергии и потому неизбежно влияют на душу произносящих их людей.
Так мало-помалу обрастали советские служащие обличьем „товарищей", причем настолько не только внешне, насколько стиль жизни есть всегда уже и ее сущность. Но, стилистически превращаясь в „товарища", советский служащий оставался все-таки непримиримым врагом той власти, которой жизнь заставила его поклониться в ноги. <...> Так под слоем „товарища" рядовой советский служащий, словно штатскую жилетку под форменным френчем, поглаживал в своей душе сакраментальный слой „заговорщика"...» Этот служащий и стал, в частности, героем «Спиритического сеанса» Булгакова. Но коллизия в целом не могла не затронуть и его самого, и тем более — близкого ему в те первые годы круга литераторов. Она была связана с повседневностью. «Во всякое учреждение входили все мы, как в психоаналитический институт, — вспоминал Ф. Степун. — Первым шагом, от которого зависело все, была пра-
204
вильность социологического диагноза, прозрение заговорщической жилетки под коммунистическим френчем». Речь шла, конечно, не о каком-то реальном заговоре, а о выборе наиболее социально-близкого из нынешних служащих — о некоем «непроизносимом пароле». Особенно важно, однако, дальнейшее пояснение. «Хотя в этом пользовании немым паролем и не было ничего нравственно недопустимого, в нем все же было нечто стыдное, — признается Степун. — (Ведь и на фронте всегда бывало стыдно идти согнувшись по окопу)... В разрешении называть себя «товарищем» со стороны настоящих коммунистов, в каком-то внутреннем подмигивании всякому псевдо-товарищу — «брось, видна птица по полету», в хлопотах о сохранении своего последнего имущества и своей, как-никак, единственной жизни, во всем этом постоянно чувствовалась стыдная кривая согнувшейся перед стихией жизни спины. Лицемерия во всем этом вначале не было, но некоторая привычка к лицедейству перед жизнью и самим собой все же, конечно, слагалась».
Эта «привычка к лицедейству» слагалась и у Булгакова — главным образом в 1920—1921 годах. До этого, в Киеве 1919 года, Булгаков в советских учреждениях, судя по свидетельствам близких, не служил. Только во Владикавказе, весной 1920 года, перед ним во весь рост встали сложные социально-психологические проблемы, о которых пишет Степун и которые с возможной для отечественной печати ясностью отразились в «Записках на манжетах». Степун полагал, что дело обстояло «нравственно благополучно» первое время — «пока революция была стихией, пока русский человек спасал всего только свою голую жизнь, пока он отчетливо внутренне знал, что его правда и на чем он сам в конце концов твердо стоит». Это — состояние героя «Записок на манжетах»: «Осваиваюсь. — Завподиск. Наробраз. Литколлегия. — Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются. На кого ни глянет — все бледнеют. Глаза под стол лезут. <...>
Подошел. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа — кристалл! Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно».
По терминологии Степуна, — лицедейство, но не лицемерие. Не почувствовав разницы, мы не поймем, как Булгаков, разделяя вначале это защитное лицедейство с очень многими литераторами, помыкавшимися по разные стороны фронта прежде чем окончательно осесть в Москве начала
205
20-х годов, далее уходит от лицемерия — и в первую очередь от проникновения его в творчество. «К моменту начала деникинского выступления в целом ряде людей, — пишет Степун, имея в виду тех, кто, в отличие от Булгакова, оказались к этому моменту в тылу Красной армии, — чувствовалось уже не только наличие двух лиц, но и лицо двуличия, т. е. полная невозможность разобраться — какое же из своих лиц, «товарищеское» или «заговорщическое», они действительно ощущают своим.
К этому времени большое количество советских служащих было уже до некоторой степени устроено большевиками, и потому ощущало какую-то неуверенность в своих предощущениях деникинского прихода...»
С Булгаковым дело обстояло иначе. К моменту прихода Деникина в Киев он не успел, по-видимому, испытать той «неуверенности предощущения», о которой писал Степун; зимою 1919/20 годов он пережил наступления и отступления белой армии, находясь с нею по одну сторону фронта. Во Владикавказе 1920 года он следил за происходящим в Крыму (предполагая, возможно, что туда попали младшие братья) с чувствами, несомненно, сложными, которые нам вряд ли удастся хоть в какой-то степени восстановить: в «Беге» мы увидим только позднюю трансформацию этих чувств.
В первые московские годы его все еще мучительно волновала мысль о неосуществившемся, зачеркнутом в 1920— 1921 годах варианте судьбы. Татьяна Николаевна вспоминала, что как-то он встретил знакомую медсестру, которая потом была в Константинополе. «Он зазвал ее домой, пили чай, она много рассказывала. Вообще тех, кто побывал за границей, он готов был слушать, раскрыв рот... Она рассказывала, как там все было, — она добралась с белыми до Константинополя, но все же вернулась... Я говорила ему: — Ты не жалей!..» Простодушные советы жены вряд ли попадали в точку; его чувства и размышления на эту болезненную тему были слишком сложны.
В апреле — мае Булгаков уже завязал интенсивные отношения с «Накануне», и важным для него звеном этих отношений была публикация в «Литературном приложении» № 8 (к «Накануне» № 68) 18 июня 1922 г. первой части «Записок на манжетах», которые до сих пор — то есть, во всяком случае, с конца 1921 г. — не удавалось где-либо напечатать.
Весна и лето 1922 г. для определенной части русской интеллигенции — и отечественной, и зарубежной — были в
206
известном смысле временем надежд, и эта часть стремилась < подбодрить, возродить к новой жизни тех, кто эти надежды в основном потерял. 25 июня в «Литературном приложении» к «Накануне» сообщалось о выходе первого номера журнала «Экономическое Возрождение» (в издательстве «Право») ; в редакционной статье открывающегося журнала говорилось, что в настроениях русского общества «преобладают в настоящее время безудержный черный пессимизм, безответственная фатальная покорность жесткой судьбе, апокалипсические предчувствия грядущего конца». Редакция полагала, однако, что, как ни печально положение народного хозяйства в России, безнадежный пессимизм должен уступить место «воле к жизни» и что после того, как в России «реальная политика взяла верх над прямолинейным утопизмом», экономическое возрождение России вполне возможно.
Соотношение тогдашнего мироощущения Булгакова с этими надеждами в какой-то мере поясняют строки цитированного ранее фельетона «Сорок сороков»: «Москва начинает жить, это было ясно. Но буду ли жить я?»
Любопытен сохраненный памятью Татьяны Николаевны маленький эпизод, запечатлевший попытку пропадающих в безденежье зимой и ранней весной 1922 года Булгакова с женой «рискнуть» в разворачивающейся в это время коммерции... «Был у нас такой знакомый — Моисеенко, — рассказывает Татьяна Николаевна. — Познакомились мы еще во Владикавказе, при красных, наверное, у Збруевой — оперной певицы... У нее были какие-то вечера с водкой... Вообще пили там много. Там было такое кизлярское вино, бледно-розовое, очень вкусное, но когда его много пьешь — потом не встанешь. Там был и этот Моисеенко. Не помню, чем занимался, но личность он был интересная. Он к нам приходил часто, с женой Ольгой. Говорил: „Мишенька, я вас люблю". Он любил действительно Михаила; он был старше его. И вдруг он появился в Москве. Пришел к нам, принес мне пирожные. Помню, учил меня:
— Делайте пшенную кашу с морковью — ризотто.
Это такое итальянское блюдо — конечно, рис с морковью, ну, а у нас с пшеном... Я делала по его рецепту несколько раз...
А однажды его жена принесла к нам две иконы в жемчугах:
— Спрячьте — у вас не будут искать!
Эти иконы долго лежали у нас, завернутые, потом они их забрали.
207
Мне кажется, этот Моисеенко занимался темными какими-то делами — коммерческими... Потом он так и пропал куда-то.
Они где-то купили пудру. И вот, говорят нам: «Хотите, возьмите ящик — заработаете!» Мы взяли ящик, сколько-то там было много коробок пудры, оттащили к себе на пятый этаж, но ничего не вышло. Мы влипли здорово с этой пудрой — за сколько купили, за столько продали... Я, конечно, продавала — на рынке...»
Приближалось лето 1922 г.; Булгаков впервые проводил его в Москве. «В Москве сейчас прекрасная погода, — писал Слезкину С. Ауслендер 23 мая 1922 г., — первые летние дни, нежная зелень на бульварах, вчера прошла гроза... все зазеленело... Знакомых общих видел мало. Галати с отчаяния едет на все лето в Голицыно. Видел Лидина, он хандрит, у него не принимают нигде рассказа „Китай"...» (отметим, что в том же году рассказ печатается в альманахе «Лирический круг») —Ю. Слезкин, С. Ауслендер, В. Лидин, Е. Галати — все это те литераторы, с которыми в 1922—1924 гг. Булгаков будет встречаться регулярно.
На лето Москва опустевала, но литературная жизнь в ней не прекращалась. Воспоминания Петра Никаноровича Зайцева, секретаря редакции литературно-художественной газеты «Московский понедельник», выходившей с июня 1922 г., а затем альманахов и издательства «Недра», помогают представить себе сам «состав» литературной Москвы 1922 г. «Летом 1922 г., — писал он, — в Москве были:
B. В. Вересаев, Ив. Ал. Новиков, Б. К. Зайцев, еще не выехавший за границу, был Г. И. Чулков, были и молодые: А. С. Яковлев, М. Я. Козырев, из пролетарских писателей «Кузницы» были Н. Ляшко, М. Волков. Были В. Г. Лидин, А. Соболь, А. И. Свирский». Зайцев перечислял дальше: «Были: Н. Д. Телешов и даже — стариннейший Игнатий Ник<олаевич> Потапенко, живший в одном из флигелей Дома Герцена. Под Москвой — у себя в Коломне жил Б. Пильняк; у себя в Обольянове проживал С. П. Подъячев <...> В 1922 году в двух флигелях Дома Герцена расселилось много бесквартирных писателей, вернувшихся в этом году или впервые приехавших жить в Москву <...> жили C. А. Клычков и П. В. Орешин с женой, Ольгой Михайловной, дочерью писателя Марка Криницкого (Мих. Вл. Самыгина). <...> Вернулся из Коктебеля И. С. Шмелев, из Поволжья приехал А. С. Неверов. <...> Уже наезжал в Москву из подмосковной деревни M. M. Пришвин...»
29 мая Ходасевич читал в Союзе писателей стихи из
208
сборника «Тяжелая лира» — запись об этом сделал в своем дневнике И. Н. Розанов. Судя по этому же дневнику, в июне Ходасевич еще в Москве (18 июня Розанов у него, знакомится с Н. Н. Берберовой), до середины августа — Пастернак (вскоре оба поэта — уже в Берлине).
В начале июня по кругам московской интеллигенции прошли слухи об арестах и обысках.
2 июня И. Н. Розанов, с которым Булгаков встречался всякий раз, во всяком случае, как попадал на Никитинские субботники, который был непременной фигурой тогдашней литературной Москвы, да к тому же и ее летописцем, занес в своем дневнике: «В Музее (Историческом музее, где он служит. — М. Ч.) все полно разговорами о вчерашних арестах»; 6 июня, после Духова дня: В «Задруге» рассказы о С. П. (скорее всего, Мельгунове, возглавлявшем издательство «Задруга». — М. Ч.). Нина Георгиевна о своем отце и о «гостях»; 7 июня: «... от 5 до 7 в «Задруге». Там Пав. Серг. Попов о «посетителях» на дому»; 8 июня, впрочем, в Историческом музее директор H. M. Щекотов известил «об возвращении товарищей в их среду и о возбуждении дела против лиц, распускающих ложные слухи». Павел Сергеевич Попов вскоре станет близким знакомым Булгакова.
7 июля в Союзе писателей (в доме Герцена) — поминки по Блоку (годовщина со дня смерти), также отмеченные в дневнике И. Н. Розанова; 31 июля он отметит вечер Сера-пионов — там же, в Союзе писателей: читают свои произведения Федин, М. Слонимский, Вс. Иванов. 28 августа в его же дневнике — запись о том, как, придя на несостоявшееся собрание в Союз писателей, «походил по двору с Мандельштамом и Липскеровым. Познакомился с Парнахом» — будущим героем «Египетской марки» Мандельштама.
Именно к лету 1922 г. Дом Герцена, который станет спустя несколько лет столь возбуждающим для творческой фантазии Булгакова и претворится в «Дом Грибоедова», полностью перешел в распоряжение Союза писателей (в ознаменование столетия со дня рождения Герцена). Новоизбранное правление планировало расширить библиотеку, открыв в ней комнаты для занятий, «использовав два дома во дворе, организовать общежитие, предоставляя помещение для постоянного жительства, как литераторам-инвалидам, так и тем членам Союза, которые при современном жилищном кризисе не имеют возможности найти себе угол»; мечтали выселить посторонние учреждения — «Пока в доме Герцена — «Рауспирт», нечего и думать об осуществлении проектов правления. Бывшее акцизное управление занимает
209
целый этаж...» В этой же заметке (под названием «Всероссийский союз писателей») только что начавший выходить в Москве частный журнал «Россия» в № 1 (датированном на обложке августом) сообщал состав новоизбранного правления Союза: «Б. К. Зайцев — председатель, М. А. Осоргин и Н. А. Бердяев (товарищи председателя), А. М. Эфрос — секретарь, Н. С. Ашукин и Ан. Соболь (товарищи секретаря)... Ю. Айхенвальд, В. Жилкин, Г. Г. Шпет, И. А. Новиков — члены правления; кандидатами к ним: В. Г. Лидин, В. Л. Львов-Рогачевский»; в Ревизионную комиссию входил П. Н. Зайцев.
Много лет спустя, незадолго до смерти Б. К. Зайцев писал, вспоминая о 1921—1922 годах: «Тогда в Москве оставалось еще много прежней русской интеллигенции. В Уставе нашем говорилось, что ни один коммунист не может быть членом Союза. Парадокс? — Разумеется, но тогда правительство еще занято было гражданской войной, не до нас ему было.
Еще до революции я был лично знаком с Каменевым и Луначарским. Меня иногда направляли к ним с ходатайствами об освобождении арестованных членов Союза. Обычно оба относились сочувственно».
Конец гражданской войны совпал с усилением правительственного внимания к литературно-общественной жизни. С весны 1922 года уже готовилась высылка философов и литераторов, но о ней еще не было известно тем, кого она должна была коснуться.
Летом Москву покинул Б. К. Зайцев, еще весной получивший разрешение на выезд за границу (об этом сообщала «Новая русская книга» в третьем — мартовском — номере). Сам он вспоминал впоследствии, что при содействии Каменева и Луначарского его «выпустили с семьей в Берлин „для лечения". Да, я не думал, что это навсегда. А дочь моя, десятилетняя Наташа, когда поезд переходил границу, задумчиво бросила на русскую почву цветочек — прощальный. „Папа, мы никогда не вернемся в Россию". А мы с женой думали — временное отсутствие».
Вопреки географии, расстояние между Москвой и Берлином было в те годы гораздо более коротким, чем впоследствии. В Берлине издавались журналы, в которых сотрудничали многие московские литераторы, в том числе Булгаков и Слезкин, — «Новая русская книга», «Сполохи», «Веретеныш» — альманах образовавшегося весной того года содружества писателей, художников и музыкантов «Веретено», которое, как сообщал один из берлинских журна-
210
лов, «не намерено ограничиваться деятельностью в эмиграции, но вступило в тесную связь с родственными ему творческими силами в России». В сентябре вернувшиеся из Москвы Ключников и Потехин делали доклад на тему «Россия — сегодня».
Когда читаешь имена литераторов, выступавших в берлинском Доме искусств в эту осень, видишь, как близок этот список к тому, в котором перечислялись бы имена выступавших на литературных собраниях в Москве — в 1922 году или в следующих: В. Шкловский, В. Ходасевич, А. Толстой, Б. Пастернак, А. Белый, И. Эренбург, В. Маяковский, Ю. Айхенвальд, В. Лидин... Про Лидина сообщалось, что он «прибыл на короткое время из Москвы в Берлин», тут же указывался его московский адрес — Малая Никитская... В одно время с ним прибыл в Берлин еще один московский беллетрист — О. Савич. 12 ноября они вместе выступают в составе новообразованного содружества «Веретено», а 25 ноября 1922 г. в дневнике И. Н. Розанова уже -появляется запись: «Савич вернулся». Мы предполагаем, что кто-то из этих двоих писателей и привез в Берлин для напечатания в «Новой русской книге» и альманахе «Веретеныш» следующее письмо. «М. А. Булгаков работает над составлением полного библиографического словаря современных русских писателей с их литературными силуэтами. Полнота словаря зависит в значительной мере от того, насколько отзовутся сами писатели на эту работу и дадут о себе живые и ценные сведения. Автор просит всех русских писателей во всех городах России и за границей, присылать автобиографический материал по адресу: Москва, Б. Садовая, 10, кв. 50, Михаилу Афанасьевичу Булгакову.
Нужны важнейшие хронологические даты, первое появление в печати, влияние крупных старых мастеров и литературных школ и т. д. Желателен материал с живыми штрихами.
Особенная просьба к начинающим, о которых почти нет или совсем нет критического или биографического материала.
Лица, имеющие о себе критические отзывы, благоволят указать, кем они написаны и где напечатаны.
Просьба ко всем журналам и газетам перепечатать это сообщение. Москва. 6 октября 1922 г.»
В несколько иной редакции письмо было разослано им в отечественные газеты:
«Словарь русских писателей.
211
M A Булгаков работает над составлением словаря русских писателей — современников Великой революции. Он обращается с просьбой ко всем беллетристам, поэтам и литературным критикам во всех городах прислать ему автобиографический материал. Важны точные хронологические данные, перечень произведений, подробное освещение литературной работы, в особенности за годы 1917— 1922, живые и значительные события жизни, повлиявшие на творчество, указание на критику и библиографию каждого. От начинающих в провинции желательно было бы получить номера журналов с их печатными произведениями».
Дата письма в редакцию «Новой русской книги»,возмож-но, не случайна.
В сентябре по Москве пошли разговоры о высылке деятелей культуры — петроградцев и москвичей. 26 сентября 1922 г. в дневнике И. Н. Розанова отмечено: «... (Задруга). Разговоры об отъезжающих (сегодня)»; 3 октября: «Вечером у С. П. Мельгунова на последнем заседании «Голоса минувш<его>» были Мельгунов, Сивков, Федоров, Цявловский... Попов П. С. и я. Мое предложение о фотографии»; 6-го, пятница: «Вечером был на последнем с Мельгуновым заседании совета «Задруги»; наконец, 8-го октября, воскресенье: «В 6 ч. начались в «Задруге» (правление) проводы Мельгунова». 6-го же октября на чрезвычайном собрании Всероссийского союза писателей в Москве «в члены правления вместо уехавшего Б. К. Зайцева и высланных Ю. А. Айхенвальда, Н. А. Бердяева и М. А. Осоргина избраны были В. В. Вересаев, А. И. Окулов, Б. А. Пильняк, Ю. В. Соболев».
В эту осень Москву покинули — по большей части вынужденно — философы С. Л. Франк, И. И. Ильин, Б. П. Вышеславцев, литератор и философ Ф. А. Степун, историки А. А. Кизеветтер, В. А. Мякотин, экономисты, издатели, агрономы и т. п. Результатам этой акции не сразу суждено было сказаться во всем объеме. Однако библиографический замысел Булгакова может быть поставлен в связь с его впечатлениями от рассеивания русской культуры. Именно эта осенняя высылка — отъезд, который хоть и не всем, но многим представлялся бесповоротным (что и случилось), — могла толкнуть Булгакова к тому, чтобы поспешить с собиранием сведений о всех современных русских литераторах, независимо от места их проживания. Он едва ли не первым, таким образом, выдвинул задачу огромной культурной важности, не решенную даже в скромном объеме и до сего дня.
212
Неизвестно, насколько продвинулся Булгаков в сборе материалов; по-видимому, он вскоре понял масштаб своей затеи и отказался от ее реализации. Тем не менее само рождение такого замысла ясно указывает на то, что круг его библиографических и читательских интересов в это время чрезвычайно широк. И будущая реплика Мастера, угадавшего качество не читанных им стихов Ивана — «как будто я других не читал?» — имела под собой глубокую автобиографическую подоплеку: Булгаков был начитан и в поэзии и в прозе первых пореволюционных лет — так, как бывает начитан добросовестный библиограф.
Поздней осенью 1922 темой обсуждения в московской интеллигентской среде была судьба кооперативного издательства «Задруга», существовавшего с 1911 года, «Задруга» имела свой книжный магазин (в Третьяковском проезде, где Булгакову приходилось бывать, хорошо известный москвичам, — в 1921 —1922 годах там можно было купить русские книги, изданные в Берлине, в издательстве «Слово» и других): 29 мая И. Н. Розанов отмечает, что встретил в «Задруге» Пастернака, пришедшего вместе с С. Бобровым. После выхода № 1 «Бюллетеня книжного магазина «Задруга» Политотделом Госиздата товариществу «Задруга» воспрещено печатание в следующих номерах обзоров литературы, рецензий и пр. и предложено ограничиться исключительно списками книг, имеющихся в магазине Т-ва. Вследствие этого выпуск 2-го номера приостановлен». После высылки кооператоров «Задруги» (В. М. Кудрявцев, А. Ф. Изюмов, С. П. Постников) москвичи обеспокоенно следили за развитием событий.
3 ноября 1922 г. литературовед H. M. Мендельсон описывает в дневнике заседание Совета «Задруги», на котором он был накануне: «Сивков, председатель правления, подробно сообщил о положении дел. У Каменева была не А. Л. Толстая, а В. Н. Фигнер. Чем все кончится — трудно сказать. Есть слабая (у меня, по крайней мере) надежда на то, что «Задруга» уцелеет. Из слов Каменева и (нелестный эпитет. — М. Ч.) Лебедева-Полянского, у которого был с кем-то И. И. Попов, заключили, что надо за границей в печати опровергнуть причастность Правления и Совета «Задруги» к изданию писем Короленко» (автор дневника поясняет в сноске: «Умные люди за рубежом издали письма Короленко к Луначарскому, проставив на ней штемпель «Задруги»). «Выработали текст, посылают в Берлин Кудрявцеву. Полнера надо бить!.. По всей вероятности, издание — дело его рук. (Т. И. Полнер, основатель издатель-
213
ства «Русская земля» в Париже. — М. Ч.). Власти возмущены больше всего предисловием Дионео. — При обыске были чрезвычайно глупые выемки. М<ежду> пр<очим>, мемуары Витте, полученные через НКиндел (Наркоминдел. — М. Ч.), пропущенный цензурой отчет Правления и т. п. — Дела издательства блестящи, несмотря на цензуру, Госиздат и пр.» 6 ноября: «А. Л. Толстая и В. Н. Фигнер были у Менжинского (в это время — член Президиума ВЧК. — М. Ч.), и он, в результате переговоров, распорядился пока приостановить ликвидацию». 12 ноября: «Задруга» при последнем издыхании — кажется, только как издательство: б(ыть> м<ожет>, удастся сохранить „Голос минувшего" и магазин». И. Н. Розанов записывает 2 декабря: «Аукцион в „Задруге". Я опоздал. Из 5 писем Блока продано 4».
«Голос минувшего», журнал истории и истории литературы, знакомый Булгакову еще по довоенному времени (он выходил с 1913 по 1917) и возобновленный в 1920-м (сначала под редакцией С. П. Мельгунова, потом М. А. Цявловского) обратил, мы думаем, на себя его внимание. В Москве Булгаков покупал и «Русскую старину», и «Исторический вестник» — журналы такого рода были в кругу его интересов ничуть не менее, чем литература современная. Три последних номера журнала еще успели выйти в 1923 году; позже, когда за границей к весне 1923 года оказалось 18 членов правления и совета «Задруги» и журнал прекратил свое существование, стал выходить (с 1926 года) «Голос минувшего на чужой стороне».
Татьяна Николаевна вспоминает, что он часто приносил новые книги, иногда советовал прочитать ей, «торопил, чтоб читала быстрей — нужно было их отдавать. Один раз, помню, принес книгу — «Записки мерзавца», не помню автора. — Вот, читай». Это был роман А. Ветлугина, вышедший от апреля до лета 1922 года в берлинском издательстве «Русское творчество» и привлекший внимание и зарубежной русской критики (Роман Гуль напечатал в «Новой русской книге» уничтожающую рецензию), и отечественной, отнесшейся к автору более благосклонно. Рецензент журнала «Печать и революция» (1923, № 2) признал за книгой значение «человеческого документа», «попытки весьма сведущего человека нарисовать картину душевного разложения целого слоя „зеленой" молодежи, которую старые деятели „того берега" склонны считать продолжателями своего обреченного дела». Еще раньше Вяч. Полонский, говоря в том же журнале (1922, № 8) о предыдущей книге Ветлугина «Третья Россия» (Париж, 1922), утверждал: «Сейчас
214
Ветлугин еще пытается держаться по ту сторону черты, отделяющей его от «этой» России. Но что он стоит на пороге редакции „Накануне" — это несомненно». В этом было своеобразие ситуации 1922—1923 годов — попытки к сближению шли с двух сторон.
Интерес же к Ветлугину Булгакова немаловажен — мы увидим впоследствии, что одна из книг автора «Записок мерзавца» помогла в работе над «Бегом».
Да и сама биография этого человека, несомненно, должна была интересовать Булгакова — зигзаг судьбы писавшего под псевдонимом «А. Ветлугин» Владимира Ильича Рындзюна прошел в 1917—1921 годах где-то совсем рядом с гораздо менее извилистой, не снующей взад-вперед, но однако же достаточно причудливой, на взгляд самого Булгакова, траекторией его пути в те же самые годы. Он, конечно, со вниманием вчитывался в циническую исповедь человека, с которым вполне мог успеть познакомиться в Киеве, — и в роман, и в автобиографию, опубликованную в журнале «Новая русская книга», за которым Булгаков имел возможность следить. «В августе 1918 проехал на Дон, — повествовал Ветлугин в автобиографии, датированной 26 марта 1922 года, — а оттуда, избегая Красновской мобилизации, в Екатеринослав, Харьков, Киев. В Екатеринославе научили крупно играть в железку. Из Киева (где проигрался до тла) отбыл в Берлин, Мюнхен, Вену». После революции в Австрии «пытался под видом украинца проникнуть в Швейцарию.»; не получив визу, «вернулся в Киев. Начал искать издателя для сборника стихов. Но гетман Скоропадский объявил всеобщую мобилизацию. Бежал в Харьков, где и был мобилизован атаманом Балбачаном (подобно тому, как Булгаков был мобилизован петлюровцами — и так же бежал. — М. Ч.). Бежал обратно на Дон, в Ростов. До февраля 1919 г. бил баклуши, ходил в кофейню и писал стихи. В феврале Деникин объявил мобилизацию; спасаясь, поступил в белую газету. Подозревали в большевизме, подписывался «Д. Денисов». Летом съездил в Крым, загрустил и замечтал о далеком вояже. Осенью 1919 г. слушал «Сильву», писал на тему «наша победа несомненна» (Булгаков в ноябре 1919 года настроен уже на трагический лад — автор статьи «Грядущие перспективы» зовет своего читателя к борьбе, но предчувствует поражение. — М. Ч.) и боролся с сыпными вшами.
21 декабря 1919 г. пешком в метель ушел из Ростова. Через Армавир пробрался в Туапсе, оттуда — «в Батум, занятый в те дни англичанами. В Батуме три недели голодал
215
и подписал контракт в иностранный легион. Потом «отыгрался» в макао и с двумя грузинами открыл банкирскую контору. Хорошо зарабатывали, шныряли по Кавказу и Закаспию. 27 апреля 1920 г. Левандовский занял Баку (все это — события, за которыми, несомненно, с напряжением следил Булгаков из Владикавказа. — М. Ч.): потеряли два вагона риса. Из Батума эвакуировался с англичанами. 3-го июля 1920 г. съездил по торговым делам в Крым; потерял последние деньги и последнюю веру в белое движение. Бежал в Константинополь. Голодал»; осенью 1920 г. добрался до Парижа; «Здесь впервые узрел свет, покинул авантюры и стал работать. Для денег грешил в газетах; для души в течение 1921 года написал две книги <...> Продолжал играть в карты и на скачках. В перерывах изучал ночной Париж, читал Паскаля, пьянствовал и ездил на Океан. За полтора года объелся русским Парижем до рвоты, потянуло ближе к России»; в начале 1922 г. приехал в Берлин, запродал «Русскому творчеству» (берлинскому издательству, выпускавшему русские книги. — М. Ч.) еще две книги «и вернулся в Париж. Снова карты и звериная скорбь дневных пробуждений», в марте — снова в Берлин, продал еще две книги; «Живу тихо, встаю поздно, гуляю по Kurfürstendamm и заметно левею!». «Был на медицинском и историко-филологическом, — вспоминал Ветлугин. Окончил юридический. Собирался «оставаться» по „истории философии права"... Но, как говорил кроткий Сергей Ауслендер: „...Когда окончится эта завиг'ушка, я напишу г'оман"...». С каким чувством читал Булгаков о перипетиях неосуществившегося варианта своей, в сущности, судьбы? Жалел ли? Мечтал ли жить тихо (невыполнимое желание обитателя квартиры № 50), как его бывший коллега по медицинскому факультету, и «леветь», гуляя по Курфюрстендам, а не по Большой Садовой? «Завиг'ушка», во всяком случае, кончилась, и он сам собирался писать роман. А с Сергеем Ауслендером вот-вот должен был встретиться в Москве.
В это лето в Москве читали и обсуждали книгу А. Соболя «Обломки» и особенно повесть «Салон-вагон» (откликнувшуюся спустя много лет в одной из последних повестей В. Катаева) ; не прошел, по-видимому, мимо внимания Булгакова рассказ О. Савича «Иностранец из 17 №». Вообще же для того, чтобы представить круг его чтения в тот год — имевшего, как мы убедились, даже и специальные цели, — стоит обратиться к тогдашним критическим обзорам, фиксировавшим то, что было литературной злобой дня.
«В 1920 и 21 гг. в Москве шумели имажинисты. Глав-
216
ными у них были С. Есенин, А. Мариенгоф, А. Кусиков и В. Шершеневич. В 1922 г. от них ничего не осталось, — констатировал И. Н. Розанов в своем «Обзоре художественной литературы за два года», датированном ноябрем 1922 г. — Кусиков и Есенин уехали за границу. Шершеневич отдался театру. Мариенгоф просто замолчал. «Имажинисты сами себе надоели», — комментировали иные. Зато усилились их противники футуристы: в Москву прибыл Крученых и центрифугист Асеев. Первый немедленно стал выпускать книжку за книжкой на заумном языке, как будто с 1914 г. ничего не изменилось. Асеев книжкой «Стальной соловей» почти добился общего признания. Значительно меньше внимания обратила на себя книжка С. Третьякова «Ясныш». Но героем сезона оказался третий центрифугист Пастернак Б., выпустивший третью книгу своих стихов «Сестра моя жизнь». Интересная подробность: литературной Москве книга стала известной еще в рукописном виде летом 1921 г. и быстро распространилась в списках. Выход книги из печати летом уже 1922 г. вряд ли что прибавил для создавшейся репутации. То же следует сказать и о книжке Василия Казина «Рабочий Май» <...> Только в 22 г. вышел сборник его стихотворений, уже давно известных всем его поклонникам, следившим за ним по журналам. Другие пролетарские поэты за последнее время как-то потускнели». Самыми заметными явлениями прозы этих двух лет обозреватель называл 3 том «Истории моего современника» Короленко, роман А. Белого «Котик Летаев» и повесть И. Шмелева «Неупиваемая чаша»; отмечены им рассказы Б. Зайцева, Б. Садовского (который в это время живет не в Москве, а в Н. Новгороде), П. Муратова, названы также В. Лидин и Андрей Соболь — как взявшиеся «за изображение революции, но как сторонние наблюдатели, без революционного духа». Особо выделен Пильняк — как тот, кто «в текущем году» был «в, моде» — наряду с Серапионовыми братьями; «его считают лучшим бытописателем революции», — свидетельствует И. Розанов. «Заметное имя создал себе за два последние года Александр Яковлев», «Из других беллетристов обратили на себя внимание» С. Григорьев, М. Козырев, С. Семенов, Вяч. Шишков, Мих. Волков, А. Неверов, Н. Ляшко, Б. Пастернак, Л. Леонов (в скобках сделано пояснение — «еще ненапечатанная повесть «Битва при Калке»), А. Бибик, С. Бобров и др. «О расцвете художественной прозы говорить еще рано: все это еще только первые ласточки. Уровень техники в стихах все еще выше», — заключает обозреватель. Синхронный срез двух-
217
летней литературной жизни по состоянию на осень 1922 г. сделан довольно точно: московская беллетристика предстает такою, какою виделась она наблюдателю в тот самый момент. Вместе с немногими не упомянутыми И. Розановым авторами из перечисленных нами ранее альманахов 1921— 1922 годов это — почти вся московская литературная среда лета 1922 г., те люди, которые собираются в разных кружках для чтения своих произведений, которые встречаются друг с другом в редакциях альманахов, в книжных лавках. Сами литераторы оценивали свою текущую жизнь, ее атмосферу довольно низко. Характерным кажется для самоощущения среднего литератора второе письмо Е. Галати Б. Садовскому — от 25 июля 1922 г.: «...мне жалко, что не увижу вас в Москве, но я вполне понимаю ваше решение не покидать Нижнего. Здесь вы бы не вынесли духоты и сутолоки ничтожеств. Литературная Москва похожа на стоячий мутный и зловонный пруд, в котором не то что крупных щук и карасей нету, а даже и молодых окуней не видно.
На воде танцуют ловкие комары, толкутся глупые жуки и головастики, и не на что надеяться бедному рыболову. Быть может, меня склоняет к преувеличению мой пессимизм. Но теперь, увы! Он свойственен всем плававшим когда-то в чистых проточных водах. <...> Кроме Слезкина, не встречаю никого. Читать „новых" не могу без содрогания и недоумения. Все эти новые лица сворачиваются в один какой-то дикий образ, и я отворачиваюсь от него».
Вскоре Булгаков оказался в одном, во многом случайно, видимо, сложившемся литературном кружке с автором этого письма и с В. Мозалевским, оставившем некоторые штрихи жизни кружка в своих воспоминаниях: «В 1922—23 гт. в Москве под гостеприимной „Зеленой (абажур!) лампой" журналистки Лидии Васильевны Кирьяковой (умерла в 1943 г.) собрались как-то по ее приглашению несколько писателей на литературный „чай".
Читал свой рассказ Юрий Львович Слезкин „Столовая гора" (впоследствии был напечатан). Слушали Ю. Слезкина тогда, в тот вечер, Булгаков Михаил Афанасьевич, Ауслендер С. А., Стонов Д. М., книговед Е. И. Шамурин, я, еще кто-то, забыл, ну, разумеется, и „хозяйка салона" Лидия Васильевна. После чтения за „чаем" (весьма „расширенным")'было обсуждение рассказа и разглаголы на литературно-театральные темы момента — Мейерхольд, Таиров, „Заговор императрицы" (пьеса А. Н. Толстого и П. Е. Щеголева. — М. Ч.), Театр Революции — «Озеро Люль» (пьеса А. М. Файко. — М. Ч.). Тут высказывались и на-
218
дежды, что какие-то новые писатели создадут какие-то новые шедевры, тут скептически звучали фразы, что „нет пока ничего оригинального, примечательного", тут благоговейно глядели „назад", глядели на Пушкина, Толстого Л. Н.: М. А. Булгаков ждал появления новой „Война и мир" <...> Как-то все собеседники под З<еленой> л<ампой> порешили собраться через недели две снова. Так загорелась „Зеленая лампа"...»
Поскольку Слезкин пишет свой роман «Столовая гора» (опубликован под названием «Девушка с гор», М., 1925) в мае — сентябре 1922 г., первое заседание «Зеленой лампы» — если оно действительно было посвящено роману Слезкина, — состоялось примерно в сентябре — октябре 1922 г. В кружок входил также (вернее, посещал его) языковед Б. В. Горнунг, рассказывавший нам в 1975 г., что само название — «Зеленая лампа» — идет от кружка, образованного в Царском Селе поэтом Г. Масловым в предреволюционные годы и возрожденного им в первые годы революции в Омске. «Приехали из Омска — Лидия Васильевна Кирьякова (душа салона), С. Ауслендер, Венедиктов, Шамурин, Асеев, Третьяков... в Москве — на Малой Дмитровке, на квартире Кирьяковой... Туда входили Мозалевский, Е. Галати, Булгаков. Помню, что в конце 1922 г. — м. б., в ноябре — собирались несколько раз». Свидетельства двух мемуаристов, таким образом, не противоречат друг другу — кружок образовался, видимо, осенью 1922 г. «Никакой, разумеется, литературной платформы у „Лампы" и в начале не было, — продолжает В. Мозалевский. — Читали свои произведения, обсуждали их. Слезкин читал „Столовую гору", „Шахматный ход", читал М. А. Булгаков свои рассказы и повесть о Турбиных, из которой впоследствии была создана пьеса „Дни Турбиных", читал свои рассказы Д. М. Стонов, Н. Я. Шестаков, эссе о Царском Селе (XVIII— XIX век), читал А. И. Венедиктов, читала стихи Е. А. Галати (дальше мемуарист называет ее «остроумной, веселой, молодой» душой «Зеленой лампы». — М. Ч.). Какой-то бесконечно длинный фантастический рассказ о сумасшедшем управдоме Шлепкине несколько вечеров читал писатель Гусятинский <...>.
Бывал на наших „радениях" профессор-востоковед Борис Петрович Денике, принимавший огненное участие • в спорах и диспутах под „Зеленой лампой". <...> Собрания „Зеленой лампы" затягивались «далеко за полночь». Домой мы — я, Шестаков, Ауслендер, Б. П. Денике, Слезкин, и еще кто-то, конечно, шли пешком. У памятника Пушкину
219
делали „привал", и споры, загоревшиеся и потухшие там, в салоне „Зеленой лампы", разгорались порою снова, но тут уж народ вел себя повольнее, услышанное на вечере критиковали не злобно, конечно, но с позиции эпиграммы, иронии, насмешки, шаржа... Иногда после прочтения кем-нибудь рассказа кружковцы не сразу начинали обсуждать прочитанное, а крепко и долго молчали. И Б. П. Денике тогда утешал: „Ну, ладно, об этом поговорим у памятника Пушкину". <...> Любили русских писателей — Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, Достоевского. Большинство неизменно читало и почитало Блока (зачитывалось поэмой «Возмездие»).
Сдержанно относилось к романам, писавшимся, как решали мы, „по заказу". Тогдашняя литературная общественность и читатели считали произведения Пильняка Б. А. новым, значительным,откровением. О нем шли в «З(еленой) л(ампе)» споры, но к Пильняку все же относились сдержанно.
Помню наши аплодисменты Н. Я. Шестакову, прочитавшему свои стихи о Симбирске (Ульяновске), о Карамзине, о летящих над городом «симбирских гусях»...
Любили слушать рассказы Булгакова (чтец он был превосходный) и особенно его роман (или повесть) о Турбиных.
В 1924 г. в „Зеленую лампу" кто-то, кажется Б. П. Денике, принес роман Пруста Марселя. <...> Не всех посетителей „Зеленой лампы" Пруст пленил. Но многие зачитывались романом, восхищались новой формой писания, когда «утраченное время» то, как феникс, возрождалось, то пролетало в астральные пространства».
Какие-то черты кружковой атмосферы все же можно угадать по беглым, фрагментарным мемуарам участника «Зеленой лампы». Эти черты — преимущественная ориентация на русскую классику и на прямо связанные с ней явления современной литературы («Возмездие» Блока), равнодушие к западной литературе, недоверие к отечественному модерну (Пильняк) и определенная противопоставленность в этом отношении своих вкусов — «тогдашней литературной общественности».
Слова о том, что здесь «благоговейно глядели «назад» (на Л. Н. Толстого) и что «Булгаков ждал появления новой «Война и мир» — немаловажны и подкрепляются другими свидетельствами. Э. Миндлин вспоминает выступление Булгакова в одном из кружков: «Даже самого скромного русского литератора обязывает уже то одно, что
220
в России было «явление Льва Толстого русским читателям...» С места кто-то крикнул: «Явление Христа народу!...»
«Булгаков ответил, что для него явление Толстого в русской литературе значит то же, что для верующего христианина евангельский рассказ о явлении Христа народу.
— После Толстого нельзя жить и работать в литературе так, словно не было никакого Толстого».
Через семь-восемь лет в едва ли не самой отчетливой своей автохарактеристике Булгаков прямо скажет о толстовской традиции, утверждая, что сделал своей задачей, «в частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях «Войны и мира». Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией».
Главным лицом в кружке, несомненно, был Ю. Слезкин, с чтения романа которого началась «Зеленая лампа». Вся литературная компания Булгакова первых московских лет («догудковская») признавала старшинство Слезкина, почти каждый был ему обязан в пору литературного дебюта: он был известным беллетристом еще в десятые годы. Виктор Мозалевский вспоминал: «В 1915 г. я познакомился со Слезкиным в литературном обществе „Медный всадник". Внешне он был то, что называется „писаный красавец", стройный брюнет, одетый по-уайльдовски нарядно. Был он весел, остроумен, приветлив, держался, правда, под „признанного писателя", но доброжелателен к молодым. Я был в Петербурге проездом на несколько дней, но он — по своей инициативе „водил" меня во всякие литературные места, устроил у себя дома „мой" вечер, т. е. чтение моего рассказа». Слезкину, несомненно, нравилось играть роль мэтра, покровителя молодых талантов, и его ближайшая среда охотно поддерживала этот стиль отношений. В 1926 году Д. Стонов пишет ему в прочувственном тоне: «Дорогой мой друг! Твое письмо меня и обрадовало и опечалило. Обрадовало — потому что, несмотря на всякую ерунду, несмотря на ненужные, мимолетные настроения, ты все же считаешь меня своим старым добрым другом. Ничего нет выше в жизни как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное из юношеского еще возраста. Ты — первый «живой» писатель, которого я увидел, узнал, ты первый знакомился с беспомощными моими строчками. Так и запомню на всю жизнь Полтаву, начало 21-го года и тебя, тебя, Юрий».
Слезкин, вспоминая первые московские годы, также
221
упоминает «Зеленую лампу»: «Тогда у нас собирался литературный кружок „Зеленая лампа", организатором его были Ауслендер и я. Ауслендер только что вернулся из Сибири. Ввел туда я и Булгакова».
«Булгаков упоминал „Зеленую лампу", это я помню, — говорила Татьяна Николаевна, отвечая на наш вопрос, — помню, что как-то сговаривались туда ехать читать, ехали далеко — вряд ли на Большую Дмитровку, это близко было от нас, а ехали мы на извозчике. Там он читал первые главы „Белой гвардии"... Стонов был, Слезкин, Слезкин его обнимал, целовал после этого, а потом Михаил узнал, что за спиной он его ругал. Михаил сам мне об этом сказал». Но это чтение произойдет еще не скоро. В 1922 году замысел романа еще скорей всего не сложился окончательно. В «Зеленой лампе» Булгаков пока еще слушает других.
Большинство литераторов, входивших в кружок, сближало общее желание — забыть свое недавнее прошлое или, вернее сказать, желание, чтоб о нем не вспомнили другие. Двое из них попали в Омск в феврале 1919 г. — при Колчаке: Сергей Ауслендер (1886—1943) приехал туда из Москвы (перед этим, в 1918 г., сделав попытку закрепиться в Москве в газете «Жизнь», которую, как писал тогда же он Слезкину, «хочется сделать оплотом петербуржцев против ополчившихся на нас москвичей»), а Н. Я. Шестаков (1890— 1974) — из Симбирска (он был уроженцем этого города). В 1927 г. сибирский писатель В. Зазубрин писал в своем очерке «Сибирская литература 1917—1926 гг.»: «В колчаковщину в Омске появилась группа поэтов «с направлением». Группа воспевала белое движение. Во главе ее стояли поэты: Ю. Сопов, Г. Маслов, Шестаков и др.», а Ауслендеру и спустя полвека (и четверть века после его смерти) исследователи литературы Сибири с несколько запоздалым гневом припоминали, что он «был неизменным „украшением" в придворной свите адмирала на всех торжественных приемах и званых обедах» и много печатался при Колчаке.
Близкая судьба была, видимо, и у А. И. Венедиктова (1896—1970) —он был в Иркутске, участвовал там в литературном кружке, известном под названием «Барка поэтов», но, видимо, побывал и на Дальнем Востоке: поэма «Мэри из Владивостока» (с эпиграфом из Г. Маслова, отступавшего с белой армией из Омска и погибшего в Красноярске от тифа в марте 1920 г.) имеет даты: «Владивосток. Осень 1918 г. Иркутск. Весна 1921 г.» Эту поэму Венедиктов напечатал в 1923 г. в альманахе «Литературная мысль» (№ 2) и ее же, по-видимому, читал до этого в «Зеленой
222
лампе». Когда он попал в Москву; один из сотоварищей по кружку упоминал его в 1922 г. в стихах:
В Москве, наверно, Венедиктов
Помощником секретаря
Запутался среди эдиктов,
Изданных волей Октября.
Профессор Ю. Г. Оксман вспоминал в одном из своих писем (2 июня 1963 года), что в июле 1921 года — совсем незадолго до гибели — «Гумилев принял у себя в Доме искусств поэта А. И. Венедиктова, бывшего колчаковского офицера, перед тем освобожденного из тюрьмы, активного участника литературной жизни Омска 1919 г. А. И. Венедиктов передал Гумилеву как редактору отдела «Поэзия» альманаха «Литерат. Мысль» свою поэму «Мэри из Владивостока». (В начале 20-х годов мы все ее очень ценили!). Поэма очень понравилась Гумилеву, и он рекомендовал ее для печати. Рукопись поэмы, с рекомендательной отметкой Гумилева, была взята у Гумилева при аресте и вместе со всеми другими возвращена родным после его расстрела».
Участникам «Зеленой лампы» было что вспомнить и о чем поговорить — с оглядкой, но, видимо, с достаточной мерой откровенности...
В феврале 1922 года «Новая русская книга» напечатала следующие биографические сведения об Ауслендере «... в 1918—19 гг. жил в Омске. Был одним из руководителей газеты «Сибирская речь», участвовал в литературных вечерах и собеседованиях. Написал брошюру «Адмирал Колчак» и роман «Видения жизни»; часть романа печаталась в фельетонах «Сибирской речи». Перед самой сдачей Омска советским войскам он выехал на лошадях — дальнейшая судьба его неизвестна». Вряд ли Ауслендер, появившийся в Москве, испытал удовольствие, узнав об этой публикации.
Словом, каждому из собравшихся под «Зеленой лампой» было что скрывать в своей биографии недавних лет.
С переездами в эти годы следы человека на какое-то время терялись, и даже осенью 1922 г., когда Ауслендер уже сидел, обсуждая литературные вопросы, в «Зеленой лампе», альманах «Камены», вышедший в Чите, сообщал о его гибели «во время эвакуации в Сибири, зимой 1919/20». Картина этой эвакуации запечатлена была, между прочим, в гротескно-трагическом, окрашенном своего рода черным юмором рассказе Н. Шестакова «Эвакуация», напечатанном в первом его сборнике в 1926 г., но скорее всего написанном раньше и, возможно, читанном под «Зеленой лампой». На
223
одной из страниц воспоминаний Мозалевский пишет о «веселых рассказах», которые читал Шестаков. Кроме «Эвакуации» это был скорей всего вошедший в тот же сборник «Прочнее меди» весьма своеобразный цикл юмористических рассказов и полупародийных в „прутковском" духе» стихов, объединенных лицом вымышленного автора — некоего Поликарпа Ивановича Заглушкина. В предисловии «реальный» автор пояснял, что его герой «родился 20 января 1876 г. в г. Курмыш», что во время революции «под влиянием опиума религиозных предрассудков, с одной стороны, и результатов темных родителей, с другой, Заглушкин даже поднял оружие против революционного пролетариата и бежал с чешскими бандами в Сибирь. Но там, увидев воочию всю подлость озверелых золотопогонников, чуткий писатель скоро понял, что ему с ними не по пути. ...В ноябре 1919 года Заглушкина, по приказу военных властей, эвакуировали из Омска в г. Ново-Николаевск. Но дни колчаковщины были уже сочтены. Под влиянием событий, а также в силу собственных убеждений поэт постепенно переходит на платформу советской власти и даже записывается в партию». Так в биографии вымышленного персонажа проигрывались и «изживались» факты собственной биографии автора, резко менявшейся: в дальнейшем и до конца жизни Н. Шестаков выступал только как автор пьес для детей — как правило, с социально-политической подоплекой.
Итак, у каждого почти из участников «Зеленой лампы» были за спиной по меньшей мере два пласта литературной работы. Во-первых, — «дореволюционный» пласт, такой, как сборник «Фантастических рассказов» В. Мозалевского, где действовали французские маркизы, купидоны, поражающие неожиданно сердца сестры и брата — Эолины и Макарея и т. п., или «Сердце воина» — сборник рассказов С. Ауслендера 1916 г. с самоубийствами чести, с разнообразными салонными ситуациями (вспомним горестные строки Булгакова 1921 г. о неудаче с одной из его владикавказских пьес — «Салонная! Салонная!»), или романы Слезкина, продолжающие старую традицию светской повести. Во-вторых, пласт того, что писалось и печаталось на протяжении 1919—1920 годов — на юге России, в Сибири или где-либо еще, в кратковременной периодике этих лет. Первый пласт приходилось переворачивать, поднимая на поверхность новый жизненный материал — преимущественно накопленный в эти самые годы революции и войны. Этого дореволюционного пласта у Булгакова не было — не
224
считая рукописей, оставшихся в письменном столе в Киеве и частично созданных, возможно, еще в 1916—1917 годах. Что касается второго пласта, который у Булгакова составили остающиеся до сих пор в основном неизвестными статьи и рассказы, печатавшиеся в кавказских газетах поздней осенью 1919 и зимой 1919—20 годов, — то на нем просто следовало положить крест. Как говорит герой повести Слезкина «Фантасмагория» (1923) — «Мой совет — забудьте как можно скорее прошлое, если хотите устроить настоящее и обеспечить будущее... Прошлого не существует».
Как видели мы по рассказам Шестакова, эти люди, имеющие за плечами прошлое, отягощающее их первые литературные шаги в новой ситуации, избирали и такой путь разрыва с этим прошлым, как ироническое изображение биографий, сходных с собственными (Заглушкин у Шестакова). У Булгакова, в отличие от Шестакова, авторское отношение к «Необыкновенным приключениям доктора» (рассказ напечатан летом 1922 г. в № 2 «Рупора» — 20 августа «Лит. приложение» к «Накануне» сообщало: «В Москве вышли 1 и 2 номера нового иллюстрированного еженедельника «Рупор»...») не ироническое и отстраняющее, а откровенно сочувственное. Примечательнейшая черта: тщательно скрывая в первые московские годы свое недавнее прошлое, опуская или «переодевая» эти годы в автобиографиях («Путешествуя в 1919—1920 гг. по Северному Кавказу...» — пишет он в одной из них), Булгаков щедро открывает их в своих художественных текстах — только об этом прошлом и пишет, воссоздавая его снова и снова! Внутреннее литературное устремление оказывается сильнее любых поведенческих благоразумных соображений.
Итак, собравшиеся под «Зеленой лампой» в одном из московских домов, действительно, по известному выражению, смеясь, расставались со своим прошлым. Но литературное будущее они рисовали себе по-разному. Это обусловило, среди прочего, скорое — уже через несколько лет — расхождение Булгакова с его литературным кругом этого времени.
«Столовая гора» Слезкина прочитана была, видимо, в ноябре 1922 г., а 1 декабря 1922 г. в журнале «Эхо» уже появилась рецензия Ю. Соболева на еще не напечатанный, но известный в рукописи роман.
Мы использовали материал романа для реконструкции некоторых черт жизнеповедения Булгакова во Владикавказе в 1920 году; теперь роман важен нам в других аспек-
225
тах: во-первых, он помогает понять, какими глазами смотрит такой человек, как Слезкин, на Булгакова уже в Москве 1922 г., во-вторых, чтение романа — факт биографии самого Булгакова осени 1922 г., поскольку в этом романе он «узнал себя» («Театральный роман»).
Еще 5 ноября 1922 года в «Литературном приложении» (№ 25) к «Накануне» появился отрывок из романа, озаглавленный «Разрешается хождение» и целиком посвященный главному герою — Алексею Васильевичу Турбину. Некоторые детали, не вошедшие в отечественное издание романа, связывали героя с прототипом, видимо, впрямую, почти без обиняков, вплоть до аксессуаров его владикавказского быта, — «Алексей Васильевич у себя в комнате. Под наволочкой горит лампа, на столе лежит рукопись — конспект лекций о русском театре допетровского периода», «Бояться за свой докторский диплом, точно это позорное пятно, — дойти до такой степени падения. Только бы не кровь, не бойня. Подумать только — три года. Три года сплошной чехарды. Мобилизуют одни, мобилизуют другие, калечат друг друга и заставляют штопать. Что за люди, что за люди!», «Он идет к портрету Карла Маркса, достает из-за него рукопись романа, кладет ее на стол и разглаживает пальцем помятые листки...» (с. 4).
Несомненно, еще во Владикавказе Юрий Слезкин пристально наблюдал за своим новым приятелем; его занимала личность Булгакова и сложная жизненная ситуация, в которой он оказался и к которой приноравливался, видимо, несколько иными средствами, чем сам Слезкин. Эта разница в Москве должна была обостриться. Отношение Слезкина к предложенным правилам игры было таково, что у него не мог не вызвать раздражения человек, не объявлявший своих подлинных мыслей по существенным проблемам, однако не говоривший и не писавший того, чего не думал; несомненно, не спешивший с «перестройкой», к которой, громогласно рефлектируя, переходили так или иначе все остальные вокруг него. Именно эта разница бередила душу автора «Столовой горы», этим раздражением вдохновлено большинство страниц, относящихся к Алексею Васильевичу, — данный герой и его ситуация занимают автора больше романической линии сюжета.
Слезкин полагал, что в романе «схвачена» булгаковская «манера говорить». Наблюдения за этой манерой, начатые во Владикавказе, несомненно, продолжались во время работы над романом — в Москве.
Голос Булгакова никогда не был записан (по крайней
226
мере, эти записи не обнаружены); известна стенограмма только одного его выступления, которая, пожалуй, еще в меньшей степени, чем реплики, воспроизводимые мемуаристами, дает материал для реконструкции его речевой манеры. В романе Слезкина в повторяющихся оборотах речи — «извольте», «если не ошибаюсь», «так-так», «я полагаю» — уловлены не столько, может быть, точные черты этой манеры, сколько ее тенденция. В тексте романа, несомненно, скрыты, как ранее говорилось, теперь уже не опознаваемые с уверенностью цитаты из собственных высказываний Булгакова, фрагменты каких-то устных его рассказов, значащих житейских историй, назидательно им толкуемых, как, например, история одного дезертира: «Вот человек, не лишенный здравого смысла. Он увидел, что делать ему нечего, бросил ружье и пошел домой. Просто, скромно и умно уступив дорогу. Сделайте одолжение, будьте любезны... Но, пожалуй, он был слишком уверен в своей правоте. Больше, чем требовала осторожность. Да, да — чуть больше, и его вернули обратно. Вот в этом-то и штука».
Осенью 1922 года Булгаков пишет статью о творчестве Слезкина (не упоминая нового его романа). Подзаголовок — «Юрий Слезкин (силуэт)» — связывает ее с замыслом биографического словаря (опубликована она была в декабре в № 12 журнала «Сполохи»). Статья, построенная с исключительной обдуманностью, ясно отразила сдержанность отношения Булгакова к прозе Слезкина и стремление его проанализировать ее наиболее корректно, выделив по возможности имеющиеся достоинства, — так, чтобы не нанести урона личным взаимоотношениям. Таким образом, этот «литературно-критический этюд» (в подзаголовке статьи) — не только единственный известный нам пример булгаковского литературно-аналитического исследования (на одной из страниц его Булгаков сам пишет о задаче «исследователя, разбирающего Ю. Слезкина»), но и своеобразное зеркало некой биографической ситуации.
Счастливая судьба Слезкина-беллетриста в первые годы его печатания, начавшегося на десять лет раньше литературного дебюта Булгакова (правда, Слезкин был старше его на шесть лет), картина его скорого успеха ясно нарисовалась перед автором статьи, внимательно изучившим отзывы критики, и, можно думать, не раз давала Булгакову пищу для сравнения с собственной судьбой, послужив впоследствии, быть может, даже толчком к тому подсчету «ругательных» отзывов, который приведен был потом в письме
227
правительству (1930). «Казнь египетская всех русских писателей — бесчисленные критики и рецензенты — отзывались об Ю. Слезкине не раз и на страницах журналов, и на сереньких, теперь безнадежно пожелтевших газетных полосках, — писал Булгаков в статье. — Слезкину у них посчастливилось. Маленькие заметки и отзывы объемом покрупнее имеют какой-то общий тон и вкус. И если отбросить все смутное, неясное и курьезно-противоречивое, чем так богата наша газетная и журнальная критика, можно сказать, глянули на Ю. Слезкина, почти без исключений, светло и благосклонно. Сразу заинтересовались, многим сразу понравился. Начиная с „Картонного Короля" — первой книги новелл, в критике мелькнуло слово «талант», а в „Аполлоне" М. Кузмин написал о «несомненном даровании». Другие это слово подхватили. На бледно-зеленый писательский росток брызнули живой водой. Из ростка побежал побег и потянулся ввысь. В 1911 году в „Русской мысли" напечатали „Помещика Галдина". От небольших новелл, от вычурной „Майи" и „Госпожи" Слезкин шагнул к довольно крупному полотну. По этому полотну удобно изучать Ю. Слезкина, так как в нем он уже выявил себя, открыл ряд черт, по которым можно судить писателя». Булгаков, которому уже перевалило за тридцать, методично описывает историю баловня судьбы — фигуры, столь от него отличной, и переходит к собственно творчеству Слезкина. Сам Слезкин еще летом опубликовал в пространной биографической справке такое сообщение: «Готово к изданию собрание сочинений в 10-ти томах» («Новая русская книга», 1922, № 6).
С явным удовольствием цитирует Булгаков сцену, в которой ротмистр Галдин везет в своем экипаже мертвого под видом живого:
«Лошади тронулись. Мертвое тело качнулось, упав на плечо Георгию Петровичу. Он отстранил его от себя и поправил на голове его шляпу. — Ничего, ничего — скоро приедем, — сказал ротмистр, печально глядя в осунувшееся лицо своего окоченевшего уже соседа». После небольшого пересказа Булгаков приводит еще одну цитату: «Мертвец опять скатился в его сторону, прильнул к Галдину и, свесив голову вниз, молчаливо сторожил сон живого.
Гроза постепенно стихла. Из-за туч всплывал тихий месяц». — Занятно, — думает читатель, представляя себе спящее в свете месяца лицо красавца Галдина и прильнувшую к нему мертвую голову с потухшими глазами». И в выбранных автором статьи цитатах, и в том удвоении картины, от которой он не удерживается, хорошо видно, что
228
выделены мотивы собственно булгаковские — вспоминается будущий Най-Турс, который «в гробу значительно повеселел», и особенно — потрясающая картина в первой редакции «Мастера и Маргариты», когда сбежавший из психиатрической лечебницы Иванушка, отбив катафалк с гробом Берлиоза, нахлестывает лошадей: « [На пово]роте колесницу [наклонило, покойник] вылез из гроба. [Иванушка, забыв, что он] управляет колесн[ицей, смотрел, уставясь] безумными глаза [ми, как Берлиоз, с мерт]выми очами, в чер[ном костюме, подобно маль]чишке, залихватс[ки подпрыгивает в] гробу, наслаждаясь [производимым эффектом] » (квадратными скобками отмечены предположительно восстановленные нами фрагменты текста на уничтоженной автором части листа).
Перечитывая статью Булгакова о Слезкине, можно заподозрить даже некоторое воздействие на эту сцену картины, произведшей впечатление на Булгакова при чтении Слезкина.
В поисках достоинств Слезкина Булгаков сопоставляет его с фоном литературы, на котором он появился, и здесь, быть может, самое существенное для нас в статье — суждения, за которыми угадывается собственная литературная программа Булгакова 1922 года. «Ю. Слезкин неизменно скуп и сжат, и на страницах его можно найти все, кроме воды. А это, конечно, не только не плохо, а уже определенно хорошо (пример осторожной обдуманности авторских комплиментов Слезкину, едва ли не рассчитанных на двоякое прочтение — М. Ч.). Слезкин скупо роняет описания, Слезкин не мажет нудных страниц. <...> Обильные происшествия не лезут друг на друга, увязая в болотной тине русского словоизвержения, а стройной чередой бегут, меняясь и искрясь. <...> Кто-то из критиков Ю. Слезкина сказал, что выдумка — неприятный гость, это неправда. В тот период времени, когда Слезкин выходил на арену, выдумка становилась, поистине, желанным гостем в беллетристике. Ведь положительно жутко делалось от необыкновенного умения русских литераторов наводить тоску. За что бы ни брались они, все в их руках превращалось в нудный серый частокол, за которым помещались спившиеся дьяконы и необычайно глупые и тоскливые мужики. Жизнь в их произведениях в лучшем случае походила на знаменитый сон:
Снег, а на снегу щепка.
В худших делалась настолько сумеречной, что уж даже и правдоподобие исчезало, и получалась тоже своего рода выдумка, но уже безусловно скверная.
229
Такой литературы было множество. Фантазер на сереньком фоне тяжко-думных российских страниц был положительно необходим». Фабула, выдумка как необходимые современной прозе черты — это подчеркнуто, это высказано, несомненно, и как собственная литературная задача, которая должна воплотиться в повестях последующих двух с лишним лет (можно предполагать, что в это время уже возник замысел «Дьяволиады», которая будет написана к лету 1923 года).
Следующий пункт литературной программы самого Булгакова, прочитываемой в статье, относится к языку. «Кажется, не было ни одного человека из критиков Ю. Слезкина, который не говорил бы, что у него отличный язык.
Как это ни печально (существенная оговорка! — М. Ч.), это, пожалуй, действительно так. Ю. Слезкин пишет хорошим языком, правильным, чистым, почти академическим, щеголевато отделывая каждую страницу.
...Как уст румяных без улыбки... Румяные уста беллетриста Ю. Слезкина никогда не улыбаются. Внешность его безукоризненна.
...Без грамматической ошибки... Нигде не растреплется медовая гладкая речь, нигде он не бросит без отделки ни одной фразочки, нигде не допустит изъяна в синтаксической конструкции. Стиль в руке, пишет словно кропотливый живописец, мажет кисточкой каждую черточку гладкого осиянного лика. Пишет до тех пор, пока все не закруглит и не пригладит. И выпустит лик таким, что ни к чему придраться нельзя. Необычайно гладко. Для того, кто хорошо знает Ю. Слезкина (единственное в статье указание на личное знакомство — по-видимому, дань зарубежному изданию. — М. Ч.), ясно, что никак иначе он писать не может. На одну треть он перестал бы быть Ю. Слезкиным, если бы из-под пера его полилось что-либо другое, лохматое и буйное, шумливое и растрепанное». Вся главка о языке производит наиболее двусмысленное впечатление, и можно представить себе, как вчитывался в эти строки сам объект и, едва успевая зацепиться за, казалось бы, безоговорочно положительный штрих, на следующей же фразе соскальзывал, теряя равновесие. «Стиль Ю. Слезкина гармонично вяжется с сутью и содержанием его произведений. Гладкий стиль порой безумно скучен (о эти румяные уста без улыбки!), но отвергать его нельзя». Почему? «Иначе придется отвергнуть и всего Слезкина...»
Этот выпад против гладкого стиля показывает, что Булгаков в это время уже вполне сознает особенности своей,
230
столь отличной от закругленности и приглаженности, речевой работы. Здесь, быть может, и отзвуки прямых споров о языке, которые велись в этой среде — Булгаков, Слезкин, Стонов, Ауслендер и другие, — споров, основанных на той разнице отношения к языку, которая несомненно выразилась позднее в кружковой оценке «Белой гвардии» на первых авторских чтениях и отразилась в «Театральном романе».
В конце статьи Булгаков задает вопрос: «Ну, а если вздумать разгадать его интимную черту, то скрытое и характерное, что определяет писателя вполне?..» — и ответ на этот вопрос открывает нам степень осознанности Булгаковым собственных характерных и определяющих черт: «Ю. Слезкин стоит в стороне. Он всегда в стороне. Он знает души своих героев, но никогда не вкладывает в них своей души. Она у него замкнута, она всегда в стороне. Он ничему не учит своих героев, никогда не проповедует и не указывает путей. <...> Откуда-то со стороны Слезкин смотрит на своих героев. Он пишет их легко и размашисто, и пан Яцковский выходит у него живым, но Ю. Слезкин не живет и не дышит своими Янковскими. <...> Ю. Слезкин обладает талантом видеть жизнь такой, как она есть, но не любит ее и, когда нужно писать ее, приукрасит по-своему». Естественно вспомнить здесь нравоучение Максудова из «Театрального романа»: «Героев своих надо любить...» Для Булгакова это — и рычаг самого писания, и непременная окраска уже сложившихся героев.
Конец статьи обращает к тому, о чем говорилось уже в связи со «Спиритическим сеансом», — к жизненной позиции Булгакова первых московских лет, не раз, прямым образом, выраженной им в фельетонах для «Накануне».
«Чему же может научить этот маркиз, опоздавший на целый век и очутившийся среди грубого аляповатого века и его усердных певцов? Ничему, конечно, радостному. У того, кто мечтает об изысканной жизни и творит, вспоминая кожаные томики, в душе всегда печаль об ушедшем.
Герои его — не бойцы и не создатели того «завтра», о котором так пекутся трезвые учители из толстых журналов. Поэтому они не жизнеспособны и всегда на них смертная тень или печать обреченности».
Сам Булгаков хотел бы чему-то «научить», и хотя он тоже не берется рисовать «создателей того „завтра", о котором пекутся...», но ему явно претят герои не жизнеспособные. Он не согласен считать себя обреченным и, оглядываясь назад, черпает там не сознание обреченности, а — необыч-
231
ным для окружающей литературы образом — опору ддя сегодняшней жизнеспособности. «В числе погибших быть не желаю» — эти слова из письма к матери от 17 ноября 1921 г. — не только его собственный девиз, но и камертон его литературной интенции этих лет. И хотя вскоре он берется изображать именно погибшего — героя «Дьяволиады», — этот герой изображен, в сущности, как его собственный антипод: «маленький человек», лишенный внутренней опоры. (Мы увидим, впрочем, как через полтора-два года в следующей повести погибнет и герой совсем другого типа — профессор Персиков).
Так или иначе Булгаков призывает смотреть в лицо «грубому, аляповатому веку», не предаваясь ни мечтам об «изысканной жизни», ни воспоминаниям о навсегда ушедшем. Нельзя творить, «вспоминая кожаные томики», — здесь бегло намечено то отношение к литературе прошлого, которое не прочитывается из этой статьи полностью и сможет быть реконструировано лишь постепенно.
Можно, пожалуй, утверждать, что роман Слезкина о Булгакове и статья Булгакова о Слезкине находились поздней осенью 1922 г. в центре литературно-бытовых взаимоотношений Булгакова с наиболее близкой к нему в этот момент средой.
...Будущий муж Татьяны Николаевны Булгаковой (Лаппа), Давид Александрович Кисельгоф, бывший помощник присяжного поверенного, а ныне, летом 1922 г., подавший заявление о приеме его в Коллегию защитников, позвал однажды в гости нескольких знакомых, а также и незнакомых ему московских писателей — по словам Татьяны Николаевны, без жен, — подчеркивая этим литературный характер вечера. «Дэви очень любил писателей, — рассказывает об этом Татьяна Николаевна. — У него была прекрасная комната, с красивыми креслами (два кресла из этого гарнитура до самой смерти Татьяны Николаевны стояли в ее квартире. — М. Ч.), он приглашал в гости писателей и как-то пригласил Стонова, Слезкина, Булгакова и своего друга адвоката Владимира Евгеньевича Коморского, с которым Булгаков там и познакомился». Самому Коморскому (также бывшему помощнику присяжного поверенного), сверстнику Булгакова (р. 1891 г.), помнилось, что познакомил их Борис Земский (учившийся вместе с ним в гимназии в Тифлисе). Так ли, иначе ли познакомившись, Булгаков стал охотно бывать у Коморского в доме № 12, кв. 12, по Малому Козихинскому переулку — совсем недалеко от его собственного жилья на Б. Садовой.
232
Эта адвокатская среда с сохраненным благосостоянием, с устойчивыми формами быта, в 1922-м году — нередкое прибежище замученного бытом квартиры № 50 и дневной погоней за заработком Булгакова — и это со вкусом запечатлено в некоторых из его фельетонов тех лет: «— Ну-с, господа, прошу вас, — любезно сказал хозяин и царственным жестом указал на стол.
Мы не заставили просить себя вторично, уселись и развернули стоящие дыбом крахмальные салфетки.
Сели нас четверо: хозяин — бывший присяжный поверенный, кузен его — бывший присяжный поверенный же...» («Четыре портрета»).
В. Коморский вспоминал спустя более чем полвека свой круг тех лет: «Леонид Александрович Меранвиль... тоже был коммунист, тоже эластично, как тогда говорилось, вышел из партии... Герман Михайлович Михельсон... В нашем кругу не говорили: „Если за тобой придут...", а говорили: „Когда за тобой придут..." Когда обсуждали — кого же все-таки берут? — то констатировали: коммунистов? берут; беспартийных? берут; бывших коммунистов? берут». Вот вокруг этого и крутились все разговоры. Мы продолжали работать по специальности. Я был убежденный противник смертной казни, поэтому предпочитал гражданские дела». Уж хотя бы этой черточкой застолье у Коморского было близко Булгакову — здесь не было риска услышать безапелляционно высказанную противоположную точку зрения.
Он охотно ухаживал за хозяйкой дома, и позже Коморский, уже познакомившись с Татьяной Николаевной, рассказывал ей комически: Булгаков назначает Зинаиде Васильевне свидание, Коморский надевает ей валенки и отправляет; они гуляют, Зинаиде Васильевне становится холодно, она зовет Булгакова: «Пойдемте к нам чай пить!» Они поднимаются по лестнице, навстречу Коморский, и Булгаков поясняет: «Вы знаете, мы с Зинаидой Васильевной случайно встретились...» Этот полутайный, полуявный флирт был для Булгакова, видимо, частью притягательной атмосферы дома. По словам Т. Н., какое-то время он не знакомил ее с Коморскими; назначая свидания Зинаиде Васильевне, предупреждал жену: «Имей в виду, если ты встретишь меня на улице с дамой, я сделаю вид, что тебя не узнаю!»
«Приходил к нам обычно один, — рассказывает Коморский, — приносил две бутылки сухого вина... Ему жарили котлеты; Булгакову нравилось, как у нас готовят...» Этот кружок обитателей Козихинского, Трехпрудного и других
233
близких переулков узнавал и Зинаиду Васильевну, и саму квартиру Коморских в фельетоне под названием «О хорошей жизни» (из цикла «Москва 20-х годов») : «Не угодно ли, например? — вопрошал автор, говоря о своих терзаниях при виде „неравномерного распределения благ квартирных". — Ведь Зина чудно устроилась. Каким-то образом в гуще Москвы не квартирка, а бонбоньерка в три комнаты. Ванна, телефончик, муж. Манюшка готовит котлеты на газовой плите, и у Манюшки еще отдельная комнатка. (В. Коморский упоминает двух своих домработниц — Маня Сундукова и Маня Коробкова. — М. Ч.). С ножем к горлу приставал я к Зине, требуя объяснений, каким образом могли уцелеть эти комнаты?
Ведь это же сверхъестественно!!
Четыре комнаты — три человека. И никого посторонних.
И Зина рассказала, что однажды на грузовике приехал какой-то и привез бумажку „вытряхайтесь".
А она взяла и... не вытряхнулась.
Ах, Зина, Зина! Не будь ты уже замужем, я бы женился на тебе. Женился бы, как бог свят, и женился бы за телефончик и за винты газовой плиты, и никакими силами меня не выдрали бы из квартиры. Зина, ты — орел, а не женщина!»
Это был столь характерный для Булгакова литературный перифраз житейских ситуаций.
В. Коморский свидетельствует, что в его доме бывали писатели А. Яковлев, Соколов-Микитов, Борис Пильняк. «Вместе или отдельно бывали Андрей Соболь и Юрий Соболев. У кого-то из них был к тому же, помнится, ординарец Собольков... В один из вечеров Соболь читал что-то свое. Бывал Абрам Эфрос, часто бывали Лидин, Юрий Слезкин...» Отметим, что и сам хозяин не был чужд литературе; он был человеком с кругозором, с претензией на собственную оценку явлений литературной современности и даже организовал вместе с несколькими сотоварищами — Романом Марковичем Ольховским (специалистом по коневодству — автором брошюры «История лошади», издателем специального журнала) и Д. А. Кисельгофом — в 1921 г. журнал «Жизнь искусств», который начал выходить 22 ноября 1921 г. под редакцией Р. М. Ольховского как еженедельник издательства «Арион». В 1921 г. вышло 4 номера, в 1922 г. журнал прекратился на номере 1 (5). Из объявления во 2-м номере журнала явствовало, что журнал (содержащий «статьи по вопросам искусства, рецензии, хронику») издается при участии нескольких десятков литераторов (среди
234
них — П. П. Муратов, А. М. Файко, Г. И. Чулков), философов (Н. А. Бердяев, Ф. Степун, в № 4 в список добавлен Г. Шпет) и т. п. В журнале печатались статьи А. Дживелегова, рецензии Б. Вышеславцева, статьи Д. А. Кисельгофа о Достоевском и Блоке, а сам Коморский, по его собственному свидетельству, вел театральную хронику. С 4-го номера местом приема авторов указана его квартира в Козихинском.
Хозяин этого открытого писателям дома любил литературу, любил споры, разгоравшиеся за его столом, был, если можно судить об этом по личным впечатлениям, полученным более полувека спустя, в меру ироничен, доброжелателен и терпим, но и его порой смущала современная манера выражения его гостей. «Слезкин сказал один раз: — Я могу выпить хоть с чертом! — вспоминает Татьяна Николаевна. — Коморский был очень обескуражен...» За столом у него, по ее же воспоминаниям, много спорили, было шумно. «Обсуждали однажды рассказы Лидина, и Стонов кричал: „Запаха, запаха нет!" А про Пильняка, кажется, он все повторял: „Запах, есть запах!" Приходил он всегда вместе со Слезкиным; „старик" — это он так называл Булгакова...»
Вся эта атмосфера и «вечеров на Козихе» (так напишет Булгаков Коморскому на своем первом сборнике — «в память вечеров на Козихе»), и «Зеленой лампы» — кружков, где на первых ролях были Стонов и Слезкин, — отзовется спустя пятнадцать лет в сценах «Театрального романа», где в шумном застолье идет обсуждение романа Максудова: «— Язык! — вскрикивал литератор (тот, который оказался сволочью), — язык, главное! Язык никуда не годится... Метафора не собака, прошу это заметить! Без нее голо! Голо! Голо! Запомните, это, старик!
Слово «старик» явно относилось ко мне. Я похолодел». (Как пишет Булгаков в другом месте — «С детства я терпеть не мог фамильярность, и с детства был вынужден страдать от нее».)
Кончался 1922 год, первый «полный» год московской жизни Булгакова. Декабрь был для него отмечен маленькими, но все же существенными литературными событиями. В газете «Накануне» и «Литературном приложении» к ней подряд были напечатаны несколько его вещей: 10 декабря — «В ночь на 3-е число (из романа «Алый мах»), 21 декабря — «Столица в блокноте» (главы 1 и 2), 31-го — рассказ «Чаша жизни». 29 декабря заведующая редакцией газеты Е. Кричевская писала ему: «У меня был П. Садыкер и говорил, что он виделся с Вами и с Катаевым и сговорился с Вами о
235
постоянной работе, обеспечивающей Вам регулярный заработок. Я могла только приветствовать такое решение.
Что Вы пишете. Как Вы устроили свои «Записки». Я говорила о них Садыкеру и советовала взять их для издания в Берлине, если Вы их еще не устроили. Жду от Вас письма».
В декабре же в «Красном журнале для всех» (1922, № 2) был напечатан рассказ «№ 13 — Дом Эльпит-Рабкоммуна», а журнал «Россия» в 4-й, декабрьской, книжке впервые объявил Булгакова среди своих авторов.
Таким образом, «издательскими» итогами года были установленные Булгаковым прочные, то есть обещающие хоть небольшой, но регулярный заработок, связи с газетой «Накануне», а также завязавшиеся отношения с весьма импонирующим ему журналом «Россия».
Никаких документов, проливающих свет на историю знакомства Булгакова с редактором журнала Исаем Лежневым и печатания в «России» второй части «Записок на манжетах», обнаружить пока не удалось. Остается обратиться к литературному отражению этого факта — в рукописи «Тайному Другу», созданной через семь лет, осенью 1929 г.:
«Видите ли: в Москве в доисторические времена (годы 1921 —1925) проживал один замечательный человек. Был он усеян веснушками, как небо звездами (и лицо и руки), и отличался большим умом. Профессия у него была такая: он редактор был чистой крови и Божьей милостью и ухитрился издавать (в годы 1922—1925!!) частный толстый журнал! Чудовищнее всего то, что у него не было ни копейки денег. Но у него была железная неописуемая воля, и, сидя на окраине города Москвы в симпатичной и грязной квартире, он издавал.
Как увидите дальше, издание это привело как его, так и ряд лиц, коих неумолимая судьба столкнула с этим журналом, к удивительным последствиям.
Раз человек не имеет денег, а между тем болезненная фантазия его пожирает, он должен куда-то бежать. Мой редактор и побежал к одному.
И с ним говорил.
И вышло так, что тот взял на себя издательство. Откуда-то появилась бумага, и книжки, вначале тонкие, а потом и толстые, стали выходить. <...>
И настали, тем временем, морозы. Обледенела вся Москва, и в драповом пальто как-то раз вечером я пришел в «Сочельник» и увидел там Рудольфа. Рудольф сидел в дьяконской шубе и с мокрыми ресницами. Разговорились.
236
— А вы ничего не сочиняете? — спросил Рудольф.
Я рассказал ему про свое сочинение. Было известно всем, что Рудольф очень любит печатать только людей, у которых уже есть имя, журнал свой (тогда он был еще тонким) он вел умно.
Снисходительно улыбнувшись, Рудольф сказал мне:
— А покажите-ка.
Я тотчас вынул рукопись из кармана (я даже спал с нею). Рудольф, прочитав тут же в шубе все четыре листа, сказал:
— А знаете ли что? Я напечатаю отрывок.
Я всячески постарался не выдавать Рудольфу своей радости, но, конечно, выдал ее. Напечатать у Рудольфа что-нибудь мне было очень приятно, мне, человеку зимой в драповом пальто. <...> Помнится, он что-то мне заплатил за отрывок, и очень скоро я увидел его напечатанным. Это доставило мне громадное удовольствие. Не меньшее — и то обстоятельство, что я был помещен на обложке в списке сотрудников журнала» (в 4-й, декабрьской, книжке журнала) .
...Накануне нового 1923 г. зашел Валентин Катаев, звал встречать вместе Новый год. Как вспоминает Т. Н., Булгаков сказал, что приглашен к Коморским. Катаев обратился к Т. Н.: «Если он приглашен — пойдемте в нашу компанию!» «...Это Михаилу тоже не понравилось: — Вот еще какие глупости, ты еще туда пойдешь!» Но тут Зинаида Васильевна Коморская передала специально, чтобы приходил на Новый год непременно с женой... Татьяна Николаевна попала на Козихинский тогда в первый раз. «Я пошла в своем единственном черном платье — крепдешин с панбархатом: перешила из прежнего еще летнего пальто и юбки. (Это ее единственное в те годы платье запомнится мемуаристам, которые будут спустя полвека писать, что ходила она «в темных скучных платьях». — М. Ч.). Был Дэви Кисельгоф с женой. Дэви и Володя стали за мной ухаживать, это Михаилу не понравилось. Мы много смеялись, Дэви схватил меня за щиколотку. И, когда шли домой, Михаил выговаривал мне: „Ты не умеешь себя вести..." Только он мог вести себя как угодно, а я должна была вести себя тихо...» Мелочи, незначащие подробности. И без того тонкие, в волос толщиной, да еще почти совсем стертые полувеком, отделяющим наши беседы с Татьяной Николаевной от тех лет, черточки.
Тут дело еще и в том значении, которое сам он придавал вещественности быта — что еще больше убеждает в нуж-
237
ности малых подробностей для построения его биографии. Слова Булгакова в письме к матери о своем навязчивом стремлении «в три года восстановить норму — квартиру, одежду и книги» — заставляют нас со вниманием отнестись к каждому из названных им слагаемых этой нормы.
Небезразлично биографу, например, как он был одет в первый московский год и как изменялся его костюм впоследствии, — небезразлично уже хотя бы потому, что, воспроизводя свой разговор с Рудольфом, недаром же сообщает автор читателю на коротком пространстве эпизода, что сам он — «в драповом пальто», Рудольф — «в Дьяконовой шубе», и, наконец, подчеркивает, что приятно было напечататься у Рудольфа ему, «человеку зимой в драповом пальто»!
Возможно, в самое первое время на нем была темно-зеленая офицерская шинель, в которой ходил военврач Булгаков во Владикавказе, — сначала с погонами, потом без погон. В «Записках на манжетах» в описании первого московского месяца мелькает такая деталь: «Я глубже надвигаю летнюю фуражку (и эта летняя фуражка глубокой осенью крайне значима для Булгакова — приведем в доказательство этого фрагмент подчеркнуто негативного описания обстановки в редакции в уже цитированной рукописи 1929 г.: «На вешалке висят мокрые пальто сотрудников. Осень, но один из сотрудников пришел в капитанской кепке с белым верхом, и она мокнет и гниет на гвозде». — М. Ч.), поднимаю воротник шинели». Вторую шинель, серого солдатского сукна, он отдал жене — она перешила ее себе и ходила в этом пальто в Москве. Правда, в тех же «Записках на манжетах» в описании последних батумских дней отмечено: «Через час я продал шинель на базаре». Во всяком случае, во всех описаниях первой московской зимы фигурирует холодное, не подходящее для зимы пальто, перешитое ли из шинели или сменившее ее (что могло быть сделано и во избежание лишних вопросов). 17 ноября 1921 г. он пишет матери: «Оба мы носимся по Москве в своих пальтишках. Я поэтому хожу как-то боком (продувает почему-то левую сторону)».
Осень и зима 1921-го, по-видимому, с достаточным приближением к биографической реальности описаны в очерке «Сорок сороков», где Москва показывается герою «сперва — в слезливом осеннем тумане, в последующие дни — в жгучем морозе. Белые дни и драповое пальто. О, чертова дерюга! Я не могу описать, насколько я мерз. Мерз и бегал. Бегал и мерз». И там же — «...в драповой дерюге».
238
H. Л. Гладыревский, уже тяжело больной, рассказывал нам 19 декабря 1969 года: «Миша очень мерз, и я ему отдал полушубок романовский. — Меня в нем в редакции не впускают — так он мне говорил вместо благодарности... А мне он отдал взамен пальто, в котором он приехал, черное, — как у немецких военнопленных. Этот полушубок мне достался в 15-м году: мы с одним товарищем — тогда мы были в лазарете, в Красном Кресте, — пошли в Офицерское экономическое общество и купили себе полушубки... Мне товарищ прислал потом в Москву, а я его Мише отдал, а он мне пальто, ветром подбитое. Когда я, знаете, зимой носил это пальто, у меня было впечатление, что я иду просто без пальто».
А вот описание совсем другой одежды, оставленное очевидцем жизни Булгакова тех же первых московских лет — в «Гудке»: «Сидит Булгаков в соседней комнате, но свой тулупчик он почему-то каждое утро приносит на нашу вешалку. Тулупчик единственный в своем роде: он без застежек и без пояса. Сунул руки в рукава и можешь считать себя одетым.
Сам Михаил Афанасьевич аттестует тулупчик так:
— Русский охабень. Мода конца семнадцатого столетия. В летописи в первый раз упоминается под 1377 годом. Сейчас у Мейерхольда в таких охабнях думные бояре со второго этажа падают» (И. Овчинников).
Татьяна Николаевна не помнила романовского полушубка, зато прекрасно помнила охабень — «Была шуба в виде ротонды, какие носили старики духовного звания. На енотовом меху, и воротник выворачивался наружу мехом, как у попов. Верх был синий, в рубчик. Она была длинная и без застежек — действительно, запахивалась и все. Это, наверно, была отцовская шуба. Может быть, мать прислала ему из Киева с кем-нибудь, а может быть, он сам привез в 1923 году...»
Эту шубу вспоминают многие, описывая ее каждый на свой лад. В. Катаев утверждает в своих газетных воспоминаниях о Булгакове, что тот однажды пришел в редакцию «Накануне» в этой шубе, одетой прямо на пижаму, — и тут же упоминает, что сам Булгаков этот эпизод возмущенно отрицал; отрицала саму возможность этого эпизода и Татьяна Николаевна. Это — черты легенды о провинциале, не вписывающемся в столичную жизнь.
На фотографии, помещенной в «Рупоре», Булгаков — в блузе с отложным воротником — толстовке.
«Одет он был, конечно, прескверно, шапчонка эта военная прескверная, без кокарды, конечно, и вот этот поха-
239
бень (так называла Татьяна Николаевна). Еще во Владикавказе ему сшили толстовку из сурового льняного полотна — с карманами накладными, с поясом. Дома у него была пижама — Костя подарил ему заграничную — ему родители часто присылали посылки из Японии (подарок этот был сделан, видимо, вскоре по приезде, поскольку не позже, чем в начале ноября 1921 Костя, двоюродный брат Булгакова, уехал в Киев, а затем за границу. — М. Ч.). Пижама была коричневая, в среднюю клетку, кажется, синюю с красным — как бывают шотландские юбки. И он всегда ходил дома в этой пижаме, и потом один знакомый — Леонид Саянский — даже изобразил его на карикатуре в этой пижаме...». Этой пижаме было придано впоследствии мемуаристами даже особое значение. «У синеглазого был настоящий письменный стол, как полагается у всякого порядочного русского писателя, заваленный рукописями, газетами, газетными вырезками и книгами, из которых торчали бумажные закладки.
Синеглазый немножко играл роль известного русского писателя, даже, может быть, классика, и дома ходил в полосатой байковой пижаме, стянутой сзади резинкой, что не скрывало его стройной фигуры, и, конечно, в растоптанных шлепанцах.
На стене перед столом были наклеены разные курьезы из иллюстрированных журналов, ругательные рецензии, а также заголовок газеты «Накануне» с переставленными буквами, так что получалось не «Накануне», а «Нуненака» (В. Катаев, «Алмазный мой венец»).
Что за обстановка была в комнате в момент вселения Булгаковых и в последующие год-полтора?
«В комнате этой была уже мебель — два шкафчика, письменный стол ореховый, диван, большое зеркало... Была даже кое-какая посуда — супник белый. А ели мы сначала на белом кухонном шкафчике. Потом однажды я шла по Москве и слышу: «Тасенька, здравствуй!» Это была жена саратовского казначея. Она позвала меня к себе: «Пойдем — у меня же твоя родительская мебель». Оказывается, она вывезла из Саратова мебель, в том числе стол родителей. Стол был ореховый, овальный, на гнутых ножках (он стоял в ее квартире до смерти Т. Н., но обезображенный в последующей ее жизни соседом, отпилившим в приступе ярости у стола две ножки... — М. Ч.). Мы пошли с Михаилом, ему стол очень понравился, и мы его взяли и взяли еще наше собрание сочинений Данилевского в хороших переплетах... Стол был бабушки со стороны отца, а ей достался от кого-то
240
из предков... Потом мы купили длинную книжную полку — боковинами ее были два сфинкса — и повесили ее над письменным столом».
30 декабря 1922 года Булгаков пришел на заседание «Никитинских субботников» — прочесть свои «Записки на манжетах». Слушать его собрались не более двух с половиной десятков человек — круг обычных посетителей кружка: В. Вересаев, В. Дынник, В. Звягинцева, К. Липскеров; из беллетристов, уже имеющих известность, были Андрей Соболь, М. Я. Козырев, А. Я. Яковлев; пришел и маститый Василий Евграфович Чешихин-Ветринский, автор известных очерков о русских писателях и критиках — 40-летне его литературной деятельности отмечали на предыдущем субботнике, 23 декабря, на котором Булгакова и объявили в программе следующего заседания. Здесь же был и постоянный участник «Никитинских субботников» Иван Никанорович Розанов. Пустили по гостям лист росписей, и Булгаков расписался в нем крупно, крупней всех остальных. «Михаил Афанасьевич в своем предварительном слове указывает, — записали в протоколе, — что в этих записках, состоящих из 3-х частей, изображена голодная жизнь поэта где-то на юге. Писатель приехал в Москву с определенным намерением составить себе литературную карьеру. Главы из 3-й части Михаил Афанасьевич и читает». Из этой краткой записи становится ясно, что чтение «Записок» началось с конца. Продолжено оно было только в следующем году. Неизвестно, было ли предусмотрено это продолжение заранее или об этом попросили слушатели; во всяком случае, никакого обсуждения «Записок» в этот раз не было — дальше Илья Сельвинский стал читать поэму «Рысь», и ее слушатели обсуждали. В дневнике одного из участников заседания в краткой записи о субботнике имя Булгакова названо с ошибкой «30 дек. Субботник Никит. Из повести Булгакова Мих. Як. «Зап. на манжетах», «Рысь» — поэма Сельвинского...». Хотя ошибка понятна — подвернулось под руку имя давно знакомого всем секретаря «субботников» Михаила Яковлевича Козырева, но все же она характерна: Булгакова в Москве не знают.
2
...Итак, пошел январь 1923 года. Стояла вторая московская зима Булгакова. К северному климату он привыкал с трудом — недаром в очерке «Москва 20-х годов» так вспомнит впоследствии свои первые здешние впечатления: «Был
241
совершенно невероятный, какого никогда даже не бывает, мороз».
Какою виделась тогдашняя Москва киевлянину, хотя и несколько лет как покинувшему Киев? Не такою, во всяком случае, как коренному москвичу. Чтобы представить ранние булгаковские впечатления от города, глянем на тогдашнюю столицу глазами одной киевлянки. Она въезжала в Москву 1 декабря 1922 года — с того же вокзала, что и Булгаков год назад. «Еду на извозчике с вокзала, — рассказывала она нам спустя шестьдесят с лишним лет, в декабре 1986 года, — по какой-то узкой улочке, между сугробов. Невысокие дома тонут в снегу. Я спрашиваю извозчика: „А скоро Москва?" Он оборачивается и говорит с возмущением: „Какую тебе еще Москву нужно? Мы по Арбату едем!" А я думала — это деревня!»
После четырехэтажных, пятиэтажных импозантных зданий на просторных киевских улицах вид занесенных снегом московских улочек и переулков с невысокими особнячками был не городским, не столичным. Город, заваленный снегом, плохая одежда, морозы, воспоминания о том городе, где «зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег...»
...В одном из московских переулков Булгакова в эти первые дни нового года вспоминали. На очередном «Никитинском субботнике», празднуя рождественский сочельник, составили шуточный список отсутствующих, среди которых фигурировали «Лидин — иностранец», «Булгаков, человек без манжет». Лидин, незадолго до того, 2 декабря, делал на субботнике сообщение — «Заграничные впечатления». Он то и дело ездил в Европу — устраивал свои издательские дела. «...В настоящее время печатает в берлинском издательстве «Огоньки» два тома повестей... — объявляла с его слов в сентябре 1922 года «Новая русская книга», сообщив о прибытии Лидина в Берлин, — в издательстве «Геликон» выходит его книга... последняя повесть переводится на английский язык для одного нью-йоркского издательства». Литературная жизнь Булгакова складывалась много труднее.
7 января по улицам Москвы шли шествия, отмечавшие новшество — «комсомольское рождество». Несли плакаты; на одном из них была изображена женщина с веселым младенцем и карикатурный священник. Крупные белые буквы подписи гласили: «До 1922 года Мария рожала Иисуса, а в 1923 г. родила комсомольца». Шли ряженые; комсомольцы в длинных колпаках несли пятиконечные звезды на шестах, изображая волхвов, узнавших о рождении
242
Христа, В таких шокирующих формах и масштабах видеть антирелигиозные действия Булгакову еще не приходилось.
14 января, в первый день нового года по старому стилю, на очередной Никитинский субботник собралось около сорока человек. Пришли литературовед Н. К. Гудзий, фольклорист Юрий Соколов, пришли беллетристы — Андрей Соболь, В. Лидин, Овадий Савич, постоянный участник Никитинских субботников, почему-то отсутствовавший на предыдущем булгаковском чтении, хотя из Берлина он вернулся еще в конце ноября. Были К. Липскеров (поэт и переводчик, недавно выпустивший стихотворную «московскую повесть» под названием «Другой»; у него на квартире, как вспомнит впоследствии драматург А. М. Файко, на углу Цветного бульвара и Самотечной, Булгаков будет через несколько лет читать свою первую пьесу московским драматургам) и И. Сельвинский, слушавшие и первое чтение. П. Антокольский пришел, возможно, слушать Андрея Глобу, чтением трехактной драмы которого «Свадьба Хьюга» и начался субботник. (Через много лет, в 1936 году, его литературный путь вновь пересечется с булгаковским — на «пушкинской» теме. Антокольский же вскоре примет участие в судьбе первых пьес Булгакова.)
В протокол литературного заседания-чаепития (на Никитинских субботниках всегда сидели за столом с чаем и бутербродами, что было немаловажно для тогдашних любителей современной литературы...) записали вторым номером: «Михаил Булгаков. „Записки на манжетах". Часть I и II». (В печатной хронике заседаний — в сборнике «Свиток» № 2, вышедшем в 1924 году, будет напечатано: «М.Булгаков— „Записки на манжетах" (окончание)»; если бы не протокол заседания, осталось бы неизвестным, что порядок чтения был обратным — от Москвы к Владикавказу...) И сразу вслед — запись: «Обсуждений по прочитанному не последовало, ввиду
II отделения: 1 ) Елка, 2) Экспромты, в которых примут участие...» — далее несколько фамилий и «ряд анонимов». Оказался ли среди анонимов тот, кто расписался в листе присутствовавших первым — «Михаил Булгаков», и не пером, как другие, а своим излюбленным цветным — на этот раз красным — карандашом?
На общем листе вид его подписи — как и на первом чтении, — пожалуй, несколько демонстративен. Он заявлял о себе в литературной Москве, еще мало его знавшей.
243
На субботнике, впрочем, присутствовали и киевляне, не так давно переехавшие в Москву, — не только Гудзий, но и Валентина Александровна Дынник, тогда известная как переводчица стихов; она кончила в 1920 году Киевский университет. В дневнике И. Н. Розанова — короткая запись об этом вечере: «Пьеса Глобы. — „Записки" Булгакова. — Конст. Мих. Стаховский. Подарки и шутки. Стихи на поездку Гудзия в Киев (chercher la femme: Гудзий ухаживает за Ладо Руставели) и насчет Юрия Матвеевича Соколова и Дынник...»
14 января сотрудник газеты «Труд» Август Ефимович Явич предлагает Булгакову (в письме) «бытовой фельетон 3 раза в неделю» для страницы «Производство, быт и труд». В этом же месяце в № 5 «России» напечатана вторая часть «Записок на манжетах».
Малообнадеживающие события московской жизни, начавшиеся прошлым летом, между тем получали завершение. «Задруга» окончательно ликвидируется», — записывает в дневнике 9 января 1923 года H. M. Мендельсон. — Магазин называется уже «Среди книг». Есть попытка создать на развалинах „Задруги" изд-во „Зарницы", но из этого, по моему глубокому убеждению, ничего не выйдет». Эта же тема — и в дневнике Розанова: 16 января он отметит в дневнике заседания: «Голоса минувшего», а 25 января запишет, что магазин „Задруги" «окончательно закрыли» и речь идет о его «возможной конфискации». 30 января в его же дневнике: «Последнее заседание правления „Задруги", 3 февраля: «Чай в „Задруге". 5 февраля: «Вместо магазина „Задруга" и „Среди книг" открылся „Колос", но без вывески». 10 февраля в дневнике H. M. Мендельсона: «Задруги» и ее магазина больше нет. Все ликвидировано: продано „Колосу". Последний обязался докончить начатые издания...»
Взгляд московского бытописателя упорно следит, однако, за приметами обнадеживающими. «Вчера утром на Тверской я видел мальчика, — комически-торжественно начинал он в эти январские дни очередную главку печатавшегося в «Накануне» из номера в номер фельетона «Столица в блокноте» — ...Со встречного трамвая № 6 свешивались пассажиры и указывали на мальчика пальцами. <...> Лишь протерев глаза, я понял, в чем дело.
У мальчика на животе не было лотка с сахариновым ирисом, и мальчик не выл диким голосом:
— Посольские! Ява!! Мурсал!!! Газета — тачкапрокатываетвсех!..
244
Мальчик не вырывал из рук у другого мальчика скомканных лимонов и не лягал его ногами. У мальчика не было во рту папирос. Мальчик не ругался скверными словами. <...> Нет, граждане, этот единственный, впервые встретившийся мне мальчик шел, степенно покачиваясь и не спеша, в прекрасной, уютной шапке с наушниками, и на лице у него были написаны все добродетели, какие только могут быть у мальчика 11—12 лет». Все больше нагнетается торжественность тона. «Нет, не мальчик это был. Это был чистой воды херувим в теплых перчатках и валенках. И на спине у херувима был р-а-н-е-ц, из которого торчал уголок измызганного задачника.
Мальчик шел в школу 1 -й ступени у-ч-и-т-ь-с-я. Довольно. Точка».
Слова эти, завершавшие фельетон, приобретали особый вес под пером того человека, который три с лишним года назад, в первом своем фельетоне, среди дымящихся руин отечества, писал с острейшей горечью о том, как в ближайшие годы там, в Европе, «будут строить, исследовать, печатать, учиться... А мы... мы будем драться...» Теперь у него брезжила, кажется, надежда, что ему удастся увидеть возрождение страны. «Из хаоса постепенно рождается порядок», — стремился уверить он своего зарубежного читателя и, пожалуй, себя самого. Начиная этими словами главку 8 — «Во что обходится курение», напечатанную 1 марта 1923 года и прославляющую штрафы за окурки, брошенные на пол в вагоне поезда, за курение в театре, с восторгом повествует он о том, как за плечом проштрафившегося «из воздуха соткался милиционер». И наконец, поднимается до высот комического, но отнюдь не насмешливого, не иронического одушевления: «ангел-хранитель, у которого вместо крыльев за плечами помещалась небольшая изящная винтовка».
В сентябре 1922 года автор фельетона «Похождения Чичикова» в бессильном гневе мечтает о том, как покончить с гоголевскими героями — Петрушкой, Селифаном, плюшкинским Прошкой и Неуважай-Корыто, — получившими в новой России новые должности, к исправлению которых они ни в коей степени не были готовы.
В начале 1923 года он надеется на лучшее.
«И были грозные, кровавые дожди. Произошли великие потрясения, пошла раскачка всей земли. Те, что сохранили красные околыши, успев ускользнуть из-под самого обуха на чердаки-мансарды заграниц, сидели съежась и глядя в небо, по которому гуляли отсветы кровавых зарниц, потрясенные шептали:
245
— Ишь, как запалили, черти сиволапые. — И трусливо думали:
— Не перекинулось бы и сюда». Напомним — в этом первом, видимо, из московских фельетонов Булгакова («Муза мести», октябрь 1921 г.) очевидно стремление автора выйти на поверхность литературной жизни. Пробуя примериться, приладиться к еще недостаточно известным ему столичным печатным условиям, он использует густую ретушь. При всем том само наличие этих заграничных «мансард» с «трусливыми» их обитателями небезразлично для понимания его дальнейшей работы.
Фельетоны в «Накануне» были, во-первых, не художеством в его чистом виде, а скорее публицистикой, а во-вторых, были прямо адресованы зарубежному русскому читателю. Вслушаемся в слова, которыми начинает он одну из главок «Столица в блокноте»: «Фридрихштрасской уверенности, что Россия прикончилась, я не разделяю, и даже больше того: по мере того, как я наблюдаю московский калейдоскоп, во мне рождается предчувствие, что «все образуется», и мы еще можем пожить довольно славно». При видимой простоте этих высказываний за ними стоит весьма непростая социально-психологическая подоплека. Здесь уместно будет вновь обратиться к свидетельству Степуна, придирчиво анализировавшего самый момент зарождения нового, двоящегося и троящегося интеллигентского самосознания, несколько лет спустя уже трансформировавшегося в нечто иное. «В самый разгар деникинского продвижения, когда по обывательской Москве ходили слухи, что уже заняты Рязань и Кашира, мы сидели как-то с женой в гостях у старорежимного офицера. В прекрасной реквизированной квартире было тепло и уютно. На столе красовался громадный пирог, коньяк и ликеры». Среди гостей было несколько красных военспецов. Это была моя первая и единственная встреча с перелицевавшимся русским офицерством. Впечатление от нее у меня осталось, несмотря на густую именинную идиллию, крайне жуткое.
Вывернутая наружу красная генеральская подкладка была у всех присутствующих явно подбита траурным крепом. Это „исчерне-красное" все друг в друге чувствовали, но несмотря на объединявшую всех старую дружбу, все же друг от друга скрывали <...> Разговор шел, конечно, о Деникине и его наступлении. Один из присутствующих развивал очень заумную теорию о возможности захвата Москвы Мамонтовым на том основании, что он одновременно казак и регулярный кавалерист. <...>» О наступлении его
246
говорилось так, «как будто бы речь шла о войне англичан с бурами. Слушали и возражали красные „спецы" внешне в том же объективно-стратегическом стиле, но по глазам и за глазами у всех бегали какие-то странные огненно-лихорадочные вопросы, в которых перекликалось и перемигивалось все: лютая ненависть к большевикам с острой завистью к успехам наступающих добровольцев; желание победы своей, оставшейся в России офицерской группы над офицерами Деникина с явным отвращением к мысли, что победа своей группы будет и победой совсем не своей красной армии; боязнь развязки, с твердой верою — ничего не будет, что ни говори, наступают свои.
Во всех разговорах вечера все время двусмысленно двоилось все: — все зорко смотрели в оба, все раскосым взором раскалывали себя и друг друга, лица клубились обличьями, обличья проплывали в „ничто".
Атмосфера была жуткая и призрачная, провоцирующая, провокаторская».
В 1923 году о наступлении своей группы речи уже нет, но мысль о победе своей, оставшейся в России группы, несомненно, присутствует в сознании Булгакова.
13 января 1923 года во втором номере «Литературного еженедельника» появилось сообщение о том, что «издательством „Новая Москва" готовятся к печати литературно-художественные сборники „Недра" под редакцией Н. С. Ангарского», что их «предположено выпускать каждые 2— 3 месяца» и что первый сборник выйдет из печати в январе будущего года». Опытный и энергичный редактор справился с организацией нового дела гораздо раньше, что имело, как увидим, прямое касательство к литературной судьбе Булгакова.
По убедительному предположению Л. Л. Фиалковой, Булгаков не прошел мимо вышедшей в 1922 году в Симбирске пьесы С. М. Чевкина «Иешуа Ганоцри. Беспристрастное открытие истины»; обратить его внимание на пьесу могла резкая рецензия Сергея Городецкого в «Красной ниве» (1923, № 12) : «Заметно увлекаясь личностью Христа, автор из его жизни делает историю врача-неврастеника, а не этап борьбы рабов против господ... Правда, в пьесе разоблачены евангельские чудеса, но это слишком скромный вклад по сравнению с современными заданиями революционной пропаганды... Автору необходимо переделать пьесу, сделав главным действующим лицом массу».
Добавим только, что той же весной 1923 года Булгаков мог натолкнуться на само название пьесы Чевкина в «Спис-
247
ке книг и журналов, полученных редакцией для отзыва» напечатанном журналом «Печать и революция», — его библиографические интересы того года, несомненно, заставляли его внимательно просматривать такие информационные страницы журналов; еще ранее того он мог заметить рецензию на пьесу в «Бюллетене книги» (изд. ГПП, 1922, № 7—8).
Но, действительно, формулировки рецензента «Красной нивы» почти что перелагаются — спустя много лет — в том романе, материал для формирования замысла которого щедро предлагает Булгакову литературная и общественная жизнь Москвы 1923 года: «Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново». Булгакова все больше должен был занимать тип такого литератора, которого одним эпитетом желчно очертит вскоре Замятин: «С моей (еретической) точки зрения несдающийся упрямый враг гораздо более достоин уважения, чем внезапный коммунист — вроде, скажем, Сергея Городецкого».
Границы между Россией и зарубежьем в тогдашнем литературном процессе были по-прежнему зыбки. 6 января 1923 г. появился новый петроградский журнал «Литературный еженедельник», в котором в одной из статей говорилось, среди прочего: «Характерно — даже зарубежное „сменовеховство" вылилось пока что в форму исключительно публицистики, оставив в литературе лишь слабый свет произведениями А. Ветлугина, И. Эренбурга и др., весьма сомнительной художественной ценности».
20 января в «Литературном приложении» к «Накануне» появляется сообщение о том, что 13 писателей «пишут коллективный роман. Написано 12 глав. Изображена борьба советских войск с гайдамаками, отступление белых и пр.». Писатели названы следующие — «Н. Ашукин, М. Булгаков, Ефим Зозуля, М. Козырев, В. Лидин, К. Левин, Борис Пильняк, Анд. Соболь, Ю. Соболев, Юрий Слезкин, Дм. Стонов, А. Яковлев и А. Эфрос». В январе в Калуге вышел двухнедельный «Корабль», где в «Хронике искусств» сообщалось: «Михаил Булгаков написал книгу «Записки на манжетах» (о революции, быте, писательской судьбе и проч.). Отрывки из этой книги печатались в «Литературном приложении» к «Накануне».
В том же номере журнала (ставшем и последним) заметка — «Коллективный роман: «Кружок тринадцати — так называется содружество московских писателей, которые
248
заняты сейчас работой над коллективным романом, долженствующим изобразить революционную эпоху»; перечислялись те же самые авторы; «В настоящее время написано тринадцать (I) глав, но роман еще далеко не закончен». И в том же номере заметка — «Ревизор»: «Группой беллетристов возбуждено ходатайство о разрешении сатирического журнала «Ревизор». Журнал согласно проекта не будет иметь ничего общего с желто-бульварными юмористическими изданиями. Редактировать журнал будет М. Булгаков».
Юрий Соболев посвятил предполагаемому роману большую заметку в журнале «Эхо» (в № 6, датированном 1-м февраля 1923 г.), где сообщил: «13 пишут усердно. Через жеребьевку прошли уже шестеро... Роман динамичен, интрига его занимательна, современность и революция в нем отражена ярко и глубоко. Уже наметились главные герои, уже успело действие романа из Украины перекинуться в Москву. Уже прошли картины гражданской войны на юге и встает перед нами Москва 1920 года...»
Не была ли глава из романа «Алый мах» в момент печатания в декабре 1922 года обозначена автором как фрагмент повествования, которое уже резко меняло свои контуры? И потому не отдавал ли он ее, действительно, в общую кассу коллективного замысла?..
Название — «Алый мах» — было, возможно, условным, данным для печати. Не исключим, пожалуй, и того, что оно было вариантом названия «коллективного романа», предложенным Булгаковым своим сотоварищам. Во всяком случае, в названии этом — не мах алых знамен (что, кажется, предполагают иногда пишущие о Булгакове: «алый мах» — победное, стремительно развивавшееся, блистательное наступление Красной армии на юг...»), а, видимо, — движение красной конницы («Мах скакуна, длина ' раскидки ног», как поясняет Даль; «шаг при беге, галопе» — указывает академический словарь). Короткое слово, передающее движение, станет прообразом будущего названия пьесы о том же времени — «Бег».
Вообще весь круг московских беллетристов определенного толка (то есть далеких, скажем, от пролеткультовской прозы) обращен был в тот год к Украине времени гражданской войны как едва ли не главной теме. У многих были общие личные впечатления (нередко скрываемые в автобиографиях), материал свой они разрабатывали сходным образом — и в этом смысле их сочинения действительно можно было уподобить «коллективному роману».
249
О том же месте и времени писал свою повесть «Фантасмагория» Ю. Слезкин, явно стремясь обогнать Булгакова, уже напечатавшего в декабре 1922 года главу о докторе Бакалейникове из своего романа о «гайдамаках» (как обозначалась эта тема на жаргоне тогдашних беллетристов).
В 1923 году Булгаков, нам кажется, заменил имя Бакалейникова на излюбленное именование своего героя (вспомним слова его в письме к К. Булгакову в феврале 1921 года о «драме об Алеше Турбине») в какой-то мере в пику Слезкину. Тот, как мы видели, осенью 1922 года уже использовал это «его» имя в романе «Столовая гора» — быть может, неожиданно для Булгакова и, во всяком случае, к его досаде, придав герою его собственные черты, увиденные под определенным углом зрения. Теперь Булгаков хотел, возможно, взять реванш, показав «настоящего» Алексея Васильевича Турбина.
То, что писалось и печаталось на эту тему, несомненно, должно было обострять в Булгакове и сами воспоминания о пережитом, и литературно-полемический запал.
В начатом им в 1923 году романе о гражданской войне на Украине фамилии героев были не вымышленные, а реальные, исконно киевские или военные. Помимо уже упоминавшегося В. Г. Тальберга, назовем Николая Германовича Тальберга (по-видимому, брата), происходившего из дворян Киевской губернии, кончившего когда-то Первую гимназию и Киевский университет, с 1886 г. до смерти (в 1910 г.) жившего в Киеве и печатавшегося в киевских газетах. Захарий Яковлевич Мышлаевский, окончивший еще в первой половине XIX в. Киевскую духовную семинарию, в 1859 году числился в «Списке чиновников и преподавателей Киевского военного округа» (Киев, 1859, с. 237). Старый киевлянин, историк края А. А. Петровский в нашем разговоре
9 октября
1980 года в Киеве, уверенно сказал: «Это фамилия военная. Был такой
помощник начальника штаба Кавказского
военного округа — в Тифлисе — Мышлаевский Александр Захарович; у него был сын... На весь список военных
чинов один человек с такой фамилией». Действительно — был, во всяком
случае, А. З. Мышлаевский, начальник Генерального
штаба в 1900-е годы, военный историк и теоретик. Наш собеседник
рассказывал далее: — «Когда у нас в Киеве
шли «Дни Турбиных», я говорил о пьесе с Павлом Платоновичем Потоцким и,
помню, спросил у него: «Как Вы думаете,
почему Булгаков дал герою такую фамилию — «Турбин»?
И он сказал:
250
— Очень понятно, почему. Был такой командир лейб-гвардии Волынского полка, генерал-майор Александр Федорович Турбин — он, я думаю, приезжал перед первой мировой войной в Киев и читал лекции в штабе Киевского военного округа. Вот Булгаков и взял его фамилию». (А. Ф. Турбин, 1858 года рождения, автор нескольких работ по военному делу, умер в послереволюционные годы.)
Так фамилия главного героя романа и пьесы, выбранная очень рано (вспомним строку из письма — «вместо драмы об Алеше Турбине, — которую я лелеял» — это пишется в начале 1921 года!), каждому говорила свое: круг близких и друзей Булгакова узнавал в ней фамилию кровно родственную ему, люди военные — фамилию военную, а В. Катаева и его круг фамилия раздражала как «выдуманная».
Отметим и еще одну «военную» фамилию, отозвавшуюся, возможно, в другом герое романа, тоже любимом его автором: в «Общем списке офицерским чинам» Российской Империи (Спб., 1908) значится поручик лейб-гвардии гусарского (!) полка Най-Пум...
В том же месяце пришли вести из Киева — старшая из сестер Булгаковых Вера сообщила телеграммой о своем приезде в родной город. 23 января Булгаков пишет ей письмо, выступая в роли старшего брата, после смерти матери — главы хоть и распавшейся, но все же сохраняющей в его глазах некое воображаемое единство семьи. «Дорогая Вера, спасибо вам всем за телеграфный привет. Я очень обрадовался, узнав, что ты в Киеве. К сожалению, из телеграммы не видно — совсем ли ты вернулась или временно? Моя мечта, чтобы наши все осели бы, наконец, на прочных гнездах в Москве и в Киеве. <...> Я так обрадовался, прочитавши слова «дружной семьей». Это всем нам — самое главное. Право, миг доброй воли, и вы зажили бы прекрасно. Я сужу по себе: после этих лет тяжелых испытаний я больше всего ценю покой! Мне так хотелось бы быть среди своих. Ничего не поделаешь. Здесь в Москве, в условиях неизмеримо более трудных, чем у вас, я все же думаю пустить жизнь — в нормальное русло.
В Киеве, стало быть, надежда на тебя, Варю и Лелю. С Лелей я много говорил по этому поводу. На ней, как и на всех, отразилось пережитое, и так же, как и я, она хочет в Киеве мира и лада.
Моя большая просьба к тебе: живите дружно в память мамы.
Я очень много работаю и смертельно устаю. Может быть, весной мне удастся ненадолго съездить в Киев».
251
В письме видится какое-то отражение формирующегося замысла новой редакции «Белой гвардии» — в этих призывах «живите дружно в память мамы», в мыслях о покое, мире и ладе как главной ценности. Предполагаемая поездка в Киев — тоже скорей всего звено начавшейся работы над романом.
«Как я существовал в течение времени с 1921 г. по 1923, я вам писать не стану. Во-первых, Вы не поверите, во-вторых, это к делу не относится.
Но к 1923 году я возможность жить уже добыл.
На одной из своих абсолютно уж фантастических должностей со мной подружился один симпатичный журналист по имени Абрам.
Абрам взял меня за рукав на улице и привел в редакцию одной большой газеты, в которой он работал. Я предложил, по его наущению, себя в качестве обработчика. Так назывались в этой редакции люди, которые малограмотный материал превращали в грамотный и годный к печатанию» («Тайному Другу», 1929). Самое раннее, кажется документальное свидетельство службы в «Гудке» — членский билет Всероссийского профессионального союза работников просвещения (секция работников печати, место работы — редакция «Гудка», обработчик), выданный Булгакову 19 февраля 1923 года. «Возможность жить» была, однако, еще достаточно ограниченная — на это указывает, в частности, сотрудничество Булгакова в качестве автора еще в одном изданий. С 23 апреля 1923 года в Москве выходил «Еженедельник Центрального дома работников просвещения и искусства»; с августа 1922 года он был преобразован в «Голос работников просвещения», задачей которого было «освещать на своих страницах принципиальные и практические вопросы профессиональной работы среди работников просвещения Московской губернии». В редакции журнала работал И. Лежнев; он и привлек, по-видимому, Булгакова к сотрудничеству. Не позже февраля 1923 года Булгаков пишет два очерка — «Каэнпе и Капе» и «В школе городка III Интернационала», которые печатаются в № 4 журнала, вышедшем 15 марта.
В очередной главке фельетона «Столица в блокноте», напечатанной в марте 1923 года, Булгаков упомянет два журнала, имевших отношение к его с трудом складывавшейся в последние месяцы литературной биографии. Среди «чудовищных» контрастов современной Москвы, представляемых им на обозрение зарубежному русскому читателю, Булгаков обратит его внимание и на такой: «Афиши с миро-
252
выми именами... а в будке на Красной площади торгует журналами, временно исполняя обязанности отлучившегося продавца, неграмотная баба! Клянусь — неграмотная!
Я сам лично подошел к будке. Спросил «Россию», она мне подала «Корабль» (похож шрифт!). Не то. Баба заметалась в будке. Подала другое. Не то.
— Да что вы, неграмотная?! (Это я иронически спросил.)
Но долой иронию, да здравствует отчаяние! Баба, действительно, неграмотная».
Селифаны и Петрушки, всплывающие на поверхность общественного процесса, все более и более повергают его в отчаяние, готовя замысел «чудовищной истории» о дворовом псе, принятом на работу в советское учреждение и получившем широкие социальные возможности.
В 7-й, мартовской книжке «России» в «Литературной хронике» Булгаков упомянут среди известных писателей, за работой которых следит журнал, и в этом иерархическом, не алфавитном ряду он был помещен на одиннадцатом месте — между Л. Никулиным и М. Шкапской. Сообщалось следующее: «Мих. Булгаков заканчивает роман «Белая гвардия», охватывающий эпоху борьбы с белыми на юге (1919—1920 гг.). Другая книга — «Записки на манжетах», изображающая в форме гротеска приключения литератора в революционные годы, частью была напечатана в журнале «Россия», частью будет печататься во 2-м номере альманаха «Возрождение».
«Дальше заело, — пишет автор рукописи «Тайному Другу». — Сколько ни бегал по Москве с целью продать кому-нибудь кусок из моего произведения, я ничего не достиг. Кусок не прельщал никого, равно как и произведение в целом. В одном, впрочем, месте мне сказал редактор, что считает написанное мною контрреволюционным и настойчиво советует мне более в таком роде не писать. Темные предчувствия тогда овладели мной, но быстро прошли. На выручку пришел «Сочельник». Приехавший из Берлина один из заправил этого органа, человек с желтым портфелем из кожи какого-то тропического гада, прочитав написанное мной, изъявил желание напечатать полностью мое произведение.
Отделение «Сочельника», пользуясь нищетой, слякотью осени, предложило по 8 долларов за лист (16 рублей). Помню, то стыдясь за них, то изнывая в бессильной злобе, я получил кучку разноцветных безудержно падающих советских знаков».
253
Человек с желтым портфелем — это Павел Абрамович Садыкер, сотрудник редакции «Накануне», приезжавший в Москву «на разведку», как пишет в своих воспоминаниях об этой газете Э. Миндлин (и прибавляет — «больше мы его никогда не видели»: в отличие от других «накануньевцев», он не решился вернуться в Россию). 21 февраля 1923 года он пишет Булгакову из Берлина на бланке издательства «Накануне»: «В настоящее время после выхода первых наших книг выяснилась возможность скорого издания новых книг. В бытность мою в Москве Вы предлагали мне издать Ваши «Записки на манжетах», но я не мог тогда ничего решить, так как не знал положения дел нашего издательства. Прошу Вас предоставить нам право издания. К сожалению, гонорар мы не можем предложить московский. Максимум, что мы можем платить, — это 7—8 долларов за печатный лист. Уплата денег при сдаче рукописи. Деньги Вам будут выплачены московской конторой. Если Ваше желание издать «Записки на манжетах» у нас еще не пропало, то не откажите срочно выслать нам рукопись через Семена Николаевича Калменса. Книжку мы издадим быстро и красиво».
В последние месяцы зимы, почти целиком забитой газетной работой, в очередном фельетоне «Биомеханическая глава» Булгаков резко выступает против театра Мейерхольда, — в тонах комических, гротескных, подчеркивающих в самом авторе фельетона черты старомодности, демонстративного консерватизма вкусов: «...Судите сами: в общипанном, ободранном, сквозняковом театре вместо сцены — дыра (занавеса, конечно, нет и следа). В глубине — голая кирпичная стена с двумя гротовыми окнами...» И далее, в толстовской традиции остраненного описания оперы глазами Наташи Ростовой в «Войне и мире», шло описание знаменитого спектакля «Великодушный рогоносец». Напомним, что в 1920—1921 годах Мейерхольд руководил театральным отделом Наркомпроса, проводя в жизнь выдвинутую им в конце 1920 года программу «Театрального Октября» — политической активизации театра, что было Булгакову антипатично.
15 апреля «Голос работника просвещения» печатает очерк «1-я детская коммуна», и в этот же воскресный день выходит «Накануне» с фельетоном «Сорок сороков» — одним из лучших фельетонов Булгакова этих лет. Очерк датирован мартом 1923 года. В последней его части — Москва этого месяца, увиденная глазами Булгакова, — в сущности, страница его автожизнеописания: улицы, по
254
которым он ходит; его наблюдения и впечатления, его сожаления и надежды.
«Москва теперь и ночью спит, не гася своих огненных глаз.
С утра вспыхивает гудками, звонками, разбрасывает по тротуарам волны пешеходов. Грузовики, ковыляя и погромыхивая цепями, ползут по разъезженному, рыхлому, бурому снегу. В ясные дни с Ходынки летят с басовым гудением аэропланы. На Лубянке вкруговую, как и прежде, идут трамваи, выскакивая с Мясницкой и с Большой Лубянки. Мимо первопечатника Федорова, под старой зубчатой стеной, они, один за другим, валят под уклон вниз к «Метрополю». Он живописует, тщательно фиксируя внешние, зримые изменения, стремясь создать для зарубежного читателя «эффект присутствия». «Мутные стекла в первом этаже «Метрополя» просветлели, словно с них бельмо сняли, и показали ряды цветных книжных обложек. Ночью драгоценным камнем над подъездом светится шар: Госкино II.
Напротив, через сквер, неожиданно воскрес Тестов и высунул в подъезде карточку: „Крестьянский суп"».
Булгаков «физически» ведет своего читателя по Москве, шаг за шагом описывая увиденное. «В Охотном ряду вывески так огромны, что подавляют магазинчики. Но Параскева-Пятница глядит печально и тускло. Говорят, что ее снесут. Это жаль. Сколько видел этот узкий проход между окнами и мясными тушами и ларьками букинистов и белым боком церкви, ставшей по самой середине улицы.
Часовню, что была на маленькой площади, там, где Тверская скрещивается с Охотным и Моховой, уже снесли.
Торговые ряды на Красной площади (нынешний ГУМ. — М. Ч.), являвшие несколько лет изумительный пример мерзости, запустения, полны магазинов, <...> эпидемически быстро растут трактиры и воскресают. На Цветном бульваре, в дыму, в грохоте рвутся с лязгом звуки «натуральной» польки:
Пойдем, пойдем, ангел милый, Польку танцевать с тобой, С-с-с-с-слышу, с-с-слышу с-с-с-с... ...Польки звуки неземной!!! (Через полтора года он напечатает в.«Гудке» фельетон «Звуки польки неземной», повторив в эпиграфе навязшие в ушах «звуки». — М. Ч.) Извозчики теперь оборачиваются с козел, вступают в беседу, жалуются на тугие времена, на то, что их много, а публика норовит сесть в трамвай.
255
Ветер мотает кинорекламы на полотнищах поперек улицы. Заборы исчезли под миллионами разноцветных афиш. Зовут на новые заграничные фильмы, возвещают «Суд над проституткой Заборовой, заразившей красноармейца сифилисом», десятки диспутов, лекций, концертов. Судят «Санина» (роман М. П. Арцыбашева. — М. Ч.), судят «Яму» Куприна, судят «Отца Сергия», играют без дирижера Вагнера, ставят «Землю дыбом» (пьеса С. Третьякова. — М. Ч.) с военными прожекторами и автомобилями, дают концерты по радио, портные шьют стрелецкие гимнастерки, нашивают сияющие звезды на рукава и шевроны, полные ромбов. Завалили киоски журналами и десятками газет...»
Если говорить только о журналах, включающих материалы по литературе и искусству, в первые месяцы 1923 года начали выходить новые издания, которые должны были обратить на себя внимание Булгакова. Так, с 3 января в Петрограде стал выходить еженедельник «Жизнь искусства», с 4 января — в Москве ежемесячный журнал «Безбожник» (с № 3 — «Безбожник у станка»), 6 января при газете «Известия» вышел первый номер уже упоминавшегося нами еженедельника «Красная нива», 15 февраля «Правда» начала издавать журнал «Прожектор», а 1 апреля вышел № 1 нового еженедельного иллюстрированного журнала «Огонек» под редакцией M. E. Кольцова. В январе 1923 года закрылся сатирический журнал «Мухомор», успешно выходивший в Петрограде в течение 1922 года, но стал выходить регулярно «журнал пролетарской сатиры и юмора» «Красный перец» (в 1922 году ограничившийся одним — июньским — номером), и с ним Булгакову удалось завязать отношения. Как и в прошлом году, появлялись издания, прекращавшиеся в силу коммерческих или иных причин на первом номере, — в январе в Петрограде вышел журнал «Город (Литература. — Искусство)», 20 марта 1923 года в Москве — «Рельсы», приложение к газете «Гудок»... Во всяком случае, витрины киосков являли собою в марте 1923 года небезынтересное зрелище.
«И вот брызнуло мартовское солнце, растопило снег. Еще басистей загудели грузовики, яростней и веселей. К Воробьевым горам уже провели ветку, там роют, возят доски, там скрипят тачки — готовят всероссийскую выставку». (В это время от Нескучного сада до Воробьевых гор шли работы — к лету там должна была открыться Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка). «И, сидя у себя на пятом этаже, в комнате, заваленной букинистическими книгами, я мечтаю, как летом
256
влезу на Воробьевы, откуда глядел Наполеон, и посмотрю, как горят сорок сороков на семи холмах, как дышит, блестит Москва, Москва-мать».
В апреле возобновился вопрос об издании «Записок на манжетах». Свидетельство этого — сохранившийся в архиве М. А. Булгакова проект договора «между Акционерным обществом „Накануне" в лице директора-распорядителя Общества П. А. Садыкера, с одной стороны, и Михаилом Афанасьевичем Булгаковым — с другой...»; «Размер сочинения приблизительно 4¼ (четыре и одна четверть) печатного листа». Гонорар определялся в 8 долларов за лист; пункт 10-й договора гласил: «Если по требованию цензуры потребуются сокращения книги, то Булгаков не будет возражать против них и А. О. „Накануне" вправе их произвести», пункт 12-й — «гонорар за первое издание в размере 34 (тридцать четыре) доллара Булгаков получил сполна». Проект датирован 19 апреля; на другой день, 20 апреля, Булгаков пишет записку с обращением к Павлу Абрамовичу (то есть Садыкеру), в которой, обдумав проект, сообщает: «На безоговорочное сокращение согласиться не могу. Этот § 10 необходимо исключить или переработать совместно. Во всем остальном договор вполне приемлем мною» (копия или черновик записки сохранился в коллекции известного московского букиниста Э. Циппельзона; возможно, он находился в одной из книг библиотеки писателя, значительная часть которой, по некоторым свидетельствам, попала в послевоенные годы к Циппельзону). Книга должна была выйти очень быстро — через месяц: в автобиографии 1924 года Булгаков напишет: «Эту книгу у меня купило берлинское издательство «Накануне», обещав выпустить в мае 1923 г.».
26 марта завершился процесс католического духовенства (дело о сокрытии церковных ценностей); архиепископу Цепляку расстрел заменили тюрьмой, прелата Буткевича расстреляли в ночь на 1 апреля (католическая Страстная суббота). На комсомольских «красных пасхах» шли инсценировки суда над папой римским с вынесением смертного приговора. 3 мая обновленческий собор, к ужасу верующих, лишил «сана и звания патриарха» находящегося под арестом и ожидающего суда патриарха Тихона.
В первой половине мая или в конце апреля Булгаков уезжает в Киев. Кроме прочего, был бытовой повод: «Варя ему написала: «Тасина браслетка у меня, посылать я ее не буду, если хочешь — приезжай». Он и поехал», — рассказывала Т. Н. в одной из бесед. Там он встречается с родны-
257
ми и с немногими уцелевшими друзьями юности (большинство их к этому времени уже несколько лет как в эмиграции), среди них — с Сашей Гдешинским. 8 мая он делает запись на память у него дома, на письменном столе: «За неимением манжет писал на столе. МБ. Май. 1923». В доме Гдешинского идут разговоры о пережитом, о настоящем и будущем; через год, вспоминая эту встречу, А. Гдешинский напишет Булгакову: «Жизнь нельзя остановить — жизнь нельзя остановить — это ты сказал». Это нота слышна будет и в очерке «Киев-город».
Вернувшись в Москву, Булгаков срочно пишет фельетон «Бенефис лорда Керзона», который 19 мая уже печатается в «Накануне». Начало его — возможно, преднамеренно — перекликалось с началом второй части «Записок на манжетах» и фельетона «Сорок сороков» с описанием предыдущего, осенью 1921 года, въезда Булгакова в Москву — тоже из Киева, с того же вокзала: «Ровно в шесть утра поезд вбежал под купол Брянского вокзала. Москва. Опять дома. После карикатурной провинции без газет, без книг, с дикими слухами — Москва, город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить. <...> И вот дома. А никуда я больше из Москвы не поеду. В десять простыня „Известий", месяц в руках не держал. На первой же полосе — „Убийство Воровского!" <...> В два часа дня Тверскую уже нельзя было пересечь. Непрерывным потоком, сколько хватало глаз, катилась медленно людская лента, а над ней шел лес плакатов и знамен. Масса старых знакомых, октябрьских и майских, но среди них мельком новые, с изумительной быстротой изготовленные, с надписями весьма многозначительными. Проплыл черный траурный плакат „Убийство Воровского — смертный час европейской буржуазии"...»
Фельетон примечателен среди прочего тем, что едва ли не в первый и в последний раз в творчестве Булгакова в нем нарисован портрет Маяковского. «...На балкончике под обелиском Свободы (Советская площадь напротив Моссовета; обелиск Свободы, поставленный на ней в 1919 году, в 1941-м был снесен и в 1954-м заменен памятником Юрию Долгорукому, заложенным в 1947 году в честь 800-летия Москвы. — М. Ч.) Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом:
...британ-ский лев вой!
Ле-вой! Ле-вой!
— Ле-вой! Ле-вой! — отвечала ему толпа. Из Столешникова выкатывалась новая лента, загибалась к обелиску.
258
Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел:
— Вы слышали, товарищи, звон, да не знаете, кто такой лорд Керзон!
И стал объяснять:
— Из-под маски вежливого лорда глядит клыкастое лицо!! (По предположению Л. Яновской, здесь, видимо, было — «морда»: смягчено для европейского читателя. — М. Ч.). Когда убивали бакинских коммунистов...
Опять загрохотали трубы у Совета. Тонкие женские голоса пели:
— Вставай, проклятьем заклейменный! Маяковский все выбрасывал тяжелые, как булыжники, слова, у подножья памятника кипело, как в муравейнике, и чей-то голос с балкона прорезал шум:
— В отставку Керзона!!»
Булгаков описывает здесь человека, целиком ему чуждого, полярно отличного от него. Описание это объективно, почти бесстрастно. Для самого Булгакова страстное отношение к ультиматуму Керзона невозможно, но он добросовестно воспроизводит происходящее в этот день на улицах Москвы, желая дать зарубежному читателю представление о содержании и самом размахе манифестаций, их безусловной массовости: «В Охотном во всю ширину шли бесконечные ряды, и видно было, что Театральная площадь залита народом сплошь. У Иверской трепетно и тревожно колыхались огоньки на свечах, и припадали к иконе с тяжкими вздохами четыре старушки, а мимо Иверской через оба пролета Вознесенских ворот бурно сыпали ряды. Медные трубы играли марши. Здесь Керзона несли на штыках, сзади бежал рабочий и бил его лопатой по голове. Голова в скомканном цилиндре моталась беспомощно в разные стороны. За Керзоном из пролета выехал джентльмен с доской на груди: „Нота", затем гигантский картонный кукиш с надписью: «А вот наш «ответ» <...>. На Театральной площади было сплошное море. Ничего подобного в Москве я не видал даже в октябрьские дни» (то есть в единственную пока встреченную им в Москве — пятую — годовщину революции) .
В «Гудке» такого рода описательный фельетон существовать не мог, поэтому там Булгаков целиком остается в русле фельетона обличительно-бытового. Через шесть лет, в рукописи «Тайному Другу», он с юмором вспомнит время от времени возникавшие тягостные ситуации, когда один из редакторов обращался к нему: «Надеюсь, что вы разразитесь фельетоном по поводу французского министра.
259
Я почувствовал головокружение.
Вам, друг, объясняю, и Вы поймете: мыслимо ли написать хороший фельетон по поводу французского министра, если вам до этого министра нет никакого дела? Заметьте, вывод предрешен — вы должны этого министра выставить в смешном и нехорошем свете и обязательно обругать. Где министр, что министр? Фельетон политический можно хорошо написать лишь в том случае, если фельетонист сам искренне ненавидит этого министра».
В эти весенние дни в Москву приехал Алексей Толстой — на короткое время, прежде чем переезжать на родину окончательно.
30 мая тем литературным кругом, который собирался у Слезкина, Коморского и др., был устроен на квартире Коморского вечер в честь его приезда. Коморский рассказывает: «Зинаида Васильевна была больна, лежала в своей комнате. Хозяйничала Татьяна Николаевна; она была в белом платье. Стол был накрыт в маленькой столовой (в 1970-е годы здесь был кабинет хозяина; комната не больше 12—13 метров. — М. Ч.), а в гостиной танцевали. Плохо помню, кто был. Конечно, был Слезкин, Булгаков, было много писателей...» По воспоминаниям Коморского и Татьяны Николаевны, Булгаков в то время относился к А. Толстому с жгучим интересом и на вечере «ел его глазами». Впоследствии интерес этот ретроспективно был переосмыслен; реальные детали вечера легли в основу описания той «вечеринки, организованной группой писателей по поводу важнейшего события — благополучного прибытия из-за границы знаменитого литератора, Измаила Александровича Бондаревского», на которую отправляется «в великом возбуждении» герой «Театрального романа».
«Критик Конкин», в квартире которого происходит вечеринка, по-видимому, не случайно сохраняет в своей фамилии совпадение с первым слогом фамилии «Коморский»; «Ликоспастов был тише воды ниже травы, и тут же как-то я ощутил, что, пожалуй, он будет рангом пониже прочих» (отражение переосмысления места Слезкина в иной компании, чем кружок «Зеленой лампы»). «Из соседней комнаты слышалось пианино, тихо кто-то наигрывал фокстрот... Помнится, танцевали в комнате на ковре, отчего было неудобно» — все эти мелкие детали «живьем» перенесены из квартиры Коморского. Сам же Измаил Александрович был написан уничтожающими красками.
В июне 1923 года Булгаков сидел в судебном зале на необычном уголовном процессе. 16 июня в «Накануне» под псевдонимом Ф. Икс он напечатает первый очерк об этом
260
деле — «Роль-Ройс, или Доберман-пинчер», со знанием дела описывая правила облавы. 20 июня в «Накануне» печатается его очерк «Комаровское дело», по которому ясно видно, сколь сильно заняло его слушавшееся в суде дело. «С начала 1922 года в Москве стали пропадать люди. Случалось это почему-то чаще всего с московскими лошадиными барышниками или подмосковными крестьянами, приезжавшими покупать лошадей. Выходило так, что человек и лошади не покупал, и сам исчезал.
В то же время ночами обнаруживались странные и неприятные находки — на пустырях Замоскворечья, в развалинах домов, в брошенных недостроенных банях на Шаболовке оказывались смрадные, серые мешки. В них были голые трупы мужчин.
После нескольких таких находок в Московском уголовном розыске началась острая тревога. Дело было в том, что мешки с убитыми носили на себе печать одних и тех же рук — одной работы. <...> Мешки вязались характерно — так вяжут люди, привыкшие к запряжке лошадей. Не извозчик ли убийца?»
Сидя на процессе, Булгаков стремится понять «самое страшное во всем этом деле» — самого убийцу: «Никакого желания нет писать уголовный фельетон, уверяю читателя, но нет возможности заняться ничем другим, потому что сегодня неотступно целый день сидит в голове желание все-таки этого Комарова понять.
Он, оказывается, рогожи специальные имел, на эти рогожи спускал из трупов кровь (чтобы мешков не марать и саней) ; когда позволили средства, для этой же цели купил оцинкованное корыто. Убивал аккуратно и необычайно хозяйственно. <...> Так бьют скотину. Без сожаления, но и без всякой неловкости.
...Репортеры, фельетонисты, обыватели щеголяли две недели словом «человек-зверь». Слово унылое, бессодержательное, ничего не объясняющее. И настолько выявлялась эта мясная хозяйственность в убийствах, что для меня лично она сразу убила все эти несуществующие „зверства", и утвердилась у меня другая формула: „И не зверь, но и ни в коем случае не человек".
Никак нельзя назвать человеком Комарова, как нельзя назвать часами одну луковицу, из которой вынут механизм». (Вскоре герой его повести «Собачье сердце» скажет, что говорить — «это еще не значит быть человеком».)
В конце своего уголовного фельетона Булгаков говорит о приговоре примечательными словами: «Приговор? Ну что
261
тут о нем толковать. Приговор первый раз вынесли Комарову, когда милиция повезла его», — и далее рассказано, как убийцу еле отбили от самосуда. Вопрос об отношении автора к высшей мере вообще — отодвинут. Но зато рассказано: «Бабы в доме, где я живу, тоже вынесли приговор — „сварить живьем". — Зверюга. Мясорубка. У этих тридцати пяти мужиков сколько сирот оставил, сукин сын».
В фельетоне перед нами — едва ли не единственный случай психологического анализа, совершаемого Булгаковым не художественными средствами, — и в этом едва ли не главный интерес этого текста. Важно и то, что в нем — продолжение настойчивых размышлений Булгакова над психологическим механизмом насилия над человеческой жизнью — убийством или казнью. Несомненно, какая-то часть результатов этих размышлений была через несколько лет использована в «Беге» — в работе над Хлудовым («Зверюга» — кричит ему Серафима). «Мешки» Хлудова — известная реалия, но можно увидеть в навязчивости этих «мешков» в пьесе память о поразивших в 1923 году его воображение мешках с убитыми извозчиком Комаровым. (Напомним, забегая в нашем повествовании вперед, реплики Серафимы и Крапилина: «...сидит на табуретке, а кругом висят мешки. Мешки да мешки!.. Зверюга! Шакал!» «Но мимо тебя не проскочишь! Сейчас ты человека — цап и в мешок! Стервятиной питаешься?»)
Лето 1923 года, дождливое и холодное, Булгаков проводил в Москве, интенсивно работая для «Накануне» (но в то же время, как увидим далее, занимаясь двумя большими произведениями). 26 июля в литературном приложении к «Накануне» напечатан рассказ «Самогонное озеро», по-видимому, довольно буквально отразивший «самогонный» быт квартиры № 50, в которой он все еще живет. В эти дни (судя по сделанной 1 августа рукою Булгакова надписи на книге — «Из библиотеки М. А. Булгакова») вышел альманах «Возрождение» с первой частью «Записок на манжетах» — с восстановлением ряда купюр, сделанных в свое время в «Накануне». 2 августа пишется фельетон «Шансон д'этэ», начинавшийся описанием уже идущего к концу лета: «Лето 1923-е в Москве было очень дождливое. Слово „очень" здесь следует расшифровать. Оно не значит, что дождь шел часто, скажем, через день или даже каждый день, нет, дождь шел три раза в день, а были дни, когда он не прекращался в течение всего дня. Кроме того, три раза в неделю он шел по ночам. Вне очереди начинались ливни. Полуторачасовые густые ливни с зелеными
262
молниями и градом, достигавшим размеров голубиного яйца».
Эти дожди были основным впечатлением москвичей, и фельетону Булгакова вторит письмо С. Ауслендера Ю. Слезкину (который живет в это время в Черниговской губернии, сначала в Чернигове, потом в г. Кролевце): «У нас главное — это отвратительное лето, сплошные дожди и холода <...> этот постоянно-серый колорит неба, слякоть и холод выводят из терпения. Было несколько ливней, когда часть Москвы затопляло, даже трамваи не ходили. <...> Из литераторов я чаще и как-то ближе видаюсь с Лидиным. <...> На днях меня просили устроить литературный вечер на курсах учителей по Ярославской дороге. Мы ездили туда с Лидиным и Булгаковым. Жалели, что тебя нет. Почему-то вышла очень приятная и веселая» поездка. Нас так восторженно там принимали. Булгаков экспромтом говорил вступительное слово, даже было стыдно, что слушатели записывают что-то в тетради, а он несет такую околесину...» (В письме — обычная для этого полудружеского круга тональность суждений о Булгакове; как правило, из этих письменных и устных источников не узнать конкретностей — о чем, например, говорил он свое вступительное слово? — но всегда налицо сценка, непременно ухудшительная, хоть и сдобренная снисходительностью.)
В эти же дни Булгаков получил письмо из Киева от Гдешинского (от 6 августа 1923 г.), где тон был иным; приятель сообщал, что сестра Булгакова Вера дала прочитать «твои воспоминания о Киеве; еще раз не мог не подивиться я твоему таланту» — речь шла об очерке «Киев-город», уже напечатанном в «Накануне» 6 июля и посланном сестре.
27 августа Слезкин, по-видимому, под влиянием недавнего письма от Ауслендера с упоминанием Булгакова, пишет ему (в архиве Булгакова сохранилось всего два письма от Слезкина): «Дорогой Михаил. Пишу тебе из благословенного захудалого городка, Кролевца, куда переехал из Чернигова доживать лето. Здесь подлинная деревня с бесчисленным количеством садов, огородов, яров, пыльным боярышником и очаровательными домишками, ярко размалеванными. <...> Даже не тянет в Москву, а пора уже... В первых числах думаю двинуться. Что делается у нас в «Накануне»? Что Семен Николаевич, славный Валеша, сиятельный пролетарий и очаровательная Беллочка? (С. Н. Калменс, В. Катаев, А. Толстой и, видимо, жена М. Левидова, сотрудника редакции. — М. Ч.). Что слышно с нашими
263
берлинскими книгами? Когда они, наконец, выйдут? Что вообще нового в литературе?
В Чернигове и Кролевце читал лекции о Москве, где упоминал о тебе и Катаеве как о самых талантливых из молодежи, работающих в «Накануне».
Что твой роман? Я на него очень надеюсь. Кончил ли «Диаволиаду». С радостью, приехав, послушаю. Ты хоть и косишься всегда на меня подозрительно, но я от чистого сердца тебя люблю и верю тебе как писатель. (Вся фраза очень выразительно свидетельствует об уже упоминавшейся нами напряженности отношения Слезкина к Булгакову. — М. Ч.) Сам я пишу невероятную комбинацию на фоне современного провинциального быта (в Кролевце Слезкин написал две повести, впоследствии напечатанные, — «Огуречная королева» и «Голый человек». — М. Ч.). Здесь я такого наслушался и насмотрелся, что — мна! пальчики оближешь». Это было то хищное литераторское отношение к быту, которое претило Булгакову и отразилось в «Театральном романе» (приведем строки Б. Пильняка: в одном из писем (апрель, 1922) берлинским знакомым он описывал, как у себя в Коломне сидит за столом, «а по небу ходит солнце и заходят люди и такой волокут за собой быт, что черт его знает, сотню писателей надо на одну Коломну напустить и то мало» — Рус. Берлин. Париж, 1983, с. 192).
...Голубой, если книги наши пришли уже из Берлина — сделай милость, вышли мне по одному экземпляру твоей и моей книги. Тут их прочтут взасос!
Имеются ли новые перспективы в смыслах издательских?
Пиши, голуба, не забывай. <...> Целую тебя. Твой Юрий Слезкин».
«Дорогой Юрий, — писал Булгаков 31 августа, — спешу тебе ответить, чтобы письмо застало тебя в Кролевце. Завидую тебе. Я в Москве совершенно измотался.
В «Накануне» масса новых берлинских лиц, хоть часть из них и временно: Небуква, Бобрищев-Пушкин, Ключников и Толстой. Эти четверо прочитали здесь у Зимина (то есть в театре Зимина. — М. Ч.) лекцию. Лекция эта была замечательна во всех отношениях (но об этом после). (Судя по письму И. Лежнева Н. В. Устрялову от 19 августа 1923 года, все четверо приехали из Берлина между 12 и 19 августа — М. Ч.).
Трудовой граф чувствует себя хорошо, толсто и денежно. Зимой он будет жить в Петербурге, где ему уже отделывают квартиру, а пока что живет под Москвой на даче». Личность
264
Толстого, его жизненная позиция продолжает вызывать у него напряженный интерес (хотя и окрашенный несколько иронически) : по устным свидетельствам Катаева, Булгаков ездил с ним вместе на дачу к Толстому в Ивановку.
Многозначительная фраза Булгакова о лекции — несомненный след его серьезных размышлений о позиции литераторов из «Накануне», о том, что сближало его с ними и что разделяло.
В 1923 году в «Книгоиздательстве писателей в Берлине» отдельным изданием вышла пьеса Ю. В. Ключникова «Единый куст» с подзаголовком «Драматические картины из русской жизни 1918 года». Главная коллизия развивалась между сыном прислуги Николаем и девушкой из аристократической семьи. Николай выносит смертные приговоры ее близким и в то же время говорит ей «спокойно и твердо»: «Говорите, что хотите — рано или поздно вы опять пойдете со мной и по моему пути», и когда она уверяет его, что — нет, он говорит: «Для меня это будет означать, что даже лучшему, что дало прошлое России, нет места в русском будущем». Важными персонажами пьесы были двое известных на местной фабрике хулиганов, Генька и Палашка. Один из них, убивший брата Софьи, давал отповедь Николаю, поддавшемуся некоторой рефлексии: «А только если ты за нас пошел, то иди до конца и по сторонам не оглядывайся. Без черноты нам нашего дела не сделать. Опять же и отказаться мы должны от всего начисто, чтобы все как есть заново. <...> Самые которые великолепные из русских людей — это, может, мы с Палашкой! Да! Мы, убивцы, а не ты, половинщик! Слыхал?!» В конце пьесы Софья объявляет: «Возьмите меня с собой... я хочу быть всюду с вами, Николай». Следовала ремарка: «Генька и Палашка поражены; сначала смотрят вопросительно друг на друга, а потом с великим почтением — на Николая». Так решалась задача собирания «прошлой» и «будущей» России в «единый куст». Булгакову многое здесь, несомненно, претило.
«Печатание наших книг вызывает во мне раздражение: до сих пор их нет, — продолжает Булгаков письмо Слезкину. — Наконец Потехин сообщил, что на днях их ждет. По слухам, они уже готовы (первыми выйдут твоя и моя). Интересно, выпустят ли их. За свою я весьма и весьма беспокоюсь.
Корректуры они мне, конечно, и не подумали прислать». Булгаков не терял еще надежды на выход книги с полным текстом «Записок» («Думаю, что наши книги я не успею
265
переслать тебе в Кролевец, — писал он дальше. — Вероятно, к тому времени, как попадут ко мне в руки, ты будешь уже в Москве»), но беспокойство его вскоре полностью оправдалось. В рукописи «Тайному Другу» он писал: «Три месяца я ждал выхода рукописи и понял, что она не выйдет. Причина мне стала известна, над повестью повис нехороший цензурный знак. Они долго с кем-то шушукались в Москве и в Берлине». Три месяца — то есть июнь, июль, август, прошедшие после времени обещанного выхода книги. По-видимому, уже в сентябре Булгакову стала известна вышеупомянутая причина. Последнее упоминание о крахе замысла первой отдельной книги Булгакова — через год, в не раз упоминавшейся нами автобиографии, где сообщается о том, как издательство «Накануне» обещало выпустить книгу в мае 1923 года «и не выпустило вовсе. Вначале это меня очень волновало, а потом я стал равнодушен».
В письме к Слезкину — важные свидетельства о двух крупных замыслах, воплощаемых в этот год: «Диаволиаду» я кончил, но вряд ли она где-нибудь пройдет. Лежнев отказался ее взять.
Роман я кончил, но он еще не переписан, лежит грудой, над которой я много думаю. Кой-что поправляю».
Вообще же лето 1923 года было для Булгакова скорее временем надежд. «Лежнев начинает толстый ежемесячник «Россия» при участии наших и заграничных (начать его удалось только через полгода — М. Ч.), — писал Булгаков Слезкину. — Сейчас он в Берлине, вербует. По-видимому, Лежневу предстоит громадная издательско-редакторская будущность. Печататься «Россия» будет в Берлине. При „Накануне" намечается иллюстрированный журнал (журнал остался в проектах. — М. Ч.). Приложения уже нет, а есть пока „Лит. страничка".
...Трудно в коротком спешном письме сообщить много нового. Во всяком случае, дело явно идет на оживление, а не на понижение в литературно-издательском мире.
Приезжай! О многом интересном поговорим. <...> Целую тебя. Твой М. Булгаков».
Журнал «Россия» был в центре внимания Булгакова в 1922—1923 годах. Недаром в «Театральном романе» он даст изданию, прообразом которого был журнал «Россия», название «Родина» —• именно это важнейшее для него слово увидел он, как и многие другие, в не вполне обычном для тогдашней печати названии журнала. Несомненно, на Булгакова произвел сильное впечатление тот факт, что после резкой критики в центральной печати журнал не только
266
не был закрыт, но превращался в «толстый»: кто-то под- . держивал редактора Лежнева. «Журнал превращается в „толстый" двухмесячник (20 печатных листов), — писал Лежнев Устрялову 12 августа 1923 года. — Редакция и цензурование материала по-прежнему остается в Москве, но печататься будем в Берлине. Часть экземпляров будет оставаться на месте для распространения за рубежом. <...> А самое издание будем вести, конечно, на частные средства. Рептильные материально и идеологически (то есть зависимые. — М. Ч.) методы работы предоставим любителям из «Накануне». <...> До сих пор не налажена интеллектуальная связь России и Запада». Лежнев намеревался «дать широким эмигрантским кругам объективное представление о современной России — в ряде художественных произведений, бытовых очерков, деловых статей». (Поездка в Берлин «в издательском отношении оказалась неудачной», как писал Лежнев тому же адресату спустя два месяца, 15 октября; «Придется издавать здесь и печатать в Туле <...> Вернувшись в Россию, застал здесь обстановку, за полтора месяца изменившуюся радикально. Душит экономический кризис, крайняя депрессия. Покрывается это обостренными надеждами на германскую революцию и соответствующей кампанией. Я на этот счет настроен <...> гораздо пессимистичней. Ближайшие месяца два должны будут развернуть картину. Не завершится ли это все очередным отходом? Поживем — увидим»). Заканчивая «Белую гвардию», Булгаков, мы думаем, не только мечтал о напечатании ее в «России», но и в какой-то степени ориентировал роман на сложившееся в журнале направление. «Культура и жизнь строятся по закону преемственности, — писал редактор «России». — После революционного разрыва этой преемственной нити наступает либо стремительный отлив к прошлому, либо непреоборимое и упорное связывание звеньев, зарубцовывание ткани, происходит смешение крови двух эпох, двух культур. Идея сращения, синтеза двух культур есть самая актуальная и современная идея...» («Россия», № 7, март 1923 г., с. 10).
Осенью 1923 года произошла вторая важная для последующих нескольких лет литературной жизни Булгакова встреча — с ответственным редактором альманаха «Недра» Н. С. Ангарским.
267
3
Обстоятельства этого знакомства неизвестны: в памяти П. Н. Зайцева сохранилась встреча с Булгаковым летом 1924-го как первая; на самом деле она должна была произойти не менее как за год до этого — 11 марта 1924 года уже вышла 4-я книжка «Недр» с «Дьяволиадой».
С ноября 1922 по октябрь 1923 года Ангарский жил в Берлине и оттуда руководил изданием сборников «Недра». Его письма к П. Н. Зайцеву показывают, что Ангарский прочитывал решительно все материалы, поступавшие в редакцию, и не только подробно высказывал свое мнение относительно их печатания, но следил за тем, как учитывают авторы его замечания, давал указания Зайцеву о том, с какими именно писателями завязывать отношения, и т. п. В последнем, видимо, берлинском письме от 2 октября 1923 года (ответ на письмо П. Н. Зайцева от 18 сентября) — ни слова о Булгакове, как и в предыдущих. По-видимому, до второй половины сентября 1923 года Булгаков в «Недра» не обращался. Можно с уверенностью предположить, что знакомство Булгакова с Ангарским произошло не раньше середины октября 1923 года (в одном из писем Ангарский сообщал Зайцеву: «Выеду из Берлина в Москву 11 — 13/Х»); оно могло произойти и поздней осенью — 4-й сборник «Недр» еще не был составлен в середине ноября: только 17 ноября 1923 года Серафимович передал Ангарскому рукопись «Железного потока».
Сам Ангарский, старый большевик-политкаторжанин, был весьма примечательной фигурой в литературной жизни и издательской политике 1920-х годов. Это был редактор, любивший свое дело, дороживший им, не боявшийся личной ответственности, напротив, высоко ценивший ее, не признававший половинчатости в проведении собственной линии. «С т. Фриче мы слишком расходимся в литературных вкусах, а потому совместно работать не можем, — писал он 10 февраля 1923 года из Берлина в ответ на переданные ему предложения о составе редколлегии. — Нет, я твердо стою за единоначалие и на коллегию не пойду». Прислушиваясь к мнениям В. Вересаева по поводу предлагаемых «Недрам» материалов, он все же неизменно оставлял последнее слово за собой и специально писал Зайцеву: «Еще раз повторяю: полномочных заместителей редакторов не существует в природе». Когда издатель «Недр» Драуден стал предъявлять слишком большие права на ведение дел альманаха, Ангарский, как всегда, очень прямо вы-
268
разил свою позицию в письме к Зайцеву (от 14 февр. 1923 г.): «Он думает, что литература — нечто похожее на латышский батальон, где можно распоряжаться со свойственной ему „ударностью". <...> Надо с Д. кончить. Я иду на полный разрыв и уступок никаких не сделаю. Литература — область, где я никому и никогда не уступал и невежественному человеку распоряжаться не позволю».
Литературная ориентация редактора «Недр», всегда оставаясь твердой и недвусмысленно выраженной, была вместе с тем достаточно широкой и не прямолинейной; она не столько может быть определена одной-двумя фразами, сколько уясняется из совокупности разнообразных его оценок, помогающих лучше понять литературные обстоятельства сближения Булгакова с «Недрами» в 1923 году.
Ангарский резко отзывался об Эренбурге: «Он сочинил (образованный) новый роман о гибели Европы в 1927 году («Трест Д. Е.» — М. Ч.). Действие, конечно, как и у писателя Лидина, происходит во всем мире. Великие же оба писателя». Он возмущается, что отклоненную им рукопись берет альманах «Круг» — «да еще по 75 р. и не читая. Впрочем, писатель Пильняк всегда проведет Манилова-Аросева.
Бедная русская литература!
Да, у Эренбурга, как и у Малышкина, — даешь Европу! Ну и, конечно, мы берем Европу». Ангарский явно предпочитал, чтобы действие происходило в России, чтобы материал был отечественный (этим продиктовано, возможно, отношение к Грину: «Я против Грина, это не писатель. В<икентий> В<икентьевич> слишком добр», — пишет он 3 июля 1923 года, но, однако, в письме от 12 сентября соглашается — видимо, по настоянию Вересаева, — прочесть его: «Если хорош, — издадим, но не в дешевой библиотеке»). Для него традиция русской классической литературы была живой и способной питать современную прозу — это ставило его в полемические отношения, скажем, с журналом «На посту» (который в первом же номере писал: «Мы будем бороться с теми стародумами, которые в благоговейной позе, без достаточной критической оценки застыли перед гранитным монументом старой буржуазно-дворянской литературы». — «На посту», 1923, № 1, с. 8).
«Литературы нет, а манифест о литературе есть, — с иронией писал он об афише (программе) открывавшегося журнала. — Ляшко и диалектика!! Марксистское исследование о том, как должны писать и чувствовать пролетарские писатели. Раз так хорошо сказано и так правильно обосновано с точки зрения диалектического материализма —
269
теперь Ляшко не может уже писать плохо, а уж Филипченко и подавно!» И здесь же: «Прочел 2-й лист «Окна» с рассказами Бунина и Шмелева. Очень слабо. Вот вам и свобода печати, а писать оказалось не о чем» (3 июля 1923 г.). Речь шла о сборнике «Окно» (Окно. Трехмесячник литературы. 1923, № 2. Париж, изд. М. и М. Цетлин, 1923), который как раз в это время рецензировала «Печать и революция» в июньском, шестом номере, совпадая в общей оценке (рецензент И. А. Оксенов) с Ангарским.
Неодобрение слишком явной политической заостренности художественной прозы, какую бы окраску эта заостренность ни принимала, неизменно присутствует в критических оценках Ангарского-редактора. «Подъячева я прочел и Вам дня через два пошлю. Много придется почистить. Талантливый писатель, меткий, сочный, подлинный язык, наблюдательность редкая, но все это пустил на служение «заданиям» и пишет на разные темы даже с приписками и призывами. Чудак, не понимает, что нам это, т. е. в такой мере, не надо» (9 мая 1923 г.); «Напишите ему, что я советую ему писать как пишется, без всякой связи с «темами», и у него, поскольку он вышел из самой гущи мужицкой жизни, всегда будет то, что надо революции, и всегда будет художественно» (5 июня 1923 г.).
В письме от 8 июня 1923 года Ангарский сетовал: «Плохо у нас дело с авторами. Тренев прислал плоховатую вещь — не приняли — затих, обиделся; то же и... мн. др. Ну что же? Прекратим, а всякую дрянь печатать не будем. Вот с цензурой горе. Мы не можем сейчас печатать ничего, что в основе своей идет против Сов. власти, а старички именно эту основу-то и сшибают. Критикуй, но не основу.
Вы мне ничего не пишете о книге Эренбурга (отдельное издание повести «Любовь Жанны Ней». — М. Ч.). Что она — вышла с моим убийственным предисловием? Вот этот критикует не основу». Выдержки из писем Ангарского помогают понять, насколько обнадеживающими должны были быть для Булгакова первые же разговоры с этим московским издательским деятелем.
Первая повесть (сам автор в подзаголовке называл ее пространно — «Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя») тогда еще очень мало известного в литературно-издательском мире, печатавшегося главным образом в «Накануне» Михаила Булгакова ответила, надо полагать, редакторским и издательским требованиям Ангарского. Об этом недвусмысленно свидетельствует тот факт, что повесть «Дьяволиада» (с которой Ангарский, видимо,
270
познакомился, уже вернувшись из Берлина в Москву) . сразу была принята к печати и включена в ближайший же, 4-й сборник «Недр». Острая фабула, гротеск, фантасмагорические превращения персонажей на фоне в высшей степени современного быта — все это резко отличило повесть от преобладающих в тот момент беллетристических тенденций, общим для которых был преимущественный интерес к слову — существенный для судеб дальнейшего литературного развития, но уже заметно раздражавший читателя.
...Еще в августе открылась в Нескучном выставка, и Булгаков ходит туда — по заданию редакции «Накануне». (Память сотрудника редакции Э. Миндлина сохранила забавную деталь — как Булгаков предъявил обширный ресторанный счет секретарю редакции и на вопрос — «Почему же — на двоих?..» надменно ответил: «Я в ресторан хожу с дамой».)
Большой, в 13 главок фельетон «Золотистый город» датирован им сентябрем — октябрем 1923 года. Среди точных предметных описаний выставки в фельетоне появляется многозначительная фигура «профессора-агронома», который «докладывал, что нам в настоящий момент трактор не нужен, что при нашем обнищании он ляжет тяжелым бременем на крестьянина. Возражать скептику и защищать его записалось 50 человек, несмотря на то, что диспут длится уже долго». (Сохранившиеся в архивном фонде Выставки стенограммы удостоверяют, что доклад этот делал профессор А. Г. Дояренко). Оратор «в солдатской шинелишке и картузе» заявляет: «...профессор наш спит. Он нас на старое хочет повернуть, а мы старого не хотим. Мы голые и босые победили наших врагов, а теперь, когда мы хотим строить, нам говорят ученые — не надо? Ковыряй, стало быть, землю лопатой? Не будет этого, товарищи». Профессор же говорит, что он только против фантазий, взывает к учету, к благоразумию, строгому расчету, требует заграничного кредита. <...> Появляется «куцая куртка» и советует профессору, ежели ему не нравится в России, которая желает иметь тракторы, удалиться в какое-нибудь другое место, например в Париж». В конце фельетона высвистывают на деревянных дудках старинные русские песни: «И на душе не то печаль от этих дудок, не то какая-то неясная надежда».
Профессор и куцая куртка — прообраз пары «профессор Персиков и Рокк», которая всего через год возникнет в повести «Роковые яйца», а также Преображенского и Шарикова в «Собачьем сердце».
271
Булгаков посещал и литературные кафе, тогда еще сохранившиеся. Так, по воспоминаниям Татьяны Николаевны, зашли они однажды в «Стойло Пегаса», где впервые увидели Есенина. «Он тогда только что приехал из Америки. Мы пришли в это кафе (оно помещалось на Тверской, 37 — совсем близко от их дома на Б. Садовой — М. Ч.). Сидели, пили... Что-то отмечали, наверно. У нас так получалось, что никогда денег ни копейки не было что-то отметить... И тут смотрим — идет Есенин. В цилиндре, и несет сумку, и веник у него в руках. Он входит в это „Стойло Пегаса", подходит к какой-то даме. Стал на колени, преподнес ей веник, поцеловал руку, а она поцеловала веник... Вышел на эстраду, стал стихи читать, какие — я не помню»...
Булгаков мог видеть Есенина и в первые месяцы своего приезда в Москву — например, 19 февраля 1922 года, когда Есенин выступал в Доме печати на литературном аукционе в пользу голодающих Поволжья. В те месяцы, несмотря на крайнюю нужду, Булгаков усердно посещал литературные сборища; впрочем, пойдя на встречу с Вересаевым, он вполне мог игнорировать выступление Есенина, внешние формы поведения которого должны были быть ему не менее чужды, чем манера Маяковского. 11 мая 1922 года газета «Рабочий», где в это время служил Булгаков, сообщала, как и другие газеты, о вчерашнем отлете Есенина с Айседорой Дункан в Кенигсберг, а 14 мая «Накануне» уже печатает отклики о пребывании поэта за границей. Заграничное путешествие Есенина длилось более года; в Москву он вернулся — уже без Дункан — 3 августа 1923 года и до конца года неоднократно выступал в «Стойле Пегаса»; по-видимому, в первые месяцы после приезда Булгаков и видел его там. И сам Есенин, и молодые поэты из его ближайшего окружения последних московских лет — уже упоминавшийся Иван Старцев и Иван Приблудный — стали, на наш взгляд, материалом для построения «двух Иванов» — сначала Ивана Русакова в «Белой гвардии», затем — Ивана Бездомного в «Мастере и Маргарите».
К осени 1923 года относим мы сохранившуюся в архиве Булгакова недатированную записку к сестре: «Дорогая Надя! Я продал в «Недра» рассказ «Дьяволиада», и доктора нашли, что у меня поражены оба коленные сустава; кроме того, я купил гарнитур мебели шелковый вполне приличный.
Что будет дальше, я не знаю, — моя болезнь (ревматизм) очень угнетает меня. Но если я не издохну как собака — мне очень не хотелось бы помереть теперь — я куплю еще ковер. <...>
272
Твой покойный брат Михаил».
Об этих покупках — столь редких в первые московские годы — вспоминает и Т. Н.: «Как-то один еврей привез какому-то из пигитских (дом принадлежал Пигиту — М. Ч.) рабочих мебель. А того то ли дома не было, то ли он не взял — постучал в нашу дверь: «Не нужна мебель?» Меня тогда не было, уезжала, наверно, к сестре. Булгаков посмотрел, мебель ему понравилась. И дешево продавали, а он как раз получил тогда за что-то деньги. Это была будуарная мебель во французском стиле — шелковая светло-зеленая обивка в мелкий красный цветочек. Диванчик, кресло, два мягких стула, туалетный столик с бахромой... Два мягких пуфа. Для нашей комнаты эта мебель совсем не подходила — она была слишком миниатюрной для довольно большой комнаты (25 м2 или больше). Но Михаил все хотел, чтоб в комнате было уютно...»
Здесь узнается тот легкий налет безвкусицы, который настойчиво подчеркивается многими мемуаристами, — правда, как правило, недоброжелательными. Москвичи охотно видят в этом провинциализм (любопытно, что особенно — те из москвичей, которые сами приехали из провинции одновременно с Булгаковым). Скорее это было то безразличие вкуса, которое отличало некоторую часть средних российских интеллигентов 1910-х годов, — дома, на Андреевском спуске, стиля скорей всего не было — были нераздражающие, с детства привычные вещи. Теперь, после нескольких лет скитаний по чужим комнатам, хотелось иметь какие-то свои вещи, которые могли бы невидимой чертой отделить его жизнь от «самогонного быта» за стеной.
Когда писалась записка сестре, Булгаков уже, видимо, знал, что один из братьев Крешковых (их было три брата — Иван, Александр, Владимир), Владимир Павлович, привез с Кавказа ковры, предлагал недорого продать. И Булгаков купил — «заплатил не то 200, не то 150 рублей. Дома у нас был еще один ковер — текинский. Это был мой ковер с десяти лет. С 1918 до 1921-го он пролежал у дядьки в корзине. Все вещи пропали — отсырели и расползлись, а ковер уцелел — я случайно просыпала на него махорку, и он сохранился. Он висел у нас над диваном, а новый повесили над кроватью. У нас была еще походная кровать — раскладушка, брезентовая...» (Т. Н.)
Отметим, что эта же мебель, купленная осенью 1923 года, всплывает через десять лет и в дневниковой записи Ю. Л. Слезкина — той самой, которую мы уже цитировали, с описанием комнаты на Б. Садовой: «...Булгаков стал попи-
273
вать красное винцо, купил будуарную мебель, заказал брюки почему-то на шелковой подкладке... Об этом он рассказывал всем не без гордости».
...И снова сообщаемые нами подробности обстановки, детали туалета могут вызвать сопротивление читателя — «зачем эта мелочность? И не походит ли она на выяснение того, был ли насморк у такого-то великого человека в такой-то день?» И вновь мы подтвердим свою уверенность в необходимости восстановления этих мелочей именно в отношении Булгакова — из-за чрезвычайной значимости для него самого тех вещей, из которых складывается повседневный быт. Для него это Вещи с большой буквы, и они легко трансформируются в вещи литературные. Это — часть нормы, без которой немыслима жизнь, отсутствие которых — помеха творчеству. Недаром даже через десять с лишним лет, когда Булгаков уже около года будет жить в довольно хорошей трехкомнатной квартире, Елена Сергеевна запишет в своем дневнике: «Для М. А. квартира — магическое слово. Ничему на свете не завидует — квартире хорошей! Это какой-то пунктик у него» (23 августа 1934 г., дневник Е. С. Булгаковой). Тусклая (или потухшая) электрическая лампочка для него — знак, символ человеческой неустроенности, поражения, едва ли не смерти: «О, только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово! Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. <...> Словом, оно похоже на смерть» («Белая гвардия»).
«...Восстановить норму — квартиру, одежду и книги». Не случайно все мемуаристы, мешая точность с преувеличениями, так или иначе обращаются к тому, как одевался Булгаков, как он выглядел внешне, — значимость его одежды для него самого делала ее значимой для окружающих. «Впоследствии, когда синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прюнелевым верхом и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль...» (В. Катаев «Алмазный мой венец»). Об этом монокле В. Катаев упоминал и ранее — в одной из наших бесед в июле 1976 года в Переделкине еще до того, как им была задумана и начата повесть: «Он стал совершенно другой! Абсолютно! Появился монокль, ботинки с прюнелевым верхом»; затем — в ноябре 1977 года: «Я говорю: «Что такое? Миша! Вы что, с ума сошли? Он говорит: а что?
274
Монокль — это очень хорошо!» Печать на сохранившемся , рецепте монокля, выписанном 8 сентября 1926 года поликлиникой ЦЕКУБУ в Гагаринском переулке, свидетельствует, что монокль был куплен 13 сентября — то есть перед премьерой «Дней Турбиных». Этот запомнившийся всем (и запечатленный на одной из фотографий) монокль, поразительный в 20-е годы, монокль, на котором Булгаков настаивает (как и на «брюках на шелковой подкладке»), довершает, на наш взгляд, представление об отношении Булгакова к одежде. Костюм в те годы был для него прежде всего напоминанием об утраченной социальной принадлежности (ср. в рассказе «Четыре портрета» — «Я, бывший... впрочем, это не имеет значения... ныне человек без определенных занятий»); он был исполненным смысла, рассчитанным на прочтение — и в трудных обстоятельствах Булгаков собирал его по частям, оповещая друзей о деталях: отсюда эти запомнившиеся Слезкину брюки на подкладке. Возможно, речь шла о первом в московские годы костюме — Татьяна Николаевна вспоминает, как этот костюм — темно-коричневый — шили, возможно, в ту же осень у портного.
Это само по себе было событием. «Мы были провинциалы, — рассказывал В. Катаев. — Мы явились в Москву из Киева, из Одессы, где только что кончилась гражданская война, где в городах все время менялась власть. А здесь революция продолжалась несколько дней, здесь давным-давно шла мирная жизнь! Помню, я в первую ночь после приезда ночевал на десятом этаже дома Нирензее. Потом меня повели к Андрею Глобе... И вдруг он, поговорив с нами, сказал:
— Вы извините, я должен идти к портному.
К портному! Мы представить себе этого не могли!» (22 июля 1976 г.)
Этого визита к портному Булгаков, несомненно, ожидал с момента приезда в Москву — как знака «восстановления нормы».
Приведем для сравнения еще один фрагмент из тех же записанных нами воспоминаний В. Катаева: «Однажды я выиграл 6 золотых десяток... Две я проел, а на 4 купил в ГУМе прекрасный английский костюм. Ну, прекрасный... Цвета маренго... Но не было ни рубашки, ни галстука, ни ботинок. (Смеется). Ну ничего, я носил свитер! Мы мало придавали этому значения... А ему все это было важно. Разное отношение наше к этому — это была разная возрастная психология...» (22 июля 1976 г.); «Он старше всех
275
нас тогда был, в том возрасте это значительно — что в начале войны он был студентом четвертого курса, а я был там вольноопределяющийся еле со средним образованием, так что он принимался как старший...» (30 ноября 1977 г., Переделкино).
В эту осень изменились и его служебные обязанности в «Гудке» — из обработчика он стал фельетонистом. Один из первых его фельетонов был напечатан 17 октября 1923 года — «Беспокойная поездка. Монолог начальства (не сказка, а быль)» и подписан так: «Монолог записал Герасим Петрович Ухов». Следующий появился через две недели, 1 ноября («Тайны Мадридского двора») и заключался так: «Разговор подслушал Г. П. Ухов», а затем еще один, 22 ноября («Как разбился Бузыгин»), и подпись была такая: «Документы собрал Г. П. Ухов».
Тогда, наконец, подпись нового фельетониста кто-то прочитал внимательно. «Немало шумели в редакции, — вспоминал в своих еще в 60-е годы написанных мемуарах о Булгакове заведующий четвертой полосой «Гудка» (Булгаков оставался сотрудником профсоюзного отдела) И. С. Овчинников, — когда в отпечатанном в разосланном номере вдруг был обнаружен свеженький псевдоним Булгакова — Гепеухов».
В эту осень Булгаков второй раз встречал в Москве очередную годовщину Октября. 9 ноября в «Гудке» появился очерк «Ноября 7-го дня (Как Москва праздновала)», подписанный инициалами «М. Б.»: «За день, за два до праздника окна во многих магазинах уже стали наливаться красным светом. Там развесили ряды лампочек и гирлянды, протянули ленты, выставили портреты вождей революции.
К вечеру, когда рабочие и служебная Москва разбегались по домам, среди бледных огней магазинов уже светились эти красные теплые ниши, напоминавшие о том, что приближается годовщина.
А на площади, перед зданием Московского Совета, целый день до позднего вечера суетились рабочие и горели жаровни.
Рабочие отстраивали портал, новые белые стены, разбивали клумбы и цветники. <...>
Мать несла своего двухлетнего ребенка на руках в толпе, и он смотрел по сторонам и что-то лопотал и взмахивал руками. А когда вдруг заиграли оркестры и началось пение, он не выдержал и стал прыгать у нее на руках и что-то кричать.
В эту годовщину на улицы вышли не только спаянные
276
и стройные колонны рабочих со своими плакатами, но мимо них беспрерывно шли толпами, кучками, отдельно обыватели — мужчины и женщины, которые вели своих ребят и говорили:
Вырастешь, и ты пойдешь».
Если б инициалы «М. Б.» не повторялись дальше в «Гудке» под публикациями бесспорно булгаковскими, предположить его авторство очерка по стилевым признакам было бы трудно: писательская индивидуальность в нем почти не отпечатлелась. Нет, впрочем, и ничего, ему противопоказанного; повествование бесстрастно, подчеркнуто протокольно, но даже эта протокольность явно дается автору с немалым трудом. Через несколько лет, быть может, вспоминая историю появления именно этого очерка, Булгаков комически воспроизводит диалоги с редактором и свое душевное состояние в таких ситуациях:
«Когда наступал какой-нибудь революционный праздник, Навзикат говорил:
— Надеюсь, что к послезавтрашнему празднику Вы разразитесь хорошим героическим рассказом.
Я бледнел, и краснел, и мялся.
— Я не умею писать героические революционные рассказы, — говорил я Навзикату.
Навзикат этого не понимал. У него, как я уже давно понял, был странный взгляд на журналистов и писателей. Он полагал, что журналист может написать все что угодно и что ему безразлично, что ни написать. А, меж тем, по некоторым соображениям, мне нельзя было объяснить Навзикату кой-что: например, что для того, чтобы разразиться хорошим революционным рассказом, нужно прежде всего самому быть революционером и радоваться наступлению революционного праздника. В противном же случае рассказ у того, кто им разразится по денежным или иным каким побуждениям, получится плохой...»
Это непосредственное ощущение, сохранявшееся Булгаковым, в последующие годы становилось все более и более уникальным.
Пока же он в достаточной степени растворен в московской литературной среде. Среда эта продолжала пополняться.
7 ноября 1923 года в Москву вернулся Г. Алексеев, незадолго перед тем, летом, удостоившийся рецензии официозного публициста, одного из руководителей государственного издательского дела Н. Мещерякова. Рецензент с одобрением цитировал его книгу «Мертвый бег. Повесть
277
зарубежных лет», только что вышедшую в Книгоиздательстве писателей в Берлине и описывающую жизнь бывших офицеров-белогвардейцев в лагерях близ Берлина: «Так шла жизнь, без начала и конца, увязшая в чужую, разбухшую в мокропогодь колею, ненужная и нелепая, но сил выбиться из колеи не было, и все глубже загрязали в ней люди и отдавались ей <...> Сечет в лицо дождь, голод и болезни сторожат лагерь кругом, и каждый шаг в нем мертв, и каждая мысль бесплодна — неподвижен и каменен ее лик». Удовлетворенно приводя эти описания (выполненные, заметим, в той расхожей, «под Горького» беллетристической манере 1910-х годов, которую преодолевал своей прозой Булгаков), рецензент заключал свой отзыв следующим образом: «Картина нарисована талантливо и человеком, знающим дело. Автор любит изображенных им лиц; он старательно отыскивает в них человеческие черты. Но от этого картина становится еще более убийственной». Такая оценка давала, несомненно, право на обратный въезд.
Имя Г. Алексеева не было новым для Булгакова — в Киеве он был помощником редактора «Новостей Дня» и редактором литературной газеты «Наш Понедельник», затем — редактором, «Свободной речи» в Ростове-на-Дону, газете, конечно, читавшейся Булгаковым в конце 1919 — начале 1920 года.
22 декабря 1923 года в третий раз за год (считая с 30 декабря 1922 г.) Булгаков приходит на Никитинские субботники, — по-видимому, чтобы послушать Овадия Савича, читавшего в этот день свою повесть «Пансион фон Оффенберг». В тот же день усердный посетитель субботников художник Александр Аввакумович Куренной (1865— 1944) рисует его портрет, и он ставит на нем свою роспись и дату. На рисунке Булгаков на удивление молодой — очень коротко, почти по-военному постриженный юноша-студент со спокойным, слегка насмешливым взглядом.
На заседании присутствуют вместе с ним А. Неверов, Вера Инбер, И. Н. Розанов, Ада Владимирова, А. Антоновская. Неверов и Розанов, выступая, отмечают достоинства языка повести. Булгаков не выступает.
В дневнике И. Н. Розанова в краткой записи о заседании и о выступлениях Булгакова нет; в листе росписей участников заседания его роспись — справа, на отшибе. Он не стал своим в этой московской литературной среде. «В перерыве, — описывает И. Розанов, — Вадя (О. Савич. — М. Ч.) отвел в другую комнату. Там вшестером (я, Вадя, Зархи, Неверов, Кириллов, Соболь) распили две бутылки
278
порт<вейна>» (автор дневника помечает — «Принес Неве- < ров» — сухой закон еще действует, повышая значимость каждого «приноса»). После перерыва читает свои стихи Н. Берендгоф. Через 3 дня Розанов запишет, что в праздник Рождества по литературной Москве разносится известие о внезапной смерти А. Неверова; 29 декабря — похороны.
В новом положении штатного фельетониста «Гудка» Булгаков предложил газете большой рассказ «Налет (В волшебном фонаре)», повествующий об эпизоде времен гражданской войны, — о том, что более всего занимает писателя в течение всего этого года. Рассказ был напечатан 25 декабря 1923 года. С этого месяца фельетоны Булгакова печатаются регулярно, но особенно часто — по 4—5 в месяц — с лета 1924 года.
Весь минувший год он писал о недавнем прошлом, а собственное прошлое неотступно стояло за его спиной.
Существует устное свидетельство Е. Ф. Никитиной о следующем эпизоде. На одном из Никитинских субботников Булгаков, увидев среди присутствующих некоего человека, на глазах у всех бросился обнимать его. Обнявшись, они долго стояли молча. Никто не знал, в чем дело. Позднее Никитина узнала от Б. Е. Этингофа о том, что именно связывало его с Булгаковым. Будто бы в момент прорыва Южного фронта красными войсками была взята в плен большая группа офицеров; среди них были и врачи. Этингоф был комиссаром в этих частях. Он обратился к врачам: — Господа офицеры, мы несем потери от тифа. Вы будете нас лечить?
Предложение это было высказано в такой ситуации, когда всех пленных ожидал расстрел. И будто бы Булгаков ответил, что он находится в безвыходном положении и он в первую очередь — врач, во вторую — офицер...
Он остался жив, другие были расстреляны. Это воспоминание и заставило их, встретившись через несколько лет в Москве, в молчании обнять друг друга; молчание это представляется психологически достоверным. Обо всем этом рассказывала Е. Ф.Никитина журналисту В. М. Захарову в начале 1960-х годов, а он пересказал нам 25 октября 1987 г.
Что же стояло за этой встречей на Никитинских субботниках, если она действительно имела место, а не была плодом мемуарной фантазии? Возможность какой-то реальной основы рассказа Никитиной подтверждает свидетельство о Б. Е. Этингофе, «старом знакомце еще по Владикавказу», в дневнике Ю. Л. Слезкина от 29 декабря 1932 г.: «Он коммунист, немножко поэт, чуть-чуть музыкант, умен,
279
культурен, эстетичен... с хитрецой. Женат теперь на Евдокии Федоровне Никитиной <...> Борис Евгеньевич — мой бывший патрон (тогда зав. народным образованием Владикавказского округа, когда я подвизался там в качестве зав. подотделом искусств»).
Татьяна Николаевна никогда не упоминала о том, что Булгаков был в плену у красных; трудно вычленить момент, в который это могло бы произойти — осенью 1919 года Булгаков, казалось бы, должен был благополучно добраться до места назначения, поскольку весь юг России был в руках Добровольческой армии, а в момент развернувшегося наступления красных он был в основном во Владикавказе. Однако он выезжал, по-видимому, в феврале 1920 года — прежде чем его свалил тиф, и мог попасть в какие-то переделки. За взволнованной московской встречей могла стоять — и это более правдоподобно — какая-то критическая ситуация первых месяцев после прихода во Владикавказ красных, когда Этингоф мог проявить к Булгакову столь дорогое в те годы великодушие. Напомним, однако, еще раз: конец 1919 — начало 1920 года в биографии Булгакова (как и осень 1918, и некоторые другие периоды) известен очень приблизительно, и здесь возможны неожиданности *.
Упомянем еще об одном знакомстве этого года — с журналистом Леонидом Саянским (Леонидом Викторовичем Поповым). Он был всего на два года старше Булгакова, но печатался уже в 10-е годы — в «Солнце России», «Новом журнале для всех» и т. п., в 1915 году выпустил книжку «Записки казачьего офицера», — а в середине 20-х годов стал средним юмористом, автором маленьких книжек, выходивших в разных издательствах, в том числе и в «Гудке». (15 февраля 1926 года он выступил на диспуте о советской сатире в Доме печати: «Читаю редактору рукопись. Смеется. А потом говорит: Не пойдет! — Как же, ведь вы смеялись?! — Поэтому и не пойдет: я смеялся животным смехом!») «...Сначала Булгаков познакомился с ним — кажется, в «Гудке». Потом откуда-то приехала его жена Юля. Они зачастили к нам — и всегда с бутылкой шампанского. Мы тогда редко куда ходили — они почти каждый вечер приходили к нам. Они жили где-то на Никитской, за загородочкой у родителей...
Эта Юля была актриса, но нигде не служила; она потом
* Дать ключ к проверке данного эпизода мог бы внимательный анализ биографии Б. Е. Этингофа этих месяцев; на эту задачу мы обращаем внимание всех, кто имеет вкус к разысканиям.
280
сбежала от Саянского. Она с Булгаковым флиртовала вовсю. А он всегда мне говорил: «Тебе не о чем беспокоиться — я никогда от тебя не уйду».
Один раз Саянский пришел к нам, а мы собирались как раз к Коморским. Он с ними знаком не был. Михаил говорит: «Пойдем с нами — я тебя буду выдавать за англичанина!» А у Саянского был изумительный пробор. Это потом я прочитала «Театральный роман», там редактор спрашивает: «А как вы делаете, что у вас такой пробор?» — это, конечно, Саянского пробор! У Михаила такого пробора никогда не было». Этот «изумительный пробор» можно увидеть, взяв в руки «Записки казачьего офицера» 1915 года издания — прямо с обложки, из медальона в верхней части переплета смотрит длинное (действительно «английское!») породистое лицо молодого офицера с идеальным пробором... В тот вечер они и правда отправились втроем к Коморским, и Саянский по уговору весь вечер молчал, боясь только, что с ним кто-нибудь заговорит по-английски. В доме же, кроме хозяев, была племянница Коморского Надя, изучавшая английский, и она еще пуще, чем Саянский, боялась, что англичанин обратится к ней с какой-нибудь длинной речью... Это была одна из обычных для Булгакова мистификаций.
«На Новый год Коморские были куда-то приглашены, и мы отправились к Саянским. Встречали 1924-й год с ними и с его родителями. Отец Саянского был отставник, кажется, бывший военный... была за столом жена его, старушка... Других писателей, кроме Саянского и Булгакова, никого не было...» — так вспоминает Татьяна Николаевна этот последний Новый год в их жизни, проведенный вместе. «В Татьянин день, 25 января, Булгаков хотел отметить мои именины, позвать Коморских, но были траурные дни, вина нигде не продавали, и мы их не позвали. Тогда он пошел и купил мне вот этот резной деревянный ларец. И я с тех пор везде возила его с собой.
Перед этим 24 января всю ночь простояли в Дом Союзов, но так и не попали, вернулись закоченевшие домой. Булгаков потом пошел один и попал».
И 27 января в «Гудке» был напечатан репортаж Булгакова (с подписью «М. Б.») «Часы жизни и смерти (С натуры)». В нем — записи живых диалогов людей, стремившихся проститься с В. И. Лениным:
« — Голубчики, никого не пущайте без очереди!
Порядочек, граждане.
Все помрем...
Думай мозгом, что говоришь. Ты помер, скажем, к
281
примеру, какая разница? Какая разница, ответь мне, гражданин?
Не обижайте!
Не обижаю, а внушить хочу. Помер великий человек, поэтому помолчи. Помолчи минутку, сообрази в голове происшедшее».
В этом же репортаже — эскизное описание, набросок первых впечатлений от увиденного самим автором: «Лежит в гробу на красном постаменте человек. Он желт восковой желтизной, а бугры лба его лысой головы круты. Он молчит, но лицо его мудро, важно и спокойно. Он мертвый. Серый пиджак на нем, на сером красное пятно — орден знамени. Знамена на стенах белого зала в шашку — черные, красные, черные, красные. Гигантский орден — сияющая розетка в кустах огня, а в сердце ее лежит на постаменте обреченный смертью на вечное молчание человек.
Как словом своим на слова и дела подвинул бессчетные шлемы караулов, так теперь убил своим молчанием караулы и реку идущих на последнее прощание людей».
4
В первые недели 1924 года в доме Бюробин'а (Бюро обслуживания иностранцев) в Денежном переулке был устроен вечер встречи вернувшихся «сменовеховцев». С некоторыми Булгаков был уже знаком. «Потехин жил где-то на Мясницкой, в Златоустьинском переулке, — вспоминала Татьяна Николаевна. — Жена у него была очень красивая, из купчих, он так и называл ее «купчиха». Жена Ключникова была пианистка Доленга, и Булгаков часто провожал ее на концерты в качестве пажа... Он бывал в доме и у того, и у другого. Потехин устраивал дома вечеринки, танцевали, немного пили...»
На вечер в Денежном переулке, как вспоминала Л. Е. Белозерская, Булгаков пришел вместе с Д. Стоновым и Ю. Слезкиным. Сам он собравшейся публике был известен пока еще только фельетонами в берлинской газете «Накануне». «Передо мною стоял, — вспоминала Белозерская, — человек лет 30—32-х; волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны; когда говорит, морщит лоб. <...> Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же все-таки походил Михаил Булгаков. И вдруг меня осенило — на Шаляпина!» Знакомство, завязанное в Денежном переулке, как увидим, уже в том же 1924 году изменило личную жизнь Булгакова.
В феврале или в начале марта 1924 года в четвертом
282
сборнике «Недр» вышла в свет «Дьяволиада». Одним из первых в печати отметил повесть развернутым отзывом Евгений Замятин — с обычной для него строгостью, даже суровостью оценки, но с пониманием возможностей молодого автора: «Единственное модерное ископаемое в «Недрах» — «Дьяволиада» Булгакова. У автора, несомненно, есть верный инстинкт в выборе композиционной установки: фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин — одна из тех (немногих) формальных рамок, в какие можно уложить наше вчера — 19-й, 20-й год. <...> Абсолютная ценность этой вещи Булгакова — уж очень какой-то бездумной — невелика, но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ». По-видимому, на следующий год, когда Замятин приехал в Москву на премьеру «Левши», завязалась дружба писателей.
Первые оттиски «Дьяволиады» Булгаков подарил своей самой первой московской машинистке, печатавшей ему в долг в конце 1921-го и в 1922 году (11 марта 1924 года — «Ирине Сергеевне Раабен в память нашей совместной кропотливой работы за машиной»), и Коморским, так радушно встречавшим его в зимние вечера 1922—1923 годов у себя в Малом Козихинском (12 марта — «Зине и Володе Коморским в память вечеров на Козихе»). Но жизнь Булгакова в этой обжитой им за два с лишним года части Москвы — Большая Садовая, Трехпрудный и Малый Козихинский, Патриаршие Пруды, — тех мест, что всплывут вскоре в топографии «Мастера и Маргариты», уже шла к концу. В последующие годы ему предстояло обживать те места, которые для коренных москвичей традиционно связывались с представлением о «старой» Москве — Староконюшенная часть: Пречистенка, Остоженка...
Дом на Большой Садовой был связан с нуждой, напряженными поисками случайных заработков в первые московские годы— 1921—1922, с безнадежными попытками выиграть деньги — в казино, которое было рядом. Об этих попытках вспоминает В. Катаев в повести «Алмазный мой венец», о них рассказывала нам и Татьяна Николаевна:
«Будит в час ночи: — Идем в казино — у меня чувство, что я должен сейчас выиграть!
Да куда идти, я хочу спать!
Нет, пойдем, пойдем!
Все проигрывали, разумеется. Наутро я все собирала, что было в доме, — несла на Смоленский рынок».
1923 год, когда, как написал Булгаков чуть позже, «я возможность жить себе уже добыл», стал годом преимущественной и крайне напряженной работы над романом.
283
И вновь послушаем Татьяну Николаевну. Многие разговоры с ней записаны нами не только на бумаге, но и, с ее разрешения, на магнитофон. С трудом передается на письме интонация ее не монологической, а всегда являвшейся только частью беседы речи. «...Писал ночами „Белую гвардию" и любил, чтоб я сидела около, шила. У него холодели руки, ноги, он говорил мне: «Скорей, скорей горячей воды»; я грела воду на керосинке, он опускал руки в таз с горячей водой...»
— Что это было? Сердце?
— Нет, видимо, что-то нервное; он очень уставал...» Когда и где состоялись первые авторские чтения романа — те чтения только что завершенного произведения в кругу нескольких десятков друзей, знакомых и полузнакомых литераторов, которые были обычным явлением в жизни Москвы 1920-х годов? 9 марта 1924 года Юрий Слезкин сообщает в «Накануне» о чтении романа «Белая гвардия» в течение четырех вечеров в кружке «Зеленая лампа»... Один из участников этого кружка, заседавшего в начале 20-х годов в доме Лидии Васильевны Кирьяковой на Большой Дмитровке — действительно под зеленой лампой! — языковед Борис Владимирович Горнунг, незадолго до смерти, в октябре 1975 года рассказывал нам, что присутствовал на этих чтениях. «Последний раз я видел Булгакова в январе 1924 г. — значит, чтения эти были до января. На всех чтениях, как помню, была первая жена Булгакова Татьяна Николаевна».
Читал он и в других домах. Художница Наталья Ушакова рассказывала нам, как писатель Сергей Сергеевич Заяицкий сказал им ранней весной 1924 года: «Приходите — у меня будет читать молодой писатель, приехавший из Киева». Это чтение, происходившее у Заяицкого, было началом сближения Булгакова с новым дружеским кругом — теми, кто сами называли себя «дети старой Москвы». Так подружился он с Натальей Абрамовной Ушаковой и ее мужем Николаем Николаевичем Ляминым, сотрудником Государственной академии художественных наук. Жили они в одном из переулков Остоженки (где и сейчас живет Н. А. Ушакова), в той квартире, куда, как представляется собирателям данных о московской топографии «Мастера и Маргариты», вбежал Иванушка, преследуя Воланда, и увидел в ванной голую гражданку... Не знаем, так ли это, но знаем доподлинно, что в этой квартире происходило одно из первых чтений романа — в 1928 или 1929 году, когда он назывался еще «Копыто инженера»...
284
«На следующий день после чтения «Белой гвардии», — продолжает свой рассказ Наталья Ушакова, — я встретила Булгакова в Охотном ряду. Поздоровались, он пошел рядом, и у меня было такое странное впечатление от него — мне казалось, что рядом идет студент: он как-то стесненно держался, был как-то неловок...»
В этой старомосковской среде он не сразу прижился, не сразу был принят за своего. Все эти люди — искусствоведы, филологи, художники, литераторы — знали друг друга с детства, их лечили общие домашние врачи, их родители дружили домами. Он был для них еще и в 1924 году «писателем, приехавшим из Киева» — иное дело было в «Гудке», в его литературной среде первых московских лет, где приезжими были все — и Катаев, и Олеша, и Ильф, и Евгений Петров, и все приехали с юга, у всех были в какой-то степени общие воспоминания времен гражданской войны.
Здесь, в «пречистенском» кругу, он казался провинциальным («Элегантным его нельзя было назвать», — говорит сегодня Наталья Ушакова) потому, по-видимому, и сам чувствовал себя поначалу стесненно и был похож на неловкого студента — моложавый, как вспоминают многие, для своих тридцати с лишним лет.
В первые месяцы 1924 года шли важные события в жизни Булгакова — развивался роман с приехавшей вместе со «сменовеховцами» Любовью Евгеньевной Белозерской. Шагом к будущим изменениям стал развод с Татьяной Николаевной. «Мы развелись в апреле 1924 года, — рассказывала нам Татьяна Николаевна, — но он сказал мне: «Знаешь, мне просто удобно — говорить, что я холост. А ты не беспокойся — все остается по-прежнему. Просто разведемся формально». — «Значит, я снова буду «Лаппа?» — спросила я. «Да, а я Булгаков». Но мы продолжали вместе жить на Большой Садовой...
Он познакомил меня с Любовью Евгеньевной. Она раньше жила в Киеве, с Финком, был такой журналист, потом уехала с Василевским-Небуквой. Потом Василевский привез ее в Москву, а какой-то жених должен был ее вызвать. Но вызов не пришел; Василевский ее оставил, ей негде было жить. Она стала бывать у Потехина, мы приглашали ее к нам. Она учила меня танцевать фокстрот. Сказала мне один раз:
— Мне остается только отравиться...
Я, конечно, передала Булгакову... Ну, в смысле литературы она, конечно, была компетентна. Я-то только продавала вещи на рынке, делала все по хозяйству и так уставала,
285
что мне было ни до чего... Коморский подбил меня окончить шляпочную мастерскую, я получила диплом, хотела как-то зарабатывать. Один раз назначаю кому-то, а Михаил говорит:
Как ты назначаешь — ведь мне надо работать!
Хорошо, я отменю.
Так из этой моей работы ничего не вышло — себе только делала шляпки. Я с ним считалась. А он всегда говорил мне, когда я упрекала его за какой-нибудь флирт: «Тебе не о чем беспокоиться — я никогда от тебя не уйду». Сам везде ходил, а я дома сидела... Стирала, готовила...»
След начавшегося романа с Любовью Евгеньевной впечатан Булгаковым в один из фельетонов, опубликованных в «Накануне» 26 мая 1924 года, — «Вопрос о жилище», целиком посвященный именно московскому жилищному кризису, еще более обострившемуся для Булгакова: теперь он воспринимал его еще и сквозь призму бедственного положения своей возлюбленной. Один из персонажей фельетона упоминает, что уезжает из своей невозможной комнаты за перегородкой в Орехово-Зуево. «Он в Орехово-Зуево, а знакомая Л. Е. (несомненно, Любовь Евгеньевна. — М. Ч.) в Италию. Увы, ей нет места даже за перегородкой. И прекраснейшая женщина, которая могла бы украсить Москву, стремится в паршивый какой-то Рим. И Василий Иванович (тот самый, который пьет самогон и дебоширит бок о бок с автором фельетона в квартире№ 50. — М. Ч.) останется, а она уедет!»
Смятение чувств, владевшее Булгаковым в ту весну и во многом обусловленное невозможностью найти ставший остро необходимым новый кров над головой, выразилось в его словах, сохраненных памятью Татьяны Николаевны: «Он мне говорил:
Пусть Люба живет с нами?
Как же это! В одной комнате?
Но ей же негде жить!»
(Эта смесь внезапного отступления перед житейскими обстоятельствами и прекраснодушия проявлялась и позже в подобных же порывах — Елена Сергеевна Булгакова рассказывала нам, как в дни, когда было принято решение об их совместной жизни, он сказал ей: «А Люба будет жить с нами!»)
Издательские его дела в эту весну шли неплохо. Вышла в «Недрах» «Дьяволиада», а 10 апреля 1924 года был заключен договор с редактором журнала «Россия» И. Г. Лежневым на печатание в его журнале романа «Белая гвардия».
286
При этом автор оставлял за собой право предоставить отрывки из романа сборникам «Недра» и газетам «Накануне» и «Последние новости» (Петроград). Гонорар, однако, был определен очень небольшой. Решимость изменить свою жизнь и отсутствие материальных условий для этого не раз повергали его, по-видимому, в эту весну в отчаяние.
12 апреля 1924 года Булгаков пришел на заседание Никитинских субботников. На этот раз народу собралось довольно много, около пятидесяти человек. В листе росписей Булгаков поставил свое имя двенадцатым; за ним расписались А. Н. Новиков-Прибой, А. Яковлев, П. Низовой. Из беллетристов были Л. Сейфуллина, И. Новиков, Н. Мешков, О. Савич.
Кого именно пришел слушать Булгаков? Пожалуй, скорее всего П. Н. Дорохова. На заседании он «читал отрывки из романа у которого еще нет названия». Судя по высказываниям собравшихся, можно предположить, что это была либо повесть «Житье-бытье», либо «История города Тарабарска».
Процитируем протокол заседания, поскольку это выступление, которое слушает Булгаков. «Ал. Матв. Пешковский — недостаточно объективна молитва купца. Он мог так думать, но молиться не мог.
Н. А. Степной. Соответствует ли форма Дорохова времени? Спокойный ровный размах. Это огромная эпопея большущего времени. Теперь так, как подходит к теме Дорохов, — нельзя подходить. Это простая справка об эпохе, которая нам сейчас не нужна».
Дорохов мог привлекать Булгакова, уже завершившего к тому времени роман о гражданской войне, прежде всего как автор «Колчаковщины» — произведения, написанного об этих же событиях, но с другой стороны линии фронта, с протокольным по тону освещением кровавых подробностей поведения белых.
После обсуждения Дорохова К. Зелинский прочел свои заметки «Вера Инбер и окрестности», а сама Инбер поэму «о мальчике с веснушками».
Возможно, Булгаков остался послушать третью часть вечера — «Лид. Ник. Сейфуллина, — записано в протоколе, — прочла рассказ сибирского писателя Зазубрина — «Общежитие».
Это был писатель, который также мог интересовать Булгакова как автор романа о гражданской войне «Два мира» — с теми же страшными подробностями, в последующие годы не встречавшимися при описании этих событий. Быть
287
может, именно протокольность подхода к описываемым событиям обоих беллетристов и привлекла Булгакова на это заседание — хотя повесть Зазубрина, оглашенная в этот вечер, описывала уже быт мирного времени. Впрочем, и этот материал также занимал в эти годы Булгакова — автора повести «Дьяволиада».
В мае этого года Булгаков делает попытку напечатать в «Недрах» полный текст «Записок на манжетах» (по-видимому, значительно превышавший объемом известный нам по печатным фрагментам — рукописи «Записок» не сохранилось) . Свидетельство этого — недавно опубликованное письмо Булгакова, уцелевшее в архиве П. Н. Зайцева — секретаря «Недр»: «Дорогой Петр Никанорович, оставляю Вам «Записки на манжетах» и убедительную просьбу поскорее выяснить их судьбу.
В 3-й части есть отрывок уже печатавшийся. Надеюсь, что это не смутит Николая Семеновича (редактора «Недр» Ангарского. — М. Ч.). При чтении 3-й части придется переходить от напечатанных отрывков к писанным на машине, следя за нумерацией глав.
Я был бы очень рад, если бы «Манжеты» подошли. Мне они лично нравятся. <...> Себе я ничего не желаю кроме смерти. Так хороши мои дела!»
В эти дни он собирался устраиваться на должность секретаря в какой-то редакции, но 31 мая свалился с приступом аппендицита, короткой записочкой он сообщал об этом Зайцеву и уведомлял его: «Места брать не буду, при первых деньгах уеду на юг». Но денег, видимо, не образовалось («Записки на манжетах» «Недрами» приняты не были), на юг он в это лето, кажется, не попал.
В этот год Булгаков посещает несколько литературных кружков, и два из них собираются у П. Н. Зайцева. Один из них был кружок поэтов (позже образовавший издательство «Узел»). Л. В. Горнунг рассказывал нам в сентябре 1981 года: «Собирались у Зайцева, в доме № 5 по Староконюшенному, в известном доме Коровина, в подвале — там был теплый подвал... Там бывал, хоть и редко, Белый, бывала Софья Парнок, два брата Ромма (Александр Ильич, лингвист, еще в 1922 году сделавший попытку перевести на русский язык «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра, и Михаил Ильич, кинорежиссер, в те годы писавший фантастические рассказы. — М. Ч.). Пастернак читал там «Воздушные пути» (они были напечатаны во 2-м номере журнала «Русский современник», вышедшем, как мы установили, в середине августа 1924 года, — значит, чтение происходило в первой половине
288
года. — M. Ч.), в марте читал свои стихи Максимилиан Волошин». Вряд ли Булгаков, равнодушный к новейшей поэзии, посещал эти собрания, но, по воспоминаниям П. Н. Зайцева, он прочел, во всяком случае, по просьбе поэтов, «Роковые яйца», к чему мы еще обратимся, а Б. В. Горнунг (лингвист, брат Л. В. Горнунга) утверждал в нашей беседе, что в начале 1925 г. Булгаков читал в том же кружке «Собачье сердце» (в 1985 году об этом сообщил в своих воспоминаниях литературовед А. В. Чичерин: Булгаков, «очень худощавый, удивительно обыкновенный (в сравнении с Белым или Пастернаком!) тоже приходил в содружество «Узел» и читал «Роковые яйца» и «Собачье сердце»...»). О втором кружке, также собиравшемся у Зайцева, известно главным образом из его собственных воспоминаний: «Наряду с кружком поэтов... я сделал попытку организовать небольшой кружок писателей-фантазеров, «фантастических» писателей. М. А. Булгаков, С. С. Заяицкий, М. Я. Козырев, Л. М. Леонов и Виктор Мозалевский должны были войти в основную группу, с расчетом на расширение в дальнейшем кружка. Но затея моя не удалась. Организуя кружок, я хорошенько не продумал цели его назначения, не ограничил его людьми, которые были бы близки по творчеству.
...Все же мы собирались: иногда у меня, в Староконюшенном, иногда у Леонова или Козырева, один-два раза у С. С. Заяицкого...
Сначала к затее организовать кружок все отнеслись с интересом. Мысль объединить писателей по линии особенностей их творческого дарования и мастерства показалась соблазнительной и как будто удачной.
Но какая-то трещинка возникла у нас вскоре же после двух первых заседаний. Возник сразу ряд вопросов, пока еще только молчаливых по деликатности: зачем на пять писателей — три дамы? Ведь у нас не литературный салон? Почему за организацию кружка взялся я, не прозаик, а поэт? (Может, оттого, что я работал в «Недрах» и от меня мог быть какой-то толк, или потому что я был инициатором?)...
Однажды мы были у С. Заяицкого. В качестве гостей пришли художница Н. А. Ушакова и ее муж, H. H. Лямин... Зашел разговор о кружке, и чуть ли не Булгаковым было произнесено слово «орден», то есть наш кружок должен был принять форму своеобразного литературного ордена. Сгоряча все отнеслись к этому проекту восторженно, но минутой позже у каждого порознь возникла опасливая мысль: а нет ли в нашей среде «длинного языка»? Хотя предложение
289
имело скорее шуточный, декоративный характер, но... как сказать! В нем чувствовался какой-то «уклончик»!...
И на одном из следующих заседаний Булгаков сделал краткое сообщение, что его вызывали, говорили, что кружок привлекает к себе внимание, и сказали, что кружок необходимо закрыть...
...Одно из последних заседаний происходило у Л. М. Леонова. Жил он тогда у родителей своей жены, Татьяны Михайловны Сабашниковой, на Девичьем поле. Там он прочитал нам только что написанную, довольно длинную вещь — «Записки Ковякина».
Леонов читал без купюр. Ведь для того и создавался наш кружок, чтобы внимательно выслушать новую вещь, высказать свое мнение. В процессе чтения перед другими писатель сам яснее начинает видеть свои недостатки, а товарищи своими высказываниями помогут ему лучше увидеть достоинства или ошибки».
Л. Леонов закончил свои «Записки» в октябре 1923 года, а в середине мая 1924 года уже вышел первый номер «Русского современника», где было начато их печатание, — таким образом, чтение должно было происходить зимой 1923/24 или ранней весной 1924 года.
«Что же получилось на этом чтении? — продолжает П. Н. Зайцев. — Милая дама, жена Козырева, поэтесса Ада Владимирова, уже в начале одиннадцатого вечера начала беспокойно ерзать на стуле и дергать своего «Мишу» громким шепотом: «Миша, едем, трамвай уйдет!»
Леонов продолжал читать, но громкий шепот Ады его очень раздражал. Нетерпеливая, беспокойная дама таки увлекла своего мужа, просто прервав чтение... С грехом пополам досидели мы до 12 часов... Вечер был испорчен и Леонову, и всем присутствующим. Булгаков и Леонов пеняли мне потом, зачем я привлек дам в наш кружок?..»
Впоследствии в «Театральном романе» отразятся, по-видимому, помимо впечатлений «Зеленой лампы», Малого Козихинского и прочих литературных адресов Булгакова 1922—1923 годов также черты и этой кружковой атмосферы: «жены до того осовели от чтения, что я стал испытывать угрызения совести» и проч. Несколько раз отмеченный в романе «молодой литератор», «поражавший меня тем, что с недосягаемой ловкостью писал рассказы», как нам представляется, имел подоплекой среди прочих тогдашних впечатлений Булгакова, и счастливо начинавшуюся литературную судьбу Леонида Леонова, который был на восемь лет его моложе и к началу 1924 года — моменту первых чте-
290
ний «Белой гвардии», был уже автором ряда рассказов, напечатанных и активно обсуждавшихся критикой. (Для ' Булгакова труден был к тому же сам жанр рассказа — малой формы с ее сложившимися в его литературном сознании стереотипами, к которым он не мог приноровить свою повествовательную позицию, — поэтому слова о «недосягаемой ловкости» в большой степени надо толковать буквально) .
По воспоминаниям Татьяны Николаевны, летом — по-видимому, в августе — 1924 года Булгаков и она переехали из квартиры № 50 в подъезд напротив во дворе того же дома № 10 — в квартиру № 34. «В этой квартире, — рассказывала Татьяна Николаевна, — жил миллионер, Артур Манасевич. Он давал деньги домоуправлению на содержание дома — какие-то у них были свои дела... Его окна были как раз напротив наших — и он видел всю нашу жизнь... Когда умер его брат, им надо было кого-то вселять, и он сказал: «Самые тихие люди — Булгаковы». Комната была, конечно, хуже нашей первой — та была солнечная, а здесь венецианское окно смотрело прямо в стену мастерской (в средней, выдавшейся во двор части дома были мастерские художников П. Кончаловского, Г. Якулова. — М. Ч.). Ну, он оклеил комнату обоями, говорил, что — телефон и все такое... Мы решили переехать». Позже Татьяна Николаевна поняла, что Булгаков, готовясь к назревавшим в течение этого года переменам в своей жизни, хотел оставить ее не среди «самогонного быта» квартиры № 50, многократно описанного в его фельетонах, а в квартире гораздо более тихой, где жила одна семья — муж, жена и сын, вскоре женившийся и ушедший из дома, — и, кажется, еще одна соседка.
Летом 1924 года произошла, судя по воспоминаниям П. Н. Зайцева, новая встреча Булгакова с «Недрами» — у Зайцева возникла мысль «перекупить» «Белую гвардию» у Лежнева — «ибо условия на роман были кабальные, а в наших «Недрах» Булгаков мог бы получить несравненно больше.
В Москве из редколлегии «Недр» в это время находилось двое: В. В. Вересаев и я (Н. С. Ангарский был в Берлине в нашем торгпредстве по Мосвнешторгу). Я быстро прочитал роман и переправил рукопись Вересаеву в Шубинский переулок.
Роман произвел на нас большое впечатление. Я не задумываясь высказался за его печатание в «Недрах», но Вересаев был опытнее и трезвее меня. В обоснованном
291
письменном отзыве В. В. Вересаев отметил достоинства романа, мастерство, объективность и честность автора в показе событий и действующих лиц, белых офицеров, но писал, что роман совершенно неприемлем для «Недр». Письмо было довольно длинное и носило характер отрицательной рецензии. В. В. Вересаев не оспаривал талантливости автора, но направленность романа, по его мнению, по идеологическим причинам нам не подходила. Может быть, Вересаев вспомнил, как был совсем недавно принят его собственный роман «В тупике».
Булгаков был огорчен этим отзывом. Рушились его надежды на выправление материальных затруднений. Пробавлялся он тогда маленькими фельетонами, рассказами и очерками в «Гудке» и медицинских журналах (в «Медицинском работнике» Булгаков начал печататься позже. — М. Ч.). Я, как мог, постарался его успокоить, сказав, что, конечно, отзыв Вересаева имеет значение, но главное слово-решение принадлежит главному редактору «Недр» Н. С. Клестову-Ангарскому, возвращения которого из Берлина я ожидал. <...>
Летом В. В. Вересаев уехал в Крым. В августе я тоже поехал в Ореанду, побывал в Гаспре и повидался там с Вересаевым. Он мне повторил устно, что роман Булгакова «Недра» не могут печатать ни в альманахе, ни отдельной книгой. <...> Уже по дороге в Коктебель мы говорили с Ангарским о Булгакове и его романе. Рукопись Николай Семенович уже прочитал, но тоже склонялся к тому, что печатать нельзя, хотя еще колебался. Он тоже считал «Белую гвардию» талантливым произведением, роман произвел на него сильное впечатление реалистическим изображением действительности, живой и сочной подачей людей, их характеров, но Ангарского смущало изображение белогвардейцев, недавних врагов Советской власти, которые могли вызвать симпатии в сочувствие у читателей.
И, поколебавшись, Н. Ангарский решил поддержать Вересаева: печатать роман нельзя по идеологическим причинам.
Дело не в том, что тогдашние редакторы были людьми мнительными, дело было в общей обстановке тех лет. Именно тогда начиналось формирование советской литературы. Писателей-коммунистов было мало, писателей, безоговорочно принявших Советскую власть и сотрудничавших с нею, было немного. Надо было выбирать и собирать писателей. И «Недра» — Н. Ангарского, и «Круг» — А. Воронского проводили эту работу.
292
H. Ангарского и В. Вересаева подкупали в М. Булгакове его талантливость и реалистическое изображение, но роман * они решили не печатать. С этим грустным для Булгакова сообщением я в начале сентября вернулся в Москву.
В один из сентябрьских дней М. Булгаков зашел в «Недра», и я сообщил ему ответ редколлегии. Наш отказ принять «Белую гвардию» резал его. За это время он похудел. По-прежнему перебивался случайными заработками от журнальчиков Дворца Труда на Солянке и сильно нуждался.
Он присел за соседним столиком и задумался: что-то чертил машинально на случайно подвернувшемся листке бумаги.
Вдруг меня осенило.
— Михаил Афанасьевич, — обратился я к нему, — нет ли у вас чего-нибудь другого готового, что мы могли бы напечатать в «Недрах»?
Чуть подумав, он ответил:
— Есть у меня почти готовая повесть... фантастическая... Я протянул ему лист чистой бумаги:
Пишите заявление с просьбой выдать сто рублей аванса в счет вашей будущей повести. Когда вы ее можете принести?
Через неделю или полторы недели она будет у вас, — ответил он.
Я оформил его заявление, написав на нем: «Выдать сто рублей», — и Булгаков помчался в бухгалтерию Мосполиграфа. Минут через десять-пятнадцать он вернулся с деньгами и крепко пожал мне руку.
Через неделю он принес в редакцию рукопись своей новой повести — «Роковые яйца»...» (важное для Булгакова в 1924—1925 годы изд-во Мосполиграф откликнется вскоре в имени Шарикова — Полиграф Полиграфович...)
В архиве П. Н. Зайцева сохранился исписанный листок, на обороте которого его рукою в 1960-е годы сделана пояснительная надпись: «М. А. Булгаков, дожидаясь меня и гонорара в ред[акции] «Недр» в 1924 г., изливал свою грусть в рисунках и афоризмах». На листке записи рукою Булгакова: «Телефон Вересаева? (каждая буква многократно обведена — в задумчивости. — М. Ч.). 2-60-28». Сбоку приписано: «Но телефон мне не поможет...» Справа вверху: «Туман... Туман...» Внизу: «Существует ли загробный мир? Завтра, может быть, дадут денег...» Еще ниже — рисунок тем же пером: автопортрет с отчаянными глазами. И справа — три пляшущих человечка, подобных иллюстрациям к «одноименному» рассказу Конан Дойла. Можно думать, что листок этот действительно полумашинально заполнялся
293
Булгаковым в тот момент, когда П. Зайцев оформлял его заявление на аванс. Когда именно это было? Возможно, в самом конце августа — 4 сентября П. Зайцев посылает Булгакову письмо, где от имени Ангарского торопит с повестью: «Итак, ждем завтра-послезавтра рукопись!»
Дни, когда Булгаков заканчивал повесть (которую, вполне может быть, задумал уже после того, как «Недра» отвергли «Белую гвардию»), запечатлелись в памяти еще одного мемуариста.
Через много лет Владимир Манасевич, к тому времени — Владимир Артурович Левшин, математик, литератор, опишет подробности жизни Булгакова в квартире его родителей. Воспроизводит он среди прочего и любопытный, слышанный им будто бы телефонный разговор Булгакова: «Он звонит в издательство «Недра»: просит выдать ему (в самый что ни на есть последний раз!) аванс в счет повести «Роковые яйца». Согласия на это, судя по всему, не следует.
— Но послушайте, — убеждает он, — повесть закончена. Ее остается перепечатать... Не верите? Хорошо! Сейчас я вам прочитаю конец...
Он замолкает ненадолго («пошел за рукописью»), потом начинает импровизировать развязку. Речь его изливается так свободно, такими плавными, завершенными периодами, будто он и вправду читает тщательно отделанную рукопись. <...> Через минуту он уже мчится за деньгами. <...> Между прочим, сымпровизированный Булгаковым конец сильно отличался от напечатанного. В «телефонном» варианте повесть заканчивалась картиной эвакуации Москвы, к которой подступают полчища гигантских удавов. В напечатанной редакции удавы, не дойдя до столицы, погибают от внезапных морозов...» Этот мемуарный эпизод примечателен в двух отношениях. Во-первых, вызывает доверие воспоминание о самой импровизации — рукописи Булгакова ясно показывают, что записывался уже сложившийся текст, что «муки слова», долгое размышление с занесенным над листом бумаги пером писателю были незнакомы — после того, как был обдуман сюжет, сама словесная ткань порождалась легко и быстро (что не исключало новых и новых редакций, начинавших весь текст заново). Во-вторых, небезынтересно, что незнакомый с этим вариантом Горький пишет Михаилу Слонимскому 8 мая 1925 года: «Булгаков очень понравился мне, очень, но он сделал конец рассказа плохо. Поход пресмыкающихся на Москву не использован, а подумайте, какая это чудовищно интересная картина!»
«В первую очередь повесть подходила для нашего сбор-
294
ника по объему, — вспоминает далее П. Н. Зайцев, — в ней было четыре печатных листа... Прочитав повесть, я передал рукопись В. В. Вересаеву (Ангарский по делам вылетел в Берлин). Вересаев пришел в полный восторг от прочитанного. В отступление от правил договоренности с Н. Ангарским, за которым осталось последнее слово, Вересаев принял повесть для очередного альманаха, и мы с ним условились сразу сдать его в набор. <...> Приехав в Москву и прочитав гранки, Ангарский пожурил нас за самоуправство, но в душе же остался доволен...
...Поэты, члены нашего кружка, собиравшиеся у меня в Староконюшенном, просили уговорить Булгакова прочитать повесть на одном из собраний. Всем очень хотелось его послушать. Я передал Михаилу Афанасьевичу их просьбу, и в первое же собрание он читал «Роковые яйца». Булгаков читал хорошо, и все слушатели высоко оценили редкостное дарование автора — сочетание реальности с фантастикой. Среди присутствующих у меня поэтов находился Андрей Белый. Ему очень понравилась повесть. Мне кажется, что при всем различии творческих индивидуальностей их обоих сближал Гоголь. А. Белый считал, что у Булгакова редкостный талант. Через год, в 1925 году, Белый написал первый том романа «Москва», где центральным персонажем был также гениальный первооткрыватель профессор Коробкин, подобно профессору Персикову у Булгакова, прокладывающий новые пути в науке: в «Р. Я.» открывается «луч жизни», а в «М.» Коробкин освобождает на благо и пользу человечества сверхэнергию атома.
Но странно: если А. Белый с интересом относился к Булгакову, ценил его как интересного, оригинального писателя, то Булгаков не принимал Белого.
Помню, однажды несколько позже я в разговоре с Михаилом Афанасьевичем произнес имя Белого.
— Ах, какой он лгун, великий лгун... — воскликнул Булгаков. — Возьмите его последнюю книжку (роман «Москва». — М. Ч.). В ней на десять слов едва наберешь два слова правды! И какой он актер!..
(Возможно, им замечена была зависимость Коробкииа от Персикова; немаловажен сам факт засвидетельствованного мемуаристом чтения Булгаковым романа Белого; на него самого, несомненно, многообразно воздействовала — несмотря на столь сильное и характерное отталкивание — проза «великого лгуна», и в первую очередь «Петербург», мимо которого не прошел, в сущности, ни один из тогдашних отечественных беллетристов. В одном из писем Н. Я. Бер-
295
ковского 1964 года — верные слова о «повседневном бессмертии» Белого: «он растворился в чужих душах и сознаниях, и так это будет передаваться дальше, от поколения к поколению». — М. Ч.).
«Роковые яйца» поссорили меня с А. К. Воронским, редактором «Красной нови». Он не мог мне простить, что из-под самого его носа выхватили интересную повесть. <...> С. Н. Ценский при встрече в Алуште заметил мне: «Роковые яйца» — единственное произведение в наших «Недрах», которое не скучно читать...» (вспомним отзыв Замятина о «Дьяволиаде» за год до этого).
Чтения упомянуты и в письме П. Н. Зайцева к Волошину от 7 декабря 1924 года: «Мы собираемся по средам. Читали: А. Белый — свой новый роман, М. Булгаков — рассказ «Роковые яйца».
Возможно, именно на своем чтении Булгаков и познакомился с Белым. Среди немногих сохранившихся в архиве Булгакова книг его личной библиотеки — «Московский чудак» А. Белого с дарственной надписью автора: «Глубокоуважаемому Михаилу Афанасьевичу Булгакову от искреннего почитателя, Андрей Белый (Б. Бугаев). Кучино. 20 сент. 26 г.». Булгаков в свою очередь подарил А. Белому свой сборник «Дьяволиада» — свидетельством этого служит записка П. Н. Зайцева от 7 октября, уцелевшая в архиве А. Белого: «Оставляю Вам: 1) книгу Булгакова «Дяволиада» — подарок автора, который был очень растроган Вашим вниманием...» (мы относим записку к 1926-му).
«Роковые яйца» заметит и Р. В. Иванов-Разумник и 10 ноября 1926 года напишет А. Белому: «В повести молодого (не без таланта) Булгакова рассказывается, что Мейерхольд был убит во время постановки в 1927 году «Бориса Годунова», сцены Боярской думы, когда его зашибли насмерть сорвавшиеся с трапеции голые бояре. Не так неправдоподобно, как кажется».
Е. С. Булгакова рассказывала со слов Булгакова о его первой встрече с Вересаевым (сыгравшим в эту осень активную роль в его судьбе). Один из слышавших ее рассказ опубликовал его в своей книге, которую мы и процитируем далее, поскольку вдова писателя, несколько недоумевавшая по поводу самого факта публикации, не оспоривала достоверность воспроизведения самой канвы ее рассказа (см. А. Лесс. Непрочитанные страницы. М., 1966). «Дождливым осенним вечером Булгаков позвонил в квартиру Вересаева. Дверь открыл сам писатель.
— Булгаков, — смущенно представился вошедший.
296
И от волнения почему-то снял галоши.
— Чем могу служить? — спросил Вересаев.
— Да, собственно, ничем, Викентий Викентьевич, — виновато пробормотал Булгаков... — просто хотел пожать вам руку... Ваша книга «Записки врача» мне очень понравилась.
Вересаев промолчал.
— Ну, до свиданья, — после минутного молчания сказал Булгаков и стал надевать галоши.
— Погодите, а фамилия-то как ваша? — спросил Вересаев, приставляя к уху сложенную рупором ладонь.
— Михаил Афанасьевич Булгаков.
— Так это вы — автор «Записок на манжетах»?
— Я самый.
— Голубчик вы мой, — воскликнул Вересаев, — что же вы мне раньше не сказали?.. Раздевайтесь, пожалуйста, заходите, гостем будете!»
В рассказе ясно ощутим налет литературной легенды, частично, как мы уверены, приданный ей самим Булгаковым при первых же исполнениях (возня с галошами и прочие сценические детали — характерные черты его устных рассказов, всегда превращавшихся в актерские показы), частично приобретенный во время перехода рассказа из одних рук в другие, но сама суть эпизода, по-видимому, верна. Нет только полной уверенности, что разговор Вересаева шел с автором «Записок на манжетах» — то есть в 1923 году, а не с автором также и «Дьяволиады» — то есть, возможно, в ту самую осень, когда Булгаков, сидя в редакции «Недра», чертил машинально строки: «Телефон Вересаева?.. Но телефон мне не поможет...» Далее на много лет писателей свяжет редкая по верности друг другу литературная дружба. Вересаев посчитает своим профессиональным долгом оказывать в первые годы разнообразную (в том числе и материальную) помощь младшему собрату по литературному цеху, а Булгаков, несмотря на острейшие творческие споры в середине 30-х годов, сохранит доверие к старшему.
Упрочение связей с «Недрами» — важная часть литературной жизни Булгакова 1924—1925 годов. Имя его встречается в «Записке» редактора «Недр» в партийные инстанции, датированной октябрем 1924 года. Документ этот весьма важен для понимания и литературно-издательской позиции Ангарского, и того, что могло располагать его и Булгакова друг к другу. «Относительно издательского плана могу сообщить, что таковой может быть представлен на срок не более трех месяцев; на больший срок изда-
297
тельство плана дать не может за отсутствием подходящего литературного материала.
План легко составить в других отраслях издательского дела, но не в области современной художественной литературы, — здесь приходится исходить из размеров творчества писателей, размеры же эти ничтожны. За последние два-три года появилось немного художественных произведений, которые издательство «Недра» могло бы напечатать.
Перспективы художественного творчества еще более неприглядны. Как можно говорить о творчестве, если у писателей нет элементарных условий для творчества, нет комнаты для работы. Вот примеры: Всеволод Иванов ночует в чужих квартирах и работать не может. Талантливый романист (токарь) Бибик высылается из Ростова-на-Дону только за то, что когда-то давно был меньшевиком — высылается как раз в то время, как он снова стал писать и присылает нам неплохие вещи. Курьез заключается в том, что его романы мы усиленно рекомендуем рабочим.
Талантливый беллетрист Булгаков не имеет денег для оплаты комнаты» (с текстом «Записки» любезно ознакомила нас M. H. Ангарская).
Современную литературную ситуацию Ангарский рисовал, не смягчая выражений: «Конечно, литературного хлама хоть отбавляй: негодные рукописи покупают в редакции пудами, графомания развивается быстрее, чем госпромышленность.
Другая трудность в составлении длительного плана заключается в том, что многие вполне литературные вещи в «Недрах» не подходят: одни в силу того, что слишком уж модерны и рабски подражательны (Вл. Лидин), другие по форме и содержанию не подходят: А. Белый, А. Ремизов, Б. Пильняк, И. Эренбург. (Это был тот самый ряд, который мог бы выстроить и Булгаков. Разница уровня таланта объединенных в этом ряду писателей обоих не смущала. «Записка» Ангарского может служить в этом смысле источником для реконструкции нередких бесед редактора со своим автором на литературные темы. — М. Ч.) «Недра» ставят своей задачей представлять реализм в искусстве, здоровый, крепкий, понятный миллионам людей, а потому произведения, написанные вычурным, дерганым, нарочито путаным (чуть-чуть не «под Достоевского») языком, «Недра» не принимаются. Мы отвергли все «такие сложные» интеллигентские переживания, все эти бездны и «провалы души» у А. Белого, Эренбурга и К°. Мы стоим на той точке зрения, что если у автора есть что сказать,
298
если он одержим мыслью и потребностью эту мысль выразить, то форма явится сама собой и она будет так же ясна и проста, как мысль, и вполне ей соответствовать.
Но если у писателя нет никакой идеи, если он берется за перо не для того, чтобы выявлять эту идею в самом процессе написания, если он, как принято теперь говорить, находится в «процессе мучительных исканий», то ясно, что и форма у такого писателя будет такой же путаной, как и содержание».
Столь разные редакторы, как И. Лежнев и Н. Ангарский, находили в Булгакове одно и то же необходимое им качество — внешнюю освобожденность от «мучительных исканий», готовность предъявить читателю не поиски, а результат. И во многом это же свойство его прозы заставило пройти мимо нее тонких и проницательных критиков — Эйхенбаума и Тынянова, который писал в статье, печатавшейся летом того же 1924 года: «В период промежутка нам ценны вовсе не «удачи» и не «готовые вещи». Мы не знаем, что нам делать с хорошими вещами, как дети не знают, что делать с хорошими игрушками. Нам нужен выход. «Вещи» же могут быть «неудачны», важно, что они приближают возможность «удач» («Промежуток»). Позиция Шкловского была более сложной, зависимой и от лично-биографических обстоятельств.
Дело не в слепоте одних или прозорливости других (не забудем, что «Белую гвардию» Ангарский печатать не стал), а в том движении литературного процесса, в котором слишком часто остается неузнанным современниками «наилучшее» художественное качество — и оно же становится видимым, различимым на каком-то ином витке литературного движения.
Ангарский выстраивал еще один, также неприемлемый для него ряд: «Не печатает издательство «Недра» и «сусальное золото», «преображенный народ» у Ремизова и его школы, народ под Нестерова и Васнецова, такого народа нет и все попытки «народных» поэтов: Клычкова, Клюева, Есенина — изобразить народ путем его стилизации под старину, сдобрив церковностью, говорят лишь о том, что эти авторы пытаются уйти от жизни и действительности в «светлое уединение», в далекую, древнюю мужицкую Русь и размазывают сусальным золотом то, что надо называть своим именем и просто...» Пожалуй, и к этим жестким идеологизированным оценкам Булгаков мог в определенном отношении присоединяться — гражданская война если не породила, то во всяком случае укрепила его скеп-
299
тическое отношение к обоготворению мужика; в это время уже написана, наверно, та сцена «Белой гвардии», где обмороженный Мышлаевский выкрикивает: «...это местные мужички — богоносцы достоевские!.. у-у... вашу мать!» Заведующий четвертой полосой «Гудка» И. С. Овчинников описывает в своих воспоминаниях «один давнишний наш с ним разговор. Деревня еще бурлила. Крестьяне то подожгут помещичью усадьбу, то учинят расправу над самим помещиком.
Булгаков шутит:
— Ликуйте и радуйтесь! Это же ваш народ-богоносец! Это же ваши Платоны Каратаевы!»
В «Записке» Ангарский ставил вопрос: «Как же мы относимся к пролетарским писателям?» Отвечал он на него так: «Говоря о «пролетарских», мы имеем в виду тех писателей-интеллигентов, которые, если не целиком, то в значительной мере стоят на точке зрения пролетариата». Этот человек, сам, несомненно, стоявший «на точке зрения пролетариата», полагал, что вне интеллигентной среды литературу добыть невозможно — иначе получается тот самый «воображаемый пролетарский писатель», которого конструировал, тут же его и пародируя, Михаил Зощенко («...я пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде, — писал Зощенко в 1928 году. — Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере, сейчас. А когда будет существовать, то его общественность, его среда значительно повысятся во всех отношениях». — Подчеркнуто нами. — М. Ч.).
Ангарский приводил примеры тех «пролетарских» поэтов и беллетристов, которых он печатает (Тихонов, Серафимович, Бахметьев и так далее). «Но вот сборник группы «Твори» во главе с Кречетовым-Волжским мы отклонили, как бездарную литературщину. (Двойные фамилии в литературе роковым образом бездарны, зачем какому-нибудь Сидорову быть Кречетовым-Волжским или Лара-Перским?) Взять красивое имя легче, чем написать хорошую вещь». Перечитывая эти строчки, думаешь, что сам темперамент Ангарского должен был импонировать Булгакову. И прямые совпадения саркастических оценок можно видеть в фамилиях, которые даст Булгаков в одной из пьес литераторам-графоманам: Пончик-Непобеда и Марьин-Рощин («Адам и Ева» 1931).
Дальнейшие страницы «Записки», важные во многих
300
отношениях, можно рассматривать и как едва ли не прямое обоснование интереса Ангарского к творчеству Булгакова — и особенно к его третьей повести, к работе над которой автор скоро приступит. «Пролетарские писатели подпадают сплошь и рядом под дурное влияние, — писал Ангарский. — Мы смотрим вдаль и видим не то, что есть, а нами же написанный идеал. Видим дальнейшее. Подражательные же вирши по большей части под Сурикова и Кольцова, в редких случаях под Блока, рассматриваются нами всецело под углом зрения социального происхождения автора. Мы подыгрываем, переоцениваем и тратим бумагу на бездарные упражнения вместо того, чтобы прямо сказать: брось, не пиши, иначе схватишь болезнь неизлечимую, хуже сифилиса. Надо знать прошлое русской литературы, понимать и чувствовать классиков. Само преодоление буржуазной литературы невозможно без знакомства с ней. Знают ли пролетарские писатели эту литературу? Приобщают ли к ней молодежь? Нет. А если так, то не видать нам низовой рабочей литературы». Но была и граница, за которой схождения Ангарского с Булгаковым, пожалуй, если не кончались, то усложнялись: «Можно с ненавистью относиться к типам и образам Толстого, Тургенева, Достоевского. Но нельзя не восторгаться их красотой, мастерством рисунка. Я вполне допускаю совсем не связанные с прошлым мироощущения и мироотношения. Допускаю совсем новый комплекс ощущений, но нельзя выявить эти ощущения и переживания, нельзя облечь их в художественную форму без актуальной подготовки, без художественного воспитания». Это уже созревала идея «литературной учебы». «Редакция «Недр» усиленно ищет новых авторов в общественных низах. Мы готовы терпеливо править рукописи, советовать, обсуждать, оказывать товарищескую поддержку, но пока еще не знаем ни одного сколько-нибудь замеченного дарования.
Но мы верим, мы чувствуем: он придет.
Если мы не печатаем «стилизаторов» русского народа (Клычкова, Клюева), то мы не печатаем и его хулителей, мы не печатаем Бабеля за его презрительное и хамское отношение к мужику («грязная вшивая сволочь»). Отношение Ив. Бунина к русскому народу — отношение земского начальника».
Здесь вкусы их расходились — Бунина Булгаков, видимо, любил, к Бабелю же относился с раздражением; Л. Е. Белозерская засвидетельствовала это в своих печатных воспоминаниях, подтвердила и в разговорах. Нужно
301
учитывать, что слова героев Бабеля, сказанные о русских, именно на тогдашнем общественном фоне оказались для Булгакова несправедливо неотличимыми от позиции автора, шокировали его. Действовало и то обстоятельство, что в тот момент Бабель находился в апогее славы. «Бабель жил против нас — в Чистом переулке, — рассказывала Белозерская. — Бабель был очень известен (она подчеркивала это голосом). У Бабеля было большое реноме. О нем говорили, писали... и вообще...» Она затруднялась в выборе слов, вспоминая о том сложном переплетении социально-политических аспектов, особенностей литературной атмосферы, когда возникала эта поляризация. Мы хотели бы предостеречь читателя от плоского и грубого ее истолкования. От бытового раздражения далеко до того, что человек мог бы назвать убеждением, литературная оценка не тождественна оценке личности и тем более — целой этнической общности. В ранней редакции повести «Роковые яйца» жену Рокка звали не Маня, а Дора, национальность обеих подчеркивалась; но в те же самые годы, когда он хотел выбрать самое страшное и отталкивающее из виденного — он описал убийство еврея на мосту в последней главе «Белой гвардии» и описал убийц с тем накалом ненависти и омерзения, выше которого, пожалуй, не подымался на страницах своей прозы. Какая бы то ни было национальная идея с насилием и произволом впридачу пленить его никоим образом не могла. И пережив все первое пореволюционное десятилетие, в самом доверительном своем сочинении, обращенном к «Тайному Другу» (1929), он вновь опишет страшные последствия национальной ненависти как самую саднящую страницу памяти.
Вернемся еще раз к «Записке» Ангарского. Перечислив тех, кто по тем или иным причинам для «Недр» не подходит, он писал: «Остаются «попутчики» разных настроений и идеологий. Они сейчас заняли центральное место в литературе. Попутчики они, поскольку сама жизнь их тащит за нами: «попутчики» поневоле. Но было бы слишком смешно требовать от них полного восхваления и реабилитации нашей действительности, полного ее принятия. Они по большей части талантливы и берут жизнь как она есть, срывая, конечно, с вещей и явлений подвешенные нами ярлыки. С виду получается как будто оппозиция, фронда, а на самом деле нам показывают подлинную действительность, которую мы в шуме повседневных событий не видим и от которой закрываемся этикетками, подвесочками, ярлычками.
302
Такое художественное отображение жизни нам не страшно, ибо безобразия и глупости, пошлости в нашей жизни хоть отбавляй. Молчалины, Загорецкие, Ноздревы, Хлестаковы безнаказанно гуляют по белу свету (эти слова были как нельзя более близки Булгакову, возможно, знакомому с содержанием «Записки» Ангарского, — он сравнительно недавно опубликовал «Похождения Чичикова» и именно этот рассказ неоднократно выбирал, как увидим, для публичного чтения на вечерах в Москве и Ленинграде. — М. Ч.). Не переводятся и советские Митрофанушки. И в писаниях «попутчиков» мы прежде всего стараемся отсекать самое главное: отношение к революции и новой жизни. Вот почему мы немало забраковали вещей, проникнутых буржуазным отношением к революции в целом. Но если бы мы проявили к «попутчикам» хоть некоторую долю внимания, не критиковали бы их как «беглых каторжников», не считали бы за людей «свободной профессии» (облагавшихся высоким налогом, в отличие от «трудящихся». — М. Ч.) и не выселяли бы из квартир, мы достигли бы многого: они скорее пошли бы за нами, а не тащились бы, как сейчас».
Независимо от того, что думал Булгаков об операции «отсечения» и о том, каким образом проделывал ее Ангарский в его произведениях, определяя его отношение к предметам, самым существенным для редактора, — от некоторой доли внимания он не отказывался. В расчете на это внимание и понимание он и собирался вскоре предложить Ангарскому свою новую повесть.
5
В дом на Садовой по-прежнему ходили литераторы «Гудка». Приходил Олеша, которого Татьяна Николаевна не любила (не нравилось, что, по ее словам, он быстро пьянел, бывал несдержан). Примечательно, что роман «Белая гвардия», хорошо принятый в среде старомосковской, здесь совершенно не произвел впечатления. Об этом говорят устные воспоминания Катаева (в нашей беседе в июле 1976 года).
«Вообще мы тогда воспринимали его на уровне фельетонистов дореволюционной школы, — фельетонистов «Русского слова», например, Амфитеатрова... Дорошевича, — вспоминал В. Катаев. — Но Дорошевич хоть искал новую форму, а он не искал. Мы были настроены к этим фельетонистам критически, а это был его идеал. Когда я как-то
303
высказался пренебрежительно о Яблоновском, он сказал наставительно:
— Валюн, нельзя так говорить о фельетонистах «Русского слова»!
Вообще я-то был бунинец. И для меня, помню, было удивительным, как вдруг Булгаков прочел наизусть конец «Господина из Сан-Франциско». Блок, Бунин — они, по моим представлениям, для него не должны были существовать! Его литературные вкусы должны были кончаться где-то раньше...»
Конец «Господина из Сан-Франциско» — «...Мрак, океан, вьюга» — читает в «Белой гвардии» Елена. Весь же рассказ послужил, на наш взгляд, импульсом к зарождению во втором романе Булгакова всей сюжетной линии, связанной с Берлиозом; внезапная смерть человека, уверенного в своей власти над жизнью, — важный (и далее расшифровываемый) знак, поданный окружающим.
Он был для нас фельетонистом, — повторял Катаев, — и когда узнали, что он пишет роман, — это воспринималось как какое-то чудачество... Его дело было сатирические фельетоны... Помню, как он читал нам «Белую гвардию» — это не произвело впечатления... Мне это казалось на уровне Потапенки. И что это за выдуманные фамилии — Турбины! (Катаев не знал, что это — фамилия бабушки Булгакова по матери. — М. Ч.). <...> Вообще это казалось вторичным, традиционным.
А что казалось первичным — Пильняк?
Ну, не-ет! Но знаете, я недавно перечитал его и понял, что это большой писатель. <...>
Что же было для вас тогда большой литературой?
«Петербург» Белого — мы молились на него. Сологуб... Алексей Толстой... Булгаков никогда никого не хвалил... Не признавал... Мы все время были страшно увлечены чем-то — вдруг, например, Вольтером. У него были устоявшиеся твердые вкусы. Он ничем не был увлечен. <...> Тогда был нэп, понимаете? Мы были против нэпа — Олеша, я, Багрицкий. А он мог быть и за нэп. Мог. <...> Вообще он не хотел колебать эти струны (это Олеша говорил: «Не надо колебать мировые струны») — не признавал Вольтера. <...> С виду был похож на Чехова...» «Ничем не был увлечен» — это не что иное, как точно отмеченная «пронзительным взглядом» (как сам он определил свой взгляд в нашем последнем разговоре 30 декабря 1985 года) Катаева холодность к современной литературе, подчеркнутая выключенность из текущих литературных споров. Существовала одна
304
только русская литература прошлого века, не преумножавшаяся и не убавлявшаяся, не подвластная, с его точки зрения, колебаниям оценок. Напомним еще раз его слова о «явлении Льва Толстого русским читателям».
«Однако и у Льва Николаевича Толстого бывали огрехи в его работе, — прозвучал вдруг голос Серафимовича, — Михаил Афанасьевич напрасно считает, что у Льва Толстого нет ни одной непогрешимой строки!» «Ни одной! — убежденно, страстно сказал Булгаков. — Совершенно убежден, что каждая строка Льва Николаевича — настоящее чудо. И пройдет еще пятьдесят лет, сто, пятьсот, а все равно Толстого люди будут воспринимать как чудо!»
Дружил ли Олеша с Булгаковым? — спрашивали мы 21 мая 1971 года вдову Олеши Ольгу Густавовну Суок.
Да, очень. В двадцатые годы они почти каждое утро звонили друг другу. «Здравствуйте, Юра. — Миша, я болен (она произносила глубоким, низким, значительным голосом, с закрытым «о»). — Чем же, Юрочка?..» Начинался профессиональный разговор. Булгаков серьезно давал ему советы: — Не пейте... Пейте чай. — Они уморительно говорили о женщинах. Это трудно передать, тут дело было в оттенках, интонации...
Дружеские отношения с обоими «гудковцами» сохранялись главным образом в то время, пока он жил в доме на Большой Садовой. Но Л. Е. Белозерская рассказывала, что Олеша бывал и позже — «Булгаков называл его Малыш».
След этих отношений и споров о современной литературе — в надписи, сделанной Ю. Олешей 30 июля 1924 года на сборнике его стихотворных фельетонов, печатавшихся в «Гудке» под псевдонимом «Зубило»: «Мишенька, я никогда не буду писать отвлеченных лирических стихов. Это никому не нужно. Поэт должен писать фельетоны, чтобы от стихов была польза для людей, которые получают 7 рублей жалованья.
Не сердитесь, Мишунчик, Вы хороший юморист (Марк Твен — тоже юморист). Через год я подарю Вам еще одно «Зубило». Целую. Ваш Олеша» (подчеркнуто нами. — М. Ч.).
Итак, для Олеши, как и для других гудковцев, Булгаков — по-прежнему преимущественно юморист, автор фельетонов, смешных рассказов, обильной комическими положениями «Дьяволиады», повлиявшей, заметим, на авторов «Двенадцати стульев».
29 сентября 1924 года приходит корректура первой части «Белой гвардии», но вышла эта журнальная книжка лишь в начале 1925 года («Россия», 1925, № 4).
305
Поздней осенью 1924 года в его нелитературной жизни произошли существенные перемены.
Татьяна Николаевна рассказывала нам об этом так: «Однажды в конце ноября, то ли до именин своих (21 ноября. — М. Ч.), то ли сразу после, Миша попил утром чаю, сказал: «Если достану подводу, сегодня от тебя уйду». Потом через несколько часов возвращается: «Я пришел с подводой, хочу взять вещи». — «Ты уходишь?» — «Да, ухожу насовсем. Помоги мне сложить книжки». Я помогла. Отдала ему все, что он хотел взять. Да у нас тогда и не было почти ничего.
...Потом еще мадам Манасевич, наша квартирная хозяйка, говорила мне: «Как же вы так его отпустили? И даже не плакали!» Вообще в нашем доме потом долго не верили, что мы разошлись — никаких скандалов не было, как же так?.. Но мне, конечно, долго было очень тяжело. Помню, я все время лежала, со мной происходило что-то странное — мне казалось, что у меня как-то разросся лоб, уходит куда-то далеко-далеко...
Ну вот, а на другой день, вечером, пришел Катаев с бутылкой шампанского — в этот день должна была прийти сестра Михаила Леля, он за ней ухаживал. Тут звонок. Я думала — Леля. А это пришел Михаил, с Юлей Саянской. Сидели все вместе. Не помню уж, пили это шампанское или нет». Татьяна Николаевна оставалась не просто одна, но без какой бы то ни было профессии и даже без профсоюзной книжки, что поставило ее вскоре в тяжелую материальную ситуацию — даже при эпизодической поддержке Булгакова.
В эти же дни, когда Булгаков искал нового пристанища (что было не просто), 27 ноября 1924 года «Недра» заключили с ним договор на сборник рассказов в 8—10 листов (то есть 200—250 стр. машинописи).
Итак, ожидался выход первой в жизни книги, печатался в журнале «Россия» роман, на который в течение нескольких лет возлагались главные надежды писателя, давно сформировавшегося, но на поле литературной жизни все еще остававшегося в статусе начинающего: тот роман, мечтанья о котором угадываются еще в рассказе 1923 года «Самогонное озеро», погруженном в невозможный быт квартиры № 50:
«...Жена <...> сказала:
Больше я не могу. Сделай, что хочешь, но мы должны уехать отсюда.
Детка, — ответил я в отчаянии. — Что я могу сделать? Я не могу достать комнату. Она стоит 20 миллиардов, я по-
306
лучаю четыре. Пока я не допишу романа, мы не можем ни на что надеяться. Терпи.
— Я не о себе, — ответила жена. — Но ты никогда недопишешь романа. Никогда. Жизнь безнадежна. Я приму морфий.
При этих словах я почувствовал, что я стал железным. Я ответил, и голос мой был полон металла:
— Морфию ты не примешь, потому что я тебе этого не позволю. А роман я допишу, и смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко».
В преддверии Нового года он ждал выхода первого своего романа, о котором только что написал в автобиографии (окт. 1924): «Роман этот я люблю больше всех других моих вещей». Новый год нес обещания новой жизни, литературной славы, достатка, которого за три с лишним года жизни в Москве добиться не удалось. Квартира (входившая, как помним, в задачу «в три года восстановить норму») оставалась одним из самых несбыточных мечтаний.
С Л. Е. Белозерской Булгаков поселился сначала в школе, где преподавала сестра Булгакова Н. А. Земская, — на антресолях (похожих на хоры) бывшей гимназии на Никитской, а вскоре арендует комнату на втором этаже флигеля дома № 9 по Обухову (Чистому) переулку.
В воспоминаниях П. Н. Зайцева рассказано, как встретил Булгаков этот Новый год: «Припоминается мне наша встреча с М. А. под новый, 1925 г. Меня пригласили на встречу Нового года в одну компанию с условием, что я приду в маскарадном костюме. Я дал согласие и в поисках подходящего и не очень расхожего костюма решил зайти к Булгаковым. У Любови Евгеньевны оказалось несколько маскарадных костюмов, которые я стал примерять, заодно я предложил Булгаковым пойти вместе. Жена отказалась, а он неожиданно согласился.
По дороге Михаил Афанасьевич предложил мне разыграть в гостях небольшую комедию:
— Вы знаете, Петр Никанорович, этот дом, а меня там никто не знает, давайте их разыграем. Представьте меня как иностранца...
Когда мы подошли к дому и поднялись по лестнице, М. А. надел небольшую черную масочку. Так мы и появились. Я разыграл роль переводчика (изъяснялись мы на французском языке, которым Булгаков владел лучше меня), а он изображал из себя богатого господина, приехавшего в Москву, чтобы получше ознакомиться с русскими обычаями. Нас угощали чаем и сластями, и в течение часа мы разы-
307
грывали наш безобидный водевиль, но вот пробило 12, и мы, поздравляя друг друга, сняли маски. Так мы встретили 1925-й год!» (Заметим, что еще одну — то есть по меньшей мере третью мистификацию этого же рода вспоминает в своем мемуарном рассказе о Булгакове К. Паустовский.) Так репетировалась сцена скорого появления «иностранца» на Патриарших прудах.
В этот год упрочиваются связи с тем кругом, в котором оказался Булгаков в доме Заяицкого, а затем у Ляминых — в комнате, где был большой удивительно красивый камин, и в холодную московскую зиму, когда в квартирах топили плохо и было всегда холодно, именно к Ляминым собирались для литературных чтений, да и для других событий. Набиралось до тридцати гостей, батареи грели, в комнате с очень высоким потолком было всегда тепло, уютно. Стояла стильная мебель.
С Николаем Николаевичем Ляминым, выходцем из богатой купеческой семьи, филологом, Булгаков быстро подружился; приходил к нему играть в шахматы. Жена Лямина, художница Ушакова, брала тогда в руки вязанье, а Булгаков сердился — это не вписывалось, видимо, в его представления о «норме» поведения хозяйки дома. «Он терпеть не мог, когда я вязала», — вспоминает Н. Ушакова.
В этом кругу коренных москвичей обнаружились, однако, и давние знакомые — «С Натальей Иосифовной Бехтеевой (женой художника), — вспоминает Н. Ушакова, — он был знаком по Киеву, у них были рядом дачи».
Этот круг в середине 20-х годов был связан «служебно» главным образом с Государственной академией художественных наук, открывшейся в 1922 году в Малом Левшинском переулке (в этот переулок скоро переедет и Булгаков). Академия размещалась на двух этажах, на первом жил служивший также в Академии искусствовед Борис Валентинович Шапошников, красавец, с породистым лицом, изящными движениями. С ним и его женой, некрасивой и умной Натальей Казимировной, Булгаков тоже вошел в не очень близкие, но дружеские отношения.
Сохранились яркие воспоминания Н. А. Северцовой, дочери выдающегося зоолога А. Н. Северцова, жены искусствоведа А. Г. Габричевского, об этой среде, куда входили сначала художники Фальк и Кандинский, филологи Ф. А. и М. А. Петровские, братья. «Они приходили к нам, велись умные разговоры, споры, выясняли, кому что делать, что читать». Приходил философ Г. Г. Шпет, «чем его сильнее прижимали в споре, тем лицо его становилось более одухо-
308
творенным, по-кошачьи хищным, он отвечал так, что все начинали смеяться и ничего не могли ответить, а он был в восторге победителя»; «Сюда входили все новые и новые люди, которые питались разумом друг друга, часто совершенно противоречивые и непримиримые; вот они-то в спорах и выясняли каждый свое. По вечерам ходили в гости, пили водку, ходили по арбатским подвалам пить пиво, ели мало, веселились много и никто не роптал на жизнь. Делали свое дело, получали гроши и через две недели сидели без копейки до получки». «Габричи» жили в квартире профессора А. Н. Северцова (до 1911 года преподававшего в Киевском университете) — в Зоологическом музее на Никитской улице (ныне ул. Герцена). Этому зданию суждено было стать главным местом действия повести «Роковые яйца». Страницы воспоминаний Н. А. Северцовой (с ними любезно ознакомила нас ее племянница О. Северцова), посвященные отцу, заставляют думать, что впечатления от оригинальной личности замечательного ученого (вполне возможно, запомнившегося еще с университета), от его внешности и бытового уклада отразились в облике профессора Персикова. «Любовь к животным, — вспоминает дочь Северцова, — в нашем доме была у всех. Не было ни одного живого существа противного или отвратительного. Гадюка ядовита и ее приручить нельзя. Тарантул ядовит особенно весной и т. д., а лягушка очень хороша, особенно большая — зеленая и квакает».
Отец «не был верующим, в церковь ходил только в необходимых случаях»; «был выше среднего роста, широкоплеч, сутуловат, с длинными руками... Я всегда любовалась, как он брал тонкие покровные стеклышки со стола, брал сразу за края, они не выпадали из рук, и клал их совершенно точно без поправок за редким исключением. Но наряду с этим постоянно стукался плечом, задевал карманами за ручки дверей, все предметы и стены, попадавшиеся на пути, задевал. Только и было слышно, что ударился или задел, и вечная реплика: «А, черт!» Черт сидел на его устах. «Черт побери», «А какого черта», «Черт с ним», «Ни черта не видно», «Чертова кукла» — во всех случаях и интонациях черт».
О повести Булгакова дочь профессора не упоминает — тем выразительнее кажутся нам параллели к зафиксированным ею реалиям. Процитируем фрагменты из повести «Роковые яйца» — о профессоре Персикове: «росту высокого, сутуловат»; «Ведь это сулит черт знает что такое!..»; «Гони его к чертовой матери» — монотонно сказал Персиков...»; «Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей игры... тогда
309
пожалуй... черт, ну около этого количества...»; «Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете...»; «А ну их всех к черту! — тоскливо вскричал Персиков...»; «Не буду я пить никакого чаю... и черт их всех возьми...»; «Да черт его знает, — бубнил Персиков. — Ну, противная физиономия. Дегенерат.
А глаз у него не стеклянный? — спросил маленький хрипло.
А черт его знает. Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза», и т. п. Персикову в мае 1928 года (куда отнесено действие повести, писавшейся в октябре 1924-го) «ровно 58 лет» — столько же, сколько Северцову осенью 1924 года, когда пишется повесть; именно у Булгакова, любившего переносить в свой текст точные прототипические детали, такое мелкое совпадение может говорить в пользу нашего предположения.
Имя ассистента профессора Персикова — Петр Степанович Иванов, а имя ученика Северцова — Борис Степанович Матвеев; отметим и других обитателей Зоологического музея в описании Н. А. Северцовой: «Внизу жили служители кафедры сравнительной анатомии и зоологического музея. Старший служитель и препаратор Феликс, его жена и дочь. Там жили еще две его племянницы и брат Феликса, следивший за лягушками в аквариуме, крысами и другими подопытными животными. Феликс был старый, ему было лет шестьдесят, почтенный старик, всеми уважаемый. Худенький, небольшого роста, с седой бородкой и торчащими вверх седыми волосами; немного сгорбленный, но очень подвижный и обязательный. Поручения исполнял с абсолютной точностью, аккуратностью. Алексей Николаевич не мог жить без Феликса. «Наташка, сбегай вниз, позови Феликса».
И в «Роковых яйцах» упомянут умерший в 1920 году «бессменный сторож института старик Влас», а на месте его появляется Панкрат, без которого герой повести тоже жить не может и во всех затруднительных случаях первым делом кричит: «Панкрат!»
Профессор Северцов жил, как и Персиков, под Зоологическим музеем, кабинет же его размещался на втором этаже — за музеем. В 20-е годы в этой квартире жили и молодые Габричевские, у которых Булгаков был во всяком случае 31 декабря 1925 года — на встрече Нового года. Но вполне вероятно, что бывал он там и раньше, и впечатления от Северцова, замечательного ученого и оригинальной личности, претворились в повести.
310
Напомним еще раз — тот круг, в который он входил теперь, переселившись в пречистенские переулки, был очень отличен от разношерстной, сближенной одной лишь принадлежностью к литературному цеху, состоявшей из людей, съехавшихся в Москву из разных городов России, среды «Зеленой лампы» или «Гудка».
Разносторонне образованные, веселые, жизнелюбивые, по большей части хорошо обеспеченные люди, с которыми он встретился в середине 20-х годов, составляли с юных лет одну компанию, в которую они — одни охотно, другие со сдержанностью, с некоторым снобизмом выходцев из богатой столичной среды — приняли Булгакова. Можно предполагать, что сложность будущего отношения его к этой среде была связана и с этими первоначальными впечатлениями от общения с ней, хотя главные причины постепенного от нее отхода коренились глубже.
«Он был про-вин-ци-а-лен! — раздельно произнес один из наших собеседников, вспоминая свои впечатления полувековой давности, не стертые временем. — Вот и все! И когда он увидел таких людей — уже в зрелом возрасте, он почувствовал зависть и иногда оступался — от этого своего комплекса неполноценности, по Фройду!... Три года назад я ехал в экскурсионном автобусе по Киеву. Проезжаем мимо одного дома и экскурсовод объясняет: «В этом доме жил великий русский писатель Булгаков.» И я подумал: «Да, великий — в Киеве!»
...Дело в том еще, что Булгаков был хам. Я видел его однажды за столом, где был и он, и Заяицкий. Где сидел Булгаков — там было пустое место! Вы понимаете — я говорю не об уме, а о том умении вести себя в обществе... Он не умел вести себя с людьми. Попросту говоря, он был хам! Александра Сергеевна Лямина рассказывала, что однажды он, думая, что никто его не видит, достал из кармашка платочек и вытер им ботинки! ...Тут большая проблема, которая состоит в том, что такое в искусстве второй сорт. Есть такая машинка для папирос, на ней написано: «Идеал второй сорт». Я не хочу сказать, что Булгаков был второй сорт, но что-то близко к этому». Булгаков не мог не чувствовать даже малых доз такого отношения.
В этой среде любили друг друга; любили «своих». С. В. Шервинский рассказывал нам об Александре Сергеевне Л яминой так: «Очень умная, тактичная. Она была урожденная Прохорова, отец ее— нумизмат, отошедший от купеческих дел. Она очень рано заняла блестящее положение в нэповской Москве — была портнихой у правительства,
311
настоящая художница... У нее было очень прочное положение». Добавим, что мастерская ее была в доме Топленниковых; швейные дела вообще занимали немалое место в этом быту — у Любови Евгеньевны сохранилась картинка-ребус, который она расшифровала нам так: «Любочка Булгакова хорошая швея».
В анонимных мемуарах автора, хорошо знающего эту среду, поясняется, что реплики «дамы» в «Собачьем сердце» (« — Клянусь, профессор, — бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, — этот Мориц... <...> Это моя последняя страсть!») «связаны с тем, что очаровательная Александра Сергеевна Л ямина, первая супруга H. H. Лямина, в свое время совершенно потеряла голову от любви к В. Э. Морицу, оставила мужа и ушла к Морицу. Владимир Эмильевич, живший с женой и дочерью на Остоженке 7, расторг свое первое супружество, a H. H. Лямин в 1922 году женился на Н. А. Ушаковой. Михаил Афанасьевич приехал в Москву уже после всех этих волнующих событий, но разговоры не утихали, Мориц прослыл соблазнителем-сердцеедом». С. В. Шервинский рассказывает: «В. Э. Мориц происходил из семьи фабрикантов Якунчиковых. Его мать, Зинаида Васильевна, урожденная Якунчикова, с раннего возраста развивала в сыне деловые качества, он еще юношей стал у нее управляющим делами; потом на все это плюнул и поступил на филологический факультет Московского университета... Он заведовал в Париже советским павильоном на международной выставке.
...Стол обычно держали у Ляминых. Почему? Во-первых, Лямин был умный и блестящий человек сам, затем, во-вторых, у него была обаятельная жена, и затем, в-третьих, они были богаты, что было немаловажно! Лямин получил воспитание у адвоката Горенштейна — он и сохранил ему наследство (Лямин был сирота)».
Прадед Н. А. Ушаковой был, по ее рассказам, из крестьян Тамбовской губернии; «Послал сына к родственникам в Петербург; у тех было садоводство, они снабжали весь город; дед был тоже способный человек, как и прадед; женился на дочке хозяина, стал на ноги; купил именье и подарил сыну, биологу — отец мой, Абрам Абрамович Ушаков, кончил естественный факультет Петербургского университета. В 1917 году отец сам отдал именье крестьянам, там был сад и лес, равный саду... Из времени до 17-го года я жалею только имение — это был настоящий оазис в степи...» (Сохранившиеся от тех лет прекрасного качества фотографии запечатлели залитые солнцем, с играющими
312
пятнами теней от листвы, полные умиротворения и целиком утраченного впоследствии изящества быта картины летней жизни владельцев этого имения).
Как художница, она свидетельствует: «Булгаков художниками абсолютно не интересовался — ни живописью, ничем. Вот как есть люди без слуха. Я уж не говорю, что он не интересовался, скажем, той мебелью Людовика XVI-го, которая у нас стояла. Когда он к нам часто приходил днем — стол стоял перед диваном, а над диваном на стене висел Сапунов, занавес к «Мещанину из дворянства». А он сидел обычно напротив — казалось бы, с его интересом к Мольеру, это должно было его заинтересовать. Но он только поддразнивал меня: «Какая у тебя ужасная картина!» Его могло интересовать разве что кто изображен на картине...»
Назовем еще одно лицо из этого круга — Лодю Авилова — Всеволода Авилова, сына Лидии Алексеевны Авиловой, столь близко связанной когда-то с Чеховым, жителя одного из близких к Пречистенке переулков — Гагаринского («Арбатские переулки... Гагаринский, Сивцев-Вражек, Власьевские, Афанасьевские, Хрущевский... Ограниченные с одной стороны Арбатом, а с другой — Пречистенкой... С громадной липой в Гагаринском, долго по осеням стоявшей золотым шатром над переулком. С особняками Нащокина и Штейнгеля... Как вместо Плотникова угодишь в параллельный Денежный, так и промахнешься и выйдешь в Левшинские, а не в Гагаринский. И кружишь вокруг церкви Успения на Могильцах, покуда выберешься», — описывает эти места в своих неопубликованных воспоминаниях «Всеволод Авилов — судьба и время» его жена Н. С. Авилова). Автор бесконечного количества стихов о Москве («Судорожно мной Москва любима В дни, когда своим беззубым ртом Оттепель жует гнилую зиму, Навалясь на крыши животом...»; «Апрель. Весенняя Москва! Как небо сине, воздух кроток! Из-за домов, из-за решеток Смеется клейкая листва... Вот дама, девочка и няня Прошли тенистой стороной, Рысак промчался вороной, Удары мощные чеканя. Внезапно вырвались в окно Из комнат гаммы на рояле. Как это все сто раз видали! Как это дорого давно!...»), автор «Арбатских афоризмов», которые он вычитывал из записной книжечки друзьям, любившим собираться у него в Гагаринском. В те годы он был женат на портнихе, шившей дамские платья (еще одна портниха в этом кругу; будто бы он уступил ее просьбе обезопасить ее от фининспекторов — и по этому поводу также сложил стихи: «Его мечтательная муза В чаду
313
угарных наших дней вступила в члены профсоюза трудящихся и честных швей...»).
Юношеские стихи Авилова нравились еще Бунину, что тоже было известно; в двадцатые годы, когда университетский приятель H. H. Лямин знакомит его с Булгаковым, он продолжает версифицировать, стремясь закрепить тот слом мироощущения, который был общим для всей этой среды («В темных улицах, в расселинах Непокрашенной стены Прошлое мое расстреляно И надежды сожжены. Вся моя душа — пожарище, Все мои желанья — гарь. Аня! Мы с тобой товарищи. Ты дикарка, я — дикарь!»).
В архиве Л. Е. Белозерской сохранился шуточный рисунок. В 1970-м году, передавая его в Отдел рукописей государственной библиотеки, она рассказала нам, что именно на нем изображено. «Это — вечеринка у Лоди Авилова, примерно, в 1926-м году. Спиной к зрителю — сам хозяин. Сергей Топленинов — за роялем. Слева — Василий Яковлев, художник. Там были еще две неизвестные девы, изображено, как они стали рвать его на части... Булгаков и Лямин сидят на полу, спорят о мировых проблемах. Я выглядываю из конуры — то есть, никто на меня не обращает внимания. Каждый живет своей жизнью. Я помню — говорили, что будет парадно, торжественно... А ничего такого не было. Я очень люблю этот рисунок...»
В этой среде в ходу были рассказы о своей «золотой» московской молодости. «Я помню его (В. М. Авилова) рассказ о крупном выигрыше в карты, — вспоминает Н. С. Авилова, — после которого он «с ног до головы оделся у лучшего портного, сделал себе визитку и смокинг»... Забавная тут была история. Это было при жизни моего деда Александра Николаевича Смецкого (отца моей матери), очень богатого человека. Он тоже понимал в картах! И вот Лодя, играя в покер, обнаруживает у себя в картах прекрасную выигрышную комбинацию. Но — денег на большую ставку нет. Уже поздняя ночь — что делать? Запечатывают карты, и он едет к деду на Остоженку в «дом со львом» (на крыше его особняка была фигура льва). Лакей Елиферий, естественно, будить отказывается. Лодя настаивает. Слава Богу, дед не спал и вышел сам. Узнав, в чем дело, без звука дал крупную сумму. А надо было знать деда! Был весьма суров и вспыльчив. И вот мальчишка двадцати лет, почти ему не знакомый, будит его среди ночи... Фантастическая история!»
С. В. Шервинский рассказывал нам, вспоминая о юности обитателей Пречистенки и Остоженки: «Вы не знаете, сколь-
314
ко сил, энергии отнимало безделье. Так и говорили: «Да так — время убивали». Теперь нам гораздо ближе слова, что время убивает нас, не правда ли? Да, убивать время... Это была целая наука...»
Но из литераторов едва ли не самым интересным собеседником стал для Булгакова в эти годы писатель С. С. Заяицкий. С детства тяжело больной костным туберкулезом (унесшим его в могилу в 1930 году в возрасте 37 лет), обезображенный горбом, он, по воспоминаниям всех его знавших, был самым веселым в их среде. Переводчик и поэт Сергей Васильевич Шервинский рассказывал нам весьма характерную историю (которую сохранила и память Н. А. Ушаковой) о том, как Заяицкий, идя по Пречистенке, обратил внимание на прохожего, который слишком уж пристально глядел на него, франтовато одетого горбуна. Тогда, пройдя дальше, Заяицкий сел в трамвай, обогнал таким образом прохожего и, выйдя из трамвая, вновь пошел ему навстречу. Этот трюк он повторил дважды, приведя прохожего в полнейшее замешательство. И сам же Заяицкий рассказывал об этом, хохоча: смущен был не он, а прохожий.
В юные годы Заяицкий учился в знаменитой Поливановской гимназии (на дочери тогдашнего директора которой, И. Л. Поливанова, он и женился) и был в точном смысле слова певцом той Пречистенки, топографию и историю которой осваивал теперь Булгаков, поселившийся в этом примечательном районе Москвы. Заяицкий еще в 1914 году написал юношескую поэму «Пречистенка», начинавшуюся строками: «Пречистенка, благословенна будь. Ты нас взлелеяла, как матерь в колыбели», а в 1917-м — поэму «Неврастеник», где любовно описаны те самые переулки Пречистенки и Арбата, которые вскоре станут местом действия одной из повестей Булгакова. В 1924 году, в год их знакомства, Заяицкий уже получил известность как прозаик, как мастер приключенческого и сатирико-бытоописательного жанра.
В одном из переулков Пречистенки был дом, где жили еще несколько семей, с которыми Булгаков также свел близкое знакомство. Это был дом известного всей Москве, лечившего еще Тургенева, профессора-медика Василия Дмитриевича Шервинского; этот собственный дом профессора был закреплен за ним в 1918 году пожизненно, и он сдавал квартиры Я. Л. Леонтьеву, детскому писателю В, Н. Долгорукову (Владимирову), потомку князей Долгоруких. Жил здесь и известный издательский деятель, постоянный соратник Горького, Александр Николаевич Тихо-
315
нов, и Андрей Андреевич Арендт с женой, врач, потомок лейб-медика Арендта, бывшего при Пушкине в дни смертельной болезни поэта. Эта пречистенская среда стала дружеским кругом Булгакова, кругом непременных слушателей новых его произведений вплоть до начала 1930-х годов, а с Арендтами, например, дружеские отношения сохранялись до конца жизни. А с Сергеем Васильевичем Шервинским отношения не сложились — по причине литературно-бытовой. Об этом рассказывал нам Шервинский: «Когда он прочитал нам «Белую гвардию», я сказал ему: «Вы знаете, там у вас один герой с фамилией моего отца. Я вас прошу — замените хотя бы какую-нибудь букву». А он отказался». Это подтолкнуло разрыв отношений...
...Киевлянин, уже давно отряхнувший пыль киевских улиц на выжженных солнцем предгорьях Северного Кавказа, на улицах Владикавказа и Тифлиса, на причалах Батума, — в Москве он в первое время не мог не почувствовать себя снова киевлянином: таким его видели и хотели видеть. И он стал выгибать себя под московский изгиб, решив стать москвичом пуще коренных москвичей, стать певцом Москвы, ее домов, улиц и переулков.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Театральное пятилетие (1925—1929)
I
Самое «театральное» пятилетие в жизни Булгакова началось с того, что 19 января 1925 года он «начал набрасывать», как сказано в собственноручной его записи, пьесу «Белая гвардия».
В первые месяцы нового года вышел № 4 «России» с началом романа «Белая гвардия», пошли корректуры следующей журнальной книжки — с его продолжением. В феврале же вышел шестой альманах «Недра» с повестью «Роковые яйца» (почти одновременно повесть печаталась — сначала под названием «Красный луч» — в еженедельнике «Красная панорама»). А Булгаков, отвлекшись от пьесы, был уже целиком занят новой повестью, которую готовил также для «Недр». В рукописи ее указаны даты: «Январь — март 1925 г.». Но уже 14 февраля новый сотрудник «Недр» Б. Л. Леонтьев посылает ему открытку, сообщая, что Н. С. Ангарский просит его прийти «в воскресенье, 15 февраля в 7 час. вечера на литературное чтение. Просьба принести с собой рукопись «Собачье сердце» и читать ее. Н. С. ждет Вас с женой». И уже через несколько дней после состоявшейся читки, на которой повесть Ангарскому, судя по дальнейшему его поведению, понравилась, Б. Леонтьев посылает Булгакову новую открытку: «Дорогой М. А. Торопитесь, спешите изо всех сил предоставить нам Вашу повесть «Собачье сердце». Н. С. может уехать за границу недели через 2—3 и мы не успеем протащить вещь через Главлит. А без него дело едва ли пройдет. Если не хотите сгубить до осени произведение — торопитесь, торопитесь».
Читал Булгаков у Ангарского, по-видимому, по черновой рукописи, а теперь спешно дорабатывал ее (возможно, уже учитывая какие-то соображения, высказанные Ангарским и другими слушателями) и готовил к перепечатке.
7 марта первую часть повести Булгаков читает на «Никитинском субботнике». На чтение он пришел с Любовью
317
Евгеньевной. Среди присутствующих 45-ти человек — М. Козырев с Адой Владимировной, София Парнок, Вл. Лидин, Вера Инбер, 21 марта он читал вторую часть. Здесь прозвучали весьма важные слова одного из слушателей, М. Я. Шнейдера: «Это первое литературное произведение, которое осмеливается быть самим собой. Пришло время реализации отношения к происшедшему». Отметив «совершенно чистый и четкий русский язык», выступавший говорил о «силе автора», который «выше своего задания».
Ю. Н. Потехин говорил о месте Булгакова в литературном процессе, об объяснительной силе повести: «Фантастика Михаила Афанасьевича органически сливается с острым бытовым гротеском. Эта фантастика действует с чрезвычайной силой и убедительностью. Присутствие Шарикова в быту многие ощутят». Потехин, приехавший в Москву из Берлина в августе 1923 года, бросил упрек московским литераторам, что они в течение нескольких лет не замечали такого писателя, и они обиженно защищались.
«Очень талантливое произведение», — сказал на обсуждении И. Н. Розанов. По-видимому, вскоре после этого он и заполнил карточку на Булгакова для своего «Путеводителя по современной литературе»: «Булгаков, Мих. Афанас. Совр. беллетрист, обладающий ярким сатирическим дарованием. В «Записках на манжетах» юмористически изобразил жизнь рус. литераторов в голодные годы. Из других повестей выдаются «Белая гвардия», «Роковые яйца» и «Собачье сердце». В двух последних прибегает к фантастике в духе Свифта». На карточке рукой составителя помечено количество строк, которые он выделяет этому имени в «Путеводителе», — 5 стр. Но и эти строки увидеть в печати, как увидим, Булгакову было не суждено: карточка осталась в домашнем архиве И. Н. Розанова. Она примечательна, как моментальная фотография восприятия творчества Булгакова авторитетным литературным экспертом весной 1925 года.
И самим автором, и некоторыми из его слушателей повесть «Собачье сердце» ощущалась как канун гораздо более широких замыслов повествования о современности. Реализация их силою вещей отодвинется вскоре на несколько лет.
Между тем приходили отзывы о его столь значительных публикациях начала года. «Спасибо за VI книгу «Недр» и за ваши издания, писал Ангарскому М. Волошин из Коктебеля 25 марта 1925 года. — Я их получил уже больше месяца назад. <...> Я очень пожалел, что Вы все-таки не решились напечатать «Белую гвардию», особенно после того, как прочел отрывок из нее в «России». В печати видишь вещи
318
яснее, чем в рукописи... И во вторичном чтении эта вещь представилась мне очень крупной и оригинальной; как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Толстого и Достоевского».
Ангарский отвечал ему 20 апреля: «Булгаков прочел Ваш отзыв о нем и был весьма польщен. Я не согласен с Вами в оценке его романа: роман слаб, а сатирические рассказы хороши, но проводить их сквозь цензуру очень трудно. Я не уверен, что его новый рассказ «Собачье сердце» пройдет. Вообще с литературой плохо. Цензура не усваивает линии партии». И действительно, 2 мая Булгаков получает письмо от Б. Леонтьева, через которого Ангарский сообщает, что весной повесть печатать не может, поскольку в мае должен выйти сборник «Дьяволиада», и предлагает Булгакову на выбор — либо задержать сборник до осени, либо печатать «Собачье сердце» в 8-й книге «Недр» (а не в 7-й, сдающейся в печать); «рукопись цензура еще задерживает», писал Леонтьев, не выражая, однако, пока беспокойства. В этот день Н. С. Ангарский уехал в командировку за границу, а 21 мая Леонтьев уже писал Булгакову вполне безнадежное письмо: «Дорогой Михаил Афанасьевич, посылаю Вам «Записки на манжетах» (издать полный текст которых за три года, таким образом, так и не удалось. — М. Ч.) и «Собачье сердце». Делайте с ними, что хотите. Сарычев в Главлите заявил, что «Собачье сердце» чистить уж не стоит. «Вещь в целом недопустима» или что-то в этом роде».
Однако Н. С. Ангарский имел о повести свое твердое мнение и сдаваться пока не собирался. Получив сообщение из редакции о вердикте Сарычева, он решил предпринять какие-то новые шаги к ее спасению. И вскоре (письмо не датировано) Леонтьев пишет Булгакову: «Дорогой и уважаемый Михаил Афанасьевич, Николай Семенович прислал мне письмо, в котором просит вас сделать следующее. Экземпляр, выправленный, «Собачьего сердца» отправить немедленно Л. Б. Каменеву в Боржом. На отдыхе он прочтет. Через 2 недели он будет в Москве, и тогда не станет этим заниматься. Нужно при этом послать сопроводительное письмо — авторское, слезное, с объяснением всех мытарств (значит, уже было немало мытарств, не отразившихся в письмах Леонтьева. — М. Ч.) и пр. и пр.
Сделать это нужно через нас... И спешно!» Письмо, видимо, сильно задело Булгакова — слово «авторское» жирно подчеркнуто им двумя, а «слезное» — четырьмя цветными штрихами и сопровождено двумя восклицательными знаками. Булгаков явно недоумевал, почему письмо должно исхо-
319
дить от автора, а не от редакторов, поддерживающих повесть, и уж никак не мог помыслить себя автором письма «слезного».
Рукопись в Боржом он так и не послал, а стал ждать возвращения Ангарского — это показывают, как увидим позже, последующие письма Леонтьева. Сам же Булгаков отправился в 10-х числах июня в Коктебель.
Но вернемся к весне этого года.
В это время редактор журнала, в котором печатался роман «Белая гвардия», был настроен деятельно, хотя положение его заметно усложнилось. И то и другое хорошо видно по его письму к своему постоянному корреспонденту Н. В. Устрялову от 11 марта 1925 года: «№ 5 нашего журнала, по независящим от меня причинам, задержался и выйдет в свет, увы! — лишь в конце марта. Зато интервал между 5-м и 6-м, надеюсь, будет много короче. Вся подготовительная — редакционная — работа по 6-й книжке уже в полном ходу. № 6 посвящен будет исполняющемуся в конце марта трехлетию журнала: 1-я книжка ленинградской «Новой России» вышла у нас в марте 1922 года. По случаю юбилея мы в конце марта устраиваем широкий публичный литературный вечер, с демонстрацией всех наличных в Москве сил. Работы и редакционной и организационной по вечеру — безбрежно много, — это ничего; беспокоит только, не впустую ли проводится вся работа и будет ли вечер разрешен, хотя мы его наметили в отношении идеологического разворота скромнее скромного: сосредоточимся на вопросах культуры — в социально-философском разрезе; политических проблем не ставим вообще. Этим докладам посвящается только одно отделение. Два других — художественная проза и стихи в чтении авторов и актеров Художественного театра».
В письме, которое мы датируем 29 марта 1925 года, И. Лежнев писал Булгакову: «Дорогой Михаил Афанасьевич! Посылаю Вам корректуру третьей части романа (это шли корректуры № 5 «России» — последней порции, начиналась третья часть романа. — М. Ч.). Очень прошу выбрать небольшой, но яркий отрывок из написанного Вами когда-либо для прочтения на вечере, посвященном трехлетию журнала. Сегодня, в воскресенье, ровно в 7 час. у нас на Полянке будет несколько авторов, которые прочтут намеченные для вечера отрывки. Просим очень Любовь Евгеньевну и Вас прийти вечером к нам на эту предварительную читку, захватив с собой и тот отрывок, который Вы проектируете. Учтите, что тема вечера — Россия и «Россия». Хо-
320
рошо бы, если б в прочитанном было хотя бы косвенное тематическое совпадение.
Если за сегодняшний день прочтете посылаемую корректуру, прихватите и ее. Привет Л. Е. Ждем Вас обоих. Ваш И. Лежнев».
4 апреля «Вечерняя Москва» в заметке, озаглавленной «Трехлетие журнала «Россия», сообщала: «В понедельник, 6-го апреля, в Колонном зале Дома Союзов состоится вечер, посвященный трехлетию журнала «Россия».
Выступят с речами: Андрей Белый, И. Лежнев, В. Богораз (Тан), М. Столяров. Художественная проза и стихи в исполнении Качалова, Лужского, Москвина, Чехова, Дикого, Завадского и авторов — Андрея Белого, П. Антокольского, М. Булгакова, Б. Пастернака, Д. Петровского и О. Форш».
Через несколько дней появился выдержанный в иронических тонах газетный отчет: «Россия» о России (Вечер в Колонном зале, посвященный трехлетию журнала «Россия»).
«Трудно даже поверить, чтобы в течение каких-нибудь трех часов можно было столько раз подряд повторять слово — Россия. Попытка же уловить в этом «российском» потоке отличительные кавычки с самого же начала была бы обречена на неудачу. Очевидно, одни только «россияне» и знают (если только знают), где у них кончается «Россия» в кавычках и начинается Россия незакавыченная.
У Тана-Богораза дело обстоит сравнительно благополучно. «Наш журнал, — говорит он, — дело маленькое; не журнал, а журнальчик, да и три года — не слишком большой срок, но в тех условиях, в которых ему, мол, приходилось развиваться, месяц надо считать за год». <...>
— История сочится сквозь нас, — говорит Лежнев, — а ведь мы только люди.
Мы, оказывается, «устали», «испили горькую чашу до дна» (мерзлая картошка и т. п.). И в этом «наша» несомненнейшая «трагедия».
Однако Лежнев не унывает. Впереди — широкие перспективы. «Мы» не только «завершители», но и «пролагатели путей». Теперешнее механическое объединение человечества должно смениться, по мнению Лежнева, органическим, причем Россия в этом «органическом объединении» будет играть роль не какого-нибудь там пальца или уха, а (подымай выше!) «нервной системы». России (неизвестно, в кавычках или без оных) предстоит выполнить функции «мировой интеллигенции». Ни более, ни менее.
321
Но кто же поведет Россию к этому славному будущему, — вопрошает Лежнев, — «коммунисты или мы, попутчики?» (ага!) и немедленно дает на это ответ: «И они, и мы».
В России, мол, 130 млн. населения, и если один из этих миллионов окрашивает все остальные, то в то же время происходит и обратный процесс (все это верно; только кто сказал Лежневу, что его «мы» равняются всем остальным миллионам).
Андрей Белый цитирует. Добросовестно. Мнения Достоевского, Пушкина, Некрасова и Блока относительно и по поводу России — как на ладони. В общем получается: «ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь».
От себя Белый сообщает, что в самом созвучии «ррруссс» «звучат сила и свет». В «ррр», видите ли, сила, а в «ссс» — свет. Занимательно.
Последний из выступавших «россиян», Столяров, — продолжает газета, — «понимает» теперешнюю Россию как нечто раздвоенное, причем выходит так, что одна половина ее — «азиатская, политически и экономически нищая» — стала, по его мнению, «бугром» перед другой, по-видимому, гораздо более симпатичной, «половиной», мешая движению последней вперед. Задача «России», оказывается, в том, чтобы всячески содействовать слиянию этих двух половин (по-видимому, «плохая» половина должна будет для этого перестать торчать бугром перед «хорошей»). А для этого, по мнению Столярова, необходимо бороться «против всего узкого, формалистического и утопического».
Из всех этих чрезвычайно занимательных докладов особо запоминаются некоторые приведенные в них цитаты, как, например: «куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?», или: «чего ты хочешь, Русь?» Имя Булгакова в отчете не упомянуто.
Отчет, напечатанный 7 апреля в «Вечерней Москве» под названием «Тоже «Россия», начинался также нотой иронической — «Россий» теперь развелось видимо-невидимо», но кончался угрожающе: «Гр. Лежнев, не полагайтесь на ловкость рук! Это со всех точек зрения рискованная штука!»
В один из дней кончавшейся зимы он пришел в дом на Большой Садовой, принес Татьяне Николаевне журнал «Россию» с началом его романа. На первой странице она прочла — «Посвящается Любови Евгеньевне Белозерской». «Я все-таки удивляюсь, — сказала я ему, — рассказывала она много лет спустя, — «кажется, все это мы пережили вместе... Я все время сидела около тебя, когда ты писал,
322
грела тебе воду. Вечерами тебя ждала...» А он сказал: «Она < меня попросила. Я чужому человеку не могу отказать, а своему — могу...» — «Ну, и забирай свою книжку». Совсем не склонная к театральным жестам, она, не сдержавшись, бросила журнал ему под ноги.
3 апреля Булгаков получает на бланке студии MХАТ таинственно звучащую записку: «Глубокоуважаемый Михаил Афанасьевич! Крайне хотел бы с Вами познакомиться и переговорить о ряде дел, интересующих меня и могущих быть любопытными и Вам» — и предложения о встрече. При встрече выяснилось, что начало романа «Белая гвардия» в журнале «Россия» живо заинтересовало одного из режиссеров МХАТа — как материал для пьесы.
25 апреля редактор «России» И. Лежнев в письме просит его зайти 29-го для ряда дел, среди которых следующие: «2) у меня к этому моменту, надеюсь, будут первые экземпляры № 5; 3) мне нужен для дальнейшей работы конец романа, 4) надо поговорить об анкете, которую мы проводим среди писателей и будем печатать в № 6 (т. е. в том самом, в котором предполагалось печатание конца «Белой гвардии». — М. Ч.). «Вы сами понимаете, что все эти дела требуют личного Вашего присутствия. Очень прошу не подвести и на сей раз быть аккуратным».
В тот же день ему шлет письмо Ю. Н. Потехин, «чтобы напомнить о лампе», кончая письмо словами: «Привет. Ждем». Речь идет, мы полагаем, об очередном заседании еще не угасшей «Зеленой лампы», происходящем на этот раз, по-видимому, в доме самого Потехина (не тогда ли и читавшего свой цикл рассказов «Московские ночи»? О таком чтении вспоминал Б. В. Горнунг).
30 апреля 1925 года Булгаков регистрирует брак с Л. Е. Белозерской, о чем сделана соответствующая отметка в его трудовой книжке (она сохранилась в архиве). Жили весело; талантливые рассказы жены о Константинополе и Париже будили воображение; писали вместе комедию «из французской жизни» — «Белая глина» (Л. Белозерская).
2 мая Валентин Катаев, дружба с которым еще продолжается, дарит ему вышедшую книжку рассказов «Бездельник Эдуард» (Л., 1925) — «Дорогому Михаилу Афанасьевичу Булгакову с неизменной дружбой плодовитый Валюн». У Булгакова, который 15 мая отметит свое 34-летие, не напечатано еще ни одной книжки, но вот-вот ожидается выход сборника «Дьяволиада».
10 мая Булгаков пишет Волошину: «Многоуважаемый Максимилиан Александрович (заметим в скобках — обра-
323
щение показывает, что личное знакомство еще не состоялось и, следовательно, Булгаков в Коктебеле еще не был, хотя некоторые мемуаристы — правда, неуверенно — и указывают на более ранние поездки. — М. Ч.), Н. С. Ангарский передал мне Ваше приглашение в Коктебель. Крайне признателен Вам, не откажите мне черкнуть, не могу ли я с женой у Вас на даче получить отдельную комнату в июле — августе. Очень приятно было бы навестить Вас. Примите привет. М. Булгаков». Живет он в это время еще в Обухове переулке (д. 9, кв. 4).
1 июня приходит открытка от М. Волошина с согласием принять Булгакова с женой на даче в Коктебеле, и они начинают собираться. 7 июня И. Лежнев пишет ему ласково-пеняющее письмо (как увидим позже, — последнее, видимо, в этой тональности): «Дорогой Михаил Афанасьевич! Вы «Россию» совсем забыли. Уже давно пора сдавать материал по № 6 в набор, надо набирать окончание «Белой гвардии», а рукописи Вы все не заносите. Убедительная просьба не затягивать более этого дела. <...> Как чувствуете себя после операции?» Косвенные данные показывают, что Булгаков сдал в тот же день рукопись конца «Белой гвардии» (который дорабатывался, значит, одновременно с писанием пьесы — немаловажный факт для творческой истории обоих произведений) и вскоре выехал в Коктебель.
Там состоялось знакомство с Волошиным — с тем, кто, пожалуй, выше, чем кто-либо, оценил дебют Булгакова.
В это лето там были писательница Софья Федорченко с мужем, муж и жена Габричевские. По воспоминаниям Н, А. Северцовой (Габричевской), Александр Георгиевич Габричевский и Булгаков «подружились, много виделись и проводили время в беседах на пляже».
Разыгрывались шарады, составителем которых был обычно Булгаков. Много лет спустя научный сотрудник музея Волошина Вл. Купченко записал одну из них со слов тогдашней обитательницы дачи Волошина: «Навуходоносор: 1-е — таверна, кто-то танцует на столе, поножовщина (на в ухо). Режиссер был Булгаков; Любочка, жена, играла. Донос (сценка не записана). А потом Маруся (жена Волошина Мария Степановна) ходила и орала: опять кто-то насорил: ОР! А потом появился Макс, опутанный простынями, — и вдруг взвизгнул, встал на четвереньки и стал жрать траву (т. е. — известный факт помешательства Навуходоносора) ».
А. Остроумова-Лебедева написала портрет Булгакова (позируя, он диктовал жене пьесу «Белая гвардия») —
324
загорелого красноватым загаром, в повязке на голове. Жил там и Л. Леонов с женой, несомненно, уже знакомый с Булгаковым по Москве, но они, как лаконично отмечает Н. А. Северцова, «не сдружились». Тем не менее из Коктебеля в Москву поехали вместе.
Пробыли там недолго — видимо, не больше трех с небольшим недель. Перед отъездом, 5 июля, Макс Волошин подарил Булгакову одну из бесчисленных своих акварелей со знаменательной надписью: «Дорогому Михаилу Афанасьевичу, первому, кто запечатлел душу русской усобицы, с глубокой любовью».
7 июля Любовь Евгеньевна писала открытку на станции Лозовой (под Харьковом): «Мы сделали великолепную прогулку без особых приключений. Качало не сильно. В Ялте прожили сутки и ходили в дом Чехова. До Севастополя (откуда, видимо, отправились поездом в Москву. — М. Ч. ехали автомобилем. Леоновы испугались моря в последнюю минуту»; приписка Булгакова: «На станциях паршиво. Всем мой привет».
В Москве Булгакова ожидал уже вышедший, видимо, сборник «Дьяволиада» — дарственные надписи Н. А. Ушаковой и H. H. Лямину датированы 18 июля.
В конце июля или в начале августа он отдает в московскую редакцию газеты «Заря Востока» какой-то рассказ — скорее всего «Таракан» (напечатан рассказ 25 августа 1925 г.).
15 августа печатается в «Красной панораме» первый рассказ из «Записок юного врача» — «Стальное горло», а в последующие дни в «Красной газете» — цикл быто- и нравоописательных фельетонов «Путешествие по Крыму»; 24 августа руководитель издательства «Земля и фабрика» Владимир Иванович Нарбут заключает с ним договор на издание печатавшегося незадолго перед тем в «Накануне» короткого пародийного приключенческого романа «Багровый остров», а «Недра» — на отдельное издание повести «Роковые яйца».
Но главное — в августе была завершена пьеса «Белая гвардия»: 31 августа режиссер И. Судаков сообщал, что назначается читка пьесы в присутствии Станиславского.
Отметим, что в этой записке Судаков еще называет Булгакова «Михаил Леонтьевич», что заставляет, естественно, вспомнить будущую сцену разговора Максудова с Иваном Васильевичем в «Театральном романе».
В эти же самые дни завершалась история с попыткой печатания повести «Собачье сердце», ставшая предвестием
325
неудач с печатанием прозы и сигналом к переходу на несколько ближайших лет на театральные подмостки.
В недатированном письме (видимо, в конце лета) Б. Леонтьев оповещал Булгакова: «Многоуважаемый Михаил Афанасьевич, Николай Семенович вернулся в Москву. Прошу Вас как можно скорее прислать нам рукопись «Собачье сердце». Протащим. Но только скорее. Ваш Бор. Леонтьев. P. S. Если что-нибудь случилось с вещью, немедля сообщите» (то есть он уже какое-то время не имеет известий от Булгакова о его издательских делах).
Итак, Ангарский, вернувшись из-за границы, видимо, в конце лета, сразу же занялся судьбой рукописи, решив обратиться за помощью к тому же лицу, уже, видимо, также вернувшемуся в Москву; как видно по записке, он надеялся на успех.
11 сентября 1925 года Леонтьев сообщает Булгакову: «Повесть Ваша «Собачье сердце» возвращена нам Л. Б. Каменевым. По просьбе Николая Семеновича он ее прочел и высказал свое мнение: «это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя».
Конечно, нельзя придавать большого значения двум-трем наиболее острым страницам; они едва ли могли что-нибудь изменить в мнении такого человека как Каменев. И все же, нам кажется, Ваше нежелание дать ранее исправленный текст (то есть, по-видимому, Булгаков еще весной смягчил текст по замечаниям Ангарского, но позже не захотел уже давать для чтения рукопись, выправленную таким не вполне желательным для него образом. — М. Ч.) сыграло здесь печальную роль».
Хотя редакция и пытается, как видим, неприятным образом возложить вину за неуспех на автора, нет сомнений, что и Ангарский, и Леонтьев искренне огорчены исходом дела. На этом дело об издании повести затихает на многие месяцы.
Сложности начались и в МХАТе. Но прежде упомянем, что в начале сентября завязались отношения со вторым театром, выросшим из мхатовской студии, — Театром Вахтангова. 16 сентября В. Куза, один из ведущих актеров и членов дирекции театра, посылает Булгакову аванс и сообщает, что по выздоровлении ждет его в театре для подписания договора на пьесу «Зойкина квартира».
Вокруг же пьесы «Белая гвардия» шли разноречивые толки. С одной стороны, И. Я Судаков сообщал Булгакову запиской: «А. В. Луначарский по прочтении 3-х актов говорил В. В. Лужскому, что находит пьесу превосходной и не видит препятствий к постановке»; но в альбоме, составлен-
326
ном Булгаковым, на том же листе, где наклеена им эта записка, наклеена его собственноручная выписка из сборника «Пути развития театра», где приведены следующие слова Луначарского из стенограммы партийного совещания по вопросам театра при Агитпропе ЦК ВКП (б) в мае 1927 г.: «...А о «Днях Турбиных» я написал письмо Художественному театру, где я сказал, что считаю пьесу пошлой, и советовал ее не ставить...» И действительно — 12 октября 1925 года, прочитав пьесу, он написал театру, что не находит «в ней ничего недопустимого с точки зрения политической» (что совпадало с резюме Судакова — «не видит препятствий к постановке»), но высказывал свое «личное мнение»: «Я считаю Булгакова очень талантливым человеком, но эта его пьеса исключительно бездарна...» (опубликовано
A. Смелянским в его книге «Михаил Булгаков в Художественном театре», М., 1986, с. 63—64). Отношение к пьесе не только вне стен театра, но и внутри их было явно сложным. Одно из многочисленных свидетельств этого — ультимативное письмо Булгакова от 15 октября 1925 года на имя
B. В. Лужского, где он ставит свои условия театру — несомненно, уже изнуренный перипетиями «прохождения» пьесы через лабиринт театра с двумя директорами, противоборствующими группировками и в администрации, и в среде актеров и т. п. — словом, через то сложное устройство театрального механизма, который получит через десять лет гротескное и яркое выражение в «Театральном романе».
Условия Булгакова таковы:
«1. Постановка только на Большой сцене
В этом сезоне (март 1926)
Изменения, но не коренная ломка стержня пьесы. В случае, если эти условия неприемлемы для Театра, я позволю себе попросить разрешения считать отрицательный ответ за знак, что пьеса «Белая гвардия» — свободна». В эту осень возникли осложнения с журналом «Россия», где должен был допечатываться в шестом номере роман «Белая гвардия». По-видимому, в середине октября журнал полностью прогорел, издатель Каганский уехал за границу, не выплатив автору денег, а Лежнев отказывался вернуть Булгакову текст конца романа. Об этом говорит следующее заявление Булгакова от 26 октября 1925 г. в конфликтную комиссию Всероссийского Союза писателей: «Редактор журнала «Россия» Исай Григорьевич Лежнев после того, как издательство «Россия» закрылось, задержал у себя, не имея на то никаких прав, конец моего романа «Белая гвардия» и не возвращает мне его. Прошу дело о печатании «Белой
327
гвардии» у Лежнева в конфликтной комиссии разобрать и защитить мои интересы». Известно, что на 4 ноября Булгаков был приглашен в комиссию «для дачи показаний по делу, возбужденному Вами» (повестка подписана тогдашним секретарем Союза писателей — Андреем Соболем; по-видимому, он участвует и в разбирательстве).
Можно представить себе, с каким чувством прочел Булгаков в эти дни письмо (от 10 ноября 1925 г.) официального лица, обладающего немалыми полномочиями, — Д. Уманского, увезшего за границу вполне официально повесть «Роковые яйца», чтобы помочь ее перевести: «Повесть Вашу я по приезде в Вену прочел еще раз: содержание ее может быть истолковано в неблагоприятном для СССР смысле, и я перерешил (!): по-моему, издавать ее вне СССР на иностранном языке не стоит! Сатира заслуживает самого осторожного отношения! Не так ли?» (курсив наш — М. Ч.). Примечательна тут слепота автора письма по отношению к чувствам и мыслям автора повести — он призывает Булгакова в сообщники, высказываясь так о его сатире! Мы увидим потом, что с людьми, говорившими на совсем ином языке, жизнь столкнет еще Булгакова не однажды.
28 сентября 1925 года в теплом письме к Булгакову Вересаев, предлагая свою помощь, писал: «...Поймите, я это делаю вовсе не лично для Вас, а желая сберечь хоть немного крупную художественную силу, которой Вы являетесь носителем... Ввиду той травли, которая сейчас ведется против Вас, Вам приятно будет узнать, что Горький (я летом имел письмо от него) очень Вас заметил и ценит». А вскоре, 10 октября, Булгаков получает письмо из издательства «Круг» с просьбой зайти к А. Н. Тихонову — по-видимому, у Тихонова, постоянно связанного с Горьким, возникла мысль об издании прозы Булгакова.
В эти дни Булгаков получает письмо, разосланное членам Всероссийского Союза писателей: «Московский Отдел Правления Всероссийского Союза писателей постановил ко дню торжественного открытия «Дома Герцена» 1 ноября с. г. организовать литературную выставку, отражающую писательскую работу московских членов Союза за годы революции. Выставочный комитет просит Вас представить не позднее 20-го октября Ваш портрет, автограф и Ваши произведения, вышедшие в годы 1917—1925 (по возможности все)». Выставочный комитет (Н. С. Ашукин, Д. Д. Благой, А. И. Свирский, А. М. Соболь, А. М. Эфрос) просил послать материалы «по адресу «Дом Герцена», заведующему библиотекой Д. Д. Благому или заведующему домом А. И. Свирскому».
328
Ответ Булгакова, написанный 18 октября 1925 г., примечателен. «Уважаемые товарищи, в ответ на приглашение Ваше на литературную выставку посылаю «Дьяволиаду».
Что касается портрета моего:
— Ничем особенным не прославившись как в области русской литературы, так равно и в других каких-либо областях, нахожу, что выставлять мой портрет для публичного обозрения — преждевременно.
Кроме того, у меня его нет.
Уважающий Вас М. Булгаков».
В эти месяцы — сентябрь, октябрь, ноябрь — Булгаков работает с напряжением, перерабатывая и сокращая пьесу и в то же время неустанно занимаясь упорядочиванием сложно складывающихся отношений с театром: это было ему еще в новинку и отнимало, по-видимому, много нервной энергии. 24 ноября беллетристка Софья Федорченко — одно из знакомств, приобретенных (или упроченных) в Коктебеле, — приглашает его запиской на свое авторское чтение; в тот же день он отвечает ей, присовокупляя несколько слов о себе: «Я погребен под пьесой со звучным названием. От меня осталась одна тень, каковую можно будет показывать в виде бесплатного приложения к означенной пьесе».
Мы думаем, что речь идет о «Белой гвардии», но в это же самое время, до конца года, удивительным образом была написана и вторая пьеса — «Зойкина квартира». Недаром, по воспоминаниям писателя Льва Славина, знавшего Булгакова еще в «Гудке», автор пьесы говорил ему: «Это не я написал «Зойкину квартиру» — это Куза обмакнул меня в чернильницу и мною написал ее».
15 декабря вечером у Булгакова дома — режиссеры Театра Вахтангова А. Д. Попов и В. В. Куза: идут активные переговоры о будущей постановке.
Новый, 1926 год, по воспоминаниям Натальи Ушаковой, Булгаков встречал с их компанией, «кажется, у Габричевских». На елке висели рисунки — портреты гостей. В архиве Н. Ушаковой сохранился маленький рисуночек пером и акварелью с продернутой ниткой (для подвешивания) — шаржированный портрет Булгакова с грустными глазами, под портретом подпись — «Мака вспоминает коктебельцев». «Ему там, в Коктебеле, очень не понравилось!» — смеясь вспоминала Н. Ушакова, поясняя рисунок. Уменьшительное имя «Мака» с легкой руки Любови Евгеньевны прочно укрепилось за Булгаковым в «пречистенской» среде.
1 января 1926 года Театр имени Вахтангова заключает
329
договор на пьесу «Зойкина квартира» и 11-го в 12 часов дня Булгаков читает ее в театре; В. В. Куза пишет ему записку: «Поздравляю Вас и благодарю от лица всей студии. Пьеса принята единогласно».
В главной героине пьесы (многочисленные попытки опубликовать ее в отечественной печати успешно завершились только в 1982 году — «Современная драматургия», № 2, публикация В. Гудковой) видели впоследствии самых разных героинь своего времени. Л. Е. Белозерская называла Зою Буяльскую, державшую карточный притон под видом пошивочной мастерской, другие называли Зою Петровну Шатову, описанную Мариенгофом в книге воспоминаний «Роман без вранья» (М., 1927). В. Левшин, молодой сосед Булгакова по квартире № 34, искал прототипы в совсем ином ряду — он писал о сходстве Зойки с женою художника Якулова (его студия помещалась в том же доме на Большой Садовой) Натальей Юльевной Шифф — «редкой красоты фигура и горбоносое, асимметричное, в общем далеко не миловидное лицо» (в «Театральном романе» Максудову, задумавшему вторую пьесу, мерещится «женщина с асимметричным лицом»). Литературовед Р. Д. Тименчик сообщил нам со слов дочери создателя петербургского литературно-артистического кабаре Б. К. Пронина, что у них в семье считалось: в «Зойкиной квартире» изображена «Мансарда» Пронина в Москве на Б. Молчановке (артистический клуб, где был и китаец, из-за которого Пронин попал в ссылку в 1926 году...).
В эти же дни разрывается еще одна ниточка, соединяющая Булгакова с периодом надежд на славу писателя-беллетриста: издательство «Недра» сообщает ему 4 января, что повесть «Роковые яйца» «свободна»: предполагавшееся отдельное издание сорвалось. Сказалась, по-видимому, недавняя ситуация со сборником «Дьяволиада», который был конфискован вскоре после выхода. Жизнь упорно выталкивала Булгакова на драматургическую стезю. Пока она виделась в радужном свете. Переделанная пьеса «Белая гвардия» удовлетворила дирекцию МХАТа. С 24 февраля репетиции пошли подряд.
И, наконец, 30 января 1926 года Камерный театр заключает с Булгаковым договор на пьесу «Багровый остров», которую он обязуется представить до 15 июня, а если же пьеса не сможет быть принята к постановке, то Булгаков предоставляет пьесу на сюжет повести «Роковые яйца».
Так в течение 1925 года Булгаков из беллетриста, знакомого узкому кругу любителей, стал драматургом, извест-
330
ным, правда, еще не публике, но московским театрам — режиссуре и актерам, театральным критикам. Ему пишут уже и из ленинградских театров и просят обе пьесы.
Получив приглашение на диспут в Колонном зале под названием «Литературная Россия», он принимает в нем участие (12 февраля 1926 года). В отчете о диспуте, где рассказано о выступлениях Шкловского, Ф. Березовского, А. Воронского, он назван в общем списке выступивших между О. Бриком и В. Киршоном.
Поддерживается его известность и как беллетриста — в том числе и его выступлениями в широких аудиториях. За первые месяцы 1926 года он трижды выступил с публичным чтением своих произведений.
При этом читает он только одну свою вещь, по-видимому, одну из любимых. 21 февраля он — на вечере литературного юмора в Политехническом музее, где чтецы читают Зощенко и Бабеля, а он и Вера Инбер — свое. «Булгаков читал «Чичикова» — в советских условиях» («Вечерняя Москва», 22 февраля). А 1 марта Л. В. Горнунг занесет в свой дневник: «Сегодня в ГАХНе был устроен литературно-художественный вечер с благотворительной целью для помощи поэту М. Волошину, стихи которого сейчас не печатаются. М. Булгаков прочел по рукописи «Похождения Чичикова» (уточнение не случайное — сборник «Дьяволиада» с опубликованным в нем текстом рассказа был конфискован прошлым летом. — М. Ч.), как бы добавление к «Мертвым душам». Писатель Ю. Слезкин, который больше всего был известен до 1917 года, прочел свой рассказ «Бандит». Б. Пастернак читал два отрывка из поэмы «1905 год». <...> Деньги, вырученные за вечер, пошли на требовавшийся уже давно ремонт дома. В благодарность за участие в вечере Волошин послал свои акварели Федорченко (по инициативе писательницы Софьи Федорченко и был организован вечер. — М. Ч.), Булгакову, Пастернаку» (опубликовано Е. В. и Е. Б. Пастернаками).
Что же касается беллетристики, то 3 марта Б. Леонтьев из издательства «Недра» сообщает, что получено разрешение Главлита на повторное издание сборника «Дьяволиада» (взамен конфискованного) и что «книгу сегодня же мы намерены сдать в «спешный набор». А 25 марта «Круг» объявляет, что готовит издание книги «Белая гвардия».
В МХАТе отношения складывались благоприятно, Булгаков становился любимым автором, и 2 марта был заключен договор на вторую пьесу — «Собачье сердце», с обещанием автора сдать ее не позднее 1 сентября; предполагалось, по-
331
видимому, что одна пьеса будет идти, а вторая репетироваться для второй половины следующего сезона...
26 марта Булгаков смотрит репетицию первых двух актов «Белой гвардии», вместе с ним ее смотрят Станиславский, заведующий литературной частью МХАТа Павел Александрович Марков и художник Н. П. Ульянов. В «Дневнике репетиций» запись: «К. С, просмотрев два акта пьесы, сказал, что пьеса стоит на верном пути: очень понравилась «Гимназия» и «Петлюровская сцена». Хвалил некоторых исполнителей и сделанную работу считает важной, удачной и нужной. Н. П. Ульянов показал фотографии с макетов 3-х сцен (Турбины, Гимназия и Петлюровская сцена). К. С. воодушевил всех на продолжение работы в быстром, бодром темпе по намеченному пути». А через три дня, 29 марта В. Куза шлет Булгакову нервную записку о пьесе «Зойкина квартира»: «Что же Вы с нами делаете? Алексей Дмитриевич ждет вставок в 4-й акт, а я вынужден отменять репетиции. Помните, что среда 31/III крайний срок». И ленинградский Большой драматический театр 10 апреля заключает договоры на обе готовые пьесы.
В конце апреля редакционно-художественная коллегия МХАТа решает изменить название пьесы «Белая гвардия», и Станиславский соглашается с этим.
В эти дни вышло второе издание сборника «Дьяволиада» — 26 апреля издательство посылало ему авторские экземпляры книги. Если добавить к этому два тоненьких сборника фельетонов и рассказов, вышедших в том же году — сборников, которым сам автор не придавал, в отличие от «Дьяволиады», никакого значения, — этим завершается печатная жизнь писателя: увидеть свою прозу изданной Булгакову более не удалось.
В какой-то из дней этой весны Н. С. Ангарский и Б. Я. Леонтьев поочередно заходят к Булгакову домой, но не застают его. Из оставленной Леонтьевым записки следует, что они приезжали просить у него рукопись повести «Собачье сердце» — теперь уже «не для печати и не для опубликования», а просто «во временное пользование», просить как об «очень-очень большом одолжении». Редакторы призывали при этом вспомнить, что «не так уж плохи были наши к вам отношения, не только одни неприятности мы вам причиняли». Далее — важные для понимания этого периода биографии Булгакова слова: «Не давайте отказа в момент прекращения Ваших дел с печатью и перехода Вашего в театр: расстанемся дружелюбно».
Справедливости ради следует прибавить, что обстоятель-
332
ства последнего года не помешали Булгакову расстаться и правда дружественно с тем изданием, которому в первой половине 1920-х годов он был обязан более, чем какому другому: по воспоминаниям близких, Булгаков навсегда сохранил уважение и признательность к Ангарскому как к человеку, искренне преданному литературе и умевшему с редким упорством и твердостью отстаивать интересы того автора, в талант которого он поверил однажды, и своего взгляда на него уже не переменял. (Возможно, именно экземпляр, переданный Булгаковым «во временное пользование», находится на вечном хранении среди материалов архива Ангарского — в том же архивохранилище, что и большая часть рукописей Булгакова.)
7 мая 1926 года к нему пришли с обыском. Л. Е. Белозерская написала в своих воспоминаниях, что это были следователь Славкин со своим помощником и с арендатором дома в качестве понятого. Во время обыска стали «переворачивать кресла и колоть их длинной спицей. И тут случилось неожиданное. М. А. сказал:
«Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю. (Кресла были куплены мной на складе бесхозной мебели по 3 руб. 50 коп. за штуку.) И на нас обоих напал смех. Может быть, и нервный».
В 1970 году Л. Е. Белозерская впервые услышала от нас, что при обыске, при котором она присутствовала, взяли не только повесть, но и дневники. В тот момент она уже передала свои воспоминания в Отдел рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина, склонившись к нашим резонам в пользу такого решения (автор данного жизнеописания выступала в этих переговорах в качестве научного сотрудника Отдела рукописей, взяв на себя инициативу переговоров с теми, кто мог бы пополнить созданный в эти годы в Отделе архивный фонд Булгакова). В этих воспоминаниях упоминалась только рукопись «Собачьего сердца». Между тем в той части архива, которая была собрана в последние годы уже Е. С. Булгаковой, хранилась копия с соответствующего заявления писателя, направленного им 24 июня 1926 года Председателю Совета народных комиссаров: «7 мая с. г. представителями ОГПУ у меня был произведен обыск (ордер 2287, дело 45), во время которого у меня были отобраны с соответствующим занесением в протокол следующие мои имеющие для меня громадную интимную ценность рукописи:
Повесть «Собачье сердце» в 2-х экземплярах и «Мой дневник» (3 тетради).
333
Убедительно прошу о возвращении мне их». (Подлинник письма хранится в Архиве Горького — Булгаков в течение нескольких последующих лет добивался возвращения своих рукописей при посредстве Е. П. Пешковой.)
Л. Е. Белозерская говорила между тем: «Не помню вообще, чтобы он вел дневник!» Вероятно, он не показывал его жене. (Впоследствии, удостоверившись по нашим публикациям в существовании дневника, Л. Е. Белозерская ввела упоминание о том, что при обыске взяли и дневники, в печатный текст своих воспоминаний).
Впечатление, произведенное на Булгакова этим событием, трудно переоценить. Мысль о том, что его интимные, не известные даже близким записи читаются посторонними людьми, несомненно долгие годы преследовала его — человека скрытного, страдавшего от навязываемой ему короткости отношений, закрытого почти от всех, глубоко ранимого. Немаловажно и другое — в дневнике с достаточной степенью откровенности (как видно по уцелевшим фрагментам) фиксировался его взгляд на текущие события, на положение в стране. С этого момента начинался новый этап его отношений с властью. С одной стороны, теперь ему нечего было скрывать, с другой же — на него могли оказывать давление, принуждая к покаянию, заверениям в изменении взглядов.
И в том и в другом он отдавал себе, по-видимому, отчет.
Сам же инцидент имел отношение, по нашему предположению, не столько к нему, сколько к редактору «России» (еще успевшему выпустить в 1926 году три номера, вновь переодетых в «Новую Россию») — у него был обыск на другой день, склад и магазин издательства были опечатаны, а Лежнев был задержан и скоро на три года выслан за границу. Он вернется через несколько лет — уже в другую во многом страну и совершенно иным человеком, нежели тот, на «будущность» которого так рассчитывал Булгаков летом 1923 года.
2
Булгаков же едва ли не на другой день после события, подводившего столь мрачную черту под судьбой его как беллетриста, должен был отправиться в Ленинград. Уже отпечатана была афиша вечера, назначенного на 10 мая 1926 года, с его участием: «Большой зал филармонии (на Лассаля). Всероссийский Союз писателей устраивает большой литературно-художественный вечер». Среди участников вслед за
334
A. A. Ахматовой был объявлен «Мих. Булгаков (прибывший из Москвы автор сборника «Дьяволиада» и романа «Белая гвардия»)» и далее — Л. Борисов, Замятин, М. Зощенко, М. Кузмин, В. Каверин, Б. Лавренев, Н. Никитин, Ф. Сологуб, Н. Тихонов, А. Толстой, К. Федин... Булгаков получал возможность увидеть весь литературный Ленинград середины 1920-х годов.
«Красная газета» назвала отчет о вечере, опубликованный в вечернем выпуске 13 мая 1926 года, — «Весенний смотр литературы». Первый же абзац должен был задеть вкус Булгакова: «...Все части литературной армии, беллетристы, драматурги и поэты прошли перед его величеством читателем и удостоились монаршего одобрения».
Вечер, как явствовало из отчета, затянулся за полночь, поэтому автор отчета ограничил себя упоминанием «лишь произведений, прочитанных вчера впервые». Федин читал главу из новой повести «Трансвааль», Замятин прочел несколько сцен из только что законченной им «Трагедии об Атилле». «Намечается жуткий образ предводителя гуннов, прозванного «бичом божиим»...»
Сразу вслед газета представляла москвича: «Московский гость М. Булгаков читал вчера «Похождения Чичикова», веселый рассказ о современности, развеселивший аудиторию. Гоголевские вечно живые типы еще раз прошли перед ней под гримом нашей злободневности».
Особенно весело было, можно думать, самому автору.
Возможно, именно на этом вечере он был представлен Ахматовой. Замятин, уже, по-видимому, ему знакомый, был, во всяком случае, подходящим собеседником для рассказа о московской злободневности.
«И хочется добавить, — радостно заключал А. Селиванов, автор отчета, — что каждый раз, когда наши писатели из замкнутого круга «закрытых вечеров» выходят на большую арену, — неизменно сопутствует им большой художественный и материальный успех».
Через два дня в субботнем номере газета напечатала фельетон Булгакова «Акафист нашему качеству».
Еще 7 мая по литературным московским кругам разнесся слух о том, что выстрелом из револьвера покончил с собой на скамейке Тверского бульвара, напротив памятника Тимирязеву, то есть недалеко от того дома, где помещался Всероссийский союз писателей, беллетрист Андрей Соболь (бывший в течение нескольких лет председателем этого Союза). Булгакова не оставило, надо думать, равнодушным сообщение о смерти человека, хоть и далекого от
335
него литературно, психологически, но, однако же, входившего в круг первых его московских литературных знакомцев и напечатавшего в журнале «Рупор» первый из его московских рассказов. Законы творчества жестки, и нам всегда виделась какая-то генетическая связь между трагическим событием в конце Тверского бульвара и памятником вымышленному поэту Житомирскому, который в первой редакции «Мастера и Маргариты» поставлен напротив «дома Грибоедова» — Дома Герцена, упомянутого нами помещения Союза писателей.
13 мая, в день репетиции «Белой гвардии», Булгаков, по устным свидетельствам нескольких современников, будто бы ходил по вызову следователя давать показания. Для этого, впрочем, ему надо было успеть вернуться из Ленинграда. Если же учесть, что договор со «Смехачом» на брошюру (маленький сборник фельетонов), сохранившийся в его архиве, датирован 10 мая, как раз время поездки сужается до 1—2 дней.
В театре же возникла вновь острая ситуация: репертуарно-художественная коллегия МХАТа предлагает новое название пьесы — «Перед концом», а Булгаков называет свои варианты взамен поставленного под сомнение названия «Белая гвардия» — «Белый декабрь», «1918», «Взятие города», «Белый буран». К. С. Станиславский пишет в этот же день: «Не могу сказать, чтобы название «Перед концом» мне нравилось... Но и лучшего я не знаю для того, чтобы пьеса не была запрещена. Со всеми четырьмя предложенными (автором. — М.Ч.) названиями пьеса, несомненно, будет запрещена. Слова «белый» я бы избегал. Его примут только в каком-нибудь соединении, например, «Конец белых». Но такое название недопустимо. Не находя лучшего, советую назвать «Перед концом». Думаю, что это заставит иначе смотреть на пьесу, с первого же акта».
На другой день, 14 мая, В. Вересаев дарит Булгакову свои только что вышедшие переводы «Гомеровых гимнов» с надписью: «Михаилу Афанасьевичу Булгакову с огромными надеждами на него».
Итак, в мае 1926 года журнал «Россия» закрылся окончательно; впрочем, надежда на завершение публикации романа «Белая гвардия» была потеряна автором много раньше. Через много лет, описывая в «Театральном романе» своего героя Максудова, Булгаков несомненно воспроизводил в какой-то степени свое состояние в 1925—1926 гг. «Кстати, о романе, — писал он. — Глянем правде в глаза. Его никто не читал. Не мог читать, ибо исчез Рудольфи,
336
явно не успев распространить книжку». Между тем роман все же был замечен, и не только театрами, о нем узнал и Горький в Италии и 8 июля 1926 г. в письме к Сергею Григорьеву, известному в те годы прозаику, спрашивал: «Не знакомы ли вы с Булгаковым? Что он делает? «Белая гвардия» не вышла ли в продажу?»
В эти же дни Булгаков ведет переговоры с директором одного из крупных тогдашних издательств (и талантливым поэтом) Владимиром Ивановичем Нарбутом — об отдельном издании романа «Белая гвардия» (и заключает — для почина — договор на издание фельетона «Похождения Чичикова»). Таким образом, уже два весьма солидных издательства выражают желание печатать роман с так несчастливо сложившейся судьбой. Для Булгакова желание напечатать его тем острее, что ненапечатанная часть увезена за границу и находится в чужих руках.
Отметим, что на устойчивость своего положения как драматурга Булгаков еще не рассчитывает: свидетельство этому — заключенный им 25 мая с «Гудком» договор на 8 фельетонов в месяц (каждый напечатанный фельетон оплачивается по 25 рублей, а непринятые не оплачиваются). И действительно, для этой неуверенности в будущем все время появлялись основания — такие, скажем, как полученное Булгаковым 17 июня письмо ленинградского режиссера: «Сообщаю, что «Зойкина квартира» в Ленинграде показываться не будет. Появившаяся в свое время в газете заметка о «премьере в конце июня» не соответствует действительности» .
Весь конец мая его визита в Камерный театр добивается Таиров — для переговоров о «Багровом острове».
30 мая в «Нашей газете» появляется статья В. Шкловского «Закрытие сезона. Михаил Булгаков». В преддверии сезона, когда должны были объявиться на сцене две пьесы Булгакова-драматурга, Шкловский как бы закрывал занавес над Булгаковым-беллетристом, резко аттестуя его прозу на примере повести «Роковые яйца».
Статья была, однако, не первым ударом критика, как могло бы показаться, а скорее ответным, и это было ясно во всяком случае им обоим. Для понимания этого надо вернуться примерно на три года назад, к истории романа «Белая гвардия».
В 1923 году, в январе, В. Шкловский выпустил биографическую книгу «Сентиментальное путешествие».
Среди прочего в ней описывался Киев зимы 1918/19 года, куда в это время судьба забросила и автора книги.
337
Любопытная деталь — эти описания самим выбором и компоновкой деталей местами очень близки к отдельным страницам еще не написанной «Белой гвардии», хотя, естественно, резко отличны от нее по стилю и по освещению описываемых событий (но и тут есть неожиданные точки совпадений). «Киев был полон людей. Буржуазия и интеллигенция России зимовала в нем.
На Крещатике все время мелькали Владимиры и Георгии (св. Владимира и св. Георгия четырех степеней — ордена русской армии. — М. Ч.).
Город шумел, было много ресторанов...
На Украине были следующие силы: в Киеве Скоропадский, поддерживаемый офицерскими отрядами, — офицеры сами не знали, для чего они его поддерживали, но так велел Энно (представлявший войска союзников. — М. Ч.). Кругом Киева Петлюра с целой армией.
В Киеве немцы, которым было приказано французами поддерживать Скоропадского. <...> А в отдалении «вас всех давишь» — голодные большевики». Автор рассказывает, как поступил в 4-й автопанцирный дивизион. «Меня приняли хорошо и поставили на ремонт машин.
Одновременно со мной в дивизион поступило несколько офицеров с той же целью, как и моя.
Петлюровцы уже окружили город. Слышна была канонада и ночью видны огни выстрелов.
Стояла зима, дети катались со всех спусков на салазках». Одна мелкая деталь в «Белой гвардии» указывает, нам кажется, на внимательное чтение Булгаковым «Сентиментального путешествия» и воздействие — несомненно, невольное — на детали описания Киева в романе: «Когда Николка пришел (после гибели Най-Турса, в момент, когда петлюровцы уже входили на окраину города. — М. Ч.) к началу своей улицы, крутого Алексеевского спуска, и стал подниматься по ней, он увидал у ворот дома № 7 картину: двое мальчуганов в сереньких вязаных курточках и шлемах только что скатились на салазках со спуска. <...> Стрельба стала слышнее. <...> «Катаются мирно так», — удивленно подумал Николка», и дети же объясняют ему: «С офицерами расправляются. Так им и надо. Их восемьсот человек на весь город, а они дурака валяли. Пришел Петлюра, а у него миллион войска».
Есть и другие описания, довольно сильно сближенные: «Петлюровцы входили в город строем.
У них была артиллерия. <...> Народ встречал их толпами и говорил между собой громко во всеуслышание:
338
«Вот гетманцы рассказывали — банды идут, какие банды, войска настоящие». Это говорилось по-русски и для лояльности» (В. Шкловский, «Сентиментальное путешествие»). У Булгакова въезд Петлюры описан со многими подробностями, показывающими, что войска и впрямь настоящие; сходны сами реплики зрителей: «Эх... эх... вот тебе и пятнадцать тысяч... Что же это наврали нам. Пятнадцать... бандит... разложение... Господи, не сочтешь. Еще батарея... еще, еще...» («Белая гвардия»).
Но гораздо важнее, на наш взгляд, в творческой истории «Белой гвардии» следующие автопризнания в «Сентиментальном путешествии», посвященные деятельности автора в автопанцирном дивизионе: «От нас брали броневики и посылали на фронт, сперва далеко в Коростень, а потом прямо под город и даже в город на Подол.
Я засахаривал гетмановские машины.
Делается это так: сахар — песок или кусками бросается в бензиновый бак, где, растворяясь, попадает вместе с бензином в жиклер...
Сахар, вследствие холода при испарении, застывает и закупоривает отверстие.
Можно продуть жиклер шинным насосом. Но его опять забьет.
Но машины все же выходили, и скоро их поставили вне нашего круга работы в Лукьяновские казармы. <...>
А вокруг города ночью блистали блески выстрелов. <...>
Офицерство и студенчество было мобилизовано.
У Университета стреляли и убили за что-то студентов». А после въезда Петлюры. «добровольцев посадили в Педагогический музей; потом кто-то бросил бомбу, а там оказался динамит, был страшный взрыв, много людей убило и стекла домов повылетели кругом».
Булгаков, видимо, прочел эту книгу, едва она попала в Москву: слишком животрепещущ был для него ее материал — от Каменец-Подольска и Черновиц времени мировой войны до Киева 1918 года. Еще ранее, в первой ее части (Революция и фронт. Пг. 1921) он мог обратить внимание на строки: «В декабре или в конце ноября я был в Киеве в гетманских войсках, что кончилось угоном мною броневика и грузовика в Красную Армию. Но об этом <...> когда-нибудь после». Теперь он узнал детально то, о чем, вероятно, слышал в Киеве.
Можно предположить, что впечатление от книги было столь сильным, что повлекло за собой преобразование
339
фабулы романа — введение в него линии Шполянского. Мы основываемся, среди прочего, на своем непосредственном читательском ощущении от этой линии как от более позднего пласта; в более ранних редакциях роман, нам кажется, должен был быть замкнут домом Турбиных (первым и вторым его этажами — Турбиными и Лисовичами).
В «Сентиментальном путешествии» перед Булгаковым предстала точка зрения человека, со стороны взирающего на то, что братья Булгаковы пережили изнутри, находясь среди тех «студентов» и «добровольцев», гибель которых описывается с большой долей хладнокровия и отстраненности наблюдателем-мемуаристом.
Автор «Сентиментального путешествия» размышлял, попав в Киев поздней осенью 1918 года: «Немцы кончались. Они были разбиты союзниками, это чувствовалось.
Значит — накануне смерти была и власть Скоропадского, и даже с этой точки зрения надо было что-то предпринимать.
Из Украины двигались петлюровцы» (выделено нами. — М. Ч.). Это пунктиром намеченное размышление развернуто в «Белой гвардии» в следующее рассуждение Шполянского перед своими сотоварищами по дивизиону: «Вы знаете, друзья, в сущности говоря, большой вопрос, правильно ли мы делаем, отстаивая этого гетмана.
...Кто знает, быть может, столкновение Петлюры с гетманом исторически показано, и из этого столкновения должна родиться третья историческая сила и, возможно, единственно правильная.
Слушатели обожали Михаила Семеныча за то же, за что его обожали в клубе «Прах», — за исключительное красноречие».
После этого и принимается решение: засахаривать машины; результаты этого описаны текстуально близко к описанию профессионала, данному у Шкловского: «Какая-то дрянь осела в жиклерах, и сколько их ни продували шинными насосами, ничего не помогало» («Белая гвардия»).
«Гетманский Город погиб на три часа раньше, чем ему следовало бы, — полагает автор «Белой гвардии», — именно из-за того, что Михаил Семенович второго декабря 1918 года вечером в «Прахе» заявил <...> следующее:
— Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик. Самое главное, впрочем, не в этом. Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб». Выделенные нами слова кажутся также перифразом отрывка из «Сентиментального путешествия», автор которо-
340
го, недавний бомбист, член боевой эсеровской организации, пишет, вспоминая: «А пушки уже били. Люблю гром пушек в городе и скачку осколков снарядов по мостовой. Это хорошо, когда пушки» (выделено нами. — М. Ч.). Автору «Белой гвардии», недавнему врачу, любовь к этим явлениям, конечно, чужда, непонятна, враждебна. А лишние три часа жизни Города для него означали сохранение многих жизней, среди них, возможно, жизней и лично знакомых ему людей.
Так возникла, по-видимому, в романе «Белая гвардия» резкими, едва ли не личным чувством окрашенными штрихами нарисованная фигура — она представляла чуждый Булгакову человеческий тип — авантюриста, любителя «бросать бомбы» и в то же время профессионала-литератора (что по меркам Булгакова было несовместимо), красноречивого оратора, «известного всему дивизиону своей исключительной храбростью» (почти прямая цитата из «Сентиментального путешествия»), подвергнутой Булгаковым сомнению (недаром о храбрости упоминается в связи с мистифицированной гибелью). Фамилия же «Шполянский», выбранная для этого героя, была хорошо знакома каждому киевлянину — Аминад Петрович Шполянский печатался в главных киевских газетах (в том числе и в 1918—1919 гг.) под псевдонимом Дон-Аминадо (добавим сюда же «шполянские имения», упоминавшиеся в киевских газетах как широко известные) ; в то же время она сохраняла отзвук фамилии прототипа; ко времени работы над «Белой гвардией» «настоящий» Шполянский уже эмигрировал; Шкловский также жил в этот момент в Берлине (вынужденный через пять лет после победы революции, которую активно готовил — но не с большевиками, — бежать под угрозой расстрела), где написал (и выпустил) свою книгу мемуаров, что, несомненно, окрашивало гнев Булгакова еще и желчным раздражением.
«Всему городу Михаил Семенович стал известен немедленно по приезде своем из города Санкт-Петербурга. Михаил Семенович прославился как превосходный чтец в клубе «Прах» своих собственных стихов «Капли Сатурна» и как отличнейший организатор поэтов и председатель городского поэтического ордена «Магнитный Триолет». Кроме того, Михаил Семенович не имел себе равных как оратор, кроме того, управлял машинами как военными, так и гражданскими...» («Белая гвардия»). Перечень его занятий завершается следующим: «на рассвете писал научный труд «Интуитивное у Гоголя». И если мы откроем «Гермес» — «ежегодник искусства и гуманитарного знания», сборник первый (ока-
341
завшийся и последним) которого вышел в Киеве в апреле 1919 года под ред. Вл. Маккавейского, и увидим там статью В. Шкловского «Из филологических очевидностей современной науки о стихе», под которой дата: «Киев, 1918, XII», то это довершит представление о Шкловском как прототипе Шполянского, о человеке, который командовал броневыми машинами и писал филологическую статью в тот самый месяц, когда Булгаков с братьями и друзьями ходил защищать город. (Можно представить себе, что именно открыв «Гермес» в апреле 1919 года, Булгаков узнал об этом совпадении.)
12 декабря 1967 года В. Б. Шкловский рассказывал нам: «Я немного знал его в Киеве. Я командовал бронепанцирным дивизионом: пришел к генералу, который формировал отряд для присоединения к Деникину. Я спросил: «На что вы надеетесь?» — «Я русский человек. Мой национальный герой — Ленин. Это Стенька Разин, русская удаль и так далее. И он меня непременно разобьет. Но я не хочу присоединиться к нему, потому что я не согласен». Вот это был разговор по существу». И в тот день, и не раз впоследствии нам приходилось говорить со Шкловским о «Белой гвардии». Он не отрицал связи своей биографии с фигурой Шполянского. В нашей статье к 90-летию со дня его рождения («Советская культура», 22 января 1983 г.) впервые было сказано о том, что он был прототипом персонажа из романа Булгакова. Статью Виктор Борисович читал, отзывался о ней одобрительно. В последние месяцы его жизни мы еще не раз возвращались к их киевскому знакомству. Зрительно он помнил его сидящим скорее всего в кафе — возможно, сказал он уже незадолго до смерти, с некоторой неохотой отвечая на вопрос, повторяемый несколькими людьми, «в кафе «Кривой Джимми» — вокруг него группировался Союз возрождения России...» И на вопрос — В связи с литературными делами? — ответил: «Нет». — В связи с Союзом?.. — Да. Он был членом Союза, но довольно незначительным.
«И, стало быть, кому-то придется умирать, — вот что волнует более всего в тогдашней ситуации автора «Белой гвардии». — Те, кто бегут, те умирать не будут, кто же будет умирать?!!» Шкловскому, равно готовому в тот год к риску и своей и чужой жизнью, несомненно, было что возразить Булгакову, и в своем роде убеждающе, если бы в декабре 1918 года им захотелось поговорить не мельком.
По-видимому, в июне Булгаков с женой перебираются на новое место — в Малый Левшинский переулок, д. 4, кв. 1. Именно этот адрес указан в заявлении, датирован-
342
ном 24-м июня — днем просмотра «Белой гвардии», после которого состоялось совещание Главреперткома с представителями МХАТа-1, где было высказано мнение, что пьеса «представляет собой сплошную апологию белогвардейцев». Среди многочисленных требований было выдвинуто и такое, что «сценка в гимназии должна быть подана не в порядке показа белогвардейской героики, а в порядке дискредитации всего белогвардейского движения».
В июне же вышла маленькая книжечка его «Рассказов» в «Библиотеке «Смехача», журнал «Смехач» предлагал в связи с этим своим читателям средство «Вишня малина», «одобренное восемью — десятью тысячами благодарных пациентов»; в рецепт включались 4 номера «Смехача», 15-я книжка «Библиотеки» — «Рассказы Мих. Булгакова — 1 экз», 16-я книжка — «Рассказы Остапа Вишни — 1 экз. Всего на 80 коп. Принимать в течение июня месяца». Пояснялось — «Вишня и малина включены в дозу для разнообразия вкуса. Вишня, как видите, южная: Остап Вишня. Мужского рода и популярный украинский юморист. А за малину идет Мих. Булгаков. Тоже мужского рода и тоже юморист. И тоже мог бы быть украинским, хотя он и по-русски хорошо пишет. Так что все в порядке» (№21, с. 11).
Это — канун того времени, когда амплуа «юмориста», закрепившееся в течение 1922—1924 годов (прошлым летом Олеша подписывает Булгакову книгу — «...Вы — хороший юморист...»), сменится, и уже надолго, репутацией популярнейшего драматурга.
26 июня закрылся очередной театральный сезон МХАТа, авторы, актеры и режиссура разъезжались отдыхать.
Июль Булгаков с женой проводили под Москвой в Крюкове, поселившись, по совету Ляминых, «на даче у старых москвичей Понсовых», как вспоминает Л. Е. Белозерская. Многочисленная семья Понсовых занимала нижний этаж и флигель. Наверху жила чета Никитинских, у которых гостил в это лето Сергей Сергеевич Топленинов, известный театральной Москве первоклассный художник-макетчик (то есть работающий по эскизам художников-декораторов). «Нам отдали комнату-пристройку с отдельным входом. Это имело свою прелесть, например, на случай неурочного застолья. Так оно и бывало: у нас не раз засиживались до самого позднего часа.
Упомяну о калейдоскопе гостей. Бывали люди, не живущие на даче, но приходившие почти ежедневно...» Среди них Л. Е. Белозерская упоминает Марию Георгиевну Нестеренко (добавим здесь, что в эту осень она стала женой
343
С. С. Топленинова и близкой приятельницей Булгакова; к ее устным воспоминаниям о нем мы еще обратимся), артиста МХАТа Вс. Вербицкого и артиста театра Вахтангова Рубена Симонова, изящного, элегантного, спортивного. С ним Булгаков в ближайшие год-два нередко будет проводить время. Много играли в теннис.
В этом же месяце началась переписка с режиссером
A. Д. Поповым, добивавшимся переделок в «Зойкиной квартире». В письме от
16 июля он просил, например, убрать вовсе третий акт пьесы; письмо это Булгаков
получил в Крюкове 25 июля, а 26-го отвечал Попову уже из Москвы. Ко
роткий летний отдых для него закончился; 30-м июля датирована уцелевшая в
архиве писателя расписка — он возвращает «Рабочей газете» 50 рублей, погашая
аванс, выданный ему в свое время за предоставление конспекта романа
«Планета-победительница»... Следов этого замысла не сохранилось. Можно думать,
что это была попытка написать роман, подобный, скажем, роману «Иприт», написанному
B. Шкловским и Вс. Ивановым и представлявшему собой построенное по законам приключенческого жанра описание войны Советской России с европейской коалицией. Мы увидим потом, как подобный замысел Булгаков осуществит в 1931 году в пьесе «Адам и Ева». Сохранившийся денежный документ, на наш взгляд, последний отзвук того времени, когда Булгаков стремится добиться успеха в качестве беллетриста — известного, читаемого, раскупаемого.
3 августа А. Д. Попов пишет ему: «Очень сожалею, что переутомление, нервы, а главное, Ваше недоверие к театру, в который Вы отдали пьесу, мешает деловой и продуктивной работе».
11 августа Булгаков писал ответ режиссеру Попову, и в тот же день Управление Государственными академическими театрами препровождало ему выписку из протокола Худполитсовета относительно репертуара Театра им. Вахтангова очередного сезона («Зойкина квартира» была объявлена вместе с пьесой по роману Леонова «Барсуки», пьесой Жюля Ромэна и «Женитьбой» Гоголя): «Предложить Главреперткому специально проверить и тщательно просмотреть пьесу «Зойкина квартира».
Свидетельством каких-то организационных хлопот осталась надпись на сборнике «Дьяволиада», сделанная 12 августа Владимиру Петровичу Немешаеву — сотруднику Общества по охране авторских прав при Московском обществе драматических писателей и композиторов (МОДПИК), помещавшемся на Тверском бульваре, 25 — в том же доме,
344
что и Всероссийский Союз писателей. Этому дому суждено будет через несколько лет сыграть важную фабульную роль в новом и наиболее обширном прозаическом замысле Булгакова. Быть может, именно впечатления душного московского лета 1926 года, нудного времяпрепровождения в тесных комнатах Дома Герцена оживут в момент кристаллизации замысла.
...Он давно обжил Москву; в книжных лавках Кузнецкого моста его хорошо знали тогдашние книгопродавцы. Спустя много лет, 12 июля 1987 года Клавдия Ивановна Миркина (урожд. Бармина) рассказывала: «Магазин издательства «Новая Москва» был в здании прежнего американского магазина, Кузнецкий мост, 7 (там сейчас магазин «Светлана»). Когда входишь — налево был мой отдел: беллетристика, детские книги, поэзия и критика. Ходили Новиков-Прибой, Маяковский... Один раз говорит — «Давайте вашу криминальную поэзию!..» Это была антология Ежова и Шамурина (Русская поэзия XX века. М., 1925 — М. Ч.). Оказывается, они не платили поэтам. Маяковский посчитал, сколько стихов его, и ушел. Ходили Лариса Рейснер, Матэ Залка, Бела Иллеш — мы его издавали в «Новом мире»... Иосиф Уткин, Жаров, Крученых частенько бывали. Булгаков ходил. Помню, говорил: «Подберите мне литературу по гражданской войне». И я подбирала.
Что-нибудь отличало его от других писателей?
Отличало. Он был интеллигентный. Ведь меня другие писатели упрекали, почему я их роман на видное место не поставила. А он никогда даже не упоминал об этом! Очень выделялся своей интеллигентностью. У нас продавался его сборник — «Дьяволиада». Быстро разошелся. У нас было так — заказывали 20, 30, 50 экземпляров; распродашь — и заказываешь новую порцию. Иногда приходил ответ — «распродано». Тут мы отвечали покупателям — издание распродано. Обычно писатели спрашивали — «Как идет мое издание?» А он никогда не спрашивал.
С кем он приходил обычно?
Один, один. Он больше ходил один. Маяковский — тот появлялся в компании.
Что он покупал больше — поэзию, прозу?
Поэзию Булгаков не покупал. Покупал именно рассказы о гражданской войне. Маленькие такие книжоночки тогда были. И журналы покупал».
«Книжоночки» — это были, среди прочего, мы думаем, и величиной в средних размеров записную книжку издания «Библиотеки для всех» ленинградского издательства «При-
345
бой», выпускавшего в 1920-е годы мемуары белогвардейцев; в серии вышли, например, книжки В. В. Шульгина «Дни» и «1920 год», несомненно, имевшиеся в домашней библиотеке Булгакова.
Середина 20-х годов была началом переломного времени.
Нарастали явления, не сразу заметные взгляду наблюдателя, но все более и более изменявшие общественную жизнь и окрашивающие в мрачные тона ее перспективы. Одним из этих явлений было все большее увеличение промоины между Россией и Европой.
В 1925 году прекратился издаваемый Горьким журнал «Беседа», задуманный писателем именно для объединения зарубежной и отечественной русской литературы. Придуманный Шкловским, озаглавленный В. Ходасевичем, журнал издавался при ближайшем его участии. Как писал Ходасевич одному из своих корреспондентов 3 июня Î925 года, «Беседа» прекратилась, «ибо эмигранты ее не читали, как не читают они ничего, а ко ввозу в Россию она была запрещена». В письме Ходасевич сообщал, что в марте этого года ему отказали в пролонгации советского паспорта (до сих пор посольство продлевало ему паспорт каждые полгода). «Мотивы: 1) статья о С. Родове в «Днях»; 2) о Брюсове — в «Соврем<енных> записках»; 3) дурное влияние на Горького — Мне предложили немедленно ехать в Россию, т. е. в Ч. К. Я перешел на «нелегальное» положение» 7 апреля 1926 года: «С Сов<етской> Россией у меня все кончено. Я там весьма одиозен. Даже писать мне оттуда, по-видимому, нельзя. Пишут мало и не на мое имя».
Занавес между двумя русскими литературами опускался медленно, но неуклонно на протяжении 1925—1927 годов. H. H. Берберова вспоминает, как о вехе, об одном факте лета 1927 года: «В этом году в Париж из Советского Союза приезжала Ольга Дмитриевна Форш, которую я знала по Петербургу 1922 года, когда она была одним из ближайших друзей Ходасевича. Приехав в Париж, она сейчас же пришла к нам. Она обрадовалась Ходасевичу, разговорам их не было конца... <...> Для обоих эта встреча после пяти лет разлуки была событием». Форш «говорила о переменах в литературе, о политике партии в отношении литературы, иногда осторожно, иногда искренне, с жаром. <...> Она говорила, что у всех у них там только одна надежда. Они все ждут.
— На что надежда? — спросил Ходасевич.
— На мировую революцию. Ходасевич был поражен.
— Но ее не будет.
346
Форш помолчала с минуту. Лицо ее, и без того тяжелое, стало мрачным, углы рта упали, глаза потухли.
— Тогда мы пропали, — сказала она.
— Кто пропал?
— Мы все. Конец нам придет.
Прошло два дня,и она не появлялась, и тогда мы пошли к ней вечером узнать, не больна ли она. Она остановилась на левом берегу, У дочери-художницы Нади, оказавшейся в эмиграции. <...> Она сказала нам, что вчера утром была в «нашем» посольстве и там ей официально запретили видеться с Ходасевичем. С Бердяевым и Ремизовым можно изредка, а с Ходасевичем — нельзя. «Вам надо теперь уйти, — сказала она, — Вам здесь нельзя оставаться».
Мы стояли посреди комнаты, как потерянные.
— Владя, простите меня, — выдавила она из себя с усилием.
...Мы молча постояли в подворотне и побрели домой. Теперь с неопровержимостью нам стало ясно: нас отрезали на тридцать, на сорок лет, навеки...» (Курсив мой. Т. 1. 1983).
21 августа в Москву вернулся с отдыха Станиславский, и это означало для Булгакова возвращение к работе с театром над «Белой гвардией». В этот день он писал А. Д. Попову — в ответ на письмо его от 3 августа: «Переутомление, действительно, есть. В мае всякие сюрпризы, не связанные с театром (несомненно, намек на обыск. — М. Ч.), в мае же гонка «Гвардии» в МХАТ'е 1-м (просмотр властями!), в июне мелкая беспрерывная работенка, потому что ни одна пьеса еще дохода не дает, в июле правка «Зойкиной». В августе же все сразу».
24 августа Станиславский проводит совещание по «Белой гвардии» — с В. В. Лужским, И. Я. Судаковым, П. А. Марковым и Булгаковым. «Разработали весь план пьесы, зафиксировали все вставки и переделки текста, — записывал помощник режиссера в «Дневник репетиций». — Константин Сергеевич объясняет всю [пьесу] по линии актера и режиссера». А 26 августа в том же «Дневнике» появляется запись: «М. А. Булгаковым написан новый текст гимназии (то есть сцена в гимназии, к которой были главные претензии при просмотре спектакля. — М. Ч.) по плану, утвержденному Константином Сергеевичем» (заметим мелкую, но значащую деталь — в рукописной тетради «Дневника» инициалы автора записаны неточно: «М. В.» — Театр все еще нетвердо помнит его имя; впоследствии это будет с нажимом обыграно им в «Театральном романе»). В тот же день встречи с ним ищет Таиров (в связи с «Багровым островом»), но вряд ли
347
успешно. А 15 сентября — авторская читка в театре Вахтангова нового варианта III акта «Зойкиной квартиры». Жизнь нового драматурга приобрела бурный разбег.
На 17 сентября была назначена репетиция для работников Главреперткома. К ней напряженно готовились. Станиславский обратился к коллективу МХАТа со следующей просьбой: «Ввиду того, что черновая генеральная репетиция «Дней Турбиных» будет показана в очень сыром и неотделанном виде, а в то же время и для артистов, занятых в спектакле, и для членов Главреперткома и Политпросвета важно, чтобы Театр был наполнен публикой, Константин Сергеевич очень просит отдавать контрамарки только самым близким родственникам и ни в коем случае не артистам других театров и не лицам, причастным к искусству и прессе». Запись, сделанная через несколько дней помощником режиссера, гласит: «По окончании — объединенное заседание Главреперткома с режиссерской коллегией. Главрепертком считает, что пьесу в таком виде выпускать нельзя. Вопрос о разрешении остается открытым».
«Бледный, С. пришел за кулисы к актерам, куда уже просочился слух, что пьесу запрещают, — пишет в своих воспоминаниях М. И. Прудкин, исполнявший роль Шервинского. — «Если не разрешат эту постановку, я уйду из театра, — сказал С. — Я сам вижу отдельные недочеты пьесы идеологического порядка, которые можно преодолеть...»
И опять-таки в этот самый день А. Таиров через секретаря просит зайти или позвонить. Но до Камерного театра в эти дни у Булгакова руки вряд ли доходят.
18 сентября, однако, идет еще одна репетиция, о которой записано: «Все участвующие. Замечания по всей пьесе». Следующая запись на том же листе «Дневника репетиций»: «Назначенная на воскресенье 19 сентября публичная генеральная всей пьесы отменяется из-за неясности вопроса о разрешении».
За краткими записями — невидимая сегодня борьба театра за пьесу, шедшая в эти решающие дни. 22 сентября записано: «Фотографическая съемка. Все в гримах и костюмах». Фотография эта сохранилась — Булгаков сидит в центре участников спектакля.
Записи в «Дневнике» отмечают последние переделки: «Отменяется сцена с евреем», «Переделали «Интернационал» — не утихает, а усиливается» (речь идет о музыкальном оформлении финала пьесы). Готовится последний и решительный просмотр, и вновь Станиславский обращается к труппе Театра, и слова его невольно вызывают сравнение
348
c обстановкой на военном корабле: «Серьезные обстоятельства заставляют меня категорически воспретить артистам и служащим театра, не занятым в спектакле «Дни Турбиных», 23 сентября находиться среди публики в зрительном зале, фойе и коридорах, как во время спектакля, так и во время антрактов».
Актеры МХАТа-2, ученики Станиславского, шлют ему 23 сентября письмо: «Сегодня, в трудный для Вас и для театра день — все мы, как один, хотим передать Вам и всему театру — нашу тревогу и нашу душевную преданность работе театра».
В «Дневнике» же появляется запись: «Полная генеральная с публикой... Смотрят представители [правительства] Союза ССР, пресса, представители Главреперткома, Константин Сергеевич, Высший Совет и Режиссерское управление.
На сегодняшнем спектакле решается, идет пьеса или нет.
Спектакль идет с последними вымарками и без сцены «еврея».
Спектакль вначале (первая половина 1-й картины) принимали очень сухо, затем зрительный зал был побежден, актеры играют увереннее, смелее, публика реагирует прекрасно.
По окончании А. В. Луначарский высказал свое личное мнение, что пьеса может и наверное пойдет».
25 сентября «Наша газета» сообщала: «23 сентября был организован закрытый общественный просмотр. Пьеса в настоящее время разрешена к постановке в MXAT 1-м с некоторыми изменениями».
27 сентября на диспуте о перспективах театрального сезона в Доме печати прозвучали первые публичные резкие выпады против спектакля — театральный критик Орлинский, как писал автор отчета о диспуте, «возмущается, почему все парады, пение Интернационала и проч. происходит позади сцены... «Массобоязнь у МХАТа», говорит Орлинский, дошла до того, что, например, в «Белой гвардии» нет ни одного слуги, денщика, даже судомойки. И это на фоне булгаковщины знаменательно».
В этой наэлектризовывавшейся атмосфере 2 октября утром прошла публичная генеральная репетиция пьесы. Появление на сцене офицеров было встречено свистом части молодежи. Большая часть публики принимала пьесу взволнованно и сочувственно. Вечером того же дня, еще до премьеры, спектакль активно обсуждался на диспуте «Теат-
349
ральная политика Советской власти», проходившем в Коммунистической академии. Вторая часть доклада Луначарского, как сообщала «Наша газета» 5 октября 1926 года, была посвящена пьесе «Дни Турбиных»: «Появление этой пьесы на сцене МХАТа, конечно, колючий факт, — говорит т. Луначарский, — но на нее затрачены материальные средства и творческая сила и, таким образом, сняв ее со сцены, мы в корне подорвем положение театра». По словам А. В., для нас не опасна сомнительная идеология этой пьесы, ибо, по его мнению, — наш желудок настолько окреп, что может переварить и острую пищу»... «Автор пьесы Булгаков, — говорит А. В., — приятно щекочет обывателя за правую пятку». Булгаков рыдает над смертью офицера, в то время как, по словам А. В., «офицеру должна быть офицерья смерть»... С возражением тов. Луначарскому выступил тов. Орлинский. По его мнению, показывать «Белую гвардию» недопустимо... «Белая гвардия» — это политическая демонстрация, в которой Булгаков перемигивается с остатками белогвардейщины». Напечатанная 30 с лишним лет спустя стенограмма выступления Маяковского позволяет познакомиться с первым, по-видимому, публичным отзывом Маяковского о Булгакове — первым шагом в сложной, как увидим далее, истории переплетения их литературных судеб. Маяковский поддержал Луначарского, гораздо прямее и резче высказав точку зрения на пьесу того, кто с ней решительно не согласен, но появление ее на сцене считает правомерным и допустимым. Он настаивал на том, чтобы не считать ее «случайностью в репертуаре Художественного театра. Я думаю, что это правильное логическое завершение: начали с тетей Маней и дядей Ваней и закончили «Белой гвардией» (Смех). Для меня во сто раз приятнее, что это нарвало и прорвалось, чем если бы это затушевывалось под флагом аполитичного искусства. <...> В отношении политики запрещения я считаю, что она абсолютно вредна». Дальше Маяковским сделана существенная оговорка: «Если бы нам принесли эту пьесу и сказали: «Разрешите нам», — это было бы связано с какой-то работой, деятельностью, — «разрешать». Это дело другое. Но запретить пьесу, которая есть, которая только концентрирует и выводит на свежую водицу определенные настроения, какие есть, — такую пьесу запрещать не приходится. А если там вывели двух комсомольцев, то давайте я вам поставлю срыв этой пьесы — меня не выведут. 200 человек будут свистеть, а сорвем, и скандала, и милиции, и протоколов не побоимся. (Аплодисменты) <...> Если на всех составлять протоколы, на тех, кто свистит, то введите про-
350
токолы и на тех, кто аплодирует». Маяковский выступил, таким образом, и за право театра ставить чуждые, скажем, ему, Маяковскому, пьесы, и за право публики на любую реакцию на них. Тем более это право реакции на пьесу было оставлено за критикой. Она воспользовалась им в последующие годы очень активно. По условиям времени сочувственных голосов в печати почти не прозвучало, хотя успех пьесы среди публики был несомненен.
5 октября 1926 года состоялась премьера «Дней Турбиных». По воспоминаниям тех, кто бывал на первых спектаклях, атмосфера в зале была исключительной, не похожей ни на какие другие премьеры («Я еще те представления видел, когда на сцене «Боже, царя храни» пели, — вспоминал 2 апреля 1981 г. один из наших собеседников, К. С. Родионов, почти ровесник Булгакова. — Ну, и как в зале реагировали на спектакль? — Ну, все заколдованные были!»). Случались обмороки прямо во время представления, у подъезда театра едва ли не дежурила «скорая помощь». И это понятно, если вспомнить, что с окончания гражданской войны прошло всего пять-шесть лет, что у многих из сидящих в зале офицерами были мужья, братья, отцы — погибшие, пропавшие без вести, уехавшие и навсегда расставшиеся с близкими, сосланные, ожидающие со дня на день того, что им припомнят их прошлое. Упомянем «Открытое письмо Московскому Художественному академическому театру (MXAT I)», появившееся 14 октября 1926 года в «Комсомольской правде» за подписью поэта Александра Безыменского. Он писал, что его брат, Бенедикт Ильич Безыменский, был убит «в Лукьяновской тюрьме, в Киеве, в 1918 году, при владычестве гетмана Скоропадского, немцев и... Алексеев Турбиных. Я не увидел уважения к памяти моего брата в пьесе, которую вы играете. <...> Старательно подчеркиваю. Я ничего не говорю против автора пьесы Булгакова, который чем был, тем и останется: новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы. Но вы, Художественный театр, вы — другое дело». Автор письма уверял, что театр «от лица классовой правды Турбиных» дал «пощечину памяти моего брата». Так наметились полюса восприятия пьесы. Булгаков тщательно собирал газетные вырезки с отзывами. Подчеркиванья в «Письме» Безыменского сделаны его рукой; легко представить себе чувства, владевшие им при чтении тех характеристик, которыми он был награжден. Фрагмент подчеркнутого отрывка включен был Булгаковым через несколько лет в письмо к правитель-
351
ству — как иллюстрация критических оценок его работы; туда же вошли и слова из упомянутого ранее доклада Луначарского, вскоре опубликованного целиком в «Программе государственных академических театров» (№ 55), где автор пьесы аттестовался так: «Ему нравятся сомнительные остроты, которыми обмениваются собутыльники, атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля...» Булгаков прежде всего не мог приноровиться к самому тону этой публицистики. У него были свои приемы защиты — незадолго до премьеры он сфотографировался с моноклем в глазу и стал дарить фото друзьям и знакомым.
Банкет с большим количеством приглашенных, за отсутствием надлежащего места в его квартирке, соорудили в квартире актера МХАТа В. А. Степуна — в Сивцевом Вражке, 41.
В октябре «Дни Турбиных» прошли 13 раз, в ноябре и декабре — по 14 раз в месяц.
А 28 октября 1926 года — премьера «Зойкиной квартиры» в Театре им. Вахтангова. 10 ноября на заседании Президиума коллегии Наркомпроса просьба Булгакова о разрешении к постановке в провинции его пьесы «Зойкина квартира» отклонена.
16 ноября Булгаков повесткой вызывается к следователю на 18-е; повод вызова нам неизвестен; 17-го В. В. Куза шлет ему записку: «На этот раз наши и Ваши мученья, кажется, окончились, Репертком приветствовал спектакль, назвал его интересным и общественно ценным. Сделаны только 2 поправки — о них завтра скажу при свидании».
Новый, 1927 год Булгаков встречает — впервые — в ореоле литературной известности. Он — автор двух с аншлагами идущих на сценах знаменитых московских театров пьес. Остался позади напряженный и тяжелый год, ознаменовавшийся не только сложнейшими перипетиями проведения пьес через все препоны, но и тревожными событиями, затронувшими в мае его частную жизнь, внушающими, возможно, опасения за будущее.
Критика отзывается о пьесах резко; тем не менее Булгаков — в зените славы. Им восторгаются, ему впервые завидуют литературные знакомцы первых московских лет (мотив зависти к художнику недаром с таким нажимом пройдет потом и по «Мастеру и Маргарите», и по пьесе о Пушкине, и по «Театральному роману»).
Булгаков испытал на себе воздействие этого страшного, разъедающего и самих завистников чувства в полной мере. Еще 7 февраля 1926 года Д. Стонов писал Слезкину:
352
«В наше время необходим дьявольский закал. Душа должна остаться в стороне от житейских невзгод. Зозулёбулгаковское (подумай — несмотря на то, что они разные, сущность здесь одна) легко может засосать и тогда конец (с Ефимом Зозулей Булгаков сопоставим тогда только в одном отношении — оба находятся почти в зените популярности. — М. Ч.). Я лично думаю, что писатель должен быть страшным отшельником — один со своей душой наедине». За этими строчками различимо сосущее чувство ожидания премьеры в МХАТе пьесы вчерашнего начинающего, неудачливого автора единственного недопечатанного романа. 8 октября Стонов пишет тому же адресату: «Думаю, что «московские новости» тебя еще интересуют, разреши оторвать тебя на несколько минут от работы. В центре событий — пьеса Булгакова «Дни Турбиных». Ее разрешили только в Художеств [енном], только в Москве, и то — говорят — скоро снимут. Пресса ругает (Луначарский и др.), но и публика не хвалит. Прав был ты, прав: Бул (такое прозвище пошло, видимо, от первого его московского псевдонима — «М. Булл». — М. Ч.) — мещанин и по-мещански подошел к событиям. (В этих именно далеко неслучайных выражениях говорили в беседах о Булгакове и полвека спустя, в 1970-е годы, многие, взглянувшие на происшедшие события радикально иным образом, чем он, в том числе и В. Катаев. — М. Ч.). Была, между прочим, на премьере Екатерина Ал[ександровна] Галати (участница «Зеленой лампы». — М. Ч.). Спектакль ей не нравится — в чтении было лучше».
Прохладное отношение к пьесе проявлялось и у тех, кто не имел никаких личных подоплек, но искренне ощущал чужеродность пафоса автора. 27 октября 1926 года московский критик А. Дерман писал в Ленинград критику А. Горнфельду: «В театры и концерты из-за безденежья не хожу. Видел только «Дни Турбиных» Булгакова, не важную (и испорченную цензурными купюрами, а хуже — наростами) пьесу, которую сверхъизумительно играет молодежь Художественного театра».
В печати все это выглядело гораздо резче. Официальное отношение к пьесе, где люди в офицерских погонах, которые могли служить только мишенью и ничем иным, были изображены с теплым, родственным чувством, установилось быстро.
Но в архиве писателя осталось документальное свидетельство об отношении к автору «Дней Турбиных» той части зрительного зала, которая не имела возможности проявить
353
своих симпатий печатно. По словам Е. С. Булгаковой, однажды, в 1926 или 1927 году в МХАТ пришел не назвавший себя человек и попросил передать драматургу письмо. По ее же свидетельству в наших беседах 1968—1969 гг., Булгаков очень дорожил этим письмом и бережно хранил его. Вот текст письма:
«Уважаемый г. автор.
Помня Ваше симпатичное отношение ко мне и зная, как Вы интересовались одно время моей судьбой, спешу Вам сообщить свои дальнейшие похождения после того, как мы расстались с Вами. Дождавшись в Киеве прихода красных, я был мобилизован и стал служить новой власти не за страх, а за совесть, а с поляками дрался даже с энтузиазмом. Мне казалось тогда, что только большевики есть та настоящая власть, сильная верой в нее народа, что несет России счастье и благоденствие, что сделает из обывателей и плутоватых богоносцев сильных, честных, прямых граждан. Все мне казалось у большевиков так хорошо, так умно, так гладко, словом, я видел все в розовом свете до того, что сам покраснел и чуть-чуть не стал коммунистом, да спасло меня прошлое — дворянство и офицерство. Но вот медовые месяцы революции проходят. Нэп, кронштадтское восстание. У меня, как и у многих других, проходит угар и розовые очки начинают перекрашиваться в более темные цвета...
Общие собрания под бдительным инквизиторским взглядом месткома. Резолюции и демонстрации из-под палки. Малограмотное начальство, имеющее вид вотяцкого божка и вожделеющее на каждую машинистку. Никакого понимания дела, но взгляд на все с кондачка. Комсомол, шпионящий походя с увлечением. Рабочие делегации — знатные иностранцы, напоминающие чеховских генералов на свадьбе. И ложь, ложь без конца... Вожди? Это или человечки, держащиеся за власть и комфорт, которого они никогда не видали, или бешеные фанатики, думающие пробить лбом стену. А самая идея! Да, идея ничего себе, довольно складная, но абсолютно не претворимая в жизнь, как и учение Христа, но христианство и понятнее, и красивее.
Так вот-с. Остался я теперь у разбитого корыта. Не материально. Нет. Я служу и по нынешним временам — ничего себе, перебиваюсь. Но паршиво жить ни во что не веря. Ведь ни во что не верить и ничего не любить — это привилегия следующего за нами поколения, нашей смены беспризорной.
В последнее время или под влиянием страстного желания заполнить душевную пустоту, или же, действительно, оно так и есть, но я иногда слышу чуть уловимые нотки ка-
354
кой-то новой жизни, настоящей, истинно красивой, не имеющей ничего общего ни с царской, ни с советской Россией.
Обращаюсь с великой просьбой к Вам от своего имени и от имени, думаю, многих других таких же, как я, пустопорожних душой. Скажите со сцены ли, со страниц ли журнала, прямо ли или эзоповым языком, как хотите, но только дайте мне знать, слышите ли Вы эти едва уловимые нотки и о чем они звучат?
Или все это самообман и нынешняя советская пустота (материальная, моральная и умственная) есть явление перманентное?
Caesar, morituri te salutant. Виктор Викторович Мышлаевский».
14 января 1927 года «Дни Турбиных» идут на сцене МХАТа 50-й раз (запись об этом делает сам автор пьесы в заведенном им несколько лет спустя альбоме, посвященном истории «Дней Турбиных»). «Зойкина квартира» с успехом шла в нескольких городах страны.
7 февраля 1927 года в Театре им. Мейерхольда проходил очередной диспут — на этот раз по поводу постановок «Дней Турбиных» во МХАТе и пьесы К. Тренева «Любовь Яровая» в Малом театре. Булгаков выступил перед широкой публикой, не сумев на этот раз остаться безмолвным перед постоянным своим оппонентом последнего года — критиком А. Орлинским. Стенограмма сохранилась и, выправленная Е. С. Булгаковой, была напечатана в 1969 году в журнале «Огонек», она важна, среди прочего, и тем, что является одной из очень немногих уцелевших записей устной речи Булгакова. Э. Миндлин запомнил его сдержанность: «Наконец-то я увидел живого Орлинского, получил представление. Я удовлетворен...» С. Ермолинскому, тогда еще не знакомому с Булгаковым, он запомнился на трибуне гораздо более взволнованным.
Он особенно был возмущен, как показывает стенограмма, словами Орлинского: «...автор и театр панически изменили заглавие пьесы». Все, что намекало на сдачу, на отступление, все, что посягало на личную честь, всегда задевало его острее всего. «...Твердо и совершенно уверенно могу сказать, что никакого состояния паники автор «Турбиных» не испытывал и не испытывает, и меньше всего от появления на эстраде товарища Орлинского. Я панически заглавия не менял. Мне автор «Турбиных» хорошо известен».
Орлинский возмущался тем, что в пьесе нет ни денщиков, ни прислуги, ни рабочих, и Булгаков пояснил под смех и аплодисменты: «Я... видевший белогвардейцев в Киеве
355
изнутри за кремовыми занавесками, утверждаю, что денщиков в Киеве в то время, то есть когда происходили события в моей пьесе, нельзя было достать на вес золота».
П. Е. Заблудовский, кончивший медицинский факультет Киевского университета в 1919 году, так описывает в письме к автору этой книги от 29 ноября 1987 года свои впечатления от этого обсуждения, на котором он присутствовал. «Председатель общественного суда был А. В. Луначарский, что придавало суду большой, даже официальный вес. Театр был переполнен. Особенно нападал на Булгакова некий Орловский; он отрекомендовал себя перед выступлением так: «Не скрою, что находился в политотделе дивизии, сражавшейся против белых, форму которых одно время носил Булгаков». Диалог о прислуге запомнился ему иначе, чем отразился он в стенограмме (не правленной самим автором): «Булгаков ответил, что в тогдашней обстановке прислуги не было ни у кого, бывшая прислуга уехала в свои села. Орловский: «Даже за золото нельзя было найти?» Булгаков: «Я не слыхал, чтобы прислуге платили золотом». Орловский: «Что ж, у кого было золото, тот мог и прислуге им платить. У Турбиных наверняка оно было». На таком уровне велось это «обвинение». Булгакова, между прочим, спросили, кого он, собственно хотел представить в лице Алексея Турбина и как он к нему лично относится, Булгаков ответил, что в Алексее Турбине «я показал человека, которого я люблю и который заслуживает глубокого уважения». Луначарский в заключение формулировал обвинительный общественный приговор, правда, в корректных выражениях».
Спор о «денщиках» имеет немалый интерес. Судя по стенограмме, вполне проницательно Булгаков уверял далее: «...даже если бы я вывел этого денщика, то я уверяю вас, и знаю это совершенно твердо, что я критика Орлинского не удовлетворил бы (смех, аплодисменты). <...> Я представляю очень кратко две сцены с денщиком: одну, написанную мною, другую — Орлинским. У меня она была бы так: «Василий, поставь самовар», — это говорит Алексей Турбин. Денщик отвечает: «Слушаю», — и денщик пропал на протяжении всей пьесы. Орлинскому нужен был другой денщик... Так вот, я определяю: хороший человек Алексей Турбин отнюдь не стал бы лупить денщика или гнать его в шею — то, что было бы интересно Орлинскому». Наконец, Булгаков резко парировал упреки Орлинского в том, что в пьесе нет рабочих, большевиков и т. п. Он говорил о художественных категориях вкуса и фона, отстаивая их, протестуя против окостеневающих схем надлежащего изображения, отстаи-
356
вая свое право на передачу эпохи — собственными, художественными средствами.
Он был едва ли не единственным, кто свободным движением ушел в сторону от той схемы «красных» и «белых» братьев, которую остроумно выделил Шкловский как господствующую в литературе 1920-х годов: «Плохо, когда «Враги» Лавренева и «Лавровы» Слонимского и «Братья» Федина основаны на красных, белых и розовых братьях. Сердит это и у Леонова в «Скутаревском», — писал он. — Сюжет романа Олеши («Зависть», 1927. — М. Ч.) сделан на двух братьях — красном и белом» (он мог бы добавить сюда и свояков у Алексея Толстого). У Булгакова критика не находила «красных» братьев на уже ставшем привычным месте.
25 февраля А. Н. Тихонов пишет ему, возобновляя разговоры полуторагодовой давности: «Дорогой Михаил Афанасьевич. Ну, как же поживает «Белая гвардия»? Намерены Вы ее у нас печатать или нет? Нам это необходимо знать, пора бы Вам раскачаться. Или Вы остаетесь верны себе до конца в своих отношениях с «Кругом»? Надеюсь, что все же нам удастся с Вами до чего-нибудь договориться».
Через два дня, 27-го, Таиров просит прислать несколько экземпляров «Багрового острова», но машинописный текст пьесы, видимо, еще не полностью готов. 3 марта секретарша Камерного театра пишет Булгакову с укоризною: «Вы обещали Александру Яковлевичу вчера прислать пьесу. Соответственно этому он сговорился с Реперткомом, что сегодня доставит туда пьесу. Увы! Ему нечего доставлять. А между тем сейчас очень удобный момент и настроение, которое, конечно, Александр Яковлевич очень хочет использовать. Очень прошу Вас Переслать нам с посланным экземпляры пьесы... Момент этот упускать нельзя, так как через несколько дней состав весь меняется и провести пьесу будет много труднее...» Именно в письмах, сохранившихся, к счастью, в архиве писателя, — те летучие детали атмосферы, условий момента, которые не отражаются обычно в периодической печати, фиксирующей лишь основную общественно-историческую рамку. Между тем нередко именно от этих локальных условий в немалой мере зависел успех или неуспех театрального или литературного предприятия.
4 марта эта же секретарша выдает Булгакову расписку: «2 экземпляра «Багрового острова» получила для Камерного театра», а 14 марта театр просит еще и 3-й экземпляр — по-видимому, всерьез разворачивается борьба за право постановки. Горький пишет А. Н. Тихонову 10 марта: «А что
357
Булгаков? Окончательно запрещен к богослужению? Нельзя ли познакомиться с его пьесой?» И 25 марта А. Н. Тихонов отвечает: «Булгаков пробует ставить свою пьесу «Багровый остров», но пока безуспешно. Постараюсь выслать Вам экземпляр пьесы. Работает над романом «Белая гвардия» — переделывает почти заново».
Что касается романа — по-видимому, была какая-то договоренность с издательством «Круг» об издании его в переработанном виде. Забегая вперед, скажем, что переработка коснулась на самом деле только последней главы, о чем мы расскажем позже.
В этом же месяце в печати (в «Программах государственных академических театров») сообщается, что Булгаков пишет для МХАТа пьесу, «рисующую эпизоды борьбы за Перекоп». В апреле был заключен договор с МХАТом на пьесу «Рыцарь Серафимы», которую Булгаков обещал сдать в театр «не позднее 20 августа 1927 г.». По-видимому, распространившийся по Москве слух об этой пьесе заставил Мейерхольда обратиться 26 мая со следующим письмом к Булгакову: «К сожалению, не знаю Вашего имени-отчества. Прошу Вас дать мне для предстоящего сезона Вашу пьесу. Смышляев (артист МХАТа II Валентин Сергеевич Смышляев, недавний знакомец Булгаковых. — М. Ч.) говорил мне, что Вы имеете уже новую пьесу и что Вы не стали бы возражать, если бы эта пьеса пошла в театре, мною руководимом». 21 июня Мейерхольд благодарил за ответ (он до нас не дошел) и сожалел: «Ах, как досадно, что у Вас нет пьесы! Ну, что поделаешь?!» И далее брал слово с Булгакова, что тот позвонит ему. осенью по телефону с тем, чтоб повидаться.
Конечно, в июне пьеса «Бег» вряд ли была закончена даже и в черновом виде. Но для нас несомненно, что Булгаков вообще не хотел давать ее Мейерхольду — ведь ничто не мешало ему вернуться к этому разговору осенью. В Мейерхольде его отпугивало многое — начиная с эпистолярной манеры, которая позволяла, не сморгнув, писать адресату, не зная его имени-отчества!
1 августа 1927 г. Адольф Францевич Стуй, «далее именуемый «Наблюдатель» (архитектор-застройщик, которому представлено было право на эксплуатацию жилого строения) , и Булгаков, «далее именуемый в договоре «Съемщик», заключили договор: Булгаков получал в аренду квартиру из трех маленьких комнат, кухни и ванной — первую отдельную квартиру в своей московской жизни. Он поселился на первом этаже дома № 35а на Большой Пироговской. «Если
358
выйти из нашего дома и оглянуться налево, — пишет в своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна, — увидишь стройную шестиярусную колокольню и очертания монастыря (Новодевичьего. — М. Ч.). Необыкновенно красивое место. Пожалуй, одно из лучших в Москве». В конце августа переехали; 5 сентября Булгаков уже приглашал сестру Надю в гости на новую квартиру.
Новоселье совпало с известием о снятии из репертуара МХАТа «Дней Турбиных».
Еще 11 августа Ф. Н. Михальский (тогдашний администратор МХАТа) пишет Станиславскому в Кисловодск: «Вот новости из Реперткома: «Турбины» категорически не допускаются. В «Бронепоезде» необходимы поправки во всех действиях и полная переработка последнего акта. В нашей же редакции его не пропускают» и т. д.
17 сентября «Вечерняя Москва» сообщала об исключении «Дней Турбиных» из репертуара, но в это время уже шли хлопоты, увенчавшиеся успехом. В альбоме Булгакова, уже не раз нами упоминавшемся, его рукою записано: «12 октября 1927 г. в среду пришла в Театр телефонограмма с разрешением, а 13-го пьеса поставлена в репертуар». 13-го же Луначарский писал Станиславскому: «Вы, конечно, уже знаете, что на этот год, по крайней мере, «Турбины» Вам разрешены».
20 октября «Дни Турбиных» — впервые в новом сезоне на сцене МХАТа. В этот день Станиславский пишет письмо К. Е. Ворошилову, где благодарит его «за отзывчивость» к делам театра и, среди прочего, за помощь «в вопросе разрешения пьесы «Дни Турбиных», а 25 октября Владимир Иванович Блюм (псевдоним — Садко), постоянный яростный оппонент Булгакова, активно способствовавший снятию пьесы, печатает в связи с этим в «Жизни искусства» статью «Начало конца МХАТа».
Об отношении Булгакова к критике тех лет, сопровождавшей каждый его шаг на подмостках театров, говорит, среди прочего, и следующая донесенная Е. С. Булгаковой устная легенда. Однажды в очереди за гонораром Булгакову указали на человека, сказав, что это и есть знаменитый критик и фельетонист, подписывающийся псевдонимом Садко. Булгаков подошел к нему и сказал: «Вы Блюм? Позвольте пожать вам руку: вы пишете убежденно». Было так или не было, но быть могло: недаром будущему герою романа «Мастер и Маргарита», читающему яростные статьи, направленные против его романа о Пилате, все кажется, «что авторы этих статей говорят не то, что
359
они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим». С другой стороны, по свидетельствам многих очевидцев именно в гриме Блюма, сотрудника Главреперткома, узнаваемом всем залом, появлялся на сцене Камерного театра Савва Лукич, зловещий персонаж «Багрового острова». В эпилоге пьесы, после окончания просмотра спектакля, «Савва Лукич один, неподвижен, сидит на троне над толпой. Вид его глубокомыслен и хмур. Все взоры обращены на него». Директор театра спрашивает: « — Кхм... Ну что же вам угодно будет сказать по поводу пьески, Савва Лукич?
Гробовая тишина.
Савва. Запрещается.
Проносится стон по всей труппе. Из оркестра вылезают головы пораженных музыкантов. Из будки — суфлер». Впоследствии, в письме к правительству, Булгаков прямо напишет, что пьеса направлена против Главреперткома, убивающего «творческую мысль» и губящего советскую драматургию, и с гордостью художника скажет: «Я не шепотом в углу выражал эти мысли. Я заключил их в драматургический памфлет и поставил этот памфлет на сцене».
Но до письма этого было еще далеко. Пока же он заканчивал четвертую пьесу этого трехлетия — «Бег».
В этой пьесе ожили некоторые важнейшие для Булгакова мотивы, связанные с материалом гражданской войны, намеченные еще в 1922 году и не нашедшие применения в романе «Белая гвардия». Напомним, как герой рассказа «Красная корона», сошедший с ума от всего пережитого, вспоминает: «Я ушел, чтобы не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах».
Почти в тех же выражениях описано в том же 1922 году поведение доктора Бакалейникова, увидевшего «первое убийство в своей жизни»: «Странно, словно каркнув, Бакалейников всхлипнул, пошел, пьяно шатаясь, вперед и в сторону от моста к белому зданию» («В ночь на 3-е число. Глава из романа «Алый мах»). Описание убийства еврея на мосту, увиденного героем ранних редакций романа о гражданской войне, почти дословно воспроизведено в «Белой гвардии». Но там оно происходит уже вне поля зрения героев романа — и тем самым вне сферы их личной ответственности.
Таким же образом оттеснен этот мотив (личного участия — пусть только присутствием при убийстве человека и невмешательством в событие — и, следовательно, личной вины) в сценической редакции пьесы «Дни Турбиных» — картины жестоких допросов обособлены от картин с участием Турбиных (немаловажно и то, что допросы эти не кончаются
360
трагически). В первой же редакции пьесы (более близкой, возможно, к ранним, не дошедшим до нас редакциям романа) допрос дезертира и убийство еврея разворачиваются непосредственно перед глазами Алексея — во сне. Этот сон и крик проснувшегося — «Скорей! Скорей! Надо помочь. Вот он, может быть, еще жив...» — порождены, несомненно, весьма важным для всего творчества Булгакова сюжетным импульсом — стремлением героя заново пережить события прошлого и изменить их ход. Только однажды это роковое, необратимое противостояние прошедшего и настоящего снимается и воссоздается ситуация реального вмешательства героя в ход событий: в рассказе «Я убил» (печатавшемся в конце 1926 года в «Медицинском работнике») доктор Яшвин, насильно мобилизованный петлюровцами, стреляет в упор в убийцу-полковника и убивает его.
В «Беге» происходит нечто подобное — два героя, Серафима Корзухина и вестовой Крапилин (причем одна больна и не помнит себя, другой, тут же очнувшись, объясняет «Я был в забытьи!») бросают в лицо Хлудову страшные и гибельные для них самих обвинения.
Далее Корзухину Хлудов сдает контрразведке, и она чудом остается жива, а Крапилина приказывает повесить.
Так, спустя уже шесть-семь лет после окончания войны, Булгаков продолжает внимательнейшим образом обследовать ту психологическую ситуацию, неразрешимость которой привела к помрачению рассудка героя рассказа «Красная корона», — возможности и последствий прямого столкновения человека с гибельной силой. «Тогда, конечно, я не мог ничего поделать, — констатирует герой «Красной короны», — но теперь (т. е. пройдя через все муки совести и потеряв ясность разума. — М. Ч.) я смело бы сказал: — Господин генерал, вы — зверь! Не смейте вешать людей!». Этот «господин генерал», лишь контуром намеченный в рассказе, уже предвосхищает Хлудова с настигшим его безумием. Бедный больной мысленно рассказывает генералу, как убитый брат (которого он, старший, не смог убедить уйти с поля бессмысленного боя) приходит к нему по ночам: «Господин генерал, он промолчал и не ушел. Тогда я ожесточился от муки и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам... Уверяю вас: вы были бы кончены так же, как и я. В два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи? Кто знает, не ходит ли к вам тот грязный, в саже, с фонаря в Бердянске? Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю (цепь общей ответственности. — М. Ч.), вешали же вы. По сло-
361
весному приказу без номера». И в «Беге» Хлудову постоянно являются Повешенные им. Очевидна связь центрального для этой фигуры мотива помешательства с историей болезни героя «Красной короны» и с едва намеченной болезненностью петлюровского полковника Лещенко из рассказа «Я убил»: петлюровец уравнен с добровольцами; убийство как таковое вытесняет для автора разделение лозунгов, под которыми оно совершается.
В отрывке, оставшемся от ранней редакции романа (1922), зафиксированы два наиболее острых аспекта темы, два ее центра — личная утрата дома, мира, покоя («Боже мой! О мир! О благостный покой!» — восклицает автор вместе с насильно мобилизованным доктором Бакалейниковым) и личная вина: «Бандиты! Но я... я... интеллигентская мразь!» — восклицает тот же герой, ушедший в сторону от совершавшегося на его глазах убийства. В «Белой гвардии» из них выбран в конце концов один — первый; герои романа, собирающиеся в доме Турбиных, — лица в точном смысле страдательные (в отличие от Шполянского, гетмана и других). Только однажды, молясь о даровании жизни брату, обмолвится Елена: «Все мы в крови повинны, но ты не карай».
«Заплатит ли кто-нибудь за кровь?» — вопрошает автор в конце романа и отвечает: «Нет. Никто». Однако ответ этот не окончательный — недаром оставлен в печатном тексте романа эпиграф, к этому роману, в сущности, не относящийся, целящий далее его конца: «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими...»
Герой рассказа «Красная корона» готов отвечать лично и отвечает — своим безумием. И этим же платит за вину неизмеримо большую Хлудов в той пьесе, которую дописывал Булгаков в кончающемся 1927 году.
Мы думаем, что еще раньше того, как в печати были высказаны резкие обвинения автору пьесы «Дни Турбиных» и романа «Белая гвардия» за слишком сочувственное изображение героев, сам писатель уже размышлял над пьесой, где должен был зазвучать второй, не менее важный для него мотив — «по справедливости мы терпим», «Бег» — это не продолжение «Дней Турбиных», а вторая, оборотная сторона одних и тех же проблем, не исчерпанных и этой пьесой, сохранивших остроту в позднейшей творческой работе Булгакова — за события рокового года ответственны все.
Пьеса не только возрождала и развивала мотивы, заданные ранее, — в ней, при ретроспективном взгляде, обнаруживается некий остаток — то, что в этой пьесе
362
остается не развитым, но разветвится в последующих , замыслах.
Бессмертье — тихий, светлый брег;
Наш путь — к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег!..
Этот эпиграф к пьесе «Бег», выбранный из Жуковского («Певец во стане русских воинов») еще в 1927 году, — программа будущей линии Мастера, наиболее полно воплотившей сквозной мотив всего творчества Булгакова (покой бессмертия как конечная цель бытия, его существенно окрашивающая) , — притом, что замысла этой линии в романе, над которым автор, несомненно, уже задумывается, в те годы, скорее всего, еще не существовало.
Для зарождения замысла пьесы важна была и судьба вернувшихся «сменовеховцев», складывавшаяся в те годы еще благополучно.
В формировании замысла «Бега» и фигуры Хлудова как едва ли не главного героя пьесы участвовали, мы полагаем, многие печатные источники, помимо очевидного и всегда называемого — книги самого Слащова «Крым в 1920 году» (М., 1924). Начнем, однако, с него, чтобы читатель наш увидел, что специфический строй повествования с отчетливым отпечатком личности мемуариста получил прямое отражение в построении фигуры Хлудова, в самих его репликах, язвительно-холодных, нескрываемо брезгливых по отношению к генералитету.
«В конце января и в начале февраля наступили 20-ти-градусные морозы, и Сиваш, вопреки уверениям статистиков, сделал то, чего ему, как крайне соленому озеру, по штату не полагалось, — он замерз. Этот вопрос меня сильно беспокоил.. Каждую ночь я приказывал проводить на лед Сиваша две подводы, связанные вместе, общим весом в 45 пудов, и они стали проезжать по льду, как по сухому месту. Это мое действие моими «друзьями» всех степеней освещено так: «После случайной победы Слащов допивается в своем штабе до того, что заставляет катать себя ночью по Сивашу в телегах, не давая спать солдатам». <...> Когда это говорили наши «беспросветные» (у генералов нет просвета на погонах), не понимая, зачем я это делаю, хотя сорок пять пудов — это вес орудия с передком, не понимая, что большая разница: вторгнутся ли красные в Крым сразу с артиллерией или без нее, — это уже было признаком либо слишком большой злобы, либо глупости. <...> Из войсковых частей я туда направил чеченцев, потому что, стоя, как конницы, в тылу, они так грабили, что не было
363
никакого сладу. Я их и законопатил на Тюп-Джанкой». Генерал Ревишин «возражал, что грабежи не доказаны и что в бою горцы спасут все, причем ссылался на авторитеты, до Лермонтова включительно. Я же сам был на Кавказе и знаю, что они способны лихо «грабить, а чуть что — бежать».
Среди источников, несомненно, была знакомая Булгакову скорее всего с первого издания (София, 1922) и перепечатанная ленинградским издательством «Прибой» в 1927 году полностью книга воспоминаний В. В. Шульгина «1920 год» с ее подробным анализом того, что происходило с «белой идеей» в 1919—1920 годах (этот анализ мог отразиться в почти гротескных фразах Хлудова: «Никто нас не любит, никто... Нужна любовь, а без любви ничего не сделаешь на войне! (Укоризненно, Тихому) Меня не любят»; завершающие же прочувствованные страницы книги Шульгина о судьбе Белой мысли и Белого дела могли повлиять в какой-то степени на выбор названия романа «Белая гвардия»).
Упомянем А. Аверченко и книгу А. Ветлугина «Герои и воображаемые портреты», изданную в 1922 году в Берлине (как и «Сентиментальное путешествие» Шкловского, упоминавшееся нами ранее). Это последнее предположение подкрепляется приведенным нами ранее свидетельством Татьяны Николаевны Лаппа о том, что Ветлугин был в кругу чтения Булгакова в годы жизни на Садовой. В книге Ветлугина целая главка посвящена Слащову (в разделе «Кладбище мечты», близком по мыслям и пафосу книге В. Шульгина): «Безумным усилием воли, опьяненный ненавистью, кокаином, хронической бессонницей, бодрствуя целыми неделями, он сумел продержаться вопреки стратегическому смыслу... Остается последний резерв — 1000 юнкеров. С винтовкой в судорожно сведенных руках, с безумным взором остекленевших глаз поведет он эту кучку... Дрожат интенданты, смиряется Орлов (один из главарей «зеленых». — M. Ч.), еле дышит тыл, боготворят войска и удерживается полуостров. В последний раз в роли диктатора мелькнет его издерганное лицо с остекленевшими глазами на генеральском совете... Снова летит жуткий поезд, приводя в оцепенение начальников станций, вызывая воспоминания о прошлом и страх перед будущим... А Слащов, сидя над картой и чертя схемы, твердит в сомнамбулическом забытьи: «кокаин, водка, нитроглицерин, черт, дьявол, только не спать, только не спать»... (с. 123—126).
Возможно, это полубеллетристическое описание генерала Слащова не только подсказало Булгакову детали портрета Хлудова (кокаиническую бледность лица — «бел, как
364
кость», — то, что он «морщится, дергается», и проч.), но и послужило камертоном в работе над этим персонажем. Вообще в 1924—1927 годах в Госиздате вышло немало мемуаров о гражданской войне, в том числе и тех, кто воевал с другой стороны линии фронта: через десять лет, работая уже над либретто оперы о Перекопе, Булгаков составит список этих источников, возможно, находившихся в его библиотеке со времени работы над «Бегом».
Рождение замысла пьесы «Бег» и само его воплощение уясняется в широком творческом контексте работы Булгакова 1926—1928 годов, прежде всего — рядом с творческой историей романа «Белая гвардия», завершавшейся в эти годы.
Нужно учесть также и ряд биографических фактов. Конец 1926 года — время триумфа «Дней Турбиных» на сцене МХАТа, «Зойкиной квартиры» в Театре имени Евгения Вахтангова, зрительского успеха помимо и поверх резких печатных высказываний о пьесах. Булгаков внезапно стал известнейшим драматургом; сбылась, наконец, та мечта, о которой он писал пять лет назад двоюродному брату — из Владикавказа, после премьеры пьесы «Братья Турбины»: «А ведь это моя мечта исполнилась... но как уродливо: вместо московской сцены сцена провинциальная», — и так далее. Теперь это была сцена московская, причем едва ли не самого почитаемого в широкой интеллигентной среде театра, и эта сцена ждала его новых вещей. В свете этих удач и оптимистических ожиданий судьба тех, кто в это время мыкался в Константинополе или Париже, о ком рассказывали вернувшиеся в Россию новые литературные сотоварищи, предстала в этот год перед ним как подлежащая непреложной и однозначной оценке. Он стал обдумывать новую пьесу, обратясь на этот раз впрямую к коренным проблемам современности, и, видимо, верил, что, освещая одну из сторон исторической борьбы, сможет охватить целое.
Мысль о беге, как о движении, чуждом человеку оседлой, корневой культуры, привязанному к месту рождения, к дому, явилась ему, конечно, много раньше, чем размышление о тех, кто добежал до Константинополя и Парижа. Еще в самом первом своем печатном сочинении напишет он о безумстве «двух последних лет», которое «толкнуло нас на страшный путь и нам нет остановки, нет передышки». Это и был в его понимании бег, подобный, видимо, цвейговскому амоку, — порывистое, стремительное, чужой волей направляемое движение — без замысла и цели, без созидательного результата.
Замысел «Бега» рождался и разворачивался на фоне не-
365
скольких важных явлений тогдашней общественной жизни. Одним из них было по ряду причин сложное для анализа и теперь движение возвращенчества, развивавшееся среди довольно широких слоев эмиграции. Поборниками его были Е. Д. Кускова, С. Н. Прокопович, М. О. Осоргин, а с советской стороны — Е. П. Пешкова. Ходасевич вспоминал, как Горький говорил ему (в 1924—1925 гг.), что Пешковой «поручили большое дело, нужное», — «мирить эмиграцию с советской властью».
Ходасевич уверенно утверждал, что «влияние московских сфер на зачинателей возвращенчества имело целью не действительное возвращение их в Россию, а лишь смуту в умах и сердцах эмиграции». 10 июля 1926 года Ходасевич дал в письме М. Карповичу свой личный анализ ситуации в данный момент; этот анализ интересен для нас тем, что дает представление о том, какими виделись изменения, произошедшие в стране за несколько лет не изнутри, а извне. «Главное, решающее отличие Вашего «возвращенчества» от Кусково-Осоргинского в том, что Вы не знаете, куда хотите возвратиться, — писал Ходасевич своему корреспонденту, покинувшему Россию на пять лет раньше его, в мае 1917 года. — <...> Говорю не о"Ч.-К. и всяких кровавых ужасах, которые — в прошлом и с этой точки зрения простить их можно. Говорю о нынешней России. Я уехал оттуда 4 года тому назад, но, зная, что было, и читая тамошние газеты и журналы, могу вычислить, что есть. Не из эмигрантского) «запала» говорю: РСФСР 1922 года и эпохи «военного коммунизма» — либеральнейшая страна в сравнении с СССР 1926 года. Вы, не знающий, не видавший прежнего, психологически правы, когда представляете черта не таким страшным, как его малюют, и я понимаю, если Вы (подобно иностранцам) не вполне верите нам, эмигрантам. А. Кускова и Осоргин и др(угие) — знают, а зовут. (А Осоргин и вовсе гнусно: шлет других, прибавляя: я — не поеду). <...> Вы говорите: я бы вернулся, «если б была хоть малейшая возможность жить там, не ставши подлецом». В этом «если бы» — самая святая простота» — Ходасевич уверял: «Подлецом вы станете в тот день, когда пойдете в советское) консульство и заполните ихнюю анкету, в которой отречетесь от всего, от себя самого. (Не отречетесь — так и ходить не стоит). А каким подлецом Вы станете, ступив на почву СССР — об этом можно написать книгу. Ибо, сев в вагон, поведете такой разговор с соседом: Сосед. Откуда изволите ехать? Вы. Из Нью-Йорка. Сосед. Долго там были? Вы. С 1916 (?) года. Сосед. А что делали? Вы.
366
Служил там-то. Сосед. Раскаялись, что шли против рабоче-крестьянской власти? Стыдно Вам своих гнусных поступков? (Далее — 2 варианта):
I. Вы. Да, очень стыдно. Я поступал подло и знался с подлецами. И переписывался с ними.
Черт. (Вам на ухо). А вот уж Вы и подлец, Михаил Михайлович. Очень рад.
Сосед. Вот Вам 20 копеек за работу...
II. Вы. Нет, не стыдно, но я соскучился по России и хочу в ней жить и работать, не борясь против раб<оче>-крестьянской власти.
Черт. (Вам на ухо). Браво! Уклончиво!
Сосед. Не стыдно? Так-с. (Вынимает мандат). Позвольте препроводить Вас в местное отделение ГПУ; на предмет — и прочее.
Уверяю Вас, что третьего варианта быть не может. Разве только — этот разговор произойдет не на первой станции, а на третьей, или даже в Москве. А ведь это только начало. Но — допустим чудо: Вы приехали в Москву, не сподличали, и не попали в ГПУ, довольно долго гуляя на свободе. Но Вы соскучились по «русской общественности» — и желаете ею заняться. Голубчик! Да русская общественность существует скорее на Марсе, чем в Москве. Там общественность равняется без остатка работе внутри РКП. Никакой другой фактически не существует, если не считать волонтерской работы по ловле воров и растратчиков. Этим можете заняться, т. е. писать доносы на уголовных, превратиться в сыщика-любителя. Но и тут: поймаете вора-некоммуниста — Вам выдадут 25 рублей на чай, а на место пойманного посадят коммуниста, чтобы он мог поживиться на доходном месте. Или поймаете коммуниста. Тогда — он получит 100 руб (лей) за то, что пострадал от Вашей клеветы, а Вы отправитесь в ГПУ. Клянусь Вам — никакой больше общественности там нет, если не считать препирательств с соседями по квартире: кто сколько времени имеет право проводить в уборной?» Ходасевич завершал свой пассаж уверенностью, что «возвращенчество» его корреспондента «дальше грусти (весьма естественной и почтенной)» не пойдет. Булгаков стал писать пьесу о «возвращенчестве», идущем до конца.
Как отнесся бы он к суровому и язвительному диагнозу Ходасевича, если б он стал ему известен? Ответить на этот вопрос мы не беремся. Размышлял он в тот же самый год, в который писалось письмо, о том же самом — о тех, кто «соскучился по России» и хотел бы «в ней жить и работать, не борясь против рабоче-крестьянской власти».
367
Был ли у него заготовлен для этих людей третий вариант? А если он также считал, что его быть не может, — что именно двигало его замыслом, замыслом пьесы о беге туда и беге обратно?
В «Беге» был некий авторский замысел или умысел, выраженный в сразу же выбранном автором эпиграфе и целящий далеко, поверх конкретно-исторической ситуации.
В финале же Голубков и Серафима «выбегают из комнаты» с решением «ехать домой» навстречу, надо полагать, именно надежде. Возможная альтернатива — показать, как они движутся навстречу неизвестности и, может быть, вечному покою, приходящему после еще неведомых им мучений, драматургом оказалась не использована — хотя ретроспективно ее сегодня могут вычитать в пьесе в какой-то степени правомерно исследователи и режиссеры.
«Бег» был связан с историей романа «Белая гвардия»; напомним, что к весне 1926 года (после отъезда редактора «России» И. Лежнева и окончательного закрытия журнала) на руках у автора осталась корректура ненапечатанной трети романа. Последняя глава его сильно отличалась от той редакции, которая возникла впоследствии. Она начиналась елкой в крещенский сочельник у Турбиных,и в первых же строчках появлялся приглашенный на елку маленький Петька Щеглов (тот самый, сном которого кончается последняя редакция романа), а затем — «колыхнулась портьера и в гостиную вышел Турбин. Он был в смокинге, открывавшем широкую белую грудь, с черными запонками. Голова его, наголо остриженная во время тифа, чуть-чуть начала обрастать, гладко выбритое лицо было лимонного оттенка, он опирался на палку». В смокингах и Лариосик, и Мышлаевский — Елена объясняет пришедшей на елку Ирине, сестре погибшего Най-Турса: «Смокинги — это они принципиально. По поводу Петлюры». В этой главе завязывался роман Ирины Най с Николкой и развязывалась едва обозначенная в предшествующих главах (и в этих границах и оставленная в окончательном тексте романа) связь Мышлаевского с влюбленной в него горничной Турбиных Анютой: ей делает предложение Лариосик через посредство Елены, тогда Анюта и признается Елене в беременности. На последней странице корректуры (сохранившейся не до конца, с утратой одной или нескольких завершающих роман страниц) описывались «сумерки знаменитого этого дня 2-го февраля 1919 года, когда обед, скомканный к черту, отошел в полном беспорядке, а Мышлаевский увез Анюту с таинственной запиской Турбина в лечебницу (записка была добыта после страшной
368
![]() ругани с Турбиным в
белом кабинетике Еленой)». В этот день «в спальне у себя Елена в сумерках у
притолоки сказала Шервинскому, который играл свою обычную гамму на кистях ее
рук:
ругани с Турбиным в
белом кабинетике Еленой)». В этот день «в спальне у себя Елена в сумерках у
притолоки сказала Шервинскому, который играл свою обычную гамму на кистях ее
рук:
Какие вы все прохвосты...
Ничего подобного, — ответил шепотом Демон, нимало не смущаясь, и, притянув Елену, предварительно воровски оглянувшись, поцеловал ее в губы (в первый раз в жизни, надо сказать правду).
Больше не появляйтесь в доме, — неубедительно шепнула Елена.
Я не могу без вас жить, — зашептал Демон, и неизвестно, что бы он еще нашептал, если бы не брызнул в передней звонок». На этом обрывается текст корректуры романа; кто бы ни появился в квартире Турбиных в этот момент, роман уже кончался. Кончался, как можно предполагать, еще оставаясь в замыслах автора первой частью трилогии, и тогда в конце его, как кажется, еще не должно было быть ни Русакова, читающего «потрясающую книгу», ни пророческих снов персонажей.
Вся глава была точно размечена по датам: крещенский сочельник (то есть 19 января по новому стилю), на который Турбин выходит еще больным; затем сообщение о том, что «рана Турбина заживала сверхъестественно». Далее время как бы затормаживалось (отметим явное воздействие рассказа Замятина «Пещера», 1922); «Да, время падало совершенно незаметно, как капли в пещере. Пролетали белые дни, то с вертящимися метелями, то закованные в белый мороз, медленно протекали жаркие вечера». Каждый из героев между тем уже заглядывал в свою будущую судьбу, намечал свой выбор. « — А что же будет?» — спросила Елена. « — А будут, кажется, большевики», — ответил Турбин. « — Господи боже мой», — сказала Елена. « — Пожалуй, лучше будет, — неожиданно вставил Мышлаевский, — по крайней мере сразу поотвинчивают нам всем головы, и станет чисто и спокойно. Зато на русском языке. Заберут в эту, как их, че-ку, по матери обложат и выведут в расход» (ср. в пьесе «Дни Турбиных»: «Мышлаевский. И отлично сделают! Заберут в Чека, обложат и выведут в расход. И им спокойнее, и нам...»). Далее: «Первый пациент появился 30-го января вечером часов около шести». Наконец «однажды вечером» в дом Турбиных приходит весть о наступлении людей со звездами на папахах. « — Алеша, — вскричал Николка, — ты знаешь, красные идут. Сейчас, говорят, бои идут под Бобровицами.
369
Турбин первоначально перекосил злобно лицо и сказал с шипением:
Так и надо. Так ему, сукину сыну, мрази, и надо (Петлюре. — М. Ч.), — потом остановился и тоже рот открыл, — позвольте... это еще, может быть, так, утки... небольшая банда...
Утки? — радостно спросил Шервинский. Он развернул «Вести» и наманикюренным ногтем отметил:
На Бобровицком направлении наши части доблестным ударом отбросили красных.
Ну, тогда действительно гроб... Раз такое сообщение, значит, красные Бобровицы взяли.
Определенно, — подтвердил Мышлаевский». И наконец — 2 февраля 1919 года, последняя дата в романе.
Именно на основе этой главы романа писал Булгаков в 1925 году пятый акт первой редакции пьесы «Белая гвардия» и четвертый (также финальный) акт той редакции, которая была поставлена в МХТ'е.
Но четырнадцать дней, в течение которых идет действие этой главы, по условиям сцены были стянуты в один день — крещенский сочельник с елкой. (По отзывам первых зрителей спектакля, именно елка на сцене в начале последнего, сильней всего действующего на публику акта производила огромное впечатление — рождественская елка в те годы уже противопоставлялась официальному канону, воспринималась как знак другой, навсегда ушедшей жизни).
Стянулись и сюжетные линии романа — безнадежная влюбленность Лариосика в Анюту перенесена была на Елену. В пьесу не вошла совсем линия Алексей — Юлия Рейсc (которая в 1925 году была представлена в романе, в последней его главе, совсем иначе, чем впоследствии: Алексей то хватал Юлию за горло в припадке ревности, то под пистолетом требовал признания, в каких она находится отношениях с Михаилом Семеновичем Шполянским, разгадав его на фотокарточке у нее на столе; Юлия же бледнела от страха перед какими-то гораздо более важными разоблачениями, чем уличение в любовной связи, — видимо, в двойной игре). Не вошла в пьесу и линия Николка — Ирина Най. Зато отношения Елены и Шервинского, которые в окончательном тексте романа скорее обозначены, чем изображены, в 1925 году были написаны уже в том самом ключе, в котором вошли они в пьесу («Оставьте руку, Шервинский, — вяло говорила Елена полушепотом, — оставьте. — Но Шервинский не отставал, пальцы его играли на кисти, потом пробирались к локтю, к плечу. Изредка он наклонялся к
370
плечу, норовил гладкими бритыми губами поцеловать в плечо. — Ах, наглец, наглец, — шепотом говорила Елена»...).
Характер разработки по крайней мере двух сюжетных линий (Николка — Ирина и Алексей — Юлия) в последней главе редакции 1925 года подтверждает, на наш взгляд, приводимые ранее свидетельства о том, что еще летом 1925 года роман был рассчитан на продолжение. Потеряв возможность его допечатать, автор отказался, по-видимому, и от мысли о продолжении трилогии. Эта перестройка творческих намерений повлекла за собой по меньшей мере два литературных результата. Одним из них и было решение писать пьесу о конце гражданской войны на юге. Первое печатное упоминание о романе «Белая гвардия» — в марте 1923 года в журнале «Россия» — гласило, что писатель «заканчивает роман «Белая гвардия», охватывающий эпоху борьбы с белыми на юге (1919—1920 гг.)». Отвечала или нет эта информация тогдашнему этапу работы автора над романом, но эти годы в его замыслах, несомненно, присутствовали. Реальные границы «Белой гвардии» сдвинулись назад, как это нередко бывает в работе исторических романистов, и остановились на начале 1919 года. Отказ от продолжения романа повел к тому, что материал этих лет повис в воздухе — возвращение к нему Булгакова, к концу 1926 года полностью погрузившегося в драматургию, естественным образом совершилось в форме драматургической.
Вторым следствием отказа от замысла трилогии было переписывание последней главы романа. Совершалось оно, на наш взгляд, после завершения всей работы над «Днями Турбиных», в процессе работы над «Бегом» или вскоре после его завершения. Мы хотели бы подчеркнуть, что пьеса «Бег» и окончательная редакция последней главы романа отражают один и тот же этап творческой биографии писателя.
Переработке финала романа сопутствовал ряд обстоятельств. В 1927 году, когда пьеса «Дни Турбиных» второй сезон шла на сцене МХАТа, пришли известия о том, что бывший издатель «России» 3. Каганский намеревался издать роман в других странах.
Имя Булгакова в Европе приобрело уже некоторую известность — главным образом среди русских зрителей и читателей. 13 октября 1927 года парижская газета «Дни» сообщила: «Поставленная в Риге русской драматической труппой нашумевшая в России пьеса «Семья Турбиных» <...> имела громадный успех». В Риге же появилось отдельное издание романа «Белая гвардия», где недопечатанный в «России» конец романа был кем-то дописан за
371
автора — по последнему действию «Дней Турбиных»: сохранены были реплики героев и присочинены повествовательные куски, в ряде случаев развернутые из ремарок; финал, возможно, отражал личные воспоминания неведомого сочинителя о Киеве в момент вступления большевиков в начале 1919 года.
Эти 29 печатных страниц чужого текста, оказавшихся под обложкой с его именем, несомненно, мучили Булгакова.
В том же 1927 году отдельное издание тех частей романа, которые были напечатаны в 1925 году в журнале «Россия», готовилось в Париже. (По-видимому, Булгаков еще не решался печатать в зарубежных издательствах неопубликованные главы). Датировать момент выхода позволяет публикация отрывка «Взятие Киева Петлюрой» в газете «Дни» от 10 (и затем 12) октября 1927 г., предваренная следующим пояснением: «С любезного разрешения издательства «Конкорд» * (Париж), мы печатаем главу из выходящего на. днях нашумевшего романа Мих. Булгакова «Дни Турбиных». Роман этот, как известно, переделан автором в пьесу, которая с исключительным успехом шла в Художественном театре в Москве и недавно была запрещена к постановке». (В Париже, естественно, еще не знали о разрешительной телефонограмме от 12 октября). Так пьеса привлекла внимание к роману. Если сначала она была названа автором по роману — «Белая гвардия», то теперь в заголовок романа издателями включалось в рекламных целях сценическое название пьесы: на титульном листе русского издания 1927 года — «Белая гвардия (Дни Турбиных)», а парижского того же года — «Дни Турбиных (Белая гвардия)».
Не прошло и месяца после возобновления «Дней Турбиных» на сцене МХАТа, как в театре Вахтангова снята была с репертуара «Зойкина квартира». Это обостряло интерес к сочинениям Булгакова русского зарубежья. В том же месяце, 26 ноября 1927 года, газета «Дни» сообщила: «Дирекции русской драмы в Риге удалось получить из России другую пьесу Булгакова, автора „Дней Турбиных" — „Зойкину квартиру". Поставленная студией Московского худож. театра, и эта пьеса Булгакова вскоре снята была с репертуара, так как вызвала немилость властей. „Зойкина квартира" пойдет в Риге в постановке Унгерна».
Наконец, 8 декабря 1927 г. в «Днях» появилась заметка под названием «Булгаков в ГПУ?» Она гласила: «Автор
* В газете с искажением — «Копрод».
372
«Дней Турбиных» и пьесы «Зойкина квартира» Булгаков был вызван, как сообщ(или?) рижскому «Слову» из Москвы, в ГПУ и подвергнут допросу, на каком основании его произведения печатаются за границей, а пьесы исполняются на заграничных сценах. Особенно интересовались в ГПУ, получает ли Булгаков гонорар. Допрашивался Булгаков более 3 часов.»
Если сообщение достоверно, то возможно эти обстоятельства и послужили основным толчком к тому, чтобы Булгаков стал предпринимать шаги к публикации за границей своего письма по поводу действий бывшего издателя «России» З. Каганского, объявившего себя полномочным представителем писателя (первое письмо — от 28 ноября).
Каганский, увы, имел к тому юридические основания, что далеко не сразу стало ясно Булгакову. Некоторые выражения в письме от 15 декабря, переданном через сотрудника агентства по охране авторских прав В. Л. Бинштока в заграничные газеты, были рассчитаны, по-видимому, не столько на прочтение за пределами страны, сколько внутри нее. Он утверждал, что «ни Каганский, ни другие лица, несмотря на их заверения, не получали от меня экземпляров моих пьес «Дни Турбиных» и «Зойкиной квартиры». Если таковые экземпляры находятся у них в руках, то это могут быть лишь списанные копии или экземпляры, полученные ими без разрешения и без ведома автора и таким же способом переданные за границу. Весьма вероятно, что это черновики или наброски романа «Белая гвардия», которые не появились в СССР, то есть материалы, полученные нелегальным путем». Письмо 9 января 1928 г. было напечатано в парижской газете «Комедиа», об чем 17 января В. Биншток написал Булгакову. «Дни» 13 января упомянули об этой публикации (а также сообщили, что «Дни Турбиных» пойдут в этом сезоне на французском языке в театре Питоевых); на другой день эта же газета дала объявление о премьере «Зойкиной квартиры» в только что открывшемся «Новом русском театре» — «Сенсационная пьеса. Запрещенная и снятая со сцены в Москве.»
20 января 1928 г. в кратком «Письме в редакцию» в тех же «Днях» 3. Каганский сообщил, что «в свое время приобрел в Москве от М. Булгакова права на его «Белую гвардию» — «Дни Турбиных», заключив с ним соответствующий договор»; он уверял, что право на пьесу за границей закреплено за ним, на что «имеются соответствующие документы». 30 января Булгаков, еще раз, при посредстве переводчика «Дней Турбиных» на немецкий язык, пробует опро-
373
тестовать утверждения Каганского («Дни», 24 февр. 1928 г.), а затем, в пространном письме от 16 марта, еще раз: «...ни через какого уполномоченного ни одной из моих пьес я г. 3. Каганскому не передавал, и даже будь у меня уполномоченный, ни в коем случае именно г. 3. Каганскому не передал бы <...> г. З. Каганский, в расчете на то, что Булгакову трудно будет дотянуться до Каганского из Москвы, напечатал ложное сообщение...» («Дни», 25 марта 1928).
Суть дела была в том, что при отсутствии конвенции между СССР и другими странами (она была заключена лишь в 1973 году) права советских авторов при любых зарубежных изданиях (или постановках) их сочинений не были защищены. Расчет мог быть только на добрую волю издателей; личное влияние автора, уже имеющего имя, могло бы, конечно, сыграть в развитии ситуации решающую роль.
В середине февраля он подает заявление о двухмесячной поездке за границу. В дополнении к заявлению, озаглавленному «Цель поездки за границу» и датированному 21 февраля, он пояснял, что хочет ехать в Берлин, чтобы «привлечь к ответственности» Каганского, а в Париж — чтобы вести переговоры с театрами, желающими ставить «Дни Турбиных», и с Обществом авторов-драматургов, в которое он незадолго перед тем вступил. Далее Булгаков писал: «В Париже намерен изучать город, обдумывать план постановки пьесы «Бег», принятой ныне в Московский Художественный театр (действие IV «Бега» в Париже происходит).
Поездка не должна занять ни в коем случае более 2-х месяцев, после которых мне необходимо быть в Москве (постановка «Бега»).
Надеюсь, что мне не будет отказано в разрешении съездить по этим важным и добросовестно изложенным здесь делам». И добавил в постскриптуме: «P. S. Отказ в разрешении на поездку поставит меня в тяжелейшие условия для дальнейшей драматургической работы». Он рассчитывал, что его просьба будет поддержана Горьким.
1 марта МХАТ заключает с Булгаковым договор на «Бег», оговаривая возвращение автором аванса, если пьеса будет запрещена.
Восьмым марта 1928 года датирована «Справка № 8-664», сохраненная Булгаковым: «Настоящим Административный отдел Моссовета объявляет, что в выдаче разрешения на право выезда за границу Вам отказано».
...В начале 1928 года Москва продолжала обсуждать странное и трагическое событие, произошедшее за неделю
374
до Нового года. 26 декабря газеты вышли с сообщениями, озаглавленными «Болезнь и смерть Бехтерева». Рассказывалось, как несколько дней назад известнейший ученый и врач приехал из Ленинграда в Москву на съезд психиатров и невропатологов; он был избран почетным председателем съезда, выступал с докладом; 23 декабря был на спектакле «Любовь Яровая» и вечером почувствовал себя плохо; на протяжении следующего дня состояние ухудшалось, а диагноза поставить не могли (и это при том, что в Москве собрался в это время цвет медиков страны). К вечеру определили «острое желудочно-кишечное заболевание»; произошло ослабление сердечной деятельности, и около 12-ти ночи Бехтерев умер. Мозг его решили поместить в Институт мозга, им же образованный, а поскольку ему принадлежала идея о пантеоне мозга великих людей, это дало повод наркомздраву Семашко сказать о «злой иронии судьбы» («Красная газета», веч. выпуск, 26 декабря 1927 г.). В последующие дни газеты сообщают фантасмагорические подробности транспортировки урны с прахом и мозга в Ленинград — и то и другое устанавливают на одной из станций в кабинете начальника станции; выставляется почетный караул. Затем «урну и мозг размещают в двух смежных купе» («Красная газета», веч. выпуск, 28 дек. 1927 г.)
Булгаков, связанный родственно и дружески с медиками Москвы, не мог, на наш взгляд, не услышать быстро возникшую версию о встрече Бехтерева со Сталиным, о диагнозе, которым психиатр легкомысленно поделился с коллегами (паранойя), и о связи, в которую была поставлена его скорая смерть с его разговорчивостью.
...Рождение и развитие замысла «Мастера и Маргариты», само наше восприятие таких важных элементов его сюжетики, как отрезанная, похищенная и затем превращенная в чашу голова Берлиоза, убийства, цепь злодеяний, предстающая на балу висельников у Воланда, — все это выглядит иначе на фоне нашего знания о зловещих реалиях эпохи.
16 марта Булгаков передает в MXAT два экземпляра «Бега».
В апреле Булгаков решил поехать в Тифлис и Батум — посмотреть места, с которыми расстался в горькие и почти лишенные надежды дни 1921 года. Проезжая через Гудермес 22 апреля, бросил открытку Е. И. Замятину, где сообщал среди прочего: «Совершенно больной еду в Тифлис».
«На вокзале нас встретила знакомая М. А. еще по Владикавказу — Ольга Казимировна Туркул, небольшая, русая, скромная женщина, — пишет в своих воспоминаниях
375
Л. Е. Белозерская. — Она предоставила нам ночлег на первую ночь. На другой день мы уже перебрались в гостиницу «Ориант» на проспект Руставели... Тепло. Спим с открытыми окнами... Купаемся в солнце. Купаемся в серных банях. Ходили через Верийский спуск в старый город, в Закурье. <...> Та же О. К. привела нас на боковую улицу в кондитерскую и познакомила с хозяйкой-француженкой, а заодно и с ее внучкой Марикой Чимишкиан, полуфранцуженкой-полуармянкой, молодой и очень хорошенькой девушкой, которая потом много лет была связана с нашей семьей...»
В ноябре 1969 года Марика (Мария Артемьевна) Чимишкиан рассказывала нам: «Ольга Казимировна была мастерица шляп, приятельница Татьяны Николаевны, первой жены Булгакова, во Владикавказе... Она была полька и погибла в 1937 году. В ту весну она сказала мне: „Хочу познакомить вас с моими друзьями". Булгаковы хотели ехать в Ботанический сад, но я сказала: „Не могу — только что оттуда, устала". Булгаков говорит: „А! Ну тогда я пойду за машиной". Поехали кататься на Коджорское шоссе. Очень смеялись. Потом Булгаков сказал: „Нет, сегодня нам нельзя расставаться!" А в это время в Оперном тифлисском театре гастролировал Малый театр — и как раз в этот вечер шел „Ревизор" со Степаном Кузнецовым. Булгаков побежал за билетами».
«Недалеко от нас в ложе, — вспоминает Любовь Евгеньевна, — сидела пожилая грузинка в национальном наряде: низкая шапочка надвинута на лоб, по бокам спускаются косы... Все в Тифлисе знали эту женщину — мать Сталина.
Я посмотрела первое действие и заскучала.
— Вот что, братцы, — сказала я Маке и Марике, — после Мейерхольда скучновато смотреть такого „Ревизора". Вы оставайтесь, а я пойду» — и она ушла гулять по городу. Булгаков же, по ее воспоминаниям, был с ней вместе на генеральной репетиции «Ревизора» (в начале зимы 1926/27 года) в театре Мейерхольда и доказывал (по дороге домой на извозчике) жене, «что такое самовольное вторжение в произведение искажает замысел автора и свидетельствует о неуважении к нему. По-моему, мы, споря, кричали на всю Москву».
Из Тифлиса поехали через Батум на Зеленый мыс. «После Зеленого мыса через Военно-Грузинскую дорогу во Владикавказ... Наша машина была первая, пробравшаяся через перевал. Ничего страшного не случилось: надели цепи, разок отваливали снег». Так Булгаков проделал — в об-
376
ратном направлении — тот путь, который в феврале 1920 года ему помешала проделать болезнь. (Татьяна Николаевна 'вспоминала, как уже в Москве он вновь и вновь укорял ее: «Ты не сильная женщина! Если бы ты была сильной — ты бы сумела вывезти меня больного». Рассказывая, Татьяна Николаевна не оспоривала этих слов: «Ну да — наверно, Любовь Евгеньевну он имел в виду — она, конечно, была совсем другой женщиной...»)
«Поезд наш на Москву уходил в 11 часов ночи. Мы гуляли по городу. М. А. не нашел, чтобы он очень изменился за те 6—7 лет, которые прошли со времени его странствий. <...> Чтобы убить время, мы взяли билеты в театр лилипутов. Давали оперетту «Баядера». Зал был переполнен. Я никогда не видела такого смешного зрелища — будто дети играют во взрослых. Особенно нас пленил герой-любовник. Он был в пробковом шлеме, размахивал ручками, а голосом старался изобразить страсть. Аплодисменты гремели. Его засыпали сиренью.
Потом дома, в Москве, Мака изображал актеров-лилипутов с комической каменной физиономией и походкой на негнущихся ногах, при этом он как-то особенно поводил головой».
9 мая — по-видимому, в те дни, когда Булгаков еще был на Кавказе, — состоялось заседание Реперткома, на котором было принято решение о запрещении постановки «Бега». Это известие ожидало его в Москве.
В резолюции, принятой на заседании и пересланной МХАТу 18 мая, сообщалось, что даже финал пьесы — решение героев вернуться в Россию — нужен автору не для подчеркивания исторической правоты наших завоеваний, а для того, чтобы поднять своих героев на еще более высокую ступень интеллектуального превосходства, а также что автор выводит в пьесе целую группу военных руководителей белого движения, чрезвычайно импозантных и благородных в своих поступках и убеждениях. Дела с пьесой зашли в тупик.
18 мая Булгаков сдает в ОГПУ заявление, где сообщает, что просил Горького «ходатайствовать перед ОГПУ о возвращении мне моих рукописей, содержащих крайне ценное лично для меня отражение моего настроения в прошедшие годы (1921 —1926)»; «Алексей Максимович дал мне знать, что ходатайство его успехом увенчалось и рукописи я получу. Но вопрос о возвращении почему-то затянулся»; Булгаков просил «дать ход этому моему заявлению и дневники мои мне возвратить». Горький в это время находился еще в
377
Сорренто, и Булгаков обращался к нему, видимо, через Е. П. Пешкову, опираясь на те добрые аттестации, которые Горький не раз выдавал ему в письмах к разным литераторам. 28 мая Горький приехал в Москву, что, несомненно, оживило надежды Булгакова на разнообразную его помощь. Возникла возможность реального участия Горького в литературных делах. Тут же из Ленинграда приехал Е. И. Замятин хлопотать о постановке своей пьесы «Атилла», и 8 июня он сообщал жене: «Днем вчера был (обедал) у Булгакова (он вернулся с Кавказа раньше времени из-за запрещения его пьесы). К 7½ поехали в Союз (Всероссийский союз писателей— М. Ч.): там Федерация (объединений советских писателей, создана в январе 1927 года. — М. Ч.) устраивала встречу Горькому» — и далее о своем разговоре с Горьким, прочитавшим его пьесу и обещающим содействие. И действительно — уже 11 июня Замятин сообщил, что Горький говорил с Ф. Ф. Раскольниковым и всячески рекомендовал ему пьесу. Поэтому, когда мы узнаем из писем Замятина, что в эти дни он видится с Булгаковым, можно с уверенностью предполагать, что при встрече разговоры идут о литературных делах обоих и, возможно, именно они и приводят Булгакова к решению обратиться к Горькому.
Весь июнь Горький пробыл в Москве, пытаясь понять изменения, происшедшие за шесть лет; 25 июня его сын сообщал жене: «Вчера был замечательный день. Дука (так звали Горького в семейном кругу. — М. Ч.) — и Крючков (секретарь Горького. — М. Ч.) переодетыми и загримированными ходили по Москве. Дука был в бороде, а Крючков с усами и маленькой бородкой. Были в нескольких чайных, пивных, разговаривали с разной публикой, обедали на вокзале». Москву этих дней глазами Горького можно увидеть в его очерке «Письма друзьям», 3 июля напечатанном в «Известиях».
9 июня «Вечерняя Москва» цитирует слова председателя новоорганизованного Художественно-политического совета при Главреперткоме Ф. Ф. Раскольникова: «Из репертуара студии им. Вахтангова решено исключить „Зойкину квартиру". А 30 июня «Известия» сообщают, что Коллегия Наркомпроса утвердила решение Главреперткома об исключении из репертуара МХАТа принятой к постановке пьесы Булгакова «Бег», а спектакль «Дни Турбиных» сохраняется в репертуаре до осуществления «первой новой пьесы».
Булгаков оказался поставленным в такое неестественное положение, что должен был, так сказать, с ужасом ожи-
378
дать постановки в МХАТе пьес своих коллег-драматургов. 12 июня В. Катаев надписал «Квадратуру круга»: «В память театральных наших похождений Мишуку от Валюна».
М. А. Чимишкиан рассказывает: «В это лето, после знакомства с Булгаковым, я поехала в Ленинград и написала им об этом — дала адрес своего дяди. Когда приехала, дядя сказал мне: „А к тебе тут приходил молодой человек с интересной дамой". Это были Булгаковы. Мы встречались, они познакомили меня с Замятиными. Помню, мы были все вместе в Народном доме на оперетте „Розмари", в летнем помещении театра нас заели блохи... Помню, как отправились кататься на американских горках, страшно веселились. Крутились на колесе, все с него слетели, мы с Булгаковым остались последние... Он увидел, что съезжает, и я остаюсь последняя, схватил меня за ногу и мы, хохоча, съехали вместе. Были в комнате смеха, только жена Замятина не подошла ни к одному зеркалу, была недовольна нами...»
Еще в июле Булгаков заверил в Драмсоюзе доверенность на имя Е. П. Пешковой — на получение из ГПУ своих рукописей, отнятых в мае 1926 года. «Михаил Афанасьевич! Совсем не „совестно" беспокоить меня, — писала 14 августа Екатерина Павловна, всегда готовая к деятельной помощи столь многим, в ней нуждавшимся. — О рукописях ваших я не забыла и 2 раза в неделю беспокою запросами о них кого следует. Но лица, давшего распоряжение, нет в Москве. Видимо, потому вопрос так затянулся. Как только получу их, извещу Вас. Жму руку. Ек. Пешкова».
В середине августа Булгаков выехал в Одессу: Киевский государственный русский театр в Одессе еще 9 июля выразил намерение ставить «Бег» — несмотря на запрещение Реперткома. 19 августа Булгаков пишет жене, остановившись в гостинице «Империаль». 22 августа одесские «Вечерние известия» сообщают, что Булгаков читал «Бег» президиуму художественного совета Русской драмы; «После прочтения состоялся обмен мнений. Впечатление от „Бега" сильное, яркое. Общая оценка, что пьеса не только литературно и сценически крепкая, но и идеологически приемлемая. „Бег" решено включить в репертуар Русской драмы на предстоящий сезон». 24 августа Булгаков заключает договор с Киевским русским театром в Одессе на постановку «Бега» и уезжает в Москву.
А 8 сентября, по устным воспоминаниям М. А. Чимишкиан (1969, 1982), она приехала из Ленинграда в Москву, и на вокзале ее встречали Маяковский, хорошо знакомый ей
379
по Тифлису (она дружила с Кирой Андрониковой, ставшей женой Пильняка, и ее сестрой Нато Вачнадзе; все они знали Маяковского), и Булгаковы. «Булгаков и Маяковский отошли в сторону, о чем-то тихо переговорили, и Маяковский отобрал у меня билет (у меня был бесплатный железнодорожный билет) — сказал, что это потом решим, когда я поеду в Тифлис! — и записал телефон Булгакова, а Булгаков подхватил мой чемодан и повел меня в машину — она уже ждала (так были разделены, видимо, высокими договаривающимися сторонами сферы влияния. — М. Ч.). Любовь Евгеньевна сказала мне еще в машине:
— А вы приглашены сегодня на именины! О вашем приезде уже знали.
И на именинах у Натальи Ушаковой я познакомилась со всеми их друзьями».
В эти дни Булгаков вновь был оживлен надеждами. 28 августа П. А. Марков сообщал Станиславскому в Кисловодск: «Горький передал через Николая Дмитриевича Телешова о разрешении «Бега» — известие, еще не подтвердившееся, но дающее надежды на включение «Бега» в репертуар.
11 сентября в МХАТе — 200-е представление «Дней Турбиных», Булгаков получает письмо от Н. Хмелева, П. Маркова, И. Судакова и др. с теплыми словами о спектакле, «который доставил театру столько радости, волнений и тревог». 15 сентября приходит письмо от Замятина из Ленинграда — «С „Багровым островом" Вас! Дорогой старичок, позвольте Вам напомнить о Вашем обещании дать для альманаха Драмсоюза „Премьеру".
27 сентября Булгаков отвечал ему: «К той любви, которую я испытываю к Вам, после Вашего поздравления присоединилось чувство ужаса (благоговейного). Вы поздравили меня за две недели до разрешения „Багрового острова".
Значит, Вы — пророк.
Что касается этого разрешения, то не знаю, что сказать.
Написан „Бег". Представлен. А разрешен „Багровый остров"...
Мистика.
Как? Что? Почему? Зачем?
Густейший туман окутывает мозги.
Я надеюсь, что Вы не лишите меня Ваших молитв?».
Действительно, было от чего задуматься, искать мистических объяснений: в эти дни неожиданно пришло разрешение (26 сентября опубликованное в «Известиях») на постановку «Багрового острова», поданного в Репертком
в начале марта 1927 года, то есть полтора года назад! (И 6 октября Камерный театр заключает с Булгаковым новый договор). Относительно же «Бега» все еще ходили только слухи, и недаром Немирович-Данченко, посылая Станиславскому телеграмму в Баденвейлер, прибегает к необычной форме причастия настоящего времени: «Продолжая „Блокаду" (пьеса Вс. Иванова. — М. Ч.), хотим приступить немедленно к репетициям одновременно «Плоды просвещения» и разрешаемый „Бег" (выделено нами. — М. Ч.).
Вернемся ненадолго к письму Булгакова Замятину. К этому времени их связывали уже в течение нескольких лет тесные дружеские отношения; это была та литературная дружба, которой не хватало Булгакову в Москве, где близкие ему люди относились главным образом к ученому миру и миру актеров. В письме Булгаков сообщал о судьбе той статьи, которую с нетерпением ждал Замятин: «К тем семи страницам „Премьеры", что лежали без движения в правом ящике, я за две недели приписал еще 13. И все 20 убористых страниц, выправив предварительно на них ошибки, вчера спалил в той печке, возле которой Вы не раз сидели у меня. И хорошо, что вовремя опомнился. При живых людях, окружающих меня, о направлении в печать этого opus'a речи быть не может.
Хорошо, что не послал.
Вы меня извините за то, что не выполнил обещания, я в этом уверен, если я скажу, что все равно не напечатали бы, ни в коем случае.
Не будет „Премьеры".
Вообще упражнения в области изящной словесности, по-видимому, закончились». И завершил весь этот пассаж мрачным итогом: «Человек разрушен». Настроение, владевшее им в эти дни, легко реконструировать — «Бег» все еще не был разрешен, «Дни Турбиных» обречены (их должна была сменить готовящаяся к постановке пьеса Вс. Иванова), в прочность будущей постановки «Багрового острова», при сложившемся отношении Реперткома к его пьесам, Булгаков вряд ли верил (на забудем к тому же, что Репертком был все же главной мишенью его пьесы).
В том же письме — слова, нуждающиеся сегодня в прояснении: «Старичок гостил у нас. Вспоминали мы поездку на взморье.
Ах, Ленинград, восхитительный город!»
Дешифровке этих строк помогает один фрагмент из мемуаров Л. Е. Белозерской: «Из Тифлиса к нам приехала
381
Марика Чимишкиан. Меня не было дома. Маруся затопила ей ванну (у нас было печное отопление, и М. А. иногда сам топил печку в своем кабинете; помешивая, любил смотреть на подернутые золотом угли, но всегда боялся угара). В это время к нам на Пироговскую пришел в гости Павел Александрович Марков, литературовед, сотрудник МХАТа. М. А. сказал ему: — К нам приехал в гости один старичок, хорошо рассказывает анекдоты! Сейчас он в ванне. Вымоется и выйдет...
Каково же было удивление Павла Александровича, когда в столовую вместо старичка вышла Марика! Я уже говорила, что она была прехорошенькая. Марков начал смеяться. <...> Мака был доволен. Он радовался, когда шутки удавались, а удавались они почти всегда».
Возможно, эта шутка была разыграна впервые еще в Ленинграде, и обращение Замятина в его письме к автору шутки — «Дорогой старичок» — было напоминанием о ней. Тогда слова в письме Булгакова «Старичок гостил у нас...» подхватывают эту семантическую игру, оповещая Замятина о недавнем приезде в Москву Марики. (Добавим, что в следующем письме Замятина — «привет лучшему из старичков»!)
Естественно предположить, что статья была посвящена взаимоотношениям современной критики с театром и с драматургом. Опыт двух премьер дал Булгакову огромный материал для анализа и выводов, что и придало, видимо, статье ту резкость, которая сделала в глазах самого автора ее текст неудобопечатным.
30 сентября Горький с семьей смотрит в МХАТе «Дни Турбиных». «Алексей Максимович очень хвалит постановку, исполнение, автора», — пишет П. А. Марков в этот день Станиславскому.
Приведем для полноты картины меняющихся на протяжении сентября настроений Булгакова в связи с «Бегом» выдержку из переписки его друзей: 1 сентября H. H. Ля-мин пишет из Москвы П. С. Попову — «Мих. Аф. в Москве, в хорошем настроении, ибо имеются основательные данные, что «Бег» разрешен».
9 октября Горький поддерживает «Бег» на обсуждении художественным советом МХАТа и членами Главреперткома; пьесу горячо поддержал и авторитетный интерпретатор В. Полонский («Прочитанная пьеса — одна из самых талантливых пьес последнего времени. Это сильнее «Турбиных» и уж, конечно, гораздо сильнее «Зойкиной квартиры»), а также начальник Главискусства (с 1928 года; в 1929-м
382
переведен на пост полпреда в Латвии) Ал. Ив. Свидерский, который говорил на обсуждении «Бега»: «Если пьеса художественная, то мы, как марксисты, должны считать ее советской. Термин — советская и антисоветская — надо оставить. К художественной пьесе, хотя бы она и имела дефект, отрицательно относиться нельзя, потому что она вызывает дискуссии. <...> Мы уже достигли того, что можем ставить пьесы, вызывающие дискуссии и анализ событий. Такие пьесы, как «Бег», будят мысль, будят критику, вовлекают массы в анализ и дискуссии, такие пьесы лучше, чем архисоветские. Пьесу эту нужно разрешить, нужно, чтобы она поскорее была показана на сцене. Поправки в пьесе должны сделать режиссура и художественный совет».
Участвовавший в обсуждении деятель российского и международного революционного движения, коммунист с 1896 года Я. С. Ганецкий сказал: «Ничего для придирок с идеологической точки зрения не нашел».
В тот же день Главрепертком принимает решение о разрешении «Бега» к постановке, и сообщение об этом 11 октября публикуется в «Правде».
10 октября МХАТ начинает репетиции, а 12-го Ленинградский Большой драматический театр заключает договор на постановку «Бега».
Середина октября 1928 года — как бы пик эфемерного • благополучия театральной судьбы Булгакова. Театры просят «Багровый остров» и «Бег»; сам Булгаков в эти дни в Тифлисе и регулирует телеграммами взаимоотношения с ленинградскими театрами в связи с этими пьесами. Еще 16 октября его телеграммами поздравляют с «Бегом». Однако в последующие дни происходят новые осложнения, и 24 октября «Правда» сообщает о запрещении Главреперткомом пьесы «Бег» как содержащей апологию белого движения. Напечатанные вскоре речи Л. Авербаха и В. Кир-шона на заседании Главреперткома — «Почему мы против «Бега» М. Булгакова» («На литературном посту», № 20-21) — показали, что решимость противников пьес Булгакова несокрушима. 5 ноября в «Рабочей Москве» материалы, связанные с «Бегом», шли под шапкой: «Ударим по булгаковщине! Бесхребетная политика Главискусства. Разоружим классового врага в театре, кино и литературе» («политика Главискусства» — это позиция А. Свидерского, поддерживавшего Булгакова). 15 ноября «Комсомольская правда» публикует выступление Ф. Раскольникова, призывающего «шире развернуть кампанию против «Бега»!» МХАТ между тем не прекращал репетиций, надеясь на перемены к лучшему.
383
9 декабря состоялся закрытый просмотр «Багрового острова», 11-го — премьера. И вслед за ней художественный совет Камерного театра, посчитав разрешение пьесы ошибкой Главреперткома, принимает постановление, в проекте которого сказано было следующее: «Пьеса „Багровый остров" если и может быть причислена к жанру сатиры, то только как сатира, направленная своим острием против советской общественности в целом, но не против элементов приспособленчества и бюрократизма, как это представляют себе постановщики...»
Завершался 1928 год малообнадеживающими гаданиями.
3
Мы не знаем, в какой из дней 1928 года Булгаков вновь обратился к покинутой уже несколько лет назад беллетристике.
Достоверным представляется лишь то, что именно в этом году был начат роман, ставший впоследствии романом «Мастер и Маргарита». Сам Булгаков на титульном листе рукописей более поздних редакций выставлял начальной датой 1928 год.
...Через восемь лет, в «Театральном романе», так описаны сомнения и поиски писателя, завершившего свой первый роман: «Ну что же, сиди и сочиняй второй роман, раз ты взялся за это дело... в том-то вся и соль, что я решительно не знал, об чем этот второй роман должен был быть? Что поведать человечеству?.. Прежде всего я отправился в книжные магазины и купил произведения современников. Мне хотелось узнать, о чем они пишут, как они пишут, в чем волшебный секрет этого ремесла. При покупке я не щадил своих средств, покупая все самое лучшее, что только оказалось на рынке». Читая этих лучших авторов (за которыми прозрачно различаются прототипы — А. Толстой, Л. Леонов, Б. Пильняк и другие; все они названы в составленном уже после смерти Булгакова по семейному преданию списке прототипов «Театрального романа») и добросовестно стремясь приноровиться к литературной современности, найти нечто родственное в ее материале и формах, герой приходит к ужасному сознанию, что он «ничего не извлек из книжек самых наилучших писателей, путей, так сказать, не обнаружил, огней впереди не увидал, и все мне опостылело». Нечто близкое к описанному испытывал, видимо, сам Булгаков, когда печаталась «Белая гвардия», — и эти затруднения были, среди прочего, стимулом поворота его в последующие годы к театру. «Пути», открывающиеся в прозе современ-
384
ников, оказываются для него непривлекательными, своего же он пока не видит.
Что же мешает этому писателю с его изобильной фантазией нащупать замысел нового романа? В одном из рассказов первой половины 20-х годов он пишет: «Клянусь всем, что у меня есть святого, каждый раз, как я сажусь писать о Москве, проклятый образ Василия Ивановича стоит передо мной в углу. <...> Я упираюсь лбом в каменную стену, и Василий Иванович надо мной, как крышка гроба.» «Василий Иванович» — собирательный образ жильца «квартиры № 50», прототипы которого — типографские рабочие, пьяницы и дебоширы, с которыми поневоле соседствовал Булгаков в первые московские годы.
«Писать о Москве» для Булгакова в эти годы значило писать о современности, о сегодняшнем дне. Существование же фигуры «Василия Ивановича» (она же — «стена», «крышка гроба», враждебная сила людей и обстоятельств) отрезает для автора возможность писать о современности, не беря эту фигуру в расчет, не демонстрируя, с одной стороны, ее давящую силу, а с другой — не ища на нее управу здесь же, на пространстве художественного текста.
В повести Булгакова «Собачье сердце», которая была написана после «Белой гвардии», в сущности, «вместо» второго романа, главный герой — врач-чудодей — побеждал тех, кто несет в этой повести функции «Василия Ивановича», с фантастической легкостью, безраздельно, как в желанном сне. Все три повести последовательно показали невозможность для автора подступиться к теме современности вне гротеска. Могущество главного героя в последней из повестей вырисовывалось как условие, совершенно необходимое для булгаковского художественного видения современности. Так особенностями художественного мышления Булгакова подготовлено было рождение замысла такого романа, где с персонажами, населяющими современную Москву, столкнется тот, в могуществе которого они вскоре же убедятся.
В уцелевшей тетради с обрывками первой редакции романа есть страницы («Материал»), которые показывают, что с самого начала развития замысла явились две центральные фигуры, очевидным образом сопоставленные и противопоставленные: на страницах «Материала» к роману им отведены специальные листы, озаглавленные «О Боге» и «О Дьяволе». В этом смысле задуманный роман действительно заметно отличался от беллетристики середины 20-х годов, в окружении которой формировался его замысел.
385
Стихотворное богоборчество Демьяна Бедного, широко развернувшееся в начале 1920-х годов, сыграло свою роль в формировании этого замысла. За его публикациями Булгаков следил, кое-что вырезал и собрал даже в специальную небольшую папку. Довольно большая литература о личности Христа, выпущенная в 1924—1928 годах (в основном московским издательством «Атеист»), также послужила если не первоначальным, вызывающим на полемику импульсом, то ферментирующим началом в кристаллизации замысла, созревающего в художественном сознании автора, возможно, еще во время работы над «Белой гвардией». Во всяком случае, первообраз позднейшей структуры второго романа (построенной на игре двух пространственно-временных планов) видится нам в той сцене «Белой гвардии», где молитва Елены вызывает видение места и момента воскрешения: «...прошел плещущий гавот (в настенных часах. — М. Ч.) в три часа дня, и совершенно неслышным пришел тот, к кому через заступничество смуглой девы взывала Елена. Он появился рядом у развороченной гробницы, совершенно воскресший, и благостный, и босой»; и далее — «стеклянный свет небесного купола, какие-то невиданные, красно-желтые песчаные глыбы, масличные деревья» — «невиданный» ландшафт развернется в начатом в 1928 году романе в описании окрестностей Ершалаима. Для того чтобы описать современность, Булгаков возвращался к истокам новой истории, в ней искал ключ к объяснению и язык описания.
Атеистическая пропаганда, принявшая в Москве начала 1920-х годов столь выразительные формы, как «комсомольское рождество» 1923 года или «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», и в то же время — активизация «живой» церкви, к которой, как можно судить по очерку 1923 года «Киев-город», он отнесся резко отрицательно, — все это заставило Булгакова заново обратиться к тому, что в юности, после определенного перелома, перестало быть вопросом.
То, что тогда отодвинулось в область решенного, неактуального (общую для него и его жены, принадлежавшей к одному с ним поколению), в первые московские годы вновь стало для него актуальным — то есть проблемным.
Но еще ранее того трагический опыт 1917—1920 годов, пережитый им во всей полноте, вел к поискам ответа на коренные вопросы бытия.
Сон Алексея Турбина в «Белой гвардии» — это мироощущение совсем другого человека, чем киевский студент
386
первых курсов медицинского факультета, и мироощущение, на наш взгляд, целостное.
Другое дело — находил ли этот перелом выражение во внешней стороне его жизни, был ли заметен извне. Свидетельства первой жены, не подчиненные заранее заданной тенденции, порой разнородные, здесь требуют особого внимания. Мы считаем необходимым в данном контексте привести полностью ее ответ на наш вопрос — носил ли он нательный крест: «Нет, никогда не носил, это точно. И я не носила. Мой крест, наверно, был у матери. А у него вообще не знаю, где был. Никогда он его с собой не возил». Что же касается области размышлений на одну из тем нового романа — она была, во-первых, в значительной степени закрыта от первой его жены, во-вторых, новый ход мыслей мог явиться под влиянием впечатлений последующих лет и формировался уже после его разрыва с Татьяной Николаевной.
Приведем краткое воспоминание Татьяны Николаевны, относящееся ко времени работы над первым романом: «В Москве он писал „Белую гвардию"... Однажды он мне читал про эту... молитву Елены, после которой Николка или кто-то (наслоилось воспоминание о пьесе, где Николка ранен. — М. Ч.) выздоравливает... А я ему сказала: „Ну зачем ты это пишешь?" Он рассердился, сказал: «Ты просто дура, ничего не понимаешь!» — Почему вы так ему сказали?— Ну, я подумала: „Ведь эти люди (она, конечно, имела в виду семью Булгаковых — сестер, братьев и их друзей, которых узнавала в героях романа. — М. Ч.) все-таки были не такие темные, чтобы верить, что от этого выздоровеют..." Обратим внимание и на то, что для Татьяны Николаевны, уже прожившей с Булгаковым одиннадцать лет, — несомненная новость авторское освещение этого эпизода в романе, и на то, что она, по-видимому, не верит, что автор разделяет чувства своей героини.
Это недоверие особенно, можно думать, раздражало его. Он менялся, а жена помнила его прежним. Она много знала о его предшествующих годах, и это знание, возможно, уже тяготило его.
Появление же дьявола в первой сцене романа было гораздо менее неожиданным для литературы в 1928 году, чем через десять лет — в годы работы над последней редакцией. Эта сцена и вырастала из текущей беллетристики, и полемизировала с ней. «26 марта 1913 г. я сидел, как всегда, на бульваре Монпарнас...» — так начинался вышедший в 1922 году и быстро ставший знаменитым роман Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учени-
387
ков». На следующей странице: «Дверь кафе раскрылась и не спеша вошел весьма обыкновенный господин в котелке и в сером непромокаемом пальто». Герой сразу понимает, что перед ним сатана, и предлагает ему душу и тело. Далее начинается разговор, получающий как бы перевернутое отражение в романе Булгакова: «Я знаю, за кого вы меня принимаете. Но его нет». И герой добивается у сатаны ответа: «Хорошо, предположим, что его нет, но что-нибудь существует?.. — Нет»; «Но ведь на чем-нибудь все это держится? Кто-нибудь управляет этим испанцем? Смысл в нем есть?» — эти безуспешные взывания героя-рассказчика у Эренбурга заставляют вспомнить как бы встречный вопрос «иностранца» в первой главе романа Булгакова: «Кто же распоряжается всем этим?» (редакция 1928 г.) и последующий спор. Мы предполагаем в первой сцене романа Булгакова скрытую или прямую полемику с позицией героя-рассказчика романа Эренбурга, нарочито сближенной с позицией автора (само собой разумеется, что и та, и другая сцены проецируются на разговор Федора Карамазова с сыновьями о боге и черте).
Непосредственное ощущение литературной полемичности подкрепляется и тем фактом, что отрывок из романа Эренбурга печатался в том же № 4 «Рупора», где и «Спиритический сеанс» — один из самых первых московских рассказов Булгакова; здесь же помещен был портрет автора — возможно, первый портрет Булгакова, появившийся в печати. Не будет натяжкой предположить, что этот номер был изучен писателем от корки до корки. В дальнейшем личность Эренбурга быстро привлекла не слишком дружелюбное внимание Булгакова: роман Эренбурга в 1927 году — накануне обращения Булгакова к новому беллетристическому замыслу — был переиздан дважды.
В том же 1927 году в московском «альманахе приключений», названном «Война золотом», был напечатан рассказ Александра Грина (знакомого с Булгаковым по Коктебелю) «Фанданго». В центре фабулы — появление в Петрограде голодной и морозной зимой 1921 года возле Дома ученых группы экзотически одетых иностранцев. «У самых ворот, среди извозчиков и автомобилей, явилась взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом,
388
плавный и властный жест...» Три человека «в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу», составляют его свиту и называют его «сеньор профессор». «Загадочные иностранцы», как называет их про себя рассказчик, оказываются испанцами — делегацией, привезшей подарки Дому ученых.
Яркое зрелище — экзотические иностранцы в центре города, живущего будничной своей жизнью, — использованное Грином в качестве завязки рассказа, не могло, нам кажется, не остановить внимания Булгакова.
Замечается сходство многих деталей сюжетной линии Воланда в романе и рассказа «Фанданго»: например, описание сборища в Доме ученых, где гости показывают ученой публике привезенные ими подарки, заставляет вспомнить сеанс Воланда в Варьете, так поразивший московских зрителей в более поздних редакциях романа: «Публика была обыкновенная, пайковая публика: врачи, инженеры, адвокаты, профессора, журналисты и множество женщин. Как я узнал, набились они все сюда постепенно, привлеченные оригиналами-делегатами». Глава их «сидел прямо, слегка откинувшись на твердую спинку стула, и обводил взглядом собрание. Его правая рука лежала прямо перед ним на столе, сверх бумаг, а левой он небрежно шевелил шейную золотую цепь... Его черно-зеленые глаза с острым стальным зрачком направились на меня» и т. п. («Фанданго»). Прозу Грина Булгаков, судя по воспоминаниям друзей, не любил, что не исключало возможности взаимодействия.
Фигура «иностранца» как сюжетообразующего героя возникла в прозе той самой московской литературной среды, в которую вошел в 1922—1923 годах Булгаков, в эти же годы формирования новой литературы. Появляется герой, в котором подчеркивается выдержка, невозмутимость, неизменная элегантность костюма, герой, который «брит, корректен и всегда свеж» (А. Соболь, «Любовь на Арбате»). Это иностранец или квази-иностранец (скажем, приехавший со шпионским заданием эмигрант, одетый «под иностранца»). В нем могут содержаться в намеке и дьявольские черты.
Приведем сцены из двух рассказов этих лет. «На другой день ветра не было. Весь день человеческое дыхание оставалось около рта, жаром обдавая лицо. Проходя городским садом около самого дома, Фомин присел на скамейку, потому что от мутных дневных кругов, ослеплявших и плывших в глазах, от знойного звона молоточков в виски закружилась голова. И когда на ярко блестевшую каждой песчинкой дорожку выплыл James Best, иностранец, он показался
389
Фомину только фантастической фигурой в приближающемся и растекающемся знойном ослепительном круге. <...> Проходя мимо Фомина, он вежливо снял кепку:
— Добрый день.
Растерявшийся Фомин в ответ не то покачнулся, не то заерзал на скамейке. И стал думать о Бесте. Кто он, откуда и зачем здесь» (О. Савич. Иностранец из 17-го №.1922; подчеркнуто нами. — М. Ч.). И еще одна сцена.
В рассказе А. Соболя «Обломки» (1923) в Крыму влачит существование случайная компания «бывших» — княжна, поэт и др. Они взывают: «Хоть с чертом, хоть с дьяволом, но я уйду отсюда»; «Дьявол! Черт! Они тоже разбежались. Забыли о нашем существовании. Хоть бы один... Черт!
И прикрыв глаза исковерканными пальцами, видит поэт раздвоенное копыто, насмешливые губы над узкой, длинной бородкой, сухощавую руку с карбункулом на темном мизинце». «А утром в саду Пататуева появляется новый жилец, внезапно, точно с горы свалился, не приехавший в экипаже, но, по-видимому, и пешком не пришедший: на нем ни пылинки, узкие лакированные туфли без единого пятнышка, продольная складка на брюках словно только что из-под утюга, перчатки без морщин и белый тугой пластрон рубашки безупречно свеж». Обстановка внезапного появления нового героя, как и в рассказе О. Савича, кажется предвестием появления «иностранца» в первой сцене второго романа Булгакова, замысел которого зарождался в недрах литературного процесса начала 20-х годов. «Он смугл, глаза у него зеленые, сухие, без блеска, но вдруг порой расцвечиваются, точно за зрачком загораются разноцветные огни и рассыпаются точками по белку — и тогда все его лицо меняется: губы в углах рта приподнимаются, подбородок суживается и внизу загибается крючком, брови дыбятся...» — и сам портрет кажется эскизом к портрету «иностранца» у Булгакова. Это Виктор Юрьевич Треч, который говорит о себе: «Я все знаю, как и все могу» и, возражая на вопрос «Вы... черт, Дьявол. Кто вы?», говорит: «Русский черт мелок и неудачлив, а я широк и мне всегда везет». Женщину он забирает с собой в Константинополь, а труп мужчины находят на другой день на берегу моря.
«Иностранное» как «дьявольское» — отождествление, уходящее в глубь российской истории, но, как видим, сильно оживившееся в самом начале 20-х годов. «Иностранец» появляется на Патриарших прудах в романе Булгакова в 1928 году отнюдь не на пустом месте, как могло бы показаться, а скорее замыкая собою длинную вереницу ино-
390
странцев-космополитов — персонажей с дьявольщиной (Треч, как выясняется в середине рассказа — выясняется для читателя, но не для героев, — «шевелит под гладко зачесанными прядями волосатыми, плоскими серыми ушами»; обратное чтение фамилии — «черт»).
Укажем, наконец, на книжку Александра Васильевича Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» (М., 1921), подаренную Булгакову Н. А. Ушаковой (иллюстрировавшей ее), в середине 20-х годов. Эту книжку Булгаков любил. Уже фамилия рассказчика — «Булгаков» — не могла оставить равнодушным читателя-однофамильца, весьма чуткого к тому, что Пушкин называл «странными сближениями» (напомним возглас Бенедиктова, завершающий одну из глав: «Твоя душа в ней, Булгаков!»). Герой повести Чаянова чувствует в городе «чье-то несомненно жуткое и значительное присутствие» и, наконец, в театре, слушая оперу, скользя взглядом по рядам, останавливается на одном человеке. «Ошибиться было невозможно. Это был он! <...> Кругом него не было языков пламени, не пахло серой, все было в нем обыденно и обычно, но эта дьявольская обыденность была насыщена значительным и властвующим». Атмосфера дьявольщины, мистики, окутывающей московские улицы, на которых разворачивается ее действие, сверхъестественная зависимость одних людей от воли других, картина отвратительного шабаша, театр, где происходят важные события, — все это воздействовало, мы думаем, на формирование замысла романа Булгакова.
В 1928 году действие романа начиналось в середине июня, «в то самое время, когда продаются плетеные корзинки, наполненные доверху мятой, гнилой клубникой, и тучи мух вьются над нею...» «Клянусь честью, — уверял повествователь, — ужас пронизывает меня, лишь только берусь я за перо, чтобы описать чудовищные происшествия. Беспокоит меня лишь то, что, не будучи писателем, я не сумею эти происшествия сколько-нибудь связно передать...» (первая редакция была позже в значительной степени уничтожена автором, поэтому предлагаемые цитаты состоят наполовину из авторского текста, наполовину — из восстановленного нами; многоточия отмечают фрагменты, которые не удалось восстановить и предположительно).
«В час заката на крайней скамейке на Патриарших Прудах» появлялись (как и в последней редакции романа) двое — Владимир Миронович Берлиоз и Антоша (поправленный потом на Иванушку) Безродный; описывался их разговор. Берлиоз растолковывает Иванушке, какую именно
391
стихотворную подпись должен он сочинить к уже готовому рисунку в журнале «Богоборец», «редактором которого состоял Владимир Миронович», — карикатуре на Христа и капиталиста. Слушая его, Иванушка рисует прутиком на песке «безнадежный, скорбный лик Христа... Рядом с ним появилась разбойничья рожа капиталиста...». « — Так нарисовано? — спросил Иванушка. — Так, — сказал Берлиоз». «В это-то время из Ермолаевского переулка и вышел гражданин...» После подробнейшего, с многими уточнениями и сопоставлениями разных версий портрета «гражданина» «означенного типа гражданин» вмешивается в беседу Берлиоза и Иванушки, задавая один из известных читателю романа вопросов: «Если я правильно расслышал, вы не изволите верить в Бога? — спросил немец и при этом сделал громадные глаза, отразившие и любопытство, и дружелюбие. — Не изволим, —...ответил Иванушка». Затем взгляд незнакомца падает на рисунок Иванушки. « — Ба! — вскричал он... — Кого я вижу? Ведь это Иисус! И исполнение довольно удачное. Но, позвольте, что это у него на глазах? — Пенсне», — отозвался Антоша-Иванушка. После двух-трех реплик Иванушка, как можно предположить, делает попытку стереть рисунок, а «иностранец» испуганно останавливает его.
«А если он разгневается на вас? Или вы не верите, что он разгневается?
Не в том дело, разгневается или не разгневается, а в том, что его не было на свете.
— Ну что вы такое говорите! — воскликнул неизвестный.
<...> — Ведь он же на закате стоял на крыле храма. <...>»
«Он захлопал ладонями точно крыльями и закричал: — Закат догорает! Ласточки кружатся где-то далеко! И стоящего так и тянет нырнуть вниз, послушав тех, кто шептал ему на ухо: ...Прыгни с крыла! Риску нет никакого, потому что в двух шагах вытянувшись во фронт уже стоят <...> ангелы и ждут, чтобы подхватить смелого экспериментатора» (то есть описывается одно из трех искушений Христа дьяволом, который предлагал ему прыгнуть вниз, чтобы доказать свою способность творить чудеса и тем заставить уверовать в себя. — М. Ч.).
«— У вас нет сомнений, что он не существовал? — спросил странный незнакомец.
— Никаких сомнений, — сказал Берлиоз.
— Дайте честное слово, — попросил собеседник.
392
Берлиоз и Иванушка в ответ недоуменно пожали плечами.
— ...поймал плутишек, поймал, стыдитесь, — засмеялся тот, — в глубине души вы верите, но по причинам, которых я не понимаю, боитесь признаться»
Далее, во второй главе — «Евангелие Воланда» (затем — «Евангелие от Воланда», «Евангелие от дьявола») — Воланд рассказывал о дне распятия как очевидец, сопровождая рассказ прямыми обращениями к собеседникам: «Тут Иешуа опечалился. Все-таки помирать на кресте, -достоуважаемый Владимир Миронович, даже и парадно, никому не хочется». Весь рассказ умещался в пределах второй главы, а в третьей главе, «Доказательство инженера», «первым очнулся Владимир Миронович и пытливо поглядел на своего собеседника». И тут же Иванушка отзывает его на «пару словечек» и шепчет ему на ухо: «Знаешь, Володька, хорошо было бы узнать, что это за птица?
Предложение, прямо скажем,глупое. Почему, поболтав с человеком о том о сем, после этого нужно у своего собеседника спрашивать, кто он такой?
Однако у Берлиоза глаза стали мгновенно какие-то неприятные, хмурая дума набежала на его <...> лик». «...Околесицу несет всякую по-научному, уж не белогвардеец ли? Ты б его спросил, кто он?» — продолжает Иванушка, но, опережая приятелей, незнакомец протягивает им свою визитную карточку, рекомендуясь специалистом «по белой магии» и жонглером — «Приехал в Москву, чтобы выступить в Мюзик-Холле». Затем, обращаясь к Иванушке, Велиар Вельярович Воланд (так отрекомендовал себя иностранец) говорит — «достоуважаемый Иван Сидорович, как я угадал из разговора, вы здорово верите в Бога»; «Необходимо быть последовательным... докажите мне свое неверие, — Воланд говорил вкрадчиво, — наступите на этот портрет, на это изображение Христа.
— Просто странно, — сказал Берлиоз.
— Да не желаю я! — взбунтовался Иванушка.
— Боитесь, — коротко сказал Воланд.
— И не думаю.
— Боитесь.
Иванушка растерянно посмотрел на Берлиоза, как во всех затруднительных случаях жизни ожидая его помощи.
— В Бога он не верит, — сказал Берлиоз, — но ведь было бы детски нелепо доказывать свое неверие таким способом!
— Ну так вот, — сурово произнес Воланд, — позвольте вам заявить, товарищ Безродный, что вы врун свинячий. Да нечего, нечего на меня глаза таращить!
393
Тон Воланда был так внезапно нагл, что Иванушка растерялся. По теории нужно бы было сейчас дать в ухо собеседнику, но русский человек, как известно, не только нагловат, но и трусоват.
— Да, да, нечего глаза таращить, — продолжал Воланд, — и тоже мне незачем было трепаться! Безбожник тоже, подумаешь! Тоже богоборец, борется с Богом! Интеллигент — вот кто так поступает!
Этого оскорбления Иванушка не мог вынести.
— Я — интеллигент?! — прохрипел он, — я — интеллигент, — завопил он с таким видом, словно Воланд назвал его по меньшей мере сукиным сыном...
Иванушка решительно двинулся к рисунку и занес над ним скороходовский сапог.
— Стойте! — <...> сдавленным голосом вскричал неизвестный. Иванушка застыл на месте. — Остановите его! — добавил инженер, поворачиваясь к Владимиру Мироновичу.
— Я вообще против всего этого, — отозвался Берлиоз, — и ни поощрять его, ни останавливать я, конечно, не стану.
— Подумайте, <...> обожаемейший Владимир Миронович!
— Мне ваши штучки надоели, — ответил Берлиоз.
И тут скороходовский сапог взвился, послышался топот, и Христос разлетелся по ветру серой пылью. И был час шестой.
— Ах, — кокетливо прикрыв глаза ладонью, воскликнул Воланд, а затем добавил вкрадчиво, — ну, вот, Владимир Миронович, все в порядке и дочь ночи Мойра допряла свою нить.
— До свидания, доктор, — сказал Владимир Миронович, — мне пора.
— А всего добренького, гражданин Берлиоз, — ответил Воланд и вежливо раскланялся. — Кланяйтесь там! — он неопределенно помахал рукой. — Да, матушка ваша почтеннейшая ведь проживает в Белой Церкви, если не ошибаюсь?
«Странно... странно это как-то», — подумал Владимир Миронович, — откуда он это знает... Уж не шпион ли?.. Черт... Дикий разговор».
— Может быть, прикажете, я ей телеграмму дам? На Садовую бы на телеграф сейчас сбегал... — предложил Воланд.
Владимир Миронович только рукой махнул и, на ходу обернувшись к Иванушке, сказал ему:
— Ну, всего, Иван! Смотри, не опаздывай на заседание!...
394
— Ладно, — ответил Иванушка, — я еще домой забегу.
Берлиоз помахал рукой и двинулся. Дунул ветер, принеся с собой тучи пыли. На Патриарших Прудах вечер уже сладостно распускал свои паруса с золотыми крыльями... и вороны купались в синеве над липами. — Даже богам невозможно милого им человека избавить от смертного часа». Этими стихами «Илиады», непонятными Иванушке, провожал Воланд Берлиоза и далее разворачивалась картина гибели Берлиоза. После крика «— Человека зарезало!» раздался «милицейский соловьиный свисток. Но, в сущности, свистеть было уже не к чему — Владимир Миронович был уже далеко от нас. Голова его находилась тут же в двух шагах от трамвая и почему-то с высунутым языком». И позже, уже в главе «Марш фюнебр», будет описано, как в ночь перед похоронами прозектор приведет тело Берлиоза в нужный вид, причем — значащая и жестокая деталь — высунутый язык заставит прозектора зашить Берлиозу струною губы, запечатав его красноречивые уста «печатью, вечного молчания»... Это красноречие останется важнейшей чертой персонажа на протяжении всех редакций романа, — как и весьма большие его полномочия. Начав (не позже мая 1929 г.) вторую редакцию романа, Булгаков введет такой фрагмент диалога в первую сцену: Воланд высказывает предположение, что у Берлиоза «Начальник атеист, ну, и понятно, все равняются по заведывающему, чтобы не остаться без куска хлеба». «Эти слова задели Берлиоза. Презрительная улыбка тронула его губы, в глазах появилась надменность. — Во-первых, у меня нет никакого заведывающего, — с достоинством сказал он и вполне резонно сказал: Владимир Миронович достиг в жизни уже такого положения, что приказывать ему никто не мог, равно как не мог давить на его совесть — никакого начальства над собой он не имел».
Можно думать, что фигура редактора с такими полномочиями в качестве персонажа романа появилась в замысле романа как раз в момент работы Булгакова над статьей, которая должна была описать взаимоотношения драматурга и критика, когда в мыслях автора стояла и фигура Владимира (!) Ивановича Блюма, редактора журналов — «Вестник театра» и «Новый зритель», и Л. Авербаха, и Михаила Ефимовича Кольцова, редактора «Огонька» и «Чудака», и А. Луначарского, с которым уже не раз пересеклась театральная судьба Булгакова, и который, несомненно, обладал в его глазах таким положением, что «приказывать ему никто не мог».
395
Вообще же «презрительная улыбка», тронувшая губы Берлиоза, и появившаяся в его глазах «надменность» были чертой целого слоя, вполне сформировавшегося к этому времени. Цепкий взгляд Булгакова ухватил признаки кастового самоощущения, к которому он относился с несомненным презрением. Это было то самое ощущение своего особого положения, которое продиктовало Ф. Ф. Раскольникову еще в 1923 году такие, скажем, строки в письме к жене — Ларисе Рейснер: «Ведь не может быть и речи о контроле надо мной. Я прекрасно знаю, что партия мне безгранично доверяет» *, a осенью 1929 года побудило его же заговорить в такой покровительственной интонации с людьми, пришедшими обсуждать его пьесу, что это взбесило Булгакова. Но об этом — далее.
Пока же выскажем предположение, что мысль о столкновении всемогущего редактора с существом «действительно» всемогущим и об изображении в романе картины страшного возмездия явилась именно в момент уничтожения статьи — как своего рода компенсация за невозможность высказаться на эту тему публицистически.
Но вернемся от наших догадок к тексту первой редакции.
Потрясенный увиденным Иванушка безуспешно пытается поймать Воланда и наконец является в ресторан, носивший в редакции 1928 г. «дикое название Шалаш Грибоедова». Реконструкция главы «Интермедия в Шалаше Грибоедова» позволила увидеть, что эта глава была опорной, фундаментальной в замысле романа — сформировалась сразу и мало менялась на протяжении всех редакций.
«— Тише, товарищи, — таинственным шопотом произнес Иванушка, — надо бы темного воску.
После этих слов лучшей тишины и желать было нельзя. На мгновение ее нарушили лишь кошачьи шаги пирата в бальных туфлях. Нисколько не интересуясь важным сообщением, которое собирался сделать Иванушка, он быстро двигался, пробираясь внутрь ресторана»; «— Он появился! — объявил Иванушка и глаза его стали совсем уж безумные». Он уговаривает кого-нибудь бежать «к Алексею Иванычу. Скажите, что я, мол, сказал, чтоб Алексей Иваныч распорядился, чтоб послал стрельцов на мотоцикле инженера ловить. Так они его нипочем не догонют!» «Предупре-
* Точности ради добавим, что далее в этом письме из Афганистана от 26 августа 1923 года: «А между тем почти все письма от матери приходят ко мне с явными следами грубого, неумелого вскрытия» (ГБЛ, ф. 245).
396
дите только, чтобы иконочки нацепили на грудь, непременно с иконками, а если иконок не будет хватать, пущай крестное знамение кладут так... эдак... — и сумасшедший широкими крестами стал крыть высунувшуюся в это время физиономию человека в гольфовых брюках и в шутовском песочном пиджаке, и молодой человек, махнув рукой, исчез, будто в асфальт провалился.
— Я вот иконку булавочкой прицепил к телу... Так и надо мне... Так мне! — кричал Иванушка. — Кровушку выпустить... Я господа нашего Христа истоптал сапожищами... Кайтесь, православные! — возопил Иванушка, — кайтесь! ...он в Москве! С ...учениями ложными... с бородкой дьявольской...»; «— Товарищ Бездомный, — сказала ласково рожа в очень коротких штанах, — вы, видимо, переутомились.
— Ты... — заговорил Иванушка, и повернулся к нему, и в глазах его вновь загорелся фанатический огонь. — Ты, — повторил он с ненавистью, — распял господа нашего, Христа, вот что!
Толпа внимала.
— Да, — убедительно и твердо проговорил Иванушка, сверкнув глазами. — Узнал. Игемона секретарь. На лимфостратоне протокол игемону подсунул! Ты секретарь синедрионский, вот кто! — Физиономия любителя гольфа меня ла цвет в течение этого краткого монолога Иванушки как у хамелеона... — Бейте, граждане, арамея! — вдруг взвыл Иванушка и, высоко подняв левой рукой четверговую свечечку, правой засветил неповинному в распятии любителю гольфа чудовищную плюху.
Краска вовсе сбежала с бледного лица, и он улегся на асфальте.
Вот тогда только на Иванушку догадались броситься... Воинственный Иванушка забился в руках.
— Антисемит! — истерически прокричал кто-то.
— Да что вы, — возразил другой, — разве не видите, в каком состоянии человек! Какой он антисемит! С ума сошел человек!
— В психиатрическую скорей звоните! — кричали всюду».
Ночью дежурный санитар той больницы, куда поместили Иванушку, видит за окном в саду непомерно огромного черного пуделя, и позже становится известным, что в эту ночь из лечебницы бежал Иванушка (по-видимому, при помощи посетившего его ночью Воланда). Пудель явно рассчитан автором на то, чтобы читатель вспомнил пуделя из «Фауста»
397
Гете, в обличье которого в кабинет Фауста проникает Мефистофель, и когда Фауст хочет прогнать его — пудель начинает вырастать на его глазах. (В последней редакции романа этот литературно-знаменитый пудель останется только в виде украшения на трости Воланда и в сцене бала, когда Коровьев вешает «на грудь Маргариты тяжелое в овальной раме изображение пуделя на тяжелой цепи»).
Во время движения траурной процессии от Дома Грибоедова (протообразом которого был Дом Герцена на Тверском бульваре, где помещался Всероссийский Союз писателей и ряд профессиональных литературных организаций) к Новодевичьему кладбищу Иванушка, появившись неожиданно «в непристойно разорванной белой рубахе и весь с ног до головы вымазанный сажей», отбивает катафалк с гробом Берлиоза, вскакивает вместо возницы и нахлестывает коней. «На повороте колесницу наклонило, покойник вылез из гроба. Иванушка, забыв, что он управляет колесницей, смотрел, уставясь безумными глазами, как Берлиоз, с мертвыми очами, в черном костюме, подобно мальчишке, залихватски подпрыгивает в гробу, наслаждаясь произведенным эффектом». Читая эти страницы, трудно отделаться от впечатления, что пером автора владело вполне определенное желание — не имея возможности впрямую сразиться в споре с кем-либо из красноречивых редакторов при жизни, он отказывает воплотившему этот ненавистный ему тип Берлиозу в благообразном погребении, видя в этом весьма немалое посмертное наказание.
В конце концов колесница, как удалось догадаться по обрывкам текста, вместе с гробом обрушивается в реку — «и ничего не осталось — даже пузырей — с ними покончил весенний дождь». Так от красноречивого редактора не остается и следа — недаром Воланд предрекал ему, что после смерти он будет в воде («Утону?» — спрашивал Берлиоз. —«Нет», — лаконично отвечал Воланд). Иванушку же водворяют обратно в лечебницу.
В одной из глав Гарася Педулаев (будущий Степа Лиходеев), выброшенный неведомой силой из Москвы, пролетает над крышей собственного дома на Большой Садовой и тут же видит безграничный и очень красивый сад, а за ним «громоздящуюся высоко на небе тяжелую гору с плоской как стол вершиной». Вместо своей улицы, которую он все старается увидеть, он видит некий «проспект, по которому весело позванивал маленький трамвай. Тогда, оборотясь назад в смутной надежде увидеть там свой дом
398
на Садовой, Гарася убедился, что сделать этого он никак не может: не было не только дома — не было и самой Садовой и сзади». «Гарася залился детскими слезами и сел на уличную тумбу, и слышал вокруг ровный шум сада. Карлик в черном... пиджаке и в пыльном цилиндре вышел из этого сада.
Его бабье безволосое лицо удивленно сморщилось при виде плачущего мужчины.
— Вы чего, гражданин? — спросил он у Гараси, дико глядя на него.
Директор карлику не удивился.
— Какой это сад? — спросил он только.
— Трэк, — удивленно ответил карлик.
— А вы кто?
— Я — Пульз, — пропищал тот.
— А какая это гора? — полюбопытствовал Гарася.
— Столовая Гора.
— В каком городе я?
Злоба выразилась на крохотном личике уродца.
— Вы что, гражданин, смеетесь? Я думал, вы серьезно спрашиваете!..» И уходит от Гараси, возмущенный, и тогда тот кричит: « — Маленький человек!.. Остановись, сжалься!.. Я... все забыл, ничего не помню, скажите, где я, какой город.
— Владикавказ, — ответил карлик.
Тут Гарася поник главой, сполз с тумбы и, ударившись головой оземь, затих, раскинув руки.
Маленький человечек сорвал с головы цилиндр, замахал им вдаль и тоненько закричал:
— Милиционер, милиционер!»
Так впечатления от летней поездки на Кавказ — именно от театра лилипутов, виденного во Владикавказе, — входили в роман и одновременно датировали работу над восьмой главой не ранее чем концом лета 1928-го года.
Вечер в Варьете Воланд вел в первой редакции один, без помощников, и собственноручно «повернул голову» конферансье Петра Алексеевича Благовеста и выдернул ее, «как пробку из бутылки»...
В романе действовал герой, впоследствии из него исчезнувший. Глава «Что такое эрудиция» начиналась с описания детства Феси и полученного им прекрасного образования; у него были «необыкновенные способности к истории»; на Историко-филологическом факультете Московского университета Феся уже на втором курсе «привел в состояние восторга» профессора, подав ему свою работу «Категории причинности и каузальная связь».
399
После революции Феся четыре раза в неделю читает лекции — в Хумате (Художественные мастерские), в казармах какой-то дивизии, в Академии изящных искусств... Так прошли десять лет (то есть эпизод приурочивается к 1927 или 1928 году), и Феся намеревался уже вернуться к «каузальной связи», как вдруг в одной «боевой газете» появилась «статья... впрочем, называть ее автора нет нужды. В ней говорилось, что некий Трувер Рерюкович (так! — М. Ч.), будучи в свое время помещиком, издевался над мужиками в своем подмосковном имении, а когда революция лишила его имения, он укрылся от грома праведного гнева в Хумате...» И тут впервые мягкий и тихий Феся «стукнул кулаком по столу и сказал (а я... забыл предупредить, что по-русски он говорил плохо)... сильно картавя:
— Этот разбойник, вероятно, хочет моей смерти!..», и пояснил, что он не только не издевался над мужиками, но даже не видел их ни одной «штуки». И Феся сказал правду. Он действительно ни одного мужика не видел рядом с собой. Зимой он сидел в Москве, в своем кабинете, а летом уезжал за границу и не видел никогда своего подмосковного именья». Однажды он чуть было не поехал, но, решив сначала ознакомиться с русским народом по солидному источнику, прочел «Историю Пугачевского бунта» Пушкина, после чего ехать наотрез отказался, проявив неожиданную для него твердость. Однажды, впрочем, вернувшись домой, он гордо заявил, что видел настоящего русского мужичка: «Он в Охотных рядах покупал капусты. В треухе. Но он не произвел на меня впечатление зверя».
Через некоторое время Феся развернул иллюстрированный журнал и увидел своего знакомого мужичка, правда, без треуха. Подпись под старичком была такая: «Граф Лев Николаевич Толстой».
Феся был потрясен.
— Клянусь Мадонной, — заметил он, — Россия необыкновенная страна! Графы в ней вылитые мужики!
Таким образом, Феся не солгал».
На этом глава оставлена — на середине страницы; видно, какой важный для понимания первоначального замысла романа материал содержала эта глава. Тема интеллигенции и народа в предреволюционной России, несомненно, намечалась здесь; в каком соотношении «серьезности» и гротеска предстояло ей войти в роман — осталось неизвестным. Можно только гадать о той роли, которая была уготована Фесе в сюжете романа; несомненно, автор предполагал его, как специалиста по демонологии, использовать для «дьяволь-
400
ской» линии романа. Предполагалась встреча с Воландом (в отличие от Берлиоза — носителя поверхностной эрудиции).
Ни Мастера, ни Маргариты на этом этапе развития замысла в романе не было; — это можно утверждать с уверенностью, несмотря на то, что роман был доведен, по-видимому, лишь до 15-й главы и впереди оставалось не менее половины.
Роман назывался «Копыто инженера». Слово «инженер» звучало в тот год и значаще, и многозначно. Оно связывалось еще со словом «спец» — то есть «буржуазный специалист», которым обозначали в первые послереволюционные годы инженеров-путейцев, промышленников и других квалифицированных специалистов, пошедших на службу в наркоматы и главки — согласившихся сотрудничать с советской властью, не разделяя ее идей, целей, способов их осуществления и т. п, Инженерами были и иностранные специалисты, приезжавшие из разных стран по контрактам на стройки, промышленные предприятия и т. п. Так что «буржуй» и «иностранец» — эти слова вполне в духе времени попадают в разговоре Иванушки и Берлиоза в один ряд со словом «инженер». А кроме того, летом 1928 г. — то есть, по-видимому, приблизительно в то время, когда, как мы предполагаем, Булгаков начал писать первые главы романа, проходило «расследование» так называемого «шахтинского дела», где ряду инженеров было предъявлено обвинение во вредительстве и шпионаже; без учета этих обстоятельств нельзя понять до конца ни атмосферу сцены на Патриарших — несомненно спроецированной на недавние события, ни объяснений Иванушки в психиатрической клинике: «— Слушай... — обратился он к врачу, — звони и скажи: появился инженер и убивает людей на Патриарших».
Вернемся еще раз к исчезнувшему позже герою первой редакции романа. Возможным прототипом Феси — главным образом в отношении академической его биографии, но, конечно, не его родословия— послужил филолог — медиевист, теоретик литературы, переводчик Борис Исаакович Ярхо. Среди многочисленных его трудов были и работы по демонологии. Формирование этого образа связано с отношением Булгакова к «пречистенскому» кружку. Интерес его к этой среде был острым, менявшимся на протяжении жизни и окрашенным литературно. Составляли этот кружок филологи, искусствоведы, переводчики с романских и германских языков — ученые широкой эрудиции, осознавшие себя носителями культурной традиции, хранителями гума-
401
нитарного знания. В занятиях героя первой редакции романа можно видеть и черты пореволюционной биографии большинства этих людей, и некоторую дозу иронии, присовокуплявшейся к тому пиетету, с которым относился Булгаков к этой ученой среде; разделяя с ней отношение к преемственности культуры, он, в частности, явно не солидаризировался с ее эстетическими предпочтениями. К этим предпочтениям относились художественные течения начала века и западноевропейское искусство; Булгаков же, минуя этот этап, искал традицию непосредственно в русской литературе XIX века. Впрочем, это уже выводит нас за границу сюжетной линии Феси, материала для догадок о которой чрезвычайно мало — из-за плохо сохранившегося текста главы.
Отметим, что сама идея изображения Христа в романе — центральная в замысле, каким видится он по первой редакции, названной «Копыто инженера», — на русской почве восходит едва ли не в первую очередь к замыслу романа Достоевского «Идиот» («Князь Христос»), а также неосуществленной книги о Христе. Если в первой и второй редакциях романа можно видеть связь с князем Мышкиным в личности Иешуа, то, забегая вперед, можно сказать, что с появлением в романе нового героя замысел этот — удваивался.
В фигуре Мастера, ставшей в дальнейшем центральной в московских главах романа, намечалась прямая связь с Иешуа новозаветных глав. С огромной художественно-мировоззренческой смелостью автор романа давал читателю возможность и для такого истолкования фигуры своего нового героя — как современной и оставшейся при этом не узнанной современниками ипостаси того, кто недаром «угадан» до полной достоверности в собственном его романе.
Но до этого превращения замысла должно было пройти еще несколько лет.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Годы кризиса (1929—1931).
1.
В начале 1929 года запрещение «Бега» стало совершившимся фактом — 25 января в МХАТе прошла репетиция, как вскоре выяснилось, — последняя.
В этом театральном сезоне, надолго ставшем последним для Булгакова, пересеклись, стали взаимодействовать литературные судьбы его и Маяковского — до этого бывших друг для друга корректными партнерами по биллиарду и корректными же литературными противниками (поскольку слова Маяковского о «Днях Турбиных» на диспуте 1926 г. звучали вполне корректно, на фоне его обычной литературной полемики.)
В те самые последние дни 1928-го года, когда Булгаков, заглядывая в год предстоящий, видит там явственно гибель едва ли не всех своих пьес, Маяковский читает (28 декабря 1928 года) в театре им. Вс. Мейерхольда свою новую пьесу «Клоп» (сатирическую комедию — как и «Багровый остров»!). 30 декабря он читает ее на расширенном заседании Художественно-политического совета театра; в резолюции, принятой на заседании, пьеса была признана «значительным явлением советской драматургии с точек зрения как идеологической, так и художественной» и приветствовалось «включение ее в репертуар театра».
Так Маяковский вступил на глазах Булгакова на драматургическое поприще — в тот самый момент, когда под ногами Булгакова театральные подмостки сильней всего заколебались.
2 февраля Сталин пишет ответ на письмо драматурга Билль-Белоцерковского, где дает следующую аттестацию пьесе «Бег»: «Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, — стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. «Бег» в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление.
403
Впрочем, я бы не имел ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти по-своему «честные» Серафимы и всякие приват-доценты оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а по тому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою «честность»), что большевики, изгоняя вон этих «честных» сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступала поэтому совершенно правильно». Ответы говорят о характере вопросов — так, ответ на третий вопрос, видимо, частично или полностью его повторял: «Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбьи даже «Дни Турбиных» — рыба» (напомним, что сам Сталин смотрел спектакль не менее 15-ти раз). Поставленными вопросами была вызвана и оценка других пьес Булгакова — «...Вспомним «Багровый остров» <...> и тому подобную макулатуру, почему-то охотно пропускаемую для действительно буржуазного Камерного театра». Так «Багровый остров» был, в сущности, уничтожен; спектакль «Дни Турбиных» охарактеризован, среди прочего, как «демонстрация всесокрушающей силы большевизма», причем в успехе пьесы ее автор был «неповинен» — это сочетание оценок предстояло разгадывать. Судьба же пьесы «Бег» ставилась в прямую зависимость от согласия ее автора на доработку.
Письмо, разумеется, тут же стало известным в литературных и театральных кругах. По мхатовскому преданию, Булгаков переделывать и дописывать «Бег» отказался — косвенным свидетельством этого служит и отсутствие каких-либо документальных следов попыток переделки в его архиве.
Выскажем предположение, что, кроме чисто творческих причин, здесь были и иные — Булгаков, по складу личности и стереотипам жизнеповедения, не мог заставить себя реагировать на требования к его пьесе, выраженные в письме, адресованном не ему самому и не дирекции театра, а человеку частному и абсолютно ему чужому.
Несомненно, письмо произвело сильное впечатление в первую очередь на дирекцию МХАТа. С «Бегом» было кончено, «Дни Турбиных» дотягивали последние недели: премьера «Блокады» Вс. Иванова, прошедшая 26 февраля, давала базу для их снятия — «свою» пьесу.
Между тем первая пьеса Маяковского сразу после утвер-
404
ждения ее Советом театра (30 декабря) начала репетироваться, и 13 февраля 1929 г. — в немыслимый для пьес Булгакова срок! — состоялась премьера. Сохранились свидетельства, что Булгаков был на одном из первых спектаклей. До конца сезона «Клоп» шел почти ежедневно; осенью пьеса была поставлена филиалом ГБДТ в Ленинграде (там, где Булгакову так и не удалось за истекшие два с лишним сезона поставить ни одной своей пьесы). В обеих постановках всякий раз со сцены звучало имя Булгакова, занесенное автором пьесы в «словарь умерших слов» («Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков...»), что в эту весну могло казаться особенно правдоподобным.
6 марта 1929 г. «Вечерняя Москва» печатает заметку «Театры освобождаются от пьес Булгакова». «Багровый остров» идет вплоть до лета, но в конце сезона и он окажется снятым — как и другие две пьесы.
В эту зиму Булгаков ходил играть в любимую свою карточную игру — винт — к бухгалтеру МХАТа Ванде Марковне Федоровой и ее мужу. Жили они на Пушкинской, недалеко от МХАТа. За круглым столом под желтым шелковым абажуром с кистями играли еще и в придуманную самим Булгаковым «игру в тираж с погашением». Ставки делались не более гривенника, но было много веселья. Оттуда нередко шли, по воспоминаниям актрисы МХАТа Н. Михаловской, на каток. Он был близко на Петровке; коньки брали напрокат. Булгаков катался на коньках плохо, зато на лыжах кататься, видимо, умел и любил. По выходным мхатовским понедельникам выбирались с молодыми актерами в Сокольники, шли к селу Богородскому. Вдвоем с кем-нибудь из приятелей охотно ходил на лыжах и рядом с домом у Новодевичьего или уходил по Москва-реке к Нескучному саду.
В весенние месяцы 1929 г. Булгаков, видимо, вновь вернулся к роману «Копыто инженера». Он даже сделал попытку напечатать главу «Мания фурибунда», повествующую о появлении Иванушки в Шалаше Грибоедова и дальнейших событиях — сохранилась тетрадь с началом второй редакции романа (1—3-я главы) и 5-й главой «Мания фурибунда» с подзаголовком «Глава из романа «Копыто инженера», явно готовящейся для печати, а также расписка секретаря издательства «Недра» Б. Леонтьева от 8 мая: «Мною получено для сборников «Недра» рукопись «Фурибунда» от автора ее М. Булгакова — под псевд. К. Тугай». Таким образом, была сделана попытка обратиться к помощи того издательства, которое так радушно отнеслось к нему в 1923—24 гг. и отношения с которым распались в 1926-м по
405
обстоятельствам внешним, помимо воли редакции. Булгаков предлагал свою прозу под псевдонимом, по-видимому, опасаясь осложнений из-за своего имени, уже становящегося одиозным. Небезынтересно, что выбрана была фамилия героя рассказа «Ханский огонь» (1924); на выбор повлияло, возможно, и тюркское происхождение фамилии «Булгаков». Упомянем, что его двоюродный брат и близкий друг К. П. Булгаков, работавший в первые пореволюционные годы в Киеве в АРА, а с ликвидацией этой американской организации уехавший в Америку, стал подписываться там «К. Булак».
Попытка публикации не удалась, в связи с этим работа над романом, можно предполагать, была прекращена (более поздних рукописей этого года не сохранилось).
В эту весну, вернувшись 2-го мая из очередной поездки за границу, Маяковский начинает работу над второй пьесой — «Баня».
У Булгакова к лету выяснилась полная безнадежность положения.
Возможно, в эти самые месяцы он делает даже попытку обратиться к вовсе ему чужому жанру скетча на актуальную тему — в те годы весьма популярную в определенной литературной среде форму нетрудного заработка. Один из тогдашних знакомцев Булгакова, человек от него, однако, далекий, рассказывал нам 8 сентября 1980 г.: «О Булгакове я мало чего могу сказать Вам хорошего. Он был надменен, высокомерен. Он плохо относился к Маяковскому, а для меня Маяковский был все.
Я виделся с ним чаще всего в компании Черемныха и Бухова, особенно Бухова». Михаил Михайлович Черемных, почти ровесник Булгакова, был художник-график, один из создателей «Окон Роста», постоянный карикатурист журнала «Безбожник», а затем «Крокодила». («Отношение Булгакова к Черемныху было двойственное, — вспоминает Л. Е. Белозерская: — он совершенно не разделял увлечения художника антирелигиозной пропагандой (считал это примитивом) и очень симпатизировал ему лично». Нам представляется, что эти двойственные впечатления повлияли на формирование замысла одного из героев романа «Копыто инженера» — Иванушки.)
Аркадий Сергеевич Бухов, всего на два года старше Булгакова, был, однако, юмористом дореволюционной складки, печатавшимся еще в «Новом Сатириконе». Вернувшись из эмиграции в начале 1920-х годов, в Москву он попал в декабре 1927 г. и довольно быстро отыскал свое
406
место в литературной жизни,, став активным сотрудником «Чудака», «Бегемота», «Безбожника», а с 1934 г. — даже заведующим литературным отделом «Крокодила».
«...Бухов носил канотье, вообще был такой старорежимный. Это, наверно, привлекало Булгакова. Чаще всего мы заходили за Булгаковым, чтобы пойти в ресторан — в «Прагу». Бухов очень умел вести себя в ресторане, а Булгакову это нравилось. Потом был такой момент, когда Булгаков больше всего бедствовал, и мы с Буховым сказали ему:
— Чего вы пижоните? Почему бы Вам не писать скетчи для ГОМЭЦа, как это делаем мы? (Это было объединение малоформистов, эстрадников и работников цирка. — М. Ч.).
Удалось его уговорить и мы пришли вместе с ним и, кажется, даже у него в руках была уже написанная заявка. Он начал договариваться насчет аванса, но сказав два слова, вдруг резко повернулся и пошел:
— Не могу!
Мы его догнали, я стал ему говорить: — Как вы себя ведете? Ведь это в конце концов оскорбительно по отношению ко многим людям, работающим для ГОМЭЦа, достойнейшим, между прочим, людям! Почему они могут писать скетчи, стараются писать так, чтобы их можно было поставить, —и при этом стараются написать их лучше, а вы — не можете?!» Весь эпизод кажется очень характерным.
Сохранились свидетельства того, что в это время он делал попытки обратиться к историко-литературному заработку — 12 августа 1929 П. С. Попов пишет ему с черноморского побережья (из Лазаревской): «Очень интересуюсь Вашими литературоведческими работами над текстами Тургенева. Не забудьте, что кроме редакторских комментариев Вам нужно составить предисловие. Проверили ли Вы текст?»
28 августа Булгаков посылает письмо своему брату Николаю (переписка братьев недавно наладилась; 25 апреля этого года Булгаков писал: «Наша страшная и долгая разлука ничего не изменила: не забываю и не забуду тебя и Ваню»).
Письмо было неожиданно откровенным, прямыми словами рисующим ситуацию: «Теперь сообщаю тебе, мой брат: положение мое неблагополучно.
Все мои пьесы запрещены к представлению в СССР и беллетристической ни одной строки моей не напечатают. В 1929 году совершилось мое писательское уничтожение. Я сделал последнее усилие и подал Правительству СССР
407
заявление, в котором прошу меня с женой моей выпустить за границу на любой срок.
В сердце у меня нет надежды. Был один зловещий признак — Любовь Евгеньевну не выпустили одну, несмотря на то, что я оставался. (Это было несколько месяцев тому назад!)
Вокруг меня уже ползает змейкой темный слух, что я обречен во всех смыслах.
В случае, если мое заявление будет отклонено, игру можно считать оконченной, колоду складывать, свечи тушить...
Мне придется сидеть в Москве и не писать, потому что не только писаний моих, но даже фамилии моей равнодушно видеть не могут. •
Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос моей гибели это лишь вопрос срока, если, конечно, не произойдет чуда. Но чудеса случаются редко.
Очень прошу написать мне, понятно ли тебе это письмо, но ни в коем случае не писать мне никаких слов утешения и сочувствия, чтобы не волновать мою жену.
...Нехорошо то, что этой весной я почувствовал усталость, разлилось равнодушие. Ведь бывает же предел.
Я рад, что ты устроился, и верю, что ты сделаешь ученую карьеру. Напиши Ивану, что я его помню. Пусть напишет мне хоть несколько строк. Большим утешением для меня явятся твои письма и, я полагаю, ты, прочтя это письмо, будешь писать мне часто.
...Ну-с, целую тебя, Никол,
твой М. Булгаков.
P. S. Ответ на это письмо прошу самый срочный».
Заявление, о котором упоминается в письме, адресовано было нескольким лицам — Сталину, Калинину, Свидерскому, Горькому. Подано же оно было через А. И. Свидерского. Булгаков писал: «В этом году исполняется 10 лет с тех пор как я начал заниматься литературной работой в СССР». Он напомнил, что не раз подавал «прошения о возвращении мне рукописей», и что «получал отказы или не получал ответа на заявления» (так устанавливается, что к лету 1929 года Е. П. Пешковой еще не удалось получить рукописи по его доверенности).
«К концу десятого года силы мои надломились, не будучи в силах более существовать, затравленный, зная, что ни печататься, ни ставиться более в пределах СССР мне нельзя, доведенный до нервного расстройства, я обращаюсь к Вам и прошу Вашего ходатайства перед Правительством СССР об изгнании меня за пределы СССР с женою моей
408
Л. Е. Булгаковой, которая к прошению этому присоединяется».
3 сентября Булгаков писал Горькому: «Многоуважаемый Алексей Максимович! Я подал Правительству СССР прошение о том, чтобы мне с женой разрешили покинуть пределы СССР на тот срок, какой мне будет назначен.
Прошу Вас, Алексей Максимович, поддержать мое ходатайство. Я хотел в подробном письме изложить Вам все, что происходит со мной, но мое утомление, безнадежность безмерны. Не могу ничего писать».
Напоминая, что все пьесы его запрещены, Булгаков вопрошал: «Зачем держать писателя в стране, где его произведения не могут существовать? Прошу о гуманной резолюции — отпустить меня».
Завершая, Булгаков просил Горького уведомить его о получении письма.
В тот же самый день он посылает письмо секретарю ЦИК Союза ССР А. Е. Енукидзе: «В виду того, что абсолютная неприемлемость моих произведений для советской общественности очевидна, в виду того, что совершившееся полное запрещение моих произведений в СССР обрекает меня на гибель, в виду того, что уничтожение меня как писателя уже повлекло за собой материальную катастрофу» (автор письма уверял, что может документально доказать «невозможность жить, начиная со следующего месяца» — имелась в виду, среди прочего, необходимость платить налог за доходы с пьес, полученные в прошедшем сезоне и, видимо, в значительнейшей степени уже потраченные), «при безмерном утомлении, бесплодности всяких попыток обращаюсь в верховный орган Союза — Центральный исполком СССР и прошу разрешить мне вместе с женой моей Любови Евгениевной Белозерской выехать заграницу на тот срок, который Правительство Союза найдет нужным назначить мне.
Михаил Афанасьевич Булгаков (автор пьес «Дни Турбиных», «Бег» и др.)».
Это письмо мы цитируем по черновику, сохранившемуся в архиве писателя; возможно, в окончательном тексте какие-то выражения были автором смягчены, но все равно все три документа конца лета — начала осени 1929 г. несут на себе следы состояния, близкого к аффекту, — состояния человека, доведенного до крайности и готового на отчаянные поступки.
409
Представить состояние, в котором находился Булгаков, помогает печать этого времени. 15 сентября в статье «Перед поднятием занавеса», напечатанной в «Известиях», критик Р. Пикель с удовлетворением писал: «В этом сезоне зритель не увидит булгаковских пьес. Закрылась „Зойкина квартира", кончились „Дни Турбиных", исчез „Багровый остров". Мы не хотим этим сказать, что имя Булгакова вычеркнуто из списка советских драматургов. Талант его столь же очевиден, как и социальная реакционность его творчества. Речь идет только о его прошлых драматургических произведениях. Такой Булгаков не нужен советскому театру».
Подводя черту под всеми «прошлыми» пьесами Булгакова, статья вместе с тем оставляла какой-то просвет для будущей работы. Но в первой половине сентября он вряд ли еще в силах был его различить.
28 сентября Булгаков вновь пишет Горькому: «Евгений Иванович Замятин сообщил мне, что Вы мое письмо получили, но что Вам желательно иметь копию его». Копии у Булгакова не оказалось, и он пересказывал содержание «приблизительно», а под конец писал: «К этому письму теперь мне хотелось бы добавить следующее: все мои пьесы запрещены, нигде ни одной строки моей не напечатают, никакой готовой работы у меня нет, ни копейки авторского гонорара ниоткуда не поступает, ни одно учреждение, ни одно лицо на мои заявления не отвечает, словом — все, что написано мной за 10 лет работы в СССР, уничтожено. Остается уничтожить последнее, что осталось — меня самого. Прошу вынести гуманное решение — отпустить меня. Уважающий Вас М. Булгаков».
Его имя уже употреблялось в эти дни во множественном числе, уже удивлялись тому, что он все еще был членом Всероссийского союза писателей: «Булгаковы и Замятины мирно сожительствовали в союзе рядом с подлинными советскими художниками слова», — писала «Жизнь искусства» в статье «Уроки пильняковщины» (в это время резкой критике подвергался Б. Пильняк, напечатавший за границей роман «Красное дерево»), в № 39 за 29 сентября.
2-го октября Булгаков получает повестку — его вызывают на 3-е в Политуправление (ПУР) для дачи показаний — мы предполагаем, что этот вызов был связан с решением возвратить ему рукописи: по свидетельству Елены Сергеевны, они были возвращены ему именно в 1929 году; между тем в дни, когда он рассылает свои заявления, рукописи, как явствует из текста этих заявлений, ему еще не
410
возвращены. Никакой иной реакции на заявления, составленные в таком отчаянном тоне, не воспоследовало. Это обстоятельство существенно для понимания событий, которые развернутся в следующем году.
3 октября его уведомляют о том, что продолжается организация Жилкооптоварищества для членов Драмсоюза, живущих в Москве, а затем и о том, что 16 октября состоится общее собрание членов Жилищно-строительного кооператива «Дом Драматурга и Композитора». Каждая такого рода повестка в эту осень делала для него еще очевидней полную неясность будущего. В кооператив этот он вступил года полтора назад, когда был и правда действующим драматургом.
Правда, условия жизни на Пироговской весной этого года улучшились; его крохотный кабинет, в котором умещался только письменный стол, сильно расширился. Мария Артемьевна Чимишкиан, которая к этому времени уже переехала в Москву, рассказывала нам в августе 1982 г.: «Как-то я зашла к Булгаковым, а Люба говорит: «Ты уже была у Маки?» — «Ну да, я поздоровалась с ним — он сидит у себя за столом...» — «Нет, ты зайди, зайди!» Я зашла, смотрю — стена сломана — туда, где до этого другие жили — и комната стала прямо огромной!» Сохранились документы, показывающие, что 1 апреля 1929 г. общая площадь в квартире, арендуемой Булгаковым, увеличилась «на 21,3 кв. саженей =41,74 кв. м». Кабинет, действительно, стал просторным.
В письме Горькому от 28 сентября строка «Никакой готовой работы у меня нет» зачеркнута — быть может, потому, что он вспомнил про оставленный роман или же про то, что как раз теперь пишет некое сочинение, оставшееся, правда, в тот год также незавершенным.
Вернемся еще раз к зиме 1929 года. 28 февраля, на масленицу, в одном из московских домов Булгаковы познакомились с Еленой Сергеевной Шиловской, женой крупного военачальника Е. А. Шиловского. Она стала бывать в их доме, подружилась с Любовью Евгеньевной. Скоро у Булгакова возник тайный роман. В октябре 1968 года Елена Сергеевна рассказывала нам: «Летом 1929 года я уехала лечиться в Ессентуки. Михаил Афанасьевич писал мне туда прекрасные письма, посылал лепестки красных роз; но я должна была уничтожать тогда все эти письма, я не могла их хранить. В одном из писем было сказано: „Я приготовил Вам подарок, достойный Вас..." Когда я вернулась в Москву, он протянул мне эту тетрадку...»
Эта тонкая тетрадь, исписанная почти до конца, уце-
411
лела в архиве писателя. На первой странице вверху поставлена дата — «Сентябрь 1929 г.», дальше крупно и красиво выведено: «Тайному Другу». Ниже — несколько вариантов заглавия, как обычно это в рукописях Булгакова: «Дионисовы мастера. Алтарь Диониса. Сцены. «Трагедия машет мантией мишурной».
Уже одни эти поиски заглавия показывают, что речь должна была идти о театре. Действительно — перед нами полумемуарное повествование, которое, по-видимому, по замыслу автора должно было подвести итог театральному пятилетию, казавшемуся бесповоротно завершенным. Тетрадочка начиналась словами: «Бесценный друг мой! Итак, Вы настаиваете на том, чтобы я сообщил Вам в год катастрофы, каким образом я сделался драматургом? Скажите только одно — зачем Вам это? И еще: дайте слово, что Вы не отдадите в печать эту тетрадь ранее чем через год...» и тут же исправлено — «даже и после моей смерти». Рассказывалось далее о «доисторических временах» 1921 —1925 гг. Так и называлась главка — «Доисторические времена»; автор рукописи сам делил свою московскую жизнь на два периода; вторым был, видимо, театральный — время историческое, время литературной известности, разом оборвавшееся, переиначившееся.
Рассказывалось, как герой этого повествования жил в эти годы в Москве, служил в редакции «одной большой газеты» — сначала в качестве «обработчика», потом фельетониста, о том, как начал он свою печатную карьеру в литературном приложении к берлинской газете «Сочельник», редакция которой имела московское отделение, как написал он роман о недавнем прошлом, как встретился с редактором толстого журнала Рудольфом Рафаиловичем, а затем с издателем Семеном Семеновичем Рвацким, как издатель исчез — вместе с рукописью недопечатанного романа.
«Теперь забегаю вперед: прошло несколько лет и, как Вы сами догадываетесь, Рвацкий отыскался заграницей. И там овладел моим романом и пьесой. Каким образом ему удалось провести заграницу роман, увесистый как надгробная плита, мне непонятно.
Словом, мне стыдно. Такое разгильдяйство все-таки Непростительно. Но послушайте дальше. В один прекрасный день грянула весть, что редактор мой Рудольф арестован и высылается заграницу. И точно, он исчез. Но теперь я уверен, что его не выслали, ибо человек канул так, как пятак в пруд. Мало ли кого куда не высылали или кто куда не ездил в те знаменитые годы 1921—1925! Но все же, бывало
412
улетит человек в Мексику, к примеру. Кажется, чего дальше. Ан нет, получаешь вдруг, фотография — российская блинная физиономия под кактусом. Нашелся. А этот не в Мексику, нет, говорят, был выслан всего только в Берлин. И ни звука. Ни слуху, ни духу. Нету его в Берлине. Нет, и не может быть.
И лишь потом дело выяснилось. Встречаю я как-то раз умнейшего человека. Рассказал ему все. А он и говорит, усмехаясь:
— А знаете что, ведь вашего Рудольфа нечистая сила утащила, и Рвацкого тоже.
Меня осенило, а ведь, верно.
— И очень просто. Ведь сами вы говорили, что Рудольф продал душу дьяволу?
— Так, да.
— Ну, натурально, срок-то ведь прошел, ну, является черт и говорит, пожалуйте...
— Ой, Господи! Где же они теперь?
Вместо ответа он показал пальцем в землю, и мне стало страшно».
Итак, автор намеревался рассказать, как он «сделался драматургом», но остановился на том, как этот будущий драматург написал роман и начал печатать его в журнале. Последняя глава называлась «Выход романа». На первых возгласах друзей — «Плохонький роман, Мишуи, вы...» — повествование обрывалось. Последняя фраза — последняя строка страницы. Есть нечто странное в такой оборванности текста на полуслове — притом, что тетрадь не порвана, что в ней осталось еще два чистых листа.
Бессмысленно гадать, почему и в какой именно момент была прервана работа. Это могло произойти в сентябре или октябре. Это время: конец сентября — первая половина октября дает зато основания для некоторых догадок относительно возникновения других замыслов писателя.
Обратимся для этого к канве последнего года жизни Маяковского.
23 сентября 1929 г. Маяковский читает «Баню» на заседании Художественно-политического Совета театра им. Вс. Мейерхольда, и Мейерхольд, выступая на обсуждении, говорит, что пьеса Маяковского — «это крупнейшее событие в истории русского театра», «если вспомнить русских драматургов, то мы должны вспомнить Пушкина, Гоголя, несмотря на то, что приемы Маяковского резко отличаются от приемов Гоголя и у него другой подход», что «Маяковский начинает собою новую эпоху, и мы должны
413
в его лице приветствовать именно этого крупнейшего драматурга, которого мы обретаем».
Сравнение с Пушкиным и Гоголем должно было звучать шокирующе для Булгакова. Не менее сильной была еще одна параллель, возникшая в той же речи и на какое-то время закрепившаяся: «Такая легкость, с которой написана эта пьеса, была доступна в истории прошлого театра единственному драматургу — Мольеру. Вчера, когда я слушал пьесу в первый раз, я вспомнил о Мольере, и товарищ Катаев — автор «Квадратуры круга», сегодня явившийся на читку, тоже вспоминает о Мольере. Эту мысль я говорю не только от своего лица, но и от лица товарища Олеши...».
Это сравнение, выработанное, так сказать, общими усилиями (оно повторено было вскоре еще в одном выступлении Мейерхольда, опубликованном 30 октября 1929 г.), запомнилось В. Катаеву, участнику читки: «После чтения, как водится, начались дебаты, которые, с чьей-то легкой руки, свелись, в общем, к тому, что, слава богу, среди нас наконец появился новый Мольер» («Трава забвения»). Катаев вспоминает также, что на читке были мхатовцы, в том числе П. А. Марков: «Он уже давно, втайне, охотился за Маяковским, желая заставить его написать пьесу для МХАТа. Маяковский — на сцене Художественного! Вот бы был номерок! Скандал на весь крещеный мир! <...> Марков недавно, путем невероятных трудов и хитростей затащил Маяковского во МХАТ на „Дни Турбиных" Булгакова. Маяковский улизнул после третьего акта» (в устной беседе Катаев пояснял: «Ему действительно было невыносимо скучно — он не мог заставить себя досмотреть»).
Все это, конечно, становилось известно Булгакову, как и присутствие мхатовцев на чтении дома у Маяковского 27-го сентября и их впечатления. Зафиксированные в дневниковых записях Л. Ю. Брик, они воспроизведены несколько лет назад в печати с ее мемуарными добавлениями: «Из всего, что было сказано после чтения, — сообщает Л. Брик, — записано только: „Марков говорил, что для того, чтобы ставить Маяковского, ему, Маяковскому, нужен свой театр". Нора Полонская, бывшая на этом чтении, сказала мне, что „Баня" очень понравилась Яншину, и он раззвонил об этом всему Художественному театру и требовал ее постановки. Вне зависимости от того, могло ли бы это произойти, это было невозможно еще и потому, что пьеса уже была отдана Мейерхольду. Но может быть, это объясняет еще две записи в дневнике: 29 сентября — «Худож.театр собирается заказать Володе пьесу». 2-го октября: — «Вечером
414
приходили из Худ. театра разговаривать о пьесе». П. А. Марков, не помню, с кем еще».
Для обоснования нашей дальнейшей гипотезы напомним, что еще 3 сентября Булгаков пишет Горькому «не могу ничего писать» и в посланном в тот же день письме А. С. Енукидзе говорится о «безмерном утомлении» и «бесплодности всяких попыток». До конца сентября ни в одном из известных нам документов нет упоминания о каких-либо новых драматургических замыслах, и рукопись, адресованная «Тайному Другу», также говорит о том, что с драматургией покончено, подводятся итоги. И однако же в архиве писателя сохранилась рукопись, в которой вслед за датой — «Октябрь 1929» — начата новая пьеса.
Мы предполагаем, что замысел пьесы о Мольере вызван к жизни в первую очередь впечатлением от реакции литературно-театральной общественности на новую пьесу Маяковского.
Сравнение Маяковского с Мольером Булгаков слышит не только из уст Мейерхольда, столь же далекого ему, как сам Маяковский, но из уст своих недавних приятелей — Катаева и Олеши; не могло оставить его равнодушным и отношение ко всей ситуации молодых актеров МХАТа, с которыми связана была его театральная судьба. «Мольер?... Я покажу вам, каков был действительно Мольер и кто сегодня может сравниваться с ним по справедливости...» — таким или близким к такому мог быть, на наш взгляд, ход раздраженной творческой мысли, приведшей к решению — писать пьесу о Мольере. Внезапность решения подтверждается, как кажется, воспоминанием Е. С. Булгаковой (одним из немногих ею самой записанных) о том, как Булгаков подчеркнуто заговорщически сообщил ей осенью 29 года, «что надумал писать пьесу»: «Как-то осенью 29 года М. А. очень уж настойчиво звал по телефону — приехать к нему на Пироговскую. Пришла. Он запер тщательно все двери — входную, из передней в столовую, из столовой в кабинет, загнал меня в угол около черной круглой печки, и, все время оглядываясь, шепотом сказал — что есть важнейшее известие, сейчас скажет. Я привыкла к его розыгрышам, выдумкам, фокусам, но тут и я не смогла догадаться, шутит он или всерьез говорит.
Потребовал тысячу клятв в молчании, наконец, сообщил, что надумал написать пьесу.
— Ну! Современную?
— Если я тебе скажу два первых слова, понимаешь, скажу первую реплику, ты сразу догадаешься и о времени и о ком...
415
— Ну, ну...
— Подожди... Опять стал проверять двери, шептать заклинания, оглядываться.
— Ну, говори.
После всяких отнекиваний, а главное, уверений, что первая реплика объясняет все, — шепотом сказал:
— «Рагно, воды!» — и торжествующе посмотрел на меня. — Ну, поняла?
— Срам ужасный — ничего не поняла — ни какое время, ни о ком пьеса.
— Ээ, притворяешься. Все поняла.
Пришлось признаться в полном своем невежестве.
— Ну, как же... Ведь все ясно, Рагно — слуга Мольера, пьеса о Мольере! Он выбегает со сцены в свою уборную и кричит: „Рагно, воды!", утирает лоб полотенцем. Но, смотри, ни-ко-му ни слова!»
В пользу нашей гипотезы происхождения замысла пьесы говорит, главным образом, одно обстоятельство: творчество Маяковского всегда было неприемлемо для Булгакова, но не действовало провоцирующе до тех пор, пока оно оставалось под знаком футуризма, модернизма, любого новаторства. И именно перемещение его в оценках литературно-театральной общественности в другой ряд — в ряд классики, в ряд Пушкина, Гоголя и Мольера вызвало острую реакцию Булгакова — это была экспансия в ту область, которую он числил за собой, которую, в отличие от новаторских течений, брался оценивать. Пьеса «Мольер» оказывается окрашенной литературной полемикой — не с текстом пьесы Маяковского, а с его интерпретацией — т.е. с «текстами» Мейерхольда и других первых слушателей «Бани».
Примечательно, что и вторая пьеса, начатая и брошенная (возможно, вытесненная работой над пьесой о Мольере) в том же году — будущая пьеса «Блаженство», была задумана, по-видимому, не без воздействия пьес Маяковского «Баня» и «Клоп».
Итак, осенью 1929 г., когда Булгаков, оставив все драматургические попытки, решался на крутое изменение своей жизни и писал одно заявление за другим, литературная судьба Маяковского внезапно пересеклась с его собственной, вызвав к жизни одну пьесу и зародив замысел другой, осуществленной много позже.
Чисто внешним толчком к кристаллизации замысла «Мольера» послужило, возможно, и письмо из МХАТа от 14 октября — дирекция просила Булгакова, ввиду запрещения «Бега», возвратить аванс — 1000 рублей. Взять эти
416
деньги в ту осень было уже неоткуда; безвыходность ситуации и заставила задуматься над тем, чтобы написать для МХАТа новую пьесу — и покрыть задолженность. Современность и недавнее прошлое как драматургический материал были для него исключены. Мысль написать пьесу о Мольере развязывала сразу несколько узлов.
Заманчиво попытаться увидеть скрытую от нас логику художественного сознания в том, что, оставив попытку показать судьбу драматурга беллетристически (предельно приблизив повествование, явно не предназначавшееся для печати, к личному опыту), Булгаков обращается к пьесе о драматурге же, о театре — к пьесе, в которой мотив сугубо личный претерпел глубокую метаморфозу, сублимировавшись в материале другого времени и в другом художественном роде. За пьесу о Мольере берется человек, у которого за плечами — четыре с половиной года напряженной театральной жизни, с блеском успеха и горечью поражений, художник, измеривший собственные творческие силы и оценивший силу сопротивления обстоятельств.
С первых страниц рукописей пьесы, с первых выписок видно, что фабула ее тяготеет к истории «Тартюфа» — перипетии запрещения пьесы, прошения драматурга королю, отказ, разрешение, новые угрозы и т. д. Первые же варианты названия — «Заговор ханжей», «Заговор святош» — намечают противостояние художника и тех, кто трактует его так, как священник Рулле Мольера: «Демон, вольнодумец, нечестивец, достойный быть сожженным» (выписано Булгаковым) . Отношения Мольера с королем сразу же проступили как важнейший мотив пьесы.
По-видимому, разговор, запомнившийся Елене Сергеевне, происходил в момент, когда замысел едва возник: Рагно, «тушильщик» свечей, появляется в самом первом списке лиц, и имя это поставлено под вопросом. На этой же странице он уже Жак и остается им в набросках первой картины, а затем Жак переименован в Бутоне.
Начало черновой редакции пьесы отразило лихорадочное обдумывание обстановки и действия первой картины: «Уборная театра Пале-Рояль (?!), Король (?!)». Сразу же был выбран эпиграф к пьесе: «Для его славы ничего не нужно. Он нужен для нашей славы» (надпись на бюсте Мольера). Первой же репликой стала та самая, которую автор полагал разом открывающей содержание пьесы: «Мольер. Воды! Полотенце!» Вслед за одной из реплик «— Король аплодирует» бегло намечен материал предпоследней картины — эпизод с монашками и фрагменты финала
417
(смерть Мольера на сцене). Итак, в первых же набросках пьеса как бы уже начата и кончена; обозначились главнейшие ее мотивы — в сплетении светлого начала безудержного и пылкого творческого самоосуществления и начала темного, гибельного, противостоящего творчеству и самой жизни, в зрительно наглядном чередовании яркого, слепящего света («Множество свечей», «свечи перед зеркалами!») и надвигающегося неизбежного мрака: монахини и идущая им вслед смерть.
В первоначальном варианте «королевской» сцены Мольер был вызван к Людовику не по навету Шаррона уже после постановки «Тартюфа» (как впоследствии) — а для разговора о творческих планах. В этой сцене появлялся еще молодой, только накануне обласканный на спектакле королем, полный замыслов комедиограф; вся сцена проникнута приподнятым ожиданием возможной встречи с правителем, надеждой на многообещающее снискание его симпатий и интереса к творчеству художника. Камердинер торжественно объявляет: «Жан-Батист, всадник де Мольер просит аудиенции! Людовик (очень оживленно). Просите, я рад!». В подчеркнутой нами ремарке, в том, как дальше угадывал король невысказанное желание Мольера («Я понял — писатели любят говорить о своих произведениях наедине») и отправлял из комнаты придворных, сквозило авторское предожидание подобной аудиенции и доверительного, благожелательного разговора. Этот вариант встречи Мольера с королем вернее всего может быть интерпретирован в свете известной концепции С. М. Бонди относительно пушкинских стихотворений о Петре I, как бы указывающих Николаю на достойные подражания качества пращура. «Так что же вы пишете?» — спрашивает король своего писателя, и тот отвечает: «Я задумал, ваше величество, комедию о ханже».
Эта версия аудиенции осталась в черновой тетради. В первой связной редакции предложен другой, менее обнадеживающий ее вариант. Перед нами Мольер после запрещения двух лучших его комедий. «Голос. Жан-Батист де Мольер, лакей вашего величества. Людовик. Просить! (входит Мольер, идет, кланяясь издали Людовику под взглядами придворных. Он очень постарел, лицо больное). Весь разговор идет в ином уже ключе, он длиннее первоначального варианта, наполнен оттенками новых смыслов и отзвуками современных автору живых интонаций, реальных и предполагаемых жизненных ситуаций: Людовик. Вас преследуют? Мольер (молчит). Людовик (громко) <Если вам будет что-нибудь угрожать, сообщите мне) Господа!
418
Нет ли среди вас поклонников писателя де Мольера? (движение). Я лично в их числе (гул). {Придворные. Ослепительные вещи). Так вот: писатель мой угнетен. Боится. И <мне будет приятно) я буду благодарен тому, кто даст мне знать об угрожающей ему опасности. (Мольеру). Как-нибудь своими слабыми силами отобьемся. (Громко) Отменяю запрещение: с завтрашнего дня можете играть Тартюфа и Дон Жуана (гул).
Мольер (вскочив). Люблю тебя, король! (исступленно) Где архиепископ Шаррон? Вот он! Вы слышали! Вы слышали!». Построение сцены таково, что впечатление благополучного, в конце концов, для Мольера исхода дела «погашено» не менее сильным предощущением безнадежности и гибели (сама «исступленность» победных выкриков Мольера ведет к этому впечатлению). Следует ли понимать эту перемену в построении сцены так, что на пути от первых набросков к первой редакции автор «понял» нечто, чего не понимал он вначале? Мы уверены в необходимости иного истолкования — в сосуществовании в сознании писателя разных возможных вариантов одного и того же воображаемого разговора. Ближайшая аналогия этому — «воображаемый разговор» Пушкина с Александром I («Когда я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему...»), который сначала кончается прощением поэта, а затем конец этот резко переменен автором и желанная аудиенция завершается новой ссылкой. В то же самое время, когда Булгаков пытается воплотить смущающую душу художника, живущего в эпоху неограниченной верховной власти, мечту об аудиенции, о доверительном разговоре (достоверность факта разговора Мольера с королем во многих источниках подвергается сомнению) — в это же время, а не позже того, он понимает, что «все это ни к чему! Ни к чему!» и выражает это понимание от первых набросков до окончательного текста с одной и тою же силой и страстью. Конечная безнадежность и временная надежда в этой пьесе равно полноправны, и одна не отменяет другую. Новая пьеса Булгакова обнаружила глубокие связи с предшествующим его творчеством и прежде всего — с писавшимся в тот же год романом. Во второй редакции романа Пилат, впадающий в истерическое состояние после чистосердечных показаний Иешуа против самого себя, передающих его в руки палачей как бы помимо воли прокуратора, кричит: «Плеть мне! Плеть — и избить тебя как собаку!» «Иешуа испугался и сказал умильно:
— Только ты не бей меня сильно, а то меня уже два раза били сегодня...» И в первых набросках «Кабалы свя-
419
тош» Мольер, на которого наступает Одноглазый, тоже угрожая ему побоями и убийством, говорит будто тем же самым голосом: «Не бейте меня и не оскорбляйте... Я болен, клянусь вам. Я не знаю вас и не <понимаю> постигаю, за что вы ненавидите меня...»; почти такова же эта сцена и в окончательном тексте. Так снова, в новых обличьях, возникает неизменная, зарождающаяся еще в работе над первым романом антитеза силы и слабости — когда то, что неизбежно является слабостью и робостью в одном ряду, выступает как сила и мужество в другом. Важнейшие для булгаковской модели мира типы социально-психологических ситуаций, взаимоотношений людей возникают в этой пьесе; в противостоянии Людовика и Мольера, Людовика и Шаррона угадываются некоторые черты отношений Пилата и Иешуа, Пилата и Каифы. Фанатичный Шаррон так же непреклонен в воздействии своем на власть, тоже пользуется услугами сыщика, так же докладывает правителю о том, чего тот не хотел бы слышать, и требует гибели ненавидимого им человека; так же, как Пилат в романе, Людовик с брезгливым презрением относится к тому, кто исполнил роль доносчика в отношении человека необычного, завоевавшего в коротком разговоре с правителем его симпатии. Сравним реплику Пилата, прочитавшего донос, пришедший от Каифы, во второй редакции романа — «Кто эта сволочь?» и разговор Людовика со Справедливым сапожником после визита Шаррона: «А ты не любишь доносчиков? Справедливый сапожник. Ну чего же в них любить? Такая сволочь, ваше величество!» И так же, наконец, как и в романе, эти смутные симпатии не мешают Людовику погубить судьбу Мольера и, в сущности, самое его жизнь. Это не случайные совпадения, а проявление константных отношений, обнаруживающихся между героями Булгакова.
Биографические сведения об октябре 1929 г., когда была начата работа над «Мольером», скудны. В Москве еще оставался Замятин, постоянно посещавший Горького в связи со своими делами. 24 октября он сообщил жене, что накануне вечером был «у Михаила Афанасьевича. У него какие-то сердечные припадки, пил валерьянку, лежал в постели», и что назавтра оба они собираются в гости к Р. Симонову (актеру театра Вахтангова).
2.
В это лето и осень начала распадаться пречистенская среда.
420
Летом 1929 г., рассказывала Н. К. Шапошникова, Б. В. Шапошников и С. С. Заяицкий со своими семьями жили под Полтавой. Приехала знакомая из Москвы, предупредила, что опечатан кабинет Бориса Валентиновича. Он решил ехать в Москву один; договорились, что если все хорошо — он сообщает жене, если не возвращается — Тата Ушакова пришлет телеграмму, что Наталье Казимировне надо выезжать. В один из последующих дней Сергей Сергеевич сказал: « — По-моему, Вам несут хорошую телеграмму». Действительно, телеграмма гласила: «Жив-здоров, задержусь на две недели». В эти дни Шапошникова предупредили: «Все равно Вам придется уехать». Поздней осенью, в ночь с 27 на 28 октября сразу трое пречистенцев вынуждены были покинуть свои дома, расположенные в немногих минутах ходьбы друг от друга: Б. В. Шапошников, Ф. А. Петровский (он жил на улице Грановского) и С. С. Топленинов. Такой была эта осень.
Жена Топленинова, М. Г. Нестеренко, рассказывала, что в этот вечер они танцевали у каких-то друзей. «Мы еще возили с собой патефончик Владимира Эмильевича Морица — чтобы не усаживать никого за рояль. И вот когда приехали — обнаружили, что Сережа оставил его на извозчике: он был у него за спиной... Мы приехали с вечеринки поздно, часа в 2—3 ночи, а Сережу уже ждали — наверху у его матери.
Утром прибегает Наталья Казимировна:
— Борю забрали!
— Сережу тоже!
— Ну вот — я к тебе прибежала, чтоб ты меня утешила!...»
Шапошников был выслан в Великий Устюг, остальные тоже в города европейской части. Через год-два они вернулись, но семья Топлениновых распалась — Сергей Сергеевич вернулся с другой женщиной; Мария Георгиевна переехала в Ленинград, а он вновь водворился в свой полуподвальчик. О подвальчике этом, как называла его М. Г. Нестеренко, скажем подробней — ее словами.
«С Булгаковым я познакомилась в 1926 году — Топленинов стал знакомить меня со своей компанией еще раньше, чем мы поженились. Я была не только на премьере «Дней Турбиных», но даже на генеральной — мне Мака сам давал билеты... Мы поселились в Мансуровском, в полуподвальчике (весь дом принадлежал Топлениновым). Когда входишь с улицы во дворик, сначала проходишь три наши окна. И я всегда знала по башмакам, по каблукам ко мне идут
421
или нет. Заворачивали за один угол, потом за другой, 6—7 ступенек вели вниз — в переднюю. Тут раздевались. Слева была печка, рядом с ней — большой фарфоровый белый умывальник. Это все оборудовал Сергей Сергеевич, когда мы поселились, и сам достал этот умывальник и действительно очень им гордился — все ведь умывались тогда в общих кухнях, ваннах, а у нас умывальник был свой. В комнате были два окна, овальный стол, вокруг него стулья. Русская печь; она всегда топилась, было тепло и все говорили, что у нас очень уютно. Вторая комната была спальня, моя кровать была у самой печки... Когда Сережу выслали, Лямины и Булгаков приходили ко мне — вчетвером играть в винт. Они уходили вместе, а он потом обычно возвращался». В эту тяжелую, безрадостную осень Булгакова тянуло в этот дом, полуподвальчик, к веселой, несмотря на невзгоды, и очень привлекательной Марусе Нестеренко. Отношения были легкие, ни к чему обоих не обязывающие. По-видимому, он бывал здесь до зимы — в начале 1930 г. Маруся переехала в Ленинград.
Добавим, что через несколько месяцев после осенних арестов был арестован и В. Э. Мориц — по дороге из дома на службу в ГАХН; разгром Государственной академии художественных наук завершился в течение полугода.
«Когда Академию прикрыли осенью 1929 года, в начале 1930 г. состоялась чистка Президиума ГАХН, — писала в своих воспоминаниях тридцать с лишним лет спустя лингвист Аполлинария Константиновна Соловьева, — я присутствовала на чистке. Петр Семенович Коган, занимавший должность президента ГАХН и сам подлежавший чистке, со строгим словом обратился к Г. Г. Шпету. Наталия Ильинична Игнатова (дочь известного народовольца, позже — редактора газеты «Русские ведомости» И. Н. Игнатова. — М. Ч.) укорила за это Петра Семеновича — по существу доброго деликатного человека. Но 1) «строгого» слова, очевидно, требовала обстановка, а 2) в мировоззрении Шпета, — пишет автор воспоминаний, пройдя уже многолетний курс общественного перевоспитания, — действительно были моменты преклонения перед западно-европейской культурой, мешавшие ему проникнуть в самый смысл Октябрьской революции. Дружба между П. С. Коганом и Г. Г. Шпетом осталась неизменной до смерти Петра Семеновича. 4 мая 1932 года в день похорон Петра Семеновича Густав Густавович вел под руку его жену Надежду Александровну от дома, где жил Петр Семенович (в Левшинском переулке), до ворот Новодевичьего кладбища».
422
![]() Эта среда играла до поры
до времени немалую роль в жизни Булгакова. Разносторонне образованные, веселые,
жизнелюбивые люди составляли с юных лет одну компанию, в которую они — одни
охотно, другие со сдержанностью, с некоторым снобизмом выходцев из богатой
столичной среды по отношению к провинциалу приняли Булгакова. Те, кто были
частью этой среды, вспоминают о разных биографиях этих людей и об их во многом
общей судьбе. Братья Ярхо не были женаты; Григорий Исаакович пояснял: «В настоящее
время я не так богат, чтобы обеспечить жене необходимые жизненные условия», по
слухам, «имел содержанку» и галантно ухаживал за всеми дамами своего круга;
Борис Исаакович «не афишировал своей личной жизни». Он был известным
остроумцем, сыпал эпиграммами. Когда ездил в Сербию, то, вернувшись, объявил:
Эта среда играла до поры
до времени немалую роль в жизни Булгакова. Разносторонне образованные, веселые,
жизнелюбивые люди составляли с юных лет одну компанию, в которую они — одни
охотно, другие со сдержанностью, с некоторым снобизмом выходцев из богатой
столичной среды по отношению к провинциалу приняли Булгакова. Те, кто были
частью этой среды, вспоминают о разных биографиях этих людей и об их во многом
общей судьбе. Братья Ярхо не были женаты; Григорий Исаакович пояснял: «В настоящее
время я не так богат, чтобы обеспечить жене необходимые жизненные условия», по
слухам, «имел содержанку» и галантно ухаживал за всеми дамами своего круга;
Борис Исаакович «не афишировал своей личной жизни». Он был известным
остроумцем, сыпал эпиграммами. Когда ездил в Сербию, то, вернувшись, объявил:
И вот в страну, где серп и молот,
Я возвратился, серб и молод!
Были у него и более рискованные остроты: «Нет, с электрификацией ничего не выйдет — на каждую лампочку Ильича найдется выключатель Виссарионыча!»
Когда встречали 1928-й год у братьев Петровских (на улице Грановского, дом 2), где собралась вся гахновская компания, он произнес тост:
Кому с тоской в груди
Мы шепчем десять лет:
«Уйди-уйди-уйди», *
Пусть в нынешнем году
Нам прокричит в ответ:
«Уйду-уйду-уйду!» Впрочем, остроумцев в этой среде было немало. «Однажды Наташа Венкстерн написала Булгакову на книжке, — продолжает свой рассказ М. В. Вахтерева: — «Не прелюбы сотвори» (одна из библейских заповедей). А В. Н. Долгоруков сказал: «Надо бы — «Не при Любе сотвори...». Они были связаны друг с другом если не родством так свойством или иными тесными связями. В. Д. Долгоруков был женат на первой жене С. В. Шервинского, В. Э. Мориц — на первой жене H. H. Лямина. Петр Александрович Туркестанов был женат на Наталье Дмитриевне Истоминой (брат ее Петр Дмитриевич был похож на великого князя — за это его, по сохранившимся легендам, не раз сажали...), а на его сестре был женат известный шекспировед M. M. Мо-
* Свистулька «уйди-уйди» продавалась на всех московских перекрестках. — М. Ч.
423
розов... Но темные тени чем дальше, тем больше ложились на эту среду. После сравнительно недолгого пребывания В. Д. Долгорукова в заключении (оттуда его будто бы вызволили при помощи отца братьев Шервинских, известнейшего в Москве врача, лечившего на своем веку разных пациентов — от И. С. Тургенева до кремлевских жителей; через него же хлопотали об Анастасии Петрово-Соловово, жене Л. В. Горнунга), его не очень охотно принимали в некоторых домах, да и сам он стал домоседом...
Лев Владимирович Горнунг в апреле 1970 г., передавая в Отдел рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина материалы своей жены, Анастасии Васильевны Петрово-Соловово, внучатой племянницы Сухово-Кобылина, правнучки князя Алексея Щербатова, рассказывал, как она была арестована в 1930-м году, выслана на три года (во время ареста погибли ее дневники, письма родителей, два тома воспоминаний матери) . Он рассказывал еще об одном человеке, которого хорошо знали обитатели Пречистенки, — о Павле Сергеевиче Шереметеве, человеке, на котором прекращался знаменитый в России род Шереметевых: «Мать его была урожденная Вяземская, ей принадлежало имение в Остафьеве. Он был хранителем усадьбы Остафьево; когда Луначарский и его жена Розенель захотели жить в Остафьеве — Шереметева срочно выселили в Новодевичью башню, филиал Исторического музея. Всю башню ему отдали... Тогда в Москве отсутствие усадьбы (т. е. в общественном культурном обиходе. — М. Ч.) было очень заметно, но об этом молчали». Автор анонимных мемуаров об окружении Булгакова также упоминает этого человека: «...В Новодевичьем монастыре, в одном из бывших, кажется, пристенных служебных помещений с появившимися после революции как приют для разного рода жителей многочисленными деревянными <...> пристройками, надстройками и лестницами, которые совершенно изменили вид красавца-монастыря. <…>, в маленькой и полутемной комнатке жил Шереметев, представитель одного из знатнейших русских боярских родов <...>. Как его звали? У него уже не было имени. Когда-то его прапрадед основал в Москве странноприимный дом (богадельню), в котором теперь помещается больница скорой помощи им. Склифосовского <...> Булгаков много раз мог видеть на Большой Пироговской да и на Пречистенке странную фигуру Шереметева, этого экстравагантного московского жителя. В пречистенско-остоженских переулках жили его родственники Голицыны».
Были истории трагические — жена Морозова, краса-
424
вица Туркестанова, сразу из тюрьмы была отправлена в психиатрическую лечебницу и уже не вышла оттуда. С ним же разыгралась в одном из самых близких ему «пречистенских» — у Ляминых — домов «чудовищная», по определению рассказывавших нам о ней Н. А. Ушаковой и М. В. Вахтеревой, история. При всем собрании гостей он ударил по лицу Наталью Алексеевну Габричевскую (ту, про которую Б. И. Ярхо сложил двустишие: «Всех на свете женщин краше Габричевская Наташа...»). На него кинулись А. Г. Габричевский и H. H. Лямин, вытолкали из квартиры и спустили с лестницы. Больше в этих домах он уже не бывал. А много лет спустя, встретив Н. А. Габричевскую в Коктебеле, он спросил ее: «Неужели Вы не поняли, зачем я это сделал?..» И пояснил, что ему было нужно именно чтобы он публично был изгнан из милого дома. «А среди гостей, — добавил он еще одну (ужасавшую рассказчиц и до сего дня) подробность, — находился человек, который мог это происшествие, где нужно, подтвердить...»
Но вернемся к делам литературным (хотя и рассказанное только что возымеет со временем отношение к литературе) .
Немалую роль сыграл в тот год в судьбе Булгакова Ф. Ф. Раскольников, общественный вес которого сильно повысился — он сменил Воронского на посту редактора столь важного в литературной жизни журнала, как «Красная новь», и в одном из первых интервью, данных «Вечерней Москве», пообещал напечатать в одном из ближайших номеров разгромную статью о Булгакове. Кроме того, он стал, как уже говорилось, весьма ответственным лицом в Главреперткоме.
Неудачное стечение обстоятельств заключалось еще и в том, что Раскольников сам стремился выступить в качестве драматурга. Можно думать, слава булгаковских пьес вплеталась каким-то образом в мотивы (быть может, скрытые от него самого) тех решений о запрещении этих пьес, которые принимались при его участии.
МХАТ готовил постановку «Воскресения» Л. Толстого по инсценировке, сделанной Раскольниковым. Ставил И. Судаков; Горький в письме от 25 сентября 1930 года дал инсценировке снисходительно-кислую оценку. Проходили авторские читки его пьесы «Робеспьер». С одной из этих читок связан примечательнейший эпизод. Сохранилась сделанная Е. С. Булгаковой запись рассказа Булгакова об этом чтении — на одном из Никитинских субботников. Конечно, читая запись, сделанную по памяти (но, несомненно, весьма
425
близко к тексту того рассказа-показа, который, по обыкновению Булгакова, наверняка несколько раз повторялся и запомнился ей до мелочей именно как театральное действо, которое она умела видеть со всеми мелочами и умела запоминать) , надо иметь в виду неизбежно гротескный характер устных рассказов Булгакова, приближавшихся к гротескным страницам его прозы. Поэтому предоставляем читателям мысленно освободить сам эпизод от преувеличений, приданных ему и блестящим рассказчиком, и темпераментной мемуаристкой.
«Публики собралось необыкновенно много, причем было несколько худруков, вроде Берсенева, Таирова, еще кое-кого — забыла. Актеры были — из подхалимов.
Миша сидел крайним около прохода ряду в четвертом, как ему помнится.
Раскольников кончил чтение и сказал после весьма продолжительных оваций:
— Теперь будет обсуждение? Ну, что ж, товарищи, давайте, давайте...
Сказал это начальственно-снисходительно. И Миша тут же решил выступить, не снеся этого тона. Поднял руку.
— Берсенев Иван Николаевич, Александр Яковлевич Таиров... —перечислял и записывал ведущий собрание человек. — ... (не помню — кто был третьим)... Булгаков... (человек сказал несколько боязливо). ...(дальше пошли другие, поднявшие руки).
Начал Берсенев.
— Так вот, товарищи... мы только что выслушали замечательное произведение нашего дорогого Федора Федоровича! ( Несколько подхалимов воспользовались случаем и опять зааплодировали). Скажу прямо, скажу коротко. Я слышал в своей жизни много потрясающих пьес, но такой необычайно подействовавшей на меня, такой... я бы сказал, перевернувшей меня, мою душу, мое сознание... — нет, такой — я еще не слышал! Я сидел, как завороженный, я не мог опомниться все время... мне трудно говорить, так я взволнован! Это событие, товарищи! Мы присутствуем при событии! Чувства меня... мне... мешают говорить! Что я могу сказать? Спасибо, низкий поклон вам, Федор Федорович! (И Берсенев поклонился низко Раскольникову под бурные овации зала).
(Да, а Раскольников, сказав: давайте, давайте, товарищи... — сошел с эстрады и сел в третьем ряду, как раз перед Мишей).
— Следующий, товарищи! — сказал председатель собрания. — А! Многоуважаемый Александр Яковлевич!
426
И Таиров начал, слегка задыхаясь:
— Да,
товарищи, нелегкая задача — выступить с оцен кой такого произведения, какое нам
выпала честь слышать сейчас! За свою жизнь я бывал много раз на
обсуждении пьес Шекспира, Мольера, древних Софокла, Эврипида... Но, товарищи, пьесы эти, при всем том, что они,
конечно, великолепны, — все же как-то далеки от нас! (Гул в зале: пьеса-то тоже несовременная!...) Товарищи!! Да! Пьеса несовременная,
но! Наш дорогой Федор Федорович именно гениально сделал то, что, взяв несовременную
тему, он разрешает ее таким неожиданным образом, что она
становится нам необыкновенно близкой, мы
как бы живем во время Робеспьера, во время французской революции! (Гул, но слов разобрать невозможно). Товарищи! Товарищи!! Пьеса нашего любимого Федора Федоровича — это
такая пьеса, поставить которую будет
величайшим счастьем для
всякого театра, для всякого режиссера! (И Таиров, сложив руки крестом на
груди, а потом беспомощно разведя руками,
пошел на свое место под еще более бурные овации подхалимов).
Затем выступил кто-то третий и сказал:
— Я, конечно, вполне присоединяюсь к предыдущим ораторам в их высокой оценке пьесы нашего многоуважаемого Федора Федоровича! Я только поражен, каким образом выступавшие ораторы не заметили главного в этом удивительном произведении?! Языка!! Я много в своей жизни читал замечательных писателей, я очень ценю, люблю язык Тургенева, Толстого! Но то, что мы слышали сегодня — меня потрясло! Какое богатство языка! Какое разнообразие! Какое — я бы сказал — своеобразие! Эта пьеса войдет в золотой фонд нашей литературы хотя бы по своему языковому богатству! Ура! (Кто-то подхватил, поднялись аплодисменты).
— Кто у нас теперь? — сказал председатель, — ах, товарищ Булгаков! Прошу!
Миша встал, но не сошел со своего места, а начал говорить, глядя на шею Раскольникова, сидящего, как известно, перед ним.
— Дда... Я внимательно слушал выступления предыдущих ораторов... очень внимательно... (Раскольников вздрогнул). Иван Николаевич Берсенев сказал, что ни одна пьеса в жизни его не взволновала так, как пьеса товарища Раскольникова. Может быть, может быть... Я только скажу, что мне искренно жаль Ивана Николаевича, ведь он работает в театре актером, режиссером, художественным ру-
427
ководителем, наконец, — уже много лет. И вот, оказывается, ему приходилось работать на материале, оставлявшем его холодным. И только сегодня... жаль, жаль... Точно так же я не совсем понял Александра Яковлевича Таирова. Он сравнивал пьесу товарища Раскольникова с Шекспиром и Мольером. Я очень люблю Мольера. И люблю его не только за темы, которые он берет для своих пьес, за характеры его героев, но и за удивительно сильную драматургическую технику. Каждое появление действующего лица у Мольера необходимо, обосновано, интрига закручена так, что звена вынуть нельзя. Здесь же, в пьесе т. Раскольникова (шея Раскольникова покраснела) ничего не поймешь, что к чему, почему выходит на сцену это действующее лицо, а не другое. Почему оно уходит? Первый акт можно свободно выбросить, II-й переделать... Как на даче в любительском спектакле!
Что же касается языка, то мне просто как-то обидно за выступавшего оратора, что до сих пор он не слышал лучшего языка, чем в пьесе т. Раскольникова. Он говорил здесь о своеобразии. Да, конечно, это своеобразный язык... вот, позвольте, я записал несколько выражений, особенно поразивших меня... «он всосал с молоком матери этот революционный пыл».
Да... Ну, что ж бывает. Не удалась.
После этого, как говорил Миша, произошло то, что бывает на базаре, когда кто-нибудь первый бросил кирпич в стену. Начался бедлам. Следующие ораторы предлагали действительно выкинуть какие-то сцены, действующих лиц.
Собрание закончилось. Шея у Раскольникова стала темно-синей, налилась, Миша поднялся и направился к выходу. Почувствовав на спине холодок, обернулся и увидел ненавидящие глаза Раскольникова. Рука его тянулась к карману. М(иша) повернулся к двери. «Выстрелит в спину?»
Нам удалось найти документальное освещение всего эпизода, подтверждающее верность основной канвы рассказа.
Это происходило на юбилейном заседании «Никитинских субботников». Оно началось 16 ноября 1929 года с сообщения Е. Ф. Никитиной об исполнившемся пятнадцатилетии «Субботников». Прочитала стихотворение, посвященное «Субботникам», Вера Инбер. После этого Ф. Ф. Раскольников прочел свою трагедию «Робеспьер».
Первый же из выступавших (Л. С. Лозовский), как свидетельствует запись, делавшаяся во время заседания, сказал: «Пьеса представляет большое событие — это первое
428
приближение к большому театральному полотну. Наибольшая трудность — передача духа эпохи — преодолена автором. Сцена в Конвенте сделана неподражаемо. Единственный дефект — некоторое падение интереса в двух последних картинах...»
Сергей Городецкий говорил: «Главная трудность в поставленной автором задаче — не написать исторической пьесы — и главное, что удалось — это сделать пьесу глубоко современной, несмотря на исторический смысл и исторические фигуры. Вся вещь сделана в условном плане, стиль ее — ораторский. И это не недостаток — если бы автор взял натуралистические тона, вещь не дошла бы до слушателя. Кроме некоторых моментов, декламационный стиль чрезвычайно целен...»
Именно после Городецкого взял слово Булгаков. Речь его записана одним из слушателей следующим образом (очень близко по тональности к тому, как она воспроизводилась впоследствии им самим): «Совершенно несогласен с Л. С. Лозовским и другими ораторами. С драматической и театральной стороны пьеса не удалась, действующие лица ничем не связаны, нет никакой интриги. Это беллетристическое произведение. Фигуры неживые. Женские роли относятся к той категории, которую в театрах называют «голубыми» ролями, действия нет».
И действительно — дальнейшее обсуждение сразу приобрело иной характер. Посыпались критические замечания. Один из выступавших (Н. Г. Виноградов) закончил свою речь так: «Пьеса еще находится в процессе работы — ряд дефектов, которые в ней есть, вполне поддаются исправлению», другой утверждал: «В пьесе дана только внешняя трагичность — ни глубины, ни анализа положения Робеспьера в ней нет». С. И. Малашкин стремился вернуть обсуждение на нужную стезю: «Сцена с рабочими производит громадное впечатление. Пьеса ценна тем, что она связана с современностью. Это большое произведение, напоминающее «Юлия Цезаря» Шекспира». Но выступающий вслед за ним В. М. Волькенштейн утверждал: «Технически пьеса не вполне сделана», а В. М. Бебутов резюмировал происходящее — «Впечатление от пьесы и отзывов о ней хаотическое» — и соглашался с Булгаковым: «Женские образы действительно несколько «голубые». Экспозиция включает так много материала эпохи, что задыхаешься. Надо несколько просветлить первые акты, иначе восприятие будет очень затруднено».
А. Я. Таиров: «Работа Ф. Ф. еще не закончена. Робеспьер не показан ни в глубину, ни в ширину. ...Это не трагедия, а
429
скорее хроника, в которой события изложены в хронологической последовательности...» Ф. Н. Каверин: «Лучшие места в роли Робеспьера не даны автором. Фокусники во втором акте вовсе не нужны. Затем неизвестно,почему все нужные автору люди собираются на бульваре. Надо, чтобы автор больше полюбил театр, захотел, чтобы актеру было что играть в пьесе. Пьесу нужно сократить до размеров трехактной». М. В. Морозов закончил обсуждение и вовсе обескураживающей нотой: «Непонятно, почему погибает Робеспьер и откуда его сила. Так как не дана увязка Робеспьера с революцией, не получилось и трагедии».
Легко представить себе, как поражен был герой вечера непримиримой резкостью выступления, повернувшего ход обсуждения, — ведь эту позицию занял человек, у которого вылетели из репертуара все пьесы. Мало того — в этих обстоятельствах он заканчивал новую пьесу, судьба которой вот-вот должна была стать в зависимость именно от Ф. Ф. Раскольникова!
Для того чтобы читатель мог представить себе, какую глубинную неприязнь должен был вызывать Булгаков — не только своим творчеством, но складом личности, манерой поведения — у этого человека, процитируем письма Раскольникова 1923 года к Ларисе Рейснер. В письме от 9 мая он обронивает, обсуждая личный сюжет, характерную фразу по поводу возможного соперника: «Я не остановлюсь перед тем, чтобы скрутить ему руки на лопатках и за шиворот представить по начальству перед высоким судилищем трибунала». В следующем письме он так характеризует С. А. Колбасьева, работающего с ним вместе в Кабуле (переводчиком в советском посольстве) : «Переводит он ничего, а как человек — неприятный. Слишком силен сахариновый привкус «Дома литераторов» и гнусной гумилевщины. Вообще ничего менее подходящего нельзя было выбрать для Афганистана. Самое замечательное это то, что он настолько принюхался к собственной вони, что своего белогвардейского душка даже не обоняет, испуская его без всякой задней мысли, что называется, походя» (29 мая 1923). С. Колбасьев кончал Морской кадетский корпус, и, несмотря на то, что в годы гражданской войны он командовал дивизионом миноносцев, для Раскольникова это не отбивает его «белогвардейского душка», для него Колбасьев — поэт петербургской складки, облученный «гумилевщиной» — весьма значимым для автора писем понятием, и, конечно, не только по личным мотивам (он знал о романе Ларисы Рейснер с Гумилевым за несколько лет до гибели поэта) ; «К сожале-
430
нию — гумилевщина это яд, которым заражены даже некоторые ответственные коммунисты», — сообщает он свои горестные наблюдения (20 окт. 1923). «Гнилой дух «гумилевщины», который он носит с собой, заражает воздух <...> этого лодыря, до мозга костей развращенного и извращенного «Домом литераторов» <...> эта распустившаяся сволочь <...> Органический белогвардеец, не по убеждениям, а по духу, по настроению, он в то же время обладает всеми отвратительными чертами деклассированного интеллигента» (25 июня).
Человек, умеющий так дифференцировать разные проявления «белогвардейского», не мог не увидеть и несколько лет спустя «органического белогвардейца» в Булгакове (которого многое могло сближать с С. Колбасьевым).
6 декабря была закончена первая (рукописная) редакция пьесы о Мольере, названной «Кабала святош». По той же мемуарной записи Елены Сергеевны, Булгаков «попросил, чтобы я перевезла на Пироговскую свой ундервуд. Начал диктовать...» По-видимому, именно первое знакомство ее с пьесой отмечает дарственная надпись на парижском издании «Белой гвардии», сделанная 7 декабря: «Милой Елене Сергеевне. Тонкой и снисходительной ценительнице. Михаил Булгаков». В этот же день Драмсоюз дает Булгакову справку «для представления Фининспекции в том, что его пьесы: 1. „Дни Турбиных", 2. „Зойкина квартира", 3. „Багровый остров", 4. „Бег" запрещены к публичному исполнению»; дана ссылка на Репертуарный указатель Главного комитета по контролю за репертуаром за 1929; подпись члена правления Ю. Потехина (старого знакомца). Все надежды в эти дни возлагаются автором на новую пьесу.
Уже 28 декабря в письме брату Николаю появляется постскриптум: «Положение мое тягостно», дающий представление о предновогоднем настроении драматурга, сделавшего решительную попытку вернуться в театр.
16 января 1930 года Булгаков пишет брату: «Сообщаю о себе: все мои литературные произведения погибли, а также и замыслы. Я обречен на молчание и, очень возможно, на полную голодовку. В неимоверно трудных условиях во второй половине 1929 г. я написал пьесу о Мольере. Лучшими специалистами в Москве она была признана самой сильной из моих пяти пьес. Но все данные за то, что ее не пустят на сцену. Мучения с нею продолжаются уже полтора месяца, несмотря на то, что это — Мольер, 17-й век, несмотря на то, что современность в ней я никак не затронул.
431
Если погибнет эта пьеса, средства спасения у меня нет — я сейчас уже терплю бедствие. Защиты и помощи у меня нет. Совершенно трезво сообщаю: корабль мой тонет, вода идет ко мне на мостик.
Нужно мужественно тонуть. Прошу отнестись к моему сообщению внимательно».
Открытость формулировок в письмах к брату, начиная с лета, для него, видимо, принципиально важна; — он прямо ориентируется на возможную перлюстрацию. Этому соответствует и тон всех его заявлений этого года — очень коротких, не анализирующих ситуацию, а констатирующих ее результат и настойчиво требующих ее разрешения. Отметим при этом, что как главный аргумент оформляется постепенно невозможность обеспечить свою жизнь — в письме к Горькому от 3 сентября появляется даже старомодная формулировка «я разорен», в заявлении на имя А. Енукидзе от того же числа говорится о «материальной катастрофе» и т. п. Это важно для понимания его последующих действий.
По-видимому, 19 января 1930 года в Москву приезжает Замятин — и, как всегда, тут же ищет встречи с Булгаковым (в тот же день он пишет жене: «Мих<аил> Аф<анасьевич> живой, я ему звонил, дома его не было»). Все дни он проводит по большей части с Пильняком, с осени 1929 года — его товарищем по несчастью, он 25 января пишет жене: «к 5 часам иду обедать к Мих<аилу> Аф<анасьевичу>»; в конце письма — приписка рукою Булгакова: «Дорогая Людмила Николаевна. Посылаю Вам привет из Москвы».
Вести о пьесе «Кабала святош» дошли и до Станиславского, лечившегося и отдыхавшего в ту зиму в Ницце. «Пьеса Булгакова — это очень интересно, — пишет он 10 февраля Л. М. Леонидову и беспокоится: — Не отдаст ли он ее кому-нибудь другому? Это было бы жаль».
11 февраля Е. Замятин пишет жене (из Москвы в Ленинград): «Вечером, должно быть, буду в Драмсоюзе, где Михаил Афанасьевич читает свою новую пьесу».
Тон писем к брату, ставших по истечении полувека главными источниками, документирующими биографию Булгакова зимы 1929—1930 годов, остается, однако, прежним: 21 февраля Булгаков резюмирует: «Я свою писательскую задачу в условиях неимоверной трудности старался выполнить как должно. Ныне моя работа остановлена. Я представляю собою сложную (я так полагаю) машину, продукция которой в СССР не нужна. Мне это слишком ясно доказывали и доказывают еще и сейчас по поводу моей пьесы о Молье-
432
ре. По ночам я мучительно напрягаю голову, выдумывая средства к спасению.
Но ничего не видно. Кому бы, думаю, еще написать заявление?..» Эти письма, повторим, играют роль и кратких исповедей, и деклараций — одновременно.
Как можно видеть из них, Булгаков не теряет энергии и надежды, не перестает изыскивать действенные средства борьбы со своими литературными и театральными противниками.
18 марта 1930 года оказалось днем, поставившим Булгакова вплотную перед поисками этих средств.
3
Через десять дней, в письме, ставшем весьма важной акцией, Булгаков вспомнит напечатанную за полгода перед тем статью критика Пикеля, который «высказал либеральную мысль: «Мы не хотим этим сказать, что имя Булгакова вычеркнуто из списка советских драматургов» и «обнадежил зарезанного писателя словами, что «речь идет о его прошлых драматургических произведениях».
Однако, — пишет далее Булгаков, — жизнь, в лице Главреперткома, доказала, что либерализм Р. Пикеля ни на чем не основан.
18 марта 1930 года я получил из Главреперткома бумагу, лаконически сообщающую, что не прошлая, а новая моя пьеса «Кабала святош» («Мольер») к представлению не разрешена. (Последние четыре слова напечатаны в письме крупными буквами. — М. Ч.).
Скажу коротко: под двумя строчками казенной бумаги погребены — работа в книгохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая от квалифицированных театральных специалистов бесчисленные отзывы — блестящая пьеса.
Р. Пикель заблуждается. Погибли не только мои прошлые пьесы, но и настоящие, и все будущие. И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр».
Все мои вещи безнадежны.»
...В эти дни Раскольников пишет Горькому уже из Ревеля: «Шлю Вам сердечный привет из Эстонии, где я нахожусь всего только две недели. Я очень доволен, что ушел из Главискусства, п. ч. сказать по правде, эта административная работа меня не удовлетворяла. Искусством очень приятно наслаждаться, но им неприятно руководить. Меня гораздо больше влечет к себе политическая работа в области
433
международной политики и творчество, литература...» (22 марта 1930 года).
Кадровые перемещения в переломное время — 1929— 1930 гг. — были частью крупной политической игры, но никак не ослабляли давления на литературу, напротив — оно неуклонно увеличивалось; нет ничего наивнее, как связывать это давление со злой волей того или иного критика или партбюрократа.
Вернемся к письму Булгакова.
Что это было за письмо?
Много лет спустя, в январе 1956 г. Е. С. Булгакова рассказывала историю письма своему старшему сыну, майору Е. Е. Шиловскому, а после его ухода записала то, что рассказывала, в свой дневник. «Когда я с ним познакомилась (28 февраля 1929 г.) — у них было трудное материальное положение. Не говорю уже об ужасном душевном состоянии М. А. — все было запрещено... на работу не брали не только репортером, но даже типографским рабочим. Во МХАТе отказали, когда он об этом поставил вопрос. Словом, выход один — кончать жизнь.
Тогда он написал письмо Правительству. Сколько помню, разносили мы их (а печатала ему эти письма (т. е. ряд экземпляров одного письма. — М. Ч.) я, несмотря на жестокое противодействие Шиловского) по семи адресам. Кажется, адресатами были: Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Ягода, Бубнов (Нарком тогда просвещения) и Ф. Кон (с Ф. Я. Коном, членом ЦИК, Булгаков был знаком лично, не раз обращался к нему с просьбами; как раз незадолго до описываемых дней Ф. Кон прислал ему письмо от 15 марта со своей деловой просьбой. — М. Ч.). Письмо в окончательной форме было написано 28/Ш, а разносили мы его 31 и 1 апреля...
3 апреля, когда я как раз была у М. А. на Пироговской, туда пришли Ф. Кнорре и П. Соколов — (первый, кажется, завлит ТРАМа, а второй — директор) с уговорами, чтобы М. А. поступил режиссером в ТРАМ. Я сидела в спаленке, а М. А. их принимал у себя в кабинете. Но ежеминутно прибегал за советом. В конце концов я вышла, и мы составили договор, который я и записала, о поступлении М. А. в ТРАМ. А 18-го апреля часов в 6—7 вечера он прибежал, взволнованный, в нашу квартиру (с Шиловским) на Большом Ржевском и рассказал следующее».
Прервем на этом месте воспоминания Е. С. Булгаковой и расскажем кратко о содержании письма. Оно было обширным и разбито было на 11 разделов. Начиналось оно так:
434
«Я обращаюсь к Правительству СССР со следующим письмом» и далее шел 1-й раздел: «После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет. Сочинить «коммунистическую пьесу» (в кавычках я привожу цитаты), а, кроме того, обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик.
Цель: спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале.
Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед Правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заранее, что такая пьеса у меня не выйдет.
Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляет меня обратиться к Правительству СССР с письмом правдивым».
Далее следовали примеры из отзывов критики, образцы которых уже приводились нами ранее. «Спешу сообщить, что цитирую я отнюдь не с тем, чтобы жаловаться на критику или вступать в какую бы то ни было полемику. Моя цель гораздо серьезнее. Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литературной работы единодушно и с необыкновенной яростью доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать». Письмо было обстоятельным, энергичным и откровенным в очень большой мере. Цитируя тех, кто писал, что «Багровый остров» — «призыв к свободе печати», Булгаков писал: «Я в этом сознаюсь. Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она не существовала, мой писательский долг, так же, как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если бы кто-нибудь из писателей задумывал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода». При оценке меры открытости этого письма нужно иметь в виду, что Булгаков мог предполагать, что после знакомства разных лиц с его записями о текущей современности 1921—1926 годов ему, в сущности, нечего и незачем скрывать.
435
Ничуть не менее, однако, надо иметь в виду и другое — если бы к моменту писания письма Булгакову было что сказать нового, то ему представлялся для этого прекрасный случай («За эти годы я понял» и т. д.) И цена слов — «...глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции» — не уменьшается, а возрастает именно в виду той особой ситуации, в которой писалось письмо. Слова эти недвусмысленно показывают, что за десять с лишним лет, протекших с первого печатного выступления Булгакова, его взгляд на перевернувшие жизнь страны события принципиальных изменений не претерпел — что резко отличило его от многих соотечественников.
В шестом разделе письма автор констатировал: «Мой литературный портрет закончен и он же есть политический портрет. Я не могу сказать, какой глубины криминал можно отыскать в нем, но я прошу об одном: за пределами его не искать ничего. Он исполнен совершенно добросовестно». А в разделе 8 просил адресата «принять во внимание, что я не политический деятель, а литератор, и что всю мою продукцию я отдал советской сцене», а также то, «что невозможность писать равносильна для меня погребению заживо». Обращаясь к «гуманности советской власти», автор просил: «меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу». И следующий, 11-й раздел, гласил: «Если же и то, что я написал, неубедительно, и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу Советское Правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера». Автор письма пояснял: «Я именно и точно и подчеркнуто прошу о категорическом приказе о командировании, потому что все мои попытки найти работу в той единственной области, где я могу быть полезен СССР как исключительно квалифицированный специалист, потерпели полное фиаско. Мое имя сделано настолько одиозным, что предложение работы с моей стороны встретило испуг, несмотря на то, что в Москве громадному количеству актеров и режиссеров, а с ними и директорам театров, отлично известно мое виртуозное знание сцены.
Я предлагаю СССР совершенно честного, без всякой тени вредительства, специалиста режиссера и автора, который берется добросовестно ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и вплоть до пьес сегодняшнего дня.
Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером
436
в 1-й Художественный театр — в лучшую школу, возглавляемую мастерами К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко.
Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя — я прошусь на должность рабочего сцены.
Если же и это невозможно, я прошу Советское Правительство поступить со мной как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня, драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо в данный момент — нищета, улица и гибель». Далее стояло, как всегда в эпистолярии Булгакова, указание города, где писался текст, и дата.
За последние пятнадцать лет письмо многократно цитировалось и в предисловиях к изданиям Булгакова, а в 1987 году было наконец опубликовано полностью. Сегодня, когда мы знаем продолжение истории (к изложению которого и перейдем дальше), нельзя не заметить некоторую неясность в построении письма — несомненно, интенсивно обдумывавшегося на протяжении, по-видимому, десяти дней (с 18 марта) и, казалось бы, тщательно выстроенного. А именно — в письме как бы не присутствует, проваливается между двумя энергично намеченными автором выходами (изгнание — и работа режиссером) третий выход, о котором, скорей всего, тоже думал автор на протяжении всей работы над текстом, — возможность литературной работы здесь, в отечестве.
Остается предполагать, что автору письма казалось, что этот выход сам собой явствовал из его рассказа о всех перипетиях своей театральной судьбы. Возможно, сама литературная увлеченность этим рассказом помешала ему ясно сформулировать свои надежды, требования, просьбы. Эта некоторая слабость построения текста была, нам кажется, замечена одним из адресатов письма — тем, кто прямо участвовал в тех самых резких оценках пьес Булгакова, примеры которых он приводил в своем письме, мало того — оценкам которого и был далеко не в последнюю очередь обязан драматург плачевной участью «Бега» и «Багрового острова».
Продолжим прерванные нами воспоминания Е. С. Булгаковой о том, что рассказал ей Булгаков вечером 18 апреля (обращаем особое внимание читателя на ремарки, помогающие понять состояние Булгакова в момент разговора: «Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок и Люба его подозвала, сказав, что из ЦК спрашивают. М. А. не поверил, решил, что это розыгрыш
437
(тогда это проделывалось) и, взъерошенный, раздраженный, взялся за трубку и услышал:
— Михаил Афанасьевич Булгаков?
— Да, да.
— Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить.
— Что? Сталин? Сталин?
И тут же услышал голос с явным грузинским акцентом». После слов взаимного приветствия и обещания, что Булгаков будет по письму «благоприятный ответ иметь», был задан известный уже нашему читателю по печати (как и весь последующий разговор) вопрос: «А может быть, правда — Вы проситесь за границу? Что — мы Вам очень надоели?»
(М. А. сказал, что настолько не ожидал подобного вопроса (да он и звонка вообще не ожидал) — что растерялся и не сразу ответил).
— Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.
— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?
— Да, я хотел бы. Но я говорил об этом и мне отказали.
— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами.
— Да, да! И. В., мне очень нужно с вами поговорить.
— Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего.
Но встречи не было. И всю жизнь М. А. задавал мне один и тот же вопрос: почему он раздумал? И всегда я отвечала одно и то же; а о чем он мог бы с тобой говорить? Ведь он прекрасно понимал после твоего письма, что разговор будет не о квартире, не о деньгах...»
Этот биографический мотив ожидания второго, «настоящего» разговора претворится в творчестве Булгакова всех последующих лет.
Отметим несколько моментов, необходимых для понимания будущего многократного — в сущности, продолжающегося, как мы предполагаем, до самой смерти писателя — ретроспективного осмысления деталей разговора, собственного поведения, связи его с результатами разговора и т. п. Во-первых, звонок застал Булгакова врасплох, никак не подготовленным к подобному разговору (по-видимому, он ожидал предварительного вызова, письменного ответа и т. п.). Ситуация растерянности во время телефонной беседы, впрочем, скорей всего предусматривалась инициатором этих немногих известных диалогов (так, во второй
438
половине 30-х годов одна писательница лишилась в этот момент дара речи и не могла говорить в течение нескольких дней) — отсюда и повторяемость последующей неудовлетворенности его собеседников своим поведением во время телефонного разговора и напряженного желания аудиенции. У Булгакова ситуация растерянности усугубилась не только тем, что его подняли с постели, но и тем, что, по свидетельству М. Г. Нестеренко — с его собственных слов, — как раз перед этим его несколько раз разыгрывали по телефону: только что прошло 14 апреля — 1 апреля по старому стилю (по многим свидетельствам, считали розыгрышем даже известие о гибели Маяковского в этот день) и Юрий Олеша будто бы звонил Булгакову и объявлял: «Говорит Сталин — и вот герой розыгрышей звонил теперь действительно. По устному свидетельству М. Д. Вольпина, Булгаков рассказывал ему, что сначала он бросил трубку, энергично выразившись по адресу звонившего, и тут же звонок раздался снова и ему сказали: «Не вешайте трубку» и повторили: «С Вами будет говорить Сталин». И тут же раздался голос абонента, и почти сразу последовал вопрос: «Что — мы Вам очень надоели?» Можно вообразить себе состояние, в котором Булгаков подбирал слова для ответа на вопрос, весьма жестко, несмотря на шутливый оттенок, сформулированный. (Заметим, что сохранился и другой вариант этой фразы — в письме 1931, о котором речь пойдет позже, Булгаков цитирует своего собеседника так: «Может быть, Вам, действительно, нужно ехать за границу?») . Следующий вопрос был: «Вы где хотите работать?». Булгаков сразу был поставлен, как видим, в такие условия, что только отвечал и только на те вопросы, которые ставил ему инициатор беседы. Другие, гораздо более важные темы в беседе не возникли. Но оценить это Булгаков сумел только много позже. В этот и последующие дни он находился в приподнятом, даже восторженном, по свидетельствам очевидцев, состоянии — наконец-то на череду его заявлений и писем, посылаемых с лета прошлого года, ответили! И к тому же лично, и с ободряющим обещанием будущей встречи. «Мистический писатель», как назвал он сам себя в письме от 28 марта 1928 г., мог думать, что, рисуя картины встречи драматурга и его предполагаемого покровителя в своей последней пьесе, он породил желанную ситуацию в собственной жизни. Возможно, знак связи, которую устанавливал он между пьесой и звонком, можно увидеть в надписи на машинописном экземпляре пьесы «Мольер», подаренном возлюбленной: «В знак дружбы милой Елене Сергеевне! Был королевский
439
спектакль...» Акт I. 1930 г. 14 мая. М. Булгаков» (в конце 1-го действия «Мольера», когда король благосклонно отнесся к спектаклю, Лагранж, летописец театра записывает: «Семнадцатое февраля. Был королевский спектакль. В знак чести рисую лилию»).
Возможно, что далеко не сразу этот звонок был поставлен им в связь менее мистическую — в связь с только что, 17 апреля, происходившими многолюднейшими похоронами Маяковского: Сталин убедился — художник может нежелательным для власти образом уйти за ее пределы.
«На следующий день после разговора, — продолжим мемуарную запись Е. С. Булгаковой, — M. A пошел в МХАТ и там его встретили с распростертыми объятиями. Он что-то пробормотал, что подаст заявление...
— Да боже ты мой! Да пожалуйста! Да вот хоть на этом... (и тут же схватили какой-то лоскут бумаги, на котором М. А. написал заявление).
И его зачислили ассистентом-режиссером в МХАТ».
17 мая 1930 г., в той же большой «Записной книге», в которой полгода назад появились первые выписки для «Кабалы святош», Булгаков начинает новую работу — инсценировку «Мертвых душ» Гоголя ...Два года спустя, вспоминая это время, Булгаков в письме к своему другу П. С. Попову уверял, не без пафоса самоиронии: «Мертвые души» инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение». И вопрошая: «А как же я-то взялся за это?» — разъяснял с обычной для его писем к Попову заостренностью: «Я не брался, Павел Сергеевич. Я ни за что не берусь уже давно, так как не распоряжаюсь ни одним моим шагом, а Судьба берет меня за горло. (Напомним, что это — ретроспективная оценка: летом же 1930 г., мы полагаем, Булгаков был полон радостных надежд) . Как только меня назначили в МХАТ, я был введен в качестве режиссера-ассистента в «М. Д.» (старший режиссер Сахновский, Телешова и я). Одного взгляда моего в тетрадку с инсценировкой, написанной приглашенным инсценировщиком, достаточно было, чтобы у меня позеленело в глазах. Я понял, что на пороге еще Театра попал в беду — назначили в несуществующую пьесу. Хорош дебют? Долго тут рассказывать нечего. После долгих мучений выяснилось то, что мне давно известно, а многим, к сожалению, неизвестно: для того, чтобы что-то играть, надо это что-то написать. Кратко говоря, писать пришлось мне».
Работа над инсценировкой шла в опустевшем на лето театре, совместно с режиссером В. Г. Сахновским и зав. лит. частью П. А. Марковым: Булгаков писал, обсуждали вместе
440
картину за картиной. Булгаков мечтал начать с Рима — Гоголь в Риме, диктующий Поклоннику (П. В. Анненкову, как это и было в действительности) «Мертвые души». Первые строки рукописи зафиксировали этот неожиданный и волнующий автора поворот темы: «Человек пишет в Италии! в Риме (?) Гитары. Солнце». Его вообще чрезвычайно увлекала мысль о писателе, пишущем о России, глядя на нее из «прекрасного далека».
Начало это было, к его сожалению, отвергнуто и отозвалось потом на многих страницах других его произведений.
О телефонном звонке, изменившем и, как ему казалось в эти месяцы, весьма существенно, его судьбу, Булгаков рассказывал довольно широко, стремясь, видимо, изменить атмосферу вокруг своего имени. Об этом говорит, например, запись в дневнике известного московского букиниста Э. Ф. Циппельзона от 12 июня 1930 г. (она приведена в одной из наших статей): «Кстати о Булгакове. Михаил Афанасьевич часто заходит в лавку (книжлавка издательства «Недра» на Кузнецком мосту. — М. Ч.). Зная мое возмущение незадачливыми вопросами «есть ли у нас писчебумажные принадлежности?» любит иногда чужим голосом гаркнуть на всю лавку «А есть ли у вас чернильницы?» Он говорит при этом, что ему нравится мое выражение возмущения и мой неумолимый ответ: «Нет и никогда не будет».
Но вот гораздо более серьезное то, что он рассказал мне недели две тому назад. Он сидел в чрезвычайно скверном настроении у себя в кабинете. И на самом деле. Его не печатают совершенно. Все его пьесы запрещены. Его стремление попасть на сцену Художественного театра в качестве артиста (уже была и фамилия — Народов) не увенчалось успехом. И вдруг... Звонок по телефону. Булгаков подходит и не верит своим ушам. У телефона сам И. В. Сталин. Булгаков по понятным соображениям не передал мне содержания разговора, но через несколько дней он был назначен (уже не артистом) режиссером Художественного театра. В этом факте сразу вырисовывается большая фигура Сталина. В ответственный период подготовки к 16-му съезду найти время позвонить Булгакову, писателю, имя которого столько трепали в каждой газете... <...> Правда, я узнал впоследствии, что Булгаков написал обращение к Правительству, но все же то, что сделал Сталин — говорит о нем лишний раз как о большом человеке, противопоставившим себя некоторым маленьким людишкам из Главлита и Главискусства (эта интерпретация звонка позволяет видеть, что концепции, появившиеся в статьях о Булгакове несколько де-
441
сятилетий спустя, вырабатывались и становились расхожими уже в 1930 г. — М. Ч.) ...От Раевского (артист Художественного театра) слыхал, как Горький хохотал, именно хохотал, а не смеялся, при чтении Булгаковым своей пьесы «Бег». И все же Сам Горький не спас и этой пьесы. Все это, конечно, только отдаляло Михаила Афанасьевича, к моему глубокому сожалению, от единственно достойного для такого большого таланта пути, пути освоения наконец той великой эпохи, в которую мы имеем счастье жить. И также бесспорно, что замечательный шаг Сталина приближает и без сомнения приблизит к этому пути одного из самых талантливых и искренних писателей нашего времени».
15 июля Булгаков уезжает в Крым вместе с артистами ТРАМ'а (в котором с апреля он состоит консультантом). 18 июля посылает телеграмму из Мисхора Е. С. Шиловской, советуя, на правах доброго знакомого, ехать в Мисхор и устроиться в пансионате. Не получая ответа от Е. С. Шиловской, шлет телеграмму жене: «Почему Люсетты нет писем наверно больна».
22 июля он пишет и Наталии Алексеевне Венкстерн и в письме можно различить очередной виток достаточно коротких отношений, в этот момент в какой-то степени охладившихся (он явно удерживает ее от возможного приезда, надеясь на приезд Елены Сергеевны) : «В Крыму — зной. Море — как и было. Что же касается питания — продаются открытки. В пансионатах, куда едут по путевкам, кормят сносненько. Скука даже не зеленая, что-то чудовищное, что можно видеть лишь во сне. В первых числах августа собираюсь обратно. Приду к Вам, расскажу про поездку подробнее. Шлю Вам дружеский привет. М. Булгаков». 27 июля он посылает ей вторую открытку — с тем же добродушным крестьянином, подстриженным под горшок, держащим в руках билет Автодора; эпиграф — «Балеты долго я терпел. Но и Дидло...» — и две строки текста: «3-го августа еду в Москву, милая Наталья Алексеевна. Ваш М. Булгаков».
28 июля из Москвы в Мисхор пошла следующая телеграмма: «Здравствуйте друг мой Мишенька очень вас вспоминаю и очень вы милы моему сердцу поправляйтесь отдыхайте хочется вас увидеть веселым бодрым жутким симпатягой Ваша Мадлена Трусикова Ненадежная»; Елена Сергеевна приехать не решилась. Через несколько дней пришла вторая телеграмма: «Милый Мишенька ужасно рад вашему скорому возвращению умоляю не томите Кузановский».
В это время Ленинградский Красный театр телеграммой просит его писать для них пьесу о пятом годе. 23 июля Бул-
442
гаков посылает из Мисхора телеграмму: «Согласен писать пятом годе условиях предоставления мне выбора темы работа грандиозна сдача пятнадцатого декабря». Однако 3 августа приходит телеграмма из того же театра: «Пьесу пятом годе решено не заказывать-Фольф» (т. е. директор театра Вольф).
6 августа Булгаков пишет Станиславскому: «Вернувшись из Крыма, где я лечил мои больные нервы после очень трудных для меня последних двух лет, пишу Вам простые неофициальные строки. <...> После тяжелой грусти о погибших моих пьесах, мне стало легче, когда я — после долгой паузы — и уже в новом качестве переступил порог театра, созданного Вами для славы страны».
4 сентября Станиславский пишет Булгакову: «Вы не представляете себе, до какой степени я рад Вашему вступлению в наш театр!
Мне пришлось поработать с Вами лишь на нескольких репетициях «Турбиных», и я тогда почувствовал в Вас — режиссера (а может быть, и артиста?!)
Мольер и многие другие совмещали эти профессии с литературой!» В эту осень Булгаков, по-видимому, верил, что так оно и будет.
Тут снова напомнил о себе Красный театр, остро нуждавшийся в пьесах, — в Москву приехала завлитчастью Екатерина Шереметьева — специально для встречи с Булгаковым. «Это был рискованный шаг для молодого, передового революционного театра, каким считался и в самом деле являлся «Красный театр», — пишет она в своих воспоминаниях. — О письме Булгакова Сталину и о зачислении Михаила Афанасьевича в МХАТ ходили смутные слухи, но кто знал, насколько они достоверны? А то, что «Зойкина квартира», «Багровый остров» и даже шедшие три года в МХАТе «Дни Турбиных» сняты и запрещены, что Булгаков «не тот» автор, — точно знали в театральных и литературных кругах».
При встрече договорились на том, что «пьеса должна быть о времени настоящем или будущем», а тему автор определит сам, и что деньги, выплаченные автору авансом, не подлежат «возврату даже в том случае, если представленная автором пьеса по тем или иным причинам театром принята не будет. — После каждой фразы он останавливался, вопросительно глядя на меня, и я подтверждала ее, а последнюю фразу он произнес с некоторым нажимом, усмехнулся и объяснил: — Ведь автору неоткуда будет взять эти деньги, он их уже истратит!» Булгаков приобрел опыт; таких
443
договоров, как с МХАТом, он заключать больше не хотел; в будущее же смотрел с осторожностью и настороженностью — первый угар, по-видимому, уже проходил.
«Михаил Афанасьевич с интересом выспрашивал у меня, — вспоминает далее Е. Шереметьева, — что я знаю о Ларисе Рейснер, о семье ее отца — брата моей матери». Этот интерес, засвидетельствованный мемуаристкой, подтверждает одно наше предположение о формировании замысла того романа, который Булгаков, как помним, оставил, а затем и сжег — в те дни, когда писалось письмо к Правительству.
Предисловие М. Рейснера к книге А. Барбюса «Иисус против Христа» (М.-Л., 1928), выписки из которой делал Булгаков, сыграло, на наш взгляд, немалую роль в построении начальной сцены романа, причем не только на ранних, но и на поздних этапах работы. Это пространное предисловие посвящено в основном критике А. Барбюса, который «во имя самых лучших намерений дал увлечь себя своей художественной фантазии»; «А между тем мы думаем, что Барбюс обладал вполне достаточным материалом для того, чтобы раскрыть истинную сущность евангельского Иисуса». Все это живо напоминает ситуацию, в которую попал Иван Бездомный, сочинив (цитируем печатную редакцию романа) «большую антирелигиозную поэму», которою «редактора нисколько не удовлетворил. <...> И вот теперь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем, чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта. Трудно сказать, что именно подвело поэта — изобразительная ли сила его таланта» и т. д. (ср. выделенные слова с предисловием М. Рейснера: «Иисус у Барбюса, несмотря на весь громадный талант нашего поэта...»). Навязчиво повторяемое в этой главе именование Бездомного «поэтом» (появившееся именно в последних редакциях, в ранних отсутствовавшее, а в редакции, начатой в 1932 г., прикрепленное к тому, кто позже получит именование «Мастер») восходит, нам кажется, именно к предисловию М. Рейснера, где Анри Барбюс постоянно именуется — «наш поэт». Стремление Берлиоза «доказать поэту», что главное в том, что «Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем — простые выдумки, самый обыкновенный миф», также сближает его с позицией автора предисловия, разъясняющего и автору книги, и читателю, что «в основе получается необычайно простая, до глупости элементарная басня. И она влечет за собой массы. Нелепая и глупая сказка подчиняет себе весь мир». Несомненно, предисловие М. Рейснера вхо-
444
дило в круг той литературы, которая в конце 20-х годов возбуждала художественную мысль Булгакова к полемическому желанию дать свое толкование «нелепой и глупой сказки».
Вернемся к воспоминаниям Е. Шереметьевой; Булгаков спросил, не родственник ли ей «Михаил Шереметьев, который был московским казначеем и подал в отставку в апреле 1917 года, хотя его единогласно избрали служащие после Февральской революции. Я удивилась: откуда у него такие подробные сведения о моем отце? Оказалось, что Булгаков работал в архиве и случайно наткнулся на материалы учреждений министерства финансов, запомнил имя своего тезки и фамилию — она редко встречается». Эти любопытные сведения относятся, видимо, к тем первым московским месяцам 1921 г., когда Булгаков задумывал историческую драму о Распутине, роман о 17-м годе в Москве и ходил в Румянцевский музей. Припомнившиеся ему теперь сведения об отце Е. М. Шереметьевой, безусловно, увеличивали его к ней доверие.
«Михаил Афанасьевич был все время оживлен, весел, словом, — в хорошем настроении. Он, конечно, устал от одиночества, создавшейся вокруг него атмосферы недоверия, настороженности и просто недоброжелательства. И появился представитель, пусть малоизвестного театра, но все же группы театральных работников, безусловно ценивших его талант и веривших ему...
Когда мы вышли из квартиры Булгакова, дворник усиленно заработал метлой, подымая перед нами облако пыли. Лицо Михаила Афанасьевича еле заметно напряглось, он поторопился открыть калитку. На улице сказал очень раздраженно: — Прежде он униженно шапку ломал, а теперь пылит в лицо.
Я хотела было ответить, что не стоит обращать внимания, а он с тем же раздражением и, пожалуй, болью сказал:
— Как жило холуйство, так и живет. Не умирает.
Не раз еще я замечала, что Михаил Афанасьевич очень остро воспринимал отсутствие человеческого достоинства во всех его проявлениях — себя ли не уважал человек или — других.
...Михаил Афанасьевич предложил пройтись пешком, если меня не пугает расстояние. Оно меня не пугало. Мы перешли Зубовский бульвар и вышли на тихую Пречистенку (ул. Кропоткина). Между невзрачными деревянными домами стояли особняки с ампирными колоннами, среди разговора Булгаков называл имена архитекторов, бывших владельцев, или события, связанные с тем или иным домом. Он
445
несомненно любил московскую старину и, видимо, хорошо знал ее.
...При большой сдержанности Михаила Афанасьевича все-таки можно было заметить его редкую впечатлительность, ранимость, может быть, нервность. Иногда и не уловишь, отчего чуть дрогнули брови, чуть сжался рот, мускул в лице напрягся, а его что-то царапнуло.
...Недели через две Михаил Афанасьевич приехал в Ленинград. Его устроили в «Европейской», тогда лучшей гостинице нашего города, старались, чтобы он чувствовал себя хорошо, были внимательны к нему, заботливы. Между деловыми очень дружескими встречами с руководителями театра и спектаклями угостили его катаньем на американских горах (тогда единственных в Советском Союзе), попросили у директора Госнардома, в систему которого входил Красный театр, машину — открытый «Остин» — и часа три возили Булгакова, показывали город и его достопримечательности... Пригласили его на нашу вечеринку в квартиру актрисы Пасынковой. Михаил Афанасьевич талантливо, как все, что он делал, рассказывал о МХАТе и о Станиславском, не копируя его, но какими-то штрихами отчетливо рисуя характер и манеру говорить и стариковский испуг, когда Константин Сергеевич в разговоре со Сталиным вдруг забыл его имя и отчество. Рассказал о разговоре Станиславского с истопником, которому он советовал растапливать печи так, как это делали в его детские годы в доме Алексеевых». (Так в устных рассказах рождалась и закреплялась та повествовательная ткань, которая через несколько лет с такой быстротой и легкостью заполнила страницы рукописных тетрадок «Театрального романа»).
По-видимому, бурно развивался его тайный роман. 27-го сентября на парижском издании второй (неопубликованной в «России») части романа «Белая гвардия» автор сделал надпись: «Пишить, пане. Милая, милая Лена Сергеевна! Ваш М. Булгаков». 20 октября появляется шутливая надпись на фотографии, где Булгаков — в кругу участников спектакля «Дни Турбиных»: «Милой Елене Сергеевне в день 75-летнего ее юбилея. Дорогой Люсиньке, мастерице и другу». 28 ноября — на машинописном экземпляре «Мертвых душ»; «Знатоку Гоголя Лене Сергеевне! Моему другу в память тех дней, когда «ужасные люди» мучились над этим экземпляром!» По одним только дарственным надписям очевидно, как близко стоит Елена Сергеевна Шиловская к любому его литературному труду последнего года, видна ее роль, запечатленная в еще одной надписи на парижском издании
446
романа — 5 февраля 1931 г.: «Муза, муза моя, о лукавая Талия!» (строки из куплетов Мольера в первом акте пьесы).
4
Приближалась зима; был разгар театрального сезона 1930—1931 гг. Ни одна из пьес Булгакова по-прежнему не шла; не было благоприятных известий и о пьесе о Мольере, так и остававшейся в столе автора.
10 ноября 1930 года в помещении Клуба писателей открылась выставка «Писатель и колхозы». Жизнь собратьев по цеху шла иными путями, чем собственная его жизнь.
11 ноября на экранах столицы — фильм «Мертвые души» — как записал его содержание в своем дневнике И. Н. Розанов, «о волокитстве и бюрократизме доктора Иванова, который отказался от дочери, получившей ожоги и по ошибке значившейся умершей.» Шла подготовка массового сознания к приятию будущих фантасмагорий о «докторе-садисте Плетневе» и прочих. Вслед за записью о фильме в дневнике москвича-литератора отмечено газетное сообщение о Промпартии и фактах «ее вредительства», 12 ноября — «В газетах известие о двурушничестве Сырцова и Ломинадзе»; 15 ноября — «Отвратительная погода: дождь, слякоть»; в Историческом музее, как и во всех московских учреждениях в эти дни, пущен подписной лист «по поводу резолюции о Промпартии. Несколько человек не подписались»; после доклада одного из администраторов «об аполитизме в науке» — митинг о Промпартии. Через два дня — митинг о Промпартии в ФОСПе; «Гроссман сказал, что мозг страны всегда был за трудящихся, т. е. все лучшие писатели, — записал свои впечатления И. Н. Розанов. — Мстиславский и другие говорили, что надо не на словах, а на деле быть 100 %» — т. е., по-видимому, стопроцентно преданным определенным доктринам. Шла повальная, уже нескрываемо насильственная политизация тех, кто получил наименование «работников умственного труда».
Татьяна Александровна Аксакова-Сиверс, описывая в своих замечательных мемуарах «мимолетное знакомство» с Булгаковым, которое произошло, по-видимому, в эту же осень «у Анночки Толсто-Поповой (она жила еще в подвальчике в Никольском пер.)», рассказывает, как в Ленинграде (а такие же действа происходили и в Москве, но Булгаков, побывав в ту осень в Ленинграде, возможно, наблюдал те же самые картины, что и Т. А. Аксакова-Сиверс) она «увидела громадную толпу на площади перед Мариинским
447
дворцом. Это было шествие рабочих и служащих Ленинграда с плакатами, на которых было написано: «Смерть Рамзину и его сообщникам! Требуем высшей меры наказания!» Демонстрации предшествовали собрания во всех учреждениях и нашлось лишь одно место, где подобная резолюция встретила возражение — Военно-медицинская академия. Там поднялся профессор-невропатолог Михаил Иванович Аствацатуров и сказал: «Напоминаю, что мы все принимали медицинскую присягу охранять жизнь. Мы не можем и не будем выносить смертных приговоров!» Впоследствии оказалось, что для Рамзина дело окончилось сравнительно благополучно, но демонстрация ... произвела очень тяжелое впечатление, отбрасывающее к временам Понтия Пилата!» И позиция медика, и тяжелые впечатления мемуаристки, несомненно, близки к тем чувствам, которые испытывал в связи с этими событиями Булгаков.
25 ноября начался процесс Промпартии. 30 ноября И. Н. Розанов описал в дневнике впечатления от заседания этого дня (вокруг билетов на заседания был ажиотаж, достать их считалось удачей): «Поразительные впечатления. Прежде всего поражает театральность всей обстановки; что особенно назойливо бросается в глаза — это камеры кино и всякие приспособления для киносъемки, выпячивающиеся на самых центральных местах, возвышающиеся и как бы парящие над толпой... Вокруг них также возвышаются кинооператоры. Сбоку приспособления для прожекторов. Лучи прожекторов ослепляют и отвлекают внимание от остального... Далее костюмы подсудимых. Заграничное платье. Вредители не раз бывали за границей. У некоторых, кажется, крахмальные воротнички. У Рамзина из левого кармашка на сердце кокетливо выглядывает кончик платка».
Это — восприятие москвичами-литераторами «иностранца», встреча с которым на Патриарших прудах описана Булгаковым уже два года назад.
В первую неделю декабря идет съезд работников музеев в Политехническом музее (с докладами Н. К, Крупской. Н. Я. Марра). 6 декабря И. Н. Розанов описывает, как разбирался в этот день «вопрос об Адлере»; один из членов особой комиссии от ее лица «прочел выдержки из статьи, помещенной в немецком журнале о положении науки в СССР. Статья принадлежит проф. Адлеру, члену съезда. В ней красной нитью проходит мысль, что наука процветала до революции, а при Советской власти захирела. „Красные профессора" каждый раз автор заключает в кавычки. Об Академии наук Адлер говорит, что оказалась «достаточно
448
эластичной» и «сумела приспособиться». ...Комиссия, разбиравшая этот инцидент, постановила, что автор должен быть исключен из членов съезда. Подсудимый (!) Адлер попросил себе слова. «Я признаю свою ошибку, — сказал он, — но в свое оправдание могу сказать, что статья написана в 1925 году, что потом я сам убедился в ее неправильности и писал в редакцию, чтобы статьи не помещали, но оттуда ответили, что статья уже напечатана. Кроме того, — добавил Адлер, — прошу принять во внимание, что я в Казани при приходе чехословаков был единственным профессором, сразу ставшим на сторону советской власти. Так что (приговор?) Комиссии м. б. слишком жесток». Голос с места какого-то молодого краснощекого человека: «Как немец вы были против чехословаков: здесь национальная вражда». <...> Один из выступающих предлагает Адлера «снять повсюду с работы». Во время инцидента вошел Бубнов и вызвал громкие аплодисменты». Розанов пересказывал его речь: «...Вы сумели покарать человека, который стал по ту сторону баррикад. Надеюсь, что и в будущем вы будете так же зорко различать классовых врагов...».
Эти события должны были погружать во все более и более мрачное расположение духа того, кто не склонен был разделить чувства судей и прокуроров.
2 декабря в МХАТе начались репетиции «Мертвых душ», но работа Булгакова над текстом отнюдь не закончена. Инсценировка, осуществляемая не так, как была задумана и начата, вырисовывалась, так или иначе, как единственный и малоутешительный итог года.
Не сильно поправились и материальные дела — в конце декабря Булгаков пишет письмо в дирекцию МХАТа с просьбой об авансе: «Я выкраиваю время — между репетициями «Мертвых душ» и вечерней работой в ТРАМе — для того, чтобы сочинить роль Первого (Чтеца), и каждый день и каждую минуту я вынужден отрываться от нее, чтобы ходить по городу в поисках денег. Считаю долгом сообщить дирекции, что я выбился из сил». В просьбе было отказано — из-за долга Булгакова Всекомдраму.
Процесс «Промпартии» шел до 7 декабря — под аккомпанемент статей Горького, привлекших общее внимание, особенно заголовком первой из статей: «Если враг не сдается, его уничтожают» («Правда» и «Известия», 15 ноября 1930 г.), «К рабочим и крестьянам» («Правда» и «Известия», 25 ноября) ; он был заснят для звукового кино и уже в начале следующего года пошел по кинотеатрам. 24 января 1931 г. книготорговец Циппельзон записал в дневнике: «Был сего-
449
дня в звуковом кино, прослушал процесс Промпартии. Впечатление сильное, но люди все эти, вернее, «людишки», даже эти знаменитые Рамзин и Осадчий — какая все это мелочь, мелюзга... Крыленко вообще, кажется, единственный интересный и значительный человек в процессе... Даже в кино речь Крыленко прерывалась аплодисментами». Шла последовательная обработка массового создания; с осени 1929 го-до этот процесс достиг уже значительных успехов. Дневник, который мы цитируем, послушно отражал сгущение общественной атмосферы.
Чем более тусклым становился колорит будней, тем острее, по-видимому, ощущал Булгаков, что оказался в ловушке, в которую сам же себя и отправил.
Этот год Булгаков провожал, работая над не совсем обычной для него рукописью. В архиве писателя уцелел отрывок листа, вырванного из «Записной книги», в которой он работал и над «Кабалой святош», и над инсценировкой «Мертвых душ». Листок датирован 28 декабря 1930 г. и озаглавлен «Funérailles» («Похороны»). Это — черновые наброски стихотворения, начинающегося строкою «Надо честно сознаться...», открывающей исповедально-итоговый его характер.
В тот же миг подпольные крысы
Прекратят свой флейтный свист,
Я уткнусь головой белобрысою
В недописанный лист.
Далее пишутся и тут же одна за другой зачеркиваются (работа шла совсем не так легко, как над прозой!) строки, развивающие тему исповеди и трагического конца: «Вероятно, собака залает... завоет... Пожалеет испорченный стол... Не раз поганой ложью я пачкал уста Темна и не чиста». Наброски обнаруживают близость к некоторым излюбленным мотивам автора:
Почему ты явился повитый
Почему раздроблен рот
Ты в бою убитый
Меня обнимет монах.
Первые три стиха заставляют вспомнить «Красную корону», где младший брат с обвивающей лоб и напоминающей красную корону или венчик кровавой повязкой является герою по ночам. Второй стих, кроме того, использует деталь описания гибели Берлиоза. «Монах» же — в одном ряду с теми монашками, которые пугают «Мольера» в начале «Кабалы святош» и являются в час его смерти, а также с «Чер-
450
ным монахом» Чехова, упоминания о котором есть и в переписке писателя.
Вспомню ангелов, жгучую водку
И ударит (мне) газом
В позолоченный рот.
Почему ты явился непрошенный
Почему ты (не кончал) не кричал
Почему твоя лодка брошена
Раньше времени на причал?
Есть ли достойная кара
Под твоими ударами я, господь, изнемог
Почему ты меня не берег?
Почему он меня подстерег? Тема гибели развивалась в последних черновых стихах (стихотворение, возможно, так и не было закончено), говорящих о «дальних созвездиях», в которых «загорится еще одна свеча».
Своего рода образцом для этого стихотворения послужили, на наш взгляд, предсмертные стихи Маяковского (второе лирическое вступление к поэме «Во весь голос»). Строфа, включенная в письмо, адресованное «Всем» и распечатанное сразу после смерти в газетах, —
Как говорят «инцидент исперчен»
Любовная лодка
разбилась о быт
Я с жизнью в расчете
и не к чему перечень взаимных болей
бед
и обид
— была, быть может, первым стихотворением Маяковского, затронувшим Булгакова и отразившимся более полугода спустя в его собственных стихотворных опытах — в единственных двух строках, производящих впечатление законченности:
Почему твоя лодка брошена
Раньше времени на причал?
(М. А. Чимишкиан рассказывает, как в первые дни после смерти Маяковского застала Булгакова с газетой в руках. Он показал ей на строки — «Любовная лодка разбилась о быт»: «Скажи — неужели вот — это? Из-за этого?.. Нет, не может быть! Здесь должно быть что-то другое!»)
Новый 1931 год застал Булгакова в смятении чувств.
451
5
В декабре 1930 — январе 1931 года Е. С. Шиловская была в подмосковном доме отдыха. Булгаков несколько раз приезжал к ней. Однажды, рассказывала она нам, пришел на лыжах, замерзший, но она побоялась оставить его, даже напоить чаем, тут же отправила обратно.
Сохранился листок с начатым и неоконченным письмом от 3 января 1931 г.: «Мой друг! Извини, что я так часто приезжал. Но сегодня я...»
Отношения их расцветали, развивались все более бурно. На последнем листе романа «Белая гвардия» запись рукою Булгакова: «Справка. Крепостное право было уничтожено в ... году. Москва 5.II.31 г.» (В тот же день на издании второй части романа — уже цитированная нами надпись «Муза, муза моя...»).
И много позже, полтора года спустя Булгаков припишет: «Несчастие случилось 25.11.1931 года».
Марика Артемьевна Чимишкиан, к тому времени уже около года как жена С. А. Ермолинского, рассказывала нам: «По-моему, в начале весны я прихожу как-то к Елене Сергеевне на Ржевский. Она ведь дружила с Любовью Евгеньевной, и мы все с ней были хорошо знакомы, она была на нашей свадьбе с Ермолинским. Прихожу — мне открывает дверь Шиловский, круто поворачивается и уходит к себе, почти не здороваясь. Я иду в комнату к Елене Сергеевне, у нее маникюрщица, она тоже как-то странно со мной разговаривает. Ничего не понимаю, прощаюсь, иду к Булгаковым на Пироговскую, говорю: «Не знаете — что там происходит?..» Они на меня как напустятся: «Зачем ты к ним пошла? Они подумали, что это мы тебя послали!» Люба говорит: «Ты разве не знаешь?» — «Нет, ничего не знаю.» — «Тут такое было! Шиловский прибегал, грозил пистолетом...» Ну, тут они мне рассказали, что Шиловский как-то открыл отношения Булгакова с Еленой Сергеевной. Люба тогда против их романа, по-моему, ничего не имела. У нее тоже были какие-то свои планы...»
Шиловский объявил, что детей не отдаст, и Булгаков знал об этом.
...Елена Сергеевна дала слово не искать с ним встреч, не подходить к телефону.
Возможно, именно к весне этого года (если не годом-двумя ранее) относится одна короткая романтическая история, предположительно отразившаяся в деталях менявшегося в течение 1930—1931 годов замысла того романа,
452
который становился теперь романом о «поэте» и его возлюбленной Маргарите. Хотя предположения о таких связях всегда рискованны, но, может быть, именно в жизнеописании автора романа они и должны найти свое место.
Спустя полвека с лишним, весной 1986 года Маргарита Петровна Смирнова передала нам (вместе с фотографией, на которой запечатлена очень красивая молодая женщина) свои короткие воспоминания.
В них, как и в устном ее рассказе, в какой-то степени слилось то, что сохранила память, с тем, что прочитано было ею к тому времени в романе: при первом же чтении произведения, подписанного именем давно забытого ею человека, и она сама, и ее близкие, посвященные в подробности этой истории (сестра Маргариты Петровны работала в «Гудке» и знала Булгакова), «узнали» ее в героине...
Перед нами поэтому — и часть легенды, и живые подробности жизни Булгакова, одного из его увлечений, оказавшегося связанным, во всяком случае, с именем героини романа.
Маргарита Петровна описывала, как она однажды весной приехала с дачи в Москву («Приятное чувство свободы, можно никуда не торопиться. Дети на даче, муж в командировке...) и шла по улице с желтыми весенними цветами в руках. Ее догнал небольшого роста, «очень хорошо, даже нарядно» одетый человек. Она не хотела знакомиться («я на тротуарах не знакомлюсь»), он продолжал идти за ней, наконец, попросил «минуту помедлить, чтобы можно было представиться. Снял головной убор, очень почтительно, свободно поклонился, сказал: «Михаил Булгаков». Фамилия знакома, но кто это, кто? Я сразу почувствовала, что это хорошо воспитанный незаурядный человек». Она сомневалась. знали ли тогда «Дни Турбиных». Фамилия связывалась в ее сознании с иным Булгаковым, о котором она слышала от отца «как об одном из приближенных Толстого». <...> Во время знакомства с Михаилом Афанасьевичем я была уверена, что это кто-то из окружения Толстого. К тому же и разговор вскоре зашел о Толстом <...> Он очень интересно рассказывал о Л. Толстом, говорил, что где-то (в музее?) разбирает его письма (возможно, эта деталь датирует встречу временем работы над инсценировкой «Войны и мира» — то есть весной 1931 или 1932 года... — М. Ч.)
Мне было страшно интересно узнать так много нового о Толстом. Тогда я еще не читала воспоминаний ни Татьяны Андреевны Кузминской, ни Сергея Львовича Толстого, а он
453
так занятно говорил о ней, о семье Берс. Михаил Афанасьевич говорил, что Толстой не пользовался уважением в своей семье, что Софья Андреевна постоянно пилила его, упрекала за то, что не понимает, что семья большая, детей надо учить, а он тратит много денег на свои благотворительные дела, на постройку школ, на издание дешевых народных книг. Дети были на стороне матери все, кроме младшей — Александры. Иногда они в открытую подсмеивались над отцом, над его аскетизмом, над его плебейской одеждой.
Михаил Афанасьевич говорил: «Вот как бывает в жизни: человек гениальный, пользующийся уважением и в своей стране и за ее пределами, часто не бывает понят в своей семье, не имеет от родных и близких ни поддержки, ни участия. Вы только подумайте, как ему должно быть тяжело и одиноко. Мне его бесконечно жаль!»
Эту мысль об одиночестве Толстого Мих. Аф. развивал не раз в разговоре со мной. Меня, помню, поразила тогда эта жалость к Толстому. Мы привыкли восхищаться Толстым, а что его можно и нужно жалеть — это было ново. <...>
Помню, уже в конце дня он спросил меня: «Маргарита Петровна, Вы читали Библию?» Я ответила: «Как надоели уроки Закона Божия в гимназии, а тут еще Библию читать? Только этого мне не хватало!» — «Вы еще будете ее читать!»
В начале знакомства мне не совсем понравилась некоторая вольность в обращении. На какой-то мой ответ он рассмеялся и с восторгом обнял меня за плечи. Я была страшно возмущена, хотела тут же уйти. Он понял, серьезно так посмотрел на меня, извинился, сказал: «Поверьте, это никогда больше не повторится!»
И вторая шероховатость произошла тоже в начале знакомства: он настойчиво звал меня пойти в кафе или ресторан, чтобы спокойно посидеть, поговорить не на ходу. Он сказал, что у него сейчас масса денег, не то получил, не то выиграл, — «помогите мне их тратить!» Я была очень щепетильна в смысле денег и ответила ему: «В первый день знакомства говорить о деньгах — фу!» Он был озадачен и надолго примолк, только несколько раз в упор посмотрел на меня. Больше никаких эксцессов не было и беседа наша была необычайно занимательна, откровенна. Мы никак не могли наговориться. Несколько раз я пыталась проститься с ним, но снова возникали какие-то вопросы, снова начинали говорить, спорить и, увлекаясь разговором, проходили мимо переулка, куда надо было свернуть к моему дому, и так незаметно, шаг за шагом, оказывались у Ржевского вокзала.
454
Поворачивали обратно на 1 Мещанскую и снова никак нельзя было расстаться у переулка, незаметно доходили до Колхозной площади.
Этот путь от вокзала до площади мы проделали несколько раз. Ни ему, ни мне не хотелось расстаться. Возникла необыкновенная близость, какое-то чрезвычайное сердечное влечение. <...>
В самый разгар веселой беседы он вдруг спросил, почему у меня печальные глаза? Пришлось рассказать, что с мужем у меня мало общего, что мне скучно в его окружении, с его товарищами. Даже в его весьма шумном окружении чувствую себя одинокой. Жизнь складывалась трудно и с мужем не просто скучно, а тяжело. Михаил Афанасьевич очень внимательно и как-то бережно слушал меня.
Мы долго ходили и стояли на набережной. От Москвы-реки дул ветер. Я сказала, что люблю подставить лицо под теплый ветер; рассказала, как приятно было стоять на катере, быстро мчащемся по морю, отдавшись ветру. Я очень любила, когда теплый ветер полощет юбку, как парус, шевелит и треплет волосы на голове: хочется широко раскинуть руки, делается так хорошо, озорно; кажется вот-вот оторвешься от земли. Я помню, какими сияющими глазами смотрел на меня М. А., когда я говорила о теплом ветре там, на набережной. И вдруг, читая роман «Мастер и Маргарита» нахожу слова: «Она отдала лицо ветру». Как он все помнил! Вот так одна строчка в романе никому ничего не говорит, а у меня вызывает так много воспоминаний и эмоций!
Зашел разговор о море, о Кавказе. Я рассказала, что была во многих городах юга (муж был комиссаром-инспектором железных дорог РСФСР и сразу после женитьбы в мае 1921 г. муж взял меня в инспекционную поездку на три месяца по Кавказу и Закавказью. Я помогала вести секретарскую работу, иногда печатала на машинке. Такая же поездка повторилась и летом в 1923 г.). Михаил Афанасьевич говорил, что тоже работал в те же годы на Кавказе. Вдруг он отстранился на шаг, как-то весь осветился и чуть не закричал: «Маргарита Петровна! Так я же Вас видел!» Меня даже смех взял. Еще что — видел! Где? Когда? Прошло по крайней мере лет восемь, а он вдруг вспомнил <...> довольно точно описал мое белое платье (греческий костюм-тога, оставшийся у меня от гимназической постановки «Трахинянок» Софокла). Он говорил, что где-то на улице, м. б. в Тбилиси или Батуми, видел меня в сопровождении двух мужчин (очевидно, мужа и его брата). У него осталось впечатление чего-то легкого, светлого, Я подсмеивалась над
455
ним: один раз видел и уже запомнил! А может быть, это вовсе и не я была; мало ли белых платьев летом. Он очень серьезно посмотрел мне в глаза, без тени улыбки." Приблизил свое лицо и сказал почти шепотом: «Маргарита Петровна! А Вы что, не знаете, что Вас нельзя было не запомнить!» <...>
В первый же день знакомства он спросил, почему я хорошо одета? Откуда у меня такие туфли, такие перчатки (черные шелковые, почти до локтя, с раструбом и белым кантом)? Пришлось рассказать, что это еще сохранилось от матери. А про туфли я не рискнула признаться, что банты и металлические пряжки прикрепила сама, своей рукой.
Михаил Афанасьевич долго вертел в руках мою сумочку, внимательно рассматривал ее со всех сторон и так же внимательно и пристально несколько раз взглянул на меня. Мне стало неловко: сумочка-то была самодельная. Я отобрала ее из его рук.
Через некоторое время он опять забрал ее, улыбаясь посмотрел на меня, спросил, кто вышивал желтую букву «М».
— Маргарита Петровна, что Вы смущаетесь? Сумка интересная, кто ее делал?
Я пробормотала, что кто же мог делать, кроме меня. И еще больше смутилась, т. к. это была не совсем правда: сумку сделала и подарила мне мать. Такими буквами «М» полагалось метить белье и приданое сестер и я их вышивала бесконечное количество раз. Сумка была из голубого материала, в виде мешочка (ридикюль) с двумя затягивающимися ручками. На одной стороне нашита пластинка из сплошной вышивки голубым и серебряным бисером, на другой стороне вышита большая буква «М» желтым шелком (сумочка сохранилась до сих пор, но без бисерной пластинки) .
Только теперь, зная биографию Булгакова, я понимаю, почему эта сумка могла его так заинтересовать. Бисерная пластинка — это монастырская работа. К моей матери она попала, очевидно, от бабушки, жены священника; а Мих. Аф. в своей семье (М. А. был сыном профессора Киевской духовной академии), конечно, не раз мог видеть такие бисерные работы монашек. Эта сумка ему, должно быть, что-то напомнила, он как-то понимающе улыбался уголками губ. <...>
Условились через неделю...
Пришла домой, принялась за хозяйственные дела, подошла через некоторое время к окнам полить цветы и вдруг
456
вижу, что M. A. ходит по противоположному тротуару. Я отошла от окна (не хотела, чтобы он узнал, где я живу, боялась всяческих осложнений). Но на окна он не смотрел, задумчиво ходил, опустив голову. Потом почти остановился, поднял голову, смотрел высоко вдаль, и опять медленно пошел вдоль переулка.
Простившись с ним на улице, я не пошла в парадное крыльцо особняка, просматривающееся через решетку с улицы, а от калитки пошла в глубь двора, завернула за угол дома и вошла с черного хода. Мне казалось, что таким образом он не догадается, где я живу, какие мои окна. В калитку видно было все то, что описано на стр. 86 кн. 1: «Маленький домик в садике... ведущем от калитки... Напротив под забором сирень, липа, клен...». Была и аллейка тополей от калитки и в глубине большой серебристый тополь.
Был такой случай: раз как-то я приехала с дачи, а на кухне соседи (Анна Ивановна) говорит: «Сидим во дворе на скамейке; приходил какой-то гражданин, не очень высокий, хорошо одет; ходил по двору, смотрел на окна, на подвал. Потом подошел к сидящим на скамейке, спросил — живет ли в этом доме такая высокая, молодая, красивая? Мы говорим, смеясь: «А кого Вам надо? Хозяйку или домработницу? Они у нас обе молодые и обе красивые. Только их нет, на даче они». Походил по двору, опять подошел, спросил, где именно живет? — «А вот, — говорим, — половину особняка занимают; и на улицу и во двор окна. А кого Вы все-таки ищете?» Ничего на это не ответил, медленно пошел к калитке. Когда мы прощались в первый день, я просила его остаться на другой стороне улицы, не ходить за мной. В решетку он мог видеть, что я завернула за угол дома, но не знал, взошла ли я на крыльцо, или м. б. спустилась в подвал?
Он приходил, по рассказам соседки, два раза, поэтому он и пишет, что я занимала верх прекрасного особняка в саду» (Читатель простит Маргарите Петровне, мы надеемся, это простодушное отождествление).
«Под впечатлением этой встречи я ходила несколько дней, как в тумане, ни о чем другом не могла думать. Настолько необычно было наше знакомство, настолько оно захватило нас с первых минут — трудно рассказать. Это было, как он выразился, какое-то наваждение. Вот и сейчас, прошло уже много лет, я не могу без волнения вспомнить о том сне. А тогда я места себе не находила, все думала, что же будет дальше? <...> Решила, пока я еще в силах справиться с собой, нужно расстаться». Она вспоминает его сло-
457
ва: — «Маргарита Петровна, скажите, я Вам не нравлюсь? Я плох для Вас?
Старалась, конечно, разубедить его... <...> Говорила, что теперь мне будет еще более одиноко, что душа моя тянется к нему, что мне было очень хорошо с ним. Вдруг я увидела, что лицо его просветлело, он улыбнулся, сказал: «Ну, говорите, говорите еще...». <...>
— Маргарита Петровна, если Вы когда-нибудь захотите меня увидеть, Вы меня всегда найдете. Запомните только — Михаил Булгаков. А я Вас никогда не смогу забыть.
Мучительное было расставание. Опять долго стояли на углу переулка. Я просила, чтобы он не доходил до калитки.
Он остался на другом тротуаре. Перейдя дорогу, я оглянулась. И последнее, что я запомнила — это протянутые ко мне руки. Как будто он меня звал, ждал, что я сейчас вернусь к нему. И такое скорбное, обиженное лицо! Смотрит и все что-то говорит, говорит... И эти руки за решеткой, протянутые ко мне...
Все было так, как написал он на стр. 94 кн. II; только не Маргарита с Воландом, а он так прощался со мной».
14 марта Булгаков подал в ТРАМ заявление с просьбой уволить его с должности консультанта — чужеродные, хотя даже и не слишком трудоемкие занятия становились для него в том состоянии, в котором находился он последние месяцы, обременительными и даже невыносимыми.
18 марта он пишет письмо Станиславскому (который за месяц до того, после длительной болезни, начал 22 февраля у себя дома, в Леонтьевском, репетировать отдельные сцены «Мертвых душ»):
«Дорогой и многоуважаемый Константин Сергеевич! Я ушел из ТРАМа, так как никак не могу справиться с трамовской работой. Я обращаюсь к Вам с просьбой включить меня помимо режиссерства также и в актеры Художественного театра...»
17 апреля он заключает соглашение с Передвижным театром Института санитарной культуры на режиссерскую работу над пьесой Н. А. Венкстерн «Одиночка» — и обязуется поставить ее до 1 июля.
В это мрачное для него время не просветлялся и общественный горизонт. Ожидался процесс трудовой крестьянской партии, один из лидеров которой, арестованный еще летом 1930 года, был не безразличен Булгакову — Александра Васильевича Чаянова, известного ученого-агронома, он знал как изящного стилизатора-беллетриста, любил, как уже упоминалось, его книжечку «Венедиктов, или Достопамят-
458
ные события жизни моей», вышедшую в 1922 году с иллюстрациями Натальи Абрамовны Ушаковой.
«В 1929 году, — рассказывает в своих неопубликованных воспоминаниях (завершенных им в 1971 году, задолго до всяких надежд на реабилитацию А. В. Чаянова и его сподвижников) старый москвич Сергей Дмитриевич Шипов (1885—1982; по его подсчетам, сам он «был оторван от семьи и от родной мне Москвы с 19 февраля 1933 года до 9 июля 1959 года, т. е. 26 лет 3 мес. 22 дня»), — началась ликвидация с/х кооперации, а затем и потребительской. Все члены правления Сельскосоюза были арестованы и все получили по 10 лет». Та же участь постигла многих служащих Всекоопбанка, Наркомзема, Наркомснаба, Наркомпути. «В самом начале 30-х годов были репрессированы тысячи агрономов, профессоров и работников с/х опытных станций. И еще больше крестьян и колхозников. Сроки заключения от 5 до 8 лет за отказ идти в колхоз и даже за сбор колосков в поле. Первая партия агрономов прибыла в Карла в составе более 400 человек»; С. Д. Шипов, как опытный экономист, был взят в плановый отдел Карагандинского лагеря и по его сведениям в 1933 году там находилось 20000.
Отзвук этих событий — в дневнике Э. Ф. Циппельзона, сделавшего 26 января 1931 г. следующую запись: «Из всех вредителей, арестованных за последнее время, меня особенно интересуют трое — по-моему, самые умные, самые одаренные — Е. Тарле, Некрасов Н. В. и Чаянов. Прежде всего все они страстные библиофилы. Тарле всегда, по приезде из Ленинграда, заходил в книжный магазин Центросоюза на Кузнецком. Особенно интересовался Пушкинианой. Некрасов покупал мемуарную литературу. Чаянов — восемнадцатый век и по старой Москве. Всех их объединяла еще одна черта — обаяние <...> Меня особенно поразил арест Чаянова. Ведь вот еще только этим летом по приезде из совхоза «Гигант» с каким энтузиазмом А. В. рассказывал о блестящих перспективах будущего. Помню — он меня поразил описанием трактора чуть ли не с 10-саженными лемехами. Он убежденно говорил, что в области сельского хозяйства мы перегоним Америку через три-четыре года. И вдруг... В одной компании с Рамзиным... Во всяком случае, я его, Чаянова, мыслил не министром реставрации, а будущим членом Коллегии Наркомзема» (возможно, автор дневника забыл, что Чаянов уже был членом Коллегии Наркомзема РСФСР — в 1921—1923 гг.).
Вместе со многими аграрниками был арестован и
459
профессор А. Г. Дояренко, изображенный Булгаковым в 1923 году в фельетоне «Золотистый город».
Процесса «Трудовой крестьянской партии» у тех, кто ее планировал, не получилось, — в лагерях и ссылках пересеклись пути многих обитателей пречистенских и других московских переулков. По словам Н. А. Абрамовой, небезразличной к судьбе того, чьи книги она иллюстрировала, Наталья Иосифовна Бехтеева (знакомая Булгакову еще по Киеву), жена художника В. Г. Бехтеева, была арестована (была у кого-то, в каком-то месте неподходящем) и сослана в Чимкент — «там же был Чаянов».
21 февраля 1931 года Циппельзон записал в дневнике: «Только что пришел из Комакадемии. Диспут о новой пьесе Киршона „Хлеб" прошел вяло. <...> вступительное слово бледно произнес Динамов. Хорош был Ермилов. Способный, талантливый оратор с темпераментом и остроумен. О самой пьесе говорили мало, больше спорили о том, какой должна быть настоящая пролетарская драматургия. Досталось между прочим модному нынче драматургу Вишневскому. Как всегда, самое интересное — разговоры в кулуарах. Так, например, совершенно неожиданно для меня режиссер Художественного театра Судаков в споре с Ермиловым заявил, что он согласен с тем, что пьеса Булгакова „Дни Турбиных" — реакционная пьеса. А ведь Судаков имя себе создал постановкой этой пьесы». Этой пьесы уже второй сезон не было на сцене МХАТа — как и ни одной другой пьесы Булгакова. В том же дневнике 23 февраля 1931 года: «Никогда Москва так не переживала, никогда ничто не производило такого сильного впечатления, в особенности среди библиофилов и книжников, как известие об аресте Рязанова (поздняя приписка автора дневника: «Его заслуга — приобретение в Англии комплекта со дня основания газеты „Тайм"). Неужели и он... Что-то непонятно...
Не скрою, — поспешно добавляет автор дневника: — меня очень бодрят, радуют выступления Максима Горького одновременно в газетах „Правда" и „Известия". Радуют и вселяют веру в то время, когда изменяют и заставляют задумываться Бухарин, Рыков, Рязанов, Сырцов». О том же еще 6 февраля 1931 года писал Горькому из Ревеля Раскольников: «В особенности порадовали меня ваши мужественные выступления, связанные с процессом вредителей». 27 февраля в том же дневнике записано: «Сегодня во всех газетах опубликовано обвинительное заключение по делу меньшевистской контрреволюционной организации Громана, Шера, Икова, Суханова и др. Увы! Относительно Чая-
460
нова и Некрасова, хотя они по этому делу не привлекаются, подтверждаются самые мрачные предположения. Вот неожиданность... А я еще предлагал Некрасову когда-то в
1928 г. написать свои воспоминания. А он, оказывается, еще не сложил оружия... Повторяю: досадно видеть очень умных людей в очень глупой роли, чтобы не сказать большее». Эти пассажи в дневнике, специально предназначенные для посторонних глаз, — черта, тоже характеризующая время.
П. Е. Заблудовский вспоминает: «...встречал М.
А. в Институте санитарной культуры — теперь это Институт санитарного
просвещения, по Мясницкой улице — теперь ул. Кирова, д. 42. Здание это, между
прочим, состоит под особой охраной Комитета охраны памятников старины и
искусства: там два-три зала, особенно бальный зал, прекрасной художественной
лепки. Институт был основан в 1929 году.
Директор и основательница его, Софья Николаевна Волконская, организовала при
нем санитарно-просветительный театр, с привлечением первоклассного режиссера из
театра Вахтангова и хороших молодых актеров. Мероприятие это оказалось слишком
дорогим для театра и от него через года полтора-два пришлось отказаться.
Булгаков играл там роль, которую можно определить как консультанта по
литературно-репертуарной части. Помню его за
ключение по двум пьесам: посвященным Пастеру, его борьбе за прививки против
бешенства, за другие открытия» (письмо к автору книги от 29 ноября 1987 г.).
19 апреля на письме-заявлении Булгакова Станиславский пишет свою резолюцию: «Одобряю, согласен. Говорил по этому поводу с Анд. Серг. Бубновым. Он ничего не имеет против». Бубнов в 1929 г. сменил Луначарского на посту наркома просвещения и ведал театрами.
Что испытывал Булгаков в эту весну, поняв, что спустя год после разговора, показавшегося ему столь обнадеживающим, он сменил занятие литератора на профессию режиссера и даже актера? Представление об этом дают некоторые документы. В это самое время он начинает письмо к тому же адресату, сопроводив его двумя эпиграфами из Некрасова:«0 муза! Наша песня спета...» и «И музе возвращу я голос. И вновь блаженные часы Ты обретешь, сбирая колос С своей несжатой полосы». После обращения к адресату он писал: «Около полутора лет прошло с тех пор, как я замолк. Теперь, когда я чувствую себя очень тяжело больным, мне хочется просить Вас стать моим первым читателем...» На этом письмо оставлено. 30 мая закончен новый вариант. На этот раз после обращения к адресату справа, в
461
колонку, идет ряд фрагментов из «Авторской исповеди» Гоголя — развернутый эпиграф: «Чем далее, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда.
Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно переходит в сатиру.
...Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование, и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитываться где-то вдали от нее.
...Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее». И сразу вслед за эпиграфом начиналось письмо: «Я горячо прошу Вас ходатайствовать за меня перед Правительством СССР о направлении меня в заграничный отпуск на время с 1 июля по 1 октября 1931 года.
Сообщаю, что после полутора лет моего молчания с неудержимой силой во мне загорелись новые творческие замыслы, что замыслы эти широки и сильны, и я прошу Правительство дать мне возможность их выполнить.
С конца 1930 года я хвораю тяжелой формой неврастении с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен.
Во мне есть замыслы, но физических сил нет, условий, нужных для выполнения работы, нет никаких». Перед нами — второй после стихотворения документ, свидетельствующий о состоянии Булгакова спустя год после знаменательного разговора. В нем он утверждал: «Причина болезни моей мне отчетливо известна.
На широком поле словесности российской в СССР (замечательно это словосочетание, пожалуй, единственное в своем роде в тогдашней публичной — тем более обращенной к власти — речи. — М. Ч.) я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он все равно не похож на пуделя.
Со мной и поступили как с волком. И несколько лет гнали меня по всем правилам литературной садки в огороженном дворе». Одна из любимых его книг — «Псовая охота»
462
H. Реутта (1848) — подсказала, по-видимому, нужный охотничий термин, означающий травлю уже пойманного зверя. (Современный академический словарь поясняет это слово примером из мемуарной прозы, где повествуется о том, что на псарнях «всегда держали волков для «садок», т.е. для травли, чтобы приучать молодых борзых брать волка».)
Эта картина возникла у Булгакова еще в 1924 году — в «Белой гвардии»: «Если бы кто и полез на Горку, то уж разве какой-нибудь совсем отверженный человек, который при всех властях мира чувствует себя среди людей как волк в собачьей стае. Полный мизерабль, как у Гюго». Но в письме она приобрела заостренную определенность.
Булгаков не был тем отверженным по натуре, который чувствует себя вышеописанным образом — «при всех властях мира».
Образ загнанного волка в письме приобрел зловещий и в какой-то степени вызывающий смысл: Булгаков, конечно, тщательно обдумавший столь сильный стилистический ход, давал понять могущественному адресату, что осознает свою ситуацию как ситуацию зверя в ловушке, длящуюся «уже несколько лет» (в течение которых он несколько раз подавал заявления с просьбой о выезде, остававшиеся без ответа — вплоть до апреля 1930). Свое согласие на предложение Сталина — оставшись здесь, пойти служить в театр, — в разговоре 1930 года он интерпретировал теперь так: «Зверь заявил, что он более не волк, не литератор. Отказывается от своей профессии. Умолкает. Это, скажем прямо, малодушие.
Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если замолчал, значит был не настоящий. А если настоящий замолчал — погибнет. Причина моей болезни — многолетняя затравленность, а затем молчание».
...В это самое время в московской литературной среде ходит стихотворение Мандельштама, написанное во второй половине марта (1931 года) —с той же неожиданной и сильной метафорой волка:
...Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей...
...Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
Если пытаться понять стихи буквально (что вряд ли правомерно), поэт стремился откреститься от унизительно-страшной участи волка — рано или поздно стать добычей собак. Булгаков же расценивает свой отказ от положения
463
волка как отказ от «профессии», как «малодушие». Мандельштам, только что перед тем написавший: «С миром державным я был лишь ребячески связан», «И ни крупицей души я ему не обязан», — говорит о трагической ошибке века: он, поэт, дававший «Присягу чудную четвертому сословью», не должен быть добычей волкодавов! Это выражено им еще в 1922 году: «Захребетник лишь трепещет на пороге новых дней» («Век») — в тот самый год, когда Булгаков размышлял на этом же пороге — «...Но буду ли жить я?» В 1931 году Булгаков гордо удостоверяет свою, отличную от других породу и кровную связь с иной, порушенной державой. Для автора повести «Собачье сердце», с 1926 года находившейся в чужих руках и, возможно, прочитанной и Сталиным, естественным было настаивать на своих отличиях и от Шариковых, и от волкодавов. Он не навязывался на роль «мизерабля», уготованную всем «захребетникам», но не считал возможным отказываться от нее.
Социальная жизнь чем далее, тем более складывалась таким образом, что изначально разные позиции сближались, и когда Мандельштам пишет в мае — начале июня 1931 года «...Мы умрем, как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи» — то это вполне близко к общему смыслу письма Булгакова от 30 мая 1931 года.
Отчаянное состояние автора письма явствует уже из того, что в нем он счел нужным дать адресату полный отчет в своей деятельности за истекший со времени их разговора год с небольшим. «За последний год я сделал следующее:
несмотря на очень большие трудности, превратил поэму Н. Гоголя «Мертвые души» в пьесу
работал в качестве режиссера МХТ на репетициях этой пьесы
работал в качестве актера, играл за заболевших актеров в этих же репетициях
был назначен в МХТ режиссером во все кампании и революционные праздники этого года
служил в ТРАМ'е — Московском, переключаясь с дневной работы МХТовской на вечернюю Трамовскую.
ушел из ТРАМ'а 15.III.31 года, когда почувствовал, что мозг отказывает служить и что пользы ТРАМ'у не приношу
взялся за постановку в театре Санпросвета (и закончу ее к июлю).
А по ночам стал писать.
Но надорвался».
По-видимому, писать он начал свой брошенный уже два года назад роман о дьяволе. Сохранившиеся в двух тетра-
464
дях наброски под названием «Черновики романа» показывают, что продолжить роман в тот год так и не удалось: как и засвидетельствовал автор в письме, он «надорвался», — можно думать, отнюдь не только от обилия работ, в том числе и совершенно ему чуждых (что он всегда переносил с повышенной болезненностью), но и от мыслей, уже приобретавших характер бесплодного бега по заколдованному кругу.
30 мая 1931 г. Булгаков писал: «...я очень серьезно предупрежден большими деятелями искусства, ездившими за границу, что там мне оставаться невозможно.
Меня предупредили о том, что в случае, если Правительство откроет мне дверь, я должен быть сугубо осторожен, чтобы как-нибудь нечаянно не захлопнуть за собой эту дверь и не отрезать путь назад, не получить бы бед похуже запрещения моих пьес». Как видим, формулировки уже иные, чем в предыдущем письме. «...Заканчивая письмо, хочу сказать Вам, И. В., что писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам. Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти. Вы сказали: «Может быть, Вам, действительно, нужно ехать за границу?» Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссером в театрах СССР». Так Булгаков впервые делает попытку переиграть ситуацию, вернуться к уже завершенному разговору, напоминая своему собеседнику его вопрос, он хочет дать на него иной, более дифференцированный ответ — нет, уезжать он не хочет, он не теряет надежды на возможность работы здесь, но хотел бы поехать ненадолго — посмотреть мир.
Мы не можем сказать с полной уверенностью, что эта редакция письма была окончательной, но письмо данному адресату было, во всяком случае, отослано в эти дни — о нем идет речь в переписке с Вересаевым.
Итак, Булгаков отправил письмо и снова, как год назад, стал ждать ответа. Он должен был придти не позже как через две недели — если исходить из прецедента и из того, что в отпуск Булгаков просился с 1 июля — значит, нужно было какое-то время на оформление, что, в случае согласия, понимал бы и адресат.
В середине июня он получает телеграмму — Наталья Алексеевна Венкстерн, дружески-нежные отношения с которой установились в последние годы, приглашает Булгаковых в Зубцов (место слияния Вазузы с Волгой) на летний отдых, и 17 июня делает приписку к письму Любови Евгень-
465
евны: «Телеграмму получил, спасибо Вам за дружеское внимание! Непременно постараюсь Вас навестить, но не знаю, когда и как удастся (все — постановка в Сантеатре). Если соберусь — телеграфирую. Привет! Привет! Ваш дружески — М. Булгаков».
Хоть время ответа на его письмо уже вышло, но он все еще надеется, не покидает Москву.
29 июня он пишет Вересаеву: «...театр съел меня начисто. Меня нет. Преимущественно «Мертвые души». Помимо инсценировок и поправок, которых царствию, по-видимому, не будет конца, режиссура, а кроме того, и актерство (с осени вхожу в актерский цех — кстати, как Вам это нравится?) <...> Кончилось все это серьезно: болен я стал, Викентий Викентьевич. <...> И бывает часто ядовитая мысль — уж не свершил ли я в самом деле свой круг? По ученому это называется нейрастения, если не ошибаюсь. А тут чудо из Ленинграда — один театр мне пьесу заказал. Делаю последние усилия встать на ноги и показать, что фантазия не иссякла. А может иссякла.»
1 июля он пишет Н. А. Венкстерн: «Все зависит от моих дел. Если все будет удачно (главная неудача к этому времени, в сущности, стала очевидной. — М. Ч.), постараюсь в июле, может быть в 10-х числах выбраться в Зубцов <...> План мой: сидеть во флигеле одному и писать, наслаждаясь высокой литературной беседой с Вами. Вне писания буду вести голый образ жизни: халат, туфли, спать, есть <...> Ну и ваши сандрузья! Расскажу по приезде много смешного и специально для Вас предназначенного.»
В первых числах июля Булгаков заключает договоры с Красным театром и с театром Вахтангова на пьесу на тему о будущей войне.
7 июля он посылает телеграмму Наталье Алексеевне Венкстерн в Зубцов: «Телеграфируйте есть ли для меня изолированное помещение». 9 июля: «Приеду двенадцатого».
Ответа на свое письмо Сталину Булгаков не дождался: войти второй раз в одну и ту же реку не удалось.
С окончательно разбитой надеждой на заграничную поездку он приезжает на Волгу — на недолгое, по-видимому, время. Здесь он берется вплотную за пьесу «Адам и Ева» — единственную, в сущности, реальную надежду выйти вновь на сцену театров.
22 июля 1931 года он пишет Вересаеву: «Сегодня, вернувшись из г. Зубцова, где я 12 дней купался и писал, получил Ваше письмо от 17. VII и очень ему обрадовался». Говоря о своей занятости последнего времени, он называл ее
466
«неестественной» и пояснял: «Она складывается из темнейшего беспокойства, размена на пустяки, которыми я вовсе не должен был бы заниматься, полной безнадежности, неврастенических страхов, бессильных попыток. У меня перебито крыло». 25 и 26 августа, продолжая то же письмо, Булгаков пояснял причину своего состояния. Причина эта коренилась в разговоре более чем годовой давности и его последствиях — вернее, отсутствии тех последствий, которые им сначала уверенно ожидались.
«Есть у меня мучительное несчастье, — столь сильными словами определял Булгаков свое настроение последнего года. — Это то, что не состоялся мой разговор с генсекром. Это ужас и черный гроб. Я исступленно хочу видеть хоть на краткий срок иные страны. Я встаю с этой мыслью и с нею засыпаю.
Год я ломал голову, стараясь сообразить, что случилось? Ведь не галлюцинировал же я, когда слышал его слова? Ведь он же произнес фразу: «Быть может, Вам действительно нужно уехать за границу?..»
Он произнес ее! Что произошло? Ведь он же хотел принять меня?..»
В этом письме — еще один вариант фразы Сталина, как она запомнилась Булгакову (в письме к Сталину 1931 года он воспроизводил ее так: «...Вам действительно нужно ехать за границу...»)
Впоследствии Е. С. Булгакова предложит еще две версии этой фразы — в своем дневнике 1956 года («А может быть, правда — Вы проситесь за границу?») и в печатном тексте записи.
Это говорит, по-видимому, о том, что фраза, ставшая источником мучительных размышлений Булгакова нескольких последующих лет и предметом бесконечных интерпретаций, в том состоянии, которое владело им во время разговора, не запомнилась ему дословно.
Второе, гораздо более существенное, что вытекает из письма Вересаеву, — то, что реплика самого Булгакова, ставшая через четверть века после смерти ключевой для его официального статуса («Я очень много думал в последнее время — может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может»), год спустя вовсе не казалась Булгакову «закрывающей тему». Это значит, что она отнюдь не звучала столь определенно и отточенно, как это зафиксировано было Еленой Сергеевной в 1956 году. Надо думать, это были несколько сбивчивых фраз, сказанных в смятении, под наплывом «налетевшей, как обморок робости» (напомним,
467
что эти строки из письма П. С. Попову 1932 года мы относим — предположительно — к описанию ситуации разговора 1930 года). Они не отменяли возможности обсуждения той же темы в лукаво обещанном Булгакову новом разговоре.
12 августа Вересаев писал Булгакову:
«Получил Ваше письмо — и не из слов Ваших, а из самого письма почувствовал, как Вы тяжело больны и как у Вас все смято на душе. И для меня совершенно несомненно, что одна из причин Вашей тяжелой душевной угнетенности — в этом воздержании от писания».
О каком воздержании шла речь? По-видимому, прежде всего имелся в виду роман — то есть, нечто внутренне-обязательное. К пьесе он относился на этот раз как к вещи заказной, зародившейся вне внутренней готовности к осуществлению именно такого рода замысла, и писал ее через силу.
Вересаев уговаривал его писать независимо от создавшейся ситуации, и даже приводил в пример себя: «Сужу сейчас по себе. Два года я работал над романом, 1½ года в самых тяжелых условиях жил на заводе, и вот — этою весною выяснил для себя с несомненностью, что о напечатают его сейчас <...> нечего и думать. Встал вопрос: для чего тогда писать? Но я этот вопрос отпихнул, — и вот упоенно работаю все лето, и получаю огромнейшее наслаждение...»
Понять до конца состояние Булгакова в это лето он вряд ли мог — он уже нашел какие-то приемлемые для себя формы жизни и работы, сбалансированные с реальностью, и призывал к тому же Булгакова: «продолжаю думать, что надежда на загр. отпуск — надежда совершенно безумная. Да, вот именно, — «кто поверит?» <...> думаю, рассуждение там такое: «писал, что погибает в нужде, что готов быть даже театральным плотником, — ну вот, устроили, получает чуть не партмаксимум. Ну, а насчет всего остального — извините!» *
6
В это лето в Москву приехал Е. И. Замятин. После перипетий 1929—1930 г. он находился в том самом положении, в котором Булгаков был год назад (и к которому
* Комментарием к этому письму Вересаева могут служить воспоминания Б. Л. Леонтьева — «На целую зиму отправился он, например, на московскую калошную фабрику «Богатырь» в Богородском. Покинув хорошую квартиру, расставшись с привычными удобствами, снял каморку в тесной квартирке рабочего. И «нанялся» на фабрике санитарным врачом... Зато появилась через год интересная его книга о двух комсомолках — «Сестры» («Литературная Россия», 1965, 8 окт.)
468
теперь как бы приблизился заново); еще 15 июля 1929 г. Замятин писал Булгакову: «Как Вам известно — пьес я больше не пишу», а через год, 25 октября 1930 г. иронизировал: «К Вам — как к режиссеру и мастеру драматургии — направляю молодую драматургшу...» (оценивая этими словами полученную Булгаковым после мартовского письма возможность заниматься режиссурой и инсценировками; сам он в том же письме подписывается: «бывший писатель, а ныне — доцент Ленинградского кораблестроительного института»). Летом 1931 г. Замятин так же, как год назад Булгаков, обдумывал решительные шаги.
За помощью он вновь обратился к Горькому (он был в Москве с июня) и 3 июня 1931 г. писал жене в Ленинград: «Крючков уверял, что вопрос — дней. Послезавтра, вероятно, поеду на дачу к старику — ему лучше»; 14-го он побывал у Горького и 16-го сообщил Людмиле Николаевне, что «были только свои да Александр Николаевич (Тихонов — М. Ч.)», что Горький «был очень любезен», «взялся хлопотать и сегодня или завтра мое письмо «в собственные руки»; важное добавление: Горький «просит подумать» и на другой день снова — «просит передумать». «С Михаилом Афанасьевичем, — сообщил Замятин, — пока только созванивался; увижусь, вероятно, только завтра». 29-го июня, не дождавшись решения своего дела, Замятин собрался было уезжать домой, в Ленинград, но секретарь Горького П. Крючков удержал его, обещая скорых известий. Так он пробыл в Москве почти все лето, и 9 июля писал жене: «Если еще застряну — конечно, приезжайте: устроить жилье нетрудно, хотя бы у Мих<аила> Аф<анасьевича> (он сейчас один) или у вахтанговцев».
С Булгаковым он в это лето встречался не раз.
С. А. Ермолинскому запомнилось: специально, чтобы поговорить без свидетелей о письме Булгакова 1930 г. (возможно, только тогда и прочитанном Замятиным), они втроем пошли в Парк культуры. Конечно, Замятин знал о втором письме, но речь, как помнится Ермолинскому, шла о первом. «Вы совершили ошибку — поэтому Вам и отказано, — говорил Замятин. — Вы неправильно построили свое письмо — пустились в рассуждения о революции и эволюции, о сатире!.. А между тем надо было написать четко и ясно — что Вы просите Вас выпустить — и точка! Нет, я напишу правильное письмо!» Но разница была в том, что ни в момент писания, ни в это лето у Булгакова, по-видимому, вовсе не было полного совпадения в целях и желаниях с Замятиным. Однако, надо думать, впечатление от того, как Замятин при содействии Горького получил вскоре
469
положительный ответ на свое письмо, было оглушительным.
Замятин учел то, что сам он считал «ошибкой» Булгакова. Тон его письма был решительным, а просьба выражена совершенно определенно.
Он просил разрешить ему «временно, хотя бы на один год, выехать за границу — с тем, чтобы я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям, как только у нас хоть отчасти изменится взгляд на роль художника слова. А это время, я уверен, не за горами, потому что вслед за успешным созданием материальной базы неминуемо встанет вопрос о создании надстройки — искусства и литературы, которые действительно были бы достойны революции. ...Свою просьбу о выезде за границу я мог бы основывать и на мотивах более обычных, хотя и не менее серьезных... Все эти мотивы — налицо: но я не хочу скрывать, что основной причиной моей просьбы о разрешении мне вместе с женой выехать за границу — является безвыходное мое положение, как писателя, здесь, смертный приговор, вынесенный мне, как писателю, здесь. Исключительное внимание, которое встречали с Вашей стороны другие, обращавшиеся к Вам писатели, позволяет мне надеяться, что и моя просьба будет уважена» (концовка имела в виду, возможно, не только Пильняка, недавно отпущенного в заграничную поездку, но и разговор с Булгаковым).
22 августа была закончена рукописная редакция пьесы «Адам и Ева»; в ближайшие недели заключен договор с Ленинградским драматическим театром на инсценировку «Войны и мира» Л. Толстого. На самого Булгакова не мог, надо думать, не подействовать тот факт, что ровно год спустя он вновь имел дело с инсценировкой — хотя бы и романа одного из своих великих учителей.
30 августа Булгаков пишет письмо Станиславскому, в котором объясняет, как «получил предложение от одного из театров написать пьесу о будущей войне», как «совершенно железная необходимость заставила меня предоставить» пьесу театру Вахтангова, что в данном случае ему весьма важно было отсутствие в договоре пункта о возвращении аванса в случае запрещения, — непременного пункта мхатовских договоров («Я вечно под угрозой запрещения. Немыслимый пункт!»). «Я физически не имею возможности ждать до осени», писал он и предлагал свою пьесу — «если только у Вас есть желание включить ее в план театра». «Повторяю: железная необходимость руководит теперь моими договорами».
470
Ранней осенью 1931 Булгаков прочитал «Адама и Еву» дирекции Красного театра, и пьеса тут же была отвергнута ими — хотя и с большим смущением.
Примерно в это же время состоялось чтение пьесы в театре Вахтангова — по воспоминаниям Л. Е. Белозерской, в присутствии начальника Военно-Воздушных сил Алксниса: «Он сказал, что ставить эту пьесу нельзя, т. к. по ходу действия погибает Ленинград». На том дело и закончилось.
Все лето 1931 г. Булгаков работает над экземпляром «Кабалы святош» и 30 сентября посылает его Горькому со следующим письмом: «Многоуважаемый Алексей Максимович! При этом письме посылаю Вам экземпляр моей пьесы «Мольер» с теми поправками, которые мною сделаны по предложению Главного Репертуарного Комитета. В частности, предложено заменить название «Кабала святош» другим. Уважающий Вас М. Булгаков». Перемена заглавия (то, что такая инициатива исходила от Главреперткома, сам по себе поразительный факт — казалось бы, что Комитету защищать святош, обличенных заглавием?) во многом усложнила судьбу пьесы, как показало будущее.
Текст письма показывает, во всяком случае, наличие предварительной договоренности с Горьким — вообще активную включенность его в эту осень в судьбу пьесы. И действительно — 3 октября 1931 г. приходит долгожданное разрешение на постановку: приоткрывается какой-то просвет в то самое время, когда, казалось бы, надеяться было не на что. Эти качели судьбы станут в последующие годы как бы постоянным местожительством Булгакова.
6 октября Булгаков пишет в Ленинград в ГБДТ, предлагая театру разрешенного «Мольера», и 12-го подписывает привезенный ему договор.
В 20-х числах сентября Булгаков неожиданно получает письмо из Ленинграда от П. С. Попова, о судьбе которого с осени 1930 года, после его ареста, видимо, не имел известий.
Попов писал, что он в Ленинграде („минус один" — самого безболезненного из возможных решений его судьбы, его жене удалось добиться лишь благодаря имени ее великого деда) и занимается 22 тетрадями Пушкина, «доселе не опубликованными». «Здесь не тянет на драму, — продолжал он, — хотим походить в Оперный театр. В Александринке ежедневно идет некий «Страх» (пьеса А. Н. Афиногенова, — м. Ч.), но страх, говорят, ненастоящий. Ленинград — настоящий город: что-то мощное, солидное в нем по сравнению с московскими уличками и переулками. Но народа —
471
страсть. Трудно поверить: за один сентябрь месяц сюда переехало 80 тысяч человек. Мы попали в модное течение. (Он давал понять Булгакову, сколь велико количество высланных в Ленинград москвичей; три года спустя многим из них предстояло пуститься в гораздо более дальний путь. — М. Ч.) Цел ли Коля (Н. Н. Лямин. — М. Ч.) и что поделывает — поджидал, но не получил от него весточки». Так подавала весть разбросанная в 1929—31 гг. по городам и весям московская интеллигенция. Булгаков спешил ответить: «только что получил Ваше письмо от 24 октября. Очень обрадовался.» И тут же предлагал: «Если у Вас худо с финансами, я прошу Вас телеграфировать мне».
Письмо Попова было на роскошной зеленой веленевой бумаге с золотым и белым тиснением в левом углу (в фамильных дворянских архивах, хранящихся в Пушкинском доме, нетрудно было найти чистый, так и оставшийся навсегда не использованным, лист такой бумаги), что вызвало следующие строки в письме Булгакова: «убили Вы меня бумагой, на которой пишете. Ай хороша бумага! И вот, изволите видеть, на какой Вам приходится отвечать! Да еще карандашом. Чернила у меня совершенно несносные. На днях вплотную придется приниматься за гениального деда Анны Ильинишны (инсценировка «Войны и мира» была начата месяц назад, но потом отложена. — М. Ч.)... Собирался вчера уехать в Ленинград, пользуясь передышкой в МХАТ, но получил открытку, в коей мне предлагается явиться завтра в Военный Комиссариат. Полагаю, что это переосвидетельствование. <...> Коля живет пристойно» (что означало, что Лямины на месте, в Москве); «Мольер» мой получил литеру Б (разрешение на повсеместное исполнение) ».
«Дорогой Евгений Иванович, — писал он в тот же самый день Замятину. — Это что же за мода, — не писать добрым знакомым? Когда едете за границу? Мне сказали, что Вы в конце октября или начале ноября приедете в Москву. Черкните в ответ — когда? Мои театральные дела зовут меня в Ленинград и я совсем уже было собрался, но кроме ленинградских дел существуют, как известно, и московские, так что я свою поездку откладываю на ноябрь». Мы увидим далее, что это промедление оказалось роковым — присутствие Булгакова в Ленинграде, быть может, помешало бы развернуться событиям, произошедшим в первой половине ноября. «Итак, напишите спешно, — продолжал Булгаков, — когда навестите Москву и где остановитесь. «Мольер» мой разрешен. Сперва Москве и Ленин-
472
граду только, а затем и повсеместно (лит. Б). Приятная новость. Знатной путешественнице Людмиле Николаевне привет!» И еще раз подчеркивая, чтобы Замятин непременно дал знать о своем приезде, Булгаков заканчивал свое письмо так: «Приятно мне — провинциалу полюбоваться трубкой и чемоданом туриста!» Шутливая строка говорила о многом и писавшему, и получателю.
28 октября Замятин пишет ответ: «Итак, ура трем M — Михаилу, Максиму и Мольеру! <...> Стало быть, Вы поступаете в драматурги, а я — в Агасферы».
Эти слова обозначили развилку, на которой литературные и жизненные пути писателей, связанных пяти-шестилетней дружбой, расходились и, как с большой долей уверенности могли бы они оба предсказывать, — навсегда. Если не Замятина, то уж Булгакова, во всяком случае, слова об Агасфере вели к реплике героя непоставленного «Бега», Чарноты, который в финале пьесы остается в Константинополе и прощается с Голубковым и Корзухиной, возвращающимися в Россию: «Итак, пути наши разошлись, судьба нас развязала. Кто в петлю, кто в Питер, а я куда? Кто я теперь? Я — Вечный Жид отныне! Я — Агасфер. Летучий я голландец! Я — черт собачий!»
«Дорогой Агасфер!» — начинал Булгаков свое письмо к Замятину от 31 октября. «Из трех ЭМ'ов в Москве остались, увы, только двое — Михаил и Мольер» (к тому времени Горький уже давно находился в Сорренто). Через полгода он начнет письмо этим же обращением.
В том же письме Замятин сообщал о сроках отъезда: «Дальний мой путь начнется, вероятно, 14/XI. В Москве буду, должно быть числа 4—5...» Замятин уехал, действительно, не позже конца ноября; несомненно, в Москве они встретились и простились.
В ноябре — декабре Булгаков еще полностью уверен в том, что он, как написал Замятин, поступил в драматурги — то есть, в благополучной театральной судьбе «Мольера». 25 декабря он пишет Горькому: «Мой „Мольер" разрешен к постановке — вначале только для Москвы и Ленинграда, а потом и по литере „Б".
Зная, какое значение для разрешения пьесы имел Ваш хороший отзыв о ней, я от души хочу поблагодарить Вас. Я получил разрешение отправить пьесу в Берлин и отправил ее в Фишерферлаг, с которым обычно я заключаю договоры по охране и представлению моих пьес за границей». (Вскоре Горький направил в издательство свой отзыв о пьесе).
473
22 декабря Булгаков возобновляет работу над инсценировкой «Войны и мира», 31 декабря пишет восторженное письмо Станиславскому, принявшему в последний месяц участие в репетициях «Мертвых душ»: «Цель этого неделового письма выразить то восхищение, под влиянием которого я нахожусь все эти дни. В течение трех часов Вы на моих глазах ту узловую сцену, которая замерла и не шла, превратили в живую. Существует театральное волшебство!..»
Итак, ожидались по меньшей мере две постановки — «Мольер» в Ленинграде и «Мертвые души» во МХАТе. А Бакинскому театру Булгаков обещал пьесу «Адам и Ева» — она ведь во всяком случае не была запрещена, театры отказались от нее еще до разрешения.
Следующий год, однако, не замедлил принести свои сюрпризы — как приятные, так и неприятные. И в частной, и в литературной жизни Булгакова год этот стал переломным. С осени 1932 г. в его судьбе станет различимым для ретроспективного взгляда некое единое, уже не менявшееся устремление.
7 Федор Николаевич Михальский, тот, кто через несколько лет будет навсегда запечатлен в Филиппе Филипповиче «Театрального романа», в 1960-е годы так вспоминал события середины января 1932 г.:
«Ясно хранится в памяти день, когда в кабинете К. С. Станиславского раздался телефонный звонок члена Комиссии по руководству Большим и Художественным театром А. С. Енукидзе, задавшего вопрос — сможет ли театр примерно в течение месяца возобновить «Турбиных». — Да, да, конечно! Созваны дирекция, Режиссерская коллегия, Постановочная часть и тотчас же за работу по восстановлению спектакля.
Я немедленно позвонил Михаилу Афанасьевичу домой. И в ответ после секунд молчания слышу упавший, потрясенный голос: «Федор Николаевич, не можете ли Вы сейчас же приехать ко мне».
...Вот я на Пироговской, вхожу в первую комнату. На диване полулежит Михаил Афанасьевич, ноги в горячей воде, на голове и на сердце холодные компрессы. «Ну, рассказывайте, рассказывайте!» Я несколько раз повторяю рассказ и о звонке А. С. Енукидзе и о праздничном настроении в театре. Пересилив себя, Михаил Афанасьевич поднимается. Ведь что-то надо делать. «Едем, едем!» И мы отправляемся в Союз писателей, в Управление авторских прав и,
474
наконец, в Художественный театр. Здесь его встречают поздравлениями, дружескими объятиями и радостными словами.
И с этого мгновения «Турбины» надолго остаются в репертуаре театра, включаются в гастрольные поездки и в Ленинград и в Киев, куда неоднократно Михаил Афанасьевич приезжал к нам. Я слышу его веселый, насмешливый голос и в Дворцах культуры Ленинграда, и в «Астории», где все мы живем, и за вечерними встречами во внутреннем садике киевской гостиницы «Континенталь»... Однако до веселого голоса еще далеко. Пока, как рассказывает сам же Михальский, ноги в горячей воде, холодные компрессы на сердце. Человек с дипломом лекаря с отличием хорошо представляет, что именно надо предпринимать в подобных случаях. «Вы уже знаете? — напишет он 25 января П. С. Попову. — Дошло к Вам в Ленинград и Тярлево? Нет? Извольте: 15 января днем мне позвонили из Театра и сообщили, что «Дни Турбиных» срочно возобновляются. Мне неприятно признаться: сообщение меня раздавило. Мне стало физически нехорошо. Хлынула радость, но сейчас же и моя тоска. Сердце, сердце!» Прочитаем письмо, в котором содержится это сообщение, с начала — и увидим, насколько оно безрадостно: «Дорогой Павел Сергеевич! Вот наконец-то пишется ответ на Ваше последнее письмо. Бессонница, ныне верная подруга моя, приходит на помощь и водит пером. ...Итак, дорогой друг, чем закусывать, спрашиваете Вы?..» А письмо П. С. Попова от 28 декабря 1931 г., на которое он отвечал, гласило: «Дорогой Михаил Афанасьевич! Извините, но Вы делаете явную ошибку (намек на задержку обещанного еще в ноябре приезда в Ленинград. — М, Ч.). Вы не подумали о том, чем закусывать. Лучше крепкого соленого душистого огурца ничего быть не может. Вы скажете — гриб лучше. Ошибаетесь. Огурцы были привезены из Москвы (Анне Ильинишне Толстой, жене П. С. Попова, препятствий в передвижении не чинили. — М. Ч.). Но уже в них появляется дряблость. Вы, я надеюсь, понимаете, что с дряблостью далеко не уедешь. Огурец должен быть душистый и крепкий, как сказано выше. Вы скажете — ветчина. Да — ветчина. Это верно — окорок скоро будет коптиться. Наша хозяйка — старушка уже справилась обо всем в коптильне в Павловске. Но и ветчина хороша с огурцом. Так что спешите». Форма письма послужила своего рода литературным вызовом, определив в какой-то степени форму ответного и дав, быть может, толчок ко всей серии писем января — апреля 1932 г.
475
Итак, «Ветчиной, — твердо отвечал Булгаков. — Но этого мало. Закусывать надо в сумерки на старом потертом диване среди старых и верных вещей. Собака должна сидеть на полу у стула, а трамваи слышаться не должны. Сейчас шестой час утра, и вот они уже воют, из парка расходятся. Содрогается мое проклятое жилье. Впрочем, не буду гневить судьбу, а то летом, чего доброго, и его лишишься — кончается контракт.
...В моей яме (квартира была полуподвальной. — М. Ч.) живет скверная компания: бронхит, рейматизм и черненькая дамочка — Нейрастения. Их выселить нельзя. Дудки! От них нужно уехать самому.
Куда?
Куда, Павел Сергеевич?
Впрочем, полагаю, что такое письмо Вам радости не доставит, и перехожу к другим сообщениям». Только тут он сообщал адресату о событии десятидневной давности — звонке из театра о «Днях Турбиных».
Письмо явно свидетельствует, что жилье его содрогается.
И толчки будут ощущаться в каждом последующем письме этих месяцев. Семейная жизнь расползалась. Любовь Евгеньевна была увлечена верховой ездой, потом автомобилями, в доме толклись ненужные ему люди. Телефон висел над его письменным столом, и жена все время весело болтала с подругами. Елена Сергеевна передавала нам в 1969 г. со слов Булгакова следующий эпизод, звучащий правдоподобно: «Однажды он сказал ей: — Люба, так невозможно, ведь я работаю! — И она ответила беспечно: — Ничего, ты не Достоевский! — Он побледнел, — говорила Елена Сергеевна, — рассказывая мне это. Он никогда не мог простить этого Любе». Часто бывавшая в те годы в доме Булгаковых на Пироговской Марика Артемьевна Чимишкиан рассказывала 26 ноября 1969 г.: «Однажды я вошла к ним — Любы не было — и увидела Михаила Афанасьевича в халате, в колпаке, на четвереньках у стены, с керосинкой на полу — это он просушивал квартиру, она все казалась ему сырой. Он страшно смутился, просил никому не говорить». Такой рассказ непременно вызвал бы взрывы смеха в компании Любови Евгеньевны, а его это веселье уже утомляло. Жена любила розыгрыши — он и сам был не чужд им еще недавно, но теперь все было как-то невпопад. Продолжим рассказ Марики Артемьевны: «Однажды домработница открыла дверь и бежит обратно: „Любовь Евгеньевна,
476
что делать, Петр Иванович босой пришел!" А это Петя Васильев, Петяня, как его звала Любаша, надел прямо на ботинки босые огромные ступни из папье-маше... Люба мне говорит: „Скорей ложись на мою кровать, сейчас Мака приедет!" Я ложусь, она накрывает меня пледом и из-под него торчат огромные босые ступни. Тут откуда-то приехал Михаил Афанасьевич, спрашивает, как дела дома. Все хорошо, только вот у Марики что-то случилось — распухли ноги». Он идет в Любину комнату и видит мои ноги... Ну, потом, конечно, он нас очень ругал...». «Медицинские» шутки он, видно, вообще переносил тяжело — чувство врачебной ответственности, не изгладившееся за много лет, мгновенно оживало, мешало оценить ситуацию.
По понятным причинам можно было бы усомниться в беспристрастной точности и этого рассказа, и других мелких, но существенных деталей. (Он любил только свежезаваренный чай, рассказывала Елена Сергеевна. Отставлял стакан, просил — «Нельзя ли заварить?» А хозяйка перемигивалась с домработницей, и та уверяла: «Да я только что заварила!»). Но, однако, в рассказах подруг Любови Евгеньевны эти свидетельства получают подтверждение — похоже, что жизнь в доме на Пироговской и правда шла под знаком слов: «Ты не Достоевский!» Хозяйка дома сама была человеком живым, неординарным; у нее были свои интересы, свой круг друзей, друзья любили ее. Не беремся судить — высоко ли ценила она талант человека, который был с ней рядом. Его жизнь не была, во всяком случае, в центре ее внимания.
Впрочем, любые попытки рациональных объяснений будут бессмысленны. То, что было мило и хорошо, становится вдруг немило и постыло. Жилье содрогалось — вместе с самой жизнью.
Задуматься, надо сказать, было над чем.
Итак, «Дни Турбиных» срочно возобновлялись.
Но ожидание оказалось, пожалуй, слишком долгим («Сердце, сердце!»). И как бы возбужденно-восторженно не пересказывали ему мхатовцы заданный будто бы вопрос: а почему давно не видно на сцене «Дней Турбиных»? — после чего и последовало мгновенное возобновление, он-то сам прекрасно помнил, и мог проверить по копии, что еще в марте 1930 года уведомлял в письме к правительству, что все его пьесы сняты. Можно себе представить, как напряженно ждал он с весны того года возвращения на сцену хотя бы одной из них. Разрешение пришло, пожалуй, имен-
477
но тогда, когда он и ждать устал — вот почему оно его «раздавило».
29—30 января Булгаков комически описывал, как возобновлению пьесы предшествовал «колдовской знак»: вошла домработница и «изрекла твердо и пророчески: — Трубная пьеса ваша пойдет. Получите тыщу», как после известия «было три несчастья», и первое «вылилось в формулу: «Поздравляю. Теперь Вы разбогатеете!» Раз — ничего. Два — ничего. Но на сотом человеке стало тяжко. А все-таки, некультурны мы! Что за способ такой поздравлять!» «Номер второй: „Я смертельно обижусь, если не получу билеты на премьеру". Наконец, третье — «московскому обывателю, оказалось, до зарезу нужно было узнать: „Что это значит?" И этим вопросом они стали истязать меня. Нашли источник!» Этот блестящий очерк нравов отзовется в последующих письмах Попова. Включаясь в литературную игру, 28 февраля он ловко подхватывал все основные темы письма, начиная с домработницы, попутно давал сведения о своем нынешнем положении: «Мы и вовсе обходимся без прислуги (нам хозяйка готовит), тем более, что ни трубные, ни безтрубные пьесы нас спасти не могут, я только по утрам воду качаю, и лишь раз прошел через огонь и воду и медные трубы (воспоминания о недавних драматических перипетиях, предшествовавших его переселению в Ленинград, — M. Ч.). Впрочем, мы тоже не без Кремля, кому — «возобновить» (т. е. распоряжение о возобновлении «Дней Турбиных» — М. Ч.), а кому — «пора в Москву» (хлопоты А. И. Толстой — «пришлось повисеть на бороде деда», как юмористически поясняла она друзьям — к этому времени успешно завершались. — М. Ч.). Можно-то можно, но только не хочется. Я уже не москвич, передо мной Петербург уже не вкопанный город, движущийся только на экране, на который посмотришь и — поезжай дальше. Он для меня — зажил. Передо мной перемены. Я уже в его «истории». Ведь это эра: прибавили на Загородной остановку у Гороховой, а у Можайской отменили, в Казанском соборе была икона, теперь музей Академии наук, где даже Дундука сократили, не было Астории — есть Астория, и с фокс-троттом, и сам барон Врангель вовсе никуда не бежит, как другие думают, а важно во фраке ходит между столиками. Словом, «зажил» я в другом городе, и улица Герцена соединяет Невский с Исакиевской площадью, а университет тут не при чем (т. е. в отличие от Москвы, где здание университета выходит боком на улицу Герцена, — М. Ч.), университет на Васильевском острове. Вы-то уж
478
чай забыли, что университет — Владимира и подол у Вас остался только на женском платье?» — напоминание о Киевском университете св. Владимира и нижней части города — Подоле, описанной в «Белой гвардии». А одна из упомянутых им тогдашних достопримечательностей ленинградского быта уясняется из воспоминаний Т. А. Аксаковой-Сиверс о Ленинграде 1931 —1932 гг., о том, как ходила она в ресторан «Астория» — «только ради прекрасных тортов. Впоследствии я нашла способ получать порции этих тортов «на вынос», благодаря знакомству с метрдотелем этого ресторана бароном Николаем Платоновичем Врангелем, пожилым человеком приятной наружности, всю жизнь служившим по министерству иностранных дел. Находясь в нужде, старик Врангель принял эту, несоответствующую его сущности, должность, что, в свою очередь, породило ряд парадоксальных положений. В описываемое время «Астория» из рабочей столовой превратилась уже в фешенебельную гостиницу для высокопоставленных иностранцев. Единственным умевшим с ними разговаривать человеком часто оказывался метрдотель Врангель. Гости ни на минутку не отпускали его от себя, были от него в восторге, а какой-то восточный принц категорически отказался ехать без него на торжественный спектакль в Мариинском театре. Таким образом, в правительственной ложе, рядом с принцем и его свитой, во фраке и с безукоризненными манерами сидел метрдотель из ресторана...» В том же письме Попов отзывался поочередно на «три несчастья», перечисленные в письме Булгакова: «Вот марксистов тут меньше, чем в Москве, поэтому я об экономических основах Турбинской пьесы и не подумал; на первое представление не успел попасть, так что и перед Михальским не пришлось делать масляных глаз и 3) даже не подумал, «что это значит»? Мало того — Эйхенбауму * внушил, что Вы... ни с кем не дружны, что это был всего телефонный разговор, причем Вы и не разобрали, кто говорит, да письмишко, и по телефону-то говорили под самую Пасху, а ведь праздники упразднили. Эйхенбаум выпил, закусил и поверил и перестал ссылаться на Слонимского, «только что» приехавшего из Москвы». А я тоже «только что» собираюсь в Москву — вот тоже аргументы!»
В это время Попов уже таким образом играл роль знатока биографии Булгакова, — и опровергал, как видим,
* Литературовед Б. М. Эйхенбаум был связан с Поповым в это время работой над собранием сочинений Толстого.
479
уже зародившиеся в московской и ленинградской литературной среде (и воспроизводящиеся вплоть до наших дней) слухи о «дружбе» Булгакова со Сталиным. Феномен молвы, «московских слухов» вообще занимал Булгакова; эти слухи и подтолкнули его, надо думать, к созданию впоследствии целого цикла шуточных устных рассказов об этой дружбе.
...На вопросы москвичей Булгаков давал в том длинном письме Попову такой ответ:
«Я знаю.
В половине января 1932 года, в силу причин, которые мне неизвестны и в рассмотрение коих я входить не могу, Правительство СССР отдало по МХТ замечательное распоряжение: пьесу «Дни Турбиных» возобновить.
Для автора этой пьесы это значит, что ему — автору — возвращена часть его жизни. Вот и все».
В собственной булгаковской интерпретации того, «что это значит», — не красоты эпистолярного слога (хотя большая обдуманность форм писем к Попову очевидна) и нежелание (опять-таки продиктованное условиями переписки) скрыть свои действительные соображения. Скорее уж желание подвести черту под собственными мучительными теперь уже почти двухлетними размышлениями.
Деятели МХАТа и сама Елена Сергеевна рассказывали впоследствии, что дело будто бы обстояло так, что в январе 1932 г. Сталин был в МХАТе на спектакле «Горячее сердце» и поинтересовался, почему давно не видит на сцене «Дни Турбиных». Кто-то из дирекции, едва ли не Немирович-Данченко, замявшись, как-то разъяснил ему ситуацию в удобных для разговора словах, и будто бы выражено было нечто вроде возмущения. И на другой день последовал звонок А. С. Енукидзе.
Объясняло ли это что-то Булгакову? Думаем, что нет; он прекрасно помнил, и мог проверить по копии, что в письме 1930 г. ясно сообщал, что все пьесы его сняты. Никаких действий по этому поводу ни в тот год, ни в следующий адресатом не было предпринято. А можно представить себе, как автор ждал все это время возвращения на сцену хотя бы одной своей пьесы. Разрешение пришло, пожалуй, именно тогда, когда он и ждать перестал: вот почему «сообщение меня раздавило». Причины, по которым разрешение последовало не раньше, не позже как именно через полтора года, были не только неизвестны Булгакову, но, мы думаем, были помещены им, после мучительных размышлений, в разряд явлений, искать объяснений которым бессмысленно.
480
11 февраля был первый показ «Дней Турбиных», 18 февраля — премьера. «От Тверской до Театра, — описывал Булгаков Попову, — стояли мужские фигуры и бормотали механически: «Нет ли лишнего билетика?» То же было и со стороны Дмитровки. В зале я не был. Я был за кулисами, и актеры волновались так, что заразили меня. Я стал перемещаться с места на место, опустели руки и ноги. ... Когда возбужденные до предела петлюровцы погнали Николку, помощник выстрелил у моего уха из револьвера, и этим мгновенно привел в себя. На кругу стало просторно, появилось пианино, и мальчик баритон запел эпиталаму».
Напомним здесь, что письмо пишется 24 апреля, премьера описывается ретроспективно — и уже сквозь призму того глубокого меланхолического настроения, которое владеет Булгаковым после происшедших за истекшие месяцы событий. Это усиливает горечь в дальнейшем описании.
«Тут появился гонец в виде прекрасной женщины. У меня в последнее время отточилась до последней степени способность, с которой очень тяжело жить. Способность заранее знать, что хочет от меня человек, подходящий ко мне. По-видимому, чехлы на нервах уже совершенно истрепались, а общение с моей собакой научило меня быть всегда настороже.
Словом, я знаю, что мне скажут, и плохо то, что я знаю, что мне ничего нового не скажут. Ничего неожиданного не будет, все — известно.
Я только глянул на напряженно улыбающийся рот и уже знал — будут просить не выходить...
Гонец сказал, что Ка-Эс звонил и спрашивает, где я и как я себя чувствую?..
Я просил благодарить — чувствую себя хорошо, а нахожусь я за кулисами и на вызовы не пойду.
О, как сиял гонец! И сказал, что Ка-Эс полагает, что это мудрое решение.
Особенной мудрости в этом решении нет. Это очень простое решение. Мне не хочется ни поклонов, ни вызовов, мне вообще ничего не хочется кроме того, чтобы меня Христа ради оставили в покое, чтобы я мог брать горячие ванны и не думать каждый день о том, что мне делать с моей собакой, когда в июне кончится квартирный контракт.
Вообще мне ничего решительно не хочется.
Занавес давали 20 раз. Потом актеры и знакомые истязали меня вопросами — зачем не вышел? Что за демонстрация? Выходит так: выйдешь — демонстрация, не вый-
481
дешь — тоже демонстрация. Не знаю, не знаю, как быть. До следующего письма, Ваш М. Анне Ильиничне привет».
Что же произошло за эти два месяца? Сначала, как говорится, все шло хорошо, и на волне бурных репетиций восстанавливаемого спектакля Булгаков заканчивал с осени висевшую на нем работу — инсценировку «Войны и мира». 27 февраля он отсылает ее в Ленинград (срок договора истекал 1 марта). «Я свалил с плеч инсценировку «Войны и мира», — писал он брату Николаю 13 марта. А 14 марта Большой драматический театр (Ленинград) сообщил ему об отклонении пьесы «Мольер» и расторжении договора.
Это сообщение, судя по всему, поразило автора как гром среди ясного неба.
В течение нескольких дней Булгаков стремился собрать информацию — в чем дело. 19 марта он сел писать письмо П. С. Попову. «Дорогой Павел Сергеевич!
«Разбиваю письмо на главы.
Иначе запутаюсь.
Гл. I Удар финским ножом
Большой Драматический Театр в Ленинграде прислал мне сообщение о том, что Худполитсовет отклонил мою пьесу «Мольер». Театр освободил меня от обязательств по договору.
а) На пьесе литера «Б» Главреперткома, разрешающая постановку безусловно.
б) За право постановки театр автору заплатил деньги.
в) Пьеса уже шла в работу. Что же это такое? Прежде всего это такой удар для меня, что описывать его не буду. Тяжело и долго. На апрельскую (примерно) премьеру на Фонтанке поставил все. Карту убили. Дымом улетело лето... ну, словом, что тут говорить. О том, что это настоящий удар, сообщаю Вам одному. Не говорите никому, чтобы на этом не сыграли и не причинили бы мне дальнейший вред.
Далее это обозначает, что, к ужасу моему, виза Главреперткома действительна на всех пьесах кроме моих.
Приятным долгом считаю заявить, что на сей раз никаких претензий к государственным органам иметь не могу. Виза — вот она. Государство в лице своих контрольных органов не снимало пьесы. И оно не отвечает за то, что театр снимает пьесу.
Кто же снял? Театр? Помилуйте! За что же он 1200 рублей заплатил и гонял Члена дирекции в Москву писать со мной договор?
Наконец, грянула информация из Ленинграда. Оказа-
482
лось, что пьесу снял не государственный орган. Уничтожил Мольера совершенно неожиданный персонаж! Убило Мольера частное, неответственное, не политическое, кустарное и скромное лицо и по соображениям совершенно не политическим. Лицо это по профессии драматург. Оно явилось в Театр и так напугало его, что он выронил пьесу.
Первоначально, когда мне сообщили о появлении драматурга, я засмеялся. Но очень быстро смеяться я перестал. Сомнений, увы, нет. Сообщают разные лица. Что же это такое?!
Это вот что: на Фонтанке, среди бела дня, меня ударили сзади финским ножом при молчаливо стоящей публике. Театр, впрочем, божится, что он кричал «караул», но никто не прибежал на помощь.
Не смею сомневаться, что он кричал, но он тихо кричал. Ему бы крикнуть по телеграфу в Москву хотя бы в Народный Комиссариат Просвещения.
Сейчас ко мне наклонилось два — три сочувствующих лица. Видят, плывет гражданин в своей крови. Говорят «кричи!» Кричать лежа считаю неудобным. Это не драматургическое дело!
Просьба, Павел Сергеевич, может быть, Вы видели в ленинградских газетах след этого дела. Примета: какая-то карикатура, возможно, заметка. Сообщите! Зачем? Не знаю сам. Вероятно, просто горькое удовольствие еще раз глянуть в лицо подколовшему». (Вскоре выяснилось, что события разыгрались в ноябре, когда в «Вечерней Красной газете» была напечатана заметка Вс. Вишневского «Кто же вы?», обвинявшая театр в связи с принятием к постановке пьесы «Мольер» в идеологической неразборчивости. Личный визит драматурга в театр — с собственной пьесой — довершил дело. Отметим такую ныне забытую, но хорошо знакомую современникам деталь: драматург перед чтением своих пьес отстегивал кобуру с револьвером и клал рядом на стол. Этот, конечно, театральный жест имел нередко нетеатральный эффект.)
И в следующем письме, от 27 марта, Булгаков, отвечая на контробъяснения Попова, уверяет его, что похоронил пьесу, «как я Вам точно сообщаю, некий драматург, о коем мною уже получены многочисленные аттестации. И аттестации эти одна траурнее другой. Внешне: открытое лицо, работа «под братишку», в настоящее время крейсирует в Москве. Меня уверяют, что есть надежда, что его догонит в один прекрасный момент государственный корвет, идущий под военным флагом, и тогда флибустьер пойдет ко дну
483
в два счета. Но у меня этой надежды нисколько нет (источник не солидный уверяет).
Да, черт с ним, с флибустьером! Сам он меня не интересует. Для меня есть более важный вопрос: что же это, в конце концов, будет с «Мольером» вне Москвы. Ведь такие плавают в каждом городе. <...> Вот какая напасть. В последние дни, как возьмусь за перо, начинает болеть голова. Устал. Вынужден оставить письмо. Ждите продолжения».
Итак, не во флибустьере дело, дело в том, что же делать дальше?
Состояние, в котором пребывает Булгаков весной 1932 г., близко, на наш взгляд, к тому, в каком находился он два предыдущих года, и вместе с тем существенно отлично от тех лет. Весной 1930 года он находился в полном отчаянии и, не имея ни малейшей надежды, готовился к казавшемуся естественным в безнадежном положении решительному шагу. Весной 1931 года им владело, по-видимому, непрекращающееся внутреннее беспокойство, желание произвести еще какие-то необходимые действия, ощущение временности длящегося неопределенного положения, ожидание «настоящего» перелома в своей судьбе, надежда на обещанную встречу, прямо высказанная им во втором письме. Все это мешало последовательной работе над романом, писать который он уже мечтал в том году и делал новые наброски. «...С неудержимой силой во мне загорелись новые творческие замыслы, — писал он, — ...замыслы эти широки и сильны...». «Замыслы», на наш взгляд, относятся в первую очередь к роману, который был в эти два года переосмыслен. В тетрадях 1931 г. появляются первые наброски одной из последних глав — «Полет Воланда». Обозначилась Маргарита — одной ремаркой в первой тетради («Маргарита заговорила страстно...») и единственной репликой во второй: «— Нет, нет, — счастливо вскричала Маргарита, — пусть свистнет! Прошу вас! Я так давно не веселилась!» Появился и новый герой — безымянный спутник Маргариты. Сделана была даже попытка вести повествование от его лица: «Должен заметить, что свиста я не услыхал, но я его увидал... тут я разглядел, что человек с портфелем лежит раскинувшись и из головы у него течет кровь...» В начале листа с набросками «Полета Воланда», в правом углу, теми же синими чернилами, которыми сделаны немногие наброски финала, запись: «Помоги, Господи, кончить роман». Она говорит, среди прочего, о том, что в 1931 году Булгаков надеялся на непрерывную работу над
484
своим однажды погубленным романом, стремясь полностью осуществить замысел уже в его изменившихся очертаниях.
В ту весну такая последовательная работа оказалась невозможной — она была в какой-то степени вытеснена попытками судорожных действий. За истекший с того времени год отъезд Замятина, столь значимый в общем контексте, гробовое молчание в ответ на его собственное письмо, неожиданное, капризное возвращение на сцену «Дней Турбиных» и отказ ленинградского театра от разрешенного благодаря мучительным хлопотам «Мольера» (разрешенного опять-таки спустя год с лишним после первого письма — и в основном благодаря Горькому) — вся эта цепочка событий и несобытий, становящихся значительными событиями (молчание адресата), приводила к тому ощущению полной неустойчивости, зависимости, которое и может стать опорой для уединенной работы. Жизнь возвращали только частично (напомним слова в письме к Попову о том, что автору «возвращена часть его жизни»), притом право выбора части ему не принадлежало. Уже ничего нельзя было вычислить, рассчитать, обдумать и решать. Жизнь так и должна была идти во власти неведомых, неуправляемых сил и пора было отдаться, наконец, судьбе и стремиться лишь к посильному осмыслению ее.
«Пять часов утра. Не спится. Лежал, беседовал сам с собой, а теперь, Павел Сергеевич, позвольте побеседовать с Вами», — так начиналось письмо к Попову от 14 апреля 1932 года. «Старых друзей нельзя забывать — Вы правы. Совсем недавно один близкий мне человек утешил меня предсказанием, что, когда я вскоре буду умирать и позову, то никто не придет ко мне, кроме Черного Монаха. Представьте, какое совпадение. Еще до этого предсказания засел у меня в голове этот рассказ. И страшновато как-то все-таки, если уж никто не придет. Но, что же поделаешь, сложилась жизнь моя так». По устному свидетельству Е. С. Булгаковой, эти страшные слова были сказаны в ту печальную весну его женой; жизнь на Пироговской расползалась, но как-то продолжалась. «Теперь уже всякую ночь, — продолжалось письмо, — я смотрю не вперед, а назад, потому что в будущем я для себя ничего не вижу. В прошлом же я совершил пять роковых ошибок. Не будь их, не было бы разговоров о Монахе, и самое солнце светило бы мне по-иному, и сочинял бы я, не шевеля беззвучно губами на рассвете, а как следует быть за письменным столом. <...> Но теперь уж делать нечего, ничего не вернешь. (Ср. настойчивый мотив возвращения прошлой «непра-
485
вильно» разрешенной ситуации во всех последующих редакциях «Мастера и Маргариты». — М. Ч.). Проклинаю я только те два припадка нежданной, налетевшей как обморок робости, из-за которой я совершил две ошибки из пяти. Оправдание у меня есть: эта робость была случайна — плод утомления. Я устал за годы моей литературной работы. Оправдание есть, но утешения нет». Можно предполагать, что эти две ошибки относятся к сравнительно недавнему времени (до них прошли «годы литературной работы», накопилось утомление) и что одна из них — результат разговора с Е. А. Шиловским, потребовавшим полного разрыва Булгакова с Еленой Сергеевной Шиловской. К моменту появления цитированных строк в письме к П. С. Попову они не виделись и не говорили по телефону около года, и Булгаков тяжело переживал потерю, казавшуюся необратимой. С большей уверенностью можно говорить о том, что второй «роковой ошибкой», совершенной из-за робости, Булгаков мог считать теперь какие-то свои ответные реплики в беседе со Сталиным, заставшей его врасплох 18 апреля 1930 г., причем ошибочность прояснилась не сразу, а в последующие год — полтора.
«15 апреля.
Продолжаю!
Итак, усталый, чувствуя, что непременно надо и пора подводить итог, принять все окончательные решения, я все проверяю прошедшую жизнь и вспоминаю, кто же был моим другом. Их так мало. Я помню Вас, во всяком случае помню твердо, Павел Сергеевич.
20.IV.
Что это за наказание! Шесть дней пишется письмо. Дьявол какой-то меня заколдовал.
Продолжаю: так вот в дружелюбные руки примите часть душевного бремени, которое мне уже трудно нести одному. Это, собственно, не письмо, а заметки о днях... ну, словом, буду писать Вам о „Турбиных", о Мольере и о многом еще. Знаю, что это не светский прием, говорить только о себе, но писать ничего и ни о чем не могу, пока не развяжу свой душевный узел. Прежде всего о „Турбиных", потому что на этой пьесе как на нити подвешена теперь вся моя жизнь и еженощно я воссылаю моления судьбе, чтобы никакой меч эту нить не перерезал.
Но прежде всего иду на репетицию (с конца марта во МХАТе начались репетиции принятого к постановке «Мольера» — М. Ч.), а затем буду спать, а уж выспавшись, письмо сочиню». Следующее письмо, написанное через не-
486
сколько дней, и описывало премьеру возобновленных «Дней Турбиных».
А 7 мая, приступая к описанию истории инсценировки «Мертвых душ», Булгаков писал П. С. Попову: «Итак, мертвые души... Через девять дней мне исполнится 41 год. Это — чудовищно! Но тем не менее это так.
И вот, к концу моей писательской работы, я был вынужден сочинять инсценировки. Какой блистательный финал, не правда ли?» (Напомним, что и зима текущего года прошла под знаком инсценировки «Войны и мира», так что впечатления 1930 года были, так сказать, освежены, усиливали меланхолическую ноту). «Я смотрю на полки и ужасаюсь: кого, кого мне придется инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Брокгауза-Ефрона? Островского? Но последний, по счастью, сам себя инсценировал, очевидно, предвидя то, что случится со мною в 1929—1931 гг.».
Так, подведя неутешительный итог своей жизни и вряд ли приняв «окончательные решения», занятый случайными заработками (переделка диалогов в звуковом фильме «Восстание рыбаков»), написав два заявления К. С. Станиславскому с просьбой о деньгах (в счет авторского гонорара) для взноса «в надстраивающийся дом писателя» («Мне негде будет жить, если я не въеду к зиме»), получив открытку от Замятина из Монако с видом залитого солнцем порта, явно так и не взявшись за всю первую половину года ни за одну внутренне обязательную работу, он встретил лето 1932 года. В это время редакция организуемой Горьким серии «Жизнь замечательных людей» предложила ему написать биографию Мольера. 11 июля был заключен договор; видимо, тут же и началась работа — 4 августа Булгаков пишет Попову: «Дорогой друг Павел Сергеевич, как только Жан-Батист Поклен де Мольер несколько отпустит мою душу и я получу возможность немного соображать, с жадностью Вам стану писать. Биография — 10 листов — да еще в жару — да еще в Москве!» Переписка с Поповым, родившаяся от невозможности писать что-либо иное — и невозможности не писать («Боюсь, что письмо длинно, — извинялся он 29 января. — Но в полном моем одиночестве давно уже ржавеет мое перо, ведь я не совсем еще умер, я хочу говорить настоящими моими словами!»), заменяется, наконец, увлекающей его литературной работой.
В это же лето происходит многозначащее событие в жизни Булгакова. Елена Сергеевна рассказывала, что они встретились — впервые после 15 месяцев разлуки, в ресто-
487
ране «Метрополь», на людях, при посредстве Ф. Н. Михальского, давнего (с первого московского года) друга Елены Сергеевны. Обоим стало ясно, что они по-прежнему любят друг друга. Это было в июне; Елена Сергеевна уехала с детьми в Лебедянь.
Она рассказывала нам, как ходила по два часа в поле, в лесу — думала. И наконец написала мужу письмо — «Отпусти меня!..» «Молила бога об ответе — и откуда-то сверху упал конверт: бросил в форточку почтальон... Пошла искать место, где бы прочесть без детей. Читала в деревенской уборной, солнце сквозь щели, жужжали мухи. С тех пор люблю жужжанье мух. Шиловский отпускал меня. Он писал: «Я относился к тебе как к ребенку, был неправ... Можно мне приехать?» Приехал, жил несколько дней. Вдруг — стал умолять, чтобы осталась в доме. Я, дура, согласилась», — сокрушенно вспоминала она. В конце лета вернулась в Москву. «Миша сказал мне, когда узнал, что я собираюсь остаться в доме, — „Ты что, с ума сошла?" Я написала Шиловскому в Сочи. М. А. приписал: «Дорогой Евгений Александрович, пройдите мимо нашего счастья...». Шиловский прислал ответ — мне. Была приписка: «Михаил Афанасьевич, то, что я делаю, я делаю не для Вас, а для Елены Сергеевны». Миша побледнел, — Елена Сергеевна всегда именно так описывала состояние его глубокой задетости чьими-то словами. — Всю жизнь это горело на его лице как пощечина».
Сохранился первый лист письма Булгакова; неизвестно, часть ли это отосланного письма (возвращенного Шиловским Елене Сергеевне) или вариант неотосланного — быть может, относящегося к первым дням после встречи, еще до Лебедяни: «Дорогой Евгений Александрович, я виделся с Еленой Сергеевной по ее вызову и мы объяснились с нею. Мы любим друг друга так же, как любили раньше» (продолжение не сохранилось). Крайне трудным был для Елены Сергеевны разговор со старшим сыном — десятилетним Женей, боготворившим красавицу-мать; он должен был остаться с отцом в доме, который она покидала; младшего, пятилетнего Сережу, мать забирала с собой на Пироговскую.
(Рассказывая нам о том, как в 1957 году тридцатипятилетний сын умирал на ее руках, Елена Сергеевна, столь много уже пережившая, сказала твердо: «Тот разговор с Женечкой и его смерть — эти две вещи самое тяжелое, что было в моей жизни»).
Шиловский потребовал, чтобы Булгаков пришел к нему
488
в дом для последнего разговора. Ей он не позволил присутствовать при разговоре. Она рассказывала нам осенью 1969 года, что пряталась на противоположной стороне переулка, за воротами церкви («Ворота и сейчас там стоят, Вы можете их увидеть», — поясняла она), видела, как понурый и бледный прошел он в дом. Во время разговора Шиловский, не сдержавшись, выхватил пистолет. Булгаков, побледнев, сказал (Елена Сергеевна передавала его тихую, сдержанную интонацию) : «Не будете же Вы стрелять в безоружного?.. Дуэль — пожалуйста!» Легко представить, как услужливо вынесла ему память из тайников сознания впечатления 1918—1920, отвратительное ощущение бессилия безоружного человека перед слепой силой вооруженного.
3 сентября Шиловский писал родителям Елены Сергеевны в Ригу: «Когда Вы получите это письмо, мы с Еленой Сергеевной уже не будем мужем и женой... Мы хорошо прожили целый ряд лет и были очень счастливы. Я бесконечно благодарен Люсе за то огромное счастье и радость жизни, которые она мне дала в свое время...» 7 сентября на испорченной (затемненной) фотографии своего кабинета на Пироговской Булгаков сделал шутливую надпись: «Елене от Михаила. — Это вместо квартиры? — спросила Елена, — спасибо, — добавила она». 11 сентября Булгаков и Елена Сергеевна также написали совместное письмо ее родителям.
Свидетельством этих событий осталась запись, сделанная Булгаковым на последнем листе парижского издания романа — вслед за уже цитировавшейся «Справкой», сделанной 5 февраля 1931 г. Теперь запись гласила: «Несчастие случилось 25.11.1931 года. А решили пожениться в начале сентября 1932 года. 6.IX.1932 г.» («Несчастие» — по-видимому, события, вынудившие разрыв).
Любовь Евгеньевна, в это время занятая собственной романической историей, по свидетельствам ее приятельниц, М. А. Чимишкиан и Н. А. Ушаковой, вполне дружески встретила эти события. Елена Сергеевна рассказывала нам об этом так: «...Когда я пришла к ней и сказала, что мы с Мишей решили пожениться (я дружила с ней), она приняла это спокойно. Она давно знала о нашей близости. Она только сказала:
— Но я буду жить с вами! И я ответила:
— Ну, конечно, Любочка!
(Когда я написала об этом своим родителям в Ригу — они решили, что я помешалась).
Но потом она стала говорить мне о Мише дурно: «Ты не
489
знаешь, на что идешь. Он жадный, скупой, он не любит детей».
И тогда я сказала:
— Нет, Любочка, боюсь, нам не придется жить вместе. Я слышать не могу, как ты говоришь о нем плохо. Ну, какой Миша скупой!..
И тогда решили купить Любе однокомнатную холостяцкую квартирку — тут же, через стену».
Это — взгляд на ситуацию глазами Елены Сергеевны. Существует и другой ракурс — в воспоминаниях Любови Евгеньевны. Дело биографа, быть может, — не выводить равнодействующую в поисках «правды», которая вряд ли может быть отыскана, а приблизить описание ситуации к восприятию ее героем нашего жизнеописания — к взгляду того человека, который в эту осень сделал свой выбор.
...Татьяна Николаевна рассказывала нам, что Булгаков не раз говорил ей: «Я должен жениться три раза!» — считал, что это ему на роду написано. Ей запомнилось, что Булгаков повторял эти слова, как сказанные ему Алексеем Толстым — тот считал это одним из действий, ведущих писателя к литературному успеху... Елене Сергеевне источник этой сентенции, которая в их с Булгаковым жизни приобрела смысл радостный, запомнился иным — она говорила нам, будто, по его словам, ему нагадала это еще в Киеве гадалка, и ему весело было думать, что вот — и гаданье исполняется. Любопытно, что Бабель, как сообщают мемуаристы (в книге воспоминаний о нем), пересказывал выражение, будто бы вычитанное им в одном дневнике начала XIX века: «Первая жена от Бога, вторая — от людей, третья — от дьявола...» Может быть, Булгаков знал и эти слова — не потому ли и повторял Татьяне Николаевне — «Меня за тебя бог накажет?..». 3 октября был расторгнут брак Булгакова с Любовью Евгеньевной, и 4-го заключен брак с Еленой Сергеевной.
«Мы расписались, но я должна была еще жить у Шиловского — Любина квартирка еще не была готова, — рассказывала Елена Сергеевна, — ей некуда было переезжать. Булгаков очень мучился этим. Его пригласили тогда ленинградские театры, и мы уехали на две недели. Жили в «Астории»...»
Судя по некоторым данным, именно в Ленинграде он вновь обратился к своему роману.
490
ГЛАВА ПЯТАЯ
Возвращение к роману. Новые пьесы и надежды (1932—1935).
1.
В тетради, где был заново начат роман, на титульном и на первом листе стоит дата «1932». Е. С. Булгакова рассказывала нам, как в Ленинграде Булгаков сказал ей, что хочет вернуться к уничтоженному роману. «Я сказала: — Как же ты будешь здесь писать, ведь черновики твои в Москве? — а он ответил: — Я все помню».
Рукопись была начата сразу с первой главы — без предваряющих набросков; начальные страницы оставляют впечатление беловой редакции, писанной с какого-то чернового текста. Между тем такого текста перед глазами писателя, видимо, не было — и не только потому, что он начал роман в отдалении от своего письменного стола: обрывки начальных редакций были почти не читаемы и непригодны для работы, наброски 1931 г. — отрывочны, о каких-либо более полных черновиках, которыми автор мог бы воспользоваться в 1932 г., сведений нет. Скорее всего, к этому времени роман, действительно, настолько сложился в воображении автора, что не потребовал никаких вспомогательных материалов и в том состоянии душевного подъема, в котором находился Булгаков в эту осень, стал ложиться на бумагу быстро, почти без помарок и по видимости — как бы без усилий. Вряд ли работа продолжалась по возвращении в Москву — пришлось срочно заканчивать комедию по мотивам нескольких пьес Мольера «Полоумный Журдэн» — для театра-студии Ю. Завадского, с которым 18 июля был заключен договор на перевод пьесы «Мещанин во дворянстве» (работа над переводом одной пьесы вылилась в «Мольериану» — такой подзаголовок дал он своей работе).
«Когда вернулись, я стала переезжать, — рассказывала Елена Сергеевна. — Шиловский сказал мне: — Лелечка, это все сделано твоими руками, бери всю обстановку. Я сказала:
491
— Женечка, зачем же я буду разрушать квартиру? Я возьму только свою кушетку и плетеную кроватку Сережи.
— Еще нянька Анастасия (она звала меня «мамочка») дала мне свой длинный деревенский сундук.
Когда стали все это грузить на машину, Шиловский без фуражки кинулся со двора, чтоб не видеть моего отъезда, а нянька зарыдала в голос так, что люди сбежались. Это был самый настоящий «соблазнительный скандал».
...Когда мы приехали — Михаил Афанасьевич ждал нас, прогуливаясь мимо окон с Бутоном, Я быстро накормила Сережу манной кашей и уложила. Мы с Михаилом Афанасьевичем сели у огня (топилась печка). Мне было очень тяжело, и он понимал это. Он стал меня смешить:
— Ну-ка, давай, посмотрим твой сундук! Сундук не открывался.
— Это Шиловский его гвоздем заколотил!
...Потом он рассказывал всем комически, как он долго старался, открыл — и увидел на дне килограмм манной крупы...»
Старший сын Елены Сергеевны приходил к ним по воскресеньям на обед; дома, на Ржевском, в одной из комнат квартиры Шиловского жила сестра Елены Сергеевны Ольга Сергеевна Бокшанская, помогая мальчику пережить происшедшее.
Постепенно жизнь стала входить в новое русло.
«Когда мы сидели вчетвером за столом — я, Михаил Афанасьевич и мои сыновья, — говорила Елена Сергеевна 28 октября 1968 года, устремив взгляд от собеседницы туда, вдаль, в ей одной видное прошлое, — и я была, конечно, самой счастливой женщиной на свете, — каждый из них спрашивал меня на ухо: «Кого ты больше всех любишь? (все они были страшно ревнивы!), и я каждому говорила шопотом — «Тебя!»
Теперь от них остался один — Сережа, хотя оба они всегда здесь (она обводила комнату рукой), со мной — и вся моя любовь сосредоточилась на нем...
Михаил Афанасьевич страшно любил Сережу. Редкий родной отец так любит. Он очень много проводил с ним времени. Он воспитывал в нем смелость, находчивость... Входил в комнату со словами — „Нет, Сергей, ты Немезида!" А тот отвечал — „Ну, это мы еще увидим, кто здесь Мизида, а кто не Мизида!" Михаил Афанасьевич хохотал, был очень доволен».
После того, как 18 ноября пьеса была отослана в театр, началась интенсивная работа над жизнеописанием Мольера,
492
сроки сдачи которого надвигались («не позднее 1 февраля 1933 г.»).
Под грузом этой увлекавшей его, но в сжатые сроки делавшейся и требовавшей не только труда воображения, но и чтения немалого количества источников литературной работы кончался 1932-й год.
С ним была любимая женщина; в МХАТе шли репетиции пьесы «Мольер», в которых он участвовал. Можно было надеяться на то, что в новом, 1933-м году увидит свет и его пьеса о Мольере, и роман о великом комедиографе.
«Сейчас я заканчиваю большую работу — биографию Мольера», — писал он 14 января брату Николаю и просил его прислать описание памятника Мольеру, поставленного на углу улиц Ришелье и Мольера — в нише дома, где он родился. «Я должен сдать 1 февраля „Мольера", — добавлял Булгаков, — и, по-видимому, на очень большой срок отказаться от сочинительской работы». Смысл этих слов не вполне ясен — если только они не являются прогнозом будущей судьбы непечатающегося писателя.
Возможно, он уведомлял таким образом брата, что ни на беллетристику его, ни на драматургию новых заказчиков пока не предвидится; возможно также, что он понимал, что в ближайшие месяцы будет занят работой в театре.
5 марта 1933 г. (использовав льготный месяц, предусмотренный договором) Булгаков сдал роман «Жизнеописание господина де Мольера» в редакцию ЖЗЛ и 8 марта писал брату: «Работу над „Мольером" я, к великому моему счастью, наконец, закончил, и пятого числа сдал рукопись. Изнурила она меня чрезвычайно и выпила из меня все соки. Уж не помню, который год я, считая с начала работы еще над пьесой, живу в призрачном и сказочном Париже XVII-ro века. Теперь, по-видимому, навсегда с ним расстаюсь.
Если судьба тебя занесет на угол улиц Ришелье и Мольера — вспомни меня! Жану-Батисту де Мольеру передай от меня привет!» Эти слова — перифраз последних строк романа: «И я, которому не суждено его никогда увидеть, посылаю ему свой прощальный привет!»
7 апреля Александр Николаевич Тихонов, редактор серии, написал Булгакову большое и совершенно уничтожающее роман письмо. 13 апреля 1933 г. Булгаков сообщал П. С. Попову, уже вернувшемуся на жительство в Москву: «Ну-с, у меня начались мольеровские дни (как бы устанавливая этим определением связь с обсуждавшейся всего
493
год назад в их переписке историей с мольеровской же темой. — М. Ч.). Открылись они рецензией Т. (т. е. А. Н. Тихонова. — М. Ч.). В ней, дорогой Патя, содержится множество приятных вещей. Рассказчик мой, который ведет биографию, назван развязным молодым человеком, который верит в колдовство и чертовщину, обладает оккультными способностями, любит альковные истории, пользуется сомнительными источниками, и что хуже всего, склонен к роялизму! (пересказ рецензии буквально близок к ее тексту. — М. Ч.).
Но этого мало. В сочинении моем, по мнению Т., «довольно прозрачно проступают намеки на нашу советскую действительность»!!» Елена Сергеевна, шутливо повествовал Булгаков, впав в ярость, «даже порывалась идти объясняться. Удержав ее за юбку, я еле отговорил ее от этих семейных действий. Затем сочинил редактору письмо. Очень обдумав дело, счел за благо боя не принимать. Оскалился только по поводу формы рецензии, но не кусал».
Действительно, тон ответа, написанного накануне, сдержан и миролюбив, все письмо занимает страничку текста, где на предложение Тихонова поставить на место «развязного» рассказчика «серьезного советского историка» Булгаков дает разъяснение: «я не историк, а драматург, изучающий в данное время Мольера. Но уж находясь в этой позиции, я утверждаю, что я отчетливо вижу своего Мольера».
Переделывать книгу Булгаков отказался — в кратких и энергичных выражениях: «Вы сами понимаете, что, написав свою книгу налицо, я уж никак не могу переписать ее наизнанку. Помилуйте!» И заключал письмо контрпредложением — книга не подходит издательству, «стало быть, и не нужно ее печатать. Похороним ее и забудем».
Письмо к Попову вторило этому: «Итак,желаю похоронить Жана-Батиста Мольера. Всем спокойнее, всем лучше. Я в полной мере равнодушен к тому, чтобы украсить своей обложкой витрину магазина. По сути дела, я — актер, а не писатель. Кроме того, люблю покой и тишину.
Вот тебе отчет о биографии, которой ты заинтересовался. Позвони мне, пожалуйста, по телефону. Мы сговоримся о вечере, когда сойдемся и помянем в застольной беседе имена славных комедиантов сьёров Ла Гранжа, Брекура, Дю Круази и самого командора Жана Мольера».
Тихонов сообщал, что рукопись он направил вместе со своим отзывом Горькому в Сорренто — «подождем, что он скажет». 28 апреля Горький писал Тихонову: «с Вашей —
494
вполне обоснованно отрицательной — оценкой работы М. А. Булгакова я совершенно согласен. Нужно не только дополнить ее историческим материалом и придать ей социальную значимость — нужно изменить ее «игривый» стиль. В данном виде это — несерьезная работа и — Вы правильно указываете — она будет резко осуждена». Об отзыве Булгакову было, по-видимому, сообщено; впервые Горький выступал в неожиданной для Булгакова роли. Стало известно, что 9 мая Горький выехал в Москву; Булгаков стал ждать его приезда.
В эту весну Булгаков официально передоверил ведение всех своих издательских дел Елене Сергеевне. Это было в его жизни впервые и крайне ему нравилось. Он много занимался с маленьким Сергеем, писал вместе с ним шутливые записки Елене Сергеевне («Милая мама, миросозерцание потеряно окончательно...»).
В мае ленинградский Мюзик-холл предложил ему написать «эксцентрическую трехактную пьесу» — к 15 октября. 19 мая, на другой день, Булгаков в письме просит Попова зайти попрощаться перед его отъездом в отпуск. «Захвати с собой злосчастного Мольера (рукопись романа. — М. Ч.).
А я? Ветер шевелит зелень возле кожной поликлиники (напротив дома Булгакова на Пироговской — М. Ч.), сердце замирает при мысли о реках, мостах, морях. Цыганский стон в душе». Мечта о летнем отпуске на Сене или Средиземном море все еще, как видим, не дает ему покоя. «Но это пройдет. Все лето, я уж догадываюсь, буду сидеть на Пироговской и писать комедию (для Ленинграда). Будет жара, пыль, стук, нарзан».
Первые сохранившиеся заметки для пьесы «Блаженство» сделаны 26 мая 1933 г. Названия еще нет, но есть уже колорит речевой манеры Жоржа Милославского, мотив его скуки в «золотом веке», взаимонепонимания с людьми будущего. Задумана пьеса была еще несколько лет назад: позже она датирована «1929—1934» и в одном из писем к Вересаеву 1934 г. автор говорит о ней как о пьесе, «которую задумал давно-давно». В. Сахновский, режиссер «Мертвых душ», работавший несколько лет бок о бок с Булгаковым, относил впоследствии начало работы над пьесой к 1929 г., связывая его с постановкой «Бани» Маяковского, оказавшей, по его мнению, влияние на замысел Булгакова. Несомненно, и «Клоп», и «Баня» повлияли на возникновение замысла пьесы о будущем, свой вариант которого Булгаков и задумал нарисовать. Связь с Присыпкиным в его
495
взаимоотношениях с людьми будущего видна и в Жорже Милославском. По-видимому, начатая в 1929 или 1930-м году комедия и упоминается как уничтоженная вместе с «романом о дьяволе» в письме правительству 1930 г.
Работу пришлось, однако, отодвинуть до самой зимы.
3 июня прошла последняя в этом сезоне репетиция «Мольера» в МХАТе; в «Дневнике репетиций» запись: «Опоздали на репетицию Ливанов (на 7 мин.) и Булгаков (на 20 мин.)». За несколько дней до этого Булгаков по просьбе Станиславского составил текст его письма Сталину о заграничных долгах Немировича-Данченко, мешающих ему выехать в Союз, и с просьбой оказать ему помощь. Булгаков теперь, видимо, считался специалистом по письмам к этому адресату; письмо получилось внятное и очень краткое — особенно в сравнении с пространным вариантом, составленным Л. А. Марковым.
В начале июня пришло письмо из Ташкента от одного из местных театральных деятелей: «Считаю своим приятным долгом сообщить, что Ваша пьеса «Дни Турбиных», после общественного просмотра, организованного нами 18 мая, допущена к постановке в Ташкенте и идет с большим художественным успехом».
МХАТ проявил было намерение начать с осени работу над «Бегом». Получив письмо от И. Я. Судакова из Ленинграда, где в это время шли гастроли МХАТа с «Днями Турбиных», Булгаков писал ему 21 июня: «Насчет „Бега" не беспокойтесь. Хоть я и устал, как собака, но обдумываю и работаю. Не исключена возможность, что я дня на два приеду в Ленинград во время гастролей. Тогда потолкуем.» 29 июня он выслал Судакову «окончательные исправления к пьесе» с обещаниями выслать вскоре экземпляр пьесы с сокращениями, «по которому и попрошу вас репетировать». В день четырехсотого представления пьесы «Дни Турбиных» он поздравлял ее режиссера: «Какая сложная судьба у этой пьесы, Илья Яковлевич! ...Мы встретились в самое трудное и страшное время, и все мы пережили очень много, и я в том числе... и мой утлый корабль... (слова Лариосика из последней картины пьесы. — М. Ч.). Впрочем, я не то... Время повернулось, мы живы, и пьеса жива, и даже более того: вот уж и «Бег» Вы собираетесь репетировать. Ну что ж, ну что ж!».
Дней через десять Булгаков уехал с женой в Ленинград и поселился там в гостинице «Астория». 22 июля он был уже в Москве и писал П. С. Попову: «Жив ли ты, здоров ли, дорогой Павел? Я вернулся из Ленинграда, значительно
496
отдохнув за 10 дней в Астории. ...Задыхаюсь на Пироговской. Может быть, ты умолишь мою судьбу, чтобы наконец закончили дом в Нащекинском? Когда же это, наконец, будет?! Когда?!»
2 августа в письме к Вересаеву, проводившему это лето в Звенигороде, Булгаков сообщал о своих попытках получить в Ленинграде гонорар с театров, в которых МХАТ играл на гастролях «Дни Турбиных», о том, как «Елена Сергеевна, вооруженная доверенностью, нагрянула во 2-й из театров — Нарвский дом культуры», как до сих пор не получено ни копейки, несмотря на усилия энергичной защитницы его интересов. «...А я мечтаю только об одном счастливом дне, когда она добьется своего, и я верну Вам мой остающийся долг, и еще раз Вам скажу, что Вы сделали для меня, дорогой Викентий Викентьевич!
Ох, буду я помнить годы 1929—1931! (Речь идет о деньгах, которые Вересаев сам предложил Булгакову в год, когда он остался без средств к существованию. — М. Ч.)
Я встал бы на ноги, впрочем, если бы не необходимость покинуть чертову яму на Пироговской...» Эпитеты, которыми награждается эта квартира, все отборнее. Все — от грохота трамвая под окном и сырых стен до быстро выяснившихся трудностей постоянного общения с бывшей женой (24 сентября Любовь Евгеньевна переезжает в арендованную для нее маленькую квартиру в том же доме) — раздражает Булгакова. Немаловажно для него и то, что жена его, уйдя из своей квартиры, принуждена как бы жить в чужой — весьма свойственное ей стремление устроить в квартире все по-своему здесь не могло осуществиться в полной мере. Но главенствует в настроении Булгакова вечная его мечта о большой и тихой квартире своего детства. И хотя недавно выяснилось, что квартира в Нащекинском будет гораздо меньше, чем предполагалась (не 60, а 47 м2, т. е. много меньше, чем квартира на Пироговской!), — он продолжает мечтать о ней, как о чем-то спасительном. Здесь вступает в силу уже особенность его жизнеощущения — необходимость некоего ожидания, надежда на благодетельность перемен.
«...Просидел две ночи над Вашим Гоголем, — продолжал он письмо Вересаеву. — Боже! Какая фигура! Какая личность! (речь идет о вышедшем незадолго перед тем и, видимо, подаренным Булгакову автором своде биографических документов «Гоголь в жизни». — М. Ч.). В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал мазать страницу за страницей
497
наново тот свой уничтоженный три года назад роман. Зачем? Не знаю. Я тешу сам себя! Пусть упадет в Лету! Впрочем, я, наверно, скоро брошу это».
5 августа Булгаков пишет Горькому, переболевшему сразу после приезда в Москву из Италии в мае этого года длительным гриппом: «Многоуважаемый Алексей Максимович! Как чувствуете Вы себя теперь после болезни? Мне хотелось бы повидать Вас. Может быть, Вы были бы добры сообщить, когда это можно сделать?
Я звонил Вам на городскую квартиру, но все неудачно — никого нет». По-видимому, Булгаков хотел вернуться к обсуждению участи романа о Мольере, а, может быть, поговорить и о «Беге». Ответа на письмо не было.
1 сентября, в «годовщину нашей встречи с М. А. после разлуки», Елена Сергеевна начинает вести дневник — по просьбе мужа. Сам он, по ее словам, уничтожив свой дневник 1921 — 1926 гг. вскоре же после того, как он вновь попал в его руки (видимо, в конце 1929 — начале 1930 г.), никогда более дневниковых записей не вел. Елена Сергеевна стала фиксировать в своем дневнике текущие литературные занятия и творческие планы писателя, его деловые и дружеские встречи, иногда — краткое содержание разговоров, весьма скупо и в осторожных формулировках — отношение писателя к некоторым общественным, литературным и театральным событиям. Добавим, что и в собственных оценках Еленой Сергеевной спектаклей и концертов, на которых они бывали вдвоем, скрытым образом присутствует и оценка Булгакова — поскольку расхождение вкусов, когда оно возникало, фиксировалось. Сохранилось восемь тетрадей таких дневников, причем первые две (записи с 1 сентября 1933 г. до 4 декабря 1934 г.) сохранились в архиве только в переписанном в 50-е годы виде (местонахождение оригинала нам неизвестно), поэтому читатель должен в дальнейшем иметь в виду, встречая в нашем повествовании цитаты из дневника за эти полтора года, некоторую сглаженность, которую придало записям позднейшее редактирование (после 4 декабря 1934 г. мы будем цитировать оригинальный дневник, добавляя иногда некоторые важные штрихи мемуарного характера из позднейшей редакции).
В день, когда Елена Сергеевна начала свой дневник, Булгаков работал уже над 8-й главой романа, о которой упоминал в письме Вересаеву; была исписана целая тетрадь и начата новая. (Примечательно, что в тот же день, когда делается первая запись в дневнике, посвященном главным образом его литературной жизни, — писатель ставит и пер-
498
вую дату в рукописи своего романа и далее на протяжении нескольких лет стремится неукоснительно датировать каждое обращение к рукописи). Замысел, не оставлявший его в эти годы, с силою притянул к себе, чтобы более не отпускать до смерти.
Каков же был роман, возникавший почти в буквальном смысле из пепла осенью 1933 г.? Нам кажется несомненным, что прежний замысел (очертания которого нам, увы, неизвестны до конца) подвергался существенной перестройке.
В прозе Булгакова первого московского пятилетия легко заметить два потока — один из них изливается в формах сатирического гротеска, вне автобиографического материала, другой представляет собой как бы олитературивание биографии (обычно по горячим следам — когда некий биографический период, к выделению которых в своей жизни Булгаков питал особое пристрастие, завершался, он тут же описывался) в форме записок, то есть хронологически последовательно организованного повествования от первого лица, с множеством временных вех (повествователь ведет счет лет, сезонов, месяцев, дней, времени суток).
Возможно, что роман «Копыто инженера» был не только начат в 1928 г., но и задуман в целом как продолжение линии сатирического гротеска (разумеется, сильно осложненной благодаря введению в роман на первых же этапах работы Христа и Дьявола). В тех 15 главах, которые написаны были в 1928—1929 гг., нет, как кажется, следов автобиографического материала, нет того, кто писал какое-либо сочинение литературного характера, — есть только ученый (сравним хотя бы с повестью «Роковые яйца», где действует ученый, профессор с мировым именем), занимающийся главным образом средневековьем. О несомненном видоизменении замысла свидетельствовала поэтому фигура нового героя, появившаяся в черновых набросках 1931 г., героя, принесшего с собой, как это уясняется из изучения первой полной редакции романа (1932—1936), автобиографическую тему. Таким образом, два сюжетно-тематических направления творчества соединились.
В пользу нашей гипотезы о том, что герой, названный впоследствии Мастером, входит в замысел романа не ранее 1930—1931 г., говорит то обстоятельство, что на протяжении всей третьей редакции, писавшейся начиная с 1932 года, этот герой сюжетно не пересекается с Иваном. Только на этапе обширных дополнений к третьей редакции, делавшихся уже после чернового ее завершения, новый герой «помещен» автором в лечебницу (до этого он, несомненно,
499
был в лагере или ссылке, как показывает тот костюм, в котором появляется он, вызванный Воландом, в рукописях, датированных январем 1934 г.: «Ватная мужская стеганая куртка была на нем. Солдатские штаны, грубые высокие сапоги...») и там встречается с Иванушкой. Связи и пересечения героев — столь важная черта сюжетики романа, что несвязанность между собой двух героев вплоть до конца третьей редакции, и появление этой связи в дополнениях к ней должна свидетельствовать, на наш взгляд, о сравнительно позднем вхождении в замысел романа одного из них.
Одновременно из романа исчезает один из героев первой редакции — Феся.
Разгром «пречистенской» гуманитарной среды, произведенный в 1929—1930, не остался, на наш взгляд, без последствий для романа, первое авторское чтение которого эта среда слушала еще в полном своем составе... Изображать специфическую биографию этих «эрудитов» с иронией, пусть даже и мягкой, у автора, возможно, уже не подымалась рука.
Новый герой впервые появляется в романе и рассказывает свою историю Ивану в 13-й главе — после вечера Воланда в Варьетэ: т. е. композиционно на том же самом месте, где рассказана была в первой редакции история Феси (11-я глава первой редакции), что служит дополнительным, как кажется, указанием на то, что Мастер заместил Фесю в романе.
Несомненно, именно Фесе, специалисту по демонологии, была уготована в романе, как он складывался в 1928— 29 гг., встреча с Воландом, к которой он был так же подготовлен своими занятиями, как герой последующих редакций Мастер, и так же в противоположность Ивану и Берлиозу. Берлиозу же с его поверхностной начитанностью как устойчивым признаком, сохраняющимся во всех редакциях романа, Феся должен был, возможно, противостоять в структуре романа своей «феноменальной эрудицией». В первой редакции Иван Бездомный должен был, видимо, к концу романа исчезнуть из современного плана (как реликт этого его места в первоначальном замысле можно интерпретировать сцену в третьей редакции, где мертвый Иван появляется перед Воландом и Маргаритой) — хотя нельзя исключать и встречу его с Фесей (если иметь в виду тему интеллигенции и народа, присутствующую в 11-й главе). Берлиоз же погибал еще в начале романа, как и в последующих редакциях. Можно думать,
500
что именно Феся должен был остаться в поле современной жизни и занять, возможно, место в сюжете, близкое к месту Ивана в Эпилоге романа (в последней его редакции).
Именно рукописи романа, главным образом сличение редакций 1928—1929 и 1931—1933 гг., заставили предполагать в промежутке между ними — когда работа над текстом остановилась — некий импульс, толчок, вызвавший быстрое соединение, сплавление двух линий творчества. Второе предположение заключалось в том, что этот толчок был не литературного, а биографического характера. Произошло событие такой биографической значимости, которое разрушило творческий стереотип последовательного ретроспективного отражения биографии, потребовало новых форм ее осмысления.
Этим событием было, несомненно, письмо 1930 г., последующий разговор со Сталиным и главное - ретроспективное осмысление течения разговора и тех полутора лет, которые оценивались Булгаковым как развертывающиеся последствия его собственных поступков (письмо и ответные реплики в разговоре).
Мрачные размышления о непоправимости прошлого, о подведении итога жизни, о пяти роковых ошибках, зафиксированные в письмах к Попову января — апреля 1932 г., ощущение какой-то дьявольской ловушки, самим же невольно и подстроенной, — вот тот психологический фон, на котором совершалась кристаллизация нового замысла.
Современные исследователи (Б. Гаспаров, Л. Флейшман) правомерно обращают внимание на значение смерти Маяковского для нового этапа замысла романа. Действительно, . уверившись, по-видимому, с течением времени в прямой зависимости знаменательного звонка от только что разыгравшейся трагедии смерти Маяковского (не забудем при этом, что, по свидетельству С. А. Ермолинского, Булгаков «уверенно связывал разрешение, выданное на отъезд Замятину, с самоубийством Маяковского — а вдруг, мол, этот тоже возьмет да и стрельнет в себя...»), Булгаков, несомненно, заинтересовался последними месяцами жизни Маяковского и увидел, возможно, нечто не замеченное им прежде в собственных заботах.
Напомним: 23 ноября 1929 г. пьеса Маяковского «Баня», только что с триумфом им читанная, поступила в Главрепертком и судьба ее осложнилась. Л. Ю. Брик записывала в дневнике: 20 декабря — «В, читал «Баню» в реперткоме — еле отгрызся», 24-го декабря — «какие-то осложнения с разрешением постановки «Бани», 2 февраля
501
1930 г. — «Говорят, в Ленинграде собираются запретить «Баню»; «3 февраля я записала в Ленинграде: „Никто пьесу не запрещает, только публика не ходит и газеты ругают". Яркое описание того, что происходило на протяжении декабря 1929 — января 1930 г., дано в мемуарной книге В. Катаева «Трава забвения», где говорится о «чудовищных требованиях Главреперткома, который почти каждый день устраивал обсуждение «Бани» в различных художественных советах, коллективах, на секциях, пленумах, президиумах, общих собраниях и где заранее подготовленные ораторы от имени советской общественности и рабочего класса подвергали Маяковского обвинениям во всех смертных литературных грехах — чуть ли даже не в халтуре. Дело дошло до того, что на одном из обсуждений кто-то позволил себе обвинить Маяковского в великодержавном шовинизме и издевательстве над украинским народом и его языком (ср. позднейшие нарекания на пьесу «Дни Турбиных». — М. Ч.).
Никогда еще не видел я Маяковского таким растерянным, подавленным. <...> Он, первый поэт Революции, как бы в один миг был сведен со своего пьедестала и превращен в рядового, дюжинного, ничем не выдающегося литератора, „протаскивающего свою сомнительную пьеску на сцену".
Маяковский не хотел сдаться и со все убывающей энергией дрался за свою драму в шести действиях, которая сейчас, когда я пишу эти строки, уже давно и по праву считается классической.
Слушайте, Катаич, что они от меня хотят? — спрашивал он почти жалобно. — Вот вы тоже пишете пьесы. Вас тоже режут? Это обычное явление?
Ого!
Я вспомнил экземпляр одной из своих пьес, настолько изуродованной красным карандашом, что Станиславский несколько дней не решался мне его показать, опасаясь, что я умру от разрыва сердца». В этом смысле вполне правомерными кажутся утверждения исследователей, что литературная судьба Маяковского роковым образом оказывалась параллельной ситуации, в которую был поставлен Булгаков с осени 1929 г., и что судьба «Бани» могла в обстановке 1930 г. оказаться тождественной судьбе «Дней Турбиных» (Л. Флейшман); параллелизм этот был хронологически разительным — Булгаков заканчивает первую редакцию «Кабалы святош» (будущего «Мольера») 6 декабря 1929 г., а 16 января 1930 г. он сообщал в письме к брату:
502
«Мучения с него продолжаются уже полтора месяца...» Затруднения обоих литераторов были связаны даже с одной и той же личностью — председателем Главреперткома К. Д. Гандуриным, и в январе 1930 г. стала известной эпиграмма на него Маяковского, начинавшаяся словами «Подмяв моих комедий глыбы, Сидит Главрепертком Гандурин». Но вскоре этот параллелизм пресекся — 30 января «Баня» пошла в Ленинграде, 16 марта — в театре им. Вс. Мейерхольда. У Булгакова же к марту выяснилась полная безнадежность положения с новой пьесой, заставившая его взяться за письмо к правительству, которое, возможно, обдумывалось и писалось в течение всего марта и было закончено 28 марта 1930 г. В эти же дни, 25 марта Маяковский выступает на вечере, посвященном двадцатилетию деятельности (в письме Булгаков, так же как Маяковский своей выставкой и докладами вокруг нее, открыто подводил итоги своей литературной работы — в отличие от поэта, десятилетней), где жалуется слушателям на горло и предупреждает — «может быть, мне придется надолго перестать читать. Может быть, сегодня один из последних вечеров...» Булгаков в марте — начале апреля, по-видимому, уже полностью отвлечен от его судьбы, со стороны снова выглядевшей благополучной, и целиком погружен в свои проблемы. Событие, произошедшее 14 апреля, должно было произвести в отношении Булгакова к Маяковскому некий переворот и дать толчок к ретроспективному переосмыслению его судьбы. Не бывши для Булгакова поэтом, погибший сразу стал в его глазах по меньшей мере страдальцем (ср. строки Цветаевой: «Было, стало быть, сердце, Коль выстрелу следом — стоп»). Напомним, что в годы киевской молодости Булгаков испытал одно из самых сильных своих потрясений именно в связи с подобной ситуацией: выстрелом в грудь из револьвера на его глазах покончил с собой друг гимназических и студенческих лет. Заметим, что револьвер — важный предмет в художественном мире Булгакова, а самоубийство из браунинга описано в рассказе «Морфий» и — как готовящееся, но не произошедшее — в неоконченной повести 1929 г. (где описано «прикосновение к коже холодного ствола» и подробно дано само устройство «автоматического пистолета» — функционально заменяющего здесь револьвер, — благодаря которому «вездесущий Бог спас меня от греха») и развившемся из нее «Театральном романе». Поэтому вручение Воландом револьвера поэту (вместе с кольцами — обручение любовников) в третьей редакции (к этим главам мы еще обратимся)
503
вряд ли должно отсылать нас только к теме Маяковского (Л. Флейшман) и имеет источником, конечно, устойчивый для Булгакова мотив. Упомянутым автором правомерно, прежде всего, привлечено внимание к тому факту, что смерть Маяковского произошла в первый день страстной недели, что бросает некоторый свет на формирование нескольких линий романа. Попытка «теснее связать» гибель поэта с новозаветными главами романа могла бы, пожалуй, быть дополнена следующими воспоминаниями Л. Лавинской (в сб.: «Маяковский в воспоминаниях родных и друзей»): «16-го утром Агранов сказал, что Маяковского будут хоронить на лафете, а в середине дня стало известно, что дадут простой грузовик — все-таки самоубийца. В этот день, проходя по одной из зал, увидела Агранова, окруженного кучкой лефовцев. Он что-то показывал. Я подошла, и он мне передал какую-то фотографию, предупредив, чтобы смотрела быстро и чтоб никто из посторонних не видел. Это была фотография Маяковского, распростертого, как распятого, на полу, с раскинутыми руками и ногами и широко раскрытым в отчаянном крике ртом. Я оцепенела в ужасе, ничего общего не было с тем спокойным, спящим Маяковским, которого я впервые увидела на Гендриковом (ср. в стихах Пастернака: «Смерть поэта»: «Спал и, оттрепетав, был тих». — М. Ч.). Мне объяснили: „Засняли сразу, когда вошли в комнату, Агранов, Третьяков и Кольцов". Больше эту фотографию я никогда не видела». Описание этой фотографии, в том числе и сравнение с распятием, могло дойти в эти дни до Булгакова, несомненно, настойчиво интересовавшегося подробностями смерти поэта, среди прочего, — по биографическим мотивам, как давним, так и сегодняшним. Эти мотивы еще недостаточно учтены. Напомним, что трагическое событие произошло в те дни, когда сам Булгаков напряженно ожидал ответа на письмо, посланное уже более десяти дней назад, и, в случае достаточно долгого молчания адресата, обдумывал, по свидетельству Е. С. Булгаковой, пути расчета с жизнью. Понятно в связи с этим — независимо от того, насколько серьезной была его решимость на подобный шаг, — каким эхом должен был отдаться для него грянувший выстрел его литературного противника, с одной стороны, разом многое искупив в его глазах, и, с другой, как бы «заместив» его собственное действие. Звонок, раздавшийся на другой день после похорон и, повторим, не без воздействия впечатления от них, сделал это «замещение» реальным и, как кажется, еще более выразительным для самого Булгакова. Предшеству-
504
ющая неделя ретроспективно могла быть осмыслена им в первую очередь как собственная страстная неделя с «отмененной» («благодаря» другой смерти) в конце ее казнью. Только при повторном обращении к роману в 1932—1933 гг. страстная неделя стала размечаться по дням и далее стал вырабатываться параллелизм этих дней в двух — новозаветном и современном — планах романа.
Заметим также, что Булгаков, конечно, обратил самое пристальное внимание на опубликованное в газетах предсмертное письмо Маяковского, направленное не только «Всем», но, в частности, тому же адресату («Товарищ правительство»), и, как кажется, не мог не оценить того обстоятельства, что автор этого письма, в отличие от него самого, ничего не просил для себя — только для близких после его смерти; получалось, что в те договорные отношения, которые один расторгал своей смертью, другой теперь вступал, связав себя дополнительно во время телефонного разговора вполне определенной зависимостью (разумеется, этот аспект мог быть осмыслен до конца только позже — отсюда едва ощутимый оттенок горечи в последней фразе письма 1931 г.: «...я год работал не за страх режиссером в театрах СССР»).
Мы отмечали уже реминисценцию из предсмертных стихов Маяковского в исповедально-итоговом стихотворении Булгакова от 28 декабря 1930 г. Она укрепляет нас в мысли, что тема смерти (и самоубийства) в творчестве Булгакова с этих пор (а значит, главным образом, в трансформирующемся замысле романа) развивается в какой-то степени под знаком смерти Маяковского и в дальнейшем может и должна быть сопоставлена с этой темой у поэта. Последний поступок Маяковского был первым его поступком, родственным Булгакову (ср. у Цветаевой в уже цитированном поминальном цикле «Маяковскому»: «Парень! не по-маяковски Действуешь: по-шаховски»; «Класса белую подкладку Выворотить напослед», «Дворяно-российский жест» и т. п.). Быть может, нелишним будет отметить, что, по свидетельствам тех, кто был близок Булгакову во второй половине 1920-х годов, самоубийство Есенина прошло в их кругу «незамеченным». Отважимся высказать предположение, что, среди прочего, Булгакову был чужд избранный (в этом случае) способ. Напомним, что через много лет, в конце 1939 г., больной Булгаков, твердо зная, как врач, о неизбежности своей скорой и мучительной смерти, напишет приятелю киевских лет А. Гдешинскому: «Как известно, есть один приличный вид смерти — от огнестрельного
505
оружия, но такового у меня, к сожалению, не имеется». В описываемое нами время (1930—1931 гг.) для Булгакова перипетии своей биографии как объект творческой рефлексии отступают в тень, заменяясь размышлением (развивающимся в художественное) о судьбе. Желание продолжать начатый в 1928 г. и уничтоженный в 1930 г. роман, не граничивший до сих пор с биографией автора, соединилось со стремлением к автожизнеописанию, но иного, чем прежде, порядка. Незавершенный роман оказывается подходящим каркасом. «Не дожидаясь», когда роман о Христе и Дьяволе будет им дописан и история романа станет пригодной для ретроспективного автобиографического описания, и, сверх того, движимый, как мы предполагаем, трансформацией самого соотношения «биографии» и «творчества», Булгаков решает продолжить оставленный роман, поместив внутрь его себя самого как автора этого же самого романа: автор романа пишущегося изображал себя в лице автора романа о тех же героях (т. е. о Христе, Дьяволе и Пилате), уже завершенного.
В сфере творческого процесса Булгакова в это время совершается как бы два встречных движения. С одной стороны, размышления о важных жизненных поступках и своей судьбе, приобретя форму автобиографического художественного задания, должны были скорректироваться с рамками уже имевшегося замысла. С другой же стороны, сам роман о Иешуа и Воланде с заложенной в нем проблематикой и вневременным характером событий, в которых участвуют Пилат и Иешуа, не мог не наложить отпечатка на осмысление Булгаковым своих биографических проблем — повлиять на осознание своей биографии как вневременной судьбы. История Иешуа и Пилата подсказывала мысль о необратимости последствий роковых шагов, о вечной расплате того, кто стал, как новый герой романа Мастер, искать помощи у сатаны и этим сам связал свою дальнейшую судьбу с дьявольской силой (поэтому, в первую очередь, он и «не заслужил света»).
2.
9 сентября 1933 года Елена Сергеевна записывала со слов Булгакова: «В 12 ч. дня в МХАТе Горький читал «Достигаева». Встречен был аплодисментами, актеры стояли. Была вся труппа. Читал в верхнем фойэ. Горький: — Я прямо оглох от аплодисментов. У меня ухо теперь отзывается только на крик «ура».
506
В антракте — встреча с Горьким и Крючковым. Крючков сказал, что письмо М. А. получено... что А. М. очень занят был, как только освободится... — А я думал, что А. М. не хочет принять меня. — Нет, нет!
По окончании пьесы аплодисментов не было. Горький: — Ну, говорите, в чем я виноват? Немирович: —Ни в чем не виноваты. Пьеса прекрасная, мудрая». По-видимому, то, что в дневнике названо «встречей», было не более, чем обмен приветствиями. Диалога с Горьким не получилось — его заместил диалог с секретарем Горького П. П. Крючковым, быстро взявшим на себя, по воспоминаниям современников, функции посредника между Горьким и теми, кто желал личной с ним встречи.
В театре обсуждался вопрос о «Беге» и в обсуждении этом активное участие принимал Афиногенов, вернувшийся недавно из длительной поездки по разным странам и охотно дававший советы, как человек, повидавший мир; Булгакова это раздражало; право на литературные советы ему он признавал за немногими и оставлял, во всяком случае, за собою выбор советчиков.
17-го сентября, вечером, Булгаков прочел две главы романа H. H. Лямину. Это было одно из первых чтений заново пишущегося романа.
Сохранился любопытный документ этого времени. 8 сентября Булгакову принесли анкету с вопросами, касающимися отношения к Салтыкову-Щедрину (анкета была подготовлена редакцией «Литературного наследства»). 19 сентября Булгаков дает свои ответы, причем не меньший интерес, чем ответы, представляет его реакция на некоторые вопросы: он четко отодвигает в сторону те формулировки, которые чужды языку его миропонимания и мироописания. Адресуя свое письмо «ответственному редактору т. Авербаху», он, пожалуй, несколько пародировал даже те вопросы, на которые отвечал: «1. Степень и характер Вашего знакомства с творчеством Щедрина, его роль в формировании Вашего мировоззрения.
Ответ: Я начал знакомиться с произведениями Щедрина, будучи примерно в тринадцатилетнем возрасте, причем эти произведения мне чрезвычайно понравились. В дальнейшем я продолжал их читать и перечитывать, постоянно возвращаясь к ним. Полагаю, что степень моего знакомства с творчеством Щедрина — довольно высока, а роль его в формировании моего мировоззрения — значительна. 2. Ваша оценка Щедрина, как художника. Ответ: Считаю его перворазрядным художником.
507
3. Оценка Щедрина, как классика сатиры, в связи с задачами советской сатиры.
Ответ: Я полагаю, что создавать сатиру нельзя, она создается сама собой. Но каждому из советских сатириков, я полагаю, надлежит рекомендовать усиленное изучение Щедрина.
4. Художественный метод Щедрина в свете наших сегодняшних литературных споров. Имел ли Щедрин на Вас чисто литературное влияние.
Ответ: Первая часть вопроса неясна. Что же касается литературного влияния Щедрина на меня, то мне кажется, что это влияние было весьма значительно.
5. Щедрин как тип писателя (участие в практической жизни, уровень мировоззрения).
Ответ: Вопрос неясен, я затрудняюсь ответить на него». Вот эти открыто декларируемые затруднения и были той особенностью Булгакова, которая к началу 30-х годов отличала его от очень многих собратьев по перу.
27 сентября — «Миша читал Коле Л. (Лямину. — М. Ч.) новые главы романа о дьяволе, написанные в последние дни или вернее — ночи». В эти дни вечерами он играет в шахматы с маленьким Сергеем, а перед сном рассказывает ему истории про храброго пионера Бубкина — как он отправляется воевать вместе с Ворошиловым, попадает в самые разнообразные приключения. Один из не очень многих посетителей, Л. Канторович, прослышав про это, уговаривает Булгакова взяться за детский фильм «Бубкин». «Но М. А. занят романом, — записывает Елена Сергеевна 28 сентября, да и не верит в действительность затеи».
1 октября он посылает записку сестре Наде, прося извинить, что накануне не поздравил с именинами: «Это не потому, что я забыл тебя. Я все время нездоров и собираюсь выходить только с завтрашнего дня. Передай, пожалуйста, твоим ребятенкам 100 рублей по случаю вчерашних именин твоих. И поцелуй. Я и Люся сейчас с головой влезли в квартирный вопрос, черт его возьми. Наша еще не готова и раздирает меня во всех смыслах, а Любе я уже отстроил помещение в этом же доме, где и я живу сейчас. Итак, не сердись на меня за то, что редко даю знать о себе».
2 октября — «чудесный вечер у Леонтьевых» — в особняке Вас. Дмитр. Шервинского в Мансуровском переулке; с Яковом Леонтьевичем Леонтьевым, сердечно относившим ся и к Елене Сергеевне, и к Булгакову, установились теплые, никогда не охлаждавшиеся отношения.
В эти дни происходило какое-то оживление истории с романом «Мольер» — 21 сентября сотрудница редакции
508
ЖЗЛ H. A. Экке принесла Булгакову редакционный экземпляр «Мольера», возможно, с пометками, которые он стал пробовать учесть; 4 сентября Булгаков пишет, во всяком случае, брату: «Сижу над Мольером (я продолжаю его изучать)».
5 октября в 18.30 Немирович-Данченко беседует с Булгаковым, Афиногеновым, Вс. Ивановым, Файко, Вишневским, театральным критиком Бахелисом, и Вишневский заявляет среди прочего: «Булгаков плохо сделал инсценировку „Мертвых душ"».
В тот же вечер Булгаков у Попова читает отрывки из романа.
10 октября Е. С. Булгакова записала: «Вечером у нас: Ахматова, Вересаев, Оля с Калужским (сестра Булгаковой, секретарь Немировича-Данченко О. С. Бокшанская и ее муж, актер МХАТа Калужский. Они жили в одной квартире с Шиловским и старшим сыном Елены Сергеевны Женей. — М. Ч.), Патя Попов с Анной Ильиничной. Чтение романа. Ахматова весь вечер молчала».
Ответы на анкету «Литературного наследства» не удовлетворили, по свидетельству С. А. Макашина, самого Булгакова, и 11 октября он пишет новый ответ. Варьируя слова о раннем знакомстве с писателем, он пояснял далее: «Когда я стал взрослым, мне открылась ужасная истина. Атаманы-молодцы, беспутные Клементинки, рукосуи и лапотники, майор Прыщ и бывый прохвост Угрюм Бурчеев пережили Салтыкова-Щедрина. Тогда мой взгляд на окружающее стал траурным». А ответ на третий вопрос приобрел в новой редакции афористическую энергию мысли и выражения: «Я уверен в том, что всякие попытки создать сатиру обречены на полнейшую неудачу. Ее нельзя создать. Она создается сама собой, внезапно. Она создается тогда, когда появится писатель, который сочтет несовершенной текущую жизнь и, негодуя, приступит к художественному обличению ее. Полагаю, что путь такого писателя будет очень и очень труден». И будто в подтверждение этим только что написанным словам на другое утро, как явствует из дневника Елены Сергеевны, раздается звонок ее сестры Оли: «арестованы Николай Эрдман и Масс. Говорят, за какие-то сатирические басни. Миша нахмурился»; ночью, как отмечено в той же дневниковой записи, он сжигает часть романа. По-видимому, это была глава о Босом, занимавшая 117—292 с. авторской пагинации, но почти целиком вырезанная автором из сохранившейся в его архиве второй тетради новой (третьей) редакции романа. Уцелели только
509
четыре страницы, начинавшиеся словами: «Вовсе не потому, что москвич Босой знал эти места, был наслышан о них, нет, просто иным каким-то способом, кожей, что ли, Босой понял, что его ведут для того, чтобы совершить с ним самое ужасное, что могут совершить с человеком, — лишить свободы». Н. Р. Эрдман, с которым Булгаков к этому времени был уже, по-видимому, хорошо знаком, а впоследствии тесно сдружился, вскоре оказался в Енисейске (в МХАТе связывали это с тем, что Качалов с лучшими намерениями продекламировал его остро сатирические басни на вечере в кругу официальных лиц). Так закончилась, среди прочего, и история попыток МХАТа поставить пьесу Эрдмана «Самоубийца».
14 октября Булгаков просит редакцию ЖЗЛ известить, свободна ли рукопись «Мольера», и 17-го получает рукопись с уведомлением А. Н. Тихонова, что «Мольера» печатать не будут. В этот день Булгаков начинает письмо Вересаеву (цитируем по черновому тексту): «Дорогой Викентий Викентьевич, помнится, один раз я Вас уже угостил письмом, которое привело Вас в полнейшее недоумение. Но так всегда бывает: когда мой литературный груз начинает давить слишком, часть сдаю Елене Сергеевне. Но женские плечи можно обременять лишь до известного предела. Тогда — к Вам.
Давно уже я не был так тревожен, как теперь. Бессонница. На рассвете начинаю глядеть в потолок и таращу глаза до тех пор, пока за окном не установится жизнь — кепка, платок, платок, кепка. Фу, какая скука!
Так в чем же дело? Квартира. С этого начинается. Итак, на склоне лет я оказался на чужой площади. Эта сдана (другому съемщику, поскольку срок аренды кончился. — М. Ч.), а та не готова. Кислая физиономия лезет время от времени в квартиру и говорит «Квартира моя». Советует ехать в гостиницу и прочие пошлости. Надоел нестерпимо. Дальше чепуха примет грандиозные размеры и о работе помышлять не придется».
Пока же он почти ежедневно, вернее, еженощно работает над романом. В ночь на 21-е октября пишется 12-я глава, а 29-го уже начата 14-я.
20 октября Елена Сергеевна записывала: «М. А. ходил к Блюменталю (в 20-е годы — ассистенту H. M. Покровского. — М. Ч.) и в рентгеновский насчет почек — болели некоторое время. Но говорят — все в порядке». Много позже его младший друг С. А. Ермолинский вспомнит одно из его медицинских нравоучений, с которыми он любил, по-види-
510
мому, иногда обратиться к собеседнику: «— Имей в виду, самая подлая болезнь — почки. Она подкрадывается как вор. Исподтишка, не подавая никаких болевых сигналов. Именно так чаще всего. Поэтому, если бы я был начальником всех милиций, я бы заменил паспорта предъявлением анализа мочи, лишь на основании коего и ставил бы штамп о прописке».
30 октября на спектакле «Дни Турбиных.» В. М. Молотов хвалит игру актеров — сообщение об этом факте Елена Сергеевна заносит в дневник.
В ночь на 31-е — вновь работа над романом.
Теперь рассказ Воланда о Пилате и Иешуа, умещавшийся раньше в пределы одной главы, разбивался на части, перемежаясь другими фабульными звеньями. Фьелло (будущий Азазелло) читал Маргарите отрывок из романа ее возлюбленного — так в октябре — ноябре 1933 г. новый герой определился уже как автор романа, совпадающего по тексту с Евангелием от Воланда.
1 ноября позвонил Сергей Буданцев, рассказал про опыты Брюхоненко с приживлением отрезанной головы собаки; Брюхоненко в тот же день приглашен на обед, рассказывал о своих опытах, уверяя, что это — «готовый материал для пьесы» (далее в кавычках без оговорок мы даем цитаты из дневника Е. С. Булгаковой).
Позвонила Н. А. Экке из редакции ЖЗЛ и сообщила следующее:
«— Каменеву биография Мольера очень нравится, он никак не соглашается с оценкой Тихонова. Ждет его приезда из отпуска...»
Почти каждый день Булгаков ходил на стройку — полюбоваться, как подвигаются дела, и возвращался еще более взвинченный.
3 ноября за ужином — гости из МХАТа. «Федя (Ф. Н. Михальский — М. Ч.) предсказывал: — «Мольер» не пойдет, а «Бег» пойдет». 4-го — «вечером пошли с М. А. на его дежурство в филиале (МХАТа. — М. Ч.) — «Хлеб» Киршона. Перед спектаклем — торжественная часть, сцена декорирована красным, речи, после каждой оркестр исполняет отрывок «Интернационала». Но мы не сидели в зале, а ходили по театру в поисках воды. Пьесу смотрели, скучали, мужики неправдоподобные, Кедров играет хорошо».
По-прежнему в рукописях романа отмечается ежедневная работа над ним. 8 ноября: «М. А. почти целый день проспал — было много бессонных ночей. Потом работал над романом (полет Маргариты). Жалуется на головную
511
боль». 9 ноября: «Тревожит вопрос о квартире. Пошли к Матэ Залка (он был в правлении жилищного кооператива. — М. Ч.), тот успокаивает — скоро будет, к концу года.
Холодно. Первый снег. Вьюга». 10 ноября. «Дневной концерт в МХАТе — мы пошли. Голованов с оркестром — «Испанское каприччио». Пришло письмо от Замятина — «после большого перерыва». 11 ноября — «Заседание правления в новом доме», 12-го — «Вечером — Дмитриев (театральный художник В. В. Дмитриев, делавший еще первые наброски декораций к «Мертвым душам» — с Римом. — М. Ч.). Пришел из Большого театра. Там на «Дон-Кихоте» видел в ложе Сталина». 14-го — «М. А. говорил с Калужским о своем желании войти в актерский цех. Просил дать роль судьи в «Пиквикском клубе» и гетмана в «Турбиных». Калужский относится положительно. Я в отчаянии. Булгаков — актер». 16 ноября — «М. А. дежурил на «Мертвых (душах) ». Это — последний день ежесуточной работы над романом; на 506-й странице рукопись оставлена, — до 30 декабря 1933 г.
17 ноября. «Вечером на открытии театра Рубена Симонова в новом помещении на Б. Дмитровке — «Таланты и поклонники». Свежий, молодой спектакль. Рубен Ник<олаевич> принимал М. А. очаровательно, пригласил нас на банкет после спектакля. Было много вахтанговцев, все были милы.»
22 ноября. «У Поповых. Гитара, цыганский вальс (по многим отзывам, А. И. Толстая была прекрасной исполнительницей романсов под гитару. — М. Ч.). У них до нас был в гостях какой-то знакомый, но Аннушка ему сказала:
— Как Булгаков придет, так ты сматывай удочки, он терпеть не может посторонних.
М. А., узнав, бросился его догонять — не успел».
29 ноября в отсутствие Булгакова проходит совещание в МХАТе, «Бег» решено отложить, на другой день автор узнает об этом.
7 декабря. Вечером — врач. «Нашел у М. А. сильнейшее переутомление».
8 декабря
— наброски к пьесе «Блаженство». Пишет записку Елене Сергеевне: «Я тебя
очень. М.» «Кнорре
(режиссер ТРАМ'а — М.
Ч.) зашел в Филиал, вызвал М. А.
и очень тонко, очень обходительно предложил
тему — пре
красную — о перевоспитании бандитов в трудовых комму
нах ОГПУ — так вот, не хочет ли М. А. с ним работать. —
М. А. не менее обходительно отказался». Это
было время
писательских поездок на Беломорканал и многочисленных
512
повестей и рассказов на темы трудового перевоспитания («История одной жизни» М. Зощенко; в первом издании в составе коллективного сборника «Беломорканал» — «История одной перековки»),
9 декабря Булгаков играет роль судьи на просмотре первых шести картин «Записок Пиквикского клуба» (Булгаков помогал Н. А. Венкстерн в работе над инсценировкой и даже читал за нее текст в МХАТ'е). «Имел успех. Первым поздравил его Топорков. Немирович сказал: — Да, вот новый актер открылся». «На репетиции сообщили, что возобновляются мольеровские репетиции» («Мольер» не репетировался уже полгода).
Скупыми штрихами дневник Елены Сергеевны конца 1933 г. намечает картину отчуждения, взаимонепонимания даже с людьми близкими, родными, к тому времени проделавшими уже свой путь перековки и ожидающими, когда подтянутся задержавшиеся в пути. 11 декабря пришла сестра Надежда Афанасьевна — просить пьесы «Мольер» и «Бег» для своего знакомого, критика Нусинова; при этом она честно предупреждает брата, что писать о нем будут отрицательно. Булгаков отказывает, и она недовольна такой нелюбезностью. Ольга Сергеевна Бокшанская сообщает о недавнем звонке в театр из редакции «Литературной энциклопедии»: «Женский голос: «Мы пишем статью о Булгакове, конечно, неблагоприятную. Но нам интересно знать, перестроился ли он после „Дней Турбиных".
Миша: — Жаль, что не подошел к телефону курьер, он бы ответил: так точно, перестроился вчера в 11 часов». Обед или чаепитие в узком семейном кругу течет дальше. «Еще рассказ Н. А.: какой-то ее дальний родственник по мужу, коммунист, сказал про М. А. — Послать бы его на три месяца на Днепрострой, да не кормить, тогда бы он переродился.
Миша:
— Есть еще способ — кормить селедками и не давать пить».
Так напряжение, ощущение разрыва с образом мыслей и языком окружающих не отпускало и там, где, казалось, можно было надеяться на душевный покой — рядом с теми, кто были когда-то частью одного общего дома.
12 декабря: «Днем попытались с Мишей выйти на лыжах. Прошли поперек пруда у Ново-девичьего и вернулись — дикий ледяной ветер.
Сегодня в «Известиях» сообщение о новом американском после и его фотография — вчера приехал в Москву».
513
Каждый день идут режиссерские совещания по „Мольеру"; вводятся новые исполнители.
16 декабря Булгаков начинает диктовать жене пьесу «Блаженство», а 17-го на печатном тексте рассказа 1922 г «№13. — Дом Эльпит-Рабкоммуна» делает надпись: «В коллекцию и на память той, которая была единственной вдохновительницей жене моей Елене Сергеевне. Этот рассказ относится к страшному времени моей жизни». 19 декабря сын Елены Сергеевны Женя передает ей для Булгакова вырезку из «Вечерней Москвы» — сообщение о том, что американский посол Буллит был на «Днях Турбиных» и записал в книге отзывов: «Прекрасная пьеса, прекрасное исполнение».
23 декабря в 11 часов читает «Мольера» в MXАТе новым исполнителям. «Сегодня звонил Вересаев, жаловался, что книжку его «Сестры», выпущенную ГИХЛ'ом, ГИХЛ же (Государственное издательство художественной литературы. — М. Ч.) поместил в витрину брака с надписью, что книга вредная. — Жаль старика».
25 декабря. Утром — репетиция «Мольера». «К 4-м часам заехала в театр за М. А., поехали на Якиманку в Институт переливания крови. Брюхоненко (Сергей Сергеевич) очень жалел, что не может показать оживление отрезанной головы у собаки — нет подходящего экземпляра. Показывал кое-какие свои достижения. Но главное — настойчиво предлагал М. А. написать пьесу — вместе с ним — положив в основу какой-нибудь из его научных опытов.
Тут же приехал знакомый режиссер из Союзкино с уговорами написать фильм вместо пьесы или и то и другое. Но вместе с тем было ясно, что фамилия «Булгаков» его пугает. Он все время бормотал, горестно вздыхая;
— Да... ведь вы же сатирик! ведь я помню ваши «Роковые яйца»... да-а... — и качал грустно головой.
Потом и он и Брюхоненко, оба в пиджаках, несмотря на сильнейший мороз, выскочили во двор, провожая нас и приглашая еще приезжать к ним». Елена Сергеевна, чувствительная к деталям такого рода, неизменно будет памятлива на знаки такого почтительного отношения к Булгакову.
29 декабря. «Сегодня впервые у нас Егоров и Рипси, а потом и Федя (Н. В. Егоров — заместитель директора МХАТ, Р. К. Таманцева — секретарь дирекции МХАТ; Ф. Ф. Михальский. — М. Ч.). Рипси одна из немногих, которая приветствовала наш брак.
514
![]() За ужином
Ник<олай> Вас<ильевич> с громадным темпераментом стал доказывать,
что именно М. А. должен бороться за чистоту театральных принципов и за
художественное лицо МХАТа.
За ужином
Ник<олай> Вас<ильевич> с громадным темпераментом стал доказывать,
что именно М. А. должен бороться за чистоту театральных принципов и за
художественное лицо МХАТа.
Ведь вы же привыкли голодать, чего вам бояться! — вопил он исступленно.
Я, конечно, привык голодать, но не особенно люблю это. Так что вы уж сами боритесь».
30 декабря удается вновь обратиться к роману — написать страничку.
31 декабря Булгаков встречал Новый 1934-й год в кругу друзей и близких — Я. Л. Леонтьев и А. А. Арендт (потомок врача, лечившего Пушкина), женатые на сестрах, О. С. Бокшанская с Калужским. За столом было весело: «Женя Калужский и Леонтьев помирали над шуточными неприличными стихами, которые Михаил Афанасьевич сочинил к Новому году, т. е. стихи были абсолютно приличные, но рифмы требовались другие».
4 января 1934 г. Булгаков вернулся к роману; в этот день пишется страница, где Маргарита, встретясь с Воландом не на балу (которого в этой редакции нет), а на шабаше (описанном гораздо более раблезианскими красками, чем в поздних редакциях), просит его: «— Верни мне моего любовника».
В течение всего января автор то и дело обращается к страницам рукописи. Фьелло, нахлобучив меховую шапку, отправлялся за любовником. История его исчезновения, изложенная на двух страницах, вырвана из тетради (по-видимому, по тем же причинам, что и история с Босым), однако, появлялся герой на страницах романа в ватнике и сапогах, как уже упоминалось.
9 января: «М. А. — сцена за сценой — намечает пьесу. В какой театр?
— С моей фамилией никуда не возьмут. Даже если
и выйдет хорошо». Речь идет о пьесе «Блаженство». 14 января. «Пропустила
несколько дней. (Е. С. стремится вести дневник аккуратно, регулярно. — М. Ч.). За это время две смерти: Луначарского и Андрея Белого». Оба эти
человека были Булгакову небезразличны, первый имел прямое отношение к его судьбе.
Литературное отношение Булгакова к Белому было отрицательным, а с 1933 года к
этому при
мешалось, пожалуй, раздражение — Белый выступал про
тив постановки «Мертвых душ» в МХАТе, уверяя, что
ни постановщики, ни автор инсценировки не поняли Гоголя (в тот год А. Белый
выпустил свою труднодоступную
515
для чтения и замечательную богатством мысли книгу «Мастерство Гоголя»). Можно думать, что в постоянной и творчески-многообразной ориентации Булгакова на Гоголя в эти и последующие годы была какая-то доля внутренней полемики с Белым, который считал себя «возобновителем» Гоголя, «новым Гоголем». Это усиливало ту неприязнь Булгакова к Белому, которая и продиктовала резкие слова, зафиксированные в той же записи Еленой Сергеевной и важные для нас главным образом как один из немногих случаев прямых высказываний Булгакова:
«— Всю жизнь, прости господи, писал дикую ломаную чепуху. В последнее время решил повернуться лицом к коммунизму. Но повернулся крайне неудачно... Говорят, благословили его чрезвычайно печальным некрологом». И в той же записи: «В МХАТе начались репетиции «Врагов» (пьесы Горького. — М. Ч.). На каком-то спектакле этой пьесы недавно в Малом театре в правительственной ложе была произнесена фраза: — Хорошо бы эту пьесу поставить в Художественном театре.» Так репертуар МХАТ только подвергался непредсказуемым переменам, что, с одной стороны, делало в глазах Булгакова, да и других драматургов, неустойчивым положение уже репетируемых пьес, а с другой стороны, заставляло все время ожидать чудес — например, возвращения на сцену «Бега».
В 20-х числах января шла работа уже над последними главами романа, как намечены они были в «Разметке глав» еще в октябре 1933 г.: «17.26/VI (разметка точных дат событий. — М. Ч.). Возвращение Степы. 18. Выпуск Босого. 19. Следствие у Иванушки. 20. Бой с Воландом. Город горит. К вечеру самоубийство. 21. Полет. Понтий Пилат. Воскресенье».
Страницы главы, которая, по-видимому, называлась «Город горит», вырваны, и можно разобрать лишь обрывки рассказа о том, как к дому № 10 подкатила закрытая машина. Но содержание ее частично восстанавливается по записи в дневнике Елены Сергеевны от 23 января, где рассказано, как Булгаков работал над сценой пожара в Берлиозовой квартире и как в ту же ночь (т. е. видимо с 22 на 23-е) начался пожар на их кухне, как Булгаков собственноручно тушил его и в какой-то момент уже крикнул, отчаявшись: «Вызывай пожарных!», но вслед за тем сумел все же сбить огонь и затушить...
Далее на сцене в Торгсине работа над романом опять оставлена; на этот раз вернуться к нему удалось только летом того же года.
516
5 февраля Булгаков с женой смотрят генеральную репетицию пьесы Горького «Егор Булычев» и Елена Сергеевна резюмирует в дневнике их впечатления — «Спектакль бесцветный», а 11 февраля, на другой день после премьеры, им звонит О. С. Бокшанская, как всегда, сообщая театральные новости: «— На спектакле были члены правительства, был Сталин. Огромный успех. Велели ставить „Любовь Яровую"».
Возвращаясь к дневнику после долгого перерыва — с 11 февраля по 27 марта — Елена Сергеевна специально поясняла: «Сначала я долго болела (воспаление легких), потом переезжали на новую квартиру, причем Миша меня перевез с температурой 38° (18-го февраля), устраивались и т. д. И еще — М. А. работал над новой комедией».
20 февраля 1934 г. букинист Э. Ф. Циппельзон записывает в своем дневнике: «Встретил М. А. Булгакова. На вопрос, что он сейчас ищет (из книг), отвечает: «больше всего я ищу сейчас газ для ванны». Он переехал вчера в дом писателей в Нащокинском переулке.
«Мольера» репетируют вот уже третий год. «Бег» опять сняли. Для Булгакова характерно следующее. — Спрашиваю: «хоронили Багрицкого?» Ответ: «а кто такой Багрицкий? Честное слово, не знаю, кто такой Багрицкий!»
Разговорились о статье Тальникова, доказывающей, что вообще нельзя переделывать классиков...»
6 марта 1934 г. Булгаков писал Вересаеву о новом своем пристанище: «Замечательный дом, клянусь! Писатели живут и сверху и снизу и сзади и спереди и сбоку.
Молю Бога о том, чтобы дом стоял нерушимо. Я счастлив, что убрался из сырой Пироговской ямы. А какое блаженство не ездить в трамвае! Викентий Викентьевич!» Это было огромным преимуществом новой квартиры — возможность пешком за 25—30 минут по бульварам, по Никитской и переулкам дойти до МХАТа или до филиала. С Пироговской путь в театр неминуемо был связан с поездкой в переполненном трамвае. «Правда, у нас прохладно, в уборной что-то не ладится и течет на пол из бака, и, наверное, будут еще какие-нибудь неполадки, но все же я счастлив. Лишь бы только стоял дом!
Господи! Хоть бы скорей весна. О, какая длинная, утомительная была эта зима. (Сознавал ли сам Булгаков, что вводил в письмо почти дословную реминисценцию из Чехова, из рассказа «Мужики»: «О, какая суровая, какая длинная зима!»? — М. Ч.). Мечтаю о том, как открою балконную дверь.
517
Устал, устал я.»
Примерно полугодом раньше Булгакова в тот же дом переехал О. Мандельштам с женой. Вряд ли они встречались в недолгие месяцы, оставшиеся до мая 1934 г. — разве что случайно, на улице около дома. Их краткое знакомство 1921 г. не было, насколько нам известно, поддержано в Москве; слишком многое их разделяло (сопоставим хотя бы воспоминания жены поэта о киевском времени: «Мандельштам девятнадцатого года был полон доверия к людям, весел, легок», с тем, что мы знаем о настроении Булгакова той же поры). Между тем это были люди одного поколения, одного даже года рождения, оба принадлежали целиком «городской» культуре, и ретроспективному взгляду видны основания для сопоставления их отношения к Городу как средоточию культуры, носителю исторической памяти, к театру как сгустку культуры, носителю традиции.
Даже Москву одного и того же времени они описывали нередко сходными красками — и тем заметнее бывает разница между поэтическим восторгом Мандельштама перед предметами городского быта и резкими «прозаическими» оценками тех же предметов ищущим комфорта горожанином у Булгакова («Люблю разъезды скворчущих трамваев» — и булгаковское: «вот они уже воют, из парка расходятся», «их омерзительный скрежет на морозе»).
Штрих не столько к личным взаимоотношениям Булгакова и Мандельштама (которых, повторим, практически не было), сколько к карте московской литературной жизни середины начала 30-х годов — воспоминания А. А. Ахматовой: «Зимой в 1933—1934 гг., когда я гостила у Мандельштамов на Нащокинском, в феврале 1934 г., меня пригласили на вечер Булгаковы. Осип взволновался: «Вас хотят сводить с московской литературой!» (он, видимо, имел слабое представление о том, что к этому времени Булгаков был уже очень мало связан с «московской литературой». —М. Ч.). Чтобы его успокоить, я неудачно сказала: «Нет, Булгаков сам изгой. Вероятно, там будет кто-нибудь из МХАТа».
Осип совсем рассердился. Он бегал по комнате и кричал:
«Как оторвать Ахматову от МХАТа...»
Через два с лишним месяца, в семь часов утра 14 мая Мандельштам будет арестован.
14 марта Булгаков писал П. С. Попову: «Зима эта, воистину, нескончаемая. Глядишь в окно и плюнуть хочется. И лежит и лежит на крышах серый снег. Надоела зима!» Душа киевлянина так и не притерпелась за десять с лишним лет к суровым и длительным московским зимам.
518
«Квартира помаленьку устраивается. Но столяры осточертели не хуже зимы. Приходят, уходят, стучат.
В спальне повис фонарь. Что касается кабинета, то ну его в болото! Ни к чему все эти кабинеты».
Квартира была трехкомнатная. Из большой столовой двери вели налево, в детскую, и направо, в небольшую спальню, которая стала служить и кабинетом.
«Пироговскую я уже забыл. Верный знак, что там жилось неладно. Хотя было и много интересного. <...> Мольер: ну, что ж, ну репетируем. Но редко, медленно. И, скажу по секрету, смотрю на это мрачно. Люся без раздражения не может говорить о том, что театр проделал с этой пьесой. А для меня этот период давно прошел. И, если бы не мысль о том, что нужна новая пьеса на сцене, чтобы дальше жить, я бы и перестал о нем думать. Пойдет — хорошо, не пойдет — не надо. Но работаю на этих редких репетициях много и азартно. Ничего не поделаешь со сценической кровью!»
Регулярно участвовал он и в репетициях «Записок Пиквикского клуба»; занимался «с вокалистами мхатовскими» — к юбилейному концерту, подготовка которого была ему поручена. «...И время от времени мажу сценка за сценкой комедию. Кого я этим тешу? Зачем? Никто мне этого не объяснит». 23 марта заключен договор на пьесу «Блаженство» с Московским театром Сатиры.
27 марта 1934 г. Елена Сергеевна записывает: «Сегодня днем заходила в МХАТ за М. А. Пока ждала его в конторе у Феди, подошел Ник. Вас. Егоров. Сказал, что несколько дней назад в театре был Сталин, спрашивал между прочим о Булгакове, работает ли в театре?
— Я вам, Е. С, ручаюсь, что среди членов правительства считают, что лучшая пьеса — это «Дни Турбиных».
Новый знак внимания со стороны Сталина возродил у Булгакова новые надежды и через две с лишним недели, 13 апреля Елена Сергеевна записала в дневник — «Решили подать заявление о заграничных паспортах на август — сентябрь».
28 марта Булгаков заканчивает первую рукописную редакцию пьесы «Блаженство», занявшую три с половиной тетради; часть пьесы написана рукою Елены Сергеевны, под его диктовку.
«Я очень страдала там, в этой жизни, — говорила героиня пьесы Мария человеку из страны будущего, в которую прилетает она на машине времени. — Ах, боже! А если это сон? Ваши ясные глаза успокаивают меня. Меня поражает выражение лиц здешних людей. В них безмятежность. Родома-
519
нов. Разве у тогдашних людей были иные лица? Мария. Ах, что вы спрашиваете. Они отличаются от ваших так резко... Ужасные глаза». (На страницах разных произведений Булгакова не раз будут упомянуты «тревожные» или «беспокойные» глаза современных людей — одна из наиболее неприязненных авторских характеристик; сравним, например, в набросках к роману 1931 г.: «— Пардон. Как его фамилия? Виноват, — и над вторым ухом у Ивана выявилось второе лицо с очень беспокойными глазами».)
Опережая финал «Мастера и Маргариты», Булгаков вводил в пьесу мотив желанного покоя, освобождения от тревог — недоступного, впрочем, главному герою, изобретателю Рейну, поскольку для него неприемлемыми оказываются (как и для героя пьесы «Адам и Ева» изобретателя Ефросимова) увещевания Родоманова, склоняющего изобретателя передать машину ему как представителю государства: «Вы обнимете меня, вынете механизм, сдадите его мне, я запру его в кассу... Все магазины будут торговать вашими бюстами».
Нет, сдать механизм даже в обмен на бюсты герои этих двух пьес, творцы, не соглашаются. Уговоры Родаманова и ответ Рейна: «Я понял. Я пленник,' вы не отпустите меня» — заставляют вспомнить арию Кончака из оперы Бородина «Князь Игорь».
«Эта ария всегда бесконечно волновала его. — рассказывала Е. С. Булгакова. — Слушая ее, он бледнел, сжимал мою руку...».
Рейн и Жорж Милославский бегут из будущего назад, в настоящее, при этом вор Милославский ударяет ножом того, кто пробует задержать их. Этим невольным участием Рейна в убийстве, которым завершалась его попытка обрести покой и необходимую для творчества свободу в Блаженстве, кончалась первая редакция пьесы.
Работа над второй редакцией (большей частью продиктованной автором жене), из которой исчезли следы жанра музыкальной комедии, заняла всего две недели. Она завершена была 11 апреля, после чего сразу началась перепечатка. 12 апреля автор прочел пьесу «для своих, — как записывала Елена Сергеевна. — Были: Коля Лямин, который приехал на три дня из Ясной Поляны, Сергей Ермолинский и Бернет. Комедия им понравилась». Третья, машинописная, редакция датирована 23-м апреля, а 25-го пьеса сдана в театр.
28 апреля Булгаков пишет Попову в Ясную Поляну: «Можешь еще одну главу прибавить (полушуткой, полу-
520
всерьез в письмах и в разговорах обсуждается теперь настоящая или предполагаемая работа Попова над биографией Булгакова.-- М. Ч.) — 97-ю под заглавием: о том, как из Блаженства ни черта не вышло.
25-го числа читал труппе Сатиры пьесу. Очень понравился всем первый акт и последний, но сцены в Блаженстве не приняли никак. Все единодушно вцепились и влюбились в Ивана Грозного (в этой пьесе — лицо эпизодическое, появляющееся только в первом и в последнем актах. — М. Ч.). Очевидно я что-то совсем не то сочинил». Еще несколькими днями раньше, 26-го, он жаловался в письме Вересаеву: «...Закончил, наконец, пьесу, которую задумал давным-давно. Мечтал — допишу, сдам в театр Сатиры, с которым у меня договор, в ту же минуту о ней забуду и начну писать киносценарий по Мертвым душам. (31 марта был заключен договор с Союзфильмом — сценарий для режиссера Пырьева надо было сдать не позднее 20 августа. — М. Ч.) .Но не вышло так, как я думал... вместо того, чтобы забыть, лежу с невралгией и думаю о том, какой я, к лешему, драматург! В голове совершеннейший салат оливье: тут уже Чичиков лезет, а тут эта комедия».
Напомним — пьеса задумана была в 1929—1930 гг., под воздействием пьес Маяковского и, конечно, с полемическим запалом по отношению к ним. За прошедшие несколько лет сама задача изображения будущего, по-видимому, потеряла литературную привлекательность. Булгаков потерпел, собственно говоря, первое в своей драматургической жизни фиаско.
«Я чувствую себя отвратительно в смысле здоровья. Переутомлен окончательно. К первому августа во что бы то ни стало надо ликвидировать всякую работу и сделать антракт до конца сентября, иначе совершенно ясно, что следующий сезон я уже не буду в состоянии тянуть».
31 апреля группа актеров и режиссеров из театра Сатиры ужинают у Булгаковых. «Встретил их М. А. лежа в постели, у него была дикая головная боль. Но потом он ожил и встал к ужину. Вечер прошел приятно. Все они насели на М. А. с просьбой переделок, согласны на длительный срок, скажем 4 месяца (Ведь сейчас М. А. должен работать над «Мертвыми душами» для кино). Им грезится какая-то смешная (пьеса «Блаженство», несмотря на несколько комических персонажей и положений, была не такой уж смешной. — М. Ч.) с Иваном Грозным, с усечением будущего. Они считают, что это уже есть, как зерно, в пьесе, в первом появлении Ивана Грозного».
521
«Решил подать прошение о двухмесячной заграничной поездке: август — сентябрь — сообщал он в эти дни, 26 апреля, Вересаеву. — Несколько дней лежал, думал, ломал голову, пытался советоваться кое с кем. „На болезнь не ссылайтесь". Хорошо, не буду. Ссылаться можно, должно только на одно: я должен и я имею право видеть хотя бы кратко — свет. Проверяю себя, спрашиваю жену, имею ли я это право. Отвечает — имеешь. Так, что ж, ссылаться, что ли, на это?
Вопрос осложнен безумно тем, что нужно ехать непременно с Еленой Сергеевной. Я чувствую себя плохо. Неврастения, страх одиночества превратил бы поездку в тоскливую пытку. Вот интересно, на что тут можно сослаться? Некоторые из моих советников при словах «с женой» даже руками замахали. А, между тем, махать здесь нет никаких оснований. Это правда, и эту правду надо отстоять. Мне не нужны ни доктора, ни дома отдыха, ни санатории, ни прочее в этом роде. Я знаю, что мне надо. На два месяца — иной город, иное солнце, иное море, иной отель, и я верю, что осенью я в состоянии буду репетировать в проезде Художественного Театра, а, может быть, и писать.
Один человек сказал: обратитесь к Немировичу.
Нет, не обращусь! Ни к Немировичу, ни к Станиславскому. Они не шевельнутся. Пусть обращается к ним Антон Чехов!
Так вот, решение. Обращаюсь к Елене Сергеевне. У нее счастливая рука.
Пора, пора съездить, Викентий Викентьевич! А то уж как-то странно — закат!
Успеха не желайте; согласно нашему театральному суеверию, это нехорошо».
В эти дни заявление было подано — отдано Я. Л. Леонтьеву, доброжелателю Булгаковых, для передачи лично А. С. Енукидзе.
«Прилагаемый к этому письму экземпляр моего заявления А. С. Енукидзе, — писал Булгаков 1 мая 1934 г Горькому, — объяснит Вам, что я прошу о разрешении мне двухмесячной заграничной поездки. Хорошо помня очень ценные для меня Ваши одобрительные отзывы о пьесах «Бег» и «Мольер» («Ценные для меня» — хорошо декорированный намек на то, что «Бег» так и не вышел на сцену. — М. Ч.), я позволяю себе беспокоить Вас просьбой поддержать меня в деле, которое имеет для меня действительно жизненный и чисто писательский смысл. Собственно говоря, для моей поездки нужен был бы несколько больший срок,
522
но я не прошу о нем, так как мне необходимо быть осенью в МХАТ, чтобы не срывать моей режиссерской работы в тех пьесах, где я занят (в частности, «Мольер»). Я в такой мере переутомлен, что боюсь путешествовать один, почему и прошу о разрешении моей жене сопровождать меня. Я знаю твердо, что это путешествие вернуло бы мне работоспособность и дало бы мне возможность, наряду с моей театральной работой, написать книгу путевых очерков, мысль о которых манит меня. За границей я никогда не был. Вы меня крайне обязали бы ответом».
Снова он увлечен мыслью о заграничном путешествии. Еще 28 апреля, сообщая Попову о своем прошении, он пишет: «Давно мне уже грезилась Средиземная волна и парижские музеи и тихий отель и никаких знакомых и фонтан Мольера и кафе и, словом, возможность все это видеть. Давно уж с Люсей разговаривал о том, какое путешествие можно было бы написать! И вспомнил незабвенный Фрегат Паллады, и как Григорович вкатился в Париж лет восемьдесят назад! Ах, если б осуществилось! Тогда уж готовь новую главу — самую интересную (речь идет опять о биографии Булгакова... — М. Ч.). Видел одного литератора как-то, побывавшего за границей. На голове был берет с коротеньким хвостиком. Ничего, кроме хвостика, не вывез! Впечатление такое, как будто он проспал месяца два, затем этот берет купил и приехал.
Ни строки, ни фразы, ни мысли! О, незабвенный Гончаров! Где ты?» Замечательна эта опора на путешествия русских писателей прошлого века и неприятие того нового языка описания этих путешествий, одним из образцов для которого стало, несомненно, «Мое открытие Америки» Маяковского. «Очень прошу тебя, — предупреждал Булгаков, — никому пока об этом не говорить, решительно никому. Таинственности здесь нет никакой, но просто хочу оградить себя от дикой трескотни московских кумушек и кумовьев.
...Просто не хочу, чтобы трепался такой важный вопрос, который для меня вопрос всего будущего, хотя бы и короткого, хотя бы уже и на вечере моей жизни! ...Ах, какие письма, Павел, я тебе буду писать! А, приехав осенью, обниму, но короткий хвостик покупать себе не буду. А равно также и короткие штаны до колен. А равно также и клетчатые чулки».
4 мая: «...сегодня М. А. узнал от Якова Леонтьевича, что Енукидзе наложил резолюцию на заявление М. А. — направить в ЦК». В течение нескольких дней Булгаков
523
заканчивает экспозицию киносценария «Мертвых душ». Î0 мая вечером обсуждать ее к нему приходят режиссеры И. Пырьев и И. Вайсфельд. Фрагмент разговора Елена Сергеевна записывает:
«Пырьев — Вы бы, М. А., поехали на завод, посмотрели бы...
— Шумно очень на заводе, а я устал, болен. Вы меня отправьте лучше в Ниццу». В Ницце еще недавно несколько месяцев лечился К. Станиславский.
11 мая. «Сильнейшая жара.
В газетах сообщение о смерти председателя ОГПУ Менжинского».
12 мая. «В «Лит. газете» сообщение о смерти сына Горького — Максима Пешкова. Правительственное письмо Горькому. Есть подпись Сталина. «Вместе с Вами скорбим и переживаем горе, так неожиданно и дико свалившееся на нас всех». Причина смерти неизвестна. Сказано: после непродолжительной болезни».
Все время происходили какие-то тягостные ситуации с «Мольером» — вдруг узнавалось, что Немирович-Данченко отказывается придти на просмотр нескольких картин и Булгаков уже выдвигал собственную версию, объясняя это заботой о репутации — «Не будет он связываться ни с чем сомнительным! А вообще, и Немирович, и «Мольер» — все мне осточертело!.. Хочу одного — чтоб сезон закрылся.» В этот же день, 13 мая, один из знакомых актеров Л. М. Леонидов говорит ему слова, вполне соответствующие его нынешнему отношению к репетициям «Мольера»: «— Искусство должно быть радостным, и результат его радостный, как результат родов. У нас же ребенок идет задницей, потом его заталкивают обратно, поправляют...».
14 мая — у П. С. Попова. «Он уговаривал — безуспешно — М. А. чтобы он послал Горькому соболезнование. Нельзя же, правда, — ведь на то письмо ответа не было». Булгаков считает для себя невозможным писать Горькому, не получив ответа на свое столь важное для него письмо, отосланное 2 мая. В эти дни Попов дарит ему «Мои воспоминания» И. Л. Толстого, вышедшие под его редакцией, с надписью: «Дорогому Маке с пожеланием не поддаваться сомнениям и верить в свои собственные силы».
15 мая: «утром провожала М. А. в театр — он очень плохо себя чувствовал, тяжело волновался.
Около 12 часов дня в нижнем фойе начался просмотр «Мольера». Я постояла у закрытых дверей, услышала музыку, потом первые слова Станицына — Мольера...»
524
16 мая: «Сегодня M. A. лежит целый день — дурно себя чувствует. Читает Сергею Киплинга».
Он любил Киплинга, рассказывала в 1969 году Елена Сергеевна, и декламировал с особенным чувством:
Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой.
Эти строки были наполнены для него биографическим смыслом.
И вот наступило 17 мая — их вызвали получать заграничные паспорта. На другой день Елена Сергеевна так описывала происходившее. Их посадили за стол в пустой комнате заполнять анкеты. «Когда мы писали, М. А. меня страшно смешил, выдумывая разные ответы и вопросы. Мы много хихикали, не обращая внимания на то, что из соседних дверей вышли сначала мужчина, а потом дама, которые сели за стол и что-то писали. Когда мы поднялись наверх, Борис Полетц (сотрудник, занимавшийся их документами. — М. Ч.) сказал, что уже поздно, паспортистка ушла и паспорта сегодня не будут нам выданы. «Приходите завтра», — «Но завтра 18-е» (выходной день шестидневки. — М. Ч.)» — «Ну, значит, 19-го». На обратном пути М. А. сказал: «Слушай, а это не эти типы подвели?! Может быть, подслушивали? Решили, что мы уедем — и не вернемся?.. Да нет, не может быть... Давай лучше мечтать, как мы поедем в Париж!
И все повторял ликующе:
— Значит, я не узник! Значит, увижу свет!
Шли пешком, возбужденные. Жаркий день. Яркое солнце. Трубный бульвар. М. А. прижимает к себе мою руку, смеется, выдумывает первую главу книги, которую привезет из путешествия.
— Неужели не арестант?! Это — вечная ночная тема: — Я — арестант... Меня искусственно ослепили... Дома про диктовал мне первую главу будущей книги».
19 мая. «Ответ о заграничных паспортах переложили на завтра».
23 мая: «Ответ переложили на 25-е».
25 мая. «Опять нет паспортов. Решили больше не ходить. М. А. чувствует себя отвратительно».
29 мая: «В Москве волнение среди литераторов — идет прием в новый Союз писателей... Забежал к нам взволнованный Тренев и настойчиво советовал М. А. — «скорей подать!» В этот день Булгаков подал заявление в Союз и заполненную анкету.
1 июня Елена Сергеевна записывала, что за эти дни
525
(26—29 мая) «выяснилось, что секретарша Енукидзе Минервина говорила Оле, что она точно знает, что мы получим паспорта. МХАТчикам тоже дают многим, Оле в том числе. «Старикам» дают по 500 долларов с собой, Оле — 400. Получил паспорт и уехал Пильняк с женой. Звонила к Минервиной, она обещала навести справку. Все дела из рук валятся из-за этой неопределенности», «Была у нас Ахматова. Приехала хлопотать за Осипа Мандельштама — он в ссылке. Говорят, что в Ленинграде была какая-то история, при которой Мандельштам ударил по лицу Алексея Толстого». Алексею Толстому Булгаков вряд ли сочувствовал. А Ахматова вспоминала, что утром того дня, когда Мандельштам в сопровождении жены должен был отправиться в Чердынь, она собирала для них деньги и зашла к Булгаковым; Елена Сергеевна «заплакала и сунула мне в руку все содержимое своей сумочки»; жена поэта так же запомнила, как «Анна Андреевна пошла к Булгаковым и вернулась, тронутая поведением Елены Сергеевны, которая заплакала, услыхав о высылке, и буквально вывернула свои карманы».
Здесь узнается картинность жеста, свойственная Елене Сергеевне до последних лет жизни; но важно помнить, что жесты ее совпадали с ее же естественными человеческими порывами. Актриса по всей своей натуре, она, испытывая глубочайшее горе, — играла горе, испытывая благородное движение души — выражала его соответствующим жестом. Одно не подменяло, а сопровождало другое.
Неизвестно, знал ли тогда Булгаков об обстоятельствах того, что происходило с Мандельштамом, знал ли уже о звонке Сталина Пастернаку. Если предположить, что знал, — это могло еще раз всколыхнуть в нем иллюзорные надежды, побудившие его вскоре к новым поискам связи все с тем же человеком.
«М. А. чувствует себя ужасно — страх смерти, одиночества, — записывала Елена Сергеевна в тот же день
1 июня. — Все время, когда можно, лежит». Вызванный ею доктор Шапиро «нашел у него сильное переутомление. Сердце в порядке».
2 июня. «Вечером были у Поповых. М. А. и Патя выдумали игру: при здоровании или прощании успеть поцеловать друг другу руку — неожиданно. Сегодня успел Патя. Веселились при этом как маленькие.
У М. А. лучше состояние — Шапиро подействовал на него хорошо». 3 июня. «Звонила к Минервиной, к Борису Полетцу — никакого толку. На улице — холодно, мокро,
526
ветер». 4 июня была уже подписана официальная бумага об отказе в выезде, но Булгаков еще не знал об этом, она дошла до него позже. А Я. Л. Леонтьев еще пробовал помочь им — 5 июня, на репетиции «Пиквикского клуба» он сказал Елене Сергеевне, что «поместил нашу фамилию в список мхатовский на получение паспортов» — в надежде, что удастся получить паспорта вместе с другими, через посыльного от театра.
Потрясение, испытанное 7 июня, было велико. Только полтора месяца спустя, 20 июля, Елена Сергеевна стала восстанавливать в памяти события: «Что я помню? Седьмого июня мы ждали в МХАТе вместе с другими Ивана Сергеевича, который поехал за паспортами. Он вернулся с целой грудой их, раздал всем, а нам — последним — белые бумажки — отказ. Мы вышли. На улице М. А. вскоре стало плохо, я с трудом довела его до аптеки. Ему дали капель, уложили на кушетку. Я вышла на улицу — нет ли такси. Не было, и только рядом с аптекой стояла машина и около нее Безыменский. Ни за что! (Напомним о резких выражениях в «Открытом письме» Безыменского в 1926 г., процитированных Булгаковым в письме 28 марта 1930 г., а также о пьесе 1929 года «Выстрел», где один из героев Безыменского вопрошал: «Скажи, кто этот сукин сын?» а ему отвечали: «Полковник Алексей Турбин!» Все это делало невозможным для Булгакова и несколько лет спустя прибегнуть к помощи того, кто послужил в какой-то степени прототипом для Ивана Бездомного. — М. Ч.). Пошла обратно и вызвала машину по телефону.
У М. А. очень плохое состояние — опять страх смерти, одиночества, пространства».
Весь этот день подробно описан Булгаковым и в письме к Вересаеву — спустя месяц, 11 июля. Но прежде того, в первые же дни после отказа, Булгаков вновь пишет письмо Сталину — и 11 июня Елена Сергеевна собственноручно относит его в соответствующее окошечко. Это письмо — едва ли не самый поразительный образец его эпистолярии этого рода. В нем проступила вдруг особенно ярко и наглядно связь с литературно-эпистолярным наследием прошлого века; оно строится во многом на старомодных оборотах («Испрашивая разрешения... Я хотел сочинить книгу»), в нем слышна гоголевская интонация («Тогда я несколько насторожился и спросил служащего, точно ли есть обо мне распоряжение и не ослышался ли я 17 мая»); временами же автор будто забывает об адресате и обращает текст едва ли не к самому себе или к Павлу Сергеевичу
527
Попову — к таким вольным, свободно-эмоциональным оборотам речи он прибегает («В припадке радости...», «Тут уж у меня отпали какие бы то ни было сомнения, и радость моя сделалась безграничной», «...к чему я уже относился с полным благодушием...»). Создается впечатление, что чем дольше срок потери какой бы то ни было связи с адресатом (со времени телефонного разговора прошло уже четыре года), тем все более этот адресат утрачивает в глазах пишущего какую-либо определенность, ему как бы предназначается функция того провиденциального собеседника, к которому, как писал в свое время Мандельштам, обращается поэт.
Булгаков пишет теперь, заботясь, кажется, главным образом о возможно более адекватной передаче — вернее, излиянии своих чувств и мыслей, едва ли не размышляя вслух; единственной причиной отказа, как он предполагает, «могло быть только одно: не существует ли в органах, контролирующих заграничные поездки, предположения, что я останусь за границей навсегда? Я не говорю уж о том, что для того, чтобы удалиться за границу после обманного заявления, мне надлежит разлучить мою жену с ребенком, ее самое поставить в ужасающее положение, разрушить жизнь моей семьи, своими руками разгромить свой репертуар в Художественном театре, ославить себя — и, главное, все это неизвестно зачем. Здесь важно другое: я не могу постичь, зачем, замыслив что-нибудь одно, испрашивать другое? И тому, что я этого не понимаю, у меня есть доказательство» — он напоминал, что в 1930 г., задумав «бессрочный отъезд, под влиянием моих личных писательских обстоятельств, я не писал о двухмесячной поездке...»
«...Останься прост, беседуя с царями...» И это письмо, как и письмо 1931 года, осталось без ответа. За год были потеряны, таким образом, два важных адресата — первым был Горький.
Любопытная деталь — Булгаков не стал теперь дожидаться письма или звонка (как, по преданию, в начале этого года неделю сидел дома бывший редактор Булгакова И. Лежнев, уже благополучно вернувшийся на родину и написавший книгу воспоминаний, столь понравившуюся Сталину, что тот позвонил ему, но не застал дома; повторного же звонка Лежнев так и не дождался) и 13-го выехал вместе с женой в Ленинград — по командировке от МХАТа. Живут они вновь в «Астории». 26 июня Булгаков пишет Попову: «До сих пор не мог тебе писать. После всего происшедшего не только я, но и хозяйка моя, к великому моему ужасу,
528
расхворалась. Начались дьявольские мигрени, потом боль поползла дальше, бессонница и прочее. Обоим нам пришлось лечиться аккуратно и всерьез. Каждый день нам делают электризацию, и мы начинаем становиться на ноги». 20-го июня, сообщает Булгаков, МХАТ, гастролирующий в Ленинграде, сыграл 500-й спектакль «Дней Турбиных». Автор получил поздравление от В. Сахновского и Я. Леонтьева. «И Немирович прислал поздравление Театру. Повертев его в руках, я убедился, что там нет ни одной буквы, которая бы относилась к автору. Полагаю, что хороший тон требует того, чтобы автора не упоминать. Раньше этого не знал, но я очевидно недостаточно светский человек. Одно досадно, что, не спрашивая меня, Театр послал ему благодарность, в том числе и от автора. Дорого бы дал, чтобы выдрать оттуда слово — автор. <...> Я пишу «Мертвые души» для экрана и привезу с собой готовую вещь. Потом начнется возня с «Блаженством». Ох, много у меня работы! Но в голове бродит моя Маргарита и кот и полеты... Но я слаб и разбит еще. Правда, с каждым днем я крепну.
Все, что можно будет собрать в смысле силы за это лето, я соберу.
Люся прозвала меня Капитаном Копейкиным. Оцени эту остроту, полагаю, что она первоклассна».
Действительно — страницы сценария, писавшиеся в это лето его рукой, на удивление напоминали нечто знакомое — хотя почти буквально шли за гоголевским текстом, за рассказом почтмейстера. На экране должен был появиться Копейкин. «Правой руки нет, рукав пристегнут к мундиру. Физиономия наглая» (Можно представить себе веселье, охватывающее смешливую Елену Сергеевну при печатании этой фразы). Копейкин в толпе просителей, которых обходит министр. Вот он подходит к Копейкину. «Копейкин: так и так, ваше высокопревосходительство, проливая в некотором роде кровь... (не письмо ли 1931 года с перечнем своих заслуг за истекший сезон вспоминал здесь Булгаков?— М. Ч.). Министр говорит: хорошо, говорит, понаведайтесь на днях». На экране — «Лестница у министра. По ней спускается, приплясывая от радости, очень довольный Копейкин (и опять нельзя было не вспомнить, поскольку аналогия была уже указана, праздничное настроение 17 мая этого года. — М. Ч.). Швейцар смотрит на него с недоумением». Голос за экраном или титр: «...не прошло и четырех дней...» «Приемная министра. Другие просители стоят, а у индийской вазы опять стоит Копейкин». Голос: «...Министр тотчас его узнал. „Нам нужно будет ожидать
529
приезда государя". И опять на экране лестница у министра. «По лестнице спускается Копейкин — крайне мрачен. <...> Тумба на улице. Копейкин сидит и жует огурец с черным хлебом. Значительно исхудал.
Приемная у министра. Просители. Министр обходит их всех, отбирая у них прошения. Внезапно из-за индийской вазы появляется перед ним капитан Копейкин — небритый и худой. Министр вздрагивает и отступает». Голос почтмейстера: «Ведь я уже объявлял вам, что вы должны ожидать решения. Ищите пока сами себе средства». А мой Копейкин, голод, знаете, пришпорил его: «какие средства я могу сыскать не имея ни руки ни ноги, а носом и подавно ничего не сделаешь, только разве высморкаешься». «Копейкин взмахивает рукой, чтобы высморкаться, задевает индийскую вазу, та падает и разбивается». «...Грубиян! — закричал министр, — позвать фельдъегеря, препроводить его на место жительства». Так бесславно заканчивались энергичные действия капитана Копейкина в роли просителя, давая предостерегающий знак его будущим подражателям.
26 июня Булгаков — П. С. Попову: «Здоровье — увы! — не совсем еще восстановилось, и, конечно, этого сразу не достигнешь. Но все-таки Елена Сергеевна чувствует себя гораздо лучше. Некоторая надежда есть и относительно меня. Уж очень хорош шок был!» «Много предстоит забот, хлопот, но я думаю не о них, а о том, чтобы как-нибудь обеспечить себе спокойствие и хорошее расположение духа»; — пишет он 6 июля Я. Леонтьеву. 4 июля он, однако, уже встретился со своими заказчиками и передал им первый вариант киносценария по «Мертвым душам». «Люся утверждает, — пишет он Попову 10 июля, — что сценарий вышел замечательный. Я им показал его в черновом виде, и хорошо сделал, что не перебелил. Все, что больше всего мне нравилось, то есть сцена суворовских солдат посреди Ноздревской сцены, отдельная большая баллада о капитане Копейкине, панихида в имении Собакевича и, самое главное, Рим с силуэтом на балконе, — все это подверглось полному разгрому! Удастся сохранить только Копейкина, и то сузив его. Но — Боже! — до чего мне жаль Рима!» (Восклицание это равным образом могло быть отнесено и к сорвавшейся поездке в Италию.). «Я выслушал все, что мне сказал Вайсфельд и его режиссер, и тотчас сказал, что переделаю, как они желают, так что они даже изумились». Такая покладистость была им проявлена не от хорошей жизни, он экономил и рассчитывал силы; все равно было ясно, что предстоит переделка сценария, и он смирился с этим, не тратя красноречия.
530
Театру, который заказывал ему в свое время пьесу «эксцентрическую синтетическую», он привез теперь «Блаженство» — разумеется, в непеределанном виде. О том, что было дальше, он рассказывает в том же письме от 10 июля:
«С «Блаженством» здесь произошел случай, выпадающий за грани реального. Номер Астории. Я читаю. Директор театра, он же и постановщик, слушает, выражает полное и, по-видимому, неподдельное восхищение, собирается ставить, сулит деньги и говорит, что через 40 минут придет ужинать вместе со мной. Приходит через 40 минут, ужинает, о пьесе не говорит ни одного слова, а затем проваливается сквозь землю и более его нет!
Есть предположение, что он ушел в четвертое измерение.
Вот какие чудеса происходят на свете!»
12-го июля он начинает новую тетрадь, озаглавив ее: «Роман. Окончание» и до 16 июля пишет 20 страниц. Елена Сергеевна покупает в это время стол и зеркало для их новой квартиры.
17-го июля возвращаются из Ленинграда; в этот день он успевает написать лишь несколько строк романа — Воланд с компанией покидают Пашков дом и направляются в сторону Пироговской и Новодевичьего — мест, недавно покинутых самим автором. 24 июля ему пишет, в ответ на ленинградское еще письмо, Вересаев; глубоко сочувствуя той «нервной трепке», которую пришлось ему вынести из-за сорвавшейся заграничной поездки, он восклицает в конце письма: «И что Вам Италия! Как будто у нас нельзя устроить себе отдых и покой. Но не в Ленинграде же!»
1 августа диктует Елене Сергеевне письмо брату Николаю: «Я не здоров, у меня нервное переутомление. Завтра я должен примерно на неделю уехать на дачу под Москвой, иначе не в состоянии буду дальше работать. <...> С чего ты взял, что я езжу отдыхать? Я уже забыл, когда я уезжал отдыхать!.. Я никогда не отдыхаю. <...> Я не могу помногу писать, потому что начинаются головные боли».
В тот же месяц, проведя неделю в Звенигороде и дописав вторую редакцию сценария «Мертвых душ», по приглашению Украинфильма, заказавшего ему сценарий по «Ревизору», Булгаков с женой поехал в Киев. Он не был там одиннадцать лет. Через несколько месяцев он писал А. Гдешинскому, другу киевской юности: «Когда днем я шел в парках, странное чувство поразило меня. Моя земля! Грусть, сладость, тревога!»
23 августа вернулись в Москву, и Елена Сергеевна записывала в дневнике: «Мы были там с 18 по 22.-е <...>
531
Дела: 1) «Мольер» в театре Русской драмы. Им и хочется и колется <...> театр боится. Дал на рецензию в Наркомпрос. Рецензент не одобрил: тема о кровосмесительстве. Мы ведь страшно добродетельны! Ну и ладно. Пусть пойдет раньше в МХАТе. Может и лучше. 2) «Ревизор» в кино. Были две встречи с дирекцией. План М. А. понравился. Оба директора начали уговаривать М. А. переехать совсем в Киев, даже квартиру обещали достать. Для М. А. квартира — магическое слово. Ничему на свете не завидует — квартире хорошей! Это какой-то пунктик у него».
Он так и не смог заставить себя переступить порог когда-то родного дома на Андреевском спуске — слишком много призраков населяло этот дом. Постоял, как рассказывал потом сестре, только в глубоком подъезде дома № 18 на противоположной стороне, посмотрел на окна.
3.
...В день его возвращения в Москву шло одиннадцатое заседание Съезда писателей. На нем выступал Вс. Вишневский. «Кто знает, как вел работу т. Сталин? — вопрошал он, вспоминая о годах гражданской войны. — <...> Кто знает, что он играл решающую роль в той эпопее, которая разыгралась в Сибири, когда разгромили Колчака? Кто знает, что всем партизанским движением молча руководил Сталин? Он обеспечил разгром колчаковского белого фронта и дальневосточной интервенции (аплодисменты). Проблему, образ большевистского пролетарского вождя мы обязаны решить, мы обязаны подняться выше „полкового" „дивизионного" уровня. Решение этой проблемы необходимо. Она имеет не только исторические цели, но и выводит нас в область самых высоких умственных, этических, моральных и военных категорий». Отношение Булгакова к Вишневскому после осени 1931 года, когда он грубо сорвал постановку его «Мольера» в Ленинграде, было однозначным. С каким чувством, какими мыслями читал он в отчете о его выступлении слова об образе пролетарского вождя?
«Мы видим новые формы дружеских отношений между людьми, — говорил накануне, 22 августа, А. Фадеев. — Когда мы, литераторы, попадаем в Центральный комитет партии, или бываем, скажем, на заседании органов ЦК, или встречаемся с членами Политбюро нашего ЦК, то видим, каким исключительным новым видом дружбы связаны эти громадные люди, вожди нашей партии. Они связаны мужественной, принципиальной, железной и веселой богатырской
532
дружбой. Конечно, такого коллектива никогда не было и не могло быть. Это только наша страна рождает такие формы коллективных отношений. Но мы не научились еще этого выражать».
Он тоже заговорил о Сталине как возможном литературном герое: «Я уже не говорю о том, чтобы сейчас кто-либо из нас почувствовал силу и возможность взять для изображения фигуру такого мощного гения рабочего класса, как т. Сталин».
Это уже могло, пожалуй, зашевелить — пока еще смутно, неопределенно — соревновательное чувство художника... Одни и те же явления, отталкивая, постепенно действуют более всего своей непреложностью.
25 августа. «М. А. все еще боится ходить один. Проводила его до театра, потом — зашла за ним. Он мне рассказывал, как произошла встреча К. C'a (Станиславский после годового пребывания на курортах Франции и Италии приехал на родину. — М. Ч.). Он приехал в театр в половину третьего. Актеры встретили его длинными аплодисментами. Речь К. C'a в нижнем фойе. Сначала о том, что за границей плохо, а у нас хорошо. Что там все мертвы и угнетены, а у нас чувствуется живая жизнь. «Встретишь француженку, и неизвестно — где ее шик?..» Потом педагогическая часть речи. О том, что нужно работать, потому что Художественный театр высоко расценивается за границей!.. В заключение заставил всех поднять руки в знак клятвы, что все хорошо будут работать. Когда кончил, пошел к выходу, увидел М. А. — поцеловались. К. С. обнял его за плечо и так пошли.
— Что вы пишете сейчас?..
— Ничего, Константин Сергеевич, устал.
— Вам нужно писать.. Вот тема, например: некогда все исполнить и быть порядочным человеком.
Потом вдруг испугался и говорит:
— Впрочем, вы не туда это повернете!» Но тут же и добавил: «Я бы сам тоже не туда повернул».
Останавливает секретарь парткома театра:
«— Нужно бы нам поговорить, Михаил Афанасьевич!
— Надеюсь, не о неприятном?
— Нет! О приятном. Чтобы Вы не чувствовали, что вы одинокий.
Разговор с Афиногеновым.
— Михаил Афанасьевич, почему вы на съезде не бываете? (в эти дни идет Первый съезд писателей. — М. Ч.).
— Я толпы боюсь.»
Как раз накануне разговора с Афиногеновым появилось
533
в газетах выступление Вс. Иванова (драматургическая судьба которого пересеклась с судьбой Булгакова во МХАТе еще в 1927—1928 гг.). Вспоминая начало 1920-х годов и декларацию «Серапионовых братьев», к которым принадлежал он сам («мы — против всякой тенденциозности в литературе»), Вс. Иванов говорил теперь на съезде: «Я утверждаю, что все без исключения подписавшие и сочувствовавшие декларации «Серапионовых братьев» <...> (среди них — широко известные к тому времени писатели К. Федин, М. Зощенко, В. Каверин. — М. Ч.) прошли за истекшие 12 лет такой путь роста сознания, что не найдется больше ни одного, кто со всей искренностью не принял бы произнесенной тов. Ждановым формулировки, что мы за большевистскую тенденциозность литературы. <...> Совсем недалеко от нас стоит старый капиталистический мир. И мы гордимся тем, что наша все более растущая партийность заставляет нас, научает нас, поддерживает нас в том ожесточении и в той непрерывной злобе, с которой мы смотрим на этот древний мир». Через несколько дней, 28 августа в газете «Труд» появилась статья Ю. Олеши «Слово драматургам!» с подзаголовком «Из блокнота делегата съезда». «Сегодня за столом президиума сидят драматурги, — писал он. — Автор «Хлеба» — Киршон. Автор «Страха» — Афиногенов. Автор «Моего друга» — Погодин. Автор «Любови Яровой» — Тренев. Мастера советской драматургии. Можно обсуждать качество тех или иных технологических приемов того или иного автора, можно оценивать их по-разному, но главное неоспоримо: все эти мастера создают советскую драматургию». Сам Олеша уже несколько лет бился над воплощением замысла пьесы о писателе, в которой, как он писал, публикуя фрагмент пьесы, хотел «обсудить вопрос о творчестве». Центральный герой пьесы, Модест Занд, мечтал «быть писателем восходящего класса», но не знал, как отказаться «от целого ряда тем», которые «быть может, и замечательные, но для нашего времени ненужные». Эта внутренняя борьба, составлявшая сердцевину характера героя, преследовала и самого автора пьесы—и мешала ему завершить ее. Вообще же с самого начала тридцатых годов тема творчества, тема художника приобрела особое значение: «Но как мне быть с моей грудною клеткой и с тем, что всякой косности косней?» — писал в эти годы Пастернак о творческой способности как о жизненной проблеме. Обращение к этой теме Булгакова — и в пьесах, и в том романе, который пишет он, главу за главой, начиная с 1932 г. — не было фактом индивидуальной писательской биографии.
534
Разница была в том, что по складу своей творческой личности и социального мироощущения Булгаков оставался чужд той разъедающей творчество рефлексии, которая помешала, скажем, Олеше, завершить ряд своих замыслов. Гораздо острее, чем внутренние, Булгаков ощущал помехи внешние — вот почему мы не знаем в его творческой биографии работ, не завершенных из-за причин внутренних: будучи начатой, каждая его работа неуклонно продвигается к завершению.
Вернемся, однако, к съездовским дням. Удача тех драматургов, о которых писал в своем «блокноте делегата» бывший сотоварищ по «Гудку» Олеша, еще раз предстала перед Булгаковым со всей очевидностью и не могла, пожалуй, оставить его равнодушным (о его пьесах Олеша не вспомнил, что было по-своему естественно: на сцене шли только «Дни Турбиных»; «Мольер» вяло репетировался; судьба «Блаженства» повисла в воздухе). Быть может, атмосфера съезда в какой-то степени действовала на его состояние и подтолкнула зарождение новых драматургических замыслов. В тот же самый день, когда происходил разговор с Афиногеновым, у Булгакова возникает план пьесы о Пушкине и решение пригласить в соавторы — для разработки материала — Вересаева: он испытывал к нему благодарность «за то, — как записывала Елена Сергеевна, что тот в самое тяжелое время сам приехал к М. А. и предложил в долг денег».
Имя Вересаева уже прозвучало на съезде — в речи И. Г. Лежнева, произнесенной 21 августа.
Бывший редактор «России» цитировал ряд печатных высказываний писателей, относящихся к тому самому 1925 году, когда он печатал «Белую гвардию», незадолго до его высылки: «В. Вересаев: „Общий стон стоит почти по всему фронту современной русской литературы. Мы не можем быть сами собой. Нашу художественную совесть все время насилуют. Наше творчество все больше становится двухэтажным — одно мы пишем для себя, другое — для печати». Иван Новиков: «<...> Писателю не надо мешать, ибо здесь самые благие побуждения руководства именно только мешают». Покойный Андрей Соболь, — продолжал оратор, — отражая настроение многих беспартийных единомышленников, писал: «Опека и художественное творчество — вещи несовместимые. Гувернеры нужны детям, но гувернеры при писателе — это более чем грустно». Лежнев комментировал: «Эти выступления говорят сами за себя. Выставленные четырьмя писателями „общедемократиче-
535
ские" требования заимствованы из меньшевистско-зссеровско-кадетского политического обихода». Это был прямой донос на живых и на мертвых.
Между тем, гувернерство к тому времени приняло формы, мало известные не посвященным. Один из организаторов съезда И. И. Гронский рассказывал нам (в начале 1980-х годов), что писатели, находящиеся под наиболее пристальным вниманием власти (их было немного), были «поделены» между членами Политбюро и такими доверенными лицами, как сам Гронский: «К каждому писателю было прикреплено несколько членов Политбюро. К Горькому — Сталин, Молотов, я и еще двое, к Демьяну Бедному — Ворошилов и я. Очень серьезная, трудная работа. О ней никто не знает и пока еще не время об этом говорить».
«... — А как вообще себя чувствуете?» — проявлял интерес Афиногенов в том же разговоре.
«М. А. рассказал ему случай с паспортами.
Афиногенов:
— Как бы вас залучить ко мне?
— Нет, уж лучше Вы ко мне. Я постоянно лежу». И в этот же самый день Елена Сергеевна записывает, что у Булгакова возник план пьесы о Пушкине и что он считает необходимым пригласить Вересаева для разработки материала. «М. А. испытывает к нему благодарность за то, что тот в тяжелое время сам приехал к М. А. и предложил в долг денег».
28 августа приехал заместитель директора кинофабрики, только что принимавший их в Киеве; почувствовав себя плохо, остался у них ночевать. «М. А. пошел с Колей Ляминым к Поповым», а Елена Сергеевна с гостем «проговорили до рассвета о М. А.
— Почему бы М. А. не принять большевизма?.. Сейчас нельзя быть аполитичным, нельзя стоять в стороне, писать инсценировки...
— Почему-то говорил что-то вроде: — Из темного леса... выходит кудесник (писатель М. А.) и ни за что не хочет перед большевиками песни петь.
М. А. вернулся с дикой мигренью <...> лег с грелкой на голове и изредка вставлял свое слово. Был пятый час утра».
В это время в Москве гостили американские исполнители пьесы «Дни Турбиных», режиссер Вельс пригласил Булгаковых в гости; он жил на Волхонке, во флигеле во дворе. 31 августа Елена Сергеевна описывала этот вечер с дета-
536
лями, обратившими ее внимание, но эти неоднократные рауты нескольких последующих лет не оставались и вне поля творческого внимания Булгакова, работавшего над страницами романа о дьяволе. «Стеариновые свечи. Почти никакой обстановки. На столе — холодная закуска, водка, шампанское. Гости все уже были в сборе, когда мы пришли. Американский Лариосик — румяный толстяк в очках, небольшого роста. Алексей — крупный американец, славянского типа лицо. Кроме них — худенькая американская художница и двое из посольства Буллита. Жуховицкий, — он, конечно, присутствовал (Эммануил Жуховицкий, переводчик пьес Булгакова, постоянно появляется в его доме с начала 30-х годов и нередко по собственному почину. — М. Ч.), — истязал М. А., чтобы он написал декларативное заявление, что он принимает большевизм. Была одна дама, которую Жуховицкий отрекомендовал совершенно фантастически по своему обыкновению:
— Родственница... (не помню кому) из Государственной Думы...
Дама: — я была на премьере «Дней Турбиных» (с ударением на «Тур...»). Радек ушел с первого акта.
Ох, дама! Ох, Жуховицкий!»
Атмосфера фантастических, провоцирующих разговоров все сгущается вокруг него. Собеседники его говорят будто на специально вымышленном языке, обращаются к нему со странными предложениями (вроде написания каких-то деклараций); все труднее достигать взаимопонимания.
«Съезд писателей закончился несколько дней назад, — записывала Елена Сергеевна, — банкетом в Колонном зале. Рассказывают, что было очень пьяно. Что какой-то нарезавшийся поэт ударил Таирова, обругав его предварительно „эстетом"...»
8 сентября Булгаков встречает на улице своего режиссера И. Я. Судакова и слышит от него очередные удивительные речи, аккуратно воспроизведенные в тот же вечер Е. С. Булгаковой в дневнике: «— Вы знаете, М. А., положение с «Бегом» очень и очень неплохое. Говорят — ставьте. Очень одобряют и И. В., и Авель Софронович (Енукидзе. — М. Ч.). Вот только бы Бубнов не стал мешать (?!)» (А. Бубнов был в то время нарком просвещения). Все было зыбко, неясно и ненадежно.
10 сентября возобновилась (после перерыва с 13 августа) работа над романом: «В Ваганьковском переулке, — писал автор, помечая литературного метой и тот переулок,
537
где в 1924 г., у Заяицкого встретился он с новыми друзьями, и все те места, в которых прошли несколько последующих лет, — компания подверглась преследованию. Какой-то взволнованный гражданин, увидев выходящих, закричал:
— Стой! Держите поджигателей! Он суетился, топал ногами, не решаясь в одиночестве броситься на четверых. Но, пока он сзывал народ, компания исчезла в горьком дыму, застилавшем переулок, и больше ее в этом районе не видал никто.
Мы не знаем, каким образом злодеи проникли на Плющиху. Они проникли и мелькнули в том месте, где длинная асфальтированная улица подходит к незабвенному Девичьему Полю». (Так ностальгический голос самого автора неожиданно проникал в повествование). «Здесь было потише и, если бы не некоторые взволнованные гражданки, выглядывающие из окон верхних этажей, стремясь рассмотреть, что происходит там на Смоленском Рынке, можно было бы подумать, что все в столице обстоит и тихо, и мирно.
Компания прошла под деревьями Девичьего Поля, вдыхая аромат весенней земли и первых набухших почек, и скрылась на Пироговской улице.
Маршрут ее был ясен. Она стремилась к Москве-реке. Она покидала столицу».
10 и 11 сентября описывалась далее трапеза Маргариты и поэта в подвале и появление Азазелло — в то время как Воланд с Коровьевым и Бегемотом двигался мимо Девичьего монастыря. «Воланд не задерживался у Монастыря. Его внимание не привлекли ни хаос бесчисленных построек вокруг монастыря, ни уже выстроенные белые громады, в окнах которых до боли в глазах пылали изломанные отраженные солнца, ни суета людская на поворотном трамвайном круге у монастырской стены.
Город более не интересовал его гостя и сопровождаемый спутниками он устремился вдаль к Москва-реке».
11 сентября. «Были у Поповых (видимо, накануне. — М. Ч.). Аннушка пела цыганские вальсы под гитару. М. А. ищет их для «Бега». Но пойдет ли вообще?»
16 сентября. «Вечером — Лямин. Миша читал ему несколько глав романа. А после его ухода — до 7 часов утра — все на одну и ту же тему — положение М. А.»
17 сентября — вечером — режиссер из театра Сатиры, просит М. А. из «Блаженства» сделать комедию, в которой бы Иван Грозный действовал в современной Москве. Называл это обозрением. Когда М. А. сказал, что не хочет писать обозрение, Горчаков сказал, что комедия устраивает их еще больше». Позднее пришел американский режиссер «Дней Турбиных» с художницей — пришли прощаться.
538
Завтра они улетают в Берлин, оттуда в Бремен и на пароходе в Америку. Едут на пароходе в 3-м классе. Очень милы. Все время говорят о том, как хорошо будет, когда М. А. приедет в Нью-Йорк».
18 сентября. «Выходной день. У нас обедала Оля (Бокшанская — М. Ч.) и Патя Попов <...>. Вечером пошли к Леонтьеву, застали только сестер и Шапошниковых... М. А. и Борис Валентинович после ужина подошли к роялю и стали петь старинные романсы. А мы, четыре дамы, рассказывали друг другу всякую чушь <...> Впечатление было забавное. От рояля доносятся мужские голоса — «Не искушай меня...», а в это время с дамского стола раздается бас Ев (гении) Григорьевны: «котам яйца вырезаю!» — из анекдота...»
Продолжается ежедневная работа над романом — с 10 до 21 сентября написано 45 рукописных страниц — отравление любовников, поджог дома, пожары в городе, полет над ним Маргариты — на метле и поэта — на плаще Азазелло и зрелище гибнущих людей. «...Поэт сказал, разводя руками:
— Но дети? Позвольте! Дети!.. Усмешка исказила лицо Азазелло.
— Я уж давно жду этого восклицания, мастер».
Так это именование впервые появлялось на страницах рукописей романа применительно к этому герою, но пока еще полуслучайно, как проба.
Далее — пережидание грозы в пустом Большом театре; встреча с Воландом на Москве-реке, столкновение с погоней (аэропланы, суда, люди в противогазах). Наконец, 21 сентября начата была глава, описывающая последний ночной полет поэта и его подруги. «...Под ногами далеко внизу то и дело из тьмы выходили целые площади света, плыли в разных направлениях огни.
Воланд вдруг круто осадил коня в воздухе и повернулся к поэту.
— Вам, быть может, интересно видеть это?
Он указал вниз, где миллионы огней дрожа пылали. Поэт отозвался.
— Да, пожалуйста. Я никогда ничего не видел. Я провел свою жизнь заключенным. Я слеп и нищ.
Воланд усмехнулся и рухнул вниз. За ним со свистом, развевая гривы коней, спустилась свита». Они парят над площадью, «на которой тысячью огней горело здание.
— Привал, может быть, хотите сделать, драгоценнейший мастер, — шепнул бывший регент, — добудем фраки
539
и нырнем в кафэ, освежиться, так сказать, после рязанских страданий, — голос его звучал искушающе. ...Конь поэта снизился, он спрыгнул и под носом тронувшейся машины пробежал к подъезду.
И тогда было видно, как текли, поддерживая разряженных женщин под руки, к машинам горделивые мужчины в черном, а у среднего выхода стоял, прислонившись к углу, человек в разодранной, замасленной, в саже рубашке, в разорванных брюках, в рваных тапочках на босу ногу, непричесанный. Его лицо дергалось судорогами, а глаза сверкали. Надо полагать, что шарахнулись бы от него сытые и счастливые люди, если бы увидели его. Но он не был видим. Он бормотал что-то про себя, дергался, но глаз не спускал с проходивших, ловил их лица и что-то читал в них, заглядывая в глаза. И некоторые из (них) почуяли присутствие странного, потому что беспокойно вздрагивали и оглядывались, минуя угол. Но в общем все было благополучно и разноязычная речь трещала вокруг и тихо гудели машины, становясь в очереди, и отъезжали и камни сверкали на женщинах».
Продолжался полет; наконец поэт видел своего героя — Пилата — «за каменным столом», несущего бремя вечного наказания. Преображенный Азазелло говорил: «— Нет греха горшего, чем трусость. Этот человек был храбр и вот, испугался кесаря один раз в жизни, за что и поплатился». И продолжал свои пояснения: «— Мечтает только об одном — вернуться на балкон, увидеть пальмы и чтобы к нему привели арестанта и чтобы он мог увидеть Иуду Искориота».
Так впервые за годы работы над романом биографический мотив ожидания второго (обещанного!) разговора со Сталиным, поправляющего первый, — ожидания, достигавшего в какие-то моменты (например, летом 1931 и 1934 года) болезненной остроты претворялось в художественной ткани романа. Но в романе происходила замена — там могущественный прокуратор обрекался на вечные сожаления о своем поступке и страстное ожидание второго разговора с погубленным им философом.
Тут же являлся мотив прощения и отпущения грехов (приобретающий в последующие годы работы над романом все большую разрешительную силу: «— Прощен! — прокричал над скалами Воланд, — прощен!
Он повернулся к поэту и сказал, усмехаясь:
— Сейчас он будет там, он хочет быть на балконе и к нему приведут Ешуа Ганоцри. Он исправит свою ошибку.
540
Уверяю вас, что нигде в мире сейчас нет создания более счастливого, чем этот всадник. Такова ночь, мой милый Мастер!» Так все отчетливей обозначивалась родственность художественной структуры романа образам и мотивам, зародившимся с самых ранних известных нам опытов писателя (мотив желанного сна, в котором переиначивается прошлое, мертвый является живым и совершается искупление, возникал еще в «Красной короне» и являлся затем в неоконченной повести 1929 г., где звучали протестующие выкрики, не прозвучавшие в реальности). Ранние этические проблемы и художественные задачи сплетаются с новыми, зародившимися и сформировавшимися в 1930—1932 гг.; невозможность изменения совершившегося и искупления все более уясняется и все отчетливее рисуется единственная надежда — на прощение, на милосердное отпущение. «Ночь» — предпоследняя глава — такая ночь, когда в ирреальной действительности исправляются роковые, непоправимые ошибки, порожденные мгновенной трусостью или слабостью.
Тетрадь, начатая в середине июля, кончена была, как мы предполагаем, в октябре 1934 г. последней главой, озаглавленной «Последний путь», — вернее, наброском ее, занявшим всего две с половиной рукописных страницы, но уже заключавшим в себе последний разговор Воланда с Мастером, на веки вечные определяющий судьбу последнего.
«— Я получил распоряжение относительно вас. Преблагоприятное (В этих фразах нельзя не увидеть прямое отражение работы Булгакова над киносценарием «Ревизора», первая редакция которого, начатая в конце августа, была закончена 15 октября, а в то же время — отзвук первых реплик Сталина в телефонном разговоре 1930 года. — М. Ч.). Вообще могу вас поздравить. Вы имели успех. Так вот мне было велено...
— Разве вам могут велеть?
— О да. Велено унести вас...» На этом оборвана фраза и вся редакция романа; неизвестно, куда именно увлекал осенью 1934 г. Воланд изнемогшего Мастера. Заметим, однако, что именование это появлялось до конца октября 1934 г. лишь трижды — и лишь в обращениях к герою Воланда и его свиты. Автор по-прежнему называл героя поэтом.
13 октября. «У М. А. плохо с нервами. Боязнь пространства, одиночества. Думает — не обратиться ли к гипнозу».
15 октября. «Сегодня рано провожала М. А. в филиал на репетицию Пиквика — шумовую.
541
Нервы у M. A. расстроены, но когда мы идем вместе, он спасается тем, что рассказывает что-нибудь смешное». В этот раз он пересказывает с чьих-то слов, что «М. П. Гальперин перевел и поставил в каком-то московском маленьком театре (не помню — в каком) «Тартюфа». Авторская и режиссерская — «трактовка пьесы замечательная: Оргон — представитель восходящей буржуазии. На сцене показано какое-то производство, для того, чтобы отметить, что у Оргона — фабрика, и прочая чепуха. Все это кончилось скандалом. Будто бы французское посольство в полном составе уехало после первого акта, нет, вру, — со второго. На сцене было показано в издевательском плане католическое молебствие».
16 октября. «День начался как обычно — проводила М. А. в театр. Потом зашла за ним. <...> На репетиции он узнал, что сегодня в первый раз после длительного перерыва репетировали «Мольера», сцену в соборе. Говорит, что принял это известие равнодушно. Не верит, что пьеса выйдет когда-нибудь».
18 октября. «Днем были у В. В. Вересаева. М. А. пошел туда с предложением писать вместе с В. В. пьесу о Пушкине. <...> Старик был очень тронут, несколько раз пробежался по своему уютному кабинету, потом обнял М. А. <...> зажегся, начал говорить о Пушкине, о том, что Наталья Николаевна была вовсе не пустышка, а несчастная женщина. Сначала В. В. был ошеломлен, что М. А. решил пьесу писать без Пушкина (иначе будет вульгарно), но, подумав, согласился».
Подобраться к новым замыслам было не так легко. Цикл движения киносценария «Мертвых душ» был, как выяснилось, весьма далек от завершения — 18 октября пришло письмо с кинофабрики с требованием новых исправлений. А между тем прежде нужно было исправить сценарий «Ревизора»; 18—24 октября он заканчивает вторую его редакцию.
24 октября. Булгаков «решил лечиться гипнозом от своих страхов».
30 октября была начата тетрадь дополнений к роману. На первом листе вверху, ближе к полям рукою автора сделана запись: «Дописать прежде, чем умереть!»
3 ноября. «В квартире — хаос, работают маляры. Сегодня я была на генеральной «Пиквика». <...> Публика принимала реплики М. А. (он судью играет) смехом. Качалов, Кторов, Попова и другие лица мне говорили, что он играет как профессиональный актер. Костюм — красная мантия,
542
белый завитой длинный парик. В антракте после он мне рассказал, что ужасно переволновался — упала табуретка, которую он смахнул, усаживаясь, своей мантией. Ему пришлось начать сцену, вися на локтях, на кафедре. А потом ему помогли — подняли табуретку».
8 ноября. «Вечером сидели среди нашего безобразия: М. А. диктовал мне роман — сцену в кабаре. Сергей тут же спал на нашей тахте. Звонок телефонный — Оля — (О. С. Бокшанская. — М. Ч.). Длинный разговор. В конце:
— Да, кстати, я уже несколько дней собираюсь тебе сказать. Ты знаешь, кажется, «Бег» разрешили. На днях звонили к Владимиру Ивановичу (Немировичу-Данченко. — М. Ч.) <...>, спрашивали его мнения об этой пьесе. Ну, он, конечно, расхвалил, сказал, что замечательная вещь. Ему ответили: «Мы учтем ваше мнение». А на рауте, который был по поводу праздника (17-я годовщина Октябрьской революции. — М. Ч.), Судаков подошел к Владимиру Ивановичу и сказал, что он добился разрешения «Бега». Сегодня уж Судаков говорил Жене (актеру Калужскому. — М. Ч.), что надо распределять роли по «Бегу». Жене очень хочется играть кого-нибудь!»
Булгаков, в связи с этими обнадеживающими известиями, обращается вновь к пьесе 9 ноября и завершает окончательный вариант 8-го сна.
14 ноября — «Репетиция «Пиквика» со Станиславским. ...М. А. сидел рядом с К. С.»
17 ноября. «Вечером приехала Ахматова. Ее привез Пильняк из Ленинграда на своей машине. Рассказывала о горькой участи Мандельштама. Говорили о Пастернаке». Мандельштам находился в это время в ссылке (и был уже в Воронеже) ; последнюю фразу, на наш взгляд, можно прочесть только как краткую запись зашифрованного рассказа Ахматовой о телефонном звонке Сталина Пастернаку.
Скорее всего, именно из уст Ахматовой Булгаков узнал подробности разговора; он, несомненно, отнесся к ним с напряженным вниманием. Мы предполагаем, что слова, сказанные о Мандельштаме, — «Но ведь он же мастер, мастер?», могли повлиять на выбор именования главного героя романа и последующий выбор заглавия. Как уже говорилось, это имя витало и раньше на страницах рукописей Булгакова — в обращениях к герою (а также в романе «Мольер», где оно закреплялось за главным героем уже в «Прологе»: «Но ты, мой бедный и окровавленный мастер! Ты нигде не хотел умирать — ни дома и ни вне дома!»). Однако только на страницах, пишущихся, по-видимому,
543
именно во второй половине ноября или декабря 1934 г. (в следующей главе после той, работа над которой отмечена в дневниковой записи 8 ноября), герой рассказывает Ивану, появившись в его палате, «что, собственно, только один человек знает, что он мастер, но что так как она женщина замужняя, то имени ее открыть не может...». Так слово, явно зафиксированное в устных рассказах как принадлежащее словарю адресата писем Булгакова и предполагаемого адресата романа (напомним явившуюся было в 1931 г. мысль о просьбе быть «первым читателем»), вошло в роман как наименование безымянного героя — и далее укрепилось в нем.
Разговор же Ивана и его ночного гостя в рукописи поздней осени 1934 г. продолжался таким образом: гость признался, что пробовал читать свой роман «кое-кому, но его и половины не понимают. Что не видел он ее уже полтора года и видеть не намерен, так как считает, что жизнь его закончена и показываться ей в таком виде ужасно.
— А где она? — расспрашивал Иван, очень довольный ночной беседой.
Гость сказал, что она в Москве. Но обстоятельства сложились прекурьезно. То есть не успел он дописать свой роман до половины, как...» Далее в рукописи четыре строки точек — пропуск какого-то ясного автору, но не записанного им фрагмента. Обращает на себя внимание совпадение сообщенного гостем с действительным объемом той части романа Булгакова, до которой довел автор повествование в первой редакции 1928—1929 г. Приведем здесь слова К. М. Симонова: «Я уверен, что за сожжением первой редакции стоит чье-то предательство». Не углубляясь далее в неизвестные нам до конца обстоятельства остановки работы автора над романом и последующего его сожжения, вернемся к рассказу гостя Иванушки:
«— Но, натурально, этим ничего мне не доказали, — продолжал гость и рассказал, как он стал скорбен главой и начал бояться толпы, которую, впрочем, и раньше терпеть не мог, и вот его привезли сюда и что она, конечно, навестила бы его, но знать о себе он не дает и не даст... Что ему здесь даже понравилось, потому что, по сути дела, здесь прекрасно и, главное, нет людей».
19 ноября. «После гипноза у М. А. начинают исчезать припадки страха, настроение ровное, бодрое и хорошая работоспособность. Теперь если бы он мог еще ходить один».
20 ноября в семье отмечают именины Булгакова — дарят
544
ему ноты любимых опер — «Тангейзер» и «Руслан и Людмила».
21 ноября. «А сегодня я подарила ему бюро — александровское. Вечером — Берг (лечащий врач. — М. А.). Внушал М. А., что завтра он пойдет один к Леонтьевым. А до этого был звонок Оли — поздравление (с именинами. — М. Ч.) и сообщение, что «Бег» не разрешили. М. А. принял это с полнейшим спокойствием».
22 ноября. «В десять вечера М. А. поднялся, оделся и пошел один к Леонтьевым. Полгода он не ходил один» (подчеркнуто нами. — М. Ч.).
25 ноября. «Ремонт идет к концу. У М. А. много работы. Кроме того, иногда приходят советоваться. Вчера к нему обратился за помощью капельдинер — написал пьесу. В театре идут репетиции «Мольера».
26 ноября. «Вечером — Ильф и Петров. Пришли к М. А. советоваться насчет пьесы, которую они задумали. После этого М. А. пошел к Вересаеву — обратно до Смоленской площади его проводил В. В., а потом шел один (т. е. не более десяти минут. — М. Ч.). Говорит, что страхи притупились».
27 ноября кинофабрика посылает Булгакову письмо, что его поправки к киносценарию «Мертвых душ», сделанные по требованию фабрики, удовлетворить ее не могут — фабрика от них отказывается. Работа, начатая полгода назад с энтузиазмом, продиктованным обращением к любимому писателю, зашла в ставший уже привычным тупик.
28 ноября. «Вечером — Дмитриев. Пришел из МХАТа и говорит, что там была суета и оживление, вероятно приехал кто-нибудь из правительства — надо полагать, генеральный секретарь (на «Турбины»)»,
29 ноября. «Действительно, вчера на „Турбиных" были генеральный секретарь, Киров и Жданов. Это мне в театре сказали. Яншин говорил, что играли хорошо и что генеральный секретарь аплодировал много в конце спектакля».
Удивительным образом стойкий успех пьесы все меньше и меньше имел отношение к ее автору и его судьбе.
Началась работа над «Иваном Васильевичем» (переделка «Блаженства») ; из МХАТа 30 ноября пришло известие, что выпуск «Мольера» намечают на март. Говорили, записывала Елена Сергеевна, «что ставить будут роскошно — так настаивает Станиславский».
1 декабря. «Днем позвонил Ермилов, редактор «Красной Нови», и предложил М. А. напечатать в его журнале что-нибудь из произведений M. A. M. А. сказал о пьесе «Мольер».
— Чудесно!
545
О фрагменте из биографии Мольера — Тоже чудесно!
Просил разрешения поставить имя М. А. в проспекте на 1935-й год. М. А. согласился. Условились, что Ермилов позвонит еще раз, а М. А. подберет материал.
Вечером премьера «Пиквика». Я в такси проводила М. А. Он оставался до конца спектакля. Приехал и сообщил: во время спектакля стало известно, что в Ленинграде убит Киров.
Тут же из театра уехали очень многие, в том числе Рыков».
4.
Не приходится сомневаться в том, что 2 декабря 1934 года Булгаков открыл утреннюю газету нетерпеливо и тревожно. В ней он прочел, что Киров погиб «от руки убийцы, подосланного врагами рабочего класса», что стрелявший задержан и «личность его выясняется». Привыкший мыслить ясно и трезво, он не мог не обратить внимание на столкновение разноречивых сведений — личность стрелявшего не выяснена, однако выяснено, кто именно его подослал...
В той же газете был помещен текст новоизданного декрета Президиума ВЦИК, подписанного М. И. Калининым и А. С. Енукидзе, о внесении изменений в уголовно-процессуальные кодексы страны по террористическим делам: следствие заканчивать за десять дней, слушать дело без участия сторон, не принимать кассаций, ходатайств о помиловании и приговоры к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора. Тот, у кого сохранилось представление о том, что такое юридические нормы, не мог не почувствовать, что началось нечто новое.
Булгаков читал и собирал юридическую литературу. В его библиотеке был, например (и уцелел — среди очень немногих оставшихся из этой большой библиотеки книг — до 1970 года) «Учебник уголовного права» В. Спасовича (СПб., 1865). Уже при Елене Сергеевне — то есть, возможно, и в тот самый год, о котором идет речь, — был куплен изданный в свое время Н. С. Таганцевым и пользовавшийся известностью и солидной репутацией «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» (15-е изд., СПб., 1904) со специальными разъяснениями из кассационной практики... Елена Сергеевна рассказывала нам, что Михаил Афанасьевич «был страшно горд и счастлив этой покупкой».
546
Книга была читана им внимательно — в тексте множество помет.
3 декабря. «В половине четвертого проводила М. А. в театр. Там траурный митинг. <...> Заявление о принятии в сочувствующие, — записывала она со слов вернувшегося с митинга Булгакова, — подали Яншин, Баташов и Дмоховская». Объявлен траур — 3-го, 4-го и 6-го сняты спектакли. <...>" возможно, последняя пьеса, которую он (Киров. — М. Ч.) видел в жизни, была «Дни Турбиных».
9 декабря. «Днем у Викентия Викентьевича. Отнесли ему последнюю тысячу Мишиного долга. Обоим нам стало легче на душе».
10 декабря, уже в который раз, дома у Булгакова работники кино в связи с «Ревизором» — с новыми советами и пожеланиями. «Разговоры все эти действуют на Мишу угнетающе, — записывала Елена Сергеевна: — скучно, не нужно и ничего не дает, т. к. нехудожественно... Приходят к писателю умному, знатоку Гоголя — люди нехудожественные, без вкуса, и уверенным тоном излагают свои требования насчет художественного произведения, над которым писатель этот работает, утомляя его безмерно и наводя скуку».
Но день сменялся другим, настроение разряжалось. — 11 декабря. «Вечер — чудесный: Леонтьевы, Арендты, Ермолинские, угощала их пельменями, мороженым. После ужина Миша прочел Тараканьи бега и сцену в Париже из «Бега».
И 13 декабря — до 4-х утра сидят с Ляминым — «ели мандарины и увлеченно разговаривали о Художественном театре».
...Когда в доме у них собирались по вечерам друзья, и шел ужин — в заведенном порядке подачи блюд (вдумчиво подобранных заранее хозяйкой дома) ; и закипал дружелюбный разговор, от которого спохватывались и начинали собираться домой едва ли не под утро — в этом не было для него чего-то суетного, нарушающего ритм жизни, норму. Скорее напротив — в этом и была норма, та вожделенная норма, которою все не удавалось насладиться — ни после киевских «страшных громыхающих лет» (как определил он их в очерке «Киев-город»), ни после ни с чем не сообразной (с его точки отсчета), не раз им также названной страшной, московской жизни начала 20-х годов. Его норме противоречил и дурно сервированный стол слишком шумной, не творческой застолицы «пироговских» лет. Теперь же он все не мог насытиться складом домашней жизни, пришедшейся ему впору.
547
Не все вечера были одинаково уютны. Бывали гости, не слишком желанные или же званные хозяином ради острых ощущений, ради изучения нравов. Бывал время от времени Э. Жуховицкий, то с вопросами — что пишут из Парижа? — то с какими-нибудь новостями. «Пикантнейшее сообщение, — записывает Елена Сергеевна 14 декабря: — оказывается, что Анатолий Каменский, который года четыре тому назад уехал за границу, стал невозвращенцем, шельмовал СССР — теперь находится в Москве! Тут Миша не выдержал и сказал: «Ну, это уже мистика, товарищи!» Жуховицкий был сам не свой, что-то врал, бегал глазами и был дико сконфужен. Для меня он теперь совсем понятен; мы не раз ловили его с Мишей на лжи». И впечатления от этого гостя находили разнообразные отражения на страницах его рукописей — в том числе и в сцене появления Азазелло в том подвальчике, куда вернулись было любовники: «— Просят вас, — просипел он, косясь на окно, в которое уже вплывала волна весенних сумерек, — с нами. Короче говоря едем. <...>
— Меня? — спросил шопотом поэт.
— Вас.
<...> «Эге... предатель...» — мелькнуло у него в голове слово. Он уставился прямо в сверкающий глаз.
— Куда меня приглашают ехать? — сухо спросил поэт.
— Местечко найдем, — сипел Азазелло соблазнительно и дыша водкой, — да и нечего, как ни верти, торчать тут в полуподвале. Чего тут высидишь?
«Предатель, предатель, предатель...» — окончательно удостоверился поэт...» Грани предательства отразит и фигура Богохульского (напоминающая по звуковому облику фамилию «Жуховицкий»), которая развернется в поздних редакциях в Алоизия (ср. имя «Эммануил») Могарыча. Напомним: «нигде до того я не встречал и уверен, что нигде не встречу человека такого ума, каким обладал Алоизии. Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизий объяснял мне ее буквально в одну минуту, причем видно было, что объяснение это ему не стоило ровно ничего. <...> Покорил меня Алоизий своей страстью к литературе. Он не успокоился до тех пор, пока не упросил меня прочесть ему мой роман весь от корки до корки... Он совершенно точно объяснил мне, и я догадывался, что это безошибочно, почему мой роман не мог быть напечатан». Он рисовал фигуру человека, в совершенстве владеющего тем обыденным языком современности, которому
548
сам он не только не выучился, но не хотел выучиваться.
Заслуживает внимания продолжение записи в дневнике от 14 декабря: «Все ушли, а Дмитриев остался и сидел долго, причем опечалил нас. Миша думает, что у него нервное расстройство, он не спит. Очевидно явное переутомление — у него бешеная работа».
Возможно, в этой записи зашифрован рассказ Дмитриева о тяжелой ситуации, в которую попала его жена, красавица Елизавета Исаевна Долуханова.
Со слов нескольких современниц нам известно, что в середине 30-х годов ее вызвали в НКВД и предложили стать постоянной осведомительницей. Еще с конца 1920-х годов она и ее сестра пользовались большим успехом в ленинградской литературной среде, были обаятельными хозяйками салона. В Елизавету Исаевну был влюблен Тынянов, квартиру сестер посещали Маяковский, Олейников. Теперь ей, уже жене В. В. Дмитриева, предложили активнее принимать гостей... Ища мотива для отказа, она сказала, что у них маленькая квартира. «Пусть это Вас не беспокоит — с квартирой мы поможем!»
Нервное расстройство Дмитриева и было, по-видимому, связано с безысходностью ситуации.
18 декабря. «Прекрасный вечер: у Вересаева работа над Пушкиным. Мишин план. Самое яркое в начале — Наталья, облитая светом с улицы ночью, и там же в квартире ночью тайный приход Дантеса, в середине пьесы — обед у Салтыкова (чудак, любящий книгу), в конце — приход Данзаса с известием о ранении Пушкина».
19 декабря. «Вечером — Дина Радлова (художница, жена Н. Э. Радлова. — М. Ч.). Потрясающий разговор. Сама заговорила о Мишиной работе над Пушкиным (я так и не поняла, откуда она узнала об этом), советовала не работать с В. В. — «вот если бы ты, Мака, объединился с Толстым (т. е. с А. Н. Толстым. — М. Ч.), вот была бы сила!» Миша: «Я не понимаю, какая сила? На чем мы можем объединиться с Толстым? Под ручку по Тверской гулять будем?» Дина: «Нет! Да ведь ты же лучший драматург, а он, можно сказать, лучший писатель...» Спрашивала о содержании пьесы. Миша сказал, что это секрет». Секреты, тайны, подозрения — все это все время витает в разговорах Елены Сергеевны с мужем, отражается в записях ее дневника. Повсюду они готовы были видеть — и с каждым годом все интенсивнее — загадки, зловещие предзнаменования, и нередко это оправдывалось. Что касается А. Толстого, резкое отношение
549
к нему Булгакова с годами усиливалось; отталкивало главным образом повседневно-бытовое (кутежи и проч.) и писательское поведение: Толстой не чурался халтуры — особенно в драматическом роде, и темы их здесь порой пересекались. Так, пьеса Толстого и Щеголева «Заговор императрицы» была, в сущности, реализацией (по материалу!) раннего московского замысла Булгакова — исторической драмы о Распутине, Николае II и проч. (в описываемый момент возникло и пересечение на теме Пушкина, о чем мы еще упомянем). При этом Булгакова несомненно раздражало невнимание к источникам (Елена Сергеевна передавала нам его слова о «Петре I» — «Такой роман я мог бы написать будучи запертым в пустую комнату, без единой книги»), раздражала и слишком резкая эволюция взглядов на исторического деятеля (С. А. Ермолинский вспоминает, как Булгаков сравнивал рассказ 1918 г. «День Петра», пьесу «На дыбе» и роман — и делал не украшающие автора выводы). Владение же разными пластами русской речи — одна из самых сильных сторон таланта А. Толстого — возможно, по роду его собственного таланта, оставалась им не оцененной или вовсе не замеченной. В сюжетике же, изобразительности и энергии стиля он был не слабее — и это знал.
22 декабря. «Вообще все эти дни Миша мучается, боится, что не справится с работой: «Ревизор», «Иван Васильевич» и надвигается «Пушкин».
24 декабря у Булгаковых — елка для детей Елены Сергеевны, так напоминающая ему, видимо, дом на Андреевском спуске, младших братьев, с которыми привелось расстаться так рано и навсегда. «Сначала мы с Мишей убрали елку, разложили под ней всем подарки, потушили электричество, зажгли свечи на елке — Миша заиграл марш — и ребята влетели в комнату. Сережка за дверью волновался до слез — не мог дождаться. Дикий визг, топот, крики! Потом, по программе, спектакль. Миша написал текст по «Мертвым душам» — две сценки — одна у Собакевича, другая — у Сергея Шиловского. Я — Чичиков, Миша — Собакевич. Потом я — Женька, а Миша — Сергей... Миша для роли Сережи надел трусы, Сергеево пальто, которое ему едва доходило до пояса, и матроску. Красный громадный рот». Спектакль смотрят домашние. «Успех. Потом — ужин с пельменями и с рождественскими сластями».
И снова 28 декабря Елена Сергеевна записывает с горечью: «Я чувствую, насколько вне Миши работа над «Ревизором», как он мучается с этим. Работа над чужими
550
мыслями из-за денег. И безумно мешает работать над Пушкиным. Перегружен мыслями, которые его мучают. К 9 вечера — Вересаевы. Работа над пьесой. Миша рассказывал, что придумал, и пьеса уже видна. Виден Николай, видна Александрина и самое сильное, что осталось в памяти сегодня, сцена у Геккерена — приход слепого Строганова, который решает вопрос — драться или не драться с Пушкиным Дантесу». И поздняя приписка в дневнике — об авторской трактовке сцены — по памяти: «Символ — слепая смерть со своим кодексом дуэли убивает».
Слепота — одна из важнейших характеристик в художественном мире Булгакова; являясь еще в начале 20-х годов в виде одного из излюбленных портретных образов (всадник с незрячими глазами в «Красной короне»), в начале 30-х она осмысляется главным образом как слепота властителей, не видящих значения творцов — художника, философа. Напомним авторскую медитацию о Людовике XIV в романе «Мольер»: «Он был смертен, как и все, а следовательно — слеп. Не будь он слепым, он, может быть, и пришел бы к умирающему, потому что в будущем увидел бы интересные вещи и, возможно, пожелал бы приобщиться к действительному бессмертию».
В тот же день, 28-го, Елена Сергеевна записывает: «зовут вахтанговцы (уже заинтересовавшиеся в это время пьесой о Пушкине. — М. Ч.) встречать у них Новый год. Но мы не хотим — будем дома». 31 декабря. «Кончается год. И вот, проходя по нашим комнатам, часто ловлю себя на том, что крещусь и шепчу про себя: «Господи! Только бы и дальше было так!»
Так кончался год, в котором были и радость обретения своего дома (гости хвалили квартиру, говорили, что она «совсем европейская», что очень льстило Елене Сергеевне), и потрясение, оказавшееся слишком сильным и длительным, и завершение — пусть самое черновое — романа, становившегося для него все более и более важным, и надежды на новые постановки пьес — «Мольер», еще не написанная, но уже ясная автору пьеса о Пушкине, обещавшая быть веселой комедия «Иван Васильевич».
Из дневниковой записи, сделанной 1 января 1935 года, мы узнаем, однако, что в новогоднюю ночь они попали в симпатичный им дом Леонтьевых. «Стол — невероятное изобилие. Они необыкновенно милы и сердечны. Все было хорошо, но около трех ввалилась компания встречавших у Шервинских (т. е. в том же доме в Померанцевом переулке — М. Ч.). <...> С их приходом все рассыпалось,
551
стало шумно и не весело. Один из гостей был во фраке. Вид был такой, что будто он лет двадцать пролежал в нафталиновом сундуке в этом фраке!»
Она неизменно третировала «пречистенцев». Но, как это чаще всего в ее дневнике, — ее собственные эмоции подсвечены каким-то отношением самого Булгакова; слышен отзвук его слова. Какого же? Проще всего было бы сказать, что с прежней «гахновской» средой ему мешал слиться его талант — всегда обособляющий художника от кланов, лагерей, слишком определенной среды. Но есть какая-то недостаточность в этом объяснении. Почему раздражает фрак? Ведь сам он охотно подчеркивал свой консерватизм — привычек, вопросов, каких-то черточек домашнего уклада. И сам будет обдуманно готовиться к приему в американском посольстве. Что же раздражало его — не во всех, но некоторых представителях той среды? Какое именно сочетание «буржуазности» (в старом дореволюционном смысле) и в то же время сращенности с новым укладом? Не присутствовало ли здесь в какой-то степени давнее авторское отношение к персонажам «Спиритического сеанса» — рассказа 1922 года?.. Уверенность в том, что он знает и чувствует нерв жизни острее, чем они?...
4 января. «Дикий мороз! 32° по Цельсию. Днем была с Мишей в театре — фотографировали в гримах, костюме и декорациях „Пиквика".
Я была в лыжных бриджах, чем вызвала большое внимание среди актеров.
Вечером Лямины и Шапошниковы. Удивительно приятные люди и Бор<ис> Вал<ентинович> и жена».
...С первых набросков пьесы о Пушкине, которую Булгаков пишет день за днем в январе и начале февраля 1935 г., то своей рукой, то диктуя Елене Сергеевне, проступила глубокая и новая для тогдашней литературы о Пушкине трактовка Натальи Николаевны. У Булгакова героиня не виновна, скорей слепа. Жизни ее и Пушкина явлены в пьесе как две судьбы, идущие параллельно, но не могущие слиться воедино, а только роковым образом пересечься. «Почему никто и никогда не спросил меня, счастлива ли я?» «Большей любви я дать не могу», «Что еще от меня надобно? Я родила ему детей и всю жизнь слышу стихи, только стихи...» Поражает близость в булгаковской трактовке личности героини и ее роли в судьбе Пушкина к трактовке М. Цветаевой — в ее очерке о художнице Наталье Гончаровой (в главе «Две Гончаровых»), написанном в 1929 г. и вряд ли известном писателю: «Пушкин в этот брак вступил
552
зрячим, не с раскрытыми, а с раздернутыми глазами, без век, Гончарова — вслепую или полувслепую, с веками — завесами, как и подобает девушке и красавице. С Натальи Гончаровой с самого начала снята вина. <...> Изменила Гончарова Пушкину или нет, целовалась или нет, все равно — невинна. Невинна потому, что кукла, невинна потому, что судьба, невинна потому, что Пушкина не любила». Не случайно Булгаковым близорукость Натальи Николаевны подчеркнута с первого ее появления. Другие герои, противостоящие Пушкину в пьесе, или слепы, или злы — Кукольник и Бенедиктов видят гения, но жестоко завидуют ему. Мотив зависти к таланту, трактуемой автором как одно из наиболее презренных человеческих качеств, выявившись в повести 1929 г., затем в 1931 г. в смутных мыслях Рюхина о Пушкине, далее станет в творчестве Булгакова устойчивым.
В начале февраля — несколько сеансов гипноза; 9 февраля вечером у Булгаковых доктор Берг с женой, Леонтьевы, Арендты и Маруся Топленинова. «Люди они все очень благожелательные, — записывала Елена Сергеевна, — и нам поэтому было хорошо». 12-го февраля вечером у Вересаева Булгаков читает с 4-й по 8-ю картины пьесы (написанные за это время) и, видимо, вскоре прерывает на время работу над ней, погрузившись в энергично возобновившиеся репетиции «Мольера». 15 февраля вечером — Жуховицкий. «Вечный и острый разговор на одну и ту же тему — о Мишиной судьбе. Ж. говорил, что Миша должен высказаться на современную тему и показать свое отношение к современности. М. сказал — сыграем вничью! Высказываться не буду, пусть меня оставят в покое».
23 февраля доктор пишет ему (отказываясь от гонорара — «за хождение в гости к добрым знакомым денег никак взять не могу»), видимо, после результатов медицинского обследования: «Бесконечно рад, что Вы вполне здоровы; иначе и быть, впрочем, не могло — у Вас такие фонды, такие данные для абсолютного и прочного здоровья!»
5 марта. «Тяжелая репетиция у Миши... Пришел разбитый и взбешенный. Станиславский, вместо того, чтобы разбирать игру актеров, стал при актерах разбирать пьесу. Говорит наивно, представляет себе Мольера по гимназически и поэтому требует вписываний в пьесу». Запись беседы Станиславского с Булгаковым, сделанная помощником режиссера (опубликована в «Летописи» Станиславского) , ясно показывает, что режиссер и драматург говорят по поводу этой пьесы на разных языках и взаимопонимание
553
в данном случае просто невозможно. Станиславский «считает, что спектакль и пьеса требует доработки. Главный недостаток С. видит в односторонней обрисовке характера Мольера, в принижении образа гениального художника, беспощадного обличителя буржуа, духовенства и всех видов шарлатанства... В спектакле «слишком много интимности, мещанской жизни, а взмахов гения нет». С. вступает в спор с М. А. Булгаковым, который утверждает, что Мольер «не сознавал своего большого значения», своей гениальности. И Булгаков «стремился, собственно, дать жизнь простого человека» в своей пьесе. «Это мне совершенно неинтересно, что кто-то женился на своей дочери», — возражает С. ...Мольер <...> может быть наивным, но это не значит, что нельзя показать, в чем он гениален».
...Через несколько дней, описывая П. С. Попову эту репетицию, Булгаков писал — Станиславский «стал мне рассказывать о том, что Мольер гений и как этого гения надо описывать в пьесе.
Актеры хищно обрадовались и стали просить увеличивать им роли.
Мною овладела ярость. Опьянило желание бросить тетрадь, сказать всем: — пишите вы сами про гениев и про негениев, а меня не учите, я все равно не сумею. Я буду лучше играть за вас.
Но нельзя, нельзя это сделать. Задавил в себя это, стал защищаться».
10 марта. «Опять у Станиславского. <...> Ст. начал с того, что погладил Мишу по рукаву и сказал: «Вас надо оглаживать». Очевидно, ему уже сообщили о том, что Миша обозлился на его разговор при актерах. Часа три торговались. Мысль Станиславского в том, чтобы показать повсюду, что Мольер создатель гениального театра. Поэтому надо вписывать те вещи, которые Миша считает тривиальными или ненужными. Яростный спор со Станицыным и Ливановым. Но Миша пришел более живой, потому что успокоился. Говорил, что Станиславский очень хорошо сострил про одного маленького актера, который играет монаха при кардинале — что это поп от ранней обедни, а не от поздней».
В том же письме Попову от 14 марта: «Коротко говоря, надо вписывать что-то о значении Мольера для театра, показать как-то, что он гениальный Мольер и прочее. Все это примитивно, беспомощно, не нужно. И теперь сижу над экземпляром, и рука не поднимается. Не вписывать нельзя — пойти на войну — значит, сорвать всю работу, вызвать
554
кутерьму форменную, самой же пьесе повредить, а вписывать зеленые заплаты в черные фрачные штаны!.. Черт знает, что делать!
Что это такое, дорогие граждане?
А за окном, увы, весна. То косо налетит снежок, то нет его, и солнце на обеденном столе. Что принесет весна?
Слышу, слышу голос в себе — ничего!»
20 марта. «Все это время — то и дело у Станиславского разбор «Мольера». Миша измучен». Станиславский «пытается исключить лучшие места — стихотворение, сцену дуэли и т. д. Всего не упишешь. Доходило до того, что мы решали с Мишей вопрос — написать письмо Станиславскому с отказом от поправок, взять пьесу и уйти. Миша все время говорит так: «Я не доказываю, что пьеса хорошая, может быть, она плохая. Но зачем же ее брали?.. Чтобы потом калечить по-своему?» Но во мне нет сомнений относительно пьесы, и Станиславский вызывает во мне одно бешенство». На волне этих сильных чувств, безраздельного сочувствия мужу, пылкая Елена Сергеевна записывала далее: «Миша рассказывал вчера мне, Оле и Калужскому, как все это происходит в Леонтьевском. Это просто невероятно!
17 век — называет «средним веком» и его же «восемнадцатым», пересыпает свои речи длинными анекдотами и отступлениями, что-то плетет про Стаховича, про французских актеров, доказывает, что люди со шпагами не могут появиться на сцене, то есть нападает на все то, на чем пьеса держится. Главное иезуитство и купеческая манера в том, что, портя какое-нибудь место, уговаривает Мишу «полюбить» это искажение. <...> Миша свои мучения с Мольером и Станиславским очень образно, сравнил: «Представь себе, что на твоих глазах Сереже начинают щипцами уши завивать и уверяют, что это так и надо, что чеховской дочке тоже завивали и что ты это полюбить должна» <...>. А сегодня дошел до того, что вздумал пугать Мишу французским послом. «А что вы сделаете, если посол возьмет и уедет со второго акта?»!!
У него наивное представление о Мольере и он думает, что нужно изобразить как в хрестоматии.
Писать противно!»
За вычетом женской эмоции — это отражение впечатлений самого Булгакова, издерганного вялотекущим, в какой-то степени отражающим распадающуюся художественную жизнь эпохи и неуклонное подмораживание ее общественной жизни, ходом работы театра над «Мольером».
555
«Спектакль готовился уже четвертый год с огромными паузами и замираниями. Они не только сбивали ритм работы, но и ставили пьесу в беспрерывно меняющийся «исторический и эстетический контекст», — верно оценит впоследствии эту ситуацию исследователь истории взаимоотношений Булгакова с МХАТом. Он процитирует запись в дневнике Афиногенова о премьере «Дамы с камелиями» у Мейерхольда, поразившей многих «изысканно-роскошной» упаковкой («Тонкий яд разложения... вот таким манил старый мир, блеск, бархат, шелк, сиянья вещей... À зрители хлопают от восторга и кричат браво... Вот так после падения Парижской коммуны веселились молодчики с их женами и проститутками... А сейчас это возводится в перл, что ли...») — запись, фиксирующую «сам факт поворота театральных вкусов», и свяжет с этим отданное пошивочному цеху, занятому костюмами для «Мольера», распоряжение «шить из парчи, «чтобы все сияло как солнце». Стремились, процитирует исследователь слова художника П. В. Вильямса в дни премьеры, передать «атмосферу тяжелой пышной мощности эпохи».
Эпоха приближала свое лицо к зеркалу, но готова была в неожиданный момент отпрянуть от него, круша этим резким движением тех, кто это зеркало воздвигал.
Елена Сергеевна со сладострастием фиксирует в дневнике рассказы театральных людей о чудачествах Станиславского, граничащих порою с самодурством. К нему приводят «молодого актера — дублировать „Мертвые души".
Станиславский: «Как ваша фамилия?»
Актер: «Конский, Константин Сергеевич...»
Станиславский: «Это не может быть! Таких фамилий не бывает!» (20 марта 1935 г.; в 1969 году Елена Сергеевна воспроизводила нам этот диалог в лицах, с характерным пришепетыванием — она любила и умела изображать Станиславского). Накануне сам Конский также рассказывал Булгаковым очередной случай — на репетиции «Царской невесты». «Один молодой актер страшно боялся Станиславского и все старался держаться за печкой (в Леонтьевском зале).
Ст.: Кто это там за печкой прячется? Как ваша фамилия? Вы кого играете? Вы должны так держаться на сцене, как будто вы самую главную роль играете. Вы оперу знаете?
— Знаю, Константин Сергеевич...
Продирижируйте всю с самого начала. Актер в поту — берет палочку и дирижирует. После увертюры, которую актер правильно провел:
556
— Убрать его из спектакля!»
(Спустя полтора-два года в «Записках покойника» появится бутафор, который по требованию Ивана Васильевича усядется на стул и станет «вместе со всеми писать и плевать на пальцы», и сконфуженно улыбаться, что вызовет «окрик Ивана Васильевича»:
— А это что за весельчак с краю? Как его фамилия? Он, может быть, в цирк хочет поступить? — и т. д.).
Обратимся еще раз к пространной записи, сделанной Еленой Сергеевной 20 марта 1935 года: «Б. И. Ярхо сделал перевод «Мещанина во дворянстве» и прислал Мише с надписью.
Третьего дня, примерно, мы узнали, что он и Шпет арестованы. За что, мы, конечно, не знаем».
Обдуманное построение записи характерно — в библиотеке Булгакова вплоть до 1970 сохранилось издание «Мещанина во дворянстве» Мольера (Л., 1934) с дарственной надписью Б. Ярхо от 22 февраля 1935 г.: «Глубокоуважаемому Михаилу Афанасьевичу Булгакову, на добрую память от переводчика». После известия об аресте, пришедшего спустя менее чем месяц, эта надпись уже нуждалась в оправдании.
Это были аресты, связанные с так называемым «делом немецких словарей», или «делом словарников» — так топотом определяли его современники. В эти дни были также арестованы Д. С. Усов, сын проф. Челпанова, М. А. Петровский (брат его был арестован еще осенью 1929 года, но через два с лишним года вернулся домой). М. В. Вахтерева (жена Ф. А. Петровского) рассказывала, как наутро после обыска она позвонила братьям Ярхо. К телефону подошел Григорий Исаакович.
—Можно Борю? — спросила Мария Васильевна.
— Уже нельзя. Но я знаю, что и Мишу нельзя, потому что от нас они поехали к вам...
«Дело о словарях», по свидетельству современников, фабриковалось следующим образом: филологи-германисты участвовали как внештатные сотрудники издательства, выпускавшего словари, в подготовке немецко-русских словарей. Штатная сотрудница издательства Елизавета Александровна Мейер, немка по происхождению, получала деньги за всех участников работы и раздавала им под расписки. Ее брат был обвинен в шпионаже в пользу Германии: у нее нашли расписки филологов — по ним их и брали.
М. А. Петровский рассказывал брату, когда они встретились впоследствии в Томске, как следователь, выслушав объяснения подследственного, сказал:
557
— Все вы так говорите, а шпион сказал, что это — деньги за шпионаж!
Так все трое покинули Москву навсегда. С 1935 по 1937 гг. М. А. Петровский и Г. Г. Ярхо жили в Томске, работали в библиотеке; в 1937 году их забрали, они получили «10 лет без права переписки» и вскоре погибли.
25-го марта Булгаковы были «на концерте вагнеровском в Большом зале Консерватории. Дирижировал Сенкар, пел Рейзен (Вотана — прощание и заклинание огня). Сенкар нам понравился, он чувствует Вагнера. Оркестр мал, человек 80, не больше. Рейзен поет очень дурно, хотя голос у него очень сильный. Хорошо он спел только последнюю фразу заклинания. Сидели мы в 6-м ряду. Я была в черном платье с разрезом на спине, что вызывало большое внимание. Одна дама злобно сказала: «Ненавижу такие вещи!»
«То тепло и слякотно, то вьюга», — записывала Елена Сергеевна в тот же день, 26 марта 1935 года; она заносила в дневник и размышления над поведением зачастившего к ним молодого актера: «...явился сегодня без звонка часа в три. Очень я к нему присматриваюсь — что за фигура. Не могу разобрать. Вопросы задает без конца. Разговор ведет на точно такие же темы и в той же манере, как и К. и Ж. Сегодня, кстати, Ж. звонил и рассказывал, что в одном американском журнале Вельс написал статью о советском театре. Там он говорит, по словам Ж., что советский театр, оставив агитацию, перешел на другие рельсы. Во-первых, появилась советская комедия, верней, фарс, во-вторых, ставят классиков и, в-третьих, есть Михаил Булгаков. Если бы таких драматургов было несколько, можно было бы сказать, что существует советская драма».
В тот же день Булгаков вернулся к пьесе о Пушкине, продиктовав жене 9-ю картину.
29 марта. «В Москве — лорд Иден, хранитель печати. В «Известиях» был его портрет — он еще сравнительно молодой человек — 38 лет». (В 50-е годы, редактируя дневник, Елена Сергеевна приписала — по памяти: «М. А. безумно смешно показывает, что это такое — «хранитель печати», как он ее прячет в карман, как, оглянувшись по сторонам, вынимает, торопливо пришлепывает и тут же прячет. <...> принесли конверт из американского посольства с приглаш(ением) Миши и меня на 23 апр(еля)»; в приглашении было указано — «фрак или черный пиджак. Буду шить Мише черный костюм, у него нет. Это интересно побывать!»
30 апреля Булгаков пишет врачу С. М. Бергу, у которого
558
лечился последнее время гипнозом: «Коротко говоря, я чувствую себя очень хорошо. Вы сделали так, что проклятый страх не мучит меня. Он далек и глух».
В тот же день Елена Сергеевна записала: «Сегодня с Мишей пошли к портному. Потом в торгсин за материалом для костюма и др. вещами. Материю купили очень хорошую, приказчик уверяет, что английская спец(иально) для фрака и смокинга, но страшно дорого — 25 руб. золотом отрез. Потом купили черные туфли Мише для этого же костюма. Крахмальных сорочек не было».
5 апреля Булгаков читает в доме Вересаева две последние картины «Пушкина», написанные вчерне.
7 апреля. «Ходили с Мишей днем за книжками в Кубу — переплетную мастерскую на Пречистенке. Купила ему переписку Чайков(ского) и матер (налы) Дост<оевского> (по-видимому, сб. «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования», вышедший в 1935 г. — М. Ч.)
«Обедала Ахматова. Она приехала хлопотать за какую-то свою знакомую, которую выслали из Ленинграда». В этот же день Елена Сергеевна звонит в «Красную новь», и редактор «очень любезно сообщил, что 10 или 12-го будет решен вопрос о печатании биографии «Мольера» в их журнале. Миша сказал: «Больше никогда в жизни ты его не услышишь и не увидишь» (таких предсказаний было немало, он имел к ним вкус — и замечательно, что не только по устным рассказам Елены Сергеевны, но и по дневнику ее можно видеть, что значительная их часть сбывалась — так рукопись «Мольера» «без всякого сопроводительного письма» возвращена из «Красной нови» 26 апреля 1935 г. — после телеграммы Елены Сергеевны). В тот же день Елена Сергеевна — вновь и вновь — фиксирует все, относящееся к театральной судьбе «Мольера»: «У Станиславского в Леонтьевском идут репетиции «Мольера», изводя Мишу вконец. Вместо того, чтобы репетировать сцены пьесы, — занимается (Станиславский. — М. Ч.) педагогическими этюдами с актерами и говорит массу посторонних вещей, которые совершенно не двигают пьесу. Миша доказывает мне, что никакой системой, никакими силами нельзя заставить плохого актера играть хорошо. В минуты хорошего расположения духа показывает, как играет К-а — очень смешно. Безнадежно отвратительна!» 9-го у Булгаковых В. В. Дмитриев и молодой актер МХАТа Г. Конский. «Миша был необыкновенно в ударе, рассказывал о репетициях «Мольера», показывал Станиславского, Подгорного, Кореневу и совершенно классически — Шереметьеву в роли
559
Рене — няньки Мольера». Когда он стал показывать одного из сотрудников театра — «я увидела, что у Дмитриева просто градом катятся слезы и он задыхается от смеха... Действительно, это было невероятно смешно — как В. С. смотрит умильно святыми глазами, жмет руку, а сам в это время бросает острый тревожный взгляд на какого-нибудь нового человека». Так в этих почти ежедневных то исполненных раздражения рассказах, то веселых показах сам собой формировался материал будущего «Театрального романа», в тот год еще, возможно, и не замышлявшегося, — романа, где режиссер Иван Васильевич будет предлагать актеру «съездить на велосипеде для своей любимой девушки», а на другой репетиции — «поднести букет возлюбленной. С этого и началось в двенадцать часов и продолжалось до четырех часов. При этом подносил букет не только Патрикеев, но по очереди все — и Елагин, игравший генерала, и даже Адальберт, исполняющий роль предводителя бандитской шайки. Это меня чрезвычайно изумило. Но Фома и тут успокоил меня, объяснив, что Иван Васильевич поступает, как всегда, чрезвычайно мудро, сразу обучая массу народа какому-нибудь сценическому приему. И действительно, Иван Васильевич сопровождал урок интересными и назидательными рассказами о том, как нужно подносить букеты дамам и кто их как подносил. <...> Лучше всех подносил букет сам Иван Васильевич. Он увлекся, вышел на сцену и показал раз тринадцать, как нужно сделать этот приятный подарок. Вообще, я начал убеждаться, что Иван Васильевич удивительный и действительно гениальный актер».
В эти же дни, 8 апреля, Булгаковых зовет к себе К. А. Тренев, — он живет над ними, в том же подъезде. «Мне понравился Пастернак, — записывает Елена Сергеевна, возвратившись, — очень особенный, непохожий ни на кого... когда выпили за хозяйку первый тост, П. сказал: «Я хочу выпить за Булгакова». Хозяйка вдруг с размаху — нет, нет, мы сейчас выпьем за Викентия Викентьевича, а потом за Булгакова, — на что П. упрямо заявил: «Нет, я хочу за Булгакова. Вересаев, конечно, очень большой человек, но он — законное явление, а Б. — незаконное». Билль-Белоцерковский и Кирпотин опустили глаза — целомудренно».
11 апреля позвонил Жуховицкий и сообщил, что секретарь американского посольства Боолен хочет пригласить их обедать и просит назначить день. «Миша вместо ответа, — записывала в этот же день (видимо, как всегда, ночью) Елена Сергеевна, — пригласил Боолена, Тефа (личного секретаря) Буллита) и Ж. к нам сегодня вечером.
560
Ужин — икра, лососина, домашний паштет, редиски, свежие огурцы, шампиньоны жареные, водка, белое вино». (Она любила кормить гостей и любила описывать поданное на стол; внимание к хорошему столу легко увидеть и в сочинениях Булгакова — в «Собачьем сердце» и в «Мастере и Маргарите» это будет носить вызывающий идеологизированный характер.) «Американцы говорят по-русски — Боллен совсем хорошо. Ужин начался с того, что Миша показал фотографии свои для анкет и сказал, что завтра он подает заявление о заграничном паспорте, хочет ехать месяца на 3 за границу.
Ж. едва не подавился. Американцы говорят, что надо ехать. Мечта об Америке...
Б(оолен) хочет с Жух. переводить «Зойкину квартиру». Сидели долго и, по-видимому, им было весело у нас. Бол-л(ен) пригласил нас 19-го обедать».
12 апреля. «Зашли к Шапошниковым вечером. Миша сыграл с ним в шахматы. Потом Серг(ей) Ерм(олинский) проводил нас домой, зашел к нам и просидел до 3 часов ночи».
13 апреля. «Миша днем сегодня выходил к Ахматовой, которая остановилась у Мандельштам.
Ахматовскую книжку хотят печатать, но с большим выбором». (И далее — пересказ слов Надежды Яковлевны Мандельштам о первой их встрече в Батуме, приведенной в первой главе этой книги).
18 апреля. «Утром позвонила в Ржевский, Ев(гений) Ал(ександрович) сказал мне, что арестована Ирина Свечина. Я сейчас же пошла к Алекс(андру) Андр(еевичу). Он в ужасном состоянии — говорит, что совершенно потерял работоспособность, что дом стал как гроб...».
С семьей Свечиных Елена Сергеевна была связана к тому времени почти десять лет — 9 ноября 1925 года она пишет сестре о недавнем знакомстве с ними: «Я очень рада этому. Они оба очень интересные люди». Александр Андреевич Свечин (1877—1938), дворянин (как и Шиловский), окончивший в 1903 году Академию Генштаба, участник мировой войны, с марта 1918 года вступивший в Красную армию, в 1920-е годы был профессором Военной Академии РККА (с августа 1921 года ее начальником стал M. H. Тухачевский), в 1926 году получившей имя скончавшегося М. В. Фрунзе. Это был один из самых интеллигентных и знающих военных специалистов тех лет. Его имя было вскользь упомянуто Еленой Сергеевной в наших беседах осени 1969 года — речь шла о том, где именно познакомилась она с Булгаковым. Это произошло, как явствовало
561
из ее слов, в доме у Свечиных (или там, где были и они).
Напомним, что Е. А. Шиловский в это самое время — с октября 1928 по февраль 1931 года (по странному стечению обстоятельств — как раз до того момента, когда обнаружилась связь Булгакова с Еленой Сергеевной, и Шиловский заставил их расстаться) — был начальником штаба Московского военного округа, а после этого стал преподавать в одной Академии со Свечиным, под начальствованием Тухачевского. Незадолго до этого, в 1930-м году была проведена, по сведениям военных историков, так называемая операция «Весна», организованная Менжинским: в одну ночь в центральном военном аппарате и в округах было арестовано около 5 тысяч старых специалистов. После этого развернулась кампания осуждения и одной из ее главных точек стали военно-теоретические взгляды Свечина; против него особенно резко выступал M. H. Тухачевский.
Вскоре Свечин вернулся к преподаванию в Академии; Булгаков бывал у него — сохранившееся свидетельство об этом устанавливает факт прямой (не только опосредованной — знакомствами Елены Сергеевны, ее рассказами) связи Булгакова с военной средой, что значимо для гипотез об отношении его к событиям последующих лет. Приведем это свидетельство: «В МХАТе — банкет, чествуют стариков, — записывает Елена Сергеевна 25 ноября 1933 года. — М. А. не пошел, мы были званы к Свечиным». Само предпочтение этого визита мхатовскому банкету может, кажется, говорить в пользу серьезности взаимоотношений. Обратим внимание и на дату. Речь идет о времени, когда прошел только год нового брака Елены Сергеевны. Судя по дневнику, это — один из немногих домов из «старой» ее жизни, куда она приходит с Булгаковым (что, пожалуй, укрепляет достоверность свидетельства об их знакомстве в этом именно доме, а не в доме Моисеенко, как запомнилось это Л. Е. Белозерской; но мы не знаем пока, каким образом оказался Булгаков в 1929 году в доме Свечина, когда именно они познакомились).
Был и еще один «военный» дом, с которым оказался связан Булгаков в 1930-е годы — по-видимому, уже при посредстве Елены Сергеевны, — в ней обитала семья Ивана Александровича Троицкого, на долгие годы оставшаяся ей близкой и после разрыва с Шиловским. 12 января 1970 г. она записала в дневнике: «...в 22 году мы поселились в одной квартире на Воздвиженке, во флигеле дома и двора, где был Охотничий клуб когда-то (кажется, там бывали в конце
562
19-го века спектакли труппы любителей Алексеева (К. С. Станиславского). Поселились мы с Евгением Александровичем и Иван Александрович Троицкий (тоже генштаба) со своей матерью Марьей Ивановной Ханыковой. Несмотря на разницу лет, мы с ней подружились. Потом после ее смерти (да и до нее) я подружилась с ее дочерью Лидией Александровной Ронжиной, опять же после ее смерти — с ее дочерью Ниной Георгиевной Ронжиной-Чернышевой...» (Эти имена встретятся дальше в нашем повествовании) .
...19 апреля 1935 года Елена Сергеевна описывала обед у Боолена — «кв(артира) в посольском доме — светлая, хорошая, электрич(еский) патефон, он же — радио. Конечно, Жуховицкий. Потом пришли и др(угие) американцы из посольства, приятные люди, просто себя держат. Перед обедом подавали коктейль. Обед без супа.
Мы с Мишей оба удивились, когда появилась Лина С.
На прощанье Миша пригласил американцев к себе. Лина С. сказала: «Я тоже хочу напроситься к вам в гости».
22 апреля — «Сегодня мы с Мишей прочли протокол репетиции «Мольера» ...Из него видно, что Станиславский всю пьесу собирается ломать и сочинять наново. В сцене «Кабалы», например, — «что д'Орсиньи надевает маску и из мести поступает в кабалу». (Напомним, как спустя год в «Театральном романе» «Иван Васильевич все настойчивее стал предлагать мне написать сцену дуэли на шпагах в моей пьесе» — в пьесе о времени гражданской войны! — и как автор сначала «отнесся к этому как к тяжелой шутке», а затем пришел «в исступление». — М. Ч.) Чаша терпения переполнилась и Миша тут же продиктовал мне письма Станиславскому и Горчакову с категорическим отказом от переделок». Булгаков писал Станиславскому, что его предложения «ведут к сочинению какой-то новой пьесы, которую я писать не могу, так как в корне с ней не согласен». Если пьеса в том виде, какой есть, театру не подходит, автор просил ее вернуть.
23 апреля 1935 года они отправились на бал к американскому послу.
Не только сам этот бал, оказавшийся весьма необычным, но и приготовления к нему были описаны Еленой Сергеевной на другой день с подробностями. «Днем — я в парикмахерской, на Арбате подхожу к машинам нанимать такси, выходит шофер. «Пожалуйте!» Я ему сказала, что дам 40 р., чтобы он отвез вечером нас, а потом заехал за нами в 3 часа ночи.
563
Охотно согласился.
Одевала меня портниха и Тамара Томасовна. Платье — вечернее, исчерна-синее с бледно-розовыми цветами, очень хорошо вышло.
Миша в черном костюме — очень хорошем.
В 11 1/2 ч. поехали. Шофер опять не взял денег вперед. Сказал, что приедет за нами. Мы сказали — в 3 часа. Он сказал: «не рано ли?».
Я никогда в жизни не видела такого бала, — записывала Елена Сергеевна едва ли не словами Маргариты. — Посол стоял наверху на лестнице, встречал гостей. Все во фраках,. было только несколько пиджаков и смокингов. Литв(инов)—во фраке, Бубнов в защитной форме (нарком просвещения сохранял свой облик, знакомый Булгакову по Киеву 1919 года. — М. Ч.), несколько военных наших.
Боолен и другой американец, который оказался военным атташе, первый во фраке, второй — в парадной красной форме с золотыми аксельбантами. Спустились к нам навстречу, очень приветливо приняли.
В зале с колоннами танцуют, с хор светят прожектора, за сеткой, отделяющей оркестр, живые птицы и фазаны. Ужинали за отдельными столиками в громадной столовой, живые медвежата в углу, козлята, петухи в клетках. За ужином играли гармонисты». С женской недоброжелательной пристальностью взгляда она отмечает: «Среди гостей мелькнул Берсенев с напряженным растерянным лицом. Афиногенов был в пиджаке и почему-то с палкой».
Сама она чувствует себя на этом балу полностью в своей стихии, в упоении. Красивая, хорошо причесанная и прекрасно одетая спутница придает уверенности и Булгакову. Он не чувствует себя растерянным — для него это, несомненно, законная часть той «нормы» жизни, которую он мечтал «восстановить» еще осенью 1921 года. Вместе с тем то не вполне обыкновенное зрелище и действо, участниками которого они оказались, будило его воображение. «Ужинали в зале, — продолжала описание Елена Сергеевна, — где стол с блюдами был затянут прозрачной зеленой материей и освещен изнутри. Масса тюльпанов, роз. Конечно, необыкновенное изобилие еды, шампанского. В верхнем этаже (особняк громадный, роскошный) устроена шашлычная. Там танцевали кавказские танцы. Нас принимали очень приветливо, я танцевала со многими знакомыми...»
...Отсюда ведут, возможно, свое начало бальный зал «с колоннами из какого-то желтоватого искрящегося камня», «невысокая стена белых тюльпанов», «белые груди и чер-
564
ные плечи фрачников», «стены красных, розовых, молочно-белых роз с одной стороны, а с другой — стена японских махровых камелий», шампанское, вскипающее пузырями «в трех бассейнах», «грандиозная лестница, крытая ковром», «зеленохвостые попугаи», «веселые шимпанзе с гармониями», зрелище «белых медведей, игравших на гармониках и пляшущих камаринского на эстраде» — все, что так поразило вскоре первых слушателей, а четверть века спустя читателей в романе о мастере и его возлюбленной.
«...Отношение к Мише очень лестное, — продолжала Елена Сергеевна. Посол среди гостей — очень мил, производит очень приятное впечатление. Хотели уехать в 3 1/2 ч., но нас не отпустили. Тогда Миша вышел, нашел своего шофера, который вырос как из-под земли (все это — какие-то не случайно зафиксированные ею, вызывающие на размышление подробности. — М. Ч.), отпустил его.
А мы уехали в 5 1/2 ч. в одной из посольских машин, пригласив предварительно кой-кого из американских посольских к себе... С нами в машину сел незнакомый нам, но известный всей Москве и всегда бывающий среди иностранцев, кажется, Штейгер.
Приехали, был уже белый день. Катерина Ив. (Екатерина Ивановна Буш, или «Лоличка», — бонна Сергея Шиловского, немка по происхождению. — М. Ч.), которая ночевала у нас, вышла к нам в одеяле и со страшным любопытством выслушала рассказ о бале».
25 апреля. «Миша, хотя ему и очень не хотелось, по приглашению из Союза сов(етских) пис(ателей) пошел на встречу писателей с Гордоном Крэгом. Была дикая скука, народу немного. Вс. Иванов сказал ему речь».
28 апреля в дневнике помощника режиссера запись о том, что письмо Булгакова о «Мольере» было зачитано актерам МХАТа перед репетицией и что «С(таниславский) призывает актеров не падать духом, а добиваться актерскими и режиссерскими средствами осуществления намеченной линии и победить автора, не отступая от его текста. «Это труднее, но и интересней».
Репетиции пошли по прежнему тексту.
С увлечением поддерживаются и укрепляются отношения с американцами — при неизменном присутствии кого-либо из соглядатаев.
29 апреля: «Вечером — жена советника Уайли, Боллен», названы еще несколько американцев, — «И, конечно, Жуховицкий.
565
Уайли привез мне розы, а Боолен — Мише виски и польскую зубровку. Миша читал 1-й акт «Зойкиной квартиры» в окончательной редакции» (в тот год он переделывал пьесу, создав новую ее редакцию). Дав пьесу Жуховицкому и Боолену для перевода, он взял с Жуховицкого расписку, что тот «сам берет на себя хлопоты для получения разрешения в соответствующих органах СССР на отправку ее за границу <...>. Ужинали весело. Мадам Уайли звала с собой в Турцию, она уезжает через несколько дней с мужем на месяц в Турцию.
Разошлись около 3-х».
Было приятно хотя бы поговорить о возможности такой поездки, поманить себя, подразнить Жуховицкого. Американцы не представляли себе, конечно, сложных чувств своих собеседников.
30 апреля. «В 4 1/2 ч. пешком пришли в посольство. Миша — в черном костюме, я — в черном платье, ношеном и переношенном.
Нас вчера Боолен пригласил на просмотр фильма. Все в пиджаках, нас встретили очень мило. Из русских были только Немирович с Котиком (жена. — М. Ч.).
Фильм — потрясающий! Из жизни английских кавалеристов где-то на границе Индии. После просмотра позвали в столовую, где угощали шампанским и всякими вкусностями. Нас познакомили со многими, в том числе с французским послом и с его женой и с турецким послом. Полный, очень веселый человек! Мадам Уайли пригласила нас завтра к себе в 10 1/2 ч. вечера. Боолен сказал, что пришлет машину за нами.
Итак, американские дни!»
1 мая. «Сергей ходил с отцом (Е. А. Шиловским. — М. Ч.) на парад, пришел домой в восторге. Сказал, что парад был ятский! (т. е. «на ять». — М. Ч.).
Мы днем высыпались, а вечером, когда приехала машина, поехали кругом через набережную и центр посмотреть иллюминацию. Набережная очень красиво сделана. Большой театр тоже.
У Уайли было человек 30, среди них турецкий посол, какой-то французский писатель (по-видимому, Сент-Экзюпери. — М. Ч.), только что приехавший в Союз, и, конечно, Штейгер. Были и все наши знакомцы — секретари амер(иканского) посол(ьства). С места — шампанское, виски, коньяк. Потом — ужин a la fourchette, сосиски с фасолью, макароны-спагетти и компот. Фрукты. Мне есть не хотелось. Но Миша-бедняга никак не мог положить себе куска в рот.
566
Так его забрасывала вопросами одна приезжая американка. Француз — оказавшийся, кроме того, и летчиком — рассказывал про свои опасные полеты. Показывал необычайные фокусы с картами. Я сначала думала, что он вошел в соглашение с хозяйкой. Но потом, когда он проделал фокус со мной непосредственно, я уверовала. И испугалась — объяснить немыслимо.
Сидели до половины третьего, а потом на машине поехали домой».
Так встретил Булгаков 1 мая 1935 года.
Поездка на машине, хороший стол, гости-«фрачники» из разных стран мира, неизменный барон Штейгер, фокусы, ночное возвращение домой... Рядом со страницами романа о дьяволе и о мастере тек поток жизненных реалий, далеких от отечественной повседневности и близких к миру, рождавшемуся на этих страницах.
2 мая. «...Днем заходил Жуховицкий — принес перевод договора с Фишером (зарубежное издательство, купившее у Булгакова право на переводы его пьес. — М. Ч.) насчет Англии и Америки («Дни Турбиных»). Он, конечно, советует Америку исключить. Очень плохо отзывался о Штейгере, сказал, что ни за что не хотел бы с ним встретиться у нас.
Его даже скорчило при этом».
Материал для пьесы о Пушкине, над которой он продолжает работать, для атмосферы слежки (которую он в пьесе модернизирует, перенося на нее черты современности) постоянно поставляла его собственная жизнь, люди, ходившие в его дом.
Елена Сергеевна рассказывала нам (12 ноября 1969 года), как Булгаков, для которого роль постоянного посетителя его дома была ясна, говорил ей иногда — «Позвони этому подлецу!»; тот приходил — «толстый, плотоядный», и Булгаков начинал с ним игру. «— Хочу за границу поехать.
— Вы бы сначала, Михаил Афанасьевич, на заводы, написали бы о рабочем классе, а потом уж и за границу.
— А я, знаете, решил наоборот — сначала за границу, а потом уж о рабочем классе. Вот, вместе с Еленой Сергеевной.
— Почему же с Еленой Сергеевной?
— Да мы, знаете, привыкли как-то вдвоем по заграницам ездить.
— Нет, Вам, наверно, дадут переводчика...»
Она рассказывала, как гость спешил к вечеру уйти (ему
567
надо было, видимо, в тот же день «являться»), нервничал, а Булгаков нарочно задерживал его до одиннадцати, а потом говорил Елене Сергеевне, что больше «не пустит его на порог:
— Ведь это надо! Кончал Оксфорд, чтобы потом...» — и стучал по столу, показывая, что — «потом».
А через две-три недели, продолжала Елена Сергеевна, «опять хотелось ему чего-то острого, и он говорил:
— Ну, позови этого подлеца».
9 мая. «Вечером Вересаев, Ангарский, Дмитриев и Треневы. <...> Ангарский за ужином спросил: «Не понимаю, почему это теперь писатели пишут на исторические темы, а современности избегают?»
Ангарский давно уже был на дипломатической работе, в Греции и других странах он проводил гораздо более времени, чем дома. Елена Сергеевна не комментирует в дневнике этот вопрос, прозвучавший за столом у Булгакова, пожалуй, как вопрос «кабинетный», умозрительный.
Всю последнюю неделю Булгаков правил «Зойкину квартиру» — для перевода Жуховицкого — и 1 мая вечером отдал ему.
Приезжал В. Е. Вольф — из ленинградского Красного театра; узнав о работе над пьесой о Пушкине, очень просил ее для театра. Один из московских театров просил «пьесу на тему о гражданской войне к 37 году». Через несколько дней Булгаков позвонил и отказался, «объяснив, что никак не может взяться за новую работу, так как у него сейчас две большие незаконченные работы — Пушкин и комедия. Не говоря уже о «Мольере» (запись от 13 мая).
16 мая дома отмечали день рождения Булгакова — подарили ему ноты Вагнера и книгу Лесажа (видимо, «Хромой бес»).
18 мая Булгаков в 12 дня читает пьесу о Пушкине вахтанговцам. «...Слушали хорошо, — записывала Елена Сергеевна. После чтения завтракали — икра, лососина, ветчина и огурцы». Во время завтрака позвонил сын Елены Сергеевны Женя и сообщил о катастрофе самолета «Максим Горький». «Будто бы 42 жертвы».
9 мая. «Вечером была у Свечиных. Ирину выпустили 16-го в 5 часов дня. Она стала вялой, апатичной, температурит уже 10-й день. Перестала смеяться».
22 мая сестра Елены Сергеевны рассказывала «о списке подавших за границу. Бесспорно едут Немирович. Станиславский, Подгорный и она».
24 мая — на премьере «Аристократов» Погодина в те-
568
атре Вахтангова «Публика принимала пьесу с большим жаром. Пьеса — гимн ГПУ».
28 мая — «Миша диктует все эти дни „Пушкина". Сереже Ермолинскому и Конскому невероятно понравилась пьеса, — записывала Елена Сергеевна 31 мая, на другой день после чтения. — Они слов не находят для выражения наслаждения ею... Жуховицкий говорил много о высоком мастерстве Миши, но вид у него был убитый: — это что же такое, значит, все понимают?!.. Когда Миша читал 4-ю сцену (где с особенным блеском очерчивается фигура Биткова. — М. Ч.), температура в комнате заметно понизилась, многие замерли». И в этой же записи: «Я счастлива этой пьесой. Я ее знаю почти наизусть — и каждый раз — сильное волнение». Эта женственная способность к безраздельному и пылкому сопереживанию была важной и благодетельной, видимо, частью нынешней жизни Булгакова.
3 июня. У Тренева. «Мише очень понравился Малышкин. Говорит, что остроумен и приятен в разговоре».
4 июня вновь подают анкеты для поездки в летние месяцы за границу. В это время тяжело складываются соавторские отношения с Вересаевым, который не соглашается со многим в пьесе о Пушкине и просит снять его имя.
Булгаков возвращается к роману — видимо, ненадолго — и пишет 21—22 июня главу о Босом. Лето было уже в разгаре. Отправили на дачу Сережу с его бонной. 29 июня Елена Сергеевна писала сестре в Ленинград, что они наслаждаются «тишиной и спокойствием. Он отдыхает, не работает, мы много гуляем, спим и разговариваем». Она не оставляла забот о меблировке квартиры: «Напиши скорей, что видела из красного дерева? Нет ли хорошего зеркала для передней, трюмо с боковыми лапами для подсвечников, старинных фонарей для коридора, ковров?»
В главе о Босом нашли отражения те затронувшие главным образом определенные, но достаточно широкие слои городского населения события, которые получили ходячее наименование «золотой лихорадки»: насильственное изъятие у населения золота и драгоценностей.
Напомним, что с установлением курса советского червонца предполагалось, что «золотые десятки» должны сдаваться и обмениваться на действующие денежные знаки; невыполнение этого рассматривалось как утаивание валюты и знак нелояльности. Судя по воспоминаниям современников, по стране прошли по меньшей мере две волны этой «лихорадки», одна в 1928—29 годы, другая — в 1931—33. Те, кто в 1970—80 годы помнили о том, как именно
569
проводилось это изъятие, с неодобрением воспринимали главу «Сон Босого» в печатном тексте романа. «Я не могу представить себе, как мог Булгаков описывать это в комических тонах?» — говорил нам семидесятилетний академик М.; он рассказывал, как в 1932 (или 1933) году забрали всю его семью, и следователь говорил: «Что — не отдаете, ждете, когда мы уйдем? Мы уйдем, но мы так хлопнем дверью, что полетят головы» (эту таинственную фразу современники атрибутировали Троцкому, полагая, в политическом тумане тех лет, что ее повторяют его тайные сторонники...). «Знаете, как это происходило? — рассказывал академик. — В маленькую камеру напихивали по 10 человек, можно было только стоять. Что тут творилось! Дети кричали на родителей — «Отдайте золото! Пусть нас выпустят! Мы больше не можем!..» Нет, я не могу постигнуть, как мог он изображать это в пародийном виде!..» От свидетелей этих лет приходилось слышать о приемах вымогательства, заставляющих вспомнить страницы романа Орвелла. Т. А. Аксакова-Сиверс приводит в своих воспоминаниях страшный эпизод зимы 1931—1932 годов в Ленинграде, когда производилось «изъятие ценностей и валюты у людей, которые подозревались в обладании таковыми (кустари, врачи с широкой практикой и т. д.)»; эпизод этот связан был с известным ленинградским врачом Борисом Ивановичем Ахшарумовым: «После двухдневного пребывания на Нижегородской улице (т. е. во внутренней тюрьме НКВД. — М. Ч.) Борис Иванович пришел домой в сопровождении двух агентов и указал им на закрытую на зиму балконную дверь. Агенты эту дверь распечатали, взяли замурованную на балконе шкатулку с ценными вещами и ушли. Ранее общительный и даже веселый Борис Иванович после этого стал неузнаваемым. Два дня он молчал, а потом: «После того, что я пережил, что мне пришлось перенести, я жить больше не могу!» Ночью он отравился морфием. На этот раз его удалось спасти, доставив в Мариинскую больницу, но неделю спустя, воспользовавшись кратковременной отлучкой жены, он бросился вниз со злополучного балкона. Балкон этот выходил на Лиговскую улицу и находился на 4-м этаже. Смерть была мгновенной». Если рискнуть строить догадки относительно событий душевной жизни, закрытой от постороннего глаза, можно попытаться предположить, что в этом случае, отразившем распространенную социально-психологическую коллизию времени, — существенную для понимания того специфического фона, на котором разворачивалась творческая жизнь Булгакова
570
и его современников, — происходил катастрофический разрыв человека с собственной личностью. Крайние степени физического и психологического воздействия на человека вызывали такое его поведение, которое при выходе на свободу уже не совмещалось с привычным самоуважением. У того, кто не мыслил себе жизни без этого чувства, это разрешалось или полным сломом личности (обесцениванием всех прежних ценностей), или гибелью.
26 июля Булгаков писал Вересаеву: «Я пребываю то на даче, то в городе. Начал уже работать. Очищаю язык (в пьесе о Пушкине. — М. Ч.), занят превращением Арендта в Даля. ...В заграничной поездке мне отказано (Вы, конечно, всплеснете руками от изумления!), и я очутился вместо Сены на Клязьме. Ну что же, это тоже река... Желаю Вам самого лучшего, самого ценного, что есть на свете — здоровья». Благополучные результаты медицинских обследований, по-видимому, не вполне его убеждали.
В начале августа пьеса, как сообщает он Вересаеву, «совершенно готова».
22 августа Елена Сергеевна записала, что появился — спустя много лет — И. Лежнев.
Бывший редактор «России», на которого когда-то, в 1923 году, Булгаков возлагал такие серьезные надежды, представлял собой, как стало ясно из сравнительно недавних исследований политической истории нашей страны, важную фигуру в политической игре Сталина. Высланный за границу в мае 1926 года «с осени 1926 г. он работал экономистом в советском торгпредстве в Германии, оставаясь корреспондентом нескольких советских газет. В 1929 г. И. Г. Лежнев обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой разрешить ему вернуться в СССР. Письмо было оглашено на одной из районных партийных конференций в Москве и рассматривалось как важный симптом пересмотра сменовеховской интеллигенцией своих позиций. В марте 1930 г. И. Г. Лежнев вернулся на родину <...> В декабре 1933 г. он был принят в партию решением Политбюро ЦК». Известно, что рекомендацию в партию ему дал Сталин.
По-видимому, только тогда Булгакову открылось, что покровительством Сталина, так недвусмысленно обнаружившемся в этом беспрецедентном факте, Лежнев пользовался и в те годы, когда издавал «Россию». 16 мая 1934 г. «Литературная газета» сообщила о приеме Лежнева в Союз писателей; со следующего года он занял должность заведующего отделом «Правды». В то самое время, в которое он занимал этот столь близкий к государственной
571
власти пост, были уничтожены почти все, кто в 1922— 1923 годах, возвращаясь в Россию, думали, что завершают свой бег, между тем как их последующий смертный бег был лишь отсрочен на двенадцать — пятнадцать лет.
5 сентября «Вечерняя Москва» сообщает: «Драматург М. А. Булгаков закончил новую пьесу о Пушкине. Пьеса предназначается к постановке в театре им. Вахтангова». Елена Сергеевна пишет 7 сентября сестре и матери (в Ригу): «У меня работы сейчас уйма с Мишей, с Сережей, его школьными делами. Осень, все надо наладить. Устаю ужасно. ...На днях заканчиваю большую работу (переписку «Пушкина»). Стану свободней». 10 сентября перепечатанная ею пьеса сдана в театр Вахтангова, а неделей с лишним позже — в Красный театр в Ленинграде.
17 сентября Булгаковы подают заявление об обмене своей квартиры на четырехкомнатную квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке — жалуются на слышимость, просят более низкий этаж.
20 сентября — известие о разрешении «Александра Пушкина» Реперткомом. «Стоит помолиться Богу — наконец-то радостный день!» — записывает Елена Сергеевна. «Ивана Васильевича» надеялись начать репетировать в октябре.
27 сентября. «Миша волнуется, как ее примет театр».
2 октября. «Радостный вечер! Миша читал „Ивана Васильевича" с бешеным успехом — у нас в квартире <...> все хохотали. <...> Хотят пьесу пускать в работу немедленно. Все радовались... ужасно было приятно. Ужинали весело».
3 октября. «Вечером — Сергей Прокофьев с Дмитриевым. Он производит приятное впечатление. Вопрос об опере на основе Мишиной пьесы (Пушкин). Взял с собой пьесу».
7 октября Булгаков сдал в театр Сатиры комедию, и 17 октября Елена Сергеевна уже записывала: «Замечательное сообщение об „Иване Васильевиче". Пять человек в реперткоме читали пьесу, все искали, нет ли в ней чего подозрительного. Так ничего и не нашли. Миша говорит: „Чего они там ищут?!" Замечательная фраза: а нельзя ли, чтоб Иван Грозный сказал, что теперь лучше, чем тогда? ...Вечером неожиданно пошли на „Фауста". Познакомились с Меликом (главный дирижер Большого театра А. Ш. Мелик-Пашаев. — М. Ч.), он дирижировал... Очень была довольна, так как он мне давно нравится. ...Какое-то приятное чувство от „Фауста"...» Для самого же Булгакова „Фауст" — постоянный фон его произведений и едва ли не составной
572
элемент того романа, которым он занимается в этом году, видимо, много меньше, чем желал бы.
В тот же вечер Я. Л. Леонтьев (он служил теперь в дирекции Большого театра, и Булгаковы стали его частыми гостями в директорской ложе) «показал сегодняшнюю «Правду», в которой Афиногенов благословил Театр (т. е. MXAT. — M. Ч.) фельетоном о том, как пьесы бесконечно репетируют и даже по 4 года. Прямо праздник на душе: так им и надо, подлецам!» Женщиной владело чувство гнева, обиды, мести за мужа, но важней другое — вера в то, что рука Немезиды непременно остановится, как только поразит их врагов.
20 октября к Булгакову (он болеет) приезжают из театра Сатиры вместе с представителем Реперткома. «Трудный, тяжелый, неприятный разговор, хотя и шел в довольно милых тонах. Млечин никак не решается разрешить пьесу. Сперва искал в ней какую-то вредную идею. Когда не нашел, стал расстраиваться от мысли, что в ней никакой идеи нет. Истязал этими вопросами Мишу. Такие разговоры вести невыразимо мучительно. Уехал, сказав, что пьесу будет читать еще раз вечером». По-видимому, театр страховался и сам — Елена Сергеевна записывает реплику Млечина, обращенную к его представителю: «Ведь у вас же есть опасения какие-то...» Бессмысленная трусость и подхалимство — вот причина всех этих дел!» — решительно заключала Елена Сергеевна, как всегда, отражая в какой-то степени в своих записях настроения и оценки самого Булгакова.
29 октября ночью раздался звонок из театра: — «Ивана Васильевича» «разрешили с некоторыми небольшими изменениями. Радость».
30 октября. «Днем позвонили в квартиру. Выхожу — Ахматова — с таким ужасным лицом, до того исхудавшая, что я ее не узнала и Миша тоже. Оказалось, что у нее в одну ночь арестовали и мужа (Пунина) и сына (Гумилева). Приехала подавать письмо Иосифу Виссарионовичу. В явном расстройстве, бормочет что-то про себя».
31 октября. «Анна Андреевна переписала от руки письмо И. В. С. Вечером машина увезла ее к Пильняку». По устным рассказам Елены Сергеевны, Булгаков предложил Ахматовой письмо, составленное при его помощи и уже перепечатанное на машинке, переписать от руки — так, по его мнению, приличествует поэту. Когда Ахматова пришла к ним 4-го ноября с телеграммой в руках от мужа и сына, свидетельствующей об успехе письма («Я счастлива за Ахматову», —
573
записала Елена Сергеевна), Булгаков связывал этот успех и со своими советами.
5 ноября Булгаков начал переводить «Скрягу» («Скупой») Мольера — для заработка. Так вновь появилось занятие, отвлекающее от собственных замыслов.
7 ноября. «Проводила Мишу утром на демонстрацию. Он рассказывал потом, что по площади колонны шли в несколько рядов сплошным потоком. Видел на трибуне Сталина — в серой шинели, в фуражке»'. 10 ноября вновь в Большом театре — на опере «Кармен» «После спектакля у нас ужинали Яков Леонтьевич и Мелик-Пашаев».
18 ноября — первая репетиция «Ивана Васильевича». 23 ноября — слушают в Большом театре оперу «Садко». В эти дни читает дома гостям и «Ивана Васильевича», и «Пушкина». Станиславский отказался выпускать «Мольера»; «у меня много претензий к автору, а затем и к вам, и к актерам», сказал он режиссеру Н. Горчакову и предложил: «Выпускайте спектакль на свою ответственность». Булгаков надеялся, что это ускорит выход пьесы на сцену.
22 декабря. «Миша днем на репетиции „Мольера", я в Большом на генеральной „Леди Макбет" (оперы Д. Д. Шостаковича „Леди Макбет Мценского уезда". — М. Ч.). Музыка очень сильная и оригинальная. Познакомилась с Шостаковичем. После театра я заехала за Мишей вместе с Яковом Леонтьевичем и Дмитриевым (в это время — художником-декоратором МХАТа — М. Ч.), поехали к нам обедать, купили по дороге шампанское. Следом за нами приехал Мелик-Пашаев, обедали очень весело. Но меня грызет безумно, что я не позвала Шостаковича. Мелик играл на рояли с Сережкой в четыре руки, потом один, пел и веселился».
Год кончался под знаком надежд, наконец-то казавшихся реальными. Новый год должен был принести выпуск на сцену — впервые за семь минувших лет — трех его пьес: «Мольер», «Александр Пушкин», «Иван Васильевич».
31 декабря репетицию «Мольера» посмотрел Немирович-Данченко, после чего активно включился в работу по выпуску спектакля. Сближение с Большим театром рождало новые замыслы — Булгаков размышлял уже о возможной режиссерской работе над своими любимыми операми «Фауст» и «Аида», шедшими в очень старых постановках. 1 января 1936 года в «Известиях» — стихи Пастернака о Сталине, повлиявшие, на наш взгляд, на решение Булгакова обратиться к этой же теме.
574
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Новый крах. «Что ж, либретто так либретто!»
1.
2 января 1936 г. Булгаков с женой отправились в Большой театр — на оперу «Леди Макбет», по приглашениям Я. Леонтьева и А. Мелик-Пашаева. Это было второе представление оперы. Затем ужинали в Клубе мастеров искусств (где нередко бывали в последний год) с Мелик-Пашаевым и Шостаковичем.
6 января днем в гостях у Булгакова — дирекция Большого театра, Мелик-Пашаев и Шостакович. «Миша читал по просьбе их „Пушкина" (мысль об опере). Шостакович очень благодарил Мишу, сказал, что ему страшно понравилась пьеса, и попросил экземпляр. Потом обедали, наши пирожки имели дикий успех. ...Вообще было очень хорошо. Шостакович сыграл свою польку и вальс из „Светлого ручья", а Мелик — тоже вальс Шостаковича „Златые горы". Все три вещи замечательные!» Итак, два лучших композитора выразили желание писать оперу по пьесе Булгакова, и Елена Сергеевна, с пылкостью отдававшаяся самым радужным надеждам, уже записывала: «Я предпочитаю, если делать из „Пушкина" оперу, чтобы это делал Шостакович». «Живем мы чудесно, — писала она матери — в середине января. — Правда, за последние два месяца очень устали, т. к. Миша взял перевод одной мольеровской комедии с французского и пришлось очень много работать. Вчера только его закончили, вернее, я — переписку, и вздохнули с облегчением. Из-за этого перевода пропустили массу чудных дней — не могли походить на лыжах». В середине сезона, в преддверии постановок своих пьес, Булгаков уже чувствовал себя очень уставшим.
25 января купили ему по случаю шубу серого меха — из американского медведя гризли. В ней и запомнили его все, кто встречался с ним в эту и последующие зимы.
Идут последние репетиции «Мольера».
575
28 января. В «Правде», записывала Елена Сергеевна, «статья без подписи под заглавием «Сумбур вместо музыки». В статье сказано о «нестройном сумбурном потоке звуков», говорится, что эта опера — выражение левацкого уродства. Напрасно, по-моему, Шостакович взялся за этот мрачный тяжелый сюжет. Воображаю, какое у него теперь должно быть настроение!» За условленным языком ее дневника трудно разглядеть отношение Булгакова к событиям, имевшим острое общественное звучание. Услышал ли он в раскатах грозу, приближавшуюся к нему? Или вполне был уверен, что речь идет лишь о «левацких загибах», к которым он не имел отношения?
6 февраля. «Вчера, после многолетних мучений, была первая генеральная „Мольера". Повышенное оживление на генералке, которое я очень люблю... Это не тот спектакль, которого я ждала с 30-го года, но у публики этой генеральной он имел успех. Вероятно, будет иметь и дальше. Меня поражает, с какой точностью Миша предсказал, кто как будет играть. Великолепны Яншин (Бутон) и Болдуман (король) ...Чудовищно плохи — Коренева, Герасимов и Подгорный. Преступно давать таких (слово вырезано) актеров. Курьезно то, что Коренева ухитрилась распространить по Москве слух, что она играет лучше всех.
Вильямс хорош. В некоторых местах аплодировали декорациям. Первый аплодисмент прокатился по залу, когда Ларин (Шарлатан) кончил играть на клавесине.
Аплодировали реплике короля «посадите, если вам не трудно, на три месяца в тюрьму отца Варфоломея» <...> Шумный успех... По окончании пьесы Миша ушел, чтобы не выходить, но его извлекли из вестибюля и вывели на сцену. Выходил кланяться и Немирович (он страшно доволен). <...> Вообще люди обозначились очень хорошо. У многих мхатчиков, которые смотрели спектакль, мрачные физиономии. Явная зависть.
После генеральной — в шашлычной обедали, а потом Миша уговорил меня поехать на «Садко», захотелось послушать музыку.
Поздно вечером — Дм(итриев). А сегодня в „Правде" статья под названием „Балетная фальшь" о „Светлом ручье". Очень сильная и, как многие говорят, совершенно верная. Мне очень жаль Шостаковича. Его вовлекли в халтуру. Авторы либретто хотели угодить». Обдуманный, выверенный язык дневниковых записей заслоняет от нашего ретроспективного взгляда те разговоры, которые велись в эти дни в их доме. Определял ли в эти дни успех «Мольера»
576
настроение самого Булгакова? Материала для суждений об этом весьма мало. В этот вечер к ним приходят Мелик-Пашаев и Я. Леонтьев. «Миша окончательно решил писать пьесу о Сталине. Мелик играл отрывок из „Валькирий". Весело ужинали». Порядок записи позволяет думать, что замысел пьесы как-то обсуждался с гостями. 8 февраля. «Завтра опять генеральная. Успеха и счастья!»
11 февраля первый закрытый спектакль «Мольера» — для пролетарского студенчества. «После конца — бесконечные вызовы, кажется, 21 занавес. Вызывали очень автора. Миша выходил». В этот же день — резкая статья О. Литовского о «Мольере» в «Советском искусстве». «Злобой пышет! Он даже не пытается скрыть ее. Так ясно понимаешь, что это продиктовано личной ненавистью его к Мих. Аф. Смотрел спектакль Поскребышев, секретарь И. В. Очень понравилось ему, как мне сообщала Оля...»
Обратим внимание на сам тон письма, которое Булгаков пишет в этот день А. И. Толстой и П. С. Попову в Ясную Поляну. В нем нет победительности, в нем — ноты неуверенности и сомнений, почти не выраженных. «У нас после оттепели опять гнусный, с ветром, дьявольский мороз. Ненавижу его и проклинаю. Конечно, ежели бы можно было перенестись без всяких усилий в сугробы Ясной, я посидел бы у огня, стараясь забыть и Мольера и Пушкина и комедию. <...> Мольер вышел. Генеральные были 5-го и 9-го. Говорят об успехе. На обоих пришлось выходить и кланяться, что для меня мучительно. Сегодня в «Сов. Иск.» первая ласточка — рецензия Литовского. О пьесе отзывается неодобрительно, с большой, но по возможности сдерживаемой, злобой. ...Ивана Васильевича репетируют, но я давно не был в Сатире. Об Александре Сергеевиче стараюсь не думать, и так велика нагрузка. Кажется, вахтанговцы начинают работу над ним. В МХТ он явно не пойдет. Мне нездоровится; устал до того, что сейчас ничего делать не могу; сижу, курю и мечтаю о валенках. Но рассиживаться не приходится — вечером еду на спектакль (первый, закрытый)».
16 февраля. «Итак, премьера «Мольера» прошла. Столько лет мы ее ждали! Зал был нашпигован, как говорит Мольер, знатными лицами. Тут и Акулов, и Боярский, и Керженцев, Литвинов, Межлаук, Могильный, Рыков <...> сейчас не могу вспомнить всех. Кроме того, вся публика была очень квалифицированная, масса профессоров, докторов, актеров, писателей.
Афиногенов слушал пьесу с загадочным лицом, но очень внимательно. А в конце много и долго аплодировал.
577
Олеша сказал в антракте какую-то неприятную глупость про пьесу.
В антракте пригласили пить чай, там были все „сливки", кроме правительственных, конечно.
Успех громадный, занавес давали опять не то 21, не то 23 раза. Очень вызывали автора <...> В нашу ложу мы пригласили Арендта, Ермолинских и Ляминых. После спектакля мы долго ждали Мишу, т. к. за кулисы пошел Акулов и говорил с актерами».
Секретарь ВЦИКа сказал Булгакову, «что спектакль превосходен, но вот — поймут ли, подходит ли она для советского) зрителя?» Булгаков выслушал совет выбросить сцену с монашкой.
Монашка дважды появлялась в пьесе как предзнаменование гибели Мольера. Увидел ли сам Булгаков в закулисном разговоре предзнаменование гибели спектакля?..
В той же записи 16-го: «В 4.30 были по приглашению и посольства и американского посла. Он только что вернулся из Америки. Держит себя очаровательно.
Гости — дип(ломатический) корпус. Был Буденный в новой форме, длинные брюки.
Показывали фильм «Бенв(енуто) Челлини». Американцы были с нами страшно любезны».
Лишенный правителем возможности видеть мир, он компенсировал это визитами в уголок Нового Света в Москве.
17-го февраля — резкая отрицательная рецензия на спектакль (газетный подвал!) в «Вечерней Москве», «короткая неодобрительная рецензия» в газете «За индустриализацию». Привыкший к газетной ругани Булгаков, возможно, не замечает меняющегося за последний год ее контекста.
18 февраля он разговаривает с новым директором МХАТа Аркадьевым. «Сказал, что единственная тема, которая его интересует, для пьесы, это тема; о Сталине. Разговор был чрезвычайно интересный, но Миша думает, что никакого материала для пьесы ему не предоставят». Между тем, судя по устным воспоминаниям Елены Сергеевны, он не мыслил себе сначала работы без архивных материалов.
...Возможно, что в тот самый год, когда ему явилась мысль писать пьесу о Сталине, герой этой будущей пьесы стал получать воплощение в его устных рассказах — комических новеллах. Впоследствии Елена Сергеевна записала их по памяти и рассказывала, воспроизводя интонации и мимику автора.
578
«Будто бы Михаил Афанасьевич, придя в полную безнадежность, написал письмо Сталину, что так, мол, и так, пишу пьесы, а их не ставят и не печатают ничего, — словом, короткое письмо, очень здорово написанное, а подпись: Ваш Трампазлин.
Сталин получает письмо, читает. С. — Что за штука такая?.. Трам-паз-лин... Ничего не понимаю! (всю речь Сталина Миша всегда говорил с грузинским акцентом).
С. — (Вызывает) нажимает кнопку на столе. Ягоду ко мне! Входит Ягода, отдает честь. С. — Послушай, Ягода, что это такое? Смотри — письмо. Какой-то писатель пишет, а надпись — Ваш Трам-па-злин. Кто это такой? Я. — Не могу знать.
С. — Что это значит — не могу? Ты как смеешь мне так отвечать? Ты на три аршина под землей все должен видеть! Чтоб через полчаса сказать мне, кто это такой! #. — Слушаю, ваше величество!
Уходит, возвращается через полчаса. Я. — Так что, ваше величество, это Булгаков! С. — Булгаков? Что же это такое? Почему мой писатель пишет такое письмо? Послать за ним немедленно! Я. — Есть, ваше величество! (Уходит).
Мотоциклетка мчится — дззз! прямо на улицу Фурманова. Дззз! Звонок, и в нашей квартире появляется человек. Ч. — Булгаков? Велено вас доставить немедленно в Кремль!
А на Мише старые белые полотняные брюки, сели от стирки, рваные домашние туфли, пальцы торчат, рубаха расхлистанная с дырой на плече, волосы всклочены. Б. — Тт!.. Куда же мне... Как же я... у меня и сапог-то нет... Ч. — Приказано доставить, в чем есть!
Миша с перепугу снимает туфли и уезжает с человеком. Мотоциклетка — дззз! и уже в Кремле! Миша входит в зал, а там сидят Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян, Ягода. Миша останавливается у дверей, отвешивает поклон.
С. — Что это такое! Почему босой?
Б. — (разведя горестно руками) Да что уж... нет у меня сапог...
С. — Что такое? Мой писатель — без сапог? Что за безобразие! Ягода, снимай сапоги, дай ему!
Ягода снимает сапоги, с отвращением дает Мише. Миша пробует натянуть — неудобно!
579
Б. —Не подходят они мне...
С. —Что у тебя за ноги, Ягода, не понимаю! Ворошилов, снимай сапоги, может, твои подойдут.
Ворошилов снимает, но они велики Мише. С. — Видишь — велики ему! У тебя уж ножища! Интендантская!
Ворошилов падает в обморок. С. — Вот уж, и пошутить нельзя! Каганович, чего ты сидишь, не видишь, человек без сапог!
Каганович торопливо снимает сапоги, но они тоже не подходят.
— Ну, конечно, разве может русский человек!.. Уух, ты!.. Уходи с глаз моих!
Каганович падает в обморок.
Ничего, ничего, встанет! Микоян! А, впрочем, тебя и просить нечего, у тебя нога куриная.
Микоян шатается.
— Ты еще вздумай падать!! Молотов, снимай сапоги!
Наконец, сапоги Молотова налезают на ноги Мише.
— Ну, вот так! Хорошо? Теперь скажи мне, что с тобой такое? Почему ты мне такое письмо написал?
Б. — Да что уж!.. Пишу, пишу пьесы, а толку никакого!.. Вот сейчас, например, лежит в МХАТе пьеса, а они не ставят, денег не платят...
С. — Вот как! Ну, подожди, сейчас! Подожди минутку. Звонит по телефону.
— Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Константина Сергеича, (Пауза). Что? Умер? Когда? Сейчас? (Мише) Понимаешь, умер, как сказали ему.
Миша тяжко вздыхает.
— Ну, подожди, подожди, не вздыхай. Звонит опять.
— Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Немировича-Данченко. (Пауза). Что? Умер?! Тоже умер? Когда?.. Понимаешь, тоже сейчас умер. Ну, ничего, подожди.
Звонит.
— Позовите тогда кого-нибудь еще! Кто говорит? Егоров? Так вот, товарищ Егоров, у вас в театре пьеса одна лежит (косится на Мишу), писателя Булгакова пьеса... Я, конечно, не люблю давить на кого-нибудь, но мне кажется, это хорошая пьеса... Что? По-вашему тоже хорошая? И вы собираетесь ее поставить? А когда вы думаете? (закрывает трубку рукой, спрашивает у Миши: ты когда хочешь?) Б. — Господи! Да хоть бы годика через три!
580
С. — Э-эх!.. (Егорову). Я не люблю вмешиваться в театральные дела, но мне кажется, что Вы бы могли ее поставить... (подмигивает Мише) месяца через три... Что? Через три недели? Ну, что ж, это хорошо. А сколько вы думаете платить за нее?.. (прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши: ты сколько хочешь?) Б. —Да мне бы... ну хоть бы рубликов пятьсот.
— Аайй!.. (Егорову). Я, конечно, не специалист в финансовых делах, но мне кажется, что за такую пьесу надо заплатить тысяч пятьдесят. Что? Шестьдесят? Ну, что ж, платите, платите! (Мише). Ну, вот, видишь, а ты говорил...
После чего начинается такая жизнь, что Сталин прямо не может без Миши жить, — все вместе и вместе. Но как-то Миша приходит и говорит: Б.-- Мне в Киев надыть бы поехать недельки бы на три.
— Ну вот видишь, какой ты друг? А я как же?
Но Миша уезжает все-таки. Сталин в одиночестве тоскует без него.
— Эх, Михо, Михо!.. Уехал! Нет моего Михо! Что же мне делать, такая скука, просто ужас!.. В театр, что ли, сходить?.. Вот Жданов все кричит — Советская музыка! Советская музыка!.. Надо будет в оперу сходить.
Начинает всех сзывать по телефону.
— Ворошилов, ты? Что делаешь? Работаешь? Все равно от твоей работы никакого толку нет. Ну, ну, не падай там! Приходи, в оперу поедем. Буденного захвати!
— Молотов, приходи сейчас, в оперу поедешь! Что? Ты так заикаешься, что я ничего не понимаю! Приходи, говорю! Микояна бери тоже!
— Каганович, бросай свои (жидовские) еврейские штучки, приходи, в оперу поедем.
— Ну, что, Ягода, ты, конечно, уже подслушал все, знаешь, что мы в оперу едем? Готовь машину!
Подают машину. Все рассаживаются. В последний момент Сталин вспоминает:
С. — Что же это мы самого главного специалиста забыли? Жданова забыли! Послать за ним в Ленинград самый скоростной самолет!
Дзз! Самолет взвивается и через несколько минут спускается — в самолете Жданов.
С. — Ну, вот, молодец! Шустрый ты у меня! Мы тут решили в оперу сходить, ты ведь все кричишь — расцвет советской музыки! Ну, показывай! Садись. А, тебе некуда сесть? Ну, садись ко мне на колени, ты маленький.
Машина—дзз... —и они все входят в правительствен-
581
ную ложу филиала Б. Т. А там, в театре, уже дикая суета, знают, что приезжает начальство. Яков Л. звонил по телефону Самосуду, у того ангина, к Шостаковичу. Самосуд через 5 минут приезжает в театр — горло перевязано, температура. Шостакович — белый от страха — тоже прискакал, немедленно. Мелик во фраке, с красной гвоздикой в петличке готовится дирижировать — идет 2-й раз «Леди Макбет». Все взволнованы, но скорее приятно взволнованы, так как незадолго до этого хозяин со свитой был на «Тихом Доне», а на следующий день все главные участники спектакля были награждены именами и званиями. Поэтому сегодня все — и Самосуд, и Шостакович, и Мелик — ковыряют дырочку на левой стороне пиджаков.
Правительственная ложа уселась, Мелик яростно взмахивает палочкой и начинается увертюра. В предвкушении ордена, чувствуя на себе взгляды вождей, — Мелик неистовствует, прыгает, рубит воздух дирижерской палочкой, беззвучно подпевает оркестру. С него градом течет пот. «Ничего, в антракте переменю рубашку», — думает он в экстазе.
После увертюры он косится на ложу, ожидая аплодисментов, — шиш.
После первого действия то же самое. Никакого впечатления. Напротив — в ложе дирекции — стоят: Самосуд с полотенцем на шее, белый трясущийся Шостакович и величественно-спокойный Яков Леонтьевич — ему нечего ждать. Вытянув шею, напряженно смотрит напротив в правительственную ложу.
Там — полнейшее спокойствие.
Так проходит весь спектакль. О дырочках никто уже не думает. Быть бы живу...
Когда опера кончается, Сталин встает и говорит своей свите:
— Я попрошу товарищей остаться. Пойдемте в аванложу, надо будет поговорить.
Проходит в аванложу.
— Так вот, товарищи, надо устроить коллегиальное совещание. (Все садятся). Я не люблю давить на чужие мнения, я не буду говорить, что,по-моему, это — какофония, сумбур в музыке, а попрошу товарищей высказать совершенно самостоятельно свои мнения. Ворошилов, ты самый старший, говори, что ты думаешь про эту музыку?
В. — Так что, вашество, я думаю, что это — сумбур. С. — Садись со мной рядом, Клим, садись. Ну, а ты, Молотов, ты что думаешь?
582
M. — Я, вваше ввелличество, ддумаю, что это ккакофония.
С. — Ну, ладно, ладно, пошел уж заикаться, слышу! Садись здесь, около Клима. Ну, а что думает наш сионист по этому поводу?
К. — Я так считаю, ваше величество, что это и какофония и сумбур вместе!
С. —Микояна спрашивать не буду, он только в консервных банках толк знает... Ну, ладно, ладно, только не падай! А ты, Буденный, что скажешь?
Буд. (поглаживая усы). — Рубать их всех надо! С. — Ну что ж уж сразу рубать? Экий ты горячий! Садись ближе! Ну, итак, товарищи, значит все высказали свое мнение, пришли к соглашению. Очень хорошо прошло коллегиальное совещание. Поехали домой.
Все усаживаются в машину. Жданов, растерянный, что его мнения не спрашивали, вертится между ногами у всех. Пытается сесть на старое место, т. е. на колени к Сталину. С. — Ты куда лезешь? С ума сошел? Когда сюда ехали, уж мне ноги отдавил! Советская музыка!.. Расцвет!.. Пешком дойдешь!
Наутро в газете «Правда» статья: «Сумбур в музыке». В ней повторяется несколько раз слово «какофония».
Эти устные рассказы — один из немногих, но важных источников для размышлений об отношении Булгакова к Сталину — художническом и личном.
19 февраля. «Второй прием с кино у Буллита. Опять дипломаты. Буллит был в пиджаке, а не в визитке, как в первый раз.
Мы пришли в особняк пешком.
Картина очень хорошая. Комедия об американцах, о том, как англ(ийский) слуга остался в Америке, очарованный американцами и их жизнью». Амер(иканцы) очень милы.
Вечером обед у Кунихольм. Очень приятный вечер. Дерброй показывал кино, он сам снимал (путешествие свое в Америку).
Из русских еще были художник Кончаловский с женой.
Была дочка фр(анцузского) посла, m-lle Альфон, очень хорошенькая и необыкн(овенно) привлекательная».
Все очень похоже на светскую жизнь преуспевающего драматурга.
21 февраля в мхатовской газете «Горьковец» напечатаны неодобрительные отзывы о «Мольере» Афиногенова,
583
Вс. Иванова, Ю. Олеши, некоторых актеров, и в дневнике Елены Сергеевны появляется неожиданная для этих триумфальных дней запись: «Участь Миши мне ясна, он будет одинок и затравлен до конца своих дней». (Через несколько дней она запишет, однако: «Миша говорил, что Славин (писатель Л. И. Славин. — М. Ч.) подошел к нему и выразил восхищение «Мольером». Это редкий случай. Из драматургов никто и никогда не хвалил Мишиных произведений»).
29 февраля появляется резкая статья о МХАТе II-м «О мнимых заслугах и чрезмерных претензиях», 1 марта — редакционная статья «О художниках — пачкунах». 2 марта Елена Сергеевна записывает:
«Сенсация, которая занимает всю Москву, это гибель театра Ивана Берсенева. Правительственное постановление о ликвидации его театра (МХАТа II-го. — М. Ч.) написано в очень суровом тоне... Очевидно, Берсенев сделал какую-то крупную ошибку... В «Правде» одна статья за другой, в которых вверх тормашками летят один за другим». Она перечисляет с плохо скрытым упоением, кому «попало», а про одного из потерпевших замечает — «Этому поделом в особенности». Слепота ли, полная ли закрытость их оценок и возможных опасений за судьбу пьесы от постороннего глаза? Или — стремление заклясть судьбу? 4 марта — вновь спектакль «Мольер», они приезжают к концу. «Театр полон, в правой ложе видела в полутьме Литовского, который что-то записывал. Занавес давали много раз. Миша выходил кланяться. Сегодня объявлен конкурс на учебник по истории СССР. Миша сказал, что будет писать. Я поражаюсь ему. По-моему, это невыполнимо». 6 марта Елена Сергеевна отмечает, что сегодня должно было быть свидание Булгакова с директором МХАТа, «но почему-то было отменено». 9 марта в «Правде» появляется статья «Внешний блеск и фальшивое содержание» — о „Мольере" в МХАТе. Как только прочитали ее, Миша сказал — „Мольеру" и „Ивану Васильевичу" конец». Днем пошли в театр. „Мольера" сняли. Вечером звонок Ф. (Ф. Н. Михальского. — М. Ч.) — «Надо Мише оправдываться письмом». В чем оправдываться? Я сказала, что Миша не будет такого письма писать». Она говорила, конечно, со слов Булгакова; по-видимому, это решение он принял сразу и бесповоротно. «Вечером Ольга, Калужский — и поздно Горчаков. То же самое — письмо! И то же по телефону Марков (П. А. Марков, зав. лит. частью МХАТа, — М. Ч.). Напор дружный. Что за люди!»
584
Ф. Н. Михальский через много лет написал в своих воспоминаниях, что решение снять пьесу было принято директором МХАТа в тот же день. «Такая торопливость! — пишет в опубликованных в 1982 году воспоминаниях В. Я. Вилеикин, — многим (Многим ли? — М. Ч.) показалась непонятной. Булгаков никогда не мог простить МХАТу, что он не встал на его защиту».
10 марта — в «Литературной газете» статья Б. Алперса «Реакционные домыслы М. Булгакова». «Миша поехал в театр к Маркову сказать, что ни в каком случае не будет писать покаянного письма. „Ивана Васильевича" явно снимут. Теперь выяснилось, что по городу ходили уже с первых чисел марта слухи о том, что „Мольера" снимают. Настало для нас очень тяжелое время».
11 марта. Режиссер «Ивана Васильевича» зовет на репетицию. «Зачем себя мучить? Театр Сатиры мечется, боится ставить, спектакль у них явно был готов. Отказались ехать». 13 — Жуховицкий: «...приезжает выспрашивать и чувствую, что он причиняет вред. Его роль не оставляет сомнений». 14-го: «...мы были званы сегодня к американскому послу. Долго колебались — идти или нет. Наконец, решили не идти. Боимся сочувствий, расспросов и тому подобное. А вечером в Большом театре на «Наталке-Полтавке»... Перед началом второго действия в правительственной ложе появились Сталин, Орджоникидзе и Молотов. Я все время думала о Сталине и мечтала о том, чтобы он подумал о Мише и чтобы судьба наша переменилась. По окончании исполнители на сцене. Овация правительственной ложе — Сталину, в к-рой принял участие весь театр. Я видела, как Сталин аплодировал, как он приветственно махал рукой актерам».
16 марта с ним полтора часа беседует П. Н, Керженцев, «критиковал „Мольера" и „Пушкина". Миша понял, что „Пушкина" снимут»; показал Керженцеву фотокопию давнего отзыва Горького о «Мольере». «Но Миша не спорил, ни о чем не просил, и ни на что не жаловался».
«Никогда и ни о чем не просите, — напишет он вскоре в романе, — особенно у тех, кто сильнее вас...»
На вопрос о будущих планах он «счел нужным сказать о пьесе о Сталине и о работе над учебником». Беседа, собственно, закончилась ничем.
16 марта появляется статья актера МХАТа M. M. Яншина «Поучительная неудача». Хотя она была гораздо мягче по тону, чем другие покаянные статьи («Мне кажется неверным обвинение в этой неудаче одного только драма-
585
турга», — писал Яншин), на Булгакова она произвела удручающее впечатление. Он питал слабость к Лариосику «Дней Турбиных». Через много лет Яншин рассказал на вечере памяти Булгакова, как в тот день он позвонил ему, стал объяснять, что редактор правил текст, а ему не показал, что он, Яншин, написал иначе... Булгаков выслушал его и молча положил трубку. Больше они не встречались и не разговаривали. Когда Яншин дошел до этих слов, голос его задрожал, он заплакал и ушел с трибуны.
17 марта. В «Советском искусстве» «чудовищная по тону заметка о „Пушкине". Миша звонил к Вересаеву, предлагал послать письмо в редакцию о том, что пьеса подписана одним Булгаковым, чтобы избавить Вересаева от нападок, но В. В. сказал, что это не нужно».
В дневнике Елены Сергеевны в две пустые строки, оставленные между записями 28 марта и 5 апреля вписана — явно позже — строка, датированная 3-м апреля: «Колю Л. арестовали» — речь шла о Николае Николаевиче Лямине.
— Полгода он пробыл в тюрьме, — рассказывает его жена Наталья Абрамовна Ушакова. — Можно было носить передачи, дали свидание перед отъездом. Было решение о высылке на три года, но сменилась власть (в НКВД в сентябре 1936 г. Ягоду сменил Ежов. — М. Ч,), перечеркнули бумагу — и дали лагерь, Чипью в Коми ССР. Можно было ездить на свидания, но только на месте становилось известно, можно получить свидание или нет. Мы ехали однажды вдвоем с матерью одного заключенного и говорили, насколько легче было женам декабристов. Эта женщина была певица, и ей удалось остаться там при клубе, она была им нужна... 5 апреля — «Миша диктует, исправляя, Ивана Васильевича». Несколько дней назад театр Сатиры пригласил — хотят выпускать пьесу, но трусят (а чего — неизвестно). Просят о поправках. Горчаков придумал бог знает что — ввести в комедию какую-то пионерку — положительную. Миша наотрез отказался идти по этой дешевой линии. Сказал, что сделает все возможное, чтобы поправить роль Тимофеева».
В середине апреля в МХАТе заговорили вдруг о возобновлении «Мольера», стали договариваться с Булгаковым о поправках, но эта надежда скоро рухнула.
А в середине мая очень быстро решилась судьба еще одной пьесы. 11 мая. «Репетиция „Ивана Васильевича" в гримах и костюмах (судя по дневнику Е. С. Булгаков видит спектакль первый раз. — М. Ч.). Без публики. По без-
586
вкусию и безобразию это редкостный спектакль... Юмор убит начисто... Роль вора превращена режиссером в бог знает что! Грим какого-то поросенка. Противно вообще писать», — заключает она. 13 мая. «Генеральная без публики „Ивана Васильевича". Впечатление от спектакля такое же отталкивающее». Спектакль смотрят несколько ответственных лиц, «к концу пьесы, даже не снимая пальто», вошел еще один; «Немедленно после генеральной пьеса была запрещена».
Можно только пытаться вообразить себе, с какими смешанными, но от того не менее неприятными чувствами встретил Булгаков это очередное событие своей драматургической судьбы; через три дня был его день рождения — ему исполнилось 45 лет.
Театр Вахтангова 19 мая просил сделать изменения в пьесе о Пушкине; он категорически отказался.
2.
Первую половину июня пробыли в Киеве, где гастролировал МХАТ с «Днями Турбиных». Отдыхали от тяжелого года.
Побывали у друга киевской юности Булгакова Саши Гдешинского. («Вообще Михаил легко бросал людей — был очень требовательным», — свидетельствует Надежда Афанасьевна, — но Гдешинского он любил»).
Он принимал их на квартире своей жены, на улице Артема (б. Львовской). Много лет спустя 8 октября 1980 г. Лариса Николаевна Ильина-Гдешинская рассказывала, что ей запомнились предупреждения Булгакова хозяйке: «— Только ничего не готовьте, я не ем острого, консервов, селедки; имейте в виду, что я только белое вино могу пить. — Я поняла из этого, что он уже был болен...». Возможно, что это -недомогание было временным; существенней другая подробность, говорящая о состоянии Булгакова после минувшего театрального сезона: «Когда Александр Петрович пришел к ним в „Континенталь", Елене Сергеевне вскоре нужно было куда-то уйти. Она попросила моего мужа дождаться ее: — Вы знаете, Мишу нельзя оставлять одного». На одном из спектаклей «Дней Турбиных» Булгаков сидел с Ларисой Николаевной. «Когда дали занавес, он сказал мне тихо: „Крикни — автора!" Я крикнула, но меня не поддержали». Выйти в родном городе на сцену, раскланяться залу, в котором сидели родные и близкие тех, с которыми он ходил когда-то по одним улицам, сидел за одной партой,
587
ему, видимо, так и не удалось. Хотя пьесу играли в Киеве без петлюровской сцены, полностью рассеять настороженность зала, было невозможно.
Погода стояла неприветливая, хмурая, необычная для лета. Через несколько дней после их возвращения, 17 июня, Гдешинский писал: «Это насмешка, какая теперь установилась чудная погода». И все же, когда приехали в Москву, впечатления от встречи с родным городом Булгакова — облик города в чем-то неуловимом оставался прежним, представились светлыми. 12 июня Елена Сергеевна записала в дневник: «Сегодня приехали из Киева. Утешающее впечатление от города — радостный, веселый. <...> Портили только дожди. <...> Какой-то негодяй распространил слух, что „Турбиных" снимают, отравив нам этим сутки. Оказалось — неправда. В первый раз их сыграли 4-го».
В поезде «Киев — Москва» купили 4-й номер журнала «Театр и драматургия»; в передовой «Мольер» был назван «низкопробной фальшивкой»; в том же номере они увидели выступление Мейерхольда перед театральными работниками Москвы от 26 марта 1936, посвященное не только самокритике, но и критике. О театре Сатиры было сказано следующее: «В этом театре смех превращается в зубоскальство. Этот театр начинает искать таких авторов, которые, с моей точки зрения, ни в коей мере не должны быть в него допущены. Сюда, например, пролез Булгаков». Это было сказано задолго до генеральных репетиций пьесы,
В это лето Булгаков взвалил на себя две новых и боковых по отношению к главным замыслам работы — перевод «Виндзорских проказниц» для МХАТа и либретто оперы «Минин и Пожарский» для Большого театра. Оперу брался писать Б. Асафьев.
Он продолжал и работу над романом, хотя никаких упоминаний о ней нет в дневнике Елены Сергеевны, нет и авторских чтений новых глав.
6 июля 1936 г. он начал новую и последнюю тетрадь дополнений. В ней была написана последняя глава третьей редакции — «Последний полет», до этого представленная двухстраничным наброском. Герой на протяжении всей главы именовался «мастером»; фабульная его коллизия впервые получала здесь разрешение. «Ты награжден, — говорил ему Воланд. — Благодари бродившего по песку Ешуа, которого ты сочинил, но о нем более никогда не вспоминай. Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил. Ты будешь жить в саду и всякое утро выходить на террасу, будешь видеть как гуще дикий виноград оплетает твой дом, как,
588
цепляясь, ползет по стене. <...) Исчезнет из памяти дом на Садовой, страшный Босой, но исчезнет мысль о Ганоцри и о прощенном игемоне. Это дело не твоего ума. Ты никогда не поднимешься выше, Ешуа не увидишь, ты не покинешь свой приют». Освобождение памяти связывалось с угасанием творческой силы.
Мечта увидеть своего героя (того, о ком написан роман Мастера) здесь придана была Мастеру — в отличие от более поздних редакций, где она оставлена одному Пилату. Немаловажно, что в предыдущей главе Пилат радостно отправлялся на встречу с тем, с кем он «не договорил», мастер же лишался этой возможности навсегда. Два мотива, попеременно получавших перевес в творчестве писателя, — сила людей и обстоятельств, губящая личную человеческую судьбу, в том числе — судьбу художника (тема, обращенная преимущественно вовне), и личная вина, влекущая за собой мучительную рефлексию и мечту об искуплении (тема, обращенная вовнутрь), — на этом этапе работы над романом впервые сплетались. Теснейше сплелись и судьбы героев, до сей поры в поле романа не пересекавшиеся. Вина человека в трусости, губящей его собственную судьбу или оказывающейся причиной гибели другого человека, оказывалась теперь как бы поделенной между Пилатом и Мастером — столь разными героями, но сближенными мечтой об искуплении и покое.
Роман был завершен и, по-видимому, на время оставлен.
26 июля. «Завтра мы уезжаем из Москвы — в Синоп под Сухумом. „Минин" закончен. М. А. написал — его ровно в месяц, в дикую жару. Асафьеву либретто чрезвычайно понравилось. Он обещает немедленно начать писать музыку».
«Синоп»—прекрасная гостиница, — писал Булгаков Я. Л. Леонтьеву 17 августа 1936 г. — Отдохнуть здесь можно очень хорошо. Парк. Биллиард. Балконы. Море близко. Просторно, чисто. ... Первое время я ничего не читал, старался ни о чем не думать, все забыть, а теперь взялся за перевод «Виндзорских» для МХАТа. ... Ах, дорогой Яков Леонтьевич, что-то будет со мною осенью? К гадалке пойти, что ли?»
Однако вскоре в Синоп приехал режиссер МХАТа H. M. Горчаков и стал давать Булгакову советы по переводу пьесы, ставить которую предстояло ему. Советы эти привели Булгакова, пребывавшего отнюдь не в расположенном по отношению к театру состоянии, к тому, что он бросил работу и уведомил Горчакова, что он от перевода отказывает-
589
ся. Такого шага от драматурга, находящегося в том положении, в каком был накануне нового сезона Булгаков, конечно, никто не ожидал.
1 сентября вернулись в Москву. 9 сентября. «М. А. тоскует, что бросил роль в „Пиквикском", и думает, что лучше было бы оставаться в актерском цехе, чтобы избавиться от всех измывательств Горчакова и прочих»; он по-прежнему оставался на службе в МХАТе, но любая работа инсценировщика и режиссера в этом театре стала для него к этой осени невыносимо отяготительной.
14 сентября, после тягостного и ни к чему не приведшего разговора с директором МХАТа, Булгаков пришел домой в состоянии полной неясности. «Что делать неизвестно. Вечером М. А. зажег свечи, стал просматривать «Виндзорских», что-то записывать». Поздно вечером приехали из Большого театра, в том числе Самосуд — уговаривать Булгакова написать либретто для оперы о Перекопе. «М. А. говорил, что не знает, что делать, не придется ли бросать МХАТ. Самосуд сказал — „Мы вас возьмем на любую должность" („хотите тенором?" — приписала Е. С. позже, по памяти. —М. Ч.).
В этот день Булгаков сделал на рукописи перевода две записи — работа «возобновлена 14 сентября 1936 г. в Москве» и «Прервана 14 сентября 1936 г. окончательно».
15 сентября он написал письмо директору МХАТа об отказе от службы в МХАТе и от перевода и заявление в дирекцию. Вместе с женой он отвез письмо в театр и «оставил письмо курьерше». Со службой, дарованной ему шесть лет назад в виде особой милости и стоившей ему огромных разочарований (несмотря на «сценическую кровь»!), было покончено. 10 октября он поступил на службу в Большой театр — либреттистом. «Что ж, либретто так либретто!!» — написал он Вересаеву 2 октября. В жизни его наступил новый и последний период.
Последние месяцы злополучного года были мучительными. Будто вдогонку ему в статье «Пушкинский сезон» (полным ходом шла подготовка к столетию со дня смерти Пушкина) «Вечерняя Москва» сообщала о пьесе А. Глобы (того самого, вместе с которым когда-то Булгаков дебютировал на «Никитинских субботниках»), «выводящего на сцену Пушкина в его последние трагические годы. Уже одно это (!) отличает ее от пьесы М. Булгакова, попытавшегося передать трагедию поэта без ... участия самого Пушкина». Критик М. Загорский писал далее: «Мы с гордостью можем сказать, что в наши дни ни зритель, ни советская обществен-
590
ность в целом уже не примут пьесу о Пушкине, написанную не на том высоком художественном и идейном уровне...»
Приехав в Союз писателей платить взносы. Булгаков «неожиданно», как записывала Елена Сергеевна 9 октября, «решил зайти к Ставскому — секретарю ССП. Трудный, неприятный разговор о Мишином положении. Впечатление у меня от Ставского тяжелое, у него желание уклониться от решения вопроса. Это — чиновник, неискренний до мозга костей».
Важная запись сделана в дневнике Елены Сергеевны 14 октября — после разговора со Ставским, заехавшим ненадолго по формальному делу, но задержанному для разговора — видимо, по ее инициативе. «По приглашению раздеться — снял пальто. Разговор. Этот разговор печален и ужасен. По сути дела — это несостоявшийся разговор с Мишиной стороны — нужно было сказать, что в отечестве ему работать не дают. Он это сказал. Но нужен вывод. Вывод никто не сделает. Всего менее Ставский. Вся его речь состоит из уверток, отписок и хитростей. Говорил о том, что сейчас где-то кто-то будет обсуждать произведения М. А. Кто? Где? Зачем? Ни к чему это не приведет».
С женским нетерпением она толкала его к решительным словам и действиям. Но был ли он готов к тому, чтобы вновь, как шесть лет назад, поставить на кон свою судьбу?
3.
«Мы теперь часто-часто бываем в опере и в балете», — писала Елена Сергеевна матери 19 ноября 1936 г. В эти дни Булгаков начал роман, задуманный, возможно, еще в 1929-м году, в 1930-м упомянутый в письме к правительству как роман «Театр», а сейчас получивший название сначала «Театральный роман», а вскоре после начала работы, 26 ноября, — «Записки покойника». Намерение рассказать, как он «сделался драматургом», осуществлялось (как и осенью 1929 г.!) в год, когда сам автор оставлял драматургию и, как он полагал, навсегда. (Примечательно, что в дневниках Е. С. Булгаковой с весны 1936 г. уже не упоминается замысел пьесы о Сталине).
Первые впечатления нового сезона были, впрочем, ошеломляющими.
2 ноября Елена Сергеевна записала: «Днем генеральная „Богатырей" в Камерном. Это чудовищно позорно». Это была постановка шуточной оперы А. П. Бородина «Богатыри»
591
с текстом Демьяна Бедного. 13 ноября, на приеме у американского посла в прекрасном особняке в Спасо-Песковском переулке председатель ВОКСа, писатель А. Я. Аросев расспрашивает Булгакова, «не пишет ли он чего-нибудь к 20-летию Октября» (сам Аросев будет арестован за два с небольшим месяца до юбилея и вскоре погибнет в заключении), а наутро, методично записывает Елена Сергеевна, «Миша сказал: „Читай" и дал газету. Театральное событие: постановлением Комитета по делам искусств „Богатыри" снимаются, в частности, за глумление над крещением Руси. Я была потрясена!»
Событие, аккуратно обозначенное Еленой Сергеевной, как театральное, выходило, однако, далеко за пределы рампы Камерного театра. Булгакова оно, несомненно, задело за живое, было воспринято лично. Во-первых, собственный счет его к Демьяну Бедному был открыт, как мы видели, еще с первых московских лет, но, возможно, много важнее было то, что новые веяния могли коснуться и судьбы начерно дописанного этим летом романа о Иешуа и Пилате.
Что думал автор этого романа о словах официальной формулировки, которой и вообразить себе не мог, скажем, зимой 1922—1923 гг.? Связывал ли в единую цепь события текущего столь драматично для него самого года, а то и двух последних лет — хотя бы с весны 1934 года, с исторического открытия исторических факультетов в университетах (закрытых в первые пореволюционные годы), с постановления «О введении в начальной и неполной средней школе элементарного курса всеобщей истории и истории СССР», — вплоть до того конкурса на учебник истории, в котором он полгода назад решил участвовать? У нас нет ответа на эти вопросы. Можно лишь утверждать, что событие это давало пищу для размышлений, занимало его внимание и в последующие дни, и тому есть, как скоро увидим, доказательства.
«Были на „Бахчисарайском фонтане". После спектакля М. А. остался на торжественный вечер, — записано в дневнике 15 ноября 1936 года. — Самосуд предложил ему рассказать Керженцеву содержание „Минина" и до половины третьего ночи в кабинете при ложе дирекции М. А. рассказывал Керженцеву не только „Минина", но и „Черное море"».
Такое тесное, доскональное вхождение официальных лиц в сами художественные замыслы театров давно никого не удивляло, стало повседневностью, но эти лица к тому же и рефлектировали, просчитали в уме им одним внятные варианты — и дома, и в кабинете, и на спектаклях, которые
592
они исправно посещали. 17 ноября, посмотрев два фильма в том же особняке в Спасо-Песковском («Первый — Уэльса „Грядущее" — о будущей войне. Начало — потрясающее, конец — скучный и неубедительный. Вторая — „Мелодия Бродуэй 1936 года" — очаровательная картина с чудесной танцовщицей в главной роли»), поехали на премьеру «Свадьбы Фигаро» в филиале Большого (дирижировал знаменитый Ф. Штидри). «После спектакля Керженцев подошел к М. А., сказал, что он сомневается в „Черном море". Ах, устали мы от всего этого!
К театру от посольства подвез в своей машине Афиногенов. До этого он весь прием выспрашивал назойливо М. А. о том, что он делает и как себя чувствует». Эта особого рода бесцеремонность, глухота к полутонам, грубость рисунка в «профессиональном» общении постигала одного за другим его собратьев по цеху.
В раздражении от напутствия председателя Комитета по делам искусств заканчивал Булгаков 18 ноября машинописную редакцию либретто «Черное море». А Елена Сергеевна радовалась, читая газеты — шла кампания вокруг снятых «Богатырей», и она, по собственному признанию, была «счастлива, что получил возмездие» Литовский (тут же в дневнике награжденный ею сильными эпитетами), который «написал подхалимскую рецензию, восхваляющую спектакль. Но вспомнили и о Булгакове — пресса вновь заговорила о «Багровом острове», попрекая автора пьесой, которая еще восемь лет назад была снята со сцены.
Но укреплялась надежда на постановку «Минина и Пожарского» — 19-го вечером позвонил из Большого театра Яков Леонтьевич «и радостно сказал, что Керженцев говорил в правительственной ложе о „Минине" и это было встречено одобрительно. Очевидно, разговор с Иосифом Виссарионовичем», — поясняла, записывая, Елена Сергеевна. Поощрение уважительного внимания к историческому прошлому становилось очевидным. Размышления над таким поворотом дел привели Булгакова в эти дни к новому замыслу. Легко предположить, что именно под влиянием текста постановления о «Богатырях» 23 ноября он делает наброски либретто «О Владимире», обращаясь ко времени крещения Руси и к тому историческому лицу, с которым связан был для него Киев и памятник которому занимал столь важное место в романе «Белая гвардия» (отразившись и в первых вариантах его заглавия). Но работа над этим либретто продолжения не получила.
593
В Большом шли премьеры оперы «Кармен», в одном из московских театров начались спектакли по новой пьесе Афиногенова «Салют, Испания!» — с лета 1936 года «испанская» тема стала актуальной.
В среде собратьев Булгакова — московских писателей — литературный быт начала 1920-х годов давно уже заменился иными формами цехового существования. Сам же он не сросся с ними, не мыслил себя иначе как на дистанции.
«Вечером в клубе ДССП встреча испанских гостей, — записывал 18 ноября в своем дневнике И. Н. Розанов. — Председательствовал Лахути, который вызвал улыбку присутствующих, когда сказал „пушкинский" вм. „пушечный" (подготовка к столетию со дня гибели поэта уже вошла в русло государственных циркуляров и имя Пушкина без конца поминалось всуе. — М. Ч). На стенах были лозунги, над испанскими переводами которых накануне много трудилась Ксения (вернулась в 2 ч(аса) н(очи)). Утром обнаружилась перемена. По совету писателя Финка были сняты вопросительные знаки, перевернутые перед фразами *. Кс<ения> возмутилась безграмотностью». Выступал испанский штукатур, «говорил о 9 месяцах тюрьмы за чтение „Железного потока". Трогательная минута, когда он передал значок испанской народной милиции Серафимовичу <...> Хором пели „Мы рождены, чтоб сказку сделать былью". Из русских говорили Тамара Иванова — от совета жен писателей, и Вишневский».
Запись в дневнике Елены Сергеевны, сделанная через несколько дней, звучит полемически по отношению к неизвестному ей дневнику современника и с вызовом к более широкому общественному контексту. «Массируемся ежедневно. Разговариваем о своей страшной жизни. Читаем газеты. Испанские события меня не интересуют. С меня достаточно моей жизни. Вечером М. А. на „Кармен"».
26 ноября у Булгакова были гости — И. Ильф, Е. Петров, Сергей Ермолинский с женами. «За ужином уговорили Мишу прочитать сценарий („Минина") — записывала Елена Сергеевна. — М. А. прочитал первые два действия. Слушали очень хорошо. Мне очень нравится Петров. Он очень остроумен. Это — первое. И кроме этого, необыкновенно серьезно и горячо говорит, когда его заинтересует вопрос. К М. А.
* Перевернутые вопросительные и восклицательные знаки в начале предложений диктуются правилами испанской грамматики. — М. Ч.
594
они оба (а главным образом, по-моему, Петров) относятся очень хорошо. И потом — они настоящие литераторы. А это редкость»
В конце ноября Большой театр откомандировал Булгакова вместе с Мелик-Пашаевым на несколько дней в Ленинград — для прослушивания клавира «Минина и Пожарского». В первый раз за время жизни с Еленой Сергеевной он уезжал один, жена его провожала. За два дня его отсутствия она послала ему три шуточные телеграммы — таков был стиль отношений. «Без него дома пусто», — записано в дневнике 30 ноября.
1-го декабря Булгаков вернулся домой. Ленинград, в котором последний раз он был летом 1933 г., теперь «произвел на него самое удручающее впечатление. Публика какая-то провинциальная, отсталая». Эти определения имели многосложный смысл — в том числе и буквальный. Переселение значительной части коренных петербуржцев в места, значительно удаленные от Ленинграда, происходившее зимой 1934—1935 и весной 1935 года, заселение освободившихся квартир новыми жителями, по многочисленным свидетельствам, имело вполне зримые последствия — сменился сам физиономический облик городского населения, везде были иные люди, иные лица, чем в 1933 году. Да и те, что остались в своих квартирах, сильно изменились за эти тяжелые для города годы. «Исключительно не понравились ему в этот приезд Р<адлов>ы», — записала Елена Сергеевна. «Единственным светлым моментом было слушание оперы. Асафьев, по словам М. А., играет необычайно сильно, выразительно... М. А. страшно понравилась и музыка, и то, как Асафьев ее исполнял». Явились наконец-то какие-то радостные ожидания. 20 декабря из Ленинграда привезли клавир, Булгаков вносил последние поправки в текст либретто. 27-го декабря музыку слушали Керженцев, Ангаров, С. Городецкий, дирекция театра. Со слов Булгакова Елена Сергеевна записала «высказывания, носившие самый сумбурный характер.
Ангаров: А оперы нет!
Городецкий: Музыка никуда не годится.
Керженцев: Почему герой участвует только в начале и в конце? Почему его нет в середине оперы? Каждый давал свой собственный рецепт оперы, причем все эти рецепты отличались друг от друга». Но теперь уже Булгакова ничем, казалось, нельзя было ни удивить, ни раздражить — он прошел через огонь и воды, и медные трубы его не пугали. «Мне очень понравилось, что М. А. пришел оттуда в 3 часа
595
ночи — в очень благодушном настроении и все время повторял: „Нет, они мне очень понравились". Я спрашиваю, а что же будет? — По чести говорю, не знаю. По-видимому, не пойдет».
Под звуки оркестра Большого театра, в котором он был теперь своим человеком, начинался для Булгакова 1937-й год.
Новый год встретили дома... Были подарки, маски, сюрпризы, большие воздушные мячи. С треском разбили Миша и Сергей чашки с надписью 1936-й год... В 2 часа ночи пришел Сергей Ермолинский поздравить нас, звонили Леонтьевы, Арендты, ... Мелики. Дай Бог, чтобы 37-й год был счастливее прошлого!»
9 января 1937 г. Булгаков пишет Асафьеву: «Сейчас сижу и ввожу в „Минина" новую картину и поправки, которые требуют. Мне — трудно, я дурно чувствую себя. Неотвязная мысль о погубленной литературной жизни, о безнадежном будущем порождает другие черные мысли. Что же написать Вам еще в письме? Что? Я ценю Вашу работу и желаю Вам от души того, что во мне самом истощается, — силы».
29 января короткой записочкой он сообщал П. С. Попову, что «соскучился», хотел бы повидаться, присовокупляя — «У нас тихо, грустно и безысходно после смерти „Мольера"». В эти дни безысходность стала очевидной. 5 февраля в «Советском искусстве» печаталось недавнее выступление П. М. Керженцева на всесоюзном репертуарном совещании, где им высоко была оценена пьеса Киршона „Большой день" и сказано о снятии „Мольера" и недопущении к постановке пьесы „Александр Пушкин".
7 февраля, вспоминая события истекшего месяца, Елена Сергеевна записывала: «Но самое важное — это роман. М. А. пишет роман из театральной жизни. Написано уже довольно много. Он его читал Ермолинскому — все, что написано. Сергей необыкновенно высоко его оценил и очень тонко понял то, что М. А. хотел вложить в эту вещь».
18 февраля. «Вечером — Вильямсы и Любовь Петровна Орлова (популярнейшая киноактриса. — М. Ч.). Поздно ночью, когда кончили ужинать, известие от Александрова (режиссер, муж Л. Орловой. — М. Ч.) по телефону, что Орджоникидзе умер от разрыва сердца. Это всех потрясло». 19 февраля. «Днем с Сергеем и Мишей пошли в город, думали попасть в Колонный зал, но это оказалось неисполнимым...»
18 марта.«После бешеной работы М. А. закончил „Чер-
596
ное море" (либретто той самой оперы о Перекопе, разговор о которой и привел минувшей осенью к его переходу в Большой театр). 21 марта. «М. А, сказал мне, что он слышал, будто Замятин умер в Париже». (Е. И. Замятин умер 10 марта).
24 марта Булгаков пишет Попову: «Не написал тебе до сих пор потому, что все время живем мы бешено занятые, в труднейших и неприятнейших хлопотах. Многие мне говорили, что 1936-й год потому, мол, плох для меня, что он високосный, — такая есть примета. Уверяю тебя, что эта примета липовая. Теперь вижу, что в отношении меня 37-й не уступает своему предшественнику.
В числе прочего, второго апреля пойду судиться — дельцы из Харьковского театра делают попытку вытянуть из меня деньги, играя на несчастии с „Пушкиным". Я теперь без содрогания не могу слышать слова — Пушкин — и ежечасно кляну себя за то, что мне пришла злосчастная мысль писать пьесу о нем» («...возненавидел он, помимо театра, поэта Пушкина...», — будет сказано через несколько лет в эпилоге романа о бывшем председателе жилтоварищества Никаноре Ивановиче Босом...). За день до этого Булгаков писал председателю Комитета по делам искусств Керженцеву, что получил сегодня от Харьковского театра вызов в Московский городской суд — театр требовал вернуть аванс за неразрешенную пьесу о Пушкине. «Сообщая, что я никак не принимал на себя предоставление разрешенной пьесы, что совершенно видно из договора, и что я, согласно законоположениям, имею право взыскивать деньги с театра за непоставленную пьесу, а не театр с меня, — я протестую, главным образом, против опорочивающей меня фразы, что я „ввел театр в заблуждение", ибо никаких театров я никогда в заблуждение не вводил. Вообще, сколько я понимаю, мое положение становится все тяжелее. Я не говорю о том, что я не могу поставить на отечественной сцене ни одной из сочиненных мною в последние годы пьес (я с этим вполне примирился), — но мне приходится теперь, как бы в виде награды за мои драматические работы, в том числе за пьесу о Пушкине, не только отбиваться от необоснованных попыток взыскивать с меня денег (описанный здесь случай — не первый), но еще и терпеть опорочивание моего литературного имени. Обращаюсь к Вам с жалобой на это, М. Булгаков». Замечательна здесь, в первую очередь, нимало не поблекнувшая за истекшие годы забота о чести своего имени.
2 апреля суд отвергнул иск театра. «Я очень утомлен и
597
размышляю, — писал Булгаков 4 апреля В. Вересаеву, сообщая ему, что их дело в суде выиграно. — Мои последние попытки сочинять для драматических театров были чистейшим дон-кихотством с моей стороны. И больше я его не повторю... На фронте драматических театров меня больше не будет. Я имею опыт, слишком много испытал».
7 апреля. «Звонок из ЦК, зовут Мишу к Ангарову. Поехал. Разговор, по его словам, был долгий, тяжкий, но полный безрезультатности. Миша говорил о том, что проделали с „Пушкиным", а Ангаров отвечал в том плане, из которого было видно, что он хочет указать Мише правильную стезю. Между прочим, о „Минине" сказал: Почему вы не любите русский народ?— и все время говорил, что поляки очень красивы в либретто. Самого главного не было сказано... вероятно, придется писать в ЦК или что-нибудь предпринимать. Но Миша смотрит на свое положение безнадежно. Его задавили, его хотят заставить писать так, как он не будет писать». 10 апреля из «Вечерней Москвы» узнали, какие спектакли везет МХАТ в Париж. «Слухи о «Турбиных», значит, неверные были. Миша никогда не увидит Европы.»
14 апреля. «Мише рассказывали, что Вишневский выступал... и говорил, что „Мы зря потеряли такого драматурга, как Булгаков". А Киршон говорил (тоже, видимо, на этом собрании), что „Турбины" — хорошая пьеса. Оба — чудовищные фигуры! Это были одни из главных травителей Миши. У них ни совести, ни собственного мнения. Ужинали в Доме актера. Невыносимое впечатление: это вовсе не «отдых мастеров искусств», как написано в приглашении, а жуткая и сомнительная публика». 14 апреля. «Тяжелое известие: умер Ильф». 15-го Булгаков стоит в почетном карауле.
...Вспоминая те годы, Елена Сергеевна рассказывала нам 28 октября 1968 г.: «У него почти не было времени писать. Утром мы вставали, пили кофе и он уходил на репетиции — часам к пол-одиннадцатого. Вечером почти всегда были гости — и при этом мы везде ходили, бывали на всех новых постановках! Друзей было немного, но это были те, кто не мог жить без М. А. Он шутил, рассказывал, разыгрывал сценки — это был неисчерпаемый источник веселья, жизнерадостности. Расходились в 5—6 часов утра, и я только умоляла: — Ну, давайте будем расходиться хотя бы в 3!
И только иногда, когда гости уходили, и мы оставались одни, он мрачнел и говорил:
— Что же это? Ведь все это уходит в воздух, исчезает, а ведь это могло остаться, могло быть написано.
598
Тогда я начинала плакать, а он пугался и сразу менял настроение».
Быть может, из этого стремления закрепить тающее в воздухе слово и родился замысел «Записок покойника».
Писал он его особенно легко. «Приходил со службы в Большом театре, — вспоминала Елена Сергеевна, — проходил в свою комнату и, пока я накрывала на стол, присаживался за бюро и писал несколько страниц. Потом выходил и, потирая руки, говорил: „После обеда я прочту тебе, что у меня получилось!" Роман этот он писал сразу набело, без черновиков...»
В феврале, марте и апреле Булгаков читал главы из романа о театре то близким друзьям, то мхатовцам — с неизменным успехом. И совсем уже считанное число ближайших друзей знало о том романе, который он вчерне завершил прошлым летом.
Шли заседания Союза писателей, Ставский делал доклад в Политехническом музее. 3-го апреля И. Н. Розанов записал в дневнике: «Утром было выступление Ляшко и Чумандрина. Первый прочел ряд справок, сколько у кого на 1937 г. договоров, у некоторых по 4—5 книг. Неужели это все новые книги? (Идет борьба с переизданиями)».
Эта борьба его не касалась; у него уже более десятилетия не было изданий, не предвиделось и переизданий.
«Если не будет Союза писателей, литература может существовать? — вопрошал на заседании один из ораторов и сам отвечал себе: — Может. А если не будет литературы? — Неожиданные крики с мест — „может!" — записал Розанов, — вызвали смех и восторг». 19 апреля. «К М. А. заходила жена поэта Мандельштама. Он выслан и уже, кажется, третий год в Воронеже. Она в очень тяжелом положении, без работы». 20-го: „В Большом оглушительное событие — арестован Мутных" (директор).
23 апреля Елена Сергеевна записывает, не скрывая удовлетворения: «Да, пришло возмездие. В газетах очень дурно о Киршоне и об Афиногенове, и „Большой день" уже признается плохой пьесой». 27 апреля. «Шли по Газетному (ныне улица Огарева. — М. Ч.), Олеша догоняет. Уговаривал Мишу идти на собрание московских драматургов, которое открывается сегодня и на котором будут расправляться с Киршоном. Киршон ухитрился вызвать всеобщую ненависть». Ищет выхода ненависть и злоба. Булгаков, однако, идет в этот вечер не расправляться с кем бы то ни было, а слушать «Евгения Онегина». 28 апреля. «Миша несколько дней в тяжком настроении духа, что меня убивает. Я, впрочем, сама сознаю, что будущее наше беспросветно».
599
(«Некоторые мои доброжелатели, — саркастически сообщал Булгаков Попову в том же письме от 24 марта, — избрали довольно странный способ утешать меня. Я не раз слышал уже подозрительно елейные голоса: „ничего, после Вашей смерти все будет напечатано!" Я им очень благодарен, конечно!») 29 апреля. Случайный знакомый «яростно уговаривал Мишу идти на московское собрание драматургов выступить против Киршона, доказывая, что Миша этим себе сделает колоссальную пользу. Зря он тратил слова». 30 апреля. «Хорошая солнечная погода, проехались на речном трамвае по Москва-реке. Очень успокаивает. Возвращаясь, встретили Тренева. Он рассказал, что на собрании драматургов вытащили к ответу Литовского...» 1 мая. «Обедали Сергей Ермолинский и Шапошников. Сергей рассказывал, что вытащили на собрании Млечина. Тот начал свою речь так: „Вот здесь говорили, что я травил Булгакова..."».
Нимало не улучшая того состояния духа, в котором находился Булгаков, эти рассказы бередили ум, заставляли задумываться о каких-то новых действиях — в связи с, казалось, несомненно меняющейся обстановкой. Взгляд наблюдателя, находящегося в своем времени, не мог различить, предугадать направление этих перемен.
«Днем М. А. разбирал старые газеты в своей библиотеке.
Вечером нас звали Троицкие. Мы пошли очень поздно. Там— кроме Лиды и Ив<ана> Ал(ександровича) — дочка Нина с мужем, по-видимому, журналистом, и Иветта, увидя которую я сразу раздражилась. Десятки раз говорила я Лиде, что не хочу встречаться с ней, так как считаю ее явной осведомительницей.
Журналист рассказывал о собраниях драматургов в связи с делом Киршона.
Лида попросила М. А. сделать надпись на книге „Турбиных" (у нее есть парижское издание „Concorde"), a Иветта нагло, назойливо докапывалась, есть ли у Миши это издание и откуда, кто привез. Сегодня Миша твердо принял решение писать письмо о своей писательской судьбе. По-моему, это совершенно правильно. Дальше так жить нельзя. Все это время я говорила М. А., что он занимается пожиранием самого себя».
3 мая «М. А. весь день пролежал в постели, чувствует себя плохо, ночь не спал. Я тоже разбита совершенно. И этот вечер вчерашний дурацкий! Действительно, сходили в гости! Один пристает с вопросами, почему М. А. не ходит на собрание писателей, другая — почему М. А. пишет не то, что нужно, третья — откуда автор достал экземпляр своей же книги?!»
600
5 мая. Вечером — у Вильямс. Был и Шебалин. Очень приятно посидели при свечах до трех часов ночи, а потом пошли пешком домой по пустынному ночному городу. Пришли домой — уж светало. Я очень люблю такой весенний рассвет и пустые улицы».
6 мая. Эти дни М. А. работает над письмом правительству».
Дневник Елены Сергеевны регистрировал ежедневную вибрацию общественной жизни, толчки которой отзывались, кажется, в самом воздухе их дома.
7 мая: «Днем, когда шли на Москву-реку кататься на речном трамвае, встретили Тренева, крайне расстроенного. Говорят, что „Большой день", судя по газетам, не снят. Таким образом, вся эта история с Киршоном, со всеми писательскими выступлениями против него кажется какой-то странной. Ругали бешено, а между тем ничего!»
В этот день П. А. Марков в статье о МХАТе в связи с награждением театра орденом Ленина, перечисляя драма тургов, чьи пьесы играл МХАТ за 39 лет, уже не упоминал Булгакова. «Вечером были у Калужских <...>, — отметила Елена Сергеевна в той же записи. — Миша спросил: „Читали сегодняшнюю статью Маркова? — На что Ольга поспешно ответила „Нет" <...>, а Калужский сказал: „Читал. Бледная статья"».
Театральные люди держались солидарно, не взирали на родственные связи.
9 мая. «Вечером у нас Вильямсы и Шебалин (композитор. — М. Ч.) М. А. читал первые главы (не полностью) своего романа о Христе и дьяволе (у него еще нет названия, но я его так называю для себя). Понравилось им бесконечно, за ужином разговор все время возвращался к роману...»
10 мая Ф. Н. Михальский пересказывает Елене Сергеевне со слов П. Маркова ход обсуждения вопроса о гастролях МХАТа за границу: «Сталин горячо говорил, что „Турбиных" надо повезти, а Молотов возражал».
Будто гигантский магнит постоянно держал его в поле своего притяжения.
11 мая вечером, после служебного дня в Большом театре вошли к Вильямсам. «Петя говорит, что не может работать, хочет знать, как дальше в романе („о дьяволе"). М. А. прочитал несколько глав. Понравились необыкновенно. Отзывы — вещь громадной силы, интересная своей философией, помимо того, что увлекательна сюжетно и блестяща с литературной точки зрения... Сидели до трех с половиной. Потом пошли пешком домой и легли в 6 часов — с разго-
601
ворами». 12 мая. «Вечером — дома. М. А, сидит над письмом к Сталину.» Двумя днями раньше он диктовал Елене Сергеевне письмо Б. Асафьеву: «Вот уже месяц, как я страдаю полным нервным переутомлением. На горизонте появился новый фактор, это — „Иван Сусанин", о котором упорно заговаривают в театре. Если его двинут, — надо смотреть правде в глаза, — тогда „Минин" не пойдет». Само собой было ясно, что не могли идти одновременно две оперы на близкие исторические сюжеты. Но Булгаков не мог, надо думать, не размышлять над тем, что обстоятельства, действительно, роковым образом складывались не в его пользу — даже и там, где, казалось бы, к этому не было прямых оснований. 15 мая. «Днем был Дмитриев. Говорит: пишите агитационную пьесу! Миша говорит: скажите, кто вас прислал? Дмитриев захохотал. Я ему очень рада. Вечером Ануся (жена Вильямса. — М. Ч.), Вильямс, Дмитриев. Миша читал дальше роман о Воланде». В этот же день Елена Сергеевна встретила актрису Н. Литовцеву, жену Качалова. «Тоже говорит: „Надо что-то делать. Обращаться наверх". А с чем, что? М. А. в ужасном настроении. Опять стал бояться ходить один по улицам». 16 мая. «Вечером перед „Красной стрелой" (скорый ночной поезд „Москва-Ленинград". —М. Ч.) заходил Дмитриев. Загудел за ужином, что нужно обращаться наверх, но предварительно выправить начало учебника истории». К учебнику этому, над которым Булгаков активно работал весной 1936 г., он последнее время, по-видимому, не обращался.
Фоном его душевного состояния этих месяцев были непрекращавшиеся вокруг разговоры, которые суммировались в дневниковой записи 17 мая. «У всех, читающих газеты, мнение, что теперь, в связи со всякими событиями в литературной среде, положение М. А. должно измениться к лучшему». В этот вечер он «работал над романом (о Воланде)», а Елена Сергеевна идет в МХАТ, к Михальскому, и они полтора часа, гуляя по двору театра, говорят «о Мишином невозможном положении». 19-го мая Я. Леонтьев, после разговора с Керженцевым, говорит Елене Сергеевне, что „Турбиных", безусловно, могли бы теперь разрешить и во всех других городах (до сих пор — с 1926 г. — пьеса разрешена была только МХАТу), что Булгакову нужно только пойти к Керженцеву «и поговорить с ним о всех своих литературных делах — запрещениях пьес и т. д. и поставить вопрос — почему „Турбины" разрешены только для МХАТа. Когда я за обедом рассказала все это Мише, то, как я и ожидала, он отказался наотрез от всего — и от то-
602
го, что он вообще пойдет о чем-то разговаривать, и от того, что будет просить о „Турбиных". Сказал, что все это никак не помогает разрешить то невыносимо тягостное положение, в котором он находится». И вновь 20-го звонят ему из секции драматургов и зовут на завтрашнее собрание («Опять — о Киршоне, о Ясенском и проч.»), и опять он отказывается от сведения счетов со своими литературными врагами в сложившейся в эти месяцы обстановке, ссылаясь на нездоровье. Вечером звонит приехавший из Ленинграда Адриан Пиотровский: «Хотел заказать М. А. сценарий. М. А. отказался. Но любопытно было узнать, какую тему они придумали. Оказалось, антирелигиозную!! Это ловко!» 20 мая. «Сегодня в газетах — об исключении из партии Афиногенова». На активе МХАТа, как рассказывает им О. С. Бокшанская, говорят о том, «что вот какая вредная организация была РАПП, какие типы в ней орудовали. И вот что они сделали, например: затравили ...Булгакова, так что он, вместо того, чтобы быть сейчас в МХАТе и писать пьесы, находится в Большом театре и пишет либретто оперные. Что Булгаков и Смидович (В. В. Вересаев. — М. Ч.) написали хорошую пьесу о Пушкине, а эта компания потопила пьесу и позволила себе в прессе называть Булгакова и Смидовича драмоделами. Так что, думаю, что сейчас будет сильный поворот в пользу Маки. Так вот, советую тебе, пиши скорей пьесу о Фрунзе!» Эта игривая шутка, — поясняла Елена Сергеевна, — обозначала, чтобы Миша переделал в пьесу свое либретто «Черное море».
Все это буквально пронизывает воздух вокруг него, окутывает, волнуя и раздражая.
22 мая 1937. «Обедал Дмитриев. Очень люблю я разговоры М. А. с ним. Ни с кем другим так не бывает. Умен, интересен, остер, соображает, в общем великолепный собеседник для М. А.».
Вечером 28 мая выходят погулять, заходят в аптеку — и там встречают знакомого журналиста, который стремится растолковать, «что Мишино положение сейчас очень хорошо, потому что он не продал себя и не участвовал во всей этой кутерьме», имея в виду «последние киршоновские истории, которые потрясли всю эту литературную и окололитературную компанию». 31 мая. «В „Правде" известие о том, что Куприн возвращается на родину». 1 июня. «В газетах сообщение о самоубийстве Гамарника. Куприн вчера приехал. Его фотография в „Известиях"...»
2 июня 1937. «Приехал Дмитриев, обедал <...>. Разговор об Елисавете Исаевне, она уезжает в Боржом». За
603
этой нарочито лаконичной фразой рассказы Дмитриева о продолжающихся преследованиях его жены и попытках спастись отъездом.
4 июня. «Вечером Дмитриев и Анна Ахматова. Она прочитала 3—4 своих лирических стихотворения». 5 июня. «В „Советском искусстве" сообщено, что Литовский уволен с поста председателя Главреперткома» — и далее сильные эпитеты, которыми награждает Елена Сергеевна одного из наиболее неутомимых литературных врагов Булгакова. 6 июня. «Утром я взяла газеты, посмотрела „Правду", бросилась будить Мишу. Потрясающее сообщение — Аркадьев уволен из МХАТа, как сообщается — за повторную ложную информацию о гастролях» и т. п. «Вечером Дмитриев. Мы встретили его поздравлением с новой квартирой. Аркадьев еще вчера вечером говорил с ним, зовя его на постоянную службу в МХАТ и обещая квартиру в Москве, Дмитриев дико хохотал, потом рассказывал, как Книппер (его тетушка О. Л. Книппер-Чехова, у которой он останавливался, приезжая из Ленинграда в Москву. — М. Ч.) разбудила его и сунула ему, не в силах говорить, газету с сообщением об Аркадьеве. Миша все показывал ему, как тетка Книппер в белом пеньюаре заламывала руки...»
8 июня 1937 г. «Какая-то чудовищная история с профессором Плетневым.
В „Правде" статья без подписи „Профессор-насильник-садист". В 34-м году принял пациентку, укусил ее за грудь, развилась какая-то неизлечимая болезнь. Пациентка его преследует. На пароходе — с Мишей и Женюшкой в Кунцево.
Женька с Мишей купались, вода холодная, грязная».
...Поток этой воды, уже многие годы затоплявший леса и долы, все более и более окрашивавшийся кровью, теперь несся уже по улицам города, был виден из его окна.
10 июня. «Был Добраницкий, принес М. А. книги по гражданской войне. Расспрашивает М. А. о его убеждениях и явно агитирует. Загадка для нас, кто он?»
11 июня. «Утром сообщение в „Правде" — прокуратура Союза о предании суду Тухачевского, Уборевича, Корка, Эйдельмана, Путны и Якира по делу об измене родины.
М. А, в Большом театре на репетиции „Под [нятой] целины" <...> Митинг после репетиции. В резолюции — требование высшей меры наказания для изменников».
Голосовал ли он? Или сумел выйти из зала перед голосованием?
Для того, чтобы попытаться воссоздать хоть в какой-то
604
степени ту атмосферу, которая должна была царить в эти дни в доме Булгакова, мы вынуждены коснуться весьма щекотливых материй.
Но прежде напомним приведенные нами ранее слова Ф. А. Степуна о «перелицевавшемся русском офицерстве», о желании победы над офицерами Деникина — и отвращении к этой победе. В отношении Булгакова к тому генералитету Красной армии, с которым столкнула его жизнь главным образом после знакомства с Еленой Сергеевной Шиловской, за столом которой сидели в те годы и Тухачевский, и Ворошилов и многие другие, присутствовала, несомненно, эта двойственность, с годами, конечно, стиравшаяся.
Отношение же к Тухачевскому и тому, что его теперь ожидало, могло осложняться сугубо личной коллизией. Сохранились свидетельства, которые позволяют предполагать (понятно, что никакие стопроцентные ручательства в этой области невозможны), что за несколько лет до встречи Елены Сергеевны с Булгаковым у нее был роман с Тухачевским.
Вступая на еще более рискованную почву (на которой поддерживает нас лишь та решительность самого Булгакова, с которой он ввел в свои сочинения о Мольере тему кровосмесительства), поделимся с читателем не нам принадлежащей, но представляющейся не беспочвенной версией, что отцом младшего сына Елены Сергеевны был Тухачевский. Женская половина наших читателей разделит, мы думаем, уже собственное наше предположение о том, что в этом случае Елена Сергеевна скорей всего призналась бы в этом Булгакову, соединяя с ним свою судьбу и приводя в его дом своего сына (как женщина, она могла предполагать, что ему легче будет знать, что мальчик — не сын Шиловского). Если признать определенные права за этой версией (а сходство взрослого С. Е. Шиловского с Тухачевским обращало на себя внимание), мы по-иному прочтем следующую запись в ее дневнике: «Сообщение в „Правде" о том, что Тухачевский и все остальные приговорены к расстрелу.
Миша утром предложил поехать к Сереже на дачу. Взяли такси, заехали за продуктами к Елисееву и покатили. Дача, как все Подмосковье. Убого и в смысле природы, и в смысле устройства.
Но я была так счастлива увидеть Сережку! <...> Пробыли там недолго, выпили кофе и попали домой к обеду».
605
4.
...В его собственном доме по-прежнему собирались гости, звучала музыка, всегда бывало весело. Так шла его жизнь в эти месяцы, наполненные почти ежедневными неожиданными газетными сообщениями, — с переходами от изумления и ужаса или глубокой мрачности к веселью, розыгрышам, смешным показам. Дело было в том, что событийная сторона этого времени самого его не касалась — все события его собственной жизни как бы уже произошли. 22 июня к ним пришел Ф. Михальский, на днях отправляющийся вместе с МХАТом в Париж. «Ну, конечно, разговор перебросился на Мишины дела. Все тот же лейтмотив — он должен писать, не унывать. Миша сказал, что он чувствует себя, как утонувший человек — лежит на берегу, волны перекатываются через него. Федя яростно протестовал».
До Булгакова доходят смутные слухи — через нового знакомого, мужа Нины Ронжиной, партийного работника Добраницкого (который с весны этого года регулярно ходит к Булгакову, читает его пьесы и сулит скорое улучшение его положения) — о том, что «осенью в МХАТе начнутся работы над „Пушкиным". У меня нет к этому сообщению полного недоверия, — записывает Елена Сергеевна, — потому что в воздухе чувствуется, что что-то с „Пушкиным" стряслось».
Не забудем — идет год, когда широчайшим образом отмечается 100-летие со дня смерти Пушкина. Возможно, написанная известным драматургом, но непоставленная пьеса о Пушкине становится фактом раздражающим, досадным.
А театр Вахтангова в эти дни предложил делать инсценировку «Дон-Кихота». Сам же Булгаков в эту весну и лето время от времени обращался к роману «о дьяволе» — начиная, видимо, с мая переписывать его с начала.
Весь июнь стояла редкостная жара. Ездили на Москва-реку — купались, катались на байдарках. Вечером бывали в ресторане Клуба мастеров искусств. Выяснилось, что оперу «Иван Сусанин» собираются ставить в Большом театре к 20-летию Октября. Для Булгакова это означало, что, как записала Елена Сергеевна, «Минину крышка — окончательная». Еще одна работа, сопровождавшаяся множеством организационных хлопот (бесконечная переписка с Асафьевым, поездка в Ленинград, изнурительные беседы и т. п.), пролетела впустую. И все же приходилось браться за работу
606
над следующим либретто — для оперы «Петр Первый».
12 июля 1937. «День физкультурного парада». Едучи по своим делам, Булгаковы остановились на Арбатской площади. «Смотрели на проходящих физкультурников. Издали очень красивое зрелище — коричневые тела, яркие трусы. Вблизи — красивых лиц почти нет.
Вечером у Вильямсов. М. А. прочитал половину повести своей «Собачье сердце». Острая, яркая сатира. М. А. говорит, что грубая».
«...Мы живем под Житомиром, в деревне, — писала Елена Сергеевна матери 19 июля. (Они поселились на пансионе у родственников артиста МХАТа В. А. Степуна). — Я страшно счастлива, что уговорила Мишу уехать из Москвы. — И он устал, и я, оба издергались, а здесь — полный отдых, ни газет, ни хозяйства, ни телефона». Булгаков работал над либретто о Петре, а также над «Записками покойника». 14 августа вернулись в Москву. За это время печальная участь постигла С. Клычкова, который жил в одном с ними доме, Зарудина, Б. Ясенского, Ивана Катаева. «Сережа Ермолинский позвонил в 5 часов, узнал, что мы приехали, очень обрадовался. Это приятно. Все остальное очень мрачно». В последующие дни до Булгакова доходили такого же рода известия про А. Бухова, А. Пиотровского, про многих других — не всегда достоверные. 20 августа. «Холодный обложной осенний дождь. После звонка телефонного — Добраницкий. Оказывается, арестован Ангаров. По Мишиному мнению, он сыграл очень тяжелую роль и в деле „Ивана Васильевича", и вообще в последних литературных делах Миши, в частности, в „Минине". Добраницкий упорно предсказывает, что дальше в литературной судьбе М. А. будут изменения к лучшему и также упорно М. А. этому не верит. Добраницкий задал такой вопрос: „а вы жалеете, что в Вашем разговоре 30-го года Вы не сказали, что хотите уехать?" М. А. ответил: „это я Вас могу спросить, жалеть ли мне или нет. Если Вы говорите, что писатели немеют на чужбине, то мне не все ли равно, где быть немым — на родине или на чужбине". 29 августа Булгаков на совещании с Самосудом и авторами оперы „Поднятая целина" — в гостинице „Москва"». «Был еще поэт Чуркин, который подошел к М. А. и спросил: „Скажите, вот был когда-то писатель Булгаков... — А что он писал, про кого говорите? — Да я его книжку читал, его пресса очень ругала... — M. A насторожился, спрашивает: «А пьес у него не было? — «Да, говорит, была пьеса „Дни Турбиных". М. А. говорит: «Это я». Чуркин выпучил на него глаза и говорит: «Вы даже не были в
607
попутчиках, вы были еще хуже?!...» М. А. ответил: «Ну, что может быть хуже попутчиков?»
Так он оказывался уже чем-то вроде тех «чудовищ ископаемо-хвостатых», к которым причислил себя в последней поэме его давний партнер по бильярду.
30 августа звонят из ВОКСа и Елена Сергеевна отмечает, что из слов звонившего — «Аросев тяжело заболел и больше не вернется» — понятно, что бывший председатель ВОКСа Аросев арестован. <...> Вечером М. А. играл у нас в шахматы с Топлениновым».
2 сентября. «Чудесный летний день. <...> Вечером навестили Мелика <...> В газете сообщение о самоубийстве председателя Совнаркома Любченко».
5 сентября. «Мише говорили, что арестован Абрам Эфрос. Не знаем, верно ли, очень много врут.
Вечером Миша у Сергея Топленинова играет в шахматы.
6 сентября. «M. À. возится с Петром».
13 сентября закончена диктовка на машинку либретто «Петра Великого», а 19-го автору уже посланы 10 замечаний П. М. Керженцева, заключаемых словами: «Итак, это самое первое приближение к теме. Нужна еще очень большая работа». Он вновь попадал в тиски переделок и дотяжек. Все чаще он сравнивал себя в разговорах с заводом, вынужденным производить зажигалки. 23 сентября. «Мучительные поиски выхода: письмо ли наверх? Бросить ли театр? Откорректировать ли роман и представить? Ничего нельзя сделать, безвыходное положение! Днем с Сергеем на речном трамвае, прекрасная погода. Успокаивает нервы». 24 сентября. «Днем с М. А. ездили на речном трамвае. Но уже туманно, моросило».
Неожиданно несколько дней (28 сентября — 1 октября) пришлось отдать работе над экземпляром «Бега» — к пьесе проявили вдруг интерес в Комитете искусств. 3 октября. «Все время говорим с М. А. о «Беге». Что это? Что-нибудь политически изменилось? Почему понадобилась пьеса?» Накануне, 2 октября, Булгаков диктовал жене письмо Б. Асафьеву: «Начну с конца: „Петра" моего уже нету, то есть либретто-то лежит передо мною переписанное, но толку от этого, как говорится, чуть», — и далее про замечания Керженцева: «О них можно сказать, главным образом, что они чрезвычайно трудны для выполнения и, во всяком случае, означают, что всю работу надо делать с самого начала заново, вновь с головою погружаясь в исторический материал. ...Теперь нахожусь на распутьи. Переделывать ли, не переделывать ли, браться ли за что-нибудь или бросить все? Вероят-
608
но, необходимость заставит переделывать, но добьюсь ли я удачи, никак не ручаюсь. <...> Сейчас сижу и ищу выхода, и никакого выхода у меня, по-видимому, нет. Тут надо решать вопрос не об одном «Петре». За семь последних лет я сделал шестнадцать вещей разного жанра, и все они погибли. Такое положение невозможно, и в доме у нас полная бесперспективность и мрак».
...События вокруг его дома все более и более теряли какой-либо умопостигаемый смысл. Та их внутренняя целенаправленность, которая может гипотетически угадываться при взгляде ретроспективном (зачем, скажем, в разгар подготовки аврально ведущихся пушкинских изданий, осенью 1936 года выхватывался один из самых активно действовавших пушкинистов? — по-видимому, в «замысел» входило все большее и большее осложнение жизни остающихся на свободе, работа на износ, в оцепенении и страхе, в состоянии, постепенно близящемся к полупомешательству), тогдашним «наблюдателям», размышлявшим в соответствии с обычной логикой, искавшим причинно-следственных связей обыденного свойства, открыться не могла.
Исчезали один за другим вернувшиеся в 1923 году в Россию с надеждой на лучшее редакторы и авторы газеты «Накануне».
Еще в 1935 году был арестован живший в Ленинграде Александр Владимирович Бобрищев-Пушкин — кажется, самый старший из сменовеховцев (1875 года рождения); он был расстрелян (как было установлено впоследствии в процессе реабилитации) в 1937 году «по месту заключения»; в 1937 году были арестованы Василевский Не-Буква (на следующий год погибший в заключении), Ю. В. Ключников (также погибший на следующий год) и вернувшийся в Россию в 1935 г. и пробывший некоторое время профессором Московского университета Н. В. Устрялов. В том же году, по-видимому, был арестован и также погиб где-то в безвестности Ю. Н. Потехин. Приведем запись в дневнике Е. С. Булгаковой от 4 сентября 1937 года: «Миша — у Серг(ея) Серг(еевича) Попова (брата П. С. Попова. — М. Ч.) играет в винт. Дома тихо, читаю книгу Ю. Потехина «Люди заката», по форме — дурная книга, по содержанию — приключ(енческая) повесть». Само упоминание об этой книге (Л., «Жизнь искусства», 1925) по законам ее дневникового повествования тех лет, пожалуй, свидетельствует о том, что к этому дню Потехин еще на свободе.
5 октября: «Самосуд предлагает писать 1812 год по Толстому... Я в ужасе от всего этого. Это ужасно, что опять
609
M. A. будет писать либретто! ...Надо писать письмо наверх. Но это страшно». Из записи явствует, что писавшееся весной письмо Булгаков послать не решился — предсказать, как в этом случае обернется дело, теперь было много труднее, чем в 1930-м году; он понимал, особенно после летних событий, что напоминать о себе впрямую стало небезопасно. 23 октября. «У Миши созревает решение уйти из Большого театра. Это ужасно — работать над либретто. Выправить роман и представить». Слово «представить» заставляет думать, что роман в глазах автора должен был, в сущности, в каком-то смысле заменить письмо.
В эти дни решение определилось и оформилось. Отпадали одна за другой все смутные надежды (снова заглохло дело с «Бегом»; к середине ноября настойчиво-оптимистичный Добраницкий и сам исчез с горизонта (скупая запись в дневнике Елены Сергеевны от 11 ноября зафиксировала это событие: «Заходила днем к Троицким. Оказывается, Добраницкий арестован».); увязала в бесконечных дополнительных требованиях судьба уже написанных либретто). 5 ноября. «Пильняк арестован. Вечером у нас были Мелик, Минна (его жена. —М. Ч.) и Ермолинские». 12 ноября. «Вечером М. А. работал над романом «Мастер и Маргарита» — новое и ставшее окончательным название впервые появляется на страницах дневника Елены Сергеевны и на титульном листе тетрадки с началом новой редакции романа. Так осенью 1937 года, в один из моментов наиболее обострившихся поисков выхода из сложившейся литературно-биографической ситуации, Булгаков совершает существеннейший для своей творческой жизни выбор. Он приходит к мысли завершить работу над романом, рассматривая это как наиболее важный и решительный литературный шаг. «Кончается этот год, — записывала 31 декабря 1937 года жена Булгакова. — Горький вкус у меня от него».
В середине января 1938 г. литературно-театральную московскую публику занимали два основных события — закрытие театра Мейерхольда и первое исполнение 5-й симфонии Шостаковича. 20-го жена записала, что Булгаков, не менявший с начала 20-х годов резко неприязненного отношения к «левому» режиссеру, уверял, «что потеря театра Мейерхольда совершенно не волнует (а Станиславского потрясла бы и, возможно убила, потому что это действительно создатель своего театра), а волнует мысль, чтобы у него не отобрали партийный билет и чтобы с ним не сделали чего».
29-го должны были исполнять в Большом зале Консерватории 5-ю симфонию. «Мы собираемся идти. М. А. сказал,
610
что симфония его интересует менее всего, а интересует зал» (25 января).
30 января. «Боже, что было в Консерватории вчера! ...Мое впечатление — потрясающе! Гениальная вещь! Публика аплодировала стоя, долго вызывали автора, тот бледен, взволнован...» Запись Елены Сергеевны лишь отчасти передает степень той электризации, которой был охвачен зал, когда два года спустя после событий ранней весны 1936 г. гениальный композитор вновь появился перед публикой.
Очевидцы рассказывают, как Немирович-Данченко, выйдя из партера к оркестровой яме, стучал по дирижерскому пульту, вызывая автора, как зал бушевал и не хотел расходиться. В крайне приподнятом настроении Булгаков вместе с Вильямсом, Сергеем Ермолинским, Борисом Эрдманом вышел из Консерватории. «Не хотелось уходить после концерта домой», — записывает Елена Сергеевна. Отправились в «Метрополь», долго сидели в дальнем зале, радостные, возбужденные, полные надежд. 31 января, возможно, на волне этих надежд, Булгаков взялся за письмо Сталину с просьбой о смягчении участи Николая Эрдмана (4-го дописал, 5-го отправил). И на этой же волне, как мы предполагаем, обратился к роману.
6 февраля утром позвонил В. В. Дмитриев. «...Просила прийти немедленно, — записывала Елена Сергеевна. — Пришел подавленный. Оказывается, жену его, Е [лизавету] И [саевну], арестовали. Хочет пытаться хлопотать».
Попытки бедной женщины уйти от сетей НКВД не удались. Ее оторвали от двух маленьких дочерей-двойняшек.
Зловещая тень ложилась уже почти на окна их дома.
9 февраля. «Миша урывками, между «Мининым» и недвигающимся Соловьевым, правит роман о Воланде.
Вечером пошел к Ермолинским».
В эти дни Елена Сергеевна записывает: «Днем заходил Дмитриев. Соображает, как хлопотать о жене. Бедняк!» Еще через день дневник обнаруживает уже ее испуг перед этими частыми визитами — то ли специально для возможного постороннего глаза, то ли и впрямь передавая собственное раздражение (а скорее — и то и другое вместе), она запишет 11 февраля: «Дм[итриев] заходил перед поездом в Ленинград. В последнее время он меня раздражает, не люблю, когда разговоры переходят в болтовню о таких дрязгах». Такими словами обозначена была тема трагической участи жены Дмитриева, сводившая его с ума в эти и последующие дни.
611
1 марта. «Миша днем у Ангарского (в последние годы он несколько раз встречался со своим доброжелательным редактором первых московских лет. — М. Ч.), сговариваются почитать начало романа. Теперь, кажется, установилось у Миши название «Мастер и Маргарита». Печатание его, конечно, безнадежно. Теперь Миша по ночам правит его и гонит вперед, в марте хочет кончить».
5 марта вновь приехал из Ленинграда Дмитриев. «По-прежнему подавлен арестом жены, — записывает Елена Сергеевна, — размышляет о том, что бы сделать, чтобы узнать о ее судьбе или помочь».
5 марта. «Миша все эти дни работает над романом — все свободное время».
8 марта. «Роман». 9 марта. «Роман». Миша читал мне сцену буфетчика у Воланда». Шел процесс Ягоды. 10 марта. «Каждое утро беру газету — чудовищная личность Ягоды! <...> В 6 часов вечера выглянула в окно — видела в небе — светложелтая громадная петля (аэроплан оставляет)».
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
«Последний закатный роман». Последняя пьеса. (1938—1940).
1.
С поздней осени 1937 до весны 1938-го Булгаков уже не оставлял, как в предшествующие годы, работы над романом — напротив, ради этой работы, видимо, были оставлены — на самом начале второй части — «Записки покойника», которые так и не были дописаны впоследствии. Ежедневно занятый своими служебными обязанностями в Большом театре (не только писанием отзывов, исправлением чужих либретто, но и напряженным участием в репетициях), по-прежнему постоянно озабоченный неудачной судьбой своих собственных либретто, Булгаков систематически продвигает шестую редакцию романа дальше и дальше, главу за главой. Определилась композиция: в романе, дописывавшемся зимой и весной 1938 г., он же сам и отражался — роман о Пилате и Иешуа не сразу, не в виде единой вставной новеллы сообщался читателю, а будто дописывался на его глазах. Роман Мастера приобретал черты некоего пратекста, изначально существовавшего и лишь выведенного из тьмы забвения в светлое поле современного сознания гением художника. Самой композицией читатель принуждался поверить, что и создатель Мастера, автор «другого» романа, вместившего этот, с тою же силой провидения и верностью всех деталей постигал современную ему жизнь и ее перспективу. Само творчество представало как процесс безусловного постижения истинного облика действительности.
30 марта вечером автор читает Ермолинскому главу «На Лысой горе». Тот «говорит, что древние главы — на необыкновенной высоте, — записывает Елена Сергеевна и прибавляет: — Я тоже люблю их бесконечно». Теперь в дневнике Елены Сергеевны нередко вслед за датой одно только слово — «Роман». Работа над ним идет почти ежедневно. Вечером 7-го апреля слушать главы романа, относящиеся к Иванушке и его болезни, пришли врач Самуил Львович
613
Цейтлин (видимо, психиатр, —для него и было предназначено это чтение), А. А. Арендт, Я. Л. Леонтьев с женой, Ермолинский, Н. Эрдман (приехавший на сутки в Москву), Вильямc с женой. «Чтение произвело громадное впечатление... Исключительно заинтересовали и покорили слушателей древние главы, которые я безумно люблю. Всех поразило необычайное знание М. А. эпохи. Но как он сумел это донести! Коля Эрдман остался у нас. Замечательные разговоры о литературе ведут они с Мишей. Убила бы себя, что не знаю стенографии — все бы записала».
22 апреля. «Сегодня у нас Николай Радлов... Радлов— Мише: «Ты — конченый писатель... бывший писатель... все в прошлом...» Это — лейтмотив. Потом предложение — «почему бы тебе не писать рассказики для «Крокодила», там обновленная редакция, хочешь, я поговорю с Кольцовым?» Миша — «я тебя умоляю никогда не упоминать моего имени при Кольцове».
Так жизнь его, давно уже разветвившаяся, с этого года уверенно потекла по двум параллельным руслам, и одно из них доступно было взгляду лишь немногих.
2 мая пришел Н. С. Ангарский (он вновь был видным издательским работником) и с места заявил — «не согласитесь ли написать авантюрный советский роман? Массовый тираж, переведу на все языки, денег тьма, валюта, хотите сейчас чек дам — аванс?» Миша отказался, сказал — это не могу. После уговоров, Ангарский попросил М. А. читать его роман («Мастер и Маргарита»), М. А. прочитал 3 первых главы. Ангарский сразу сказал — «а это напечатать нельзя». — Почему? — Нельзя».
22—23 мая закончена последняя рукописная редакция романа. После редакции 1932—1936 года он был переписан с начала до конца и составлял 30 глав, заключенных в шести толстых тетрадях, готовых к перепечатке. Роман заканчивался теперь тем, что к последнему своему пристанищу Мастер и Маргарита улетали на коне: «Мастер одной рукой прижал к себе подругу и погнал шпорами коня к луне, к которой только что улетел прощенный в ночь воскресенья пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат».
26 мая, проводив утром Елену Сергеевну с Сережей в Лебедянь, куда они ехали на все лето, Булгаков начал готовить текст романа к перепечатке. К счастью, сохранились его почти ежедневные письма к жене, и мы можем сегодня представить себе, как шла работа. 27 мая он пишет ей: «Ночью — Пилат. Ах, какой трудный, путанный материал!» 30 мая. «Роман уже переписывается. Ольга работает хоро-
614
шо. Сейчас жду ее. Иду к концу 2-й главы». Это была не диктовка готового текста — сличение рукописи и машинописи показывает, как многое в тексте менялось в процессе печатания. Представить себе, как шла работа, помогают страницы «Театрального романа» («Записки покойника»), где в образе Торопецкой навеки запечатлена Ольга Сергеевна Бокшанская: «Торопецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видел. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит». Автор, «диктуя, останавливался, задумывался, потом говорил: «Нет, погодите...» — менял написанное... бормотал и говорил громко, но что бы я ни делал, из-под руки Торопецкой шла почти без подчисток идеально ровная страница пьесы, без единой грамматической ошибки — хоть сейчас отдавай в типографию».
31 мая: «Пишу 6-ую главу. Ольга работает быстро. ...Бешено устал».
1 июня: сообщает, что отменяет свою предполагавшуюся поездку на 4 дня в Ялту: «Утомительно, и не хочется бросать ни на день роман. Сегодня начинаю 8-ую главу». В ночь на 2-е: «Хотел сейчас же после окончания диктовки приняться за большое свое письмо, но нет никаких сил. Даже Ольга, при ее невиданной машинистской выносливости, сегодня слетела с катушек. ...Напечатано 132 машинных страницы. Грубо говоря, около 1/3 романа (учитываю сокращение длиннот)». 2 июня. «Мы пишем по многу часов подряд, и в голове тихий стон утомления, но это утомление правильное, не мучительное». Боится, что Немирович-Данченко отвлечет свою секретаршу — хотя бы на день. «Остановка переписки — гроб! Я потеряю связи, нить правки (еще одно доказательство того, что изменения нигде в промежуточных текстах не фиксировались, происходили непосредственно, во время диктовки. —М. Ч.), всю слаженность. Переписку надо закончить, во что бы то ни стало»; «Роман нужно окончить! Теперь! Теперь!» В ночь на 4-е: «Перепечатано 11 глав». В ночь с 8-го на 9-е: «...сейчас уже 16... Устал, нахожусь в апатии, отвращении ко всему, кроме» (далее тщательно залито черной тушью Еленой Сергеевной). 13 июня. «Диктуется 21 глава. Я погребен под этим романом. Все уже передумал, все мне ясно. Замкнулся совсем. Открыть замок я мог бы только для одного человека, но его нету!» 15 июня 1938 года, воспользовавшись однодневным перерывом в переписке, в большом письме к Е. С. Булгаковой писатель давал роману свою оценку — первое и едва ли не единственное из дошедших до нас такого рода свидетельств:
615
«Передо мною 327 машинных страниц (около 22 глав). Если буду здоров, скоро переписка закончится. Останется самое важное — корректура (авторская), большая, сложная, внимательная, возможно, с перепиской некоторых страниц.
«Что будет?» — ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего.
Свой суд над этой вещью я уже совершил, и, если мне удастся еще немного приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной в тьму ящика.
Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому не известно».
Ответ на вопрос о предполагавшемся адресате романа — и определенном, и неопределенном (т. е. обычном читателе литературного произведения) — несомненно, менявшийся в процессе работы над текстом, дан автором, быть может, наиболее отчетливо, именно в этом письме.
15 июня: «На рассвете: «завтра, то есть, тьфу, сегодня, возобновляю работу. Буду кончать главу «При свечах» и перейду к балу. Да, я очень устал и чувствую себя, правду сказать, неважно». 15-го: «Под вечер»: «Чувствую себя усталым без меры. Диктую 23-ю главу». 19-го: «Пишется 26-я глава (Низа, убийство в саду) ». В ночь на 22-е: «Чувствую себя неважно, но работаю. Диктуется 28-я глава». 22 июня утром: «Если сегодня Ольга придет пораньше, постараюсь продиктовать большой кусок, и тогда конец переписки станет совсем близок. Одно плохо во всем — это что мне нездоровится. Но ничего!»
24 июня 1938 года перепечатка романа была закончена, и конец его был теперь почти тот самый, который мы знаем сегодня по последнему тексту.
На другой день, 25 июня, Булгаков выехал в Лебедянь и взялся там за новую работу — инсценировку «Дон-Кихота», начатую еще 8 декабря 1937 г., но оставленную на 15-й странице рукописи — по-видимому, ради «Мастера и Маргариты».
2.
21 июля 1938 года Елена Сергеевна писала матери: «Миша прожил здесь почти месяц... Пока здесь был, написал пьесу, инсценировку «Дон-Кихота» (первая редакция была закон-
616
чена уже 18 июля. — М. Ч.), получилось очень хорошо. Сейчас он едет в Москву, потому что должен работать с композитором над одним либретто для Большого театра. Кроме того, он хочет окончательно выправить свой роман, который он закончил этим летом, — вещь очень оригинальную, философскую, которую он писал почти десять лет». 24 июля Булгаков пишет жене из Москвы: «Сплавив нудное дело с квартирными бумажками, почувствовал себя великолепно и работаю над Кихотом легко. Все очень удобно. Наверху не громыхают пока что, телефон молчит, разложены словари. Пью чай с чудесным вареньем, правлю Санчо, чтобы блестел. Потом пойду по самому Дон-Кихоту, а затем по всем, чтоб играли, как те стрекозы на берегу, помнишь?» 15 августа вернулась из Лебедяни Елена Сергеевна, и уже 16-го, возобновив свой дневник, записывает бегло разговор с Булгаковым П. А. Маркова. «Ось: надо бы дать что-нибудь для МХАТ. Миша говорил о том зле, которое ему устроил МХАТ». В эти дни Булгаков начал диктовать ей «Дон-Кихота» и 27 августа закончил вторую редакцию, а 8 октября — еще одну перепечатку.
23 августа. «...Встретили в Лаврушинском Катаева — Валентина. Газированная вода. Потом пошли пешком и немедленно Катаев начал разговор о Мишином положении. Смысл ясен: Миша должен написать, по мнению Катаева, небольшой рассказ, представить, вообще вернуться в лоно писательское с новой вещью — «Ссора затянулась» и так далее. Все уже слышанное, все известное, все чрезвычайно понятное! Все скучное».
4 сентября вахтанговцы дома у Булгакова слушают «Дон-Кихота». «Явно понравилось! ...И, конечно, разговор о том, что все прекрасно, но вот вместо какой-то сцены нужно поставить другую... На лицах написан вопрос — как пройдет, да под каким соусом, да как встретит это начальство и так далее».
На четырнадцатом году драматургической работы, надо думать, все это было уже и более чем привычно, и, может быть, потому же почти непереносимо.
Читать пьесу всей труппе или Худсовету театра Булгаков «категорически отказался... говорил, что не желает себя подвергать травле. Пусть рассматривают экземпляр и дают ответ». По просьбе В. В. Кузы согласился прочесть только ведущим актерам (запись 8 сентября).
9 сентября вечером — П. А. Марков и В. Я. Виленкин. «Пришли после десяти и просидели до пяти утра... Они пришли просить Мишу написать пьесу для МХАТа. — Я ни-
617
когда не пойду на это, мне это невыгодно сделать, это опасно для меня. Я знаю все вперед, что произойдет... Миша сказал им все, что он думает о МХАТе, в отношении его... Прибавил — но теперь уже все это прошлое, я забыл и простил. Но писать не буду.
Все это продолжалось не меньше двух часов. И когда около часу мы пошли ужинать, Марков был черно-мрачен. За ужином разговор как-то перешел на общемхатовские темы, тут настроение у них поднялось. Дружно возмущались Егоровым. А потом опять о пьесе. «Театр гибнет... Пьесы нет, театр показывает только старый репертуар. Он умирает, и единственное, что его может спасти и возродить, это современная замечательная пьеса». Марков это назвал — «Бег» на современную тему, т. е. в смысле значительности этой вещи, самой любимой в театре. И конечно, такую пьесу может дать только Булгаков. — Говорил долго, волнуясь, по-видимому, искренно. — Ты ведь хотел писать пьесу на тему о Сталине? — Миша ответил, что очень трудно с материалами, нужно, а где достать? Они предлагали и материалы достать через театр, и чтобы Немирович написал письмо И. В. с просьбой о материале. Миша сказал: «Это очень трудно, хотя многое мне уже мерещится из этой пьесы. Пока нет пьесы, не стоит говорить и просить не о чем». Они с трудом ушли в 5 ч. — как Виленкин сказал Ольге на следующий день — Так было интересно».
10 сентября в рукописи пьесы о Сталине, получившей сначала название «Пастырь», отмечено начало работы над ней, не получившее, однако, в тот год продолжения.
12 сентября Булгаков рассказывает жене, что «вернули в Большой театр арестованных несколько месяцев назад актеров; «будто бы привезли на Линкольне. Теперь они будто получают жалованье за 8 месяцев и путевки в дом отдыха.
А в МХАТе, говорят, арестован Степун». (Это был брат Федора Степуна, высланного осенью 1922 года, В. А. Степун, добрый знакомый Булгакова).
14 сентября Елена Сергеевна записала: «После очень долгого перерыва (эти слова в ее дневнике не случайны — при необходимости они должны были послужить оправдательным документом. — М. Ч.) позвонила Лида Р(онжина) и сказала, что Иван Ал(ександрович) и Нина Р(онжина) арестованы и что у нее на руках остался маленький Нинин Андрюша. Просила зайти». Речь шла о Троицком и жене Добраницкого, арестованного за год с лишним до этого.
В сентябре Булгаков все время занят по службе балетом «Светлана» — возвращается поздно ночью то из балетного
618
техникума, то из театра. «Усталость, безнадежность собственного положения!» (17 сентября 1938 г.).
19 сентября вечером «сел за авторскую правку июньского экземпляра «Мастера и Маргариты». И опять Большой театр, Самосуд, вечером 20-го дома — правка либретто С. Городецкого «Думы об Опанасе»... «Между всеми этими делами — постоянное возвращение к одной и той же теме — о загубленной литературной жизни. Миша обвиняет во всем самого себя (вспомним слова о «пяти роковых ошибках» в письме к П. С. Попову 1932 г. —М. Ч.), а мне это тяжело — я-то знаю, что его погубили».
23 сентября — начало работы над новым либретто — по новелле Мопассана «Мадемуазель Фифи».
27 сентября. «...Засиделись поздно. Пришли Марков и Виленкин, старались доказать, что сейчас все по-иному — плохие пьесы никого не удовлетворяют, у всех желание настоящей вещи. Надо Мише именно сейчас написать пьесу. Миша отвечал, что раз Литовский опять выплыл, опять получил место и чин — все будет по-старому, Литовский это символ. После ужина Миша прочитал им три первые главы «Мастер и Маргарита». Они слушали совершенно замечательно, особенно Марков. ...Марков очень хорошо потом говорил об этих главах, все верно понял. Он говорил — «Я все это так ясно увидел». Условились, что первого опять придут слушать продолжение». 28 сентября. «Сегодня утром Миша читал присланное ему для отзыва либретто «Ледовое побоище»... Сюжет путанный, нелепый, громоздкий. Чего-чего не приходится читать Мише и ломать над этим голову!» Почти ежедневно он возвращается домой поздно ночью — разбитый служебными занятиями, не имеющими отношения к его собственному творчеству. Силы его, видимо, уже в значительной степени подточены. 4 октября Елена Сергеевна фиксирует в дневнике и свое, и его «убийственное» настроение с самого утра; «Все это, конечно, естественно, нельзя жить, не видя результатов своей работы».
В эту осень все следят по газетам за военными событиями, разворачивающимися в Европе, думают над будущим. 9 октября. Вечером — А. М. Файко и Волькенштейн, играли до трех часов ночи в винт, потом «начались разговоры. Пошли они с того, что Л. А. (жена драматурга Файко. — М. Ч.) спросила — «Зачем вы повесили на стенах все эти статьи — «Ударим по булгаковщине», «Положить конец „Дням Турбиных" и тому подобные?» Проговорили о литературной Мишиной жизни до половины шестого... У Миши мрачное состояние». А 14 октября проводят вечер с Леонтье-
619
выми, Мелик-Пашаевым и Дунаевским и Елена Сергеевна записывала: «Ужинали весело. Миша изображал, как дирижирует Мелик, от чего все помирали со смеху, а Дунаевский играл свои вальсы и песенки». 19 октября. Разговор дома с Ф. Михальским «о том, что Миша должен написать для МХАТ пьесу. Все понятно. МХАТу во что бы то ни стало нужна пьеса о Ленине и Сталине и так как пьесы других драматургов чрезвычайно слабы — они надеются, что Миша их выручит. Грустный для нас и тяжкий разговор о «Беге», в числе прочего Миша говорил, что ему закрыт кругозор, что он никогда не увидит остального мира кроме своей страны и что это очень худо. Ф. растерянно ответил — Нет, нет, вы, конечно, поедете! — не веря, конечно, ни в одно слово, что говорит».
Шли ни к чему не ведущие телефонные переговоры с вахтанговцами о «Дон-Кихоте», об отношении Реперткома, и умудренный Булгаков говорил директору театра: «мне не нужны одобрительные отзывы о пьесе, а мне нужна бумага о том, разрешена ли эта пьеса или не разрешается» (22 октября) .
Это были дни юбилея МХАТа; «Ведь подумать только! — записывала с пылкостью Елена Сергеевна 26 октября. — В число юбилейных спектаклей не включили «Турбиных», идущих 13-й год — уже больше восьмисот раз! Ни в одной статье, посвященной юбилею, не упоминается ни фамилия, ни название этой пьесы». На юбилейный вечер в МХАТ Булгаков не пошел, как и ни на один из юбилейных спектаклей. 5 ноября В. Куза сообщил, что «Дон-Кихот» разрешен и Реперткомом, и Комитетом по делам искусств, 9-го пришла и вожделенная официальная бумага. 10-го днем автор читает пьесу вахтанговцам; много аплодируют; «После финала — еще более долгие аплодисменты. Потом Куза встал и торжественно объявил «Все!», то есть никаких обсуждений. Этот сюрприз они, очевидно, готовили для того, чтобы доставить Мише удовольствие, не заставлять его выслушивать разные, совершенно необоснованные мнения».
Он и правда устал за свою литературную жизнь выслушивать суждения о своих сочинениях.
Вернулись домой, и в половину двенадцатого ночи пришли посланцы МХАТа — Сахновский и Виленкин. «Начало речи Сахновского: «Я прислан к вам Немировичем и Боярским (Я. О. Боярский, в 1937—1939 гг. — директор МХАТ. —М. Ч.) от имени МХАТа сказать вам — придите опять к нам работать для нас... Мне приказано стелиться как дым перед вами... Мы протягиваем вам руки... Я пони-
620
маю, что не счесть всего свинства, хамства, которое вам сделал МХАТ, но ведь они не вам одному...»
Весь ноябрь — напряженная работа в Большом театре, продолжающаяся нередко до двух ночи. Иногда приезжал из Калинина Николай Эрдман, говорили до 6 утра, а днем — если день был свободный — играли до упаду на биллиарде; 20 ноября вечером в ресторане Клуба писателей подошел литератор Чичеров, возглавлявший секцию драматургов: «Почему, М. А., вы нас забыли, отошли от нас?— И в ответ на слова Миши о 36-м годе, когда все было снято, сказал — вот, вот, обо всем этом надо нам поговорить, надо собраться вчетвером — Вы, Фадеев, Катаев и я, все обсудим, надо, чтобы вы вернулись к драматургии, а не окапывались в Большом театре».
12 декабря «Советское искусство» публикует статью (за подписью «А. Кут» — псевдоним критика А. В. Кутузова) «Пьеса о Сервантесе», высоко оценивающую пьесу Э. Миндлина «Сервантес» — только что состоялась и ее читка. «В начале статьи, — записывала Елена Сергеевна, — строки о драмоделах, стряпающих сотые переделки «Дон-Кихота». 13 декабря. «Сегодня Миша позвонил к Чичерову и спросил, кто такой Кут. Тот ответил, что не знает. Просил Мишу придти на совещание по поводу пьес и репертуара. Миша ответил, что не придет и не будет ходить никуда, покуда его не перестанут так или иначе травить в газетах». Об этом эпизоде пишет в своих воспоминаниях и С. Ермолинский. «Кто такой А. Кут? Еще один псевдоним?» «Заметь, — говорил Булгаков, — меня окружают псевдонимы...»
20 декабря — нездоров. «Конечно, лежать в кровати не хочет, бродит по квартире, прибирает книги, приводит в порядок архив. За ужином — вдвоем — говорили о важном. При работе в театре (безразлично, в каком, говорит Миша, а по-моему, особенно в Большом) — невозможно работать дома— писать свои вещи. Он приходит такой вымотанный из театра — этой работой над чужими либретто, что, конечно, совершенно не в состоянии работать над своей вещью. Миша задает вопрос — что же делать? От чего отказаться? Быть может, переключиться на другую работу? Что я могу сказать? Для меня, когда он не работает, не пишет свое, жизнь теряет всякий смысл». 21 декабря. «Вечером разбор Мишиного архива. От этого у Миши тоска. Да, так работать нельзя! А что делать — не знаем». И снова — 24 декабря: «Сейчас вечером занимаемся разборкой архива. Миша сказал — «Знаешь у меня от всего этого (показав на архив) пропадает желание жить».
621
В конце года образовалось новое знакомство — соседи сверху, Сергей Михалков и его жена Наталья Кончаловская. 25 декабря Елена Сергеевна записывала: «Он — остроумен, наблюдателен, по-видимому талантлив, прекрасный рассказчик. ...Она — очень живой, горячий человек, хороший человек». 26 декабря Михалковы у Булгаковых с ответным визитом — «Засиделись поздно».
31-го с братьями Эрдманами и четой Вильямсов встретили Новый 1939-й год.
5 января. Вечером звонок Михальского — «У нас дорогие гости на Вашем спектакле» — это означало, что на «Днях Турбиных» вновь был Сталин; «Разговор о Чулкове, который умер на днях (Г. И. Чулков — автор исторических и историко-литературных работ. —М. Ч.). Миша говорит — «он был хороший человек, настоящий писатель, небольшого ранга, но писатель». Вечером — Н. Р. Эрдман; опять разговоры всю ночь, до шести утра; «Когда Н. Р. стал советовать Мише, очень дружелюбно, писать новую пьесу, не унывать и прочее, Миша сказал, что он проповедует, как „местный протоиерей". Вообще их разговоры — по своему уму и остроте, доставляют мне бесконечное удовольствие». 8 января — у М. А. «в эти дни тягостное пессимистическое настроение духа».
9 января записано, что был В. В. Дмитриев — «нездоров, говорил, что его вызывали повесткой в НКВД. Ломал голову, зачем?»
То и дело приходилось заниматься переговорами с чиновниками относительно заграничных постановок пьес Булгакова. «Ездили с Мишей поговорить с Уманским в Литагентство, — записывала Елена Сергеевна 10 января. — Как все это нелепо! Судьба — пьес своих не видеть, гонорара за них не получать, а тут еще из ВОКСа присылают письма, которые только раздражают».
14 января она — в Моссовете, в связи с обменом квартиры. Секретарь «сказал, что бумага (посланная на имя Молотова. — М. Ч.), наверное, пошла к инспектору квартирному, туда и надо обратиться.
Из роскошного особняка (подъезд № 2 Моссовета) с громадными комнатами, -коврами, тяжелыми дубовыми дверями — пошла в подъезд № 3 — грязное неуютное помещение, в комнате № 102 застала очередь, повернулась и ушла.
— Нет, так квартиру не получить!»
Ежедневно она, несомненно, говорила мужу о том, что нужны иные, действенные средства.
20 января Елена Сергеевна, проводив Булгакова в Клуб
622
писателей на выборное собрание, «сама пошла на хоры и оттуда смотрела на собрание. Ужасно не понравилось — галдеж, склока идет все время, вообще литературой, по-моему, не дышит место».
В ее дневнике запечатлелась одна таинственная история этих дней. 21 января она отвозит рукопись «Дон-Кихота» в «Литературную газету» к Евгению Петрову — он надеялся напечатать фрагмент пьесы в газете и обещал отдать рукопись для чтения Ольге Войтинской (тогдашнему редактору газеты). 27 января Елена Сергеевна записала, что звонила Войтинская — ей пьеса понравилась, «условились, что Миша приедет в редакцию в 10 ч. вечера (в те годы на это время приходился самый разгар работы московских учреждений — в соответствии с режимом дня Сталина. — М. Ч.), чтобы поговорить, какой фрагмент печатать». 28 января Елена Сергеевна записывает: «Вот так история! Поехали ровно к 10-ти часам, в редакции сидит в передней швейцар, почему-то босой, вышла какая-то барышня с растерянным лицом и сказала, что «Войтинской уже нет в редакции... Она не будет сегодня больше... Она вчера заболела...», а лучше всего обратиться к ответственному секретарю... Обратились, тот сказал, что он готов от имени Войтинской принести свои извинения, что причина ее отсутствия такова, что приходится ее извинить — и мы так и не поняли, что с ней, собственно, случилось».
29 января Елена Сергеевна записывает, как, будучи в МХАТе, сказала Ф. Михальскому и О. С. Бокшанской, «что дом наш наверно будут сносить. На Федю это произвело большое впечатление и даже на Ольгу». И тут же Михальский спросил ее, «не пишет ли Миша пьесу современную? (вопрос заключал в себе прямую ассоциацию с ее словами — и все трое понимали это. — М. Ч.). Я сказала, что есть замысел о Сталине, но не хватает материала. Он тут же стал подавать советы, как достать материал.
Петров Евгений Петрович по телефону сказал: — У Войтинской, видите ли, force-majeur *, — какой это форс-мажор?!
Ничего не понимаем, но отрывок, кажется, они будут печатать».
Обстоятельства были действительно чрезвычайными.
Попробуем сначала представить себе, что же именно могли предполагать Булгаковы. Арест? Нет, в этом случае не могло быть и речи, чтобы ответственный секретарь изъяв-
* Чрезвычайное обстоятельство (фр.).
623
лял свою готовность принести извинения от ее имени — имя ее должно было бы с того момента по регламенту этих лет исчезнуть из обихода.
Однако неудобосказуемость обстоятельств, странное почтение, с которым о них говорилось в газете, и некоторая доза юмора в реплике Е. Петрова могла указывать им, искушенным (как и все, кто в те годы так или иначе соприкасался с «верхней» сферой) в тонкостях околокремлевского этикета не хуже, чем придворные французских королей в этикете двора, на то, что в событии так или иначе участвует имя Сталина.
Разгадка форс-мажора, несомненно, вскоре же облетела всю литературную Москву.
Оказалось, что Войтинской в редакцию неожиданно (как и во всех подобных случаях) позвонил Сталин. Как только его абонентка поняла, кто именно с ней говорит, она в ту же секунду лишилась дара речи — не в фигуральном, но в буквальном смысле этого выражения.
Так и не сумев вымолвить ни единого слова, она пребывала в этом параличе еще неделю или две *.
Так сограждане Булгакова разыгрывали в жизни — и самым непреднамеренным образом — те ситуации, которые он придумывал в своих гротескных рассказах о мнимых встречах со Сталиным.
Легко понять, что этот реальный анекдот подробно обсуждался в доме Булгакова: хотя впечатления от собственного разговора со Сталиным в 1930 году, сотни раз заново пережитые и переосмысленные, потеряли, надо думать, к этому времени свою остроту, всякое известие о сходной ситуации, несомненно, оживляло его внимание и воображение. К тому же теперь фигура Сталина разместилась уже, можно сказать, непосредственно на его письменном столе.
16 января. «...Вечером Миша взялся после долгого перерыва за пьесу о Сталине. ...Только что прочла первую (по пьесе — вторую) картину. Понравилось ужасно! Все персонажи — живые!»
Далее записи в дневнике Елены Сергеевны о работе над этой пьесой будут неизменно ликующие. Сбывалась ее мечта; зарождались надежды.
18 января. «И вчера и сегодня вечерами Миша пишет пьесу, выдумывает при этом и для будущих картин положения, образы, изучает материал. Бог даст, удача будет!»
* Об этом нам рассказал 16 января 1977 г. Л. И. Славин; позднее это же подтвердил В. А. Каверин.
624
19 января позвонил Илья Судаков: «Я не могу успокоиться с «Бегом», хочу непременно добиться постановки, говорил уже в Комитете...» Он интересовался также «Дон-Кихотом» и, как записала Елена Сергеевна, «вообще всей продукцией Михаила Афанасьевича», а через несколько дней Юдкевич из Ленинградского театра им. Пушкина просил любую пьесу... Булгаков ответил, по записи Елены Сергеевны 24 января, что «завален работой — пусть напишут в марте — если будет готова пьеса, над которой сейчас работает...»
24 января позвонил Р. Симонов и сказал, «что начинает работать «Дон-Кихота», что новому директору (Ванееву выперли) пьеса страшно понравилась, что ставить будет ее Симонов... Кроме того, сказал: «А вот „Турбины" — какая хорошая пьеса! Очень ее Анастас Иванович хвалил! Настоящая пьеса! (Речь шла о Микояне).
Работа над «Батумом», протекавшая, казалось бы, в тиши его кабинета, уже электризовала самый воздух вокруг него.
Прокомментируем решение, принятое Булгаковым, отрывками из воспоминаний С. Ермолинского: «В тридцатых годах, когда в репертуарных планах почти всех театров страны стали появляться пьесы о событиях, касающихся исторической роли Сталина или о нем самом, обойти эту тему Художественному театру, который почитался эталоном для всей нашей театральной жизни, конечно, было нельзя. Руководители МХАТ поняли, что именно он, Булгаков, может выручить, как никто другой, потому что не сделает казенной и фальшивой пьесы. ...Сидели у него дома и разговаривали до рассвета. Говорили о том, что постановка такой пьесы будет означать полный переворот в его делах. Мхатовцы затронули его самые чувствительные струны; разве мог он не мечтать о воскрешении своих произведений...
Втайне он уже давно думал о человеке, с именем которого было неотрывно связано все, что происходило в стране...
Он избрал для пьесы романтический рассказ о молодом революционере, о его мятежной юности. В воображении рождался образ героя прямодушной стремительности и упорства. Дерзкого юношу изгоняют из тифлисской семинарии, и он сразу погружается в революционную работу, возглавляет знаменитую стачку в Батуме (в 1902 году). Стачка разгромлена, и его ссылают в Туруханский край».
В. Я. Виленкин напишет впоследствии: «Когда в первый раз мы заговорили с ним о теме пьесы, он ответил: — Нет,
625
это рискованно для меня. Это плохо кончится. — И тем не менее начал работать».
1 февраля — отказано в обмене их квартиры на четырехкомнатную (Булгаков посылал письмо Молотову, просьба пошла по обычным каналам и завершилась отказом). В тот же день — в газетах сообщение о награждении орденами очень большой группы писателей, на другой день — киноработников; Елена Сергеевна фиксирует эти события в дневнике бесстрастно.
16 февраля Булгаков — в Большом театре, на «Лебедином озере» с Галиной Улановой. Какие-то женщины обращаются к нему, записывала Елена Сергеевна, со словами: «Вы — первый!» Что означает эта чертовщина? Оказалось — дамы хотели утешить Мишу по поводу того, что ему не дали ордена. Господи, господи! Зачем Мише орден? Почему?» Событие волновало, раздражало, потому хотя бы что на долгие месяцы осталось темой дня, предметом обсуждения в литературной и около литературной среде. В дневнике И. Н. Розанова — запись рассказа жены H. H. Асеева (когда в мае того же года они оказались вместе в доме писателей в Ялте): «Оксана рассказывала про то, как проходило назначение орденоносцев. О Лебедеве-Кумаче Сталин спросил, это который «куплеты пишет» (так наскоро, для себя записано автором дневника. — М. Ч.)
Утк(ин). За него был Молотов. Уткина забраковали. Он плакал, узнав об этом.
Об Асееве Сталин сказал: — Что вы его обижаете! — У него были некоторые уклоны, — сказал будто бы Фадеев. — А у кого их не было? Но ведь он наш...»
9 февраля H. H. Лямин пишет Булгакову: «Из дальних странствий воротясь, я нашел тихий приют в г. Калуге».
В конце февраля и начале марта вновь обращается к роману «Мастер и Маргарита», работает над ним.
4 апреля 1939 года Елена Сергеевна записывала, что накануне вечером «Миша был в Большом, где в первый раз ставили «Сусанина» с новым эпилогом (эпилог переделывался по замечаниям Сталина и в новом виде являл собой картину необходимого морально-политического единства всех слоев народа. — М. Ч.). Пришел после спектакля и рассказал нам, что перед эпилогом правительство перешло из обычной правительственной ложи в среднюю большую (бывшую царскую) и оттуда уже досматривало оперу. Публика, как только увидела, начала аплодировать, и аплодисмент продолжался во все время музыкального антракта перед эпилогом. Потом с поднятием занавеса, а главное, к
626
концу, к моменту появления Минина и Пожарского — верхами. Это все усиливалось и, наконец, превратилось в грандиозные овации, причем правительство аплодировало сцене, сцена — по адресу правительства, а публика — и туда, и сюда.
Сегодня я была днем в Дирекции Большого, а потом в одной из мастерских и мне рассказывали, что было что-то необыкновенное в смысле подъема, что какая-то старушка, увидев Сталина, стала креститься и приговаривать: «Вот увидела все-таки!», что люди вставали ногами на кресла.
Говорят, что после спектакля Леонтьев и Самосуд были вызваны в ложу, и Сталин просил передать всему коллективу театра, работавшему над спектаклем, его благодарность, сказал, что этот спектакль войдет в историю театра.
Сегодня в Большом был митинг по этому поводу».
8 апреля Булгаков пишет В. В. Кузе: «Положение с „Дон-Кихотом" серьезно начинает беспокоить меня, и я прошу Вас написать мне, что будет у вас с этой пьесой. Когда она пойдет? и пойдет ли она вообще?» Разрешенная, всеми одобренная пьеса не двигалась с места.
26 апреля и 1 мая читает роман «Мастер и Маргарита» (с начала) чете Файко, П. А. Маркову, В. Я. Виленкину, чете Вильямс, пришедшим на второе чтение, о котором Елена Сергеевна записывала: «Было очень хорошо. Аудитория замечательная, М. А. читал очень хорошо. Интерес колоссальный к роману. Миша за ужином говорил: „Вот скоро сдам, пойдет в печать". Все стыдливо хихикали». 14 мая. «...Чтение — окончание романа. ...Последние главы слушали, почему-то закоченев. Все их испугало — Паша (Марков. — М. Ч.) потом в коридоре меня испуганно уверял, что ни в в коем случае подавать нельзя — ужасные последствия могут быть».
В опубликованных недавно воспоминаниях В. Я. Виленкина — детали тогдашних впечатлений слушателя: «Иногда напряжение становилось чрезмерным, его трудно было выдержать. Помню, что когда он кончил читать, мы долго молчали, чувствуя себя словно разбитыми. И далеко не сразу дошел до меня философский и нравственный смысл этого поразительного произведения... Последнее чтение длилось до утра. За столом, на котором был наспех накрыт не то ужин, не то завтрак, я сидел рядом с Михаилом Афанасьевичем, и вдруг он ко мне наклоняется и спрашивает: «Ну, как по-вашему, это-то уж напечатают?» И на мое довольно растерянное: «По-моему, нет» —» совершенно неожиданная бурная реакция, уже громко: «Но почему же!»
627
Об этом рассказывала нам в 1968—1969 гг. и Елена Сергеевна: после чтения, разливая гостям водку из графинчика, автор говорил — не тихо, а именно громко, на весь стол: «Ну, вот, скоро буду печатать!» И оглядывал весело смущенных гостей.
С. Ермолинский в своих воспоминаниях написал, что некоторые из слушателей потом говорили ему «шепотком: „Конечно, это необыкновенно талантливо. И, видимо, колоссальный труд. Но посудите сами, зачем он это пишет? На что рассчитывает? И ведь это же может... навлечь!.. Как бы поосторожнее ему сказать, чтобы он понял. Не тратил силы и времени так расточительно и заведомо зря..." Тогда говорили испуганно, сокрушаясь, что «заведомо зря», а теперь слышу восторженные воспоминания о незабываемом чтении поразительного романа».
3.
То, что работа над романом растянулась на долгие годы, имело последствия не только для самого текста (в последней редакции можно различить, как пласты позднейшей трансформации замысла наползают, наплывают на предшествующие), но и для читательского восприятия. Почти не осталось детализированных свидетельств о реакции слушателей на чтения первых редакций, происходившие, видимо, в 1928—1929 гг. (мы рассказывали о них в третьей главе), но никто из тогдашних слушателей, беседовавших с нами, не говорил о какой-либо непонятности, загадочности героя первой сцены — Воланда. Введение евангельского сюжета хоть и было неожиданным, но вряд ли ошеломляющим — напротив, вызвало профессиональный разговор об источниках, которыми пользовался автор.
Десятилетие спустя реакция была иной. Первые главы романа предстали перед слушателями как нечто нуждающееся в разгадывании. Непосредственности восприятия не было — было огромное напряжение, желание понять, «что бы это значило». Автор, несомненно, чувствовал это напряжение — и шел ему навстречу. Об этом свидетельствует Елена Сергеевна, записавшая на другой день после первого чтения: «Миша спросил после чтения: а кто такой Воланд? Виленкин сказал, что догадался, но ни за что не скажет».
Цитируя эту запись, В. Я. Виленкин снабжает ее дополнением: «Отвечать прямо никто не решался, это казалось рискованным». Поэтому слушатели пишут разгадку на бумажках, обмениваются этими бумажками и Виленкин вспо-
628
минает далее: «Михаил Афанасьевич, не утерпев, подошел ко мне сзади, пока я выводил своего „Сатану" и, заглянув в записку, погладил по голове».
Так, с одной стороны, повторялось описанное в романе неузнавание Воланда всеми кроме Мастера и Маргариты. Мало того — будто предвидя реакцию первых слушателей романа, его автор еще поздней осенью 1934 г., описывая встречу Ивана с Мастером, повествовал, как тот признался Ивану, что пробовал читать свой роман «кой-кому, но его и половины не понимают».
С другой же стороны, очевидно, что автор замечал своеобразную дефектность восприятия романа слушателями-современниками: именно из-за этого неузнавания они были чрезмерно сосредоточены на разгадывании Воланда, испуганы неизбежными ассоциациями, к которым вело их всемогущество героя в наказании одних и поощрении других. Кроме того, все или почти все слушатели, как можно видеть по всем уцелевшим свидетельствам, испытывали род недоумения по поводу непохожести романа на текущую литературную продукцию.
Булгаков стремился вернуть слушателей к утраченной ими непосредственности восприятия как предварительному условию его полноты. Он хотел повернуть внимание слушателей (читателей как таковых не было — ибо читать роман Булгаков, кажется, в это время не давал никому) вглубь романа. Приведем слова Булгакова, запомнившиеся Ермолинскому: «...У Воланда никаких прототипов нет. Очень прошу тебя, имей это в виду».
Трудности, испытываемые аудиторией, были связаны еще и с тем, что в поздних редакциях автор освободил фигуру Воланда от прямых ассоциаций с дьяволом (хромота, копыта — вспомним первые названия романа: «Копыто инженера», «Консультант с копытом») — и при этом рассчитывал на отождествление.
Примерно двумя годами раньше Булгаков, как рассказывала нам Елена Сергеевна, читал роман (или часть его) И. Ильфу и Е. Петрову. И едва ли не первой их репликой после чтения была такая: «Уберите «древние» главы — и мы беремся напечатать». Реакцию Булгакова Елена Сергеевна передавала своим излюбленным выражением: «Он побледнел».
Он был поражен именно неадекватностью реакции на услышанный текст тех людей, которых он числил среди слушателей квалифицированных. Их добрая воля была вне сомнения, но это-то и усугубляло, надо думать, состояние
629
автора: соображения слушателей о возможностях и условиях напечатания романа на его глазах не только опережали бескорыстное читательское впечатление (которого он, несомненно, ожидал), но и в значительной мере разбивали его. Роман при первых же чтениях оказывался непонятым. Реакция автора была насмешливой, с тщательно скрываемой саркастичностью («это-то уж напечатают?»).
Прагматическая деловитость одних слушателей или растерянность (не менее прагматическая по происхождению) других говорили об одном — о какой-то нарушенности связей завершаемого или уже завершенного романа с современной читательской аудиторией. Характерно это чувство почти физической разбитости, зафиксированное В. Я. Виленкиным: и здесь, как и в случае с Ильфом и Петровым, эстетическую реакцию подавляла, деформировала какая-то другая, преодолеть которую слушатели были не в состоянии.
И тем не менее роман пленял, будоражил, не давал покоя тем, кто его услышал. Именно в день последнего чтения был напечатан на машинке, по свидетельству Елены Сергеевны (и по авторской датировке), эпилог романа. Елена Сергеевна подчеркивала внезапность для нее этого решения автора: «Мне так нравились последние слова романа! Я не понимала, зачем что-то добавлять после них».
С лета 1938 года, когда роман был целиком напечатан на машинке, внимание Булгакова должны были привлечь разнообразные должностные перемещения, которые казались значимыми: 20 июля Берия стал заместителем Ежова, а 8 декабря сменил его на посту наркома; «в середине февраля 1939 г. Ежов бесследно исчез» (Р. Конквест. Большой террор. 1974. С. 858). Вкус к разгадыванию, который весьма был свойствен Булгакову, ощутим в эпилоге, писавшемся весной 1939 года, ощутимы в нем и следы психологической усталости и от самих событий, и от постоянных гаданий.
Словесная ткань эпилога иная, чем в романе: автор предлагает одно объяснение за другим всему происходившему, сам, однако, дистанцировавшись от этих объяснений, ни одно из них не признав достоверным и передоверив всю область предположений и выводов «наиболее развитым и культурным людям», которые в «рассказах о нечистой силе никакого участия не принимали и даже смеялись над ними и пытались рассказчиков образумить». Автор, поставив точку в финале романа, далее устранялся от событий, в нем изложенных, как и от объяснений каким-либо прототипическим реалиям. «Сделанное сделано» — лейтмотив эпилога.
Эпилог романа — это место действия, покинутое не
630
только Воландом и его свитой и не только Мастером. В нем утрачена и параллельность тех двух временных планов человеческой жизни, связь между которыми осуществлялась творческой волей Мастера. И здесь особое значение приобретала та роль, которая была уготована в эпилоге Ивану Николаевичу Поныреву — тому, кто в романе был Иваном Бездомным.
Посвященная ему часть эпилога недаром начиналась возвращением на площадку первой сцены романа (скамейка на Патриарших прудах) единственного из трех участников этой сцены, еще остающегося в романном пространстве. Но теперь описание начинается не словами «Однажды»,.. а — «Каждый год...»: «Каждый год, лишь только наступает весеннее праздничное полнолуние, под вечер появляется под липами на Патриарших прудах человек лет тридцати или тридцати с лишним. Рыжеватый, зеленоглазый, скромно одетый человек. Это — сотрудник Института истории и философии, профессор Иван Николаевич Понырев.
Придя под липы, он всегда садится на ту самую скамейку, на которой сидел в тот вечер, когда давно позабытый всеми Берлиоз (эти слова — «давно позабытый» — могли явиться, как кажется, только к весне 1939 г., но не летом 1938 г., в момент завершения основного текста романа) в последний раз в своей жизни видел разваливающуюся на куски луну». Кончились события — и чудесные и ужасные. Время остановилось, и Иван Николаевич Понырев в одном и том; же возрасте приходит год за годом к скамейке на Патриарших прудах. Теперь, когда за пределы романа выведена та сила, которая порождала и формировала роман о Пилате и само земное существование которой придавало происходящему черты события, драмы, истории, протяженности, — перед нами сила, способная лишь вновь и вновь вызывать в памяти однажды виденное, проигрывать однажды уже совершившееся. Ежегодно повторяется с Иваном Поныревым одно и то же. Вместо постижения реальности (путем угадывания или видения) и воплощения — бесконечное воспроизведение одних и тех же картин.
Перед нами — дурная бесконечность, движение по кругу. «Так, стало быть, этим и кончилось? — Этим и кончилось, мой ученик...» «Продолжения», которое советует Мастер написать Ивану, написать невозможно, поскольку «все кончилось, и все кончается...» — эти последние слова Маргариты говорят о завершении какого-то цикла движения исторического времени, какого-то периода, в пределы которого уложилась и вся творческая жизнь автора романа,
631
С уходом Мастера утрачивается целостность его романа; никто не может не только продолжить его, но даже связно воспроизвести; в сознании Ивана Николаевича, как бы ни стремился он к творческому усилию, — лишь обрывки видений, навсегда утративших связную форму. Мастер уходит из романа вместе со своим словом о мире, другого же слова, ему наследующего, в эпилоге не слышно. Без этого героя никто не может ни собрать воедино куски романа его и романа о нем — распавшегося в сознании слышавших (или видевших — как Николай Иванович, бывший на шабаше боровом), ни продолжить его, ни сказать вовсе новое слово. Роман Мастера о Иешуа и Пилате описывал — в качестве метаромана — современную Мастеру жизнь, служил ключом к ней; сама же эта жизнь не может описать ни себя самое, ни историю.
Одновременно с эпилогом была продиктована та страница романа, где появлялся Левий Матвей с окончательным решением судьбы Мастера: «Он не заслужил света, он заслужил покой» (восходящим, как мы уже упоминали, в немалой степени к «Божественной комедии» Данте). Эти слова иначе осветили и уже написанные прежде последние страницы романа, прощание Мастера с городом. «Его волнение перешло, как ему показалось, в чувство глубокой и кровной обиды. Но та была нестойкой, пропала и почему-то сменилась горделивым равнодушием, а оно — предчувствием постоянного покоя».
Роман, «к сожалению, не окончен», говорит Воланд Мастеру, показывая на Пилата. Роман не окончен, пока не развязано все, что связано с мотивом вины, прошедшим через все творчество писателя и глубоко трансформированным в течение последнего десятилетия его жизни; не окончена многолетняя духовная работа, пока не развязан этот узел, страшно скрутивший не одного лишь героя последнего романа писателя. Отпуская на свободу Пилата, этим жестом милосердия Мастер просит отпущения и себе, и всем тем, кто нуждается в прощении и успокоении. Искупление — только в самой длительности мучений и более ни в чем, и развязка в одном — в прощении. «Казнь — была»; исколотая память мучает сильнее, чем что-либо, и ищет забвения. Пилат увидит Иешуа и будет говорить с ним, а Мастер — нет, потому что никто не может сам дать себе полного искупления. И если обратиться вновь от текста романа к контексту биографии, то весной 1939 года автор романа, быть может, особенно ясно сознавал роковую необратимость и прежних, и нынешних жизненных поступков, за-
632
ключенность человека в кольцо собственной биографии.
Не зная в точности высшего решения, Мастер слепо идет туда, куда направляет его Воланд. Но знай он его — не стал бы оспоривать. Романтический Мастер тоже в плаще с кровавым подбоем, но подбой этот остается невидим никому, кроме автора.
15 мая. «Звонил и заходил Файко — говорил, что роман пленителен и тревожен». 16 мая Булгаков надписал жене фотографию, где он глядит в невидимую зрителю даль, и лицо его нахмурено, жестковато и, пожалуй, мужественно-безнадежно: «Вот как может выглядеть человек, возившийся несколько лет с Алоизием Могарычем, Никанором Ивановичем и прочими. В надежде, что ты прояснишь это лицо, дарю тебе, Елена, карточку, целую и обнимаю».
18 мая. «Миша задумал пьесу (Ричард Первый). Рассказал — удивительно интересно, чисто „булгаковская пьеса" задумана». Если речь шла о замысле той пьесы, которая потом обдумывалась под названием «Ласточкино гнездо» и где должны были действовать литератор, покровительствующий ему вельможа и стоящий над ними всеми человек в сапогах и с трубкой, то имя «Ричард» могло быть связано с именем одного из яростных гонителей булгаковских пьес, исчезнувшего с поля литературной жизни в 1936 г. — Ричарда Пикеля, а также с именем «Генрих», то есть, с Ягодой.
20 мая. «...Заходил Дмитриев с известием о Вете. По-видимому, ее уже нет в живых. В городе слух, что арестован Бабель».
21 мая. День именин Елены Сергеевны, в квартире много роз от друзей. «Часов около 8 вечера стало темнеть, в 8 — первые удары грома, молния. Началась гроза. Была очень короткая. А потом было необыкновенно освещенное — красное небо.
Миша сидит сейчас (10 ч. вечера) над пьесой о Сталине».
22 мая. «Миша пишет пьесу о Сталине». В этот день он получает отказ на просьбу выписать пишущую машинку из-за границы. «Это не жизнь! Это мука! — в раздражении записывала Елена Сергеевна. — Что ни начнем, все не выходит! Будь то пьеса, квартира, машинка, все равно!» 27-го Булгаков идет вместе с женой хлопотать по этому делу: «Я ведь не бриллианты из-за границы выписываю. Для меня машинка — необходимость, орудие производства».
4 июня. У Булгакова В. Я. Виленкин с настойчивым предложением от МХАТа заключать договор на пьесу о Сталине. «Миша рассказал и частично прочитал написанные картины. Никогда не забуду, как В., закоченев, слушал, ста-
633
раясь разобраться в этом». (Виленкин, цитируя эту запись в своих воспоминаниях, приводит и запись из своего дневника: «Вчера был у Булгакова. Пьеса почти написана. Впечатления: «ах!» не было ни разу, может быть, потому, что М. А. читал не узловые сцены ...Но все — хорошо написано, тонко, без нажимов. Есть роли, не говоря уже о центральной, интереснейшей (Хмелев?). Просидел у них до трех часов ночи»). 6 июня. «...был приятный вечер, были Файко, Петя и Ануся (Вильямсы. — М. Ч.), Миша прочел им черновик пролога из пьесы о Сталине (исключение из семинарии). Им чрезвычайно понравилось, это было искренно. Понравилось за то, что оригинально, за то, что непохоже на все пьесы, которые пишутся на эти темы, за то, что замечательная роль героя». Елена Сергеевна с особенной тщательностью коллекционирует хорошие отзывы об этой пьесе.
9 июня Булгаков пришел в МХАТ договариваться об условиях, на которых он отдаст пишущуюся пьесу в театр, покинутый им три года назад.
Встречен он был очень радушно, ему обещали «к ноябрю — декабрю устроить квартиру и по возможности — 4 комнаты...» Спрашивали, «какого актера он видит для Сталина и вообще для других ролей. Когда мы только что пришли в МХАТ — надвигалась гроза...» По возвращении — «Миша сидит, пишет пьесу. Сейчас еще одну сцену прочла— новую. Выйдет!» 14 июня. «Миша над пьесой. Написал начало сцены у губернатора в кабинете. Какая роль!.. Душно. Хотя днем лил дождь — никакого облегчения не принес».
Писал он, опираясь на два-три только что вышедших издания — никаких архивных материалов, о которых он думал, замышляя пьесу, предоставлено ему не было.
2 июля Хмелеву и еще нескольким слушателям Булгаков читает несколько картин. «Потом ужин с долгим сидением после. Разговоры о пьесе, о МХАТ, о системе (Станиславского. — М. Ч.). Разошлись, когда совсем уже солнце вставало». Память Елены Сергеевны сохранила рассказ Хмелева, чрезвычайно увлеченного мыслью о новой роли: «Сталин раз сказал ему: „Вы хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши бритые усики. Забыть не могу"».
9 июля. «Сегодня урожай звонков: 3 раза Калишьян (зам. директора МХАТ. — М. Ч.). Просит Мишу прочитать пьесу в Комитете 11-го ... Хмелев — о том, что пьеса замечательна, что он ее помнит чуть не наизусть, что если ему не дадут роли Сталина — для него трагедия». 11-го Булгаков читает пьесу руководству Комитета по делам ис-
634
кусств. «Слушали с напряженным вниманием. Пьеса очень понравилась»; «Во время читки пьесы. — сильнейшая гроза».
14 июля Булгаков писал Виленкину, уехавшему отдыхать: результаты этого чтения «могу признать, по-видимому, не рискуя ошибиться, благоприятными (вполне). После чтения Григорий Михайлович (Калишьян. — М. Ч.) просил меня ускорить работу по правке и переписке настолько, чтобы сдать пьесу МХАТу непременно к 1-му августа. А сегодня (у нас было свидание) он просил перенести срок сдачи на 25 июля. У меня остается 10 дней очень усиленной работы. Надеюсь, что при полном напряжении сил, 25-го вручу ему пьесу. ...Я устал. Изредка езжу в Серебряный бор, купаюсь и сейчас же возвращаюсь. А как будет с настоящим отдыхом — ничего не знаем еще. ... Устав, отодвигаю тетрадь, думаю — какова будет участь пьесы. Погадайте. На нее положено много труда».
«Настоящего отдыха» ему уже не было суждено.
Как осторожен, неуверен, суеверен тон его письма!
17 июля. «Спешная переписка пьесы. ... Слух о том, что зверски зарезана Зинаида Райх». 20 июля. «Диктовка продолжается беспрерывно. Пьеса чистится, сжимается, украшается».
21 июля. «Миша диктует». 22 июля. «Сегодня Миша продиктовал девятую картину — у Николая (Николая II. — М. Ч.) — начерно ... решил назвать пьесу «Батум». 23 июля. «Перебелил 9-ю картину. Очень удачно. Потом поехал с Калишьяном в Пестово (загородный дом отдыха МХАТа — М. Ч.). Мхатчики приклеились к Мише, ходили за ним как тени». Жене его эта перемена страшно импонировала.
Действительно, В. Я. Виленкин вспоминает, как Качалов «был заинтересован предназначавшейся ему характерной ролью кутаисского губернатора», а «В. О. Топоркова заранее привлекала сцена у Николая II, принимающего всеподданнейший доклад о грозных кавказских событиях в Ливадийском дворце, стоя в красной шелковой рубахе подле клетки с дрессированной канарейкой, которую он самозабвенно обучает «петь гимн „Боже, царя храни"».
...Участникам этой ситуации мерещилось, видимо, что время повернулось вспять, что Булгаков вновь — любимый автор театра, принесший, как тринадцать лет назад, пьесу, сулящую успех, успех.
В наибольшем самозабвении находится жена автора. 24 июля. «Пьеса закончена! Это была проделана Мишей совершенно невероятная работа — за 10 дней он написал 9-ю картину и вычистил, отредактировал всю пьесу... Прямо
635
непонятно, как сил хватило у него. Вечером приехал Калишьян и Миша передал ему три готовых экземпляра».
26 июля. «Звонил Калишьян, сказал, что он прочитал пьесу в ее теперешнем виде, и она очень ему понравилась. Напомнил о читке 27-го». Автор должен был читать пьесу на открытом заседании Свердловского райкома, происходившем в МХАТе.
27 июля. «В 4 часа гроза. Калишьян прислал машину за нами. В театре в новом репетиционном помещении — райком, театральные партийцы и несколько актеров... Слушали замечательно, после чтения очень долго, стоя, аплодировали. Потом высказывания. Все очень хорошо. Калишьян в последней речи сказал, что театр должен ее поставить к 21 декабря» (т. е. к 60-летию героя пьесы).
10 декабря 1969 г., тридцать лет спустя, Елена Сергеевна рассказывала нам: «Когда подъехали к театру — висела афиша о читке «Батума», написанная акварелью, — вся в дождевых потеках.
— Отдайте ее мне! — сказал Миша Калишьяну.
— Да что Вы, зачем она Вам? Знаете, какие у Вас будут афиши? Совсем другие!
— Других я не увижу». (Афиша с потеками сохранилась в архиве писателя).
28 июля Булгаков пишет шуточную записку Ф. Н. Михальскому от лица Елены Сергеевны: «...Миша просил меня заранее сделать распределение знакомых на премьеру «Батума». Посылаю Вам первый список (художники и драматурги, композиторы). Будьте добры, Фединька, сделайте так:
Эрдман Б. Р. — ложа дирекции
Вильямс П. В. — 1-й ряд (левое)
Шебалин В. Я. — 3-й ряд.
Эрдман Н. Р. — 7-й ряд.
Дмитриев — бельэтаж, постоять. Фединька! Если придет Олеша, будет проситься, сделайте мне удовольствие, скажите милиционеру, что он барышник. Я хочу насладиться! Федя милый! Целую. Ваша. Люся». 1 августа. Калишьян сообщает, что Комитету по делам искусств пьеса в последней редакции «очень понравилась и что они послали ее наверх». 5 августа. «Позвонил и пришел Николай, а с ним Борис Эрдман. У Николая — удручающее известие — отказано в возможности жить в Москве. Звонил Виленкин — очень мил».
7 августа. Калишьян рассказывает по телефону, что только что приехавшему из Европы Немировичу-Данченко (еще 10 июля писавшему О. С. Бокшанской: «Давно я не
636
ждал ничего с таким интересом, как пьесы Булгакова...») «пьеса понравилась, что он звонил в Секретариат, по-видимому, Сталина — узнать о пьесе, ему ответили, что пьеса еще не возвращалась».
Тот, кому Булгаков в последние годы не решился направить письмо, кого представлял он себе в какие-то моменты читателем своего романа, читал в эти дни пьесу, написанную Булгаковым о нем самом.
Тут узнают от Ольги, что театр посылает в Тифлис-Батум бригаду, в которую включен и Булгаков. 8 августа. Утром «Миша сказал, что пораздумав во время бессонной ночи, пришел к выводу — ехать сейчас в Батум не надо». 9-го августа. Он у Немировича-Данченко — разговор о том, как ставить пьесу (после которого режиссер говорит Бок-шанс кой — «лучше всего эту пьесу мог бы поставить Булгаков») . Сомнения, гложущие Булгакова, остаются, видимо, на этот раз чуждыми его жене, всегда столь чуткой к его настроению. 11 августа она пишет матери: «У меня чудесное состояние, и душевное, и физическое. Наверно, это в связи с работой Мишиной. Жизнь у нас заполненная, интересная, чудесная!» Никогда, кажется, ее письма к матери, всегда жизнерадостные и рисующие картину более благополучную, чем реальная, не выражали такого подъема чувств и веры в неминуемость успеха. Еще выразительнее ее письмо этого же дня к сестре: «У меня дрожь нетерпения, ехать хочу безумно, все готово к отъезду и приходится ждать 14-го, а может быть и дольше». 13 августа. «Укладывались. Звонки по телефону... «Советское искусство» просит М. А. дать информацию о своей новой пьесе. — «...наша газета так следит за всеми новинками... Комитет так хвалит пьесу...». Я сказала, что М. А. никакой информации дать не может, пьеса еще не разрешена. — Знаете что, пусть он напишет и даст мне. Будет лежать у меня этот листок. Если разрешение будет — я напечатаю. Если нет — возвращу вам.
Я говорю — это что-то похоже, как писать некролог на тяжко заболевшего человека, но живого.
— Что вы?! Совсем наоборот...
— Неужели едем завтра!!
Не верю счастью». 14 августа. «Последняя укладка. В 11 часов машина. И тогда — вагон!»
В. В. Виленкин, которому предстояло выехать вместе с Булгаковым и режиссером-ассистентом в Батум и Кутаиси «для сбора и изучения архивных документов», рассказывает в своих печатных воспоминаниях: «Все мы вместе име-
637
новались «бригадой», а Михаил Афанасьевич был в этой командировке нашим «бригадиром». Своим новым наименованием он, помнится, был явно доволен и относился к нему серьезно, без улыбки.
Наконец наступило 14-е, и мы отправились, с полным комфортом, в международном вагоне», в двух купе. «Была страшная жара. Все переоделись в пижамы. В «бригадирском» купе Елена Сергеевна тут же устроила отьездный «банкет», с пирожками, ананасами в коньяке и т. п. Было весело. Пренебрегая суевериями, выпили за успех. Поезд остановился в Серпухове и стоял уже несколько минут. В наш вагон вошла какая-то женщина и крикнула в коридоре: «Булгахтеру телеграмма!» Михаил Афанасьевич сказал: «Это не булгахтеру, а Булгакову» (Елена Сергеевна с ужасом, не прошедшим за тридцать лет, говорила нам, что он сказал это, побледнев, в ту же секунду, как раздался этот странный возглас, — будто он все время ждал его. — М. Ч.).
Он прочитал телеграмму вслух: «Надобность поездке отпала возвращайтесь Москву». После первой минуты растерянности Елена Сергеевна сказала твердо: «Мы едем дальше. Поедем просто отдыхать»...»
Спутники, еле успев переодеть пижамы и выкинуть на перрон чемоданы, сошли в Серпухове. Булгаковы поехали дальш;е, оглушенные сообщением. Быстро стало ясно, что надо все-таки возвращаться в Москву. Они сошли с поезда в Туле. С трудом сумели нанять легковую машину до Москвы. Елена Сергеевна тщательно описала на другой день эту поездку. Булгакова мучила неожиданная резь в глазах, он прикрывал их рукой. «В машине думали: на что мы едем? На полную неизвестность?» (Просматривая дневник в 1950-е годы, Елена Сергеевна вписала по памяти слова Булгакова: «Навстречу чему мы мчимся? Может быть, смерти?») «Через три часа бешеной езды, то есть в 8 вечера, были на квартире. Миша не позволил зажечь свет, горели свечи». Вечером звонили из МХАТа, просили придти для официального разговора. «Состояние Миши ужасно. Утром рано он мне сказал, что никуда идти не может. День он провел в затемненной комнате, свет его раздражает». Второй раз в судьбе Булгакова Батум расколол его надежды. Он заводит в этот день тетрадь — «Занятия иностранными языками» (французским и итальянским). 16 августа. «...В третьем часу дня — Сахновский и Виленкин». Прежде всего Сахновский заявил, что «театр ни в коем случае не меняет ни своего отношения к М. А., ни своего мнения о пьесе, что театр
638
выполнит все свои обещания, то есть — о квартире, и выплатит все по договору. Потом стал сообщать: пьеса получила наверху резко отрицательный отзыв. Нельзя такое лицо как Сталин, делать литературным образом (позже Елена Сергеевна, уточняя тогдашние формулировки, заменила — «романтическим героем»), нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова. Пьесу нельзя ни ставить, ни публиковать. Второе — что наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым как на желание перебросить мост и наладить отношение к себе (можно вообразить себе, как грянули в голове Булгакова, в момент, когда он выслушивал это, слова Хлудова, обращенные к вестовому Крапилину в его собственной пьесе: «Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно». — М. Ч.). Это такое бездоказательное обвинение, — записывает Елена Сергеевна (несомненно, суммируя то, что говорил в этот вечер Булгаков, говорил собеседнику, принесшему эти вести, но, в сущности, в пустоту: ведь тот, от которого это исходило, услышать его не мог), — как бездоказательно оправдание. Как можно доказать, что никакого моста М. А. не думал перебрасывать, а просто хотел как драматург, написать пьесу — интересную для него по материалу, с героем, — чтобы пьеса эта не лежала в письменном столе, а шла на сцене?! Вечером пришел Яков (Я. Л. Леонтьев. — М. Ч.). Разговор с Мишей, — Миша думает о письме наверх».
Известия, принесенные из театра, подействовали на него, пожалуй, не менее сильно, чем самый крах пьесы.
18 августа. «Сегодня днем Сергей Ермолинский, почти что с поезда, только что приехал из Одессы и узнал. Попросил Мишу прочитать пьесу. После окончания — крепко поцеловал Мишу. Считает пьесу * замечательной. Говорит, что образ героя сделан так, что если он уходит со сцены, ждешь — не дождешься, чтобы он скорей появился опять. Вообще говорил много и восхищался, как профессионал, понимающий все трудности задачи и виртуозность выполнения. <...> За весь день — ни одного звонка. <...> Миша все время мучительно раздумывает над письмом наверх». Вечером идет к Сергею Ермолинскому. 19 августа вновь пришел Виленкин. «Миша говорил с ним, что у него есть точные документы, что задумал он эту пьесу в начале 36-го года, когда вот-вот должны были появиться на сцене и «Мольер», и «Пушкин», и «Иван Васильевич». 1 час ночи. Калишьян не пришел. Телефон молчит, Миша сидит над итальянским языком. Я — по хозяйству.»
639
22 августа. Визит Калишьяна. «Убеждал, что фраза о «мосте» не была сказана. Уговаривал писать пьесу о совет ских людях. Спрашивал: а к первому января она будет готова?
Попросил дать «Бег», хотя тут же предупредил, что надежд на ее постановку сейчас никаких нет. У Миши после этого разговора настроение испортилось. ... Вечером Виленкин, а потом Миша пошел к Сереже Ермолинскому».
В своих воспоминаниях Ермолинский рассказывает сегодня об этом так: «Его первое появление у меня после случившегося трудно забыть. Он лег на диван, некоторое время лежал, глядя в потолок, потом сказал:
— Ты помнишь, как запрещали «Дни Турбиных», как сняли «Кабалу святош», отклонили рукопись о «Мольере»? И ты помнишь — как ни тяжело было все это, у меня не опускались руки. Я продолжал работать, Сергей! А вот теперь смотри — я лежу перед тобой продырявленный...
Я хорошо запомнил это странноватое слово — продырявленный. Но я хорошо понял, о чем он говорит. Он осуждал писательское малодушие, в чем бы оно ни проявлялось, особенно же, если было связано с расчетом — корыстным или мелкочестолюбивым, не говоря уже о трусости. Тем беспощаднее он осудил самого себя и говорил об этом прямо, без малейшего снисхождения. ... В те годы окружающие его люди, даже самые близкие, рассматривали его поступок как правильный, стратегический ход. Друзья были потрясены катастрофой с пьесой, сочувствовали автору, недоумевали. Да, в те годы поведение его никем не осуждалось, напротив, оно выглядело вполне нормально и естественно. А теперь, когда я рассказываю, как все было, мне говорят: не надо об этом». Ермолинский возражает тем, кто боится, что это бросает тень на «безукоризненный писательский образ»: «Несчастный эпизод с пьесой „Батум", трагически пережитый им, отнюдь не снижает его образ, не мельчит, а напротив — укрупняет».
23 августа. «Миша упорно заставляет себя сидеть над языками — очевидно, с той же целью, как я над уборкой».
26 августа. «Сегодня — сбор труппы в Большом и первое заседание... Миша был. Слова Самосуда (о «Батуме»): а нельзя ли из этого оперу сделать? Ведь опера должна быть романтическая...»
26 августа. «...В общем скажу, за это время видела столько участья, нежности, любви и уважения к Мише, что никак не думала получить. Это очень ценно...
640
У Миши состояние духа раздавленное. Он говорит — выбит из седла окончательно. Так никогда не было».
«Немирович не может успокоиться с этой пьесой, — записывала Елена Сергеевна 30 августа со слов Бокшанской, — и хочет непременно просить встречи с И. В. и говорить по этому поводу».
Самого Булгакова это уже, в сущности, не касалось. Он был погружен в расчеты с самим собой — гораздо более жестокие, чем в 1930—1931 гг.
Начинался сентябрь 1939 г., газеты были полны сообщений о военных действиях в европейских странах. В доме Булгакова их читали, обсуждали. Вяло говорили и о поездке на юг — в тот же Батум, для отдыха. 7 сентября пришли Хмелев и Калишьян, который «очень уговаривал не ехать в Батум... Говорил с Мишей о новой пьесе, очень настойчиво, предлагал заключить договор. Потом заговорил об инсценировке «Вешних вод». (Можно попытаться вообразить, что испытывал Булгаков, слушая, как ему предлагают начать заново уже пройденный однажды жизненный круг...).
«Конечно, все разговоры о войне, — записывала Елена Сергеевна 8 сентября — ...Ходили мы в театр для разговора с Я. (Леонтьевым). Он не советует ехать в Батум (у нас уже были заказаны билеты на 10 сентября). Доводы его убедительны. И пункт неподходящий, и время. Уговорил поехать в Ленинград. Обещал достать билеты и номер в «Астории».
9 сентября, готовясь к отъезду в Ленинград, Елена Сергеевна записала: «Ужасно мы огорчены, что сорвалась поездка на юг. Так хотелось покупаться, увидеть все эти красивые места». Это последняя запись в дневнике, следующая будет сделана через двадцать дней — но уже в совсем новой жизненной ситуации.
4.
Сохранился маленький настольный календарик на 1939 г., в котором делала Елена Сергеевна краткие записи — возможно, уже в Москве, вспоминая роковые дни. 11 сентября. «Астория» (Лен.). Чудесный номер, радостная телеграмма Якову. Гулять. Не различал надписей на вывесках, все раздражало — домой. Поиски окулиста». На другой день нашли врача: Булгаков жаловался на резкое ухудшение зрения. «Настойчиво уговаривает уехать... Страшная ночь. („Плохо мне, Люсенька. Он мне подписал смертный приговор")». По-видимому, уже ленинградским врачом были
641
высказаны предположения о той самой болезни, которая унесла в могилу его отца на 48-м году жизни. Самому Булгакову шел уже 49-й. 15-го сентября — то есть через пять дней после отъезда (а отпуск в Большом театре Булгаков взял до 5 октября) они вернулись в Москву, потрясенные своим несчастьем, неожиданным и уже очевидно непоправимым. «Я вызвала Арендта, — рассказывала нам Елена Сергеевна 4 ноября 1969 года. — Тот пригласил невропатолога М. Ю. Рапопорта и специалиста по почкам Вовси. Они полностью подтвердили диагноз: гипертонический нефросклероз. (Впоследствии врачи говорили мне: «Телеграмма ударила по самым тонким капиллярам — глаза и почки»). Предложили сразу ложиться в кремлевку. Он смотрел на меня умоляюще. Когда мы решили пожениться, он мне сказал: «Я буду умирать тяжело. Ты обещаешь мне, что не отдашь меня в больницу?» Он был вполне серьезен. Я пообещала. Теперь я сказала:
— Нет, он останется дома.
И врач, уходя, сказал:
— Я не настаиваю только потому, что это вопрос трех дней...
Он слышал это... Я уверена, что если б не эта фраза — болезнь пошла бы иначе... Это убило его. — а он и то ведь прожил после этого не три дня, а шесть месяцев...»
16 сентября Е. С. Булгакова заводит тетрадь с записями хода болезни и врачебных назначений и далее ведет эти записи ежедневно.
29 сентября Елена Сергеевна возобновляет записи в дневнике. «Нет охоты возвращаться к тому, что пропущено. Поэтому прямо — к Мишиной тяжелой болезни: головные боли — главный бич...
Кругом кипят события, но до нас они доходят глухо, потому что мы поражены своей бедой.
Союз заключил договор с Германией о дружбе».
4 октября Булгаков диктует жене письмо Попову: «Спасибо тебе за милое письмо, дорогой Павел. Мое письмо, к сожалению, не может быть обстоятельным, так как мучают головные боли. Поэтому я просто обнимаю тебя, а Анне Ильинишне шлю привет. Твой...» — дальше неразборчивая подпись почти вслепую. В этот день он начинает диктовать поправки к роману «Мастер и Маргарита». Елена Сергеевна частью вносит их в машинописный текст 1938 г., частью — в особую тетрадь, в тот же день ею заведенную.
10 октября 1939 г. Булгаков, совершенно убежденный в безнадежности своего положения, вызвал на дом нотариуса
642
и составил завещание в пользу своей жены, а также черновик доверенности на ведение его дел; 14 октября нотариус дополнил ее множеством оговорок, требуемых установленной формой, но уже утративших для доверителя свой вещественный смысл. Он передоверял жене своей право заключать «договора с издательствами и зрелищными предприятиями на издание, постановку и публичное исполнение моих произведений». Но не предвиделось ни изданий, ни публичных исполнений. 18 октября позвонил А. Фадеев — «о том, что он завтра придет Мишу навестить». Позвонили из МХАТа — что в театре было «правительство, причем генеральный секретарь, разговаривая с Немировичем, сказал, что пьесу «Батум» он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить. Это вызвало ряд звонков от мхатчиков». Никакие оценки уже не могли изменить течения событий. По иронии судьбы в эти дни привезли и пишущую машинку, выхлопотанную все же из Америки.
Состояние было перемежающееся; 23 октября он продиктовал достаточно длинное письмо П. С. Попову — отвечая на его интересное письмо о прозе Апухтина, вся же первая половина ноября была мучительна, с полубредовыми состояниями. 10 ноября врачи настоятельно советовали госпитализацию; проснувшись в 4 часа ночи, он сказал жене: «Чувствую, что умру сегодня». Но смерть не торопилась. 15 ноября. «Виленкин. Необычайное настроение. Разговор о пьесе новой». 18 ноября Булгаков с женой приехал в подмосковный санаторий «Барвиху». 1 декабря он диктует ей несколько писем — П. С. Попову, Н. П. Хмелеву, А. М. Файко, которому сообщал: «Мои дела обстоят так: мне здесь стало лучше, так что у меня даже проснулась надежда. Обнаружено значительнейшее улучшение в левом глазу. Правый, более пораженный, тащится за ним медленнее». И Попову писал он: «возникла надежда, что я вернусь к жизни»; «Когда будешь сидеть в твоем кабинете и читать книжку — вспомни меня. Я лишен этого счастья уже два с половиной месяца». 3 декабря он писал младшей сестре Елене: «По словам доктора выходит, что раз в глазах улучшение, значит, есть улучшение и в процессе почек. А раз так, то у меня надежда зарождается, что на сей раз я уйду от старушки с косой и кончу кое-что, что хотел бы закончить». Во время недолгих прогулок он рассказывал жене новую пьесу. 10 декабря 1969 г. Елена Сергеевна вспоминала, как, услышав об одном из персонажей, она испугалась: «— Опять ты его! — А я теперь его в каждую пьесу буду вставлять», — ответил он хладнокровно. Слова эти существенны. Диалог продол-
643
жался, хотя один из собеседников не слышал другого и так и не собрался его увидеть.
18 декабря вернулись в Москву. Дома ждало Булгакова письмо (от 5 декабря), в котором явственно сквозило желание автора, П. С. Попова, успеть сказать смертельно больному те важные и необходимые слова, которые не шли с языка в обычной жизни:
«Дорогой Мака, был очень тронут твоим письмецом. Я непрестанно о тебе думаю. И теперь, и раньше, и всегда. И за столом, и в постели, и на улице. Видаю я тебя или не видаю, ты для меня то, что украшает жизнь. Боюсь, что ты можешь не подозревать, что ты для меня значишь. Когда спросили одного русского, не к варварскому ли племени он принадлежит, то тот отвечал: «раз в прошлом моего народа были Пушкин и Гоголь, я не могу считать себя варваром». Одного алеутского архиерея в старые годы, встретив на Кузнецком мосту, — а приехал он из своих снежных пустынь, — спросили: как ему понравилась Москва? Он ответил: «безлюдно», т. е. настоящих людей нет. Так вот, будучи твоим современником, не чувствуешь, что безлюдно; читая строки, тобой написанные, знаешь, что есть подлинная культура слова; переносясь фантазией в описываемые тобою места, понимаешь, что творческое воображение не иссякло, что свет, который разжигали романтики, Гофман и т. догорит и блещет, вообще, что искусство слова не покинуло людей. Ты тут для меня на таком пьедестале, на который не возносил себя ни один артист, — эти мастера чувствовать себя не только центром зрительного зала, но и всей вселенной. Мне даже иногда страшно, что я знаком с тобой, что я тебе говорю ты, — не профанируешь ли этим благоговейное чувство, которое имеешь...»
28 декабря О. С. Бокшанская в письме к матери так рисовала обстановку дома: «...Мака-то ничего, держится оживленно, но Люся страшно изменилась: хоть и хорошенькая, в подтянутом виде, но в глазах такой трепет, такая грусть и столько выражается внутреннего напряжения, что на нее страшно смотреть. Бедняжка, — конечно, когда приходят навещать Маку, он оживляется, но самые его черные минуты она одна переносит, и все его мрачные предчувствия она выслушивает, и, выслушав, все время находится в напряженнейшем желании бороться за его жизнь. «Я его не отдам, — говорит она, — я его вырву для жизни». Она любит его так сильно, что это не похоже на обычное понятие любви между супругами, прожившими уже не мало годов вместе...»
644
В тот же день Булгаков пишет Гдешинскому: «До сих пор не мог ответить тебе, милый друг, и поблагодарить за милые сведения». Гдешинский отвечал подробнейшим образом на его вопросы о киевской жизни времен их молодости — обычные программы концертов в Купеческом саду, состав библиотеки Духовной академии, которую они посещали и т. п.: лишенный возможности читать и писать, Булгаков надеялся отдаться воспоминаниям и хотел, видимо, придать им некую систематичность. «Ну, вот я и вернулся из санатория, — продолжал он. — Если откровенно и по секрету тебе сказать, сосет меня мысль, что вернулся я умирать». В этом письме и были сказаны уже приведенные нами ранее слова, противопоставившие «мучительной» и «канительной» смерти от болезни «один приличный вид смерти — от огнестрельного оружия, но такого у меня, к сожалению, не имеется».
31 декабря, вступая в последний свой год и, несомненно, ясно это понимая, Булгаков писал младшей (любимой) сестре: «Милая Леля, получил твое письмо. Желаю и тебе и твоей семье скорее поправиться. А так как наступает Новый год, шлю тебе и другие радостные и лучшие пожелания.
Себе я ничего не желаю, потому что заметил, что никогда ничего не выходило так, как я желал. ... Будь что будет. Испытываю радость от того, что вернулся домой».
1 января его поздравляли друзья и знакомые — Николай Эрдман, Н. Радлов, Б. В. Шапошников... (Через шестнадцать лет, 2 января 1956 года, Елена Сергеевна пришла к Б. В. Шапошникову в Пушкинский дом. «...В разговорах — просидели около 3-х часов, — записывала она в этот день в дневнике, который продолжала вести. — Он спросил, не захочу ли я продать их институту архив М. А. <...> вспомнил, что в сентябре 39-го года он пришел к нам, когда мы вернулись из Ленинграда, и М. А. уже был болен. — Я вошел в вашу квартиру, окна были завешены, на М. А. были черные очки. Первая фраза, которую он мне сказал, была: „вот, отъелся я килечек" или „ну, больше мне килечек не есть"».
Это было воспоминаньем о застольях на Пречистенке).
В первые дни Нового года состояние было тяжелое. 6-го января он делает записи к пьесе, обдумывавшейся в течение минувшего года, — «задумывалась осенью 1939 г. Пером начата 6.1.1940. Пьеса. Шкаф, выход. Ласточкино гнездо. Альгамбра. Мушкетеры. Монолог о наглости. Гренада. Гибель Гренады. Ричард I.
Ничего не пишется, голова как котел... Болею, болею...» В эти дни он получил письмо Гдешинского — из Киева: «Почему-то зима - наиболее, по-моему, поэтична и наве-
645
вает воспоминания... Падает снег и щекочет ласково лицо. Звенят бубенцы извозчиков... И везде елки. И у вас елки, и кто-то поет...» Это письмо было ему последним приветом киевской молодости перед разверстой уже могилой.
К середине января наступило некоторое улучшение.
13 января. «Лютый мороз, попали на Поварскую в Союз (Союз писателей на ул. Воровского. —М. Ч.). Миша хотел повидать Фадеева, того не было. Добрались до ресторана писательского, поели... Миша был в черных очках и в своей шапочке (жена сшила ему черную шапочку — как у его героя. — М. Ч.), отчего публика (мы сидели у буфетной стойки) из столовой смотрела во все глаза на него — взгляды эти непередаваемы. Возвращались в морозном тумане».
14 января. «Асеев. Страшно восторженно отзывается о нас обоих, желает во что бы то ни стало закрепить это знакомство. Прочитал свой отрывок из «Маяковского». Миша лежит, мороз действует на него дурно». Речь идет о поэме Асеева «Маяковский начинается», недавно написанной. В этот вечер, несомненно, шел разговор о Маяковском; возможно, Булгаков задавал Асееву и какие-то вопросы о нем. В последний год жизни он вернулся мыслью к человеку, чья судьба встретилась с его собственной так странно, в момент трагического завершения, — в записной книжке, начатой в Барвихе, Елена Сергеевна записывала под его диктовку темы, которые он надеялся обдумать, области знаний, к которым хотел бы обратиться, — «География. География?», «Медицина, история ее? Заблуждения ее? История ее ошибок?», «Философия, философия!» И среди этих записей — «Маяковского прочесть как следует».
Можно думать, он возвращался теперь мыслью к Маяковскому, стремясь представить и его предсмертное состояние; знать этого нам не дано; но можно видеть схождения в некоторых философско-творческих их представлениях. Уже в романе «Белая гвардия» звучат обнадеживающие слова, произнесенные тем, к чьему престолу попадает убитый вахмистр: «Живи себе, гуляй», — те самые, как кажется, слова, на которых спустя много лет воздвигнется стиль необычное здание завершающих глав «Мастера и Маргариты», — слова, обозначившие будущую жизнь как жизнь, как существование в том же физическом облике и даже рядом с любимой женщиной. Р. Якобсон, вспоминая слова Маяковского в разговоре о теории относительности: «А я совершенно убежден, что смерти не будет. Будут воскрешать мертвых», — выразил уверенность в том, что название стихотворения «Прошение на имя... (Прошу вас, товарищ химик,
646
заполните сами!) » для Маяковского «вовсе не литературный заголовок, это — подлинное мотивированное прошение к большелобому тихому химику XX века», что здесь, как и в пьесах «Клоп» и «Баня», «вера — залог воскресения». Это близко к системе ценностей, выраженной в «Мастере и Маргарите»; можно было бы также отнести и к Булгакову слова, сказанные тем же исследователем о Маяковском: «нет для него воскресения без воплощения, без плоти» — черта, сближающая, на наш взгляд, эти столь разные творческие миры. В воспоминаниях Е. Лавинской зафиксированы следующие слова Л. Ю. Брик на другой день после похорон поэта: «Он не понимал абсолютно, что он делал, не представлял, что смерть — это гроб, похороны. Если бы реально себе представил, ему стало бы противно, и он бы ни за что не застрелился». Булгаков, как врач, хорошо представлял себе смерть, а некоторым из своих друзей со всеми подробностями рассказал еще осенью 1939 года, как будет протекать его болезнь и умирание. Представление же его о современном похоронном ритуале настойчиво закрепляется со всеми отвращающими автора аксессуарами от первой до последней редакции романа «Мастера и Маргариты». Зато устойчивое, на протяжении всей творческой жизни — от первого романа до последнего — изображение инобытия Булгаковым заставляет со вниманием и доверием отнестись к свидетельству мемуариста, память которого удержала следующие слова умирающего писателя: «Мне мерещится иногда, что смерть — продолжение жизни. Мы только не можем себе представить, как это происходит. Но как-то происходит...» (воспоминания С. А. Ермолинского). Представить себе, «как это происходит», он и стремился в своем творчестве, предвосхищая, может быть, подсказывая.
Глубокое и до сих пор не расшифрованное свидетельство о соотношении творчества Булгакова с его жизнью и смертью оставлено в строках близко знавшей писателя А. А. Ахматовой: «И гостью страшную ты сам к себе впустил. И с ней наедине остался» (Эти стихи она принесла Елене Сергеевне 16 апреля). Конструирующая, прогнозирующая творческая воля художников — в ее воздействии на биографию и постбиографию — не может быть оценена нами не только в полной, но еще и в приблизительной мере. Роман Булгакова дописывался автором до последних дней, уподобляясь в каком-то смысле предсмертным стихам Маяковского. Когда видишь, каким возникает образ постбиографии в творчестве двух этих столь разных писателей, то нельзя не думать, что если каждому будет дано
647
по его вере, то и они сумели оказать какое-то неизвестное нам или еще неизвестное воздействие на свою жизнь вечную.
15 января. «Миша, сколько хватает сил, правит роман, я переписываю». Она читала ему вслух, он останавливал ее, диктовал поправки и дополнения, и этот новый текст или переписывался в тетрадь вставок, заведенную 4 октября, либо присовокуплялся к машинописи в виде отдельных листов. 16 января. «42 градуса!.. Работа над романом. Пришел Ермолинский в валенках, читала вслух кусочек романа — воробушек. Мишин показ воробушка». Это был только что продиктованный эпизод встречи буфетчика с профессором Кузьминым, составивший 5 больших страниц текста мелким почерком. «...Присмотревшись к нему, профессор сразу убедился, что этот воробей — не совсем простой воробей. Паскудный воробушек припадал на левую лапку, явно кривлялся, волоча ее, работал синкопами, одним словом, — приплясывал фокстрот под звуки патефона, как пьяный у стойки. Хамил, как умел, поглядывая на профессора нагло». Так ярко, весело вспыхивала временами творческая фантазия умиравшего. В тот же день: «Вечером — правка романа... ужин на письменном столе Мишином. Я верю, что он поправляется». 24 января. «Вчера был Виленкин. Разговор о новой пьесе. Потом о квартире. Разговор, взволновавший Мишу. Жалуется на сердце. Часов в 8 вышли на улицу, но сразу вернулись — не мог, устал». 25 января. «Продиктовал страничку (о Степе — Ялта) »; в этот день они вышли на улицу — видимо, последний раз. 28-го. Опять происходила работа над романом. 29-го наступило ухудшение. Однако 13 февраля Булгаков еще работал над романом — видимо, последний раз. Е. С. Булгакова рассказывала нам об этом так: «В 1940 году он сделал еще вставки в первую часть —я читала ему. Но когда перешли ко второй и я стала читать про похороны Берлиоза, он начал было править, а потом вдруг сказал: — Ну, ладно, хватит, пожалуй. — И больше уже не просил меня читать». Обширность вставок и поправок в первой части и в начале второй говорит о том, что не меньшая работа предстояла и дальше, но выполнить ее автор не успел.
15 февраля. «Вчера позвонил Фадеев с просьбой повидать Мишу, а сегодня пришел. Разговор вел на две темы: о романе и о поездке Миши на юг Италии, для выздоровления. Сказал, что наведет все справки и через несколько дней позвонит». В эти дни Булгакова уже с трудом переворачивали в постели — ему болезненны были прикосновенья.
19 февраля. «У Миши очень тяжелое состояние — тре-
648
тий день уже. Углублен в свои мысли, смотрит на окружающих отчужденными глазами. К физическим страданиям прибавились — или, вернее они привели к такому болезненному душевному состоянию». Мысли о романе возвращались к нему. Внутренняя задача работы над последними редакциями заключалась, как кажется, в полной замкнутости в нем биографии автора, переосмысленной как завершившаяся и уже оцененная со стороны судьба. В свете этого в последние месяцы жизни он, может быть, видел, что попытка придать новое движение уже остановленному или, говоря словами романа, «гнаться по следам того, что уже окончено», берясь за новые замыслы, и не могла не привести к катастрофическим последствиям, которой стала болезнь и смерть, мучительная и долгая в отличие от быстрой и легкой смерти - Мастера. С другой стороны, эта попытка получила заранее объяснение в недрах самого романа, в сплетениях темы трагической вины. «Умирая, он говорил, — вспоминала Елена Сергеевна: — Может быть, это и правильно... Что я мог бы написать после «Мастера»?..»
1 марта приходил Фадеев; в этот же день К. Венцем были сделаны последние фотографии Булгакова (запечатлевшие резко изменившееся, но спокойное, иногда улыбающееся лицо) — красноречивые свидетельства силы духа умиравшего и его жены. 5 марта у него вновь Фадеев. «Разговор (подобрался, сколько мог) », — записывала Елена Сергеевна; впоследствии она рассказывала нам о потрясении, испытанном собеседником умирающего. Булгаков, глядя невидящими глазами, сказал:
— Александр Александрович, я умираю. Если задумаете издавать — она все знает, все у нее...
Фадеев, своим высоким голосом, выговорил:
— Михаил Афанасьевич, Вы жили мужественно и умрете мужественно!
Слезы залили ему лицо, он выскочил в коридор и, забыв шапку, выбежал за дверь, загрохотал по ступеням...
8 марта О. С. Бокшанская писала матери: «Все печальнее и печальнее вести от Люси... сегодня пришел один знакомый художник, друг их (В. В. Дмитриев. — М. Ч.), который ночевал там вот в эту последнюю ночь. Он под убийственным впечатлением: Мака уже сутки как не говорит совсем, только вскрикивает порой, как они думают, от боли... Люсю он как бы узнает, других нет. За все время он произнес раз одну какую-то фразу, не очень осмысленную, потом, часов через 10, повторил ее, вероятно, в мозгу продолжается какая-то работа». Одна жена разбирала его слова; медсестра, сменяв-
649
шая ее у постели, заносила в тетрадь, в которой Елена Сергеевна неукоснительно фиксировала течение каждого дня, странные слова, ею услышанные; «Донкий ход... донкий ход». Слова эти были — «Дон Кихот»; его герои еще жили в стирающейся памяти. 6 марта Елена Сергеевна записывала: «Я сказала ему наугад (мне казалось, что он об этом думает) — «Я даю тебе честное слово, что я перепишу роман (то есть перепечатаю начисто — ведь он знал, что его правка осталась не сведенной. —М. Ч.), что я подам его, тебя будут печатать! А он слушал, довольно осмысленно и внимательно, и потом сказал — «чтобы знали... чтобы знали!» В последние дни, в состоянии, уже близком к бреду, ему казалось, рассказывала нам Елена Сергеевна 3 ноября 1969 года, что «забирают его рукописи. — Там есть кто-нибудь? — спрашивал он беспокойно. И однажды заставил меня поднять его с постели и, опираясь на мою руку, в халате, с голыми ногами, прошел по комнатам и убедился, что рукописи «Мастера» на месте. Он лег высоко на подушки и упер правую руку в бедро — как рыцарь». В ночь с 9 на 10 марта, рассказывала в тот же День Елена Сергеевна, «я все время сидела на полу на подушечке — у его изголовья и держала его руку... Потом вышла в другую комнату, и В. В. Дмитриев попросил у меня разрешения рисовать. Он рисовал, а слезы заливали его лицо». Эти рисунки сохранились.
В письме О. С. Бокшанской к матери от 12 марта оставлено биографам писателя подробное и, видимо, самое точное описание его последнего дня: «Он умер 10 числа без 20 минут пять, днем. После сильнейших мук, которые он терпел в последнее время болезни, день смерти его был тих, покоен. Он был в забытьи... под утро заснул, и Люсю тоже уснуть заставили, дали ей снотворного. Она мне говорила: проснулась я часа в два, в доме необыкновенная тишина и из соседней комнаты слышу ровное спокойное дыхание Миши. И мне вдруг показалось, что все хорошо, не было 'этой страшной болезни, просто мы живем с Мишей, как жили до болезни, и вот он спит в соседней комнате, и я слышу его ровное дыхание. Но, конечно, это было на секунду — такая счастливая мысль. Он продолжал спать спокойно, ровно дышать. Часа в 4 она вошла в его комнату с одним большим их другом, приехавшим в этот час туда. И опять так спокоен был его сон, так ровно и глубоко дыхание, что — Люся говорит — «подумала я, что это чудо (она все время ждала от него, от его необыкновенной, не похожей на обычных людей натуры) — это перелом, он начнет выздоравливать, он поборол болезнь». Он так и продолжал спать, только около
650
половины пятого по лицу прошла легкая судорога, он как-то « скрипнул зубами, а потом опять ровное, все слабеющее дыхание, и так тихо-тихо ушла от него жизнь».
«Когда он уже умер, — рассказывала Елена Сергеевна, — глаза его вдруг широко открылись — и свет, свет лился из них. Он смотрел прямо и вверх перед собой — и видел, видел что-то, я уверена (и все, кто был здесь, подтверждали потом это). Это было прекрасно».
В дневнике Елены Сергеевны, где подробно записаны все визиты последующего месяца (среди приходивших — Пастернак, Ахматова, Фадеев), пропущено несколько чистых листов и дальше запись: «Уот Уитмен: „...нечто стремительное и грозное, нечто далекое от скучной благопристойности жизни; нечто неизведанное; нечто безумное и восторженное; нечто снятое с якоря и пущенное в далекое море на свободу!.."».
ПРИМЕЧАНИЯ
С. 17 ... ели мороженое. — Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. Кн. 1, 2. М., 1961. С. 447.
С. 19. Обзор преподавательского состава гимназии был сделан по печатным источникам А. С. Бурмистровым. (К биографии М. А. Булгакова (1891 — 1916) // Контекст, 1978. М., 1978. С. 249.)
... жокейский свой картузик — «Мастер и Маргарита». Цит. по: Булгаков М. А. Романы. М., 1973. С. 162. Далее все цитаты из романов «Белая гвардия», «Театральный роман», «Мастер и Маргарита» даются по этому изданию.
С. 43 ... Христианское мировоззрение. — Фетисов Николай. Речь у гроба почившего профессора Киевской Академии Афанасия Ивановича Булгакова // Профессор Афанасий Иванович Булгаков. Киев, 1902. С. 24—23.
Извлечения из дневника Н. А. Земской 1910—1912 гг. публикуются по сборнику воспоминаний о М. Булгакове (в печати). М., 1988.
С. 45—46. В. Н. Кончаковский сообщает также: «Дед его, Василий Васильевич, был богат, на Олеговской улице (гора Щекавица, стан князя Щека, там же где-то похоронен князь Олег) ему принадлежал целый квартал домов, на соседней Глубочицкой — склады. <...> Занимался благотворительностью, построил церковь на Подоле (помню еще чугунную доску: «Построена на средства и радением купца I гильдии Вас. Вас. Листовничего»), был почетным гражданином Киева. В конце XIX века склады сгорели, сын его, Павел Вас, хваткой купеческой не обладал, встать на ноги не смог, семья обнищала, так что Василий Павлович, учась в реальном училище, а затем в Петербургском институте гражданских инженеров, давал частные уроки, чтоб содержать себя <...> В 1902 г. у него родилась единственная дочь Инна. Женой 25-летнего инженера из мещан стала 33-летняя Ядвига Викторовна Крынская — из старого польского дворянского рода. Ее дедом по матери был военный руководитель польского восстания 1863 г. генерал граф Хлопицкий (сохранились ноты, написанные его рукой). Крынские были помещиками (под Уманью), после реформы 1861 г. разорились, переехали в Киев, и Ядвига Викторовна подрабатывала частными уроками фортепианной игры. Род их был музыкальным, ее кузен Витольд Иосифович Малишевский <...> основал Одесскую консерваторию, был ее директором с начала века до 1922 г., когда ушел в эмиграцию, в Польше стал директором Варшавской консерватории. Ядвига Викторовна <...> музыкальное образование получила домашнее, но в 15 лет давала концерты в Киевском дворянском собрании; консультировала Варю Булгакову, когда та кончала консерваторию. Я смутно помню, как она, уже 70-летняя, играла Бетховена и Шопена. От первого брака имела сына Виктора и дочь Генриэтту». В сборнике «Весь Киев» за 1915 г. Листовничий — главный архитектор Киевского учебного округа (куда входили Киевская, Подольская, Волынская, Черниговская, Полтавская губернии) ; строил училища и гимназии.
С. 50. Медицинский факультет Киевского университета располагал в это время первоклассной профессурой; известны были терапевтические школы В. П. Образцова и Ф. Г. Яновского; до 1912 г. кафедру патологической анатомии занимал К. Високович, автор работ о чуме в Бомбее, в Колотовке (не эта ли «чума в Колотовке» даст потом импульс сюжетному ходу куриной чумы в заштатном городке Стекловске?..), во Владимировке, о «подозрительных заболеваниях» в Батуме и Одессе и др.;
652
его называли «королем патологов того времени» (Сто лет Киевского ' медицинского института (1841 — 1941). Киев, 1947. С. 41, 32—33 и др.)
С. 51. ...как веники, стояли. — Булгаков М. А. Драмы и комедии. М., 1965. С. 110. Далее цитаты из пьес «Дни Турбиных», «Бег», «Последние дни» («Александр Пушкин»), «Иван Васильевич» по этому изданию.
...наступила история. — Киев-город // Накануне, 1923, б июля.
С. 54. Кн. Е. Н. Сайн-Витгенштейн. Дневник. 1914—1918. Париж, 1986. С. 49—50.
С. 55. 31 марта 1916 г. на совещании деканов медицинских факультетов было «выяснено, что в мае предположено призвать на военную службу всех студентов-медиков, имеющих право быть зауряд-врачами, в качестве таковых. Деканы сообщили, что программа предметов на 4-м и 5-м курсах медицинских факультетов пройдена студентами почти в полном объеме и с этой точки зрения студенты могут считаться вполне подготовленными»; выражалось, однако, беспокойство зауряд-врачей «об их ненормальном положении в качестве врачей-недоучек, не имеющих до сих пор врачебного диплома. {...) Представитель военного ведомства указал, что для дела безразлично, в каком звании будут работать в рядах армии молодые медики: важно, чтобы в половине предстоящего мая армия имела необходимое количество врачебного персонала» («Речь», 2 апр. 1916 г.; более подробный отчет о совещании — «Биржевые ведомости», 3 апр. 1916 г.)
В пасхальных номерах газет (8—10 апреля) много писали о распятии: «Христос был распят в пятницу 14-го или 15-го нисана некоторого года при Понтии Пилате» (Н. Каменьщиков. Когда был распят Христос? // Биржевые ведомости. 1916. 8 апр., утренний вып.).
С. 56. ...В этом наше значение! — Шульгин В. Воспоминания бывшего члена Государственной думы. М., 1979. С. 199.
С. 58. ... с 27 сентября. — Документ, хранящийся в Государственном архиве Смоленской области. Цит. по: Стеклов M. M. А. Булгаков на Смоленщине // Полит. информация. Журнал Отдела пропаганды и агитации Смоленского обкома КПСС. 1981. № 10. С. 25. Там же сообщается: «В «Требовательной ведомости Сычевской уездной управы на отпуск денег на содержание служащих сычевского земства» за октябрь месяц 1916 года впервые появляется фамилия М. А. Булгакова. Далее идут фамилии фельдшеров, фельдшериц-акушерок, сиделок и сторожей — всего 12 человек. Здесь же подпись Булгакова за полученные деньги в размере 121 руб. 25 коп. (3 процента от жалованья высчитывалось на нужды войны). Михаил Афанасьевич расписывался за неграмотных сиделок и сторожей, а поэтому в ведомости есть еще шесть собственноручных подписей врача (ГАСО, ф. 249, оп. 1, д. 2)» (Стеклов М. Указ. соч. С. 25).
С. 59. Л. Л. Смрчека, оставившего 3-й Никольский врачебный пункт в 1913 году, упоминает А. С. Бурмистров; он пишет далее: «Когда врач резерва Михаил Булгаков начал служить, здесь уже работали фельдшерами Владимир Петрович Коблянский и Емельян Фомич Трошков. Был еще и А. И. Иванов. Акушерками на пункте работали Агния Николаевна Лобачевская и Степанида Андреевна Лебедева — жена фельдшера Иванова, исполнявшая одновременно и функции экономки» (Бурмистров А. Поездка в прошлое: к 90-летию со дня рождения М. А. Булгакова // Звезда. 1981. № 5. С. 194). М. Стеклов называет непосредственную предшественницу Булгакова И. Г. Генценберг, работавшую в Никольском с 28 июня 1915 года до 30 сентября 1916, когда она, сдав дела Булгакову, уехала «для поправления здоровья» (ГАСО, ф. 249, оп. 1, д, 10, л. 53). За двадцать дней до приезда Булгакова она «письменно заявила в Сычевскую земскую управу: «Прошу нам прислать хоть одного военнопленного, так как остался один сторож на всю больницу. Прошу
653
прислать техника, чтоб он хоть раз исправил бы как следует водопровод. Телефон уже недели две не работает. Были случаи, когда надо было звонить на роды и к больным и нельзя было дозвониться» (М. Стеклов. С. 25—26).
С. 58. Рассказ «Морфий», опубликованный 9, 17 и 23 декабря 1927 г. в журнале «Медицинский работник», цит. по: Булгаков М. Избранное. М., 1983. С. 417.
С. 59. Рассказ «Полотенце с петухом», опубликованный 12 и 18 сентября 1926 г. в журнале «Медицинский работник», цит. по вышеуказанному изданию. С. 387—388.
Рассказ «Пропавший глаз», опубликованный 2 и 12 октября 1926 г., цит. по: Булгаков М. Избранная проза. М., 1966. С. 98.
С. 60. Воспоминания Н. И. Кареева цитируются по машинописи с авторской правкой, хранящейся в рукописном отделении Музея ЛГУ (ф. ФИК, № 333; см. также: ГБЛ, ф. 119, 44, 13, автограф).
С. 62. Впервые некоторые факты, связанные с этой болезнью Булгакова, были обнародованы (со слов давней знакомой Т. Н. Кисельгоф) : Неизданный Булгаков. Ann Arbor, 1977. С. 18.
С. 63. О публикации А. Бурмистрова см. примеч. к с. 59.
Письма Булгакова и Т. Н. Булгаковой к родным 1917—1923 гг., частично опубликованные нами в 1973 г. (Вопр. лит. 1973. № 7), здесь и далее цит. по двум наиболее полным публикациям, осуществленным Е. А. Земской (Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1976. Т. 35. № 5; Вопр. лит. 1984. № 11) с восполнением купюр по подлинникам и копиям, хранящимся в архиве писателя (ГБЛ, ф. 562).
С. 64. ...патология сама по себе. — Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983. С. 85.
С. 65. ...страницы о гражданской войне. — Яновская Л. Указ. соч. С. 86.
С. 67. Сведения о первой пореволюционной должности Л. С. Карума (подробнее о нем далее) почерпнуты из мемуаров: Гольденвейзер А. А. Из киевских воспоминаний (1917—1921) // Архив русской революции, 1922. Т. VI. С. 170 (мемуарист добавляет: «офицер Л. С. Карум не играл большой роли»).
С. 68 ...не слышали их стона. Кн. Е. Н. Сайн-Витгенштейн. Указ. соч. С. 109—117.
С. 68. «Конкурирующих претендентов на власть, — вспоминал один из очевидцев октябрьских событий в Киеве, — было у нас в эти дни не два, как в Петрограде и Москве, а три: кроме Временного правительства и большевиков была еще Центральная Украинская рада.<...> когда победа большевиков определилась повсеместно <...> все имевшиеся в Киеве украинские части были брошены на сторону противников Временного правительства. После этого юнкерам и остальным правительственным войскам не оставалось ничего иного как капитулировать <...> большевики не чувствовали в Киеве достаточной опоры»; власть перешла к Центральной раде (Гольденвейзер А. А. Указ. соч. С. 195).
С. 70. Очевидец свидетельствует: «... рада не имела ни физической, ни моральной опоры в городских массах. Что же касается деревни, то она «безмолвствовала» 29 апреля, но последующим своим поведением по отношению к гетману и к немцам показала, что она, во всяком случае, не на их стороне. У Рады имелся военный министр Жуковский, который занимался похищением банкиров, но украинской армии, которая могла бы защитить Раду, не существовало. Если не считать нескольких сотен сечевых стрельцов, то военная опора Рады могла бы базироваться исключительно на германских войсках, да еще на приведенных немцами частях, составленных из бывших русских военно-
654
пленных. Эти последние, маршируя по улицам города, вызывали всеобщую зависть своей новехонькой формой из синего сукна. Их и стали называть «синими жупанами». Но в политическом отношении синие жупаны в конце концов показались немцам слишком красными, и, накануне падения Рады, они были разоружены» (Гольденвейзер А. А. Указ. соч. С. 217.)
С. 72—73. Воспоминания Гр. Н. Трубецкого цит. по: Деникин А. И. Очерки русской смуты. Берлин. 1924. Т. 3. Белое движение и борьба добровольческой армии. С. 34.
С. 78. В киевской печати весны 1918 г. широко обсуждались социально-политические проблемы современности. «Опять перед нами стихийный бунт против права с той только разницей, что на этот раз взбаламученное море поднято со дна режиссерской рукой современного культурного человека, — писал В. Зарецкий в статье «Борьба с правом». — Не вольный казак необъятных степей, не темный апостол мужицкой правды Стенька Разин поднял обездоленный народ против боярско-приказной правды. Закованный с головы до ног в броню современного знания, интеллигентный утопист XX века в погоне за синей птицей социального рая на земле призывает темные классы трудящихся к полному уничтожению «буржуазного» правопорядка. <...> То, что переживает наше злополучное поколение, нельзя назвать иначе, как эпидемией беззакония. <...> Если даже наша чуткая интеллигенция, духовный авангард человечества, начинает понемногу поддаваться этой ужасной болезни, то что говорить о народных низах. Они без всякого труда привыкают к неопределенности права и если на первых порах поглядывают с некоторой опаской на «явных правонарушителей», то очень скоро совершенно осваиваются с их видом, и в один прекрасный день воровская мысль: «А вдруг без закона и в самом деле лучше?» — превращается в их умах в твердую, непоколебимую уверенность и делает их заклятыми врагами законности». Чертой нового времени были и попытки с осторожностью осмыслить перспективы возможного развития послереволюционной России — не только принимая совершившееся за данность, но и ища оснований разразившейся катастрофы.
С. 80 ...напряженность положения стала очевидной. — «Положение было катастрофическое. К внутренней неурядице присоединилась напряженная и успешная пропаганда большевиков»; министр внутренних дел Кистяковский вел борьбу «с большевизмом, как интернациональным, возглавляемым Кремлем, так и с большевизмом национальным, возглавляемым Петлюрой и его революционным штабом. <...> Среди национального союза были настоящие большевики-украинцы и из них первым был украинский писатель, талантливый и страстного темперамента агитатор В. К. Винниченко. С. В. Петлюра, хотя и не был большевиком, но работа его агентов по подготовке восстания против гетманской власти равносильна была отдаче Украины во власть большевиков, что и подтвердили блестяще события ближайших месяцев. Препятствием, ставшим на пути гетманской власти в этой борьбе ее с большевиками, стали немцы. <...> вся политика немцев на Украине сводилась к тому, чтобы поддерживать в стране состояние неустойчивого равновесия...» (Могилянский H. M. Трагедия Украины (Из пережитого в Киеве в 1918 году) // Архив русской революции, т. XI, 1923, с. 99—100).
Спустя два года В. Винниченко (не раз упомянутый впоследствии на страницах булгаковских произведений) описывал происходящее, как виделось ему оно, противнику гетмана: «И що ж то за страшна, дика, безоглядно и цiнично-грабіжницька діяльність почалась! Це була просто вакханалия класової помсти, звірства, насильств, отвертого грабіжу. <...> кожне село, кожна селянська хата були обкладеш контрібуцiями, розмір
655
яких вирішився самими поміщиками» (Винниченко В. Відродження нації. Історія української революції (марець 1917 р. — грудень 1919 p.). Частина III. Київ — Відень, 1920. С 47).
С. 92. ...уволен из Академии. — Об этом событии В. И. Экземплярский рассказал в специальной брошюре (За что меня осудили? Несколько слов уволенного профессора духовной академии в защиту своего богословского направления... Киев, 1912; второй частью брошюры была та же работа о Толстом и Иоанне Златоусте). С. Н. Булгаков написал сочувственную рецензию на брошюру Экземплярского, обосновав свое возмущение его увольнением (Булгаков С. Самозащита В. И. Экземплярского // Рус. мысль. 1912. Кн. 8. 3-я пагинация. С. 39—40).
С. 93. Педагогический музей, созданный в 1901 г., не относился к Первой гимназии.
С. 101—102. Своеобразным комментарием, а вернее, параллелью к дневнику врача и к «Необыкновенным приключениям доктора» могут служить слова Винниченко (возможно, и известные Булгакову), который, стремясь оценить причины поражения Директории, писал (цитируем в переводе с украинского) : «В Киеве неукраинское население просто горело ненавистью к украинской власти». Он утверждал, что «атаманщина» подходила ко всем явлениям жизни с точки зрения своей профессии и вносила «в новую свою деятельность (политику) военный способ мысли и военные методы <...> Атаманы, например, пренаивно думали, что можно военным способом заставить неукраинскую буржуазию украинизироваться». Как пример такого способа действий Винниченко приводил приказ об «украинизации» вывесок «в три дня» и саркастически описывал, как Петлюра «самодовольно ездил по улицам и радовался украинским надписям над магазинами. Для атаманской (а особенно петлюровской) психики этого было достаточно: лишь бы была показная, декоративная сторона» (В. Винниченко. Указ. соч. С. 201—202).
С. 109—111. Дневник и воспоминания киевской студентки. — Архив русской революции, 1924. Т. XV. С. 209—227.
С. 112. Это — последний след его на земле. — Из биографической справки о В. П. Листовничем, составленной по нашей просьбе В. Н. Кончаковским (май 1988 г.). От И. В. Кончаковской я слышала версию о спасении отца: встретив случайно в Новороссийске киевлянку, он будто бы испуганно сказал ей: «Передайте моей семье, что я жив, спасся, еду в Константинополь». Внук считает, что версия эта была придумана друзьями для утешения жены и дочери. Булгаков, скорей всего, покинул Киев раньше, чем до дома на Андреевском спуске дошли какие бы то ни было слухи о судьбе Листовничего; Татьяна Николаевна не помнила ко времени наших бесед даже о его аресте. Елена Сергеевна, встретившись в середине 1960-х гг. с И. В. Кончаковской, передала нам ее слова: «Если бы Михаил Афанасьевич знал о страшной судьбе моего отца — он не описал бы так Лисовича...»
С. 116. пошел играть в бильярд... — Ростов в ту осень был злачным местом. В многочисленных гостиницах («Пале Рояль», «Палас отель», «Москва», «Франция»...) и кафе — «Ампир», «Кафе Филиппова», «Чашка чая» — спекуляция достигла таких размеров, что еще летом ростовский генерал-губернатор учредил три раза в неделю обход кафе с целью разгона спекулянтов («Донские ведомости», 12 июля 1919, № 159).
С. 121. ...для опытного глаза. В краю держалось к тому же большое напряжение между антимонархистски настроенными сторонниками самостийной Кубани и частями Добровольческой армии.
..насилье и разврат. — В Москву! 1919, 28 окт. С. 1.
В Ростове выходило восемь ежедневных утренних газет: «Приазовский край», «Донская речь», казачья «Свободная речь», шульгинская
656
«Свободная Россия», «Жизнь» и «Народная газета», издаваемые Освагом, «Заря России», основанный Пешехоновым и Мякотиным «Парус», «где ярко, как всегда, писал Александр Яблоновский» (Дроздов А. Интеллигенция на Дону. — Архив русской революции, 1921. Т. 2. С. 56) — этого фельетониста «Русского слова» с почтением вспомнит в 20-е годы Булгаков в разговоре с В. Катаевым. Выходила вечерняя газета — суворинское «Вечернее время», газета Н. П. Измайлова «На Москву!» (закрытая вскоре ростовским градоначальником, газета пользовалась «громадной, воистину чудовищной популярностью», Дроздов А. С. 57) — офицеры кричали мальчишкам-газетчикам, продающим газету: «На тебе двадцать рублей, кричи сам знаешь что», и мальчишки кричали: — Газета «На Москву!», русская национальная! Бей жидов, спасай Ростов!» (Калинин И. Русская Вандея. М.; Л., 1926. С. 253). Выходил листок Пуришкевича «Благовест», понедельничные газеты, журналы «Донская волна», «Орфей», «Лукоморье», «Путь России»... «Публицистов на Дону было мало, — свидетельствует А. Дроздов, — и я смело могу утверждать, что писала в газетах интеллигенция en masse: адвокаты и врачи, студенты и офицеры, <...> бездельники, зеваки и дельные, умные, порядочные люди» (Дроздов А. Указ. соч. С. 57). Обстановка стимулировала, как видим, к участию в печати; неудивительно, что именно к этому моменту относятся первые печатные выступления Булгакова. Несомненно, его биографов ожидают еще находки в ростовских газетах осени — зимы 1919—1920 гг.
С. 122. ...время светлых дней России. — Голодолинский П. На развалинах социальной революции (ответ на статью М. Б.). — «Грозный», 15 (28) ноября 1919 г.
С. 127. ...ускоряло эти решения. — «Ночь под Рождество не дает нам прежней радости, — сообщал «Приазовский край» в экстренном выпуске. — Не праздничные подарки несет нам Дед Мороз; в его сказочной картине нет игрушек. В нем новые лишения, новые скитания, горькие испытания» (цит. по: Калинин И. Русская Вандея. М. — Л., 1926. С. 302).
С. 133. ленточки — деньги с изображением георгиевских лент, ходившие на территории, контролируемой Добровольческой армией.
С. 138. «Дарю любимому моему герою Михаилу Афанасьевичу Булгакову», — напишет впоследствии Слезкин на отдельном издании романа (1925; см. об этом: Вопр. лит. 1973. № 7. С. 243—245).
С. 139—140. Роман Ю. Слезкина «Столовая гора» цит. по: Слезкин Ю. Шахматный ход. М., 1981.
С. 140. Гиреев Д. Михаил Булгаков на берегах Терека. Орджоникидзе. 1980. С. 139. Несомненно, значительная часть разысканных автором документов осталась в архиве преждевременно погибшего литератора; публикация собранных им материалов напомнила бы о его вкладе в изучение биографии Булгакова.
С. 144. Свидетельство Мальсаговой цит. по упомянутой ранее статье B. Чеботаревой «Начало пути».
С. 151. ...на двадцать лет. — См.: Чудаков А. Чехов-редактор. Правка рассказа А. К. Гольдебаева «Ссора» // Лит. учеба. 1981. № 1. C. 203.
С. 153. Литературные связи Г. Шторма и Булгакова — отдельная и небезынтересная тема; здесь ограничимся фрагментом письма, посланного Г. Штормом А. Белому 15 октября 1921 г. (как раз в дни знакомства с Булгаковым) и дающего, на наш взгляд, колоритный штрих к «стилистическому» портрету одного из первых московских литературных знакомцев Булгакова; письмо начиналось без обращения: «Ждал. Долго ждал и лелеял встречу. Вами кинутые выращивал зерна. И прорастали они в душевных полях, неизменно протягиваясь к свету. <...>
657
Думал: иду — куда Вы. И сейчас вот: пишу почти Вашей манерой» и т. п. (ГБЛ, ф. 53, 1. 296).
С. 206. ...Отношения с «Накануне». — Ю. Слезкин в уже упоминавшейся дневниковой записи от 21 февраля 1932 г. пишет: «Мы с Булгаковым начали сотрудничать там, приглашенные туда Дроздовым». Александр Михайлович Дроздов (1895—1963), возможно, познакомился с Булгаковым еще в 1919 г. в Киеве, куда он переехал с редакцией газеты «Вечерние огни», или на Северном Кавказе, где он сотрудничал в Осваге (отдел пропаганды при Главнокомандующем Добровольческой армии) в Ростове-на-Дону. В феврале 1920 г. Д. эмигрировал (в тот самый момент, когда Булгакова свалил тиф); в Берлине в конце 1921 г. он наладил выпуск литературно-художественного журнала «Сполохи», а с лета 1922 начал издание альманаха «Веретеныш» (подробнее об этом далее); в обоих изданиях в 1922 г. выступит Булгаков. Вскоре после открытия московской редакции «Накануне» Д. так определил свой взгляд на газету и ее авторов: «Писатели, из России дающие рукописи, чисты перед совестью своей. В России нет прессы, «Накануне» — форточка для них, пропускающая свежий воздух свободной Европы (в ту весну Булгаков мог бы подписаться, пожалуй, под этими словами. — М. Ч.). Для писателей, живущих за рубежом, «Накануне» — хомут, добровольно накинутый ими на свои шеи, добровольное узилище и нечистоплотность <...>» (Сполохи. 1922. № 9. С. 24—25). В конце 1922 г. Дроздов, однако, внезапно примкнул к берлинским издателям «Накануне», сблизился с А. Н. Толстым и вслед за ним в начале декабря 1923 г. уехал в Москву (в 40-е и 50-е годы заведовал прозой «Нового мира», был в редколлегии «Октября»). Это была одна из тех судеб, которые, несомненно, привлекали внимание Булгакова.
С. 169. Об этой попытке закрытия Большого театра см.: Плутник А. Азбука для миллионов // Известия. 1987. 22 авг.
С. 188. Письмо А. А. Любищева цит. по копии, любезно предоставленной нам П. Нерлером.
С. 188 ...а я думал. — Россия. 1923. № 5. С. 25.
С. 190. ...потребность в свободной мысли. — Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии). Изд. 2-е, испр. и доп. Париж. С. 275—277.
С. 191. Воспоминания В. Мозалевского «Пути, тропинки, встречи» (1939—1956). Здесь и далее цит. по: ЦГАЛИ, ф. 2151, 1. 19, л. 59—61, 68—71.
С. 194. Сестра Татьяны Николаевны Софья училась в Саратове в консерватории вместе с женой Архипова, поэтому у жены Булгакова установились собственные отношения с этой семьей, сохранявшиеся и позже.
С. 196. Е. Венский (Е. О. Пяткин, 1885—1940-е), один из известных сотрудников «Сатирикона», 15 февраля 1920 г. был объявлен, вместе с Ю. Слезкиным и М. Булгаковым, среди сотрудников газеты «Кавказ», учреждавшейся как раз накануне прихода во Владикавказ новой власти. «Женя Венский неизвестно где, — писал Г. Алексеев А. П. Шполянскому (Дону Аминадо) 5 февраля 1921 г. из Далмации. — Он в момент отступления из Екатеринодара оставался в нем в сыпном тифу. («Русский Берлин». С. 104). В то время, когда писалось это письмо, Е. Венский, оказавшись, как и Булгаков, после болезни в городе, где установилась советская власть, уже готовил к выходу книжку «Буржуй в переплете», выпущенную в 1921 г. в переименованном городе — Краснодаре. А в следующем, 1922 г., Булгаков мог уже встретить его в Москве — в качестве сотрудника журнала «Крокодил», а затем (с 1924 г.) и «Бузотера», и «Смехача».
658
Письма Е. А. Галати здесь и далее цит. по: ЦГАЛИ, ф. 464, 1.41.
...едва избежавший больших неприятностей. — Слезкин чудом избежал расстрела; 18 июля 1920 г. в газете «Голос России» уже был помещен его некролог.
С. 203—205. Степун Ф. Мысли о России. Совр. зап. 1924. Т. 19. С. 321—324.
С. 208. Воспоминания П. Н. Зайцева цит. по: ЦГАЛИ, ф. 1610, оп. 2, ед. хр. 2, лл. 38, 18—19, 39.
С. 210. Воспоминания Б. К. Зайцева о 1921 — 1922 гг. — в его интервью Р. Герра, взятом в декабре 1970 г. и опубликованном одиннадцать лет спустя: Русский альманах. Париж. 1981. С. 467—468.
С. 212. ...их печатными произведениями. — Известия (Одесса). 1922, 26 нояб. (с незначительными разночтениями), обнаружено и перепечатано Г. Зленко. Вечерняя Одесса. 1986, 15 февр.; Наша неделя. Лит. приложение к газ. «Пролетарий» (Харьков). 26 нояб. 1922. № ,4 (обнаружено Т. Г. Шерстюк), см.: Яновская Л. Письмо писателя // Красное знамя (Харьков). 1986, 24 дек.
... П. А. Пильняк, Ю. В. Соболев. — Предыдущий состав правления Союза был избран всего несколько месяцев назад: «Б. К. Зайцев — председатель, М. Г. Осоргин и Н. А. Бердяев — товарищи председателя; А. М. Эфрос — секретарь, Н. С. Ашукин, Ан. Соболь — тов. секретаря...» (Всероссийский союз писателей // Россия. 1922. № 1. С. 20). Среди членов правления — Ю. Айхенвальд, Г. Г. Шпет.
С. 213. ...выпуск 2-го приостановлен. — Вестник русского книжного рынка. Берлин. 1922. С. 11.
С. 214. ...Госиздат и пр. — ГБЛ, ф. 192, 1.2, л. 6. Далее цит. последние листы той из единицы хранения.
С. 221. ...никакого Толстого. — Цит. по: Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. Лит. воспоминания. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1979. С. 170—171.
С. 221. В 1915 г. — Еще раньше Ю. Слезкин образовал в Петербурге литературно-художественный кружок «Богема» (подробнее см. в статье Р. Д. Тименчика: Тыняновский сборник, Рига. С. 161 —162, 170).
С. 222. ...Шестаков и др. — Художественная литература в Сибири: Сб. статей (1922—1927). Новосибирск, 1927. С. 12.
...при Колчаке. — Трушкин В. Литературная Сибирь первых лет революции. [Иркутск], 1967. С. 98.
С. 223. ...после его расстрела. — Цит. по: Флейшман Л. Письмо Ю. Г. Оксмана к Г. П. Струве. — Stanford Slavic Studies. Stanford. 1987. V. 1. P. 64—65.
С. 225. ...благоразумных соображений. — Если стремиться договаривать, нужно дать место и такому предположению: фиксируя в подчеркнуто автобиографических рассказах безобидный облик мобилизованного доктора, мечтающего о дезертирстве, Булгаков желал затушевать силуэт жесткого публициста добровольческих газет.
С. 226. Характерная для достаточно широкого круга отечественных литераторов (и дотянувшаяся в определенной степени до самых последних лет) неспособность или боязнь понять отличную от них позицию иначе как «игру», особый «расчет» и т. п. отразилась в дневниковой записи Ю. Слезкина от 4 ноября 1933 г., описывающей «ту пору, когда Булгаков, написав «Белую гвардию», выходил в свет и, играя в оппозицию, искал популярности в интеллигентских, цекубских (от Цекубу - те, кто составлял среду, названную А. Грином «пайковой» -пользующейся академическим пайком) кругах» (цит. по копии, любезно предоставленной нам Ст. Никоненко).
659
С. 231. С сокращениями статья Булгакова была перепечатана в виде предисловия к кн.: Слезкин Ю. Роман балерины. Рига. 1928. С. 7—21.
С. 232. ...В Коллегию защитников... 2 августа 1922 г. газета «Рабочая Москва» опубликовала «Список лиц, подавших заявление о зачислении в Коллегию защитников» (С. 7), среди них — Д. А. Кисельгоф. Полвека спустя, 12 июня 1970 г., впервые приехав к Татьяне Николаевне в Туапсе, я увидела Д. А. Кисельгофа; они поженились в 1947 г. в Москве и уехали в Туапсе. В 1970 г. они жили на улице Ленина, 6, кв. 6 (где и скончалась Татьяна Николаевна в 1982 г.). Маленький старичок сидел в кресле, то вслушиваясь в наш разговор, то ничего не слыша и хихикая чему-то своему. Время от времени он оживлялся и вставлял свои реплики:
— О, Коморский — это очень интеллигентный человек! (Имя Коморского я впервые услышала в тот день от Татьяны Николаевны.)
— Мы, знаете, в курсе всех современных событий. — Думаю, не хуже, чем вы в Москве! Мы следим за текущей литературой — читаем все журналы, знаете, через библиотеку, мы пользуемся библиотекой. Каждый вечер мы читаем. Время на это у нас есть. И, главное, — интерес! — он вновь заулыбался, тихий, благостный, довольный своей судьбой.
Когда Татьяна Николаевна вышла из комнаты, он, во время разговора обходивший имя Булгакова, вдруг произнес следующую тираду — так же весело и оживленно:
— Что Булгаков? У нас (т. е. у них с Татьяной Николаевной. — М. Ч.) есть все его книги. Видите ли — он не сумел понять совет ской действительности — вот в чем дело. В этом была его трагедия. Он же писал как Ильф и Петров — они тоже писали с юмором, тоже видели наши недостатки — но они видели и положительное!.. А он не сумел. Он смотрел со стороны. Я думаю, он сам от этого мучился. И вот его и сейчас побаиваются печатать. А если бы он сумел понять нашу действительность — вся его жизнь пошла бы по-другому.
С. 257—258. В Киеве Булгаков, несомненно, повидался — теперь уже, скорей всего, последний раз — со своим кузеном Константином. Косвенные впечатления от этой встречи — в очерке «Киев-город»: «„Ара" (Американо-Российская ассоциация. — М. Ч.) —солнце, вокруг которого, как земля, ходит Киев. Все население Киева разделяется на пьющих какао счастливцев, служащих в «Аре» (1-й сорт людей), счастливцев, получающих из Америки штаны и муку (2-й сорт), и чернь, не имеющую к «Аре» никакого отношения. <...> И вот кончается все это. «Ара» в Киеве закрывается, заведующий-молодожен уезжает в июне на пароходе в свою Америку...» («Накануне», 6 июля 1923 г.). В письмах от 12 февраля и 20 сентября 1988 г. И. Л. Карум сообщает, что в 1920-е годы ее родители с маленькой дочерью «жили в шикарной пятикомнатной квартире на 4-м этаже бывшего дома Винтера на улице Львовской (теперь Артема) № 55, кв. 21»; «В квартире на Львовской жили с нами и дядя Костя, и тетя Вера, которая готовилась стать киноактрисой и поэтому посещала какие-то театральные курсы» (Булгаков, таким образом, в одном доме виделся с двумя сестрами и двоюродным братом); Константин Булгаков «работал в Ар'е <...>, но после ее распада вместе с американскими сотрудниками уехал в Америку и поселился в Мексике, где женился и где у него родилась дочь Ира; года два мама переписывалась с дядей Костей, которого у нас в семье очень любили; он присылал нам интересные, красочные фотографии Мексики, но во время обыска и ареста папы «гепеушники» их забрали как вещественное «доказательство» связи с заграницей...»
...Через несколько лет, описывая в неоконченной повести «Тайному Другу» исчезновение высланного за границу «редактора Рудольфа». Бул-
660
гаков напишет: «И точно, он исчез. Но теперь я уверен, что его не выслали, ибо человек канул так, как пятак в пруд. Мало ли кого куда не высылали или кто куда не ездил в те знаменитые годы 1921 —1925! Но все же, бывало,
улетит человек в Мексику, к примеру. Кажется, чего дальше. Ан нет.......................
получишь вдруг фотографию — российская блинная физиономия под кактусом. Нашелся!» («Новый мир», 1987. № 8. С. 168.)
Ни фотографий, ни писем К. П. Булгакова в архиве писателя не осталось.
С. 258. В фельетоне «Бенефис лорда Керзона» извозчик, везущий автора с вокзала, «плел какую-то околесицу насчет патриарха Тихона, из которой можно было видеть только одно; что он — извозчик — путает Цепляка, Тихона и архиепископа Кентерберийского». За этими строками стояла злоба дня. 9 апреля архиепископ, глава англиканской церкви, сделал запрос в английском парламенте по поводу предстоящего суда над патриархом Тихоном. В меморандуме британского правительства («ультиматум Керзона» от 8 мая), угрожавшем расторжением (в связи с коммунистической пропагандой в Азии) торгового договора от 16 марта 1921 г., был пункт 21, относящийся к преследованиям религии; высказывалось предположение, не являются ли «эти преследования и казни» частью сознательной кампании, предпринятой «с определенной целью уничтожения всякой религии в СССР и замены ее безбожием. Как таковые, эти деяния вызвали глубокий ужас и негодующие протесты во всем цивилизованном мире» (цит. по: Милюков П. Россия на переломе. Париж, 1927. Т. 1. С. 313). 12 мая правители обновленческой церкви в обращении русского духовенства к архиепископу Кентерберийскому, примасу Англии, ставили его «в известность, что религиозная жизнь в настоящее время пользуется такой свободой, какой она никогда не пользовалась ни при одном из прежних правительств Отечества нашего» (цит. по: Регельсон Л. Трагедия русской церкви. 1917— 1945. Париж, 1977. С. 332). 16 июня патриарх Тихон сделал заявление в церковный суд с раскаянием в своей прежней деятельности и с просьбой об освобождении из-под стражи («Безбожник», 1923. № 28. С. 100); 25 июня было принято решение об освобождении. 28 июня патриарх написал послание к Церкви: «...я, конечно, не выдавал себя за такого поклонника советской власти, каким объявляют себя церковные обновленцы... но зато я далеко не такой враг ее, каким они меня выставляют...» («Правда», 1923, 4 июля).
С. 279—280. Сама Е. Ф. Никитина должна была хорошо представлять себе время и место действия: А. Дроздов вспоминает о «ростовском кружке, группировавшемся вокруг Е. Ф. Никитиной, русской феминистки и поэтессы, собиравшемся летом—осенью 1919 г. «по субботам» и неизменно все в одном и том же составе: Е. Н. Чириков, <...> проф. Ладыжников, Борис Лазаревский, Любовь Столица, худож. И. Билибин, Е. Лансере, Игнатий Ломакин <...> Е. Ф. Никитина и супруг ее, министр времен Керенского <...> изредка, как лакомое блюдо, заезжавшие из Европы политические деятели» (А. Дроздов. Указ. соч. С. 54).
С. 306. Вспоминая свою последующую жизнь, Татьяна Николаевна упоминала и о Булгакове — без гнева. — «...Он любил одеваться... купил себе потом лакированные ботинки, светлое пальто, цепочку... когда он заходил ко мне, соседка, которой я оставляла ключ, говорила: «Заходил Булгаков — собран очень хорошо: в пальто, при цепочке». У него уже после меня были карманные часы. ... Один раз мне Любовь Евгеньевна принесла деньги. «Вот Вам письмо от Михаила. Извините меня!..» Как-то он пришел и говорит: «Я не могу тебе сейчас дать денег, потому что дал 120 рублей Любе на аборт». Он совсем со мной не считался...»
661
Без всякой аффектации Татьяна Николаевна рассказывала, как зарабатывала себе профсоюзный билет — без него нельзя было получить никакой службы. «В 1926 или 1927 году я вставала в 6 утра, ехала на трамвае «А» куда-то на Птичий рынок и там таскала камни на носилках — до зимы. Потом меня перебросили мыть полы после известки. А я не могу. И я наняла женщину, чтоб она мыла! Наконец догадались меня поставить на выдачу инструментов. Но женщины мне говорили:
— Ты не наша — ты не так пахнешь!
А я вся была пропахшая «Красной Москвой». («Без пудры и духов я не могу», — говорила она и спустя полвека, в 1977 г. И в 88 лет ее интересовало, как она выглядит. Это было совсем другое, чем фабрика красоты, сопровождавшая всю жизнь Елены Сергеевны Булгаковой; то был скромный, но неотменяемый набор женских привычек саратовской гимназистки; молодой веселой жительницы предреволюционного Киева; пребывающей в унынии, часто плачущей жены врача в глухом российском углу; актрисы-статистки во Владикавказе; одинокой и несчастной женщины, которую поздним летом 1921 г. сажает через окно в битком набитый поезд в Одессе незнакомый молодой человек — и оставляет себе ее багаж... И снова — мужней жены, «быстрой дамочки» дома на Большой Садовой, всегда бегущей на каблучках...).
...И добилась, наконец, профсоюзного билета — месяца три так работала — и тогда поступила в Марьино-рощинскую амбулаторию — регистраторшей... А потом в поликлинику при Белорусско-Балтийской железной дороге — в справочном и регистраторшей...
(Никакой специальности у нее не было — «Булгаков ничего не давал делать. Я играла на пианино — «Ни к черту твоя музыка! Не надо этого совсем». Он считал — еще в Киеве говорил, — что жена ничем не должна заниматься — только быть при муже»).
— Он как-то пришел и сказал: «Я не могу к тебе ходить, потому что у меня какой-то страх — не могу ходить по улицам». Он приехал тогда на машине.
В 1932 или 1933 г. Татьяна Николаевна «сошлась» (по собственному ее выражению) с А. И. Крешковым — брат того, кто послужил прототипом героя «Спиритического сеанса». «Конечно, Крешков мне не очень подходил. Но ведь вокруг все были женатые! Коморские очень искали мне жениха — но все были женатые... Крешков ревновал меня к Булгакову; порвал его рукописи, кричал — «Ты его до сих пор любишь!» Года за полтора до войны она уехала с Крешковым в Сибирь. «С фронта он посылал мне аттестат — 500 рублей ежемесячно. Он просил — «дождись меня в Черемхове». А я написала — «Не могу одну оставить маму». И повезла ее — уже в конце войны — в Харьков к сестре Соне; там задержалась; переписывались; потом он написал, что у него будет ребенок, нам надо расстаться. И я тут же поехала в Москву. А комната моя оказалась занята — меня выписали».
Год она скиталась по чужим углам, работала в библиотеке; затем появился старый знакомый Д. А. Кисельгоф; она приняла его фамилию и уехала с ним из Москвы — уже навсегда.
С. 441. «рассказывал довольно широко...> Представляется важным, какими именно словами передавал он суть события своей первой жене. «Он сказал так, — рассказывала она нам: — «Я просил, чтобы меня отпустили за границу. Но Сталин сказал: «Отпустить мы вас не можем, а что вы можете делать здесь?» Тогда я сказал: «Пусть меня возьмут работать во МХАТ». Он именно мне говорил — «Меня не отпустили!» — подчеркивала она.
Постеснялся ли он признаться Татьяне Николаевне, больше всех знавшей о его настойчивых попытках отъезда, что в решающий момент
662
дрогнул и отказался сам? Или действительно почувствовал в голосе Сталина угрозу, превращавшую вопрос - в ответ? И тогда не следует ли отнести радостное возбуждение, владевшее Булгаковым первое время, на счет почти биологического чувства облегчения, которое он испытал удачно выпутавшись из опасного разговора?
С. 509. Об аресте Н. Эрдмана и В. Масса см., в
частности: Масс А.
Озорные басни и др. // Вопр. лит. 1987. № 1. С. 255—257.
С. 566. По-видимому, они смотрели фильм Генри Хаттауэя «Жизнь бенгальских уланов» (атрибуция, по нашей просьбе, киноведа В. Ю Дмитриева) .
С. 571. «Появился сегодня Лежнев, — писала Е. С. — Тот самый, который печатал «Белую гвардию» в «России». Был за границей в изгнании. Несколько лет тому назад прощен и вернулся сюда. Несколько лет не видел Мишу. Пришел уговаривать Мишу ехать путешествовать по СССР. Начал с разговора о том, что литературы у нас нет. Явная цель — воздействовать (это слово в контексте дневника Елены Сергеевны могло иметь и дополнительное значение — «провоцировать». — М. Ч.) Нервен, возбужден, очень умен, странные вспухшие глаза». И. Лежнев, уже выступивший год назад на съезде писателей с откровенно ренегатской речью, уже принятый в партию по личной рекомендации Сталина, с этого года заведовал отделом литературы в «Правде»...
О фигуре И. Лежнева и политической истории сменовеховства наиболее полно рассказано в работах: Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980; его же. Переписка И. Лежнева и Н. Устрялова. Slavica Hierosolymitana. 1981. V—VI; см. также: Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова: Материалы для творческой биографии писателя // Записки Отдела рукописей. М., 1976. Вып. 37. С. 52—55; ее же. Неоконченное сочинение Михаила Булгакова // Новый мир. 1987. № 8. С. 180—184.
С. 575. 7 января Е. С. записывала: «„Пиковая дама" Мейерхольда. Многое очень интересно режиссерски (мгновенное появление графини со свечкой, солдат вносит свечу в казарме, появление черного человека в сцене игры Германа, приезд Николая), но много и безвкусного. Какая-то пятнистая постановка! Поют плохо».
С. 589. На юге Булгаков узнал о тех общественно-политических событиях, которые стали началом «большого террора». 21 августа в «Правде» под заголовком «Стереть с лица земли!» было опубликовано требование президиума Правления Союза советских писателей «во имя блага человечества применить к врагам народа высшую меру социалистической защиты». Булгаков увидел подписи не только А. Афиногенова, Вс. Вишневского, В. Киршона, П. Павленко, В. Ставского, но и подписи Л. Леонова и К. Федина, а главное — Б. Пастернака. (Исследователи биографии поэта полагают, что она не была «добровольным актом». — Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы. Иерусалим. 1984. С. 370). Среди тех, чьего расстрела домогались, были критик Ричард Пикель, печатно радовавшийся осенью 1929 г. снятию со сцены всех булгаковских пьес, и Каменев, чье резко выраженное мнение подвело черту под судьбой повести «Собачье сердце». Булгаков не мог питать к этим людям симпатий. Но нет никаких оснований предполагать, что автор начерно завершенного этим летом романа о Иешуа мог радоваться, прочитав 26 августа 1936 г. сообщение о казни всех шестнадцати подсудимых.
С. 588. Разговор с С А. Самосудом 14 сентября 1936 г. вплотную поставил Булгакова перед необходимостью принимать решение. В ту же ночь неутомимо добросовестная Елена Сергеевна фиксировала в дневнике ход дальнейших размышлений, доводы за и против: "После ухода мы с М. А. говорили о том, что предпринять.
663
У него опасения, что если бы он пошел работать в Большой театр, то ему либо помешают в этом намерении, либо начнут травить со стороны, и может ли Самосуд его отстоять. <...>
Самосуд талантливый человек, он разбирается в вопросах оперы. Как верно, например, его замечание, что в опере важен не текст, а идея текста».
С. 590. В знаменательный для него день 5 октября Булгаков написал письма двум неизменным своим сочувствователям. Одно — П. С. Попову: «У меня была страшная кутерьма, мучения, размышления, которые кончились тем, что я подал в отставку в Художественном театре и разорвал договор на перевод «Виндзорских».
Довольно! Все должно иметь свой предел. <...> Прикажи вынуть из своего погреба бутылку Клико, выпей за здоровье «Дней Турбиных», сегодня пьеса справляет свой десятилетний юбилей. Снимаю перед старухой свою засаленную писательскую ермолку, жена меня поздравляет, в чем и весь юбилей» («Новый мир», 1987. № 2. С. 178; публ. В. Гудковой) .
О том же, но более резко — Я. Л. Леонтьеву: «Сегодня у меня праздник. Ровно десять лет тому назад совершилась премьера «Турбиных». Десятилетний юбилей.
Сижу у чернильницы и жду, что откроется дверь и появится делегация от Станиславского и Немировича с адресом и ценным подношением. В адресе будут указаны все мои искалеченные или погубленные пьесы и приведен список всех радостей, которые они, Станиславский) и Нем(ирович), мне доставили за десять лет в Проезде Худ<ожественного> Театра. Ценное же подношение будет выражено в большой кастрюле какого-нибудь благородного металла (например, меди), наполненной тою самой кровью, которую они выпили из меня за десять лет» (ИРЛИ, ф. 369, ед. хр. 325, авторская копия).
С. 598. 6 апреля 1937 г. Е. С. запишет: «Вечером с Анусей (А. С. Вильяме, жена художника. — М. Ч.) была в Еврейском театре на «Короле Лире». Не досидели до конца. Пьеса примельчена, перенесена в другой план. Михоэлс паталогичен».
15 апреля. «... из Д(ома) С(оветских) П(исателей) (после гражданской панихиды по Ильфу. — М. Ч.) пошли в Камерный — генеральная «Дети Солнца» — и видели один акт, больше сидеть не было сил. Миша сказал, что у него чешется все тело, сидеть невозможно. Действительно, чудовищно плохо! Вот постарался Таиров исправиться! (т. е. — после снятия оперы «Богатыри» по либретто Д. Бедного. — М. Ч.). Но как ни плоха игра актеров — пьеса еще гаже».
20 преля. «Слух о том, что приехал в СССР Куприн. М. А. этому слуху не верит».
21апреля. «Слух о том, что с Киршоном и Афиногеновым что-то неладно. Говорят, что арестовали Авербах. Неужели пришла Немезида для Киршона?»
22 апреля. «Вечером — Качалов, Литовцева, Дима Качалов (В. Шверубович. — М. Ч.), Марков, Виленкин, Сахновский с женой, Ермолинский, Вильямсы, Шебалин, Мелик с Минной — слушали у нас отрывки из «Записок покойника» и смеялись. Но у меня такое впечатление, что в некоторых местах эта вещь их ошеломляет. <...> Марков рассказывал, что в ложе (по-видимому, на «Анне Карениной») был разговор о поездке в Париж, что будто бы Сталин был за то, чтобы везти «Турбиных» в Париж, а Молотов возражал».
Диковинные пересказы разговоров в бывшей царской ложе театра давно уже стали частью воздуха, которым он дышал.
С. 609. За сведения об этих репрессиях автор благодарит Д. Юрасова.
664
С. 610. На фоне этих каждодневных сообщений об арестах обострялось настороженное внимание к поведению тех, кто бывал в доме; 15 ноября 1937 г. Елена Сергеевна тщательно описывает поведение знакомого молодого актера: «пока М. А. говорил по телефону, он, войдя в кабинет, подошел к бюро, вынул оттуда альбом, стал рассматривать, осмотрел подробно бюро и пытался даже заглянуть в конверт с карточками, лежащий на бюро. Форменный Битков!
А жаль, так вообще он и талантлив, и остер, и умен». Осведомительство становилось чем-то вроде болезни, приключавшейся с разными людьми.
Елена Сергеевна записывала далее: «Сегодня днем мы проходили по Камергерскому пер. и видели, как ломали, вернее, доламывали Малую сцену МХАТа — место рождения М. А. как драматурга. Там шли репетиции первые «Дней Турбиных», или «Белой гвардии», как тогда называлось».
24 ноября. «...Звонил Я<ков> Л<еонтьевич Леонтьев>, говорил, что сегодня на «Подн<ятой> целине» был ген<еральный> секр<етарь> и, разговаривая с Керженцевым, сказал так: «А вот же Б<улгако>в написал „Минина и Пожарского"...»
1 декабря. «Звонок Кузы — о «Дон Кихоте». Разговор с М. А. — браться ли? Денег нет». Речь шла об инсценировке романа Сервантеса.
5 декабря Я. Леонтьев принес только что вышедшую, видимо, книгу Л. Фейхтвангера «Москва 1937». 6-го — запись о чтении: «Книга Ф. произвела на нас обоих самое неприятное впечатление». Не исключено, что запись отражает слухи об изъятии книги из продажи вскоре после выхода; в их домашней библиотеке книга сохранилась до 1970 г. 7-го театр Вахтангова выдал аванс за «Дон Кихота»: «Получили деньги, вздохнули легче, — записывала Елена Сергеевна. — А то просто не знала, как быть дальше. Расходы чудовищные, поступления небольшие. Долги». Она описывала характерный разговор с одним из знакомых, встретившимся ей в театре: «Спрашивает радостно:
— Как чудесно, что М. А. опять работает для вахтанговцев. Что он пишет? — «Дон Кихота».
Наступила пауза. Чудовищная, такая, что я, решив ее заполнить чем-нибудь, прибавила: — Сервантеса.
Тут он, совершенно огорченный, забормотал:
— Да-да, конечно... Знаю... Но почему же не современную? Это было бог знает когда... Надо же современную пьесу ему написать!» «Вечером М. А. пошел проведать Ермолинских», — продолжала Е. С; он попал на именины к Топлениновым (в том же доме в Мансуровском переулке): «Налицо — вся Пречистенка, как называет М. А. весь этот круг».
8 ноября Булгаков отметил в рукописи начало работы над инсценировкой «Дон Кихота».
13-го на обеде у Ф. Н. Михальского с мхатовскими актерами; «В конце вечера, уже часу в первом, появился какой-то неизвестный в черных очках, черной тужурке, лет 50-ти с виду, оказавшийся Фединым товарищем по гимназии» (внизу расшифровывающая сноска карандашом, видимо, позднейшая: «Не Туллер ли первый?» — персонаж из «Адама и Евы»).
14-го Булгаков встречается с Керженцевым, который «сообщил, что докладывал высокоответственному лицу о «Минине», просил М. А. сделать необходимые переделки в либретто. Сказал, что поляки правильные. (А прошлый раз говорил, что неправильные.) Надо увеличить роль Минина, арию вроде «О поле, поле...» и т. д. ...О «Кихоте» сказал, что надо сделать так, чтобы чувствовались современные испанцы (?!). М. при-
665
ехал домой в его машине, усталый, измученный в 7 ч. веч. Вечером — Дмитриев».
17-го — «...В газете «Правда» статья Керженцева «Чужой театр» — о Мейерхольде. Резкая критика всего театрального пути Мейерхольда. Театр, несомненно, закроют».
19-го — «Вечером пришел к нам Сережа Ермолинский, а потом — Вильямсы с Шебалиным».
24 декабря в газетах сообщение о расстреле А. С. Енукидзе — того, на имя которого не раз, начиная с 1929 г., направлял Булгаков свои заявления об отъезде или поездке за границу.
1 января 1938 года Булгаков читал у Вильямсов главу «Дело было в Грибоедове». 8 января. «Сегодня постановление Комитета о ликвидации театра Мейерхольда». 12 января. «Сняли Шумяцкого из кино». 13 января. «Были в Всероскомдраме. Как всегда, отвратительное впечатление». 14 января. «Миша с Серг<еем> Ермол<инским> ходили на лыжах».
16-го узнали, «что Польша запрашивает «Мольера» для постановки. Ну, совершенно ясно, что ни под каким видом отсюда не дадут разрешения послать «Мольера» туда...»
17 января в Брюсовском переулке (теперь ул. Нежданова) Булгаковы встретили Мейерхольда и 3. Райх. «Опять невольно думаешь, — записывала Елена Сергеевна, — что будет с Мейерхольдом после закрытия театра. Куда же его денут?»
18 января. «...Гробовая новость о Керженцеве. На сессии, в речи Жданова, назван коммивояжером. Закончилась карьера! Боже, сколько путаницы и вреда он причинил искусству! Кто-то будет на его месте?»
19-го — звонок чиновника, занимающегося связями с заграницей: «...никакой речи быть не может о том, чтобы можно было отправить экземпляр в Польшу для постановки. Стало быть, ни дома, в отечестве, ни заграницей М. А. играться нельзя. Кроме того, что и отвечать в Польшу, тоже неизвестно».
20 января. «Сегодня в газетах — новый председатель Комитета по делам искусств. Долго всматривалась в его изображение в газете, стараясь понять, что за человек. Не знаю, не знаю...». Это безрезультатное всматривание в новые и новые газетные фотографии становилось обычным занятием интеллигенции. «...Ночью часов в 12 забрел Дмитриев, сидел с М. А., ужинал, рассказывал, что был у Мейерхольда. У того уже на горизонте появился Алексей Толстой с разговорами о постановке «Декабристов» Шапорина в Ленинграде. Вероятно, ему дадут ставить оперы». Это прозвучало для Булгакова раздражающе. Занеся в дневник сказанные им после ухода Дмитриева жесткие слова о Мейерхольде (см. с. 608), Е. С. завершила запись словами: «Как хорошо». Неприязнь к Мейерхольду подогревалась в семье Булгаковых не только его неоднократными резкими оценками Булгакова, не только разницей художественных и идеологических позиций, но и долго державшимся статусом признанного и обласканного властью художника. «Мейерхольд тех лет, — свидетельствует, говоря о двадцатых годах, Ю. Елагин, — не имел ни малейших ограничений в своих заграничных связях. <...> Почти каждое лето ездили они с Райх отдыхать в Западную Европу — то на воды в Карлсбад или в Баден-Баден, то на Ривьеру или в Венецию. В Москве он бывал окружен иностранцами <...> Не будет преувеличением сказать, что никогда так глубоко не дышал он западным воздухом, как в двадцатых годах...» (Елагин Ю. Темный гений. London. 1982. С. 262; 1-е изд. —N. У., .1955).
25 января. «Да, сегодня вечером входит М. А. и говорит — «вот, прочитай», дает «Вечерку». В ней статья, названная «Мой творческий отчет», — Шостаковича (конечно, о 5-й симфонии).
666
Ох, как мне не понравилась эта статья! Уж одни эти слова — «Очень верны слова Алексея Толстого...»— они одни чего стоят!.' Ну, словом, не понравилась статья. И писать даже не хочу. Я считаю Шостаковича гениальным. Но писать такую статью! 29-го симфонию играют в Консерватории».
С. 611. ...о мелких дрязгах. — Говоря о состоянии, в котором находился В. В. Дмитриев после ареста жены, красавицы Веты Долухановой, напомним слова А. А. Ахматовой о первых месяцах 1938 года: «О пытках все говорили громко». Она же приводит слова Н. Я. Мандельштам после вторичного ареста поэта 2 мая 1938 г.: «Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер» (Ахматова А. Листки из дневника. — Юность. 1987. № 9. с. 74). «К физическим пыткам прибегали довольно часто, но до 1937 года они применялись вопреки правилам. Затем неожиданно они превратились в обычный метод допроса — во всяком случае, в большинстве дел на более низком уровне»; в конце 1936 года предположительно появились первые инструкции о применении пыток; в начале 1937 года была получена официальная санкция «Центрального Комитета, то есть Сталина» (Конквест Р. Большой террор. Флоренция. 1974. С. 267).
16 февраля. «Вечером Миша урывками — к роману...»
17 февраля вечером у Булгакова — Мелик-Пашаев с женой, О. Бокшанская и Е. Калужский. «Миша показывал — блестяще, — как Мелик дирижирует, а Калужский, как всегда, изображал Немировича».
23 февраля. «В Большом какая-то нескладица в балете», — записывала Е. С, виртуозно выбирая безопасные слова, и перечисляла, кого арестовали. «Миша говорил, что арестован доктор Блументаль», — завершалась судьба того, кто послужил прототипом Борменталя «Собачьего сердца».
28 февраля. Е. С. отмечает в дневнике газетное сообщение «о том, что 2 марта в открытом суде (военной коллегии Верх, суда) будет слушаться дело Бухарина, Рыкова, Ягоды и др. (в т. ч. проф. Плетнева)»; доктора «обвиняются в злостном умерщвлении Горького, Менжинского и Куйбышева.
Целый день я была под впечатлением этого сообщения». За этой фразой, вынесенной в отдельный абзац, — их домашние разговоры, догадки, недоумения. Вечером у них Вильямсы. «Миша читал им первый акт своей пьесы «Адам и Ева», написанной когда-то по заказу ленинградского Вольфа. Миша ненавидит эту пьесу всею душой. И я его вполне понимаю, и сама терпеть не могу. Написанная под давлением обстоятельств, вымученная, холодная, ненужная пьеса».
С. 612. «Приговор — все присуждены к расстрелу, кроме Раковского, Бессонова и Плетнева. Вечером Миша в Большом — с Самосудом и Мордвиновым. Разбор либретто «Мать» по Горькому».
17 марта. «Сегодня в 4 ч прибыли в Москву папанинцы. Мы сначала слушали по радио — речи, потом я выключила, очень утомляет, шумно.
Наши газетчики не обладают чувством меры. Последние дни газеты полны однообразными статьями, снимками.
Вечером к нам пришли Вильямсы. Миша прочитал им в новой редакции «Слава петуху» и «Буфетчика»» (шла работа над «Мастером и Маргаритой»).
С. 618. 7 ноября 1938 года позвонил Н. С. Ангарский (работавший в «Международной книге») о том, что «Дни Турбиных» идут в Лондоне под названием «Белогвардейцы» и Булгаков должен протестовать. Е. С. записала его слова: «Против чего? Ведь я же невидел этого спектакля.
Вот к чему приводит такое ненормальное положение. Ведь обычно, если пьеса какого-нибудь нашего автора идет за границей, он едет туда и
667
как-то руководит постановкой. Но что я могу сделать, если меня упорно не пускают за границу? Как можно протестовать против того, чего не видел?»
С. 621. 24 ноября. Обедали в Союзе писателей по приглашению В. Дмитриева. «С удовольствием ели раков. Дмитриеву вернули паспорт (НКВД на несколько месяцев задержало ему паспорт. — М. Ч.). Но какие лица попадаются в этой столовой, что-то страшное! <...> Вечером Миша зашел на «Кавказского пленника», говорит, что ему показалось, что в правительственной ложе видел В. Молотова и И. В. Сталина».
С. 624. Замысел пьесы возник в одной ситуации, а реализовывался в другой. В начале 1936 г. (которое было иным, чем лето того же года) Булгаков думал писать о человеке, на счету которого он числил недавние гуманные жесты, еще более гуманные обещания, который, как бы жестко не оценил его пьесу «Дни Турбиных» в письме к Билль-Белоцерковскому 1929 года, — видно, все же питал к ней какие-то симпатии (иначе разве ходил бы смотреть столько раз!), что не могло не льстить автору. И, наконец, Сталин был для него в этот момент очередным воплощением российской государственности — и он стремился найти ему место в истории этой государственности, обратясь к замыслу учебника.
Имело личное значение само место действия — Батум. Недаром в тетради, где размечается хронология курса истории, последняя запись относится к Батуму 1921 года — летом того года именно оттуда стремился Булгаков уехать за границу. Теперь он старался найти нелживые слова для описания ситуации, хорошо ему известной, и неуверенность в слове (столь несвойственную ему в его сочинениях!) отразили вопросительные знаки: «...25.П. Меньшевистское правительство Грузии бежало (?) уехало (?) из Тифлиса в Батум. Ревком Грузии вступил в переговоры, но меньш(евики), ведя переговоры, приготовились к эвакуации и покинули пределы СССР» (хотя, заметим, СССР тогда еще не было; ИРЛИ, ф. 369, ед. хр. 268). Два с половиной года спустя, принимая решение писать о Сталине пьесу, автор был в иной ситуации. Прежде всего, теперь не он выбирал эту тему, как в 1936 году (вот почему он будет потом настойчиво говорить о том, что у него есть документальные доказательства возникновения замысла в то именно время), а ему ее предлагали, о переговорах с ним знали в театральной среде — и замаячила угрожающая ситуация отказа от темы вождя. Теперь это могло повести к непредсказуемым последствиям.
В физиологии известно явление «запредельного торможения» (за указание благодарим чл.-корр. АН СССР В. П. Скулачева): при повторяющемся и все усиливающемся воздействии каких-либо раздражителей — например, высоких температур — живой организм перестает на них реагировать (скажем, человек уже не отдергивает руку от огня).
Кровавые события превысили возможности объяснений (это ощущение запечатлено в эпилоге последнего романа) и каких-либо живых реакций — это и было «запредельное торможение».
В 1921 году он писал «революционную пьесу из туземного быта», а в 1923-м, перечитав, «торопливо уничтожил». В 1927 — 1928 гг. он написал пародию на революционные пьесы, а в 1929-м пояснял «тайному другу»: «для того чтобы разразиться хорошим революционным рассказом, нужно самому быть революционером и радоваться наступлению революционного праздника». Теперь он хладнокровно, умело возбуждая воображение, воссоздавал пьесу, которая была объектом пародирования в его «Багровом острове» (сцена Николая II и министра в «Батуме» почти буквально воспроизводит диалоги Сизи и Кири).
Работа над пьесой шла в то же самое время, что и работа над эпилогом романа, но в иной «литературе»: здесь не было свободы худо-
668
жественного выбора, непременной для творчества. Восемнадцать лет назад, притиснутый во Владикавказе к стенке новым, утверждавшим себя жизнеустройством, он писал сестре Вере: «Дело в том, что творчество мое разделяется резко на две части: подлинное и вымученное». Он потратил последующую жизнь на то, чтобы доказать возможность единого творчества — в любых условиях. Теперь он был вновь отброшен к началу своего литературного пути — владикавказская модель взаимоотношений с победившей властью оказалась верной.
С. 626. 19 февраля 1939 г. Булгаков с 10 часов до 4-х пробыл на генеральной репетиции «Ивана Сусанина». Е. С. записывала его слова: «Почему не было бешеного успеха «Славься»? — Публика не знала, как отнестись».
С. 633. Современницы Е. Долухановой, обивавшие в тот и последующие годы пороги НКВД, стремясь узнать о своих мужьях, порой получали косвенные сведения и о судьбе других людей. Так им стало известно, что ведомство отомстило женщине, не захотевшей оказать ему услуг, — она погибла под пытками в стенах внутренней тюрьмы. Страшный конец ее был предрешен с самого начала: вскоре после ареста ее мужу с палаческой прямотой было сказано, чтобы он искал другую жену.
С. 633. Впоследствии, комментируя записанную ею фабулу пьесы «Ласточкино гнездо», Е. С. напишет: «Яго» — с точкой. Именем шекспировского героя она шифровала, по нашему мнению, отождествление одного из персонажей с Ягодой.
С. 634. 23 июня 1939 г. в дневнике Елены Сергеевны запись: «Будто бы арестован Мейерхольд».
С. 642. Булгакову хотелось, чтобы известие о постигшей его болезни достигло тех его друзей «пречистенского» времени, которые давно были выброшены за пределы Москвы, но кому покуда сохранялась еще жизнь и «право переписки». 4 (или 21 — дата неясна) октября 1939 г. H. H. Лямин писал П. С. Попову из Калуги: «Очень обеспокоен здоровьем Маки. Послал письмо ему и открытку Люсе. Не могу поверить, чтобы с ним стряслась такая ужасная катастрофа. <...> Неделю тому назад я получил от Маки продиктованное им и весьма печальное письмо» (архив П. С. Попова и А. И. Толстой, хранящийся у Н. И. Толстого) .
С. 648. 12 февраля 1940 г. H. H. Лямин писал Попову из Калуги: «Дорогой Патя, благодарю тебя за твое хорошее, но очень печальное письмо. Я очень ясно представил себе обстановку Нащокинского переулка, и мне стало обидно, что я сейчас не могу быть там. Большой период моей жизни был связан с Макой, думаю, что и в его жизни я когда-то сыграл какую-то роль. Тебе, конечно, нужно возможно больше и чаще бывать у Маки. Ему это, наверное, очень приятно. Да и, кроме того, выражаясь громким языком, кто достаточно беспристрастен, чтобы запечатлеть и сохранить его подлинный образ. Это могут сделать только несколько его ближайших друзей и не конкурентов по писательской работе. Впрочем, может быть, все наши опасения излишни. Хочется думать, что он опять справится с новым приступом опасностей <...> Непременно передай от меня побольше нежных слов Маке. Вырази ему мою любовь так, как ты умеешь. Крепко целую тебя и Анну Ильиничну. Тата (Н. А. Ушакова. — М. Ч.) шлет привет. Твой Коля» (хранится у Н. И. Толстого).
С. 650. В один из последних дней он заставил жену собрать все свои рукописи и вынести из дому, чтобы зарыть в лесу. Она все собрала, связала, сделала вид, что выносит — и оставила связки между двумя выходными дверями, а когда он заснул — внесла назад.
669
«Почти накануне смерти, — рассказывала Елена Сергеевна 3 ноября 1969 года, — он потребовал снять с себя рубашку. Почему-то он думал, что в рубашке они могут его увезти, а без рубашки нет...»
С. 651. «В последние дни, — рассказывала Елена Сергеевна, — он попросил меня позвать Якова Леонтьевича (Леонтьева). Я позвонила ему. Тогда Миша попросил меня зажечь около кровати на тумбочке свечи. Я, недоумевая, зажгла. И когда Я. Л. зазвонил у двери, Миша сложил руки и закрыл глаза. Бедный грузный Я. Л. чуть не скончался на месте. И я поняла — он, умирая, играл! Он продолжал свое актерство, свои розыгрыши — уже не видя...
Он попросил Я. Л. нагнуться и что-то прошептал. Только после смерти я узнала, что Миша сказал: «Люся захочет, конечно, хоронить меня с отпеванием. Не надо. Ей это повредит. Пусть будет гражданская панихида». И потом многие (тогда — многие ли? — М, Ч.) меня упрекали — как я могла так хоронить верующего человека... Но это была его воля».
(Считаем необходимым привести и свидетельство С. А. Ермолинского. В одном из наших разговоров он решительно отверг такое объяснение последней воли Булгакова: «Не в этом дело! Он боялся того, что случилось с Гоголем! После перезахоронения (в 1931 г. — М. Ч.) об этом много говорили по Москве. И он не раз говорил: «Ты помнишь, что Гоголь перевернулся в гробу?.. Нет-нет — в крематории! Там даже если очнешься, не успеешь ничего почувствовать — пых, и все!»
«...Огонь, с которого все началось и которым мы все заканчиваем».)
Н. А. Ушакова говорила нам о его просветленном лице в первый день после смерти: «У него стало прежнее, знакомое лицо, а последний месяц было чужое». Это пристальный взгляд художницы, не раз рисовавшей Булгакова.
С. 657. 16 апреля 1940 г. Елена Сергеевна, собираясь в Ялту, в дом писателей, записала: «Фадеев — успокоил насчет квартиры, все обещал сделать, пьес еще не прочитал — тоже обещал не откладывать. Предложил, если понравится в Ялте, продлить путевки. Спросил, есть ли деньги. {...) Всякие пустые звонки, приходы. Потом — Анна Ахматова). Прочитала то, что написала для него. Взяла фотографии. Сказала: Замятин умер ровно за три года (10 марта 1937)».
Татьяна Николаевна Лаппа знала о его болезни. «Н. Архипов сказал мне зимой 1939 года: «Тася, позвоните Булгакову — он ослеп». А я не стала».
Перед смертью Булгаков послал за ней свою младшую сестру. «Леля пришла за мной, ей сказали, что я здесь не живу — «Позвоните Крешковой». И Вера Федоровна ей сказала: «Она в Черемхове». Это под Иркутском, в ста километрах, — там мы жили с Крешковым. Пришла газета, и Крешков сказал: «Твой Булгаков умер».
Автор сердечно благодарит всех, кто в разные годы помогал и помогает восстанавливать биографию Михаила Булгакова.
Напомним прежде всего имена тех, чьи умолкнувшие голоса слышатся, мы надеемся, в этой книге: Е. С. Булгакова, Т. Н. Кисельгоф, Л. Е. Белозерская, Н. А. Земская, А. А. Ткаченко (Бархатова), Е. Б. Букреев, С. А. Ермолинский, М. Г. Нестеренко, Н. К. Шапошникова...
Наша признательность — Н. А. Ушаковой и М. А. Чимишкиан-Ермолинской, М. Н. Ангарской, М. В. Вахтеревой, Е. П. Кудрявцевой, племянницам писателя И. Л. Карум, Е. А. Земской и В. М. Светлаевой, К. А. Марцишевской, А. А. Ширяевой, Ю. И. Абызову, Р. Янгирову, Н. Филатовой, Д. Э. Тубельской, Н. А. Клыковой, Т. Е. Гнединой, Е. М. Галачьян, Б. В. Ананьичу, Р. Ш. Ганелину, землякам писателя — киевлянам — С. И. Белоконю, Н. Е. Букреевой, В. Г. Киркевичу, В. В. Ковалинскому, Т. А. Рогозовской, К. Н. Питоевой, А. Н. Кончаковскому, А. Ершову, М. Кальницкому, А. Лягущенко, В. П. Закуренко. Благодарность — всем друзьям и коллегам в отечестве и за его пределами за добрые советы и практическую помощь, читателям журнального варианта «Жизнеописания» — за поправки и замечания.
СОДЕРЖАНИЕ
Фазиль Искандер. Уроки мужества.............................................................. 5
Предисловие автора ...................................................................................... 7
Глава первая
Киевские годы: семья; гимназия и университет.
Война. Медицина. Революция.................................................................... 14
Глава вторая
Первые московские годы............................................................................ 149
Глава третья
Театральное пятилетие (1925—1929)...................................................................................... 317
Глава четвертая
Годы кризиса (1929—1931)........................................................................ 403
Глава пятая
Возвращение к роману. Новые пьесы и надежды
(1932—1935)................................................................................................ 491
Глава шестая
Новый крах. «Что ж, либретто так либретто!»......................................... 575
Глава седьмая
«Последний закатный роман». Последняя пьеса (1938—1940).............. 613
Примечания................................................................................................. 652
Мариэтта Омаровна Чудакова ЖИЗНЕОПИСАНИЕ МИХАИЛА БУЛГАКОВА
Редакторы Т. В. Громова, Е. Л. Новицкая Художественный редактор Т. Добер Технический редактор А. 3. Коган Корректор Л. В. Петрова
ИБ № 1804
Сдано в набор 30.05.88. Подписано в печать 26.09.88. А02060. Формат 84Х
108/32. Бум. тип. № 2. Гарнитура тип Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л.
35,28. Усл. кр.-отт. 35,28. Уч.-изд. л. 41,56. Тираж 90 000. Изд. № 4704.
Заказ № 8—1799. Цена 2 р. 80 коп.
Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.
Головное предприятие республиканского производственного объединения
«Полиграфкнига». 252057, Киев-57, ул. Довженко, 3.
СПИСОК ОПЕЧАТОК
|
Страница, строка |
Напечатано |
Следует читать |
||
|
90 |
2 |
сверху |
в газетах: |
в газетах: «Завтра — бега...» |
|
91 |
15 |
— » — |
рукою Николки |
«рукою Николки |
|
103 |
18 |
— » — |
нет |
нет» (дневник врача), |
|
111 |
17 |
— » — |
женка |
жинка |
|
|
23 |
— » — |
разумейте! |
разумейте!» |
|
121 |
9 |
снизу |
в руках |
в руках всемирного |
|
129 |
10 |
— » — |
приказу |
примеру |
|
134 |
7 |
сверху |
Тверского |
Терского |
|
150 |
22 |
— » — |
Ущ! |
Угу! |
|
166 |
8 |
— » — |
элементы». |
элементы. |
|
212 |
20 |
— » — |
Федоров-Цявловский |
Федоров, Цявловский |
|
220 |
16 |
— » — |
значительным откровением |
значительным, откровением |
|
226 |
1 |
снизу |
Голос... не был записан |
Речь... не была записана |
|
229 |
2 |
сверху |
в гробу значительно повеселел |
значительно <...> повеселел в гробу |
|
240 |
6 |
снизу |
в ее квартире до смерти Т. Н. |
в квартире Т. Н. до ее смерти |
|
273 |
14 |
— » — |
Владимир Павлович |
Владимир Иванович |
|
320 |
19 |
— » — |
разворот |
разворота |
|
332 |
13 |
— » — |
Б. Я. Леонтьев |
Б. Л. Леонтьев |
|
354 |
13 |
снизу |
герой который, |
герой, который |
|
|
11 |
сверху |
не удивился |
не ответил |
|
400 |
13 |
снизу |
зверя». |
зверя. |
|
424 |
3 |
сверху |
В. Д. |
В. Н. |
|
435 |
8 |
снизу |
если бы |
если |
|
|
7 |
— » — |
задумывал бы |
задумал бы |
|
|
2 |
— » — |
он хочет быть |
где хочет быть — |
|
541 |
3 |
сверху |
Мастер! |
мастер! |
|
556 |
4 |
— » — |
Г. Г. Ярхо |
Б. И. Ярхо |
|
596 |
20 |
снизу |
5 февраля в Советском искусстве |
Несколькими месяцами спустя |
|
605 |
10 |
— » — |
С. С. Шиловского |
С. Е. Шиловского |
|
619 |
6 |
сверху |
Думы об Опанасе |
Думы про Опанаса |
|
646 |
18 |
— » — |
написанной |
дописанной |
|
647 |
10 |
— 11 снизу |
впустил. |
впустил |