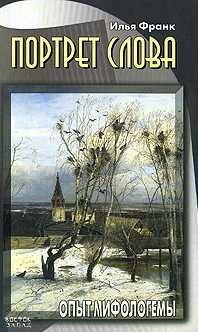
ИЛЬЯ ФРАНК
ПОРТРЕТ СЛОВА
(Опыт мифологемы)
Оригинал книги – на сайте www.franklang.ru
Аннотация
Культурологическое эссе-исследование «Портрет слова» посвящено поиску художественного, композиционного принципа в предстоящей человеку мозаике повседневной жизни, в истории и в языке. Первая часть («Цветочный путь») — о том, как обычные, случайные вещи и явления в какой-то момент способны складываться в определенную, неслучайную композицию.
Вторая часть («Чет и нечет») — о том, что и в истории человечества очевидны такие моменты откровения, которые задают ее ритм.
Третья часть («Портрет слова») — о «внутренней музыкальности слов» (Бунин), то есть о неслучайности слова.
В книге есть еще и стихотворное приложение («Крест и круг»).
Предисловие
Эту книгу я начал писать в 1983 году, двадцатилетним студентом (в эпоху безвременья — что важно для самой идеи книги), закончил в 1995 году. Слово «писать», пожалуй, не очень подходит, поскольку предполагает, что первую страницу я начал писать тогда-то, а последнюю страницу дописал и поставил точку тогда-то. Это было бы даже смешно утверждать, учитывая весьма небольшой объем книги. Речь скорее может идти о появлении и постепенном (точнее, поэтапном) развитии одной идеи. «Одна» здесь не только неопределенный артикль, идея действительно в книге одна. Я хорошо помню, что в самом начале, когда начал делать первые наброски, у меня была совершенно определенная установка: неважно, как я напишу, важно что. Побочным результатом такой установки было то, что все первые наброски и варианты того времени невозможно читать (и я их выкинул). Очень нескоро я нашел форму, которая мне представляется подходящей: форму коллажа. Идея развивается через подборку цитат, подчас очень объемных.
Жанр книги — культурологическое эссе, а эссе переводится как «опыт». И действительно, в этом жанре опыт — опыт восприятия — единственное доказательство. То, что я утверждаю, я утверждаю не столько своими словами, сколько говоря словами Платона, Диккенса, Пруста, Мандельштама, Набокова, Лотмана и других писателей, поэтов, философов и языковедов. А если они отмечают одно и то же или близкое, то в этом, видимо, что-то есть, хотите — верьте, хотите — нет.
Но не подумайте, что перед вами антология интересных мыслей и изречений разных выдающихся людей, которую можно почитывать постепенно и с любого места начиная.
Эта книга совершенно категорична, имеет только одну сюжетную линию и развязку. Тем самым по жанру она напоминает английский детектив, где в результате встреч и разговоров разных персонажей все становится ясно в конце.
И все же читать ее нужно не спеша, погружаясь то в мир Пруста, то в мир Льва Толстого, то следуя мыслям Бубера или Флоренского. Дело в том, что коллаж дает удивительную возможность говорить и показывать многое подспудно. Отрывок, который вы читаете, не только иллюстрирует текущий момент идеи, но и заключенными в нем мыслями и образами связан с рядом других отрывков. Например, когда приводится отрывок из «Смерти в Венеции» Томаса Манна, текущий момент идеи — дионисийство, но звуки «у», о которых вы там читаете, сочетаются со звуками «у» в отрывке П. Флоренского о поэме Пушкина «Цыганы» и об имени «Мариула», хотя там текущий момент идеи другой и это вообще находится в другой части книги. (Иногда в книге будет некоторое кажущееся «топтание на месте» — момент идеи уже высказан, а примеры на него всё продолжаются… Но это значит лишь, что в данных примерах есть мысли и образы, перекликающиеся с другими отрывками, которые либо были приведены раньше, либо встретятся позже).
И.Ф., Москва, июль 2007 года
Отзывы на книгу присылайте, пожалуйста, на адрес frank@franklang.ru
Часть I
ЦВЕТОЧНЫЙ ПУТЬ
Велика опасность, что в наши дни люди глухи к речам проселка.
Мартин Хайдеггер
Предпосылкой для духовной авантюры, в которой вы сейчас, возможно, примете участие, является чувство несвободы:
Гамлет. Да, конечно. Дания — тюрьма.
Розенкранц. Тогда весь мир — тюрьма.
Гамлет. И притом образцовая, со множеством арестантских, темниц и подземелий, из которых Дания — наихудшее.
Розенкранц. Мы не согласны, принц.
Гамлет. Значит, для вас она не тюрьма, ибо сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни дурными, а только в нашей оценке. Для меня она тюрьма.
Человек в определенный момент своей жизни может вдруг ощутить, что он во всем ограничен, что природа и общество связали его, как Гулливера, тысячами мелких уз. Е. Трубецкой в книге "Смысл жизни" пишет:
"Прежде всего в жизни человечества мы найдем сколько угодно воспроизведений бессмыслицы всеобщего круговращения. В "Записках из мертвого дома" Достоевского однообразная, бессмысленно повторяющаяся работа изображается как жестокое издевательство над человеческим достоинством. По Достоевскому, для человека одно из самых жестоких наказаний — повторять без конца один и тот же бессмысленный ряд действий, например переносить взад и вперед кучу песку. Ужас жизни — в том, что она вообще поразительно напоминает это ненужное и оскорбительное для человеческого достоинства занятие. Возьмите жизнь рабочего на фабрике, которая вся проходит в бесчисленных повторениях одного и того же движения при ткацком или ином станке, жизнь почтового чиновника, которая посвящается бесчисленным воспроизведениям одного и того же росчерка пера под квитанциями заказных писем, или же, наконец, жизнь "мальчика при лифте" в большой гостинице, который с утра до вечера и с вечера до утра возит жильцов сверху вниз и снизу вверх, и вы увидите, что существование этих людей, жизнь всех людей вообще оскорбительно похожа на нескончаемое вращение белки в колесе. Ибо всякая жизнь так или иначе воспроизводит в себе движение какого-либо без конца повторяющегося круга, которому она подчинена. Жизнь земледельца, который сеет, жнет, жнет и опять сеет без конца, подчинена кругу солярному, жизнь рабочего — кругу фабричного колеса, жизнь чиновника — круговращению огромного административного механизма. И в этом круговращении сам человек становится колесом неизвестно для чего вертящейся машины. Отличие его от белки — в том, что он обладает умом, способным сознавать свое унижение, и сердцем, которое о нем страдает и мучится".
Свобода — это то, что отличает человека от механизма. Но вот свобода человека упирается в каменную стену необходимости. Эмиль Золя в начале романа "Тереза Ракен" весьма сгущенно дает нам почувствовать эту атмосферу жизненного тупика:
"В конце улицы Генего, если идти от набережной, находится пассаж Пон-Неф — своего рода узкий, темный проход между улицами Мазарини и Сенской. Длина пассажа самое большее шагов тридцать, ширина — два шага; он вымощен желтоватыми, истертыми, разъехавшимися плитами, вечно покрытыми липкой сыростью; стеклянная его крыша, срезанная под прямым углом, совсем почернела от грязи. В погожие летние дни, когда неумолимое солнце накаливает улицы, сюда проникает через свод грязной стеклянной крыши какой-то белесый свет, скупо разливающийся по проходу. А в ненастные зимние дни, туманными утрами, с крыши спускается на скользкие плиты густой мрак, — мрак беспросветный и гнусный. На левой стороне пассажа ютятся сумрачные, низенькие, придавленные лавочки, из которых, как из погреба, несет сыростью. Здесь расположились букинисты, продавцы игрушек, картонажники; выставленные вещи, посеревшие от пыли, вяло дремлют в сумраке; витрины, составленные из мелких стеклышек, отбрасывают на товары расплывчатые зеленоватые отсветы; за витринами еле видны темные лавочки — какие-то мрачные каморки, в которых движутся причудливые тени. Справа по всей длине пассажа тянется стена, на которой лавочники пристроили узкие шкафчики: здесь на тонких полочках, выкрашенных в отвратительный коричневый цвет, лежат какие-то невообразимые товары, выставленные лет двадцать тому назад. В одном из шкафов разместила свой товар торговка фальшивыми драгоценностями; она продает колечки по пятнадцать су, которые заботливо разложила на голубом бархатном щитке в ларце из красного дерева. Над витринами высится стена — черная, кое-как оштукатуренная, словно покрытая проказой и вся исполосованная рубцами".
Ограниченность существования, сгущаясь, превращается в сплошную каменную стену. Как поведет себя человек в подобной ситуации? Послушаем героя повести Достоевского "Записки из подполья":
"Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться, принимай как есть. <...> "Помилуйте, — закричат вам, — восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена... и т.д., и т.д.". Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило".
Оказавшись перед стеной, человек или смиряется, или бунтует. Герой Достоевского выбирает бунт:
"Мало того: тогда, говорите вы, сама наука научит человека (хоть это уж и роскошь, по-моему), что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика; и что, сверх того, на свете есть еще законы природы; так что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 000, и занесены в календарь; или еще лучше того, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых все будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений. Тогда-то, — это все вы говорите, — настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут все возможные вопросы, собственно потому, что на них получаются всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. <...> Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо — одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела".
Но может ли «эта самостоятельность» привести не к тому, что человек просто разобьет лоб о каменную стену, а к удавшемуся побегу?
Лев Шестов в книге "Апофеоз беспочвенности" пишет:
"Какой-то естествоиспытатель произвел следующий опыт: в стеклянный сосуд, разделенный на две половины стеклянной же, совершенно прозрачной перегородкой, поместил по одну сторону щуку, а по другую разную мелкую рыбу, которая обыкновенно служит щуке добычей. Щука не заметила прозрачной перегородки и бросилась на добычу, но, разумеется, только зашибла пасть. Много раз проделывала она свой опыт — и все с теми же результатами. Под конец видя, что все ее попытки так печально кончаются, щука уже больше не пробовала охотиться, так что даже когда через несколько дней перегородку вынули, она продолжала спокойно плавать между мелкой рыбой и уже боялась нападать на нее... Не происходит ли то же и с людьми? Может быть, их предположения о границах, отделяющих "посюсторонний" мир от "потустороннего", тоже в сущности опытного происхождения и вовсе не коренятся ни в природе вещей, как думали до Канта, ни в природе нашего разума, как стали утверждать после Канта. Может быть, перегородка действительно существует и делает тщетными обычные попытки перебраться за известные пределы познания, но вместе с тем, может быть, в нашей жизни наступает момент, когда перегородка уже вынута".
Человек не в силах пробить своим хрупким лбом брешь в каменной стене. Но эта брешь может вдруг возникнуть сама собой. Точнее, она может быть пробита с другой стороны.
Рассмотрим пример, так сказать, из жизни. На фотографии — мальчик из колумбийских рудников, глядящий прямо на зрителя. У него в руках — большой металлический бак, наполненный углем. Один из многих снимков, цель которых — вызвать сочувствие к этим детям и негодование по отношению к владельцам рудников и правительству страны. Однако именно в этом снимке есть что-то особенное, есть еще что-то. Если бы, например, бак был окрашен в зеленую или красную краску, фотография потеряла бы силу. Своим холодным металлическим отливом бак контрастирует с теплым цветом кожи мальчика. Если бы бак имел другую форму, фотография также бы не состоялась, потому что прямые углы и плоская стенка бака контрастируют с округлыми формами тела. Но это еще не все. Если бак контрастно повторяет тело мальчика, то переполняющий бак уголь повторяет его волосы. Волнистая шевелюра с мягким отливом — и корявый, холодно поблескивающий уголь. И бак, и тело одинаково покрыты угольной пылью, что усиливает композиционный повтор. Бак и тело окончательно соединяются в небольшой детали — в блестящих металлических часах на руке мальчика. На нас смотрит человек, держащий перед собой свою нечеловеческую, железную и каменную судьбу. Фотограф не строил эту композицию специально. Он запечатлел ее, потому что почувствовал ее скрытую силу. Мальчика тем более нельзя заподозрить в сознательном построении этой композиции. Тем более нельзя в этом заподозрить бак или yгoль. А между тем в снимке содержится сообщение. Оно не исходит ни от сделавшего снимок, ни от запечатленного на снимке. Предположить, что все элементы фотографии совершенно случайно вступили в ритмическое взаимодействие и образовали точные и многочисленные повторы и контрасты, будет столь же странно, как предположить, что если вы побросаете на стол вырезанные из газеты слова, они сами сложатся в стихотворение. Вот тот момент, когда каменная стена расступается, когда "перегородка уже вынута". Стена перестает разделять и ограничивать, ее кирпичики превращаются в элементы, в слова и буквы единого сообщения. Все "огромное множество элементов" организуется "простым актом, подобным погружению ноги в песок, благодаря которому тысячи песчинок мгновенно образуют какой-то рисунок" (А. Бергсон "Два источника морали и религии"). По этому удивительному следу и идет, и устраивает свой побег человек-художник. Бергсон пишет:
"Что может быть более сложным, более изощренным по своему построению, чем симфония Бетховена? Но на протяжении всей своей работы по аранжировке и отбору, осуществлявшейся в интеллектуальном плане, музыкант обращался к пункту, расположенному вне этого плана, ища в нем принятия или отказа, направления, вдохновения; в этом пункте располагалась неделимая эмоция, которой ум, несомненно, помогал выразиться в музыке, но которая сама по себе была чем-то большим, чем музыка и чем ум. <...> Чтобы соотнестись с ней, художник каждый раз должен был прилагать усилие, подобно тому как глаз обнаруживает звезду, которая, как только она найдена, сразу же растворяется в ночной темноте".
Человек получает сигнал — через элементы окружающей его жизни, благодаря тому, что они складываются в определенную комбинацию, содержащую для него некое сообщение. Можно, конечно, и не услышать сообщение, пропустить сигнал. Или пропустить, но потом понять его и пожалеть об упущенном. Вот как это происходит в романе Диккенса «Давид Копперфилд». Давид влюблен в Дору и делится со своей бабушкой:
«Когда я потянулся к ней, она уперлась стаканом мне в колено, чтобы удержать меня, и сказала:
— О Трот, Трот! Так, значит, ты воображаешь, что влюблен?
— Воображаю, бабушка! Я обожаю ее всей душой! — воскликнул я, так покраснев, что дальше уж некуда было краснеть.
— Ну, разумеется! Дора! Так, что ли? И, конечно, ты хочешь сказать, что она очаровательна?
— О бабушка! Никто не может даже представить себе, какова она!
— А! И не глупенькая? — осведомилась бабушка.
— Глупенькая?! Бабушка!
Я решительно уверен, что ни разу, ни на один момент мне и в голову не приходило задуматься, глупенькая она или нет. Конечно, я отбросил эту мысль с возмущением. Тем не менее она поразила меня своей неожиданностью и новизной.
— Не легкомысленная? — спросила бабучтка.
— Легкомысленная?! Бабушка!
Я мог только повторить это дерзкое предположение с тем же чувством, что и предыдущее.
— Ну, хорошо, хорошо... я ведь только спрашиваю,— сказала бабушка. — Я о ней плохо не отзываюсь. Бедные дети! И вы, конечно, уверены, что созданы друг для друга и собираетесь пройти по жизни так, словно жизнь — пиршественный стол, а вы — две фигурки из леденца? Верно, Трот?
Она задала мне этот вопрос так ласково и с таким видом, шутливым и вместе с тем печальным, что я был растроган.
— Бабушка! Я знаю, мы еще молоды и у нас нет опыта, — сказал я. — Я не сомневаюсь, что мы, может быть, говорим и думаем о разных глупостях. Но мы любим друг друга по-настоящему, в этом я уверен. Если бы я мог предположить, что Дора полюбит другого или разлюбит меня, или я кого-нибудь полюблю или разлюблю ее — я не знаю, что бы я стал делать... должно бьпь, сошел бы с ума!
— Ох, Трот! Слепой, слепой, слепой! — мрачно сказала бабушка, покачивая головой и задумчиво улыбаясь. — Один мой знакомый, — продолжала она, помолчав, — несмотря на мягкий свой характер, способен на глубокое, серьезное чувство, напоминая этим свою покойную мать. Серьезность — вот что этот человек должен искать, — чтобы она служила ему опорой и помогала совершенствоваться. Трот. Глубокий, прямой, правдивый, серьезный характер!
— О, если бы вы только знали, как Дора серьезна! — воскликнул я.
— Ах, Трот! Слепой, слепой! — повторила она. Сам не знаю почему, но мне почудилось, будто надо мной нависло облако, словно я что-то утратил или чего-то мне не хватает.»
Давиду не хватает того, что ему суждено судьбой, но чего он пока не видит: другой любви, Агнес, к которой он относится сейчас как к сестре. После разговора с бабушкой Давид встречается с Агнес и говорит с ней о своей любви к Доре:
«А как она говорила со мной о Доре, когда мы сидели в сумерках у окна! Как она слушала мои похвалы ей и как хвалила ее сама! Маленькую волшебную фигурку она одарила собственным своим чистым светом, благодаря чему Дора становилась еще более целомудренной, еще более драгоценной для меня. О Агнес, сестра моего детства, если бы я тогда знал то, что узнал много лет спустя!..
Когда я яышел на улицу, повстречался мне нищий. И когда я поднял голову к ее окну, думая о спокойных, ангельских глазах Агнес, нищий заставил меня вздрогнуть, повторяя, как эхо, слово, слышанное мною утром — Слепой! Слепой! Слепой!»
Что здесь происходит? Сначала бабушка говорит Давиду: «Слепой!» Потом он слышит, как это же слово повторяет на улице нищий — и вздрагивает. Почему вздрагивает? Видимо, потому, что в этом случайном повторе чувствует ненавязчивое обращение к себе, чей-то зов, чье-то предупреждение, как бы инопланетный сигнал.
Еще один такой случай — когда Давид прощается с матерью, которая затем умирает:
«Я поцеловал ее и малютку-брата, и мне стало очень грустно. Но я грустил не о том, что уезжаю, ибо между нами уже зияла пропасть и каждый день был днем разлуки. И в памяти моей живет не ее прощальный поцелуй, хотя он и был очень горячим, но то, что за этим поцелуем последовало.
Я уже сидел в повозке, когда услышал, что она окликает меня. Я выглянул; она стояла одна у садовой калитки, высоко поднимая малютку, чтобы я посмотрел на него. Был холодный безветренный день, и ни один волосок на ее голове, ни одна складка ее платья не шевелилась, когда она пристально глядела на меня, высоко поднимая свое дитя.
Такой покинул я ее, покинул навсегда. Такой снилась она мне потом в школе... безмолвная фигура близ моей кровати. Она смотрит на меня все тем же пристальным взглядом и высоко поднимает над голового свое дитя.
<…> С того момента, когда я узнал о смерти моей матери, воспоминание о том, какой она была в последнее время перед своей смертью, изгладилось из моей памяти. С того самого мгновения я видел ее всегда только совсем молодой, в пору моего раннего детства, видел, как она накручивает свои глянцевитые локоны на пальцы и танцует со мной в гостиной по вечерам. Рассказ Пегготи, вместо того чтобы напомнить о последнем периоде жизни моей матери, лишь закрепил в памяти прежний ее образ. Может быть, это странно, но это так. Скончавшись, моя мать унеслась ко дням своей спокойной, ничем не возмутимой юности и зачеркнула все остальное.
Мать, которая покоится в могиле, — это мать моего детства, а малютка в ее объятиях — это я, каким я некогда был, уснувший навсегда у нее на груди.»
Здесь кто-то показывает Давиду его самого на руках у молодой матери — и простое событие — провожающая мать с братом на руках — вдруг становится знаком судьбы, обретает торжественный смысл и красоту картины («ни одна складка ее платья не шевелилась»).
В какой-то точке пространства и в какое-то мгновение времени стена темницы размыкается — и человек видит обращенный к нему свет, огненную надпись. О таком "солнечном мгновении" думает Цинциннат в романе Набокова "Приглашение на казнь":
"Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия. Сонный, выпуклый, синий, он медленно обращается ко мне. Это как будто в пасмурный день валяешься на спине с закрытыми глазами, — и вдруг трогается темнота под веками, понемножку переходит в томную улыбку, а там и в горячее ощущение счастья, и знаешь: это выплыло из-за облаков солнце. Вот с такого ощущения начинается мой мир: постепенно яснеет дымчатый воздух, — и такая разлита в нем лучащаяся, дрожащая доброта, так расправляется моя душа в родимой области. <...> Там — неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудаки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем".
Повтор в композиции фотографии, повтор в романе Диккенса — это и есть соприкосновение двух узоров. При помощи повтора человеку подается тайный, ненавязчивый, молчаливый знак.
Набоков в предисловии к автобиографической книге "Другие берега" пишет, что "ее цель — описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначные очертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе".
Поль Клодель в работе "Поэтическое искусство" пишет:
"Как-то раз в Японии, по дороге из Никко к озеру Тюзенци, мне попались на глаза два дерева: сосна и клен, они росли довольно далеко друг отдруга, но так, что с того места, где я был, кленовые листья точно заполняли промежутки между ветвями сосны. Эти страницы — как бы комментарий к тому лесному тексту, к новому Поэтическому (пойэйн — делать) Искусству Мироздания, к той новой Логике, которую июнь вложил в древесные письмена. Основой старой логики был силлогизм, нынешняя же — и в этом ее новизна — основана на метафоре, которая есть нечто, происходящее из одновременного и согласного существования двух разнородных вещей. Старая исходит из общих и абсолютных утверждений, приписывает субъекту некое непреложное качество или признак. Независимо от времени и места солнце светит, а сумма углов треугольника равна 180 градусам. Самим актом определения логика создает абстрактные понятия и строго распределяет их по классам. Ставит имя как клеймо. Выделив и перебрав все эти понятия по одному, составив их перечень по родам и видам, она применяет их к любому предложенному предмету. Я бы сравнил ее с первой частью грамматики, которая перечисляет свойства и функции отдельных слов. Другая же Логика подобна синтаксису, изучающему искусство сочетания слов, это логика, которую являет нам сама природа. Наука жива обобщениями, творчество — индивидуальностью. Метафора (и ее соответствия в других искусствах: "оттенки", "гармония", "пропорции"), этот извечный ямб, сопряжение двух слогов — долгого и краткого, претворяется не только на страницах наших книг — это исконное искусство всего живого. И не говорите мне о случайности! Расположение этой сосновой рощи, контур этой горы не более случайны, чем Парфенон или вот этот бриллиант, стоивший годы труда гранильщику, нет, это плоды высокой стихии, куда более мудрой и щедрой, чем случай".
В какое-то мгновение в какой-то точке пространства художник чувствует, что мир превращается в стихотворение. Марсель Пруст пишет:
"Как часто после этого дня, во время прогулок в сторону Германта, сокрушался я еще больше, чем раньше, размышляя об отсутствии у меня литературного дарования, о необходимости отказаться от всякой надежды стать когда-нибудь знаменитым писателем. Горечь, которую я испытывал по этому поводу, оставаясь наедине немного помечтать, причиняла мне такие острые страдания, что для заглушения их ум мой, по собственному почину, как бы благодаря запрету сосредоточивать внимание на боли, совершенно переставал думать о стихах, о романах, о писательской будущности, на которую отсутствие таланта не позволяло мне рассчитывать. Тогда, вне всякой зависимости от этих литературных забот и без всякой вообще видимой причины, вдруг какая-нибудь кровля, отсвет солнца на камне, дорожный запах заставляли меня остановиться, благодаря своеобразному удовольствию, доставляемому мне ими, а также впечатлению, будто они таят в себе, за пределами своей видимой внешности, еще нечто, какую-то особенность, которую они приглашали подойти и взять, но которую, несмотря на все мои усилия, мне никогда не удавалось открыть. Так как я чувствовал, что эта таинственная особенность заключена в них, то я застывал перед ними в неподвижности, пристально в них вглядываясь, внюхиваясь, стремясь проникнуть своею мыслью по ту сторону видимого образа или запаха. И если мне нужно было догонять дедушку или продолжать свой путь, то я пытался делать это с закрытыми глазами; я прилагал все усилия к тому, чтобы точно запомнить линию крыши, окраску камня, казавшиеся мне, я не мог понять почему, преизбыточными, готовыми приоткрыться, явить моему взору таинственное сокровище, лишь оболочкой которого они были. Разумеется, не эти впечатления могли снова наполнить меня утраченной надеждой стать со временем писателем и поэтом, потому что они всегда были связаны с каким-то конкретным предметом, лишенным всякой интеллектуальной ценности и не содержащим в себе никакой отвлеченной истины. Но, по крайней мере, они доставляли мне иррациональное наслаждение, иллюзию некоего оплодотворения души, чем прогоняли мою скуку, чувство моей немощности, испытываемое каждый раз, когда я искал философской темы для большого литературного произведения. Но возлагаемый на мою совесть этими впечатлениями формы, запаха или цвета долг: постараться воспринять то, что скрывалось за ними, — был так труден, что я довольно скоро находил извинения, позволявшие мне уклониться от совершения столь изнурительных усилий и избежать сопряженного с ними утомления. К счастью, меня окликали мои родные; я чувствовал, что в данную минуту у меня нет необходимого спокойствия для успешного продолжения моих взысканий и что лучше перестать думать об этом до возвращения домой, не утомлять себя до тех пор бесплодными попытками. И я не занимался больше таинственной сущностью, скрытой под определенной формой или определенным запахом, вполне спокойный на ее счет, потому что я приносил ее домой огражденной видимыми и осязаемыми своими покровами, под которыми я найду ее еще живой, как рыбу, которую, в дни, когда меня отпускали на уженье, я приносил в корзинке, прикрытой травою, сохранявшею мой улов свежим. Придя домой, я начинал думать о чем-нибудь другом, и таким образом в уме моем беспорядочно накоплялись (вроде того, как моя комната постепенно наполнялась собранными мной во время прогулок цветами и полученными в подарок безделушками): камень, на котором играл солнечный блик, крыша, звук колокола, запах листьев — множество различных образов, под которыми давно уже умерла смутно почувствованная когда-то реальность, а я так и не собрался с силами раскрыть ее природу. Однажды, впрочем, — когда наша прогулка затянулась значительно дольше обычного, и мы очень обрадовались, так как начало уже вечереть, повстречав на обратном пути быстро мчавшийся экипаж доктора Перспье, который узнал нас, остановил лошадей и предложил нас подвезти, — мне удалось несколько углубить одно из таких впечатлений, полученное на пути домой. Меня посадили на козлах, рядом с кучером; лошади мчались во весь опор, потому что перед возвращением в Комбре доктор должен бьл еще заехать в Мартенвиль-ле-Сек навестить одного больного, подле дома которого мы условились подождать его. На одном из поворотов дороги я испытал вдруг уже знакомое мне своеобразное, ни с чем не сравнимое наслаждение при виде двух освещенных закатным солнцем куполов мартенвильской церкви, которые движение нашего экипажа и извилины дороги заставляли непрерывно менять место; затем к ним присоединился третий купол — купол вьевикской церкви; несмотря на то, что он был отделен от первых двух холмом и долиной и стоял вдали на сравнительно более высоком уровне, мне казалось, что купол этот расположен совсем рядом с ними. Наблюдая и запечатлевая в сознании их остроконечную форму, изменение их очертаний, освещенную солнцем их поверхность, я чувствовал, что этим впечатление мое не исчерпывается, что за движением линий и освещенностью поверхностей есть еще что-то, что-то такое, что они одновременно как бы и содержат и прячут в себе. Купола казались мне такими далекими и у меня было впечатление, что мы приближаемся к ним так медленно, что я был очень изумлен, когда через несколько минут мы остановились перед мартенвильской церковью. Я не понимал причины наслаждения, наполнявшего меня во время созерцания их на горизонте, и нахождение этой причины казалось мне делом очень трудным; мне хотелось лишь сохранить в памяти эти двигавшиеся в солнечном свете очертания и не думать о них больше. И весьма вероятно, что если бы я поступил согласно моему желанию, то эти два купола разделили бы участь стольких деревьев, крыш, запахов, звуков, мысленно выделенных мною в особую группу по причине доставленного ими таинственного наслаждения, в природу которого я никогда не проникал глубже. Я спустился с козел, чтобы в ожидании доктора поговорить с сидевшими в экипаже моими родными. Пришло время снова трогаться в путь, я занял свое место на козлах и обернулся, чтобы еще раз взглянуть на купола, которые вскоре в последний раз увидел на повороте дороги. Так как кучер был, по-видимому, не расположен разговаривать и едва отвечал на мои замечания, то, за отсутствием другого собеседника, мне пришлось ограничиться обществом самого себя и попытаться вспомнить мои купола. И вдруг их очертания и их залитые солнцем поверхности разодрались словно кора, в отверстие проглянул кусочек их скрытого от меня содержимого; меня осенила мысль, которой у меня не было мгновение тому назад; мысль эта сама собой облеклась в слова, и наслаждение, доставленное мне недавно видом куполов, от этого настолько возросло, что я совсем опьянел, я не мог больше думать ни о чем другом. В это мгновение, хотя мы отъехали уже далеко от Мартенвиля, я обернулся назад и вновь их заметил, — на этот раз они были совсем черные, потому что солнце уже закатилось. По временам повороты дороги скрывали их от моих глаз, затем они показались в последний раз, и больше я их не видел. Я не сознавал, что таинственное содержание мартенвильских куполов должно иметь какое-то сходство с красивой фразой, но так как оно предстало мне в форме слов, доставивших мне наслаждение, то, попросив у доктора карандаш и бумагу, я сочинил, несмотря на тряску экипажа, для успокоения совести и чтобы дать выход наполнявшему меня энтузиазму, следующий отрывок, который потом отыскал и воспроизвожу здесь лишь с самыми незначительными изменениями:
"Одиноко возвышавшиеся над равниной и как бы затерянные в этой открытой и голой местности, тянулись к небу два купола мартенвильской церкви. Вскоре мы увидели три купола: смелым прыжком присоединился к ним, с некоторым запозданием, купол вьевикской церкви. Минуты проходили, мы ехали быстро, и все же эти три купола неизменно оставались вдали от нас, словно три неподвижно стоявшие на равнине птицы, отчетливо видные в солнечном свете. Затем купол вьевикской церкви отделился, поместился на должном расстоянии, и мартенвильские купола остались в одиночестве, позлащенные закатным солнцем; веселая игра солнечных лучей на их крутых скатах отчетливо видна была мне, несмотря на их отдаленность. Мы так медленно приближались к ним, что я думал, пройдет еще немало времени, прежде чем мы доберемся до них, как вдруг экипаж сделал крутой поворот и подкатил к самой церкви; она так внезапно встала на нашем пути, что, если бы кучер не осадил лошадей, экипаж налетел бы на церковную паперть. Мы снова тронулись в путь; мы покинули Мартенвиль, и деревня, провожавшая нас несколько секунд, исчезла, а мартенвильские купола и купол Вьевика, одиноко оставшиеся на горизонте наблюдать наше бегство, все еще качали, прощаясь, своими залитыми солнцем верхушками. Иногда один из них отодвигался в сторону, так чтобы два других могли видеть нас еще некоторое время; затем дорога изменила направление, они повернулись в светлом небе, как три золотые стержня, и исчезли из поля моего зрения. Но немного погодя, когда мы подъезжали к Комбре и солнце уже закатилось, я увидел их в последний раз; они были теперь очень далеко и казались тремя цветками, нарисованными на небе над низкой линией полей. Они напомнили мне также трех девушек из старинной легенды, покинутых в пустынном месте среди надвигавшейся темноты; и, в то время как мы галопом удалялись от них, я увидел, как они испуганно заметались в поисках дороги и, после нескольких неловких оступающихся движений их благородных силуэтов, прижавшись друг к дружке, спрятались друг за дружкой, образовали на фоне еще розового неба одну только темную фигуру, очаровательную и безропотную, и в заключение пропали во мраке".
Никогда впоследствии не вспоминал я об этой странице, но когда я окончил свою запись, сидя на кончике козел, куда кучер доктора ставил обыкновенно корзину с птицей, купленной на мартенвильском рынке, по всему существу моему разлилось такое ощущение счастья, страница эта так всецело освободила меня от наваждения мартенвильских куполов и скрытой в них тайны, что я заорал во все горло, словно сам был курицей, которая только что снеслась".
Такие встречи с волшебным миром не являются, разумеется, уделом одних лишь художников, они случаются в жизни каждого человека. Вот как это, например, происходит с героями "Войны и мира" Толстого:
"Опять остановив лошадей, Николай оглянулся кругом себя. Кругом была все та же пропитанная насквозь лунным светом волшебная равнина с рассыпанными по ней звездами. "Захар кричит, чтобы я взял налево; а зачем налево? — думал Николай. — Разве мы к Мелюковым едем, разве это Мелюковка? Мы Бог знает где едем, и Бог знает что с нами делается — и очень странно и хорошо то, что с нами делается". — Он оглянулся в сани.
— Посмотри, у него и усы и ресницы — все белое, — сказал один из сидевших странных, хорошеньких и чужих людей с тонкими усами и бровями.
"Этот, кажется, была Наташа, — подумал Николай, — а эта m-mе Schoss; а может быть, и нет, а этот черкес с усами — не знаю кто, но я люблю ее".
— Не холодно ли вам? — спросил он. Они не отвечали и засмеялись. Диммлер из задних саней что-то кричал, вероятно, смешное, но нельзя было расслышать, что он кричал.
— Да, да, — смеясь, отвечали голоса.
Однако вот какой-то волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов и с какой-то анфиладой мраморньх ступеней, и какие-то серебряные крыши волшебных зданий, и пронзительный визг каких-то зверей. "А ежели и в самом деле это Мелюковка, то еще страннее то, что мы ехали Бог знает где и приехали в Мелюковку", — думал Николай".
Подобное происходит и с влюбленным Давидом Копперфилдом у Диккенса:
«Не знаю, как долго мы ехали, и до сего часа я не ведаю, куда мы приехали. Может быть, куда-нибудь неподалеку от Гилдфорда. А может быть, какой-нибудь волшебник из «Тысячи и одной ночи» сотворил это место на один только день, а когда мы уехали, стер его с лица земли. Это была зеленая лужайка на холме, покрытая мягким дерном. Росли там и тенистые деревья и вереск, и, насколько мог охватить взгляд, пейзаж был великолепен.»
И опять «Война и мир»:
"Петя должен бы был знать, что он в лесу, в партии Денисова, в версте от дороги, что он сидит на фуре, отбитой у французов, около которой привязаны лошади, что под ним сидит казак Лихачев и натачивает ему саблю, что большое черное пятно направо — караулка, и красное яркое пятно внизу налево — догоравший костер, что человек, приходивший за чашкой, — гусар, который хотел пить; но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожим на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть — глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц — все лететь и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит просто казак Лихачев, а очень может быть, что это — самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду и совсем исчез, и его не было. Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы не удивило его. Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно".
Эти моменты у Толстого предвосхищают такие произведения, как, например, набоковский "Дар". "Дар" — роман о художнике, чья профессия и состоит как раз в улавливании подобных волшебных мгновений:
"Она усмехнулась и порывисто вздохнула, словно ей надоело ожидание. Сквозь стекла пепельный свет с улицы обливал их обоих, и тень железного узора на двери изгибалась через нее и продолжалась на нем наискось, как портупея, а по темной стене ложилась призматическая радуга. И, как часто бывало с ним, — но в этот раз еще глубже, чем когда-либо, — Федор Константинович внезапно почувствовал — в этой стеклянной тьме — странность жизни, странность ее волшебства, будто на миг она завернулась, и он увидел ее необыкновенную подкладку. У самого его лица была нежно-пепельная щека, перерезанная тенью, и когда Зина вдруг, с таинственным недоумением в ртутном блеске глаз, повернулась к нему, а тень легла поперек губ, странно ее меняя, он воспользовался совершенной свободой в этом мире теней, чтобы взять ее за призрачные локти; но она выскользнула из узора и быстрым толчком пальца включила свет".
Мартин Бубер в книге "Я и Ты" пишет о двух основных способах соотношения человека и мира. Человек может воспринимать мир отстраненно — как Оно. Но бывают мгновения, когда человек вступает с миром в разговор и воспринимает его как собеседника — как Ты:
"Мир для человека двойствен в соответствии с двойственностью его позиции. Он воспринимает то, что существует вокруг него, — просто вещи и существа как вещи; он воспринимает происходящее вокруг него — просто события и поступки как события, вещи, состоящие из свойств, и события, состоящие из мгновений, вещи, отнесенные к пространственной сетке, вещи и события, ограниченные другими вещами и событиями, измеряемые ими, сравнимые с ними — упорядоченный мир, расчлененный мир. Этот мир в известной степени надежен, он обладает плотностью и длительностью, его структура обозрима, ее можно выявлять снова и снова, ее повторяют с закрытыми глазами и проверяют, открыв глаза; он весь тут распростерся у самой твоей кожи, или, может, съежился внутри твоей души — смотря по тому, какую точку зрения ты предпочитаешь; это ведь твой объект, он остается таковым по твоей милости, остается изначально чуждым тебе, будь он вне или внутри тебя. Ты воспринимаешь его, берешь его себе как "действительность", и он позволяет брать себя; но он не отдается тебе. Только относительно такого мира ты можешь "объясниться" с другими; он, хотя и связанный с каждым по-разному, готов служить вам общим объектом; но в нем ты не можешь встретиться с другими. Без него ты не можешь устоять в жизни, его надежность поддерживает тебя; но если ты умрешь в нем, ты будешь погребен в Ничто. Или же человек встречает бытие и становление как то, что предстает именно перед ним, всегда только одну сущность и каждую вещь только как сущность; то, что есть тут, раскрывается ему в событии, и то, что тут совершается, он переживает как бытие; кроме этого одного ничего нет в настоящем, но это одно — весь мир; исчезли мера и сравнение; от тебя зависит, сколь много от неизмеримого станет реальностью для тебя. Встречи не упорядочиваются в мир, но каждая из них для тебя — знак мирового порядка. Они не связаны друг с другом, но каждая служит тебе порукой твоего единения с миром. Мир, который является тебе так, ненадежен, ибо он является тебе всегда новым, и ты не смеешь ловить его на слове; он лишен плотности, ибо в нем все пронизывает друг друга; лишен длительности, ибо он приходит незваным и исчезает, даже если держишь его крепко; он необозрим: если захочешь сделать его обозримым, ты потеряешь его. Он приходит, приходит взять тебя с собой; если он не находит тебя, не встречает тебя, то он исчезает; но он приходит снова в ином обличье. Он не вне тебя, он шевелится в твоей глубине, и, сказав: "Душа моей души", — ты скажешь не слишком много, но остерегайся желания поместить его к себе в душу — этим ты его уничтожишь. Он есть твое настоящее; и ты можешь превращать его в свой объект — познавать и использовать — ты вынужден делать это вновь и вновь, — и каждый раз при этом ты теряешь настоящее. Между тобой и им — взаимность даяния; ты говоришь ему Ты и отдаешь себя ему, он говорит тебе Ты и отдает себя тебе. Относительно него ты не можешь объясниться с другими, с ним ты остаешься один на один; но он учит тебя встречать других и уметь устоять во встрече; и он ведет тебя — через благодать своих приходов, через печаль расставаний — к тому Ты, в котором сходятся параллельные линии отношений. Он не помогает тебе удержаться в жизни, он лишь помогает тебе прозревать вечность. Мир Оно обладает связностью в пространстве и времени. Мир Ты не имеет никакой связности в пространстве и времени. Отдельное Ты обречено, по завершении события-отношения, превратиться в Оно. Отдельное Оно может, через вхождение в событие-отношение, превратиться в Ты. Таковы два основных преимущества мира Оно. Они побуждают человека смотреть на мир Оно как на тот мир, в котором ему приходится жить и где, к тому же, приятно жить, как на мир, где его ожидают разнообразные волнения и порывы, всевозможные виды деятельности и знаний. Мгновения Ты являются в этой прочной и полезной летописи как причудливые лирико-драматические эпизоды, соблазнительно волшебные, но влекущие к опасным крайностям, ослабляющие испытанную связь, оставляющие за собой больше вопросов, чем удовлетворенности, подрывающие безопасность — тревожные эпизоды, неизбежные эпизоды. Но если все-таки приходится возвращаться из них в "мир", почему бы не остаться в нем? Почему бы не призвать к порядку то, что встает навстречу, и не отослать его назад в мир объектов? Почему бы, если человек подчас не может не говорить Ты, скажем, отцу, жене, товарищу, почему бы не говорить Ты, имея в виду Oнo? Издать звук Ты органами речи — это еще вовсе не то, что сказать тревожное основное слово; да и прошептать душой влюбленное Ты тоже не опасно, пока всерьез не имеется в виду ничего, кроме познать и использовать. В одном только настоящем жить невозможно, оно истощило бы человека вконец, если бы не было предусмотрено, что оно быстро и основательно преодолевается. А в одном только прошедшем жить можно; как раз только в нем и возможно устроить жизнь. Нужно лишь заполнить каждый миг познанием и использованием — и он уже не опаляет. Но выслушай истину во всей ее серьезности: человек не может жить без Оно. Но тот, кто живет только с Оно, — не человек".
Друзья, друзья! Быть может, скоро —
И не во сне, а наяву —
Я нить пустого разговора
Для всех нежданно оборву,
И повинуясь только звуку
Души, запевшей, как смычок,
Вдруг подниму на воздух руку,
И затрепещет в ней цветок,
И я увижу и открою
Цветочный мир, цветочный путь, —
О, если бы и вы со мною
Могли туда перешагнуть!
Вл. Ходасевич
Конечно, это всего лишь романтические стихи. Но вот аналогичный пример из прозы, причем автобиографической, — из романа Сенанкура "Оберман" (письмо XXX):
"Было сумрачно и прохладно; я чувствовал себя подавленным и бродил без цели, потому что не мог ничем заняться. На невысокой стене я увидел несколько нарциссов. Один цветок уже совсем распустился, — вот оно самое сильное выражение желания. Это был первый из весенних ароматов. Я ощутил полноту счастья, предназначенного человеку. Невыразимая гармония всего сущего, — отражение идеального мира, — звучала в моей душе. Никогда еще я не испытывал ничего более великого и столь мимолетного. Не знаю, очертания ли этого цветка или какое-то иное тайное сходство позволили мне угадать в нем бесконечную красоту, выразительность, изящество форм счастливой бесхитростной женщины во всей прелести, во всем великолепии поры любви. Я никогда не постигну эту невыразимую силу и эту беспредельность, эту ничем не стесняемую форму, эту идею о лучшем мире, который мы чувствуем, но которого нет в природе; этот небесный свет, мнится нам, мы можем осязать, он воодушевляет и влечет нас, но это всего лишь еле заметный блуждающий огонек, затерянный в бездне тьмы. О, этот свет, райский образ, еще более прекрасный в своей призрачности, манящий всем обаянием тайны, образ, ставший необходимым в наших горестях, привычным утешением для наших угнетенных сердец, — найдется ли человек, который, хотя бы раз увидев, мог его позабыть? Если противодействие, если косность мертвой, грубой, отвратительной силы сковывает нас, обволакивает и порабощает, не дает нам выбраться из пучины неуверенности, разочарований, толкает на ребяческие, безрассудные или жестокие поступки; если ничего не знаешь, ничего не имеешь; если все проходит мимо, подобно причудливым созданиям какого-то жуткого и нелепого сна, — кто может подавить в нашем сердце потребность в ином порядке, в иной природе?"
Герою романа Новалиса "Генрих фон Офтердинген" снится, что он, пройдя через ход в скале ("каменная стена"!), встречает голубой цветок:
"Но то, что его полновластно притягивало, было высоким светло-голубым цветком, стоявшим у самого источника и прикасавшимся к нему своими широкими блестящими листьями. Кругом росли бесчисленные и разнообразные цветы, удивительный аромат наполнял воздух. Он не видел ничего, кроме голубого цветка, и рассматривал его долго, с несказанной нежностью. Наконец он захотел к нему приблизиться, и тогда цветок вдруг начал двигаться и изменяться, листья заблестели сильнее и прижались к растущему стеблю, цветок склонился к нему навстречу, и лепестки раскрылись широким воротником, в котором светилось нежное лицо".
Обратите внимание на слово «вдруг». Цинциннат в романе Набокова "Приглашение на казнь" говорит о такой неожиданной, мгновенной связи с "цветочным миром" следующее:
"...эта секунда, эта синкопа, — вот редкий сорт времени, в котором я живу, — пауза, перебой, — когда сердце, как пух... И еще я бы написал о постоянном трепете... и о том, что всегда часть моих мыслей теснится около невидимой пуповины, соединяющей мир с чем-то, — с чем, я еще не скажу..."
"И вышел Яаков из Беэр Шевы, и пошел в Баран. И пришел в одно место, и переночевал там, ибо зашло солнце, и взял из камней этого места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И снилось ему: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот, Ангелы Господни восходят и нисходят по ней. И вот, Бог стоит над ним и говорит: "Я Бог — Господь Авраама, отца твоего, и Господь Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, — тебе отдам ее и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земли, и ты распространишься на запад и восток, на север и юг, и благословятся тобою и потомством твоим все племена земли. И вот, Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ни пойдешь, и возвращу тебя в эту страну, ибо Я не оставлю тебя, пока не сделаю того, что сказал тебе". И пробудился Яаков ото сна своего, и сказал: "Истинно, это — место, где есть Бог, а я не знал!" И испугался он, и сказал: "Как страшно это место! Это не что иное, как дом Господень, а это — врата небес".
Именно в таких страшных местах, в местах пролома стены человек устанавливал алтарь, возводил храм, строил город. Вокруг места встречи постепенно складывалась цивилизация. Уплотнялись стены. Лава застывала. Но свет проникает и в самую маленькую щель, встреча может произойти на любом пустяке и, наоборот, может больше никогда не произойти в том месте, где в память о ней построили храм. "Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь и не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким рожденным от Духа". Набоков в романе "Дар" пишет:
"Или: пронзительную жалость — к жестянке на пустыре, к затоптанной в грязь папиросной картинке из серии "национальные костюмы", к случайному бедному слову, которое повторяет добрый, слабый, любящий человек, получивший зря нагоняй, — ко всему сору жизни, который путем мгновенной алхимической перегонки, королевского опыта, становится чем-то драгоценным и вечным. Или еще: постоянное чувство, что наши здешние дни — только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать проценты в виде снов, слез счастия, далеких гор".
Р. Музиль в рассказе “Гриджия” пишет:
"Им надо было уладить с нею какое-то дело, а когда они стали прощаться, на лице ее снова всплыла улыбка, и ему показалось, что ее рука задержалась в его ладони чуть дольше, чем вначале. Эти впечатления, в городе столь мало значащие, были здесь, в глуши, потрясениями, — скажем, как если бы дерево вдруг вздумало закачать ветвями по-иному, нежели это бывает при порыве ветра или при взлете птицы".
Однако жестикуляция может и не нарушать законов природы, чудо в какое-то мгновение просто просвечивает сквозь них, подает ненавязчивый знак.
В романе Набокова "Дар" судьба сводит героя и героиню, совершая, подобно шахматной задаче, три хода. Для нас сейчас интересен знак, который она подает герою на первом ходу:
"Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову (блеснуло рикошетом с виска) и увидел — с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу — как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкап, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад".
Вообще же дерево часто выступает как "проводник", превращаясь в лестницу Яакова, соединяющую землю с небом, в мировое древо. Мировое древо — это "цветочный мир", возникающий в том месте, где открывается "цветочный путь";это новый космос.
В романе "Приглашение на казнь" Набоков пишет:
"...это было так, словно одной стороной своего существа он неуловимо переходил в другую плоскость, как вся сложность древесной листвы переходит из тени в блеск, так что не разберешь, где начинается погружение в трепет другой стихии. Казалось, что вот-вот, в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры, Цинциннат так ступит, что естественно и без усилия проскользнет за кулису воздуха, в какую-то воздушную световую щель, — и уйдет туда с той же непринужденной гладкостью, с какой передвигается по всем предметам и вдруг уходит как бы за воздух, в другую глубину, бегущий отблеск поворачиваемого зеркала".
"А Моше пас овец тестя своего Итро, правителя Мидьяна, и погнал он стадо на ту сторону пустыни, и дошел до горы Господней в Хореве. И явился к нему Ангел Господень в языках пламени из куста ежевики, и увидел Моше: вот куст ежевики пылает огнем, но не сгорает. И сказал Моше: "Поверну туда, посмотрю на это великое диво: отчего не сгорает этот куст?" И увидел Бог, что Моше свернул посмотреть, и позвал его Господь из куста ежевики: "Моше, Моше!" И ответил тот: "Вот я!" И сказал Бог: "Не подходи сюда! Сбрось обувь с твоих ног, ибо место, на котором ты стоишь, — земля святая". И сказал еще: "Я — Господь отца твоего, Господь Авраама, Господь Ицхака и Господь Яакова". И закрыл Моше лицо свое, ибо боялся посмотреть на Господа".
Из бреши, пробитой в стене, вырывается огонь, который, однако, не сжигает. Вот свидетельство одного психиатра, приведенное В. Джеймсом в книге "Многообразие религиозного опыта":
"Я провел вечер в большом городе с двумя друзьями за чтением и спорами по вопросам философии и поэзии. Мы расстались в полночь. Чтобы попасть домой, мне предстояло сделать большой конец в экипаже. Мой ум, еще полный идеями, образами и чувствами, вызванными чтением и беседой, был настроен спокойно. Мной овладело состояние почти полной пассивности, и мысли почти без моего участия проходили через мою голову. Вдруг, без всякого перехода, я почувствовал вокруг себя облако цвета огня. С минуту я думал, что это зарево большого пожара, вспыхнувшего где-нибудь в городе, но скоро понял, что огонь этот был во мне. Неизмеримая радость охватила меня, и к ней присоединилось прозрение, которое трудно передать словами. Между прочим, я не только уверовал, я увидел, что вселенная соткана не из мертвой материи, что она живая; и в самом себе я почувствовал присутствие вечной жизни. Это не было убеждение, что я достигну бессмертия, это было чувство, что я уже обладаю им. <...> Состояние это длилось всего несколько секунд, но воспоминание о нем и чувство реальности принесенных им откровений живет во мне вот уже четверть века".
Цинциннат в романе "Приглашение на казнь" говорит о мире, который ему снится: "...там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик..." Или:
"Он вдруг заметил выражение глаз Цецилии Ц., — мгновенное, о, мгновенное, — но было так, словно проступило нечто, настоящее, несомненное (в этом мире, где все было под сомнением), словно завернулся краешек этой ужасной жизни и сверкнула на миг подкладка".
Или:
"В снах моих мир был облагорожен, одухотворен; люди, которых я наяву так боялся, появлялись там в трепетном преломлении, словно пропитанные и окруженные той игрой воздуха, которая в зной дает жизнь самим очертаниям предметов; их голоса, поступь, выражение глаз и даже выражение одежды — приобрели волнующую значительность; проще говоря: в моих снах мир оживал, становясь таким пленительно важным, вольным и воздушным, что потом мне уже бывало тесно дышать прахом нарисованной жизни".
"И настолько сильна и сладка была эта волна свободы, что все показалось лучше, чем на самом деле: его тюремщики, каковыми в сущности были все, показались сговорчивей... в тесных видениях жизни разум выглядывал возможную стежку... играла перед глазами какая-то мечта... словно тысяча радужных иголок вокруг ослепительного солнечного блика на никелированном шаре..." ("Приглашение на казнь").
"Возможная стежка" — побег из царства необходимости, из тюрьмы, просвет в "каменной стене". Недаром Пруста так привлек "камень, на котором играл солнечный блик".
Бог редко обращается к человеку столь непосредственно и властно, как Он обратился к Моше из куста ежевики. Чаще всего это происходит подспудно, например, при помощи повтора. Так, в фильме Тарковского "Зеркало" пожар, виденный отцом в детстве в деревне, отражается в костре, который разжигает в московском дворике его сын. При этом вскользь, как бы неосознанно, его мать с отцом вспоминают об ангеле, явившемся Моисею в горящем кусте. Так же ненавязчиво происходит встреча в "Войне и мире":
"На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными, давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюже, несимметрично растопыренными, корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца.
"Весна, и любовь, и счастие! — как будто говорил этот дуб. — И как не надоест вам все один и тот же глупый, бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они — из спины, из боков; как выросли — так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам".
Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он все так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди их.
"Да, он прав, тысячу раз прав, этот дуб, — думал князь Андрей, — пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, — наша жизнь кончена!" Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустно-приятных в связи с этим дубом возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь и пришел к тому же прежнему, успокоительному и безнадежному, заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая".
После поездки князя Андрея в Отрадное и его встречи с Наташей диалог с дубом возобновляется:
"Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем месяц тому назад; все было полно, тенисто и густо; и молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами.
Целый день был жаркий, где-то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была темна, в тени; правая, мокрая, глянцевитая, блестела на солнце, чуть колыхаясь от ветра. Все было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко.
"Да, здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны, — подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и, сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого горя и недоверия, — ничего не было видно. Сквозь столетнюю жесткую кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. "Да это тот самый дуб", — подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна — и все это вдруг вспомнилось ему.
"Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, — вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей. — Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы не жили они так, как эта девочка, независимо от моей жизни, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!"
В данном случае человек находится с деревом не в обычном отчужденном отношении Я — Оно, а вступает в отношение Я — Ты. Бубер в книге "Я и Ты" пишет:
"Я рассматриваю дерево. Я могу воспринимать его как зрительный образ: колонна, вздымающаяся в шквале света, или зеленый взрыв, пронизанный кроткой серебристой голубизной.
Я могу ощущать его как движение: соки, бегущие по сосудам, льнущая и жаждущая сердцевина, сосущие корни, дыханье листьев, непрестанный обмен с землей и воздухом — и сам неуловимый рост дерева.
Я могу рассматривать его как экземпляр некоторого вида, в соответствии с его строением и образом жизни.
Я могу до такой степени отвлечься от его формы и от его состояния в настоящий момент, что буду осознавать его лишь как выражение закономерностей — закона, по которому непрерывно уравновешивается постоянное противоборство сил, и закона, по которому смешиваются и разъединяются вещества.
Я могу свести его к числу, к чисто числовой зависимости, тем самым и уничтожив, и увековечив его.
Во всем этом дерево остается лишь моим обьектом, имеет свое место и свое время, свою природу и свое строение.
Но может случиться — для этого нужны и воля, и благодать, — что, рассматривая дерево, я буду вовлечен в отношение к нему. Тогда это дерево — уже больше не Оно. Власть исключительности захватила меня.
При этом мне нет нужды отказываться ни от какого из способов, которыми я рассматривал дерево. Чтобы видеть, мне не требуется закрывать глаза на что-либо. Нет никакого знания, которое мне следовало бы забыть. Напротив того, все: образ и движение, вид и экземпляр, закон и число — все нераздельно объединяется здесь.
Здесь все, что присуще дереву, его форма и его механика, его краски и его химия, его беседа с элементами и его беседа со светилами — все это в единстве целого.
Дерево — не впечатление, не игра моей фантазии, не источник настроения — оно телесно противостоит мне и имеет со мной дело, как я с ним, только по-другому.
Не пытайтесь выхолостить смысл отношения: отношение есть взаимность. Так что же — оно, дерево, имеет сознание, подобно нашему? Этого я не знаю. Но не пытаетесь ли вы снова — думая, что это вам удастся, — разложить на части неделимое? Мне противостоит не душа дерева и не дриада, а само дерево.
Если я обращен к человеку, как к своему Ты, если я говорю ему основное слово Я — Ты, то он не вещь среди вещей и не состоит из вещей.
Он уже не есть Он или Она, ограниченный от других Он и Она; он не есть точка, отнесенная к пространственно-временной сетке мира, и не структура, которую можно изучить и описать — непрочное обьединение обозначенных словами свойств. Нет: лишенный всяких соседств и соединительных нитей, он есть Ты и заполняет собою небосвод. Не то чтобы не было ничего другого, кроме него, но все другое живет в его свете.
Как мелодия не есть совокупность звуков, стихотворение — совокупность слов и статуя — совокупность линий; но надо раздирать на куски, чтобы из единого сделать множественное, — так и с человеком, которому я говорю Ты. Я могу извлечь из него цвет его волос, или окраску его речи, или оттенок его доброты, — мне придется делать это вновь и вновь; но вот я сделал это — и он уже больше не Ты.
И как молитва не совершается во времени, но время течет в молитве, жертвоприношение не совершается в пространстве, но пространство пребывает в жертве — а кто обращает отношение, тот уничтожает реальность, — так и я нахожу человека, которому говорю Ты, в каком-либо однажды и где-то. Я могу соотнести его с временем и местом — и мне придется делать это вновь и вновь, но уже не с моим Ты, а с некоторым Он или Она.
Пока распростерт надо мной небосвод Ты, ветры причинности сворачиваются клубком у моих ног, и колесо судьбы останавливается. <...>
Вот вечный источник искусства: к человеку подступает образ и хочет через него воплотиться, сделаться произведением. Не порождение его души, но видение, подступающее к ней и требующее от нее творческого воздействия. Оно ждет от человека сущностного акта: совершит он его, скажет своим существом основное слово явившемуся образу — и хлынет творящая сила, и родится произведение".
Дж.Фрэзер в книге "Золотая ветвь", в самом названии которой, кстати говоря, присутствует мировое древо, высвеченное божественным светом, в главе "Поклонение дубу" пишет, что многие европейские народы поклонялись своему верховному богу (богу неба, богу дождя и грома — Зевсу, Юпитеру, Донару, Перуну) в виде дуба-оракула, стараясь в шелесте листьев расслышать его голос.
Так и князь Андрей, прислушавшись к оракулу, совершает творческий, "сущностный акт". Разум же "подстраивается" к откровению, помогает его "переварить":
"Возвратившись из этой поездки, князь Андрей решил осенью ехать в Петербург и придумал разные причины этого решения. Целый ряд разумных, логических доводов, почему ему необходимо ехать в Петербург и даже служить, ежеминутно был готов к его услугам. Он даже теперь не понимал, как мог он когда-нибудь сомневаться в необходимости принять деятельное участие в жизни, точно так же как месяц тому назад он не понимал, как могла бы ему прийти мысль уехать из деревни. Ему казалось ясно, что все его опыты жизни должны были пропасть даром и быть бессмыслицей, ежели бы он не приложил их к делу и не принял опять деятельного участия в жизни. Он даже не понимал того, как на основании таких же бедных разумных доводов прежде очевидно было, что он бы унизился, ежели бы теперь, после своих уроков жизни, опять бы поверил в возможность приносить пользу и в возможность счастия и любви. Теперь разум подсказывал совсем другое".
Доктор Живаго, бегущий из неволи, также встречается с "преображенным" деревом:
"Доктор знал, где расставлены на ночь караулы и с успехом обошел их. Но у поляны с обледенелою рябиной часовой издали окликнул его и, стоя на сильно разогнанных лыжах, скользком подъехал к нему.
— Стой! Стрелять буду! Кто такой? Говори порядок.
— Да что ты, братец, очумел? Свой. Аль не узнал? Доктор ваш Живаго.
— Виноват! Не серчай, товарищ Желвак. Не признал. А хоша и Желвак, дале не пущу. Надо все следом правилом.
— Ну, изволь. Пароль Красная Сибирь, отзыв долой интервентов.
— Это другой разговор. Ступай куда хошь. За каким шайтаном ночебродишь? Больные?
— Не спится и жажда одолела. Думал, пройдусь, поглотаю снега. Увидел рябину в ягодах мороженых, хочу пойти, пожевать.
— Вот она, дурь барская, зимой по ягоду. Три года колотили, колотили, не выколотишь. Никакой сознательности. Ступай по свою рябину, ненормальный. Аль мне жалко?
И так разгоняясь все скорее и скорее, часовой с сильно взятого разбега, стоя отъехал в сторону на длинных свистящих лыжах, и стал уходить по цельному снегу все дальше и дальше за тощие, как поредевшие волосы, голые зимние кусты. А тропинка, по которой шел доктор, привела его к только что упомянутой рябине. Она была наполовину в снегу, наполовину в обмерзших листьях и ягодах, и простирала две заснеженные ветки вперед навстречу ему. Он вспомнил большие белые руки Лары, круглые, щедрые и, ухватившись за ветки, притянул дерево к себе. Словно сознательным ответным движением рябина осыпала его снегом с ног до головы. Он бормотал, не понимая, что говорит и сам себя не. помня:
— Я увижу тебя, красота моя писаная, княгиня моя рябинушка, родная кровинушка.
Ночь была ясная. Светила луна. Он пробрался дальше в тайry к заветной пихте, откопал свои вещи и ушел из лагеря".
В мировом древе герой часто провидит некий женский образ. Это есть и у Пастернака, и у Толстого, и у Новалиса, и у Сенанкура. Вот еще пример — из стихотворения Заболоцкого "Можжевеловый куст":
Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.
Интересно, что Западной Европе в дерево (в дуб) вставляли фигурку Богоматери.
Фрэзер пишет:
"В последний четверг перед праздником Троицы русские крестьяне отправляются в лес, поют песни, сплетают венки и срубают молодую березу, которую обряжают в женское платье и украшают разноцветными лентами и лоскутками. После этого начинается праздник, а наряженную березу с радостными песнями и плясками приносят в родную деревню и устанавливают в одном из домов, где дерево в качестве желанного гостя остается до Троицы. В следующие два дня крестьяне посещают дом, в котором находится их "гость", а на третий, Троицын день они несут дерево к реке и бросают его, а вслед за этим и украшения, в воду. Обряжение березы в женскую одежду в этом русском обычае показывает, насколько дерево подвергается персонификации; в реке же его топят, вероятнее всего, с целью вызвать дождь".
Женский образ возникает потому, что акт творческой свободы параллелен как любовному акту, так и акту рождения. Через "цветочный путь" зачинается и рождается новый, "цветочный мир" — человек оплодотворяет мир и рождает самого себя:
"Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть; а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа".
Выход из мира несвободы ("цветочный путь") часто принимает образ тропинки. С. Кьеркегор в книге "Страх и трепет" пишет:
"Рыцарь веры знает, как прекрасно и радостно бывает принадлежать к общему. Он знает, как это успокоительно быть отдельным человеком, который сам себя переводит в общее и, так сказать, сам выпускает второе издание самого себя: чистенькое, приятное для глаз, без опечаток и для всех доступное; он знает, как хорошо понимать себя самого в общем, так что и сам понимаешь общее и всякий другой, который тебя понимает, понимает тебя в общем и вместе с тобою радуется тому успокоению, которое общее дает душе. Он знает, как это прекрасно родиться таким человеком, который в общем имеет свою отчизну, для которого общее есть верное убежище, где его всегда примут с распростертыми объятиями, когда ему нужен будет приют. Но он знает, что под общим извивается одинокая дорожка, узкая и крутая..."
Шестов в книге "Апофеоз беспочвенности" пишет:
"В Альпах есть узкие, труднопроходимые, лежащие над пропастями тропинки. Ходить по ним отваживаются только привычные, не боящиеся головокружения горцы. Кто же подвержен головокружениям, — выбирает большие, торные дороги или попросту сидит в долинах и оттуда любуется снежными вершинами. Разве непременно нужно лазить? За линией вечного снега нет ни тучных пастбищ, ни золота. Говорят, что там можно найти разгадку вечной тайны, но мало ли чего ни говорят! Не всякому слуху верить можно. Кому надоели долины, кто любит карабкаться, кто не боится глядеть в пропасть и — главное — у кого ничего не осталось в жизни, кроме "метафизической потребности", тот, разумеется, полезет на вершины, даже не справляясь о том, что ждет его там. Тот не боится, тот жаждет головокружения. Но едва ли он станет звать за собой людей: не всякий годится ему в товарищи. Да в таких делах товарищи и не нужны. Особенно такие, которые привыкли к удобным путям, к маякам, к верстовым столбам, к обстоятельным картам, вперед постоянно предсказывающим малейшие извилины предстоящего пути".
Тропинка, "возможная стежка", по которой можно убежать из "посюстороннего", тоскливого, бессмысленного мира — центральный образ у Набокова. Вот как, например, происходит такой побег в повести "Защита Лужина":
"Оказавшись один на платформе, Лужин пошел к стеклянному ящику, где пять куколок с голыми висячими ножками ждали, чтобы ожить и завертеться, толчка монеты; но это ожидание было сегодня напрасно, так как автомат оказался испорченным, и гривенник пропал даром. Лужин подождал, потом отвернулся и подошел к краю платформы. Справа, на огромном тюке, сидела девочка и, подперев ладонью локоть, ела зеленое яблоко. Слева стоял человек в крагах, со стеком в руках, и глядел вдаль, на опушку леса, из-за которого через несколько минут появится предвестник поезда — белый дымок. Спереди, по ту сторону рельс, около бесколесного желтого вагона второго класса, вросшего в землю и превращенного в постоянное человеческое жилье, мужик колол дрова. Вдруг туман слез скрыл все это, обожгло ресницы, невозможно перенести то, что сейчас будет, — отец с веером билетов в руке, мать, считающая глазами чемоданы, влетающий поезд, носильщик, приставляющий лесенку к площадке вагона, чтобы удобнее было подняться. Он оглянулся. Девочка ела яблоко; человек в крагах смотрел вдаль; все было спокойно. Он дошел, словно гуляя, до конца платформы и вдруг задвигался очень быстро, сбежал по ступеням, — битая тропинка, садик начальника станции, забор, калитка, елки, — дальше овражек и сразу густой лес".
Это был неудавшийся побег — Лужина вернули. Второй побег — уход Лужина с турнира, причем ему мерещится, что это все тот же первый, детский побег:
"...Лужин, поняв, что завяз, заплутал в одной из комбинаций, которые только что продумывал, сделал отчаянную попытку высвободиться, куда-нибудь вылезти, — хотя бы в небытие. "Идемте, идемте", — крикнул ему кто-то и со звоном исчез. Он остался один. Становилось все темней в глазах, и по отношению к каждому смутному предмету в зале он стоял под шахом, — надо было спасаться. Он двинулся, трясясь всем своим полным телом, и никак не мог сообразить, как делают, чтобы выйти из комнаты, — а ведь есть какой-то простой метод... <...> Трудно, трудно было найти дорогу домой в этом мягком тумане. Лужин чувствовал, что нужно взять налево, и там будет большой лес, а уж в лесу он легко найдет тропинку".
После второго побега жизнь Лужина повторяет ту схему, по которой она развивалась после первого побега:
"Смутно любуясь и смутно ужасаясь, он прослеживал, как страшно, как изощренно, как гибко повторялись за это время, ход за ходом, образы его детства (и усадьба, и город, и школа, и петербургская тетя), но еще не совсем понимал, чем это комбинационное повторение для его души ужасно".
Так не удался и второй побег. Третий побег — самоубийство. (Не случайно злой гений Лужина — Валентинов — подсунул ему шахматную задачку с матом в три хода.) И вот, когда, казалось бы, достигнута окончательная свобода от ненавистной шахматной комбинации, уже падая вниз, Лужин вдруг видит, что его защита не сработала, что его самоубийство — лишь очередной ход все той же комбинации:
"Уцепившись рукой за что-то вверху, он боком пролез в пройму окна. Теперь обе ноги висели наружу, и надо было только отпустить то, за что он держался, — и спасен. Прежде чем отпустить, он глянул вниз. Там шло какое-то торопливое приготовление: собирались, выравнивались отражения окон, вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты, и в тот миг, что Лужин разжал руки, в тот миг, что хлынул в рот стремительный ледяной воздух, он увидел, какая именно вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним".
Томящийся Цинциннат высматривает, подобно Лужину, волшебную тропинку:
"Цинциннат, обойдя террасу, опять вернулся к южному ее парапету. Его глаза совершали беззаконнейшие прогулки. Теперь мнилось ему, что он различает тот цветущий куст, ту птицу, ту уходящую под навес плюща тропинку".
В автобиографической книге "Другие берега" Набоков пишет:
"Горела одна свеча, и передо мной, над иконкой, на зыбкой стене колыхалась тень камышовой ширмы, и то туманился, то летел ко мне акварельный вид — сказочный лес, через стройную глушь которого вилась таинственная тропинка; мальчик в сказке перенесся на такую нарисованную тропинку прямо с кровати и углубился в глушь на деревянном коньке; и, дробя молитву, присаживаясь на собственные икры, млея в припудренной, преддремной, блаженной своей мгле, я соображал, как перелезу с подушки в картину, в зачарованный лес — куда, кстати, в свое время я и попал".
Это детское впечатление Набокова переходит к Мартыну из романа "Подвиг":
"Вспоминая в юности то время, он спрашивал себя, не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь. Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса, излуки тропинки, пересеченные там и сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей".
На протяжении всего романа Мартын постоянно встречается со своей тропинкой:
"Погодя Мартын встал, разминая ноги, и, взойдя по черному муравчатому скату, подошел к краю обрыва. Сразу под ногами была широкая темная бездна, а за ней — как будто близкое, как будто приподнятое, море с цареградской стезей посредине, лунной стезей, суживающейся к горизонту. Слева, во мраке, в таинственной глубине, дрожащими алмазными огнями играла Ялта. Когда же Мартын оборачивался,то видел поодаль огненное беспокойное гнездо костра, силуэты людей вокруг, чью-то руку, бросавшую сук. Стрекотали кузнечики, по временам несло сладкой хвойной гарью, — и над черной Яйлой, над шелковым морем, огромное, всепоглощающее, сизое от звезд небо было головокружительно, и Мартын вдруг опять ощутил то, что уже ощущал не раз в детстве, — невыносимый подъем всех чувств, что-то очаровательное и требовательное, присутствие такого, для чего только и стоит жить. Эта искристая стезя в море так же заманивала, как некогда тропинка в написанном лесу…"
В конце концов по одной из таких тропинок Мартын пробирается обратно на родину и исчезает. Это и есть его подвиг.
Роман оканчивается тем, что его друг Дарвин, размышляя о странной судьбе Мартына, бредет по тропинке:
"В лесу было тихо, только слышалось легкое чмоканье: где-то, под мокрым снегом, бежала вода. Дарвин прислушался и почему-то покачал головой. Табак, едва разгоревшись, потух, трубка издала беспомощный сосущий звук. Он что-то тихо сказал, задумчиво потер щеку и двинулся дальше. Воздух был тусклый, через тропу местами пролегали корни, черная хвоя иногда задевала за плечо, темная тропа вилась между стволов, живописно и таинственно".
Принцип таинственной тропинки служит критерием, помогает в жизненном выборе:
"Поступая в университет, Мартын долго не мог избрать себе науку. Их было так много и все — занимательные. Он медлил на их окраинах, всюду находя тот же волшебный источник живой воды. Его волновал какой-нибудь повисший над альпийской бездною мост, одушевленная даль, божественная точность расчета. Он понимал того впечатлительного археолога, который, расчистив ход к еще неизвестным гробам и сокровищам, постучался в дверь, прежде чем войти, и, войдя, упал в обморок. Прекрасны свет и тишина лабораторий: так хороший ныряльщик скользит сквозь воду с открытыми глазами, так, не напрягая век, глядит физиолог на дно микроскопа, и медленно начинают багроветь его шея и лоб, и он говорит, оторвавшись от трубки: "Все найдено". Человеческая мысль, летающая на трапециях звездной вселенной, похожа была на акробата, работающего с сеткой, но вдруг замечающего, что сетки, в сущности, нет, — и Мартын завидовал тем, кто доходит до этого головокружения и новой выкладкой превозмогает страх. Предсказать элемент или создать теорию, открыть горный хребет или назвать нового зверя, — все было равно заманчиво. В науке исторической Мартыну нравилось то, что он мог ясно вообразить, и потому он любил Карлейля. Плохо запоминая даты и пренебрегая обобщениями, он жадно выискивал живое, человеческое, принадлежащее к разряду тех изумительных подробностей, которыми грядущие поколения, пожалуй, пресытятся, глядя на старые, моросящие фильмы наших времен. Он живо себе представлял дрожащий белый день, простоту черной гильотины и неуклюжую возню на помосте, где палачи тискают голоплечего толстяка, меж тем как в толпе добродушный гражданин поднимает под локотки любопытную, но низкорослую гражданку. Наконец, были науки довольно смутные: правовые, государственные, экономические туманы; они устрашали его тем, что искра, которую он во всем любил, была в них слишком далеко запрятана. Не зная, на что решиться, что выбрать, Мартын постепенно отстранил все то, что могло бы слишком ревниво его завлечь. Оставалась еще словесность. Были и в ней для Мартына намеки на блаженство; как пронзала пустая беседа о погоде и спорте между Горацием и Меценатом или грусть старого Лира, произносящего жеманные имена дочерних левреток, лающих на него! Так же как в Новом Завете Мартын любил набрести на "зеленую траву", на "кубовый хитон", он в литературе искал не общего смысла, а неожиданных, озаренных прогалин, где можно было вытянуться до хруста в суставах и упоенно замереть".
"Изумительные подробности", "озаренные прогалины" — главное в набоковской поэтике. Ее можно назвать поэтикой тропинки:
"К этим Сониным друзьям примешивались и пожилые знакомые ее родителей, — все люди почтенные, общественные, чистые, вполне достойные будущего некролога в сто кристальных строк. Но когда, в июльский день, от разрыва сердца умер на улице, охнув и грузно упав ничком, старый Иоголевич, и в русских газетах было очень много о незаменимой утрате и подлинном труженике, и Михаил Платонович, с портфелем под мышкой, шел один из первых за гробом, среди роз и черного мрамора еврейских могил, Мартыну казалось, что слова некролога "пламенел любовью к России" или "всегда держал высоко перо" как-то унижают покойного тем, что они же, эти слова, могли быть применены и к Зиланову, и к самому маститому автору некролога. Мартыну было больше всего жаль своеобразия покойного, действительно незаменимого, — его жестов, бороды, лепных морщин, неожиданной застенчивой улыбки, и пиджачной пуговицы, висевшей на нитке, и манеры всем языком лизнуть марку, прежде чем ее налепить на конверте да хлопнуть по ней кулаком. Это было в каком-то смысле ценнее его общественных заслуг, для которых был такой удобный шаблончик, — и со странным перескоком мысли Мартын поклялся себе, что никогда сам не будет состоять ни в одной партии, не будет присутствовать ни на одном заседании, никогда не будет тем персонажем, которому предоставляется слово или который закрывает прения и чувствует при этом все восторги гражданственности. И часто Мартын дивился, почему никак не может заговорить о сокровенных своих замыслах с Зилановым, с его друзьями, со всеми этими деятельными, почтенными, бескорыстно любящими родину русскими людьми".
Но отчего подробности важны, отчего они изумительны?
"Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня — и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления практического руководства: "Как быть счастливым"? Или глубже, дотошнее: понять, что скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным, зеленым гримом листвы? А что-то ведь есть, что-то есть!" ("Дар").
Вот как, например, находит свое счастье герой рассказа Набокова "Облако, озеро, башня":
"А на остановках Василий Иванович смотрел иногда на сочетание каких-нибудь совсем ничтожных предметов — пятно на платформе, вишневая косточка, окурок, — и говорил себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трех штучек в таком-то их взаимном расположении, этого узора, который однако сейчас он видит до бессмертности ясно...<...> А еще через час ходьбы вдруг и открылось ему то самое счастье, о котором он как-то вполгрезы подумал.
Это было чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды. Посередине отражалось полностью большое облако. На той стороне, на холме, густо облепленном древесной зеленью (которая тем поэтичней, чем темнее), высилась прямо из дактиля в дактиль старинная черная башня. Таких, разумеется, видов в средней Европе сколько угодно, но именно, именно этот, по невыразимой и неповторимой согласованности его трех главных частей, по улыбке его, по какой-то таинственной невинности, — любовь моя! послушная моя! — был чем-то таким единственным, и родным, и давно обещанным, так понимал созерцателя, что Василий Иванович даже прижал руку к сердцу, словно смотрел тут ли оно, чтоб его отдать".
Открыв свое счастье, герой рассказа совершает "сущностный акт", следует зову:
"Наверху была комната для приезжих. — Знаете, я сниму ее на всю жизнь, — будто бы сказал Василий Иванович, как только в нее вошел. В ней ничего не было особенного, — напротив, это была самая дюжинная комнатка, с красным полом, с ромашками, намалеванными на белых стенах, и небольшим зеркалом, наполовину полным ромашкового настоя, — но из окошка было ясно видно озеро с облаком и башней, в неподвижном и совершенном сочетании счастья. Не рассуждая, не вникая ни во что, лишь беспрекословно отдаваясь влечению, правда которого заключалась в его же силе, никогда еще не испытанной, Василий Иванович в одну солнечную секунду понял, что здесь, в этой комнатке с прелестным до слез видом в окне, наконец-то так пойдет жизнь, как он всегда этого желал. Как именно пойдет, что именно здесь случится, он этого не знал, конечно, но все кругом было помощью, обещанием и отрадой, так что не могло быть никакого сомнения в том, что он должен тут поселиться".
"Пятно на платформе, вишневая косточка, окурок" неожиданно складываются в живое лицо. Подобно тому, как "пиджачная пуговица, висевшая на нитке" и "манера всем языком лизнуть марку" органически соединяются в Иоголевиче. Такова религия Набокова — религия художника. В романе "Подвиг" он пишет о матери Мартына:
"Была некая сила, в которую она крепко верила, столь же похожая на Бога, сколь похожи на никогда не виденного человека его дом, его вещи, его теплица и пасека, далекий голос его, случайно услышанный ночью в поле. Она стеснялась эту силу назвать именем Божьим, как есть Петры и Иваны, которые не могут без чувства фальши произнести Петя, Ваня, меж тем как есть другие, которые, передавая вам длинный разговор, раз двадцать просмакуют свое имя и отчество, или еще хуже — прозвище. Эта сила не вязалась с церковью, никаких грехов не отпускала и не карала, — но просто было иногда стыдно перед деревом, облаком, собакой, стыдно перед воздухом, так же бережно и свято несущим дурное слово, как и доброе".
Бубер пишет, что "как бы ни отличались друг от друга история отдельной личности и история человеческого рода, в одном они все же сходны: они означают прогрессирующий рост мира Оно". Но это не совсем так, поскольку Ты и Оно, извержение вулкана и застывание лавы чередуются. "Цветная спираль в стеклянном шарике — вот модель моей жизни", — пишет Набоков в книге "Другие берега". Такова же и модель культуры:
"Каждая большая, охватывающая народы культура зиждется на некотором первоначальном событии-встрече, на прозвучавшем некогда у ее истока ответе, адресованном Ты, на сущностном акте духа. Этот акт, подкрепленный согласно направленными усилиями последующих поколений, создает свою, специфическую концепцию космоса в духе — только через этот акт космос становится вновь и вновь доступным для человека; только теперь может человек вновь и вновь, с легкой душой, строить (исходя из специфической концепции пространства) жилище для Бога и жилища для людей, может наполнить трепещущее время новыми гимнами и песнями и может придать форму самой общности людей. Но только до тех пор, пока он в собственной жизни владеет (воздействуя и испытывая воздействие) этим сущностным актом, пока он сам находится в отношении: до тех пор он свободен и способен творить. Если культура не имеет более своим центром живой, непрестанно обновляющийся процесс-отношение, она, застывая, превращается в мир Оно, в который лишь иногда вулканически прорываются пламенные деяния одиноких носителей духа. С этих пор обычная причинность, которая никогда раньше не могла быть препятствием духовной концепции космоса, вырастает в угнетающий, давящий рок. Мудрая судьба-мастер, которая в гармоническом согласии с полнотой смысла космоса господствовала над всякой причинностью, теперь превращается в абсурдный демонизм и сама погружается в причинность. <...> Бурно нарастающая жажда спасения остается — после разнообразных попыток — совершенно неутоленной, пока ее не утолит тот, кто учит, как вырваться из круговорота рождений, или тот, кто спасает покорившиеся силе души — спасает в свободу детей Бога. Такое деяние вырастает из нового события-встречи, из его реализации, из нового, судьбоносного ответа человека своему Ты. При совершении этого центрального сущностного акта культура может смениться другой, которой он сообщит своесияние, но может и обновиться в себе самой".
"Есть, однако, качественное различие между историческими эпохами. Есть созревание времени, когда подавленная, истощенная стихия человеческого духа достигает скрытой готовности, в такой жажде и в таком напряжении, что он ожидает лишь Его прикосновения, чтобы прорваться наружу. Откровение, которое тогда совершается, охватывает всю созревшую стихию, во всем ее своеобразии, переплавляет ее и вкладывает в нее образ, новый образ Бога в мире".
Иными словами, не только человек в определенный период своей жизни оказывается перед "каменной стеной", но и человечество в целом — в определенный период своей истории. Так, например, скрытая готовность пробить стену, преодолеть отчуждение между Я и миром, увидеть за явлениями и предметами их символику, услышать Его голос, ощутить Его прикосновение особенно сильна в конце XIX века. На рубеже веков происходит новое "рождение от Духа", бабочка вновь выпархивает из куколки (Бубер: "Оно — куколка, Ты — бабочка"). Происходит встреча, звучит живое слово, история обновляется:
"Времена, когда звучит живое слово, — это те времена, когда обновляется единство Я и мира; времена, когда властвует действенное слово, — это те времена, когда сохраняется согласие между Я и миром; времена, когда слово становится авторитетным, — это такие времена, когда происходит утрата реальности и отчуждение между Я и миром, когда воцаряется злой рок, — пока не придет великое потрясение, и остановка дыхания во тьме, и молчание, исполненное готовности.
Но эта смена — не порочный круг. Она — путь. В каждом новом эоне рок давит все тяжелее, повороты — все круче. И теофания все ближе, она приближается к царству, которое сокрыто среди нас — между нами. История — это таинственное приближение. Каждая спираль ее пути приводит нас ко все более глубокой порче и одновременно — ко все более кардинальному возвращению. Но событие, мирская сторона которого называется возвращением, на своей иной, божественной стороне называется спасением".
В.Н. Топоров в статье "Мировое древо" ("Мифы народов мира") пишет:
"Высшей ценностью (максимум сакральности) обладает та точка в пространстве и времени, где и когда совершился акт творения, т. е. середина мира, где стоит мировое древо, и "в начале" — время творения. Во временном плане ситуация "в начале" повторяется во время праздника, когда солнце на стыке старого и нового года опишет свой годовой путь вокруг мирового древа. Праздник как раз и воспроизводит своей структурой порубежную ситуацию, когда пришедшим в упадок силам космоса противостоят набравшие мощь силы хаоса. Происходит роковой поединок, как "в начале", заканчивающийся победой космических сил и воссозданием нового (но по образцу старого) мира.
Праздничный ритуал имитирует эти стадии творения. Он начинается с "перевертывания" всей системы противопоставлений (царь становится рабом, раб — царем, богатый — бедным, бедный — богатым, верх — низом и т. п.) и заканчивается восстановлением ее в прежней аранжировке. На основании космогонических текстов можно, видимо, гипотетически восстановить всю ритуальную схему, приуроченную к мировому древу: 1) исходное положение — стык старого и нового года, мир распался в хаосе; задача ритуала — интегрировать космос из составных частей жертвы, зная правила отождествления, заданные мифопоэтическими классификациями; 2) жрец произносит текст, содержащий эти отождествления, над жертвой вблизи жертвенного столба или другого образа мирового древа, отмечающего сакральный центр мира; 3) загадки об элементах космоса в порядке их возникновения и ответы на них; 4) обращение к мировому древу как образу вновь созданного космоса. Собственно мифологический аспект связан с присутствием всех богов, поединком между ними (или главным среди них) и их противником (чудовищем), распределением сфер и функций в организующемся мире между отдельными богами, мифологическими мотивами этиологического характера ("как было создано небо?"; "почему ночью темно?"; "откуда пошли камни?" и т. п.).
Особая роль мирового древа для мифопоэтической эпохи определяется, в частности, тем, что мировое древо выступает как посредствующее звено между вселенной (макрокосмом) и человеком (микрокосмом) и является местом их пересечения. Образ мирового древа гарантировал целостный взгляд на мир, определение человеком своего места во вселенной".
Таким образом, мировое древо есть не только внезапно возникающая в жизни человека или общества вертикаль, но и горизонталь, организующая ритм истории. "История — это таинственное приближение". Это таинственная тропинка. Это лестница Яакова.
Гёльдерлин в романе "Гиперион" пишет:
"И в том моя надежда, мое утешение в часы одиночества, что такие благородные, а может, и более благородные созвучия когда-нибудь снова зазвучат в симфонии бытия. Тысячелетия, богатые жизнедеятельными людьми, — порождение любви, а нынче их возродит дружба. Из гармонии детства произошли когда-то народы, гармония духа станет началом новой истории мира. Сначала люди изведали счастье растительной жизни; из него они выросли и росли, пока не достигли зрелости; с тех пор они находятся в постоянном брожении, как внутри, так и вовне, и род человеческий, дойдя до беспредельного распада, представляет собою хаос, так что у всех, кто еще способен видеть и понимать, голова крутом идет; но красота бежит от обыденной жизни ввысь, в царство духа; что было природой, становится идеалом, и, пусть даже дерево снизу высохло и дало трещины, его свежая верхушка уцелела и еще зеленеет под лучами солнца, как все дерево когда-то, в дни юности; что было природой, стало идеалом. В нем, в этом идеале, в этом обновленном божестве, познают себя немногие избранные, и они едины, ибо в них есть единое, и они, они-то и положат начало новому веку... я сказал достаточно, чтобы стало ясно, что я имею в виду".
Часть II
ЧЕТ И НЕЧЕТ
Бог есть день и ночь, лето и зима, война и мир, насыщение и голод.
Гераклит
1. Война и мир
В определенный момент жизни мир может предстать перед человеком как нечто ему совершенно внешнее, бессмысленное, враждебное, — и он чувствует, что "распалась дней связующая нить". Так, например, случилось с Гамлетом:
"Недавно, не зная почему, я потерял всю свою веселость и привычку к занятиям. Мне так не по себе, что этот цветник мирозданья, земля, кажется мне бесплодною скалою, а этот необъятный шатер воздуха с неприступно вознесшейся твердью, этот, видите ли, царственный свод, выложенный золотою искрой, на мой взгляд — просто-напросто скопление вонючих и вредных паров. Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движеньям! Поступками как близок к ангелам! Почти равен Богу — разуменьем! Краса вселенной! Венец всего живущего! А что мне эта квинтэссенция праха?"
В буддийской "Дхаммападе (‘Путь истины’)" говорится:
"Что за смех, что за радость, когда мир постоянно горит? Покрытые тьмой, почему вы не ищете света?
Взгляни на сей изукрашенный образ, на тело, полное изъянов, составленное из частей, болезненное, исполненное многих мыслей, в которых нет ни определенности, ни постоянства.
Изношено это тело, гнездо болезней, бренное; эта гнилостная груда разлагается, ибо жизнь имеет концом — смерть. Что за удовольствие видеть эти голубоватые кости, подобные разбросанным тыквам в осеннюю пору?"
Или, в "Войне и мире" Толстого:
"Так это должно быть! — думал князь Андрей, выезжая из аллеи лысогорского дома. — Она, жалкое невинное существо, остается на съедение выжившему из ума старику. Старик чувствует, что виноват, но не может изменить себя. Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как и все, обманутым или обманывающим. Я еду в армию, зачем? — сам не знаю, и желаю встретить того человека, которого презираю, для того чтобы дать ему случай убить меня и посмеяться надо мной!" И прежде были все те же условия жизни, но прежде они все вязались между собой, а теперь все рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим представлялись князю Андрею".
"И с высоты этого представления все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным белым светом, без теней, без перспективы, без различий очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг, без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картины. "Да, да, вот они те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы,— говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном белом свете дня — ясной мысли о смерти. — Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем-то прекрасным и таинственным. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество — как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными! И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня".
"С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора".
Толстой вообще часто пускает в ход этот разоблачающий, раздевающий, разваливающий, обессмысливающий привычную жизнь "холодный белый свет". Вот, например, как он описывает оперу (которую не любил как жанр):
"На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками. Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая опять текста, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться".
Да сама жизнь бывает подобна дурно поставленной и фальшиво исполняемой опере:
"Княгиня вошла. Пассаж оборвался на середине; послышался крик, тяжелые ступни княжны Марьи и звуки поцелуев. Когда князь Андрей вошел, княжна и княгиня, только раз на короткое время видавшиеся во время свадьбы князя Андрея, обхватившись руками, крепко прижимались губами к тем местам, на которые попали в первую минуту. M-lle Bourienne стояла около них, прижав руку к сердцу и набожно улыбаясь, очевидно, столько же готовая заплакать, сколько и засмеяться. Князь Андрей пожал плечами и поморщился, как морщатся любители музыки, услышав фальшивую ноту. Обе женщины отпустили друг друга; потом опять, как будто боясь опоздать, схватили друг друга за руки, стали целовать и отрывать руки и потом опять стали целовать друг друга в лицо, и совершенно неожиданно для князя Андрея обе заплакали и опять стали целоваться. <...> Княгиня говорила без умолку. Короткая верхняя губка с усиками то и дело на мгновение слетала вниз, притрагивалась, где нужно было, к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестевшая зубами и глазами улыбка".
Но бывает и по-другому. Вот, например, что происходит с влюбленным Левиным в романе Толстого "Анна Каренина":
"Всю эту ночь и утро Левин жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни. Он не ел целый день, не спал две ночи, провел несколько часов раздетый на морозе и чувствовал себя не только свежим и здоровым как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела: он двигался без усилия мышц и чувствовал, что все может сделать. Он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если б это понадобилось. Он проходил остальное время по улицам, беспрестанно посматривая на часы и оглядываясь по сторонам.
И что он видел тогда, того после уже он никогда не видал. В особенности дети, шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и сайки, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его.Эти сайки, голуби и два мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время: мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина; голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега, а из окошка пахнуло духом печеного хлеба и выставились сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости".
Это мировосприятие объединяет с предыдущими примерами отстраненность от "условий материальной жизни". Но минус сменяется плюсом, "холодный белый свет" — солнечным блеском. "Он чувствовал себя совершенно независимым от тела". Вот оно, буддийское освобождение. Да, все распалось. Но это-то и хорошо! Нет Левина, нет улицы, нет детей, идущих в школу, нет голубей, нет саек — самих по себе, отдельных, индивидуумов ("неделимых"). Есть лишь это мгновение ("все это случилось в одно время"), есть лишь мгновенное сочетание взгляда Левина с мальчиками, голубем и сайками. Человек живет именно такими перетекающими друг в друга мгновениями, поэтому буддисты сравнивают жизнь с перетеканием волн или с завихрениями пламени. Все распалось, осталась лишь колеблющаяся стихия. Это должно было бы быть безрадостной морокой с единственным результатом — страданием. Но почему Левин чувствует, что "все это вместе было так необычайно хорошо"? Дело в том, что для Левина подбегающий к голубю и улыбающийся Левину мальчик, отпархивающий голубь, дрожащие в воздухе пылинки снега, дух печеного хлеба из окошка и выставленные сайки — "все это вместе" на мгновение складывается в нечто неделимое, в индивидуум.
Рильке в книге "Огюст Роден" пишет:
"Совсем недавно точно так же возмущались деревьями импрессионистов, обрезанными рамой картины; к этому впечатлению очень скоро привыкли, научились, по крайней мере, поскольку речь идет о художниках, видеть и понимать, что художественному целому не обязательно совпадать с обычной вещественной цельностью, что, независимо от нее, в самой картине возникают новые единства, сочетания, отношения, равновесия. И в скульптуре дело обстоит не иначе. Художник волен превратить много вещей в одну и сотворить мир из малейшей частицы какой-нибудь вещи. <...> Рука, ложащаяся на плечо или на бедро другого, не принадлежит больше исходному телу: из нее и из предмета, который она трогает или хватает, возникает новая вещь, еще одна вещь, безымянная, никому не принадлежащая, и теперь все дело в ней, в этой вещи с ее определенными границами. Вот истина, обосновывающая расположение образов у Родена; отсюда та неслыханная взаимосвязь фигур, та сплоченность форм, та неразлучность вопреки всему. Роден исходит не из обнимающихся фигур; у него нет моделей, которые он собирал бы и располагал. Места сильнейшего соприкосновения — начало и кульминация его произведений; где возникает нечто новое, там он приступает к работе и посвящает все свое мастерство таинственным явлениям, сопровождающим становление новой вещи. Он работает словно при вспышках молний, возникающих в этих пунктах, и видит лишь освещенные ими части тела".
Левин смеется и плачет от радости потому, что за "майей", за холстом жизненной картины чувствует невидимое присутствие какого-то "неземного существа". Так железные стружки на листе бумаги, если к ним с обратной стороны листа приблизить магнит, стянутся в единый узор. "Майя" не скрывает подлинную реальность, а наоборот, открывает ее, служит ее проводником. С упразднением "майи" подлинная реальность стала бы недоступной. "Майя" — не занавес, а театральное действие, не холст, а картина, не стена, а окно. Это средство общения с "неземными существами", со Смыслом.
Суфий XIII века Азиз ад-дин ибн Мухаммад Насафи в трактате "Сливки истин" говорит:
Каждый рисунок, существующий на доске бытия,
Есть образ Того, Кто создал этот рисунок.
Когда вечное море вздымает новую волну,
Полагают, что это волна, в действительности — это море.
Мгновения сменяют друг друга, волна подгоняет волну. Но при этом беспрестанно возникают мгновенные "неземные существа" — подобно солнечным искрам на утреннем море. "Море — смеялось" (Горький). Можно также вспомнить "золотую воду" из татарской сказки о золотой рыбке.
Фалес говорит: "Все произошло из воды". Но это полдела. И он добавляет: "Все полно богов".
И в этот мир, "полный богов", входит посвященный, — и мир слушается его, подчиняется ему, как творцу, — подобно тому, как произведение искусства подчиняется художнику:
"Петя стал закрывать глаза и покачиваться.
Капли капали. Шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел кто-то.
— Ожиг, жиг, ожиг, жиг ... — свистела натачиваемая сабля.
И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы, — каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное.
"Ах, да, ведь это я во сне, — качнувшись вперед, сказал себе Петя. — Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй, моя музыка! Ну!.."
Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. "Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу", — сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов.
"Ну, тише, тише, замирайте теперь. — И звуки слушались его. — Ну, теперь полнее, веселее. Еще, еще, радостнее.— И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся, торжественные звуки. — Ну, голоса, приставайте!" — приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте.
С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг ... свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него".
Здесь происходит совпадение (точнее, постепенное, ритмическое совпадание) "внутреннего человека" с "внешним миром" в единую музыку. Разрозненные, бессвязные звуки — свист сабли, ржание лошадей, плеск дождевых капель — постепенно "сопрягаются" с внутренней музыкой Пети, шум превращается в хор. Человек и мир, свобода и необходимость (а это основной философский вопрос "Войны и мира", а также и смыл названия этого произведения) совпадают в творчестве, в чуде, в мифе.
Новалис в повести "Ученики в Саисе" пишет:
"Благодаря этому выигрывают оба восприятия: внешний мир становится прозрачен, а внутренний мир — разнообразен и многозначителен. Так человек пребывает в проникновенно живом состоянии между двумя мирами в полнейшей свободе и радостнейшем ощущении своей власти". Так и Толстой говорит о Пете: "Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно".
Текст, освещающий бессмыслицу жизни "холодным белом светом", в определенные моменты переходит у Толстого в текст волшебного, чудесного, мифологического характера. Таковы, например, Петина фуга, Тушин в бою, катание на санях ... Попадая в "волшебное царство", герои меняют вид поведения: князь Андрей в полевом госпитале и при встрече с Наташей, Пьер при встрече с Платоном Каратаевым, проигравшийся Николай Ростов, когда он вдруг слышит Наташино пение. Волшебный фонарь снова зажигается:
"С той минуты как она увидала это милое, любимое лицо, какая-то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее, с того времени как вошел Ростов, вдруг преобразилось. Как вдруг с неожиданной поражающей красотой выступает на стенах расписного фонаря искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубою, темною и бессмысленною, когда зажигается свет внутри: так вдруг преобразилось лицо княжны Марьи".
Поскольку мифологическое восприятие действительно соединяет человека с миром, оно одаривает его силой воздействия на мир, его поступки "цепляют" (по выражению Толстого) реальность. Хороший тому пример — Тушин, погрузившийся в собственный "фантастический мир", вдохновенно дирижирующий боем:
"Солдаты, большею частью красивые молодцы (как и всегда в батарейной роте, на две головы выше своего офицера и вдвое шире его), все, как дети в затруднительном положении, смотрели на своего командира, и то выражение, которое было на его лице, неизменно отражалось на их лицах.
Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось все веселее и веселее. Ему казалось, что уже очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знакомым, родственным местом. Несмотря на то, что он все помнил, все соображал, все делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении, он находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека.
Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятеля, из-за вида вспотевшей, раскрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымков неприятеля на той стороне (после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или лошадь), — из-за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту. Неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик.
— Вишь, пыхнул опять, — проговорил Тушин шепотом про себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево полосой относился ветром, — теперь мячик жди — отсылать назад.
— Что прикажете, ваше благородие? — спросил фейерверкер, близко стоявший около него и слышавший, что он бормотал что-то.
— Ничего, гранату... — отвечал он.
"Ну-ка, наша Матвевна", — говорил он про себя. Матвевной представлялась в его воображении большая крайняя старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавец и пьяница первый нумер второго орудия в его мире был дядя; Тушин чаще других смотрел на него и радовался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханью и разгоранью этих звуков".
"Я = не-Я — высшее положение всякой науки и искусства", — говорит Новалис. Человеческое Я должно сначала раствориться в море не-Я, слиться с жизнью в целом, потерять себя, разрушить, расчленить, чтобы затем собраться заново (если, конечно, получится — без риска здесь не обойтись), выйти из водной стихии в обновленном, преображенном виде. Умереть и родится второй раз. Это будет уже новое Я, обогащенное всей полнотой не-Я, разомкнутое, любящее.
Не случайно, когда об этом говорят, все время обращаются к образу моря. Море — женское начало (Инь), оно означает погружение, зачатие, а солнечные блики, солнечные мальчики (Ян), означают всплывание на поверхность, рождение. Человек, подобно солнцу в мифе, умирает и погружается в море, из которого потом выходит, восстает возрожденным.
Новалис в повести "Ученики в Саисе" пишет:
"В ком, — воскликнул юноша, и взор его засверкал, — не взыграет сердце, когда глубочайшая жизнь природы проникнет в его душу во всей своей полноте, когда то всесильное чувство, для которого язык не знает иных названий, как любовь и сладострастие, в нем ширится, подобно могучему, всерастворяющему облаку, и он в сладостном трепете погружается в темное, манящее лоно природы, когда бедное Я разъединяется захлестывающими волнами наслаждения и в великом океане ничего больше не остается, кроме единого фокуса безмерной силы зачинания, ничего, кроме всепоглощающего водоворота? Что есть пламя, повсюду вспыхивающее? Проникновенное объятие, нежный плод которого выпадает в сладострастных каплях росы. Вода, это первородное дитя воздушных слияний, не в силах отрицать своего сладострастного происхождения и являет собою на земле стихию любви и слияния с небесным всемогуществом. Недалеки от истины были древние мудрецы, искавшие происхождения вещей в воде, и поистине они говорили о более высокой воде, чем морская или ключевая, о воде, в которой открывается первожидкость, каковой она явлена нам в расплавленном металле, и потому пусть люди и почитают ее как нечто божественное. Как все еще мало таких людей, которые погрузились в тайны жидкого, а у кого-то это предчувствие высшего наслаждения и высшей жизни, пожалуй, никогда и не возникало в опьяненной душе. В жажде раскрывается эта мировая душа, это могучее стремление разлиться. Опьяненные слишком хорошо знают это неземное упоение жидким, и в конце концов все приятные ощущения в нас суть многообразные разливы и движения первоводы. Даже сон не что иное, как прилив этого невидимого мирового моря, а пробуждение — начало отлива. Сколько людей стоят на берегу упоительно шумящих рек и не слышат колыбельной песни материнских струй и не наслаждаются чарующей игрой их бесконечных волн! Подобно этим волнам жили и мы в золотом веке, в пестроцветных облаках, в этих плывущих морях и первоистоках живого на земле, жили и зачинались людские поколения, пребывая в вечных играх; их посещали дети неба, и этот цветущий мир погиб лишь во время того огромного события, которое священные предания именуют потопом; враждебное существо погрузило землю в пучину, и лишь немногие люди, будучи выброшенными на утесы новых гор, уцелели в чуждом мире. Как странно, что как раз самые святые и самые увлекательные явления природы находятся в руках мертвых людей, все разлагающих на элементы. Явления, которые, властно пробуждая творческий смысл природы, должны быть только тайной любящих, мистериями высшего человечества, бесстыдно и бессмысленно вызываются грубыми умами, которые никогда не узнают, какие чудеса заключены в их колбах. Только поэты должны были бы иметь дело с жидким, только им должно было бы разрешаться повествовать о нем пламенной юности; мастерские стали бы храмами, и люди с обновленной любовью поклонялись бы своим огням и рекам и гордились ими. Сколь счастливыми снова почитали бы себя те города, которые омывает море или большая река, и каждый источник снова стал бы вольным приютом и местопребыванием умудренных опытом и одухотворенных людей. Потому-то ничто так и не манит к себе детей, как огонь и вода, и каждый поток обещает им увести их в пестрые дали, в прекраснейшие места. Небо, лежащее в воде, — это не просто отражение, это нежное содружество, знак соседства, и если неудовлетворенное стремление рвется в неизмеримую высь, то счастливая любовь охотно погружается в бесконечную глубь".
Но бывает, что этот обряд, таинство посвящения пройти не удается, бывает, что дело заканчивается неудачей. Тогда Я не возрождается, погрузившись в не-Я и обогатившись им, а тонет во враждебном мире не-Я, оставаясь замкнутым, плененным в самом себе.
Я, отправляясь в не-Я, вдруг встречается с этим не-Я взглядом. С зеркальным отражением самого Я в его индивидуалистической замкнутости. Этих отражений много, они множатся, не-Я не соединяется с Я, а отражает Я со всех своих сторон, со всех своих частей и частиц. И тогда человеку кажется, будто он видит враждебную ему дурную множественность не-Я, а на самом деле, эта дурная множественность бессмысленного и враждебного ему внешнего мира как раз и образована бесконечно множащимися отражениями его Я, которое все никак не может объединиться с не-Я, пробиться к нему, отражается, отскакивает от его поверхности.
Замкнутое, дурное единство индивидуума предполагает враждебную ему дурную множественность мира.
Такое противостояние единства и множественности воплощено в образе Медузы Горгоны с ее окаменяющим взглядом и волосами-змеями, в образе Вельзевула ("повелитель мух"). По данному принципу строятся и все фильмы ужасов. Особенно очевидна связь между дьявольским взглядом и дурной множественностью в гоголевском "Портрете":
"К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз".
И тогда парадом командует уже не "солнечный мальчик", а "чуждый бог", таинство любви и возрождения подменяется смертным разгулом. Подобное, например, переживает Ашенбах в повести Томаса Манна "Смерть в Венеции":
"В эту ночь у него было страшное сновидение — если можно назвать сновидением телесно-духовное событие, явившееся ему, правда, в глубоком сне, но так, что вне его он уже не видел себя существующим в мире. Местом действия была как будто самая его душа, а события ворвались извне, разом сломив его сопротивление — упорное сопротивление интеллекта, пронеслись над ним и обратили его бытие, культуру его жизни в прах и пепел.
Страх был началом, страх, и вожделение, и полное ужаса любопытство к тому, что должно совершиться. Стояла ночь, и чувства его были насторожены, ибо издалека близился топот, гудение, смешанный шум: стук, скаканье, глухие раскаты, пронзительные вскрики и вой — протяжное "у", — все это пронизывали и временами пугающе-сладостно заглушали воркующие, нечестивые в своем упорстве звуки флейты, назойливо и бесстыдно завораживающие, от которых все внутри содрогалось. Но он знал слово, темное, хотя и дававшее имя тому, что надвигалось: "чуждый бог". Зной затлел, заклубился, и он увидел горную местность, похожую на ту, где стоял его загородный дом. И в разорванном свете, с лесистых вершин, стволов и замшелых камней, дробясь, покатился обвал: люди, звери, стая, неистовая орда — и наводнил поляну телами, пламенем, суетой и бешеными плясками. Женщины, кутаясь в длинных одеждах из звериных шкур, которые свисали у них с пояса, со стоном вскидывали головы, потрясали бубнами, размахивали факелами, с которых сьпались искры, и обнаженными кинжалами, держали в руках извивающихся змей, перехватив их за середину туловища, или с криками несли в обеих руках свои груди. Мужчины с рогами на голове, со звериными шкурами на чреслах и мохнатой кожей, склонив лбы, задирали ноги и руки, яростно били в медные тимпаны и литавры, в то время как упитанные мальчики, цепляясь за рога козлов, подгоняли их увитыми зеленью жезлами и взвизгивали при их нелепых прыжках. А вокруг стоял вой и громкие клики — сплошь из мягких согласных с протяжным "у" на конце, сладостные, дикие, нигде и никогда не слыханные. Но здесь оно полнило собою воздух, это протяжное "у" — точно трубил олень, там и сям многоголосо подхваченное, разгульно ликующее, подстрекающее к пляске, к дерганью руками и ногами. Оно никогда не смолкало. Но все пронизывали, надо всем властвовали низкие, влекущие звуки флейты. Не влекут ли они — бесстыдно, настойчиво — и его, сопротивляющегося и сопричастного празднеству, к безмерности высшей жертвы? Велико было его омерзение, велик страх, честное стремление до последнего вздоха защищать свое от этого чужого, враждебного достоинству и твердости духа. Но гам, вой, повторенный горным эхо, нарастал, набухал до необоримого безумия. Запахи мутили разум, едкий смрад козлов, пот трясущихся тел, похожий на дыхание гнилой воды, и еще тянуло другим знакомым запахом: ран и повальной болезни. В унисон с ударами литавр содрогалось его сердце, голова шла кругом, ярость охватила его, ослепление, пьяное сладострастие, и его душа возжелала примкнуть к хороводу бога. Непристойный символ, гигантский, деревянный, был открыт и поднят кверху: еще разнузданнее заорали вокруг, выкликая все тот же призыв. С пеной у рта они бесновались, возбуждали друг друга любострастными жестами, елозили похотливыми руками, со смехом, с кряхтеньем вонзали острые жезлы в тела близстоящих и слизывали выступавшую кровь. Но, покорный власти чуждого бога, с ними и в них был теперь тот, кому виделся сон. И больше того: они были он, когда, рассвирепев, бросались на животных, убивали их, зубами рвали клочья дымящегося мяса, когда на изрытой мшистой земле началось повальное совокупление — жертва богу. И его душа вкусила блуда и неистовства гибели".
А вот как описывает погружение в Землю, в могилу, в не-Я — и встречу с "чуждыми богом" К.Г. Юнг в книге "Воспоминания, сновидения, размышления":
"Приблизительно тогда же … у меня было самое раннее сновидение из запомнившихся мне, сновидение, которому предстояло занимать меня всю жизнь. Мне было тогда немногим больше трех лет.
Дом священника стоял особняком вблизи замка Лауфэн, рядом тянулся большой луг, начинавшийся у фермы церковного сторожа. Во сне я находился на этом лугу. Внезапно я заметил темную прямоугольную, выложенную изнутри камнями яму. Я никогда прежде не видел ничего подобного. Я подбежал и с любопытством заглянул вниз. Я увидел каменные ступени. В страхе и неуверенности я спустился. В самом низу за зеленым занавесом был вход с круглой аркой. Занавес был большой и тяжелый, ручной работы, похож был на парчовый, и выглядел очень роскошно. Любопытство мое требовало узнать, что за ним, я отстранил его и увидел перед собой в тусклом свете прямоугольную палату, метров в десять длиною, с каменным сводчатым потолком. Пол тоже был выложен каменными плитами, а в центре его лежал красный ковер. Там, на возвышении, стоял золотой трон, удивительно богато украшенный. Я не уверен, но возможно, что на сидении лежала красная подушка. Это был величественный трон, в самом деле,— сказочный королевский трон. Что-то стояло на нем, сначала я подумал, что это ствол дерева (что-то около 4-5 м высотой и 0,5 м в толщину). Это была огромная масса, доходящая почти до потолка и сделана она была из странного сплава — кожи и голого мяса, на вершине находилось что-то вроде круглой головы без лица и волос. На самой макушке был один глаз, устремленный неподвижно вверх.
В комнате было довольно светло, хотя не было ни окон, ни какого-нибудь другого видимого источника света. От головы, однако, полукругом исходило яркое свечение. То, что стояло на троне, не двигалось, и все же у меня было чувство, что оно может в любой момент сползти с трона и, как червяк, поползти ко мне. Я был парализован ужасом. В этот момент я услышал снаружи, сверху, голос моей матери. Она воскликнула: «Ты только посмотри на него. Это же людоед!». Это лишь увеличило мой ужас и я проснулся в испарине, напуганный до смерти. Много ночей после этого я боялся засыпать, потому что я боялся увидеть еще один такой же сон.
Это сновидение преследовало меня много дней. Гораздо позже я понял, что это был образ фаллоса, и прошли еще десятилетия, прежде чем я узнал, что это ритуальный фаллос. (…)
Абстрактный смысл фаллоса доказывается его единичностью и его вертикальным положением на троне. Яма на лугу была могилой, сама же могила — подземным храмом, чей зеленый занавес символизировал луг, другими словами, тайну земли с ее зеленым травяным покровом. Ковер был кроваво красным. А что сказать о своде? Возможно ли, чтобы я уже побывал в Муноте, цитадели Шафгаузена? Это маловероятно, — никто не возьмет туда трехлетнего ребенка. Так что это не могло быть воспоминанием. Кроме того, я не знаю, откуда взялась анатомическая правильность образа. Интерпретация самой верхней его части как глаза с источником света указывает на значение соответствующего греческого слова phalos — светящийся, яркий".
2. Мальчик с пальчик
Если суммировать свидетельства людей, перенесших клиническую смерть, то получится примерно такая картина:
Человек чувствует, как его душа отделяется от тела в виде заряда энергии, что она летит — как птица, что она все постигает без слов, через некий универсальный язык. Боль исчезает, становится тепло. Душа слышит какие-либо звуки: стук, жужжание, колокольный звон, свист, музыку. Она скользит по темному безвоздушному туннелю к ярчайшему свету, который, однако, не ослепляет и не обжигает. Свет оказывается живым. Он показывает, высвечивает душе всю ее жизнь, как в зеркале или на сцене,— в одно мгновение, но во всех мельчайших деталях. Душа встречается также с душами умерших родственников и знакомых. Кроме того, ей нужно преодолеть какую-либо границу: забор, дверь, поле, реку, океан, пропасть, лес, полосу тумана. Люди, перенесшие клиническую смерть, сохраняют чувство присутствия живого света, ангела-хранителя, говорят о том, что он помогает им ориентироваться в жизни.
Погружение в пропасть, в хаос, распад индивидуума (прохождение сквозь тесный туннель, выводящий в океан), а затем — встреча с "неземными существами", с Духом богов, порхающим над водами, собирание нового, обновленного индивидуума. Так происходит и с героем сказки, которого сначала разрубают на мелкие кусочки, а затем оживляют, спрыснув мертвой и живой водой. Оживший герой сильнее и красивее, чем был прежде. Как известно, в сказках это есть след первобытного обряда посвящения, во время которого посвящаемый должен был, подобно закатному солнцу, погрузиться в морскую пучину, раздробиться, раствориться, а затем, сложившись, вновь родиться из хаоса. При этом он либо пролезал через выкопанный в земле туннель, либо спускался в грот, в расщелину (ассоциируемую со ртом или входом во чрево Матери-Земли), либо его проносили сквозь изображение пасти чудовища (которая одновременно могла изображать зубастую вагину), — в любом случае, он был пожираем персонифицированной природой, миром не-Я, чтобы затем выйти вновь на свет. Он совершал с Матерью-Землей любовный акт, погружаясь в нее, как солнце в море, как Ян в Инь, превращаясь в фаллос, — с тем, чтобы затем родиться от нее "божественным младенцем" — как, например, Эрот, выплывающий на дельфине, или как Дионис-ребенок, который был прибит к берегу в сундуке со своей мертвой матерью. Так, например, в индийском мифе бог-младенец Праджапати "вылупился из яйца, которое возникает в водах начала, т.е. вылупился из пустоты. Он полулежит на спине морских чудовищ, плавает в чаще водяных цветов. Он — предвечный младенец в предвечном одиночестве предвечной стихии; предвечный младенец представляет собой развертывание предвечного яйца подобно тому, как весь мир представляет собой развертывание его самого" (К. Кереньи, К.Г. Юнг "Введение в сущность мифологии").
Вот как, например, происходит обряд посвящения в "Песне о Гайавате":
На пути их, в дебрях леса,
Дуб лежал, погибший в бурю,
Дуб-гигант, покрытый мохом,
Полусгнивший под листвою,
Почерневший и дуплистый.
Увидав его, Оссэо
Испустил вдруг крик тоскливый
И в дупло, как в яму, прыгнул.
Старым, дряхлым, безобразным
Он упал в него, а вышел —
Сильным, стройным и высоким,
Статным юношей, красавцем!
В другом сказании об этом герое Гайавата попадает в чрево Великого Осетра (Мише-Нама), стискивает его сердце, убивает, рядом трудится волшебный помощник — "маленький товарищ" — белка Аджидомо. Затем волны выносят Мише-Наму на берег, птицы проклевывают щели между его ребер, Гайавата выходит наружу.
Смысл любого обряда в том, чтобы заручиться поддержкой духа-помощника, с которым можно, грубо говоря, выходить на охоту, не боясь потерять след или промахнуться. Нужно заручиться поддержкой "ангела-хранителя".
Целью обряда посвящения было первое знакомство с Духом и духами. Для того, чтобы это знакомство состоялось, нужно было получить опыт смерти. Поэтому посвящаемый подвергался тяжелым физическим и психическим испытаниям, максимально приближавшим его к опыту клинической смерти. Леви-Брюль в книге "Первобытное мышление" пишет:
"Новопосвящаемые отделяются от женщин и детей, с которыми они жили до этого времени. Обычно отделение совершается внезапно и неожиданно. Будучи доверены попечению и наблюдению определенного взрослого мужчины, с которым они, как правило, находятся в родственной связи, новопосвящаемые обязаны пассивно подчиняться всему, что с ними делают, и переносить без каких бы то ни было жалоб всякую боль. Испытания протекают долго и мучительно, а порой доходят до настоящих пыток. Тут мы встречаем лишение сна, пищи, бичевание и сечение палками, удары дубиной по голове, выщипывание волос, соскабливание кожи, вырывание зубов, обрезание, подрезание, кровопускание, укусы ядовитых муравьев, душение дымом, подвешивание при помощи крючков, вонзаемых в тело, испытание огнем и т.д. Несомненно, второстепенным мотивом в этих обычаях может служить стремление удостовериться в храбрости и выносливости новопосвящаемых — испытать их мужество, убедиться, способны ли они выдержать боль и хранить тайну. Главная первоначальная цель, которую преследуют при этом, — мистический результат, совершенно не зависящий от их воли: речь идет о том, чтобы установить сопричастность между новопосвящаемым и мистическими реальностями, каковыми являются сама сущность общественной группы, тотемы, мифические или человеческие предки. Путем установления сопричастности посвящаемому дается, как уже говорилось, новая душа. Здесь появляются непреодолимые для нашего логического мышления трудности, вызываемые вопросом о единстве или множественности души. Между тем для пра-логического мышления нет ничего проще и легче, чем представить себе то, что мы называем душой, как нечто одновременно и единое, и множественное. Как индейский охотник Северной Америки, постясь 8 дней, устанавливает между собой и духом медведей мистическую связь, которая даст ему возможность выследить и убить медведей, так и испытания, налагаемые на посвящаемых, устанавливают между ними и мистическими существами, о которых идет речь в данном случае, необходимый контакт, без которого слияние, являющееся целью всех этих церемоний, не осуществилось бы. Важна не материальная сторона испытаний. Она столь же безразлична сама по себе, как боль, которую испытывает пациент нашего врача, безразлична для успеха хирургической операции. Способы и средства, применяемые первобытными людьми для того, чтобы привести посвящаемых в состояние надлежащей восприимчивости, действительно очень болезненны. К ним прибегают, однако, не из-за болезненности, но от них не думают и отказываться по этой причине. Все свое внимание они устремляют на тот момент, который единственно и имеет значение: на состояние особой восприимчивости, в которое надлежит привести посвящаемых, чтобы осуществилась желанная сопричастность. Состояние восприимчивости заключается главным образом в своего рода деперсонализации, потере сознания, вызываемой усталостью, болью; истощением нервных сил, лишениями, одним словом, в мнимой смерти, за которой следует новое рождение. Женщинам и детям (которым запрещено присутствовать при подобных церемониях под страхом самых суровых наказаний) внушают, что новопосвящаемые действительно умирают. Это убеждение внушают и посвящаемым, сами старики, возможно, в известном смысле разделяют такую веру. "Цвет смерти белый, и новопосвящаемые выкрашены в белый цвет". Если, однако, мы вспомним, чем являются смерть и рождение для пра-логического мышления, то увидим, что это мышление должно было так представлять себе состояние, делающее возможными сопричастности, в которых и заключается посвящение юношей. Смерть отнюдь не полное и простое упразднение и уничтожение всех форм деятельности и существования, составляющих жизнь. Первобытный человек никогда не имел ни малейшего представления о таком полном уничтожении. То, что мы называем смертью, никогда не воспринимается им как нечто законченное и полное. Мертвые живут и умирают, и даже после второй смерти они продолжают существовать, дожидаясь нового перевоплощения. То, что мы называем смертью, совершается в несколько приемов. Первая стадия смерти, подражание которой дают испытания посвящения, не что иное, как перемена места, перенесение души, которая мгновенно покинула тело, оставаясь, однако, в непосредственном соседстве с ним. Это начало перерыва сопричастности. Оно ставит личность в совершенно особое состояние восприимчивости, родственное сну, каталепсии, экстазу, которые во всех первобытных обществах являются постоянными условиями общения с невидимым миром".
К.Г. Юнг в книге "Воспоминания, сновидения, размышления" дает пример такой восприимчивости, партиципации:
"И я знаю за собой нечто от этой древней природы и это позволяет, что не всегда приятно, видеть людей и вещи такими, какие они есть. Я могу позволить себя обмануть, если не желаю знать истинного положения вещей, и все же в глубине души я его вполне себе представляю. Это чувство сродни инстинкту или архаическому механизму партиципации — мистического соединения с другими. Это как внутреннее зрение, когда каждый акт видения беспристрастен.
Я понял это много позже, после разного рода странных происшествий. Так, однажды я рассказал историю жизни человека, которого не знал раньше. Это было на свадьбе приятеля моей жены, невеста и ее семья были мне совершенно неизвестны. За столом я сидел напротив бородатого мужчины средних лет, которого мне представили как адвоката. Мы оживленно беседовали о криминальной психологии. Чтобы ответить на один конкретный вопрос, я, в качестве примера, придумал историю, и вдруг заметил, что мой собеседник изменился в лице, а за столом воцарилась тишина. Я почувствовал неловкость и замолчал. Слава Богу, мы уже дошли до десерта, так что я вскоре поднялся и вышел в холл. Там я забился в угол, зажег сигару и попытался еще раз обдумать ситуацию. В эту минуту ко мне подошел один из соседей по столу и с укором спросил меня: "Как вы могли так дискредитировать человека?" "Дискредитировать?! Чем же?" «Ну, та история, которую вы рассказали ..." "Но я ее придумал от начала и до конца!"
К моему изумлению и ужасу выяснилось, что я во всех подробностях рассказал историю моего визави. И я вдруг обнаружил, что не могу вспомнить больше ни единого слова из нее и по сей день я так и не припомнил. Цшокке в своей автобиографии описывает аналогичный случай: однажды на постоялом дворе он уличил в краже неизвестного ему молодого человека, потому что увидел это своим внутренним зрением".
Трудно согласиться с тем, что не важна материальная сторона испытаний, способы и средства, применяемые для достижения состояния особой восприимчивости. Так, например, "вьщипывание волос, соскабливание кожи, вырывание зубов, обрезание, подрезание, кровопускание" и т. п. не только доводят посвящаемого до состояния деперсонализации,но и обозначают, символизируют деперсонализацию. Способы и средства, используемые в обряде посвящения, имитируют метафизический путь, настраивают на метафизическое путешествие. Возникновению потусторонней музыки помогают барабанный бой или тростниковое гудение, появлению духов — маски и истуканы, появлению живого света — огонь, прохождению через границу двух миров — пролезание через выкопанный туннель, отделению души от тела — прыжок с дерева (с привязанной ногой).
Юнг в работе "Об архетипах коллективного бессознательного" приводит примеры снов, аналогичных обряду посвящения. Это и есть самый настоящий обряд посвящения — только совершаемый во сне:
"Протестантскому теологу часто снился один и тот же сон: он стоит на склоне, внизу лежит глубокая долина, а в ней темное озеро. Во сне он знает, что до сего момента что-то препятствовало ему приблизиться к озеру. На этот раз он решается подойти к воде. Когда он приближается к берегу, становится темно и тревожно, и вдруг порыв ветра пробегает по поверхности воды. Тут его охватывает панический страх, и он просыпается.
Этот сон содержит природную символику. Сновидец нисходит к собственным глубинам, и путь его ведет к таинственной воде. И здесь совершается чудо купальни Вифезда: спускается ангел и возмущает воды, которые тем самым становятся исцеляющими. Во сне это ветер, Пневма, дующий туда, куда пожелает. Требуется нисхождение человека к воде, чтобы вызвать чудо оживления вод.
Дуновение духа, проскользнувшее по темной воде, является страшным, как и все то, причиной чего не выступает сам человек, либо причину чего он не знает. Это указание на невидимое присутствие, на нумен".
Когда человек спускается в сон, вместо спинно-мозговой системы начинает действовать симпатическая нервная система, центр которой — в "солнечном сплетении". При этом индивидуальное сознание умирает, "расщепляется", растворяется, что проявляется в образах погружения в воду, расчленения. (Так и во время обряда посвящения инсценировалось расчленение посвящаемого, его поедание змеем или рыбой.) Прежде чем погрузиться в воду, человек встречает некую фигуру — собственную Тень. Человеку является черт, его личный черт. Этот двойник — как бы отражение индивидуума, его индивидуальной ограниченности на поверхности воды (не случайно он часто является как отражение в зеркале), при приближении к безграничному и всеобщему, — последний вскрик индивидуализма. Человек проходит сквозь эту фигуру, как в узкую дверь, что соответствует продвижению по пищеводу мифического змея (например, вхождение в "избушку на курьих ножках") в обряде посвящения, по туннелю при клинической смерти. Человек проходит сквозь свой собственный позвоночник. Преодолев эту "теснину", эту "болезненную узость", "он неожиданно обнаруживает безграничную ширь, неслыханно неопределенную". Он у себя в животе, который воспринимается как "мир вод". Здесь посвящаемый встречает свою женскую ипостась — Аниму. Герой сказки встречает Бабу-ягу — хозяйку леса. Поэт встречает Музу, которая дарит ему вдохновение — дар партиципации, сопричастности миру. Наконец, из воды ему помогает выйти Старик — Смысл, восстанавливающий сознание. Он же проносится над водой в виде дуновения.
Анима — это Инь (женское начало, вода, тьма), Старик — Ян (мужское начало, суша, огонь, свет).
Вот как описывает встречу с Тенью, с двойником Юнг в книге "Воспоминания, сновидения, размышления":
"И в это время мне приснился незабываемый сон, который меня одновременно и испугал и ободрил. Ночью я оказался в незнакомом месте, и медленно шел вперед, в густом тумане, навстречу сильному, почти ураганному ветру. Я нес в руках маленький огонек, который в любую минуту мог потухнуть. И все зависело от того, удержу ли я его при жизни. Вдруг я почувствовал, что кто-то идет за мной. Я оглянулся и увидел огромную черную фигуру, она следовала за мной по пятам. И в тот же момент, несмотря на сильный испуг, я ясно осознал, что вопреки всем опасностям, через ночь и бурю, я должен пронести и спасти мой маленький огонек. Проснувшись, я тотчас понял, что этот «броккенский призрак» — моя собственная тень на облаке, вьзванная светом того огонька. Еще я понял, что этот огонек, единственный свет, которым я обладал, и был моим сознанием. И это было мое единственное сокровище. И хоть этот огонь так мал и слаб в сравнении с силами тьмы, все же это — свет, мой единственный свет."
Старик-профессор в начале фильма Бергмана "Земляничная поляна" видит сон, в котором встречается с человеком в черном костюме и котелке, стоящим к нему спиной. Развернув этого человека, профессор видит себя — но почти без лица: так крепко зажмурены глаза и стиснут рот. Затем следует сцена с открывшимся гробом, в который втягивает профессора его двойник.
Не менее показательны в этом смысле и изображения множеств людей в темных костюмах и котелках, стоящих к зрителю спиной, на картинах Магритта.
Образ земляничной поляны, кстати сказать, имеет ту же структуру, что и "море — смеялось": вместо моря здесь зеленая стихия, вместо солнечных бликов — красные ягоды. После посещения земляничной поляны старик-профессор начинает, по его словам, прозревать "странную, необычную логику" своей жизни, своей судьбы.
В тибетской "Книге мертвых" говорится:
"Скоро выдохнешь ты последнее дыхание, и оно прекратится. Тут увидишь ты Предвечный Чистый Свет. Пред тобой распахнется невероятный простор, безбрежный, подобный океану без волн под безоблачным небом. Ты будешь плыть, как пушинка, свободно, один".
Юнг пишет:
"Видимо, нужно вступить на ведущий всегда вниз путь вод, чтобы поднять вверх клад, драгоценное наследие отцов. В гностическом гимне о душе сын посылается родителями искать жемчужину, утерянную из короны его отца-короля. Она покоится на дне охраняемого драконом глубокого колодца, расположенного в Египте, — земле сладострастия и опьянения, физического и духовного изобилия. Сын и наследник отправляется, чтобы вернуть драгоценность, но забывает о своей задаче, о самом себе, предается мирской жизни Египта, чувственным оргиям, пока письмо отца не напоминает ему, в чем состоит его долг. Он собирается в путь к водам, погружается в темную глубину колодца, на дне которого находит жемчужину. Она приводит его в конце концов к высшему блаженству. <...>
Погружение в глубины всегда предшествует подъему. Так, другому теологу снилось, что он увидел на горе замок Св. Грааля. Он идет по дороге, подводящей, кажется, к самому подножию горы, к началу подъема. Приблизившись к горе, он обнаруживает, к своему величайшему удивлению, что от горы его отделяет пропасть, узкий и глубокий обрыв, далеко внизу шумят подземные воды. Но к этим глубинам по круче спускается тропинка, которая вьется вверх и по другой стороне. Tyт видение померкло, и спящий проснулся. И в данном случае сон говорит о стремлении подняться к сверкающей вершине и о необходимости сначала погрузиться в темные глубины, снять с них покров, что является непременным условием восхождения. В этих глубинах таится опасность; благоразумный избегает опасности, но тем самым теряет и то благо, добиться которого невозможно без смелости и риска".
Герой сказки убивает дракона и спасает красавицу. И дракон, и красавица символизируют поглощающую индивидуальное сознание природу, мифическую Великую Мать. Но ныряльщик за жемчугом может утонуть, а может вынырнуть — с уловом. В первом случае Великая Мать предстанет хаосом, четырехрогим драконом (четыре — символ Земли — квадрата с четырьмя сторонами света, распаханного поля, бедер: "между числами ‘три’ и ‘четыре’ существует первичная оппозиция мужского и женского" (Юнг)), искусительницей Лилит, Бабой-ягой, во втором — космосом, райским садом с четырьмя реками, Прекрасной Дамой, Девой Марией, Софией — Божественной Премудростью, преображенной тварью. Архетип тот же, различно направление, в котором движется ныряльщик. В первом случае мы имеем дело с погружением вглубь, во втором — с возвращением на поверхность. Каждый архетип амбивалентен: имеет добрую и злую стороны. Герой идет на риск — и в случае удачи его ждут Мадонна и Троица, а в случае неудачи — трехглавый дракон и "чертова бабушка".
Вот, кстати, одна из них — из татарской сказки "Дутан-батыр":
"В том лесу жила старуха Жалмавыз, что значит обжора. Почуяла она дух человеческий, подкралась к спящим и, раскрыв пасть, проглотила путников. Потом подошла к Дутану. Разинула пасть, приготовясь проглотить, да только вдруг тай (/годовалый/ жеребенок) Дутана забеспокоился, заржал, зафыркал. Почуяв беспокойство коня, Дутан проснулся. Огляделся: нет братьев и сестер, только кони их стоят. А перед ним старуха с большим, как блюдце, глазом на лбу".
Обратите также внимание на ее глаз — помните фаллос из сна Юнга?
Герой одной азербайджанской сказки, будучи изгнан из дому, находит друга — волшебного помощника, который проводит его через все смертельные опасности и благополучно возвращает домой вместе с невестой и богатством. В начале сказки герой пожалел зарезать чудесную рыбу, пойманную в белом море, кровью которой можно было вылечить глаза его отца. (За это он и был изгнан.) В конце сказки выясняется, что волшебный помощник и есть та самая рыба, вернее, царь рыб. Он дает немного своей крови, и отец героя излечивается. Прощаясь, царь рыб говорит, что всегда будет готов помочь своему другу, — стоит тому только выйти на берег моря и позвать его. Что же это за волшебный помощник? Юнг в книге "Либидо" пишет:
"Древний символ, обозначающий ту часть зодиака, где солнце в момент зимнего солнцеворота снова начинает свой годичный круговой бег, это — коза-рыба (Козерог), солнце подобно козе поднимается на высочайшие горы и затем спускается в воду, как рыба. Рыба — символ ребенка, ибо ребенок до своего рождения живет в воде, как рыба; и, погружаясь в море, солнце становится одновременно ребенком и рыбой. Но рыба служит также фаллическим символом, как и символом женщины, короче говоря: рыба есть символ либидо, и притом, по-видимому, преимущественно символ возрождения либидо".
Когда человек не может разрешить проблему рассудочным путем, головой, он впадает в мечтательное, созерцательное состояние, погружается в собственную глубину. Солнце опускается в море. Тогда человек встречается со своим либидо, которое помогает ему: "по щучьему велению, по моему хотению". Человек отключает спинно-мозговую нервную систему и спускается к центру симпатической нервной системы, к диафрагме. Диафрагма — поверхность моря. Дальше — собственно либидо, фаллос. На дне "мира вод" — ниже живота — водится золотая рыбка, волшебная щука, исполняющая желания, мальчик с пальчик ("мал, да удал"), карлик, способный превращаться в великана (так, в татарской сказке "Турай-батыр" место Бабы-яги занимает "кичливый карлик", который затем оказывается падишахом дивов и подземного мира), удачливый Иванушка-дурачок, Ганс-колбаса, — одним словом, сказочный волшебный помощник. Юнг пишет:
"Фаллос является существом, которое движется без членов, видит без глаз, которому ведомо будущее; он наделен бессмертием в качестве символического представителя всюду действующей творческой силы. Он мыслится существом совершенно самостоятельным; это не только было общераспространенным представлением древности, но и явствует из порнографических рисунков наших детей и современных художников. Он провидец, художник и чудотворец, поэтому нечего удивляться, если некоторые характерно фаллические черты приурочиваются к мифологическим провидцам, художникам и чудотворцам. Гефест, Виланд-Кузнец и Мани (основатель механизма, славившийся также как художник) имели изуродованные ноги. По-видимому, типично также и то, что провидцы были слепы, и что древний провидец Меламп носил предательское имя Чернонога. Нога карлика, невзрачность и уродливость стали особенно характерными чертами тех таинственных хтонических божеств, сыновей Гефеста, которым приписывалась могущественная чудотворная сила, именно Кабиров. Имя Кабир означает мощный; их самофракийский культ глубоко связан с культом фаллического Гермеса, который, по сообщению Геродота, был занесен в Аттику пелазгами. И Кабиров называют великими богами. Их близкими родственниками являются идейские дактилы или мальчик с пальчик, которых мать богов обучила кузнечному ремеслу. <...> Кабиры были первыми мудрецами, учителями Орфея, они же изобретали эфесские заклинательные формулы и музыкальные ритмы. Характерная несоразмерность, на которую мы выше указали как в тексте Упанишады, так и в Фаусте, встречается и здесь, ибо исполинский Геракл слыл также и идейским дактилом. Фригийские великаны, искусные слуги богини Реи, были в то же время дактилами. Учитель мудрости в Вавилонии Оанн изображался в фаллической форме рыбы. Оба солнечных героя Диоскуры имеют близкое отношение к Кабирам, они также носят остроконечную шляпу, головной убор этих таинственных богов, который с той поры получил распространение как тайная примета. Аттис (этот старший брат Христа) носит такую же остроконечную шляпу, как и Митра. Традиционною эта шляпа стала в изображениях наших хтонических инфантильных божеств и для других типичных карликов, Фрейд обратил уже наше внимание на фаллическое значение шляпы, которое она имеет в фантазиях современников. Дальнейшим толкованием является то, что остроконечная шляпа изображает собою крайнюю плоть".
Целью первобытного обряда посвящения была встреча с волшебным помощником. Поэтому человек, проходивший обряд, подражал фаллосу:
"Иван купеческий сьн отпустил коня на волю, нарядился в бычью шкуру, на голову пузырь надел и пошел на взморье".
"Пошел на бойню, где бьют скот, взял пузырь, надел его на голову. Пришел к царю за милостыней. Царь и спрашивает: "Как тебя зовут?" — "Плешь!" — "По отчеству?" — "Плешавница" — "А откуда ты родом?" — "Я прохожий, сам не знаю откуда".
Так и в одной восточной сказке герою встречается волшебный помощник — лысый Мехмед.
Самостоятельно существующий фаллос в мифах выступает в качестве так называемого трикстера, то есть плута, похотливого озорника, который вместе с тем является и изобретателем, творцом культурных ценностей. Таков, например, Гермес со своей палочкой-кадуцеем. Юнг в книге "Либидо" пишет:
"Образ карлика ведет к фигуре божественного мальчика, юного Диониса. На вышеупомянутой фиванской вазе изображен бородатый Дионис в виде Кабира, а рядом фигура мальчика... <...> То был первоначально финикийский культ отца и сына, старого и молодого Кабиров, которые более или менее ассимилировались с эллинскими богами. Этой ассимиляции особенно способствовал двойственный образ взрослого и отроческого Диониса. Можно было бы назвать этот культ культом большого и маленького человека. Дионис в своих различных аспектах является фаллическим богом, в культе которого важною составною частью был фаллос (так, например, в культе аргивского быка-Диониса). Кроме того, фаллическая Герма этого бога давала повод к персонификации дионисического фаллоса в образе бога-Фаллоса, который был не чем иным, как Приапом. Он называется спутником или товарищем Вакха. Все это приводит к тому, чтобы признать в вышеупомянутом образе и в сопутствующем ему образ мужчины и его детородного органа. Подчеркнутый в тексте Упанишад парадокс о большом и маленьком, карлике и великане, нашел здесь более мягкое выражение в сочетании мальчика и мужа, сына и отца".
А вот "божественный мальчик" (и одновременно символ восстающего из моря возрожденного солнца) в повести Т. Манна "Смерть в Венеции":
"Итак, я остаюсь, — думал Ашенбах. — Лучшего мне не найти!" И, скрестив руки на коленях, он стал смотреть в морскую даль, которая ускользала от его взгляда, стушевывалась, укрываясь от него за однотонной туманной дымкой. Ашенбах любил море по причинам достаточно глубоким: из потребности в покое, присущей самоотверженно работающему художнику, который всегда стремится прильнуть к груди простого, стихийного, спасаясь от настойчивой многосложности явлений; из запретного, прямо противоположного сути его работы и потому тем более соблазнительного тяготения к нераздельному, безмерному, вечному, к тому, что зовется Ничто. Отдохнуть после совершенного — мечта того, кто радеет о хорошем, а разве Ничто не одна из форм совершенства? И вот, когда он так углубился в созерцание пустоты, горизонтальную линию береговой кромки вдруг перерезала человеческая фигура. И когда Ашенбах отвел взор от бесконечного и с усилием сосредоточился, он увидел, что это все тот же красивый мальчик прошел слева от него по песку. Он шел босиком, видно собираясь поплескаться в воде; его стройные ноги были обнажены до колен, шел неторопливо, но так легко и гордо, словно весь свой век не знал обуви, шел и оглядывался на поперечные кабинки.
(…) Не оборачиваясь, Ашенбах прислушивался к звонкому и немного слабому голосу мальчика, еще издалека окликавшему новых приятелей, которые возились у крепости. Ему отвечали, несколько раз выкрикнув его имя, видимо, уменьшительное; Ашенбах пытался его уловить, но сумел разобрать лишь два мелодических слова — что-то вроде "Адзио" или, вернее, "Адзиу" с призывным и протяжным "у". Благозвучие этого имени обрадовало Ашенбаха, показалось ему как нельзя более подходящим его носителю. Он несколько раз неслышно его произнес и, успокоенный, занялся своей корреспонденцией.
Раскрыв на коленях маленький дорожный бювар и во оружившись вечным пером, он стал отвечать на некоторые из полученных сегодня писем. Но уже через четверть часа ему показалось обидным отрешаться в мыслях от возможного и высокого наслаждения, подменять его безразличным занятием. Он отбросил перо и бумагу. Он вернулся обратно к морю и очень скоро перестал смотреть на него, отвлеченный голосами подростков, суетившихся упесчаной крепости. Поудобнее устроившись в шезлонге, он стал смотреть вправо, что там делает прелестный Адзио.
(…) Тадзио купался, Ашенбах, потерявший было его из виду, заметил вдруг далеко в море его голову и руки, которые он, плавая, поочередно выбрасывал вперед. Море, вероятно, и там было мелкое, но на берегу уже встревожились, из кабинок стали раздаваться женские голоса, выкрикивавшие его имя, и оно заполнило все взморье мягкими своими согласными с протяжным "у" на конце, имя, сладостное и дикое в то же время: "Тадзиу! Тадзиу!" Он вернулся, он бежал с закинутой назад головой, вспенивая ногами сопротивлявшуюся воду, и видеть, как это живое создание в своей строгой предмужественной прелести, со спутанными мокрыми кудрями, внезапно появившееся из глубин моря и неба, выходит из водной стихии, бежит от нее, значило проникнуться мифическими представлениями. Словно то была поэтическая весть об изначальных временах, о возникновении формы, о рождении богов. Ашенбах с закрытыми глазами внимал этой песне, зазвучавшей внутри его, и снова думал, что здесь хорошо и что он здесь останется.
<...> ... Он стоял у самой воды, один, в стороне от своих близких, совсем подле Ашенбаха, стоял прямо, заложив руки за голову, медленно раскачиваясь, и мечтал, заглядевшись на синеву, а мелкие волны, набегая, брызгали пеной в его ступни. Медвяные волосы мальчика кольцами вились на висках и на затылке, солнце подсвечивало чуть приметный пушок между лопаток, изящный абрис ребер и гармоническая линия груди проступали сквозь ткань простыни; под мышками у него была гладкая впадинка, как у статуи, кожа под коленями блестела, и голубоватые жилки, казалось, говорили о том, что это тело сотворено из необычно прозрачного вещества. Какой отбор кровей, какая точность мысли были воплощены в этом юношески совершенном теле! Но разве суровая и чистая воля, которая сотворила во мраке и затем явила свету это божественное создание, не была знакома, присуща ему, художнику? Разве не действовала она и в нем, когда, зажегшийся разумной страстью, он высвобождал из мраморной глыбы языка стройную форму, которую провидел духом и являл миру как образ и отражение духовной красоты человека?
Образ и отражение! Его глаза видели благородную фигуру у кромки синевы, и он в восторженном упоении думал, что постигает взором самое красоту, форму как божественную мысль, единственное и чистое совершенство, обитающее мир духа и здесь представшее ему в образе и подобии человеческом, дабы прелестью своей побудить его к благоговейному поклонению. Это был хмельной восторг, и стареющий художник бездумно, с алчностью предался ему. Дух его волновался, всколыхнулось все узнанное и пережитое, память вдруг вынесла на свет старые-престарые мысли, традиционно усвоенные смолоду и доселе не согретые собственным огнем. Разве не читал он где-то, что солнце отвлекает наше внимание от интеллектуального и нацеливает его на чувственное? Оно так дурманит и завораживает, еще говорилось там, наш разум и память, что душа в упоении забывает о себе, взгляд ее прикован к прекраснейшему из освещенных солнцем предметов, более того: лишь с помощью тела может она тогда подняться до истинно высокого созерцания. Амур, право же, уподобляется математикам, которые учат малоспособных детей, показывая им осязаемые изображения чистых форм, — так и этот бог, чтобы сделать для нас духовное зримым, охотно использует образ и цвет человеческой юности, которую он делает орудием памяти и украшает всеми отблесками красоты, так что при виде ее боль и надежда загораются в нас".
3. Грачи прилетели
Обряд посвящения заключен и в произведении искусства. Смысл искусства в том, чтобы провести человека по метафизическому пути, позволить ему ощутить мистическую сопричастность. Это осуществляется при помощи символа.
Известно, что в Древней Греции существовал такой обычай: друзья, расставаясь, брали какой-нибудь предмет (глиняную лампадку, статуэтку или навощенную дощечку с какой-либо надписью) и разламывали пополам. По прошествии многих лет эти друзья или же их потомки при встрече узнавали друг друга, убедившись, что обе части соединяются и образуют единое целое — символ (от "сюмбалло" — "составляю, соединяю").
Символом в искусстве называют соединение физической картины с запредельным, метафизическим смыслом, который вдруг через эту картину просвечивает. Эта линия разлома, этот путь к иному бытию, это возникающее за природой лицо и есть прекрасное.
Так, например, в картине Саврасова "Грачи прилетели" нетрудно узнать разломленную дощечку: мир земной и мир небесный отражаются друг в друге, разделенные линией забора и рядом домишек. Но это одновременно и соединяющий шов, что подчеркнуто числом домов (три) и треугольниками крыш. Кроме того, обе половинки как бы сшиты тремя березами на переднем плане, главная из которых отклонилась в сторону, чтобы не застить колокольню, чтобы продолжиться колокольней с тремя проемами и тремя гранями. Выше эта береза троится ветками; за каждой из которых виднеется один из куполов трехглавого храма. На березах и над березами — птицы — мифические проводники душ в инобытие. Можно и дальше разбирать, но важно одно: здесь — лик Святой Троицы, и все подчинено этому, до самой маленькой проталинки. Причем ни грачи, ни дома, ни березы, ни забор, ни проталинка об этом и не подозревают. Вряд ли и сам Саврасов намеревался писать Троицу, вряд ли "подгонял" под это все детали. Но почему он написал именно этот вид, а не тот, что открылся бы ему, поверни он немного голову? Дело в том, что именно на этом участке пространства он подспудно ощутил обращенный к нему лик.
Нечто подобное происходит и с героем романа Марселя Пруста "Под сенью девушек в цвету":
"Мы начали спускаться по дороге в Юдемениль; неожиданно на меня нахлынуло глубокое счастье, — таким счастливым я не часто бывал после отъезда из Комбре, — оно напоминало то, что я переживал, например, глядя на мартенвильские колокольни. Но теперь счастье было неполное. Я заметил невдалеке от ухабистой дороги, по которой мы ехали, три дерева, когда-то, должно быть, стоявшие в начале тенистой аллеи, — складывавшийся из них рисунок я уже где-то видел; я не мог вспомнить, из какого края были точно выхвачены деревья, но чувствовал, что край этот мне знаком; таким образом, мое сознание застряло между давно прошедшим годом и вот этой минутой, окрестности Бальбека дрогнули, и я задал себе вопрос: уж не греза ли вся наша сегодняшняя прогулка, не переносился ли я в Бальбек только воображением, не является ли маркиза де Вильпаризи героиней романа и не возвращают ли нас к действительности только вот эти три старых дерева, как возвращаешься к действительности, оторвавшись от книги, описывающей совсем иные места так ярко, что в конце концов нам кажется, будто мы действительно там поселились?
Я смотрел на них, я видел их ясно, но мой разум сознавал, что за ними скрывается нечто ему не подвластное, что они вроде находящихся от нас слишком далеко предметов: как ни стараемся мы до них дотянуться, а все же в лучшем случае нам удается на мгновенье коснуться их оболочки. Мы делаем передышку только для того, чтобы размахнуться и еще дальше вытянуть руку. Но для того, чтобы мой разум мог собраться с силами, взять разбег, мне надо было остаться один на один с самим собой. Мне хотелось свернуть с дороги, как на прогулках по направлению к Германту, когда я обособлялся от родных. Мне даже казалось, что я должен свернуть. Я знал это особое наслаждение, которое, правда, требует работы мысли, но по сравнению с которым приятность безделья, склоняющая вас лишить себя наслаждения, представляется нестоящей. Это наслаждение, источник которого я пока еще только предчувствовал, который мне предстояло создать самому, я испытывал редко, но всякий раз мне казалось, что события, происшедшие в промежутке, незначительны и что если я ухвачусь за эту единственную реальность, то для меня наконец-то начнется настоящая жизнь. Я приставил руку щитком к глазам, чтобы закрыть их незаметно для маркизы де Вильпаризи. Я ни о чем не думал, затем, вновь собрав мысли и крепче держа их, я еще дальше рванулся по дороге к деревьям или, вернее, по внутренней дороге, на краю которой я видел их в себе самом. Я снова почувствовал за ними тот же самый предмет, знакомый, хотя и не явственно различимый, но добраться до него так и не добрался. Деревья между тем все приближались. Где же я их видел? Вокруг Комбре ни одна аллея так не начиналась. Еще меньше напоминало мне этот вид то местечко в Германии, куда мы с бабушкой ездили как-то на воды. Уж не явились ли деревья из далеких лет моего детства, таких далеких, что время успело разрушить все окружавшее их, и, подобно страницам, которые вдруг с волнением вновь находишь в как будто не читанной книге, они одни выплыли из забытой книги моего раннего детства? А быть может, они составляли часть одного из пейзажей снов, пейзажей всегда одинаковых, во всяком случае для меня, потому что их необычность являлась лишь объективацией во сне того усилия, какое я делал, пока еще бодрствовал, — делал, пытаясь постичь тайну местности, которую я угадывал за ее внешним видом, что так часто со мною случалось, когда я шел по направлению к Германту, или пытаясь внести тайну в местность, которую мне хотелось узнать и которая с того дня когда я ее узнавал, теряла для меня всякий интерес, как, например, Бальбек? Быть может, они представляли собой совершенно новый образ, оторвавшийся от сна, который я видел минувшей ночью, и уже расплывшийся, так что казалось, будто он явился издалека? А быть может, я никогда их не видел, быть может, они содержали в себе, как иные деревья и травы, которые я видел около Германта, смысл не менее темный и столь же трудно уловимый, какой содержит в себе далекое прошлое, и когда они заставляли меня погружаться в свои мысли, мне казалось, будто передо мной воскресает воспоминание? А что, если они никаких мыслей в себе не таили и двоились во времени, как иногда двоятся предметы в пространстве, только потому, что у меня устали глаза? Я не мог себе это объяснить. Между тем они шли мне навстречу — некое мифическое видение, хоровод ведьм или норн, собиравшихся прорицать. Я склонен был предполагать, что это призраки прошлого, милые друзья детства, исчезнувшие приятели, с которыми меня связывают воспоминания. Подобно привидениям, они словно молили меня взять их с собой, оживить. В их наивной, повышенной жестикуляции читалась бессильная мука любимого существа, утратившего дар речи, сознающего, что мы не догадаемся, что оно хочет, да не может сказать нам. Но вот мы уже проехали развилку дорог, и деревья остались позади. Коляска уносила меня прочь от того, что в моих глазах было единственно подлинным, что могло бы меня действительно осчастливить, она напоминала мне мою жизнь.
Деревья удалялись и отчаянно махали руками, как бы говоря: "Того, что ты не услышал от нас сегодня, тебе не услыхать никогда. Если ты не поможешь нам выбраться из этой трясины, откуда мы тянулись к тебе, то целая часть твоего "я", которую мы несли тебе в дар, навсегда погрузится в небытие". Так оно и случилось: в дальнейшем мне пришлось испытать то особое наслаждение и тревогу, какие я еще раз почувствовал тогда, и однажды вечером — слишком поздно, но уже навсегда — я к ним прилепился, но что несли мне деревья и где я их видел — этого я так и не узнал. И когда коляска свернула на другую дорогу и я их уже не видел, так как сидел к ним спиной, а маркиза де Вильпаризи спросила, о чем я задумался, мне стало так грустно, как будто я только что потерял друга, или умер, или забыл умершего, или отошел от какого-нибудь бога".
Т. Манн в романе "Иосиф и его братья" пишет:
"Говорили, что такое блаженное чувство испытывают люди, которым, в образе странника, нищего или какого-нибудь родственника или знакомого, является бог, чтобы вести с ними беседы. Это чувство будто бы и помогало им узнать бога или хотя бы проникнуться таким счастливым подозрением. Своеобразное блаженство, их охватывавшее, указывало этим людям, что хотя их собеседник действительно странник, нищий, действительно тот или иной их знакомый или родственник и что хотя здравый смысл велит считаться с этой действительностью и вести себя соответственно, нужно все же — именно ввиду столь поразительного блаженства — не забывать и о других, одновременно открывающихся возможностях. Одновременность — это природа и форма бытия всех вещей, действительности закутаны одна в другую, и нищий отнюдь не перестает быть нищим от того, что в нем, может быть, скрывается бог. Разве Нил не бог, имеющий облик быка или венценосного женомужа с двойственной грудью, разве он не создал эту страну и не кормит ее? Но это не исключает делового отношения к его воде, такого же трезвого, как она сама: ее пьют, по ней плавают на судах, в ней стирают холсты, и только блаженство, испытываемое тобою, когда ты пьешь ее или купаешься в ней, равнозначно напоминанию о более возвышенном к ней отношении. Граница между земным и небесным зыбка, и стоит только остановить взгляд на каком-либо явлении, как оно уже начинает двоиться".
Флоренский в книге "Иконостас" пишет:
"По первым словам летописи бытия, Бог "сотворил небо и землю" (Быт. I,I), и это деление всего сотворенного надвое всегда признавалось основным. Так и в исповедании веры мы именуем Бога "Творцом видимых и невидимых", Творцом как видимого, так, равно, и невидимого. Но эти два мира — мир видимый и мир невидимый — соприкасаются. Однако их взаимное различие так велико, что не может не встать вопрос о границе их соприкосновения. <...>
Икона — и то же, что небесное видение, и не то же: это — линия, обводящая видение. Видение не есть икона: оно реально само по себе; но икона, совпадающая по очертаниям с духовным образом, есть в нашем сознании этот образ, и вне, без, помимо образа, сама по себе, отвлеченно от него не есть ни образ, ни икона, а доска. Так, окно есть окно, поскольку за ним простирается область света, и тогда самое окно, дающее нам свет, есть свет, не "похоже" на свет, не связывается в субьективной ассоциации с субьективно мыслимым представлением о свете, а есть самый свет, в его онтологическом самотождестве, тот самый свет, неделимый в себе и неотделимый от солнца, что светит во внешнем пространстве. А само по себе, т.е. вне отношения к свету, вне своей функции, окно, как не действующее, мертво и не есть окно: отвлеченно от света, это — дерево и стекло. Мысль простая; но почти всегда останавливаются где-то на середине ... Если символ, как целесообразный, достигает своей цели, то он реально неотделим от цели — от высшей реальности, им являемой; если же он реальности не являет, то значит — цели не достигает, и, следовательно, в нем вообще нельзя усматривать целесообразной организации, формы, и значит, как лишенный таковой, он не есть символ, не есть орудие духа, а лишь чувственный материал. Повторим, нет окна самого по себе, потому что понятие окна, как и всякого орудия культуры, конститутивно содержит в себе целесообразность: то, что не целесообразно, не есть и явление культуры. Следовательно, или окно есть свет, или оно — дерево и стекло, но никогда оно не бывает просто окном. Так и иконы — "видимые изображения тайных и сверхъестественных зрелищ", по определению святого Дионисия Ареопагита. И икона всегда: или больше себя самое, когда она — небесное видение, или меньше, если она некоторому сознанию не открывает мира сверхчувственного и не может быть называема иначе, как расписанной доской. Глубоко ложно то современное направление, по которому в иконописи надлежит видеть древнее художество, живопись, и ложно прежде всего потому, что тут за живописью вообще отрицается собственная ее сила: даже и вообще живопись или больше или меньше самое себя. Всякая живопись имеет целью вывести зрителя за предел чувственно воспринимаемых красок и холста в некоторую реальность, и тогда живописное произведение разделяет со всеми символами вообще основную их онтологическую характеристику — быть тем, что они символизируют. А если своей цели живописец не достиг — вообще ли, или применительно к данному зрителю — и произведение никуда за себя самого не выводит, то не может бьть и речи о нем, как о произведении художества; тогда мы говорим о мазне, о неудаче, и т. п. <...>
Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключением: "Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог".
Флоренский в книге воспоминаний "Детям моим" описывает одно из таких "тайных и сверхъестественных зрелищ", которое видел в детстве:
"Мы жили в двух квартирах. В одной помещалась столовая, гостиная и еще какие-то спальни. В другой жил я с тетей Юлей — в другой, т. е. во флигеле. Сообщение между двумя помещениями было через двор, вымощенный камнями, сквозь которые прорастала трава. Обычно я ходил в сопровождении кого-нибудь из старших, а может быть, кое-когда решался пробежать и один. Но как-то раз, сидя в столовой, — это было днем, я соскучился по тете Юле или по маме, может быть, почему-то не приходившей из флигеля ко всем, — и побежал к ней или за ней. Как сейчас помню все, что было. Я отворил дверь и сразу, спустившись 2-3 ступеньки, очутился под слегка темным навесом, образуемым около дома. Помню, что навес этот держался на деревянных некрашеных столбах с ободранной корою, посеревших от дождя... Вероятно, дело было к вечеру, или погода была бессолнечная, но у меня осталось впечатление сумеречное. И вот на каменной мостовой двора, проросшей травой, быть может, осенней уже, — я вижу эту мостовую, как сейчас, — увидел я нечто. Скорее, сперва я услышал — какой-то неслыханный мною своеобразный звук. Его я уже испугался. Но любопытство и смелость победили. Я решил было прошмыгнуть мимо и добраться до своей цели. Но ... побежав далее с почти зажмуренными глазами, я вдруг остолбенел. Предо мною стоял невиданный снаряд. Что-то в нем быстро вертелось, визжало, скрипело, и от колеса сыпались яркие искры. И, самое страшное, какой-то человек, мне он показался, темным силуэтом на небе, вероятно, вечереющем, — какой-то человек стоял при этом снаряде невозмутимо, бесстрастно и бесстрашно и что-то держал в руках ...
Я стоял как очарованный взглядом чудовища. Предо мною разверзались ужасные таинства природы. Я подглядел то, что смертному нельзя было видеть. Колеса Иезекииля? Огненные вихри Анаксимандра? Вечное вращение, ноуменальный огонь ... Я остолбенел и пораженный ужасом, и захваченный дерзновенным любопытством, зная, что не должно мне видеть и слышать видимого и слышимого. Но мне открывалась живая действенность таинственных сил естества, бёмовская первооснова, гётевские матери. И тот, кто стоял при таинственном искрометном снаряде, тот темный силуэт — это не был, конечно, человек, это не было одно из существ земли, это был дух земли, великое существо, несоизмеримое со мною. Оно меня не заметило, вероятно ...
Не знаю, сколько времени длилось это откровение и столбняк. Секунду ли, несколько ли секунд; но, конечно, очень недолго. И только прошел упоительный и страшный миг слияния с этим огненным первоявлением природы, только явилось сознание себя, как панический ужас охватил меня. И вот характерная подробность: никогда мне не изменявшее самообладание в минуту последнего ужаса появилось у меня и тогда, и это первое из памятуемых мною таинственных потрясений души. Я не растерялся. Почти прыжком очутился я снова в столовой, откуда выбежал, и тут только, как это бывало и впоследствии в таких случаях, уже в надежной пристани, на коленях у кого-то из старших, я дал волю овладевшему мной ужасу. Со мною сделалось что-то вроде нервного припадка. Поили сахарной водой, успокаивали. "Ведь это точильщик точит ножи, Павлик, — твердили старшие. — Пойдем, посмотрим". Но я, разумеется, никого не слушал, но и не спорил со старшими. Я тогда уже понимал, что они не постигнут таинства, которое открылось мне и ужаснуло меня. Мне предлагали проводить меня через двор. Но и на это не сдавался я. И трудно сказать, только ли от страха пред потоком ноуменальных искр или и от другой боязни — не пережить вновь пережитого, увидеть то, о чем говорили мне взрослые, — что-то обыкновенное и в самом деле не внушающее ужаса … И долго после того боялся я один проходить по двору.
Это чувство откровения тайн природы и ужаса, с ним связанного, тютчевской Бездны и влечения к ней было и есть, как мне думается, одна из наиболее внутренних складок моей душевной жизни. Вглядываясь в себя еще пристальнее, я нахожу еще нечто, чему я научился от этого нашего обитания в двух квартирах, сообщающихся двором. Это именно твердое, органическое убеждение в мистическом "есть" при противоречии ему эмпирического "кажется". <...> Нечто, кажущееся обыкновенным и простым, самым заурядным по своей частоте, нередко привлекало в силу каких-либо особых обстоятельств мое внимание. И вдруг тогда открывалось, что оно — не просто. Воистину что-то вдруг припоминалось в этом простом и обычном явлении, и им открывалось иное, ноуменальное, стоящее выше этого мира или, точнее, глубже его. Полагаю, это — то самое чувство и восприятие, при котором возникает фетиш: обычный камень, черепица, обрубок открывают себя как вовсе не обычные и делаются окнами в иной мир. Со мною в детстве так бывало не раз".
А вот как осуществляется сопричастность, происходит обряд посвящения в повести Джойса "Портрет художника в юности":
"Он был один. Отрешенный, счастливый, коснувшийся пьяного средоточия жизни. Один — юный, дерзновенный, неистовый, один среди пустыни пьянящего воздуха, соленых волн, выброшенных морем раковин и водорослей, и дымчато-серого солнечного света, и весело и радостно одетых фигур детей и девушек, и звучащих в воздухе детских и девичьих голосов.
Перед ним посреди ручья стояла девушка, она стояла одна, не двигаясь, глядела на море. Казалось, какая-то волшебная сила превратила ее в существо, подобное невиданной прекрасной морской птице. Ее длинные, стройные, обнаженные ноги, точеные, словно ноги цапли — белее белого, только прилипшая к ним изумрудная полоска водорослей метила их как знак. Ноги повыше колен чуть полнее, мягкого оттенка слоновой кости, обнажены почти до бедер, где белые оборки панталон белели, как пушистое оперение. Подол серо-синего платья, подобранный без стеснения спереди до талии, спускался сзади голубиным хвостом. Грудь — как у птицы, мягкая и нежная, нежная и мягкая, как грудь темнокрылой голубки. Но ее длинные светлые волосы были девичьи, и девичьим, осененным чудом смертной красы, было ее лицо.
Девушка стояла одна, не двигаясь, и глядела на море, но когда она почувствовала его присутствие и благоговение его взгляда, глаза ее обратились к нему спокойно и встретили его взгляд без смущения и вызова. Долго, долго выдерживала она этот взгляд, а потом спокойно отвела глаза и стала смотреть вниз на ручей, тихо плеская воду ногой — туда, сюда. Первый легкий звук тихо плещущейся воды разбудил тишину, чуть слышный, легкий, шепчущий, легкий, как звон во сне, — туда, сюда, туда, сюда, — и легкий румянец задрожал на ее щеках.
"Боже милосердный!" — воскликнула душа Стивена в порыве земной радости.
Он вдруг отвернулся от нее и быстро пошел по отмели. Щеки его горели, тело пылало, ноги дрожали. Вперед, вперед, вперед уходил он, неистово распевая гимн морю, радостными криками приветствуя кликнувшую его жизнь.
Образ ее навеки вошел в его душу, но ни одно слово не нарушало священной тишины восторга. Ее глаза позвали его, и сердце рванулось навстречу этому призыву. Жить, заблуждаться, падать, торжествовать, воссоздавать жизнь из жизни. Огненный ангел явился ему, ангел смертной красоты и юности, посланец царств пьянящей жизни, чтобы в единый миг восторга открыть перед ним врата всех путей заблуждения и славы. Вперед, все вперед, вперед, вперед!
Он внезапно остановился и услышал в тишине стук собственного сердца. Куда он забрел? Который теперь час?
Вокруг него ни души, не слышно ни звука. Но прилив уже возвращался, и день был на исходе. Он повернул к берегу и побежал вверх по отлогой отмели, не обращая внимания на острую гальку; в укромной ложбинке, среди песчаных холмов, поросших пучками травы, он лег, чтобы тишина и покой сумерек утихомирили бушующую кровь.
Он чувствовал над собой огромный равнодушный купол неба и спокойное шествие небесных тел; чувствовал под собой ту землю, что родила его и приняла к себе на грудь.
В сонной истоме он закрыл глаза. Веки его вздрагивали, словно чувствуя высшую упорядоченную энергию земли и ее стражей, словно ощущая странное сияние какого-то нового, неведомого мира. Душа его замирала, падала в этот новый мир, мир фантастический, туманный, неясный, словно мир подводных глубин, где двигались смутные существа и тени. Мир — мерцание или цветок? Мерцая и дрожа, дрожа и распускаясь вспыхивающим светом, раскрывающимся цветком, развертывался мир в бесконечном движении, то вспыхивая ярко-алым цветком, то угасая до белейшей розы, лепесток за лепестком, волна света за волной света, затопляя все небо мягкими вспышками одна ярче другой. Уже стемнело, когда он проснулся, песок и чахлая трава его ложа теперь не переливались красками. Он медленно встал и, вспомнив восторг, который пережил во сне, восхищенно и радостно вздохнул".
Погружение в "мир подводных глубин", встречу с Анимой можно увидеть и на картине "Грачи прилетели" Саврасова, где, помимо центрального образа Троицы, есть и женственный образ Софии. Он возникает справа, в виде стоящих в воде деревьев. Здесь две березы, одна из них раздваивается почти от самого основания. Затем к получившимся трем стволам с правой стороны добавляется верхушка четвертого дерева. И еще немного левее видна березка на заднем плане, стоящая на маленьком островке снега в воде. Белый снег, на котором стоят деревья, знаменующие Троицу, и темная вода, в которой стоят деревья, знаменующие Софию, сплетаются на картине — подобно традиционному изображению Ян и Инь. Между этими группами деревьев ветка одной из трех берез, отклоняющаяся вправо, соединяется в крест с березкой на заднем плане, стоящей в воде и клонящейся справа налево. Точка, в которой они скрещиваются, лежит на горизонте, между небом и землей. Вся композиция картины представляет собой ритмическое переплетение Троицы и Четверицы.
Рассмотрим ритм этой картины. Флоренский в лекциях о пространственности и времени в искусстве пишет:
"Если говорить о произведении как о вещи, то, конечно, оно имеет свою длительность; но эта длительность относится равно ко всем частям произведения и ими нисколько не организуется. Время, в котором находится произведение как вещь, не имеет ничего общего с временем, которое — в произведении как изобразительном. Очевидно, условия передачи и организации этого внутреннего времени надлежит искать в расчлененности самого изображения. Очевидно, далее, время может быть в изображении, если отдельные органы и элементы его, хотя и сосуществуют друг другу, как физические части, т. е. как мазки или чернильные штрихи, однако имеют известный порядок, известную внутреннюю последовательность, или как бы написанные при них номера их последовательности. Этот порядок делает эстетически принудительным выступание отдельных элементов созерцателю в определенном временном порядке. Произведение эстетически принудительно развертывается перед зрителем в определенной последовательности, т. е. по определенным линиям, образующим некоторую схему произведения и, при созерцании, дающим некоторый определенный ритм".
Когда мы смотрим на картину "Грачи прилетели", наш взгляд первым делом находит птиц, сидящих на березах. Взгляд проскальзывает вверх по сходящимся стволам до того участка, где начинают расходиться ветки. Там как раз и расположены гнезда. Затем, как волна с утеса, взгляд соскальзывает обратно вниз. Сходящиеся книзу ветви основного дерева и его изогнутый ствол отвлекают взгляд влево — на сидящего на снегу слева от березы грача. До сих пор взгляд раскачивался в одной плоскости, осваивал передний план. Теперь же он начинает разбег вглубь картины, мимо дерева, к открывшейся за изогнутой березой колокольне. Взбежав на колокольню, взгляд упирается в черту темного облака, лишь слегка заглядывая в открывающийся выше просвет. Затем он скатывается с темной крыши колокольни по накату крыш домов к забору и опять на передний план, но уже направо — в темную талую воду, ко второй группе деревьев. Следующий разбег начинается ближе от зрителя, чем предыдущий, — вдоль ямок на переднем плане, продолжается третьей справа березой и летящей к горизонту птицей. Но он не исчезает беспомощно в точке перспективного схода, в пустой бесконечности, устало и ни с чем возвращаясь на телесно реальный передний план. В точке схода взгляд перехватывается трехглавым храмом, который возвращает его на передний план при помощи трех ветвей березы — трех расширяющихся лучей. Взгляд летит обратно и одновременно вверх, через диагональное расположение гнезд выходит в воздух и пытается улететь вдаль по диагонали летящих птиц, но перехватывается правой группой деревьев, оседает на их гнезда, спускается вниз по белым стволам. Затем взгляд поднимается от островка снега посреди талой воды на тоненькое деревце почти у самого забора — до его пересечения с веткой одной из трех берез. Они образуют крест на пустынной линии горизонта в правой части картины. Ветка и ствол сходятся на горизонте и на горизонте же расходятся. Их расхождение позволяет взгляду выйти в свободное от нависших облаков с этой стороны небо и одновременно вернуться к грачам, так как стволы указывают на обе группы птиц. Здесь самая глубокая даль и самый мощный возврат. Многие линии картины стремятся к этой новой точке схода.
Смысл линейной перспективы в том, что все отдельное растворяется в общей душе пейзажа. Человек ныряет в бесконечную, все соединяющую глубину. Смысл обратной перспективы в том, что человек выныривает обратно. При этом снова всплывает отдельное, но уже в осознанной целостности.
Подобно тому, как какая-либо деталь лица становится выразительной лишь в сочетании с другими деталями, так и каждая часть картины поддерживается, высвечивается всеми остальными ее частями. Каждая деталь как бы заново рождается из глубины, осознает себя, обретает свободу, становится личностью:
"До того, как он узнал о Дзене, горы были для него горами, а воды водами. Но когда он приступил к практике под руководством опытного наставника, горы перестали для него быть горами, а воды водами. Когда же он достиг просветления, горы опять стали для него горами, а воды водами".
Обряд посвящения можно сравнить с рукой, берущей горсть, например, камней. Сначала она пустая, находится наверху (индивидуальное сознание). Затем она опускается вниз, под камни, захватывает их (погружение в бессознательное). Затем поднимает наверх и держит на ладони (мистическая сопричастность, сверхсознание).
Картина "Грачи прилетели" осуществляет обряд посвящения. С картины на нас веет вечно возрождающейся жизнью именно потому, что мы видим лик Смысла. Ее можно сравнить с мандалой или с сибирским мифологическим рисунком, в центре которого изображено напоминающее трезубец мировое древо, а справа — крест, заключенный в круг.
Перспектива в картине как бы меняет направление. Такую меняющую направление, пульсирующую, раскачивающуюся перспективу можно было бы назвать возвратной перспективой.
Так же и в стихотворении ритм раскачивается между Ян и Инь, пока, наконец, они не соединяются, не становятся единораздельны.
Проходящий обряд посвящения человек бросается с дерева вниз головой, но не разбивается, так как его удерживает привязанная к ноге лиана. Человек, ныряющий в воду, выныривает на поверхность. Стихотворение свободно сбегает вниз, отчаянно, без oглядки бросается в пропасть. Но ведь стихотворение не бесконечно. Возникает вопрос: как ему остановиться, — ведь остановка разрушит его подвижное строение, его жизнь?
Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец —
Живу печальный, одинокой,
И жду: придет ли мой конец?
Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один — на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист!..
А. Пушкин
Стихотворение падает, как самолет в штопоре, но в тот самый момент, когда гибель (остановка) неизбежна, включается пропеллер — "трепещущий запоздалый лист". Он суммирует все предыдущие жалобы в едином образе, тем самым их сбрасывая. Он отражает в себе, как в зеркале, все звучание стихотворения, все стихотворение как бы является развернутым словом (анаграммой) "трепещущего запоздалого листа". Он аккумулирует в себе и весь ритм, примиряя противоположности, Инь и Ян:
А. / / _ / _ _ _ / _ Так, поздним хладом пораженный,
Б. _ / _ / _ / _ / Как бури слышен зимний свист,
А. _ / _ / _ _ _ / _ Один — на ветке обнаженной
А+Б. / _ _ _ / _ / Трепещет запоздалый лист!..
Б звучит неотвратимо четко, по-мужски (что подчеркнуто и мужской рифмой), А откликается тревожными водоворотами, замираниями души над пропастью: "пораженный", "обнаженный". В последней строке, которая по схеме должна была бы быть убийственно четкой, вдруг возникает водоворот, смещенный к центру, все уравновешивающий. Он цепляется за подставленный в первом А этой строфы выступ на первом ударении ("Так..."), как за гвоздик. Кроме того, "так" отражается в предпоследней строке — точно над воронкой, над словом "запоздалый" — в слове "ветке". Так концовка вбирает в себя все стихотворение и отражает его, пуская возвратную волну. Получается что-то вроде вечного двигателя. В стихотворении на последней строке происходит взрыв — но это внутренний взрыв, энергия не улетучивается. Вообще говоря, не может быть настоящего стихотворения без внутреннего взрыва в нем.
Мы знаем, что счастье — это когда время как бы останавливается, перестает быть неотвратимым ("Остановись, мгновенье, ты прекрасно!"), начинает течь в обратную сторону (Флоренский).Ритм стихотворения — это его время, что и дает нам возможность проникнуть в тайну прекрасного мгновения, понять "технологию" счастья. Флоренский в лекциях о пространственности и времени в искусстве пишет:
"Когда это единство в сознании, так или иначе, установилось, музыка перестает быть только во времени, но и подымается над временем. <...> Активностью внимания время музыкального произведения преодолевается, потому что оно преодолено уже в самом творчестве, и произведение стоит в нашей душе как нечто единое, мгновенное и вместе вечное, как вечное мгновение, хотя организованное, и даже именно потому, что организованное".
"Непрерывно текущее однородное время не способно дать ритм. Последний предполагает пульсацию, сгущение и разрежение, замедление и ускорение, шаги и остановки. Следовательно, изобразительные средства, дающие ритм, должны иметь в себе некоторую расчлененность, одними элементами задерживающую внимание и глаз, другими же, промежуточными, продвигающую то и другое от элемента к другому. Иначе говоря, линиям, образующим основную схему изобразительного произведения, надлежит пронизывать собою или снизывать чередующиеся элементы покоя и скачка".
4. Ночь и День
Но, может быть, и история ритмически организуется подобно стихотворению, картине? Может быть, и в истории происходит ритмическое углубление (разрежение, замедление) и ритмический возврат (сгущение, ускорение)? Может быть, и в истории всходит и заходит солнце? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно найти в истории хотя бы один момент, где направление меняется на противоположное.
Прочитаем стихотворение Гумилева "Капитаны":
На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.
Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель,
Чья не пылью затерянных хартий,
Солью моря пропитана грудь,
Кто игрой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь.
И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт.
Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.
Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.
…………………………………
В этом ключевом для акмеизма стихотворении человек побеждает водный хаос, свет преодолевает тьму. Солнце всходит. Море преодолевается здесь не только на уровне темы. Прислушайтесь, как это звучит. Вместо тютчевских переливов — четкость, жесткость, предметность, зримость. Такое впечатление, будто поэт по всему проводит рукой:
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.
Тютчевскую созерцательную очарованность морем сменяет резкий жест — смысловой и звуковой:
И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт.
Как это непохоже на:
Как хорошо ты, о море ночное, —
Здесь лучезарно, там сизо-темно ...
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно ...
………………………………………
В этом волнении, в этом сиянье,
Весь, как во сне, я потерян стою —
О, как охотно бы в их обаянье
Всю потопил бы я душу свою ...
Поэтика Гумилева прямо противоположна поэтике Тютчева. У Тютчева человек ныряет, у Гумилева — выныривает.
Если после, например, символистов читать акмеистов (или любых других постсимволистов), то возникает впечатление, будто выныриваешь из смутного подводного царства на солнечный свет — и видишь все с обновленной четкостью. Сравните, вот символизм:
Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.
И прозрачные киоски,
В звонко-звучной тишине,
Вырастают, словно блестки
При лазоревой луне.
Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне ...
Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне.
Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне,
И трепещет тень латаний
На эмалевой стене.
В. Брюсов "Творчество"
А вот постсимволизм:
Жарко веет ветер душный,
Солнце руки обожгло,
Надо мною свод воздушный,
Словно синее стекло;
Сухо пахнут иммортели
В разметавшейся косе.
На стволе корявой ели
Муравьиное шоссе.
Пруд лениво серебрится,
Жизнь по-новому легка ...
Кто сегодня мне приснится
В пестрой сетке гамака?
А. Ахматова
Для символизма характерна "символическая слиянность всех слов и вещей" (Гумилев), формулой образа для символизма является А = Б (Мандельштам: "Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой").
Но вот слияние произошло — что же дальше?
Дальше — новое разделение, дифференциация образов (Гумилев: "стихия света, разделяющая предметы, четко вырисовывающая линию ...").
М.Кузмин в статье "О прекрасной ясности" пишет:
"Когда твердые элементы соединились в сушу, а влага опоясала землю морями, растеклась по ней реками и озерами, тогда мир впервые вышел из состояния хаоса, над которым веял разделяющий Дух Божий. И дальше — посредством разграничивания, ясных борозд — получился тот сложный и прекрасный мир, который, принимая или не принимая, стремятся узнать, по-своему увидеть и запечатлеть художники.
В жизни каждого человека наступают минуты, когда, будучи ребенком, он вдруг скажет: "я — и стул", "я — и кошка", "я — и мяч", потом, будучи взрослым: "я — и мир". Независимо от будущих отношений его к миру этот разделительный момент — всегда глубокий поворотный пункт.
Похожие отчасти этапы проходит искусство, периодически — то размеряются, распределяются и формируются дальше его клады, то ломаются доведенные до совершенства формы новым началом хаотических сил, новым нашествием варваров. Но оглядываясь, мы видим, что периоды творчества, стремящегося к ясности, неколебимо стоят, словно маяки, ведущие к одной цели, и напор разрушительного прибоя придает только новую глянцевитость вечным камням и приносит новые драгоценности в сокровищницу, которую сам пытался низвергнуть".
Символизм размыл карту старого мира — и вот уже начинает проступать карта нового, из хаоса рождается новый космос. Формулой связи образов становится А = А. Мандельштам в статье "Утро акмеизма" пишет:
""А = А": какая прекрасная поэтическая тема. Символизм томился, скучал законом тождества, акмеизм делает его своим лозунгом и предлагает его вместо сомнительного а realibus ad realiora". ("От действительных вещей — к действительнейшим").
Вот он, возврат из глубины на поверхность, из слиянности — к раздельности. Уже Брюсов доводит слияние образов до абсурда, до предельной тавтологичности ("звонко-звучной", "с лаской ластится"). Следующий шаг — разветвление образов по принципу "домашнего корнесловья" (Мандельштам): "веет ветер", "в разметавшейся косе", "в пестрой сетке". От слиянности осталась созвучность, как бы общий корень, но смысл разветвляется, все шире охватывая мир явлений.
Вдох сменяется выдохом, импрессионизм — экспрессионизмом.
Образы нуждаются в символических соответствиях, теснятся друг к другу, как пчелы в улье, когда снаружи темно и холодно, а когда всходит солнце, когда светло и жарко — разбегаются, обретают самостоятельность — как пчелы весной или утром. Формула символизма А = Б показывает, как из разделения возникает сопряжение, а формула акмеизма А = А показывает, как из сопряжения возникает новое разделение, где А удваивается, делится, как живая клетка.
Бердяев в книге "Новое средневековье" пишет:
"В истории, как и в природе, существует ритм, ритмическая смена эпох и периодов, смена типов культуры, приливы и отливы, подъемы и спуски. Ритмичность и периодичность свойственны всякой жизни. Говорят об органических и критических эпохах, об эпохах ночных и дневных ..."
Идея эта древняя: в древнекитайской "Книге Перемен" говорится о Пути (Дао), состоящем из чередующихся начал Инь (темное, женское начало, хаос, вода) и Ян (светлое, мужское начало, космос, огонь). Путь предстает как чередование сжатий (Инь) и расширений (Ян) — подобием ползущей гусеницы. Чередуются затишье и импульс, образуя исторический ритм.
Мироощущение человека определяется тем, в какую эпоху, в каком ритмическом моменте он находится. Что сейчас: день, ночь, утро, вечер? Который час?
Люди XIX века, начиная со второй четверти века, воспринимали свою эпоху как вечернюю, сумеречную, а ближе к концу века — как ночную.
Бальмонт в статье "Элементарные слова о символической поэзии" пишет:
"Как показывает самое слово, декаденты являются представителями эпохи упадка. Это люди, которые мыслят и чувствуют на рубеже двух периодов, одного законченного, другого еще неродившегося. Они видят, что вечерняя заря догорела, но рассвет еще спит где-то, за гранью горизонта; оттого песни декадентов — песни сумерек и ночи. Они развенчивают все старое, потому что оно потеряло душу и сделалось безжизненной схемой. Но, предчувствуя новое, они, сами выросшие на старом, не в силах увидеть это новое воочию — потому в их настроении, рядом с самыми восторженными вспышками, так много самой больной тоски. Тип таких людей — герой ибсеновской драмы, строитель Сольнес: он падает с той башни, которую выстроил сам. Философ декаденства — Фридрих Ницше, погибший Икар, сумевший сделать себя крылатым, но не сумевший дать своим крыльям силу вынести жгучесть палящего всевидящего солнца".
Удивительно наблюдать смену времен года, времени суток в культуре. Может быть, так называемые реализм или натурализм — резкие очертания предметов в лучах заходящего солнца? Может быть, "квинтэссенция праха" (слова Гамлета о мире) — листопад? Так и стихотворение Пушкина "Осень", равно как и одноименное стихотворение Баратынского, — это не просто пейзажная лирика, но одновременно поэтика и культурология, проникновение в смысл умирающей эпохи. Не случайно Баратынский дает своей книге стихов название "Сумерки". Сумеречный настрой характерен и для Тютчева. Мир оказывается лишь позолоченной кулисой, иллюзией, "майей", за которой скрывается мрак, пустота, "темная пропасть":
Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный,
Как золотой покров она свила,
Покров, накинутый над бездной.
И, как виденье, внешний мир ушел ...
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен и гол,
Лицом к лицу пред пропастью темной.
Ф.Тютчев
Такое состояние бывает не только у человека, но и у человечества в целом — в определенные моменты истории.
А. де Мюссе в романе "Исповедь сына века" пишет:
"Три стихии составляли жизнь, которая раскрывалась перед молодым поколением: позади — прошлое, уничтоженное навсегда, но еще трепетавшее на своих развалинах со всеми пережитками веков абсолютизма; впереди — сияние необъятного горизонта, первые зори будущего; а между этими двумя мирами ... некое подобие Океана, отделяющего старый материк от молодой Америки; нечто смутное и зыбкое; бурное море, полное обломков кораблекрушения, где изредка белеет далекий парус или виднеется извергающий густой дым корабль, — словом, настоящий век, отделяющий прошлое от будущего, не являющийся ни тем, ни другим, но похожий и на то и на другое вместе, век, когда не знаешь, ступая по земле, чтó у тебя под ногами — семена или обломки. Вот в этом хаосе надо было делать выбор; вот что стояло тогда перед юношами, исполненными силы и отваги, перед сынами Империи и внуками Революции. Прошлое! Они не хотели его, ибо вера в ничто дается с трудом. Будущее они любили; но как? Как Пигмалион любил Галатею: оно было для них мраморной возлюбленной, и они ждали, чтобы в ней проснулась жизнь, чтобы кровь побежала по ее жилам. Итак, им оставалось только настоящее, дух века, ангел сумерек — промежуток между ночью и днем. Он сидел на мешке с мертвыми костями и, закутавшись в плащ эгоизма, дрожал от страшного холода. Ужас смерти закрался к ним в душу при виде этого призрака — полумумии, полуэмбриона".
Здесь мы видим некую промежуточную, сумеречную ситуацию "между двумя мирами", между двумя солнцами, между "старым материком и молодой Америкой", когда Я разрушается, размывается стихией не-Я. Афродита возвращается в пену, Атлантида погружается в Океан. Восстанавливается первоначальная ситуация: "и тьма над бездною, и Дух богов парит над водами". И жуткий двойник — отражение Я в зеркале Океана (мира не-Я) — здесь тоже виден.
"Все и из воды, и все разрешается в воду",— говорит Фалес. Недаром у Бодлера пожираемая червями падаль поднимается и опадает, подобно морской волне:
Вы помните ли то, что видели мы летом?
Мой ангел, помните ли вы
Ту лошадь дохлую под ярким белым светом,
Среди рыжеющей травы?
Полуистлевшая, она, раскинув ноги,
Подобно девке площадной,
Бесстыдно, брюхом вверх лежала у дороги,
Зловонный выделяя гной.
И солнце эту гниль палило с небосвода,
Чтобы останки сжечь до тла,
Чтоб слитое в одном великая Природа
Разъединенным приняла.
И в небо щерились уже куски скелета,
Большим подобные цветам,
От смрада на лугу, в душистом зное лета,
Едва не стало дурно вам.
Спеша на пиршество, жужжащей тучей мухи
Над мерзкой грудою вились,
И черви ползали и копошились в брюхе,
Как черная густая слизь.
Все это двигалось, вздымалось и блестело,
Как будто, вдруг оживлено,
Росло и множилось чудовищное тело,
Дыханья смутного полно.
И этот мир струил таинственные звуки,
Как ветер, как бегущий вал,
Как будто сеятель, подъемля плавно руки,
Над нивой зерна развевал.
То зыбкий хаос был, лишенный форм и линий,
Как первый очерк, как пятно,
Где взор художника провидит стан богини,
Готовый лечь на полотно.
(…)
Недаром и пушкинская "Осень" выплывает в бескрайнее многоточие моря:
Плывет. Куда ж нам плыть?...
……………………………………
……………………………………
Море пробуждается уже у романтиков (Пушкин о Байроне: "Он был, о море, твой певец"). Ко второй половине XIX века оно окончательно высвобождается — в литературе, в живописи, в музыке. Не говоря уж о том, что море становится темой программных произведений Бодлера, Моне, Дебюсси, оно проявляется прежде всего на уровне поэтики, дышит в каждой строке, в каждом мазке, в каждой музыкальной фразе. Когда Мюссе говорит о своей эпохе как о чем-то "смутном и зыбком", как о "некоем подобии Океана", то разве это не предвосхищение импрессионизма? Море становится установкой нового искусства. Рильке в книге Огюст Роден" пишет:
"Роден же ... знает, что все тело состоит из сцен, на которых разыгрывается жизнь, жизнь, способная в каждом месте проявиться индивидуально и величественно. В его власти придать любому участку этой обширной колеблющейся плоскости самостоятельность и полноту целого. Как, с одной стороны, человеческое тело для Родена только тогда представляет целое, когда все его члены и силы служат общему (внутреннему или внешнему) действию, так, с другой стороны, и части разных тел, причастные друг к другу по внутренней необходимости, складываются для него в единый организм. <...>
Имеется только единственная, тысячекратно движущаяся и меняющаяся поверхность".
XIX век — постепенное погружение в морскую стихию, "в темное, манящее лоно природы", постепенное приближение к Прекрасной Даме. Женщина-море становится установкой эпохи. Так, например, Бодлер пишет:
"Позволь мне долго, долго вдыхать запах твоих волос, погрузить в них все мое лицо, как погружает его жаждущий в воду источника, и колыхать их рукой, как надушенный платок, чтобы встряхнуть рой воспоминаний.
О, если бы ты могла знать все, что я вижу! все, что я чувствую! все, что слышу в твоих волосах! Моя душа уносится вдаль в благоуханиях, как души других в звуках музыки.
В волосах твоих целая греза, полная мачт и парусов; в них огромные моря, по которым муссоны уносят меня к чарующим странам, где дали синее и глубже ..."
"Золотой меч погас, лиловые миры хлынули мне в сердце", — пишет Блок в статье "О современном состоянии русского символизма". И далее:
"Как бы ревнуя одинокого теурга к Заревой ясности, некто внезапно пересекает золотую нить зацветающих чудес; лезвие лучезарного меча меркнет и перестает чувствоваться в сердце. Миры, которые были пронизаны его золотым светом, теряют пурпурный оттенок; как сквозь прорванную плотину, врывается сине-лиловый сумрак (лучшее изображение всех этих цветов — у Врубеля) при раздирающем аккомпанементе скрипок и напевов, подобных цыганским песням. Если бы я писал картину, я бы изобразил переживания этого момента так: в лиловом сумраке необъятного мира качается огромный белый катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз".
И здесь тоже художник погружается в водную бездну, в чрево Великой Матери, Я отправляется в не-Я — и встречается с этим не-Я, со своим двойником ("мертвой куклой", Големом, "чуждым богом") взглядом.
Это не животворящий взгляд подлинного духа, идущего навстречу человеку, а зеркальное отражение самого Я в его индивидуалистической замкнутости.
"Мертвая кукла" — это фаллос, однако не выполняющий своей функции возрождения Я через не-Я. Многие художники "сумеречного времени" ощущали на себе этот холодный, враждебный взгляд демонического двойника (например, Бодлер, Мопассан).
Андрей Белый в "Симфонии" пишет:
"В ту минуту все было сорвано, все струны, все нити разорвались, а ему в глаза улыбался свод голубой, свод серо-синий, полный музыкальной скуки, с солнцем-глазом посреди. И он бросил чтение. Подошел к огромному зеркалу, висевшему в соседней комнате. Взглянул на себя.
Перед ним стоял бледный молодой человек, недурной собою, с шевелюрой, всклокоченной над челом.
И он показал язык бледному молодому человеку, дабы сказать себе: "Я безумный". И молодой человек ему ответил тем же.
Так они стояли друг перед другом с разинутыми ртами, полагая один про другого, что тот, другой, и есть поддельный. Но кто мог сказать это наверняка?"
Перед нами характерная картинка мертвой эпохи. "Все нити разорвались", жизнь утратила свой "упругий ритм" (Блок), настала "музыкальная скука". Солнце здесь "светит, да не греет", оно как бы в плену у холодной синевы неба. Огонь в плену у Воды, красное в плену у синего. Более того, вода замерзает и превращается в ледяную плоскость, которая и служит человеку "огромным зеркалом". Мир — многообразная игра волн — замер, нет больше всеобщей, пронизанной Смыслом жизни. Человек, вырванный из жизненных связей, становится безумной частицей, остается "лицом к лицу" с двойником.
Но вот ритм просыпается — и солнце всплывает на поверхность:
"Солнце было так огромно, так огненно страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. <...> Само небо казалось красным, и можно было подумать: что во вселенной произошла какая-то катастрофа, какая-то страшная перемена и исчезновение цветов: исчезли голубой и зеленый и другие привычные и тихие цвета, а солнце загорелось красным бенгальским огнем.
— Красный смех, — сказал я".
Так холод "Симфонии" Андрея Белого сменяется жаром повести "Красный смех" Л. Андреева. Солнце в обоих произведениях — это страшный, безумный, дьявольский глаз, только у Андреева он уже гораздо ближе, он уже не просто смотрит, но действует.
Кандинский в работе "О духовном в искусстве" пишет, что синий цвет — холодный, темный, круглый, для него характерно центростремительное, втягивающее движение, он удаляется от зрителя. "Чем глубже становится синее, тем больше зовет оно человека к бесконечному, будит в нем голод к чистоте и, наконец, к сверхчувственному. Это — краска и цвет неба, как мы себе его представляем при звучании слова небо". Желтый же цвет — теплый, светлый, острый, движение здесь уже центробежное, лучеиспускающее, он приближается к зрителю, действует навязчиво на душу. Красный цвет — это движение в себе, кипение и пылание, "жизненная, живая, беспокойная краска".
Вот это-то изменение (от синего — к желтому и красному) в цветовой гамме эпохи и ощутил Андреев. Цветовая гамма разворачивается во времени.
Вот что говорил бо этом Андрей Белый в речи о Блоке (на заседании Вольной Философской Ассоциации 28 августа 1921):
"Что же это было за время? Если мы попробуем пережить девяносто седьмой, девяносто восьмой и девятый годы, тот период, который отобразился у Блока в цикле «Ante lucem», то мы заметим одно общее явление, обнаруживающееся в этом периоде: разные художники, разные мыслители, разные устремления, при всех их индивидуальных различиях, сходились на одном: они были выражением известного пессимизма, стремления к небытию. Философия Шопенгауера была разлита в воздухе, и воздухом этой философии были пропитаны и пессимистические песни Чехова, одинаково, как и пессимистические песни Бальмонта, — „В безбрежности" и „Тишина", — где открывалось сознанию, — что „времени нет", что „недвижны узоры планет, что бессмертие к смерти ведет, что за смертью бессмертие ждет".
В разных формах этот колорит сине-серого, сказал бы я, цвета, отпечатлевался. Если бы вы пошли в то время на картинные выставки, то вы увидели бы там угасание гражданских и бытовых тем, вы увидели бы пейзажи, — обыкновенно зимние пейзажи на фоне синих зимних сумерек; вы увидели бы этот колорит зимнего фона <…>. Это были девяностые годы. Теперь, в девятьсотый, девятьсот первый год — все меняется: пробуждается известного рода активность, в русском обществе распространяется Ницше; звучит: — времена сократического человека прошли, Дионис шествует из Индии, окруженный тиграми и пантерами, начинается какое-то новое динамическое время. Это отразилось и в другом: религия буддизма сменилась религиозно-философским исканием, христианским устремлением, линия безвременности перекрестилась с линией какого-то большого будущего, во времени получился крест... <…> Мы видим в этом периоде, как cине-серый цвет эпохи девяносто седьмого — девяносто девятого годов сменяется красным, цветом зари. У Гете есть отрывок о чувственно-моральном восприятии красок, и кто хоть немного знаком с его теорией цветов, тот знает, что без этого отрывка о чувственно-моральном восприятии красок мы ничего не поймем у Гете в его теоретическом мировоззрении. Всякий помнит эту красочную палитру; краска здесь делается символом какого-то умственного и психического восприятия. Поэтому очень характерно, когда мы с эстетической точки зрения берем эту гамму сине-серого фона зимних пейзажей жизни девяностых годов. А когда мы берем пейзажи девятьсот второго года, то мы видим всюду — яркие закаты, яркие закаты, яркие закаты. Мы знаем, что во время как раз этого перелома „Тишина" Бальмонта сменилась его „Горящими зданиями": Бальмонт начинает поджигать здания! — и мы чувствуем, что у Бальмонта этот пожар начинает вкладываться в сознание. Эту зарю, этот пожар, совершенно иначе осознанный, философски осознанный, воспринимает Александр Александрович (Блок — И.Ф.). Он говорит в девяносто девятом году, что „земля мертва, земля уныла", но — вдали рассвет. <…> Одновременно с этим, вспоминается мне, тонкий и чуткий музыкальный критик Вольфинг, написавший „Музыку и модернизм" (книгу замечательную по тонкости подхода к музыке), анализируя эпохальность музыкальных композиций Метнера, пытается вскрыть одну тему с-мольной сонаты Метнера и утверждает, что в этой сонате Метнер пытался в музыке взять звук зорь, вынуть его из воздуха. Если бы он воплотил в слово эту музыкальную тему, то получилось бы стихотворение, подобное стихотворению Александра Александровича — „Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. Все в образе одном — предчувствую Тебя. Весь горизонт в огне — и ярок нестерпимо"…"
"Начало всего есть вода", — говорит Фалес. Гераклит же утверждал, что сущность всех вещей — огонь: "Этот мир, единый для всех, не создан никем из богов и людей, но всегда был, есть и будет вечно живущий огонь". Поэтому "сухая душа — мудрейшая и лучшая".
В истории культуры мир по Фалесу чередуется с миром по Гераклиту, Вода и Огонь, "влажная душа" и "сухая душа" сменяют друг друга.
На рубеже XIX и XX веков ритм просыпается, ледяная неподвижность синего сменяется внутренним беспокойным движением, кипением и пыланием. Но это не значит, что жизнь сразу наполняется Смыслом, что распавшееся вновь соединяется. Это может быть и бессмысленной толкотней мертвых, гальванизированных частиц. Лед сменяется ледоходом:
Гремит плавучих льдин резня
И поножовщина обломков.
И ни души. Один лишь хрип,
Тоскливый лязг и стук ножовый,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.
Б. Пастернак, "Ледоход"
А вот как этот ледоход выражается в общественной жизни:
"... и в открытую дверь осторожно заглядывала черная бесформенная тень, поднявшаяся над миром, и сумасшедший старик кричал, простирая руки:
— Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы будем убивать, и грабить, и жечь. Веселая, беспечная ватага храбрецов — мы разрушим все: их здания, их университеты и музеи; веселые ребята, полные огненного смеха, — мы попляшем на развалинах. <...>
... повсеместные побоища, бессмысленные и кровавые. Малейший толчок вызывает дикую расправу, и в ход пускаются ножи, камни, поленья, и становится.безразличным, кого убивать, — красная кровь просится наружу и течет так охотно и обильно". (Л. Андреев "Красный смех").
Безвольная эпоха сменяется волевой, но воля сама по себе — лишь обнаженная энергия, которая может быть направлена как на творчество, так и на насилие, своеволие. Красное может быть ясным, а может быть и кровавым (и то и другое ему созвучно). "Я увижу солнце, солнце, солнце — красное, как кровь", — восклицает, например, Бальмонт. Свет может быть тот, "который во тьме светит, и тьма не объяла его", а может быть обманным болотным огоньком, может быть порождением самой тьмы:
"Когда после двух сражений наступает затишье и враги далеко, вдруг, темною ночью, раздается одинокий испуганный выстрел. И все вскакивают, и все стреляют в темноту, и стреляют долго, целыми часами в безмолвную, безответную темноту. Кого видят они там? Кто, страшный, являет им свой молчаливый образ, дышащий ужасом и безумием? Ты знаешь, брат, и я знаю, а люди еще не знают, но уже чувствуют они и спрашивают, бледнея: отчего так много сумасшедших — ведь прежде никогда не было так много сумасшедших?
(…) Я отдернул занавеси во всех окнах, и в широкие отверстия влился багровый свет, но почему-то не сделал комнаты светлее: она осталась так же темна, и только окна неподвижно горели красными большими четырехугольниками. <...>
За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный смех".
Юнг в книге "Воспоминания, сновидения, размышления" описывает один свой сон незадолго до начала Первой мировой войны:
"Это было в один из адвентов 1913 года (12 декабря), в этот день я решился на исключительный шаг. Я сидел за письменным столом, погруженный в привычные уже сомнения, когда вдруг все оборвалось, будто земля в буквальном смысле разверзлась у меня под ногами, и я погрузился в темные глубины ее. Я не мог избавиться от панического страха. Но внезапно и на не очень большой глубине я почувствовал у себя под ногами какую-то вязкую массу. Мне сразу стало легче, хотя я и находился в кромешной тьме. Через некоторое время мои глаза привыкли к ней, я себя чувствовал как бы в сумерках. Передо мной был вход в темную пещеру и там стоял карлик, сухой и темный как мумия. Я протиснулся мимо него в узкий вход и побрел по колено в ледяной воде к другому концу пещеры, где на каменной стене я видел светящийся красный кристалл. Я приподнял камень и обнаружил под ним щель. Сперва я ничего не мог различить, но потом я увидел воду, а в ней — труп молодого белокурого человека с окровавленной головой. Он проплыл мимо меня, за ним следовал гигантский черный скарабей. Затем я увидел, как из воды поднимается ослепительно красное солнце. Свет бил в глаза, и я хотел положить камень обратно в отверстие, но не успел — поток прорвался наружу. Это была кровь! Струя ее была густой и упругой, и мне стало тошно. Этот поток крови казался нескончаемым. Наконец, все прекратилось. Эти картины привели меня в глубокое замешательство. Я догадался, разумеется, что это был некий солярный героический миф, драма смерти и возрождения (возрождение символизировал египетский скарабей). Все это должно было закончиться рассветом — наступлением нового дня, но вместо этого явился невыносимый поток крови, очевидная аномалия. Мне вспомнился тот кровавый поток, что я видел осенью, и я отказался от дальнейших попыток объяснить все, что видел".
Маяковский не случайно называл себя "глашатаем солнца". Встреча и разговор с солнцем — одна из основных его тем, причем солнце у него — не столько свет, сколько пожар и кровь, своеволие и насилие:
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.
---------------------------
Пылающими сходнями
спустилось солнце —
суровый
вечный арбитр.
---------------------------
Мечу пожаров рыжие пряди.
---------------------------
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.
---------------------------
Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Вместо нового космоса — подогретый старый хаос (это видно и на уровне темы, и на уровне поэтики, построения образов). Недаром Анненский не доверяет грядущему свету:
Солнца в высях нету.
Дымно там и бледно,
А уж близко где-то
Луч горит победный.
Но без упованья
Тонет взор мой сонный
В трепете сверканья
Капли осужденной.
Этой неге бледной,
Этим робким чарам
Страшен луч победный
Кровью и пожаром.
Но бывает и другое солнце — "истое, не пустое солнце" (Григорий Сковорода) — не страшный и бессмысленный глаз двойника, а окно в иной мир, взгляд и зов Смысла, расплавляющий каменную стену необходимости, дарующий блаженный миг свободы. Такое задающее ритм, приглашающее человека на танец солнце мы видим в романе Гессе "Игра в бисер":
"Появился Тито, в купальных штанишках, он пожал магистру руку и, указывая на скалы напротив, сказал:
— Вы пришли как раз вовремя, сейчас взойдет солнце. До чего же хорошо здесь, в горах.
Кнехт приветливо кивнул ему. Он давно знал, что Тито любит рано вставать, бегать, бороться и странствовать — хотя бы из протеста против барского образа жизни и сибаритства отца, ведь и вино он презирал тоже по этой причине. Хотя такие привычки и склонности приводили порой к позе презирающего всякую духовность сына природы — тенденция к преувеличению была, казалось, присуща всем Дезиньори, — Кнехт приветствовал их, решив воспользоваться для завоевания и обуздания этого пылкого юнца и таким средством, как совместные занятия спортом. Это было одно средство из многих, и притом не самых важных, музыка, например, могла повести гораздо дальше. И конечно, он думать не думал равняться с молодым человеком в физических упражнениях и тем более пытаться его превзойти. Достаточно было простого товарищеского участия, чтобы показать юнцу, что его воспитатель не трус и не домосед.
Тито с интересом глядел на темный гребень скалы, за которым колыхалось небо в утреннем свете. Кусок каменного острия вдруг ярко вспыхнул, как раскаленный и только что начавший плавиться металл, гребень потерял резкость, и показалось, что он вдруг стал ниже, плавясь, осел, и из пылающего просвета вышло ослепительное светило дня. Сразу озарились земля, дом, купальня и этот берег озера, и два человека, стоявшие в мощных лучах, тут же почувствовали приятное тепло этого света. Мальчик, проникшийся торжественной красотой этого мгновения и счастливым чувством своей молодости и силы, расправил тело ритмичными движениями рук, за которыми последовало все тело, чтобы отпраздновать начало дня и выразить свое глубокое согласие с колышущимися и сияющими вокруг стихиями восторженным танцем. Шаги его то летели навстречу победоносному солнцу в радостном поклонении, то благоговейно от него отступали, распростертые руки привлекали к сердцу горы, озеро, небо, казалось, что, становясь на колени, он поклонялся матери-земле, а простирая ладони — водам озера и предлагал себя, свою юность, свою свободу, свою пылающую живость в праздничный дар первозданным силам. На его коричневых плечах блестело солнце, глаза его были полузакрьггы из-за слепящего света, на юном лице застыло, как маска, выражение восторженной, почти фанатической истовости.
Магистр, он тоже, был взволнован и взбудоражен торжественным зрелищем занимающегося дня в каменном безмолвии этого пустынного уголка земли. Но еще больше взволновал и пленил его, явив ему преображенного человека, этот торжественный танец его ученика в честь солнца и утра, вознесший незрелого, капризного юнца до как бы литургической истовости и в один миг открывший ему, зрителю, благороднейшие склонности, задатки и порывы мальчика так же внезапно, лучезарно и полностью, как восход солнца раскрыл и пронизал светом эту холодную мрачную долину у горного озера. Более сильным и значительным показался ему этот юный человек, чем он представлял себе его до сих пор, но и более жестким, более неприступным, более далеким по духу, в большей мере язычником. Этот праздничный и жертвенный танец вдохновленного Паном был значительнее, чем были когда-то речи и стихи юного Плинио, он поднимал Тито на много ступеней выше, но делал его более чужим, более неуловимым, более недостижимым для зова.
Не понимая, что с ним творится, мальчик и сам был охвачен этим восторгом. Танец, который он исполнял, не был знаком ему, таких телодвижений он никогда раньше не делал; ритуал торжества в честь солнца и утра не был привычным ему, придуманным им ритуалом, в его танце и в его магической одержимости участвовали, как суждено было ему понять лишь позднее, не только горный воздух, солнце и чувство свободы, но не меньше и та ожидавшая его перемена, та новая ступень его юной жизни, что воплощалась в приветливой и в то же время внушавшей благоговение фигуре магистра. Многое в судьбе юного Тито и его душе сошлось в эти утренние минуты, чтобы выделить их из тысяч других как высокие, торжественные и святые. Не зная, что он делает, без рассуждений и без недоверия, он делал то, чего требовал от него этот блаженный миг, — облекал в танец свой восторг, молился солнцу, выражал в самозабвенных движениях и жестах свою радость, свою веру в жизнь, свое смирение и благоговение, гордо и в то же время покорно приносил, танцуя, свою благочестивую душу в жертву солнцу и богам, но в такой же мере и этому мудрецу и музыканту, вызывавшему у него восхищение и страх, этому мастеру магической игры, явившемуся из таинственных сфер, будущему своему воспитателю и другу. Все это, как и опьянение светом восходящего солнца, длилось лишь несколько минут".
Мальчик на фоне моря — вот символ новой культуры, знак возрождающего, восстающего из моря солнца, — и, наряду с этим, фаллический символ, символ Ян, это "маленький человек", Гермес.
Подобными же образами (большого и маленького человека) изображают и смену старого года новым (старый и новый Дед Мороз). Но есть и большие годы — эоны, культурно-исторические эпохи. И здесь происходит то же самое: большой грустный человек сменяется маленьким веселым, трагика сменяет комик, Байрона — Чарли Чаплин.
Приглядитесь, кстати, к Чарли Чаплину. Что это за маленький человечек, нечаянно преодолевающий все препятствия? И что означает его тросточка? Его шляпа? И что у него с ногами? Юнг пишет, что его пациенты описывают встречу с либидо во сне следующим образом: "Тут появился какой-то грязный оборванец …" Чарли Чаплин — это сон, который приснился не отдельному человеку, а человечеству в целом.
В основе истории человечества также заложен периодически возобновляющийся обряд посвящения, поэтому в ней в определенные моменты происходит встреча с либидо, с трикстером.
Ортега-и-Гассет в работе "Дегуманизация искусства" пишет:
"Для современного художника, напротив, нечто собственно художественное начинается тогда, когда он замечает, что в воздухе больше не пахнет серьезностью и что вещи, утратив всякую степенность, легкомысленно пускаются в пляс. Этот всеобщий пируэт — для него подлинный признак существования муз. Если и можно сказать, что искусство спасает человека, то только в том смысле, что оно спасает его от серьезной жизни и пробуждает в нем мальчишество. Символом искусства вновь становится волшебная флейта Пана, которая заставляет козлят плясать на опушке леса.
Все новое искусство будет понятным и приобретет определенную значительность, если его истолковать как опыт пробуждения мальчишеского духа в одряхлевшем мире. Другие стили претендовали на связь с бурными социальными и политическими движениями или же с глубокими философскими и религиозными течениями. Новый стиль, напротив, рассчитывает на то, чтобы его сближали с праздничностью спортивных игр и развлечений. Это родственные явления, близкие по существу.
За короткое время мы увидели, насколько поднялась на страницах газет волна спортивных игрищ, потопив почти все корабли серьезности. Передовицы вот-вот утонут в глубокомыслии заголовков, а на поверхности победоносно скользят яхты регаты. Культ тела — это всегда признак юности, потому что тело прекрасно и гибко лишь в молодости, тогда как культ духа свидетельствует о воле к старению, ибо дух достигает вершины своего развития лишь тогда, когда тело вступает в период упадка. Торжество спорта означает победу юношеских ценностей над ценностями старости. Нечто похожее происходит в кинематографе, в этом телесном искусстве par exellence (по преимуществу).
В мое время солидные манеры пожилых еще обладали большим престижем. Юноша жаждал как можно скорее перестать быть юношей и стремился подражать усталой походке дряхлого старца. Сегодня мальчики и девочки стараются продлить детство, а юноши — удержать и подчеркнуть свою юность. Несомненно одно: Европа вступает в эпоху ребячества.
Подобный процесс не должен удивлять. История движется в согласии с великими жизненными ритмами. Наиболее крупные перемены в ней не могут происходить по каким-то второстепенным и частным причинам, но — под влиянием стихийных факторов, изначальных сил космического порядка. Мало того, основные и как бы полярные различия, присущие живому существу, — пол и возраст — оказывают в свою очередь властное влияние на профиль времен. В самом деле, легко заметить, что история, подобно маятнику, ритмично раскачивается от одного полюса к другому, в одни периоды допуская преобладание мужских свойств, в другие — женских, по временам возбуждая юношеский дух, а по временам — дух зрелости и старости. Характер, который во всех сферах приняло европейское бытие, предвещает эпоху торжества мужского начала и юности. Женщина и старец на время должны уступить авансцену юноше, и не удивительно, что мир с течением времени как бы теряет свою степенность".
В древнекитайской "Книге Перемен" говорится: "Гусеница стягивается, чтобы вновь растянуться".
М. де Унамуно в статье "Цивилизация и культура" пишет:
"Прогресс есть последовательность качественных расширений и сжатий, он делает социальную среду богаче и сложнее, и затем эта усложненность сгущается, обретает материальность и опускается в вечные глубины Человечества, облегчая тем самым новый прогресс; это смена семян и деревьев — каждое новое семя лучше предыдущего, и богаче каждое новое дерево. Путем расширений и сжатий, путем обособления частей и их сопряжения Природа проникает в Дух, а Дух в Природу. Цивилизация вынашивает культуру, и, когда она разрешается от бремени, плацента становится больше не нужна, а освободившаяся культура дает жизнь новым цивилизациям".
Иными словами, Человечество идет "путем зерна". Образно говоря, Мир, старея, превращается в свою противоположность — в Рим. А Рим, возрождаясь, вновь становится Миром. Рим и Мир чередуются в истории.
Шпенглер в книге "Закат Европы" пишет:
"Всякая культура проходит через все возрасты отдельногo человека. У каждой есть детство, юность, зрелые годы и старость. Юная, застенчивая, исполненная обетований душа раскрывается в утренней свежести романского и готического стилей. Она наполняет собой фаустовский ландшафт, от Прованса трубадуров до Хильдесхайма и его епископа Бернварда. Здесь — дуновение весны. "В произведениях старонемецкой архитектуры, — говорит Гёте, — мы видим замечательный расцвет. Кто непосредственно встречается с этим расцветом, тот может только удивляться; но тот, кто проникает в тайны внутренней жизни растения, в игру его сил, кто видит постепенное распускание цветка, тот смотрит на дело совсем по-другому, тот знает, что перед ним". Таким же детским языком говорит нам раннегомеровская дорика, древнехристианское, то есть раннеарабское, искусство, искусство и произведения начинающегося с IV династии египетского Древнего царства. Всюду здесь мифологическое мироощущение борется с темным и демоническим началом в себе самом и в природе как с началом греховным, с тем чтобы мало-помалу созреть до степени чистого и светлого выражения, наконец найденного и уясненного существования. Чем более культура приближается к своему зениту, тем мужественнее, жестче, властнее, насыщеннее становится ее наконец приобретший уверенность язык форм, тем определеннее ее чувство своей мощи, тем яснее ее черты. В раннюю пору все это еще смутно, запутанно, неуверенно, исполнено детского искания и страха одновременно. Посмотрите на орнаментику романских церковных порталов Саксонии и южной Франции. Вспомните о вазах ципилонского стиля. Теперь, в полном сознании зрелой творческой силы, в эпоху Сезостриса, Писистратидов, Юстиниана I, испанского мирового владычества Карла V, всякая деталь отделывается строго, размеренно, удивительно легко и непринужденно. Здесь достигнуты моменты ослепительного совершенства, моменты, когда были созданы голова Аменемхета III (гипсовый сфинкс из Таниса), свод Св. Софии, картины Тициана. Еще более поздними, нежными, хрупкими, проникнутыми сладостной печалью последних октябрьских дней являются Книдская Афродита и зала Персефоны Эрехтейона, арабески сарацинских подковообразных арок, дрезденский Цвингер, произведения Ватто и Моцарта. Наконец наступает старость, пыл души угасает, начинается период цивилизации. Иссякающая сила решается еще раз на большое творчество — на классицизм, который не чужд ни одной из угасающих культур, но успех достигается только наполовину; душа еще раз — в романтике — горестно вспоминает о поре своего детства. В заключение, усталая, разочарованная и охладевшая ко всему, она утрачивает радость бытия и мечтает как это было во времена позднего Рима — после тысячелетнего пребывания на солнечном свете вернуться в тьму мистики первобытной души, в материнское лоно, в могилу. Вот причина очарования, которым в то время пользовались в умирающем Риме культы Исиды, Сераписа, Гора и Митры, те культы, которые породила только что пробудившаяся душа Востока в качестве наиболее раннего, призрачного и боязливого выражения своего бытия, обнаружив в них всю свежесть своей внутренней жизни".
Бердяев в книге "Смысл истории" пишет:
"Это — не философема, а мифологема. Такая мифологема была у гностиков, и поэтому гностики, при всех своих недостатках, при всей мутности некоторых форм гностицизма, все же более постигали тайны Божественной жизни как исторической судьбы, чем отвлеченные философы, которые оперировали с философемами. Такая мифологема дает возможность постигнуть существо небесной истории, этапы Божественной жизни, эоны, или возрасты, периоды Божественной жизни. (…)
Для построения метафизики истории неизбежна основная предпосылка, что "историческое" вводит в самую вечность, что оно вкоренено в вечности. История не есть выброшенность на поверхность мирового процесса, потеря связи с корнями бытия, — она нужна самой вечности, для какой-то свершающейся в вечности драмы. <...> Это есть постоянная борьба, постоянное усилие вечных начал свершить победу вечности, свершить ее не в смысле перехода в то положение, которое не имеет никакой связи с временем, потому что это было бы отрицанием истории, а победу вечности на самой арене времени, т.е. в самом историческом процессе".
"Победа вечности на арене времени" возможна лишь в том случае, если это время художественное, музыкальное, ритмическое, если это "организованное вечное мгновение".
Блок в дневнике пишет:
"Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах. Рост задерживается, чтобы потом "хлынуть". Таков закон всякой органической жизни на земле — и жизни человека и человечества. Волевые напоры. Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм".
Иными словами, ритм истории — это ритм художественного произведения, ритм посвящения, любовный ритм. Это углубления и возвраты (Джойс: "туда, сюда, туда, сюда"), все более усиливающиеся, — пока, как в конце стихотворения, не высвечивается все и время не начинает течь обратно:
Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!
Ф. Тютчев
5. Матрешка
Итак, сущность исторического ритма — в чередовании "дневных" и "ночных" эпох, эпох Ян и Инь. Это глубинное течение, которое влияет одновременно на все сферы жизни: и на искусство, и на политику, и на этику — вплоть до общих современникам особенностей поведения и интонаций повседневного общения. Проявления же этого всеобщего закона могут быть самые разнообразные. Ритм, "дух времени", залегает глубже любого события или явления. События и явления получают ту или иную окраску, "подсветку" в зависимости от того, на какой момент движения (активный или пассивный) исторической "гусеницы" они приходятся. Так, например, революция 1917 года — позднее утро, Крымская война 1853-55 годов — вечер, Отечественная война 1812 года (так же, как и Вторая мировая) — день …
Герцен в книге "Былое и думы" пишет о людях XVIII века:
"Прошлое столетие произвело удивительный кряж людей … со всеми слабостями регентства, со всеми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вместе отворили настежь двери революции и первые ринулись в нее, поспешно толкая друг друга, чтоб выйти в "окно" гильотины. Наш век не производит более этих цельных, сильных натур; прошлое столетие, напротив, вызывало их везде, даже там, где они были не нужны, где они не могли иначе развиться, как в уродство".
Яркие личности, оригиналы, пассионарии (используя ставший расхожим термин Л. Гумилева) XVIII века (утро), затем героическое поколение (хотя уже и с некоторой утратой оригинальности, более "сгрудившееся", более ориентированное на служение обществу, 1812 года — "богатыри — не вы" (как их охарактеризовал Лермонтов, противопоставляя своим современникам) (день), затем поколение "Думы" Лермонтова: "Печально я гляжу на наше поколенье! / Его грядущее — иль пусто, иль темно, / Меж тем, под бременем познанья и сомненья, / В бездействии состарится оно» — здесь это звучит оценочно, но на самом деле рефлексия не хуже героизма: в ней есть глубина (вечер), затем поколение "безвременья", "fin du siècle" — "конца века" — поколение Чехова, Надсона, Случевского (ночь), затем вдруг — яркое, легкомысленное, спортивное поколение "belle époque" — "прекрасной эпохи" (утро) … и так далее.
В истории — целый ряд таких переходов. Гомеровские герои — утро, Рим и эллинизм — вечер. Потом — новое утро, связанное с восходом христианства: плоть культуры обновляется, наполняется новым духом, рефлексия сменяется верой. Потом "Осень средневековья", потом "Возрождение", в свою очередь постепенно тяжелеющее, развивающееся, с одной стороны, в маньеризм, в формальный классицизм, с другой — тяготеющее к титанизму, натурализму, причудливому барокко … Человечество вступает в период рефлексии, фантазии и иронии: человек и мир вновь раздельны ("Дон Кихот"). Следующее утро — начало XVIII века. Но затем Баха сменяет Бетховен … Самые первые же утро и вечер: от начала истории, от зарождения первых государств — до мощных теократических цивилизаций, гигантских восточных империй, едва держащихся "на глиняных ногах", оседающих и разрушающихся под собственной тяжестью. Они усыновят молодую греческую культуру, передадут ей эстафету.
(Интересно отметить ускорение: каждые последующие исторические сутки примерно в два раза короче предыдущих.)
Платон говорит, что время — это движущийся образ вечности. Метаистория — это не хронологическая прямая, а ритмическое соединение времени с вечностью, горизонтали с вертикалью. Она складывается из цепочки эпох-эонов — единиц ритма. В начале эона — порождающий его импульс, новая ступень качества. В этот момент время и вечность сливаются в одной точке. Здесь едины субъект и объект, свобода и необходимость. Эту точку можно назвать моментом гармонизма. Затем снова возникает разделение. Крайнюю дифференциацию противоположностей можно назвать моментом антиномизма (или дисгармонизма). Когда разделение противоположностей достигает кризисной точки, они вновь совпадают. Старый эон умирает, рождается новый эон. Я уверен в том, что так происходит на рубеже XIX и XX веков. Но естественно возникает вопрос и о других моментах перелома, совпадения времени с вечностью. Как они распределены в истории? Может быть, так (не примите это слишком серьезно, это лишь моя мифологема, лишь мой сон, лишь художественный образ, который может помочь ощутить ритм истории):
ЭОНЫ
1. 4300 г. — 1100 г. 3200 лет
2. 1100 (до Р.Х.) — 500 г. (от Р.Х.) 1600 лет
3. 500 г. — 1300 г. 800 лет
4. 1300 г. — 1700 г. 400 лет
5. 1700 г. — 1900 г. 200 лет
6. 1900 г. — 2000 г. 100 лет
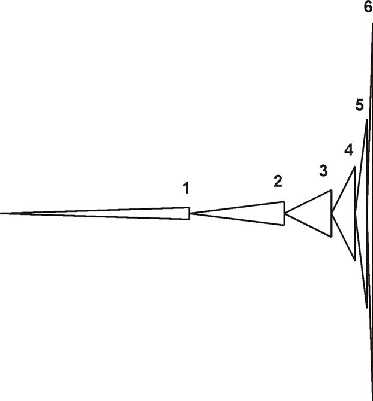
Сокращаясь по горизонтали, эоны компенсируют это по вертикали (здесь площадь треугольников одинакова, так как эон для метаистории — единица измерения). Эта схема напоминает фонтан, мировое древо, фигуру человека, крест (помните слова Адрея Белого: «во времени получился крест»?).
Е. Трубецкой в книге "Смысл жизни" пишет:
"Обе эти линии, выражающие два основных направления жизненного стремления — линия плоскостная, или горизонтальная, и восходящая или вертикальная, — скрещиваются. И так как эти две линии представляют собою исчерпывающее изображение всех возможных жизненных направлений, то их скрещение — крест — есть наиболее универсальное, точное схематическое изображение жизненного пути. Во всякой жизни есть неизбежное скрещение этих двух дорог и направлений, этого стремления вверх и стремления прямо перед собой в горизонтальной плоскости. Дерево, которое всею своею жизненною силою подъемлется от земли к солнцу и в то же время стелется вдоль земли горизонтальными ветвями, представляет собой как бы наглядное символическое выражение в пространстве того же скрещения, которое совершается и в жизни духа. Крест в этом смысле есть в основе всякой жизни. Совершенно независимо от того, как мы относимся ко Христу и христианству, мы должны признать, что крестообразно самое начертание жизни и что есть космический крест, который выражает собою как бы архитектурный остов всего мирового пути".
Приложение, или еще две цитаты (одна — в подтверждение, а другая — в развитие темы).
Флоренский в книге "Детям моим" пишет:
"Оно жило пред нами своею жизнью, ежечасно меняло свой цвет, то покрывалось барашками или нахмуривалось, то, напротив, истомно покоилось, лениво, еле-еле плескаясь о берег. В другом месте находки наши ничего не стоили бы; но тут, на морском берегу, это было особенное. Зелено-синие вдали и зелено-желтые вблизи цвета, влекшие мою душу и пленительно зазывавшие все существо с самых первых впечатлений детства, они собою все осмысливали и все украшали. Дары моря, как смычком, вели по душе и вызывали трепетное чувство — не чувство, а словно звук, рвущийся из груди, — предощущение глубоких, таинственных и родимых недр, как весть из хризоберилловых и аквамариновых недр бытия. Ведь эти зеленые глубины были загадочною разгадкою пещерного, явного мрака, родимые, родные до сжимания сердца. И деревяшки, обточенные морем, гладкие, теплые, как и теплые гладкие камни, все — солоноватое на вкус и все пахнущее чуть слышным йодистым запахом, — оно было мило сердцу, свое. Я знал: эти палки, эти камни, эти водоросли — ласковая весточка и ласковый подарочек моего, материнского, что ли, зеленого, полумрака. Я смотрел — и припоминал, нюхал — и тоже припоминал, лизал — опять припоминал, припоминал что-то далекое и вечно близкое, самое заветное, самое существенное, ближе чего быть не может.
Этот йодистый, зовущий и вечно зовущий запах моря; этот зовущий, вечно зовущий шум набегающих и убегающих волн, сливающийся из бесконечного множества отдельных сухих шумов и отдельных шипящих звуков, шелестов, всплесков, сухих же ударов, бесконечно содержательный в своем монотонном однообразии, всегда новый и всегда значительный, зовущий и разрешающий свой зов, чтобы звать еще и еще, все сильнее, все крепче; шум прибоя, весь состоящий из вертикалей, весь рассыпчатый, как готический собор, никогда не тягучий, никогда не тянущийся, никогда не липкий, никогда, хотя и от влаги, но не влажный, никогда не содержащий в себе никаких грудных и гортанных звуков; эта зеленизна морской воды, зовущая в свою глубь, но не сладкая и не липкая, флюоресцирующая и высвечивающая внутренним мерцанием, тоже рассыпчатым и тоже беспредельно мелким светом, по всему веществу ее разлитым, всегда новая, всегда значительная — все вместе это, зовущее и родное, слилось навеки в одно, в один образ таинственной жизнетворческой глуби, и с тех пор душа, душа и тело, тоскует по нему, ища и не находя, не видя вновь искомого — даже во вновь видимом, но теперь уже иначе, внешне лишь, воспринимаемом море.
Того моря, блаженного моря блаженного детства, уже не видать мне — разве что в себе самом. Оно ушло, вероятно, куда уходит и время, — в область ноуменов. Но этот ноумен когда-ro воистину виделся, обонялся, слышался мною. И я знаю тверже, чем знаю все другое, узнанное впоследствии, что то мое знание истиннее и глубже, хотя и ушло от меня,— ушло, а все-таки навеки со мною. <...>
Но я помню свои детские впечатления и не ошибаюсь в них: на берегу моря я чувствовал себя лицом к лицу пред родимой, одинокой, таинственной и бесконечной Вечностью — из которой все течет и в которую все возвращается.
Она звала меня, и я был с нею. В душе же моей неизменно стоит зов моря, рассыпчатый звук прибоя, бесконечная самосветящаяся поверхность, в которой я различаю блестки: все более и более мелкие, до мельчайших частичек, но которая никогда не мажется. <...>
И еще: в математике мне внутренно, почти физически, говорят родное ряды Фурье и другие разложения, представляющие всякий сложный ритм как совокупность, как бесконечную совокупность простых. Мне говорят родное непрерывные функции без производных и всюду прерывные функции, где все рассыпается, где все элементы поставлены стоймя. Вслушиваясь в себя самого, я открываю в ритме внутренней жизни, в звуках, наполняющих сознание, эти навеки запомнившиеся ритмы волн и знаю, это они ищут во мне своего сознательного выражения чрез схему тех математических понятий. Да. Потому что ритмический звук волны изрезан ритмами более мелкими и частыми, ритмами второго порядка, эти — в свой черед — расчленяются ритмами третьего порядка, те — четвертого и т.д., и т.д., как бы далеко не пошли мы, ухо не слышит последней расчлененности, уже далее нечленимой, нечленораздельной, как грудной звук, дающийся сознанию, но всегда звук кажется сыпучим, а непрерывность волны — еще и еще изрезанной, до бесконечности расчлененной и поэтому всегда дающей пищу умному постижению. Впоследствии, когда я услышал знаменитые ростовские звоны, где сплетаются, накладываясь друг на друга, ритмы, все более частые, опять мне вспомнилось ритмическое построение морского прибоя и фуги Баха, исконные ритмы моей души. В самом деле, шум прибоя слагается из шумов от падения отдельных капель морской воды. Лейбниц уверяет, будто мы не слышим этих отдельных падений и лишь суммарный шум доходит до нас. Но это неправда, мы слышим их, слышим и падение капли, и падение частей капли, и так до беспредельности, когда прислушиваемся, когда войдем во впечатление, сложившееся от прибоя в самом сердце, в глубинах нашей души: там открываем мы бесконечную сыпучесть звука, всего сыпучего, всегда четкого и сухого в малейших своих элементах. Таинственная, бесконечная поверхность моря бесконечна и по содержанию своему, по своему звуку, как бесконечна она и по зернистости своего свечения. Ропот моря — оркестр бесконечного множества инструментов. Есть один звук, родственный ему по содержательности и тоже возникающий в рождающих недрах бытия. Это — узор нагоняющих и перегоняющих друг друга ритмов, когда падают капли—тоже капли — в пещерах, где сочится со сводов и стен вода. И там — в ритмах — слышны еще и еще ритмы, и тоже до бесконечности. Они бьются, как бесчисленные маятники, устанавливающие время всей мировой жизни, разные времена и разные пульсы бесчисленных живых существ. И, когда войдешь в мастерскую часовщика, то там опять слышен похожий шум от множества маятников, тоже родимый, тоже напоминающий земные недра и глубь морскую."
В.Н. Топоров в работе «О «поэтическом» комплексе моря и его психофизиологических основах» пишет:
«Океаническое чувство», как оно определялось в свое время Фрейдом, теперь может быть уточнено, детализировано и конкретизировано в свете тех новых идей, которые возникли в последние десятилетия в формирующейся «эмбрио-космогонической» теории, в исследованиях по «пренатальному сознанию», в так называемой «трансперсональной» психологии, наконец, в трудах, изучающих мифологические отражения акта творения в контексте «морского» комплекса или тех или иных «морских» образов, включая и архетипическую символику моря. И хотя все точки над i пока не могут быть поставлены, несомненно одно и главное: тема «океанического чувства» получила для себя «новые времена и новые пространства», которые отныне могут рассматриваться именно как проективные пространства, которые отражают «океаническое», «морское» и облегчают разыскание его функций и мотивировок.
Прежде всего речь идет об идее «пренатального» сознания, согласно которой события пренатального периода фиксируются зародышем и результаты этого несенсорного восприятия проносятся человеком через всю жизнь, в частности, они могут воспроизводиться в сновидениях, относящихся, естественно, уже к постнатальному периоду. Несмотря на недоверие к этой идее со стороны многих психологов и части психиатров, она не только заслуживает самого пристального внимания, но и во многих отношениях снимает основания для недоверия и скепсиса уже в силу того, что локус, где эта идея находит свою «сильную» позицию, находится в тех областях и соответствующих текстах, которые вплоть до последнего времени никогда не были объектом научного исследования с указанной точки зрения. Более того, выяснившийся факт сродства эмбриогонии и космогонии через ту роль, которую в обеих сферах играет именно «океаническое чувство», с необходимостью вводит в круг исследователей этой проблемы и специалистов в области мифологии и архаичных культур, располагающих уникальными свидетельствами, не просто подтверждающими данные, полученные в других областях, но и самостоятельно развивающими самое идею в том ее общем виде, который объединяет науки о человеке в двух их частях — биологической и духовно-культурной. Наконец, существует еще, по крайней мере, два круга источников исключительной важности: один из них (из числа весьма широко распространенных и легко доступных) — определенные формы современного искусства (живопись, поэзия, музыка) в тех его вариантах, которые сочетают в себе «трансперсональную» память творца соответствующих произведений с даром, а иногда и просто техникой самораскрытия, которые в совокупности делают более или менее зримым, верифицируемым путешествие к собственным корням, истокам и даже далеко за их пределы, в сферу коллективного бессознательного; другой круг источников (тоже не такой уж редкий) составляют те или иные переживания людей, хотя бы частично сохраняющих связи с архаичными структурами сознания и даже культивирующих и тем самым персеверирующих их (Cp. шаманы; йоги, «профессиональные» пророки, ясновидцы и т. п.), или просто одаренных сновидцев, обладающих к тому же еще одним даром — памяти, позволяющей эти сновидения эксплицировать, — от библейского Иосифа до нашего современника Ремизова. Именно последний круг источников (сны) полнее всего суммирует главные события пренатального периода — первые воспоминания яйца (способность «воспоминания» связана с яйцом, а не со сперматозоидом, который, однако, как «постороннее» задает зародышу «внешний» горизонт, в совокупности с «внутренним» формирующий тотальный горизонт зародыша — его «мир», ср. гуссерлианскую идею «горизонта»), как они, эти «первовоспоминания», воспроизводятся в сновидениях. Один из крупнейших специалистов в этой области голландский психотерапевт М. Литарт Перболте пишет: «[Яйцо. — В.Т.] вышло из яичника и спокойно ожидает, что произойдет дальше. В терминологии Фрейда, мы имеем дело с состоянием океанических чувств. Яйцу свойственно ощущение покачивания туда-сюда, словно на большом водном пространстве, и одновременно ощущение того, что оно есть часть этой воды. Нельзя еще говорить о настоящем сознании. Существует ощущение одной лишь бесконечности и того, что яйцо составляет часть этой бесконечности ... В снах данный опыт часто предстает в виде больших водных пространств, а также представлений о коллективности (группа, община и пр.), ясно наводя на мысль о соответствующем опыте в яичнике и, таким образом, об опыте в период до овуляции. Зарегистрированных фактов о сперматозоидах [на этой стадии. — В.Т.] нет». Верность этой эмбриогонической ситуации под сомнение не ставится, и разноречия начинаются тогда, когда встает вопрос о выборе интерпретации этих фактов и о пределах самой интерпретации. В обоих случаях основной оказывается проблема критериев, но само пространство верификации интерпретационных заключений в данных обстоятельствах весьма неопределенно, но открыто. Поэтому попытка определить «сильные» критерии в наибольшей степени зависит, видимо, от поиска других изоморфных ситуаций и определения причин подобной изоморфности. В этом контексте в сферу внимания исследователя не могут не попасть два круга явлений — «морской» комплекс, знакомый в разной степени (хотя и не всегда вполне осознанно) многим и отражающийся как на психофизиологическом (соответственно — поведенческом) уровне, так и специально в поэтических текстах (ср. тему настоящей статьи), и космогонические мифы, составляющие в любой традиции ядро мифологической системы и корпуса мифологических текстов. Роль этой группы никак не исчерпывается интересом к истокам, к началу, поскольку «начало», как оно представляется в данной традиции, всегда предполагает и актуальное настоящее и чаемое будущее, мотивируемые программой, заложенной в самом начале и имеющей операционный характер. В связи с рассматриваемой здесь темой непосредственный интерес представляют два типа версии творения — из мирового яйца, «золотого зародыша» ведийской и индуистской традиций, плавающего, покачиваясь, на волнах первозданного океана, и из уплотнения водной стихии (ср. миф о пахтании океана) и создания устойчивой опоры в виде земли, в частности, поднятой с морского дна (обе версии могут в разных вариантах контаминироваться). Мировое яйцо возникло в водах океана от столкновения волн друг с другом, приравниваемого к соитию. По другой версии, Праджапати, первотворец, оплодотворил яйцо, как волна волну, и от этого возникли две золотые чаши-полусферы, прообраз структуры мира — земли и неба. Основная цель мирового яйца — найти опору, чтобы осесть, прикрепиться к чему-то устойчивому и осуществить свои плодородные функции. Пока яйцо плавает-качается в мировом океане, его положение неопределенно, и чувство страха за исход присутствует постоянно. Эта неопределенность возникает тогда, когда до того монолитные и неделимые воды мирового океана получают некий более плотный и все более и более сгущающийся центр (яйцо, челн, завязь земли и т. п.); неопределенность кончается, когда совершается оплодотворение, которое ощущается как резкое, агрессивное вторжение извне внутрь, как насилие и подавление сопротивления, образ которого видят в поражении Вритры ваджрой (палицей) Индры, сыгравшей роль того колышка, что, подобно стержню, фиксирует мировую опору, гору. Убийство Индрой Вритры и составляет выход из неопределенности через оплодотворение, зачатие и начало плодородия. «В этой связи могут быть существенными такие характерные подробности, как приковывание горы или земли, дрейфовавшей по водам. Если искать эквивалент в пренатальном опыте, параллелизм с прикреплением оплодотворенного яйца очевиден. То, что оплодотворение выражено в мифологическом символизме через сражение Индры с горой, неудивительно. Это, конечно, хорошо известный факт, что сперматозоид должен преодолеть сильное сопротивление, растворяя гормональные жидкости, которые окружают яйцо. По-видимому, в снах, связанных с зачатием, яйцо иногда регистрирует этот процесс как агрессивность со стороны сперматозоида, что может привести к шоковому переживанию зачатия». Такого рода схождения — более чем параллели, поскольку «сходное» в таком случае представляет собою результат разных (в разных кодах) отражений единого. И в этом смысле можно согласиться с точкой зрения, согласно которой назначение космогонического мифа не только передать информацию-память о зачатии, но и помочь пережить ощущение собственного зачатия, как бы заново пройти путь выхода из неопределенности и обретения опоры. В ходе этого «припоминания» прорабатываются такие важнейшие «психофизиологические» ощущения, как целое и расчлененное, единое и множественное, внутреннее и внешнее (и их взаимопроницание), смешение, слияние, переход, неопределенность, томление, обеспокоенность, тоска, тревога, страх, наконец, сам процесс интроспективного переживания всей линии развития (иногда и за пределами пространства данной «личности») через припоминание.
Во всем, что здссь сказано, важнейшим для рассматриваемой темы оказывается конституирование «пренатального» плана, бессознательно или подсознательно воспроизводимого в текстах или их фрагментах, имеющих совсем иное видимое назначение; возможность возвращения с помощью памяти к своим истокам, к переживанию, каким бы оно ни было опосредствованным, драмы оплодотворения и зачатия; наконец, сам способ этого переживания-возвращения, открывающийся с помощью особого рода «колебательно-колыхательных» движений и связанного с ними «океанического чувства». Но есть еще один очень важный аспект, который отражается в идее рождения независимо от того, реализуется ли она в биологическом или в духовном плане. Субъект рождения (тот, кто рождается), будь то ребенок или «новый», духовно родившийся (хотя бы только на краткое время, когда восстанавливается связь с бессмертием, с полнотой жизни) человек, переживает пограничное состояние тесноты, томления, мук, страданий, разрешающееся выходом в «новое» пространство, что воспринимается как освобождение, как «новое рождение», как приобщение к вечности и бессмертию.
Часть III
ПОРТРЕТ СЛОВА
В начале было дело!
И. В. Гёте, «Фауст»
Набоков в рассказе "Музыка" пишет:
"Как это было давно. Он влюбился в нее без памяти в душный обморочный вечер на веранде теннисного клуба, — а через месяц, в ночь после свадьбы, шел сильный дождь, заглушавший шум моря. Как мы счастливы. Шелестящее, влажное слово "счастье", плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет, — и утром листья в саду блистали, и моря почти не было слышно,— томного, серебристо-молочного моря".
"Счастье" — главное слово в этом тексте, слово-матка, а все остальные слова им порождаются и его обслуживают. Текст построен так, что представляет собой разворачивающееся, разрастающееся слово "счастье". Например, в слове "счастье" есть что-то "шелестящее". В слове "шелестящее" есть слово "листья". В слове "листья" — слово "блистали". "Счастье" — "плещущее", "влажное" слово. Поэтому появляются шум моря и дождь. Слово "счастье" "улыбается", поэтому "он влюбился". Или наоборот. Важно то, что все слова текста так или иначе отражаются в слове "счастье". Одни из них непосредственно созвучны этому главному слову, прилепились к самому магниту, другие лепятся уже на эти намагниченные слова. Весь текст, таким образом, представляет собой как бы анаграмму слова "счастье". Можно сказать, что "счастье" — имя данного текста, его судьба, его ангел-хранитель.
Подобным именем текста является, например, и название фильма Феллини "Amarcord". Это слово (как объясняется в самом фильме) образовано из слов "ricordo" — "воспоминание", "аmаrо" — "горький", "amare" — "любить", "cor" ("сuоrе") — "сердце".
В старину верили, что имя человека влияет на его жизнь. Так, например, Яаков, предсказывая судьбу сыну Гаду ("гад" — "счастье, удача"), извлекает ее из его имени: "Гад гдуд йгудэну вху ягуд 'акев" — "Гад — рать поратует на него, а он оттеснит ее обратно". Слово разворачивается и становится текстом, имя разворачивается и становится судьбой.
Ю.М. Лотман в "Лекциях по структуральной поэтике" пишет:
"В стихах:
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.
Слова "утром", "уверен", "увижусь" находятся в определенной связи, не зависящей от обычных синтаксических и иных, чисто языковых связей. Звук "у" (вопреки утверждению В. Шкловского в одной из его ранних работ), конечно, сам по себе никакого значения не имеет. Но повторение его в ряде слов заставляет выделить его в сознании говорящего как некую самостоятельную единицу. При этом фонема "у" осознается и как самостоятельная, и как несамостоятельная по отношению к слову "утром". Будучи отделена и не отделена, она получает семантику от слова "утром", но потом повторяется еще в других словах ряда, приобретая новые лексические смыслы. Это приводит к тому, что слова "утром", "уверен", "увижусь", которые в непоэтическом тексте составляли бы самостоятельные и несопоставимые единицы, начинают восприниматься в семантическом взаимоналожении. Происходящее при этом своеобразное отождествление этих слов приводит к необходимости раскрыть в их разности нечто единое для всех. При таком семантическом наложении огромная часть понятийного содержания каждого слова окажется отсеченной, подобно тому, как контекст отсекает полисемию. Но зато возникнет значение, невозможное вне этого сопоставления и единственно выражающее сложность авторской мысли. В данном случае, подобная единица содержания — результат нейтрализации слов "утро", "уверен", "увижусь", их "архисема", включающая пересечение их семантических полей.
Сложность, однако, в том, что вся нестиховая структура языка, все синтаксические связи, все определенные контекстом этой фразы, воспринимаемой как явление не-поэзии, значения слов сохраняются. Но одновременно возникают и другие связи, другие значения, которые не отменяют первых, а сложно с ними коррелируют.
Но и, более того, мы имеем дело не только со спорадическими повторениями одного какого-либо звука, а с тем, что вся звуковая система стиха оказывается полем сложных соотнесений".
Набоков в романе "Приглашение на казнь" пишет:
"Стой! Вот опять чувствую, что сейчас выскажусь по-настоящему, затравлю слово. Увы, никто не учил меня этой ловитве, и давно забыто древнее искусство писать, когда оно в школе не нуждалось, а загоралось и бежало как пожар, — и теперь оно кажется таким же невозможным, как музыка, некогда извлекаемая из чудовищной рояли, которая проворно журчала или вдруг раскалывала мир на огромные, сверкающие, цельные куски — я-то сам так отчетливо представляю себе все это, но вы — не я, вот в чем непоправимое несчастье. Не умея писать, но преступным чутьем догадываясь о том, как складывают слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем и его тоже обновляя этим отражением, — так что вся строка — живой перелив; догадываясь о таком соседстве слов, я, однако, добиться его не могу, а это-то мне необходимо для несегодняшней и нетутошней моей задачи. Не тут! Тупое "тут", подпертое и запертое четою "твердо", темная тюрьма, в которую заключен неуемно воющий ужас, держит меня и теснит. Но какие просветы по ночам, какое... Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия. Сонный, выпуклый, синий, он медленно обращается ко мне. Это как будто в пасмурный день валяешься на спине с закрытыми глазами, — и вдруг трогается темнота под веками, понемножку переходит в томную улыбку, а там и в горячее ощущение счастья, и знаешь: это выплыло из-за облаков солнце. Вот с такого ощущения начинается мой мир: постепенно яснеет дымчатый воздух,— и такая разлита в нем лучащаяся, дрожащая доброта, так расправляется моя душа в родимой области. — Но дальше, дальше? — да, вот черта, за которой теряю власть... Слово, извлеченное на воздух, лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине. Но я сделаю последнее усилие, и вот, кажется, добыча есть, — о, лишь мгновенный облик добычи!"
Так же, как в какое-то мгновение нашей жизни разрозненные детали могут вдруг складываться в единый лик и весь мир обретает облик произведения искусства, где все "оказывается полем сложных соотнесений", так и разрозненные слова вдруг "братаются", начинают звучать согласованно, соединяются в "архисеме", сливаются в единое слово. "Творчество поэта заключается в том, чтобы из-за слов заставлять звучать исконное слово" (Гауптман).
Вяч. Иванов в статье "О "Цыганах" Пушкина" пишет:
"И стихи поэмы, предшествующие заключительному трагическому аккорду о всеобщей известности "роковых страстей" и о власти "судеб", от которых "защиты нет", опять воспроизводят, как мелодический лейтмотив, основные созвучия, пустынные, унылые, страстные:
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.
Эти звуки, полные и гулкие, как отголоски кочевий в покрытых седыми ковылями раздольях, грустные, как развеваемый по степи пепел безымянных древних селищ, или тех костров случайного становья, которые много лет спустя наводили на поэта сладкую тоску старинных воспоминаний, приближают нас к таинственной колыбели музыкального развития поэмы, обличают первое чисто звуковое заражение певца лирической стихией бродячей вольности, умеющей радостно дышать, дерзать, любя, даже до смерти, и покорствовать смиренномудро. Фонетика мелодического стихотворения обнаруживает как бы предпочтение гласного У, то глухого и задумчивого, и уходящего в былое и минувшее, то колоритно-дикого, то знойного и узывно-унылого; смуглая окраска этого звука или выдвигается в ритме, или усиливается оттенками окружающих его гласных сочетаний и аллитерациями согласных; и вся эта живопись звуков, смутно и бессознательно почувствованная современниками Пушкина, могущественно способствовала установлению их мнения об особенной магичности нового творения..."
(Обратим внимание на то, что Вяч. Иванов, выявляя значение гласной У в художественном тексте, строит для этого свой художественный текст, в котором вокруг У собираются слова "глухой", "задумчивый", "узывно-унылый", "смуглый"... Так и у Набокова в приведенном выше примере слово "тут" высвечивается словами "тупое", "запертое", "темная тюрьма", "неуемно воющий ужас", "держит", "теснит". Слово "дышит и блистает только на темной, сдавленной глубине".)
Флоренский в книге "Имена" так продолжает мысль Вяч. Иванова по поводу поэмы Пушкина:
"Это "глубоко женственное и музыкальное имя" есть звуковая материя, из которой оформливается вся поэма — непосредственное явление стихии цыганства. <...> "Цыганы" есть поэма о Мариуле; иначе говоря, все произведение роскошно амплифицирует духовную сущность этого имени и может быть определяемо как аналитическое суждение, подлежащее коего — имя Мариула. Вот почему носительница его — не героиня поэмы: это сузило бы его значение и из подлежащего могло бы сделать одним из аналитических сказуемых, каковы, например, и Земфира, и Алеко, и другие. Мариула, — это имя —, служит у Пушкина особым разрезом мира, и оно не только едино в себе, но и все собою пронизывает и определяет. Имеющему уши слышать — это имя само по себе раскрыло бы свою сущность, как подсказало оно Пушкину поэму о себе, и может сказать еще поэмы. Но и раскрываясь в поэме и поэмах, оно пребывает неисчерпанным, всегда богатым. Имя — новый высший род слова и никаким конечным числом слов и отдельных признаков не может быть развернуто сполна. Отдельные слова лишь направляют наше внимание к нему. Но как имя воплощено в звуке, то и духовная сущность его постигается преимущественно вчувствованием в звуковую его плоть. Этот-то звуковой комментарий имени Мариулы и содержится в "Цыганах"".
В этом смысле очень интересен опыт Даниила Андреева. Текст книги "Роза мира" то и дело сгущается, конденсируется в очередное собственное имя. Вот как, например, вводится одно из таких имен — "Лиурна":
"Сквозь бегущие воды мирных рек просвечивает мир воистину невыразимой прелести. Есть особая иерархия — я издавна привык называть ее душами рек, хотя теперь понимаю, что это выражение не точно. Каждая река обладает такой "душой", единственной и неповторимой. Внешний слой ее вечнотекущей плоти мы видим, как струи реки... Но внутренний слой ее плоти, эфирной, который она пронизывает несравненно живей и где она проявляется почти с полной сознательностью, — он находится в мире, смежном с нами и называемом Лиурною. <...> Невозможно найти слова, чтобы выразить очарование этих существ, таких радостных, смеющихся, милых, чистых и мирных, что никакая человеческая нежность не сравнима с их нежностью, кроме разве нежности самых светлых и любящих дочерей человеческих. И если нам посчастливилось воспринять Лиурну душой и телом, погружая тело в струи реки, эфирное тело — в струи Лиурны, а душу — в ее душу, сияющую в затомисе, — на берег выйдешь с таким чистым, просветлевшим и радостным сердцем, каким мог бы обладать человек до грехопадения".
Откуда взялось слово "Лиурна" — это "заумное", "самовитое" (как сказали бы футуристы) слово? Оно собрано со всего данного текста, "с миру по нитке": в него вошли и "струи реки", и "милые, мирные существа", и "любящие дочери", и эфирность. Это собственное имя текста. Точнее, это имя того лика, который просвечивает в данном тексте.
Не случайно Лотман называет искусство "миром собственных имен".
Если же есть имена, то должны быть и их обладатели:
Какая-то страсть налетела,
Какая-то тяжесть жива;
И призраки требует тела,
И плоти причастны слова.
О. Мандельштам
Вот как Даниил Андреев описывает свой опыт встреч с "призраками":
"Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слухом. Как будто они говорили откуда-то из глубины моего сердца. Многие слова их, особенно новые для меня названия различных слоев Шаданакара и иерархий, я повторял перед ними, стараясь наиболее близко передать их звуками физической речи, и спрашивал: правильно ли? Некоторые из названий и имен приходилось уточнять по нескольку раз; есть и такие, более или менее точного отображения которых в наших звуках найти не удалось. Многие из этих нездешних слов, произнесенных великими братьями, сопровождались явлениями световыми, но это не был физический свет, хотя их и можно сравнить в одних случаях со вспышками молнии, в других — с заревами, в третьих — с лунным сиянием. Иногда это были уже совсем не слова в нашем смысле, а как бы целые аккорды фонетических созвучий и значений. Такие слова перевести на наш язык было нельзя совсем, приходилось брать из всех значений — одно, из всех согласованно звучащих слогов — один. Но беседы заключались не в отдельных словах, а в вопросах и ответах, в целых фразах, выражавших весьма сложные идеи. Такие фразы, не расчленяясь на слова, как бы вспыхивали, отпечатываясь на сером листе моего сознания, и озаряли необычайным светом то темное для меня и неясное, чего касался мой вопрос. Скорее даже это были не фразы, а чистые мысли, передававшиеся мне непосредственно, помимо слов".
Разве не так же рождается и стихотворение? Стихотворение и представляет собой такое "нездешнее слово", содержащее "целые аккорды фонетических созвучий и значений".
Иногда это "нездешнее слово" всплывает в стихотворении на поверхность, становится словом в слове. Так происходит, например, в стихотворении Ломоносова "Кузнечик дорогой ...", представляющем собой как бы анаграмму слова "кузнечик":
Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою
И наслаждаешься медвяною росою.
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед нами царь;
Ты ангел во плоти иль, лучше, ты бесплотен,
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен;
Что видишь, все твое; везде в своем дому,
Не просишь ни о чем, не должен никому.
КУЗ — тельце кузнечика, стрекотание, НЕ — затишье, онемение, небо, ЧИК — прыжок. Так строится и все стихотворение: первые четыре строки — звуковая картинка стрекочущего в траве кузнечика, осторожное ощупывание его cyxoгo, хрупкого, колкого тельца сквозь запутывающуюся траву, последние четыре строки — прыжки, две строки посередине — момент затишья, мысли о небесной истине.
А вот и прямо стихотворение о слове, стихотворение, откровенно вышедшее из слова, — «Невозможно» Анненского:
Есть слова — их дыханье, что цвет,
Так же нежно и бело-тревожно,
Но меж них ни печальнее нет,
Ни нежнее тебя, невозможно.
Не познав, я в тебе уж любил
Эти в бархат ушедшие звуки:
Мне являлись мерцанья могил
И сквозь сумрак белевшие руки.
Но лишь в белом венце хризантем,
Перед первой угрозой забвенья,
Этих ве, этих зэ, этих эм
Различить я сумел дуновенья.
…………………………….
Лотман пишет:
"Рассмотрение вопросов структуры стиха убеждает нас, что слова Брюсова: "Стихи пишутся затем, чтобы сказать больше, чем можно в прозе", — не только удачное по форме изречение, но и точное определение телеологии поэтического текста. Усложненность поэтического текста — не внешнее украшение, а средство создать модель наиболее сложных жизненных явлений и знак для передачи сведений об этой модели слушателям. Слова А.Потебни о том, что целое художественное произведение в известном смысле может быть приравнено к слову, представляются нам чрезвычайно глубоким прозрением в знаковую природу поэзии".
Собственно говоря, если бы это было не так, если и стихотворение, как было уже сказано о картине, не является окном и не больше самого себя, то прав Смердяков из романа Достоевского «Братья Карамазовы» (а его позиция умней и принципиальнее позиции его собеседницы — да и позиции многих людей, которые об этом вообще не задумываются):
« — Стихи вздор-с, — отрезал Смердяков.
— Ах нет, я очень стишок люблю.
— Это чтобы стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами: кто же на свете в рифму говорит? И если бы мы стали все в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы насказали-с? Стихи не дело, Марья Кондратьевна.»
Лотман продолжает (возражая Смердякову):
"Переходя к знаку в искусстве, мы сразу же сталкиваемся с неожиданными вещами. Для любой семиотической системы знак (единство обозначающего и обозначаемого), сочетаясь по законам синтагматики с другими знаками, образует текст. В противоположность этому, в искусстве обозначаемое (содержание) передается всей моделирующей структурой произведения, т. е. текст становится знаком, а составляющие текст единицы — слова, которые в языке выступают как самостоятельные знаки, — в поэзии (в литературе вообще) становятся элементами знака".
Слово в поэтическом тексте подобно герою сказки, которого разрубают на мелкие кусочки, а затем, спрыснув сначала мертвой, а потом живой водою, воскрешают (при этом он обретает молодость и новую силу). Иначе говоря, слово в художественном тексте проходит через обряд посвящения, в результате чего все слова текста обретают лица, "требуют тела", становятся именами собственными, потому что они рождаются заново и употребляются впервые. Лотман пишет:
"...звуковая организация стиха довершает размельчение словесных единств на отдельные фонемы. Таким образом, может показаться, что сумма структурных граней стиха раздробляет составляющие стих слова на фонологические единицы, превращает стих в звукоряд. Но в том-то и дело, что все это представляет собой только одну сторону процесса, которая существует лишь в единстве с противонаправленной ей второй.
Специфика структуры стиха состоит, в частности, в следующем: поток речевых сигналов, будучи раздроблен на фонологически элементарные частицы, не утрачивает связи с лексическим значением; слова уничтожаются и не уничтожаются в одно и то же время.
Любое расчленение стиха не приводит к разрушению составляющих его слов. Разнообразные ритмические границы накладываются на слово, дробят его, но не раздробляют. Слово оказывается раздробленным на единицы и вновь сложенным из этих единиц".
Стихотворение есть единое слово, все слова в нем раздробляются и сливаются в одно. При этом в каждом из слов отражаются все остальные слова стихотворения. Поэтому каждое слово стихотворения само является стихотворением.
Мандельштам в "Разговоре о Данте" пишет:
"Всякий период стихотворной речи — будь то строчка, строфа или цельная композиция лирическая — необходимо рассматривать как единое слово. Когда мы произносим, например, "солнце", мы не выбрасываем из себя готового смысла, — это был бы семантический выкидыш, — но переживаем своеобразный цикл.
Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Произнося "солнце", мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что едем во сне. Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что гoворить — значит всегда находиться в дороге".
Попробуем "встряхнуться" на середине слова, попробуем посмотреть на него как бы при помощи замедленной съемки. Возьмем, например, слово "холод". В этом слове до нас сначала доносится дуновение ветра, потом мы ощущаем его ледяное прикосновение, потом дрожим и, наконец, окончательно деревенеем. Если мы что-либо переставим, то слово "холод" перестанет звучать холодно: "лоход", "долох", "лодох", "охлод"... Мы это сразу слышим, а если присмотримся, то и поймем почему: не может, например, сначала наступить одеревенение, а потом лишь налететь ветер. Есть, правда, Долохов (в этой фамилии персонажа "Войны и мира" слово "холод" оказывается перевернутым, прочитанным справа налево), но здесь слышится не замерзающий человек, а человек, "излучающий" холод.
Флоренский в работе "Магичность слова" замечает, что слова кажутся нам миниатюрными лишь по своей кратковременности, но при растяжении времени, например, приемом гашиша, превращаются в сложные музыкальные произведения, в сложное целое.
Человек сочинил слова так же, как поэт сочиняет стихи, то есть вдохновенно, в мгновение встречи с "родимым, солнечным, сонным, нетутошним миром". Каждое слово есть на самом деле "нездешнее слово".
Бубер в книге "Я и Ты" пишет:
"В начале было отношение. Возьмите язык "дикарей", т.е. тех народов, чей мир еще беден объектами и чья жизнь строится в тесном кругу действий, насыщенных присутствием. Ядра их языка — слова-предложения, первичные дограмматические конструкции, из расщепления которых возникает все многообразие грамматических форм, — чаще всего выражают цельность отношения. Мы говорим: "Очень далеко"; зулус скажет вместо этого слово-предложение, которое значит: "Там, где кто-то кричит: "Ой, мама, я пропал"", а житель Огненной Земли посрамит нашу аналитическую премудрость семисложным словом, точный смысл которого — "глядят друг на друга, ожидая, что другой вызовется сделать то, чего оба хотят, но не могут сделать". Здесь в целостности отношения нерасчлененно присутствуют и лица — будущие существительные и местоимения; они пока лишь намечены и не обладают полной самостоятельностью. Смысл речи составляют не эти продукты анализа и размышления, а подлинное первичное единство, переживаемое отношение.
При встрече мы приветствуем человека, желая ему благополучия, уверяя его в своей преданности или поручая его Богу. Но как мало непосредственности в этих стершихся формулах (улавливается ли хоть что-нибудь в "Хайль!" от первоначального наделения властью?) в сравнении с не теряющим свежести телесным приветствием кафров: "Я тебя вижу!" или с его забавным и возвышенным американским вариантом: "Услышь мой запах!"
Можно предположить, что понятия и связи, да и сами представления о лицах и вещах, выделились из представлений о таких событиях и состояниях, которые имели характер отношений. Стихийные впечатления и волнения, пробуждающие дух "первобытного человека", вызываются событиями-отношениями — переживанием того, что предстает перед ним, и состояниями-отношениями — жизнью с тем, что предстает перед ним. О луне, которую он видит каждую ночь, он не составляет себе никаких идей, пока она, во сне или наяву, не предстанет ему телесно, приблизившись своими беззвучными движениями, околдует его, очарует своими касаниями, навлекая на него худое или доброе. Вначале он не сохраняет в себе даже оптического представления о блуждающем световом диске или о демоническом существе, как-то связанном с этим диском, а создает лишь динамический, пронизывающий тело, волнующий образ лунного воздействия, из которого лишь постепенно выделяется персональный образ — лик луны: тогда воспоминание о том неведомом, что воспринималось еженощно, разгорается в представлении о виновнике и носителе этого воздействия, и возникает возможность его объективирования, превращения первоначально непознаваемого, но лишь переживаемого Ты в Он или Она".
Все это очень похоже на опыт Даниила Андреева или же на то, как поэт пишет стихотворение.
Сопоставим и с детским восприятием речи. Флоренский в книге воспоминаний "Детям моим" пишет:
"Но я любил также, присевши на сундук в полутемной маленькой комнате, когда мама с няней купала одну из моих сестер, завести — сперва нечто вроде разговора на странном языке из звучных слов, пересыпанных бессмысленными, но звучными сочетаниями слогов, потом, воодушевясь, начать этого рода мелодекламацию и, наконец, в полном самозабвении, перейти к глоссолалии, с чувством уверенности, что самый звук, мною издаваемый, сам по себе выражает прикосновение мое к далекому, изысканно-изящному экзотическому миру и что все присутствующие не могут этого не чувствовать. Я кончал свои речи вместе с окончанием купанья, но обессиленный бывшим подъемом. Звуки пьянили меня".
Итак, можно предположить, что язык начинался со "слов-предложений", "целых аккордов фонетических созвучий и значений", "цельных композиций лирических", в которых отдельные слова существовали лишь как "те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине". Иными словами, стихотворение "Кузнечик дорогой..." первично, а само слово "кузнечик" вторично, это как бы извлечение из стихотворения, его конспект.
Представим себе следующую картину: первобытный человек вышел утром из пещеры подышать свежим воздухом и, вернувшись, рассказывает соплеменникам о погоде. Слова "холодно", допустим, еще нет, не существует в своей нынешней краткой форме, еще не сложилось, не застыло. И вот он начинает дуть (изображая ветер): хооо…хоо…, дрожать, показывая на разные части тела: ллл…, стучать зубами: ддд… Были, конечно, при этои и другие звуки и жесты. Может быть, на произнесение такого слова уходило несколько минут. Это была целая музыкальная картина, целое художественное произведение. Это был процесс творчества, создание слова-стихотворения, единственного в своем роде, не предназначенного для повторных употреблений, передающего только вот этот холод вот в этой ситуации общения — то есть имени собственного.
Леви-Брюль в книге "Первобытное мышление" пишет:
"Так, в Лаонго "каждый пользуется речью на свой лад, вернее, из уст каждого речь выходит по-разному, смотря по обстоятельствам и по расположению говорящего. Это пользование речью столь же свободно и естественно, как (я не знаю лучшего сравнения) звуки, издаваемые птицами". Иначе говоря, слова не являются здесь чем-то застывшим и установленным раз и навсегда, напротив, голосовой жест описывает, рисует, графически выражает, так же как и жест рук, действие или объект, о котором идет речь".
"Этой же тенденцией объясняется такое поразительное обилие собственных имен, даваемых отдельным предметам, в особенности всем мельчайшим подробностям поверхности земли. В Новой Зеландии у маори каждая вещь имеет свое имя (собственное). Их жилища, их челноки, их оружие, даже их одежда — все это получает особые имена... Их земли и дороги — все имеют свои названия, побережья всех островов, лошади, коровы, свиньи, даже деревья... скалы и источники. Пойдите куда вам угодно, заберитесь в самую, казалось бы, безводную пустыню и спросите, имеет ли это место имя, — в ответ любой туземец данной местности сейчас же сообщит вам его название".
В Южной Австралии "каждая горная цепь имеет свое имя, точно так же имеет свое название и каждая гора, так что туземцы всегда точно могут сказать, к какой горе или к какому холму они направляются. Я собрал больше 200 названий для гор в австралийских Альпах... точно так же и каждый поворот реки Муррей имеет свое название". "У туземцев Западной Австралии имеют названия все замеченные звезды, все естественные изменения формы поверхности земли, каждое возвышение, болото, извилина реки и т.д., но нет названия для самой реки. Наконец, чтобы не продолжать это перечисление, укажем, что в области Замбези каждый холмик, каждая возвышенность, каждая гора, каждая вершина в горной цепи имеют свое название. То же для каждой речки, долины, равнины. На деле каждая часть страны, каждое изменение ее поверхности обозначается в таком количестве специальными названиями, что потребовалась бы целая человеческая жизнь для того, чтобы расшифровать их смысл".
Итак, язык первобытного человека, так же как и язык искусства, есть "мир собственных имен".
Если прислушаться к нашим маленьким, отдельным словам, к именам нарицательным, то и в них есть "динамический образ, пронизывающий тело": "луна", "холод", "кузнечик"... Вслушиваясь в них, мы можем на миг превратиться в первобытного человека, говорящего эти слова впервые.
Каждое слово представляет собой маленькое стихотворение. Слово не является условным знаком, звучание которого безразлично для смысла. Люди не просто условились, что бабочка будет обозначаться словом "'бабочка", а ветер — словом "ветер". Это мы слышим. Мы чувствуем, что люди не могли, например, условиться так, чтобы бабочка обозначалась словом "ветер", а ветер — словом "бабочка". И дело здесь не только в нашей привычке. Точно так же не могут обменяться смыслами слова "холод" и "жар", "тихий" и "громкий", "легкий" и "тяжелый", "пушинка" и "камень", "взлететь" и "упасть", "пощечина" и "поцелуй"…
Сократ (в платоновском диалоге "Кратил") отрицает мнение, "что-де имена — это результат договора и для договорившихся они выражают заранее известные им вещи, и в том-то и состоит правильность имен — в договоре, — и безразлично, договорится ли кто-то назвать вещи так, как это было до сих пор, или наоборот: например, то, что теперь называется малым, он договорится звать великим, а что теперь великим — малым". На Сократа вдруг нисходит вдохновение — "рой мудрости". И он говорит, что как ткачу для каждого отдельного вида ткани нужен особый челнок, соответствующий природе ткани, так для каждого предмета или явления нужна особая звуковая композиция. Так, например, "буква ро соответствует порыву, движению и в то же время твердости". От этого первоначального звука родится пучок "однокоренных" слов: "рэин" — "течь", "роэ" — "стремнина", "тромос" — "трепет", "трахюс" — "обрывистый", "круэйн" — "ударять", "трауэйн" — "крушить", "эрэйкэйн" — "рвать", "трюптэйн" — "рыть", "кэрматидзэйн" — "дробить", "рюмбэйн" — "вертеть" — "все они очень выразительны благодаря ро".
В соответствующих русских словах, кстати сказать, этот звук также присутствует. Исключение составляет слово "течь". Просто наше "течь" не так интенсивно, здесь ведь не греческая горная речка. Но и от него можно перекинуть мостик к ро через слова "журчать", "ручей".
Вслушиваясь в приведенные выше греческие слова, мы чувствуем, что нельзя, например, поменять значения у "рэин", "эрэйкэйн", "кэрматидзэйн", не разрушив "динамический образ" слова.
Однако слово не является просто живописным звукоподражанием. Если бы задачей слова было точное изображение предмета, то идеальным словом был бы точный двойник предмета, как говорит об этом Сократ Кратилу:
"Будут ли это разные вещи — Кратил и изображение Кратила, если кто-либо из богов воспроизведет не только цвет и очертания твоего тела, как это делают живописцы, но и все, что внутри, — воссоздаст мягкость и теплоту, движения, твою душу и разум — одним словом, сделает все, как у тебя, и поставит это произведение рядом с тобой, будет ли это Кратил и изображение Кратила, или это будут два Кратила? .. И не настаивай на том, что имя должно иметь лишь такие звуки, какие делали бы его полностью тождественным вещи, которой оно присвоено".
Затем Сократ говорит, что имя отличается от именуемогo своим несовершенством ("Допусти, что и какая-то неподходящая буква может тут быть добавлена"). Но тогда и о картине можно было бы сказать, что от действительности ее отличает лишь несовершенство.
Слово "бабочка" — это не звукоподражание бабочке, это стихотворение о бабочке. Если бы в слове была лишь "живописность", то оно звучало бы одинаково на всех языках. На самом же деле каждый народ создает свое стихотворение о бабочке, в котором не только отражает бабочку, но и выражает свой характер: "фарфалья" (итальянский), "папийон" (французский), "шметерлинг" (немецкий), "парпар" (иврит)... В каждом языке бабочка порхает по-своему, это как бы разные бабочки.
В романе Набокова "Дар" поэт думает о своем воображаемом рецензенте:
"Неужели он действительно все понял в них; понял, что кроме пресловутой "живописности" есть в них еще тот особый поэтический смысл (когда за разум зашедший ум возвращается с музыкой), который один выводит стихи в люди? Читал ли он их по скважинам, как надобно читать стихи?"
Слово — не знак и не звукоподражание, слово — "динамический образ", "метод концентрации" (Флоренский), через который осуществляется встреча с Ликом, с Духом, просвечивающим через соответствующее явление. Встреча, соединение осуществляется ритмически, поэтому слово, подобно стихотворению, обладает ритмом, и не просто ритмом, а художественно законченным ритмом. (Мы видели это на примере слов "кузнечик" и "холод").
В каждом слове есть то же погружение вглубь, к диафрагме, а затем всплывание на поверхность, что и в любом стихотворении, в любом произведении искусства. Прислушайтесь: "Лиурна". Мы как бы поглощаем, а затем извергаем называемое. Или наоборот, ритм слова можно ощутить как бумеранг, который мы бросаем и который к нам возвращается. В любом случае Я соединяется, роднится с не-Я. Каждое слово — миниатюрный обряд посвящения.
Новалис в повести "Ученики в Саисе" пишет:
"Преимущественно же влек их к себе тот священный язык, который сияющим мостом соединял тех царственных людей с неземными краями и их жителями и кое-какими словами которого, согласно самым разным преданиям, владели еще некоторые счастливые мудрецы из наших предков. Его звучание было чудесным пением, неотразимые тона глубоко проникали внутрь каждой природы и расчленяли ее. Каждое из его имен было как бы словом-разгадкой для души каждого природного тела. Творческой властью этих ритмических колебаний пробуждались все образы мировых явлений, и о них можно было по праву утверждать, что жизнь вселенной — это вечный тысячеголосый разговор, так как в их речи все силы, все виды деятельности казались непостижимым образом соединенными".
Не идеализируем ли мы реальное положение дел, когда говорим о слове как о "динамическом образе", "слове-разгадке"? Не говорим ли мы лишь о священном языке золотого века?
А.Н. Афанасьев в статье "Происхождение мифа" пишет, что "в жизни языка, относительно его организма, наука различает два различные периода: период его образования, постепенного сложения (развития форм) и период упадка и расчленения (превращений)":
"Более и более удаляясь от первоначальных впечатлений и стараясь удовлетворить вновь возникающим умственным потребностям, народ обнаруживает стремление обратить созданный им язык в твердо установившееся орудие для передачи собственных мыслей. А это становится возможным только тогда, когда самый слух утрачивает свою излишнюю чуткость к произносимым звукам, когда силою долговременного употребления, силою привычки слово теряет наконец свой исконный живописующий характер и с высоты поэтического, картинного изображения нисходит на степень абстрактного наименования — делается не чем более, как фонетическим знаком для указания на известный предмет или явление, в его полном объеме, без исключительного отношения к тому или другому признаку. Забвение корня в сознании народном отнимает у всех образовавшихся oт него слов их естественную основу, лишает их почвы, а без этого память уже бессильна удержать все обилие словозначений, вместе с этим связь отдельных представлений, державшаяся на родстве корней, становится недоступною".
Но если так, то в период "расчленения" невозможна поэзия. Особенно в таких языках, как, например, английский. Ведь это язык с сильно нарушенной, затемненной корневой связью, куда ему до прозрачности латыни! Более того, само заблудившееся, обессмыслившееся звучание слов должно было бы превратить английскую речь в нечто уродливое, в сплошную какофонию. На самом же деле мы слышим нечто живое, органичное. Почему?
В основе слова "бык" — звукоподражание "бу" или "му". В соответствующем греческом слове "бус" оно еще ясно слышно. Но в русском языке мы уже не ощущаем связи между "бык" и "мычать" (первоначально "букати"). Слово заблудилось. Но оно не пропадет. Во-первых, слово "бык" обладает собственной, независимой "живописующей" природой, поскольку звук Ы надувает ему бока, а звук К придает упор копытам. Вообще же, если "бус" вытягивает шею и мычит, то "бык" напряженно упирается копытами и наклоняет рога. Во-вторых, как нетрудно заметить по предыдущему описанию, "бык" обрел новые "однокоренные" слова: "бок", "копыто". Он снова в стаде.
Подобным образом язык "переваривает" и проникающие в него чужие слова. Так, например, во время Отечественной войны 1812 года слово "мародеры" народ переиначил в "миродеры", а в наше время французское слово "нувориши" ("новые богатые") многими воспринимается как "навориши" (здесь и "воришки", и "навар"). Но заимствованные слова становятся русскими и без изменения их звучания. Вот как (по опыту, проведенному с детьми) воспринимается, например, слово "метро": М — замедляя движение, подходит поезд; Е — потоки воздуха, рассекаемые поездом, обтекающие его; ТР — одновременно и торможение, и последующий разгон, рев удаляющегося поезда; О — поезд уходит в туннель, остается поток воздуха. Так слово "метро" включается в звуковую и смысловую ткань русского языка, аукается с другими словами.
К так называемой ложной этимологии (в данном случае лучше сказать: к живой этимологии) стремится и обыденная, "мирская" речь. Не случайно, например, Платон Каратаев в "Войне и мире", из которого "слова и действия выливались... так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка", утешая Пьера, говорит: "Не тужи, дружок"; или тут же, лаская собаку: "Ишь, шельма, пришла!"
По принципу "ложной этимологии" строится не только художественная речь, но и культура в целом. Так, например, в египетском языке встретились слова "ромет" и "ремит" — "человек" и "слеза", образовав миф о возникновении людей из слез. Вряд ли это можно назвать случайным или ложным. Созвучие этих слов так же не случайно, как созвучие слов "слезы людские" в стихотворении Тютчева, которые отражаются друг в друге, как в зеркале. "Ложной этимологией" занимается сам Бог. Так, например, Аврам ("великий отец") был переименован в Авраама ("отец многих"). Что здесь первично, что вторично? Откуда вести отсчет?
Этимология — это связь слов не только в прошлом, но и в настоящем и в будущем, это действующий вулкан.
Мандельштам в "Заметках о поэзии" пишет, что "изобразил бы отрицательный и положительный полюсы в состоянии поэтического языка как буйное морфологическое цветение и отвердение морфологической лавы под смысловой корой. Поэтическую речь живит блуждающий, многоосмысленный корень".
Русский литературный язык к концу XIX века окончательно сложился и начал застывать. И вот в начале ХХ века кучка поэтов пытается совершить языковой путч, взорвать этот лед. Начинается "борьба русской, то есть мирской бесписьменной речи, домашнего корнесловья, языка мирян, с письменной речью монахов, с церковнославянской, враждебной, византийской грамотой" (Мандельштам). Поэты хотят выпустить муху из затянувшего ее янтаря. Они возвращают звуку автономию, Хлебников, например, пытается для каждого звука установить присущий ему жест, как бы соответствующую фигуру танца. Звук В спиралью заворачивается внутрь, что слышно в словах "вить", "вертеть", "вьюга", в самих словах "внутрь" и "заворачивается". Буква В также изображает это движение. Так совпадают дух и буква. "Так мог бы и должен был бы развиваться язык-праведник, не обремененный и не оскверненный историческими невзгодами и насилиями", — замечает Мандельштам об опытах Хлебникова. Так же он отзывается и о Пастернаке:
"Да, поэзия Пастернака — прямое токование (глухарь на току, соловей по весне), прямое следствие особого физиологического устройства горла, такая же родовая примета, как оперенье, как птичий хохолок.
Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок...
Стихи Пастернака почитать — горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть целебны для туберкулеза. У нас сейчас нет более здоровой поэзии. Это — кумыс после американского молока.
Книга Пастернака "Сестра моя жизнь" представляется мне сборником прекрасных упражнений дыханья: каждый раз голос становится по-новому, каждый раз иначе регулируется мощный дыхательный аппарат. <...>
Так, размахивая руками, бормоча, плетется поэзия, пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и все-таки единственная трезвая, единственная проснувшаяся из всего, что есть в мире".
Лед тронулся, и слова, как сдавленные льдинки, прихотливо отражаются друг в друге ("сдавленных льдинок": ДЛ — ЛД). Слова размножаются делением, разворачиваются: из слова "лист" выскакивают и "лед", и "свист", и "сдавленный", и "налившийся", и "соловей". Вот оно, "домашнее корнесловье".
Так и у Набокова в рассказе "Музыка":
"Вот тоже интересное слово: конец. Вроде коня и гонца в одном. Облако пыли, ужасная весть".
На самом деле, языку нужны оба полюса — как прозрачность, корневая связанность слов, так и непрозрачность, забвение этих связей. Если не будет непрозрачного, темного, тяжелого, бессмысленного, то в чем же будет подвиг искусства? Из чего создавать новые, неожиданные связи? Чтобы что-нибудь строить, нужны свободные кубики. Там, где все прозрачно и ясно, делать больше нечего. Гадание невозможно. Иными словами, непрозрачное нужно художнику как материал. (При этом художником выступает любой говорящий — например, Платон Каратаев.)
Мартин Бубер пишет, что в истории чередуются эпохи мифологического, динамического мировосприятия (эпохи Ты) и эпохи немифологического, объективированного, статического мировосприятия (эпохи Оно). В истории языка также чередуются эпохи Ты и Оно, эпохи "живого слова" и эпохи "авторитетного слова" (Бубер). На рубеже XIX и XX веков наступает эпоха Ты. Происходит встреча, просвечивает Лик. Происходит обновление языка, как бы его новое сотворение. Язык проходит через обряд посвящения. Он на какое-то мгновение вновь становится художественным, поэтическим (неслучайна ориентация этого времени на поэзию). Язык как нечто уже давно сложившееся, устоявшееся, как эргон ("оконченное дело, сделанная вещь") при этом не разрушается (за исключением маргинальных опытов дадаистов или футуристов). Новый язык, энергейа ("деятельность, жизнь") проступает сквозь него, "не нарушив, но исполнив".
Набоков в романе "Дар" пишет:
"Вообще смирным играм мы с Таней предпочитали потные, — беготню, прятки, сражения. Как удивительно такие слова, как "сражение" и "ружейный", передают звук нажима при вдвигании в ружье крашеной палочки (лишенной, для пущей язвительности, гуттаперчевой присоски), которая затем, с треском попадая в золотую жесть кирасы (следует представить себе помесь кирасира и краснокожего), производила почетную выбоинку.
И снова заряжаешь ствол,
до дна, со скрежетом пружинным
в упругий вдавливая пол,
и видишь, притаясь за дверью,
как в зеркале стоит другой —
и дыбом радужные перья
из-за повязки головной".
То, что Набоков смотрит на мир глазами ребенка и поэта, является не только особенностью его личной поэтики, но и особенностью его эпохи — эпохи новой молодости культуры.
Проза Набокова все время подпрыгивает, налету превращаясь в поэзию, неожиданно сгущаясь: "И сыро блестел свежеполитый гравий", "Жмурясь, пожирала прыщущий персик", "Удовлетворяясь лепетом маленького умывальника", "По газону среди маргариток разгуливали, гулюкая, голуби" ... Смысл становится неотделим от звучания: "отбросы бреда, шваль кошмаров", "призрак прозрачной прозы", "груз и угроза счастья", "А странно — "отчизна" и "признан" опять вместе, и там что-то упорно звенит".
Это звенит "динамический образ", "архисема", развернутое имя, стремящееся воплотиться. А. Ф. Лосев в книге "Диалектика мифа" пишет, что "миф — это развернутое магическое имя". Рассмотрим еще один пример — из прозы рубежа веков.
В словосочетании "антоновские яблоки" слышно, как они раскатываются с постепенно затихающим подпрыгиванием. "Антоновские яблоки" — вот слово, развернутое в одноименном рассказе Бунина:
"Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег..."
Это легко можно проследить, подчеркивая соответствующие звуки. Но и так в каждом предложении рассказа слышен хруст яблока, что-то вроде "хрум-хрум".
Здесь не "мастерство писателя", не фокус стилиста (какой чудовищно скучной и вряд ли вообще выполнимой задачей был бы подобный подбор звуков!), здесь миф, чудо.
Все, что есть в рассказе, похоже на антоновские яблоки. Жизнь в целом предстает как антоновское яблоко, в котором есть и зарождение — созревание — смерть, и сферичность как знак совершенства, полноты, чрева, беременности, женственности, и сходство с планетой, звездой, светом, колесом судьбы (сравните с песенкой "Эх, яблочко, куда ты котишься?", где, кстати сказать, грамматическая "ошибка" служит новой, поэтической связи слов, подчеркивая неотвратимость движения).
"Антоновские яблоки" — круглый, гармонический звук, отзвук райского сада.
Весь рассказ Бунина порождается этим открывшимся ему мифом. Здесь и сбор урожая, и смена поколений, и праздник, и девки в красных уборах, и беременная старостиха, и переборы тульской гармоники, и костер в темном саду, и падающие звезды, и громыхание поезда, постепенно стихающее, глохнущее, уходящее под землю, и выстрел, "бодрое эхо" которого "кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе", и плывущая под ногами земля...
Все причастно к антоновским яблокам: от имен (например, Платон Аполлоныч) и "покатившейся куда-то вдаль" охоты — до приготовления к смерти:
"А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и саван, — отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям".
С каким аппетитом это сказано!
Из яблока рождаются и книги:
"Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги, — дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках. Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами...<...> Потом наткнешься на "сатирические и философские сочинения господина Вольтера" и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: "Государи мои! Эразм сочинил в шестомнадесять столетии похвалу дурачеству (манерная пауза, — точка с запятою); вы же приказываете мне превознесть разум...""
Прислушайтесь к этому "в шестомнадесять столетии" — и вы услышите: "антоновские".
Слово "яблоко" можно разобрать и так: я — блеск, боль, благо — око. Это глаз, вторгающийся в нас, как хирургический скальпель. Рильке в стихотворении "Архаический торс Аполлона" говорит:
"Нам осталась неведомой его невероятная глава с зреющими в ней глазными яблоками. Но его торс еще раскален, подобно канделябру, и его зрение, лишь заключенное внутрь, держится и сияет в нем. Иначе бы тебя не могла ослепить его грудь, подобная носу корабля, и в легком повороте чресел улыбка не могла бы сойти к той середине, что дарила зачатие. Иначе бы этот камень стоял безобразным обрубком под прозрачной перемычкой плеч и не сверкал бы, как шкура хищника; и не вырывался бы из всех своих граней, как звезда: ведь здесь нет ни единого места, которое бы тебя не видело.
Ты должен изменить свою жизнь".
1983-95гг.
Послесловие-резюме
Есть много свидетельств о том, как человек, находясь в материальном мире, получает знаки извне. Причем может получать некую весть не прямо через представшего перед ним ангела, а через определенную комбинацию, состоящую из элементов того самого материального мира, в котором он находится. На этом, конечно, строятся всякие суеверия (кошка дорогу перебежала и т. п.). Но суеверие закрепляет какой-либо элемент материального мира раз и навсегда, без соотношения с другими элементами и с ситуацией, в которой находится конкретный человек. А знак может быть составлен из чего угодно, это может быть повторение или сочетание каких-либо элементов во времени или в пространстве, которое складывается таким образом в безмолвное, тайное сообщение, имеющее смысл, — в знак, в намек — и обращено именно и только к данному конкретному человеку и только в данный момент времени и пространства. Многие это знают по себе, этому много свидетельств в художественной литературе. Так это или нет — человек устроен таким образом, что даже разводы на потолке могут в его видении складываться в осмысленную картину. А раз он так устроен, то он так и живет: он ориентируется — по большей части неосознанно — на эти знаки, идет на этот тайный голос или тайный свет, как завороженный, предчувствуя там смысл, интерес, счастье.
Поможем себе образами: перед вами стена — и вдруг в ней вырисовывается лицо. Или: темнота — и в ней загорается свет. Или: из бездны морской поднимается огненный шар солнца. Или: хаос и творение. Или: безмолвие и звук. Или: Инь и Ян (темное/женское и мужское/светлое начала в китайской мифологии).
Человек идет к этому лицу в стене, надеясь преодолеть стену, идет в темноте к свету, ныряет в воду, ища опору. Речь идет не только об отношении человека к внешнему миру, он сам так устроен, таков его организм. Ведь аналогичные архетипические вещи происходят и в ряде сновидений, и в состоянии клинической смерти, могут происходить в медитации. Человек в этих состояниях спускается сам в себя по своему позвоночнику, по своему спинному мозгу, как сквозь туннель, от головы к чреву, ныряет сам в себя — и встречает свет. Поэтому и для этого в примитивных обществах проводился страшный и часто жестокий обряд посвящения (с нередким использованием и наркотических средств), целью которого было приближение человека (мальчика, подростка) к состоянию клинической смерти. Идеологией обряда и было то, что подросток должен умереть и заново родиться. Человек попадает в чрево мифического животного, погибает, расчленяется, растворяется, а затем выходит на свет, рождается заново. Обряд этот, как правило, и внешне воспроизводил архетипическую картину пути: мальчиков, например, заставляли пролезать сквозь вырытый туннель, символизирующий чрево какого-либо зверя, или рыбы, или дракона, временно ослепляли, как бы расчленяли (отрезали, например, палец, выбивали зуб) и т. п. Пройдя испытание, человек научался видеть знаки во внешнем мире. (В этом и был смысл обряда, пока он был неформальным.) И тогда человек был готов для того, чтобы ему рассказали мифы и обучили разным конкретным обрядам — то есть, к тому, чтобы познакомиться с духами и богами (которых он уже научился видеть в результате обряда) и научиться с ними обходиться — с пользой для дела и соблюдая технику безопасности. После чего он уже был не мальчик, а охотник — и мог действовать в мире, следуя знакам. Например, дух леса помогал теперь ему охотиться. Человек вступал в брак, в половую связь с миром (обряд посвящения — это и символический половой акт: погружение в женское начало и зачатие самого себя — с целью нового рождения). Это вхождение Ян в Инь с целью возрождения и преображения Ян. Не случайно и этот зовущий облик, вырисовывавшийся перед человеком из элементов внешнего мира, часто женственен (примеры вы видели в книге).
Итак, человек живет, идя к лицу в стене, — и делает это, погружаясь в самого себя. Одно действие протекает одновременно в двух планах: в мире — между миром и человеком (от человека к миру и от мира к человеку) — и внутри человека, человеческого организма (сверху вниз и снизу вверх).
Если человеку свойственно воспринимать мир как пульсацию светлого и темного начал (эти определения не имеют оценочного значения: ночь ничем не хуже дня, мужчина ничем не лучше женщины, вода так же важна, как и огонь), то он и в истории действует, живет соответственно, то и история человечества несет в себе эту пульсацию. Китайские философы говорили об этом колебании между Инь и Ян в истории, сравнивая историю с движением гусеницы (которая то собирается, то растягивается). Интересно на примере какого-либо исторического момента рассмотреть, в чем и как это проявляется — например, переход от эпохи Инь к эпохе Ян, от ночной эпохи — к дневной, от эпохи угасания к эпохе импульса. А проявляется это во всем, на всех уровнях жизни, не только в политике (политика — самое внешнее проявление истории), но прежде всего в том, как люди видят мир и как они действуют в нем. Я взял для примера весьма модное время — рубеж XIX и XX веков (оно не случайно модное, оно действительно установочное и духовно близкое нам) — и постарался показать это на поэтике. Ведь в поэтике как раз и проявляется лучше всего, как люди видели мир и как они творили, то есть как они в нем действовали.
Итак, не только человек живет, идя к лицу в стене, так же живет и человечество на своем историческом пути. В истории сменяют друг друга периоды расширения, рефлексии (когда гусеница уже растянулась) и периоды сужения, импульса (когда гусеница собрана — и начинает растягиваться), ночные и дневные эпохи, образуя любовный ритм.
Об этом — первые две части книги («Цветочный путь» и «Чет и нечет»). Третья часть (собственно «Портрет слова») — о том же, только в аспекте слова. Каждое слово не есть случайный, произвольный знак, прикрепленный к вещи или явлению, и не есть звукоподражательная картинка вещи или явления, а представляет собой миниатюрную ритмическую структуру, как бы миниатюрное художественное произведение, очень маленькое стихотворение о предмете или явлении. Слово не всегда было таким маленьким, сначала оно было больше и менее фиксированным, жестким в наборе звуков. Оно было сначала аморфной речью (или большим аморфным словом), и только потом, постепенно распалось на отдельные установившиеся слова. Слово является ритмической структурой, которая позволяет человеку не просто протоколировать предметы и явления, но и взамодействовать с миром. Это не ярлыки, слова скорее можно сравнить с щипцами, сачками, баграми или еще какими-либо инструментами охоты. (Отсюда первобытная вера в магичность слова.)
И жизнь отдельного человека, и движение истории, и слово развиваются и пульсируют по законам художественного произведения — с его значимыми повторами и комбинациями, то есть, с его ритмом. То есть, с его смыслом. А иначе было бы неинтересно.
И.Ф., июль 2007 года
Илья Франк
КРЕСТ и КРУГ
1985 — 2008
* * * * * *
Когда подступит смерть, как ветер
С горчащим привкусом травы,
Вдруг, забывая все на свете,
Ты вспомнишь кружево листвы,
Увидишь: лиственные тени
Живой пронизывает свет...
Спроси о смерти у растений —
Они зашелестят в ответ.
* * * * * *
Бабочкой лети, стихотворенье,
Над крапивой, розой, ежевикой,
Каждый миг меняя направленье, —
Беззаботной, легкой, многоликой.
Я бы тоже так хотел кружиться
Над бедой, любовью и судьбою,
В сторону порхнуть и с жизнью слиться —
Золотой, зеленой, голубою.
* * * * * *
Сухим песком проскальзывает день
И сыплется в стеклянную воронку...
И вечер пробирается сторонкой,
И ветер ночью тянет канитель.
А на рассвете листьев бьет прибой
В твой хрупкий сон, и ты боишься сглаза,
Когда глядит пространство желтым глазом
И птичий мир хохочет над тобой.
* * * * * *
О мастер в живопистве первой,
………………………………
Изобрази Россию мне...
М. Ломоносов
Жена! что ты плачешь? кого ищешь?
Евангелие от Иоанна 20,15
Любовь и смерть стоят передо мною,
Их лица одинаково прекрасны.
Пиши, художник, кистью роковою
Портрет судьбы — императрицы страстной.
Ты у любви возьми тревогу взгляда,
В излучины бровей вложи разлуку,
Пусть держит розу — говорят, так надо,
И пусть шипы до крови ранят руку.
Возьми у смерти мертвенную бледность —
Пусть будет белым твой мазок последний,
Возьми свободу, равенство и бедность:
Все братья мы, когда она в передней.
Ведь мы в России. Положив морщины,
Смени, художник, розы на морозы,
Пиши портрет Марии Магдалины,
Спасителя не видящей сквозь слезы.
* * * * * *
Век девятнадцатый люблю я наблюдать.
Что мне в нем нравится — и сам того не знаю...
Халат. Слуга Захар. Беспечности печать.
Демьянова уха. Я чувства не скрываю.
Любовь, свобода... но: не все ли нам равно...
Приметы, Грандисон, три карты, эполеты...
Прожекты, клевету положим под сукно.
Корнеты, аксельбант, кабриолеты...
Две ножки, Скалозуб, найду ли уголок...
Поэт, не дорожи... ну, сват, как пить мы станем...
Частица бытия, побег, обитель, Бог
И холод на душе, и тем сильнее раним...
И осень я люблю, когда корабль готов,
Но плыть нам некуда. Везде есть капля блага
И темный дуб, гумно, и разговор без слов,
И гений красоты, перо, кинжал, бумага...
* * * * * *
Фонарь, аптека, рябь канала —
Все повторится вновь и вновь, —
И превратится в нить накала
Поездка в Петербург, любовь.
Laternam magicam вращая,
Мы будем видеть каждый год,
Как по кругам земного рая
Судьба двух чудаков ведет.
Ты помнишь вечер в коридоре
И отражения в воде?
Ты помнишь утреннее море
И пробуждение в нигде?
Ты помнишь за окном мерцанье
Чужих созвездий и дворов
И крошечное расстоянье
Двух слов, двух мыслей, двух миров?
И петербургскую погоду —
От холода ли эта дрожь?
Как чудом не свалились в воду,
Как вид с Исакия хорош,
Когда по лестнице кружащей
Мы вознеслись, увидев вдруг
Как на ладони, настоящей
Грядущей жизни крест и круг.
* * * * * *
Уже стемнело. Летним садом
Пройдемся мы в последний раз.
Белеют боги. Странным взглядом,
Как нищие, глядят на нас.
Давай на память. Две монетки
Исчезли в зеркале воды.
И весело шуршали ветки
За две минуты до беды.
Саврасов "Грачи прилетели"
Погода начала к весне ломаться,
Теплее стало — вот и прилетели,
И, словно дети малые, резвятся
На зимней неразобранной постели.
Земля и небо, церковь, снег и воды,
Три домика, над ними колокольня,
А за забором даль и ширь природы,
Душа глядит — и ей уже не больно.
Ей чудится возвышенная сила
В березах тонких, в очертаньи храма,
И кажется, что все в себя вместила
Какая-то невидимая рама.
То ль прилетели, то ль во сне приснились —
Постойте, колокольни, не трезвоньте! —
И словно бы нечаянно скрестились
Две веточки на темном горизонте.
* * * * * *
Мелькнет любимое лицо
В последний раз, как бы случайно, —
И сделаешься подлецом,
И нет прощенья на прощанье.
И вспомнишь 108-й псалом:
Злодея не ведут на плаху, —
Проклятье сам наденет он
И подпояшет, как рубаху.
И неожиданно поймешь
Под лампою дневного света,
Что жизнь прожитая есть ложь
И что ты поздно понял это.
* * * * * *
Пусть всё рассыпалось на части —
Заройся в осень с головой.
Забудешь хлопоты о счастье —
Услышишь ветер над листвой.
Всё кончено. Войди в осенний,
Сквозной, почти прозрачный лес,
Где пятна света, пятна тени
И жизнь протерлась до чудес.
* * * * * *
Пока все спят, душа ушла из дома,
На цыпочках, сняв туфли, не дыша,
Как женщина, сбежавшая к другому,
И не взяла с собою ни гроша.
Мы здесь живем. В шкафу стоит посуда,
А на окне — растения в горшках.
Душа уже так далеко отсюда,
Что будет взрыв — и все вернется в прах.
* * * * * *
Запах сирени, и детство, и дождь на балконе,
Скоро обедать, и Тютчев с пятном на странице…
Жизнь перешла через холм — и на западном склоне
Вспять оглянуться впервые уже не боится.
Шины как пахнут отцовского велосипеда
Слышит душа и сквозь толщу земли прозревает…
Прыгает в прыгалки девочка — дочка соседа…
Бабочка смятая из-под сачка вылетает…
Небо в сияющих лужах и мачта из спички…
Я не люблю бледнолицых, я друг краснокожих….
Сосны шумят… Возвращается к счастью привычка,
Нужно лишь вспомнить, на что это было похоже…
Восточный базар
Я в прошлое вхожу, как в крытый рынок,
Где по бокам встают былые боли
И руки тянут мне, и жуть ужимок...
Я сквозь себя иду помимо воли.
Как много здесь всего: коробки, склянки...
На разных языках зовут торговцы...
Блестят рубины — маленькие ранки...
Одежды сбились в груду, словно овцы...
И с потолка зеленые молитвы
Свисают вниз с надеждой на спасенье...
И с этим скарбом не пройти по бритве
Из вони специй — в воздух воскресенья.
Чаша
Auch auf dem vollsten Glas schwimmt noch das Blütenblatt einer Rose, und auf dem Blütenblatt haben zehntausend Engel Platz[1]
Jakob Wassermann. Der Fall Maurizius
Чаша, а над нею белый вечер,
Розы лепесток прилип к напитку,
Десять тысяч ангелов, как дети,
Встали там и спрятали улыбку.
Ночью к нам приехал дальний поезд,
Он принес из леса запах лося.
Постоял, копытом землю роя,
И с рассветом вновь уехал в росы.
А на утро ликовало море,
И сверкало весело гвоздями,
Убивая всех, кто недоволен,
С пеной на губах смеясь над нами.
Полдень был, как женщины Брюллова,
Как мускат — и солнечен, и нежен,
Мы от счастья не искали крова,
Жили жизнью, жутью — не надеждой…
* * * * * *
Двадцать первый век еще страшнее,
Только как-то менее больнее
Ощущаешь эту страшноту.
Оттого, что он ненастоящий —
Как дельфин, на берегу лежащий.
Этот век — как кислый вкус во рту.
Покарябай кожу у дельфина —
Как картон она. И вот картина:
Афродита вышла из воды.
Ну признайся, это невозможно…
Подойди, притронься осторожно —
Никого. Лишь пустота и ты.
* * * * * *
Облако тяжелое, резное
Над ковром, сплетенным из травы.
Небо голубое, неживое.
Чуть позвякивает жесть листвы.
Продолжая жесткую картину,
Взгляд стальной отметим у реки.
Ветер упирает иглы в спину,
Пляшут солнца злые огоньки.
Человек, бряцающий кимвалом,
В этой инсталляции живет.
Через ветви смотрит, как в забрало.
Только тем и мягок, что умрет.
* * * * * *
Колеблющаяся занавеска,
Комода темная громада.
Кузнечики стрекочут резко,
Их слышно хорошо из сада.
А на веранде светит солнце,
Луч косо падает на стену.
Стучат в квадратные оконца
Деревьев локти и колена.
А от калитки по тропинке
Идет ко мне навстречу мама.
И рамка на старинном снимке
Мне кажется дверною рамой.