Анна Блинова
Я тебя никогда не забуду...


Блинова А.И. Я тебя никогда не забуду... — М.: Новый Центр, 1998. — 248 с.
OCR и вычитка – Давид Титиевский, июнь 2008 г., Хайфа
Библиотека Александра Белоусенко
Свой экземпляр книги любезно предоставил нам Игорь Рейф
Предлагаемая книга адресована самому широкому кругу читателей: от подростков, только вступающих в жизнь и ищущих ответы на извечные вопросы смысла жизни, до уважаемых ветеранов, переживших грозные годы военного лихолетья. Ибо эта документальная повесть о любви, которая жива и будет жить вечно!
САМОЕ КОРОТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
Всякое свидетельство о трудностях и страшных временах нашей жизни, особенно, когда это касается отдельных людей и человеческих чувств — не столько художественная литература, сколько документальный снимок, более или менее четкий, того, какими были люди в этом времени. Это, в конце концов, частица большой общей истории.
Есть великие свидетельства, есть маленькие находки, но все они лежат в одном музее.
Сколько раз этот простой и страшный сюжет был в рассказах и на экране. Но литература как вымысел — это все-таки сказка. Конечно, важно, что за этими придуманными героями в «Журавлях». Другое — когда за этим стоит живая судьба.
Именно по этим причинам, мне кажется, грустная и светлая повесть Анны Гудзенко (Блиновой) — это частичка чего-то важного в общей копилке настоящего,
Алексей Баталов
Народный артист СССР
18 июля 1997 г.
3
ОТ АВТОРА
Книга о Коле и Ане автобиографична. И ее основные герои не напрасно названы не полными именами: они были еще очень юными.
Книга состоит из двух частей: 1. «Через, всю жизнь» и 2. «На всем белом свете ты одна мне нужна, только ты». В первой части я пишу все, что помню о Коле и о том, что с ним связано. Вторая часть — это дневник Коли с 1939 по 1941 год.
Суть в том, что дневниковые записи Коли в его сокровенной синей тетради были отрывочными и, несмотря на его заявление («синяя тетрадь только для души»), в ней на самом деле перемежались и черновые записи по алгебре, химии, истории, литературе, не имеющие прямого отношения к дневнику. Они были мной изъяты, а записи Коли я дополнила (с точностью, близкой к стенограмме) Колиными высказываниями, нашими с ним беседами, отрывками из его писем, воспоминаниями его родных и знакомых. Соавтором его дневника я могу считаться лишь по композиции, но не по содержанию и не по манере изложения: все это Колино, личное.
Фотографии... В основном они (семейные) были отданы в мое распоряжение сестрой Коли, Анной Александровной Большуновой. Главную свою фотографию, размером с открытку, подарил мне Коля в июле сорок первого года. Совсем новые
4
снимки сделал фотограф летом девяносто седьмого: это наши с Колей памятные места — переулок, где произошло первое назначенное свидание, ворота моего двора, там мы подолгу прощались июльскими вечерами сорок первого года, другие снимки.
Я давно собиралась написать эту книгу, но все медлила, откладывала, потому что знала: уйду с головой в прошлые события, а это для меня будет так больно, что, может быть, не сумею завершить повесть.
Случай приблизил начало работы над книгой.
О Коле знали многие, и в один прекрасный день, в начале 1996 года, главный редактор журнала «Отчий дом» Лидия Ивановна Ильющенко заказала мне рассказ о Коле. Страх перед этой темой, охвативший меня, сменился решимостью: возраст заставил напомнить, что жизнь идет к концу и надо поторапливаться.
Рассказ «Через всю жизнь» был опубликован в «Отчем доме» в марте 1996 года. И остановиться я уже не могла: ушедшая во времени, но так никогда и не покинувшая мою душу юность засияла с прежней яркостью. Аня снова беззаветно стремилась к Коле, красивее и добрее которого не было парня на свете, снова видела нежность в его глазах, трепет его настроений, его слезы на вокзале...
Вспомнилась во всех горестных подробностях и моя поездка в Гойтых (Гойтх) в 1965 году — где в сорок втором воевал Коля, защищая подступы к Туапсе...
...Два месяца, день за днем, осенью 1996 года я ездила в Подольск. Там в огромных корпусах размещается ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны нашей страны. Я погрузилась в изучение необъятных, потрепанных папок с ветхими страницами — приказами по ЧГВ (Черноморская группа войск, Действующая армия). Я нашла Колино имя — Николая Александровича Большунова, младшего лейтенанта, командира взвода минометчиков, прибывшего 5 июня 1942 года в распоряжение ЧГВ.
5

Шок, который я испытала, прочтя эти и другие скупые съедения о Коле, был так велик, что заставил подбежать ко мне сотрудниц ЦАМО: «Что вы, что вы! Не плачьте, ведь жизнь уже все равно прошла!» Да, она прошла, но не всякую боль лечит время. Не всякую и не у всех!
Второй шок, от которого я снова содрогнулась, наступил, когда я увидела собственноручные Колины расписки в получении котлового довольствия за август и сентябрь. Две расписки, я узнала Колин почерк! Они хранятся здесь более полувека! Сотрудники ЦАМО сделали для меня ксерокопии...
Здесь я выяснила, что вместе с Колей под Туапсе воевали его товарищи по военному училищу. Они должны о нем помнить! С надеждой, которая все гасла и гасла, я читала сведения о них: погиб, умер от ран, пропал без вести... Неужели никого не осталось в живых?!
Оказалось, есть такие счастливцы, их двое — Иван Петрович Зубков и Александр Иванович Афанасьев. После всех ранений и контузий, после окончания этой страшной войны, они все же вернулись в родные места — один в Ставрополье, другой — в Татарстан.
Московские военкоматы посылали, по моим просьбам, запросы. Но ответ был получен только из Ставрополья: Зубков И. П. выбыл в Набережные Челны в 70-е годы, дальнейших сведений нет. Снова запрос, один, другой. Ответа пока нет, и будет ли?
Не нашла я и школьного друга Коли, Сашу Дубровского. Ни в Московском адресном бюро, ни в картотеках военкомата его не отыскали... Ждали меня и другие свидетельские потери.
В начале 60-х годов пионерскую дружину нашей с Колей 328-й московской школы назвали Колиным именем. Меня пригласили на открытие, и я увидела десятки блестящих детских глаз и услышала вопрос: «Вы Колина мама, да?» Не Колиной, но мамой кого-нибудь из таких ребят я тогда по возрасту могла быть, а Коля мог быть их отцом... Мог бы...
7
Школа № 328 давно перестала существовать, а с ней и дружина Колиного имени, а ведь там хранились многие его письма и фотографии. Они пропали. Потеря невосполнима, но есть у меня и утешение: все его письма, всё, что с ним связано, я помню наизусть. К тому же, кое — какие Колины письма сохранились и у его сестры, и у меня.
Я счастлива, что дожила до дня, когда смогла рассказать об этом прекрасном юноше, чистом и честном человеке, одном из светлых представителей ушедшей эпохи. Погибли лучшие из лучших. Во всяком случае, многие из них... Прежде я думала иначе: погибали на войне разные люди, но когда уходили лучшие, это было всегда заметнее.
Теперь знаю: да, погибли все-таки лучшие, потому что они не прятались от войны, они сражались на фронте. В фильме «Летят журавли», обошедшем все экраны мира, это наглядно показано — как ушел на войну Борис Бороздин, и как достал себе бронь его брат...
Не забывайте о юношах, похожих на Колю Большунова, ценою своей жизни защитивших наше будущее. Вспоминайте иногда и о совсем юных девушках времен Великой Отечественной — ведь они потеряли смысл жизни с гибелью тех, кого любили, кого так ни разу не успели даже поцеловать.
Коля хотел, чтобы помнили о нем. Он упорно спрашивал меня: «Ты будешь обо мне плакать, если меня убьют на этой войне? Будешь?» Может быть, после выхода из печати повести о Коле и Ане о нем заплачут и другие, не одна я...
Наступила иная эпоха. По многим своим особенностям ее нельзя принять безоговорочно. Но почти каждый обнаружит в ней что-то необходимое для себя. Для меня это — возможность написать и опубликовать повесть о Коле и Ане.
Эпоха нынешняя еще возьмет свое. Еще будут наши потомки гордиться Россией. А я, хоть и не увижу новых, может быть, и замечательных времен, все же могу теперь сказать: Коля! Я свой долг выполнила.
Анна Блинова (Гудзенко)
8

Мне шел четырнадцатый год, а Коле семнадцатый, когда мы впервые увидели друг друга в коридоре школы, что помещалась в старинном здании бывшей женской гимназии, в Большом Казенном переулке.
Здание и сегодня стоит на том же месте, и в нем по-прежнему та же школа, 330-я. Я недавно заходила туда, поднималась на памятный третий этаж... Через пятьдесят восемь лет после первой встречи с Колей! А Коли нет на свете, нет уже пятьдесят пять лет... Наверное нет... Наверное — потому что и теперь думаю: а может быть, он все-таки где-то есть!
Я знаю, что такие ощущения живут не только в моем сердце. Знаю, что не все женщины перестали ждать, сколько бы лет им не было: душа-то болит, душа-то страдает!
...А тогда стояла теплая осень тысяча девятьсот тридцать девятого года... Школьный коридор был ярко освещен солнцем. И звонок со второго урока так и заливался над нашими головами...
Мы с подружкой вышли из дверей седьмого «В», а двери девятого «А» тоже отворились в этот момент.
— Смотри, — сказала подружка, — какой симпатичный мальчик, девятиклассник! Вот он, в зеленой куртке, в очках! Какое интеллигентное лицо! Посмотри, подними глаза-то!
Я послушно подняла глаза, но мальчик в зеленой куртке не произвел на меня впечатления, потому что вслед за ним в
11
дверях девятого «А» появился Принц, и это был он, Коля, один и на всю мою жизнь. Принц... Почему — Принц!
Этому сентябрьскому солнечному дню предшествовала история самовоспитания — предисловие к восприятию Принца. Стихийное самовоспитание литературой.
Чтению меня обучили лет в пять, и уже к восьми годам почти весь отцовский книжный шкаф я освоила. В этом шкафу хранились сочинения Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Мопассана, Диккенса, Твена... Какой интересный был шкаф! Там попадались мемуары в роскошном академическом издании тридцатых годов, а в них, похожие на сказки, свидетельства о похищениях невест из родительских домов, о счастливых соединениях влюбленных... Шкаф иногда забывали запереть, тогда я к нему и устремлялась. Я читала все, что в нем было, но, например, амурные сцены у Мопассана отскакивали от меня в детстве, как от стены горох: у него я любила описания природы. А растрепанный том Вербицкой «Ключи счастья» и вовсе не вызывал энтузиазма. Я инстинктивно ощутила в «Ключах» элементы пошлости, еще даже не очень-то понимая значения этого слова.
В девять лет я случайно перечитала основные пьесы Шекспира. В отцовском шкафу Шекспира не было, он настиг меня на старой профессорской даче, там наша семья провела лето 1935 года. Меня потрясли «Макбет», «Гамлет», «Отелло», все «Ричарды», «Ромео и Джульетта». Смерть веронцев возмутила до глубины души: у меня появились серьезные детские претензии к великому автору. Погубить Ромео и Джульетту! Это было верхом бессердечия.
Прошло дачное лето, и в начале учебного года, услышав чьи-то эмоциональные отклики на повесть Лилиан Войнич «Овод», я кинулась в библиотеку. «Овод» стал первой и последней книгой, над которой я захлебывалась от рыданий. Конечно, я потом не раз горевала над судьбами других героев, но так бурно — никогда.
12
С Дюма я ознакомилась чуть позднее, в читальне на Чистых прудах.
— А «Три мушкетера» читала? — вздохнула библиотекарша, устав от усилий рекомендовать мне литературу. Спросила и оглянулась по сторонам: не услышал ли кто-нибудь о таком нарушении возрастного ценза? Не знала она об отцовском книжном шкафе и о трагедиях Шекспира!
— Не читала, — и я нехотя взяла потрепанную книгу: название мне ни о чем не сказало, в мои десять лет слово «мушкетер» было услышано впервые.
В этот вечер меня из читальни выгнали последней, а на следующий день я первая стояла у ее дверей, ожидая открытия... «Три мушкетера»!..
«Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон» были принесены отцом по моей отчаянной просьбе: на Чистых прудах этих книг не оказалось. Помню, как отец, перевернув страницу-другую, сел «на минутку» под лампу с зеленым абажуром и уже не поднимался до рассвета. А я, тоже до рассвета, глотала слезы, прислушиваясь в темноте к шелесту страниц.
Я читала все, что попадалось мне под руку. В тринадцать лет появился Александр Грин с его «Алыми парусами». И это было как раз вовремя.
...Я вспоминаю путаную хронологию моего раннего чтения совсем не для того, чтобы кого-нибудь удивить: не одна я читала «запоем» и бессистемно. Но последствия такого чтения стали не для всех одинаковыми. Одни решили, что литература — это сплошные писательские выдумки («так не бывает!»), другие, напротив, что это серьезная фиксация авторами современной им жизни или интепретация старых исторических событий. Третьи, четвертые... А для меня, например, Грин явился вершиной в процессе формирования романтической мечты. Ах, «так не бывает»?! Значит надо, чтоб так было!
Я раз и навсегда поверила в красоту человеческих взаимоотношений, в возможность самим строить для себя жизнь-
13
сказку. И я создала в своей отроческой душе конкретный облик Принца, прекрасней которого никого не могло быть.
Мой Принц-мечта не был похож на современного парня. Он как бы сошел со страниц читанных мной романов, прямо с капитанского мостика гриновского белого корабля. Я, словно Ассоль из «Алых парусов», ждала своего Артура Грэя. Я жила в выдуманном мире чудес, считая чудеса реальностью! Недаром же люди всех возрастов так любят сказки, из которых самая увлекательная — о Принце и Золушке.
Принц появился вдруг, нежданно-негаданно, он неторопливо вышел из дверей девятого «А». Вместо сверкающих рыцарских доспехов на нем была серая гимнастерка из тонкого сукна, перетянутая в талии широким офицерским ремнем. И потертые, старенькие брюки. Темно-синие — я помню. Он потом так и ходил в них — вплоть до окончания школы.
Это был он, я у меня остановилось дыхание. Мне шел четырнадцатый год, всего только четырнадцатый, но я смогла понять, что сказочных замков мне не надо, и что отныне вся моя жизнь, радость и горе, слезы и смех, все, что положено человеку на белом свете, сосредоточилось в Принце, оказавшимся почему-то парнем из девятого «А».
Парень был как две капли воды похож на портрет, нарисованный моим воображением. Он был так красив, что и теперь, к концу моего долгого пребывания на Земле, я не могу вспомнить никого красивее — ни среди знакомых или прохожих, ни среди звезд кинематографа, ни в произведениях великих живописцев. Да, это отнюдь не только мое мнение... Из числа тех, кто его помнит, кто его видел в свое время, есть еще не менее пяти живых, они это знают...
Его черные брови, словно нарисованные, почти сходились на переносице, от длинных ресниц ложились тени на щеки. И были у него глаза орехового цвета, о которых он мне потом смущенно скажет: «Кошачьи... Да ну их совсем!» Поражал его взгляд — всегда строгий, почему-то даже надменный, взгляд природного аристократа. Он был высокого роста, ши-
14
рокоплечий, длинноногий, стройный... «Идет — не согнется!» — с гордостью говорила его мать, женщина с правильными чертами лица, но не отличавшаяся той красотой, которой был наделен ее сын. У него-то была царственная красота!
— А я не знаю, чьи мы потомки, — скажет годы спустя его сестра Аня. — Сами-то деревенские, из Труняевки, что под Клином. Вот разве бабушка наша по линии матери? Она была взята из сиротского приюта. Или потерялась во младенчестве, или, может быть, отдала ее туда какая-нибудь отчаявшаяся красавица, которую «осчастливил» своим «вниманием» граф, князь, заезжий принц, что ли? Дедушка Егор наш был из семьи работящих, зажиточных крестьян и сколько, слышно, баталий претерпел из-за нее, но все же настоял на своем, женился. Бабушку звали Еленой... Елена Прекрасная! Кто видел ее в молодости, замирал от восхищения!
Вот и я замерла однажды, взглянув на внука бабушки Елены. И он замер, он тоже замер, и мы остановились в школьном коридоре, ошеломленно глядя друг другу в глаза...
Это произошло в сентябре 1939 года, а затем я тут же исчезла из школы на много месяцев: заболела скарлатиной с последующими осложнениями. И снова появилась в классе лишь в начале апреля.
Учебный год чуть было не пропал для меня... Спуститься классом ниже — что мне еще оставалось в сложившейся ситуации? Но у отца с матерью оказалось немалое родительское самолюбие, они бы не потерпели такого краха. И тут они нашли во мне самую послушную дочь: я тоже не представляла себя второгодницей, какие бы объективные причины меня не оправдывали. Неокрепшая, упрямая, с сердцем, бьющимся от волнения и страха, я стала догонять свой класс за два с половиной месяца, оставшихся до перевода в восьмой. Никакой логики: мной двигали лишь юные амбиции!
Еще меньше логики было в огромной радости при мысли о том, что вот, приду завтра в школу и, впервые за много месяцев, увижу его, Принца!..
15
Я росла румяной, голубоглазой девчушкой, и особым предметом моей гордости были черные, густые косы с целым веером вьющихся трубочек на концах. Косы я то и дело небрежно перекидывала через плечо и нисколько не удивлялась взглядам, которые бросали на меня мальчики из старших классов.
Но теперь кос не было! После безжалостной больничной стрижки у меня на голове едва отрос лишь колючий «ежик», почти как у новобранца в армии.
Да... Упасть духом, скрыться со своим «ежиком» с глаз Принца, не выходить из класса на переменках... А там... Лето на носу, и к новому учебному году волосы будут выглядеть иначе... Это была бы логика! Но куда там: я выбежала в коридор, как только зазвенел звонок на переменку, посмотрела в его глаза и расцвела от счастья: он здесь, он существует на самом деле, и он никуда не исчез за это время!
Еще менее поддавалась логике реакция Принца. Вместо того чтобы, пожав плечами, чего я больше всего и боялась, удалиться при виде взволнованной девочки, ставшей из-за стрижки похожей на мальчика, Принц не отводил от меня взгляда. Он стоял, сначала сильно озадаченный, а потом покрасневший и неподвижный, до тех пор, пока не зазвенел звонок с перемены. Он узнал меня, узнал!
Новость равнялась открытиям великих путешественников и мореплавателей, вместе взятых. Для меня это было рождение нового мира, неведомого и прекрасного.
На следующей переменке я услышала, как его звали: Коля! Какое чудесное имя!
...Теперь я думала о нем день-деньской, куда бы ни шла, за какое бы дело ни принималась. Мечты о нем не мешали мне учиться. Наоборот: я хотела, чтобы в клеточках «Учета успеваемости», прикрепленного к стене в коридоре, появлялись против моей фамилии лишь красные оценки «очень хорошо» или, на худой конец, зеленые — «хорошо». Против Колиной фамилии (ее я тоже узнала без труда) случались
16
тройки по русскому языку и пятерки по математике, химии, физике. Принц, как и я, учился неровно, но склонности к предметам у нас были разные. Я не любила точные науки, литература была моей главной привязанностью.
В предвоенное время — конец 30-х — начало 40-х годов — переглядываться мальчикам и девочкам считалось неприличным. «Жестокие кокетки» давно ушли, исчезли с наступлением еще первой мировой войны, а теория «свободной любви» провалилась где-то между концом двадцатых — началом тридцатых годов. Наступила пора красивой нравственности, щепетильности и недотрог. Не могла быть иной и я. По природе и по воспитанию я, конечно, была недотрогой. Поэтому бросала на Колю лишь мимолетные взгляды. Но даже за этот миг один я успевала почувствовать, что и он смотрит на меня — внимательно и серьезно.
Как я радовалась, когда он вдруг появлялся в спортзале, или когда мы с ним сталкивались (случайно или нет?) на лестничных переходах! Я была уверена в том, что упражнения на шведской стенке он делает для того, чтобы отличиться передо мной, показать мне, какой он ловкий и сильный. Что в раздевалке он ждет, когда я, отчаянно торопясь, вбегу в вестибюль, скину с плеч пальто, и тогда (а это уж совсем не случайно!) он станет в очередь за мной, обязательно за мной, чтобы сдать гардеробщице свою куртку. Да и зачем иначе рядиться в куртку? Ведь дом, в котором он жил, находился тут же, на территории школьного двора! Кстати, — нового школьного двора: нас перевели в только что отстроенную 328-ю школу, в Лялин переулок.
А как я ликовала, когда Коля обосновывался у окна, что напротив моего класса! Там он простаивал иной раз всю большую перемену, облокотившись о подоконник и перелистывая какой-то учебник. А сам все глядел поверх учебника на меня! И мои одноклассницы (а уж они-то всегда обо всем догадывались прежде нас самих), чуть завидев его, шептали (слишком громко!): «Аня, выходи! Твой мальчик из десятого «А» снова ждет, когда ты выйдешь!».
17
Да, уже из десятого «А» — к этому времени я перешла в восьмой класс, а Коля — в десятый.
Иногда он не приходил в школу. Что с ним? Он заболел? Что-то с родными? Но Коля очень редко отсутствовал: и с дисциплиной, и со здоровьем у него все было в порядке.
— Меня никогда не вызывали на родительские собрания, — вспоминала его мать. — Как-то я сама явилась: почему, мол, забывают меня вызвать? Мне их учитель по математике и объяснил: не забывают, а просто с вашим сыном сложностей нет, вот почему. Нам, учителям, и делать, мол, было бы нечего, если бы все были такие, как Коля Большунов.
...Помню, как он впервые улыбнулся мне. Это произошло в школьной библиотеке. Он сидел за столиком, спешно что-то листал, а я пришла сдавать прочитанные книги. Мы взглянули друг на друга — и тут он улыбнулся. Одними глазами, уголками рта. Принц улыбнулся!
До этой минуты я думала, что он вообще никогда не улыбается, не знает, что это такое. Его улыбка стала неожиданностью, праздником. Я чуть с ума не сошла от счастья. Полдня бродила потом по улицам, и все прохожие казались мне особенно добрыми, славными. А вечером, придя домой, я так вдохновенно села за трудную, нелюбимую физику, что на следующее утро, оживленно пересказав закон Архимеда, получила высший итоговый балл за всю четверть.
Чего я ждала от Коли, от себя?..
Конечно, время шло, и наступил пятнадцатый год моей жизни, но это был все-таки еще только пятнадцатый, всего-навсего пятнадцатый! Что-то я читала (в папином шкафу), правда, о барышнях, выходивших замуж в пятнадцать, и безмерно удивлялась няне из «Евгения Онегина» («а было мне тринадцать лет»). Но все это происходило в стародавние времена! Чего же все-таки хотелось мне теперь, в наше время? Познакомиться с Колей, вместе ходить по московским улицам, разговаривать? Нет, нет. Не мечталось даже о таком, сверхнравственном времяпрепровождении, я не «доросла» еще
18
и до этого! Мне достаточно было видеть его, смотреть, как он, немыслимо красивый и серьезный, идет по самому обыкновенному школьному коридору, знать, что завтра он снова появится здесь, что мы встретимся с ним глазами и, в самом счастливом случае, улыбнемся друг другу — теперь это тоже бывало.
Больше ничего, только это! Будущее пока не обретало иных очертаний. Но что я знала, в чем была уверена и тогда, в своем переходном возрасте из отрочества в юность, — что мы созданы друг для друга: он, Коля, и я, Аня.
И вдруг! Гром грянул с безоблачных высот: на моем пути возникла Люся Т., высокая девушка с гривой роскошных волос, блондинка без комплексов, без моей застенчивости. Она то подсаживалась к Принцу за парту (и я не раз, проходя мимо, наблюдала этот кошмар в открытые двери десятого «А»), то пробегала по коридору, взмахнув своей кудрявой гривой и улыбаясь Принцу прямо в лицо... И у нее-то были возможности с ним говорить! Сколько угодно, — они учились в одном классе!
В происходящем была виновата я...
Прошлым летом я и Люся Т. оказались в одном пионерлагере. Я — пионеркой второго отряда, она, старшая, вожатой пятого, малышового. Я обрадовалась, обретя такую знакомую, собеседницу, и тут же простодушно уведомила ее, какой замечательный юноша учится вместе с ней.
Казалось бы — зачем открывать Люсе глаза на Принца, ведь его и так нельзя было не заметить? Но... Он был холоден и недоступен, не проявлял никакого интереса к девочкам и потому успехом у них не пользовался. Все это я уяснила для себя лишь спустя долгие годы. А тогда — изумлялась слепоте его одноклассниц. Если бы я так вдохновенно не пробудила в Люсе интерес к Принцу, то и этой поклонницы у него бы не оказалось.
Опасность… Как быть? Наши с ним взгляды и улыбки Коля мог принимать лишь за дружескую симпатию! Я ведь
19
только смотрю на него, всего лишь смотрю и молчу, словно та немая русалочка из грустной сказки Андерсена. А Люся — она очень активно стремится завоевать его внимание.
Неожиданно для меня самой оказалось, что в отчаянии я не отступаю, а безрассудно кидаюсь в атаку.
Застенчивая и тихая, я совершила поступок, на который не решилась бы и самая храбрая: я написала ему. И о том, что его люблю «давно и очень сильно», и о Люськином коварстве, и даже о разных пустяках. Ведь это была возможность, хоть так, хоть письменно, поговорить с Принцем! На трех тетрадочных листах я выложила целый ворох событий, новостей, рассуждений и переживаний. А в конце письма, вместо обычного «до свидания», я поставила грустное «прощай». Отвечать я запретила в такой форме, что адресату и думать нечего было — переступить этот запрет. Особая категоричность была свойственна мне от природы, я сохранила ее навсегда, и она служила непреодолимой преградой между мною и всеми посягательствами, которые встречались потом на моем пути.
Письмо передала Принцу моя подружка Ира Н., и это письмо многое изменило. Теперь надменное лицо Принца вдруг покрывалось краской, когда мы с ним сталкивались, а в его глазах появлялся неведомый мне вопрос. С Люсей он вообще перестал общаться, он отворачивался от нее, как только она приближалась. Я и сегодня удивляюсь радикальному воздействию моего письма... Впрочем, чему было удивляться? Самое сильное оружие на свете — любовь. И я, видимо, если этого не поняла рассудком, то почувствовала уже тогда — инстинктом. Моя искренность оказалась для Принца гораздо значительнее прямого заигрывания Люси.
Опасность исчезла... Но время шло, и оно несло с собой иного рода беспокойство: близился день Колиного окончания школы. Очень скоро я перестану видеть Принца, идущего по здешним коридорам: его ждала армия — три года службы.
Ира Н. делала попытки настроить меня на разговор с Колей.
20
— Ты подойди к нему и прямо скажи — давай, мол, попрощаемся, ведь скоро выпуск вашего класса, и мы никогда больше не увидимся. И на это Коля, конечно, скажет: нет, давай встречаться, мы не должны потерять друг друга.
Но разумные советы были не для меня, я умела погружаться только в грезы. И в этих грезах, вместо реальных разговоров с Колей, мелькали какие -то кадры из несуществующего, полудетского фильма: Коля будет служить на пограничной заставе, однажды там прогромыхает поезд, Коля увидит меня в окне вагона, я махну ему рукой и умчусь дальше... он заскучает и начнет меня разыскивать...
Я была, конечно, неисправимой фантазеркой! Я продолжала жить иллюзиями даже тогда, когда Коля окончил школу, а мы, младшие, были распущены на летние каникулы. «Каким-то образом, — неспешно думала я, — мы все-таки встретимся!».
Этим витаниям в облаках положила конец Великая Отечественная война.
В ночь на 22 июня 1941 года выпускники нашей школы отмечали событие наступившей гражданской зрелости. Они получили аттестаты и теперь, размахивая в воздухе этими путевками в жизнь и громко делясь друг с другом планами на будущее, распевали любимые песни, шагали всю ночь по Красной площади, по центру Москвы, — совсем недавно установилась такая приятная традиция.
В эту ночь я, лежа дома без сна, думала о том, что вот сейчас Коля ходит с бывшими одноклассниками, молчит (он всегда молчит!) и, может быть, чуть-чуть улыбается. Но, конечно, не поет с ними: на Принца это было бы не похоже.
И никто из нас еще не знал о трагедии. О том, что немцы уже опрокинули наши пограничные столбы на Западе, бомбят города и убивают, убивают, убивают.
Раннее утро двадцать второго июня в Москве было теплым и солнечным. Наступило последнее воскресенье, когда опоздавшие горожане могли еще попытаться снять дачу на
21
лето. И мои родители поспешили на электричку. Вернулись они уже через час: страшную новость услышали по радио в поезде. Таких растерянных лиц у них я не видела никогда...
Коля!
Я побежала в школу. Каникулы... Там никого нет, тем более выпускников, уже и не школьников. А вдруг?! Принц живет в этом дворе, почему бы ему хоть разок не выйти из дома? Правда, я знала, что и в этом счастливом случае не найду в себе решимости подойти к нему. А если он сам подойдет?.. Разве чудеса совсем перевелись на Земле?
Но Принц не появился.
Назавтра я снова пошла в школу — меня подгоняла мысль о неминуемом участии Коли в войне.
Через два дня, в третье посещение, мне повезло больше: в Лялином переулке я столкнулась с Колиной сестрой Клавдией.
— Я тебя знаю, — нерешительно сказала я. — Ты в нашей школе учишься... И что теперь будем делать? Работать или воевать? Меня зовут Аней, я из восьмого «В», перешла в девятый...
— А я — Клава, но в школе больше не учусь, после седьмого класса пошла в техникум, скорее получить специальность. Я тебя тоже помню, сколько раз видела в школе. Нет, воевать мы с тобой пока не сможем, возраст не позволит. Воевать будет мой брат Николай, он сейчас в деревне, отдыхает до армии. А мы, наверное, будем работать…
— А твой брат... Он, ты говоришь, в деревне? И далеко?
— Нет, не очень. В нашей Труняевке, под Клином. В Клину еще Дом-музей Чайковского. Слыхала, конечно?
— Слыхала...
Вечером мой отец пришел с известием, что получил задание срочно отправляться в Свердловск*, на военный завод — выпускать танки. Наша семья должна была вот-вот покинуть Москву.
_________________
* Названия городов и улиц сохранены соответственно описываемому времени
22
Коля... Как быть? Я не знала как быть и тогда, когда увидела железнодорожные билеты на столе. День отъезда на Урал обозначился!
Ночью я несколько раз неслышно подкрадывалась к билетам... Порвать, выбросить в окно! Но, взглянув на спящих родителей, я в ужасе отступала назад, к своей кровати...
Я теряла, теряла надежду увидеть Колю. И тогда...
— Женя! — обратилась я к подруге, к Жене Чижевской. — Мы найдем эту Труняевку, она под Клином! Необходимо увидеть Колю... Хотя бы проститься...
— Конечно! — И Женя вдохновенно стиснула мою руку. — Я готова идти с тобой, ради подруги я могу всем пожертвовать, кроме матери!
И мы, недолго думая, сели в поезд, через три часа сошли в Клину и зашагали к Труняевке, узнав, примерно, Как туда попасть.
Мы шли и шли по безлюдным дорогам... Правильно ли идем? Когда очень длинен путь, возникает неуверенность. А спросить больше не у кого. Пустынно!
Наконец, задребезжала телега: нас нагонял мужичок. Он кнутом показал дорогу на Труняевку.
— С полпути вы отшагали. Осталось километров двенадцать, не более...
— Женя, — сказала я, глядя вслед мужичку, исчезающему за поворотом. — Мы прошли двенадцать или больше километров и натерли ноги до кровавых пузырей...
— Это ничего, — ответила Женя. — Просто у нас нет опыта ходьбы на дальние расстояния. И обувь у нас не подходящая. Но если мы снимем ее и дальше пойдем босыми...
— Нет, надо идти обратно. Не из-за обуви или ног, а потому что лишь к ночи осилим дорогу. Ну, придем мы ночью в деревню — что о нас там подумают? Так стыдно! И что скажем Коле?
— Скажем... скажем, что срочно пришли, чтобы посоветовать... Ну... чтобы посоветовать ему... подавать заявление в Рязанское артиллерийское училище...
23
— А есть ли такое на самом деле? Нет, я не могу, я не могу!
И мы повернули обратно.
— Значит, — думала я, ворочаясь ночью в своей постели, — все?! Я никогда не увижу Колю, не поговорю, не попрощаюсь...
Я взрослела с каждым часом. Но все-таки в мои неполные пятнадцать лет я не столько осознала, что такое начавшаяся война, сколько ужаснулась отъезду Коли на фронт; ему шел девятнадцатый год, и он подлежал немедленному призыву в армию.
Коля! Тревога схватила меня в свой капкан, и я заметалась, не зная, что делать. А день отъезда на Урал близился...
Почему-то захотелось поплакать на плече у Лидии Николаевны, строгой учительницы по физике. В эти дни она, одинокая и немолодая, то и дело заходила в школу — услышать о новостях, об эвакуации учащихся и учителей. Она хорошо знала и Колю и меня — преподавала в наших классах. Запинаясь, я поведала ей о моих горестях, и она, истинный представитель точных наук, подошла к решению проблемы практически:
— Вызови Большунова телеграммой!
Наверное, раз десять, не меньше, я входила в двери «Почты — телеграфа» с тем, чтобы снова и снова выйти оттуда без результата. Наконец, я так привыкла к возникшей необходимости, что почти перестала волноваться, подала телеграмму в окошко, — совершила этот подвиг и удалилась с самым радостным ощущением правильности поступка.
А родители, между тем, укладывали чемоданы, втискивали вещи в большие плетеные корзины — сундуки, в мешки. Они готовились к долгой жизни в чужом городе!
Коля! Он не сегодня — завтра получит телеграмму, он скоро будет в Москве! А я? В Свердловске?!
И в день нашего отъезда я совершаю еще один подвиг...
Утром дядя Ваня Измалков, дворник, подрядившийся доставить наши вещи на вокзал, привязывал тюки и чемода-
24
ны к своей тележке. Помертвев, я наблюдала за этой процедурой, поражаясь тому, что молния еще не разнесла в щепы эту тележку, что гром еще не грянул с небес.
Мечтать о добром волшебнике, который вот-вот придет и поможет мне, больше, конечно, не стоило...
Дядя Ваня на минуту удалился в дворницкую... Родители, наверное, уже запирают двери покидаемой квартиры и, вместе с бабушкой и моим маленьким братцем, вот-вот начнут спуск с крутых лестниц третьего этажа...
Я ринулась к ненавистной тележке и принялась бритвой терзать туго натянутые веревки.
Я отчаянно торопилась и попадала бритвой то на веревки, то на вещи, а то и на собственные пальцы. Когда родители появились в подъезде, я отскочила от тележки, спрятала свои окровавленные пальцы в носовой платок, и мы все, опустив головы, словно на похоронах, медленно вышли из ворот.
Мы миновали наш Большой Вузовский переулок, пересекли Покровский бульвар... Я шла, погруженная в безысходность, в отчаяние, и совсем забыла о том, что должно было случиться. В первую минуту я даже удивилась, когда подрезанные веревки лопнули, и наши пожитки рухнули на полпути к вокзалу, с грохотом вывалились прямо на трамвайную линию. Мы вернулись домой, кое-как собрав все это, а меня родители потом всю жизнь подозревали в происшедшем.
С железнодорожными билетами было очень непросто: шла эвакуация граждан, учреждений и предприятий на восток. Поэтому вновь купленные билеты продлили мое пребывание в Москве еще недели на две, не меньше.
Я ждала Колю, и он приехал. Теперь он был здесь, в своем Лялином переулке, но не знал ни моего адреса, ни телефона. Коля, милый Коля! Он не знал и о том, кто же вызвал его телеграммой — я ее не подписала, я не решилась!
А время неслось вскачь, драгоценные часы улетали. Я не раз подходила к его дому, я приближалась даже к дверям его квартиры, поднимаясь вверх, а затем спускаясь вниз по ка-
25
ким-то сложным лестницам. Я смотрела на тяжелые закрытые двери с надписью «квартира 7», желала и боялась, что двери случайно могут открыть именно сейчас, в эту минуту. И тогда мое сердце бешено колотилось уже где-то в горле и не разорвалось только потому, что я была уж очень молодой и здоровой.
Поздними вечерами, в наступавшей темноте, охваченная тоской и нерешительностью, я бродила по Лялину переулку, стараясь сквозь неплотно задернутые шторы разглядеть, как Коля ходит по комнате. Это было нетрудно: Коля жил на первом этаже...
Так прошло два дня, сорок восемь потерянных часов. Никто из нас, ни он, ни я, не сделал реального шага навстречу друг другу. Однако вскоре все-таки произошло то, что должно было произойти: Лидия Николаевна, наша дорогая Лидия Николаевна, столкнулась в школьном дворе с Принцем, узнала от него, что он собирается побывать и в военкомате, и в РОНО, чтобы выяснить, кто же вызвал его телеграммой, а теперь направляется к директору школы, — может быть, директор скажет?
Я не могу не вспомнить о ней, давно ушедшей, о Лидии Николаевне Гроздовой. Строгость этого педагога вызывала у школьников страх, но ее не только боялись, ее и уважали, и любили. Наверное, чувствовали, как она справедлива и благожелательна. Она и счастью овдовевшего директора нашей школы Ивана Васильевича Чепового поспособствовала... Просто — напросто купила два билета в театр: для Ивана Васильевича и для влюбленной в него Светланы Наумовой, недавней школьницы. Эти двое сели рядом в кресла, и, проводив после спектакля Светлану домой, смущенный Иван Васильевич сказал: «Ну, Светлана, мне ухаживать за тобой неловко. Выходи за меня замуж — даю тебе неделю на раздумье». На это Светлана ответила: «Мне не надо на раздумье, Иван Васильевич. Я давно люблю вас, и я согласна».
26

Об этом мне потом рассказывала и Лидия Николаевна, и Светлана. В дальнейшем я к Ивану Васильевичу и Свете не раз приходила в гости. И познакомилась сначала с их маленьким сыном Васей, а потом и с дочкой Олей...
У Лидии Николаевны была легкая, добрая рука. Но разве она могла противостоять такой стихии, как война?!
И все-таки...
Лидия Николаевна сказала Коле, что я его вызвала, что очень нужны пионервожатые для первоклашек, эвакуированных в Рязань, и «Гудзенко занимается этим вопросом».
При всей моей ребячьей легковерности, я тогда улыбнулась такому наивному предлогу: Колю вот-вот ждала мобилизация, армия, и он никак не мог стать пионервожатым в Рязани... Но, главное, Лидия Николаевна дала ему номер моего телефона и тут же перезвонила мне: продиктовала Колин номер!
В этот вечер я зашла к моей однокласснице Тамаре Романовой. Все мои близкие подруги (а Тамара не была в их числе) уже эвакуировались с родителями, покинули Москву. Растерянная, неприкаянная, я Тамаре изложила все новости о Коле и о себе, совсем не задумываясь о том, что же за этим может последовать. Мне очень хотелось поделиться своими переживаниями с кем-то, кто так часто видел Колю, стоящим у окна, что напротив нашего класса. Тамара отреагировала совсем неожиданно. Вместо ожидаемых мной вздохов сочувствия, она вдруг выхватила у меня из рук телефонную книжку, дернула к себе аппарат и радостно пригрозила: «Ага! А вот его телефон! Этот номер, да? И если ты ему сейчас же не позвонишь, то позвоню я. И я выведу тебя к нему за руку!»
И я набрала номер его телефона.
Когда я услышала Колин голос, у меня душа ушла в пятки. Но, оказавшись загнанной в угол, я выпалила одним духом:
— Коля, это ты? Это Аня говорит, мне Лидия Николаевна дала твой номер... — И тут я умолкла. Я достигла вершины
28

своей храбрости, и за ней ничего не могло стоять, кроме Колиного ответа.
— Аня?! Откуда звонишь?!
— Из… из автомата.
— Из автомата? На Земляном валу?
— Нет... Нет. На углу Казарменного, где телефонная подстанция. Знаешь?
— Знаю! Сейчас иду! Только ты никуда не отходи оттуда!
Я вся задрожала от непонятного страха, я попросила Тамару пойти со мной, ради Бога, пойти вместе со мной. Но она улыбнулась и сказала:
— Я влюбленным мешать не намерена.
Влюбленным? Несмотря на все мои прежние ощущения, на Колины взгляды и улыбки, я вдруг решила, что все это мечты, одни мечты и грезы, и не может Принц быть в меня влюбленным. С какой стати?! И почему именно в меня? Да он ни в кого не может быть влюбленным, этот молчаливый и высокомерный мальчик! Да, он такой красивый, такой необыкновенный — с ним рядом не может быть ни одна из девочек!
Налетевшие на меня сомнения, неуверенность и комплексы не помешали мне выбежать из дома Тамары и мигом очутиться на углу Казарменного переулка...
Коли нет! Он не пришел! Я была в таком смятении, что не подумала о пяти — шести минутах, необходимых для того, чтобы дойти от Лялина к Казарменному. Но вот он появился... Да, это он... В белой рубашке и темно-синих брюках... Идет через дорогу... по тротуару... проходит мимо арки Тамариного двора...
Коля, Коля, Коля!
Я была ослеплена, я, наверное, покраснела до корней волос. Это ощущение не поддавалось тогда, не поддается и теперь никакому словесному описанию: Коля идет ко мне! Он приближается!
Он подходит совсем близко, стоит рядом и тихо-тихо, едва-едва пожимает мою руку. А я тороплюсь, я очень тороп-
30
люсь сказать, что вызвала телеграммой только для того, чтобы посоветовать ему подать заявление в Рязанское артиллерийское училище... Он улыбается улыбкой взрослого, разгадавшего маленькие хитрости ребенка, и произносит фразу, которая не имеет никакого отношения к артиллерийскому училищу в Рязани:
— Пойдем по Покровскому бульвару, сначала налево, а потом дальше, по другим бульварам.
И только тогда я начинаю понимать, что это не сон, не выдумка, что все происходит на самом деле.
Мы шли и шли, нигде не останавливаясь, пренебрегая всеми скамейками, что попадались нам по пути. Покровский бульвар оказался стартом нашей прогулки, а «потом дальше» — многие бульвары, мост через Яузу, набережные, Красная площадь, Кремль, Александровский сад, площадь Ногина, Солянка, Воронцово поле, переулки Подкопаевский и Подколокольный...
Лишь в одиннадцать часов, в полной темноте, мы оказались у высоких чугунных ворот моего дома.
Я уверила себя в том, что это наше первое свидание — оно и последнее. Принц подавлял меня своей красотой и строгостью и, несмотря на все комплименты, пренебрежительно принимаемые мной от других мальчиков, рядом с Принцем я считала себя всего-навсего его подданной. К тому же, мы очень уж просто и весело провели этот вечер — никаких признаний, ничего похожего на волнения влюбленных. Такое вот сошло на нас удивительное, непонятное спокойствие!
— А может быть, — размышляла я по дороге, — мы просто симпатизировали друг другу. Принц и девочка из восьмого «А»? И теперь симпатия переросла в дружбу? Мне ведь и прежде приходилось так думать! И кто сказал, что не может быть просто дружбы между мальчиком и девочкой? Очень может быть!
В то время я еще не могла знать, что любовь — это никем не разгаданная тайна, что она никакого отношения к логическим размышлениям не имеет.
31
...Логика?! Да уже в следующее мгновение в моей душе все переменилось. Я поняла, что не могу, ну не могу с ним расстаться, и поэтому прощаться сейчас у моих ворот — тоже не могу.
— Коля, мне надо идти дальше, снова в Казарменный. Там, у Тамары Романовой, я забыла свою записную книжку.
Еще несколько минут с Принцем! Я навсегда запомню этот вечер — целый вечер, который мы провели рядом... Еще несколько минут!..
Но прошли и эти, вырванные у судьбы, минуты. И вот, у чужих ворот, у Тамариных, с ужасной мыслью о том, что больше его не увижу, умирая от нахлынувшей тоски, я протягиваю ему руку — прощай…
Он почему-то полузакрыл глаза, умолк, почему-то отстранил мою руку... и я опустила ее, недоумевающая, оскорбленная, возмущенная...
— Аня... А может быть, мы завтра встретимся и так же походим?
— Да!..
И тогда он взял мою руку и пожал ее, а я помчалась по двору, позвонила, невзирая почти на полночь, в Тамарину дверь и чуть не задушила Томку в объятиях:
— Он назначил, назначил мне свидание! Мы завтра встретимся, встретимся с ним! В семь часов вечера!
Тамара улыбалась...
Все эти годы, десятилетия, я думала, что никакой книжки записной — телефонной я у Тамары не забывала, что выдумала это для Коли как предлог... А теперь я так четко вспомнила, я так услышала наш с Тамарой разговор! Я ведь действительно оставила у Тамары эту книжку, не захотела ее тащить на свидание с Колей!
Была глубокая ночь, когда я влетела, наконец, в свою квартиру, домой, бросила платье в одну сторону, туфли в другую и, задыхаясь от неслыханного счастья, зарылась лицом в подушку...
32
На нашу долю выпало всего семь дней, и я помню о них все, будто это происходило недавно.
...На следующий день мы не смогли встретиться в семь часов, как хотели: полдня и полвечера бушевала гроза. Она утихла только к половине девятого, и тогда я услышала по телефону его негромкое:
— Аня, здравствуй, это Коля говорит. Ты выйдешь погулять? Еще не поздно! Я буду на углу Казарменного через десять минут.
Я постаралась ответить как можно спокойнее и короче:
— Хорошо, я выйду.
И в ответ услышала еще более краткое:
— Жду.
Впоследствии мы всегда так и заканчивали наши телефонные разговоры: «Иду». — «Жду».
Но что было со мной всего лишь за час до этого звонка! Я плакала, я дрожала от горя: он не позвонил мне! И когда, после грозы, раздался, наконец, звонок, я вырвала трубку из рук отца: «Это мне, это Коля!». В одну минуту я отмыла холодной водой свое лицо, опухшее от слез, надела платье, туфли и стрелой умчалась из дома... Отец только и успел ошеломленно посмотреть мне вслед!
Казарменный переулок от моего Большого Вузовского совсем близко, и я прибежала туда минуты через три. Но Коля — как успел? Или он летел по воздуху? Он уже стоял там, на месте вчерашнего нашего первого свидания, и его большая, теплая рука осторожно сжала мою, маленькую и прохладную.
И мы снова ходили по вечерней Москве, погруженной в полумрак из-за войны, и говорили обо всем на свете, что только приходило в голову, о чем хотелось бы вспомнить, рассказать друг другу. Экзамены, одноклассники, наши родители, места, где мы жили в раннем детстве, — нескончаемое количество тем! Да, и когда я что-то спросила его о Люсе Т. (кажется, возмутилась ее обещанием срезать меня по Конституции на приеме в комсомол), он посмотрел неожиданно жес —
33
тко и на вопрос, как он к ней относится, не менее жестко и неожиданно произнес: «Я ее ненавижу». Вот так-так! Помню, у меня возникло двойственное ощущение: во-первых, обрадовал такой максимализм, а во-вторых, уж не захотел ли он этой фразой просто доказать свою со мной солидарность?
Он читал наизусть Лермонтова, Брюсова. Мы готовы были слушать друг друга часами, мы словно наверстывали то упущенное время, в котором осталось наше, такое долгое молчание,
В тот день после грозы было столько воды на улицах, столько луж! Из-за этой воды, которая ручьями бежала по наклонной мостовой и тротуарам, а на плоских местах и вовсе превращалась в озерца, и произошло событие. Коля подал мне руку, переводя через лужищу на Покровском бульваре и... оставил мою руку в своей. С девяти и до одиннадцати вечера мы так и ходили — за руку. И молчали, мы совсем умолкли. И он все смотрел мне в глаза, и это был влюбленный Принц, совсем-совсем влюбленный в девочку Аню.
Прощались мы с Колей теперь у моих ворот. До завтра, до завтра!
Двор у нас огромный, я быстро перешла его, а перед тем, как войти в подъезд, оглянулась: вдруг увижу еще раз Колю, хотя бы со спины, уходящего? Может быть, он еще не успел исчезнуть в переулке?
И что же? Он не сдвинулся с места, он стоял в воротах и смотрел мне вслед. Я должна была, я, конечно, должна была вернуться, броситься ему на шею, сломать ресницы о его белую рубашку, прилипшую к груди на ночном ветру, и — замереть от счастья. Но я была слишком юной, я была недотрогой, и я послала ему из подъезда прощальный — такой школьный! — привет рукой...
Вспоминая потом об этой минуте, я без труда объяснила себе робкое прощание возрастом, характером, воспитанием. Но простила ли я себе это? Нет, никогда, во все годы и десятилетия, проведенные потом без него.
34
Наверное, это было и естественно и кощунственно одновременно, но мы почти забыли о войне. А она гремела уже больше месяца... Хотя нет, Коля — то не забывал. Я поняла (потом, слишком поздно!), что война неотступно жила в его сознании, она не покидала его...
— Когда меня убьют, мама будет плакать, бабушка, тетки... одна из теток. Может быть, и папа. А ты? Будешь ли ты плакать обо мне?
— Я?! Я буду плакать дольше всех твоих родных...
Боже мой, почему я так ответила! Мне ведь хотелось сказать, что я умру вместе с ним. Умру, как только узнаю это о нем! Но в пятнадцать лет такие мысли часто остаются невысказанными... Они легли камнем в глубину моего сердца и ворочаются там по сей день, и боль от этого — непередаваемая. И так будет всегда, пока я жива, а может быть, и дальше, потом, за той гранью, где я так надеюсь встретиться с Колей.
…Когда мы с ним гуляли по Москве, меня удивляли прохожие: казалось, что все они, даже неподвижные часовые у Мавзолея, улыбаются нам! Я сказала об этом Коле. И в ответ услышала:
— Наверное, тоже вспоминают свое хорошее...
Это был не комплимент, а что-то гораздо большее. И какое лицо у него было, какое лицо! Строгое и печальное, будто он знал, что хорошее не всегда бывает долговечным.
Беспрерывно отъезжали (на фронт?) военные на грузовиках. Мне представлялось, что эти машины должны быть огромными и почти доверху закрытыми металлом цвета хаки, а парни, скрытые там, за этим металлом, — одеты в ладные военные костюмы, тоже хаки. Парни — обвешаны оружием, с глазами суровыми и стальными, со сжатыми губами... Такого ничего не было, и даже я, девчушка, едва вышедшая из подросткового возраста, понимала, что парни растеряны и добродушны, а машины, увозящие их, — совсем не грозные.
Меня тогда поразил паренек, сидящий в числе других на одном из таких грузовиков. На нем была нескладная, велико-
35
ватая гимнастерка, и он, казалось мне, понимал неотвратимость происходящего и свое участие в нем, тоже неотвратимое, Я не запомнила его лица, оно было очень обычным. Только вот не могу забыть нескладную гимнастерку и фразу, которую он прокричал Коле, перегнувшись через борт отъезжающего грузовика:
— Эй, парень! Не теряйся! Девушка-то какая! Эх, да синеглазая!
Коля покраснел, сжал мою руку и отстранил меня от грузовика, словно пряча от чужих взглядов. А в мое сердце вползла змеей тоскливая, совсем недетская мысль: парень, наверное, отправляется на смерть, он прокричал нам свое завещание…
Воздушная тревога (не первая ли в Москве?) застала нас на улице Разина. Гудели сирены, а репродукторы на улицах беспрерывно взывали:
— Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!
Мы побежали в бомбоубежище. У ворот толпа оторвала меня от Коли, и я растерянно крикнула:
— Коля, дай руку!
Он схватил меня за руку, потом под руку, и это было открытие, которое я почувствовала, несмотря на грозную ситуацию. Но, как ни странно, это «под руку» не стало для меня роднее и ближе, чем «за руку». Может быть, сказался мой возраст птички-невелички? «Под руку» воспринималось чем-то нарочитым, а «за руку»... Мы были словно неразрывными!
Мы спустились вниз вместе с потоком людей и были поражены роскошью вестибюля: обилием бархатных диванов, цветных ковров, огромных зеркал, сверкающих многоярусных люстр, опасно свешивающихся с потолка: такие тяжелые, а вдруг упадут? У большинства из нас в те годы не было привычки к дорогому и красивому: жили, в основном, по — студенчески, более, чем скромно.
36
Оказалось, мы находимся в клубе имени Ногина, помещении полуподвальном, и потому (наспех?) используемым под бомбоубежище. Среди этой роскоши свободных мест не нашлось, и мы сели на какую-то деревянную ступеньку, которую углядел Коля.
— Аня, ложись на мое плечо (он хлопнул ладонью по своему правому плечу), поспи. Кто знает, когда кончится воздушная тревога? Приваливайся!
Приваливайся... Слово было новым, но очень понятным. И я осторожно, боясь спугнуть этот подарок судьбы, положила голову на его плечо. Я была так взволнована, что уснуть, конечно, не смогла. Но огорчать его не хотела. Поэтому закрыла глаза, умолкла и только изредка то задерживала, то переводила дыхание, слушая гулкие удары Колиного сердца. Оно билось в мою честь!
Отбой объявили часа в четыре утра. Не знаю, как я его услышала, но помню, что вскочила на ноги, ничего не понимая: в какой-то момент, значит, я уснула, я все-таки уснула! И мне стало так неловко! Уснула! Я стояла рядом с Колей в полном замешательстве... Я даже принялась оправдываться...
Но Коля, Коля!
Он с великой нежностью глядел на меня, и он говорил новые, прекрасные слова...
— Я смотрю, твоя головка стала сваливаться с моего плеча... ты устала, замучилась, уснула...
У него был негромкий, глуховатый голос (лучшая музыка в мире!) и эти его слова, его взгляды... Я взлетела на седьмое небо от счастья!
Домой мы шли под руку. Это было непривычно и не очень удобно: в ногу не получалось, мы все время сбивались с ритма. Правда, минут через десять ритм наладился, и мы старательно вышагивали, приближаясь к моему Большому Вузовскому переулку. Но я и сегодня знаю, что предпочла бы идти рука в руке, как с мамой в детстве: теплее и роднее.
37
По дороге я взглянула на часики — это были первые часы в моей жизни, и я любила на них поглядывать во время наших прогулок. Коле это не нравилось, он мрачнел:
— На часы смотришь?
Я потом, потом поняла, что он очень дорого ценил каждую минуту. Он был как бы уже за тем порогом, где нет ни меня, ни дома, ни Москвы — в двух шагах от пуль и бомбежек.
Наверное, его не покидали мысли о трагедии на войне. И лучшим исходом он считал...
— Некоторые возвращаются без руки... Или без ноги. И ничего, живут. Ходят же люди на костылях...
И он выжидательно смотрит на меня, и в глазах у него — тревога и надежда. Ведь за этим вопросом стоит другой, очень важный: а примет ли Аня Колю без руки? Или без ноги?
Возвращайся любым, только возвращайся!
Так я хочу сказать, так я должна сказать, но, по крайней своей молодости и желанию для Коли максимально хорошего, отвечаю иначе:
— Ты вернешься живым и здоровым, тебя не убьют и не ранят!
Коля вздыхает, долго молчит, опускает голову... Он, конечно, взрослее меня, ему через четыре месяца девятнадцать, и он ждал другого ответа. Того, который остался невысказанным.
— Ты это предполагаешь? Предчувствуешь?
В предчувствия он готов поверить. Как ни странно мне это, но он — мистик. Может быть, это что-то генное, всегдашняя наследственная вера народа в судьбу, «От судьбы не уйдешь», «чему быть, того не миновать»... Или, вернее всего, из-за зловещего предсказания бабки-врачевательницы...
Его мать потом рассказала мне, что, когда Коле было три года, он умирал от дифтерита, совсем уже задыхался. Жили в Труняевке, врача дома не оказалось, помчались на лошадях в Клин, к известной тогда знахарке. Эта бабка вернула маль-
38
чика к жизни, напоив отварами из трав и заставив дышать парами над каким-то котлом.
К несчастью, она не избежала искушения предсказать будущее:
— Ты, мать, из-за него не больно-то убивайся. Я его вылечила, но он в молодых годах умрет, он тебе не кормилец.
— И Коля знал об этом?!
— Знал... Кто-то «умный» раззвонил по всей деревне...
Колина сестра Аня утверждает, что этим «умным» оказалась бабушка Марфа! Потрясенная такой новостью, она все ходила по соседям, рассказывала, ждала сочувствия...
Спустя годы его тетки вспоминали:
— Ехали мы с Колей в трамвае, уже во время войны, а он вдруг закрыл лицо руками и произнес: «Эта война для меня — я не вернусь». Наверное, вспомнил о предсказании...
Но чаще во время прогулок у Коли бывало противоположное настроение. Он оживленно рассказывал о наших общих учителях и, конечно, о Лидии Николаевне, вспоминал случаи, которые мы считали смешными или значительными. Речку в своей Труняевке называл «нашей лужей», себя — «совсем деревенским жителем», и потому меня особенно удивляло, что собирать грибы или ягоды он не любил.
— А если вдруг много-много ягод? — любопытствовала я.
— Ну, если случалось попадать в лесу в такой малинник, то тут уж не рассуждаешь, а ползешь и уничтожаешь всю малину...
Я почему-то не спросила его — то есть как это — «ползешь»? Разве можно ползком «уничтожать» малину? Вот если чернику или землянику... Так и осталось это маленькое недоумение...
На нашу долю выпало всего семь дней, и в последние три мы встречались дважды в сутки: с двух часов до пяти днем и с семи до одиннадцати вечером — так распорядился Принц. И поэтому его родители отняли у нас четыре дня, последних дня, что оставались до моего отъезда в Свердловск. Их, конечно,
39
сильно тревожили непрерывные и многочасовые отлучки сына. Куда уходит, с кем встречается? Несомненно, причиной отлучек могла быть в его возрасте только девушка. Но что за девушка? Какая она?
А у нас с Колей не было не только времени перезнакомиться семьями, но, по-моему, и в голову такое пока не приходило — по крайней мере, мне. Мы знали, сколько нам отпущено времени — почти нисколько! — и торопились друг к другу, только друг к другу.
Он любил меня с каждым днем, с каждым часом все сильнее, я ощущала это всем своим существом. Его лицо утратило свою обычную, горделивую холодность, стало тревожным, обеспокоенным. Он часто заглядывал мне в глаза (какие это были волшебные минуты!) и все спрашивал:
— Когда ты уезжаешь в Свердловск? Как мы будем? Будем писать друг другу? Ты своего свердловского адреса еще не знаешь? Не знаешь? Ты насовсем туда уезжаешь? Насовсем?
Сколько нежности и печали слышалось в его голосе, в этих словах! Сколько виделось во взглядах, в которых уже ничего не было от надменного Принца, и все — от Коли Большунова, от моего Коли.
Я напрасно решила, что нам «почти нисколько» не было отпущено времени! По значимости — я была не права. Как мало (я давно это знаю!) одни люди могут сказать друг другу за целую жизнь, и как много другие за те семь дней, которые юным чувством Ани Гудзенко и Коли Большунова были вырваны из грохота войны...
Во многом мы были еще детьми, привыкшими беспрекословно подчиняться родительскому приказу. Вот и отослали его родители в Труняевку, подальше от неизвестности, от незнакомой им девушки, ради свидания с которой он почти не бывал дома. Наше ночное пребывание в бомбоубежище («не ночевал дома!») решило его отъезд в Труняевку буквально в считанные минуты.
40
Он был вне себя...
— Я только до следующего воскресенья, на несколько дней, я любым путем уеду оттуда. И как только вернусь, сразу же звоню тебе... А... а может так случиться, что за это время тебя уже увезут в Свердловск?
— Что-то не чувствуется, что за это время увезут...
Но он не успокаивался, все думал, что увезут... Мысль о том, что я в пятнадцать лет могла бы одна остаться в Москве, никого из нас не посетила: мы были воспитаны в полной неотрывности от родителей, да еще и война пришла, она не допускала такого раннего разобщения. Люди, не только родные, но даже мало-мальски знакомые, старались тогда быть ближе друг к другу, чтобы переносить грядущие неминуемые тяготы вместе, сообща.
Наша первая (она и последняя!) разлука оказалась мучительной. Я провожала его на вокзал, словно на войну, и мы всю дорогу шли молча, а если начинали говорить, то непривычно противоречили друг другу. Мы потеряли присутствие духа, и наше, общее с ним, настроение то и дело выходило из берегов.
По дороге, на улице Чаплыгина, увидели здание, в которое ночью попала бомба. Разрушенные стены валялись и на мостовой, и на тротуарах. Дворники стаскивали в большие кучи битый кирпич, стекло, рваные обои. Часа два назад я услышала от родителей, что погибла Тая Фадеева, девушка из нашего двора. Проходила где-то невдалеке от Большого театра, и осколком бомбы ее убило...
Коля помрачнел (зачем я рассказала ему о Тае?) и попросил, чтобы я никуда не отходила от своего дома, пока он в Труняевке, и сейчас же, сегодня, не откладывая, посмотрела бы, какое в моем переулке самое надежное бомбоубежище...
Потом мы снова молчали...
И на перроне мы тоже стояли молча, как в воду опущенные...
41
Да! Он хотел было угостить меня газировкой с сиропом: «Будешь пить, Аня?» Но я отказалась, даже рукой сделала поспешный отрицательный жест: «Нет, нет!»
Сейчас, в преддверии двухтысячного года, мало кто уже остался из тех, кто понял бы девочку из сорок первого. Но я — то тогда и представить себе не могла, как это Коля будет платить деньги за мой стакан газировки: неудобно! А он выпил эту подкрашенную воду. Было жарко, и, видно, ему очень хотелось пить...
Я не хочу опустить даже такую малую деталь, потому что это были последние действия Коли, которые я могла еще видеть. А я инстинктивно дорожила каждым его движением, каждым взглядом и жестом.
Я не понимала, какое состояние души владело мной тогда, я в те годы и вообще-то не умела анализировать, как Коля говорил, «ни на сантиметр»... Почему не плакала, почему не висела у него на шее, не протестовала вслух против отнятия у нас родителями наших последних дней? Почему на его вопрос: «А если поезда придется долго ждать — ты подождешь?», я мрачно ответила: «Нет»! После этого «нет» он так понурился, он стал таким грустным!
Долгие годы спустя меня вдруг пронзила мысль: а ведь он спросил меня таким образом о том, буду ли я ждать его — ждать с войны?! Господи! Неужели так оно и было?
Да, мои действия больше походили на капризы девчонки, чем на ответы взрослой, понятливой девушки. За то и расплачиваюсь вечной тоской по ушедшему Принцу. Все мои годы я проплакала и протосковала... Даже когда, казалось бы, мне, как и многим людям, могло быть весело и хорошо, я и тут тосковала. Он всегда как бы стоял рядом, чуть сзади, чуть-чуть слева, в полушаге от меня, не отпускал ни на минуту, и в этом было и горе и счастье — вся моя жизнь.
Вокзал... От кассы Коля быстро вернулся с билетом в руке. Он наклонился надо мной, и я поняла, что он хочет меня поцеловать, в первый раз, который может оказаться и последним. Ведь по дороге он сказал:
42
— А может быть, мы в последний раз видимся? Вообще в последний?!
Но в пятнадцать лет я и помыслить не могла о мужском поцелуе — и резким движением опустила голову, да так, что собственный подбородок чуть не ударил меня в грудь! Глупая недотрога...
В следующую минуту Коля стоял за мной, за моей спиной, как бывало в школе, в раздевалке, перед уроками. Но только теперь он был совсем близко. Над моей головой прошелестел ветерок, он коснулся моих волос. Погода была июльская, жаркая и тихая, совсем безветренная... Спустя долгие годы я не раз вызывала в памяти эти минуты и снова ощущала ветерок. И я давно поняла, что это Коля поцеловал меня тогда — поцеловал в макушку...
Конечно, я подождала бы поезда, я не смогла бы уйти, несмотря на свое «нет». Но ждать не пришлось — поезд подошел почти сразу. Уже на бегу Коля крикнул: «Прощай!», и я ответила: «Нет, не прощай, а до свидания!» — «Конечно, до свидания!» — сказал Принц и обернулся ко мне — до вагона оставалось несколько шагов. Я увидела его лицо, странно блестящее, он потирал его рукой. Отчего оно так блестело? Спустя годы, снова спустя годы, я поняла, что это были слезы, что Принц плакал... что все его лицо было залито слезами...
А я заплакала минуту спустя, когда поезд стал отходить от платформы. Все закружилось во мне и вокруг меня, и одинокая девочка, недавно счастливая сверх меры, вдруг почувствовала себя щепкой, соломинкой, летящей по ветру. И тогда я закрыла лицо руками и зарыдала во весь голос.
Коля, Коля, Коля!
Через четыре дня меня увезли в Свердловск, но в день отъезда я чуть не свела с ума моих родителей...
Сначала я умоляла отца немного, совсем немного отсрочить наш отъезд. Потом умолкла, поняв всю бесполезность моих просьб. Потом ушла из дома, пообещав прийти на вокзал, прямо к поезду...
43
— Мне надо еще кое с кем проститься» — сказала я. И родители кивнули — они всегда были такими доверчивыми... А я написала Коле прощальную записку (с номером вагона — а вдруг он успеет!), вложила ее в конверт вместе с моей маленькой фотографией и подошла к его дому, в Лялин переулок.
Стекла Колиных окон в Лялином были сильно запыленными, а комната за ними ощущалась какой-то нежилой. Еще бы! Ведь Коли там не было! Но с форточкой мне повезло: ее не закрыли, и я бросила туда свой конверт... Потом долго бродила по Казарменному, по Покровскому бульвару, поглядела на скамейку, где мы с Принцем сидели однажды июльским вечером и целый час играли в пословицы и поговорки...
На Ярославский вокзал я пришла лишь минут за десять до отхода поезда. Помню лица моих родителей, вытянутые и неподвижные... Я не думала тогда о них, о папе с мамой. Тоска о Коле заслоняла от меня все.
Я стояла на перроне до тех пор, пока не загудел паровоз, пока меня насильно не втащили в вагон отец и проводник.
...И вот мы с Колей в разлуке.
В Свердловске я стискиваю лоб и виски руками и едва сдерживаю крик, как подумаю, что он теперь в Москве и звонит в мою пустую квартиру... На днях я разбирала старые письма и нашла (через пятьдесят шесть лет после описываемых событий!) открытку от нашей московской соседки Ирины Яблочанской с припиской: «Из вашей квартиры все время раздаются телефонные звонки чудесные»...
Тогда мы всем сообщили об отъезде, и родным, и друзьям, и самым дальним знакомым. Это Коля звонил все время, а меня в этой квартире больше не было.
Представив себе это в Свердловске, я несмело отправилась на вокзал — узнать о билете до Москвы на ближайший день. Оказалось, билеты теперь продаются по предъявлению паспорта с московской пропиской. До паспорта я еще не доросла… Ехать без билета? Но меня одолевают страхи, из
44
которых главный: Коля вот-вот покинет Москву, он уедет в армию. Может быть, уже и уехал!
Так оно и было! Очень скоро я получила от Коли открытку, в которой он писал, что выезжает из Москвы 27 августа. Он уехал еще до моего визита в справочное бюро свердловского вокзала!
Я плакала, читая его открытку, и особенно щемило сердце от последних фраз: «Ты говорила, что встретимся через год. Может быть и встретимся, но что-то сомнительно. Аня, пиши чаще...»
Коля, Коля...
Через месяц — другой мои непрерывные волнения проходят и слезы высыхают: я начинаю получать от Коли письма — треугольнички с адресом полевой почты и со штампом «просмотрено военной цензурой».
Одна неизвестность исчезла, но появилась другая: как он там, в армии? Непосредственной опасности он пока не подвергается, фронт еще впереди. Он в военном училище, и я получаю от него бодрые письма. И снова плачу, когда читаю о том, как он вспоминает обо мне, В одном из писем он восклицает: «Эх, и милое дело артиллерия!» Принц — он хотел меня порадовать, ведь первыми моими словами, обращенными к нему в июле сорок первого, тогда, на Покровском бульваре, были советом поступать в артиллерийское училище в Рязани... И лишь в 1996 году, пятьдесят пять лет спустя, идя по следам Коли в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске, прочитала я в старых приказах по Черноморской группе войск, что его училище было пехотным да еще и носило зловещее название Могилевского. Этого, конечно, он мне не сообщил... А, впрочем, Коля был все-таки близок к истине, когда писал о «милой артиллерии» — его обучали страшному минометному делу...
Клава, сестра Коли (я переписывалась с ней, она вместе с матерью и сестрами эвакуировалась в Челябинск), сообщала мне не очень веселые новости: Коля, несмотря на все
45
просьбы семьи, не хочет сфотографироваться. И вот по какой причине. «Здесь особенно негде, — пишет он, — и я очень похудел, так что радости своим видом вам не доставлю. Только Ане в Свердловск ничего этого не пишите». Клава, конечно, немедленно уведомила меня — ей не хотелось лукавить, она была мне хорошей подругой.
Коле не раз приходилось менять места своего пребывания. И тогда он сообщал в конце письма: «На прежний адрес мне больше не пиши. Как приеду на другое место — дам знать».
У нас появились новые слова! Несколько повзрослев, вместо «До свидания» мы пишем друг другу: «Целую. Коля. — Целую. Аня». А потом и «Крепко тебя целую. Твой Коля». — «И я тебя крепко целую. Твоя Аня»... Но теперь нас разделяют сотни километров, и мне остается только терзаться угрызениями совести при воспоминании о том, как я с ним простилась тогда, на вокзале...
Между тем, мой девятый класс собрался ехать в колхоз, на сортировку картофеля. А меня оставили в городе и не без оснований. В нашей свердловской школе «французов» не оказалось, и теперь я должна была осваивать немецкий язык, особенно нелюбимый в связи с войной. То, что другие одолевали за четыре года обучения, с пятого по восьмой классы, я обязана была постичь за месяц, пока мои одноклассники трудятся на картошке...
Я было ринулась в бой, но... меня вдруг осенило. Нет, я не стану этим заниматься! Я поеду к Коле! В Татищево!
Оттуда, из военного училища, он мне прислал уже четыре письма. И трудный адрес со множеством цифр, тире и прописных букв я знала наизусть.
Поезда ходили скверно, они часто задерживались по дороге. Они, бывало, стояли подолгу в тупиках и на запасных путях, пропуская в первую очередь эшелоны то с ранеными, то с вооружением, то с новобранцами.
А железнодорожные билеты? Их очень непросто было купить, а в иные города билеты и вовсе не продавали без соответствующих пропусков.
46
Но мной уже владела лихорадка: я увижу, увижу Колю! Не продадут билет, так поеду «зайцем», стану пересаживаться с поезда на поезд, договариваться с проводниками, буду шагать по шпалам и шоссейным дорогам, останавливать машины... Меня в конце концов довезут до Колиного училища! И пустят в эту «Почту», хоть она и «полевая»! Я очень расхрабрилась, мое состояние духа нельзя уже было сравнить с августовским: то ли я взрослела, то ли стала четко понимать, что другого случая увидеть Колю у меня может и не быть: на линию фронта меня-то наверняка не пустят.
Где это самое Татищево? На Волге, кажется? Это я узнаю на вокзале… В кармане кофты лежат деньги на билет, которые дала мама, чтобы я доехала до места, где... мой класс сортирует картофель. Пришлось так сказать! А сколько нужно денег, чтобы добраться до Татищево? Этого я не знала. Как я собралась обойтись в долгом пути двумя бутербродами, которые заняли так мало места в моей сумочке? Что меня ожидало в дороге? Голод, холод, отсутствие крыши над головой, непредвиденные, может быть, кошмарные для такой юной, неопытной девушки ситуации? Я ведь ни к чему не была готова, ни к чему... Но меня ничего больше не интересовало, ничего не могло остановить...
Я покидала какие — то блузки и туфли в маленький чемодан и, главное, старательно уложила голубое платье, которое очень нравилось Принцу. И — побежала к вокзалу, легко размахивая на ходу чемоданчиком.
Я должна была увидеть Колю, прижаться глазами к его щеке и теперь, наконец, ощутить поцелуй, которого я лишила нас тогда, в июле. И пожелать ему вернуться здоровым. Или живым, или живым!
Эти мечты рухнули в одну минуту.
В конце Перекопской улицы, что в районе завода «Уралмаш», меня остановил случай, с которым я обязательно разминулась бы, если б вышла из дома на минуту раньше.
Наш почтальон Вера Иванова (я до сих пор храню ее
47
маленькую фотографию с ласковой надписью) любила приносить мне письма — треугольнички от Коли. Она по-матерински улыбалась, глядя на то, как я сияю: весточка от Коли!
Вот и теперь она радостно протянула мне треугольник из Татищево, и я кинулась ее обнимать. Я схватила треугольник, открыла его... «На Татищево мне больше не пиши...» Коля уезжал оттуда и обещал вскоре прислать свой новый адрес: «Едем поближе к фронту. Настроение бодрое. Ты за меня не переживай. Пока жив и здоров. Крепко целую. Твой Коля».
Я села на чемодан и заплакала, закрыв лицо серым вязаным платком. Прохожие ни о чем меня не спрашивали: в те годы многие выли на улицах, получая похоронки.
Я вернулась домой с лицом, опухшим от слез, я бросила чемодан на пол...
— Что с тобой? Тебе, что, не надо все-таки ехать на сортировку картофеля? Тебя исключили из школы за хвост по иностранному языку? Ты потеряла деньги? Что случилось? — взволнованная мама дергала меня за рукав.
Но я молчала и плакала, и она догадалась. Милая моя мама, она не упрекала меня ни единым словом за желание скрыть от нее совсем иную поездку, а только гладила по спине, по плечам, которые содрогались от рыданий.
Коля мой, Коля! Я снова не простилась с тобой, я опоздала!
...Летом 1942 года я работала на военном заводе, а вечерами училась в экстернате. Осенью все это продолжалось тоже. А девятый класс я окончила еще весной.
Я хотела быть достойной Принца. Он уже воевал на Кавказе, с фашистами, осуществлявшими гитлеровский военный план с красивым и нежным названием «Эдельвейс». Эдельвейс! Цветок, растущий высоко в горах! И мерзавцы, стремившиеся захватить наши горы, ходили, как я потом узнала, с такой эмблемой на своей форме, на «штормовке». Я никогда не видела этого цветка, ни в природе, ни на рисунке, и с тех пор ни видеть его, ни слышать о нем не хотела бы.
48
...Ночные смены... В полночь я привычно пробиралась по узким тропинкам на свой завод через «Эльмаш»*. И ежилась лишь тогда, когда в кромешной тьме деревья начинали казаться мне человеческими фигурами, а их ветви — длинными руками, пытающимися схватить меня, одиноко идущую лесом. Тогда я делала инстинктивные перебежки от дерева к дереву и, в конце концов, добиралась до проходной завода.
А работа моя не отличалась сложностью: я выдавала рабочим метчики и фрезы разных калибров. Выучила их названия, знала места в инструментальной кладовой. И испытывала два непохожих неудобства. Ночью я мечтала поспать хоть полчасика, меня буквально кидало из стороны в сторону из-за хронического недосыпания. А главное, было очень не по себе: рабочие выпускают танки, а я всего-навсего выдаю им инструменты. И даже когда в выходные дни нас посылали расчищать железнодорожные пути, за что оделяли горячей мутной водой с двумя плавающими в ней лапшинками (суп) и двумя ломтиками хлеба, я, орудуя лопатой, совком и метлой, снова чувствовала себя неловко. Разве это помощь фронту? Коля рискует жизнью...
Для меня, для Колиных родных в Челябинске, для его отца в Москве — страшное стояло лето в сорок втором году: никто из нас не получал от Коли писем. Никаких вестей, никаких. Кроме одного, в середине мая, которое получил от него отец. Коля сообщал, что выпущен из училища младшим лейтенантом и теперь назначен командиром взвода. И... бойцы его взвода почти не знают русского языка и команд не понимают!
Как такое прошло мимо глаз военной цензуры? Однако прошло. В этом же письме Коля рассказывал, что «пули жужжат везде, как мухи, и передвигаться приходится только ползком». Мне бы он такого не написал! Все это я прочитала уже в сорок третьем году, вернувшись в Москву и придя в Лялин переулок.
А в сорок втором в Свердловске находился эвакуированный туда Московский университет имени Ломоносова (час-
________________
* Завод, расположенный в Свердловске на территории «Уралмаша»
49
тично он разместился и где-то в Средней Азии). Окончив свой экстернат, получив аттестат об окончании полной средней школы, с великим трудом уволившись с завода (отпустили лишь потому, что я числилась ученицей), туда я и поступила, на исторический факультет. Учиться было интересно, нам читали лекции ученые с мировым именем.
Как мы, студенты, жаждали возвращения домой, в Москву! Первым уезжал академик Греков, красивый старик с львиной, седой шевелюрой. Помню: он воздвигся на трибуне, произнес прощальное слово и пожелал нам всем вскоре встретиться «в нашей столице, под куполом Московского университета». Мы устроили ему овацию.
Помню и один из неприятных дней, связанных с Университетом. О нем можно было бы и не упоминать, но это тоже было какой-то приметой времени...
На историческом факультете проходило открытое партсобрание, на котором принимали в кандидаты в партию Юрия Полякова, интеллигентного молодого человека с аскетическим лицом, студента, кажется, третьего курса. Его хвалили: отличник, ведет общественную работу. Но уже с начала собрания, на котором очутилась я совсем случайно, коротая перерыв между лекциями, мной овладела неприязнь к Юрию Полякову. В течение получаса, пока он излагал биографии, свою и родительские, я никак не могла понять — почему? Но вдруг кто-то задал ему вопрос, после которого в огромной аудитории воцарилась тишина. И я поняла...
— А почему вы, молодой и здоровый, не на фронте, не на защите Отечества? Видите — здесь сидят лишь девушки, пожилые педагоги да один инвалид!
Поляков ответил, что воспользовался бронью, которая освобождает студентов старших курсов от армии. В кандидаты его приняли — воспользоваться бронью — не преступление и даже не проступок. Но я помню, как во время войны, да и много лет спустя, народ презирал «бронированных».
Коля воспользоваться бронью не захотел, не счел возмож —
50
ным поступить против своей совести. А ведь его тетка Анастасия Ивановна предлагала ему работу у станка, на авиационном заводе, где сама работала.
— Так и не уговорила, — со вздохом вспоминала она. — Коля сказал: «Если все от фронта будут бронью закрываться, кто тогда вас от Гитлера заслонит?» Так и сказал наш Коля...
И это просто необходимо — открыть перед всеми Колину чистую душу, обнародовать его негромкий героизм. Николай Александрович Большунов имеет право на вечную память народа, за свободу которого воевал... Я тороплюсь рассказать то немногое, что знаю о нем, о его короткой жизни. Мне надо успеть!
Весной 1943 года вместе с Университетом я возвратилась в Москву. А письма от Коли все не приходили, ни мне, ни его родным.
Вернулись из Челябинска мать Коли и его сестры, с двумя из которых, Клавой и Тоней, я переписывалась во время эвакуации.
Точно не помню, когда я впервые переступила порог Колиной квартиры в Лялином переулке. На меня тогда тревожно посмотрела его мать, мрачно — отец и дружелюбно его сестры, Клава и Тоня. Младшая Аня взглянула с детским любопытством — ей было всего одиннадцать.
С тех пор я стала навещать семью Принца, у меня как-то само собой появилось это неписаное право, ведь с Клавой я еще до эвакуации познакомилась, и Коля был очень рад этому связующему звену. Как только случалась задержка с моими письмами, он тут же обращался к Клаве: не знает ли она, что со мной? «От Ани давно нет писем». И тогда ко мне в Свердловск летело тревожное послание из Челябинска: «Коля спрашивает о тебе, он о тебе волнуется. Ты ему пиши не ответами, не только письмо на письмо, но и внеочередные. Ведь почта работает неважно, а так какое-нибудь дойдет. С приветом и наилучшими пожеланиями. Твоя подруга Клава».
Лялин переулок... Он стал для меня убежищем от тоски,
51
священным местом: там было прежнее жилище Коли, дом, откуда он ушел на войну. А его родных я полюбила сначала чувством, отраженным от того, что испытывала к их сыну и брату, а затем и осознав их личные достоинства — доброту, глубокую, природную порядочность, духовное единение друг с другом. И — мое единение с ними, которое так никогда и не порвалось потом, в течение долгих десятилетий, пока все были живы...
Помню один из солнечных зимних дней в январе 1944 года, Лялин переулок, мне идет восемнадцатый год, и я стою посредине комнаты, молчу и почему-то низко опустила голову. И на меня смотрят все они, Колины родные, даже его отец на этот раз. И вдруг тетя Груша (так я звала Колину мать), с такой проникновенной грустью, так по-своему, по-деревенски сказала:
— Аня... ты теперь в самом соку...
И я поняла, что вторая часть фразы, будь она произнесена, прозвучала бы так:
— А Коли все нет... И писем от него — нет...
Извещение о гибели Коли я получила первая. Наверное, в его кармане нашли не родительский, а мой адрес, московский. Может быть, он предполагал, что в Свердловске я ненадолго? Или, может быть, все-таки получил мое письмо осенью сорок второго, в котором я написала, что поступила в Университет, и что есть надежда вместе с Университетом вернуться в Москву? А может быть, родительский адрес выпал на землю, когда Коля падал? И в кармане гимнастерки остался только мой?.. Не знаю.
В извещении командир роты сообщал: «Ваш любимый друг, Болыпунов Николай Александрович, младший лейтенант, 17 ноября 1942 года пал смертью храбрых в селе Гойтых (Гойтх) Туапсинского района Краснодарского края и там похоронен».
Я открыла почтовый ящик поздним вечером, прочитала и, не понимая, что делаю, побежала к Красной площади. Земля
52
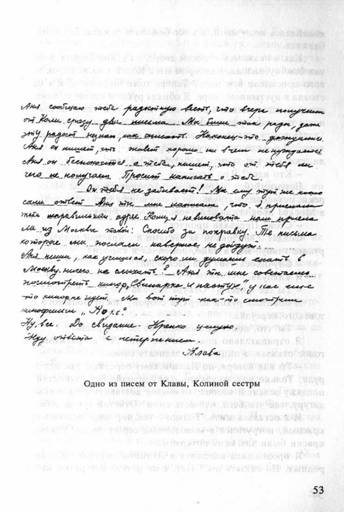
колебалась подо мной, а я все бежала и бежала, без крика и без слез.
Как я оказалась в чужом дворе, на улице Разина, напротив бомбоубежища, в котором мы с Колей в июле сорок первого просидели всю ночь? Теперь тоже была ночь, и я одна стояла в пустынном дворе. Я обняла руками какой-то темный столб и, вцепившись в него, закачалась. А когда подняла голову, то звезды расплылись надо мной и затопили небо.
Потом я мчалась по аллее, где мы с Колей любили гулять... Я поняла, что бегу к набережной — там мы тоже ходили, сколько раз ходили и смотрели на чаек...
— Кто идет? Ваш пропуск!
Безумный бег, который мог окончиться на дне Москвы — реки, остановил патруль. До конца войны было еще долго, и в Москве продолжал действовать комендантский час.
— Стой! Предъяви пропуск!
Солдат с винтовкой за плечами и с красной повязкой на рукаве глянул мне в лицо, помолчал и спросил:
— Случилось что? Два часа ночи! Я кивнула.
— Ты где живешь? Откуда забрела сюда?
Я показала рукой вверх, в сторону моего Большого Вузовского переулка.
— Ты что, немая? Слышишь, но не говоришь?
Я отрицательно покачала головой. Рот не разжимался, голос отказал, а лицо стали заливать слезы.
— Ты иди наверх, по Ивановскому переулку, там нет патруля. Только ничего такого... не вздумай! Без глупостей! Я погляжу вслед! Я вообще-то обязан доставить тебя в комендатуру, так что беги, что есть силы! Отвечай тут за тебя!
И я осталась жить. Только с тех пор мир, недавно прекрасный, погрузился в монотонный серый цвет. Остальные краски были для меня потеряны.
Я продолжала навещать в Лялином переулке Колиных родных. Но сказать им?! Нет, я не могла. Все равно кто-то
54
неминуемо лишит их надежды, но это буду не я... Да и похоронки бывают ошибочными, с этим люди уже давно сталкивались. Длительный госпиталь, потеря памяти, плен, партизанский отряд, какое-нибудь спецзадание, спецназначение... Мало ли что? И человек возвращается домой, когда надежда его дождаться исчезает.
У меня-то не было надежды. Я сразу, с момента получения похоронки, почувствовала, что Коля убит. Но человек — он не более, чем человек, и я начала себя уговаривать: а вдруг? Я вспоминала наши слова и взгляды, наши вздохи, улыбки и пожатия рук... До сих пор все вспоминаю и все думаю: а вдруг?.. А вдруг?
Отец Коли несколько раз запрашивал о судьбе сына, но ему не отвечали. Может быть, я в этом почти уверена, где-то у них было отмечено, что извещение уже послано. То, которое мне...
Только в августе сорок четвертого, спустя чуть ли не полтора года после моей похоронки, после многих запросов Александр Иванович получил наконец ответ. «Верный воинской присяге, проявив геройство и мужество...». Убит! Убит и похоронен в селе Гойтых (Гойтх).
Колин отец прожил всего несколько месяцев после этого сообщения. Он слег, не вставал с постели и умер от инфаркта в возрасте сорока шести лет, не дожив двух недель до Победы, ради которой воевал Коля.
День Победы, девятое мая сорок пятого года... Я побежала на Красную площадь, полную народа, а оттуда людские волны вынесли меня к Манежу. Там размещалось в те годы посольство США, наших союзников в войне против Гитлера. В одном из окон посольства поставили портрет Франклина Рузвельта — президента уже не было в живых. Из посольства вышли два американца, и толпа тотчас подхватила их, стала подбрасывать высоко в воздух и кричать «Ура!».
Я тоже хотела радоваться со всеми, но не смогла. Моя душа разрывалась при воспоминании о том, что без малого
55

четыре года назад мы с Колей ходили по этим местам, такие юные и счастливые. Коля убит, а я, словно чужая и лишняя, стою среди ликующих людей и плачу... Наверное, кто-нибудь подумал, что от радости. Но радость Победы я воспринимала только разумом, а сердце было разбито. 17 ноября 1942 года фашисты убили нас обоих, прекрасного юношу, которому не хватило двух недель до двадцати лет, — Принца — и девушку на семнадцатом году, любовь которой могла принадлежать только ему одному.
...Прошло несколько лет, и я с Колиной младшей сестрой Аней приехала в деревню, в Колину Труняевку. Я давно просила Аню об этой поездке. Там — это еще Коля мне рассказывал — было хорошо до войны. Белели вишни и яблони весной, цвела и благоухала черемуха, а осенью ребята, и Коля с ними, помогали взрослым в поле — собирали созревший лен, горох. В свободное время ходили в лес за грибами и ягодами. И, к несчастью, в одном из таких лесных походов веткой сильно ударило Колю в глаз. Зрение восстановилось не полностью, и медкомиссия не пропустила Колю в летное училище. А была прямая дорога в авиацию! Он любил небо, мечтал о нем, перед войной занимался в аэроклубе... И уже делал самостоятельные вылеты!
Может быть, в небе его не настигла бы пуля?
Я проглотила комок в горле, он мешал мне дышать. И взглянула на сегодняшнюю Труняевку. Колина деревня лежала в руинах, разбитая, сожженная, уничтоженная немцами. Мощным теперь здесь был только бурьян, разросшийся между обгорелыми кирпичами и бревнами. Труняевка напоминала кладбище, о котором уже некому вспомнить!
Аня узнала свою избу — то, что от нее осталось. И я подобрала там кусок кирпича от печной трубы. Может быть, к нему, к этому красному осколку, когда-то прикасалась рука моего Коли?
Шли и шли годы, а я все мучилась воспоминаниями, раскаянием, поздними сожалениями. Зачем, зачем опустила го-
57
лову, когда Коля наклонился поцеловать меня? Ведь впереди был фронт, и бои, и смерть!
И еще: это слово — люблю — было написано на наших лицах, оно сияло в наших глазах, когда мы долго и молча глядели друг на друга. Потом мы не раз чертили люблю — эти пять букв, в конце писем, там, где стоит «До свидания». Но никто из нас в июле сорок первого не решился произнести это вслух, и звука волшебного слова мы не услышали. Я казнила и казнила себя за преступную сдержанность, за характер недотроги. Зачем я не обняла его, не повисла на шее, не зарыдала в голос у него на груди тогда, на вокзале? Ведь он ждал этого, он так этого хотел! Почему сразу же не сбежала из Свердловска в Москву, когда он там еще был? В Татищеве, ведь он учился там не один месяц, и надо было мчаться туда в начале его учебы, а не надумать это в самом конце, когда он уезжал? Почему, почему, почему...
Почему мы не сказали друг другу люблю... Надо было сказать...
Как бы в ответ на мои терзания я увидела сон... Будто иду я по незнакомой квартире, но дорогу почему-то — знаю. Иду, на мне старенькое синее пальто, перешитое из маминого... Коридоры темные, длинные, а я все иду, иду... Вдруг вдали забрезжил электрический свет. Вхожу в неуютную, пустоватую комнату, а у стены — Коля стоит, такой же немыслимо красивый, каким был в школе. И одет в ту же гимнастерку из тонкого серого сукна, и так же перехвачена его талия широким офицерским ремнем. Я бегу, обвиваю его шею руками, плачу. И спрашиваю: «Коля, скажи, ты любил меня?» А он... опускается на колени передо мной, одетой в старенькое синее пальто, обнимает мои ноги и произносит: «Аня, я тебя люблю». И тут — поднимает мой Принц голову свою, смотрит, а глаза его, глаза, огромные и прекрасные, — они незрячие, неживые. Он смотрит на меня из другого мира, он оттуда отвечает мне!
Он редко снился мне в больших, складных снах. Чаще
58
всего — обнимет тихонько, едва-едва, и уйдет куда-то , не касаясь земли, будто уплывет по воздуху. Но было все-таки еще два сна, ярких и памятных. И оба, как и этот, первый, в помещениях, едва освещенных электричеством. Без окон, без дневного света...
...Сидят в такой комнате все Колины родные: отец, мать, сестры. Ждут его. И он входит быстрым шагом, и знает, что я тоже здесь, только не рядом с его родными, а молча замерла у другой стены, возле дверей. Он приветствует родных, все они радуются, обнимаются, целуются. А я одиноко поникла, голову опустила. И вот он уже прощается, спешит уйти. Я совсем не обижаюсь, мне довольно того, что я его видела, хоть издали. Только вдруг он подходит ко мне, гладит меня по спине, по голове и все что-то говорит, такое нежное, тихое, такое единственное. Но что? Я не могу расслышать. И тут он зарывается головой в мои колени, и я прижимаюсь лицом к его лицу, и это — счастье, которому нет названия.
Совсем недавно, зимой 1997 года, мне приснился еще один сон. Это третий, и теперь у меня целых три сна, которые я могу вызывать в памяти. Сны о Коле.
...Я и Коля будто бы находимся у нас, в квартире моего детства, в Большом Вузовском переулке. Справа от прихожей там были расположены комнаты, а слева — большое помещение без окон (снова без окон, но на этот раз и в действительной жизни там окон не было), где еще до войны мой отец построил кухню, ванную, чулан, умывальник и какую-то сложную (по тем временам) технику для отопления всей квартиры. Все это было в реальном прошлом. А теперь, во сне, там ничего этого нет. Вообще ничего нет, кроме нового предмета — широченной тахты, покрытой аккуратным, старым покрывалом.
Я сижу на этой тахте и размешиваю в кастрюле тонкие, только что сваренные макароны с маслом. Коля стоит чуть поодаль, в белой майке, и он такой похудевший! Я хочу дать ему поесть эти макароны с маслом, но он тихо, с улыбкой произносит:
59
— Если ты меня так будешь кормить, макаронами, то я совсем похудею. Меня надо кормить природной едой, овощами, например, как мама кормила.
— Ай, а у меня есть вкусные мясные консервы, сейчас откроем!
С этим он соглашается, и мы садимся на тахту и ужинаем, и нам так хорошо рядом. Но я вдруг ощущаю смертельную усталость и ложусь на тахту, я совсем без сил. Коля подходит ко мне сзади, тоже ложится на тахту, прижимается тихонько к моей спине и приказывает своим негромким голосом:
— А теперь рассказывай».
— О чем я должна рассказывать? — спрашиваю. И едва сдерживаю рыдания, так мне тяжело и горько.
— Все рассказывай! Все-все! — И он дышит мне в затылок, и готовится все выслушать и все простить. И он целует меня в макушку, едва-едва, словно ветерок в тихий погожий день, как тогда, в сорок первом, на вокзале...
Как я была счастлива, когда он мне снился! Главным в этих снах было то, что я могла его хоть на минутку увидеть…
«Я вернусь уже в следующее воскресенье», — сказал он мне более полувека назад. И, конечно, он вернется. Но, наверное, это будет общее воскресение во время следующего пришествия Христа? Не напрасно же он пообещал: «Я вернусь в следующее воскресение…» А мне так хочется увидеть его еще здесь, на Земле!.. Были ведь когда-то Филемон и Бавкида, которые любили друг друга до глубокой старости и умерли в один день.
...Из четырех теток Коли я больше любила тетю Настю, Анастасию Ивановну. Она всегда сочувствовала мне... Бывало, на Пасху, когда мы все гостевали у теток или в Лялином, у Колиной мамы, она вдруг взглянет на меня, и так ласково... Году в шестидесятом, помню, собрались мы в Лялином как-то, даже старенькая бабушка Марфа пришла, ей было уже лет под девяносто. Заговорили о Коле, и тетя Настя такое вдруг изрекла!
60
— Пусть хоть без обеих ног, но только вернулся бы! Мог бы сапоги тачать, были бы руки! — с великой грустью она это произнесла. И протянула вперед свои тяжелые, натруженные руки.
А я ужаснулась, представив Принца без ног, на низкой тележке с колесиками, помогающего себе руками при передвижении. Но тут же перестала ужасаться. Пусть без ног, только бы вернулся и смог принять эту новую, такую ущербную долю. Помощь ему во всем стала бы смыслом моей жизни.
...Гойтых... Я ненавидела это село, боялась свидания с ним. Я избегала даже сведений о Гойтыхе, а когда вспоминала о том, что есть такое место на Земле, где, как сказано в похоронке, погиб Николай Александрович Большунов, младший лейтенант, то мне чудились сакли, выдолбленные в горах, туманы над ними да вой шакалов по ночам. И неизвестный, непонятный мне народ.
На поездку в Гойтых я решилась лишъ в августе 1965 года. Я медлила не только потому, что сознательно отталкивала от себя эту тяжкую неизбежность. Просто я, несмотря ни на что, все эти годы все еще ждала чуда. И подавляла в себе мысль о том, что чуда не будет. Ведь с другими случались чудеса, даже с моей родной теткой, которая дождалась своего мужа после всех похоронок и безнадежных свидетельств! Почему же не с Колей, почему не со мной?!
Перед отъездом я подумала: а вдруг утону где-нибудь там, в горной реке? Или, сорвавшись со скалы в поисках Колиной могилы, разобьюсь? В моем сознании это место было опасным и диким, и, на всякий случай, я целых полдня прощалась с Колиной мамой, а уходя, услышала от нее: «Я люблю тебя лучше (так и сказала — лучше), чем родную дочь»,
Село неожиданно оказалось большим (как мне сказали, семнадцать тысяч жителей), а население совсем не таинственным: русские, украинцы, армяне. Горы вырисовывались где-то вдалеке, домишки напоминали русскую деревню, а Пшиш,
61
местная горная река, так обмелела за лето, что порой вода в ней едва доходила до колен.
Не одна я приехала сюда через двадцать лет после войны. Одновременно со мной появилась там и некая армянская семья, чтобы забрать в Ереван прах сына, убитого и похороненного здесь. У них был даже чертеж — передал земляк, уцелевший после боев в Гойтыхе.
— Земляк передал, парикмахер, — упавшим голосом повторяла мать убитого. — Был его другом. Сам схоронил Ашота под этим деревом. Видите? Пометил тут его именем...
Родные неизвестного мне Ашота яростно вонзали свои лопаты в землю под дубом, черные комья так и летели в разные стороны. Часа через полтора нашим глазам открылась воронка, чистая воронка! Пустая! Горная река Пшиш, набиравшая силы весной и осенью, вымыла кости Ашота... Если бы эти люди приехали сюда лет на десять раньше, река, может, еще не успела бы... Я стояла вместе со всеми у пустой воронки и думала: как страшно, когда уже поздно!
Я прожила десять дней в Гойтыхе и, наверное, на десять лет постарела. Я все ходила по узким и пыльным улицам села и многим показывала Колину фотографию: не видел ли кто, не помнит ли? Но нет, никто не отозвался. Люди только качали головами и вздыхали, глядя на фото. И, с гордостью отмечала я, каждый хотел видеть в нем представителя своей нации. Спрашивали: кто он? Украинец, армянин? Грузин, может быть? Какой красивый парень! А он был русский, из деревни Труняевки Московской области...
В селе Гойтых прошли тяжкие бои в сорок втором. Дрались за каждый метр земли, преграждая немцам дорогу на Туапсе, к нефти. И горы, о которых ровно через четверть века Владимир Высоцкий споет: «Ведь это наши горы — они помогут нам», мало помогали...
— Немцы, — рассказывал мне один из местных жителей, — шли, вооруженные до зубов. У них были и специальные горные стрелки, и альпинисты в полной амуниции, а наши ребя-
62
та... То и дело вырывали молоденькие деревца с корнем и с этим воевали, потому что зачастую у них не было ни чем стрелять, ни из чего стрелять. Сколько людей, да и коней тоже! Убитые пулями или разорванные бомбами, они лежали здесь, поваленные друг на друга, люди и кони! Видите большое, крепкое дерево? Сохранилось вот, такое его счастье... После боев я пришел сюда и увидел на нем, на его ветвях, двух юношей, русского и, по-моему, армянина. Наверное, отсюда, из укрытия, им было удобнее стрелять. Их застала здесь смерть, тут они и остались, обнявшись, как братья. Сколько я видел потом убитых! Но страшнее этого ничего не помню... Хотите пройти на кладбище? Не надо, там вы не найдете могилу вашего друга. На кладбище хоронили только местных, а воинов — в братских могилах, в лучшем случае... А в худшем? Ну, зачем это вам знать... Вы вот пройдите к Ткаченко Ивану Федоровичу, председателю сельсовета, он может посоветовать...
И Иван Федорович посоветовал. Он сказал, что если у меня есть похоронка, то Колино имя напишут на мраморной доске, что на памятнике над братской могилой. Похоронка была со мной, и художник, осторожно отвинтив огромные болты, снял доску, чтобы нанести на нее серебром Колины звание, фамилию, инициалы. Свободной к моему приезду оставалась лишь одна строка, она как бы хранилась для Принца.
Коля, Коля! Сюда я не опоздала!
Целый день я просидела на донышке опрокинутого ведра, наблюдая за работой художника. К вечеру он вернул доску на место, а я, по обычной московской привычке, протянула ему деньги за работу. Саша, художник, светловолосый русский парень, с негодованием отвернулся от меня:
— Что вы? Зачем вы?
Я убежала в комнату, и там меня отпаивали водой...
Коля, Коля! Стоит ли этот памятник сегодня, в смутные времена, там, где всегда будут витать души наших людей, спасших земной шар от коричневой чумы и погибших за други своя?
63
Гойтых... Я входила в горную реку Пшиш, находя места, где вода доставала мне почти до подбородка. Я стояла в этой реке и думала о том, что в раскаленные дни лета сорок второго и Коля мог окунуться здесь» так далеко от Москвы, от набережных, где мы с ним гуляли когда-то. Волны этой реки были прохладными, и от моих слез они не теплели...
Как он не хотел умирать! «А что, если я вернусь без руки? Или без ноги? Ведь ходят же люди на костылях, и ничего?»
Боже мой!.. Боже!
Ночами я внушала страх моей соседке по комнате, потому что выбегала в сад и рыдала там, в темноте, упав на траву, мокрую от росы. Я протягивала руки к черному небу, усыпанному звездами, к Богу и молила Его вернуть мне Колю, любым, но только вернуть, вернуть... Я все-таки не могла и не смогу окончательно поверить в то, что его нигде нет, что его прекрасное лицо растерзала бомба, что пуля пробила его любящее сердце, что Принц зарыт, зарыт в землю или даже не похоронен после боя...
Неожиданной и тяжкой оказалась вдруг сцена в местной столовой, куда многие из села, и я тоже, приходили обедать. И вот, взяла я на раздаче свой борщ, поставила на столик, потянулась за хлебом и вижу: входит женщина огромного роста, мощная. В этом селе сплавляют лес, и она, наверное, была лесосплавщиком. Войдя, она тотчас забасила:
— Слыхали новость? Приехала женщина из Москвы, молодая (мне уже было почти тридцать девять), красивая! Может, кто видел? Синеглазая да с черными кудрями, говорят. А? Видели, нет ли? Искала могилу своего жениха! И нашла ведь, нашла, говорят! Вот она, любовь-то, бабы! Есть, есть еще любовь на белом свете! — И взволнованная великанша грохнула кулаком по столу.
В столовой воцарилось молчание: многие уже знали меня. Кто-то показывал глазами в мою сторону, а у меня слезы катились по щекам и падали в тарелку с борщом. Великанша осторожно прижала руку к сердцу и прошептала:
64
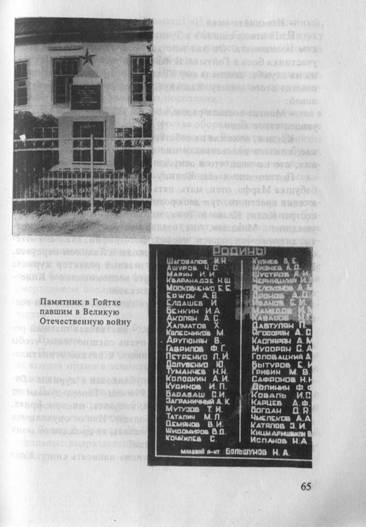
— Извиняйте меня...
Из Гойтыха ездила я в Туапсе, разговаривала с начальником военкомата. Он дал мне телефон туапсинца, бывшего участника боев в Гойтыхе. Я навестила уцелевшего счастливца на службе, показала ему Колину фотографию. Нет, он не помнит этого юношу. Вздохнул, развел руками, покачал головой:
— Многие воевали рядом, но я бы узнал, если бы хоть раз увидел такое лицо.
Когда я, похожая на собственную тень, появилась в Москве, коллеги посоветовали мне срочно идти в отпуск. Те из них, кто не знал, что в отпуске я уже была.
Постепенно я всю Колину родню похоронила: умерла бабушка Марфа, отец, мать, пять теток, крестный дядя Миша и жена крестного, три двоюродных брата (все безвременно), сестры Коли, Клава и Тоня, милые мои, тоже очень рано ушедшие... Младшая, Аня, отдала мне все Колины документы, дневниковые записи, письма, фотографии, даже его аттестат об окончании нашей с ним школы в Лялином переулке. Все это я попросила у Ани, когда главный редактор журнала «Отчий дом» обязала меня написать воспоминания о Коле — она о нем давно знала из моих рассказов.
Я все никак не могла укрепить свой дух, начать эти воспоминания.
— Шесть страниц на машинке, — настаивала главный редактор, — всего шесть страниц. И очень спешно: надо, чтобы этот номер журнала вышел к 22 июня, к пятидесятипятилетию со дня начала войны...
Я написала рассказ, он был опубликован в журнале «Отчий дом», в третьем номере за 1996 год. Теперь думаю: от какого недуга умру? От инфаркта, инсульта, пиелонефрита, которым болею лет двадцать или больше? Или от опухоли тех мест в моем организме, что то сжимались, то дрожали от моих рыданий, когда я писала? И — когда?
Во всяком случае, я обязана успеть написать книгу. Коля
66
останется в человеческой памяти! «И помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с Малой Бронной и Витьку с Моховой». Хорошая песня, и имена парней названы. Но ведь это все-таки собирательные образы...
И я кинулась писать о Принце, о конкретном человеке, о Коле Большунове — об одном из самых светлых представителей теперь уже уходящего поколения.
В каких условиях воевал Коля я поняла, переворачивая в Центральном архиве Министерства обороны России пыльные папки более чем полувековой давности. Выцветшие фронтовые документы с различными пометками и обрывками бумаг, с рукописными текстами иной раз, по условиям, вместо машинописных, приказы по действующей армии — они рассказали о многом.
Как и другие, я знала, что война — это не только поражения и победы, не только позор или слава, но и трудные будни. Но одно, когда слышишь от третьих лиц или читаешь беллетристику, и совсем другое, когда перед тобой первозданные документы. Будни оказались не трудными, а жуткими, такими жуткими, о чем и не слыхивали в тылу. Да иначе и не могло быть: два мира, фашизм и наша страна, схватились в смертельном поединке, итог которого предполагал или распространение коричневой чумы, или спасение от нее человечества.
Вот они — жуткие будни войны за Туапсе.
Питание
Продукты в грязной таре — остывшая каша, вываленная из котлов прямо в вещмешки, потому что иначе еду было не доставить в те части, которые дислоцировались высоко в горах. Ползком, цепляясь за выступы в скалах, такую пищу и в такой таре доставляли бойцы своим товарищам, и они были счастливы ее получить.
Пункт 6 Приказа № 03 1/04215 гласит: «...По 5-6 дней отдельные подразделения не получали хлеба и буквально голодали».
67
Я думаю, что голодающих подразделений было немало, если даже командир 32-й гвардейской дивизии Герой Советского Союза М. Ф. Тихонов был рад получить новогодний подарок в виде четырех черных сухарей, одной луковицы и двухсот граммов сушеных диких груш.
О голоде вспоминает и генерал армии А. А. Лучинский: «В октябре 1942 года мы семь дней были отрезаны от своих частей, лишены продовольствия, питались только дикими яблоками, грушами и желудями. Не было воды. От жажды особенно страдали раненые. Посылали за водой к родникам и к речке группы бойцов по 6-7 человек, а возвращались один-два. Гитлеровские снайперы почти в упор расстреливали ребят» («В боях за Туапсе», — Краснодар, Кн. Изд-во, 1988, с.115).
Одежда, обмундирование
Часть личного состава не имела шинелей. В одном приказов читаем: «Выдавать, за неимением шинелей, ватные телогрейки». О том, что эти спасительные телогрейки были выданы, я документов в ЦАМО не обнаружила.
Погодные условия были мучительными: осень пришла на редкость скверная для этих краев. Читаем свидетельства участников боев.
«Лишь наступление ночи давало нашим бойцах кратковременную передышку, потому что невозможно было не только уснуть, но и усидеть от холода и пронизывающей тело сырости...
Дорога после ливня была вся изрыта ямами — промоинами, перегорожена упавшими деревьями и каменными осыпями...
Снова дожди... Всюду вода... Она хлюпает в окопах и траншеях... приходится делать в окопах подмостки, а одежду сушить собственными телами...
На дороге сначала появились ручейки, а затем они сливались в бешеный поток. Он нес камни, палки... Всю длинную ночь мы простояли в воде: она была и сверху и снизу» (с. 83, там же).
68
«...Порывистый ветер пробирал бойцов до костей. Над хребтом, где укрепились наши подразделения, проносились темно-серые тучи, из которых то лило как из ведра, то сутками шел моросящий колючий дождь, то валил крупными хлопьями снег. Под утро нередко забирал мороз, и все покрывалось ледяной коркой. Негде было обогреться, обсушиться. А утром снова начинался бой» (с. 128, там же).
Вооружение воюющих сторон
Выше я приводила воспоминания о Гойтхе очевидца: «У них были и специальные горные стрелки, и альпинисты в полной амуниции, а наши ребята... то и дело вырывали молоденькие деревца с корнем и с этим воевали, потому что зачастую у них не было ни чем стрелять, ни из чего стрелять».
Конечно, с деревцем в руках против немецкого танка или самолета не пойдешь. Таким «оружием» пользовались в рукопашных, а они, рукопашные, то и дело вспыхивали: «Кровопролитные бои часто переходили в рукопашные схватки» (с. 10, там же).
«...По пехоте фашисты превосходили советские войска в два раза, по артиллерии в три. Кроме того, гитлеровцы имели 150 танков, тогда как в наших войсках, действовавших в данном районе, танков не было совсем» (с. 10, там же).
Кроме численного превосходства в личном составе, вооружении и тщательной подготовке к войне в горной местности, немцы оказались горазды на неожиданные ухищрения. Так, они поджигали леса термитными снарядами. Языки пламени подступали к нашим позициям, дым разъедал глаза. И неизвестно было, что же «предпочтительней» — сгореть заживо или погибнуть от бомбы или пули...
С фашистских самолетов тучами сбрасывали листовки с ложными сведениями о германских победах и советских поражениях. Листовки были или наивными, или оскорбительными, и на нашу армию, идеологически закаленную, они впечатления не производили. Привыкли бойцы и к пустым консервным банкам, которые выбрасывались на наши позиции с
69
надписями: «Ивану на обед», хотя на это голодные люди не могли не реагировать вовсе... А лесные пожары, а бочки с сажей (их тоже бросали с самолетов), делавшие черным и удушающим все вокруг, — это было пострашнее боев. Нечем было дышать!
Специфика горных условий крайне осложнила положение наших частей на Северном Кавказе. Если фашистские войска были укомплектованы горнострелковыми и легкопехотными дивизиями, то наши бойцы учились этому непривычному боевому искусству по чутью и по обстоятельствам. Николай Большунов, выпускник пехотного училища, вряд ли имел представление о войне в горах. Наверняка он и такие же пехотинцы, как он, были брошены на Северный Кавказ, чтобы любой ценой защитить Туапсе — ключи к нефти. И если Гитлер заявил, что ему надо взять Майкоп и Грозный, что без этой нефти он должен ликвидировать войну, то Приказ № 227 нашего Верховного Главнокомандующего гласил: «Ни шагу назад! Стоять насмерть!»
И стояли насмерть.
Специфика горных условий была неимоверно тяжкой. Привожу свидетельства участников боев.
«Подъем был исключительно труден. Иногда крутизна достигала пятидесяти градусов, и бойцы буквально карабкались вверх, цепляясь за выступы скал, скользя и срываясь» (с. 60, там же).
«Обозные повозки пришлось разгрузить и все имущество взять на собственные плечи... На 14 километров подъема полк затратил целые сутки... несколько повозок с людьми и лошадьми смыло в ущелье» (с. 84, там же).
«На правый берег Пшехи бойцы должны были перебираться по канату, низко натянутому между скалами в узком ущелье над ревущим потоком... Но вот кто-то понадеялся на свою силу и не привязался ремнем. На середине потока его оторвало, и человек исчез в бурлящей воде» (с. 87, там же).
Вот оно — обучение боям в горах по обстоятельствам!
70
«Со всех сторон слышалась стрельба, разрывы бомб и снарядов, но ориентироваться по их звукам было невозможно, потому что звуки неоднократно повторяло эхо в горах» (из воспоминаний И. К. Макарца, тогда шестнадцатилетнего паренька, пробиравшегося по этим местам после побега из фашистского плена, впоследствии бойца нашей регулярной армии).
Особенности лечения в полевых госпиталях
В именных списках безвозвратных потерь указаны причины смерти бойцов и командиров, доставленных в госпиталь для лечения от ран, но умерших там совсем по другим причинам: от столбняка, сепсиса, брюшного тифа, менингита, дизентерии, даже септической ангины... Антисанитария, нехватка медикаментов... Выжить в подобных условиях могли лишь те раненые, которые были очень выносливыми или родились под счастливой звездой. Тем не менее, несмотря на эти условия, и даже вопреки им, медицинский персонал полевых госпиталей делал все возможное для помощи раненым и больным, часто рискуя собственной жизнью. Их самоотверженность велика, ее никто не забудет. Как не забудет и тех героев (в книге «В боях за Туапсе» имена их не названы!), бойцов ЧГВ, которые подпускали противника близко, совсем близко, чтобы наверняка подорвать врагов — и себя — последней гранатой.
В рядах ЧГВ в сорок втором воевал парень, который наловчился на лету ловить гранаты и тотчас отправлять их обратно, поражая врагов их же оружием. Были солдаты, которые, для экономии боеприпасов, умудрялись подкатывать каменные глыбы к краю высоты и прицельно сбрасывать их на головы врагов.
Наши парни стояли насмерть.
Я был убит под Туапсе,
В районе высоты Семашхо.
Слезой по мне блеснет в росе
Пробитая осколком фляжка.
71
Мой автомат лежит со мной,
Узором ржавым разрисован.
Давно — давно я кончил бой,
Но все не демобилизован.
Уходит время, день за днем,
А я все здесь, на дне лощины,
Где умирали под огнем
Двадцатилетние мужчины.
А ты, коль пулями не сбит,
Ты, мне когда-то руку жавший,
Ты им скажи, что я убит,
Что я не без вести пропавший.
Скажи, что мы убиты все,
Плечом к плечу, на дне лощины,
Собой прикрыли Туапсе
Двадцатилетние мужчины.*
На Гойтхском перевале возвышается гранитный монумент, на котором высечены слова: «От благодарных потомков известным и неизвестным героям 18—й армии, преградивших путь фашистам к Черному морю и разгромивших их в декабре 1942 года».
Это и Коле моему, младшему лейтенанту Большунову Николаю Александровичу, от благодарных потомков. Каждый радуется, если имя его близкого все-таки известно... Колино имя — известно.
А вот и путь 383-й стрелковой дивизии, в составе которой он воевал. И я хочу перенести боевой путь дивизии на эти страницы, чтобы было понятно, какие конкретные трудности приходилось и Коле преодолевать — ведь моя повесть рассказывает о его короткой жизни, о нем.
Осень сорок второго года... С 26 сентября по 1 октября
________________
* «Литературная Россия», 15 декабря 1967 г., автор не указан (автор Евгений Астахов — Д. Т.)
72
на участках, которые занимала 383-я дивизия, немцы перешли в наступление. Они бросили в бой альпийских стрелков, легкопехотную и горнопехотную дивизии и бельгийский легион «Валлоны». Гитлеровские бомбардировщики носились чуть ли не над головами людей, включив для устрашения воющие сирены. За 6 дней наступления врагу удалось потеснить наши войска на 10 — 12 километров...
1 октября немцы захватили инициативу и нанесли удар по боевым порядкам 383-й стрелковой дивизии… В первые десять дней своего наступления фашистская авиация проявляла исключительную активность. За это время было сделано несколько тысяч самолетовылетов. Гитлеровские асы бомбили позиции наших войск, били по окопам из пулеметов.
Три наших полка, противотанковый дивизион и минбатальон за один день 14 октября 1942 года отбили семь гитлеровских атак. В одном из этих трех полков воевал Коля.
«Наши воины, — пишет генерал Провалов, командующий 383-й дивизией, — сдержали противника... а он все лез, словно саранча, и казалось, что фашистам нет числа. То здесь, то там бойцы поднимались в контратаки, и гитлеровцы, не выдержав натиска, бежали по склонам гор...» (с. 43, там же).
«Три лесистые высоты соединялись между собой мощными отрогами и представляли длинную гряду, которая господствовала над всей местностью. Кто владеет этой грядой, тот, как говорится, и пан.
Мы и гитлеровцы выскочили на нее почти одновременно... Бой сразу же перешел в ближний огневой, а затем и в рукопашный. Он длился около шести часов. С высот скатывались то противник, то наши полки. Несколько раз гряда переходила из рук в руки... Фашистские горные егеря дрались остервенело. Но наши бойцы противопоставляли им все мужество» (с. 44, там же).
В течение 15—19 октября противник продолжал вести наступательные бои на всем фронте армии. В результате пятидневных ожесточенных боев некоторые наши подразделе-
73
ния вынуждены были оставить ряд выгодных позиций и отойти на север.
Вражеские войска просочились на отдельных участках в долину реки Пшиш. 19 октября военный совет ЧГВ издал директиву, в которой 18-й армии ставилась задача удерживать села Шаумян, Котловина, Гойтх... 21 октября после артиллерийской подготовки гитлеровцы перешли в наступление и овладели станцией Гойтх. 21 и 22 октября на Гойтхском направлении противник силами двух легкопехотных полков и подразделений высокогорного полка, преследуя наши отходящие части, вклинился в центр обороны наших войск. Командующий ЧГВ в распоряжении от 22 октября 1942 года указал на необходимость не допустить форсирование Главного хребта и контрнаступлением отбросить главную группировку за реку Пшиш...
И 25 октября в наступление перешла 383-я стрелковая дивизия... Она сражалась целый день и лишь к исходу дня вышла к реке Пшиш. 28 октября перешли в наступление ударные группировки армии. В период с 28 октября по 3 ноября 9-я гвардейская стрелковая бригада вела бои за Гойтх... 31 октября... преодолевая горные кручи, бойцы с гранатами, ведя огонь на ходу, бросились на врага. К исходу 31 октября 694-й стрелковый полк так же, как и 696-й, где воевал Коля, вышел на рубеж реки Пшиш.
С 4 по 26 ноября, в связи с ухудшением погоды, войска 18-й армии не предпринимали наступательных действий. На отдельных направлениях они вели бои по улучшению своих позиций, отражая контратаки противника...
За фразой «На Западном фронте без перемен», употребленной писателем для известного литературного произведения, кроется не столько покой и отдых усталых, измотанных людей, сколько трагедий и смертей. «С 4 по 26 ноября... 18-я армия не предпринимала наступательных действий...» Она вела лишь бои по улучшению своих позиций, не так ли? Но именно в один из этих дней относительного затишья, 17 ноября сорок второго года, Коля был убит.
74
К исходу дня 19 декабря 383-я дивизия вышла к реке Пшиш. Это была Колина дивизия. Другие подразделения 18-й армии заняли Гойтх. Но Коля об этом уже не мог знать.
...К тому времени Коля был уже не командиром взвода, а адъютантом батальона*. В последних сведениях о Коле зафиксирована за ним эта должность. В ЦАМО мне разъяснили, что это — начальник штаба батальона, — должность для молодого младшего лейтенанта очень ответственная: он разрабатывал планы военных операций батальона. Когда и за какие отличия Колю перевели на эту должность, прочесть в ЦАМО не удалось: не все приказы того времени дошли до нас и сохранились.
Штабная должность... Какая там штабная! В боях за Туапсе плечом к плечу, с оружием в руках воевали и погибали и рядовые, и майоры, и полковники! И адъютанты батальонов водили бойцов в атаки! Туапсе, Гойтх — там все было сожжено, превращено в груды развалин. Вернуться оттуда — все равно что вырваться из полыхающего ада кромешного. Я слышала от танкистов, опытных и высокопоставленных военных, что, пожалуй, даже на чудовищной Курской дуге было не так губительно, как в боях за Туапсе.
«Дорогая мама! Здесь такое творится, что вряд ли кто останется живым. Поэтому лучшее, что ты могла бы сделать, — забудь меня, мама, забудь, что у тебя был сын...»
Нет, это не Коля писал. Другая, не Колина, мама получила от сына такое письмо, прорвавшееся волею судеб из Гойтха к Москве. Мне рассказала о письме женщина, которая знала эту мать.
Я помещаю здесь отрывок письма из горького сострадания этому сыну (он и погиб в Гойтхе) и этой матери. А также для того, чтобы люди еще раз почувствовали, каково приходилось нашим парням в Гойтхе.
________________
* Адъютант батальона — штабная должность, существовавшая в Советской Армии до 1954 года
75
И хочется мне, чтобы и мой голос во имя всего святого, что еще есть на Земле, присоединился к тому мощному хору, который считает войну массовым убийством.
...Если бы Коля вернулся живым — здоровым с Великой Отечественной войны — сколько бы он мог принести пользы Родине, не очень-то предаваясь отдыху и не погружаясь в обычное, благополучное существование! Он мог стать интересным писателем, видным военным... Он хотел быть военным — и любил стихи, особенно Лермонтова. Он вообще соединял в себе, в своей личности, неожиданные черты, и все они были прекрасны. В этом легко убедиться, прочтя его дневник...
Поклонимся еще раз памяти тех, кто погиб, но не сдался, не дрогнул, а защитил нашу землю и наших потомков. Увы, не своих личных потомков — уж очень были молоды защитники! — а грядущие поколения, которые всегда обязаны быть достойными принесенной им самой великой жертвы.
Мне не пришлось увидеть, Коля, твоих глаз, улыбающихся мне на рассвете, и я не услышала плача и смеха наших детей. Но, может быть, эта книга, этот документ о Коле и Ане, и есть в какой-то мере наше дитя — Колино продолжение на Земле.

16 — 17 августа 1939 года
Вчера сидели на нашем крыльце в Труняевке я, Володя Королев, другие парни. Я им немало историй порассказал, а теперь не могу их полностью вспомнить. Наверное, были несущественные, хоть парни очень смеялись. Надо вести что-то вроде дневника. Пусть изредка, да записывать интересное. У нашего учителя литературы, Николая Алексеевича, четыре тысячи историй в записных книжках, он сам говорил. Неплохо бы последовать его примеру! А потом почитывать иной раз вслух вечерами в деревне, для развлечения. В Москве, конечно, времени на это не будет, там школа и уроки, много домашних заданий.
Для начала запишу про царя Александра III, от Софьи Григорьевны в Москве слышал: забавно!
Итак, обратился один купец к Александру III с просьбой о разводе: на молодой хочет жениться. В то время развод — дело сложное (не то, что теперь — разводят в загсе за три рубля)... Царь — против. Купец и говорит ему: «Ваше величество! У химика Менделеева две жены, почему и мне нельзя?» А тогда, если разведен, затем женат на другой, и обе они живы, церковь считала, что у этого мужчины — две жены. Царь купцу и отвечает: «У Менделеева две жены, да Менделеев — то у меня — один!» Славный аргумент для отказа, не так ли?
79
А на этот раз наши почему-то не смеялись. Но ведь остроумно! И, к тому же, правильно. Зачем эти разводы? Из моей родни никто не разводился. Все жили, как положено. Что значит любил — разлюбил? Куда может деваться любовь, если она была? Разве что любовь — восхищение, любовь — страсть перейдет в любовь — дружбу в пожилом возрасте... Что значит женился — разженился? Если не по принуждению, как при крепостном праве, если сам девушку избрал, то жена — твоя самая близкая родственница, мать твоих будущих детей, твоя спутница на всю дорогу. В том-то и дело! А родственников не меняют, они судьбой назначены. Об этом я говорил с отцом и дядей Мишей — крестным. Они одобрили мою точку зрения, но сделали замечание: не рано ли мне думать о таком предмете. По-моему, думать — не рано. Я же не собираясь в моем возрасте невесту заводить!
...После разных историй и анекдотов Володя и другие ребята хором спели «Аллаверды». Что за «Аллаверды»? Перевода на наш язык не знаю. Наверное, что-то из русско-турецкой войны, а их у нас, кажется, было шесть. Какой-нибудь пленный в прошлом веке мог занести к нам эту песенку, а она кое-где неожиданно и вспоминается людьми. Я вообще-то не пою, на это я не мастер и даже не любитель.
О русско-турецких войнах нам весной рассказывала Екатерина Павловна. Историю знать так интересно! Почему на ее уроках ребята сильно шумят и бегают по классу? Мешают заниматься! В последний раз она даже заплакала и выскочила в коридор... Довели! У нас в деревне такое было бы невозможно: учителей уважают, они наши наставники. А Екатерина Павловна в тот день и указку забыла положить на место, так и зажала ее в руке, словно шпагу перед дуэлью. Директор Иван Васильевич приходил разбираться, хотел двойку по поведению всему классу поставить и — до конца года! Погрозил, но, как говорится, и помиловал. Было бы чересчур, если б пострадали и правые и виноватые...
Что это я о Москве и о школе вдруг задумался? Пока —
80
ни к чему. Я — на каникулах, отдыхаю в родной деревне. Ни тебе заданий на дом, ни звонка на первый урок в восемь тридцать утра... Я не против дисциплины, она правильно воспитывает человека, но когда-то надо и отдыхать...
Впрочем, не миновать своей дисциплины и на отдыхе. Завтра, например, ни свет ни заря — мне идти за грибами: бабушка велела. Проигнорировать бабушкину дисциплину — значит не заготовить на зиму грибов, сушеных и соленых, значит и бабушку огорчить... Я хотел было с утра искупаться в нашей «луже», поплавать и позагорать, но загорать можно и потом, с десяти утра и до полудня. Позднее не рекомендуется — от солнца будут поступать в организм вредные инфракрасные лучи. А поиски грибов вообще-то начинаются чуть ли не с рассвета, так что к десяти они могут и закончиться.
Итак, придется двигать в лес. А если Валька снова с нами увяжется под предлогом «за грибами»? Я ей тогда на голову корзину надену, ей-ей надену, она дождется. Липучка! И не стыдно приставать, а еще девчонка! Обязана быть скромней!
С грибами на этот раз получилось сверхоригинально. А Вальке не доложились о нынешнем походе, — ее, слава Богу, и не было.
Грибные итоги — неожиданные. Итак...
Самые яростные грибники у нас — Володя и Кланя — мой двоюродный брат, стало быть, и моя родная сестра, на два года меня моложе. Они землю носом роют в поисках грибов! Ищут и ищут, нижние ветви деревьев раздвигают и раздвигают. А вдруг, мол, под ними прячется целый батальон белых? И норовит определиться в их корзины, Володины и Клавины: приютите, мол, нас, а то нам здесь неуютно, темновато и сыровато!
Но это я так, пошутил, А если серьезно, то сегодня Володя с Кланей потихоньку да полегоньку набрали по полной корзине хороших грибов: белых, подосиновиков, подберезовиков и несколько рыжиков.
Похвалились передо мной: бабушку обрадуем. А мне хва-
81
литься нечем, ничего нет, только и всего — пять лисичек... позориться с ними... Попадались сыроежки, они съедобные, неплохие, но у нас их не жалуют, и я их не брал... Ну, я опечалился, отошел было от своих — и вдруг! Прямо тут же, недалеко от ближайшего дуба (и как я только мимо не прошел) — три белых. И такие крупные, красивые, как на картинке. Как это их до меня никто не углядел? Я их ножиком срезал, поберег грибницу. А потом решил присесть на пенек, рядом, чтобы спокойно уложить белые в корзинку и, по всем правилам, укрыть лопухами. Повезло мне все-таки под конец похода! Рад был ужасно: все-таки и я для бабушки сделал приятное.
И что же? Этот самый пенек, на который я собрался было присесть (но медлил, так как счел его маловатым для «кресла»), этот небольшой, аккуратный пенек оказался грибом! Белый гриб — великан! О подобном я как-то читал в «Вечерке», и мой «пенек», наверное, не хуже! Его я даже не хотел срезать, он был живым лесным чудом. Но пришлось все-таки решиться: не сегодня утром, так завтра на рассвете его выдернут люди или вскоре съедят червяки... Что ж? Люди, конечно, должны собирать и грибы, и ягоды, иначе просто не выжить роду человеческому...
В конце концов я и его уложил в свою корзинку. И стало мне очень не по себе. А все оттого, я уверен, что и цветы, и травы, и грибы — они чувствуют боль. Доказательство самое простое и бесспорное: они родятся, растут, пьют воду, умирают... Совсем иное дело — камни. Это должно быть понятно каждому (хоть все — все вокруг мне возражают!), как понятна разница между камнем и цветком, между живой и неживой природой. Интересно, как бы к моему рассуждению отнеслась наша Ольга Григорьевна: она педагог и должна, говорят, придерживаться официальной точки зрения. А какая она, официальная, — я понятия не имею.
...Через два часа, по уговору, мы, грибники, собрались на опушке, рядом с деревней, где борок. Володя с Кланей пока-
82
зали мне свои корзины, теперь и вовсе переполненные грибами, а я пошутил: вот, мол, грибов у меня нет, так я пенек в корзину положил. Они пожали плечами, засмеялись и глянули в корзину; полюбопытствовать на пенек, на мое чудачество. И рты разинули: да это ж гриб, чемпион среди всех грибов!
Бабушка ахала, по всей деревне звонила, а потом еще долго вспоминала: то-то или это случилось, мол, тогда, когда Коля белый гриб нашел весом чуть ли не в два кило... Вес, понятно, она сгоряча преувеличила, но гриб, прежде чем изрезать его на жаркое, предъявила тогда многим соседям, даже из ближнего села Кузнечкова, когда те шли мимоходом. И все-все только головами покачивали! Я нисколько не возгордился, но, конечно, мне было приятно, очень было приятно, что всех так удивил.
Это, пожалуй, единственное, что мне запомнилось изо всех грибных происшествий. Потому что я люблю смотреть не вниз, где грибы и ягоды, а вверх, где рассветы и закаты. Мне любопытно, как меняется цвет неба, от розового и алого до светло-серого и ярко-синего. А то на сером фоне вдруг возникают темные продольные полосы, наподобие тигриных. Или — по голубому небесному полю плывут чистые солнечные облака, большие и малые... Чего только не показывают нам небеса! Зимой, при сильном морозе, в ночном небе сколько раз видел огромного белого медведя из светлых облаков. Он и лапами двигал, и головой и медленно расползался, теряя свои очертания, и можно было вообразить, что и ему, полярному, было холодно в небе зимой...
Недавно наблюдал (но это летом), как из тяжелых оранжевых облаков составилась фигура, похожая на льва, очень большая. Внушительное зрелище! Фоном послужили светлые облака. Они становились все светлее, а ближе к горизонту небо и вовсе высветлилось и стало казаться бесконечным. Наверное, так оно и есть! Вселенная вечна и бесконечна! И просто страшно подумать — аж зажмуриться хочется и отогнать по-
83
дальше эту мысль, — какая малая величина человек по сравнению со всем этим величием. Песчинка во Вселенной! Крошечная, живая, мыслящая песчинка! Земля, даже когда идешь по бескрайнему полю, где до самого горизонта нет ни деревца, ни снопика, ни шалашика, все равно не то что подобного, но даже похожего ощущения не создает. Она — рядом, она
— мать-кормилица, и ее красота близка и понятна. Небо — совсем иное, оно загадочное и манит к себе человека даже против его воли. Возьмем летчиков — сколько ни говорил с ними, а они твердят все одно и то же: я не могу не летать, я не могу без неба! Как я их понимаю!
...Наши предки тысячи лет назад жили собирательством и бортничеством... не будем, нет, не будем углубляться насчет охоты на мамонтов. Их тогда в какие-то ямы загоняли, кололи кольями... Словом, мучили беспощадно...
В общем, все это бытует и в наши дни, только несколько в ином виде. Пчелы и мед — бортничество. А грибы и ягоды — собирательство. Только бедняги мамонты давно вымерли. Не вынесли наступления ледников и людской жестокости, — а чего же больше? Это еще вопрос! Есть и в наше время похожие примеры: волки и медведи, которые зря на человека не нападут, ни в чем не виноватые зайцы, а уж про беззащитных птиц и говорить нечего. Многие птицы защищают нас от вредных насекомых, а мы «в благодарность» подстреливаем их на лету!
Терпеть не могу даже мысли о таком «развлечении», как охота. И разве можно развлекаться, любоваться, как на твоих глазах умирает заяц, которого ты же застрелил?
Конечно, человеку приходится питаться и животными. Не всем возможно быть вегетарианцами. Но здесь необходимо очень строгое ограничение: без излишеств, только чтобы продолжалась жизнь. И охотников — спортсменов надо настраивать, по мере сил, на более нормальный взгляд на природу и ее лесных обитателей. Звери тоже хотят жить, а не гибнуть так, за здорово живешь, потому что кому-то вздумалось поупражняться в меткости.
84
Итак, наши предки тысячи лет назад жили собирательством и бортничеством…
Хорошо, что бабушка не додумалась до бортничества, иначе я бы весь распух от зверских пчелиных укусов. Некоторые из наших труняевцев держат ульи и даже пасеки, но, конечно, не рядом с деревней. Там, в отдалении, они так и ходят по участку в сетках на лице и на голове. А руки все равно в волдырях. Еще бы!
В летние каникулы я бы лучше клеил бумажных змей, радовал бы малышей и подростков, а заодно и самого себя, чем таскаться по лесу за грибами и ягодами. Какого красивого змея можно было бы запустить в воздух вместо того, чтобы горбатиться, шаря по темным углам, по мокрым кустам, пугая на рассвете жуков и лягушек. Нужна лишь сухая дранка, цветная, блестящая бумага и, конечно, отличный клей. Да еще кусочки слюды не помешают, чтобы змеиные глаза сверкали на солнце, под небесами. Красота! А как звенит змей в вышине, на ветру! И мы все бежим за ним по полю и, конечно, не можем догнать, и он исчезает где-то над лесом, за речкой, за нашей «лужей», когда мы его отпускаем на волю! Но такое удовольствие бывает редко: бабушка настойчиво гоняет всех нас, своих внуков, в лес «за полезным делом», а остальное считает пустой игрой, никому не нужной забавой. Я уверен, что игры и забавы — тоже не пустые дела, они потом могут пригодиться для многих будущих сложных навыков.
Интересно, а в бабушкином детстве, неужели никто у них в деревне змей не запускал? Это ведь наверняка очень старинное занятие...
Оказалось, не зря я от роду не любил лесные набеги на ягоды и грибы. Как будто предчувствовал, что именно в лесу меня ждет очень печальный случай. Вообще, меня иногда одолевают какие — то предчувствия, смуты, как я их называю. Но они редко сбываются. А это предчувствие, однако, сбылось.
Итак, шли мы как-то за малиной, пробирались гуськом по чащобе. Как вдруг Володька Королев — он топал как раз
85
передо мной — с силой отпустил какую-то ветку. Он потом всем говорил, что случайно, а я думаю — из озорства. Я-то почувствовал, как эта ветка буквально просвистела в воздухе, словно меткая стрела Робин Гуда. О своей догадке я ничего никому не сказал и не скажу — зачем быть причиной вражды, особенно между родственниками. Злого-то умысла у Володьки, конечно, не было. А дядя Митя этого бы ему так просто не спустил, и пошла бы среди нас всех неприязнь.
Попала мне эта ветка прямо в глаз, со всего маху, и я света белого невзвидел. Никогда не думал, что глаз может так сильно болеть. Мы ездили в Клин к врачу, а потом дома прикладывали холодные компрессы, лечили меня по рецептам каплями, разными мазями и примочками, в том числе и из крепкого чая (вот это надо запомнить!) — домашнее средство, но его тоже врач посоветовал. Все прошло, и недели через две глаз остался с виду, каким и был прежде. Но вернулось ли полностью зрение? Так-то как будто вернулось, а там — кто его знает? Осенью я должен буду явиться в мой аэроклуб для очень важного разговора на предмет моего дальнейшего обучения летному делу. Вот будет драма, если не пройду комиссию по зрению: рухнет мечта об аэропланах, о профессии летчика, мечта быть поближе к бескрайним небесам, к рассветам и закатам... Да и к лиловым облакам... потому что там, в вышине, они — лиловые, фиолетовые, сам видел, когда летал...
Но стоит ли унывать заранее? Глаз-то совсем как прежде, будто и не было той «стрелы Робин Гуда».
4 сентября 1939 года
Вчера было третье сентября, и я почти неделю нахожусь в Москве. До свидания, родная Труняевка, до будущего лета!
Мы начали заниматься в девятом классе. Прошлой весной отец сказал: «На семилетке не успокаивайся. Ты у нас в семье один парень, — дуй до десятилетки, получай полное среднее образование. А там себе хорошую профессию избе-
86
решь, какая будет по душе, пойдешь в институт, достигнешь... Ты продолжай учебу, пиши заявление в восьмой класс».
Отец прав. И я очень обрадовался его рассуждению. Но только какой же институт?! Я хочу быть военным! И моя дорога — в летное училище. А потом — в академию. Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, орденоносную... Она как раз и готовит военных инженеров для воздушных сил, я знаю. И они, эти инженеры, наверняка и сами умеют вести самолеты... Или — лучше стать просто хорошим летчиком? Парить в небесах! «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор!..»
А можно быть военным и не убивать? Быть летчиком — и не сбрасывать бомбы на людей? Ведь при этом неминуемо страдает и мирное население... А я об этом задумался только впервые... Вот в чем главный вопрос! Да... Думаю, однако, что именно у нас в стране это возможно: наша держава могучая, на нас никто не нападет. Ну а если кто о двух головах и нападет, то придется дать отпор, и тогда война — это с нашей стороны не преступление, а защита собственных рубежей. Ведь дают отпор разбойникам на больших дорогах, грабителям в квартирах, карманникам в транспорте и в магазинах. В том-то и дело!
Да, а еще есть и полярные летчики, для перевозки экспедиций, научной работы, освоения Севера. Не обязательно воевать!
А пока надо учиться в школе, надо стараться, и я уже в девятом классе!
Наша школа в Лялином переулке все еще на ремонте (или просто не достроена?), и мы временно разместились в Большом Казенном, в старинном здании бывшей женской гимназии. Возникло некоторое неудобство: в любую погоду в школу без пальто не пойдешь, придется тратить время на раздевалку. То ли дело, когда мы будем ходить в школу, что в Лялином переулке! Наш дом стоит прямо в школьном дворе — так уж повезло! Вернее — в будущем школьном дворе. А пока
87
надо пройти половину Лялина переулка, потом весь Большой Казенный, а это минимум десять минут. И возись тут с пальто и с раздевалкой, а там всегда толпа, все шумят, опаздывают и, конечно, лезут без очереди. К тому же нас, старшеклассников, обязывают дежурить в раздевалке: смотреть за порядком. Малышей приходится ставить друг за другом в затылок, как, наверное, в армии, — их необходимо с самого начала приучать к дисциплине. И вот, пока с ними управишься, звонок вовсю звенит, и бежишь по всем коридорам и лестницам, входишь в свой класс, а там уж и учитель сидит: «Извините, — говорю, — я дежурил сегодня в раздевалке...» Василий Дмитрич, он извинит, а Лидия Николаевна? Она может и за дверь отправить... Ну да ладно...
Значит, вчера было третье сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года.
Интересно, что будет в двухтысячном году? Чего достигнет наука и жизнь? Может быть, на воздушных кораблях сложнейшего, мудрейшего устройства люди будут пересекать немыслимые воздушные пространства, посещать другие планеты? Те, где имеется нужная для человека атмосфера? Вот когда необходимой станет профессия летчика! Но уж, конечно, иной, межпланетной квалификации, что ли... Да это я так — люблю дать свободу мыслям. Разлетелся, размечтался. Пока-то мы и рядом с такими мечтами не стоим. Погибли вот наши отважные люди на стратостате в 1934 году. Васенко, Федосеенко и Усыскин... Слишком высоко поднялись в верхние слои, а стратостат на это не потянул, даром что командиром был Федосеенко! Военный пилот, мировые рекорды ставил... Я все помню, мне тогда уж лет двенадцать было, когда несчастье случилось. Помню даже, что они, эти трое, все передавали оттуда, с вышины: «Чувствуем себя хорошо. Едим шоколад и яблоки...» А потом все смолкло, ни слова... Сколько у человечества трудностей на пути к большим знаниям! И сколько еще будет жертв...
В двухтысячном году, наверное, в нашей стране все бу-
88
дут жить по потребностям, а работать по способностям. А вот это уже не мечта, этого надо на самом деле добиваться, это наша задача.
Ну да! Ведь пройдет еще целых шестьдесят лет, масса времени, и мечты Томмазо Кампанеллы, Оуэна, Сен-Симона, Фурье и других утопистов дозреют, с помощью современных мыслителей, до жизни, до практики. Конечно, мы многого достигли в нашей стране, но я люблю помечтать. Мечта, которая уже достигнута, для меня — не мечта, а реальность, точка, откуда надо мечтать дальше.
Помощь современных мыслителей идеям утопистов, конечно, необходима. «Город Солнца», например, предполагает отсутствие семьи, а воспитанием детей должно будет заниматься государство... Тут явная недоработка! Не могу себе представить; как это, без семьи? Эту часть устройства общества, не очень-то гуманную, философы с годами подправляли и еще подправят, если вообще будут иметь счастье вернуться к утопическим идеям. Мне-то многие из них очень нравятся. Вызывают уважение и сами утописты, их образ жизни. Они были бескорыстными, благородными гражданами, очень далекими от собственных материальных выгод. Вот Сен-Симон, аристократ, граф, считал, что все люди должны быть братьями, сам... жил на чердаке, в бедности, ему ничего не надо было! Так нам о нем рассказала Екатерина Павловна. Хочу о нем почитать подробнее, если есть такая литература в библиотеке на Чистых прудах. Да, мечтали эти люди, чтобы лучше жилось всем, не отдельной кучке богатых!
Только само слово «утопия» мне не по душе. Уж не мог бедняга Томас Мор сочинить для своей придуманной страны название покрасивее! «Утопия» — что за утопленники такие?
А за что казнили в XVI веке Томаса Мора? Спрашивал у Екатерины Павловны, но она — не помнит. Ладно... просветимся на досуге, когда будет время и настроение. В общем-то, я могу хоть завтра зайти в читальню на Чистых прудах, там и выясню все по энциклопедиям.
89
Сколько лет мне исполнится в двухтысячном году? Семьдесят восемь... Многовато, но можно все-таки дожить: бабушке Марфе сейчас никак не меньше, а она работает и в огороде, и в саду, и все делает по дому (варенье варит, даже консервы умеет заготовить на зиму) и — какая умница — жива — здорова, будто молодая.
А что особенного? Горцы живут у себя на родине свыше ста лет, и никого это не удивляет. В каком-то журнале я прочел (в «Огоньке»?) и об англичанине, даром что Англия туманная страна, прохладная часть Европы... Так этот англичанин прожил сто шестьдесят четыре года, пережил двенадцать королей (!) и умер, просто как уснул, в кресле, в заседании суда, где он отсуживал у соседа какой-то участок земли. Конечно! Как не умереть такому старому — много волнений пережил в этих судах!
Вот сколько хотелось бы пожить, просто мечталось бы! Так долго жить — ведь это почти и есть вечность! Можно было бы увидеть такие разные времена, да что времена? — целые эпохи, самые интересные события и, вполне может быть, принимать в каких-то из них — участие. Да... перед ста шестьюдесятью годами меркнут семьдесят восемь лет — мой возраст в двухтысячном году... А там, в журнале, и имя этого долгожителя — англичанина названо (я забыл, и фамилия была, но я тоже забыл!), он на самом деле был, есть документы, это — не выдумка.
Интересно, как люди отметят двухтысячный год? У меня, наверное, тогда не только внуки будут, но уже и правнуки — школьники. И это даже, если я обзаведусь семьей не слишком рано, лет в двадцать пять, как мои родители.
Кстати, а почему они поздновато поженились? В деревне так не принято. Спросить разве у отца? Или не спрашивать? Неудобно...
Слышал от тети Кати, что у матери прежде, до отца, был жених, да убили его в первую мировую войну. Это — почему мама поздно вышла замуж. А почему — отец? Тут все тетки
90
молчат, как воды в рот набрали, полная неизвестность... Как-то раз сурово мне ответили: «Брат уважает Грушу, брат уважает Грушу». Отец уважает мою мать... Но этого мало! Ее надо еще и любить! Нет, больше ни у кого не стану спрашивать и об этом лучше не думать. И не потому, что со времен первой мировой войны прошло четверть века, не менее, а из-за отца: такие печальные мои мысли, они ведь направлены, получается, против него! Так вот и борется человек с противоречивыми мыслями: за папу, за маму... И мысли прогнать из головы невозможно, это не кота Ваську со стола...
Ничье счастье не может быть оплачено ценой жизни хорошего человека, убитого на войне. А мамин жених мог быть только хорошим. Да так ли уж и счастлив мой отец, если на то пошло? Всегда мрачный, никогда не улыбнется... Их ведь сосватали, родителей моих. Бабушка Марфа привезла в те годы двух парней (от мамы знаю) — моего будущего отца, своего сына то есть, и другого парня, которого женили на тете Лизе. Они и стали будущими родителями Володьки, моего двоюродного... Да, занялся я родословной, словно какой дворянин, граф Шереметев!
И вообще — что это я о правнуках чепуху вдруг замолол? Заинтересовался не только былью, но и прогнозами?
А, это цепная реакция, в связи с двухтысячным годом. Логично! Тогда продолжим. Но не о внуках, дедах и свадьбах, а об очень далеком празднике в честь двухтысячного года...
Помечтаем!
Я бы хотел, чтобы в день такой немыслимой даты по всем городам и селам нашей планеты, даже в Америке, Китае и на самых далеких океанских островах, запустили бы фейерверки. И миллионы прекрасных бумажных змей. И разноцветных воздушных шаров... Все это взовьется в воздух и заполонит небо сначала днем, а потом и ночью, при звездах! По улицам будет греметь музыка изо всех репродукторов, а в парках заиграют оркестры и станут прогуливаться толпы нарядных и веселых людей...
91
А я, к тому времени старенький, на это великолепие смотрел бы с балкона...
Балконы будут тогда, конечно, у всех... И у всех будут отдельные, удобные квартиры, для каждой семьи. Не то, что сейчас — по двадцать человек, чужих друг другу, топчутся в одном коридоре, спешат занять чудом освободившуюся конфорку на кухне, на плите (когда ее топят), суп сварить, чайник вскипятить. И все спорят, спорят — чья же очередь топить. Мы, правда, завели свою керосинку, у Марьи Константиновны — примус...
А как живут? По пять — шесть человек в одной единственной комнате, как, например, мы, Большуновы. Да и другие семьи тоже. Вот и Софья Григорьевна с мужем, полковником, военврачом, и с детьми, — и они с нами обитают в общей квартире, как и прочие наши соседи. Ну да ладно...
Сильна у меня фантазия насчет балконов и отдельных квартир, ничего не скажешь. Не зря я люблю утопистов, мечтателей! Думаю все же, что со временем мои фантазии осуществятся. А пока наша социалистическая страна должна еще больше развивать во всех сферах общее, государственное хозяйство, не надо думать о себе, — это главное на данном этапе. А потом очередь дойдет и до нас, граждан.
Ладно! Мне еще и семнадцати нет, все впереди. Помечтал, и на сегодня хватит. Надо спускаться с облаков высоких на грешную нашу землю — надо уроки учить, браться за физику. Лидия Николаевна шутить не любит!
Уроки учить несложно, даже приятно, смотря какой предмет, какая тема. Правда, я частенько на Лермонтова отвлекаюсь. Но без Лермонтова — куда же!
Вечерами сестры, Клава и Тоня, ведут себя тихо, лишь перышками, сидя рядом со мной, по тетрадкам поскрипывают. Иногда я и один сижу за письменным столом, а они тогда — за обеденным. Днем тоже можно позаниматься, сразу после школы, но после обеда никто не мешает. Только самая младшая, Нюрочка, несмышленыш, все лезет к старшему брату,
92
мешает и мешает, играет и играет. Она все шалит, как мальчишка — сорванец. То с кошками носится по коридору, то с кем-то подерется во дворе. Я ее люблю, и маманя ее очень любит, ей всего семь лет... «Всего»? Да на будущий год и ей впрягаться в учебу!
Отец... Отец — он строг со всеми, но отец и должен быть строгим — он капитан нашего корабля. А маманя? Она хлопочет всегда и для всех, как всем на свете мамам и положено. Она и чужим сочувствует. Вот, например, как Дарье Петровне. У той никого нет, кроме единственного сына, но он пьет и даже почти всю пенсию отнимает, говорят, у бедняги, у своей матери. Так неудивительно, что Дарья Петровна, бывает, днем у нас угощается обедом: а что ей остается делать? С такими, каков сын Дарьи Петровны, не скоро расцветет в нашем государстве хозяйство.
А теперь — совсем о другом. Собственно говоря, о самом интересном событии. Я все откладывал о нем записывать, потому что больше всего оно меня взволновало, все отвлекался на что угодно... Пока не могу понять — оно большое, это событие? Или — очень большое? Или — преходящее?
Так вот...
Вчера была третье сентября (ну когда я только с этим третьим сентября разделаюсь!). Прозвенел звонок со второго урока, и мы все вышли из класса в коридор на большую перемену. Из соседнего — из седьмого «В» — тоже вышли подростки, на два года моложе нас, А меня так даже на три. Я старше своих одноклассников: появился на свет в декабре и поэтому пошел в школу на год позже других. Да еще вот — школа от Труняевки была далеко, родители боялись отпускать мальца одного, я и стал учиться лишь на десятом году. Я вообще и самый старший, да и самый высокий в классе (только вот еще Юра Трусов такой же длинный). И фамилия у меня — соответствующая. Поэтому ребята зовут меня то Коля, то Большунов, но чаще всего — Большой, по росту и по фамилии. Обижаться не собираюсь: у нас почти все с прозвищами, даже учитель по математике.
93
Так вот... Я, что же, просто-напросто боюсь перейти ко вчерашнему» особенному происшествию? Так получается. И все же!
Вышли мы, значит, из своего класса» а семиклашки из своего, и вдруг до моего слуха долетают слова: «Смотри, какой хорошенький мальчик, девятиклассник! Вот он, в зеленой курточке и в очках! Какое интеллигентное лицо!» Это семиклассницы о Юшке Розентале высказались, он в очках и в зеленой куртке.
Я было усмехнулся: мама моя родная! Девчонкам, наверное, лет по четырнадцати будет, из седьмого-то класса, а они о семнадцатилетних парнях толкуют! Ну и ну! Взглянул, а там, недалеко от нас с Юшкой, две девочки стоят. Одна — маленького росточка, в синем школьном халатике (это она сказала по Юшку), а другая, рядом с ней, на полголовы повыше, в пионерской форме — белая блуза, темная юбка и красный галстук. И косы на спине у нее лежат, длинные, темные косы. Она все молчала-молчала и вдруг, тихо так, произнесла: «А этот мальчик, в серой гимнастерке, он куда лучше! Я хотела сказать: куда красивее...»
И тут девочка прямо на меня взглянула. Робко, серьезно так посмотрела и тотчас же опустила свои ресницы. Но ее мимолетный взгляд успел прошить меня насквозь, он вспыхнул нежданно-негаданно, будто молния в солнечную погоду, в ясный день!
И со мной случилось что-то удивительное. Я почувствовал какую-то неведомую радость, особую, невозможную, новую для меня.
Тут прозвенел звонок, и мы двинулись в наши классы, кому в какой. Сел я за свою парту и не сразу понял, что меня Конопасевич, наш математик, вызывает к доске — так я задумался.
Глупости какие! Вот глупости!
Девчушка в пионерской форме совсем еще малышка. Да и что такое особенное она произнесла? Что один парень по-
94
казался ей лучше другого? Ну и что же? Мало ли что может девочке ни с того ни с сего показаться?
Странно, что не только математика, но и все остальные уроки для меня на этот раз прошли, как в тумане… Так можно не только «посредственно», но и «плохо» схватить... Эти размышления надо оставить, они только затуманивают мозги, отвлекают от занятий. Что за причуды такие! Необходимо быть серьезнее!
Однако, когда уже дома, выполнив все задания по предметам на завтрашний день, я улегся на свой скрипучий диван, то снова вспомнил о ней, о девчушке из седьмого «В». И смог представить ее себе, как наяву. Она среднего роста, у нес претолстые косы, уж такие роскошные косы. Две, до пояса, даже завиваются в трубочки на концах. И вообще — волосы надо лбом и на висках тоже кудрявые, волнистые. Лицо? Лицо... Лицо белое, очень белое, с румянцем. И вся она — самая настоящая красавица — куколка.
Или — еще точнее. Как-то в Клину, в парикмахерской, лежал на подоконнике старинный, весь потрепанный журнал «Нива». Я листал его, пока ждал своей очереди. Там, на обложке, был нарисован ангел — вылитая эта малышка. Только у ангела светлые волосы, а у нее — совсем темные. Нет, не то, чтоб уж совсем, но темные, даже темнее моих. Носик — прехорошенький, а рот чуть больше, чем у ангела из «Нивы». Ей и нельзя, чтобы был меньше, иначе она будет не девочка, а вовсе куколка. И вообще — таких красивых я в жизни своей не видел…
Она меня считает красивым! Как это замечательно! И как радостно! Интересно, почему она так решила?
А я задумался — мне кажется, я ее прежде уже где-то встречал. Где же? Я точно когда-то ее знал, но не припомню — где? И когда? Это меня беспокоит!
Да что это я, в конце концов! Она мне в младшие сестры (ну, в средние сестры) годится. Я против нее, по нашим труняевским понятиям, — старый. У нас в деревне положено, что-
95
бы девушка была не больше, чем на год — полтора моложе парня, и ничего, если одногодки. Тогда считается — правильно. А тут... За три года можно поручиться!
И вообще... Ну, взглянула на меня однажды (случайно!) девочка, ну, произнесла ненароком пару приятных слов, — зачем же мне так волноваться? Что я всполошился, на самом-то деле?!
Однако жаль, что у меня нет именно такой милой сестренки. Я бы ее водил на прогулки по Чистопрудному бульвару. И смотрел бы, чтобы шпана ее не обидела. А что если бы она была нашей соседкой по квартире и каждый день выходила бы в общий коридор? Даже сердце заколотилось при такой мысли!
Интересно, какие у нее глаза? Наверное, карие, темнокарие или черные, судя по темным косам. Бывают такие, и они — словно бархатные, очень красивые. Не успел рассмотреть! Да и неудобно сразу... Ну, это можно потом, невзначай...
Кажется, я засыпаю... утром допишу... «А этот мальчик, в серой гимнастерке, он куда лучше... Я хотела сказать — куда красивее»... Спокойной ночи тебе, девочка с чудесными косами! Я очень хочу снова тебя увидеть...
7 ноября 1939 года
Ходил с отцом на демонстрацию. Наша колонна была третьей от Мавзолея, и я почти всех вождей видел. Сталина, Ворошилова, Молотова, Калинина, Микояна, Буденного Семена Михайловича. Его с первого взгляда сразу же и узнал — такие усы!
Было весело, хорошие песни пели — «Широка страна моя родная», «Вставай, вставай, кудрявая!», другие тоже. Запевали все в разных колоннах, и все разные песни, но эта неразбериха никому не мешала. А сколько детей сидело на плечах отцов, им было так интересно вокруг смотреть! А сколько
96
цветов! Целое море! Больше, правда, бумажных, малиновых и голубых. И то правда — какие могут быть натуральные цветы в последний месяц осени? Если только из теплиц!
Из-за моего похода на демонстрацию я не успел послушать по радио трансляцию военного парада — торжественные марши, бравые команды. А хотелось бы все это послушать, это всегда так поднимает настроение! Я пойду, конечно, по военной линии, как отец. Любовь к стихам никак не исключает военную службу: даже великий поэт Лермонтов был военным. На Кавказе воевал, на Гойтхском перевале с экспедиционным корпусом все за Шамилем охотился... Но воевать не любил, в отставку просился, а царь его — не отпустил, погубил Лермонтова...
На днях собираюсь идти на комиссию по поводу приема в летное училище. Конечно, переживаю! Еще бы! Судьба решается! А медики — мало ли какие недочеты они могут отыскать в несовершенном человеческом организме!
12 ноября 1939 года
Хорошо, что раньше не проходил комиссию. Иначе вконец испортил бы праздники и себе, и всем своим... Таким уж я домой вернулся оттуда — мрачный, туча тучей.
Травмированный глаз, оказывается, потерял какой-то нужный процент зрения. А я было и позабыл о нем — газеты, мелкий шрифт читал свободно. Врачи сказали — потому, что оба глаза были в работе, а так были бы другие результаты, не увидел бы мелкий шрифт.
Травмированный глаз... В армию меня возьмут, многие военные профессии мне не заказаны. Но дорога в летчики — закрыта.
У меня упадок духа: мечта все-таки рухнула. Были, были у меня какие-то предчувствия, просто я гнал их от себя... А как по особенному прекрасно было в небе! Я ведь успел и поучиться в аэроклубе, и даже два самостоятельных вылета
97
сумел сделать до этого несчастного случая с моим глазом в лесу... Сам самолет дважды посадил. А теперь что?
Что скажешь, красивая девочка — куколка? Видишь, мне не повезло. А ты ничего не знаешь и, вполне может быть, не узнаешь никогда.
Дома все мои молчали. И было непонятно — сочувствуют они мне или радуются тому, что я лишился возможности заняться любимой, но опасной профессией. Маманя не раз прежде говорила: летчики, мол, они всегда рискуют жизнью...
Я никакого страха не чувствовал, когда летал. А только безграничную свободу, какая не бывает на земле... Ужас, ужасно, я не могу в одночасье примириться с новостью, такой скверной для меня. Очень уж велика потеря!
Летчикам нужно стопроцентное зрение... Но остаются другие военные профессии. Например — артиллерия. Бог войны, как любил ее называть Наполеон...
Может быть, сумею уговорить себя на артиллерию? Очень не хочется мне только в пограничные войска: стой и стой там где-то в лесу с винтовкой, с собакой и в позе «Замри!», как на плакатах. Скука, кромешная скука. Никакой деятельности, активности, инициативы. Едва ли на мою долю за все три года службы придется хоть один диверсант: наша страна такая огромная и могучая, что врагов — охотников рисковать жизнью — не очень-то будет много!
Четверть тоже закончилась для меня не слишком почетно: по русскому языку и литературе, при всей моей любви к стихам, никак не получается писать изложения без ошибок. Моим одноклассникам легче: они все школьные годы обучались в Москве. У нас в Труняевке учитель ни с кем не возился персонально... Что ж... надо приложить еще больше усилий, необходимо подтягиваться...
Зато Лидия Николаевна, Конопасевич и Сукачев довольны: по физике, всей математике и химии у меня «отлично». Я с этими науками давно на «ты», и они очень бы пригодились в летном училище.
98
Вообще-то просто грех плохо учиться: у нас учителя замечательные. И объясняют хорошо, подробно, и на переменках ответят, всегда ответят на неясные для нас вопросы. И даже могут оставаться с нами после уроков — сами же и предлагают помощь, домой не спешат. Конопасевич — такой старый, ходит плохо, с ноги на ногу переваливается, ему трудно, мешают и годы и немалый вес. Он, говорят, еще эту бывшую женскую гимназию застал, там преподавал благородным девицам в старших классах. Он умеренно строгий, и у него одного изо всех учителей прозвище — Конопас. Сократили мы его длинную белорусскую фамилию — польское окончание отсекли.
Фамилии идут от предков: предки его, наверное, были конопатые. А Лидию Николаевну так все боятся, что по фамилии даже и за глаза не называют. Хотя фамилия к ней очень пристала: Гроздова, чуть ли не Грозная. Она на уроках и, особенно, во время опроса, как поднимет свою правую бровь или обе сразу, так многие тут же и пугаются. Еще у нее есть манера сдвигать очки на кончик носа, — смотрит поверх очков, так и буравит своим взглядом, — и все ответы можно тут же забыть или в них запутаться.
Но это я так! Если добросовестно все выучено — ничего не вылетает из головы. Иногда мне кажется, что за суровым взглядом Лидии Николаевны все-таки скрывается доброе сердце: у нее доброта сквозит в глазах. И заинтересованность тоже сквозит, — будто проблемы и обиды собеседника — это и ее проблемы. Говорят, она совсем одинока, никаких родственников у нее нет, даже двоюродных... И как это люди умудряются что-то знать о другом человеке? Ну, если этот другой тебе не сосед, не из твоего класса, с чужого двора... А слухи о нем как-то долетают, словно по воздуху. Забавно!
...Сижу я теперь за первой партой. Почему так вышло — не знаю. Наверное, учителя заметили, что месяца два подряд я все-таки носил очки из-за этого злосчастного глаза. Теперь не ношу, врачи сказали, мол, достаточно, пора снять. Для
99
обычного зрения, может быть, и достаточно, но для авиации — нет... Эх, и милое дело авиация! Была моя да сплыла!..
Вообще-то я бы рассаживал высоких ребят на дальних партах, а малорослых — поближе, чтобы им удобнее было читать то, что написано на доске. Да, а посадили меня с девчонкой, с Ниной Паклиной. После уроков она довольно регулярно проходит мимо наших окон в магазин за продуктами, видел ее с большой сумкой. Кого и чего только не увидишь, обитая на первом этаже. В наши окна любой прохожий может, при желании, постучаться, как в деревне. Ну да ладно...
Так вот, получился просто анекдот: мой отец углядел Паклину и очень оживился, особенно, когда узнал, что мы с ней сидим за одной партой: «Ну и красавица! Вот бы Николаю нашему невеста!» Паклина, наверное, и правда, красавица: она блондинка, при темных бровях и ресницах, а румянец во все щеки так и горит, как накрашенный, хотя у нее он, конечно, свой, природный, — она же не клоун в цирке — краситься! Те красят, правда, еще и свои носы — потехи ради!
Так вот, когда отец стал восторгаться Паклиной, я спросил себя: а каково мое-то к ней отношение? И с точностью определил: равнодушно — приветливо — соседское, но больше при этом равнодушное. Не густо, конечно, было бы с точки зрения отца, если бы я ему доложился, но это так, правда — истина. И вообще: что это родители, причем многие родители, чуть ли не с пеленок начинают сватать своих детей? И добро бы в шутку, а то ведь всерьез! Мне, например, с Паклиной так же странно было бы пройтись, допустим, по Чистым прудам или по Покровскому бульвару, как и с моими квартирными соседками, с той же Марьей Константиновной или с Софьей Григорьевной (с чужими — то тетками!), торжественно прогуляться. Смешно! И понарошку не представить себе этой неестественной ситуации.
Я вот все еще думаю о девочке — куколке из Большого Казенного, из той школы. Но она исчезла, её третий месяц нигде не видно. Наверное, в другую школу перевели, — мы-то
100
уж давно вернулись после ремонта (или достройки?) в свою прежнюю, родимую, в Лялин, а той девочки нет и нет. Может быть, она осталась в Большом Казенном, там ее класс? Может быть, ей там ближе по месту жительства? Или вообще уехала она с семьей из Москвы? Очень, очень жаль, но, по всей видимости, это так и есть.
А что, интересно, думал ли бы я о ней, если бы она на меня так особенно не взглянула однажды тогда, в Большом Казенном? Все еще никак не припомню — где же я ее прежде видел? Очень хотелось бы точно знать. Но придется оставить эти усилия, тут память меня почему-то подводит.
2 декабря 1939 года
Сегодня мне исполнилось семнадцать лет, и мы всей семьей сидели вечером за столом. Кроме ужина, пили чай с пирожными (и кроме маминого пирога с капустой). Я и не помню такой вкусноты! Гостей не было, но ведь и возраст еще несовершеннолетний. В нашей семье вообще малое значение придают дню рождения. Именинам — почти так же. Если б не бабушка Марфа, которая иногда, очень редко к нам появляется, то никто никаких бы и старинных праздников не помнил. Маманя очень редко ходит в церковь, но она такая добрая, такая сердобольная, что Бог ей все это зачтет, если Он есть.
Сегодня 3 января 1940 года
Недавно Новый год встретили, и очень бурно. Ходили с маманей и с отцом в гости: и к знакомым, и к теткам, и к дяде Мише — крестному. Мне дважды наливали вино. Пришлось чокнуться со всеми, чтобы правила соблюсти и, главное, родню не обидеть. Но что люди находят хорошего в вине или, особенно, в этой дурацкой водке — не понимаю и понимать не хочу. После нее — головная боль, а во время «приема» — одна горечь.
101
В этом году многие елку ставили дома, вспомнили старинный обычай. Украшали игрушками, — покупали и сами делали. Вату клали на ветки вместо снега, а кое у кого нашлись и маленькие цветные лампочки: всю елку освещали разноцветным электричеством, у Софьи Григорьевны видел. Но самое интересное — это подготовка была. Клеили коробочки из цветной плотной бумаги, вырезали серебряные звездочки, брали для них бумажки из-под конфет. Некоторые вешали просто пустые фантики, но это — неинтересно. А так-то — вся квартира кипела, все волновались, перекликались...
Маманя ставить елку не разрешила. Сказала, что после нее нужно месяца два выметать из комнаты иголочки, они будут долго появляться изо всех углов, когда насыпятся с елки. Жаль! Я бы ей помог вымести эти иголки, зато как красиво было бы на Новый год! Она все равно не согласилась, хоть и я и мои сестры, особенно Нюрочка, хором уговаривали ее. Не уговорили!
А так — ничего интересного не происходит. Поэтому и вытаскиваю эту синюю тетрадь на свет Божий довольно редко. Да, вот что: недавно перечитывал стихотворение Лермонтова «На смерть поэта». Сильнейшая вещь, ничего сильнее я не знаю, это всегда потрясает меня заново. И как это люди допустили, чтобы убили Лермонтова. Сначала Пушкина, а потом и Лермонтова?
Неточно Николай Алексеевич на уроке литературы нам сказал, что Лермонтову, когда его застрелил Мартынов, было двадцать семь лет. Ничего подобного, ему еще двадцати семи не было! Я узнавал, я потом ходил в читальню на Чистых прудах, хотел его день рождения уточнить, чтобы запомнить для себя. И конечно, полистал энциклопедию. Ему, оказывается, до двадцати семи еще два с половиной месяца жизни оставалось. И сколько бы он за это время встретил и проводил восходов и закатов, сколько бы написал прекрасных стихов! Он успел бы и жениться, и оставить после себя сына! Или дочь! Правда, увидеть их он бы уже не смог...
102
Бедный парень, так рано погибнуть! От пули мелкого, обидчивого дурака! Ведь Лермонтов — он выстрелил в воздух и весело (да, весело!) сказал: «Прошу последовать моему благому примеру!» Куда там! «Мартышкин» прицелился, как в мишень, и выстрелил прямо в его сердце.
Лишить жизни человека, Лермонтова убить! Да, и на его смерть не нашлось гения — не было такого! — который смог бы сказать: «Убит поэт!» Успокоиться я пока не в состоянии, словно это несчастье произошло только вчера. Меня всегда возмущают несправедливость и жестокость. Как перечту «Убит поэт», так — переживаю... «Мартышкин», он потом всю жизнь мучился, места себе не находил, ежедневно молился в часовне за душу раба Божьего Михаила. Да мне на его раскаяние наплевать — слишком позднее и непоправимое.
Да, а почему биографы, да и другие, прибавляют великим дни и месяцы? «Округляют» дату их смерти? Хотят, наверное, вроде бы продлить им жизнь? Ну да! Каждому понятно: пусть хоть два с половиной месяца, хоть два дня, а человеку хочется их прожить на Земле.
...Поговаривают, что у нас в школе скоро введут «Военное дело». Будем учиться разбирать и собирать винтовки, правильно обращаться с противогазами и осваивать многое другое, военное — там уточнят. Уж и карты, и разные схемы, и винтовки с противогазами привезли. Появились и плакаты по нужным темам, — стоят в углу, свернутые в трубы. Их повесят на стены, когда военрука пришлют, который и должен будет передавать нам свои знания. Что ж? Все как надо: «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов».
Войны, правда, никакой не предвидится! С немцами у нас мирный договор, а другие никогда к нам не сунутся. Но армия, конечно, должна быть сильной, организованной, готовой отражать нападения любого агрессора.
103
14 февраля 1940 года
Заходил сегодня в читальню на Чистых прудах, прочитал кое — что нужное по литературе: в нашей школьной читальне все места были заняты, да тут и пройти недалеко. Ну и посмотрел, наконец, про Томаса Мора, утописта. Давно хотел выяснить: за что человека казнили? С трудом добился толку. Пришлось сопоставлять даты царствования нескольких английских королей с датой смерти Томаса Мора. Он, оказывается, занимал в Великобритании один из важнейших государственных постов, был канцлером. Но в 1534 году Генрих VIII, этот сумасбродный многоженец, Синяя Борода на английском троне, сам себя провозгласил главой Англиканской церкви, а до этого страна была католическая и по церкви относилась к Папе Римскому. Томас Мор, как верующий католик, отказался присягнуть самовольному главе новой церкви да еще и поставил вопрос, что Генрих, мол, не имел права проводить подобных мероприятий... Вот и казнили старика, умер он за свою веру, а ему ведь шло уже к шестидесяти. Какие изверги были среди королей: убийцы, настоящие преступники, антилюди. Взять хоть и нашего царя, Ивана Грозного, эту его историю с Новгородом... Всех бояр в одну минуту велел обезглавить и детей их спустить под лед, в реку... О государстве, видите ли, радел... Нельзя ли было придумать, как можно бы радеть о государстве, не убивая людей, которые даже не были врагами... Антилюди, кровопийцы...
Антилюди? Это что же, я вдруг такое слово выдумал? Интересно! Ну и ну, Николай Александрович! Где бы зарегистрировать мое «изобретение»? Да нет, шутки прочь, мне это слово кажется очень существенным для характеристики извергов.
8 марта 1940 года
Женский праздник. Отец подшучивает: у матери, мол, весь
104
праздник на кухне — танцы вокруг плиты, а кастрюли — это ее оркестр. Вечером мы посидели, конечно, всей семьей за столом. Было и сливочное масло, и колбаса. Обычно мы едим щи или другой суп, картошку, селедку: что подешевле. Нас ведь четверо у родителей. Я вообще не знаю, не представляю себе, как отцу с матерью удалось собрать денег на этот мой темно-синий костюм, зачем так старались? Ведь нужно нас, детей, всех четверых, обуть-одеть, накормить. На нас не напастись!
Тех денег, которые дает мне Софья Григорьевна и другие соседи за то, что я напилю и наколю им дров, вряд ли на что существенное может хватить. Хорошо, однако, что отец против такой моей «трудовой деятельности» не возражает. Ну а маманя, та, бывает, только радуется лишней копейке, хоть от моей «деятельности» перепадают ей сущие пустяки! Ведь с этими дровами — работа случайная и маленькая!
Но я все-таки скоро с их плеч слезу, мне с ними быть от силы еще года полтора, а там — на три года в армию. На три года! Да за это время не только Клава, но и Тоня могут замуж выскочить, перемены, конечно, произойдут. Но, надеюсь, мать с отцом останутся живы-здоровы до моего возвращения и после него, они еще совсем не старые. А когда постареют, я буду человеком, давно в жизни определившимся, и смогу о них позаботиться в свою очередь. И со всей моей охотой!
Я все чаще думаю об армии. В общем, она не за горами. Хорошо бы хоть в артиллерию, если уж так получилось с авиацией. Авиация... Обидно, и всегда будет обидно: я, наверное, человек постоянный.
Софья Григорьевна, соседка, заявила как-то, что постоянство — это не плюс и не минус, а просто свойство данного организма. Мне это рассуждение показалось неприятным. По-моему, непостоянный человек и сам себя не имеет права уважать. Я считаю, что непостоянство — это минус, и очень большой минус. Такой человек может, наверное, подвести не только себя, но и других, тех, которые на него понадеются.
105
Отец из наших окон (находит же время наблюдать!) продолжает заглядываться на мою соседку по парте, на Паклину. И все повторяет: «Красавица! Вот бы Николаю нашему невеста!» Старорежимным чем-то попахивает, когда в давние времена родители прямо-таки насильно заставляли своих детей, едва повзрослевших, — жениться, выходить замуж, соединяться в семьи по уму и рассуждению. А ведь это возможно только лишь по любви, не зря же о ней песни поют! Любовь рассуждениям не может подчиняться, она вольная птица, рождается неизвестно откуда и как... стихия! Вот, как поют в опере Бизе «Кармен»: «Любовь дитя, дитя свободы, оков она не знает никогда!» Я с этим согласен.
А что касается идеи моего отца (смех! Тоже ведь своего рода постоянство!), то это становится просто-напросто чем-то надоедливым. Затвердил одно и то же, как первоклассник азбуку! Вот что: если еще раз вздохнет по вопросу о Паклиной, то придется ему решительно заявить (а то я все помалкиваю, не хочу его расстраивать даже по такому надуманному поводу), что ей нравится другой наш одноклассник, Боря Савилов, но никак не я. Так это и есть! А что она мне не нравится ни на сантиметр, так про это я промолчу, не стану его обижать, противоречить. А Боря Савилов — он славный парень, тихий такой, скромный, тоже, наверное, не из богатых: всегда и на все уроки в одном и том же стареньком лыжном костюме ходит. В математике хорошо разбирается, и в физике. Лидия Николаевна зовет его «Боренька». Ну а меня — «Коленька». Я тоже физику люблю и учу ее с удовольствием, а Лидия Николаевна всегда это ценит. Паклина же на Савилова очень явно поглядывает, а ему — никто не нравится. И мне никто не нравится. Многим парням в нашем классе так: мы просто-напросто еще не думаем за девчонками ухаживать...
Правда, иной раз мне хочется на второй перемене посетить школу в Большом Казенном, дом девять — может быть, где-то там все же ходит девочка — куколка? Я помню ее класс — это седьмой «В», он был тогда на третьем этаже, рядом с
106
нашим девятым «А». Сейчас рядом с нами тоже седьмой «В», но это, конечно, другой, потому что там ее нет. Тот седьмой «В» наверняка принадлежал школе в Большом Казенном, да там и остался.
Нет, я соберусь все же, соберусь туда, не сегодня, так завтра приду. Поищу на третьем этаже седьмой «В», посмотрю, выйдет ли эта девочка на второй переменке... Но вот проблема — успею ли вернуться на урок в свою школу? Добегу ли до звонка обратно в Лялин? Опоздать к Лидии Николаевне или Василию Дмитриевичу на урок? Выдумать какую-нибудь причину... терпеть не могу врать... вранье человека унижает... Но я могу и не опоздать в Лялин, быстро-быстро сбегаю туда и обратно. Задерживаться не стану. Мне бы только взглянуть на нее, больше ничего.
2 апреля 1940 года
Вчера было первое апреля, день великих и малых обманов. И конечно, сестры меня «ловили» и несколько раз по пустякам «поймали». Но мне не до того! Не думал я, что не пройдет и месяца, и я вернусь к этой заветной синей тетради, — часто записывать новости некогда, я ведь как сажусь за эти строки, так часа на два, на три, не меньше.
Конечно, только из-за первого апреля я не стал бы вынимать тетрадку из письменного стола, — тоже мне «праздник»... Но то, что произошло... Нет, чего только на свете не бывает! Чего только не случается!
Восклицаний с моей стороны так много, что посторонний человек мог бы предположить, что на наш дом в Лялином упал метеорит величиной с Черное море... Нет, это, конечно, другое. И может быть, новость для иных совсем небольшая... Но не для меня, нет, только не для меня!
Итак, в чем же дело? А в том, что на переменке вышла из седьмого «В» давняя девочка, моя памятная девочка, о которой было решил, что или она перешла в другую школу,
107
или осталась учиться в Большом Казенном, или даже уехала с родителями из Москвы, — так тоже бывает, особенно если, например, отец военный... Она ведь больше полугода отсутствовала! Я еще собирался навестить ее седьмой «В» в Большом Казенном, уже расписывал по минутам, как бы обратно добежать на урок в Лялин, не опоздать бы... Да... значит, нынешний наш сосед, седьмой «В», что за стенкой, это ее класс, просто этой девочки там очень долго не было...
Но что с ней случилось? Где ее великолепные косы? С вьющимися трубочками на концах? Я их отлично запомнил. А теперь их нет. На ее голове... лишь короткий «ежик», едва отросший «ежик», меньше мальчишеского, почти как... почти как у призывников перед отправкой в армию!
Какая жалость, кто это допустил? Узнать я ее узнал сразу, забыть ее лицо и тот один-единственный взгляд невозможно. Но все же... но все же я как бы заново ее узнаю! И все из-за этого «ежика»! При такой «прическе» моя сестренка Нюрочка (ее тоже наголо остригли после брюшного тифа — подхватила из-за немытого яблока) почти весь год ходила в платочке, и на улице и даже дома: она стеснялась! А эта девочка не стесняется, будто так и положено всем ходить, будто это — рядовая прическа! Ну и ну!
Я отошел к концу коридора, к химлаборатории, я прямо врос в ее стеклянную стену, чтобы посмотреть на девочку без помех, разглядеть, что все это значит. И увидел, что одета она не в прошлогодний пионерский костюм по форме, а в спортивный, с брюками. Увы, увы, — это для гармонии с мальчишеской «прической», никак не иначе. Черт знает что творится на белом свете! Такая досада!
Ее окружили одноклассницы, и все они, перебивая друг друга, что-то восклицали. Сначала стоял сплошной девчачий гул, а вскоре до меня стало долетать: «Ну как это в больнице решились остричь такие волосы? Да как же ты сама-то разрешила им это сделать? Ну что ж, что скарлатина! Теперь их растить — и в десять лет не вырастить! Мало ли что положено
108
— не далась бы стричь — и все! Перекусала бы там всех медсестер и перецарапала бы!»
Я все эти возгласы воспринимал до самых печенок, как будто событие — остриженные косы — имело ко мне прямое отношение! И я все не трогался с места, все стоял у дверей химлаборатории, как оглушенный, — девочка, милая куколка, как же так, где твои чудесные косы?!
Положительного из этого неприятного, да просто чудовищного события я вынес только одно, но правда, важное, очень важное: узнал ее имя. Подружки называли несколько раз, когда возмущались и ахали. Ее зовут Аней, как и мою младшую сестренку, Нюрочку. Анна!
А вообще-то я поражен, нокаутирован, просто убит — и все. Какое нарушение внешности! Стыдно признаться, но я был даже рад, когда раздался звонок над моим ухом, и все направились к своим классам и партам... Надо разобраться в ситуации!
Бедненькая Нюрочка! Таких кос лишиться! Легче голову с плеч снять! Но может быть, волосы у нее быстро отрастут? Девочке так нельзя, нельзя, ну никак нельзя! Скарлатина... Это было, конечно, очень опасно, я понимаю. Она могла... она могла... не выжить! Вот где была бы непоправимая катастрофа... А волосы... А волосы ее отрастут... со временем. Но будут ли они такие роскошные, как прежде? Это еще вопрос! Я подумал: для девчонок все-таки очень важна внешность, не только душа и характер, как любит повторять моя мама...
— Большунов! Ты о чем грезишь? Получил в прошлый раз «отлично», так можно и в окно смотреть без толку, неизвестно зачем и почему? Мечты, мечты, где ваша сладость! Смотреть надо в учебник! — Это, конечно, Лидия Николаевна огорошила меня и высказалась в своей всегдашней манере, с этим ее знаменитым «неизвестно зачем и почему».
И я схватил учебник и стал его спешно листать — до нужного параграфа.
109
14 апреля 1940 года
Неужели из-за этой девочки с «ежиком» на голове я вернулся к синей тетради уже через две недели? Ведь я не из тех, кто пунктуально ведет свой дневник, я записываю что-то по настроению, когда сказать о чем-то хочется, а сказать — некому. А я хочу говорить о ней, о девочке из седьмого «В».
Я издали на нее все поглядываю — мне нравится на нее смотреть. И с каждым днем — все больше и больше. Интересно, что сказал бы мой отец, почитатель Паклиной, моей соседки по парте, открой я ему эту симпатию. У девочки «прическа» короче любой мальчишеской! И ей, к тому же, ой как далеко, чтобы называться девушкой. Она слишком еще мала для этого по возрасту! А ростом, пожалуй, будет и с некоторых моих одноклассниц. У нас по-настоящему высокая, пожалуй, одна только Женя Чижевская, а остальные более или менее средние. Улыбчивая, приветливая эта Женя, она дружит с Паклиной, поэтому часто подходит к моей парте.
Отец, если бы проведал про мои мысли об Ане, наверное, решил бы, что его сын — рехнулся. Впрочем, я думаю, что у меня к Ане чисто дружеский интерес, просто такое теплое отношение. Ну как к обиженному ребенку. Лишиться таких кос! Для нее это, конечно, немалая душевная травма.
Волосы у нее почти не подрастают. Ни с места! По крайней мере, за полмесяца, как мне кажется, ни на миллиметр. А тут еще Мишка Горбунов из нашего класса вздумал поехидничать. Шутка ли — дотронулся линейкой до ее макушки и нагло заявил: «Волосы-то — отрасти!» Так меня и подмывало разломать дурацкую линейку пополам и обломки кинуть в мусорную корзину! И я это сделаю, если что! Балда этот Мишка! Нашел предмет для шуток. Девочка всего лишь недавно переболела опасной скарлатиной!
Бедненькая Нюрочка, моя младшая сестренка номер два!
Ну а как она будет догонять свой класс по всем предметам? Вот уж задача, которая мало кому по зубам! Родители
110
станут нанимать репетиторов, что ли? Или кто-нибудь из старших родственников поможет?
На последней переменке удалось посмотреть на нее подольше и увидеть поближе. Думал, у нее карие или же черные глаза: ей, вроде, пошли бы, ведь она почти брюнетка. Но что же оказалось? Полная неожиданность! Глаза у нее — чисто — голубые! Кажется, что даже и синие! Потрясающие глаза! Вообще — удивительное сочетание красок, цветов разных, такого пока ни у кого не видел. Нет, какое красивое лицо, просто уму непостижимо, да еще эти синие, голубые огонечки! Природа для Ани не поскупилась! И еще... я не мог сразу этого понять, но она... она тоже на меня поглядела своими замечательными глазами! Да, да! Поглядела, сильно покраснела и тут же ушла в свой класс. Этот взгляд был задумчивый и даже грустный (может, из-за «ежика»), а тот, давний, первый, в прежней школе — совсем другой — острый и тревожный. У нее особенный взгляд, он всю мою душу переворачивает. Но только не могу понять — почему? Какая в нем скрывается тайна и сила?
Милая девочка! Я, кажется, все разгадал. Хотел было написать «милая сестричка», но понял, что я больше ее никогда так не назову, ни устно, ни письменно. Зачем упрямо избегать того, что до меня, наконец, дошло: нет, никакая она не сестричка. А просто чудо из чудес, свет в окошке. Мой свет!.. Что же до кос, то им деваться некуда: отрастут. Пусть только не переживает. Я, кажется, перестал переживать отсутствие у нее кос, эту потерю. Главное-то событие налицо: она нашлась, вот она, здесь, в седьмом «В», ходит мимо меня по коридору, существует наяву! Аня, Аня, Анечка...
Мне до окончания школы — год и два месяца. А до перехода в десятый — в последний класс — всего два месяца. А это означает, что не успею оглянуться — и надо ехать в Труняевку, на каникулы. И ведь на все лето! Я долго ее не увижу... Впрочем, она тоже уедет на лето, в Москве не будет сидеть.
Нет, отец точно посмеялся бы надо мной. Или устроил
111
бы суровую, обстоятельную головомойку. Действительно: девочка всего лишь из седьмого класса и с «ежиком» вместо кос! А что до красоты ее лица, то он, мой отец, такие «мелочи» и разглядывать бы не стал.
В декабре сего года мне исполнится восемнадцать лет. Совершеннолетие, полноправный гражданин. Но я что-то тороплю события: до декабря еще совсем не скоро.
А сколько лет Ане? Наверное, никак не больше пятнадцати. Столько, кажется, сколько бабушке Марфе исполнилось, когда она венчалась с дедом Иваном. Но тогда были другие времена. Теперь — все иначе.
28 апреля 1940 года
Скоро большой праздник, Первомай. Мама будет печь пироги, отец — звать на демонстрацию, а после демонстрации все соберутся за столом, развеселятся... Что же мне так больно и так трудно, жду ль чего, жалею ли о чем?
Кавычки не ставлю. Всем и так известно, что это Лермонтов написал. Не поставлю, не поставлю кавычек, потому что хоть одно слово, да перевру, перепутаю, а кавычки предполагают точность — абсолют.
Мне грустно и легко, печаль моя светла, она полна одной тобою... А это кто написал? Пушкин!
Нет, я не совсем, не совсем в своей тарелке. И даже поделиться не с кем, разве только вот с этой синей тетрадкой.
Скоро Первое мая... С кем Нюрочка будет его праздновать? Придут, наверное, дворовые и школьные подружки, приедут родственники. Какая у нее семья? Уж верно они — другие. А я ведь совсем деревенский житель. Но у нас в стране важно не происхождение от бабушек — дедушек и не служебное положение родителей, а свои, личные данные. Свои способности и, главное, свой упорный труд. За родительские заслуги прятаться и глупо, и недостойно. Неужели человек сам по себе ничего не стоит? За таких стыдно, просто неловко. Я
112
хочу быть военным. А до какого звания я дослужусь — это покажет время, мое старание и целеустремленность.
Однако, что за глупости я горожу! Сильно загибаю в будущее! Мне еще учиться и учиться. И пока — в школе № 328, в родном Лялином переулке. И вообще — грустить не надо. Зачем грустить? Жизнь прекрасна сама по себе, со всеми ее трудностями и переживаниями, и только смерть непоправима. Трудности надо преодолевать, и это интересно, очень интересно. Жизнь — это борьба, сказал Карл Маркс, но так как жизнь всегда была борьбой, еще когда люди высекали огонь из кремня, да и раньше, то, может быть, так и до Маркса говорили...
Когда человек молод, полон сил, планов и надежд, он с особенной радостью постигает жизнь. Идет процесс новых для него открытий! Для старых людей наступает период, который, наверное, можно бы назвать созерцательным (сил-то нет на большую активность!), но и он наверняка по-своему прекрасен. Особенно, если тебя окружают дети, внуки и правнуки, которые жалеют своих стариков. И любят их, как мы нашу умницу, бабушку Марфу.
Хотелось бы подольше поразмышлять о сути жизни, но сейчас мне что-то не до сложных размышлений. В голове засела самая простая мысль: чтобы Аня больше никуда не пропадала. И не болела. Хватит с нее скарлатины. А перенесла ли она другие детские болезни? Корь, ветрянку, краснуху, дифтерит? Особенно опасен дифтерит... как вспомню моего младшего братика Толю...
Главное — чтобы Нюрочка никуда не девалась. С ума надо сойти, если она опять вздумает исчезнуть. Мне кажется, что теперь я этого просто так бы не пережил...
Я с утра так и тороплюсь в школу, чтобы ее увидеть. Мне необходимо видеть ее каждый день! И тогда вечером, дома, я могу вспоминать, как она ходит по коридору, стоит в спортзале, поворачивается в профиль... У нее такие брови! Они тонкие, подвижные, и внутри, за ними, столько, наверное,
113
интересных мыслей! А лоб? Так бы никогда и не отводил я глаз от ее лица. Нет, какое лицо! Она чувствует, что я на нее поглядываю, но никакого возмущения в ответ на мои взгляды нет. Она тут как-то голову опустила и бросила на меня украдкой взгляд... Какой был взгляд! Она меня тоже отличает от других, честное слово! Это я так чувствую!
Да, а как мне все-таки повезло, что я довольно долго прикидывал расчет в минутах: успею ли, мол, на переменке и проведать седьмой «В» в Большом Казенном и вернуться, добежать до звонка в Лялин, на урок! Что было бы, если б я навестил Большой Казенный и не увидел бы ее там? А ведь никак не увидел бы! Там другой седьмой «В», местный. Мало того, — она ведь болела, ее так и так нигде не было в школах, ни в той, ни в нашей! То-то сердце бы у меня замерло от огорчения! Значит, поговорка «Тише едешь — дальше будешь» иногда бывает оправдана. Кто может заранее знать, как все обернется, что должно случиться? На все — судьба, и ее не объедешь конем!
Теперь я рад, что дежурю в раздевалке: я прихожу пораньше, дожидаюсь, когда она входит в вестибюль, а иной раз и сам являюсь, если способствует погода, в уличной куртке, чтобы встать в очередь за ней. Как это замечательно! У нее такая серая, вязаная шапка — шлем — к ней очень идет, и она снимает ее уже перед самым окошком и отдает нянечке, с собой не берет. Но что это я про шапку? Апрель выдался теплый, а Аня уже неделю ходит без головного убора... Я бы, на месте ее родителей, не разрешил: а вдруг простудится, заболеет. Пока не лето! Не дай Бог!
Сегодня на большой перемене я дождался ее выхода из класса и внимательно на нее взглянул; по-моему, «ежик» вырос теперь на сантиметр, не меньше. Растет все-таки очень медленно!.. Интересно, он колючий или нет? Черные волосы вполне могут быть колючими. Я на минуту представил себе, будто положил ладонь на Анину макушку, и она почудилась мягкой и пушистой... У меня от такой неожиданной мысли
114

дыхание прервалось на минуту-другую... Что за чудо может произойти, возникнуть на свете, если не мысленно, а на самом деле положить руку на Анину макушку? Мишке Горбунову ничего не стоит так поступить — линейкой дотронуться или даже рукой: он нахал что надо. Но он, конечно, не посмеет. А если все же хоть раз еще увижу Мишку с этой линейкой возле Нюры — пусть пеняет на себя, я тут же схвачу его за руку. И линейку переломаю. В прошлый раз до меня не дошло, я не сразу сообразил. Но теперь...
2 мая 1940 года
Приезжала было из Труняевки приставучая Валентина. Думаю, что теперь, наконец-то, она отвязалась насовсем. Как это получилось? Довольно просто! Она предложила пройтись по праздничной Москве, полюбоваться вместе иллюминацией. А я как отрезал: «Никогда!» Не увещевал оставить меня в покое, как в прошлые времена в Труняевке, а просто взял, да и сказал: «Никогда!» И она тут же попрощалась, не осталась с нами и обедать, как положено гостье. Мне отчасти ее жалко, но ничего не поделаешь, в таких случаях нужны самые суровые принципы и решительные поступки.
Суть даже не в том, что Валентина такая страшненькая, но если бы она (или кто иная) была бы первостатейной красавицей, все равно — никогда. И ни с кем. Даже если маленькая Нюра предпочтет другого парня, когда подрастет. Но она не предпочтет, я этого не позволю, не допущу, потому что на всем белом свете только она мне нужна, только она. И она со временем должна это будет понять и почувствовать.
А пока-то она здесь, близенько, в соседнем классе, и какая это радость! Вот с кем вместе я полюбовался бы иллюминацией, походил бы по праздничной Москве! И разве можно, разве можно делить с кем-то еще свое настроение? Или соединять два настроения в одно? Это если только мое и Ани — но соединить в наше!
116
Я почти на всех переменках выхожу из класса первым — не хочу ее прозевать. И потом... честное слово, я не ошибаюсь, она на меня тоже поглядывает! Да, да! Такие вот на свете творятся чудеса! И это вовсе с моей стороны никакая не самоуверенность. Родные меня обычно даже «подкалывают», считая слишком тихим и скромным, так что самоуверенности у меня, наверное, совсем нет. Просто я на самом деле чувствую, когда Аня на меня смотрит, а сердце не обманывает... Может быть, Анино отношение ко мне такое же, как и у меня к ней? Может быть? Да не «может быть», а так оно и есть, вот что!
Что еще хотел сказать... Да! Совсем о другом. Случилась одна неприятность. В коридоре, в простенке между ее и моим классами, прибили два учета успеваемости, седьмого «В» и девятого «А». Там, на плотном ватмане, в рамке и под стеклом, черным по белому указаны наши все фамилии, инициалы, названия всех предметов по учебному плану седьмого и девятого классов. Ну и, конечно, самое основное (и самое неприятное!), имеются клеточки для оценок. Я стараюсь, дома себя проверяю по русскому языку, но то и дело продолжаю хватать «посредственно». Аня, конечно, моей фамилии не знает, даже имени едва ли...
«Что в имени тебе моем?»... Но все-таки неприятно, что эти «посы» выставлены на всеобщее обозрение.
Интересно, а что за оценки у нее? Их «Учет успеваемости» мне ни о чем не скажет: я ведь тоже не знаю ее фамилии. По инициалам не угадать. Анна... «А». Я смотрел — там четыре девочки с такими инициалами: Анны или, может быть, Александры какие-нибудь... По фамилии ее никто не называл, по крайней мере, при мне... Разве что спросить у физички, у нашей грозной Лидии Николаевны? Нет, нет... Физичка упадет в обморок, я не осмелюсь. Что же делать? Я не знаю даже фамилии...
А если бы я знал, что бы изменилось? Просто надо ждать, пока мы хоть немного повзрослеем (особенно Аня!) и тогда
117
уж познакомимся честь по чести. Только бы Анечка никуда больше не исчезала, в этом вся задача, об этом все мое беспокойство.
Хорошо, что я знаю хотя бы ее имя, ее чудесное имя. Я ведь слышал — Анна — уже много лет. И у сестренки, и у двух моих теток такое имя. Почему же оно прежде не казалось мне чудесным? А, знаю, догадаться совсем нетрудно: потому что все Анны, родня и знакомые, — другие Анны, а этой Анной может быть только она, только она.
Я все силюсь вспомнить: где и когда я ее уже видел? Ну кроме тех минут в школе на Большом Казенном? Аня, Анечка, где прежде, до школы я тебя видел? Где? И когда? Ну не во сне же такое могло присниться?
14 мая 1940 года
Мишка Горбунов все-таки подошел к А. Подошел и спросил безо всякой робости:
— Ну что это за волосы! Видно, что девочка давно не посещала парикмахерскую! Ну и волосы!
Каков негодяй! Я почувствовал, что вся кровь бросилась мне в лицо, в голову, застучала в висках! Я сделал два крупных шага и тут же оказался рядом. Еще секунда, и я бы сказал Мишке «пару теплых слов», но... не успел, потому что ничего похожего на прошлый поступок с линейкой не последовало. Совсем иное! А. с насмешкой взглянула на Мишку и произнесла:
— А ты зубы вставил? Тебе к зубному врачу надо спешить, Михаил Семеныч!
Вот это да! Таким мелодичным голосом (как музыка, как волшебная флейта!) — и так отбрить! Я не ожидал, но, видно, не ожидал такого отпора и Мишка. Ну и ну! Аня немного резковато поступила, но была права на сто процентов, потому что она — защищалась... «Тебе к зубному врачу надо...» Мишка весь покраснел, ну прямо как помидор, и ушел, все
118
время оглядываясь по сторонам: наверное, хотел определить, не видел ли кто этой пикировки, его, Мишкиного, унижения. Сам и виноват!
А я так и остался рядом с А. И мы заглянули друг другу прямо в глаза (я бы уточнил — в души!) и тотчас молча разошлись, будто кто-то нам обоим скомандовал: «По местам!»
Как же я ликовал! Во-первых, мы, хоть и без слов, но поговорили друг с другом! Такое произошло! Теперь нас нельзя назвать совсем незнакомыми! А во-вторых, — может как-то постоять за себя маленькая птичка — синичка!
В этот день мне везло и дальше. Отныне надо запомнить, что, значит, мое счастливое число — это четырнадцать. Факт!
Что было дальше? А вот что! Перед пятым уроком я подошел к Мишке и самым обычным способом спросил его:
— А почему эта девочка из седьмого «В» посоветовала тебе идти к зубному врачу? Вы, что же, с ней знакомы? Она твое имя знает, и даже с отчеством!
— А, это ты про Аню Гудзенко! Мы давно с ней пикируемся. А отчество она, конечно, сочинила. Почерпнула, наверное, из сказок о медведях — я, как известно, Мишка. Может думает, что я и не Горбунов, а, скажем, Топтыгин? Ха — ха — ха! Прямо как из поэмы Некрасова! Ха — ха — ха!
— Может, тогда она вовсе и не Гудзенко? Ну, если ты не Горбунов, а Топтыгин? Точно ли это ее фамилия — Гудзенко? Или ты тоже почерпнул ее из сказок?
— Ну причем же... Ну зачем же ты так... Я у физички, у нашей дорогой Лидии Николаевны, спрашивал. Она — дама серьезная, выдумывать не станет. Да подобную фамилию и не выдумать... А... Послушай... постой... Собственно, тебе-то чего? А, Большой? Она и тебе понравилась? Скажи — признайся, братец ты мой, не скрывай! И не красней, ты не девчонка черт возьми! Тоже мне, Ленский! Ромео! Тайный вздыхатель!
Ну знаешь ли! С Мишкиной стороны это, хоть, может быть и невольное, но довольно простое и прямое признание... Что же касается его грубости, я мог бы и ответить, но я ни-
119
чего не сказал. Нужно было во что бы то ни стало найти в себе силы отмолчаться, как бы не приставал Мишка со своими расспросами. Иначе и ее, и меня — задразнят. К счастью, он не продолжил этих «дознаний» — прервал звонок на физику, а к Лидии Николаевне на урок не опоздаешь.
Ехидный, несдержанный парень этот Мишка. И лучше бы думал о своей учебе, а не о чем ином. А то «плешки» хватает, еле вот перешел в девятый, вытянули учителя... Однако он-то спросил Анину фамилию у Лидии Николаевны, не призадумался, не стушевался, не помедлил, как я... Что ж? Молодец... Думаю, что Лидия Николаевна не могла при этом не проворчать, что вот, мол, спрашивает у нее парень из девятого фамилию семиклассницы «неизвестно зачем и почему»... А тут бы еще и я подошел к ней точно с таким же вопросом! Даже представить себе не могу, как бы отреагировала Лидия Николаевна! Уж она бы высказалась!
Дома я хотел было сперва выучить химию: Василий Дмитрич пригрозил, что завтра начнет опрос прямо по алфавиту, а я там, в журнале, чуть ли не первый. Надо повторить старую тему, гидролиз солей, остальное я знаю... Но на часок я химию все-таки отложил, — захотел сперва обдумать мой с Мишкой разговор, он меня почему-то задел, сильно расстроил. Но почему?
Смутное какое-то состояние духа у меня началось из-за Мишки. Получается, что Горбунов задевает Аню не потому, что ему так нравится ехидничать, как я думал раньше. Просто она ему нравится, вот и все! Ну и дела! Такой у него способ общения в данном случае! Как у пятиклашек: то карандаш отнять, то по спине стукнуть, то за косичку дернуть... А то и линейкой дотронуться до макушки!
Ей Мишка не нравится, иначе бы она не смотрела на меня иной раз. Не такая она девочка, она — видно, что серьезная. Но она-то, она-то, оказывается, может нравиться не только мне! И это — несмотря на остриженные косы, на мальчишеский «ежик»?! Что же будет, когда ее косы снова отрастут?
120
Да, парни станут драться из-за нее на кулаках! Очень просто, так оно и будет! И почему такая мысль мне раньше в голову не приходила? Из-за того, что она — тихая? Из-за «ежика», что ли, тогда? Какая причина моей недодуманности? Ну и чудак же я! Как будто каждый не понимает, что «ежик» — это величина переменная!
Нет, настроение у меня все хуже и хуже. «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды...» Могу предположить, что, если бы на моем месте оказалась девчонка, то не миновать бы ей слез... Конечно, если Ане никто, кроме меня, не нравился бы — это прекрасно, вроде бы лучше и желать не надо. Но, оказывается, мне этого мало, мне хочется, видите ли, чтоб и она никому не нравилась, кроме меня. А уж это, конечно, с моей стороны не только не прекрасно, но просто дико. Признаю, что дико, но, тем не менее... Да, я не ожидал этого от тебя, Большунов Николай Александрович, никак не ожидал. Откуда это первобытное мышление? Тяга к частной собственности? Где же твоя человеческая гуманность?
Все ясно, все очень понятно, а настроение? Настроение даже не на нуле, а все хуже и хуже...
А фамилия Гудзенко — ничего, красивая. Мне ее фамилия понравилась. Завтра взгляну, наконец, на ее успехи или неуспехи в учебе: неужели догнала свой класс, пропустив так много времени, больше полугода? Во всяком случае, ходит на уроки исправно, а если бы ничего не понимала, то посещала бы уже класс ниже... кошмар! «Учет успеваемости» — вот он, висит на стене рядом с нашим, красуется. А может быть, и не стану смотреть... Это меня не очень-то касается, в конце Концов. Пусть Мишка и смотрит «Учет», если ему больше всех нужно. Меня это не волнует!
Не могу понять, — что со мной происходит? Я, что же, на Аню злюсь, что ли? Мишке нравится Аня, это очевидно, но она-то повода не подавала! Наоборот! При мне же резко с ним обошлась! И, значит, причины ни для личной, ни, тем более,
121
для «мировой скорби» — никакой. Что я, Чайльд Гарольд, что ли? Джордж Гордон Байрон, Онегин или Печорин? Или просто у человека нервы шалят? Рановато в моем возрасте...
Ленский, Ромео... Что, Мишка совсем спятил, что ли? Разве Ленский или Ромео были тайными вздыхателями? Сказал бы я ему! Да зачем? Бесполезно, к тому же начнет он опять ко мне приставать с расспросами. А мне и без него очень не по себе...
31 мая 1940 года
Все! Кончен бал и свечи догорают! Не знаю, откуда эти слова. Не хватает только, чтобы я стихи стал сочинять.
Учебный год закончился!
Я перешел в десятый класс, а Нюра — Аня Гудзенко — в восьмой. Между нами будто два года разницы, но это совсем не так, это лишь кажется на первый взгляд. Я на год старше моих одноклассников, и тут ничего не поделаешь.
А учится она не ахти как здорово. Было бы странно, если б она стала отличницей после того, как пропустила рекордное количество учебных дней. На ее месте большинство школьников просто-напросто безо всяких оговорок осталось бы на второй год, это нормальная аксиома. А у нее — или своей гордости много, или родители велели стараться изо всех сил. Да, но так или эдак, а здоровье можно подорвать — такая нагрузка на организм! Перегрузка! Тем более, после скарлатины!
Недавно я все-таки исследовал «Учет успеваемости» седьмого «В» — теперь восьмого. У нее — три посредственных оценки: по химии, алгебре и геометрии. И это итоговые, за год. По физике, у нашей грозной Лидии Николаевны, все-таки «хорошо», и этого мало кто добивается. По русскому языку и литературе у нее (не как у меня) — всегда «отлично». А также и по истории. Она чистый гуманитарий, представительница прекрасного пола, как сказали бы в прошлом веке. Наверное,
122
будет учительницей литературы, когда станет взрослой и выучится.
И вдруг на меня такая тоска налетела! Самая настоящая тоска! Когда станет взрослой! Что ждет ее тогда? Неужели чужая жизнь, не рядом ее мной? Я-то не смогу без нее, просто не смогу...
Все девчата рядом с ней кажутся мне какими-то неодушевленными и даже неестественными, что ли. Она — тихая, молчаливая, а другие хоть и бегают, и прыгают, и кричат так, что в ушах звенит, но они все равно неодушевленные, а она... она...
Я с собой эту дневниковую тетрадь в деревню не возьму. И не потому, что там нет ящичка с ключом, а просто не в настроении, и все. Никакого настроения! «Мне грустно и легко...» Теперь бы я сказал — мне «и тяжело», а не «и легко». И если бы не было так стыдно самому себе признаться в каком-то ужасном самочувствии, то попросил бы успокоительные капли или таблетки у нашей премудрой Софьи Григорьевны, жены врача, квартирной советчицы. Но я не решусь. Будет ахать: «Что, да что с тобой?» Еще и моих родителей оповестит... Вообще-то, из нашей родни никто, мне кажется, лекарств не употребляет. Наверное, это что-то крайнее, при тяжких заболеваниях. Нет, и я не стану.
Я все-таки не знаю, что со мной. Вот еду в мою Труняевку на летние каникулы, как всегда. Аня, наверное, со своими родителями соберется на какую-нибудь дачу. Есть ли у нее братишки или сестренки? Нет, я думаю, что она — единственная дочь. Потому что и одевают ее соответственно, и вся она такая бело-розовая, сверкающая, как из Парижа, что ли.
Когда грустно, приходят в голову мысли о жизни в о о б щ е.
Зачем я на свет родился, для какой высшей цели? Зачем-то, наверное, каждый родится, но для чего конкретно? Маяковский тоже этим вопросом задавался: «Если звезды в небе зажигают, то это кому-то надо?»
123
Тому и надо, кто зажигает, а нам, простым и смертным, понять пока невозможно, у нас нет таких знаний. Поэтому и думать не стоит. Не стоит думать и о том, почему я не могу справиться с тоской, которая порой откуда-то так вот и налетает на меня. Но все-таки, все-таки... Что это — чайльдгарольдовская «мировая скорбь» или тоска по Ане? Да...
А в деревне много дел найдется. И эти самые, вконец надоевшие, походы за грибами и ягодами для бабушкиных солений и варений. И крыльцо подправить надо. Я и на крышу обязательно должен нынче слазить: прошлым летом еще заметил, что в печной трубе не хватает пары кирпичей. Но тогда я почти уезжал, был, что называется, на колесах: оставалось лишь полдня в Труняевке, надо было в Клин, на поезд. А вообще это... на все на это, вместе взятое, глаза бы мои не смотрели. По мне сейчас — хоть трава не расти.
10 сентября 1940 года
Хорошо все-таки, что тетрадку с собой не брал. В деревне я не записал бы сюда ни строчки. На меня нашло какое-то оцепенение, что ли. Все лето был угрюмым и скованным, сам это чувствовал. Особенно когда ходил по лесу... Да и писать, в общем, было не о чем. Правда, несколько вечеров танцевал нашу кадриль со всеми, но, видимо, такое у меня было лицо, что даже Валентина и Мария, с которыми танцевал, решили проводить меня домой, и все спрашивали, что со мной, почему мрачный и молчаливый, а раньше-де и истории разные рассказывал, и смеялся... Ничего я им не ответил. Я все дни считал — сколько мне еще маяться в Труняевке?
А в Москве что-то всегда происходит. В школе, например, в первый же день возникла новость. Правда, к сожалению, эта — не из приятных: директор издал приказ о переводе старших классов на двухсменные занятия — с малышами негде учителям проводить уроки. Их первый этаж не успели за лето отремонтировать. Теперь и мы должны потесниться,
124
пока будут нагонять с ремонтом. В результате всех передвижек мой десятый оказался в первой смене все-таки, а Анин восьмой — во второй.
Это к лучшему? Или — нет? Я все лето провел в мрачном расположении духа, а видимой причины этому — не отыскал. Ведь я здоров, ничего у меня не болит. Кроме души... Вроде у нас в семье все люди — нормальные. А я? Я тоже нормальный, но я влюблен, не надо бояться этого слова, это правда — истина.
Отсюда, наверное, и мрачность. Да, да, я просто-напросто влюблен, так со мной случилось, и это может произойти с каждым парнем в моем возрасте.
А она — то посмотрит на меня, то небрежно пробежит мимо — и даже не взглянет. Почему? Что-то новое в ее поведении... Взрослеет, что ли? Непонятно...
И каково это терпеть? Каково не нервничать? Кто-то изрек из мудрецов (забыл кто), что влюбленность есть сумасшествие нормального человека, вот я и переживаю как сумасшедший-нормальный !
Может быть, к лучшему — не видеть ее? Или — почти не видеть? Как раз смены нас и разлучают, они, наверное, пришли мне на помощь. Кстати — троих ребят из нашего класса, в том числе и Мишку Горбунова — «Топтыгина», перевели в другую школу. Избавился все-таки наш директор от трех «плешников», — отделался, не подчеркнув причину: сказали нам, что перевод осуществлен ввиду перегруженности десятого «А». Но почему-то не тронули ввиду «перегруженности» отличников, Вадима Дубровина, Бориса Савилова, Володю Сычева, да и меня, хоть я и не отличник. А жаль, что не меня; было бы «подписано — и с плеч долой» — я имею в виду мое нервозное состояние из-за Ани. А так ушел бы и ушел. «С глаз долой и с сердца вон!» Да нет, это все не те слова. Потому что «с глаз долой» было все лето, а «с сердца вон» почему-то не получается... А Мишка, он будет кой о ком скучать, и я его понимаю!
125
Ну пусть тогда все и несется по волнам, если я сам с собой не справляюсь. Рахметов — герой Чернышевского — тот наверняка сумел бы приказать себе и — выполнить. Он и на гвоздях мог спать. А я? Не знаю, не пробовал. Может, и смог бы. Если б очень и очень нужно было...
Если заглянуть в себя поглубже и спросить, — а не хочу ли я с собой справиться, со своим чувством. Ну, чтобы Ани не было на моем пути, и я, таким образом, снова обрел бы прежний, равномерный покой и благодушное настроение, без этих нервов и «смут»? Я уже столько об этом думал, но каждый раз в конце концов понимал, что нет, я этого не хочу. Это все равно, наверное, как очутиться в пустыне одному-одинешенькому. Нет, пусть так, пусть еще в сто раз нервознее, но чтобы Аня была, обязательно была. Да, да. Иначе зачем было мне на свет рождаться, чтобы небо коптить, жить без жизни? На самом-то деле я и представить не хочу, что может наступить момент, когда я больше не увижу Аню... Да и что такое может произойти, чтобы мне ее больше не увидеть? Извержение неизвестного вулкана у нас, в средней полосе, землетрясение в Москве (такая же небылица!), война, комета врежется в Землю, Всемирный потоп? В последнем случае пусть Господь Бог оставит нам, Ане и мне, местечко в будущем Ноевом ковчеге... Вот было бы славно!
Что за дикие мысли! Надо же так себя накрутить! Самые настоящие душевные переживания, а я ведь с ней еще и слова одного не сказал. И она меня конкретно ничем не обидела, это я сам себя так настраиваю, на взвинченный лад.
Мне вот-вот исполнится восемнадцать лет. Это — немало, если вспомнить о том, что Лермонтов влюбился, когда ему было всего десять, он серьезно писал об этом. Расстояние между десятью и восемнадцатью годами так же велико, как между гениальностью Михаила Лермонтова и моей простой любовью к стихам. Но я, конечно, имею право и любить стихи, и влюбиться в Аню — это все по-человечески. И возраст у меня теперь вполне подходящий, тут уж ничего не скажешь,
126
тут не возразишь, — мне скоро восемнадцать, через три месяца!
А теперь, Коля, давай совсем-совсем точно и определенно признаемся самому себе, поставим, как говорит наша незаменимая Софья Григорьевна, точки над «и» (у нее «и» старинное, и там действительно должна стоять вверху точка.) — значит, это и есть любовь? Ну, пока одна из ее сторон, где только кажется, что нет радости, а на самом деле — где есть особая радость даже в печали? К чему, действительно, человеку безлюбая безмятежность? Мы же люди, и нам положено и страдать, и быть счастливыми.
20 сентября 1940 года
Что творится! На доске приказов по школе прочел, что А. Гудзенко и И. Нейштадт (знаю я эту Иру, она с Аней всегда вместе ходит, она тогда, еще в прежней школе, Юшкой Розенталем восхитилась) объявляется строгий выговор с занесением в личное дело. Ну и ну!
А в чем же состоит провинность?
Рвали цветы на школьном дворе, на клумбе, так и записано в этом приказе... Смешно? Может быть. Во всяком случае, кому смешно, тот пусть и смеется. А я — ни на что не реагирую, как Евгений Онегин после гибели Ленского. Я, хоть и не Рахметов, но должен учиться управлять собой. «Учитесь властвовать собою...» Постараюсь! И все-таки — грустно...
Аня рвала цветы на клумбе? Ну и чудеса! Не могу себе этого представить! Такая тихая и серьезная!
22 сентября 1940 года
...Так было позавчера, а вчера все изменилось! Суть в том, что я пришел в их вторую смену и засел в библиотеке: необходимо было кое-что прочитать по литера-
127
туре, Николай Алексеевич «настоятельно советовал». А когда он «настоятельно советует», то опрос неминуем.
Можно было идти в другую библиотеку, на Чистые пруды, там полно самых различных книг, и там бы я уж наверняка не встретил Аню: она туда не ходит, ни разу не видел. Но здесь мне куда ближе. И почему же, кто сказал, что в моих рахметовских стараниях избегать Аню я должен летать, плыть или ездить в библиотеки других городов? Ну, или хотя бы шагать на Чистые пруды вместо того, чтобы зайти в собственную школу, выиграть таким образом уйму времени?
Итак, я пришел в школьную библиотеку. Сижу, читаю. И вдруг она появляется на пороге! Мне почудилось, что она мне улыбнулась! У меня сердце замерло, потом бешено заколотилось... и я тоже ей улыбнулся! И тогда она снова мне улыбнулась, и так явно! И ушла! Сдала две книги, не знаю какие, — и ушла! А какая была улыбка! Все лицо ее озарилось, как лучами света! Родилась же такая солнечная девочка на Земле!
В этот день я мало что сумел усвоить из прочитанного — сидел и мечтал. Так, даже ни о чем конкретном...
Какая Аня милая! Жизнь, конечно, прекрасна, Маяковский был прав. Почему же он тогда застрелился? Неужели невозможно было такому сильному человеку преодолеть душевный кризис? «Любовная лодка разбилась о быт...» Он не смог подождать другой, хорошей погоды. Ведь вот Аня улыбнулась мне, и моя лодка плывет дальше, она не утонула и не разбилась.
Я так счастлив, кто бы знал! Так счастлив!
27 сентября 1940 года
Все в мире сговорились, причем для хорошего: Иван Васильевич объявил нам, что вторая смена окончила свое существование, приказала долго жить. Но мы и так были в первой смене! Это он, наверное, от радости всем объявлял:
128
оказывается, ремонт классных комнат на первом этаже завершен, с понедельника первоклашки снова размещаются по своим местам, и поэтому необходимость в двух сменах отпадает. А это значит, что Нюрочка снова будет выходить на переменках в одно время со мной. Ну, Иван Васильевич, ну, любимый директор! Да вы просто волшебник!
Сегодня я всю большую перемену простоял у окна, что напротив восьмого «В». Я читал учебник по физике и, главное, наблюдал — не выйдет ли она. Весь их класс высыпал в коридор, шумел, кричал: «Ура, да здравствует первая смена!» Так что я бы узнал об этой новости так или иначе...
Я готов был к ним присоединиться и, во всяком случае, в глубине души с удовольствием повторял про себя: «Да здравствует первая смена!» Аня тоже вскоре вышла и радовалась со всеми. По крайней мере, она улыбалась, глаза у нее были веселые, и они — лучились.
Кстати, улыбка ее не похожа ни на чью иную не только из-за лучистости, а вот еще и почему: она, когда смеется, сразу же левую руку поднимает ко рту. Я пригляделся и заметил: у нее вверху, на левой стороне, зубик немножко сколот. Наверное, когда-то вилкой повредила. Или — орехом. Девочка Аня! У нее такая милая робость, особенно с этой рукой, закрывающей сколотый зубик от постороннего взгляда. Да ты не думай об этом, Аня, — он совсем чуть-чуть сколот. Никто и не заметит, кроме тебя... и меня. Я-то не мог не заметить, но ты не серчай, Аня.
Есть еще новость, кроме уничтожения вторых смен. Свалилась неожиданно, и вот как ненужно. Люся Т. из нашего класса, видная деваха с целой гривой кудрявых, белых волос (у нее и брови с ресницами белые, так что все в полном комплекте) открыла настоящие военные действия, только успевай обороняться. Объект ее «завоеваний» — ваш, как говорится, покорный слуга.
Зачем это я вдруг понадобился слишком энергичной Люсе Т.? Я совсем не гожусь ей в друзья. Она (это мы все знаем) и
129
на танцверанды уже не первый год бегает, даром что комсомолка. Из нашего класса (из парней) там один лишь Женька С. подвизается. Кстати, ее партнер и кавалер. Он не только пропадает на танцверандах все вечера (и неважно учится), но еще и курит тайно от педагогов, прячется со своими папиросами по туалетам. Может быть, так же тайно курит и Люся Т.? Такое, говорят, бывает и с некоторыми девицами. Почему бы ей не удовольствоваться Женей С., если у них немало общих интересов, причем здесь я-то?
Мне не стало от нее проходу, прямо как когда-то от Валентины из Труняевки. Нет, видно городские напористые девчонки ничем не лучше деревенских! И вот Люська все мечется, все гривой своей машет, и даже ко мне за парту подсаживается на переменках, стоит только Паклиной отойти в буфет или еще куда-нибудь. Чуть не успеешь со звонком выскочить первым из класса — и она уже сидит на месте Паклиной и улыбается мне прямо в лицо. Черт знает что такое! А в коридоре? Она и там заговаривает со мной без конца, мало ей класса! Тут как-то предложила вместе решать трудное тождество, засесть за него после уроков. И оповестила, что весной, когда все мы получим свои аттестаты, будет поступать в МАИ, Авиационный институт, на самолетостроительное отделение. А куда, мол, — спросила — я намереваюсь?
От совместного нападения на тождество я отказался наотрез, а насчет остального промолчал, как не слышал вопроса. Неужели посторонним рассказывать о себе, открывать свои мечты о будущем? Этого не доставало! И, я полагаю, совсем ее не касается!
Так «активно» все же никто из девиц нашего класса себя не ведет. И так хитро — тоже. Она вертится перед глазами и вертится, словно юла, заговаривает со мной и заговаривает, даже безо всяких поводов и причин, а просто так, с воздуха. Уж не добивается ли, чтобы я ей свидание назначил? Да, никак не иначе... Только этому не бывать, этому вообще не бывать! Тоже мне — спортсменка на легкомысленную тему. Я с ней
130
разговоров не поддерживаю, уклоняюсь, как могу. И единственно, что только пока не грублю, потому что не представляю себе, как можно нагрубить девице, разве что четко и ясно отшить, как в свое время Валентину из Труняевки. И — серьезно отшить, без этих грубостей.
Но что я заметил — Аня все чаще смотрит на меня теперь. И не просто, а как-то по-иному — с тревогой и с каким-то даже вопросом в глазах. А когда я вчера, на перемене, как обычно, примостился у окна, напротив ее класса, а Люся Т., откуда ни возьмись, подбежала, стала хохотать (и что за причина?), вертеться и отнимать у меня учебник, я увидел... на глазах у Ани слезы!.. Да, так она и глядела на меня — молча, а в глазах стояли слезы, Я, наверное, понял почему. И сразу же возненавидел Люську. Просто взял — и тут же возненавидел. Я и ушел в один момент, выручил свой учебник — и ушел. Пусть Люська только приблизится — я тут же удалюсь. Теперь мне, конечно, надо исключить даже самые односложные ответы Люське. Нету меня — и все тут!
Я понимаю, что Аня на меня обижается!
Вчера такое услышал... Проходил мимо Ани и Иры, с которой она часто вместе ходит. Они еще тогда, на школьном дворе... цветы рвали. Девочки стояли лицом к окну, и я хотел было мимо их спин пройти в спортзал. Как вдруг до моих ушей донеслось:
— Если бы у вас с Колей Большуновым было взаимно, он бы давно гулял с тобой, как парень с девушкой!
Хорошо, что люди спиной ничего не видят. На моей физиономии, наверное, весь вселенский гнев отразился. Как не стыдно этой Ире! Что она обо мне знает, что вообще может знать! Гулять, как парень с девушкой... Ну и ну! Аня бы так никогда не подумала и не сказала! Что такое Ирка бормочет? Ведь, если по ее мнению поступать, то, значит, надо свои чувства открыть перед всеми и жениться, а кто я такой сегодня? Пока всего — навсего школьник. Что она внушает обо мне Ане, что она там плетет?! Так она может нас разбить даже
131
прежде, чем мы познакомимся! Ужас, ужасно! Но... но, значит, Аня тоже обо мне думает, не только я о ней? Я это чувствовал, всегда чувствовал! И она... она делится со своей подружкой обо мне. Мало того! Она, оказывается, знает мое имя! И фамилию! А вот эти открытия — просто замечательные!
3 декабря 1940 года
Вчера мне исполнилось восемнадцать лет — совершенные года, — и поэтому круг поздравляющих вышел за рамки семьи. Приехали к нам тетя Настя с тетей Нюрой, тетя Маня Лячина с супругом, крестный дядя Миша с супругой, бабушка Марфа. Все уместились за столом без обид, а пришла бы тетя Лиза с моими двоюродными, стол бы, как всегда ради гостей, еще раздвинули бы — он у нас «резиновый». Мама всегда радуется гостям. Так и сияют ее глаза, так и улыбаются каждому, а отец чаще всего молчалив и мрачен, но это он от природы такой, конечно, не из-за гостей. Они его не утомляют, тем более, что все они — его родня.
Ну, так как праздник был все-таки мой, то и разговоры велись обо мне и о тех происшествиях, о которых я позабыл давным-давно. Бабушка рассказала, как я, еще лет пяти от роду, открыл из любопытства пудреницу одной из моих теток, рассыпал часть пудры и был как следует побит мамой. И все потому, что тетки налетели на маму: что, мол, ты, Груша, сына за проделки не наказываешь, не учишь правильному поведению, плохо, мол, воспитываешь! Она и решила восполнить пробел в моем воспитании.
— Он, маленький, — рассказывала бабушка, — так наревелся, что залез, обиженный, под кровать, да там, ото всех спасаясь, и уснул. Нет и нет нигде Коленьки! Зовут, ищут, даже, страшно сказать, и в пруду искали! И тут уж Груше влетело от тех же золовок, но в обратном направлении: зачем так сильно мальчика наказала, может его и в живых теперича нету! Всю ночь никто не спал, все искали и аукали. Под утро
132
он проснулся и вышел из своего убежища. Вышел, значит, он, позевывает и глазки свои ясные кулачками протирает... Что радости было!
Вспомнили даже, когда во втором классе (мне было лет десять, что ли?) мы, школьники, заставили партами дверь, и учительница долго не могла выйти... Влетело всем, родителей вызывали... Неужели я мог так поступить, даже и в десять лет? Ну и ну! Погнался, наверное, за массами! Однако хулиган из меня так и не получился.
И, конечно, главное, задразнили меня гости нашими труняевскими девчонками. Две, правда, были из соседнего села. Шли они (это и я помню) с ведерками, кистями и красками малярить, — свой дом, сказали, идут ремонтировать, — они, мол, родные сестры. А я с тетками, Настей и Нюрой, через поле торопился. Ну, и почему-то остановили они нас с тетками. Стали на кадриль набиваться к нам в деревню, и все ко мне обращались: пригласи, пригласи на танцы!
А что я, завклубом, что ли? Массовик-затейник? Приходите, говорю, дело ваше, личное, никто не запрещает. И ускорил свой шаг от них...
— И чего он так девок сторонится? — смеялась тетя Настя. — Они долго вослед ему кричали: красавец, дай хоть поглядеть на тебя, красавец! Подожди, поговори с нами, не спеши!..
Ну и ну, вот так тетки! Эти высказывания — они совсем ни в какие ворота не лезут, но я второе декабря записываю полностью, со всеми подробностями — все-таки восемнадцатилетие.
— А эта «невеста», — не унималась тетя Настя, — Валька-то! Так все за ним и бегала, чуть ли не на ночную рыбалку! Где стыду-то быть? Она здесь-то, в Москве, — не навещает?.. А Мария? Помните? Да вы знаете ее, как не знать! Она местная! Высокая такая, она ничего из себя. Мы не раз видели, она все в Труняевке к вам в дом порывалась заходить. Как только Валентина ей глаза — то не выцарапала! Мария, — она
133
видная, с ней Коля наш мог бы и гулять. Мы как-то сидели у вас, и она пришла, да все страшноту рассказывала: что, мол, два раза она умирала. Сначала, мол, говорит, ноги у нее холодели, и так будто со всеми, кто умирает... А Коля наш так серьезно внимал, верил этим россказням, что ли? Только он и на нее не польстился: не холодными-то ногами девкам парней завлекать!
Я только плечами пожал. А так — помалкивал. Что родным возражать, да и за кого из девиц было мне вступаться? Только лишние споры и смешки. Приехали поздравить, — пусть души-то свои в разговорах и отведут в кои-то веки. Мне до подобных бесед никакого дела нет — неинтересно. Под конец, правда, крестный меня озадачил:
— Ну, это, считайте, ничего за нашим Николаем не числится. Ведь при его пригожести и стати за ним сотни две девиц должны бегать, а тут... Пустяки одни, чепуха, и все! Просто он до них сам пока не охоч, а то бы ему и не отбиться, А уж если какой парень до девок охоч, пусть и не такой видный, как наш Николай, так и они за ним толпой, это уж как пить дать! А Николай — он пока до них не охоч!
Хоть и, мягко говоря, не очень-то интеллигентно крестный высказался, но какая-то правда в его мыслях чувствовалась. В полной мере я ее не воспринимаю: такие раздумья, да еще в этой форме слух не радуют. Жаль, что сестрам пришлось все это выслушать, особенно младшей, Нюрочке. А мою Нюрочку — Аню Гудзенко — надо будет, если придется, подальше держать от таких высказываний: она в обморок упадет! Впрочем, она, наверное, и слушать бы не стала: попрощалась бы вежливо и ушла — и все!
Сегодня 14 декабря 1940 года...
Что я за собой заметил: вот случилось что-то очень большое, очень важное, а я все вокруг да около хожу, пишу о второстепенном, записываю сюда разные пустяки, а потом, чуть
134
ли не в конце «дневного отчета», принимаюсь за главное... Ну да! И действительно — после главного неинтересно писать о пустяках! Вот и сейчас...
Двенадцать дней не прикасался к синей тетрадочке, — не так уж и долго. Описывать особенно было нечего, разве что как мы, парни десятого «А», винтовки на «Военном деле» разбираем — собираем, как управляемся с противогазами. Можно, конечно, и об этом, и о других уроках тоже, но синяя тетрадь у меня не для уроков, а для души. Для уроков имеется с десяток других тетрадей...
А интересных историй, для чего и заводил дневник, так никто и не рассказывает больше...
Могу теперь себе представить, что стоило Николаю Алексеевичу собрать свои четыре тысячи историй! Наверное, чуть ли не к каждому встречному — поперечному с такой просьбой подходил. Ну, для этой работы нужен особый характер литератора — исследователя, и, скорее всего, не мой!
Что хочется сегодня отметить? Да вот, мой официальный и довольно суровый разговор с Люсей Т. Уверен, что мы отлично поняли друг друга.
А произошло так: на все ее «ужимки и прыжки» я отвечал только полным молчанием, пока, наконец, она не надумала спросить: почему так? Если я «молчун», то надо бы из вежливости, мол, как воспитанному человеку, отвечать на вопросы, хоть иногда. Я и ответил, что воспитывался, как раз, не в городе, что на молчание есть собственные, личные причины, и что у меня к ней давно возникла одна — единственная просьба — мне бы не хотелось вообще с ней разговаривать, и все, и точка. Она вытаращилась на меня и, немного погодя, произнесла: «Понятно». Что именно ей понятно, я узнавать не полюбопытствовал, но она от меня так же, уверен, отвязалась, как в свое время приставучая Валя из Труняевки. Да, в подобных случаях без некоторой резкости не обойтись, и дипломат из меня — никакой.
135
На Ане сегодня новое платье — коричневое, бархатное, с кожаным поясом. Очень ей идет...
Но речь совсем не об этом. Есть новость иная, о которой я сразу даже не решился поговорить с синей тетрадочкой. Вот я и подобрался к главному.
Да, сегодня наступило истинное время для синей тетрадочки, как раз в мое счастливое четырнадцатое число, и сейчас я подробно запишу, какой получил невиданный — неслыханный подарок.
Двенадцать дней назад мне исполнилось восемнадцать лет, а через две недели и три дня наступит Новый, 1941 год. Значит, подарок можно отнести и ко дню рождения и к Новому году, он пришелся между этими двумя праздниками. Очень надеюсь, что 1941 год будет самым прекрасным в моей жизни, — если, конечно, судить по его началу.
Потому что подарок удивительный, я никак не мог его ожидать. И в голову не приходило даже тогда, когда я — мечтал, когда строил воздушные замки.
Это — письмо от Ани. Сюда переписывать его не стану. Оно длинное, на трех страницах, но дело не в этом, а в его содержании. Я снова заклею его в тот же Анин конверт и вложу в синюю тетрадь. Когда-нибудь кто-то все это прочитает. Может быть, я сам в старости. Или моя дорогая Аня? Я ведь могу теперь так ее назвать, после ее письма... Или мы прочтем вместе с ней, я и Аня, чего больше всего мне и хочется... Здесь, в этой тетрадке, вся жизнь — жизнь моего сердца...
Да... А разговоры и пересуды моих родных второго декабря, да и вообще, во все дни, так же, конечно, отличаются от Аниного письма, как наша грешная земля от небес голубых, что, впрочем, и на расстоянии можно было почувствовать. Я — ближе к Ане, но от своих родичей тоже не хотел бы отшатываться, это не по-людски.
Да... все-таки начало и конец Аниного письма я здесь воспроизведу. Но не середину! Там явная чепуха и выдумки —
136
она ревнует меня к Люсе Т. (я-то тут причем!), и я не хотел бы это перечитывать и, тем более, переписывать в синюю тетрадку.
А вообще — сколько в ее письме еще чисто детского! Кто на кого посмотрел, кто кому что сказал, кто кому нравится или не нравится...
Дитя мое, девочка — куколка! Как многое странно бывает! Недаром одно и то же явление можно толковать с разных позиций, даже с противоположных! Это как медаль — у нее, как известно, две стороны... В общем: если бы Люся Т. не повела свое «наступление», то Аня, вполне возможно, никогда бы мне это письмо не написала! Факт! Что ж? Тут даже и Люсе поневоле скажешь спасибо. Вот они, эти чудесные Анины строки:
«Милый Коля! Я долго не решалась тебе писать, но наконец решилась, так как другого выхода не вижу. Я люблю тебя давно и очень сильно. Ты наверное и в прошлом году, и в этом догадывался и сам...» И — в конце письма: «Я сама удивляюсь тому, как я решилась написать тебе такое письмо. Но все же я хочу, чтобы ты сохранил обо мне добрую память и не думал плохо обо мне. А я постараюсь забыть тебя совсем — совсем и даже не глядеть на тебя, как это было раньше. Прощай. Аня. 14/ХП — 40 г.».
...А почему вводные слова «наконец» и «наверное» — не в запятых? Только сейчас заметил... Это у нее «отлично» по русскому языку, не у меня. Это и из «Учета успеваемости» ее класса всегда было видно...
Мама родная, что я такое несу?! Что горожу?! Из «Учета успеваемости» всегда было видно... То есть как это — сохранить «добрую память»?! То есть как это — «Прощай»?! Оказывается, я не только запятых в вводных словах сразу-то не заметил, но и кое-что поважнее! Я был в таком восхищении, что получил от нее письмо, — даже от одного этого факта, — что до меня только сейчас дошло слово «Прощай». «Прощай»?! Если это никакое не кокетство, то, значит, прямое пре-
137
ступление против жизни, против нас обоих! Аня, погоди! Я тебе отвечу! На всем белом свете ты одна мне нужна, только ты! Ты ведь и сама написала, что меня любишь! Ты — подожди!
Правда, долго ждать... Нет, не ответа на твое письмо, конечно, я отвечу тут же, хоть завтра, а срока моего возвращения из армии. Целых три года!.. Но ведь ты еще почти дитя, и ты еще мало что понимаешь в жизни! Не могу и я похвалиться своим жизненным опытом. Но восемнадцать моих лет или пятнадцать твоих — это огромная разница в нашем, таком еще юном возрасте.
Аня! У меня все мысли путаются! Голова идет кругом! Аня! Если ты любишь меня, как сама пишешь, и как я это чувствую, то подождать ты можешь!
Надо мне сосредоточиться. Надо определить — что для нас сейчас главное?
Вот что прежде всего я хотел бы тебе сказать: я в армии останусь. Да, пусть хоть и в пограничных войсках, к которым раньше не питал пристрастия. Там, на заставах, где реки, леса и полосатые столбы отделяют нас от других государств, — там живут командиры со своими женами. Да, там наверняка носят воду из колодцев, картофель в мешках, пилят и колют дрова, моют трудные, некрашеные полы в комнатах — и так далее, не знаю пока что именно. Но все это буду делать я, такие тяготы тебя не коснутся, это, я считаю, совсем не для женщин и, особенно, не для тебя.
Аня, погоди! Тебе исполнится через три года восемнадцать (Боже мой, я даже не знаю в точности, сколько ей лет!), и ты как раз окончишь школу, нашу любимую 328-ю, и мы сможем расписаться без разговоров и помех. Вот уж мы не станем ждать ни отдельной комнаты, ни моих двадцати пяти лет. Да причем же здесь эти четверть века и отдельная комната? Здоровые и молодые люди могут всего добиться сами, самостоятельно. Могут и должны. Я-то, во всяком случае, обязан взять все на себя.
138
Аня, не убивай нас, не надо! Главное — ты подожди, и все будет в порядке. Это единственное, что ты обязана сделать: ты подожди.
Сегодня уже 26 декабря 1940 года...
Я ничего еще ей не ответил. Все, что написал здесь о нас, я мог бы послать ей в письме, но не решаюсь. На меня налетели разные сомнения, большие сомнения и тревоги...
А вдруг у нее и нет серьезных мыслей, а так, просто девичья романтика? Фантазии из книг? Она такая еще невзрослая! Ведь я-то думаю как раз об очень серьезном. И терзаюсь оттого, что мы пока совсем несамостоятельные, особенно она. Как быть, на что решаться? Разве тут есть хоть какая-нибудь золотая середина? Какими словами ей ответить, о чем спросить, что уточнить?! А вдруг мои мысли покажутся ей в этом возрасте просто... дикими? Как она совместит серьезное, реальное с мечтами и грезами из книг, из романов? Вот мучение-то!
Дважды приходила Ира, ее подружка, она-то и принесла мне это Анино письмо от четырнадцатого числа. Ира сказала:
— Ты напиши ей что-нибудь, ответь. А то она сидит и ревет.
Нет, это неправда. Не может Аня категорически запретить мне ей отвечать (что она и сделала в письме) и в то же время «реветь» от того, что ответа нет. К тому же как раз в эти дни, когда настойчиво приходила Ира, Ани в школе не было, отвечать было некому и, стало быть, очень и очень возможно, что Ира подошла ко мне без ведома Ани, а из собственного любопытства.
Мне вообще начинает представляться, что Аня прислала мне письмо не для того, чтобы у нас было продолжение: знакомство, разговоры, прогулки по Москве, а чтобы мне сказать, уведомить меня о своем ко мне отношении. Просто (я
139
так предполагаю) ей хотелось мне сказать, что это так, а никак не иначе... И вообще я не представляю ее плачущей. То есть однажды я видел, как слезы стояли в ее глазах, но они не покатились по щекам, нет! Она не заплакала! Наверное, твердого характера девочка. И вообще — я не представляю, как это Ирка посмела сказать «сидит и ревет»? Что за противное выражение? Так в любом случае нельзя говорить об Ане! «Ревет»! Все-таки какая неприятная эта Ирка, и почему Аня с ней дружит?
Анино письмо... Я не могу его ни уничтожить, ни на него ответить, ни промолчать. Ну что ты будешь делать! Наверное, двадцать раз сочинял ответ. Начинал, черкал, и все рвал, все рвал эти листочки. У меня их, скомканных листочков, образовалась было целая гора... Я не знаю, что ответить! Никакой точности нет в голове! Я не могу, как Петька Зубков из нашего двора, гулять в темноте с девочками. Он все еще не бросил школу, но учится на тройки и даже двойки, причем — в Анином классе! Он сорвиголова и, слышно, чуть ли не самый настоящий вор, он на многое такое способен. И целоваться, и не знаю, что еще. Но Петька Зубков здесь такой один, а мы, я и почти все мои одноклассники, — совсем другие, хоть мы и старше Петьки. Мы иначе думаем, иначе себя ведем. Словом, мы иначе живем. Моя мама об этом Петьке сказала: молодой да ранний.
У нас в школе, правда, есть еще один «экземпляр» из недостойных для подражания, тоже «ранний». Классом ниже учится паренек, по имени Глеб (фамилии не знаю, да мне и не нужно), высокий такой, — его прозвали «покоритель сердец». Так этот «покоритель» гуляет с Любой из восьмого «А». Любе, говорят, только — только шестнадцать исполнилось, а она уже готовится... стать мамашей! И учиться бросила! Самая настоящая моральная пропасть, просто погибель, и все из-за несвоевременности событий! Об этом вся школа гудит, поэтому и до меня дошло, хоть я мало с кем общаюсь... И причем же здесь Аня, моя девочка, моя строгая красавица?
140
— Ты передай Ане на словах, — так я сказал Ире, когда она пришла во второй раз, — что я ее горячо... горячо поздравляю с наступающим Новым годом, и что я ей отвечу. Что порвал — передай обязательно! — ровно двадцать своих ответов. И достойного, или хотя бы приемлемого, пока не придумал... Я, как сравню мои взрослые ответы с ее почти детским письмом, так сразу и не знаю, — что делать? Я все думаю...
— Да ты не думай, ответь что-нибудь.
— Я не могу «что-нибудь», это несерьезно. Я ей отвечу, я ей все скажу. Только не сейчас и не завтра. Надо найти самые правильные слова! Это очень трудно, я ведь не Петька Зубков!
Зря это я про Петьку. Глупо; прямо по-девчоночьи получилось! Жаль, что у меня вслух вырвалось мнение о Петьке. Тем более, что я ведь уже не раз видел его с Ирой и на улице, и в нашем дворе после уроков. А это плохой признак: Петька никогда «зря» времени не теряет. Аня, конечно, об их свиданиях и не догадывается, иначе бы она не стала дружить с этой Иркой. Впрочем?.. Откуда им что-то знать про Петьку Зубкова, «героя» нашего двора?.. В классе у них он, конечно, несколько иначе выглядит, старается показать себя не с плохой стороны.
22 января 1941 года
Мишка заходил в школу. Сдать, говорит, в библиотеку давнюю задолженность по книгам. А сам все мимо Аниного класса раз пять прогулялся. Но это бы еще ничего, а то он прямо спросил меня:
— Ну как? С Аней Гудзенко подружился? Вон она какая красивая стала! Ты ведь давно на нее, тогда еще поглядывал!
Я было хотел ему резко ответить, — не люблю когда мне в душу лезут, — но, вместо того, только и произнес:
— Нет, я с ней еще и не познакомился, не только что не подружился.
141
— Да ты что это, Большой, в уме, что ли, поврежденный?! Если б она хоть раз на меня взглянула, как, бывало, я замечал, на тебя она смотрела, я бы давно с ней по улицам похаживал и мороженым ее угощал, а то бы и в кино осмелился пригласить! Эх ты! Не знаю даже, что тебе и сказать! — Так и воззрился он на меня, и глаза округлил.
Я только вздохнул, не нашел ничего, что Мишке ответить. И вся вражда у меня к нему куда-то улетучилась. Он все-таки ничего, неплохой парень, этот Мишка... Думаю, если б знал об Анином письме и о моем пока что молчании, то даже и представить себе не могу, что обо мне бы подумал..,
23 февраля 1941 года
День Красной Армии. Отца, конечно, поздравили. Скоро, скоро и меня станут поздравлять — осенний призыв, полгода — и я там. А до конца школьной жизни осталось считанных четыре месяца: время бежит, и что-то по-особенному тревожно на душе. Даже не потому, что до сих пор не ответил Ане, а по какой-то иной, совсем непонятной причине, которая, неназванная, так и носится в воздухе... Как бы без причины, просто так мне тревожно и тяжело. Очень, очень странно! Как в той песенке из кинофильма: «В воздухе пахнет грозой!» А может быть, все-таки из-за Ани, из-за моего дурацкого молчания?
Меня назначили начальником команды допризывников, сочли исполнительным. Руководство из военкомата после всех разговоров и обсуждений решило, что теперь нечего бояться за сведения, нужные для района. Они, мол, будут подаваться правильно и вовремя. А Иван Васильевич, — тот даже поулыбался мне и сказал, что он на меня надеется.
Если бы все эти слова, приятные, могли бы меня утешить!.. Я вот до сих пор не написал Ане. И совсем не потому, что она велела порвать ее письмо (чего я никогда не сде-
142
лаю) и не отвечать, наоборот! За это время я понял (нет, я почувствовал!), я почти уверен в том, что она просто из девичьей гордости так велела и, что вполне возможно, все еще ждет моего ответа! «Милый Коля...»
А меня — как заморозило. Не ум и не сердце, а, наверное, нервы заморожены. Получается, как в реке: необходимо плыть, а я не могу, а я весь скован, и все мысли куда-то порастеклись. Остается только лечь на спину, закрыть глаза и — положиться на волю судьбы... На течение? Авось и прибьет к нужному берегу? Уж это мне пушкинское «да понадеялся он на русский авось...»
У меня такое ощущение, что я сейчас живу как бы автоматически. Я только на Аню смотрю, как живой человек, и этого она не может не знать, не понимать, не чувствовать.
Да что это опять со мной? Я, кажется, готов чуть ли не обвинить ее в том, что она послала мне письмо? Хотя в нем теперь вся моя надежда? Или в том, что она, может быть, все еще ждет от меня ответа? Нет, определенно пора обратиться к врачу насчет моей нервной системы, давно, давно пора! И что Аня должна теперь думать обо мне? Ужас, ужасно... Я весь извелся, а кто в этом виноват, кроме меня, моего дурацкого характера и суровых принципов, вложенных в меня родителями?
Нет, людям легким, конечно, и жить полегче, что там говорить!
А я и есть не хочу и даже не могу. Так, глотаю что-то сверх желания, лишь потому, что так надо и чтобы маманю не пугать.
Учиться стараюсь, но тоже через силу — скоро выпускные экзамены на аттестат, и я обязан сдать экзамены, А былого удовольствия в учебе не нахожу, просто перемогаю себя. Так иной раз и подмывает швырнуть все книги с тетрадями на пол, а это уж совсем ни в какие ворота не лезет...
«Милый Коля, я люблю тебя давно и очень сильно...» Нет, какие слова написала эта девочка, и где она их только отыскала!
143
Был и есть чудак! Вот, бабушка Марфа говорила, — когда она венчалась с дедом Иваном, то им в церкви надо было клятвы принести в верности и в том, что они будут беречь и помогать друг другу в радости и в печали, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит их. Кажется, примерно, так. Я бы не отказался поклясться в этом Ане!
А вот в прошлом году, в это же время, я был подавлен простым отсутствием у нее кос! Совсем был не взрослым!
16 апреля 1941 года
Мишка опять заходил в школу. Неужели все еще с библиотечными книгами носится?
9 мая 1941 года
Назначили по всем предметам консультации. Скоро экзамены, они наступят и пройдут, и прощай тогда 328-я школа Красногвардейского района города Москвы, наша замечательная...
Вчера мы с Аней остановились в коридоре и, наверное, целую вечность глядели друг на друга. Аня, Анечка! Нет, еще не все потеряно, значит, хоть я и чудак из чудаков. Назвал бы себя словом похлеще, да уж я и так переживаю все время, сил у меня больше нет...
Аня! Пойми, что в письме я обязан (и очень бы этого хотел) предложить конкретные планы и поступки. Но мы еще совсем не взрослые, особенно ты! Мы зависим от родных по всем направлениям, во всех смыслах, потому и висим в воздухе. Да, в этом вся суть! Теперь до меня, наконец, дошло: именно по этой сверхважной причине я и молчу, все еще молчу, и жду — сам не знаю чего... Чего же? Что мы, я и Аня, завтра проснемся — я двадцати одного года, Аня — восемнадцати лет, и тут же, стало быть, получим все права взрослых... Словом,
146
произойдет с нами волшебство, как в той сказке — «по щучьему велению, по моему хотению», — волшебство в виде перестановки времен... Но этого-то быть не может! Опять в голове получается чушь какая-то, напрасные грезы. Нет, положение безвыходное, безвыходное! И поговорить-то не с кем! Саша, конечно, хороший парень, но он практический человек, как, например, тот же Мишка Горбунов. Аня — совсем другая, и я, наверное, тоже!
Сегодня, на большой перемене, я решил позаниматься в спортзале, на шведской стенке. Очень надо было взбодриться, хотя бы такими вот внешними средствами! Залез я почти под потолок, делал сложные упражнения. Зал был пуст, я чувствовал себя привольно в одиночестве, сильно «разфизкультурился» на шведке, она как бы стала моим, чуть ли не одушевленным партнером. Я почти парил в воздухе, и это даже напомнило мне ощущение в самолете, когда я был за штурвалом и отрывался от земли.
Тут вдруг Аня появилась в дверях. Мои руки и ноги сразу стали какими -то ватными, и я грохнулся с потолка на землю, еле-еле успел спикировать без переломов и вывихов, благо посредине смог схватиться за перекладину, а на полу были подстелены маты. Уже «на земле» я заметил, что у Ани глаза испугались, даже рот приоткрылся, и она сделала шаг ко мне: встревожилась было за меня! Но увидев, что я цел и невредим, что поднялся быстро на ноги, тут же вышла из зала... Ну и отлично, в сочувствии я ни в чьем не нуждаюсь! Этого только не хватает!
Она, конечно, догадалась, что я сорвался со шведки из-за нее. Догадалась, хоть мы и не разговариваем, потому что не знакомы! Все с ней беседуют, как ни в чем не бывало, все со мной говорят, когда надо, а мы — не можем! Мы — не знакомы! Что же это такое делается!
Нет, мы, конечно, разговариваем, но только лишь глазами. Это — как песня без слов, одна мелодия. И меня не покидает жуткая тревога, страх, что эта песня может оборваться в
147
любой момент, и по моей, по моей вине! А я ведь, Аня, тоже «люблю тебя давно и очень сильно».
Неожиданно пришла в голову странная мысль, совсем странная: а может быть, когда-нибудь мы с Аней будем вспоминать о днях нашего знакомства — незнакомства, как о самом волшебном времени в жизни? Ведь такое не со всеми бывает! Нет, не со всеми!
10 мая 1941 года
Приходил ко мне Саша Дубровский. Он рассудил по-простому:
— Да бери ты свою Аню, поезжайте вы с ней на Украину, может, у нее там и родственники есть, судя по фамилии! Там, да еще в Средней Азии, Грузии и Армении браки разрешают заключать на два года раньше, чем в России, — южные темпераменты, что ли, учитывают? Я узнавал, я тебе точно говорю, это у них по закону... Устроитесь, будете работать и учиться, а потом, со временем, вернетесь в Москву, если захотите. Или там останетесь, если там полюбится: ведь «широка страна моя родная», да еще как широка! А мы любим изо всего делать оглушительные проблемы, сами же и создаем «непреодолимые» трудности. Это я тебе говорю, Коля, это ты создаешь! Хоть беги и топись!
Эффектно высказался, но невыполнимо. Похоже на увоз невест в девятнадцатом веке. С той «небольшой» разницей, что тогда кое у каких женихов все же были имения, лошади и кареты, и они могли не бояться за провал «операции». А тут как быть? А тут! К тому же до армии остались считанные дни (хоть это и месяцы, но все равно все произойдет очень скоро), и Ане н е шестнадцать, нет, ей пока даже и не шестнадцать! Какой уж тут отъезд на Украину! Самый настоящий авантюризм, и незачем Сашке склонять меня к несвойственным мне мыслям и поступкам, он только меня будоражит, я ведь совсем растерян!
148
Был бы я безответственным, легкомысленным парнем, я бы давно написал Ане, и сделал бы это с легкостью... Да... Ну, и что бы тогда получилось? Встречи тайком ото всех, и они привели бы — к чему?! Боже мой! Я за голову хватаюсь, просто и лоб и виски трещат!
Неужели все должно окончиться тем, что когда-нибудь стану сожалеть: почему я не безответственный, почему не легкомысленный? Нет, нет, что это я...
Неужели все завершится тем, что мы ни разу даже не поговорим друг с другом?!
Господи, Боже мой! Не допусти такого!.. Я, кажется, к Богу обратился?.. Меня это не удивляет. Вмешательство добрых, высших сил просто необходимо.
Что делать?! Может быть, действительно, попросить Аню о важной, самой важной в мире, встрече и... предложить ей этот украинский вариант Саши Дубровского? Это и было бы моим серьезным ответом на ее письмо... Но я... я не верю, что Аня даже мысленно может быть готова к... замужеству. В ее возрасте любовь и замужество, мне кажется, совсем не одно и то же!
С ума сойти! И я, кажется, не очень далек от этого...
А ее родители?! Как они отреагируют? Я о них сразу-то даже и не вспомнил, как и о собственных родителях. Во всяком случае, Анины родители уж точно сойдут с ума...
...Конечно, у Ани — романтика, платоническое чувство. Но если разобраться серьезно, то нет ничего сильнее такой романтики. Я уверен, что она возникает именно в юности (так и получилось), и счастлив тот, у кого она естественно переходит в следующие стадии. Потому что без романтики, без этой самой платоники, чувство не будет прочным, не будет навсегда. Мне кажется, что без платонического (как бы это поточнее сказать?) — предисловия — физиологическая любовь может менять свои объекты, а мне это никак не подходит. Н а м не подходит...
Мама моя родная! Значит ли это, что в следующих «ста-
149
диях» больше не будет романтики?! Нет, она, конечно, станет то и дело возвращаться. Например, когда Аня уйдет в магазин, или к подруге, или к родственникам, а я буду ждать ее дома и отчаянно волноваться... Или когда она уедет в дом отдыха... или когда она заболеет, а я буду за ней ходить, как за малым ребенком... Нет! Она никуда не будет без меня ездить! Я всегда буду рядом и всегда буду ее любить. И она — меня.
Была бы Аня года на два старше своих пятнадцати! Хотя бы на один, всего на один годочек!
Кажется, я все-таки начинаю задумываться над Сашкиным вариантом, а это уже ни в какие ворота... Через сколько месяцев ей исполнится шестнадцать?.. Скоро или не скоро? Д о моей армии? Если после, тот вариант не для нас, он просто-напросто бесчестен. И вообще: жениться, тут же уйти в армию на три года и оставить девочку одну, без внимания и помощи? Ни в какие ворота!
Мне мама сказала, что я во сне вздыхаю и сквозь вздохи всхлипываю, словно дитя после долгих рыданий. Может быть, и вздыхаю, но пока никаких рыданий не было, я ни разу в жизни не плакал, нет. Я не девчонка!..
Хотя было однажды, да еще как... это когда отца увозили в больницу. У него открылся туберкулез легких, хлынула кровь горлом... Вот когда я плакал... Мы думали, что он не выживет. К счастью, это теперь давно позади, он жив-здоров и работает по-прежнему, а у него на работе строго проверяют здоровье.
Вчера видел, как Екатерина Павловна подошла в коридоре к Ане и сказала: «У вашей неразлучной подруги выходит «хорошо» в году, а вот у вас — «отлично». Одна такая из всех учительниц, которая разговаривает с учениками на «вы»... Я постоял, посмотрел на Аню — как реагирует на оценку «отлично»? Отлично и реагирует! Глаза у нее сияют, она хочет улыбнуться и, конечно, сейчас же подносит левую свою ручку ко рту... Милая Аня! Слава Богу, она куда меньше моего
150
переживает (или совсем не переживает?), ее жизнь бьет ключом. В этом я убедился, когда услышал еще один разговор в коридоре, очень громкий, но, к сожалению, не очень-то приятный. Даже совсем неприятный!
А произошло так.
Люська Т. тряхнула в очередной раз своей белой гривой и... пообещала «срезать» Аню во время приема в комсомол:
— Мы будем задавать тебе самые трудные вопросы! Даже по тексту из Конституции!
То есть как это — мы будем?! Она, что же, еще и своих друзей собирается подбить на этот подлый шаг, что ли? Что она, совсем ненормальная?
Аня даже в лице изменилась;
— Можешь, — ответила, — задавать свои вопросы, а я выучу и Устав, и Программу и, конечно, Конституцию. Я все это выучу! И газеты я читаю каждый вечер, у нас папа пять газет выписывает!
Так! Значит, Аня собралась в комсомол. В любое другое время я порадовался бы за нее, за ее активность. В общем-то, ей и пора: принимают в комсомол уже с четырнадцати лет, ну, кроме «плешников» и заядлых троечников. Но теперь... теперь должен я себе признаться, что все-таки меня чуть-чуть задевает мысль о том, что ее планы совсем не нарушены душевными переживаниями. Может быть, действительно, — нет переживаний?
А за что ее так Люська Т.? Да она просто ведьма из гоголевского «Вия»! Ей бы на помеле скакать, а не с людьми учиться в десятом классе!
Когда Аня думает предстать перед нашим бюро? Надо четко следить за расписанием, я тоже продумаю свои меры! Например, задам ей самый детсадовский вопрос, на который нельзя не ответить. И вообще, буду начеку... Как? Специально засыпать Аню? Недаром у меня против Люськи всегда было такое предубеждение!
Через неделю я, как обычно, взглянул в коридоре на «Учет
151
успеваемости» восьмого «В» — и замер: против Аниной фамилии стояло пять оценок «плохо»! Вот тебе и «жизнь бьет ключом»! Мама родная! Катастрофа! Может быть» ошибка в этом «Учете»? Да нет... вряд ли... там проверяют и до и после заполнения...
Что же случилось? Теперь ей не миновать вызова на комсомольское бюро школы, но совсем по другому поводу. На бюро вызывают и не комсомольцев, если они набедокурят по дисциплине или нахватаются «плешек»... Да, в комсомол ей теперь вряд ли вступить.
Откуда эти скверные оценки? Ведь вот в прошлом году она полностью только четвертую четверть учебного года посещала из-за скарлатины, и то такого никогда не было... Дикий, отчаянный срыв! Почему?
Аню вызвали на бюро, сам читал повестку дня. Да иначе и быть не могло. Я должен буду (во всех смыслах обязан) присутствовать на этой экзекуции, и я постараюсь смягчить сердца своих товарищей, если это понадобится. Но все они хорошие парни, и вряд ли будут сурово высказываться против Ани... Не случилось ли чего дома? Здоровы ли ее родители?
13 мая 1941 года
Бюро состоялось сегодня, после уроков, противного тринадцатого числа. Лида Котова, секретарь комсомольской организации школы, спросила Аню:
— Каким образом ты нахваталась вдруг плохих оценок? Прежде не было! Расскажи нам, как это могло получиться!
— Слишком много учила по Конституции и поэтому запустила учебу.
Это Аня ответила, очень кратко, и в ее голосе не было никакого волнения. Мне даже послышалась какая-то веселая беспечность. Может, чисто внешняя, чтобы «не показать вида? Мне, мол, и море по колено!»
152
— Сколько «посов» будет у тебя в четверти, если постараешься?
Это Лида спрашивает.
А мне очень не по себе. Можно ли, реально ли за две — три недели, что остались до конца четверти (и года!), исправить пять «плохо»? Но Аня совершенно спокойно отвечает, что, мол, у нее будет только три «поса»... С тремя «посами», хоть это и не очень почетно, но в комсомол принимают, это — пожалуйста... И поэтому Лида ждет уточнений;
— Обещание обещанием, а как ты его будешь выполнять? В какие сроки и в какой последовательности сдавать? Имеются ли дома условия для подготовки? Где и как выполняешь домашние задания, не мешает ли кто? Есть ли свой отдельный письменный стол, полка для книг? Сильно ли загружена хозяйственной работой? Ну, стиркой, уборкой квартиры?
Ну и ком вопросов, они из Лиды прямо как горох высыпались!
Совсем неожиданно за Аню вступился Юра Трусов из нашего класса, хоть никакого заступничества пока не требовалось: вопросов было много, но они — простые, домашние. Аня и с мыслями не успела собраться, чтобы ответить Котовой, а Трусов и поторопился.
— И чего к человеку привязались? — буркнул он. — Человек ведь уже ответил! Объяснил существо вопроса! Обещает, что все исправит, значит все исправит. Вообще-то верить надо людям!
Заступничество парня за девушку, как я это понял, «заело» нового члена нашего бюро, молоденькую учительницу начальных классов:
— Да, глазки — то она умеет строить мальчикам! Вон, защищает ее Трусов! А оценки-то — плохие!
Не успела эта новенькая дурочка закончить свою несправедливую, злющую фразу, как Аня взорвалась вдруг, как бомба!
Эта учительница работает на первом этаже, причем со-
153
всем недавно пришла в нашу школу, и к нам, на третий этаж, ни разу не поднималась. Видимо, Аня знать ее не могла. Поэтому!
— Что?! Какие глазки?! Как ты смеешь, нахалка! А у тебя сколько «плохо»? Ты просто безответственная болтунья!
Мама моя родная... Видимо, Аня приняла ее за школьницу старшего класса. Все сначала рты разинули, а потом их прорвало и, сквозь дружный хохот, объяснили Ане, что она оскорбила учительницу.
Конечно, если бы я мог предположить такое, увидеть хотя бы во сне такое, я бы решился, я бы сел с ней рядом и успел бы дернуть ее хоть за рукав, что ли. Но разве за ней успеть?! Такая стремительная реакция! И такой, оказывается, буйный нрав! А теперь каково?
Так и по дисциплине могут вкатить «пару»! Годовую! К счастью, все обошлось. Но этим Аня обязана только самой себе, потому что и Трусов, и я растерялись, просто опешили, не знали сперва, что и сказать. Через минуту я, стараясь во что бы то ни стало опередить Трусова (а он уж и рот было открыл!), обрел дар речи и заявил, что Аня Гудзенко первый раз на таком собрании, да еще и по такому поводу, неприятному для нее. И, вполне понятно и простительно, что нервничает, и каждый бы на ее месте... Но Аня меня перебила — мы, мол, и сами с усами. Она оказалась инстинктивным дипломатом! Она улыбнулась, слегка пожала своими плечиками, извинилась самым милым образом, и ее не только извинили, но тоже поулыбались — в знак ободрения. Чтобы, значит, не падала духом, активно бралась бы за учебу? Каково?
На этом мои волнения на бюро закончились. Да, именно мои, а не ее: она, по-моему, сохранила олимпийское спокойствие, за исключением, конечно, сногсшибательного выпада против учительницы.
Наверное, это домашняя избалованность? Или — природная храбрость? Или — остатки детства!
154
14 мая 1941 года
Лучше бы я ничего не видел и не слышал, чем стать свидетелем очередного выговора, который Ира буквально прокричала в коридоре Ане:
— До конца учебы осталось чуть больше месяца! Скоро все разлетятся кому куда, в разные стороны! Ты бы хоть подошла к нему, когда он один стоял в спортзале, когда упал со шведской стенки! Подошла бы и сказала по- человечески: «Прощай, Коля, дай твою руку — ведь мы с тобой никогда больше не увидимся!» И тогда бы он, конечно, ответил: «Нет, давай встречаться!» Но ты даже не выразила ему сочувствия, когда он с этой стенки так упал! Не удивляюсь, что у него столбняк в отношении тебя никак не проходит! Нет, я ни капли не удивляюсь!
Не думал, что Ира окажется такой чуткой ко мне. Лицо у нее... какое-то непонятное! На нем так и написано об интересе к интригам, сплетням, к школьным «новостям»! Передача писем, советы таким, как мы, неоперившимся, а там — сиди и смотри, как все занятно получается, — своего рода театр! По крайней мере, когда она передавала мне письмо от Ани, а потом (дважды!) заходила за ответом, то вся ее физиономия так и маслилась от любопытства, и это выглядело неприятно. И вообще — она в коридоре вечно с кем-то шушукается с видом заговорщика. Прямо Екатерина Медичи местного масштаба, интриганка из старинной Франции,
Впрочем, Бог с ней. Может быть, я и не прав. Но вот ее премудрое замечание насчет моего столбняка — все это точно, все это я вынужден признать за истину. Просто такое нервное состояние у меня. Действительно, вроде своеобразного столбняка. Из-за этого я веду себя как девчонка. А Нюра, в нашей ситуации получается, должна играть роль парня... Нет, меня давно пора в цирке показывать! Только там! На Цветном бульваре!
155
14 июня 1941 года
Прошел месяц — приветствую тебя, моя синяя тетрадочка! Ничего не изменилось, но я чуть-чуть, самую малость успокоился, потому что теперь знаю определенно, что именно ей написать:
«Милая Аня! Не сердись, дорогая девочка. Я мечтаю тебя увидеть и поговорить с тобой очень серьезно. Скоро мне в армию, и нельзя допустить, чтобы мы разлетелись в разные стороны, ни о чем не договорившись.
Я выучил наизусть твое письмо, такое драгоценное для меня, и имею поэтому смелость просить: дождись меня, милая Аня. Имей необходимое терпение, дождись, а я до конца жизни буду с тобой, клянусь всем дорогим. На этом свете ты одна мне нужна, и на том — тоже. «Ты знаешь, мира и забвенья, не надо мне...» Это написал поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов, и тебе это известно, потому что ты тоже любишь стихи. Коля Большунов».
По-моему, правильный ответ, другого и быть не может. Сорок шестой вариант, десятка два уничтоженных тетрадей! Кто этому поверит?!
Настроение стало... как бы это определить? Как у выздоравливающего, который первый раз, после тяжелой болезни, вышел подышать в сад, где пахнет весной, цветом яблони. Такое нашло на меня спокойствие, так на душе стало легко, приятно, уютно...
Я бы хоть сегодня передал ей это письмо, да как это теперь сделать? Школьные занятия канули в лету, а ее адреса я, понятно, не знаю. Надо срочно записать это на чистовик и носить с собой в конверте. Я знаю, она еще придет в нашу опустевшую школу, не может не прийти. Тогда ей и отдам мой ответ... А вообще-то я воспринимаю мое письмо не как ответ, а будто это я первый ей написал, рассказал о моем к ней отношении и сам жду от нее ответа. Почему так? Да из-за
156
долгого молчания, конечно. Получилось, будто я ей пишу как бы из другой эпохи... Какой все-таки я... уж не мог гораздо раньше, раньше ей передать! Ведь ответ-то довольно прост оказался! Мог бы, мог бы и раньше! Наверное, все это созревало внутри меня, вот так и получилось: я весь, весь понял...
Саша Дубровский сказал, что можно спросить адрес любого человека в справочной будке, а они везде существуют. Я было подошел, спросил, а тетка из справочной будки меня тут же перебила: для адресной справки, сказала, необходимо знать и год, и место рождения, и отчество. Я ничего не знаю, кроме имени и фамилии!
А в комсомол ее не приняли. Не то, чтобы отказали, этого не было. А просто она даже и заявления не подавала. Наверное, решила осуществить свое намерение в будущем году, когда повысит свои оценки. И когда меня здесь уже давным-давно не будет!.. Как странно! Те же классы, коридоры и парты, и Ане еще целых два года здесь учиться, ходить, смотреть на людей. А меня не будет... И парни чужие станут на нее заглядываться... А я буду совсем в другом месте! Как странно! И даже как мучительно все это себе представлять
Я ревную, ревную Аню к ее будущим школьным дням без меня...
15 июня 1941 года
Сегодня утром вдруг врывается ко мне домой весь запыхавшийся Саша Дубровский, хватает меня за руку, трясет изо всех сил и кричит:
— Слушай, там Аня, в школьном дворе! Жарко, а она почему-то в пальтишке, в сером пальтишке, легком, правда. Надела, может быть, потому, что оно, видно, новое? Девчонки, какой с них спрос! Модницы! Там, во дворе, и военрук тебя ждет. Он заявил, что я ему не те цифры подсунул, и над ним в районе будут смеяться! Да, так обидно он и изрек! Слушай, я сказал, что сейчас тебя позову, и ты ему все ис-
157
правишь, ведь это именно твоя общественная нагрузка, ты занимаешься допризывниками. Мое дело тут десятое! Что он ко мне привязался! Слушай, это чудеса, что сразу и военрук и Аня! Предлог появиться и поговорить у тебя с ней — налицо! Иди так, в этой белой рубашке, на улице жара... я там громко сказал, что, мол, Большунов успешно сдал на все значки, все нормы: Аня слышала, слышала! Торопись, ты что стоишь, с ума, что ли, сошел! А то она вдруг уйдет и тогда уж точно — все! Хоть беги и топись!
Пока он все это выкрикивал и тормошил меня, я, конечно, пусть и жарко, но надевал костюм — для Ани. Минутное дело! Так торопился, что подкладка где-то лопнула, кажется, в рукаве.
Успел все-таки! Аня! Вот она! Стоит у клумбы и трогает своей ножкой желтый песок, что горой насыпан возле. Аня здесь! Но... говорить-то я должен (обязан!) сначала с военруком.
Поговорил и сведения все исправил по сдаче норм на значки, а сам поглядывал на нее, боялся, как бы она не ушла. Аня все это время стояла у клумбы, не обращая, правда, на меня никакого внимания, словно для нее самое главное в жизни — эти самые флоксы, маргаритки и еще, Бог знает, что там такое посажено.
Потом военрук ушел, а я все никак не мог приказать себе подойти к Ане. Наконец, решился и встал рядом с ней. Но мое сердце так колотилось, бешено колотилось, буквально из груди выпрыгивало, а руки и ноги похолодели и замерли, и я рта открыть не мог. А какое суровое было у нее лицо! Хоть бы чуть-чуть улыбнулась, хоть бы разок подняла на меня свои глаза! Но она и бровью не повела, и я никак не мог преодолеть невидимый заслон между нами! И оба мы так и стояли, отвернувшись друг от друга, как самые лютые враги, пока она не сорвалась с места и не убежала! Только и мелькнуло серое пальтишко в школьных воротах...
Господи, Боже правый! Я ведь завтра уезжаю в Труняев-
158
ку, до самой осени, до призыва в армию! И она уедет на лето из Москвы! Так что не увидимся, даже если я иной раз буду вырываться из Труняевки наперекор всем родственникам...
Почему я не приготовил письмо, не переписал его на чистовик, как хотел! Если уж не поговорить, то хотя бы письмо ей передать, чтобы все знала!
Она убежала. И правильно сделала! Меня никак нельзя считать нормальным парнем. По крайней мере, так по моим поступкам получается...
Но тут я вдруг развернулся и тоже сорвался с места. Меня словно ураганом подхватило. В два прыжка я выскочил из школьного двора!
А в Лялином переулке ее уже не было. Бегу на Покровку — там тоже ее нет... Взглянуть в Барашевский? Да, да! Но оттуда пути вели по четырем направлениям, и, в пределах видимости, ее не было ни на одном из них... Успела исчезнуть!
Почему я не кинулся сразу за ней в Лялин? Почему?! Почему я снова оробел, снова потерял ее?!
Саша, конечно, был прав, когда сказал мне вечером по телефону, услышав про все это, что главный враг человека — это он сам, то есть его личная дурость...
Нет, завтра я не поеду в Труняевку, никто не заставит, хоть гори все кругом синим пламенем. Родителей я, конечно, этим ошарашу, но у меня для них нашлась прекрасная причина: ровно через неделю наш бывший десятый «А» проводит прощальный вечер выпускников, с ночной прогулкой по улице Горького, по центру, по Красной площади — теперь так принято... Аттестаты мы уже получили и общее фото класса — тоже. Я там какой-то воинственный, Паклина совсем никак не скажешь, что красивая, а Люся Т. эффектно выглядит со своей кудрявой гривой до плеч: фотографироваться тоже надо уметь. Ребята все в галстуках (я тоже), кроме Симакова и Савилова...
Интересно, кто расположил наши маленькие фото на большом картоне? Чьего ума композиция? Не знаю кем, но
159
наши взаимоотношения подмечены точно: Юра Трусов рядом с Верой Мосоловой, Юшка и Евгения — тоже рядом, Чижевская и Дубровин — рядом... А я, Савилов и другие — ни с кем из девчат. У нас, конечно, пары не оказалось. Да, — и Люся Т. рядом с Симаковым, что и требовалось доказать. Все так!
Раздали нам аттестаты и групповые фото, вышли мы из класса с последним звонком в нашей школьной жизни и многие — закурили! Я и не предполагал о некоторых! Орлов даже постучал папироской по коробке «Казбека» и победоносно на всех посмотрел... Директор только брови поднял: «Ну, теперь я не могу вам запретить — вы взрослые». Я курить не собираюсь, будь я хоть сто раз взрослый. Вот и директор, Иван Васильевич, — сам-то он не курит.
Не очень-то мне хочется идти с классом на заключительную прогулку по Москве. Я ко всем к ним отношусь хорошо, по-товарищески, но дружить — не дружу ни с кем. Не нашлось в нашем десятом «А» никого, с кем хотелось бы подружиться по-настоящему. А среди них были ведь и совсем неплохие, просто даже славные парни. Не могу понять почему, но так уж получилось. Наверное, я виноват, я какой-то замкнутый, что ли? Есть такие люди — по своей природе необщительные, как мой отец. Но в деревне у себя — я очень общительный. Говорят, что и веселый. Так и не привык я здесь, в Москве, что ли?
И то, что надо ловчить с родителями, врать им, что обязательно хочу на эту прогулку, прощальную, ночную, с одноклассниками, с которыми и не дружил — это совсем не по мне. Но выхода нет! Никакого!
23 июня 1941 года
Как я сказал, что за неделю может многое измениться, так оно и вышло. Но, к несчастью, изменилось в смысле, непредвиденном для многих. Сказал бы — для всех, но так не бывает.
160
Произошла трагедия — Германия пошла на нас войной, а это не Финляндия. У нее иной, воинственный дух еще с незапамятных времен, и теперь немцы уже почти всю Европу захватили. Да... вот и понял я, наконец, почему «в воздухе пахнет грозой». Не зря было так неприятно, когда наши с фашистами мирный договор подписывали, не зря! Гадость какая!
Я сказал отцу, что в Труняевку не поеду, что надо сидеть на месте и ждать повестки из военкомата. Паспорт мой, как призывника, вот-вот должен быть сдан в военкомат.
Я решил во что бы то ни стало тем временем добыть Анин адрес, и знаю как. Почему стоющие мысли приходят так поздно? Узнать можно вовсе и не в адресном бюро, а прямо в нашей учительской — там никакие подробные данные не нужны! А причину придется опять-таки сочинять.
Я приду по адресу да и опущу свое письмо в почтовый ящик ее квартиры — быстрее любой почты получится. Сегодня же узнаю адрес, а завтра опущу письмо!
А если я столкнусь с ней прямо у дверей ее квартиры? Такое очень возможно... но тушеваться более никак нельзя... Ну, тогда так тому и быть... не зря же она мне письмо прислала. Все! Я начинаю мечтать именно о таком повороте событий!
Но не тут-то было. Отец устроил скандал, и мама тоже. Просила — просила, чтобы я перед армией и, особенно, потому что война, обязательно отдохнул у бабушки в деревне. Тем более, что я, мол, сдавал выпускные экзамены и теперь должен окрепнуть. Что делать?! Маманя плакала!
Аня, а ты — никуда не уезжай, оставайся в Москве. И знаю, что не уедешь: куда теперь, не на дачу же, в самом деле! Я навещу пока Труняевку, так, для отвода глаз. Пусть они не плачут. Но сбегу оттуда при первом случае. А случай — или он представится, или придется его выдумать. Я не задержусь.
161
16 июля 1941 года
Я решил, что судьба за меня вступилась, когда в Труняевку пришла вдруг из Москвы телеграмма. Это была не повестка из военкомата. А меня вызывали в школу, на 13-е число, на пять часов дня. Я, конечно, немедля воспользовался этим подарком судьбы, хоть и крестный, и супруга его Марья Михайловна говорили, что раз телеграмма не подписана никем, и печати учреждения на ней нет, то можно не ехать. Ну, это уж дудки! Я только и ждал, чтобы за что-то зацепиться, а тут такой превосходный случай! И выдумывать не надо!
А до тех пор, до этой телеграммы, я метался по Труняевке, словно тигр, только что запертый в клетку. Не плавал, не загорал, ни с кем не мог разговаривать, все здесь казалось мне мелким и даже никчемным. Я все чего-то ждал, напряженно ждал, и мои мысли были только об Ане. Иногда мне чудилось, что она уезжает, неизвестно куда, совсем, навсегда уезжает из Москвы, и тогда я с ума сходил. Но самовольно, безо всякой, хотя бы даже выдуманной «причины», вернуться в Москву было для меня равносильно чуть ли не дезертирству из армии: вот как меня родители воспитали! Явись я в наш Лялин переулок и предстань перед ними нежданно-негаданно, свались как снег на голову, я и помыслить не могу, что с ними стало бы, с отцом и с маманей. Конечно, я уж все равно строил планы приезда, один за другим. Но тут телеграмма пришла мне на выручку, я выскочил из этой невидимой клетки.
Затем история вопроса развивалась так: стала нечетко работать почта, и эта телеграмма, вообще-то, пришла не двенадцатого и даже не тринадцатого, а лишь днем четырнадцатого. Я приехал в Москву пятнадцатого, и причем только вечером, так как и поезда тоже стали ходить нечетко: утренний из Клина был отменен, и я пять часов «загорал» на платформе, ждал следующего...
162
А поезд? Он потом тащился так медленно, что мне хотелось спрыгнуть на рельсы и обогнать его, эту зеленую гусеницу. Волновался отчаянно, конечно: ведь мой приезд в Москву — это надежда увидеть Аню. По дороге я все прикидывал в голове разные планы: как добуду Анин адрес в нашей школе да как опущу мое письмо прямо в почтовый ящик ее квартиры... А если достать в учебной части Анин телефон, — может быть, у нее имеется телефон? Да, набраться решительности и позвонить ей... Да! И раздумывать тут нечего! Так и надо сделать — узнать телефон и тут же позвонить! Это — быстрее всего будет! Позвольте... А может быть, это Саша Дубровский дал телеграмму? Боже мой, Боже! Уж не случилось ли чего с Аней! Он дал телеграмму и не сообщил почему вызывает и не подписался... Да, чтобы я не тронулся тут же... Это Сашка, и что-то произошло!
Но вот, наконец, я отмаялся — приехал. С вокзала звонил Саше, но дома его нет... Иду в школу, тороплюсь, а во дворе — неизменная Лидия Николаевна. Я поздоровался, хотел было пройти мимо — и дальше, к директору, а потом срочно позвонить Саше. Но Лидия Николаевна меня остановила:
— Куда ты направился, Большунов?
— Меня в школу вызвали на тринадцатое, на пять часов, но я получил телеграмму только четырнадцатого днем, успел сейчас лишь явиться. Вот телеграмма, она без подписи, без печати. Кто вызывал — пока не знаю. Может быть, это директор?
— А я знаю. Нечего к директору ходить неизвестно зачем и почему, тем более, он на несколько дней едет в Харьков... Это Аня Гудзенко тебя вызвала. Вроде бы, нужны пионервожатые для младших классов — в Рязань, на время эвакуации. Вот тебе ее телефон: К7-73-22. Сиди и звони, молодой человек!
Кажется, Лидия Николаевна еще добавила «и добивайся», но я не стал ее переспрашивать. У меня все в голове зазвенело, и я смог только попросить у нее клочок бумаги и карандаш — записать Анин телефон...
163
Мама моя, мама родная! Аня решилась и телеграмму послать, и с Лидией Николаевной переговорить, а я все еще набираюсь храбрости! Все еще строю стратегические сооружения насчет пересылки моего письма, насчет Аниного адреса! Как бы все мои «сооружения» не рухнули в один момент! Какие там ребятишки в Рязани, какие пионервожатые! Думаю, что младшие классы в Рязани — это и есть Аня в Москве...
Моя дорогая! Идет война, я жду повестку из военкомата! Я должен с тобою хотя бы проститься, если уж весь мир пошел кувырком, вся прежняя теплая жизнь! Какие тут могут быть соображения черт возьми, наконец! Хоть бы один раз увидеться, хоть бы одно слово твое услышать, Аня! Скорее, Коля, беги, торопись, торопись!
И я бросился к телефону, чуть в коридоре по дороге маму с ног не свалил. Подбежал, хотел схватить трубку, чтобы набрать К7-73-22, но не успел: телефон зазвонил. Хорошо, что с досады тут же не хлопнул трубку о рычаг, потому что... потому что... в трубке послышался ее голос, нежный и мелодичный, как флейта. Он у нее волшебный, и своим волшебным голосом она произнесла:
— Это Коля говорит? Мне Лидия Николаевна дала номер твоего телефона... Это Аня.
— Аня! Откуда звонишь?! Где ты?!
— Я звоню из автомата...
— Какого? На Земляном валу?
— Нет, на углу Казарменного переулка и Покровского бульвара, там, где телефонная подстанция... Знаешь?
— Знаю, знаю! Аня, ты жди меня там, никуда с этого места не двигайся, я иду, сейчас буду!
Тут уж я и костюм не стал надевать, а как был, в белой рубашке, с поезда, так сразу и побежал к ней. Сердце буквально прыгало в груди, как волейбольный мяч, и я боялся, что иду медленно. Аня, Аня моя! Я люблю тебя давно и очень сильно! Это твои слова, Аня!
164
Я еще издали, чуть ли не с Подсосенского переулка почувствовал: нет, это не сон, это не мираж. Она, сама Аня стояла на углу, а когда увидала меня, то склонилась над газоном с зеленой травой и погладила эту траву, словно котенка. Она даже отвернулась от меня, когда я приблизился, — так она засмущалась! Но теперь она ждала меня, меня, и это не случайность, она меня ждала! Когда я подошел, она выпрямилась стрункой, и все лицо ее зарделось, как солнышко при восходе. Как выглядел я? Не знаю... Аня, красавица, детка моя! Теперь, наконец, нам некуда друг от друга деваться, моя расчудесная Аня!
— Коля, — зазвучала Волшебная Флейта, — ты знаешь, зачем я тебя вызвала? Это очень важно! Я хотела тебе посоветовать, чтобы ты подал заявление в Рязанское артиллерийское училище, в институт сейчас все равно не поступить... И тебе все равно надо в армию...
Мама родная, Боже великий, как я ее люблю!.. Какое еще артиллерийское училище? А вдруг Аня решит сейчас, что все, с ее точки зрения необходимое, она мне высказала и тут же уйдет домой? Нет! На этот раз нет, ни за что.
— Идем прямо и налево, по бульварам и дальше... — это уж я сказал, и совсем не по смыслу ее заявления о Рязанском училище. Но ничего значительного мне в эту первую минуту в голову не пришло. Я просто хотел задержать ее любым путем, хотел идти рядом с ней во что бы то ни стало, хоть умри я на месте.
И мы дружно пошли по Покровскому бульвару, будто век были знакомы. А разве не так оно и было?! И меня переполнила такая радость, которая была больше меня. И о которой я прежде не имел никакого понятия.
Этим нашим первым вечером мы, можно сказать, всю Москву обошли пешком. Все шли и шли без конца, все говорили и говорили обо всем на свете, и я не знаю о чем.
На ней было белое платье с голубыми цветами, и когда она поднимала головку и смотрела на меня, то глаза ее тихо
165
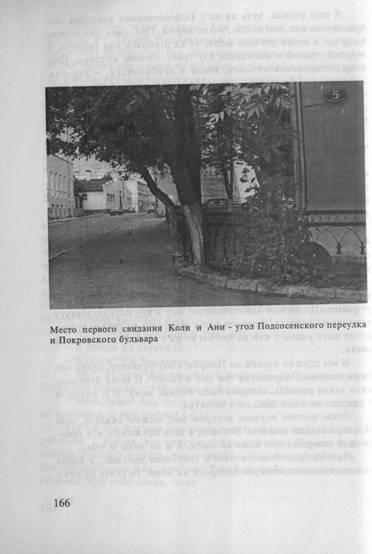
сияли, словно незабудки в лесу. Девочка-куколка, как ты хороша собой! И как выросла, и волосы тоже еще выросли, они теперь почти покрывают шейку, и такие кудрявые!
Хоть и выросла, но все же мне она только-только по плечо. И то лишь потому, что ходит в сандалетах на маленьком, на школьном (сантиметра полтора?), но все-таки на каблучке. А если босиком или в тапочках? Тогда она мне и до плеча не достанет, а ведь она не очень-то маленькая, она все же средняя. Да, я, конечно, слишком уж вытянулся на деревенском воздухе.
Я не знаю, устала ли она за время нашего путешествия. Мы проходили мимо всевозможных скамеек, они попадались нам по пути, но она не выразила желания отдохнуть. Это надо же! Мои сестры устают гораздо быстрее, даже Клаве не перекрыть столько километров за четыре часа. Думаю, что и Аня устала, но постеснялась сесть на лавочку, да еще и рядом с парнем, да вечером, да в темноте! Хорошо, что я ей этого не предложил — могла бы и обидеться!
Мы только часов в одиннадцать подошли к ее дому. Было совсем темно, и в воздухе пахло липой. Аня сказала, что у них за домом — большой сад, и он так сильно зарос сиренью и акацией, что тропинок не видно. Есть там и липы. Живет Аня на третьем этаже, в старинном особняке, в былые времена фабриканта Саввы Морозова. А потолки в их квартире такие низкие, что я, по Аниному мнению, мог бы достать их затылком и испачкать побелкой свою шевелюру: это была в прошлом комната для прислуги.
Смешнуха! Ах, какая смешнуха!
Двор у них просто огромный. Там есть еще и другие старинные дома, и в одном из них когда-то жил знаменитый художник Левитан, друг Чехова. Интересно! Днем она мне покажет эту достопримечательность.
В доме, где обитает Анина семья, — два подъезда. И над ними — красивые железные козырьки, по величине напоминающие самые настоящие крыши. Ворота — чугунные. И они
167
резные и затейливые, как кружева. Наверное, сюда когда-то подъезжали «кареты, кареты с гербами». Я будто попал в прошлое столетие, когда жили еще и Пушкин, и Лермонтов. Но дому, конечно, меньше лет — ведь это Саввы Морозова дом.
Да, Аня мне рассказала, что в своей нескладной квартире (не была она в нашем «общежитии»!) их семья находится вот уже лет семь. А когда ее отца перевели в Москву директором авиационного завода, то обещали буквально через неделю поселить в трехкомнатной квартире, тут же отремонтировать — и поселить. И сколько Анина мама не напоминала отцу: где же, мол, обещанная квартира? — он ей сурово отвечал: «Маруся, многие люди живут в подвалах! Ничего с нами не сделается! Можешь ты это понять или нет?» Вот какой у Ани отец — справедливый и принципиальный.
В Анином дворе вечером так тихо и таинственно! Мне трудно было бы теперь представить ее, живущей где-то в другом месте.
Все мои попытки объяснить, почему я до сих пор не отвечал на ее письмо, — с треском провалились. Она просто ни в коем случае не желает говорить об этом. При одном лишь упоминании о письме краснеет, прерывает разговор и решительно переходит на другую тему — на любую. Самолюбие, что ли, страдает, что первая написала парню? Но она ведь знала, чувствовала, как я ее люблю, причем же здесь это ложное самолюбие? Да я все переменки проводил у окна, напротив ее класса, я глядел на нее во все глаза, мы не раз улыбались друг другу... Неужели было хоть на миллиметр непонятно? Мы ведь не осуждаем Татьяну за ее письмо к Онегину, наоборот... А у Татьяны ситуация была посложнее! У Ани это, наверное, какие-то старинные установки матери или даже бабушки (у нее есть старенькая бабушка), не иначе. Так она и не дала мне возможности объясниться, а уж как хотелось подробно рассказать обо всех моих мыслях и переживаниях! Но только прежней трагедии я из-за этого не ощутил: к счастью, мы поняли друг друга, да иначе и быть не могло. Поняли, что все
168

равно мы встретились, как и положено нам было на белом свете!
Да, а Ирку она действительно не уполномочивала приходить за ответом. Ирка все выдумала, как я тогда и почувствовал. Аня так негодовала, узнав об Иркиной «инициативе», так негодовала! «Да как же она посмела! Наврала! Зачем?! Я ведь сказала, что отвечать не надо! Я просто хотела сказать то, о чем и сказала! А отвечать — ни в коем случае! Я об этом так ведь и написала, я ведь ясно написала! Да что же она!» Аня прямо задохнулась от возмущения, но это была крайность. Стоит ли так расстраиваться из-за подобных Ирок?
У своих ворот Аня не стала прощаться: оказалось, забыла записную книжку у Тамары Романовой, когда к ней давеча заходила. Я вспомнил эту Тамару: мы в третьей четверти принимали ее в комсомол. Еще Жорка Орлов тогда пошутил: фамилия Романова, мол, вызывает сомнения, не совсем подходящая для комсомолки — царская. Мы посмеялись — у девчонки был такой не царский вид!
Вот мы с Аней и двинулись дальше — выручать записную книжку, в Казарменный переулок. Там, у Тамариных ворот, Аня протянула мне свою ладошку, и какие грустные были у нее глаза! Почему? У меня — жаворонки пели в груди, я чувствовал, что она теперь не сможет просто взять — и убежать от меня... Сейчас, сейчас она назначит свидание, она из нас двоих самая храбрая! Сейчас она скажет: «Коля, позвони завтра вечером...» И мы увидимся, и мы будем встречаться во все дни, которые нам подарит судьба в лице военкомата Красногвардейского района города Москвы!
Боже мой, но она молчит! Протягивает руку... прощается... ничего не сказав?! Не понимаю... Нет, она совсем прощается, я это вижу! Почему?! Нет, нет, так нельзя, так не может быть... Чуть-чуть помедлив с пожатием ее руки, я решился... Она потом рассказала мне, что я закрыл глаза, что я даже... отстранил ее руку! И она обиделась! И сделала шаг в сторону от меня, к воротам!.. Тогда я и произнес это:
170
— Аня, а, может быть, мы завтра встретимся и так же вот походим?
Она ответила: «Да», и глаза ее засияли, и она поднесла свою руку к губам, и это было самое трогательное, лучшее в мире движение! Как тихо я все-таки произнес эту фразу, да еще «может быть»... Но это была моя просьба, а не сослагательное наклонение, и я вынужден был простить себя, самого странного из парней...
И она меня любит! Меня любит, любит эта девочка! Все равно она меня любит!
Сколько должно было пройти, миновать несуразных, тяжелых часов, дней и даже месяцев, прежде, чем я смог себе сказать: Боже мой, как я счастлив!.. Как же я счастлив!
Когда она побежала по двору, я все глядел ей вслед, и это теперь было моим правом! Я глядел ей вслед до тех пор, пока белое платье не скрылось в подъезде Тамары Романовой...
«Жизнь прекрасна и удивительна!» Но Владимир Маяковский не уточнил, что жизнь может быть прекрасной только рядом с Аней. Просто он мою Аню не знал и не мог знать...
Завтра мы снова увидимся... Скорее бы дожить до завтра! До семи вечера — Аня велела позвонить в семь!
И вообще... Надо было взять ее за руку и не отпускать хотя бы до той минуты, пока не окончу фразу о завтрашней встрече... Но об этом я подумал, когда уже был дома. Да нет же! Что зря говорить! Взять за руку, просто вот так? Без видимой причины Аню взять за руку? Ого! На это надо было бы тоже — решиться!
Я пришел домой очень поздно, я никогда так долго не отсутствовал. И был рад, что вопросов задавать мне никто не может: все спали сном праведников, даже мама.
Так тихо было везде! Я улегся на свой «знаменитый» диван (ноги давно не помещаются, если вытянуться во весь рост) и мысленно повторил нашу с Аней прогулку — ее рассказы, и взгляды, и улыбки, и волшебную музыку ее голоса. Мне уда-
171

лось увидеть даже ее глаза (даже, потому что думал, что голубой цвет в темноте не воспроизводится), большие-большие, голубые-голубые, — такие славные! — каких на нашем белом свете никогда ни у кого не было.
В общем-то я совсем не спал и даже не помышлял о сне. И в семь часов утра, когда по комнате стала ходить мама, я потихоньку-потихоньку включил радио. Объявили музыку русских композиторов. Уж конечно, не германских же теперь слушать. Правда, Моцарта я бы мог воспринимать всегда, какой страны уроженцем он бы не был. Вообще-то он австриец, А по справедливости, гении должны принадлежать всему человечеству. Не так-то их много!
Итак, передают музыку русских композиторов. Начали с трепака Мусоргского. Мне этот трепак пришелся не по вкусу, и я чуть было не выключил радио, и вдруг! Зазвучала сказочная мелодия — «Итальянское каприччио» Чайковского. Я слушал это впервые — почему? Редко передавали, что ли? Я такого никогда и вообразить себе не мог. Это просто чудеса, это верх всякой музыки! И тут я даже пожалел, что меня и сестер не обучали нотам. Отец, между прочим, совсем неплохо играет на баяне. Но нас, по многим причинам, учить было, наверное, невозможно, ничего тут не попишешь.
Я закрыл глаза, «Итальянское каприччио» слушал сквозь дрему, и от этого, да еще и потому, что я подкрутил репродуктор на «очень тихо», музыка казалась еще более сказочной. Мама было собралась (ее шаги прошуршали где-то близко) подойти ко мне — то ли с расспросами о вчерашнем позднем возвращении, то ли с приказанием совсем выключить радио. Но я плотно — плотно закрыл глаза, и она, видимо, решила отступить. А я, лежа с закрытыми глазами, вызвал в зрительной памяти образ Ани и, без посторонних помех, видел, как она плыла, совсем недалеко от меня, не касаясь земли, и ее окутало, словно голубым покрывалом, «Итальянское каприччио». Слышала ли Аня эту музыку хоть раз в жизни? Надо спросить. И поговорить с ней об этом подробнее.
173
Я назначил ей свидание! Это здорово все-таки получилось, что ни говори! Я, в итоге, повел себя молодцом. Все-таки надо было решиться. У меня сейчас гордость своей решительностью, и она перемешалась с огромной радостью, и я не пойму, чего же во мне больше. А больше — счастливых вздохов по Ане...
Спокойной ночи, дорогая Аня, Анечка, если ты еще не просыпалась! И доброе тебе утро, если ты не спишь! Я сегодня увижу тебя, и это на самом деле! Да... а решительность у меня проявляется, видимо, лишь в самые крайние моменты, когда деваться некуда, как из «Бориса Годунова»: «Уж разберу, как дело до петли доходит!» Чуть было и не дошло до петли, одна минута была, и я потерял бы Аню! Почему так себя веду? То ли от природы, то ли от чистоты и строгости моих родителей, то ли оттого, что большую часть жизни провел в деревне, а с новой средой еще не сроднился? Не знаю, не знаю.
Да, очень важное... Я впервые пожал руку девушке, моей девушке, и это ни с чем не сравнимо... Наше первое рукопожатие! Да, и еще, очень важное. Аня меня спросила:
— Коля, а ты поверил моему письму? Ну, тому, что в нем я тебе написала?
— Как не поверить! Я поверил!
— Правильно... — И она серьезно, очень серьезно кивнула головой, совсем как взрослая.
17 июля 1941 года
Немцы взяли наш Смоленск... О, сволочи! Но это не навсегда взяли, и мы им еще покажем... Война и Аня, Аня и война, — два волнения, они слились в одно, и это просто невозможно. И все-таки оба волнения живут в моей душе в какой-то странной гармонии...
Я никак не мог дождаться семи часов вечера и с самого
174
утра жалел, что мы не назначили хотя бы на пять: все-таки вечер продлился бы на два часа. У нас впереди считанное время, Аню отнимает у меня война, я жду повестки из военкомата со дня на день. И даже с минуты на минуту, — война гремит вовсю.
Но оказалось — хорошо, что не на пять назначили. С пяти началась такая гроза, забил такой ливень! Природа бушевала и в семь, и в восемь, все сверкало и гремело, и вода с небес лилась потоками, я все ходил то по коридору, то по комнате и все поглядывал то в окно, то на наши «ходики», тикающие на стене, то на телефон и так переживал! К тому же, с половины восьмого до половины девятого меня заставили дежурить у ворот с противогазом, несмотря на дождь. Позвонить пришлось лишь в половине девятого, после грозы. И после того, как меня сменили на дежурстве.
Я придумал, как нам выиграть время, встретиться хоть на три минуты раньше. Поэтому позвонил не из дома, а из автомата, что на том самом, навсегда памятном углу Казарменного. Так мой путь от Лялина сокращался вполовину, и я действительно выигрывал эти три минуты.
Трубку взял, видимо, Анин отец, но Аня тут же перехватила ее, отец только и успел сказать: «А кто ее спра...». Своенравная! Не дали отцу слово договорить, как можно!
И вот она бежит ко мне, бежит навстречу, по тротуару Покровского бульвара, прямо по лужам, по всем лужам, и брызги из-под ее ножек так и летят во все стороны. А еще через минуту я держу ее маленькую руку в своей. Моя дорогая девочка, моя дорогая! На всем белом свете ты только одна такая!
А... зачем же я отпустил ее руку? Мне ведь не хотелось ее отпускать?!
Она сменила свое белое платье с голубыми цветами на розовую спортивку. Жаль, потому что из-за этого в ее глазах расцвели неожиданные фиалки, и теперь я не могу решить — какого же цвета все-таки ее глаза? Знаю лишь, что самые
175
красивые, какие за свою жизнь я видел. Только собрался ей об этом сказать, как она заявляет:
— Коля, а ты знаешь, какие у тебя красивые глаза?
— Нет, не знаю... говорили, что брови... — Тут я совсем запутался: я не девушка, чтобы думать о своей внешности. Парень должен знать свои задачи: быть верным, быть опорой, зашитой всегда... допустим, подраться за девушку, если надо оберечь ее... Да мало ли еще что! Полно и конкретных и общих задач! Сразу всего не вспомнить. А внешность — дело девчачье.
Но Аня настаивала:
— И брови, и глаза! Очень красивые!
Ну подумать только! И, главное, смотрит на меня серьезно, так серьезно, будто речь идет о самом важном в жизни обстоятельстве!
Дома я потом всю ночь вспоминал:
— Коля» а знаешь, какие у тебя красивые глаза? Какого они цвета? Карие?
— Кошачьи... Да ну их совсем, — я так ей ответил. Но, честно говоря, мне было приятно, очень приятно, услышать от нее хорошие слова.
Меня все время так и тянет к ней, и я еле сдерживаю вздохи, они рвутся из глубины души, и если Аня их почувствует, то может спросить:
— Коля, что с тобой? И тогда я ей отвечу:
— Ничего... Просто я люблю тебя. А так — ничего.
Но она не спрашивает. И я молчу, не решаюсь на самое важное в мире слово. Но только как мне хочется это ей поскорее сказать! Сказать, хоть нам обоим все и так ясно!
В этот вечер было очень много воды после грозы. Ручейки журчали, сливались между собой в озерца, трудно было найти островок суши. Я хотел было помочь обойти самую громадную лужу на Покровском бульваре и взял Аню за руку. А потом и не отпустил. Так и ходили два часа до одиннадца-
176
ти — взявшись за руки. Волшебная Флейта умолкла, и я тоже. Ходили молча.
Вот оно, счастье человека! Спасибо!.. Кого это я благодарю так, от всего сердца, ото всей души? Свою судьбу, наверное?
Спасибо, моя судьба!
Когда прощались у ворот (на этот раз у ее дома), я не мог ни отвести от нее взгляда, ни отпустить ее руку. И она не отнимала свою руку, и улыбалась, и ласково глядела на меня. Какие выразительные у нее глаза! Они говорящие, и в них можно прочесть все ее мысли! Я не знаю, сколько прошло времени, пока, наконец, не очнулся, не понял, что ей давно пора домой и не спросил:
— Ну когда?
Боюсь, что вопрос прозвучал отрывисто, и что кавалер из меня — неважный.
— Позвони завтра в семь! — так она ответила и пошла к подъезду. А сказала — как приказала своим мелодичным голосом.
Мама родная, она командует мной! И главное, и удивительно, что меня это радует, и я никак не могу удержаться от улыбки! Да ты командуй, как хочешь, моя радость, только всегда будь рядом со мной!
Я все время глядел ей вслед, и она это знала, потому что оглядывалась на меня, пока не исчезла в подъезде с красивой крышей...
Я помедлил... А почему бы ей не вернуться и не подбежать ко мне еще раз, как сегодня, после грозы? Ах, как бы мне этого хотелось! Тогда бы я подхватил ее на руки!..
Только нет... В ее окне зажегся свет, чуть видный сквозь зазоры между шторами... Она — дома. Что ж, делать нечего, и я направился домой...
Да, а как же мы вчера ходили с ней, если не за руку? Значит, на каком-то расстоянии, словно чужие? Теперь мне это представляется неестественным.
177
А «Итальянское каприччио» она тоже любит. И болеро Мориса Равеля любит. Но болеро... о нем я ничего не знаю, как и о Морисе Равеле. Мне, наверное, никогда не приходилось слушать болеро Мориса Равеля, иначе я любил бы его, раз Аня от него просто в восторге. Надо утром срочно посетить читальню на Чистых прудах, осведомиться о Равеле.
Сегодня она меня спросила, почему я говорю «ручки», «ножки», а даже ее нежная мама, мол, называет — руки, ноги. Странный вопрос. Я ответил, что вообще-то уменьшительными словами очень редко пользуюсь, когда разговариваю с другими родными, а только вот, когда с ней.
— С другими родными? С другими родными?
— Ну да!
И тут она взглянула на меня, так взглянула, что за один такой ее взгляд можно бы все на свете отдать.
А как она произносит мое имя! Чудо как произносит! Она чуть-чуть растягивает «о», и тогда это звучит, как самое ласковое слово. И я впервые в жизни подумал, — как хорошо, что родители назвали меня этим именем.
Да, и она продолжает разбирать мою внешность и давать ей оценки — только отличные! Это меня забавляет — она в такие минуты становится похожей на ребенка, настоящий детский сад! Заявила тут со всей серьезностью, что у меня ресницы, наверное, раз в пять длиннее, чем у нее. Я ответил, что, мол, ничего, ты еще маленькая, вот подрастешь — и ресницы твои подрастут. И тут я впервые услышал, как она хохочет: как серебряный колокольчик! Она просто заливалась смехом, не могла остановиться! И я радовался, что ненароком ее так развеселил.
...Домой я шел медленно. Я слышал ее голос, видел ее глаза — я ощущал ее присутствие, хотя теперь она была уже дома и, наверное, смотрела свои первые сны. О чем, о ком? Нет ли меня в этих снах? Вот было бы хорошо: будто мы так с ней и не расставались ни на минуту...
Я спать не собираюсь. Просто лягу на свой «знаменитый»
178
скрипучий диван и буду долго вглядываться в потолок. На нем часто отражаются узоры тюлевых занавесок, особенно, когда ветер качает фонарь за окном и чуть-чуть колышет и занавески. Тогда наш потолок кажется каким-то фантастическим и тоже как бы качается. Теперь, из-за фашистских самолетов, фонарь не горит и все волшебство пропало. Фонарь заменяет луна, но ее то и дело скрывают ночные тучи. К тому же, повешены и плотные шторы — затемнение! Нет, ничего я не увижу.
Так, в раздумьях, я дошел до Аниного Большого Вузовского переулка, до угла, где он соединяется с Покровским бульваром. И, на этом углу, впервые обратил внимание, что там, за крепкой чугунной оградой, в саду, стоит очень красивый дом сложной архитектуры. По стилю этот особняк походит на тот, морозовский, где живет Аня... Да, был когда-то совсем непонятный, не такой, как прочие, фабрикант — Савва Морозов. И он не только наживал капиталы и строил для себя и своих близких дворцы и особняки, но и... давал немалые деньги революционерам на их дело. Хотел, чтобы его поскорее экспроприировали, что ли? Странно... Или просто жалко ему было бедняков?
Однако отрывки из нашей истории не загородили от меня сад за крепкой чугунной оградой. Цветы с деревьев, конечно, давно облетели и отцвели — на дворе конец июля. Но мне, деревенскому жителю, было и в темноте понятно, что сад — яблоневый. Как это хорошо, что красоту природы стараются сохранить и в городе, в центре нашей столицы, в Москве.
Возможно ли будет постоять здесь рядом с Аней весной, когда закончится война, и все станет белым — бело от яблоневого цвета? Постоять рядом, вместе подышать запахами весны, вспомнить о наших первых свиданиях!..
Она говорит, что любит природу и с удовольствием собирает и грибы, и ягоды. Я собираю без особого удовольствия, но тоже люблю природу... Когда-нибудь Аня вдохнет и настоящий сельский аромат — она увидит мою Труняевку. Тру-
179
няевка невелика, в ней всего пятнадцать дворов, но она такая родная, привычная и уютная. То-то все там в обморок упадут, взглянув на Аню! У нас таких красивых сроду не бывало... а мою бабушку Елену, красавицу, сейчас вряд ли кто помнит. О ней только легенды сохранились.
Да, очень важное: Аня не может рвать цветы, потому что, как и я, считает, что они живые, и им больно. А как же тогда вместе с Ирой рвали цветы на клумбе?! Об этом я ее спросил. И она ответила, что рвала-то Ирка, а влетело им обеим, так как были вместе, и Аня не стала выгораживаться из солидарности. Вот так!
Аня цветы не рвет, но мало того: она старается не ступать по траве — траве, мол, тоже больно. Ну и ну! Это уж совсем! Аня — она особенная, я так это всегда и чувствовал!
Домой я от Ани могу дойти минут за десять — Лялин переулок расположен недалеко от Большого Вузовского: наша школа собирала под свою крышу лишь тех, кто жил неподалеку от нее и, стало быть, друг от друга.
Я шел не десять минут, а гораздо дольше, потому что очень задумался. Я вообще, лучше чем куда-либо идти, посидел бы в темноте и в тишине в саду, за ее домом, где заросшие тропинки, сирень, акации «и даже липы»...
А если бы Аня была там со мной? Я обнял бы ее за плечи, и мы так и сидели бы, и молчали до рассвета. И, может быть, немножко говорили. Просто выразить трудно, как бы я этого хотел! Да нет, нельзя!.. Слово «нельзя» я начинаю тихо ненавидеть... В четыре утра начало бы светать — ведь на дворе лето. Сначала пожелтело бы на горизонте, потом занялся бы розовый цвет, он становился бы все ярче и ярче — пока не взойдет солнце. Но это так — одни мечты: Аня в сад не осмелится выйти, и вообще, в Москве — комендантский час. К тому же меня ждут дома! Там все переполошатся, об этом-то я совсем позабыл. Надо идти, надо ускорить шаг.
На этот раз родители — не ложились. Сестры спали, а отец с матерью грозным шепотом спросили, с кем это я и где второй день хожу чуть ли не до двенадцати ночи?
180
Я бы им с удовольствием ответил, если б они отнеслись благожелательно. Да разве они — поймут? Возраст их далеко не тот! К тому же мы с Аней продолжаем висеть в воздухе, и теперь дело не только в ее пятнадцати годах: нами распоряжается война, а мы — просто фигурки, как на шахматной доске. Но, конечно, это только с одной стороны, со стороны судьбы. Своей судьбы, личной. А с другой, самой основной, со стороны судьбы Родины — необходимо идти на фронт, защищать нашу землю от врага, жестокого и лживого: немцы заключили с нами мир и нарушили договор. Гитлер старается брать пример с Наполеона. Тот поступал так же: вечером подписывал вечный (или эдак лет на сто) мир и сулил братскую дружбу, а утром нападал на эту страну, как кот на беспечного воробушка... Пример для нынешнего кота с усиками, для Гитлера, почетный и завидный, но он-то Наполеон разве что в той части, где мы его разбили. Мы и его разобьем, не сегодня утром, так завтра вечером. Мы не воробушки, и мы покажем этим самоуверенным обманщикам, что значит — явиться к нам с войной. У нас, если надо, не только парни, но и девушки могут встать на защиту Родины. И пусть гитлеровцы потом не жалуются — мы их «обедать» не звали.
В памяти всплыл рассказ из летописи о нашем князе Святославе. Тот, когда собирался напасть на врага, вперед посылал грамоту: «Иду на вы», — то есть собираюсь напасть на вас. Вот это, действительно, воинская храбрость. А то лезут, как воры... Мерзкая саранча, которую пока не могу возненавидеть, к чему призывают все наши газеты... Не могу возненавидеть, потому что питаю к ним отвращение, просто отвращение.
Нет, пожалуй, не так уж плохо, что мы с Аней не родились года на два раньше. Если бы я служил на границе, на Западе, например, — да нас с Аней почти с месяц как не было бы в живых. Там все, говорят, смели, все стерли с лица земли в считанные минуты! Да, это ближе всего к правде — истине, нападение — то было внезапным...
181
А пока — есть надежда. Закончится война, наступит мир (почему мы раньше не осознавали, как сказочно прекрасен мир, не радовались ему ежеминутно?), все будет хорошо... Но, что касается меня лично, — закрадывается большое сомнение. Слишком уж велика эта война! И я теперь все чаще вспоминаю, о чем хотел бы позабыть, но не могу, — бабка — знахарка сказала обо мне матери, когда лечила меня в детстве:
— Ты мать, больно — то не убивайся. Я его вылечила, но он в молодых годах умрет — он тебе не кормилец.
Как можно такое объявить матери о сыне? Кто ее просил, кто спрашивал? Но именно это она изрекла, словно прорицательница — пифия в древнем греческом храме. Может быть, эта война и пришла теперь за мной?
Моя Аня, моя Аня! Она станет несчастной до конца своих дней, если что со мной случится. Я что-то не верю, что горе может пройти с годами, и что время — главный лекарь. Я не верю, что Аня забудет меня, если меня убьют. У меня бы ничего не прошло, случись что с моей Аней. Да разве бы я выжил! Я умер бы от одной тоски!
...Обо всем этом я думал и вспоминал в тихую московскую ночь с семнадцатого на восемнадцатое июля 1941 года...
А родителям на их вопрос я так ничего и не ответил. Я молчал, и они перестали меня спрашивать.
18 июля 1941 года
А пока надо брать от жизни все, что можно. А это значит: слушать, как Аня щебечет (все равно о чем!) и ходить с ней — за руку! — по нашей Москве.
Еще совсем недавно я мог об этом только мечтать. А теперь я рядом с ней, и смотрю на нее, не таясь, и любуюсь ею, сколько хочу!
Вот она слегка перегнулась через перила моста (Аня, осторожнее!) и глядит вниз, на речушку, на темные воды Яузы.
182
А вот мы пробежались с ней вместе по длиннющей, высокой лестнице, — ее, деревянную, временную, для чего-то поставили на набережной Москвы-реки, близ кремлевской стены. Наверное, будут что-то поправлять на этом отрезке тротуара? Такой легкой и быстрой была наша пробежка по этой лестнице! Кто бы видел, как Аня красиво бежала, словно играла на рояле — вниз — вниз, вниз — вниз, — будто это не ступеньки, а белые клавиши! Я ее похвалил за эту пробежку, но в итоге заметил (строго и убедительно), чтобы так, очертя голову, больше не бегала, — можно и упасть, и ногу сломать, и расшибиться как угодно.
А случай с автобусом?! Я буквально схватил ее тогда за ворот, разве что только из-под колеса не вытащил! «Аня, — я ей сказал тут же, — что ты делаешь, совсем себя не бережешь!» Она увидела, как я переволновался, и обещала быть осторожнее, слово дала. И так улыбнулась, и так на меня взглянула — она меня осчастливила своим взглядом! Нет, как мне повезло в жизни! Спасибо! Не знаю кому, но такое спасибо!
На Аню по пути все обращают внимание. А если б она была на полголовы выше ростом? Ну, словом, мне до середины уха, что ли? Нет. Лучше не надо. Во-первых, известно, что велика Федула, да дура, и что мал золотник, да дорог. А во-вторых, тогда бы ей и вовсе проходу не стало, она бы еще больше бросалась в глаза, а нахальных ребят не так уж и мало. По-моему, она замечает на себе эти взгляды.
— Коля, а почему нам все улыбаются? Даже часовые у Мавзолея, хоть им нельзя! Мне кажется, что и часовые!
— Наверное, тоже вспоминают что-то свое, хорошее, — так я ей ответил, а мог бы еще прибавить, что на нее нельзя не смотреть. У нее такие алые щечки и такие голубые глаза! Она вся — словно живая картинка, яркая и подвижная. Хорошо, однако, что всего этого не сказал. Могло прозвучать как комплимент, а мы с Аней выше комплиментов. И потом — я Аню не точно определил. По отношению к ней я не могу найти никакого точного определения...
183
Все едут и едут на фронт наши бойцы и командиры. Вчера вечером мы с Аней наблюдали такой закат на Красной площади, что оба остановились и слова не могли вымолвить. Зловещий закат!
Полнеба стало ярко-красным, а вокруг этой жуткой красноты — темно- серые тучи. Они были почти черные и подчеркивали кровавый цвет заката, Я такого никогда не видел... Наверное, это кровь тех наших людей, которых уже успели убить фашисты. Я об этом сказал Ане. Она ничего не ответила, только опечалилась и вздохнула. И мы потом долго стояли на Красной площади, стояли и молчали.
...А моя Волшебная Флейта, оказывается, кокетка! Да, да, она кокетка. Она так иной раз сбоку взглянет, так — мимоходом! — стрельнет своими глазами синими, что это выглядит простодушно лишь потому, что тут же и улыбнется, ресницы опустит. Я ей все-таки решил сказать:
— А ты кокетка, Аня!
Сказал — и раскаялся, потому что она вздохнула и нахмурилась.
— Да, мне говорят. Даже мама как-то посмеялась вместе с нашими гостями: Аня, мол, когда родилась, тут же и состроила мне глазки. Но это я не нарочно, я совсем этого не хочу, я совсем не знаю как и когда строятся эти глазки!
Вот так! Она не виновата, а «виноват», наверное, я — зачем обмолвился? Мне же пришлось ее еще и утешать. Уж эта мне новая форма кокетства — неосознанного! Ладно, не буду расстраиваться. Просто придется иногда ей делать замечания, если что... В мягкой форме, конечно, и только очень кстати.
В Труняевке тоже имеются кокетки, но они совсем другие: то плечом заденут, то подморгнут, а то игривой фразой зазывают в свое общество, причем прямо, без всяких там иносказаний. Не раз намеревался одернуть: где, мол, вашей скромности девичьей быть? Да неудобно обижать людей. Помолчишь и отойдешь подальше: ну что, если они сами не понимают! В конце концов, у каждого свой обычай и харак-
184
тер, и это, в общем, наверное, дело личное. Личное, если не вредит обществу! Я-то вообще против любого кокетства, только не знаю, прав ли я на все сто процентов? Во времена Пушкина и Лермонтова какие кокетки блистали в высшем свете, и это не очень-то останавливало критическое внимание... Но Татьяна Ларина, как ее Пушкин описывает, была, конечно, не из их числа! Да, а у Пушкина: «Кокетства в ней ни капли нет — его не терпит высший свет»! Вот, и высший свет тоже относился к этому явлению отрицательно! Да ладно... Аня еще не взрослая, — поживем — увидим. Она потом запросто справится с этим недостатком.
Аня рассказала две интересные истории, связанные с ее прической. Первая история случилась в Ялте, где она отдыхала летом 1938 года, когда ей было лет двенадцать. Она шла с мамой по набережной, а навстречу им — экскурсанты по Ялте, с экскурсоводом. Экскурсовод сначала с увлечением рассказывала что-то о Ласточкином Гнезде, а потом вдруг замолчала и, довольно громко, обратилась к группе:
— Посмотрите все на эту девочку! Какая красавица! И какие у нее необыкновенные, какие восхитительные волосы!
Экскурсанты остановились, заахали по поводу Аниных волос, а ее мама возмутилась: «Вы мне девочку портите! Она возомнит о себе Бог знает что! Не вижу никакой серьезной педагогики, а еще группа с экскурсоводом!» У Ани мама когда-то в царской гимназии обучалась, так что она с честью может пикироваться с экскурсоводами на равных...
Вообще, когда Аня говорит о каких-то комплиментах, отпущенных ей, то у нее получается, словно не о себе говорит, а о постороннем лице. Как ни странно, но когда мне тоже говорят что-то подобное, я реагирую так же: такое у нас с ней совпадение! Но если приятные слова говорит мне Аня — это совсем другое!
И вторая Анина история... Ну, ее конец и я помню, видел в апреле сорокового. Аню привезли в больницу со скар-
185
латиной, искупали в ванной, переодели в белый халат и усадили по всем правилам в кресло — стричь наголо!
Аня, оказывается, несмотря на высокую температуру, пришла в такое нервное возбуждение, что смогла — откуда и силам взяться? — раскидать медсестер в разные стороны. И тут же решила, что поле битвы осталось за ней. Но не тут-то было! Одна из эскулапш неслышно подкралась сзади с парикмахерской машинкой и предательски провела ею дорожку от затылка до темени — отняла эту часть волос! Тут Аня заплакала и сказала: «Делать нечего, стригите все косы, если, как теперь выяснилось, вы такие безжалостные и коварные люди». После, уже дома, она рано пренебрегла постельным режимом и схватила два серьезных осложнения, одно за другим: воспаление среднего уха (дважды кололи барабанную перепонку!) и воспаление легких. Потому и не ходила в школу почти три четверти года. Если бы шла речь только о скарлатине, она пропустила бы «лишь» сорок пять дней...
После всего этого я не могу считать Анино здоровье (раньше почему-то об этом не задумывался) блестящим. И, если бы не война, ей необходимо было бы съездить в санаторий хотя бы на месяц. Или в лесную оздоровительную школу. Но теперь об этом не только нельзя разговор заводить, но даже и думать нечего. Все становится на военные рельсы!
Полагаю, что на этих двух историях все такого рода записи в моей тетради заканчиваются. Так я и не последовал примеру нашего литератора Николая Алексеевича, у которого в записных книжках — четыре тысячи историй. Не до того сейчас, нет, не до того! Я бы и этих двух происшествий не стал записывать, если бы они не касались Ани.
Аня не коренная москвичка, они с Украины (как и предполагал Саша Дубровский) — там жили ее деды и прадеды... То-то у нее черные волосы при голубых глазах — здесь мне что-то такие лица не встречались.
«Как небо Украины в мерцании звезд незакатных, исполнены тайны слова ее уст ароматных...» Этого стихотворения
186
Лермонтова, оказывается, она не знает. Не знает и моего любимого стихотворения Брюсова «Я, вождь земных царей и царь Ассаргадон». Я прочитал ей, и оно произвело на Аню большее впечатление, чем даже стихи Лермонтова, посвященные княгине Щербатовой. Конечно, «Ассаргадон» — звучное, торжественное стихотворение, но Михаил Юрьевич... «Как племя родное, у чуждых опоры не просит, и в гордом покое насмешку и зло переносит...»
Интересно, какого она племени? Есть у нее маленький хохлацкий акцент, такая певучесть, после «ц» — «и», а не «ы» как у нас, и так далее. Не по-здешнему, а очень, очень симпатично. Саша Д. сказал, что если по капризу Ани ударит мороз летом (что за идея?), то для меня и это будет симпатично. И что удивительного? Нечего острить но этому поводу! Ведь я ее парень, а она моя девушка, так что иначе и быть не может. И причем тут «капризы»? У нее добрый характер, И капризов я что-то пока не замечаю.
А насчет племени я не спросил ее, позабыл. Наверное, потому и позабыл, что в нашей стране все такое не имеет значения, у нас все нации равны. Мы не какие-нибудь мелкой души претенденты на мировое господство, не бахвалы, потому и не выставляемся со своими достоинствами и не унижаем других. Сильные должны быть добрыми! Хорошо звучит, красиво. Где такое слышал? Нигде! Значит, будет на свете хоть одна поговорка, сочиненная мною, Большуновым Николаем Александровичем! Хотя... Кто об этом проведает?
Да, а сам-то я кто? Кто моя родная бабушка Елена? Красавица, говорят, была. Она ведь из детского приюта взята в наш род, а в приютах о подкидышах ничего неизвестно. Откуда Елена? Наверное, потерялась, отстала от своих во младенчестве — от кого? Не узнаем никогда! Дедушка Егор в ней души не чаял, женился по большой любви. Значит, в нашей фамилии такое принято!
Тут я все думал, задать или нет Ане один трудный вопрос, но все-таки решился, спросил:
187
— Ты цветы не рвешь, траву стараешься ногами не подминать. А как же грибы с ягодами? Ведь ты их собираешь!
Ответ казался невозможным, но Аня и на минуту не задумалась:
— Это для еды и витаминов, а не просто так, от жестокости и от нечего делать! Люди важнее ягод!
Как я был рад этому замечательному ответу! Спасибо, умница моя!
Да: необходимо хоть на полчаса забежать в нашу Чистопрудную читальню, полистать «Алые паруса» Александра Грина — очень просила Аня. Что за «Алые паруса»? И о Грине ничего не знаю. Когда откровенно сказал об этом Ане, она меня пристыдила. Сказала, что Грин — замечательный автор, он пишет сказки, которые каждый может превратить в действительность, в повседневную жизнь, стоит лишь захотеть, постараться. «Ну, пусть, мол, — сказала, — не каждый, но многие смогли бы». Аня уверена, что я похож на Артура Грэя, на главного героя из «Алых парусов»... Интересно, с кем Аня меня сравнивает? А вдруг мне не понравится Артур Грэй?
Я Аню тоже чуть-чуть поддел! Она, оказывается, ничего не знала про линию Маннергейма! Девчонки! Что они понимают в политике! И, тем более, в военном деле!
Вспомнил, что мы сегодня шли с ней по мосту, что через Яузу, на Котельнической набережной, видели там мемориальную доску с барельефом рабочего Астахова — первой жертвы революции 1905 года. Парень просто шел в рядах демонстрантов, и его — тоже «просто так» — убили жандармы. Барельеф прикреплен точно на том месте, где произошло это убийство — внизу, у перил моста, где люди ходят. Барельеф небольшой, меньше, видать, метра в диаметре. Сколько десятков лет он здесь, и никем не поврежден. Чтут в нашей стране память невинных жертв. Это хорошо, это по-человечески, чтобы не зря, значит, парень погиб... Но как мне было грустно! Совсем еще юный парень, такой, как я сегодня. Аня заметила мое настроение и, ясное дело, подумала, что я себя
188
отождествляю с этим парнем, я это увидел по ее взгляду. А так-то она — промолчала... Милая девочка Аня!
19 июля 1941 года
Так прекрасно было все эти дни, я как будто весь растворился в чем-то волшебном: в Ане, она почти все время теперь вместе со мной. Ну и, конечно, такое долго продолжаться не может.
С утра — скверно на душе. Так скверно, что прихожу в себя только сидя у окна, делая глубокий вдох и очень медленный выдох. Сам придумал такой способ для успокоения нервов.
И все оттого, что отец стал буквально гнать меня в Труняевку. Как приходит вечером с работы, так сразу и начинает пилить, но не меня, а маму: меня, конечно, вечерами дома не бывает. Отец удивляется, почему я тут «торчу» уже несколько дней, если выяснилось, что меня в Москву никто не вызывал.
Никто?!
Пришлось самым неприятным для меня способом доказывать, что вызывали: отцу позвонила (по моей большой просьбе!) Лидия Николаевна. Я вчера утром переписал график ее дежурств, потом прямо-таки подкараулил ее в школьном дворе, «поймал», подошел, как только она появилась в воротах, и упросил, чтобы она тут же, при мне, позвонила из учительской моим родителям, пока оба они дома. И сказала бы им, что вызывал, мол, директор, а теперь он в отъезде.
Как я только решился на такую просьбу?! Я и сам не могу понять. Но необходимость заставит.
Кстати, директор действительно в отъезде, он в Харькове, все знают. Но для меня это не оправдание, я уловок не переношу. А что делать прикажете, когда нет выхода?! Рассказал обо всем Ане, приготовился к критике, думал, что она меня отчитает, брови свои нахмурит, но она так хохотала, что
189

я был почти доволен своим «мероприятием». Ее это позабавило, она во многом еще ребенок, сущий ребенок, и смех у нее — чисто ребячий.
Зато отчитала меня по всей форме Лидия Николаевна: не может без этого, учительская привычка. Но теперь я ее люблю, как родную, — за понимание и помощь. К сожалению, она устроила мне нагоняй и... ни с того, ни с сего тоже посоветовала ехать в Труняевку! Вне всякой логики! И довольно настойчиво, без доводов посоветовала, прямо — таки велела. А то, сказала она, нахожусь, мол, я летом в душной Москве «неизвестно зачем и почему».
Будто ей это так уж и неизвестно!
Но позвонить родителям — все-таки она позвонила, я это видел и слышал. Я покивал ей головой, — поеду, мол, в Труняевку, а ехать, естественно, никуда не собираюсь. Может быть, мои родители попросили Лидию Николаевну со своей стороны на меня воздействовать, ну, с другого конца провода и попросили? Спрашивать у нее — очень неудобно, только могу догадываться, иначе зачем же она противоречит сама себе...
Да! Еще Лидия Николаевна сурово молвила, чтобы мы с Аней «доложили обо всем» нашим папам и мамам, а то мы скрываемся, опять-таки, «неизвестно зачем и почему». Доложите, мол, родителям, и у вас с Аней, может быть, тогда что-то и получится.
Умная, пожилая женщина (как говаривал Мишка Горбунов — «Дама серьезная»), а рассудила, как маленькая. То есть, что мы, о чем должны рассказать родителям? То есть, что у нас получится или не получится? Пожениться все равно пока никак не можем, мы не «доросли». Нюра во всяком случае: она еще не имеет права на брак из-за своего возраста даже по украинским законам Сашки Дубровского...
Ну а мне-то, без нее, зачем эти права?!
И главное — идет война. Мы продолжаем «висеть в воздухе», этому конца не видно. И хорошо бы мне, в оставшиеся перед армией дни, повисеть в воздухе Москвы, не Труняевки,
191
при всей моей любви к родному месту. А уж после войны, когда наступит мир, мы последуем совету Лидии Николаевны, он очень соответствует нашим желаниям. И ее еще на свадьбу позовем! Вот это было бы и приятно и уважительно... И как надо, как необходимо надо, чтобы мечты осуществились!
Пока же очень волнуюсь, очень переживаю оттого, что иду наперекор родителям: ехать в Труняевку не могу.
А сегодня вечером произошло некоторое происшествие, и оно внесло еще одну смуту в мое сердце.
Мы с Аней ходили по нашему обычному маршруту, в который обязательно включается Красная площадь. Да, надо сказать, что на этой праздничной площади все меняется с каждым днем: она стала какая-то тревожащая, если можно так определить. Нет больше тишины и торжественности, хоть часовые по-прежнему стоят неподвижно у Мавзолея в почетном карауле. Они одни и остались тихими и торжественными. А вокруг грохочут грузовые машины, на них отправляются наши парни — то ли в военные училища, то ли еще куда, но вряд ли прямо на фронт. Ведь они еще ничему не обучены, судя по внешнему виду и, примерно, по возрасту. Тоже, наверное, после десятилетки. Или — меньше того. Бывает человеку девятнадцать, а за его плечами лишь семилетка, особенно, если он — из деревни.
Все время гудят самолеты, низко летают. Куда-то везут орудия, в чехлах и без чехлов, они так и грохочут по брусчатке. Конечно, не самые лучшие условия для прогулок, но мы с Аней об этом не думаем. Не до условий! Идет война, и нам просто очень печально и тревожно. Я-то прекрасно знаю, что мне вот-вот в нее включаться. И Аня знает, она то и дело вздыхает и поглядывает на меня чуть ли не сквозь слезы...
И о смуте в моем сердце... Уж эти смуты! Они то и дело накатываются на меня, как волны. Так вот...
Тут парень один, военный, в гимнастерке, — он сидел с другими ребятами вместе, на грузовой машине, наверху — вдруг привстал, глянул на нас с Аней и крикнул мне:
192
— Эй, парень, не теряйся! Девушка-то какая! Эх, да синеглазая!
Я отвел Аню от постороннего, слишком внимательного взгляда и даже загородил было ее собой. Но этого не понадобилось, машина тотчас зафыркала и увезла ребят в неизвестном направлении... Я посмотрел Ане в глаза, в ее синие глаза, но не увидел ни кокетства, ни даже удовольствия от комплимента. А какой-то был в них вопрос, какая-то растерянность. Потом уже Аня объяснила, что восприняла слова отъезжающего парня не как комплимент, а как... завещание! И стало ей очень и очень не по себе. Вот она какая сложная, и как сильно может переживать. Но это я знал и раньше.
А почему на меня накатилась очередная смута? Увы, очень просто. Я подумал, что Ане надо воспитать в себе очень и очень твердый характер, чтобы постоянно игнорировать все комплименты, которые не могут не сваливаться на нее все больше и больше с каждым днем... Есть от чего парню расстраиваться!
Как бы мне об этом серьезно с ней поговорить?
Надо, надо решаться, надо продумать весь разговор. Вопрос не шуточный. Особенно перед армией.
* * *
У Аниной семьи нет своего дома в деревне, как, например, у нас в Труняевке. Летом они обычно живут на даче — они снимают. Рассказала мне Аня о каком-то Крюкове на Оке. Там они снимали большой дом — бывшую барскую дачу, принадлежавшую когда-то отцу профессора, друга Аниного папы. Ане тогда было всего девять лет, но она с удовольствием вспоминает и теперь о тех временах: огромные белые поля, лен и лен до самого дальнего леса. И густой сад, где стоял этот дом. Там она любила бродить по заросшим тропинкам, утром, по росе, босиком. Еле, говорит, пробиралась сквозь заросли (видать, никто у них там не прорежал). После босиком, говорит,
193
никогда не ходила, и по траве — тоже, только вот в детстве, в Крюкове.
В Крюкове Аня читала вслух соседям — крестьянам басни Крылова. Они ахали и удивлялись: какой талант у маленькой девочки, как быстро и с выражением она читает, да на разные голоса. Аня с ними там тоже ахала, но по обратной причине: как это взрослые люди и не могут ни читать, ни писать!
Но тут Аня не в курсе дела — ведь в Труняевке то же самое! Грамотностью простого народа в прежние времена очень мало занимались. Поэтому, если деревенскому человеку сейчас, скажем, лет пятьдесят, то неудивительно, что он — неграмотный. Вот и мама моя — ни читать, ни писать. А ведь она умная и рассудительная! Просто ее в школу учиться не посылали, она с детства работала по хозяйству, в доме и на огороде, с утра до вечера. Да... Но я сейчас совсем о другом, я вот о чем:
Суть в том, что Аня в этом Крюкове... прочитала всего Шекспира! В таком-то детском возрасте! И как только родители разрешили! Наверное, не углядели в руках у ребенка тома Шекспира! Книги были в кожаных переплетах с металлическими застежками (ей сказали, что с серебряными, — может и это быть). А в этих книгах — красивые иллюстрации, переложенные прозрачной бумагой. Сначала Аня посмотрела картинки, потом заинтересовалась чтением, да все вскоре и перечитала. Литература — это, конечно, ее стихия, подарок ей от природы.
Особенно сильное впечатление произвели на нее три пьесы великого англичанина: «Отелло», «Макбет», «Ромео и Джульетта». Как, мол, — говорит — можно было не понять, что человек спит, а вовсе не умер, и тут же, толком не разобравшись, с отчаяния покончить с собой? Если бы не эта ошибка Ромео, они с Джульеттой жили бы до ста лет и были бы так счастливы, так счастливы... А Шекспир, вообще-то, — Аня прибавила — мог бы оставить их в живых, если бы захотел. Но
194
вот — убил. Аня обвиняет Шекспира в жестокости к Ромео и Джульетте...
Я не стал с ней спорить о законах трагедии, так как она пока воспринимает художественные произведения как копию, снятую с реальной жизни. Потом пусть сама дойдет до следующей стадии понимания. Им Нина Казимировна не хуже, конечно, все это объяснит, чем наш Николай Алексеевич. Мне-то больше нравятся Анины рассуждения, чем... опытных литературоведов, у нее это получается по-человечески, сердечно...
Да, да, я очень во многом соглашаюсь с Аней... даже когда она не права, не совсем права. С ней так приятно соглашаться! В таких случаях она смотрит торжествующе, словно малыш, отгадавший трудную загадку.
Мы с Аней вместе прочитали «Как вам это понравится» Шекспира. Прежде этого произведения не читали. Ну и решили его осилить часа за два: Аня принесла от своей соседки. Стыдно признаться, но ни ее, ни меня пьеса не поразила. Сначала мы глубокомысленно посмотрели друг на друга и сказали, что нам «это понравилось», а потом рассмеялись и чуть ли не хором произнесли: «Нет, это не «Ромео и Джульетта»!».
Тут как-то зашел разговор — как бы Джульетта стала существовать на свете без Ромео? Аня с ужасом на меня взглянула и ответила: «Никак! Никак бы не стала!» Что же с ней будет, если я не вернусь с войны?..
Аня советует мне срочно прочесть (вот смешнуха! Самое «время» читать романы!) роман Александра Дюма-отца «Три мушкетера». Да хоть Дюма — деда, все равно сейчас не до мушкетеров! Так вот, эту книгу она, тоже случайно, осилила лет в одиннадцать... Словом, я понял, что читала она все, без разбора, без всякой системы, какая книга под руку попадется... Ну, да это все потом у нее станет на свои места, волноваться нечего, она умница. Так вот: с тех пор восхищается д'Артаньяном, терпеть не может миледи («эту ведьму из пре-
195
исподней») и, конечно, возмущена Александром Дюма-отцом — почему позволил отравить ядом в бокале вина Констанцию Бонасье? Дюма, мол, был хозяином книги, сам сочинял, и в его власти было такого не допустить.
Что с ней поделаешь? Взрослостью иной раз совсем не отличается, да оно и понятно.
Я вот, не нашел пока немного времени — полистать «Алые паруса», узнать об Артуре Грэе. Опять же — поддаюсь Аниным литературным пристрастиям. Но, как любит повторять Софья Григорьевна, «пусть это будет самое скверное пристрастие в вашей жизни». И тут соседка права.
Надо будет подойти все же на Чистые пруды, в читальню, как и хотел, часам к одиннадцати, к открытию. И что это за автор таких особенных сказок, которые по своей воле человек может превращать в явь? Чудеса... Что ж? Я с удовольствием бы поучился у Грина превращать сказки в явь или явь в сказки! Если конечно, этим можно овладеть посредством обучения, если это не дар, который человеку дает природа. А вдруг мне это от природы не дано? Откуда я знаю?
Доброе сердце у моей Фиалочки. Когда она будет писателем (я в этом уверен, она и теперь уже интересно описывает и события и людей, и она ярко рассказывает), то, наверное, все герои ее книг будут всегда живы-здоровы и счастливы. И читатели решат, что жизнь вообще состоит, в основном, из счастья и радостей. А так — не бывает. Я ей не говорил, но мой младший братик Толя умер от дифтерита, и об этом лучше не вспоминать. Даже родители мои об этом — всегда молчат. Аню тоже не надо лишний раз расстраивать, она очень впечатлительная, все слишком сильно переживает (боюсь, что и я такой же). У нее в семье тоже немало горя: старший брат умер от скарлатины, а у младшего после ангины тяжелый порок сердца, он совсем больной мальчик. Вот и сохраняй авторы в полном здравии и в радости всех героев своих книг... Разве что с помощью Аниного Александра Грина!
196
Но все эти размышления я оставил при себе — загрустить мы еще успеем, не избежать. Особенно в такое время, как наше.
Я сказал Ане: «Ты будешь писатель». Она тут же заявила, что это слово надо бы просклонять. Но я парировал: можно поставить перед ним тире! И следующего возражения не последовало.
Я утверждал эту ее писательскую перспективу без вопроса, как самую натуральную аксиому. Она ответила: «Да», утвердительно кивнула, но я увидел сквозь ее согласие, что она — сомневается. А я не сомневаюсь, я уверен на все сто. Вот посмотрим, сами со временем убедимся, что я был прав: у нее в глазах видны всякие сложные мысли, не как у других девчонок.
Ну и тут же, как бы в подтверждение, я просто обязан записать (для наших потомков!) о том, как Аня потрудилась над сочинением на экзамене по литературе этой весной, в восьмом классе, сама мне рассказала.
А дело было так. Готовились они все вместе, девочки из восьмого «В» — Клара Исаева, Нина Вологодская, Женя Полетаева и Нина Панова, и с ними Аня, — к сочинению, по предполагаемым темам. Было это в доме у Вологодской. И особенно занялись Евгением Онегиным, да так, что наизусть выучили целые страницы из поэмы. Знали к экзамену назубок. И единственно, чего боялись, — а вдруг не дадут эту тему? Однако некоторая уверенность была — образ Евгения Онегина тема, конечно, одна из главных в нашей литературе.
Ну, пришли они, сели в классе, смотрят (со страхом и надеждой!) на доску, а педагог мелом выводит темы. Первая тема никого не заинтересовала — «Об элементах сентиментализма и романтизма в балладах Жуковского «Светлана» и «Теон и Эсхин». Аня такое никогда не стала бы писать, разве что из-под палки: она не любит «сухое», у нее вообще нрав горячий. И вдруг! — «Образ Евгения Онегина». Тут гул раздался в классе, радостные восклицания — ведь многие учили.
197
Но Аня как будто ждала чего-то. А чего — и сама не знала. Пока не увидала на доске название третьей темы: «Образ Печорина». Она и ухватилась за него. Причем, безо всякой подготовки, по старым знаниям, без повторения к экзамену.
— Как ты думаешь, — радостно спросила она меня, — сколько я страниц написала?
— Ну... если требуется пять, то ты написала семь? Или десять — вдвое превысила норму?
— Нет! Я написала четырнадцать, и мое сочинение пошло куда-то в Ленинград, на конкурс. Но теперь война, какие конкурсы могут быть.
— Ну это не сочинение, а целый критический трактат! — я был в восхищении и от всего сердца похвалил ее.
Этот случай с ее сочинением лишний раз подтверждает в моих глазах ее писательское будущее. Но, конечно, если все на свете станет развиваться логично и нормально, без особых отклонений от цели.
Я ей в лицах представил как, лет через десять, открою книгу, а там — изданы ее стихи и рассказы, и подпись: Анна Гудзенко. Думал ее этим развеселить, но она вдруг опечалилась:
— Ну, через десять лет мне уже будет двадцать пять, и у меня... — Она смутилась, не договорила, но все мысли так и отпечатались на ее лице.
Аня, конечно, хотела сказать, что еще и до двадцати пяти лет у нее будет другая фамилия. И хотелось бы ей, чтобы фамилия была моя! Моя!
Но (это уж мне, тоже мысленно, в голову пришел ответ) — такая ли у меня звучная фамилия для писателя? Правда, Пушкин тоже не звучная, а просто привычная для нас всех и любимая... Но есть, есть одна, на самом деле прекрасная фамилия — Лермонтов! Я-то люблю красивые фамилии!
— Тебе ни в коем случае не стоит менять твою красивую фамилию!
198
Так я пока исправил свою оплошность, хотя вслух о перемене фамилии Аня не обмолвилась ни единым словом. Я обрадовался вначале, когда увидел, что она снова улыбается. Даже глаза ее смеялись! И левая рука, конечно, была немедленно поднята к губам!
Уж этот наш сколотый зубик — он так и не дает ей покоя!
Но почему же вслед за ее улыбкой мне стало все-таки не очень-то весело? Да потому что... что касается фамилии... Я был бы счастлив поделиться с тобой моей фамилией, Аня! А ты вдруг так быстро обрадовалась! Ну да ладно, это все потом, потом...
20 июля 1941 года
Я на днях сфотографировался на стандартную открытку, одиннадцать на восемь, кажется. Специально ей на память. Ношу с собой, не показываю, потому что не предвижу ее реакции: есть нехорошая примета насчет дарения фотографий — к разлуке. И она может верить в такое — кто знает? Верю ли в это я? Определенно не скажу: то да, то нет. Вообще я во многие приметы, предсказания, а иногда и в предчувствия — верю. И Аня даже говорит, что я — мистик. Может быть! Многие из моих деревенских земляков верят в судьбу, например, и это — испокон веков. Неужели так много мистиков на свете? Н все они — не правы?
Сегодня решил все же фотографию показать. Поспешил по двум причинам: во-первых, чтобы не забывала меня, пока я на войне, в далеком отсутствии, а во-вторых, чтобы поторопилась и сама сфотографироваться. Мне просто необходимо иметь ее фотографию, это ясно и без объяснений. Разлука на пороге! И не только из-за моего отъезда на войну, — это я бы назвал в такое время естественной разлукой... или стихией? Стихия, к сожалению, тоже явление естественное.
199
Но вот — слезы горькие! — наверное, вот-вот, с родителями, с бабушкой и с братишкой, Аня уедет в Свердловск. Для Ани, конечно, это эвакуация, но для ее отца — более веская причина, вроде военной командировки. Его посылают работать на танкостроительный завод, начальником какого-то отдела. Вспомнили, наверное, что он не так уж давно, года три — четыре назад, был директором авиационного завода. Теперь он далеко не молод и, главное, болен целым «букетом» хронических и опасных болезней. Сердце определили, что как у восьмидесятилетнего, закупорка вен на ногах, астматический бронхит: ужас, ужасно! Поэтому он был на спокойной работе последнее время — деканом факультета в вузе, там же преподавал теоретическую механику. Но в военное время нужен его заводской опыт...
Неужели не могут туда его направить недели хоть через две? Наверное, никак не больше осталось до моего призыва и армию, ведь мой год — крайний. Да нет, это я так... Знаю, что никто в данном случае с нами не посчитается.
Каждая новость, какая в эти дни приходит, мало кому приносит радость. Во всяком случае, не мне. Я совсем потерял равновесие, узнав о ее предполагаемом отъезде в Свердловск.
Я все-таки показал ей свою фотографию. Она медленно взяла ее из моих рук, нерешительно на меня взглянула (подумала о примете?) и тихо-тихо спросила: — Коля, а ты мне ее подаришь?
Подарю ли я ей!..
Она так и носила фотографию в левой руке часа четыре подряд — пока мы совершали наше очередное путешествие по Москве. Правая Анина рука тоже была занята: я крепко держал ее весь вечер.
Аня, оставайся всегда со мной, без тебя нет мне никакой жизни, а просто тоска и туман, в котором ничего не хочу видеть, ничего.
200
21 июля 1941 года
Сегодня возникло чрезвычайное происшествие, связанное с моей фотографией. Нет, не то, чтобы родители Ани увидели и отчитали ее, поняв, что неизвестный им парень существует где-то рядом с их дочкой.
Это было другое.
Дело в том, что мы теперь гуляем с ней по два раза в сутки — днем с двух до пяти, и вечером с семи до одиннадцати. Ведь все равно целый день маешься, мечтая дома о встрече, о нашем вечере, а помечтать можно утром или ночью, когда все спят и вокруг — тишина. И вообще — зачем же нам терять часы, разве их у нас осталось много? Я предложил Ане такое расписание, и она согласилась.
И вот сегодня днем, когда мы ходили с ней по набережной, от ее сандалеты неожиданно отлетела пуговица — не выдержала, наконец, всех наших километров.
Положение казалось безвыходным. Босиком она идти не может, она непривычная, городская. Кроме того, кругом пыль, попадают и мелкие камешки, и стекляшки — это не наш труняевский чистый песочек. А, между тем, сандалета беспомощно хлопает по подошве ноги, перевеселочка болтается в воздухе — передвигаться невозможно. Про себя я подумал, что не возражал бы отнести Аню домой на руках, там бы она переодела обувь. А вслух пожалел, что нет у меня булавочки, — можно было бы закрепить перевеселку и погулять еще час — другой.
— Ай, а у меня есть булавочка! — Аня вся просияла, но вдруг покраснела и смотрит — вопросительно. Затем, как я понял, на что-то решается, мигом отворачивается от меня на сто восемьдесят градусов, к реке, потом — снова ко мне, снова сияет... А в руках у нее вижу золотенькую булавочку. И — конверт. Конверт обычного формата, розового цвета...
201
Вот когда у меня сердце упало, рванулось куда-то вниз, в живот, потом в ноги! Разве непонятно, что конверт, приколотый этой булавкой, хранился у нее на груди?! Я писем ей пока не писал, родители ее на месте, при ней, они тоже не могли присылать письма из Большого Вузовского в Большой Вузовский... Да и кто бережет родительские письма на груди?! От кого же тогда это послание, так особенно хранимое?!
Как-то она рассказывала, что в прошлом году в их пионерский лагерь приезжала футбольная команда, состоящая из испанских детей... Дети?! Да им, каждому, еще тогда было не меньше, чем по шестнадцати лет, они старше Ани. И капитан команды (Хосе Крусадо, — так, кажется, Аня его назвала? — испанец, красивый парень, наверное) хотел взять адрес у Ани для дружеской интернациональной переписки... Для дружеской переписки! Каково?!
Совсем не помню, что такое я ей в первую минуту сказал, дыхание у меня перехватило, и только что слезы не брызнули из глаз. Как же так?! Она ведь писала в том своем единственном письме, что любит меня!
— Что в этом конверте, Аня? — Боюсь, что я был очень суров, задавая этот вопрос, и, мало того, еще и добавил:
— Что там такое? Я места не сдвинусь, пока ты мне не объяснишь...
И тут она робко протягивает мне конверт этот розовый и тихо, почти шепотом, отвечает:
— Твоя фотография.
Как только жив остался?! Но теперь уже от радости. В ней нельзя сомневаться, она — моя Фиалочка... А какое испуганное лицо у нее было, как широко открыты глаза! Ну что это я, в самом деле! Прости, дорогая, прости!
С этой минуты я по-настоящему узнал, что такое ревность, я понял, почему несчастный Отелло задушил Дездемону, безвинную! Но я-то никогда и пальцем не тронул бы Аню. Если я люблю человека, то желаю ему счастья, пусть даже мое сердце разорвется пополам.
202
В этот день ревность еще раз куснула меня, но это так, терпимо. Мы разбирали парней из нашего класса, и Аня сказала, что у Жорки Орлова на мизинце — длиннющий ноготь, как у Пушкина. Пушкин, сказала, зачем-то отращивал себе на мизинце такой же. И даже, кажется, заказал для него специальный футляр, чтобы, значит, ноготь не сломался. Тогда я спросил, как, по ее мнению, хороший ли парень Орлов? Она улыбнулась и ответила, что очень хороший. Тогда-то ревность и куснула меня еще раз. И я — ну совсем глупо! — пробормотал, что у Жорки на всех пальцах такие длиннющие ногти... а у Пушкина, может быть, и не было этого. Она промолчала и лукаво, очень лукаво! — улыбнулась. Неосознанное кокетство... Ладно, Бог с ней. Это — чепуха. Но почему она думает, что Орлов хороший и даже очень хороший парень? Интересно — почему? Откуда она это могла почерпнуть? Ладно...
Аня мигом приладила эту золотенькую булавочку к сандалете, и мы потом гуляли по набережной долго — долго, и смотрели, как парят в воздухе чайки. Белые крылья их были неподвижны, и чайки так совершали свои полеты над Москва-рекой.
— Чайки... Смотри, смотри, как аэропланы! — сказал я.
— Ты будешь, — ответила Аня, — всю свою жизнь теперь тосковать по несбывшейся авиации! И во всем виноват твой двоюродный брат, этот самый Володя!
— Да он не хотел...
— В позапрошлом году здесь, у нас, на Покровском бульваре девушка... попала под трамвай (тут она примолкла, а потом продолжила). Вагоновожатый, конечно, не хотел, он просто не успел притормозить. А человека-то — нет. Что скажешь, Коля? Так и Володя этот. Не виноват, а результаты плачевные. Мог быть осторожнее!
Нет, нет, я не знал, что сказать. Аня временами бывает все-таки очень взрослой, неожиданной, даже категоричной. И тут я просто голову опустил — такой трагический пример! Насчет Володьки я согласился, кивнул головой, а насчет де-
203
вушки... Решил было ответить, что с девушкой — это судьба, а с судьбой трудно спорить. Но не успел — минуту спустя Аня уже высказывала совсем другие мысли. Теперь они были вовсе не жуткие, а просто очень серьезные, очень интересные для меня, но, к большому сожалению, неприменимые, так как касались авиации.
— В авиации ты мог бы отличиться, стать Героем. Там важно свое, личное умение маневрировать в воздухе. А в остальных родах войск, особенно в пехоте, где чаще всего воюют группами, и очень большими, отличиться гораздо труднее. И воевать еще опаснее, чем в воздухе... Хотя везде опасно, опасно... и воевать надо уметь, чтобы победить. Это еще Суворов сказал: воевать надо не числом, а уменьем!
Взрослые мысли. Или от кого-то услышала — от отца? По радио? Или прочитала в газете? Но все эти высказывания сопровождались у Ани таким детски напряженным выражением лица, и это так не соответствовало одно другому, что я не выдержал, усмехнулся. Она — тоже! Чему радовались? Что руки и ноги на месте? Что пока — живы? Да просто, что рядом друг с другом! Ее рука в моей руке — несказанное счастье!
Вечером мы снова встретились и гуляли по нашим привычным местам. Было тихо, прохожих людей — мало, и машины тоже попадались редко. Я спросил Аню — как она полагает, не потеряемся ли мы с ней в военной неразберихе? Все эти отъезды и разъезды по разным городам... И куда мне ей писать, если уедет в Свердловск? Ведь адреса-то — нет! «На деревню дедушке», как у Чехова?
— Аня, как мы будем? — спросил, а сам подумал о том, что теперь-то я с полным правом могу отвести Ане главную роль в нашей с ней судьбе: во время войны настроение парней очень и очень зависит от линии поведения их девушек, от их цельности и постоянства.
— Через год, — ответила Аня, — мы прогоним фашистов и встретимся в Москве. Только гора с горой не сходится, а человек человека всегда найдет, надо только постараться...
204
Это ее, любимой моей, лозунг: «Надо только постараться...»
Мне бы ее оптимизм — через год прогоним фашистов и встретимся в Москве! Я и сам недавно так думал! Но нет, тут мой маленький теоретик не прав: фашисты вон какую территорию оккупировали. Придется теперь пядь за пядью отвоевывать. А как отберем у них наши главные земли, тогда и пойдем их гнать широким шагом! Хорошо бы прогнать эту нечисть хотя бы года через два... а то и через три. Через год? Нет, это нереально.
И к чему эти пословицы, эти общие рассуждения о том, что только гора с горой не сходится? Мне вот необходим конкретный адрес, куда бы я мог посылать ей письма! Тем более, что у меня-то будет полевая почта, а там номера, говорят, то и дело меняются. Поэтому я еще не раз и не два спрашивал ее: «Как мы будем, Аня?». И, в конце концов, она сильно утратила свой оптимизм и стала смотреть на меня с такой же тоской в глазах, как и я на нее...
Как мы будем, Аня?
Да, конечно, я могу ей написать на Главпочтамт, до востребования. Но только для непрерывности общения, на первый случай. Потому что на почте тоже есть свои причуды и минусы: чуть зазевается человек, — ну, заболеет, простудится... Или пошлют со школой на целый месяц в колхоз — поработать... Одним словом — не успеет взять письмо в положенный срок (я бы все равно успел, любым путем успел бы!) — и письмо безжалостно отсылают обратно отправителю...
Каково? Что я могу почувствовать в первую минуту, как получу свое же письмо обратно?!
Нуда ладно, нечего теперь делать, от Ани не зависит, пока она и сама не знает своего будущего адреса. Это, надеюсь, образуется. Меня гораздо больше стало вдруг тревожить другое...
Очень важное, особенно важное.
Если меня убьют, то убьют и, как не чудовищно об этом
205
думать, как это не странно, не противоестественно, но меня, Коли Большунова, не будет на белом свете.
А если вернусь без руки? Или без ноги? И в мирное время иногда встречались калеки на улицах... Кто идет на костылях, у кого вместо руки — пустой рукав, заложенный в карман... Несчастные случаи происходили в любое время, а, тем более, они будут сейчас, на фронте. Станут возвращаться домой искалеченные парни, да еше как искалеченные! Количество несчастий и степень невозможности калек вернуться к нормальной жизни представить очень трудно. А если человек лишится зрения? Куда ему деваться? Только с поводырем ходить?
Я собрался с духом и все это ей изложил. И что же она мне ответила?
— Нет, нет, Коля, тебя не убьют и не ранят, ты вернешься живым и здоровым. И будешь сначала лейтенантом, а потом и генералом!
Утешила, нечего сказать! Господи, какое же это детское рассуждение! Так я подумал, и тогда я решился на крайний пример... Чтобы поняла, почувствовала и хоть на сантиметр повзрослела.
— Когда меня убьют, мама обо мне будет плакать. И тетки. Наверное, одна из теток... Может быть, и папа. А ты? Будешь ли ты плакать, когда... если меня убьют?
— Я буду плакать дольше всех твоих родных...
— Значит, у тебя глаза будут на мокром месте...
Так я сказал, и это была невеселая, стандартная шутка. А подумал совсем о другом: «Хорошо, Аня! Ты так открыто еще ни разу не говорила после того письма. Спасибо за любовь. И за память. И повтори все-таки то, что сказала минуту назад: «Тебя не убьют, Коля, ты вернешься живым и здоровым...»
Однако она молчала. Но голову опустила и вздохнула прерывисто, как ребенок после плача — так не очень давно маманя говорила о моих вздохах по Ане... как дитя после горьких рыданий!
206
Тоскливо... Так и не знаю, что будет, если не стану ни лейтенантом, ни, тем более, генералом, а вернусь без руки или без ноги. Чувствую, однако, всеми печенками, что Аня от меня не откажется. Но предпочел бы, чтобы она сейчас же это подтвердила! Другое стало бы настроение.
В общем-то, можно ведь жить на белом свете и без ноги. Ходят же люди на костылях. Без руки, особенно если без правой — намного хуже...
А если... а если без двух ног?.. В газетах пишут, что в госпитали уже привезли таких разнесчастных... и кое-кто из них не желает объявляться родным, стать обузой. Тогда я... тогда я... Что будет тогда?.. Нет, нет!
— Коля, — неожиданно послышался Анин голос, — я что хочу сказать... Знаешь, почему я тебе телеграмму послала в Труняевку? Совсем не из-за Рязанского артиллерийского училища. Я даже точно не знаю, в Рязани ли оно находится... Я, когда узнала, что могу скоро уехать в Свердловск, решилась на телеграмму. Испугалась! Нам с тобой легко было разминуться, но никак нельзя было этого допустить... вот почему я... А еще до телеграммы я хотела приехать к тебе в Труняевку, чтобы раз в жизни хоть на одну минутку увидеться... на вечную память. Мы с Женей Чижевской доехали до Клина на поезде, я ее уговорила, одна я не осмелилась... А от Клина мы отправились пешком до Труняевки... там ведь нет автобуса... мы пешком. Женя сказала, что ради подруги, ради меня, она готова на все жертвы. Но мы прошли только двенадцать километров, а надо было двадцать пять, сам знаешь. Мы натерли ноги до кровавых пузырей... но я не из-за этого повернула обратно. А просто мне стало неловко, стыдно, мне стало очень не по себе — ну как это я вдруг, пусть даже и с Женей Чижевской, появлюсь в Труняевке? Что обо мне там все подумают? И, самое главное, что подумаешь ты? Этого ты не знал, но я теперь все рассказала...
Я схватил ее руки и закрыл ими свое лицо, да так и замер. Я долго не шевелился, старался прийти в себя. И было
207
мне так страшно, и горько, и радостно, и я был счастлив, и силился не зарыдать, еле сдерживался, был как в ознобе, как в лихорадке. Я сжался в комок, и если бы только шевельнулся, то все мои чувства выплеснулись бы наружу, я прижал бы Аню к своей груди и больше никуда бы ее не отпустил, а там — будь что будет, хоть разорвись все на свете.
Как это дико, что мы скоро должны расстаться, бесчеловечно, бессмысленно! Ведь нам нельзя расставаться, нельзя, нельзя...
Аня... а мы в Труняевке тогда слышали от Ивана, что две девушки шли к нам в деревню, да так ни у кого они и не появились. Иван ехал на телеге по большаку, а они — спросили у него дорогу. Мы это все мимо ушей пропустили в тот день... Так это были вы с Чижевской! Аня, так это была ты!
Сегодня 22 июля 1941 года...
Я не спал всю ночь.
Я хочу ее поцеловать! Может быть, это последняя наша встреча. А дальше — полнейшая неизвестность с резким уклоном в сторону отрицательную.
Я хочу ее поцеловать. Неужели нельзя? А если это вообще наш самый последний день?!
Да, от подобных мыслей оптимизма не прибавится. Опять налетела на меня очередная смута... Куда себя, свою душу девать? Родители, главное, гонят меня в Труняевку. Но разве они могут знать, что родная деревня для меня уже не пристанище ото всех бед? Вот где тупое, насильственное отторжение меня от Ани! Это еще дурее и ужаснее, чем ее отъезд в Свердловск, преждевременный для нас, но, хотя бы, необходимый и вынужденный, и даже связанный с работой ее отца, с важным заданием для фронта... А тут?!
В общем-то, я все понял, что тут мудреного! Они меня продуманно отсылают из Москвы. Хотят разбить нас с Аней, даже не зная ее. Почуяли опасность! А вдруг Коля выберет
208
не ту, о которой бы им мечталось? А о какой мечталось, они и сами вряд ли пока имеют представление... да мне что до этого... Сейчас у них основное, практическое — оторвать меня — на всякий случай! — от неизвестной им девушки. Нехитрая тактика, как не понять. Сам, наверное, и виноват. Никакой неведомой опасности они бы не ощущали, если бы я познакомил с ними Аню. Она бы им понравилась, уж такая она милая, Аня.
А все-таки гулять бы нам не разрешили, нет. Она — сказали бы — слишком для меня юная! Но, если как следует поразмыслить, то разница будет с годами небольшой, это только сейчас чувствуется, пока она школьница. А так-то: три года, восемь месяцев и двадцать семь дней — никак не катастрофа! В среднем возрасте и вовсе не будет заметно...
Что делать? Как теперь-то мне быть? С Труняевкой хотя бы?!
Странно или нет, а первая меня спросила о самочувствии не мама, а Клавдия.
— Братец, что с тобой?
— А что со мной?
— Я замечаю... Ну, плохо ешь, все на тарелке остается, ночью ворочаешься, вздыхаешь, диван твой скрипит, как несмазанная телега, из-за тебя я то и дело просыпаюсь. Потом: ты куда-то все уходишь. Тогда кто-то позвонил, и с тех пор целыми днями и вечерами нет тебя дома. Я замечаю! Уж не влюбился ли в кого, не гуляешь ли с кем?
Я было захотел немедленно обо всем — обо всем рассказать сестре, но подавил в себе этот порыв. И, кто знает, может быть, что и своевременно. А вдруг Клава оповестит родителей, и все хором навалятся на меня? Начнутся расспросы, догадки, и это бы еще ничего, но, главное, могут последовать и запреты! Отнимут у нас последние минуты! И я не очень-то вежливо ответил:
— Не твое дело.
Мне надо было во что бы то ни стало эти последние
209
минуты сберечь для нас с Аней. Я рисковать не мог. Сегодня 22 июля...
Ровно месяц с начала вторжения немецко-фашистских банд на нашу территорию. Но это 22-е число оказалось полным чудес, хотя причина чудес была драматическая — бомбардировка Москвы, налет на нашу столицу фашистских самолетов.
Мы с Аней спокойно возвращались домой, шли по улице Разина, уже удалялись от Красной площади — центрального места наших прогулок. И вдруг! Завыли сирены, и народ куда-то помчался, словно по команде.
Я никак не ожидал. Допустить к московскому небу стервятников?! Где наши заграждения, зенитные и воздушные?! Где наши герои-летчики? Я бы этим мессерам выдал такой таран, что их экипажи с командирами забыли б как звать собственных родителей! Фашистские мерзавцы, бандиты с большой дороги! Бессмысленное зверье, которому забыли сделать прививки от бешенства!
Но сирены выли, и люди бежали, как оказалось, к клубу имени Ногина, к огромным воротам. Я держал Аню за руку. Ворота нам немедленно открыли, и все очутились во дворе, мрачном, окруженном серыми стенами высоких домов. Нас туда просто внесло людским потоком. Вот где стихия!
— Коля! Дай мне руку! — это Аня крикнула откуда-то из толпы: в какую-то секунду ее оттерли от меня!
Я кинулся в толпу, в которой она мигом очутилась, вырвал ее оттуда, схватил ее за руки, а потом (сам не знаю, как это получилось) взял и под руку. Но это (под руку) продолжалось минуту или меньше. Дальше мы шли, взявшись за руки, как обычно во все эти наши дни.
Мы спустились по мраморным лестницам вниз. Оказалось, клуб размещается в полуподвале (или очень низкий первый этаж, я бы сказал) и, наверное, по этой причине, кто-то, может быть, из начальства, решил считать его бомбоубежищем. Я вспомнил, что у ворот, действительно, висит указатель: «Вход
210
в бомбоубежище». Да... не очень основательно, судя по тем знаниям, какие мы получили на «Военном деле». И, главное, не очень-то безопасно — расположение, близкое к поверхности.
Зато как здесь красиво! Зеркала огромные, от пола и до потолка, в золоченых рамах, люстры тоже огромные, наверное, хрустальные, переливаются всеми цветами радуги, паркет покрыт коврами, как в иных музеях. И — бархатные диваны. Они стоят вдоль стен, и от них мой «знаменитый» отличается, как небо от земли.
Мы с Аней не сразу сориентировались из-за всех, таких неожиданных великолепий (до этого отождествляли бомбоубежище с каким — либо чуть ли не глубоким погребом без окон), в то время как более сообразительные граждане молниеносно заняли места на «музейных» диванах. И когда только успели навостриться! Вроде еще и воздушных тревог — то не было!
Нам ничего не досталось, кроме ступенек на какой-то короткой лестнице, ведущей, видимо, в подвальное помещение, куда дверь была насмерть заколочена досками. Еще повезло, что ступеньки этой лестнички были деревянные! Нам тут мрамор никак не нужен, он мог бы сослужить скверную службу: Аня наверняка простудилась бы, усевшись на холодный камень (пиджака на мне в этот теплый летний вечер не было, конечно, постелить было нечем), а девушкам простужаться никак нельзя. Могут впоследствии не появиться потомки, а это драма в будущем!
Я первым сел в порядке опыта и понял, что наш экспериментальный «диван» вполне приемлем.
— Аня, — сказал я, — садись (я хлопнул ладонью рядом, по ступеньке) и постарайся уснуть: отбой может быть только утром, кто его знает. Положи голову на мое плечо (я показал ей на свое правое плечо), приваливайся...
Я даже смелости не набирался, у меня это рискованное предложение как-то само по себе вырвалось. Аня серьезно, очень серьезно взглянула на меня — и немедленно послуша-
211
лась. Ах как хорошо! Милая девочка Аня! Если б ты знала, как это приятно парню вдруг почувствовать себя старшим, защитником, пусть даже в таком малом событии! И учти, Аня, я ведь и в самом великом буду твоим защитником — на войне с Германией. И совсем скоро!
Она долго не засыпала. Это я точно знал, потому что ее дыхание было поверхностным и слишком ровным. Но потом усталость взяла свое, как не крепилась моя Фиалочка. Я теперь ее часто так зову, и объяснил ей почему: у нее глаза бывают фиалкового цвета, когда вместо своего голубого платья она надевает красный сарафан с белой блузкой или с полосатой спортивкой, серой с розовым.
Да! И я все-таки сказал ей, я сказал, что у нее глаза — самые красивые на свете. Позавчера сказал, когда прощались у ворот ее дома! На это она улыбнулась и чуть-чуть повела плечами... неосознанное кокетство! Никуда от него не денешься!
Наверное, только через час ее головка стала сваливаться с моего плеча: замучилась она все-таки, я смотрю, устала. Я ощутил Анину бессознательную доверчивость и беспомощность: она уснула...
Как мне хотелось обнять ее правой рукой (нет, обеими руками!) и устроить поудобнее! Но она могла испугаться такой неожиданности, возразить, отодвинуться, и я потерял бы эти, подаренные судьбой, часы, что совсем рядом, так близко от нее. Поэтому я то и дело возвращал (тихонько, с превеликой осторожностью!) Аню на мое правое плечо (она спала, и ее головка все сваливалась!) и был как-то по-особому счастлив. Даже объяснить не могу этого ощущения...
Аня вскочила на ноги, когда где-то неподалеку грохнула бомба. А я в эту минуту понял, что для меня страшен не взрыв, а утрата Аниной близости, отсутствие Ани на моем плече. Однако она не испугалась и не отодвинулась! Она не сказала ни слова, села снова рядом, вернулась к моему плечу и спала уже до самого отбоя. Думаю, часа два, не меньше. Я — не спал.
212
И ловил себя на том, что улыбаюсь просто так, сам не зная чему. Сижу на этой ступеньке вместе с Аней, ощущаю ее рядом, совсем рядом, как никогда прежде, слушаю ее дыхание и растворяюсь, растворяюсь в чем-то незримом и необозримом... Да, так оно и было.
Увы, отбой, разумеется, прозвучал, и мы должны были покинуть это удивительное бомбоубежище.
Я взглянул — у нее левая щечка покраснела, что опиралась на мое плечо, когда она спала. Красавица, Аня моя! К ней так идет эта покрасневшая щечка! Вообще — яркие цвета очень идут! И светлые тоже идут, например, голубые, к ее глазам! Это надо же такой девочке быть!
Наверное, мы вышли оттуда самыми последними. Аня не торопилась, а я тем более.
И тут я решил взять ее под руку — ведь у ворот клуба, в начале воздушной тревоги это уже произошло! Она опустила ресницы, пожала плечами, улыбнулась и не стала возражать. Но я чуть было все не испортил. Я решил показать свой жизненный опыт, которого на самом — то деле не было ни на сантиметр.
— Обычно я с девушками так хожу, — тоном бывалого парня произнес я, шагая с Аней под руку.
Мама родная! Аня одним рывком выдернула свою руку из моей, сурово подняла на меня глаза, голубые и большущие, и тихо спросила:
— То есть как это — обычно? С кем же ты ходил под руку обычно? И когда это было?
Конечно, я отступил. Конечно, готов был себя уничтожить тут же, на месте...
— Ни с кем... Один раз это было, после танцев, в деревне... Две девчонки подхватили меня под руки после кадрили... Так и шел, сразу с двумя... Даже не помню, с кем и шел...
Кажется, это были Валентина и Мария, но уточнить, конечно, я и не подумал.
Аня смилостивилась, и остальную дорогу мы шли с ней
213
под руку. Правда, молчали. Но тени девиц, с которыми я будто бы «обычно» хожу под руку, куда-то испарились, как их не бывало. И я перевел дух.
А уж как мы путали ритм! Да, под руку ходить надо еще как следует поучиться — мы не умеем, все время сбиваемся с такта. Без навыка не так — то просто.
— Когда идут так, как мы, надо идти в ногу, — сказал я.
Аня остановилась, взглянула на меня, и я понял, что она подразумевает под этими моими словами что-то иносказательное. Вот она пристально вглядывается в меня, словно желая открыть во мне что-то, еще не высказанное вслух...
Но что бы ты не открывала, моя родная, это будет все одно: моя вечная, да, вечная любовь к тебе. То, ради чего, если очень уж повезет, стоит жить на белом свете.
А она в меня все вглядывается и вглядывается! Ах, как близко синеют ее глаза, единственные в мире, и как хочется ее обнять, прижаться лицом к ее прекрасному лицу, сто раз провести рукой по ее блестящим кудрям, по плечам, по спине... Нельзя?! А почему нельзя?! А может быть, наоборот, — можно, нужно, необходимо — просто я не решусь на это, просто для меня это невиданный, не свойственный мне поступок!
Да, пока так! Пока так. Но мы теряем что-то очень важное, Аня, я уверен, очень важное. Ты могла бы возразить на это: не теряем, мол, а откладываем... Да, откладывали, и, большей частью, по моей вине. Но куда теперь откладывать? Куда? Я хочу поцеловать тебя на прощанье, и разве это грех? Я хочу тебя поцеловать!
Слезы закипают у меня где-то в горле... Может быть, и она поцеловала бы меня, если бы я не сробел...
Сейчас она снова уйдет, как всегда уходила...
Да, и вот мы приближаемся к воротам ее дома... Но тут вдруг грусть уступает место совсем другому волнению: я уверен, что у ворот Аню встречает ее мама. Еще бы! Девочка не ночевала дома! Я почувствовал, что мое сердце снова коло-
214
тится в ненормальном ритме: минута, другая, и произойдет неожиданная встреча с Аниной мамой.
Меня это волнует! Что она обо мне подумает? Кто я, какой я парень, почему рядом с Аней, где мы находились всю ночь до утра?! Ясно, что о воздушной тревоге знают все москвичи, но все-таки...
Разве что сказать Аниной маме, будто мы — одноклассники и случайно встретились в бомбоубежище? Нет, куда там! Аня рядом со мной — почти ребенок, какие мы одноклассники! И потом — почему нужно все время размышлять о том, как бы нам оправдаться? Мы ни в чем не виноваты, и ни перед кем!
Ну, как Бог на душу положит. Я познакомлюсь с ее матерью, если Аня не станет возражать. Будь что будет. Когда-нибудь мы все должны узнать друг друга. Только бы она сейчас, перед нашей скорой разлукой, не лишила Аню ее маленькой свободы.
К большущему сожалению, мое храброе решение пропало втуне. В толпе женщин, стоящих в воротах так хорошо знакомого мне дома номер один по Большому Вузовскому переулку, Аниной мамы не было. Все соседки с немалым любопытством воззрились на нас, а некоторые и поздоровались с Аней. Но она-то, она, Аня моя! Ничуть не смутилась, прошла с важным видом со мной под руку и — мимо ворот. Девочка озорничает? Или начинает чувствовать себя взрослой? Меня это чуть-чуть позабавило, и я на минуту отвлекся от грустных размышлений.
Простились мы с ней на углу, где второй особняк Морозова, где весной обязательно будут цвести яблоневые деревья...
В котором часу мы встретимся с ней завтра, ей же надо еще и поспать?
Завтра?.. А ведь никакого завтра не будет, это уже сегодня! И все кончится! Мама родная, все кончится!
Родители гонят меня в Труняевку, не разговаривают со мной, считают, что я бабушке, видите ли, не тороплюсь везти
215
продукты. А я-то знаю, что это — выдуманный предлог. Но нельзя же уличать во лжи собственных родителей, это никак невозможно, тут и рот не откроется! И мне ли не известно, сколько у бабушки там всяческих банок с яблочным вареньем и прочим, сколько консервов, овощей и так далее! Ах, Боже мой!
А уж то, что я сегодня провел ночь не под домашней кровлей... Мои родители... Они не посчитаются даже с тем, что так ясно для всех: воздушная тревога может застать на улице каждого, в любой непредвиденный момент...
— Аня, а почему твоя мама не встречала тебя у ворот? Ведь как она должна была волноваться!
— Нет, я думаю, она с-о-о-всем не тревожилась! Она знала, что я ушла с тобой, а несколько дней назад я показала ей твою фотографию, и она определила, что ты очень серьезный, спокойный и надежный парень, и что я за тобой, как за каменной стеной, и можно, не опасаясь ничего непозволительного, ехать нам вместе хоть на Северный полюс!
Я еле-еле успел прикусить губы, чтобы не усмехнуться. Конечно, приятно, лестно такое мнение Аниной мамы, но я один знаю, какой я «спокойный парень» и чего мне стоит удержаться от желания обнять Аню и поцеловать ее! Так я подумал, а вот что сказал:
— Аня, мы встретимся здесь, на Покровском бульваре, в половине второго. Я сегодня днем поеду в Клин, а оттуда пешком в Труняевку. Надо ехать! Но это всего на несколько дней. Я вернусь из деревни уже в следующее воскресенье и, как приеду, сразу же звоню себе...
— Хорошо, — ответила она, и ее глаза, серьезные-серьезные, голубые-голубые, посмотрели на меня — с укором? Или мне так почудилось?
Неужели я не успею вернуться до ее отъезда? Неужели я эти Анины глаза вижу в последний раз? Нет... В последний раз я увижу их сегодня на вокзале, она будет меня провожать...
216
Или нет, нет! Лет через пятьдесят, когда наступит время уходить насовсем...
Мама моя родная, мама моя! Какие горькие мысли лезут в голову, в душу, в сердце! Что же мне делать, куда девать себя! Я начинаю умирать от тоски, что же будет, когда меня с ней разлучат!
Свердловск... А не насовсем ли она туда уезжает?! У отца ответственная работа... не останется ли там на постоянное жительство ее семья? И она — с ними?!
В половине второго мы встретились и мрачно пошли рядом, даже не за руку, как обычно — будто у меня за спиной уже висел мой будущий неподъемный рюкзак.
Мы долго и безнадежно молчали. Когда дошли до Лялина переулка — лишь тогда я открыл рот, чтобы попросить Аню подождать, пока сбегаю домой за рюкзаком. В нем-то и находятся пресловутые продукты для бабушки Марфы, которые я, примерный внук Коля, обязан везти в Труняевку...
А что дома-то было! Что утром-то было из-за того, что не ночевал! Они меня, кажется, по этапу готовы сослать, именно сослать в Труняевку. Оба готовы, и отец, и мать... Почему поздно хожу, почему попал под бомбежку...
Да ведь я скоро, очень скоро и не под такие бомбежки буду попадать! Наверное, если бы провалился наш дом в Лялином, ушел бы под землю, то претензии были бы только ко мне: почему это я не удержал его, хотя бы на своей спине!
А уж как они были сердиты, как приказывали! Доказывали! Ах как жаль, очень жаль, с какой стороны не кинь, что Ане не восемнадцать лет, а мне, стало быть, не двадцать один! Сейчас бы мы зарегистрировались в загсе, а там — хоть трава не расти, пусть даже и война, и землетрясение, и все, что угодно! Хоть потоп!
«Я целый мир возненавидел, чтобы одну тебя любить...» — Лермонтов! Он всегда со мной и всегда знает, как ответить на мое настроение своими стихами...
217
Если бы не война! Да мы бы уехали с ней отсюда на Украину, Саша Дубровский тысячу раз прав! Мы бы пока уехали из Москвы, где все так сложно, а будет, конечно, еще сложнее, и пусть бы меня оттуда, с Украины и взяли в армию, и Аня стала бы то и дело приезжать на место дислокации моей части. Или приехала бы на все время моей службы, когда ей, конечно, исполнилось бы шестнадцать лет, не раньше. Да, да, вот и все, тогда мы были бы в своем праве, поступив по украинским законам! Но война диктует другие законы, свои... Война!
Да, а вообще-то я в любом случае вряд ли буду жить в Москве. Ведь я останусь в армии, буду там служить всю жизнь, а это значит — разные города, военные гарнизоны — так по всей нашей стране и будем колесить мы с Аней, — куда пошлют... Кем это надо быть, чтобы именно тебя оставили в Москве!
Родители не знают, с кем я гуляю, ни разу ее не видели, но вопросов и, главное, возмущений, не оберешься... Ладно, там посмотрим. Наш с Аней звездный час еще не пришел, конечно. Хотя, что я? Звездный час — он был, есть и будет у нас, где бы мы не находились. Я имею в виду другое, я имею в виду нашу с ней семью. Пока нам ничего не позволят ни война, ни Анин возраст, но в дальнейшем... я ведь тоже из такой же породы, что и вы, Большуновы и Новиковы!
Свердловск... А не насовсем ли она туда уезжает?!
Вынужден сам себе сознаться, что сегодня я впервые нагрубил родителям. Они прицепились ко мне с вопросами: кому, мол, это ты ежедневно звонишь, после чего сразу же и уходишь? Почему целыми днями и вечерами отсутствуешь, да и что тебе делать летом в Москве? Что или, может быть, к т о тебя здесь так держит, в пыли и в духоте? Прежде ведь всегда стремился поскорее на лето в деревню... Армия на пороге, необходимо пока отдыхать, набираться сил! Словом — надо срочно ехать в Труняевку!
Я им ответил, что и Клавдии на ее похожие вопросы:
218
— Не ваше дело...
Фу, как мне было потом неприятно! Тем более, что они — промолчали, даже отец. А уж он-то мог бы снять с меня стружку.
И вот — споры спорами, а я еду. Я все-таки еду!
Аня ждала меня в переулке. И я подошел к ней, мрачный и злой, с плохо сидящим на спине рюкзаком — он так и болтался сзади. Мы снова пошли молча — теперь уже прямо к вокзалу. Попробовали было сесть на трамвай, но там образовалась настоящая давка, люди висели в дверях, а двери — не закрывались... В прошлом году, в июне, мы точно так же, на трамвае, добирались отсюда на вокзал с сестрой Тоней. Не было войны, и кто бы мог подумать, что уже через год...
Пошли мы с Аней пешком. И оба насупились, и даже не глядели друг на друга. А все нервы!
По дороге, на улице Чаплыгина, увидели разрушенное здание — кучи битого кирпича, стекла, куски штукатурки, обрывки обоев... А из Аниного двора погибла девушка, по имени Тая Фадеева; где-то у Большого театра, Аня говорит, там бомба ударила... Ну мерзкие твари! Жаль, что я не в авиации — мог бы лично отплатить им той же монетой! За все! За весь разбой!
Рюкзак трет правое плечо, его необходимо поправить, подтянуть ремни, но это потом — в поезде. Черт бы побрал этот поезд, рюкзак да и всю Труняевку в целом на сей раз!.. Да, надо предупредить Аню, чтобы не отходила далеко от своего дома, пока я в Труняевке: самолеты с паучьей свастикой могу снова «посетить» Москву, раз такое уже случилось! Как скверно!
Свердловск... А не насовсем ли она туда уезжает? Эта мысль так и бьется в моей голове.
— Если поезда придется ждать — ты подождешь?
Хотел спросить о Свердловске, а спросил о поезде. Не знаю, зачем и уточнял: ведь провожающие всегда стоят на платформе, обязательно стоят и ждут отправления, а потом
219
машут вслед рукой, пока вагоны не скроются из виду — это правила поведения провожающих, их, как говорится, святой долг.
Поезд... Мы могли один из них пропустить, и тогда еще часа три постоять бы рядом... к ночи я все равно добрался бы до Труняевки, дорогу туда я нашел бы и вслепую...
— Аня, а если поезда придется ждать — ты подождешь?
Теперь я понял, почему спрашиваю ее о поезде. Я просто не могу с ней расстаться!
— Нет...
Нет?! В меня словно выстрелили из пистолета... Нет?! Нет! Вот так!
А чего другого я должен был ожидать? Я сильно провинился! Конечно, провинился, да еще как! Наверное, она чувствует, что не сумел дать должного, нужного отпора родителям, что нельзя мне сейчас ехать в Труняевку, ну никак нельзя. Ведь наши встречи были отмерены считанными часами! Минутами, как вот сейчас!
Так, молча, и дошли мы до вокзала. Хотел угостить Аню газировкой с сиропом, но она отрицательно мотнула головой, отказалась. Мне кажется, что просто-напросто застеснялась. И еще я заметил, что на деньги, которые увидела в моей руке, она посмотрела с превеликим ужасом, словно это была не простая мелочь, которую надо отдать за газировку, а гремучая змея. Влияние книг, презрение к «металлу» — так это я понял.
Несусветная щепетильность! Что поделаешь? Когда повзрослеет, будет относиться к «металлу» спокойно и нормально. Ей, наверное, и не приходилось еще иметь дело с «презренным металлом»? На мороженое хоть ей давали двадцать или сорок копеек? Или мама за нее платила, стоя рядом? Да-а... Так уж Аня воспитана родителями и, видимо, любимым Александром Грином. Но это не минус для Ани, это естественное, переходное время ко взрослости. Остатки застенчивого детства!
220
Купил я билет, а поезд, как оказалось, уже через шесть минут отходит от платформы. Вот где минуты-то! И ждать ей не придется!
Негодовать могу только на самого себя, тут и думать нечего...
Аня, если не ради тебя, если не ради нас с тобой, то зачем мне на белом свете жить? А я вот взял билет и — еду в Труняевку!
Инерция, она бывает великой, бывает и гнусной. Нет, в моем случае не инертность, этого нет и в помине. А именно инерция, один из законов Ньютона...
А что мне было делать сегодня утром? Совершить домашнюю революцию, закатить родителям неожиданный, грандиозный, первый в моей жизни, да и вообще в нашей семье, — скандал, когда я без пяти минут на фронте? Если бы не война! Тогда бы уж я поступил по-своему!
Я положил ладонь своей правой руки Ане на спину и наклонился... мне просто было необходимо поцеловать ее на прощанье. От моей природной, обычной робости не осталось и следа — горькое предчувствие отмело все размышления, оно сдавливало мне горло и нашептывало самое ужасное: мы с Аней больше никогда не увидимся, никогда, Я даже не подумал в эту минуту, что такое несчастье может стрястись только в случае моей гибели. Сейчас меня убивала разлука.
Я наклонился к ней, но Аня почувствовала приближение поцелуя и, — девочка, не целованная, как и я — низко опустила голову. Она не осмелилась... Однако я все-таки успел вдохнуть аромат ее волос и коснуться их губами. Я поцеловал ее в макушку! В милую макушку, которая не так уж давно была «ежиком»! Я поцеловал, поцеловал ее в макушку! Наверное, для нее это осталось неизвестным... Это я увезу с собой. Тепло ее левой щеки и ее тихое дыхание, когда она спала на моем плече в бомбоубежище — я тоже увезу с собой... Мы с Аней совсем мало времени провели вместе, рядом, но это было главным в моей жизни, и я благодарю судьбу за каждое мгновение,
221
Поезд уже отходил, когда Аня молча протянула мне свою фотографию. Я схватил ее, вскочил на ходу в вагон и сейчас же посмотрел в окно.
И что я увидел?! Анину уходящую фигурку? Нет, ничего подобного! Аня стояла на том же месте, где я ее оставил, она закрыла лицо ладонями, и она плакала. Она плакала!
Боже мой, Боже великий! Почему нельзя махнуть рукой на все, спрыгнуть на ходу с поезда, подхватить Аню на руки и убежать с ней навсегда?.. Но куда? От кого, от чего? От родителей? От войны? Нельзя, невозможно... Невозможно!
А она видела, заметила, как я плакал? Это случилось со мной, когда я отошел от Ани к поезду, К горлу подкатил комок, я не смог удержать слез. Ничего нельзя было с собой поделать, меня одолело горе. Теперь вот, еду... Незаметно вытащил платок из кармана брюк, незаметно вытер с лица слезы... Да на меня никто и внимания не обратил...
Я ехал, мимо окон мчались (или я мимо них) деревья, еще зеленые и, наверное, красивые... Шли по тропкам какие-то люди, мелькали какие-то деревеньки... Мне не хотелось ни на что смотреть, я был подавлен, разбит, уничтожен горем, ощущением такой невозвратимой потери, с которой н е могу сравнить ни смерть моего братишки Толика, ни давние страхи за жизнь отца. Хорошо это или плохо (плохо, наверное!), но это правда — истина, этот кошмар ни на что не похож: я заживо прощался сам с собой.
На полпути к Клину в памяти вдруг всплыл отрывок из «Общественного договора» Жан-Жака Руссо: «В естественном состоянии людей не было войн всех против всех, и между людьми господствовала дружба и гармония».
Так думал Руссо. Жаль, что не все другие думают так же сегодня, жаль, что действуют как раз наоборот. Жаль и еще раз жаль, что мы находимся сейчас в противоестественном состоянии. Нет гармонии, есть война, о которой все уже знают, что она — чудовищная. И за чужие грехи, за преступления Гитлера — античеловека — прежде, чем он сам по справедли-
222
вости за них заплатит, придется платить нам с Аней, и очень уж дорогой пеной. Какой? Может быть, собственной разбитой жизнью... Потому что Аня вряд ли не сойдет с ума, если что со мной случится... Боже мой, только бы она тогда ничего с собой не сотворила, ведь она такая порывистая! Ты живи, моя махонькая! Ты в любом случае — живи.
Но только как жить, если потеряется главное? Этого не знаю. Не могу себе представить, как она будет. Не могу!
А я... я уже сейчас лишаюсь моей девочки, моей любимой. Если нет, то почему так тяжко, так страшно за нее, за нас, почему такая тоска, смертная!
Поезд идет на полной скорости... Когда я в последний раз махнул Ане рукой, уже у вагона, я крикнул: «Прощай!» А она очень твердо ответила: «Нет, не прощай, а до свидания!» И я на это сказал: «Да, конечно, до свидания». Верил ли кто-нибудь из нас в «до свидания»? Боюсь, что не очень...
И все-таки! Все-таки! До свидания, Аня, любимая, конечно, не прощай. Я, по крайней мере, постараюсь воевать со знанием дела, чтобы меня не убили, как неопытного птенца. Я буду настойчиво учиться военному искусству. Я обязан приложить сверхчеловеческие усилия, чтобы остаться в живых, Аня, ради тебя, ради нас с тобой... «Воевать надо уметь, чтобы победить», — это совсем недавно произнесла она, мой маленький теоретик.
Окончится война, я приду за тобой, Аня. И если ты даже насовсем уехала в этот Свердловск, то и он — не за синими горами.
А пока есть надежда очень скоро вернуться из Труняевки и увидеться перед Аниным отъездом в Свердловск.
Я так задумался, так затосковал, что чуть не выронил фото, которое сжал в руке, когда прыгал в поезд, да так и проехал с полдороги и больше.
А что за фотографию она мне подарила? Какая смешнуха! Не умеет фотографироваться! Как неправильно усадил ее фотограф, он зачем-то выдвинул на первый план левую руку с часами...
223
Уж эти ее часы... Я так не любил, так нервничал, даже и сердился, когда она, ближе к одиннадцати, начинала поглядывать на них. Скорее я должен был смотреть на часы, мне устраивали дома концерты, а ей, слава Богу, от родителей не влетало. По крайней мере, мне она не жаловалась...
А что такое она сделала на этой фотографии со своим ртом? О! Мама родная! Нарисовала поверх своего какой-то чужой ротик, совсем крошечный! Чернилами, фиолетовыми чернилами! Она попыталась превратить свой прелестный рот в модный «бантик»! О Господи! Ну это самый верный способ оградить фотографию ото всех взглядов, кроме моего. Зачем ей этот ротик «бантиком»? Ну девочка, ну куколка! Что за хулиганство! И когда ты только повзрослеешь!
2 августа 1941 года
Сегодня я вернулся из Труняевки, из этой «добровольной» ссылки.
Я открыл дверь квартиры, бросил в комнате рюкзак на пол и помчался в коридор — звонить Ане. Боже, помоги мне! Сделай так, чтобы она еще не успела уехать в этот Свердловск!
К7-73-22 — я набрал шесть знакомых цифр, ее номер, и держал трубку до тех пор, пока соседка не сделала мне замечание. А потом сел, чтобы отдышаться, потому что я ведь не стал ждать трамвая, а бежал быстрее ветра, думал, что так выиграю время.
Поздно вечером я снова повторил свои звонки, — дождался, когда обитатели нашей большой «вороньей слободки» улягутся на покой и коридор опустеет. Но результат был тот же — длинные гудки, и никто не снимает трубку там, у Ани. Когда вернулся в комнату, родители подняли свои головы с подушек и спросили: «Тебя кто обидел? На тебе лица нет!»
«Тебя кто обидел», словно я маленький... Кто? Да вы же и обидели, сослали в Труняевку. Жаль, что я все-таки не мог вас ослушаться, воспитан в великом уважении к родне, осо-
224
бенно к родителям. И еще жаль, просто очень жаль, что родители не понимают, когда их власть начинает походить на самое настоящее насилие над личностью человека, по сути уже взрослого.
Ночью я тихонько вышел в коридор и снова позвонил... Я в полной мере начинал осознавать, что никого не рискую разбудить в квартире номер сорок девять дома один... Я бы сразу опустил трубку, если б они ее сняли, не стал бы их будить дальше. Но они не ушли на работу или в гости: теперь ночь! Там просто никого нет! Они уехали, уехали, и они увезли мою девочку! Какие же мы подневольные люди, как зависим от обстоятельств, от среды, еще от кого-то, от чего-то! От инерции... Проклятая инерция! Аня должна ехать с ними, я должен уезжать от нее... Все это насильственно, и так больно, будто куски отрывают от моего сердца, и нет выхода.
Я и дальше продолжал звонить в ее пустую (пустую!) квартиру, и мной все сильнее овладевала тоска. Она росла и росла, она хватала меня за горло, за душу, и от нее некуда было деваться. Но приказать себе: не звони больше, не терзайся напрасно! — я не мог и не хотел. Мало ли что бывает? А вдруг они по какой-то причине вернутся?
4 августа 1941 года
Сегодня мама подметала пол и веником зацепила какой-то маленький конвертик под подоконником. Что меня бросило к этому конвертику — не знаю, но я вырвал его из маминых рук.
Там была записка от Ани... Она оповещала, что через два часа уезжает в Свердловск и бросает этот конвертик со своей фотокарточкой в фортку, в нашу комнату. И надеется, что мне — передадут. Еще Аня писала, что умоляла своего отца отсрочить отъезд из Москвы хотя бы на три — четыре дня, говорила ему, что от этого зависит вся ее жизнь. Но отец ответил, что остановить его не может никто и ничего. А мать Ани — она
225
промолчала, не высказалась. «У нас вагон № 2, и пока не загудел паровоз, я до последней минуты буду надеяться, что ты успеешь, что мы простимся. Аня».
Что я почувствовал, что пережил — этого я рассказать не могу, не хочу, — не в силах... Всего лишь на днях она, оказывается, стояла на платформе Ярославского вокзала, у вагона номер два... а я был в Труняевке! И она ждала, что я вот-вот появлюсь!
Нет, три — четыре дня ничего бы не спасли, надо было просить отца отсрочить отъезд на неделю. Тогда бы мы успели проститься. Но девочку увозили от бомбежек, а парню надо было на войну, и тут ничего не поделаешь...
Анина записка оповещала о моем новом горе, об украденной последней встрече...
Но не только, нет! Это было и счастье. Я получил привет как бы с другой планеты, позывные с Марса. Да она и всегда была для меня человеком с Марса, моя Аня, хоть и ходила со мной за руку по Земле.
Фотокарточка оказалась совсем маленькой, какую наклеивают на школьный билет. Но такая славная! Аня улыбалась, словно живая. Только что руку свою не поднимала ко рту, как бывало в подлинной жизни. Она улыбалась мне, и на ней было очень знакомое платье, она его носила зимой... значит, зимняя еще фотография... Коричневое, бархатное платье, я помню. Я впервые увидел в нем Аню 14 декабря, когда получил от нее письмо. И пояс, тоже коричневый, из кожаных листочков, наподобие дубовых. Я отлично помню и этот пояс... только здесь пояса не видно...
— Что это ты прижимаешь к груди? Николай! Что в этом конверте?
— Фотография, — ответил я.
И понял, что мама догадалась, чья это может быть фотография. Мама часто-часто заморгала и вздохнула:
— Как этой фотографии здесь оказаться? Неужто в форточку бросили? Когда же? Я пол, что под подоконником,
226
наверное, не сразу замела, вот и прозевала эту фотографию... Подожди, вот отец придет вечером, он тебе хотел кой-чего сказать.
Отец и сказал вечером: он задумал заочную казнь моей Ани! Оказывается, они прочитали т о ее письмо! Отклеили конверт и прочитали! Это, когда я был в Труняевке! Искали причину моих поздних вечерних прогулок! Ну и ну! Я на них только смотрел, пока мать молчала, а отец говорил. Я на них только смотрел, а слов у меня не было.
— Девушка не должна первая писать, даже подходить первая к парню. Девушка должна ожидать, когда парень сам подойдет, проявит инициативу... И что там еще? Мать говорит, что и фотокарточку бросила в форточку? Нескромно, нескромно...
Нескромно?! Было бы нескромно, если б не любовь! А у нас с Аней... А у нас с ней!.. Да она-то и вообще самая скромная в мире девушка! Да что вы понимаете, что вы вообще можете о нас понять!
Я почувствовал, что произнес все это вслух, и очень громко. И тут же до меня донесся мамин шепот:
— Чшш! Молчи, Саша, ничего более Николаю не говори! Не тронь ты его, я тебя прошу!
Ночью я уткнулся лицом в подушку, а утром увидел, что всю наволочку изорвал зубами. Но горевал я не из-за отцовского чугунного нравоучения, а оттого, что ненавидел в эти часы все вокруг, а пуще всего — свое бессилие перед обстоятельствами...
Аня, что делать? Неужели ты тоже так страдаешь, так сходишь с ума по мне, как я по тебе? Аня, Аня!
6 августа 1941 года
Я хочу посмотреть, где она жила, по каким лестницам и коридорам бегала.
227
Сегодня днем я впервые очутился в ее дворе (а тогда мы с ней все стояли у ворот), чужом, каком-то почти незнакомом без нее. Я прошел по двору ее маршрутом, открыл тяжелую дверь огромного подъезда — прежде я видел эту дверь лишь издали, Аня не раз там исчезала, махнув мне на прощанье своей рукой... Каменная лестница... Направо? Нет, там другие номера квартир. Значит — налево. Вот они, резные чугунные ступеньки морозовского особняка, по которым она проходила почти половину своей жизни, от восьми и до пятнадцати лет. А вот и три деревянные, и — ее дверь, квартира сорок девять, она самая. На двери — зеленый почтовый ящик, она как-то о нем упоминала. И вот этот висячий замок, тоже зеленый, по ее мнению — несуразный, какой когда-то попался в магазине ее родителям...
Замок и ящик она открывала бы, доставая оттуда весточки от меня. Они частенько приходили бы сюда из нашей мирной армии, если бы не война...
Если бы не война! Проклятые фашисты... проклятые... Их необходимо уничтожить точно так же, как они сейчас намерены уничтожить нас. Только зря стараются, грязные воры! Мы-то у себя на родине, и они поплатятся еще за свои злодейства, за убитых людей, разоренную нашу землю!
...Увидел какой-то яркий лоскуток. От ее платья? Нет... Такое она не носила... А в последнее время все ходила в голубом, очень красивом, и глаза ее от этого сияли еще ярче, как две голубые звезды. Платье ей подарила мама, — она весной долго стояла в очереди в военном ателье, на Воронцовом поле. Думала, для себя, а отдала, вот, дочери... решила, видимо, что Аня уже большая... Это мне Аня рассказывала...
Я сел на ступеньку прямо у ее двери и чуть не зарыдал. Чуть?! Да у меня слезы из глаз полились ручьями, и я совсем забыл, что могут появиться люди, соседи... хотя нет... сейчас белый день, рабочее время, и весь дом будто замер.
Не знаю, сколько времени я здесь просидел... второй раз не скоро приду... разве что после войны... Может, в будущем
228
эти ступеньки приведут к счастью — мы с Аней будем сюда приходить в гости к ее родителям? Но только сегодня я эти ступеньки воспринимаю, как место катастрофы...
Аня, как ты там, в чужом Свердловске? Что бы я ни отдал ради того, чтобы посидеть с тобой хотя бы три минуты на этих пыльных ступеньках, только три минуты... и ты позволила бы мне поцеловать тебя на прощанье... я знаю, знаю, что теперь, хоть и прошло с момента нашего последнего свидания считанное время, ты доросла до поцелуя, я это знаю. И я обнял бы тебя, и мы поплакали бы вместе, не скрываясь и не стыдясь, о нашей судьбе, неизвестно какой... Моя дорогая, моя дорогая, мой свет в окошке!
К7-73-22... Я буду звонить сюда все время, все дни, вплоть до моего отъезда в армию. Мало ли что бывает? Если есть чудеса на свете, то я молю Господа Бога, в которого прежде не верил, чтобы произошло необыкновенное, и я бы услышал вместо длинных, безнадежных гудков — твой голос.
Почему нельзя одолжить на аэродроме самолет на полдня, слетать в этот Свердловск и обнять тебя, мое чудо из чудес? Уверен, что Чарльз Линдберг так бы и поступил на моем месте! Да что Линдберг! Он американский летчик и миллионер, у него вполне мог быть и собственный самолет. Но ведь и наши — Анатолий Серов и Валерий Чкалов — тоже летали к своим невестам в критические, особо ответственные моменты жизни, и — на государственных самолетах. Правда, они были Герои...
А пройдет, эдак, лет пятьдесят, — да нет, что это я, наверняка меньше! — и будущее чуткое высокое начальство скажет какому-нибудь будущему молодому человеку, который еще только готовится в Герои: «Николай Александрович! Тебе нужны эти полдня счастья? Возьми, ради Бога! Вон там, на взлетной полосе стоит свободный самолет, готовый к вылету! Лично для тебя! Мы от души рады тебе помочь, Коля, мы уважаем твои чувства!»
Да... Но мне — то счастье нужно сегодня, а не через мифические полстолетия!
229
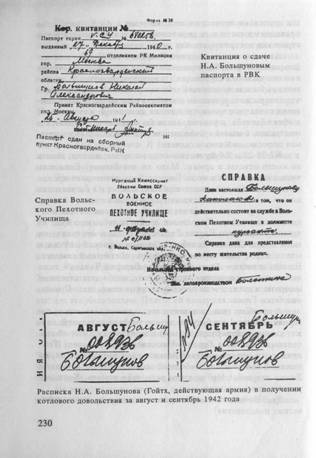
9 августа 1941 года
Тетя Настя провела со мной длинную беседу, всю душу мою вымотала.
Не спросив моего согласия, и даже без моего ведома, она, оказывается, договорилась на своем заводе, чтобы меня оформили учеником токаря. На трудных станках в оборонной промышленности очень нужны мужчины. Завод авиационный (не там ли в свое время работал директором Анин отец?), завод дает бронь, и в армию, таким образом, я не попадаю. Тетка очень упорствовала: «К хорошему мастеру тебя ставят, ты чего это!»
Она все повторяла и повторяла свои резоны, им не видно было конца, и поэтому я оборвал их, а тетка умолкла и заплакала.
Моя добрая тетушка, не плачь, и не думай, что я не понимаю, что мужчины, конечно, а никак не женщины, должны работать у трудных станков. И еще не думай, что мне не хочется жить. Как хочется, кто бы знал! Но есть честь и совесть. И я обязан перед своей честью и перед своей совестью защищать нашу страну с оружием в руках. И наших людей! И почему же вместо меня будут воевать другие? Если так рассуждать всем насчет станков и брони, то можно заранее сдаться врагу на поругание. Для меня это не подходит.
13 августа 1941 года
Я скоро уеду, меня призвали в армию. Я ждал повестки, и я ее дождался. Сегодня тринадцатое, ненавистное мне число. Надо написать Ане, как только узнаю ее адрес, чтобы этого числа она избегала. Не потому, что на моей повестке стоит почтовый штамп «13 августа», а просто я всегда терпеть не мог тринадцатое число.
231
15 августа 1941 года
Какие песни звучали вечером по радио! «Где эти лунные ночи, где это пел соловей...» Не новые песни, я их и прежде знал, но воспринимал иначе, без особого чувства и значения, а просто были они мне приятны, не больше. И как это я, слушая когда-то по нашему репродуктору, а как-то и в фильме «Подруги», где играла Янина Жеймо и Зоя Федорова, подобное пение, мог после этого садиться уроки учить!.. «Где эти лунные ночи, где ж это пел соловей...»
Мы с Аней ничего такого не испытали, и соловья вместе не слушали, и над рекой в летние ночи не сидели, и на рассвете черемухой не дышали. И не поцеловались... не пришлось. Не успели! Но что я совсем точно знаю: некоторые парни целуют своих девушек без особой любви, да еще этим потом и похваляются! Не раз такое слышал! Так вот с этими парнями я никогда, как говорится, местами бы не поменялся. У нас с Аней куда больше, чем поцелуи! Особое тяготение душ, такая сердечная любовь! Хоть, что вполне возможно, бездушные циники думают иначе. Но я разубеждать их не собираюсь, им все равно нас не понять. Что зря стараться? Недаром и пословица есть: «Не мечите бисер перед свиньями, да не попрут его ногами», а народ в своих пословицах — мудр.
Душа замирает от гнева и печали: сколько волшебства, сказочных дней отнято преступниками, жаждущими украсть у нас Родину и Свободу! Неужели у них своего так мало, у этих ворюг, ведь страна-то их не бедная! Нет, я их даже не ненавижу, — я их презираю, испытываю к ним отвращение, словно это — болотные жабы, внезапно выскочившие из мутной, скользкой тины. Антилюди!
16 августа 1941 года
После упорных и тяжелых боев немцы взяли Новгород...
232
Ничего, мы его отвоюем у губных гармонистов: воровать нашу землю не велено... Отвоюем... после упорных и тяжелых будущих боев.
18 августа 1941 года
Мой отъезд в армию еще не уточнен. В Москве у меня дел никаких нет, но есть приятное занятие: я перечитываю Лермонтова, сегодня ночью перечитывал. Особенно запомнил на сей раз стихотворение «Сон», хоть в нем больше устаревших слов и понятий, чем во многих других стихах Лермонтова. Думаю, что это в связи с войной меня заставил встрепенуться именно «Сон». Я долго вчитывался, заснул где-то ближе к рассвету, и, конечно, поэтому мне привиделся кошмар. Но об этом после, сперва хочу переписать сюда «Сон». Хотел отрывками, но если пропустить что-то, то сразу теряется смысл.
В полдневный жар, в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня, но спал я мертвым сном.
И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных дев, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.
Но в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;
233
И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.
А кошмар приснился такой: будто я, как и этот герой Лермонтова, умираю где-то в горах, мучаюсь. И до меня доносится нескончаемый плач. Он звенит и заполняет весь белый свет — шар земной, и я не вижу, кто плачет, но знаю, что это Аня моя... А вдруг так оно и будет?
Меня мама разбудила, сказала, что я громко вскрикнул во сне... Да нет, это не пророческий сон: зачем меня занесет в какие-то далекие-далекие, незнакомые горы? Несусветная чушь.
Лермонтов написал «Сон» в последний год своей жизни, 1841-й. И погиб на Кавказе, как, наверное, и предвидел, судя по «Сну». А сейчас 1941 год. Прошло с тех пор ровнехонько сто лет. Что это означает? О чем это говорит? Опять мистика?
20 августа 1941 года
Опять сон, опять «долина Дагестана». Меня там нет, но я там будто был, — был когда-то. Женщина простерла руки в темноту, в ночь, она одна среди этих чужих гор. Одна — и как только не боится? Даже не глядя чувствуется, что молодая и красивая. И вдруг она оборачивается ко мне. Кто же это?! Я так и знал! Аня моя! Только она теперь старше! Она взывает к Богу, молит Его взять ее ко мне или вернуть меня ей, если я где-то живой, и если даже... если даже меня нет. Она сказала: «Ведь не может быть, чтобы его нигде не было! Помоги, Отец наш небесный!»
Теперь я совсем подавлен. Все может случиться.
234
23 августа 1941 года
Мне почудилось — или приснилось? — что Аня зовет меня! И так явственно, что я вскочил глубокой ночью с дивана и подбежал к окну! Если у нее хватило храбрости послать мне т о письмо, потом телеграмму, а еще до телеграммы сделать попытку отправиться ко мне в Труняевку да и бросить мне в окно записку с фотокарточкой, — то почему бы ей не сбежать из Свердловска в Москву?!
Только нет, этого не произошло. Я не понял, что именно меня вмиг подхватило с дивана: привидевшийся сон или, может быть, какая-то передача мысли на расстоянии, но на меня смотрели не Анины синие глаза, а пустой и темный переулок, дома с заклеенными крест — накрест оконными рамами — от бомбежек. Как было больно! И как сердце может все это переживать, как оно только выдерживает!
24 августа 1941 года
Ночью мне приснилась Аня! Будто мы с ней сидим на моем «знаменитом», обнявшись, молчим, да так и замерли в объятиях друг друга. Какой счастливый был сон! Утром я только тяжело вздохнул о том, что на самом-то деле этого не было.
А днем прошел было по улицам, где мы с Аней ходили, и так тоскливо стало, прямо сердце рвется. Нет, скорей бы в армию уехать!
26 августа 1941 года
Пока все еще нахожусь в Москве, и есть потрясающая новость: получил открытку от Ани из Свердловска!
235
Я-то еще раньше успел ей написать два письма, одно на Главпочтамт, до востребования, о чем у нас с ней шла речь еще в Москве, а другое, чуть погодя, на ее адрес: Свердловск, Уралмаш, Перекопская улица, дом 25, квартира 12. Она ни одного письма от меня еще не получила!
Адрес я узнал по открытке, которую Аня прислала — трудно себе представить! — моей сестре Клавдии!
Какая ты молодчина, Аня, — не допустила, чтобы мы потерялись в военной неразберихе! Умница! Я на тебя надеюсь, и всегда буду на тебя надеяться. Я прочитал твою открытку, хоть она и была адресована Клавдии. Я имел на это право, конечно, больше, чем моя сестра: фактически эта открытка была послана Аней ради нас с ней, тут двух мнений быть не могло.
Итак, две открытки от Ани: Клаве и мне!
Нет, подумать только. Аня теперь знает Клавдию, от которой я тогда все утаил! Ну и ну! Я — воспрянул духом. Как же это у нее получилось?
Только теперь спросить-то не у кого — Аня в Свердловске, Клава пока в Труняевке, а скоро эвакуируется с маманей и с сестрами в Челябинск, тоже, значит, на Урал. Отца пока оставляют работать в Москве.
Ах, Аня! Да она создана, чтобы стать чистым командиром в семье. Стратег и тактик! Наверное, о таких замечательных людях, как моя Аня, говорится в старинной поговорке: «Покажи, солдат, кто твоя жена, и я скажу, будешь ли ты генералом».
Мы как-то целый час играли с ней в пословицы и поговорки, и эту я ей еще тогда сказал, в июле, вечером. Мы сидели с ней на Покровском бульваре, на скамейке (в кои — то веки присели, а то все ходили и не уставали!), и каждый из нас наперебой вспоминал разные поговорки и пословицы. Очень было интересно, очень! Она тогда, сидя на высокой скамье, едва достала ногами до земли, ну а я, конечно, сразу уперся, как стол в комнате. И сказал ей: «С такими длинными нога-
236
ми и упасть некуда». Почему-то нас это рассмешило, не знаю почему... Тогда было смешно... Мы просто радовались жизни, и что сидим рядом друг с другом...
Как было хорошо!
То, чего я несколько побаивался (наверное, что и напрасно!) — знакомства с моими родными — теперь считаю прекрасным выходом, хоть знакомство пока неполное и отчасти заочное. Но все-таки, все-таки! Они не дадут нам потеряться даже на время! Они учтут, что идет война, и необходимо нам с Аней оказать сочувствие и помощь. Мы все вместе станем переписываться и сообщать друг другу новости, если кто-нибудь из нас помедлит с ответом. Во всяком случае, на сестер, на Клаву и на Тоню, я точно могу рассчитывать...
И придется рассчитывать на них: почта работает плохо, вот Аня ни одного из моих писем пока и не получила! Обидно.
В своей открытке Клаве Аня упомянула о каком — то белом цветке: напиши, мол, Клава, что ты сделала с белым цветком, который мы с тобой сорвали на клумбе...
Сначала я опешил, но потом, прочитав дальше, понял, что Аня не изменила свое отношение к растениям. Она, оказывается, решила продлить цветку жизнь, поместив его в Клавину вазочку с водой — стебель был сильно надломлен (ветром ли, птицей?), и на клумбе цветку грозила скорая гибель. Моя расчудесная, маленькая смешнуха! Что тут скажешь? Комментарии излишни!
«Аня! Пиши мне чаще, я тоже буду писать. До свидания. Коля». Эти, более чем сдержанные строки (ведь открытка, ее могут прочесть разные соседи!) я черкнул в конце своей последней весточки из Москвы, которую отправил Ане в Свердловск, на ее домашний адрес.
Как это славно — у нее есть адрес, домашний адрес! Пусть временный, пусть пока свердловский, но у нее есть и дом, в котором ей будет тепло и светло! Тем более, что на пороге сентябрь, наступает осень, а там, на Урале, она, конечно,
237
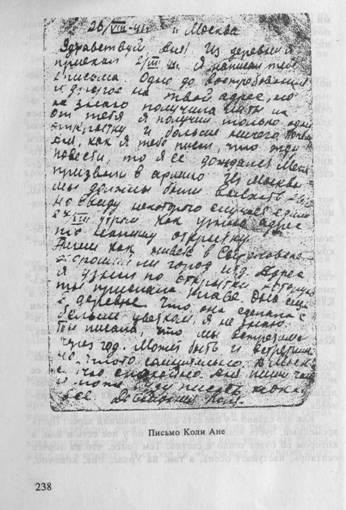
посуровее будет, чем в Москве. Как хорошо, что у нее есть пристанище!
А сколько наших людей осталось без крова, без родных, на сожженной земле, на пустых пепелищах! Может быть, что и без куска хлеба! Проклятые фашисты, двуногие звери, заведенные Гитлером куклы со свастикой!
Многое мы уже не сумеем исправить, то, что утрачено безвозвратно. И, главное, не воскресить к жизни тех, кто погиб. Но как надо поскорее вернуть нашим людям то, что можно вернуть!
Я буду писать Ане изо всех пунктов назначения, куда меня забросит военная судьба. Мне всегда надо знать, как она живет, что поделывает. Но главная тревога ушла: мне стало легче оттого, что моя Фиалочка благополучно приземлилась.
Милая Аня, милая! Она, оказывается, определилась уже и в школу, в девятый класс. И считает себя взрослой, хоть паспорт ей все еще не положен по возрасту. Однако она не хочет учиться в дневной школе, хочет уйти. «Стыдно, — пишет, — в такие тяжелые дни просто-напросто ходить в школу, как будто ничего не случилось, как будто нет войны». Загорелась идеей устраиваться на работу, обязательно на военный завод — помогать фронту. И конкретные шаги делает! Выяснила, что на завод можно и до шестнадцати лет идти, без паспорта. В таких случаях формально определяют в ученики, а работа одна и та же. В складывающейся ситуации школу хочет кончать экстерном...
«Свердловск, — пишет она мне, — очень большой, промышленный город, там много заводов, но есть и институты. А при них организованы экстернаты, где, после довольно короткой, всего лишь трехмесячной подготовки, принимают экзамены за десятый класс. И тем, кто успешно сдаст все экзамены, выдают аттестаты».
Да... При этом знаний учащиеся, думаю, получат не слишком много, но идет война... И каждый сможет наверстать то, что для него будет необходимо в дальнейшем.
239
Пока я все-таки постараюсь Аню отговорить от такого нагромождения обязанностей, хотя ее стремление очень понятно... Правда, не знаю, упряма она или нет, не успел этого понять, и случая не было... по-моему, нет, не упряма... Но смотря в чем? Нет, надо постараться ее отговорить... Успеет! Время-то — военное! На заводе наверняка пойдут перегрузки, ночные смены, сверхурочные работы, отмены выходных, даже отпусков... и тому подобное! А вечерами еще и экстернат. Да она просто-напросто и во времени не уложится, в сутках пока всего двадцать четыре часа. Можно здоровье потерять, это факт. Ее организм никак нельзя считать вполне установившимся, крепким... Мало того, что она еще и по возрасту не совсем взрослая! Не надо забывать о скарлатине и всех осложнениях, которые мучили ее всего-навсего в позапрошлом году. Поэтому: если есть возможность учиться, пусть только учится, это прекрасно. Ей, по ее литературным устремлениям, очень нужно было бы не делать перерыва в учебе... Но как еще на это ее родители посмотрят... Есть ли у них возможность поддержать в такое тяжелое время свою дочь, если она не будет работать? Я места себе не нахожу — ведь я-то пока в этом отношении — ноль без палочки! И такое положение вещей, знаю, что исправится еще не завтра и не послезавтра! А потом... она ведь отказалась даже от стакана газировки!.. Ну и жизнь!
...Да, а я все-таки заходил на днях на Чистопрудный бульвар, в читальню, выполнил Анину просьбу. Нашел время, и никогда не пожалею об этом. Не «перелистал», как думал поступить раньше, а прочел взахлеб, прямо-таки проглотил «Алые паруса» Грина (и другие его произведения!), от корки до корки — очень уж любопытно было узнать про Артура Грэя. Читал — не мог остановиться! «Алые паруса» — это книга для нас, для романтиков и мечтателей, к которым, со дня встречи с Аней, я причисляю и себя. Впрочем, я и раньше, сколько себя помню...
Спасибо, Аня, за Артура Грэя! Я бы тоже с особым удо-
240
вольствием прибыл за тобой на белом корабле под алыми парусами. Да вот, обстановка не позволяет. И вообще: будь даже мирные времена, нужно, как минимум, иметь корабль (паруса я бы постарался осилить), а его нет.
Я не очень-то иронизирую, я бы на самом деле что-нибудь придумал. Сотворил бы, по Александру Грину, чудо собственными руками. Можно ведь снарядить под алыми парусами и белую лодочку! Вот это было бы и сказочно, и прекрасно и, к тому же — вполне реально! Нет, честное слово, что-то можно было бы придумать удивительное. Ну и Аня! Не напрасно направила меня на «Алые паруса»! Можно будет потом всю жизнь, после войны, — творить такие вот чудеса, все вокруг (ну не все, так многое!) превращать в особенную радость! Чудеса своими руками... Открытие Александра Грина!
Но зачем теперь говорить... Ничего этого нет. Есть на самом деле другое — война. И сотни, сотни километров расстояния между нами, Аня... А как бы хотелось увидеть тебя, родная! Хотя бы во сне, как на днях! Почему сны снятся так редко?
Моя чудо — девочка, дай Бог нам с тобой действительно повзрослеть в самом лучшем смысле этого слова. Пережить войну, победить немцев. Ну, победить-то мы их победим, мы их, конечно, одолеем, вся наша страна поднялась, от мала до велика, что всегда и происходит в критические времена — вспомним историю! Вспомним Минина и Пожарского, Дениса Давыдова, — я имею в виду не только официальное войско, но и народ в его справедливом гневе.
Все трудности еще впереди. Они ждут нас, а как нужно, чтобы мы остались живыми-здоровыми, на славу послужив при этом Родине! Чтобы мы, в итоге, дожили, я и ты, моя замечательная Аня, до фантастически далекого, но все-таки вполне для нас возможного двухтысячного года и, сидя рядом, вместе вспоминали бы о ни с чем не сравнимых (да, моя любимая, о ни с чем не сравнимых) переживаниях нашей трудной и такой чудесной юности...
241
Двухтысячный год... Не будут, может быть, такими синими твои глаза, и кудри не будут такими блестящими и темными, как сегодня... Закон природы... Но останется твоя душа, добрая, любящая, и, конечно, мечтающая о волшебствах... Твоя душа — самое главное, самое важное в человеке. Да и внешность... она меняется с возрастом, не может не меняться, но своя особенность, своя красота не исчезает. Не должна исчезнуть бесследно. Красивый человек — всегда красивый, так я думаю.
27 августа 1941 года
Аня, дорогая! Я уезжаю в армию сегодня. Я собрал все свои силы, духовные и физические, крепко зажал их в кулак для того, чтобы не погибнуть, а вернуться к тебе с Победой. Думаю, что труд и учеба, которыми до фронта какое-то время буду занят по горло в военном училище, не оставят мне времени для печальных размышлений, а твои письма (как я буду их ждать!) дадут мне уверенность в нашем с тобой счастливом будущем.
Еще не знаю, куда меня направят — от меня теперь ничего не зависит! К счастью или нет, но не подал я тогда заявление в упомянутое тобой артучилице. Теперь распоряжается мной только судьба. Понадеемся на судьбу!
Письма всех моих деревенских знакомцев и даже родни с их милыми и привычными «чистосердечными приветами» и «добрыми днями или веселыми вечерами» пришлось, к сожалению, порвать. При всем моем уважении к землякам, я должен ехать налегке, а оставлять родителям в письменном столе то, что им впоследствии не очень-то будет нужно, или, чего доброго, заставит лишний раз вспомнить и загрустить обо мне — не стоит. Им с лихвой хватит и этой синей тетрадочки! Правда, я не решил, как с ней поступлю... Может быть, еще сбегаю к Сашке Дубровскому и оставлю тетрадь у него? Нет, не знаю. Ведь Сашу тоже не сегодня — завтра возьмут в армию.
242
Есть, есть на свете один-единственный человек, которому я эту тетрадку отдал бы без раздумий и колебаний, но до Свердловска мне пока не добраться.
Аня! Твое то письмо, твою телеграмму, записку с маленькой фотокарточкой я, конечно, беру с собой. И то фото, где ты созорничала, что с нарисованным ртом: не оставлять же его здесь, как сказала бы наша Лидия Николаевна, «неизвестно зачем и для чего»! И только что полученную открытку беру с собой. Твою открытку для Клавы тоже хотелось бы увезти: ведь не будь тебя и меня, не было б и открытки. Там твой почерк, и как там светится твоя душа, Аня! Твой необычный и такой непохожий на других склад характера! Взять хотя бы эти несколько строчек о белом цветке, который ты спасала! И вообще всю манеру изложения, такую особенную и красивую, только твою!
Ну да ладно, эту открытку вынужден оставить, так как все-таки не мне она адресована. Клава пока находится в деревне. Как приедет — прочтет и с удовольствием ответит. Ты ей пиши! Что она сделала с белым цветком — я не знаю, но в комнате у нас я его не видел. Сама понимаешь: цветам нужна почва, нужны корни, и в вазочке с водой ему, срезанному, долго было не простоять.
Как же вы все-таки с Клавой перезнакомились? Интересно! Не забудь изложить это, как только мы спишемся.
Сегодня я позвонил в твою квартиру последний раз... Не мог себе отказать, хоть понимаю, что сейчас подойти к телефону ты никак не можешь, это действительно было бы самым настоящим чудом, но чуда не произошло, а я так хотел, так ждал его. Да, самым настойчивым образом ждал, и даже был уверен, что дождусь! Но что тут делать? От судьбы мы чаще всего, наверное, получаем не то, о чем молим и просим, а лишь то, что она сама решила нам дать.
Раненько утром я долго — долго слушал длинные гудки из твоей квартиры... вопреки здравому смыслу я все-таки... все-таки думал, что их прервет твой голос, Аня, дорогая. Никак
243
не могу понять, почему есть люди на свете, которые так упорствуют против этого самого здравого смысла... И почему я из их числа...
Так вот: эти длинные гудки напомнили мне (я так легко вызываю в памяти звуки твоего мелодичного голоса!), как, после второго гудка, а то и после первого (ты ведь такая быстрая, милая Анечка!), в трубке слышалось твое: «Да-а... Ко-оля, это ты?»... Потом я почему-то всегда спрашивал, выйдешь ли ты погулять, хоть накануне вечером было тобой обещано, что обязательно выйдешь... На это ты отвечала: «Выйду». Тогда я говорил: «Жду». Помнишь? А ты: «Иду». Всегда коротко, просто и одинаково. Но я воспринимал эти наши простые слова значительными и всегда — разными! Да, так оно и было.
Кстати, о прогулках. Не хочу показаться тебе учителем — нравоучителем, но! Вечера стали прохладные, на пороге сентябрь. Тем более об этом надо помнить в Свердловске: Урал это не Москва. Поэтому надевай, если куда пойдешь вечером, теплую кофточку. Что еще хотел сказать? Многое, многое, но разве все скажешь? И мне пора, я должен уходить.
Аня! Главное, о чем не успел (или не сумел!) тебе сказать (но не раз еще напишу в письмах): я горжусь твоей любовью, которую, как и тебя, считаю чудом, подаренным мне на все времена. И я люблю тебя, дорогая, и всегда буду любить тебя, что бы не случилось.
На всем белом свете ты одна мне нужна, только ты. До скорого (или не скорого) свидания.
Коля. 27 августа 1941 года, Москва.
244
ПОВЕСТЬ О ЛЮБВИ
История, рассказанная в этой повести, отдалена от нашего сегодня не только во времени (более полувека), но и резкой сменой социально-политической обстановки в стране — ведь сегодня мы живем в совершенно другой эпохе. Многое изменилось, изменились и представления новых поколений молодых людей о любви, верности и дружбе.
Между тем, повесть эта документальная и автобиографическая. Ее автор Анна Гудзенко (Блинова) написала о себе и о своем, погибшем на войне друге — Коле Большунове.
Я много лет дружу с автором повести, хотя по-настоящему мы с ней сблизились во время войны, когда еще школьницами, оказались в эвакуации, в разных городах Урала и Сибири, и вели активную переписку о прошлом, настоящем и будущем.
А в те дни, когда происходили события этой повести, мы с Аней были просто одноклассницами, и я лишь со стороны могла наблюдать зарождение любви девочки из нашего класса со старшеклассником, красивым, серьезным мальчиком, который казался особенно интересным и даже загадочным оттого, что мало говорил и совсем не старался обратить на себя внимание. Я не была посвящена в детали развивающихся взаимоотношений между Колей и Аней, но все, что сказано в повести, воспринимаю как само собой разумеющееся. Зато
245
я была свидетельницей того, как свято хранила Аня память о Николае Большунове, павшем смертью храбрых на войне. Как настойчиво она искала (и нашла!) место его гибели, как поехала туда и добилась, чтобы имя Коли было на скромном памятнике, установленном на братской могиле. Как кропотливо разыскивала в архивах следы, говорящие о последних днях жизни и трагическом положении, в котором оказалась воинская часть, где воевал Николай Большунов.
Обо всем этом можно было написать еще столько же, сколько Аня написала в своей повести. Но ведь она писала произведение документальное и считала возможным рассказывать лишь о том, что видела, чувствовала, о чем думала она сама и о чем прочитала в письмах и посмертно в дневнике школьника Коли Большунова, переданном ей его сестрой.
Эта история — лишь одна из характерных историй о первой любви, у которой не оказалось будущего, потому что пришла война и все порушила. О любви и о войне создано множество замечательных произведений. Эта повесть тоже о любви и о войне, как о величайшей трагедии человечества. Только она не звучит набатным призывом или скорбным колоколом Хатыни, а звенит нежным, серебряным звоном, оборванном на самой высокой ноте.
И я горжусь тем, что оказалась в какой-то мере причастной к этой печальной и светлой истории.
К. М. Исаева
кандидат искусствоведения
5 августа 1997 г.
246
СОДЕРЖАНИЕ
Самое короткое предисловие (А.Баталов)......................3
От автора............................................................................4
Через всю жизнь.................................................................9
На всем белом свете ты одна мне нужна, только ты…77
Повесть о любви (К.М.Исаева).....................................245
Блинова Анна Иосифовна
Я тебя никогда не забуду
Издательство «Новый Центр»
Лицензия ЛР № 064191 от 4 августа 1995 г.
127427 Москва, ул. Академика Королева, 21, тел. 219 — 86 — 11
Подписано в печать 24.02.98 г. Формат 60*84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. листов 14,47.
Тираж 1500 экз. Заказ 725.
Воскресенская типография
Управления Издательств, полиграфии и книжной торговли
Администрации Московской области
140200 Воскресенск, Московской обл. ул. Центральная, дом 30.
