

Повесть
Рисунки Е. Аносова
Посвящается
К. М. ЗЛАТКОВСКОЙ
Оглавление:
| 1 2 3 4 5 6 |
 Мухтар появился в питомнике совершенно неожиданным образом.
Мухтар появился в питомнике совершенно неожиданным образом.
В одну из летних ночей тысяча девятьсот пятидесятого года дежурному по
Управлению милиции города позвонили с Финляндского вокзала. Было это уже под
утро, дежурный порядком устал, ночь прошла беспокойно, поэтому он не сразу
сообразил, о чем идет речь.
— Не понимаю, — раздраженно говорил он. — Почему отцепили вагон? Какая
собака, чья?
Положив трубку, дежурный сказал своему напарнику:
— Совсем с ума посходили! Пса, понимаешь ли, испугались... Приучились,
дьяволы, чуть что, трезвонить в милицию!
Оба они, и дежурный и его помощник, считали, что происшествия, выпавшие
на их ночную долю, уже закончились, и этот пустопорожний звонок был тем
ненужным, хлопотливым довеском, который выводил их из себя.
— Записывать в журнал? — спросил помощник.
— Еще чего! — сказал дежурный.
Но, походив по комнате минут пять, чтобы разогнать предутреннюю
усталость, он позвонил на Финляндский вокзал и спросил диспетчера:
— Ну как там у вас с собачкой?
Диспетчер что-то ответил ему, на что он саркастически бормотнул:
— Железнодорожнички! Распустили сопли из-за щенка...
Но тут же дежурный сразу вызвал проводника собак Глазычева, спавшего
рядом в комнате отдыха, и велел ему быстренько съездить на Финляндский
вокзал.
— Заберешь там из вагона какую-то бесхозную собаку — она, говорят,
хулиганит — и отвезешь к себе в питомник.
— Взрослая собака? — спросил Глазычев, беря из шкафа плащ. — Какой
породы?
— Я с нее анкеты не снимал, — ответил дежурный.
Спокойно улыбнувшись, маленький неторопливый Глазычев аккуратно
застегнул плащ, надел кепку, примял ее, проверил, лежит ли в кармане плаща
крепкая веревка с металлическим карабином для ошейника, и вышел на площадь к
оперативной машине.
На Финляндском вокзале он справился в отделении дорожной милиции, где
собака и что, собственно, она натворила. Лейтенант, только что заступивший на
дежурство, ничего порядком не знал, кроме того, что пес находится в отцепленном
вагоне на шестом запасном пути у будки стрелочницы.
— Дать вам с собой милиционера? — спросил лейтенант.
— Да нет, — ответил Глазычев. — Палка у вас какая-нибудь есть? Метра на
полтора.
Палку вынули из метлы. Не спеша Глазычев пошел на шестой путь. Будку
стрелочницы он увидел еще издали, подле нее толклось человек десять народу;
оттуда доносились громкие, взволнованные голоса.
Когда Глазычев приблизился, стрелочница, коренастенькая бабенка в
ватнике, тыча свернутым флажком в сторону вагона, стоящего неподалеку, азартно
досказывала, вероятно не в первый раз, подробности недавнего события:
— Носится кобелина по вагону, из двери в дверь, из двери в дверь!
Выкатил глазища, язык на сторону... Пассажиров всех выгнал, проводница как
залезла с ночи в туалет, так до сих пор там и запершись. Я уж ей через окошко
кефир носила... Подходит время отправлять состав в обратный рейс, диспетчер
лается, в чем задержка, а бригадир говорит: «Я не могу катать в порожнем вагоне
одного пса, тем более за него не плачена проездная плата».
Затем стрелочница, переваливаясь на своих коротеньких тугих ножках и не
переставая трещать, охотно повела всех слушателей на экскурсию к вагону.
Глазычев последовал за ними.
Еще издали стрелочница весело крикнула, очевидно, запертой
проводнице:
— Раиса, как жизнь молодая?
В крайнем, чуть-чуть приоткрытом, вымазанном густыми белилами вагонном
окошке показалось испуганное лицо пожилой женщины.
— Чего слышно? — тихо спросила она.
 — В милицию звонил диспетчер, — на ходу захлебывалась стрелочница. —
Сейчас пришлют человека, стрельнет — и все... Выйдешь, Раисочка, на волю. А пока
хорошо: тебе с перепугу недалеко бегать...
— В милицию звонил диспетчер, — на ходу захлебывалась стрелочница. —
Сейчас пришлют человека, стрельнет — и все... Выйдешь, Раисочка, на волю. А пока
хорошо: тебе с перепугу недалеко бегать...
— Убивать жалко, — все так же тихо сказала Раиса. — Я могу еще потерпеть.
— Глупости! — фыркнула коротконогая стрелочница. — Было б из-за
чего.
 Она подвела своих спутников к середине вагона. Здесь на земле стояла
высокая чурка, которую, должно быть, подкатили под окно. Взобравшись на эту
чурку, стрелочница осторожно, потихоньку приподымая голову, словно кто-то сквозь
закрытое окошко мог в один миг отхватить ее, заглянула внутрь вагона.
Она подвела своих спутников к середине вагона. Здесь на земле стояла
высокая чурка, которую, должно быть, подкатили под окно. Взобравшись на эту
чурку, стрелочница осторожно, потихоньку приподымая голову, словно кто-то сквозь
закрытое окошко мог в один миг отхватить ее, заглянула внутрь вагона.
— Есть! — прошептала она. — Лежит, бандит, у самой двери...
На чурку по очереди стали взбираться любопытные. Даже какой-то
старичок-боровичок, кряхтя и цепляясь за плечо стрелочницы, вскарабкался к
окошку и поскреб пальцами по стеклу. Тотчас же из вагона донеслось рычание,
затем густой, осипший лай. В окне показалась крупная собачья голова. Старичок
ссыпался вниз.
— Видали? — восторженно взвизгнула стрелочница.
Люди столпились внизу под окном. Погавкав на них, собака склонила голову
набок и стала следить за мухой, ползущей по стеклу.
Глазычев подошел к стрелочнице.
— Вот что, девушка, — сказал он, как всегда неторопливо и дружелюбно. —
Публику вы отсюда уберите, а мне, если можно, одолжите на десяток минут свой
ватничек. Хлебца у вас, случайно, нету? И вагончик мне отоприте.
Публика отошла в сторону и остановилась неподалеку.
Стрелочница дала Глазычеву ватник, горбушку хлеба и ключ от вагона.
— Вы бы лучше палили через окошко, — посоветовала она Глазычеву.
Он взобрался на высокие ступеньки, отпер дверь и вошел в тамбур.
Очевидно, внутренняя вагонная дверь была неплотно прикрыта: Глазычев
услышал, как собака ударила по ней лапами и распахнула с такой силой, что дверь
стукнулась о стенку.
Теперь пес был совсем рядом, отделенный только дверью из тамбура.
 Придерживая за ручку, Глазычев приоткрыл ее и бросил за порог на пол
горбушку хлеба.
Придерживая за ручку, Глазычев приоткрыл ее и бросил за порог на пол
горбушку хлеба.
Собака хлеб не взяла и гулко залаяла, пытаясь просунуть морду в
щель.
— Молодец, — сказал Глазычев. — Хорошо. А чего, в самом деле, со мной
церемониться! Тебя как, дурака, зовут?
Он обращался к собаке не то чтобы ласковым, а удивительно спокойным и
даже уважительным тоном. Оскалив крупные клыки, залитые слюной, сморщив темный
нос и выгнув книзу широкую шею, на которой торчком встала длинная шерсть, собака
злобно лаяла. Ее особенно раздражало, что сквозь щель в дверях Глазычев был
совсем рядом, а схватить его не было никакой собачьей возможности.
 — Ну что? — уговаривал ее Глазычев, незаметно делая последние
приготовления: он закреплял на конце длинной палки короткую веревку с карабином.
— Ну, чего расходился? Я ведь все равно тебя умнее. И нисколько я тебя не
испугался. Давай лучше сделаем по-хорошему... Не хочешь, дурень? Ну смотри, дело
твое...
— Ну что? — уговаривал ее Глазычев, незаметно делая последние
приготовления: он закреплял на конце длинной палки короткую веревку с карабином.
— Ну, чего расходился? Я ведь все равно тебя умнее. И нисколько я тебя не
испугался. Давай лучше сделаем по-хорошему... Не хочешь, дурень? Ну смотри, дело
твое...
Затем он быстро и сильно толкнул плечом дверь, так что пес от
неожиданности отпрянул назад, и перешагнул порог.
Не останавливаясь, Глазычев решительно пошел на собаку, и, когда она,
тотчас же опомнившись от удивления, что ее не боятся, бросилась навстречу, он
ловко сунул вперед левую руку, обмотанную ватником, прямо в ее раскаленную
пасть.
Пес впился в ватник. А Глазычев спокойно правой рукой зацепил карабин об
его ошейник.
Минут через двадцать они оба выпрыгнули из вагона: собака, привязанная к
концу длинной палки, и Глазычев, держащий эту палку за другой конец.
В питомнике он запер пса в просторную клетку. Из собачьей кухни принес и
поставил ему кастрюлю с жирным супом. К вечеру, перед уходом домой, Глазычев
зашел его проведать. Кастрюля лежала на боку, суп из нее вытек. Пес кинулся на
проволочную сетку, встал на задние лапы и зарычал.
Старший инструктор Дорохов, который подошел к клетке вместе с
Глазычевым, сперва присел на корточках, потом зашел сбоку, справа и слева
осматривая беснующуюся собаку, и в заключение крикнул Глазычеву, перекрывая
лай:
— Хороша машина!
В устах Дорохова это было высшей похвалой псу.
Назавтра нашлась его хозяйка. В питомник приехала на «Победе» отлично
одетая женщина, от которой так пахло духами, что, казалось, даже ее автомобиль
работал не на бензине, а на духах. Запах этот был настолько силен, что тридцать
семь кобелей в клетках подозрительно зашевелили влажными черными ноздрями, когда
она прошла в кабинет к начальнику, майору Билибину.
Отрекомендовавшись женой капитана первого ранга, она сообщила, что
собака, задержанная накануне в поезде, принадлежит ей.
Собачьи документы, родословная были у женщины при себе.
Просмотрев их, Билибин спросил:
— Каким же путем вы его потеряли в вагоне?
— Я его не теряла. Я от него ушла.
Увидев, что Билибин удивленно прищурился, она пояснила:
— Да, ушла совершенно сознательно. Я велела ему лечь под скамью. Он не
соизволил послушаться. А когда я замахнулась на него поводком, он бросился на
меня. Посудите сами, товарищ майор: мне было стыдно перед пассажирами! Собака,
бросающаяся на свою хозяйку...
— Согласно документам, — перебил ее Билибин, — хозяином немецкой
овчарки, по кличке Мухтар, является гражданин Колесов А. С.
— Это мой муж.
— Прошу паспорт, — сказал Билибин.
Женщина Билибину не понравилась. Ему было не по душе, что она сразу
заявила о своем браке с капитаном первого ранга. Билибин не терпел, когда на
него пытались воздействовать чинами и званиями. Вообще, эта женщина не
понравилась ему всем, даже тем, что на нее бросилась собственная собака. А если
майору Билибину кто-нибудь не нравился, то он становился таким отчаянным
формалистом и чиновником, что его самого тошнило от этого, но сдержаться у него
не хватало сил.
— Гражданин Колесов А. С. действительно является вашим мужем, — сказал
Билибин, отдавая ей паспорт.
— А я в этом нисколько не сомневалась, — язвительно ответила
женщина.
— Остается только одно: собака должна опознать вас.
— Вы хотите сказать, что я должна опознать собаку?
— Таков порядок, — ответил Билибин. — Пройдемте на территорию.
Мухтар почуял хозяйку еще издали. Из грозного зверя он вдруг превратился
в щенка. Подпрыгивая от счастья на всех четырех лапах, Мухтар повизгивал,
вертелся на месте, хвост его затикал, как маятник. В соседних клетках беспокойно
забрехали собаки, когда мимо них проходила незнакомая посетительница, а Мухтар в
ужасе слушал их лай, не понимая, как же можно так негостеприимно встречать его
хозяйку. Он тотчас же грозно зарычал на этих невеж, пытаясь объяснить им, что
если они сию секунду не замолчат, то будут иметь дело лично с ним.
Все это произошло еще до того, как Мухтар увидел свою хозяйку. Когда же
она появилась перед его клеткой, он повалился на пол, задрал кверху лапы и стал
елозить хребтом по полу, изгибаясь в разные стороны и кося на нее светящиеся
восторгом глаза.
«Я могу и так, и так, и эдак, — рассказывали его глаза. — Я очень
веселый, я ужасный шутник, я чуть не издох без тебя...»
— Убедились? — спросила Билибина женщина.
Услышав ее неповторимый голос и запах, от которого он сомлел, Мухтар
перевернулся на живот и пополз к металлической сетке, отделяющей его от
хозяйки.
«Сейчас мы пойдем с тобой домой, — говорила Мухтарова умильная морда. —
Кажется, я в чем-то виноват перед тобой, но ведь ты самая добрая, самая умная,
самая справедливая... Да посмотри же на меня наконец!»
И, словно поняв, о чем он просит, женщина посмотрела на него; затем
обернулась к Билибину и сказала:
— Не согласитесь ли вы взять у меня эту собаку?
— То есть как «взять»? — спросил Билибин. — Купить?
— Я могу отдать ее даром.
— Зачем же, — сухо сказал Билибин. — За хорошую собаку мы платим
приличную сумму,
— Интересно, какую же? — засмеялась женщина.
— До тысячи двухсот рублей.
— Слышишь, Мухтар? — весело сказала женщина. — Мне предлагают за тебя
тысячу двести рублей.
Мухтар радостно залаял.
— Эту сумму мы даем только за очень хорошую собаку, — сказал Билибин. —
И после соответствующей проверки.
— Его родители знаменитые золотые медалисты, — сказала женщина.
— Этого еще мало. — Глядя ей в глаза и с удовольствием думая, что то,
что он сейчас скажет, имеет второй, сладкий для него смысл, Билибин продолжил: —
Родители могут быть трижды знамениты, а сын или дочь — порядочной дрянью.
— Ну что ж, — сказала она. — В общем-то, мне все равно. Деньги не играют
решающей роли. Как скоро вы можете устроить эту самую проверку? Мухтар ужасно
линяет, в квартире от него кошмарная грязь...
Билибин ответил, что оценку собаки можно произвести сейчас же, если у
гражданки Колесовой есть полчаса свободного времени: она сама должна принять в
этом участие.
Был вызван ветеринарный врач питомника Зырянов — поджарый крепкий старик
с длинным лицом, старший инструктор Дорохов и проводник собак Глазычев.
— Возьмите пса из клетки, — сказал Билибин хозяйке, — и выведите его к
нам на тренировочную площадку. Он у вас хоть немного обучен?
— Александр Серафимович с ним занимался.
— Это кто ж такой? — спросил Билибин, хотя и понял, о ком она
говорит.
— Мой муж.
Она вывела Мухтара из клетки на поводке. От волнения и счастья он тут же
задрал заднюю ногу на пенек. Он досадовал на эту вынужденную задержку и все
посматривал назад, под свой живот, скоро ли это безобразие кончится. Оно
длилось, и Мухтар все это время страдальческими глазами глядел на хозяйку.
На площадке Мухтара осмотрел ветеринар. Рядом, совсем близко, стояла
хозяйка и ласково гладила его по голове, чесала ему бок. Вытянув вверх морду,
Мухтар закатывал глаза под самый лоб, часто и быстро высовывал язык, облизывая
свой нос. За то наслаждение, что он сейчас испытывал, Мухтар разрешил чужому
человеку, от которого пахло множеством собак, осмотреть себя.
— Кобель клинически здоров, удовлетворительной упитанности и чистки, —
сказал ветеринар Билибину.
Билибин сидел за столом, вкопанным на площадке в землю.
— Привяжите его к дереву и отойдите в сторону, — велел он женщине.
К привязанному Мухтару подошел Дорохов и замахнулся на него палкой.
Не отпрянув, не зажмуривая глаз, Мухтар рванулся к нему на всю длину
поводка, и, когда поводок отбросил его назад, он стал рвать ремень из стороны в
сторону.
Дорохов ударил его тряпкой. Мгновенно подбросив свое тяжелое туловище
вверх, Мухтар лязгнул зубами и ухватил тряпку, едва только она взлетела над его
головой. Мотнув шеей, он вырвал тряпку из рук Дорохова и с ненавистью принялся
полосовать ее своими литыми зубами.


— Собака хорошей злобности, — сказал Дорохов Билибину и потише добавил:
— Стоящая собачонка, Сергей Прокофьевич.
Билибин поднялся из-за стола, приблизился к Мухтару сзади и, вынув из
кармана пистолет, выстрелил. Мухтар оставил тряпку, гневно обернулся и бросился
на Билибина.
После этого стали оформлять счет.
Билибин диктовал, женщина писала.
— Сумму проставьте тысячу рублей, — сказал он.
Она засмеялась:
 — Вы говорили — тысяча двести. А ведь мой Мухтар еще умеет приносить
газету.
— Вы говорили — тысяча двести. А ведь мой Мухтар еще умеет приносить
газету.
— Газеты должен носить почтальон, — сухо сказал Билибин. — Глазычев,
собака ела сегодня?
— Вторые сутки не ест, товарищ майор.
— Принесите еду, пусть гражданка покормит его.
Ей вручили кастрюлю с густым супом. Она поставила это подле Мухтара, он
мигом, громко захлебываясь, вылакал все до дна.
— Только посмей вымазать меня жирной мордой, — сказала ему хозяйка. —
Лежать, Мухтар!
Положив голову на вытянутые лапы, он прилег у ее ног и лежал до тех пор,
покуда она заканчивала оформление счета на его продажу.
Перед уходом из питомника хозяйка сама отвела его в клетку. Он шел рядом
с ней, гордо подняв голову, высоко вскидывая лапой, — сытый, счастливый, — и
только бдительно посматривал по сторонам, не грозит ли ей какая-нибудь страшная
опасность. Ведь это именно ее он защищал сейчас от врагов, нападавших с палкой,
с тряпкой, с пистолетом.
Шел Мухтар недолго.
Хозяйка ввела его в клетку, велела: «Сидеть!» — и вышла вон. Сколько
было сил, вздрагивая от напряжения, он заставлял себя не двигаться с места, пока
не увидел, что ее платье исчезло за поворотом. Еще мгновение он втягивал
ноздрями то, что оставалось от хозяйки, — ее острый запах, — а затем сорвался с
места, в один прыжок достиг металлической сетки и, ткнувшись в нее носом, тонко
заскулил.
Глазычев приблизился к клетке. С жалостью глядя на тоскующего пса, он
тихо сказал ему:
— Ну что? Познакомился с человечеством?..
Мухтар вскинулся на задние лапы и свирепо зарычал.
Так началась его служба в милиции.
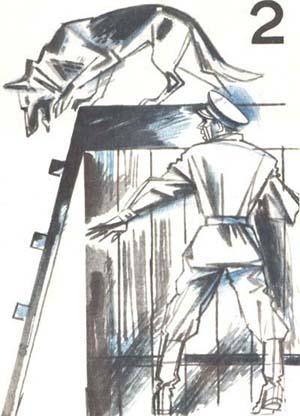 Собственно, служба началась не сразу. Для того чтобы превратиться из
домашней собаки в служебно-розыскную, Мухтару пришлось потратить год напряженной
жизни.
Собственно, служба началась не сразу. Для того чтобы превратиться из
домашней собаки в служебно-розыскную, Мухтару пришлось потратить год напряженной
жизни.
Ему надо было учиться. Он поступил в школу.
В ленинградском милицейском питомнике уже давно не выводят и не содержат
щенков. Оказалось, что первый год щенячьей жизни обходится государству в
одиннадцать тысяч рублей. Каким образом невинному щенку удавалось так
беспардонно объедать государство, сказать трудно. Сам-то он лакал не так уж
много — рублей на пять в день, но, покуда у него прорезались зубки и открывались
глаза, в графе накладных расходов угрожающе росли цифры. На каждого еще
полуслепого щенка накидывались чьи-то зарплаты, какой-то ремонт, чьи-то дрова и
даже стоимость украшений питомника к Первому мая и к Седьмому ноября. Когда все
это было подсчитано начфинами хозяйственных управлений и соответственно доложено
по инстанциям, инстанции пришли к выводу, что разводить щенков
нерентабельно.
Был установлен иной порядок.
Питомник стал закупать взрослых собак, в возрасте от года до двух.
Каждая такая собака закреплялась за одним проводником. Он работал с ней
до конца ее служебной жизни, лет восемь-девять. Затем собаку выбраковывали,
списывали и проводник получал другого пса. Сук в питомнике не держали, ибо два
раза в год они были неработоспособны: им хотелось рожать.
Незадолго до скандального появления Мухтара у проводника Глазычева
погибла собака. Он успел поработать с ней недолго — года полтора, — особой
привязанности между ними не возникло, и теперь, увидев новую овчарку, Глазычев
стал тотчас же присматриваться к ней.
Вскоре после ее покупки последовал приказ Билибина, соединивший их — пса
и человека — еще в то время, когда Мухтар ненавидел Глазычева всеми силами своей
собачьей души.
Проводник не торопил собаку.
На первых порах ему было важно, чтобы Мухтар смирился с тем, что он,
Глазычев, имеет право подолгу торчать у Мухтара на глазах.
Возясь подле клетки, Глазычев беседовал с собакой на разные темы,
сущности которых она не усваивала, но к тихому и неторопливому голосу его, к
запаху чисто мытого банным мылом тела она постепенно привыкала.
Два раза в день он просовывал в клетку кастрюлю с едой. На седьмые
сутки, ослабев, Мухтар смирился и с этим. Он только не мог сперва есть при
Глазычеве, а делал это тайком, когда никто не видел. Вероятно, ему казалось
тогда, что он ворует еду, а это было менее позорно, нежели принимать пищу из
враждебных рук.
К концу недели на него напала какая-то апатия: ему было все безразлично.
Злобно встречать проводника он уже не мог, а радоваться его приходу было еще
рано; пусть вертится сколько хочет поблизости, лишь бы только не прикасался к
нему руками.
Через проволочную сетку Мухтар видел, как выводили собак, живущих по
соседству, на тренировочную площадку.
Рядом с ним, за деревянной стеной, жил кобель Дон. Рослый матерый
пожилой пес весил пятьдесят шесть кило; когда он чесал бок о стенку, она
подрагивала. Характер у Дона был суровый, шуток он не любил, на жизнь смотрел
мрачно. Проводник его, старший лейтенант Дуговец, воспитывал Дона исключительно
на научной основе, и поэтому взаимоотношения у них были суховато-деловые.
Дуговец строго спрашивал с Дона все, что требовалось по службе, Дон
неукоснительно выполнял его распоряжения; на ежегодных осенних состязаниях они
занимали первые места. Что же касается практической работы в угрозыске, то
никаких особых талантов у Дона не было, и Глазычев даже считал, что Дон — старый
халтурщик.
Вот с этим-то своим соседом на третий день жизни в питомнике и сцепился
Мухтар.
Произошло это таким образом. Собак выгуливали поодиночке два раза в
день, выпуская их для этого в маленький огороженный дворик, густо поросший
лебедой. Минут двадцать собака бегала там, справляя все свои неотложные дела,
затем ее уводили обратно в клетку и на смену выпускали другого пса.
Не заглянув предварительно в этот дворик, пуст ли он, Дуговец выпустил
туда своего Дона. А там в это время, печально свесив голову, стоял Мухтар,
безучастный к окружающему, — его грызла тоска.
 Дон с ходу, не издав ни звука, как это умеют делать только очень злые и
опытные собаки, налетел на него сбоку, свалил с ног и впился в загривок.
Дон с ходу, не издав ни звука, как это умеют делать только очень злые и
опытные собаки, налетел на него сбоку, свалил с ног и впился в загривок.
В первое мгновение Мухтар растерялся. Но, подмятый тяжелой собакой,
полузадушенный, он вдруг ощутил такую ярость на все то, что проделывают с ним
последние дни, такая ненависть пронзила каждый его мускул, что все тело его
напряглось до последней возможности, он извернулся под врагом, перекатившись
через спину, и вскочил на ноги.
Рыча — Мухтар еще не умел драться молча, — он кинулся на Дона, сшибить
его не смог, но рванул всей пастью за ухо, пригнул его голову к земле и только
потом опрокинул. Он был легче своего противника килограммов на пятнадцать,
однако движения Мухтара были неуловимо быстрыми, клыки вонзались, как гвозди,
рвали и снова вонзались.
Первым вбежал во двор Глазычев.
— Дуговец! — позвал он тотчас же.
— Дон, ко мне! Дон, рядом! — заорал Дуговец, влетая во двор.
Дон, может, был бы и счастлив оказаться сейчас рядом со своим
проводником, но старый Дон в данный момент извивался под Мухтаром, раздираемый в
клочья.
— Будешь отвечать! — крикнул Дуговец Глазычеву. — Убери своего
стервеца!
Глазычев сунулся было к клубящимся собакам, протянул руку, чтобы
схватить Мухтара за ошейник, но, увидев бешеную окровавленную морду, отступил и
быстро выбежал со двора.
Он мигом вернулся, волоча пожарный шланг. Тугая струя воды, как палкой,
стукнула Мухтара сперва в бок, а затем начала стегать по всему телу.
Яростно обернувшись, он выпустил Дона и ударил струю лапой. Он хотел
схватить эту палку зубами, но она забивалась в рот, слепила глаза, глушила
его.
Ругаясь, Дуговец повел ковыляющего Дона к ветеринару. Мокрый, ошалевший
Мухтар легко дал увести себя в клетку.
— Намаешься с этим псом, — сказал Дуговец Глазычеву. — Злобу у него надо
снимать. Слушаться тебя не будет...
— Полюбит, так послушается, — беззаботно ответил Глазычев.
— Любви у собак не бывает. Есть рефлексы. Их и надо отрабатывать.
— Да ну тебя, — сказал Глазычев. — Скучно.
— Современному человеку наука не может быть скучна.
— По науке, Дуговец, мы с тобой состоим на семьдесят процентов из воды.
Интересно это тебе?
— Разумеется.
— А мне нет.
Дуговец пожал плечами.
— Ну а собака тут при чем?
— При том, — сказал Глазычев. — Пока. Через год повстречаемся.
И проводник повез Мухтара в школу.
На первых порах учение давалось ему с трудом.
Он был упрям, горяч и любил делать только то, что ему нравилось.
Бывало так, что Глазычев часами мучился с ним, добиваясь безотказного
выполнения какого-нибудь самого простого приема общего послушания, а Мухтар,
словно издеваясь над ним, валял дурака.
И тут же с легкостью он проделывал то, чего не могли выполнить хорошо
дисциплинированные собаки.
Хуже всего обстояло дело, когда за его работой наблюдало начальство. Он
этого не выносил. Какой-то собачий бес вселялся тогда в Мухтара, превращая его в
тупого, капризного и злобного пса. Школьные инструктора совсем было махнули на
него рукой, Глазычев выслушал от начальства немало горьких слов, — но на
выпускных испытаниях Мухтар внезапно получил высший балл за работу по следу.
След был проложен пять часов назад, по трудной местности, он шел и по
булыжной дороге, и вдоль нее, через кустарники и овраги, выходил на асфальт,
пересекался широкими тропками — и под тупыми, и под острыми углами; прокладчик
зарыл на следу в землю одну свою рукавицу, вторую подвесил на дерево, а в конце
своего пути, протяженностью в три километра, он спрятался между высокими
поленницами дров.
— Пустой номер, — сказал начальник учебной части, когда дошла очередь до
Мухтара. — Проскочит первый же угол...
Глазычев подвел собаку к дверям сарая, откуда начинался путь
прокладчика, тихо сказал ей: «Нюхай, Мухтар!», затем, вложив в голос все свое
беспокойство за судьбу испытаний, тревожно прошептал:
— След, Мухтар! След!..
И спустил его с поводка.
Собака сперва пошла медленно, принюхиваясь и чихая от пыли, которая
набивалась в ноздри; погода стояла сухая, запах прокладчика быстро выгорал на
солнце.
— Пустой номер, — повторил начальник учебной части. Он придвинул к себе
оценочный лист собаки и горестно почмокал: четверки и тройки обильно усеяли
страницу. Этот проклятый пес может крепко занизить общую картину выпускной
группы.
Нервно зевнув, начальник учебной части прикрыл рот ладонью. Он всегда
нервно зевал, когда ему хотелось опохмелиться, «поправиться», а для этого не
представлялось ближайшей возможности. Нащупав в кармане кителя обгрызенный
мускатный орешек, который он всегда носил с собой в качестве закуски, для
отбития аромата алкоголя, начальник с тоской двинулся за удаляющейся
собакой.
Мухтар шел все быстрее. Он держал нос у самой земли. Глазычев едва
поспевал за ним.
Дойдя до первого тупого угла, Мухтар покрутился на развилке, все более и
более распаляясь против того человека, что оставил свой еле слышный след в пыли,
свернул было с дороги на тропку, однако здесь запах совсем пропал, и Мухтар
снова вернулся на булыжное шоссе.
От булыжника било в нос лошадьми, железом, резиной, кошкой, коровами,
бензином, бензином, бензином, но сквозь всю эту вонь пробивался и раздражал
Мухтара и гнал его вперед запах врага, которого ему велел найти Глазычев.
На шоссе попалась вторая развилка, третья, — Мухтар миновал их, не
задерживаясь. Он уже бежал рысью, по-прежнему ведя нос над самой землей.
Булыжник кончился, запах ушел в кусты, спустился в овраг, здесь он уже гремел
вовсю. Он внезапно так усилился, этот запах, что Мухтару показалось, будто враг
зарылся под палые листья в землю. Быстро покосившись на проводника — здесь ли
он, Мухтар стал яростно разбрасывать передними лапами кучу мусора.
Дорывшись до закопанной рукавицы, он рванул ее зубами, но подоспевший
Глазычев тотчас же отнял ее, велел сидеть и, ткнув рукавицу ему в нос, приказал:
«Нюхай!»
Бока пса дрожали от возбуждения.
Подошли члены комиссии, один из них сказал:
— Собака работает заинтересованно.
 Понюхав рукавицу, Мухтар ходко пошел дальше. Теперь уже он ни в чем не
сомневался. Ему только хотелось поскорее выполнить приказ проводника и дождаться
от него одобрения. Проводник все время бежал сзади; еще поотстав, за ним
двигались какие-то люди, и от одного из них пахло тем же, что и от ларьков,
стоящих на углу.
Понюхав рукавицу, Мухтар ходко пошел дальше. Теперь уже он ни в чем не
сомневался. Ему только хотелось поскорее выполнить приказ проводника и дождаться
от него одобрения. Проводник все время бежал сзади; еще поотстав, за ним
двигались какие-то люди, и от одного из них пахло тем же, что и от ларьков,
стоящих на углу.
На бегу Мухтару нанесло ветром в нос вони, которой он сейчас нанюхался
из рукавицы. Только теперь вонь шла не от земли, а откуда-то поверху.
Замедлив шаг, он почуял, что потоки ее низвергались справа, с
дерева.
Он остановился под березой и, ничего не видя в ее листве, залаял на
запах.
Глазычев снял с ветки вторую рукавицу.
— Молодец, — сказал он Мухтару. — Умница!
— Поощрять собаку надо уставными словами, — поправил проводника
начальник учебной части. — Если каждый курсант начнет заниматься
самодеятельностью...
 Дальше Глазычев не расслышал: Мухтар понесся вперед и он побежал за
ним.
Дальше Глазычев не расслышал: Мухтар понесся вперед и он побежал за
ним.
Прокладчик в ватном тренировочном костюме сидел в дровах и докуривал
папиросу, пуская дым себе за пазуху. Он задумался, высчитывая, сколько дней
осталось до получки, когда прямо с поленницы Мухтар прыгнул на него, повалил на
дрова и стал рвать на нем толстый комбинезон.
Подоспел Глазычев и за ошейник отодрал пса от прокладчика. Мухтар не
совсем понимал, почему у него отнимают добычу, которую сперва так настойчиво
приказывали выследить. Задыхаясь в крепких руках проводника, он хрипел, лаял и
рвался к врагу.
Приблизились и члены комиссии. Начальник учебной части недовольным
голосом произнес:
— Собака еще сырая. Она способна причинить покусы.
После долгих споров Мухтару выставили за следовую работу пятерку.
К вечеру испытания закончились. В оценочном листе был выведен средний
балл — 4,6.
Мухтар вернулся из школы в питомник оформленным для милицейской службы.
В чистенькой новой папке на него завели «личное дело». Оно было тоненькое, как у
всякого начинающего работника.
 Каждый день по две собаки дежурили круглосуточно в Управлении
городской милиции. Их привозили на машине с Крестовского острова, из питомника,
и уводили на задний двор Управления, где в каменном здании стояли две большие
клетки. В ожидании происшествий псы скучали здесь, зевали, спали. Они не умели
играть в «козла», как делали это их проводники в комнате отдыха, покуда не
требовался выезд с собакой к месту происшествия.
Каждый день по две собаки дежурили круглосуточно в Управлении
городской милиции. Их привозили на машине с Крестовского острова, из питомника,
и уводили на задний двор Управления, где в каменном здании стояли две большие
клетки. В ожидании происшествий псы скучали здесь, зевали, спали. Они не умели
играть в «козла», как делали это их проводники в комнате отдыха, покуда не
требовался выезд с собакой к месту происшествия.
График дежурств сложился у Мухтара так, что ему чаще всего приходилось
дежурить вместе с Доном. Взаимная ненависть их со временем не ослабла. А может,
они и чувствовали, что их проводники тоже недолюбливают друг друга.
Дуговец был постарше Глазычева. Ему оставалось несколько лет до выхода в
отставку, и эти последние годы он остерегался на чем-нибудь оступиться. За
тридцать лет службы Дуговец достиг звания старшего лейтенанта, скрывал свою
досаду на это, сочиняя сложные теории, как его постоянно обносили чинами и
наградами и как ему наплевать на все это, ибо самое важное — честно исполнять
свой долг.
Легкомыслие Глазычева раздражало его. Дуговец не доверял людям, которые
любят слишком много шутить. Глазычеву же нравилось донимать его и «заводить»
пустыми разговорами.
— Слушай, Степан Палыч, почему ты никогда не поешь? — спрашивал его
Глазычев.
— То есть как не пою?
— Ну, я никогда не слышал, чтобы ты чего-нибудь напевал.
— Что ж, я псих, что ли, один буду петь?.. На демонстрации или в клубе —
другое дело.
— А почему ж все люди сами для себя напевают?
— Кто это, интересно, все?
— Ну я, например...
— Дуракам закон не писан, — сердился Дуговец. — Ты много чего делаешь
как не положено.
В первые месяцы работы с новой собакой Глазычеву не везло. Во время его
дежурств ничего особенного не случалось, а если что-нибудь и происходило, то
отправляли к месту происшествия Дуговца с Доном.
Как бы ни складывались у Дуговца обстоятельства, возвращаясь, он в
подробностях рассказывал, что именно было предпринято им для раскрытия
преступления. Операция лежала перед слушателями как на ладони: Дуговец чертил на
листке план местности, помечал крестиками, где стоял вор, в какую сторону пошел,
откуда Дон взял его след, и если при всем этом задержать преступника все-таки не
удавалось, то невольно выходило, что преступник совершил какую-то непоправимую
ошибку, из-за которой Дон не смог его найти.
Однажды, приехав с Мухтаром утром в Управление, Глазычев посадил его в
клетку на заднем дворе и зашел к дежурному доложиться. В этот день дежурил тот
самый капитан, который когда-то послал Глазычева на Финляндский вокзал за
взбунтовавшейся собакой.
Перед столом дежурного сидела аккуратная маленькая старушка, с головой,
повязанной двумя косынками — белой снизу и темной поверху. Она внимательно
слушала капитана, поправляя все время свои косынки глянцевыми подагрическими
пальцами и кивая головой.
Капитан объяснял, вероятно, уже долго и рассчитывал, что старушка сейчас
подымется и уйдет. Но она не уходила.
Глазычев тотчас же понял, что дежурному до смерти не хочется принимать
от старухи заявление и он старается во что бы то ни стало убедить ее не
возбуждать дела.
 Наклонившись через стол, он ласково спрашивал:
Наклонившись через стол, он ласково спрашивал:
— Ведь сарай-то ваш был не закрыт? Так? Замка на дверях не было,
так?
Старушка кивала.
— Вот видите! Как же можно, бабушка? И клетка с кроликами тоже была не
на запоре, так?.. Сколько, говорите, у вас там штук сидело?
— Двое. Самец и самочка.
— Ну вот. А может, они взяли да ушли... Почем кролики-то?
— По пятнадцать брала, — ответила старуха.
— Значит, итого тридцать целковых. И вы хотите, чтобы мы расследовали
такое малозначительное дело, посылали к вам проводника с собакой, когда и сам
факт кражи не установлен.
— Давеча приносила им корм, — сказала старуха, — они сидели, а нынче
утром нету.
— Так я же вам объясняю. Они, может, сами ушли. — Капитан через силу
улыбнулся. — Погода хорошая, надоело им сидеть в клетке, видят, замка нет, взяли
да пошли... Вот как, бабушка, — попробовал заключить он. — Никакого заявления
подавать вам не надо, горе ваше небольшое, другой раз будете замыкать сарай.
Протянув ей листок с ее заявлением, он взялся за телефонную трубку.
Старуха держала свою бумагу на весу. Капитан уже разговаривал по
телефону, а она все не уходила. Когда он положил наконец трубку на место,
старуха спокойно сказала ему:
— Жаловаться на тебя буду.
Глазычев шепотом обратился к дежурному:
— Может, мне съездить к ней, товарищ капитан? С утра пораньше время
тихое, я вам не понадоблюсь...
Дежурный раздраженно посмотрел на него.
— Вас, между прочим, Глазычев, не спрашивают. И не имейте привычки
встревать в разговор.
Однако, взглянув боком на старуху и заметив, что она достала из-за
пазухи свернутый конвертом носовой платок, развернула его и вынула оттуда чистый
лист бумаги и авторучку, дежурный сказал ей:
— Нехорошо, бабушка, делаете, несознательно... Сейчас поедете с нашим
работником и со служебно-розыскной собакой.
Бабушка снова согласно кивала головой.
В машине она без всякого страха, с любопытством рассматривала огромного
Мухтара и даже хотела погладить его, очевидно задабривая собаку, чтобы она
добросовестней искала украденных кроликов.
Дом, в котором старуха жила, находился на Охте. Это был старый кирпичный
трехэтажный домина, стоявший в глубине двора; посреди же двора, вероятно,
когда-то помещался каретный сарай, поделенный сейчас дощатыми перегородками на
клетушки-дровяники.
В одной из таких клетушек и жили бабкины кролики.
Двор был сперва пуст, но, как только появился здесь Глазычев с собакой,
тотчас же набежали дети, вышел рослый дворник, из окон стали выглядывать
женщины.
— Начальству привет! — сказал Глазычеву дворник. — Держись, ребята! —
подмигнул он мальчишкам. — Вертайте назад зайцов, а не то собака вам задницы
пообкусывает!
Проводник попросил дворника придержать в сторонке детей, чтобы они не
болтались под ногами; Мухтара он завел в каретник, посветил карманным фонарем в
дровянике; здесь у кроличьей клетки, под распахнутой дверкой, валялась охапка
вялой травы, она была сырой. По сырости след сохраняется крепче и дольше,
поэтому Глазычев указал Мухтару пальцем на траву. Ткнув в нее нос, Мухтар сразу
развернулся и пошел прочь из каретника. Он пробежал не далеко, всего шагов
пятнадцать — до того места, где столпились ребята, и, спружинив к земле лапы,
часто залаял на дворника.
— Правильно! — восторженно крикнул дворник. — Я уже с утра весь двор
заметал, дрова жильцам из сарая носил!.. Мои сапоги любой дух перешибут...
— Обозналась собака, — разочарованно сказала бабка. — Дали мне
завалящего пса, лишь бы отвязаться от старухи.
Окоротив поводок, Глазычев взял лающего Мухтара за ошейник.
— Вы где живете? — дружелюбно спросил он дворника.
— А вон мои окна, от панели первые снизу... Не обижайся на собачку,
бабуля, ей зарплата не идет... В каком, интересно, она у вас чине? — спросил он
Глазычева.
— Рядовая, — ответил Глазычев. — Водички у вас, товарищ дворник, можно
попить?
— Чего доброго, — сказал дворник.
Зайдя в дворницкую, Глазычев стал медленно пить из ковшика и — как бы
случайно — спустил с руки поводок. Мухтар тотчас же натянул его, забравшись под
кровать. Он вынес оттуда в зубах две кроличьи шкурки, отдал их проводнику, затем
деловито направился к плите, поставил на нее свои лапы и облаял закрытую
кастрюлю.
— Суп? — спросил Глазычев, приподымая крышку.
В кастрюле торчали кроличьи ноги.
— Ну и ну! — сказал дворник. — Нашла все-таки, паскуда!
Старуха смотрела на него, отвалив нижнюю челюсть, подбородок ее
вздрагивал.
— Я же тебя ростила, Федя, — сказала она.
— Внук? — спросил Глазычев.
Не отвечая, она развязала две свои косынки; тоненькие сухие седые волосы
рассыпались на ее голове.
— Как же ты, Федя, без спросу? А? — Голос у нее был тоскливый,
жалобный.
— Да ну вас, бабуля! — отмахнулся дворник. — Люди больше воруют, а тут
из-за двух крысят шуму подняли, минимум вас зарезали... Мне-то ничего, я деньги
верну, отбодаюсь, а вам совестно: родного внука травите собаками!
— Ну и подлец же ты, — сказал ему Глазычев. — Снимай фартук, поедем в
Управление.
Так на счету у Мухтара появились первые деньги — горестные старушечьи
тридцать рублей.
В питомнике над этой суммой посмеялись. И только начальник, майор
Билибин, поздравил проводника:
— С почином вас, товарищ Глазычев.
Глазычева Билибин приметил с первых же дней работы. Среди проводников
попадались люди случайные. Служба эта неутомительная, неудачи ее всегда можно
свалить на собаку, успехи же приписать себе.
Билибин работал в питомнике с незапамятных времен; с грустью наблюдал
он, как постепенно отмирает это дело: городские мостовые и тротуары становились
все более и более затоптанными, вонючими, собак применяли всё реже, они умели
брать только последний след, а в условиях большого города сохранить место
преступления и окрестность вокруг него свежими удавалось не часто.
В городском Управлении завелось много новых людей, к служебно-розыскной
работе собак они относились снисходительно, полагая ее устаревшей, примерно как
в армии конницу. Из-за этой снисходительности оформлялись порой в питомнике люди
без особого подбора: либо проштрафившиеся на другой работе в милиции, либо
бездарные сотрудники, которых пристраивали в питомнике, не сумев подыскать
подходящей формулировки для их увольнения.
Одним из таких проводников был лейтенант Ларионов. Тридцати пяти лет от
роду, он успел за короткий срок службы в милиции перебрать множество должностей:
был постовым, участковым, начальником паспортного стола, служил в угрозыске. Он
ценил на всех этих должностях только одно: власть. Как известно, плохие
шахматисты не умеют думать дальше своего второго хода, да и то при этом всегда
полагают, что против них играет человек более глупый, нежели они. В
затруднительных случаях лейтенант Ларионов делал то, что ему подсказывала его
власть. Он не задумывался над тем, к чему это приведет и что за этим последует.
Власть давала ему возможность сделать один-два хода. Он их делал. А если потом
ему и влетало от начальства, то это опять-таки не нарушало стройности его
теории: начальство поступало правильно, ибо у начальства была еще большая
власть, нежели у него, у лейтенанта Ларионова.
Суждения Ларионова о людях тоже были просты. Они укладывались в два
понятия: «Ему повезло» или «Ему не повезло». Например, майору Билибину повезло,
писателю Шолохову повезло, авиаконструктору Туполеву повезло, улыбнись же судьба
ему, Ларионову, и он достиг бы точно таких же результатов, как и все эти
счастливчики.
Однако судьба не улыбнулась лейтенанту, ему сильно не повезло — его
перевели в питомник на должность проводника. Пройдя годичный курс обучения в
специальной школе, он получил под свое начальство кобеля Бурана, которого не
любил и побаивался, ибо Буран трижды покусал его за время обучения.
Дела Ларионова на проводницкой службе шли ни шатко ни валко, пожалуй
даже лучше, нежели в других должностях: здесь он был все еще новичком, его
полагалось воспитывать, вытягивать, выращивать.
К нему прикрепили Дуговца, который как старший, опытный товарищ опекал
его, учил, советовал ему.
Дуговец настойчиво повторял:
— Нажимай на теорию, Ларионов. Ликвидируй свою слабинку в части трудов
академика Павлова. Литературу я тебе подберу.
И он принес ему несколько брошюр. Ларионов старательно прочитал их,
сделал выписки в специальной толстой тетради, четко ответил на наводящие вопросы
Дуговца, после чего на еженедельных занятиях в питомнике Буран покусал своего
проводника в четвертый раз.
Перевязывая ему руку, ветеринарный врач Зырянов покачал своей длинной
лысой головой:
— Что ж это с вами получается, товарищ Ларионов? Этак он вам
когда-нибудь в горло вцепится. Буран — зверь серьезный.
— Не повезло мне с собакой, Трофим Игнатьевич. Уж я, кажется,
стараюсь...
Зырянов запыхтел. По природе своей человек мягкий, он всегда начинал
пыхтеть перед тем, как ему надо было сказать кому-нибудь резкость.
— Стараетесь, да не так, — сказал Зырянов. — Давеча прохожу я мимо
Бурановой клетки, он ест, а вы ни с того ни с сего обозвали его заразой.
Конечно, ему обидно... И вот вам результат.
Он показал на перевязанную руку Ларионова.
— По-вашему, значит, выходит, собака понимает разговор? — ухмыльнулся
Ларионов.
Взяв его за плечо и придвинув к себе, словно собираясь сообщить важный
секрет, Зырянов громко сказал ему в самое ухо, как глухому:
— Она решительно все понимает.
Затем он отстранился и уже обыкновенным тоном спросил:
— Вы книжки про животных любите читать?
— Товарищ Дуговец меня снабжает, — ответил Ларионов.
— Ну а вот, например, Джеком Лондоном вам доводилось увлекаться?
— Не попадался мне, — ответил Ларионов.
В то же день он рассказал Дуговцу свой разговор с ветеринарным
врачом.
Выслушав, Дуговец иронически улыбнулся и постучал пальцем по своему
виску:
— Я давно замечаю — старик у нас чокнутый.
Но, поразмыслив над всем этим, Дуговец пришел к выводу, что дело, может,
вовсе и не так просто, как кажется с первого взгляда.
Он явился к начальнику питомника майору Билибину.
— Я насчет нашего ветврача, Сергей Прокофьевич, — сказал Дуговец. — По
совести говорят (Дуговец произносил это выражение именно так: не «по совести
говоря», а «по совести говорят»), по совести говорят, беспокоит меня Зырянов.
Это же фигура, Сергей Прокофьевич! Молодежи бы надо равняться на таких
специалистов...
Билибин слушал хмуро. Он знал, что если Дуговец начинает так хорошо
говорить о человеке, то, значит, человек этот чем-то раздражает его.
— А разговоры мне его не нравятся, — тотчас же сказал Дуговец. — Взять
хотя бы со мной. Согласно последних данных, порода наших собак нынче называется
«восточноевропейская овчарка». А Зырянов, в присутствии молодежи, именует их по
старинке — «немецкая овчарка». Я попробовал было тактично поправить его, а он
заявляет, что никаких таких восточноевропейских собак в жизни никогда не
встречал... Факт, конечно, маленький, но воспитывать народ надо и на
мелочах.
— Всё? — спросил Билибин.
— Не всё, — ответил Дуговец. — Третьего дня была у Зырянова беседа с
Ларионовым. Ветврач рекомендует ему читать литературу не отечественную, а
исключительно зарубежную. И внушал, между прочим, взгляды, в корне
противоречащие теории академика Павлова.
— Например? — спросил Билибин.
Дуговец протянул ему листок бумаги.
— Я тут все изложил. Чтобы не быть голословным.
Опершись на руку и прикрыв ладонью глаза, Билибин прочитал бумажку.
— Не совестно вам, Дуговец? — устало спросил Билибин.
— А что? — встрепенулся проводник. — Заедают меня эти запятые, Сергей
Прокофьевич!.. Я же окончил только пять классов. В наше время, знаете, как
учили: через пень-колоду...
Билибин сказал:
— Я ведь тоже учился в ваше время. И классов у меня тоже не много, всего
семь.
— Ну, вы-то фигура, Сергей Прокофьевич!
— Бросьте заниматься чепухой, Дуговец. Трофим Игнатьевич Зырянов
отличный работник, дай бог каждому...
— А он за это деньги получает, — сказал Дуговец. — Я его работу не хаю.
Конечно, ваше дело, товарищ майор, я человек маленький... Докладную прикажете
оставить или взять с собой?
— Оставьте, — сказал Билибин.
Когда проводник вышел, он еще раз прочитал бумажонку, скрипнул зубами и,
ткнув в нее горящую папиросу, прожег в середине одну дырку, вторую, третью;
затем для чего-то посмотрел в эти дырки на свет, в сторону окна. Через окно было
видно, как идет по двору Дуговец, размахивающий руками, и рядом с ним
Ларионов.
 Мухтар привязывался к Глазычеву все крепче.
Мухтар привязывался к Глазычеву все крепче.
Дело не в том, что собака слушалась своего проводника, — это
сравнительно нехитрая штука. Отношения их были гораздо серьезнее. Мухтар знал, в
каком настроении находится Глазычев. Знал он это по тем невидимым человеку
признакам, о которых не догадывался и сам проводник. Сюда входили не только
голос или выражение лица Глазычева, но и его обыденные, житейские движения: то,
как он вынимал из кармана папиросы, гребенку, носовой платок, как вытирал пот со
лба, как садился и вставал.
Если Глазычев чувствовал утомление, то немедленно утомлялся и Мухтар.
Язык его тотчас же вываливался на сторону, шумно дыша, он поглядывал на
проводника, тактично давая ему понять, что устал, собственно, не Глазычев, а
лично он, Мухтар, и совершенно нет ничего страшного в том, что они сейчас
немножко отдохнут. Когда же работа требовала от них обоих непрерывных и долгих
усилий, Мухтар никогда не позволял себе первым показать, что силы его на исходе.
Он готов был, как и Глазычев, десять раз начинать поиски сначала, чувствуя себя
виноватым и глубоко несчастным, если они не увенчивались удачей.
Неутомимость его удивляла даже крепкого на ходьбу Глазычева.
— А ты, брат, железный, — говорил ему иногда проводник.
Хвостом, глазами, ушами, всем своим телом Мухтар отвечал:
— Ничего не поделаешь — служба!
Хвост у Мухтара вообще был необыкновенно выразительный; такие простые
чувства, как умиление, радость, злость в счет не идут. С хвостом Мухтара дело
обстояло сложнее. Бывало, что Глазычев, идя за своей собакой, начинал вдруг
придирчиво посматривать на ее хвост. Казалось бы, все было в порядке, все шло
нормально: Мухтар старательно бежит по следу, рыская носом над самой землей. Но
проводнику постепенно становился подозрителен Мухтаров хвост. Что-то в нем было
лживое и унылое. Глазычев командовал:
— Рядом, Мухтар!
Собака тотчас же подбегала к нему.
Проводник строго спрашивал ее:
— Ты зачем халтуришь? Думаешь, я не вижу? А ну, не липачить, Мухтар!
След!
И, нервно покрутившись на том месте, откуда позвал его проводник, Мухтар
сперва возвращался немного назад, а затем сворачивал со своего прежнего пути и
шел в другом направлении.
Что поделаешь, он действительно слегка схалтурил. Задумался при
исполнении служебных обязанностей. Собакам ведь тоже есть о чем подумать...
По-прежнему худо складывались у Мухтара отношения с начальством. Никого
он не хотел признавать, кроме Глазычева, да еще, пожалуй, поварихи собачьей
кухни Антоновны.
Никакой фамильярности он не позволял и ей, но заносить в его клетку
кастрюлю с едой и ставить ее на пол Антоновне милостиво разрешалось. Убирать же
пустую кастрюлю из клетки имел право только сам Глазычев. Поэтому, когда
проводник как-то дней на семь забюллетенил, Мухтар еду от Антоновны принимал,
вылизывал все до дна, но кастрюли тотчас же сам прибирал за собой, снося их в
дальний угол клетки. Они лежали там горкой, семь кастрюль, покуда не вернулся
Глазычев: это было его, проводницкое, имущество — так считал Мухтар, — и он сдал
ему все сполна, как говорится, с рук на руки.
Других работников питомника Мухтар равнодушно терпел. Он знал их в лицо
и по запаху, однако они были для него чужими людьми, способными в любую минуту
сотворить пакость.
Некоторое исключение составлял еще ветврач Зырянов. Заходить к нему в
амбулаторию вместе с Глазычевым Мухтару нравилось.
Здесь пронзительно пахло зеленым мылом, а мыться Мухтар любил. Он охотно
вскакивал на длинный амбулаторный стол, под кварцевую лампу, и спокойно стоял,
разрешая Зырянову осматривать лапы, шерсть, глаза, уши. Нравилось ему, как
старик беседует с Глазычевым: тихо, без угроз, не размахивая руками.
Мухтар вообще всегда внимательно прислушивался к тому, каким тоном
разговаривают с его проводником. Он даже полагал, что Глазычев порой проявляет
излишнюю доброту или легкомыслие, разрешая кое-кому непозволительные интонации.
Было как-то, что на городских осенних состязаниях Мухтар сработал неважно, и
председатель комиссии, майор, начал довольно сильно распекать проводника:
— Управляете собакой плохо, лейтенант...
Мухтар сидел рядом, подле непривычно вытянувшегося в струнку Глазычева,
и, задрав морду, удивленно посматривал на него, не выпуская из поля зрения
майора.
— Безотказность у вашей собаки совершенно неотработана. Защиту своего
проводника выполняет она лениво!..
У майора был и без того непочтительный голос, а сейчас голос этот,
наточенный раздражением, резал Мухтаров слух до невозможности. Поставив
вздрагивающие уши, он покрепче уперся передними лапами в землю.
Искоса видя, что собака волнуется, Глазычев сильно натянул поводок и
вежливо попросил председателя комиссии:
— Пожалуйста, потише говорите, товарищ майор...
— Что-о?! — повысив голос, возмутился майор.
И тут Мухтар рванулся к нему; проводник еле удержал его, откинувшись
всем своим туловищем назад.
Майор же оступился, его поддержали под локотки два члена комиссии.
В результате этого неприятного случая — в сущности, из-за того, что
Мухтар не умел различать погоны, — он получил на состязаниях диплом третьей
степени, вместо диплома второй степени.
— Не любит твой Мухтар критики, — язвительно сказал Глазычеву
Дуговец.
— А какая собака ее любит? — ответил Глазычев.
Слава шла к Мухтару медленно, задерживаясь в пути. Он долго пробавлялся
мелкими делами; имущество, найденное им, оценивалось небольшими суммами денег, и
все это были квартирные или чердачные кражи.
— Они с Глазычевым ударяют по частному сектору, — посмеивались в
питомнике. — Одних подштанников на тыщу рублей гражданам вернули.
Глазычев добродушно улыбался в ответ и только однажды, возвратясь как-то
особенно усталым после трудного, неудачного суточного дежурства, внезапно зло
огрызнулся:
— Мне портки какого-нибудь работяги не менее дороги, чем десять тысяч
государственных денег!
— Это как же понимать? — насторожился Дуговец.
— А вот так и понимай. У меня с моим псом такая точка зрения...
Побывал Мухтар у Глазычева дома. Забежав как-то по дороге из Управления
домой перекусить, проводник привел свою собаку. Этот визит оставил в душе
Мухтара мучительное воспоминание.
Сперва, подымаясь по лестнице, он думал, что они идут работать. По
привычке принюхиваясь к ступенькам, он только удивлялся сильному запаху
проводника, который, правда, шел рядом, но запах курился не от него, а от
каменных ступеней. Когда же они вошли в квартиру, то Мухтар тревожно вскинул к
проводнику морду, желая, очевидно, объяснить, что в таких условиях никакая
работа не мыслима. Здесь решительно все насквозь пропахло проводником.
В довершение к этому из какой-то комнаты с радостным криком выбежал
мальчик и метнулся к Глазычеву.
— Папка пришел! С Мухтаром... — кричал он, взбираясь на руки к отцу.
Из тех же комнатных дверей появилась женщина, она тоже имела серьезные
права на Глазычева, — это Мухтар понял тотчас же. Женщина поцеловала проводника,
взяла у него пальто и повесила на вешалку.
— Нам бы чего-нибудь пожевать, Лидочка, — попросил ее Глазычев.
Они вошли в комнату. Мальчик слез с отцовских рук на пол и двинулся к
собаке.
— Осторожно, — сказала женщина. — Вовка, поди сюда.
— Ничего, — сказал Глазычев. — Мухтар понимает.
Мухтар угрюмо смотрел на приближающегося Вовку. Мальчик был до ужаса
похож на проводника — такой же квадратный, добродушно-широколицый, с румяными
скулами и косо поставленными глазами; когда он подошел совсем близко, Мухтар
быстро взглянул на Глазычева: проводник был тут, он сидел за столом. И этот же
проводник — только маленький, слабый и глупый — протянул Мухтару конфету.
— Возьми, Мухтар, — приказал Глазычев.
Мальчик совал конфету прямо в собачий нос; еще никто никогда не смел так
нахально обращаться с Мухтаром. Рычанье созрело у него в груди, в горле, он еле
дышал, чтобы оно не прорвалось сквозь стиснутые клыки.
— Ты доиграешься! — тихо сказала Глазычеву жена.
— А я тебе говорю, он понимает, — ответил Глазычев. — Вовка, погладь
его.
Конфету Мухтар не взял; поглаживание Вовки вытерпел. Только собака
смогла бы оценить, чего это ему стоило.
Они пробыли в этой квартире с полчаса, покуда Глазычев ел. Сын сидел у
него на коленях, жена приносила и уносила тарелки. Мухтар лежал у печки, как ему
было велено. Мальчика он ненавидел, женщину — тоже: проводник разговаривал с
ними таким ласковым голосом, что Мухтарово сердце разрывалось от ревности.
Перед уходом Глазычев сказал сыну:
— Смотри, Вовка, у тебя он конфету не брал, а у меня враз проглотит.
Проводник небрежно бросил конфету собаке. Она отвернула голову в сторону
и подобрала лапы, словно боялась об эту конфету обмараться.
— Ого! — подмигнул Глазычев жене. — Обиделся.
— На что?
— Ревнует.
— Да ну тебя, — засмеялась жена.
Подойдя к Мухтару, Глазычев погладил его твердой, сильной рукой по
голове и тихо, в самое ухо, пояснил:
— Ты холостяк, а я женатый. У меня семья, Мухтар. Понял? Человеку без
семьи живется так себе. Как собаке ему живется, понял?
— Балуешь его, Коля, — сказала жена.
— А чего он в жизни видит? — сказал Глазычев. — Из клетки на работу, с
работы обратно в клетку...
Тем временем дела Мухтара на службе пошли в гору. Слава его началась с
пустячного воровства, однако, раскрывая эту кражу, собака Глазычева, как
выражаются проводники, «хорошо сыграла», и о ней заговорили уважительно.
В одном из пригородов, на Карельском перешейке, дважды в течение месяца
обкрадывали кладовую военного санатория. Из кладовой уносили продукты и вино. В
первый раз выезжал в санаторий Дуговец с Доном, обшарил все окрестности,
вернулся в питомник ни с чем, ругая администрацию санатория дурными словами: во
взломанную кладовую лазали все кому не лень, территория затоптана больными,
собаке там делать нечего.
— Сама, наверное, администрация и тиснула продукты, — заключил Дуговец.
— У директора и кладовщицы морды — пробы негде ставить.
Во второй раз отправили на кражу Глазычева.
Старший оперуполномоченный, поехавший вместе с ним, рассказал ему по
пути, что из военного округа уже раздраженно жаловались в Управление комиссару
на беспомощность угрозыска.
— На крайний случай, — предложил оперуполномоченный, — примем такое
решение. Я сделаю разработочку, выясним подозреваемого, а собака пускай по
твоему сигналу его облает. С перепугу он, может, и расколется...
— Не подойдет, — сказал Глазычев. — Я люблю работать чисто.
В санаторий они прибыли рано утром, но подъем уже прозвонили и народу в
усадьбе толклось порядочно. Слух о том, что вторично обворована кладовая,
разнесся мгновенно, больные бродили группами, шумно обсуждая ночное событие.
Кладовая помещалась позади кухни, в углу усадьбы. Здесь сейчас тоже
стояли люди: начальник санатория в военной шинели, какой-то старичок в пижаме,
кладовщица в белой куртке, культработник с баяном и стройный, высокий капитан в
кителе с пограничными петлицами. У ног капитана сидел красавец пес, немецкая
овчарка.
 Все, кто стоял здесь, обращались почему-то не к начальнику санатория, а
к симпатичному старику в пижаме. Увидев это, старший оперуполномоченный протянул
ему свое удостоверение и представился, но старик пожал узенькими плечами.
Все, кто стоял здесь, обращались почему-то не к начальнику санатория, а
к симпатичному старику в пижаме. Увидев это, старший оперуполномоченный протянул
ему свое удостоверение и представился, но старик пожал узенькими плечами.
 — Я — отдыхающий. Вот начальник санатория.
— Я — отдыхающий. Вот начальник санатория.
У начальника лицо было размыто красными пятнами, он рассеянно взглянул
на уполномоченного, на Глазычева, на Мухтара и спросил:
— Вы с собакой?
Затем обернулся к старику:
— Товарищ генерал, из уголовного розыска тоже прислали собаку.
— Ну что ж, — сказал старик, — как говорится, один ум хорошо, а два
лучше. Пусть побеседуют с капитаном, он им расскажет обстановку... Да бросьте вы
так волноваться, Евгений Борисович, — улыбнулся он начальнику санатория и
покачал свой по-солдатски стриженной седой головой. — На фронте были храбрым
офицером, а сейчас трусите...
— На хозяйственной работе страшнее, товарищ генерал, — ответил
начальник, тоже пытаясь улыбнуться, но вместо улыбки у него дернулись губы, и с
внезапной злой горечью он добавил: — На войне я, по крайней мере, знал, из-за
чего могу погибнуть...
Оперуполномоченный вместе с Глазычевым отозвали капитана в сторону.
Оказалось, что этого пограничника с собакой сегодня поутру вызвал из соседней
части генерал, который тоже был пограничником.
Капитан держался с милицейскими уверенно, разговаривал иронически,
особенно с Глазычевым: низенький проводник в своей трепаной кепчонке и видавшем
виды плаще, очевидно, не вызывал в этом подтянутом офицере никакой веры и
уважения. А может, и просто он принадлежал к той породе военных, которые
недолюбливают милицию.
— Собачонка у тебя сугубо гражданская, — сказал он Глазычеву. — Лапку
умеет давать?
— А вы попробуйте, товарищ капитан, — простодушно предложил Глазычев. —
Она как раз с утра не завтракала.
Оперуполномоченный стал вежливо расспрашивать капитана. Тот отвечал
лаконично. Поскольку вызвали, постольку приехал. Применял своего пса, хотя в
данных конкретных условиях это занятие совершенно бессмысленное, исключительно
для провождения времени. Тут с ночи ездили по территории грузовики, залили
кругом бензином.
— Пойду-ка я поговорю с народом, — сказал оперуполномоченный.
Глазычев вынул папиросы, протянул капитану, тот был некурящий.
— Вы с какого места, товарищ капитан, давали собаке след? — спросил
Глазычев.
— С какого надо, с такого и давал. Ревизор нашелся!
— Я ведь потому спрашиваю, — терпеливо объяснил Глазычев, — что мне
неохота водить своего Мухтара там, где вы ходили со своей собакой.
— К твоему сведению, — сказал капитан, — где мой пес работал, там
другому уже делать нечего.
— Попыток не убыток, — сказал Глазычев.
— Хочешь показать свое «я»? — спросил капитан.
— Интересный у нас с вами получается разговор, — улыбнулся Глазычев. —
Вроде вы от одной лавки работаете, а я от другой.
Он пошел прочь от капитана. «Бывают же такие люди, — думал Глазычев, —
даже представить себе совестно».
Велев Мухтару сидеть и для верности привязав его поводком к сосне, он
обошел усадьбу. Она была обнесена высоким, метра в три, дощатым забором. Подле
ворот и калитки стояла проходная будка, в ней дежурил вахтер. У вахтера Глазычев
узнал, что на ночь ворота с калиткой берутся на запор. И в нынешнюю ночь, и при
совершении прошлой кражи запоры оставались нетронутыми.
— Картина ясная, — сказал вахтер. — Сигал, паразит, через забор. Мне
всех более Верку жалко. Затаскают ее теперь...
— Это кто ж такая Верка?
— Кладовщица.
— Не обязательно будут таскать, — сказал Глазычев, однако подумал, что
непременно станут таскать.
Он пошел в кладовую. На бочке с огурцами сидела рыжая толстая девушка в
белой куртке, она часто сморкалась и плакала.
— Напрасно вы, девушка, прежде времени расстраиваетесь, — сказал ей
Глазычев. — Вон какую сырость развели. Вас Верой зовут?
— А хотя бы, — ответила она. — Вы тоже из милиции?
— Ага, — сказал Глазычев и сел рядом на вторую бочку. Постучав по ней
кулаком, спросил: — Капуста?
От удивления, что он так участливо с ней беседует, кладовщица перестала
плакать. За этот месяц ее несколько раз допрашивали, не всегда вежливо, и она с
обидой чувствовала, что ее на всякий случай в чем-то подозревают. Больше того,
когда ее допрашивал оперуполномоченный, он давал ей понять, что хорошо бы, если
б она назвала кого-нибудь, кто мог совершить кражу из кладовой. Назвать она
никого не смогла, и оперуполномоченный остался ею недоволен.
— Такое наказание на мою голову, — всхлипнув, пожаловалась она
Глазычеву. — За один месяц — второй раз!..
— И помногу уносят? — спросил Глазычев.
— Ужас! Пять окороков висели, я на базе еле вымолила за третий квартал.
Сыр голландский, восемнадцать кило. Масло несоленое, высшего сорта, два ящика.
Вино кагор, для желудочников. Цыплята жировые, — Евгений Борисович в округ
ездил, выхлопотал... Теперь не знаю, что будем закладывать в котел... А ваш, из
милиции, говорит: «Больно, говорит, много перечисляете, гражданочка, под одну
кражу!»
— Это он пошутил, — сказал Глазычев.
— Какие могут быть шутки, когда у людей горе... Сейчас начнут под
Евгения Борисовича копать...
Посидев с кладовщицей еще минут десять, Глазычев вышел, жалея девушку.
Бывало, конечно, что и такие девушки оказывались виноватыми, — всяко бывало, но
он привык оберегать себя от поспешного недоверия к людям. Точка зрения Дуговца,
направленная против всякого человека: «Ты мне сперва докажи, что ты не виноват»,
— была Глазычеву неприятна. Жить с ней было, неудобно и гадко, как на пустом
болоте.
Сидя на бочке в кладовой, он обдумал, с чего начать поиски. Приводить
сюда Мухтара не было никакого смысла: наследили здесь и люди, и собака, и
машины. Кражу, конечно, совершили артельно: одному вору столько не унести.
Вероятно, вахтер был прав — лазали через забор.
И Глазычев, начав с угла у кухни, медленно пошел вдоль забора. Земля
подле забора местами была утоптана, а кое-где рос кустарник. Осмотрел Глазычев
кустарник — поломанных или сильно примятых веток не было. Обойдя всю территорию,
он пошел в обратном направлении, теперь оглядывая доски забора. На одной из
поперечных прожилин он заметил оторванную щепку, она висела на волоконце. Могли
оборвать ее сапогом, когда перемахивали через забор, а может, и висела она
спокон веку. Он дошел до конца и снова вернулся к этому месту. Щепка как
щепка.
Во время работы к Глазычеву всегда привязывалась какая-нибудь
бессмысленная фраза, которую он, не слыша, повторял шепотом. И сейчас,
склонившись над прожилиной, он шептал:
— Тем не менее... Тем не менее...
А что «тем не менее», черт его знает.
Щепку он оторвал, сунул ее в щель забора насквозь, чтобы видно было с
той стороны, в каком она месте висела. Затем, взяв Мухтара, который уже устал
сидеть и нервно перебирал лапами, вышел с ним в лес, окружающий санаторий.
Там, где торчала из забора щепка, проходила по земле мелкая канава.
Спустив здесь Мухтара с поводка, Глазычев подал ему команду: «Апорт!»
Мухтар был дотошным псом. Если ему велели: «Апорт!», он обшаривал носом
каждую травинку и все, что попадалось по пути, даже горелые спички, сносил к
проводнику.
Стоя под сосной, Глазычев принимал доставляемое собакой барахло: старые
консервные банки, ржавые гвозди, истлевшие тряпки.
— Тем не менее... — шептал Глазычев. — Тем не менее...
Мухтар принес веревочку. Веревочка была жирная. Глазычев понюхал ее, она
пахла ветчиной. Такими веревочками обвязывают окорока.
— Молодец! — сказал собаке проводник. — Рядом!
Он взял ее за ошейник, погладил, затем подвел к тому месту, где валялась
веревка, приказал нюхать и, как всегда тревожно, скомандовал:
— След!
Мухтар пошел.
Судя по хвосту и ушам, он шел верно, не сомневаясь. Идти за ним было
трудно, потому что он пер напролом, через кусты и ямы.
 Они двигались уже минут сорок, когда Мухтар вдруг замедлил шаг у
поваленной, полусгнившей сосны, обошел ее вокруг, часто тыча морду в осыпавшуюся
хвою и фыркая, затем стал быстро выбрасывать лапами землю.
Они двигались уже минут сорок, когда Мухтар вдруг замедлил шаг у
поваленной, полусгнившей сосны, обошел ее вокруг, часто тыча морду в осыпавшуюся
хвою и фыркая, затем стал быстро выбрасывать лапами землю.
Землей засыпаны были ящики с маслом и вином. Окорока и сыр, уложенные в
мешок, лежали тут же.
Глазычев сел на поваленный ствол, обмахнул потное лицо кепочкой,
покурил. Мухтар, вывалив мокрый язык, лежал рядом, изредка облизываясь на
ветчину.
 — Славная ты собака, — сказал ему Глазычев. — Есть люди похуже тебя. А
ветчины не получишь, приучайся жить по средствам, на свою зарплату... Я вон в
кладовой как хотел соленого огурца, и то не попросил. У нас с тобой знаешь какая
деликатная работа? Попросишь, а потом скажут — взятка...
— Славная ты собака, — сказал ему Глазычев. — Есть люди похуже тебя. А
ветчины не получишь, приучайся жить по средствам, на свою зарплату... Я вон в
кладовой как хотел соленого огурца, и то не попросил. У нас с тобой знаешь какая
деликатная работа? Попросишь, а потом скажут — взятка...
И, вспомнив, что собак все-таки положено поощрять уставными словами,
проводник сказал:
— Хорошо, Мухтар. Хорошо!
Но Мухтар больше любил, когда Глазычев разговаривал с ним обыкновенным
человеческим языком.
Отдохнув немного, проводник сходил за оперуполномоченным. Они зарыли
ящики и мешок в том же месте, где все это лежало, аккуратно присыпали хвоей и
ушли с Мухтаром неподалеку в кусты.
Сидеть в засаде пришлось до рассвета. Под утро явились за своим добром
воры. Трое парней с лопатой, оставив на дороге грузовик, пешим ходом дошли до
поваленной сосны, поплевали на руки и принялись разгребать землю.
— Спускай собаку, — шепнул оперуполномоченный.
— Рано, — ответил Глазычев. — Пусть сперва вынут харчи. А то потом
отопрутся: скажут, что просто так ямку копали...
Когда проводник с оперуполномоченным поднялись из кустов и крикнули:
«Стой! Руки вверх!» — парни бросились кто куда.
Мухтару велено было задержать их. Он сделал это легко и быстро — собрал
трех воров, как наседка собирает разбежавшихся цыплят. Не пришлось даже
потрепать их: увидев мчащегося на них пса, воры приросли к земле намертво, а
Мухтар был воспитан рыцарски — неподвижных врагов он не трогал.
 Шло время. Мухтар матерел.
Шло время. Мухтар матерел.
Он уже весил больше пятидесяти кило, грудь его и крестец раздались
вширь, лапы стали толстыми, звериными, на мощной шее серым цветом играла хорошо
промытая, длинная шерсть — она была как богатый воротник на франте.
В стужу он не уходил через лаз в зимнее помещение, а спал тут же, в
клетке, на заиндевевшем полу; утром потягивался, выпуская из пасти клубы
пара.
Зимой работы бывало поменьше. В крепкие морозы собак применять было
почти бесполезно: чутье их на сильном холоду отказывало. Да и ворье по зиме
больше отсиживается.
Однажды пришли к Мухтару гости.
Это случилось в один из тех дней, когда в питомнике проводят с собаками
тренировочные занятия. Мухтар уже отработал свой урок, и Глазычев собирался
увести его, когда в калитку, в сопровождении майора Билибина, вошли двое гостей:
молодая женщина, от которой сильно пахло духами, и пожилой моряк.
Женщина тотчас же, еще издали узнала свою собаку.
— Саша! — восхищенно сказала она пожилому моряку. — Ты только посмотри,
какой он стал красавец! Я же тебе говорила, что мы отдаем его милым людям...
И, обернувшись к Билибину, она протянула ему маленькую, мягкую руку.
— Мы вам ужасно благодарны, товарищ майор! Спасибо.
— Не на чем, — сказал Билибин. — Своих денег он стоит.
— Денег? — спросил моряк. Он посмотрел на жену: — Каких денег, мама?
— Ах да господи! Я же тебе сто раз рассказывала...
Она ускорила шаг, почти побежав к собаке.
— Мухтар, Мухтар, Мухтарушка!
В ласковом голосе ее угадывались слезы жалости и умиления.
Служебно-розыскная овчарка Мухтар не терпела, когда посторонние люди
называли ее по кличке. Этому она была обучена Глазычевым.
Мухтар обернулся на шум. Какая-то женщина в распахнутой шубе быстро шла
к нему, повторяя громким чужим голосом:
— Мухтарушка, Мухтарчик...
Зарычав, он кинулся на нее и, как его учили в школе, с разбега повалил
наземь.
Глазычев, не успевший его удержать, помог женщине подняться и принялся
смущенно оббивать снег с ее шубы.
— Не узнал! — плакала она от обиды. — Как он посмел забыть меня?..
Чувствуя себя виноватым, проводник старался успокоить ее и оправдать
Мухтара, бормоча что-то про рефлексы, торможение и сигнальную систему.
Пожилой моряк стоял рядом.
Он спросил:
— Ты не ушиблась, мама?
Затем, трудно улыбнувшись, сказал Билибину:
— Вероятно, собаки, так же как и люди, не любят, когда их продают.
Билибин подтвердил, что большинство псов в питомнике через год-два
напрочь забывают своих бывших хозяев.
— Ясно, — сказал моряк. — Я бы не расстался с ним, но супруга опасалась,
что он искусает сынишку.
Больше они в питомнике не появлялись.
Шло время, течения которого Мухтар не замечал и не понимал. Он знал свою
работу, скучал, когда проводник уходил в отпуск.
Сменился сосед по клетке справа: беднягу Дона списали по старости, у
него провисла спина и стерлись клыки. Дуговец свез его в ветеринарную лечебницу
и вернулся оттуда уже один.
Овчарки снова стали именоваться «немецкими», а не
«восточноевропейскими», — это Мухтару было безразлично.
Старший инструктор Дорохов вышел на пенсию, — и этого Мухтар тоже не
заметил.
Вместо Дорохова на его должность поставили Дуговца.
Дуговец так сильно старался подчеркнуть, что это новое назначение отнюдь
не меняет его прежних взаимоотношений с проводниками, что все они тотчас же
почувствовали: появился новый начальник.
С прежними своими друзьями по службе он был так же прост в обращении,
мог так же дружески хлопнуть их по плечу, так же подмигнуть им, однако если и
они отвечали ему тем же, то старший инструктор Дуговец незамедлительно давал им
понять, что он — старший инструктор Дуговец.
Сложнее всего было с Глазычевым. Всяко пытаясь поставить легкомысленного
проводника на место, Дуговец стал со временем говорить ему «вы», подчеркивая
этим, что между ними легла административная пропасть.
На еженедельных занятиях, на полугодовых проверочных испытаниях Дуговец
обеспечивал Глазычеву, когда только мог, самое большое количество замечаний в
актах.
Облекалось это всегда в форму дружеского участия:
— Ты пойми, Глазычев, я же тебе добра желаю.
Или иначе:
— Ты меня знаешь, Глазычев: я кому хочешь выложу правду в глаза.
Или еще иначе:
— Другому бы я спустил. А с тебя и спрос больше.
И в порыве откровенности — а порывами откровенности он был очень силен —
Дуговец рассказывал проводнику, как третьего дня в кабинете начальства (не буду
называть тебе фамилии) он нахваливал работу Глазычева, выхлопатывая ему премию.
На самом деле было не совсем так: делал все это Билибин в присутствии Дуговца,
который вякал что-то насчет премии для молодого Ларионова, но сейчас, делясь с
Глазычевым, Дуговец был совершенно уверен, что все происходило именно так, как
он рассказывал. И его даже искренне раздражало, что в насмешливом лице Глазычева
не видно было и тени благодарности.
Премию Глазычеву, как и всякому человеку, получить хотелось, но он
равнодушно говорил:
— Да ну ее к шуту! Ты лучше себя не забудь, а то ты все для людей и для
людей...
Обиженно пошевелив скулами, Дуговец произносил:
— Слишком много вы об себе понимаете, товарищ Глазычев...
Тем временем служба Глазычева проходила успешно. Папка с «личным делом»
Мухтара становилась все толще. В папке уже лежала сотня «актов применения
служебно-розыскной собаки», где подробно описывалось, на какое преступление
выезжал Мухтар и что ему удалось сделать. С бухгалтерской точностью каждый год
подсчитывалась стоимость разысканного имущества и количество задержанных
жуликов.
В беспокойные ночи проводник выезжал с Мухтаром по нескольку раз. Мухтар
лазал по крышам, забирался в подвалы, в кочегарки, совал нос в выгребные ямы,
ползал в канализационные люки, прыгал через заборы — он шел туда, куда вело его
чутье. Бывало, что чутье отказывало ему, потому что опытный жулик посыпал свой
путь табаком, махоркой, поливал креозотом, керосином, бензином. Дойдя до
изгаженного таким способом следа, Мухтар начинал растерянно и злобно топтаться
на месте, покуда Глазычев не приходил ему на помощь. Проводник принимался водить
собаку большими кругами, огибая исчезнувший след и ища его продолжения. Глазычев
знал то, чего не знала собака: на ходу человек роняет мельчайшие невидимые
частицы своей одежды и кожи; ветром эти частицы сносит в сторону иногда на семь
— восемь метров. И проводник водил своего пса до тех пор, пока он снова азартно
не бросался на поиски.
После каждого выезда Мухтар укладывался спать в клетке на заднем дворе
Управления. От усталости засыпал он быстро, но спал беспокойно и во сне снова
шел по следу, терял его, досадливо повизгивая, снова находил и, быстро перебирая
лапами, преследовал ненавистного врага. Сны у Мухтара были злые и всегда
удачные, он рычал, разрывая преступника на части, и никто не смел отнимать у
него его добычу. Даже во сне Мухтар продолжал служить в угрозыске.
 А маленький Глазычев, смертельно уставший, грязный, сидел в дежурке за
столом и, высунув от усердия и напряжения кончик языка в сторону, строчил на
форменном бланке:
А маленький Глазычев, смертельно уставший, грязный, сидел в дежурке за
столом и, высунув от усердия и напряжения кончик языка в сторону, строчил на
форменном бланке:
«Я, проводник служебно-розыскной собаки, младший лейтенант милиции
Глазычев, с собакой под кличкой Мухтар в два часа пять минут ночи сего числа
выбыл по распоряжению дежурного по УМ города Ленинграда...»
В дежурке было шумно, накурено, верещали телефоны; оперуполномоченные
срочно выезжали на происшествия, возвращались обратно; какая-то распатланная
женщина, плача, жаловалась, что муж ее непременно сегодня изувечит, он твердо
это обещал; дежурный майор терпеливо уговаривал ее не верить пустым угрозам, вот
если начнет драться, пусть тогда сообщит; она засучивала рукава платья,
показывая синяки, оставшиеся еще с прошлой получки. Майор вежливо объяснял на
будущее, что в таких случаях очень важны свидетели и обязательно надо сходить в
поликлинику и взять справку о нанесении телесных повреждений.
Из репродуктора, подвешенного над дверью, сперва доносилась утренняя
зарядка, затем диктор-мужчина свежим голосом сообщил, что на Урале задуты две
новые домны, а диктор-женщина приветливо добавила, что по области закончена
уборка картофеля.
Напрягаясь в подборе слов, Глазычев писал:
«При осмотре места разбоя установил: следы преступников сохранены у
двери магазина, где был найден труп сторожа. Взяв отсюда след, собака вышла на
улицу Дегтярный переулок, по которой прошла до улицы Невский проспект, пересекла
его и зашла во двор дома номер 163 и по проходным дворам прошла во двор дома
номер 153, где прошла к пожарной лестнице, по которой поднялась на чердак, и,
остановившись у одного из вентиляционных боровов, облаяла отверстие в
него...»
В дежурку вошел комиссар. Все встали. Глазычев тоже поднялся.
Комиссар спросил проводника, много ли мануфактуры вынули из борова.
— Восемь рулонов.
— А стреляную гильзу собака нашла?
— Нашла, товарищ комиссар. Я сдал ее эксперту.
— Хороший у тебя песик, — сказал комиссар. — Закончишь писать акт, пойди
поспи. У тебя вон какие глаза красные. Очень устал?
— Есть маленько.
Комиссар взял со стола листок, наполовину исписанный проводником,
пробежал его и, вздохнув, положил обратно.
— Убили, мерзавцы, человека за мануфактуру. Ты можешь это понять? —
почему-то тихо спросил он Глазычева.
И, не дожидаясь ответа, отошел к столу дежурного.
Принявшись снова за акт, Глазычев слышал, как комиссар заговорил с
распатланной женщиной:
— Вы были у меня на прошлой неделе. Я предложил вам подать заявление. Вы
сперва подали, а затем забрали его, боясь, что мы посадим вашего мужа на
пятнадцать суток. Чего же вы теперь хотите от милиции?
— Попугайте его, — сказала женщина. — А сажать не надо. Только
попугайте.
— Что же, «козой» его постращать? — спросил комиссар, изображая двумя
пальцами «козу», которой пугают детей.
В комнате засмеялись, а женщина снова заплакала. Она и в самом деле не
знала, что ей поделать со своим мужем. И комиссар, который сейчас с вежливым
нетерпением ее слушал — он тоже не спал сутки, — советовал ей обратиться в
профсоюзную организацию по месту работы мужа, отлично понимая, что бывают такие
случаи в семейной жизни, когда никакой профсоюз помочь не может. Комиссару, по
своей должности, изредка приходилось советовать людям то, в чем он сам
сомневался.
А Глазычев все писал — под музыку, текущую из репродуктора, под бодрые,
ненатуральные дикторские голоса, под верещанье телефонов; ему ужасно хотелось
вздремнуть, и фразы выплетались длинные, их было никак не откусить в конце.
От усталости он строчил одно, а думал другое. Заполняя графу «Описание
работы собаки», проводник думал, что техника очень шагнула, а люди за ней не
поспевают и человек может своими руками делать замечательные вещи, а потом этими
же руками совершить черт-те что.
Домой он пришел в восьмом часу утра. Вовка еще спал. Весь пол у его
кровати был усеян фашистами и советскими солдатами, вырезанными из бумаги.
В комнате приятно пахло сном, покоем. Жена только что поднялась.
Глазычев с удовольствием смотрел, как она движется по комнате, выметая веником
всю вторую мировую войну.
Спать ему перехотелось; они тихо попили вдвоем чаю, потом жена собралась
в больницу — она работала медсестрой. Слышно было, как в квартире захлопали и
другие двери: жильцы выходили мыться, на кухню, отправлялись на службу.
Все эти звуки сейчас были приятны Глазычеву.
Жена перед уходом сказала:
— Пожалуй, я куплю сегодня Вовке пальто. Он совсем оборвался.
— Чего ж, — сказал Глазычев.
— Может, взять на размер больше? Уж очень он растет.
— Пускай растет, — сказал Глазычев.
— Суп за окном, — сказала жена. — Картошку я солила. Попробуешь вилкой,
чтоб была мягкая.
— Да знаю я, как варят картошку, — улыбнулся Глазычев.
— А насчет пальто все будет в порядке: до получки мы доберемся.
Он пошел закрыть за ней входную дверь, и на пороге она снова
сказала:
— Все-таки я возьму на размер больше.
В комнате он рассеянно посмотрел на дверной наличник: карандашные
черточки отмечали рост сына. Сейчас последняя черта была сантиметров на
семьдесят от пола.
«Маленький будет, как я», — подумал Глазычев.
И он вдруг понял, что же занимало его, как только он вернулся сегодня
домой. Могут жить люди хорошо. Могут. Должны. Это не так уж трудно. Исчезнут же
когда-нибудь на земле мерзавцы. Вовка дотянет. А магазинный сторож, которого
сегодня убили, не дотянул.
 В ту зиму работы у Мухтара было мало. Морозы крепко взялись в январе
и не отпускали весь месяц. Даже когда Мухтар просто гулял, снег забивался между
пальцами, леденел и приходилось скакать на трех лапах, а потом в клетке
выкусывать и вылизывать ледяшки из каждой лапы по очереди.
В ту зиму работы у Мухтара было мало. Морозы крепко взялись в январе
и не отпускали весь месяц. Даже когда Мухтар просто гулял, снег забивался между
пальцами, леденел и приходилось скакать на трех лапах, а потом в клетке
выкусывать и вылизывать ледяшки из каждой лапы по очереди.
Была, правда, одна работа, которая отняла недели две времени: Мухтара
пригласили сниматься в фильме. За эти две недели он сильно устал, у него
порастрепались нервы, потому что приходилось работать не с Глазычевым, а с чужим
человеком. Глазычев всегда стоял поблизости и подавал команды условными жестами.
Чужой человек, артист, изображал проводника собак, но он в этом деле ничего не
смыслил и только путал Мухтара. Вообще на съемках порядка было гораздо меньше,
нежели на настоящей краже. Чувствуя, что Глазычев нервничает и сердится, Мухтар
тоже злился и много раз хотел укусить артиста, изображавшего проводника, и еще
одного человека, который всегда кричал что-то в широкий металлический
раструб.
Фильм потом вышел, Мухтар не видел его, а все работники питомника ходили
на просмотр. В обсуждении принял участие Дуговец.
Он сказал, что картина будет иметь громадное воспитательное значение и
что работникам кино следует поглубже изучать действительность.
С просмотра проводники вышли гурьбой. Покуривая, молчали. Кто-то
предложил зайти с мороза выпить пивка. Ларионов сбегал в магазин за пол-литром,
водку разлили поровну в пиво. Чокнулись кружками, выпили.
Глазычев сказал:
— Хреновый фильм.
Ларионов засмеялся:
— Твоя собака снималась.
— Ему сегодня за нас платить, — сказал Дуговец. — Он деньги за съемку
получил. Сколько тебе отвалили?
— Я уплачу, — сказал Глазычев. — А вот зачем ты хвалил хреновый фильм?
Тебе что, понравилось?
— К вашему сведению, — сказал Дуговец, — на вкус и цвет товарищей
нет.
— Но тебе-то лично понравилось?
— А я, когда смотрю картину, про свой вкус не думаю.
— Если каждый будет думать про свой вкус, — ввязался Ларионов, — то
никто и кино смотреть не станет.
— Что-то, братцы, я не понимаю, — обернулся Глазычев к остальным
проводникам.
— К вашему сведению, — сказал Дуговец, — кино снимается для народа.
— А я кто? — спросил Глазычев.
— А вы младший лейтенант милиции Глазычев.
Ларионов захохотал.
— Вот дает, вот дает! — восхищенно сказал он про Дуговца.
Пожилой проводник, трижды стрелянный бандитами в тридцатых годах, угрюмо
посмотрел на Ларионова.
— Брехни в кинофильме хватает, — сказал пожилой проводник. — Я не
специалист, может, она и полезная...
— А в чем, конкретно, вранье? — запальчиво спросил Ларионов, косясь на
Дуговца.
— Скажу, — ответил пожилой проводник. — Нашего брата, работника милиции,
так нарисовали, что на колени хочется пасть и бить поклоны. Не пьем, не курим,
баб своих не обижаем. Исключительно круглые сутки ловим жулье. Непонятно даже,
отчего у нас другой раз гауптвахта полная бывает... Я не специалист, — повторил
вдруг пожилой проводник. — И года мои вышли. Не знаю. Может, оно и
полезно...
— А тебе надо на экране показать гауптвахту? — спросил Дуговец.
— Или как мы сейчас в пивной сидим, — рассмеялся Ларионов. — Верно, Иван
Тимофеевич?
Иваном Тимофеевичем звали пожилого проводника. Он устало взглянул на
Ларионова.
— Щенок ты надо мной смеяться... Гауптвахта мне, между прочим, на экране
ни к чему, — обратился он к Дуговцу. — Я на ней не сиживал. А твоего подлипалу
Ларионова хорошо бы нарисовать в комедии. Только, я так полагаю, невеселая бы
это получилась комедия.
— Да бросьте, ребята! — загудели остальные проводники. — Охота было
ругаться. Плати, Глазычев! Пошли.
И все разом заговорили о другом, чтобы загасить неинтересный спор. Ивана
Тимофеевича они уважали за честность и прямоту. Дуговца же опасались не столько
потому, что он был старшим инструктором, сколько оттого, что у него «хорошо
подвешен язык». Он так вывернет и подведет, говорили проводники, что всегда
будет его верх.
— Завелся! — тихо сказал один из них Глазычеву. — Тебе что, больше всех
надо?
Но Глазычев уже и сам жалел, что завелся: до кино ему, в сущности,
никакого дела не было.
Неприятности поджидали его в эту зиму совсем с другой стороны.
Морозы стояли под тридцать градусов, даже тренировочные занятия порой
приходилось отменять. Глазычева с Мухтаром прикрепили к одному из райотделов
милиции для патрулирования на беспокойных улицах.
На Лиговке и Обводном вечерами участились случаи хулиганства и уличных
грабежей. Постовые милиционеры, дворники, ночные сторожа далеко не всегда могли
справиться с этим. Глазычеву вручили план оперативных мероприятий, в котором
было указано: «Произвести обходы по Курской, Боровой, Воронежской улицам с целью
профилактики и по изъятию преступного элемента».
Работа для Мухтара была живая. Вместо одинокого сидения взаперти он
гулял теперь рядом с Глазычевым по малолюдным тротуарам и мостовым. Проводник,
как всегда, ходил в штатском пальтишке и никакого подозрения у хулиганья не
вызывал.
Бродить приходилось подолгу, ночью. Заходили в парадные подъезды к
дворникам греться. Осматривали подвалы. Глазычев впускал туда Мухтара, шепнув
ему на ухо:
— Ищи!
А сам стоял у входа с электрическим фонариком.
Иногда из подвала раздавался лай и тотчас же чей-нибудь сиплый крик:
— Убери свою паршивую собаку. Сейчас выйдем.
 И появлялись вскоре на пороге конвоируемые сзади Мухтаром двое-трое
бродяг. Проводник их тут же останавливал, быстро и ловко ощупывая карманы в
поисках оружия. Мухтар садился рядом, следя за тем, прилично ли ведут себя люди.
По его понятиям, достойное, нормальное поведение человека заключалось в том,
чтобы он стоял не шевелясь и задрав руки кверху. А на то, что обыскиваемый
человек иногда шипел при этом Глазычеву: «Лягавый! Сволочь!», Мухтар внимания не
обращал.
И появлялись вскоре на пороге конвоируемые сзади Мухтаром двое-трое
бродяг. Проводник их тут же останавливал, быстро и ловко ощупывая карманы в
поисках оружия. Мухтар садился рядом, следя за тем, прилично ли ведут себя люди.
По его понятиям, достойное, нормальное поведение человека заключалось в том,
чтобы он стоял не шевелясь и задрав руки кверху. А на то, что обыскиваемый
человек иногда шипел при этом Глазычеву: «Лягавый! Сволочь!», Мухтар внимания не
обращал.
Было однажды и так. Покуда Глазычев обшаривал костюм одного бродяги,
второй стукнул проводника ногой в живот. Глазычев упал. Бродяги метнулись в
переулок.
Первого из них Мухтар достал сразу. Молча — теперь-то он это умел — он
прыгнул с маху ему на спину всеми своими пятьюдесятью килограммами, опрокинул:
оба они, и человек и собака, перекатились через голову. Особо не задерживаясь,
словно бы предполагая, что человек этот не скоро подымется, Мухтар ринулся за
вторым. С этим вторым у него были отдельные счеты, ибо он видел, что именно
второй ударил проводника.
Когда Мухтар нагнал его, тот прислонился к стене дома и рванул из
кармана нож. Ноги его были обуты в тяжело подкованные сапоги. Он размахнулся
сапогом, целясь собаке в голову, но Мухтар проходил это в школе. В ногу он
вцепляться не стал, а, тяжело вскинувшись в воздух, хватил всей пастью ту руку,
в которой блеснул нож.
Хорошая собака умеет брать преступника «с перехватом». Это значит, что
она не держит его только за одну часть тела, а перехватывает клыками разные
места, в зависимости от того, чем он собирается от нее защищаться.
Однако Мухтар был сейчас так зол, что не стал дожидаться намерений
врага, а принялся рвать его, как это удавалось ему делать только во сне — в
самом лучшем своем собачьем сне.
Согнувшись и держась за живот, подошел Глазычев. Ему трижды пришлось
скомандовать: «Фу, Мухтар!», прежде чем собака отпустила наконец человека.
Уже свистели вовсю дворники; примчалась милицейская «раковая шейка»;
двоих бродяг навалом погрузили в машину.
В райотделе при тщательном обыске оказалось, что у покусанного парня нет
никаких документов. На первом же допросе он сообщил, что родился в Калининской
области, село Задворье, Грачевского сельсовета. Отец погиб в войну, мать угнал
немец...
— А тебя сдали в детдом? — зевнув, спросил оперативник.
— Точно, — сказал покусанный.
— Из детдома, наверно, бежал, голодно было?
— Ага.
Оперативник отложил в сторону перо, которым вел протокол.
— Ну и куда ж ты завербовался? На лесозаготовки или на
торфоразработки?
— В лесхоз, — сказал покусанный.
— И вербовщик отобрал паспорт?
— Отобрал.
— А военный билет у тебя украли в поезде?
— Точно. Вы откуда знаете?
— Да все так врут, — сказал оперативник. — Придумал бы чего-нибудь
поинтереснее.
— Истинный бог, — сказал покусанный. — Провалиться на этом месте.
— Ну что ж, — сказал оперативник. — Сейчас первым делом сыграешь на
рояле.
У парня взяли отпечатки пальцев левой и правой руки. Отправили их в
научно-технический отдел. Запросили село Задворье, Грачевского сельсовета,
Калининской области.
Ответ пришел быстро: человека с такой фамилией в Задворье не бывало.
Одновременно из министерства сообщили, что, согласно дактилоскопическим картам,
фамилия задержанного — Баранцев, Семен Ильич, кличка Рыба, судился три раза за
разбои. Освобожден по амнистии.
Рыба не стал спорить со следователем, он только говорил, что никакого
свежего дела у него нет. Ногой он сгоряча проводника ударил; за это готов взять
семьдесят четвертую; можно еще довесить ему сто девяносто вторую «а», поскольку
он нарушил паспортный режим.
— Это я и так по-божески беру на себя, — сказал Рыба, которого
уголовники окрестили Рыбой за чрезмерную болтливость. — Другой бы на моем месте
попросился на поруки.
— А кто б тебя взял на поруки? — спросил следователь. — С тремя
судимостями?
— Народ у нас добрый, — сказал Рыба. — Да и каждому коллективу охота
отличиться. Я бы исправился, а про них в газетке бы написали. Так на так и
получилось бы...
У второго задержанного документы имелись, но фамилия на паспорте была
сведена и заменена другой, а фотокарточка переклеенная.
Следователь бился с ними не зря. Оказалось, что оба они водились с неким
Фроловым, у которого было еще с пяток фамилий. Фролов гулял на воле. Узкой
специальности у него не было: брал он и магазины, и квартиры, а при случае
занимался уличными грабежами — срезал часы у прохожих, раздевал их догола.
Фроловым занялся городской угрозыск. Было организовано несколько
оперативных групп.
Кропотливо, шаг за шагом «выходя в цвет на Фролова», оперативники
установили, что бандит этот необыкновенно жесток, недоверчив к своим, ходит
всегда с двумя пистолетами во внутренних карманах пальто, стреляет мгновенно и
редко мажет мимо.
Определенного места жительства у Фролова не было. Однако Пороховые и
Охта — его любимые районы. Здесь ему порой удавалось заночевать, обманув
какую-нибудь сердобольную старуху, для которой у него было заготовлено с десяток
жалостливых легенд; ночевал он и по сараям или в подвалах.
Глазычев с Мухтаром включились в работу напоследок.
В пригородной деревне Жерновке, куда из города доходил трамвай, однажды
ночью в колхозную конюшню пришел Фролов. В конюшне было тепло. Семидесятилетний
старик конюх убирал вилами навоз к дверям. Фролов попросился ночевать. Конюх не
пустил его. Тогда Фролов заколол старика вилами.
Глазычев с Мухтаром оказались в Жерновке через три часа после
убийства.
Холод стоял лютый. На вымерзшем дочиста небе бело светилась выцветшая от
стужи луна.
В сельсоветской избе, с утра нетопленной, сгрудилось человек десять
работников угрозыска. Заполняя избу сырым паром и папиросным дымом, они
появлялись и исчезали, докладывая подполковнику результаты опроса свидетелей.
Подполковник велел до прихода собаки не топтаться вокруг конюшни.
Прибывшего Глазычева он спросил:
— Как вы думаете, по такому морозу пес сможет работать?
— Он постарается, — сказал Глазычев.
— Мы будем следовать за вами двумя группами, — сказал подполковник. —
Чуть что, мигните нам фонариком. У вас где пистолет, на ремне?.. Переложите его
в карман полушубка. Если понадобится, стреляйте в эту сволочь. Есть у вас
какие-нибудь вопросы?
— Пока нету, товарищ подполковник.
Подполковник взглянул на проводника.
— У нас, Глазычев, очень большая надежда на вашего пса. Фролов не мог
далеко уйти: сейчас ночь, транспорта нету...
У конюшни проводник возился недолго. След был отчетливо виден глазом.
Фролов, очевидно, сперва прошел по снегу, оставив глубокие вмятины, затем вышел
на твердую дорогу. В какую сторону он побежал, куда свернул, этого на глаз
сказать нельзя было.
Проводник спустил собаку с поводка.
По тихим голосам окружающих людей, по тому, как на него смотрели, и,
главное, по движениям Глазычева, неторопливым, внимательным и настороженным,
наконец по лицу проводника, очень строгому, Мухтар видел, что тот ждет от него
хорошей работы и верит в него.
Запах, который увел Мухтара от вмятин у конюшни, был слабо слышен на
морозе. И чем дальше Мухтар шел, тем запах этот тлел все слабее, он почти угасал
на обледеневшей, переметенной ветром дороге.
Часто останавливаясь, идя не шибко, чтобы не утерять след, Мухтар держал
голову совсем низко; он втягивал носом резкий, острый воздух, пахнущий льдом и
снегом.
Через полчаса у него стали замерзать передние лапы. Мухтар злился на
них, поджимая попеременно то одну, то другую и подпрыгивая вперед на трех
ногах.
Проводник быстро шел рядом. Он сказал:
— Ладно, не прикидывайся. Не маленький. След, Мухтар!
Голос у него был требовательный и безжалостный.
Уже давно скрылись за холмом избы Жерновки. Мертвое снежное поле лежало
по сторонам дороги.
Коченели уже и задние лапы; Мухтару хотелось хоть разок взвизгнуть от
боли; хотелось присесть хоть на минутку и злобно выгрызть лед между пальцами, —
они обмерли и уже не слышали под собой почвы.
Боль мешала ему, отвлекала его, и запах внезапно пропал. Проковыляв еще
шагов десять, Мухтар остановился. От стыда он не поднял глаз на проводника, а
запрыгал обратно. Проводник молча пропустил его мимо себя и тоже повернул
назад.
Найдя снова след, Мухтар изо всех сил старался удержать его под своим
носом. Вот почему запах исчез: он проскочил тропку вправо, она вела к лесу.
В лесу он согрелся. Здесь надуло снегу, пришлось идти, проваливаясь по
брюхо. От усталости стало жарко, но зато теперь он почуял, что человек, который
так измучил его, затаился где-то совсем близко.
Едва слышное рычанье вырвалось из собачьей глотки. Глазычев сказал:
— Тихо, Мухтар!
И, обернувшись, хотел помигать карманным фонариком, однако увидел сквозь
редкие деревья, что оперативники уже оцепляют маленький лесок.
Фролов сидел в старой бревенчатой баньке. Дверь в нее он завалил тяжелым
котлом и подпер доской. Было еще в этой бане оконце с выбитым стеклом, узкое и
длинное.
Сидя на подгнившем плесневелом полке, он видел, как за стволами сосен
мелькнуло несколько фигур, догадался, что это за ним, и выстрелил в оконце
просто так, для потехи.
 Спокойный голос негромко крикнул из леса:
Спокойный голос негромко крикнул из леса:
— Выходи, Фролов! Отплясался.
Это сказал подполковник. Он стоял рядом с Глазычевым и шепотом отдавал
приказания людям, стягивая их вокруг баньки.
— А если выйду, — спросил Фролов, — чего мне будет?
— Будет тебе суд, — ответил подполковник.
— Дырка? — спросил Фролов.
— Дырка, — ответил подполковник.
Помолчав, Фролов снова окликнул его:
— Эй, начальник! А может, потяну на всю катушку, на пятнадцать лет?
— Поторгуйся, может, и потянешь.
— Да нет, — сказал Фролов. — Пожалуй, не потяну.
Подполковник тихо обратился к Глазычеву:
— Сделаем так. Ребята выломают дверь, собаку пустим вперед. Сможет твой
пес взять эту сволочь?
— Он постарается, — сказал Глазычев.
Покуда подполковник отдавал распоряжения, Глазычев грел Мухтару лапы,
заворачивая их поочередно в полу своего полушубка. Проводник погладил собаку по
жесткой, холодной шерсти, но ему сейчас казалось, что шерсть теплая и
мягкая.
Из бани и в баню несколько раз выстрелили. Часть ребят отвлекала Фролова
к окну. Тем временем под стенами уже стояли трое, они были у самых дверей, держа
в руках бревно.
Глазычев подполз с Мухтаром ближе и залег шагах в десяти против
двери.
— Фролов! — окликнул бандита подполковник. — Бросай оружие, выходи!
— Нет расчета, — сказал Фролов.
И, куражась перед концом, он начал ругаться.
Глазычев взглянул на подполковника; тот взмахнул рукой оперативникам,
держащим бревно.
Ребята отошли от стены и, пригнувшись, с размаху ударили бревном в
дверь.
Из бани Фролов стрелял уже подряд.
Глазычев положил руку на шею Мухтара и, чувствуя, как дрожит его кожа от
ярости (Мухтар ненавидел стрельбу), шепнул ему в ухо:
— Будь молодцом, дружок.
И внезапно злым, окостеневшим голосом громко скомандовал:
— Фасс, Мухтар!
И толкнул в шею, вперед.
Мухтар ворвался в баню через поваленную, сорванную с петель дверь. Здесь
было темнее, чем на улице.
Фролов сидел на корточках, на полке, схоронившись за печным стояком.
Высовывая из закутка только голову и руку с пистолетом, он смотрел в светлый от
снега и луны дверной проем и стрелял в него, как только показывалась там хоть
какая-нибудь тень.
Однако Фролов наблюдал за дверным проемом не во всю его высоту, а
примерно с половины, рассчитывая на появление человека. Собаки он не ожидал. Но
даже если бы он и ожидал собаку, то Мухтар пролетел через дверь с быстротой
черта. И только когда на мгновение, уже в бане, в полутьме, с разбега он замер,
Фролов выстрелил в него. Бандит был уверен, что он попал в собаку — до нее было
метра три, не больше, — но она не упала, не завизжала, как хотелось бы Фролову,
а бросилась к нему на полок.
Он успел выстрелить в нее еще раз, в упор, и это было все, что он успел
сделать. Собака повисла на его правой руке, рванула с полка вниз, на пол, он
попытался вскочить на ноги, но ему было не стряхнуть ее с себя, она лежала у
него на груди, вцепившись в горло, сперва сильно, так, что он задохнулся, а
потом послабее, однако этого он уже не почувствовал.
Глазычев вбежал в баню первым. Он метнулся туда еще раньше, после
первого выстрела, но подполковник резко крикнул:
— Назад, Глазычев!
И кто-то из оперуполномоченных схватил его за локоть.
— Не дури, проводник, — спокойно сказал оперуполномоченный. — Тебе что,
не терпится на тот свет? Никуда от нас Фролов не денется. Пусть порасстреляет
патроны.
— Собака, — сказал проводник.
Когда он вбежал в баню и тотчас же вслед за ним ребята, они все увидели
лежащего на полу Фролова и на нем — пса. Штук пять карманных фонариков скрестили
в этом месте свои лучи.
— Мухтар! — позвал проводник.
Одно ухо у Мухтара еле заметно вздрогнуло и снова обвисло.
— Фу, Мухтар! — сказал проводник. — Ко мне!
— Не мешай ему, он работает, — пошутили ребята.
Наклонившись над Мухтаром, Глазычев попробовал сдвинуть его с груди
Фролова на пол. Кто-то еще помог ему, опасливо взявшись и приподымая не
по-живому тяжелую, обвисшую собаку.
Сдвинуть Мухтара в сторону удалось, но за ним стронулось с места и тело
Фролова: морда Мухтара лежала на его горле. Глазычев сунул ствол своего
пистолета собаке в зубы и с силой разжал ей пасть. Оттуда на руки проводника
вытекла кровь.
Бандита в тюремной машине отвезли в Управление — он пришел в себя минут
через сорок, — а Глазычев с Мухтаром, завернутым в полушубок, поехал на газике в
питомник.
Перед отъездом подполковник сказал ему:
— Спасибо, товарищ младший лейтенант.
— Я что, — махнул рукой Глазычев. — Я ничего.
— А может, выживет? — сказал подполковник. — Ведь теплый еще.
— Он постарается, — ответил Глазычев.
В питомнике проводник поднял с постели Зырянова — ветврач жил тут же.
Мухтара перенесли в амбулаторию на стол. Первая пуля попала ему в грудь,
навылет, вторая — в голову, застряв у затылка.
Копаясь в ране и доставая пулю пинцетом, Зырянов сказал:
— Одна эта штука должна была уложить его наповал.
— Значит, всё? — спросил Глазычев. Он держал голову Мухтара, помогая
ветврачу.
— Жить, может, и будет, — сказал Зырянов. — А со служебно-розыскной
собакой, пожалуй, всё.
Провозившись еще с полчаса, они перенесли Мухтара в изолятор — в комнату
позади амбулатории; здесь стояли четыре пустые клетки.
Потом они долго мыли окровавленные руки. Погасили яркий электрический
свет. За окнами было чахлое зимнее утро.
— Хотите спирту? — спросил Зырянов.
Сам он пить не стал, а проводнику отмерил в мензурку сто граммов.
— Водой разбавить вам?
— Да нет, я лучше потом запью водой.
— Вы только задержите дыханье после спирта, а то можно обжечь
слизистую.
— Я знаю, — сказал проводник. — В войну пивал его.
— Ну и климат у нас! — сказал Зырянов, посмотрев в окно. — Всегда мечтал
жить на юге — и всю жизнь прожил в Питере. Вот выйду на пенсию, уеду куда-нибудь
со своей старухой в Ашхабад. Буду выращивать урюк.
— Больше у меня такой собаки не будет, — сказал Глазычев.
— Отличный был пес, — сказал Зырянов. — Шли бы вы домой, Глазычев. Я
скажу начальнику, что отправил вас. Вы имеете полное право на отдых: бандита
ведь взяли.
— Я-то его не брал. Мухтар его брал.
— Валяйте домой, Глазычев, — сказал ветврач. — А то вы начинаете
городить чепуху. Нате вам на дорожку еще пятьдесят граммов. Заснете дома как
убитый.
— Я-то не убитый, — сказал Глазычев. — Я как раз целенький.
— Вы что, обалдели? — запыхтев, прикрикнул на него Зырянов. — Вы где
работаете: в детском саду или в уголовном розыске? По-вашему, лучше бы сейчас
ходил на свободе этот убийца, а вы бы целовались со своей собакой? Так, что
ли?.. Немедленно отправляйтесь домой!
— Слушаюсь, товарищ майор ветеринарной службы, — сказал Глазычев,
медленно козыряя; на голове его не было даже кепки.
Перед уходом он зашел в изолятор. Мухтар лежал на боку с вытянутыми в
одну сторону четырьмя лапами. Обычно он так никогда не ложился. Пожалуй, только
в очень жаркий летний день. На голове и на груди у него была выстрижена шерсть —
там, где копался ветврач. Присев на корточки, Глазычев забрал в ладонь его сухой
горячий нос.
— Будь здоров, псина, — сказал проводник. — Мы им еще покажем.
Через несколько дней младшему лейтенанту Глазычеву была объявлена
благодарность по Управлению и выдана денежная премия. Товарищи поздравили его.
На общем собрании работников питомника Дуговец сказал, что равняться надо именно
по таким труженикам, как проводник Глазычев, который относится к своим
обязанностям не формально, а творчески.
Ларионов пожал ему руку и сказал:
— Здорово тебе повезло, Глазычев! С тебя приходится.
Самый пожилой проводник, Иван Тимофеевич, не стал ничего говорить, а
только попросил:
— Покажи-ка мне твоего Мухтара.
После собрания Глазычева задержал Билибин.
— Покуда у вас нет собаки, — сказал он, — займитесь хозяйственной
работой в питомнике. А заодно будете помогать Трофиму Игнатьевичу в
изоляторе.
Недели две так и шла жизнь Глазычева. Он рубил конину для собачьей
кухни, таскал в кладовую и из кладовой мешки с овсянкой, ящики с жиром, с
овощами; убирал снег на территории, чинил забор.
И по нескольку раз в день забегал в изолятор к Мухтару. Проводник кормил
его, расчесывал шерсть, чтобы она не свалялась, прибирал за ним, совал в рот
лекарства. Да и просто ему иногда хотелось сказать своей собаке, что он ее не
забыл.
Подметая как-то двор, Глазычев увидел, что у пустой Мухтаровой клетки
Ларионов прилаживает стремянку. Взобравшись на нее, он отодрал дощечку, на
которой была написана собачья кличка, и, вынув из кармана другую дощечку,
собрался приколачивать ее.
— Какого черта ты делаешь? — крикнул Глазычев издали.
— Площадь освободилась, буду заселять, — весело ответил Ларионов.
Подойдя к клетке, Глазычев поднял сорванную дощечку, лежавшую на снегу,
и протянул ее Ларионову.
— Приколоти на место.
Он произнес это таким тоном, что Ларионов спросил:
— Ты что, сдурел?
— Я тебе сказал, приколоти!
И, не дожидаясь, сам полез по стремянке с другой стороны, вырвал из рук
Ларионова молоток и прибил старую дощечку с кличкой Мухтар на прежнее место.
— Рано хороните моего пса, — сказал Глазычев.
— Чудило! Работать-то он больше не будет...
— Это откуда же тебе известно?
— Да у него ж задета центральная нервная система...
Глазычев посмотрел на Ларионова.
— У тебя она задета с детства, однако ты работаешь?
Вскоре Мухтар окончательно встал на ноги. Проводник подолгу гулял с ним
по Крестовскому острову, сперва не беспокоя его никакими служебными командами,
затем стал выводить его на тренировочную площадку в те часы, когда там никого не
было.
Глазычев тотчас же увидел, что из занятий ничего не получится.
Мухтар понимал, что проводник чего-то хочет от него, но выполнить этого
не мог. Он очень старался помочь проводнику, склонял свою большую, умную,
простреленную голову набок, всматриваясь в губы, в руки, в глаза проводника и
нетерпеливо переступая лапами. Иногда он опрометью, радостно бросался выполнять
приказание — и делал не то, что велено было, а то, что случайно застряло в его
раненой памяти.
Глазычев подавал ему команду «апорт», а Мухтар вместо этого бросался к
крутой лестнице, судорожно цепляясь еще не окрепшими лапами, взбирался на самый
верх, спускался вниз, падал с последних ступеней и, прихрамывая, подбегал (ему
казалось, что он мчится во весь опор) к проводнику и ждал поощрения.
И, жалея его, Глазычев говорил:
— Хорошо, Мухтар, хорошо!..
Дуговец как-то спросил проводника:
— Ты что, начал заниматься с Мухтаром?
— Начал.
— Ну и как?
— Нормально.
— На той неделе полугодовая проверка. Успеешь поставить его в строй?
— Успею, — сказал Глазычев.
И он продолжал выводить собаку на площадку, следя только за тем, чтобы
при этом никого поблизости не было. Мухтар был счастлив, что с ним снова
работают.
Незадолго до прихода проверочной комиссии Глазычева вызвал начальник
питомника. В кабинете, кроме Билибина, сидели Зырянов и Дуговец. Сперва они
поговорили вчетвером о закупке новых собак — предполагалась для этого поездка
Глазычева в город Киров, — а затем Билибин мимоходом сказал проводнику:
— Старший инструктор подал мне рапорт. Вы до сих пор не приглашали его
на занятия с вашей собакой. А когда однажды он все-таки явился сам, вы тотчас же
увели Мухтара в клетку.
— Было, — сказал Глазычев.
Билибин подождал, не добавит ли проводник чего-нибудь еще в объяснение
своего поступка, и, не дождавшись, спросил ветврача:
— Трофим Игнатьевич, каково клиническое состояние пса?
Зырянов не успел ответить, он еще только начал пыхтеть, когда Глазычев
быстро сказал:
— К служебно-розыскной работе непригоден.
— Значит, будем выбраковывать? — спросил Билибин. — Тогда надо
приглашать представителя Управления.
— Товарищ начальник, — сказал Глазычев, — усыплять Мухтара я не дам.
— Постановочка! — усмехнулся Дуговец.
— Насколько я понимаю, — спокойно сказал Билибин, — младший лейтенант
Глазычев не совсем верно выразил свою мысль.
— Так точно, товарищ майор. Прошу прощенья.
— Он, очевидно, имел в виду, — продолжал Билибин, обращаясь к Дуговцу,
словно Глазычева здесь и не было, — имел в виду, — для чего-то повторил Билибин,
— что ему жаль собаку.
— А мне своего Дона не жаль было?
— Возможно. Вы ничего об этом не говорили, но вполне возможно. Есть же
люди, которые умеют переживать свое горе молча. Я даже припоминаю, что вы как-то
написали мне докладную, прося выбраковать свою старую собаку и прикрепить к вам
новую, молодую.
Дуговец ответил:
— Я всегда стараюсь, Сергей Прокофьевич, по силе возможности для пользы
дела.
— Понятно, — кивнул Билибин. — Сейчас речь идет о том, не попытаться ли
нам, списав Мухтара, оставить его на дожитие при питомнике, учитывая его
заслуги.
— На пенсии, что ли? — улыбнулся Дуговец. — Никто нам этого не позволит.
Как только мы составим акт выбраковки, Хозу снимет его с довольствия.
— Попробуем, — сказал Билибин.
— Две кастрюли супа в день всегда можно сэкономить, — сказал Зырянов, до
той поры молчавший. — Мухтар долго не проживет.
Сомневаясь, Дуговец покачал головой:
— Не получилась бы такая картина: если каждый проводник станет
требовать...
Билибин сердито перебил его:
— Вот этой формулой — «если каждый станет требовать» — удивительно легко
обороняться, когда не хочешь сделать что-нибудь хорошее. Дескать, я бы с
удовольствием, но если каждый станет требовать... А насчет экономии супа, Трофим
Игнатьевич, то давайте уж оформлять все на законном основании. Иногда экономия —
хуже воровства. У вас, скажут, излишки две кастрюли супа? А только ли две? А
может, сто две? Пишите, будьте любезны, объяснение... И — поехало! Напишешь одно
объяснение в одну инстанцию, смотришь — уже и вторая требует, третья; накопилась
папочка. А раз накопилась папочка, надо принимать меры. Зарплата-то ведь идет.
Оправдать ее надо?..
Поговорив еще немного, решили написать ходатайство в хозяйственное
управление и приложить его к акту о непригодности собаки к милицейской
службе.
Дня через два была созвана комиссия. В нее входили: майор —
представитель угрозыска, ветврач Зырянов и старший инструктор Дуговец. Будучи в
курсе дела, майор был склонен подписать акт без всякой проверки. Но Дуговец
настаивал на соблюдении всех формальностей.
— Я человек буквы закона, — сказал он, думая, что шутит.
В этот день Мухтар работал последний раз в своей жизни. Это была его
самая короткая работа. Единственное, что сохранилось в нем и сейчас, не тронутое
пулей, это понимание душевного состояния своего проводника. Видя, что проводник
чем-то взволнован, Мухтар хотел отличиться перед этими чужими людьми, чтобы
успокоить его.
Старательно, добросовестно и горячо он делал все невпопад. Задыхаясь от
усердия, от ранения в грудь, он готов был околеть, но выполнить команду
проводника. Мухтар ждал, что эти команды будут следовать одна за другой, и после
каждой из них жесткая, сильная, ласковая рука Глазычева огладит его по голове,
по спине, и голос проводника произнесет сперва что-то коротенькое, а потом
одобрительно-длинное, из чего станет ясно, что Мухтар не зря выбивался из
сил.
Однако все было не так.
Хриплым, злым голосом Глазычев подал всего три команды и увел Мухтара в
клетку.
Вернувшись, спросил Дуговца:
— Насладились, товарищ старший инструктор?
Акт выбраковки был подписан.
Собрав необходимые документы, проводник стал посещать хозяйственное
управление.
Ходить пришлось долго, с каждым днем подымаясь по административным
ступенькам все выше и выше, под самое небо — к начфину и начальнику Хозу.
К тому времени Глазычев уже заучил наизусть все, что ему приходилось
повторять в других комнатах. Мухтар — знаменитая собака. За свою шестилетнюю
службу разыскал похищенного имущества на один миллион восемьсот тысяч пятьсот
сорок семь рублей. Суточный рацион собаки обходится в четыре рубля тридцать
копеек. В результате тяжелого ранения выбыл из строя. Администрация и
общественные организации питомника просят...
Все это было написано в ходатайстве, и Глазычев сперва ничего
дополнительно не произносил, но, переходя от стола к столу, стал постепенно
ровным голосом излагать суть дела.
Начфин и начальник Хозу отнеслись к этому делу по-разному.
Начфин выслушал проводника не перебивая, держа за щекой леденец, ибо с
месяц назад бросил курить; затем, положив руку на принесенные Глазычевым бумаги,
он произнес:
— Оставьте, я разберусь.
Глазычеву показалось, что все будет в порядке, и он только попросил
начфина позвонить в питомник Билибину и, хотя бы временно, разрешить необходимый
расход продуктов.
— Это можно, — сказал начфин.
Взявшись за телефонную трубку, он спросил Глазычева:
— Как, вы сказали, фамилия сотрудника, о котором ходатайствуете?
— Кличка собаки Мухтар, — сказал Глазычев.
— Какой собаки?
И тут начфин искренне обиделся.
Он обиделся не за себя, не за то, что его беспокоят по таким пустякам;
это еще куда ни шло. Начфин обиделся за финансовую дисциплину. Расход четырех
рублей тридцати копеек в сутки на какую-то больную собаку постепенно в устах
начфина превратился в полупреступную махинацию, в корне подрывающую финансовую
мощь органов милиции.
Глазычев вышел из его кабинета подавленный, но, покурив на лестнице,
упрямо пошел к начальнику Хозу.
Начальник Хозу мгновенно понял, о чем идет речь, и тотчас, не дочитав,
вернул Глазычеву бумаги.
— Делать вашему Билибину нечего. Если мы о каждом бракованном псе станем
проявлять такую заботу, то скоро на улицах будет не протолкаться от кобелей... У
меня люди без площади сидят...
Последнюю фразу он произнес таким гордым тоном, словно сидение людей без
площади есть его личная заслуга.
Передавать Билибину слова начальника Хозу Глазычев не стал. Он только
доложил, что в ходатайстве окончательно отказано.
Мухтар жил уже на птичьих правах. Проходя мимо его клетки, Ларионов
обзывал его дармоедом. Или, остановившись, подмигивал ему:
— Эх и куртка богатая из тебя получится, Мухтар!
Глазычеву надо было уезжать в Киров; боясь, что в его отсутствие собаку
могут усыпить, проводник решил напоследок сходить к комиссару.
 В огромном кабинете, покуда проводник шел от дверей к письменному столу,
все загодя наструганные слова рассыпались по натертому паркету, и Глазычев
только молча протянул комиссару Мухтаровы документы.
В огромном кабинете, покуда проводник шел от дверей к письменному столу,
все загодя наструганные слова рассыпались по натертому паркету, и Глазычев
только молча протянул комиссару Мухтаровы документы.
Надев очки, комиссар стал листать поданные бумаги.
Потом спросил:
— Это какой же Мухтар? Который бандита Фролова схватил за глотку?
И начал расспрашивать, в каких еще известных делах применялся этот
пес.
В самый разгар сбивчивых и косноязычных пояснений проводника комиссар
перебил его:
— Ну а что ты ему со своей премии купил?
— Так ведь что, товарищ комиссар, собаке купишь? — серьезно и даже с
сожалением ответил Глазычев. — Ничего такого особенного собаке не купишь.
«Старт» я ему, конфеты, полкило взял. Ну и, конечно, так, на словах, по-хорошему
поговорил с ним. Он любит, когда с ним уважительно беседуют...
— Это все любят, — сказал комиссар, глядя в широкое доброе лицо
проводника. — Даже люди, говорят, любят.
И, полистав еще немного принесенные Глазычевым бумаги, спросил, не
подымая головы:
— К Хозу обращались?
— Обращались, товарищ комиссар.
— Отказали?
— Отказали, товарищ комиссар.
— Ай Билибин, Билибин! — укоризненно покачал головой комиссар. — Старый
работник, а такую промашку дал. Разве ж это мыслимо: с таким мелким вопросом — и
прямо к начальнику Хозу! Ведь он же полковник, это же надо понимать. Кто ходил к
нему? Вы, товарищ Глазычев?
— Я, товарищ комиссар.
— Говорил он вам: «А вы попробуйте посидеть на моем месте»?
Глазычев ответил, что этого ему начальник Хозу не говорил.
— Значит, стареет, — сказал комиссар. — Раньше всем говорил...
Он снял очки и положил их на стол.
— Поступим мы, товарищ проводник, следующим образом. Такие вещи надо
делать научно. Напишем-ка мы в министерство, в Москву. Авось и поддержат...
До сих пор комиссар говорил не очень серьезным тоном — и вдруг,
насупившись, пробормотал:
— Сегодня, знаете ли, наплевать на заслуженного пса, а завтра,
глядишь...
Не договорив, он отпустил проводника, оставив у себя документы.
Недели через три судьба Мухтара была решена. Наконец-то он ел свой суп
на совершенно законном основании.
Глазычев съездил в Киров, закупил там трех новых собак, привез их в
питомник.
Сквозь проволочную сетку Мухтар видел, как выводили их на тренировочную
площадку. Он смотрел на них сурово: они были еще совсем глупые, неопытные,
необученные.
А молодые собаки тоже видели Мухтара, когда его два раза в день вели
мимо них выгуливать на задний двор, поросший лебедой.
Они презрительно глядели на старого, хворого, колченогого пса, не зная
его жизни и не понимая, зачем он еще ковыляет на этом прекрасном белом
свете.
