
Иточник: Д.Л. Мордовцев «За чьи грехи?»
«Великий раскол»
Москва, издательство «Правда», 1990
Составление и подготовка текста Н. Н. Акоповой
Вступительная статья и комментарии С. И. Панова и А. М. Ранчина
Иллюстрации и оформление Г. И. Саукова
OCR и правка текста: Давид Титиевский, январь 2007
года, Хайфа
-------------------------------------------------------------------
Даниил
Мордовцев
ЗА ЧЬИ ГРЕХИ?
ПОВЕСТЬ
ИЗ ВРЕМЕН БУНТА РАЗИНА
1. Царское сиденье
В грановитой палате, в столовой избе, у
великого государя с боярами «сиденье».
Это было 5 мая 1664 года.
С раннего утра, которое выдалось таким
ярким и теплым, обширная площадь около дворца запружена каретами, колымагами и
боярскою дворовою челядью с оседланными конями в богатой сбруе. Экипажи и кони
принадлежат московской знати, нахлынувшей во дворец к царскому сиденью:
обширное постельное крыльцо, словно маковое поле, пестрит цветною и золотою
одеждою площадных стольников, стряпчих и дворян московских.
Эта пестрая и шумная толпа поминутно
расступается и поклонами провожает знатных и близких бояр, которые через
постельное крыльцо проходят прямо в царскую переднюю. Это уже великая честь, до
которой стольникам, стряпчим и дворянам высоко, как до креста на колокольне
Ивана Великого.
Но и передняя уже давно полна: кроме бояр,
в ней толпятся, по праву, окольничие, что удостоиваются великой чести быть
иногда «около» самого государя, равнодумные дворяне и думные дьяки.
Наконец, в самой столовой избе, в
«комнате»,— высшая знать московская, самые сановитые бородачи. Тут же и великий
государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец. Он
сидит в переднем углу, на возвышении со ступенями. Под ним большое золоченое
кресло. Столовая изба так и блестит золотом и серебром изящной, а чаще
аляповатой московской работы: на одном окне, на золотом бархате, красуются
рядом четверо серебряных часов-курантов; у того же окна — серебряный стенной
«шандал»; на другом окне — большой серебряник с лоханью, а по сторонам его —
высокие рассольники; на третьем окне, на золотом бархате — другой серебряный
рассольник да серебряная позолоченная бочка, «мерою в ведро». На рундуке,
против государева места, и на ступенях постланы дорогие персидские ковры; около
столпа, упирающегося в потолок столовой избы,— поставец: на нем ярко горят под
лучами весеннего солнца всевозможные драго-
32
ценные сосуды — золотые, серебряные, сердоликовые,
яшмовые.
Едва царь уселся в кресло, как на
постельном крыльце произошло небывалое смятение. Послышался смешанный говор, из
которого выделялись отдельные голоса:
— Хохлы! хохлатые люди едут!
— Это черкасы, гетмановы Ивана Брюховецкого
посланцы на отпуск к великому государю.
— Смотрите! смотрите! каки усищи!
— И головы бриты, словно у татар.
— Только у татар хохлов нету, а эти с
хохлами. Действительно, из-за карет и колымаг, запружавших дворцовую площадь,
показалась небольшая группа всадников. Это и были гетманские посланцы, всего
пять человек. Их сопровождал стрелецкий сотник, а почетную свиту их составляли
три взвода стрельцов от трех приказов, только без пищалей, как полагалось по
придворному церемониалу. Своеобразная, очень красивая одежда и вся внешность
украинцев, столь редких в то время гостей на Москве, не могли не поражать
москвичей. Высокие смушковые шапки с красными верхами, лихо заломанные к
затылку и набекрень; выпущенные из-под шапок, словно девичьи косы,
чубы-оселедцы, закинутые за ухо и спускавшиеся до плеч; длинные, ниспадавшие
жгутами, черные усы; яркие цветные жупаны, отороченные золотыми позументами; такие
же яркие, только других, еще более кричащих цветов шаровары, пышные и широкие,
как юбки, и убранные в желтые и красные сафьянные сапоги с серебряными
«острогами» и подковами,— все это невольно бросалось в глаза, вызывало
удивление москвичей.
Посланцы сошли с коней и направились к
постельному крыльцу.
— Потеснитесь малость, госпόдо
стольники и стряпчие! Дайте дорогу посланцам его ясновельможности гетмана Ивана
Мартыновича Брюховецкого и всего войска запорожского низового,— говорил
стрелецкий сотник, проводя посланцев чрез постельное крыльцо.
— Добро пожаловать, дорогие гости! —
слышались приветствия среди толпившихся на крыльце.
Посланцы вступили в переднюю, а из нее
введены были в столовую избу пред лицо государя. Их встретил думный дьяк Алмаз
Иванов. Бояре, чинно сидевшие в избе и почтительно уставившие брады свои и очи
в светлые очи «тишайшего», так же чинно повернули брады свои и очи к вошедшим.
Полное, добродушное лицо царя и осо-
33
бенно глаза его осветились едва заметною
приветливою улыбкой.
Посланцы низко поклонились и двумя пальцами
правых рук дотронулись до полу. Это они ударили челом великому государю, по
этикету. Но все молчали.
Тогда выступил Алмаз Иванов и, обратясь к
лицу государя, громко возгласил:
— Великий государь царь и великий князь Алексей
Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель!
Запорожского гетмана Ивана Брюховецкого посланцы, Гарасим Яковлев с товарищи,
вам, великому государю, челом ударили и на вашем государском жалованье челом
бьют.
Посланцы снова ударили челом.
— Гарасим! Павел!— снова возгласил дьяк,
обращаясь уже к посланцам.— Великий государь и великий князь Алексей
Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и обладатель,
жалует вас своим государским жалованьем: тебе, Гарасиму,— атлас гладкий, камка,
сукно лундыш, два сорока соболей да денег тридцать рублев.
Герасим ударил челом на государском
жалованье и поправил оселедец, который, словно девичья коса, перевесился с
бритой головы на крутой лоб запорожца.
— А тебе, Павлу,— продолжал дьяк, обращаясь
к Павлу Абраменку, товарищу Герасима,— тебе — атлас, сукно лундыш, сорок
соболей да денег двадцать рублев.
И Абраменко ударил челом.
— А вас, запорожских казаков (это дьяк
говорил уже остальным трем запорожцам, стоявшим позади посланцев) и твоих
посланных людей (это опять к Герасиму) царское величество жалует своим
государским жалованьем от казны.
И остальные ударили челом.
Царь, сидевший до этого времени неподвижно
в своем золотном одеянии, словно икона в золотой ризе, повернул лицо к Алмазу
Иванову и тихо проговорил:
— Сказывай наше государское слово.
И дьяк возгласил заранее приготовленную и
одобренную царем и боярами речь.
— Герасим! Великий государь царь и великий
князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и
обладатель, велел вам сказати: приезжала есте к нам, великому государю, к
нашему царскому величеству, по присылке гетмана Ивана Брюховецкого
34
и всего войска запорожского с листом. И мы, великий государь, тот лист
выслушали, и гетмана Ивана Брюховецкого и все войско запорожское, за их службу,
что о нашей царского величества милости ищут, жалуем, милостиво похваляем и,
пожаловав вас нашим царского величества жалованьем, велели отпустить к гетману
и ко всему войску запорожскому. И посылаем с вами к гетману и ко всему войску
запорожскому нашу царского величества грамоту. Да к гетману ж и ко всему войску
запорожскому посылаем нашего царского величества ближнего стольника Родиона
Матвеевича Стрешнева да дьяка Мартемьяна Бредихина. И как вы будете у гетмана,
у Ивана Брюховецкого, и у всего войска запорожского, и вы ему, гетману, и всему
войску запорожскому нашего царского величества милость и жалованье расскажите.
Проговорив это, Алмаз Иванов, по знаку
царя, приблизился к «тишайшему» и взял из рук его грамоту, и тут же передал ее
главному гетманскому посланцу, который, почтительно поцеловав ее и печать на
ней, бережно уложил в свою объемистую шапку.
Затем дьяк, опять-таки по знаку царя,
обратился снова к послам:
— Гарасим! Великий государь царь и великий
князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих государств государь и
обладатель, жалует вас, посланцев гетмана и всего войска запорожского, к руке.
«Гарасько-бугай», как его дразнили в
Запорожье товарищи за его воловью шею и за такое же воловье здоровье, тихо, но
грузно ступая по полу своими желтыми сафьянными сапожищами с серебряными
острогами, приблизился к ступеням, которые вели к государеву сиденью, осторожно
поставил ногу на первую ступень, как бы боясь, что она не выдержит воловьего груза,
потом на вторую и, перегнувшись всем своим массивным корпусом, бережно
приложился к белой, пухлой, «як у матушки игуменьи» (подумал он про себя),
выхоленной царской руке, словно к плащанице. За ним приложились и остальные
посланцы. Только последний из них, Михайло Брейко, поцеловав царскую руку и
почтительно пятясь назад, оступился на ступеньке и грузно повалился на пол у
подножия государского сиденья.
— Оце лихо! николи с коня не падав, а тут,
бачь, упав! — невольно вырвалось у него.
Наивность запорожца рассмешила «тишайшего»,
а за ним рассмеялась и вся столовая изба.
35
Молодец, однако, скоро оправился и стал на
свое место, а дьяк Алмаз снова выступил с отпускной речью.
— Гарасим!— возгласил он.— Великий государь
царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец и многих
государств государь и обладатель, жалует вас своим государским жалованьем — в
стола место корм.
Посланцы в последний раз ударили челом на
государеве жалованье — на корму — и удалились.
— Какие молодцы! — весело сказал Алексей
Михайлович, когда за казаками затворилась дверь.— С таким народом любо жить в
братской приязни и любительстве.
В это время из-за широких боярских спин, с
задней скамьи, поднимается стройный молодой человек и выступает на середину
избы. Одежда на нем была богатая, изысканная, какую носила тогдашняя золотая
молодежь. Из-под кафтана темно-малинового бархата ярко выделялся зипун из
белого атласа с рукавами из серебряной объяри; к вороту зипуна пристегнута была
высокая, шитая, разукрашенная жемчугом и драгоценными камнями «обнизь» — род
стоячего воротника. Кафтан, скорее кафтанец, на нем был такой же щегольской:
запястья у рукавов кафтанца были вышиты золотом, по которому сверкали крупные
зерна жемчуга, а разрез спереди кафтанца и подол оторочены были золотною узкою
тесьмою с серебряным кружевом; шелковые шнуры с кистями и массивные пуговицы с
изумрудами делали кафтанец еще наряднее.
При виде нарядного молодого человека
Алексей Михайлович приветливо улыбнулся. Тот истово ударил челом — по-божески:
поклонился до земли и коснулся лбом пола.
— А — это ты, Иван Воин,— приветствовал его
государь.
Молодой человек поднялся с полу и откинул
назад курчавые волосы. Лицо его рдело от смущения, хотя он и ответил улыбкой на
улыбку царя.
— На отпуск пришел? — спросил последний.
— На отпуск, великий государь,— был ответ.
Алексей Михайлович обратился к Алмазу
Иванову.
— Все готово к отъезду?
— Все, государь,— отвечал дьяк,— все в
посольском приказе.
— И грамоты к послам, и наша царская казна?
— Все, великий государь, как ты указал и
бояре приговорили.
36
— Хорошо. Поезжайте же (Алексей Михайлович
обратился к молодому человеку) — поезжай с Богом, да кланяйся от меня отцу.
Простись со мной — и ступай с Богом.
Молодой человек поднялся к царскому сиденью
и горячо поцеловал государеву руку. Алексей Михайлович поцеловал его в голову,
как родного сына.
— Учись у отца служить нам, великому
государю,— сказал он в заключение.
Молодой человек вышел из столовой избы весь
взволнованный.
II.
А соловей-то заливается!..
Вечером того же дня, с которого началось
наше повествование, по одному из глухих проулков, выходивших к Арбату,
осторожно пробиралась закутанная в теплый охабень высокая фигура мужчины.
Легкая соболевая шапочка так была низко надвинута к самым бровям и ворот охабня
так поднят и с затылка и выше подбородка, что лицо незнакомца трудно было
разглядеть. По всему видно было, что он старался быть незамеченным и
неузнанным. По временам он осторожно оглядывался — не видать ли кого-либо
сзади. Но переулок, скорее проулок, был слишком глух, чтоб по нем часто могли
попадаться пешеходы, особливо же в такой поздний час, когда Москва собиралась
спать или уже спала.
Но северные весенние ночи — предательские
ночи. Они не для тайных похождений: ни для воров, ни для влюбленных. Впрочем,
глядя на нашего незнакомца, смело можно было сказать, что это не вор, а скорее
политический заговорщик или влюбленный.
По обеим сторонам проулка, по которому
пробирался таинственный незнакомец, тянулись высокие каменные заборы, с
прорезями наверху, оканчивавшиеся у Арбата и загибавшиеся один вправо, другой
влево. И тот, и другой забор составляли ограды двух боярских домов, выходивших
37
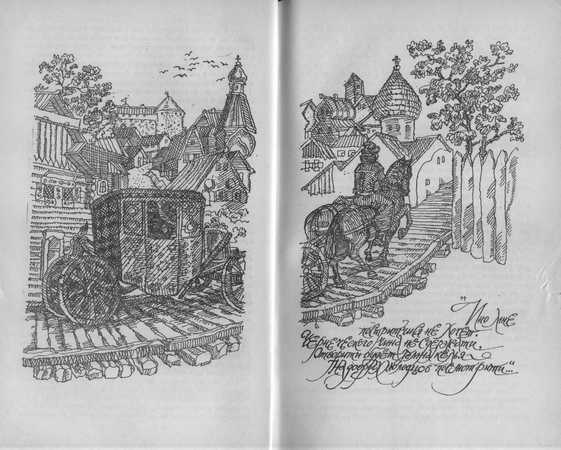
на Арбат. При обоих домах имелись тенистые сады, поросшие липами,
кленами, березами и высокими рябинами, только на днях начавшими покрываться
молодою яркою листвой. Из-за высокой ограды сада, тянувшегося с правой стороны,
по которой пробирался ночной гость, неслись переливчатые трели соловья.
Незнакомец вдруг остановился и стал прислушиваться. Но не трели соловья
заставили его остановиться: до его слуха донесся через ограду тихий серебристый
женский смех.
— Это она,— беззвучно прошептал
незнакомец,— видно, что ничего не знает.
Он сделал несколько шагов вперед и очутился
у едва заметной калитки, проделанной в ограде правого сада. Он еще раз
остановился и прислушался. Из-за ограды слышно было два голоса.
— Только с мамушкой... Господи благослови!
Тихо, тихо щелкнул ключ в замочной
скважине, и калитка беззвучно отворилась, а потом так же беззвучно закрылась.
Незнакомец исчез. Он был уже в боярском саду.
Русские женщины, особенно жены и дочери
бояр XVI и XVII
века, жили затворницами. Они знали только терем да церковь. Ни жизни, ни людей
они не знали. Но люди — везде и всегда люди, подчиненные законам природы. А
природа вложила в них врожденное, роковое чувство любви. Любили люди и в XVII веке, как они любят в XIX и будут любить в XX и даже в двухсотом столетии. А любовь — это божественное чувство —
всемогуща: перед нею бессильны и уединенные терема, и «свейские замки»,
считавшиеся тогда самыми крепкими, и высокие каменные ограды, и даже
монастырские стены!
А если люди любят — а любовь божественная
тайна,— то они и видятся тайно, находят возможность свиданий, несмотря ни на
какие грозные препятствия.
Недаром юная Ксения Годунова, заключенная в
царском терему и ожидавшая пострижения в черницы, плакалась на свою горькую
долю:
«Ино мне постритчися не хочет.
«Чернеческого чина не сдержати,
«Отворити будет темна келья —
«На добрых молодцов посмотрити»...
Хоть посмотреть только! Да не из терема
даже, а из монастырской кельи...
— Воинушко! свет очей моих!— тихо
вскрикнула девушка, когда, сбросив с себя охабень и шапку, перед нею,
40
словно из земли, вырос тот статный молодой человек, которого утром мы
видели в столовой избе и которого царь Алексей Михайлович назвал Иваном Воином.
Девушка рванулась к нему. Это было еще
очень юное существо, лет шестнадцати — не более. На ней была тонкая белая
сорочка с запястьями, вышитыми золотом и унизанными крупным жемчугом. Сорочка
виднелась из-за розового атласного летника с широкими рукавами — «накапками»,
тоже вышитыми золотом с жемчугами.
— Вот не ждала — не гадала...
Пришедший молчал. Он как будто боялся даже
заговорить с девушкой и потому обратился прежде к старушке-мамушке, вставшей со
скамьи при его появлении.
— Здравствуй, мамушка,— тихо сказал он.
— Здравствуй, сокол ясный! Что давно очей
не казал?
Пришедший подошел к девушке. Та потянулась
к нему и, положив маленькие ручки ему на плечи, с любовью и лаской посмотрела в
глаза.
— Что с тобою, милый? — с тревогой спросила
она.
— Я пришел проститься с тобой, солнышко
мое! — отвечал он дрогнувшим голосом.
— Как проститься? Для чево? — испуганно
заговорила девушка, отступая от него.
— Меня государь посылает к батюшке и к
войску,— отвечал тот.
Девушка как подкошенная молча опустилась на
скамью. С розовых щечек ее медленно сбегал румянец. Она беспомощно опустила
руки, словно плети.
Теперь она глядела совсем ребенком. Голубые
ее с длинным разрезом глаза, слишком большие для взрослой девушки, смотрели
совсем по-детски, а побледневшие от печали губки также по-детски сложились,
собираясь, по-видимому, плакать вместе с глазами.
— Для тово я так давно и не был у тебя,—
пояснил пришедший,— таково много было дела в посольском приказе.
Девушка продолжала молчать. Губы ее все
более и более вздрагивали. Пришедший приблизился к ней и взял ее руки в свои.
Руки девушки были холодны.
— Наташа! — с любовью и тоской прошептал
пришедший.
Девушка заплакала и, высвободив свои руки
из его рук, закрыла ими лицо.
— Наташа! — продолжал он с глубокой
нежностью.— Если ты любишь меня...
41
При этих словах девушка быстро встала как
ужаленная...
— А ты этого не знал?— глухо спросила она,
вся оскорбленная в своем чувстве этим «если».
— Прости, радость моя! Мое сердце кровью
исходит, ум мутится,— быстро заговорил пришедший,— сил моих нету оторваться от
тебя... Коли ты любишь, ты все сделаешь.
Девушка вопросительно посмотрела на него.
Но он, по-видимому, не решался продолжать и стоял, потупив голову, словно бы
прислушиваясь к соловью, который изливал свою безумную любовь в страстных
трелях любовной мелодии.
— Наташа! обвенчаемся ныне же, сейчас! — и
поедем вместе к батюшке! — вырвалось у него признание, как порыв отчаянья.
Девушка, казалось, не поняла его сразу.
Только глаза ее расширились.
— Я уже и священника знакомого условил,—
продолжал пришедший,— я уже совершенен возрастом — могу делать, что Бог на душу
положит; а мне Бог тебя дал, сокровище бесценное! Мы обвенчаемся и поедем к
батюшке — он благословит нас: он знает тебя.
Безумная радость блеснула в прекрасных глазах девушки, но только на
мгновенье. Русая головка ее, отягченная огромною пепельного цвета косою, опять
беспомощно опустилась на грудь.
— А мой батюшка? — с тихим отчаяньем
прошептала она,— как же без батюшкова благословенья?
— Твой батюшка опосля благословит нас.
Девушка отрицательно покачала головой.
— Бежать отай из дому родительского... отай
венчаться без батюшкова — без матушкова благословенья... да такого греха не
бывало, как и свет стоит,— говорила она словно во сне.
Молодой человек опять взял ее холодные
руки.
— Не говори так, Наташа. Вон в польском
государстве — сказывал мне мой учитель, из польской шляхты — в ихнем
государстве молодые барышни всегда так делают: отай повенчаются, а после венца
прямо к родителям: повинную голову и меч не сечет. Ну — назад не перевенчаешь —
и прощают, и благословляют. Так водится и за морем, у всех иноземных людей.
Девушка грустно покачала головой.
42
— Али я бусурманка? али я поганая еретичка?
— тихо шептала она.— Беглянка — сором-от, сором-от какой! Как же потом добрым
людям на глаза показаться? Да за это косу урезать мало — такого сорому и греха
и чернеческая ряса не покроет.
— Наталья! не говори так! — недовольным
голосом перебил ее молодой человек.— Это все московские забобоны — это тебе наплели
старухи да потаскуши-странницы. Мы не грех учиним, а пойдем в храм Божий, к
отцу духовному: коли он согласен обвенчать нас — какой же тут грех и сором?.. А
коли и грех, то на его душе грех, не на нашей. Ты говоришь — сором! — сором
любить, коли сам Спаситель сказал: «Любите друг друга, любитесь!» Но сором ли
то, что мы с тобою любилися в этом саду, аки в раю, сердцем радовалися! Ах,
Наташа, Наташа! ты не любишь меня...
Девушка так и повисла у него на шее.
— Милый мой! Воин мой! свет очей моих! я ли
не люблю тебя!
— Ты идешь со мной?
— Хоть на край света!
— Наташа! идем же...
— Куда, милый? — не помня себя,
спохватилась девушка.
— В церковь, к венцу.
— К венцу! — Девушка опомнилась.— Без
батюшкова благословенья?
— Да, да! ноне же, сейчас, со мной, с мамушкой!
— Нет! нет! — И девушка в изнеможении упала
на скамейку.
Молодой человек обеими руками схватился за
голову, не зная, на что решиться.
А соловей заливался в соседних кустах.
Песня его, счастливая, беззаботная, рвала, казалось, на части сердца влюбленных.
Мамушка сладко спала на ближайшей скамье, свесив набок седую голову.
— Наташа! ласточка моя! — снова заговорил
молодой человек, нагибаясь к девушке и кладя руки на плечи ей.— Наташечка!
— Что, милый? — как бы во сне спросила она.
— Всемогущим Богом заклинаю тебя! святою
памятью твоей матери молю тебя! будь моею женой — моим спасеньем.
— Буду, милый мой, суженый мой!
— Так идем же — разбудим мамушку.
43
— Нет! нет! не тяни моей душеньки! Ох, и
без того тяжко... Владычица! сжалься.
— Так нейдешь?
— Милый! суженый — о-ох!
— Последнее слово — ты гонишь меня на
прощанье?
— Воинушко! родной мой! не уходи!
Девушка встала и протянула к нему руки. Но
он уклонился с искаженным от злобы лицом.
— О! проклятая Москва! ты все отняла у
меня... Прощай же, Наталья, княженецка дочь!— словно бы прошипел он.— Не видать
тебе больше меня — прощай! Жди другого суженого!
И, схватив охабень и шапку, он юркнул в
калитку и исчез за высокой оградой.
Девушка протянула было к нему руки — и
упала наземь, как подрезанный косою полевой цветок.
А соловей-то заливается!..
III.
Батюшка и сынок
Молодой человек, собиравшийся похитить
девушку из родительского дома и так презрительно отзывавшийся о московских
обычаях, был сын известного в то время царского любимца Афанасия Лаврентьевича
Ордина-Нащокина, по имени Воин.
Воин представлял собою только что
нарождавшийся тогда в московской Руси тип западника. До некоторой степени
западником был уже и отец его, любимец царя, Афанасий.
За несколько времени до того Нащокин послан
был на воеводство в Псков, в его родной город. А по тогдашним обычаям
московским воеводство — это было в буквальном смысле «кормление»: такого-то
послали воеводою туда-то «на кормление», другого — в другой город, третьего — в
третий, и все это — «на кормление»; и вот для воеводы делаются всевозможные
поборы, и хлебом, и деньгами, и рыбою, и дичью; даже пироги и калачи сносились
и свозились на воеводский двор горами.
44
Нащокин первый восстал против этих
«приносов» и «привозов». По тому времени это уже было «новшество», нечто даже
богопротивное с точки зрения подьячих и истинно русских людей.
Мало того, Нащокин перевернул в Пскове
вверх дном весь строй общественного управления, урезав даже свою собственную,
почти неограниченную, воеводскую власть.
Ему жаль было своего родного города,
когда-то богатого и могущественного, гордого союзника и соперника «Господина
Великого Новгорода». Как пограничный город, стоявший на рубеже двух соседних
государств — Швеции и Польши, Псков еще недавно богател от заграничной торговли
с этими обоими государствами. Войны последних лет почти убили эту торговлю.
Между тем вся экономическая жизнь города и его области сосредоточилась в руках
кулаков, богатых «мужиков-горланов», положительно не дававших дышать остальному
населению страны.
— Я не хочу только кормиться от моей
родины,— я сам хочу ее кормить!—говорил новый воевода в съезжей избе во
всеуслышание.
— Как же ты ее, батюшка воевода, кормить
станешь? — лукаво спрашивали «мужики-горланы».
— А вот как, госпόдо старички: с
примеру сторонних, чужих земель...
— Это с заморщины-то, от нехристей? —
ухмылялись в бороды лукавые старички.
— С заморщины и есть: за морем есть чему
поучиться. Так вот я и помышляю в разуме, что как во всех государствах славны
те только торги, которые без пошлины учинены, то и для Пскова-города я учиню
такожде: быть во Пскове-городе беспошлинному торгу раз с Богоявления по день
преподобного Евфимия Великого, сиречь по 20-е число месяца януария; другой раз
— с вешнего Николы по день мученика Михаила Исповедника.
— Так, батюшка воевода, так! Да какая же
нам-от с той беспошлины корысть будет, да и казне-матушке? — лукаво спрашивали
горланы-мужики, по-нынешнему консерваторы.
— А вот какая корысть! То, что вы ноне,
стакавшись промеж себя, продаете втридорога молодшим и чорным людям и рольникам,
то у иноземных гостей они купят за полцены.
— Что ж, батюшка воевода,— это корысть
токмо подлым людишкам, смердьему роду, а казне-ту-матушке пошлинная деньга
плакала,— твердили свое старые лисицы.
45
— И казну не обойду,— отражал их доводы
ловкий воевода.— Ноне, ведомо вам буди, по всей матушке Русии торговые люди
плачутся на иноземных гостей: гости-де, стакавшись промеж себя, как и вы вот,
мошной своей — а у них мошна не вашей чета! — мошной своей всех наших торговых
людей задавили. Вы сами не левой ногой сморкаетесь...
— Хе-хе-хе! — отвечали на шутку воеводы
старики.— Шутник ты!
— Нет, я не шучу; а вы сами ведаете, что
иноземные гости, чтобы проносить ложку с русской кашей помимо ваших ртов,
стакались с вашим же братом, которые победнее, задают им деньги вперед, на
веру, а то и по записи, и на эти-то деньги ваш брат, который победнее, и
скупает на торгах, и по пригородам, и по селам товар малою ценою — и все это им
же, толстосумым гостям. Вот от такого-то неудержания русские люди на иноземцев,
на их корысть, торгуют ради скудного прокормления и оттого в последнюю скудость
приходят, а которые псковичи и свои животы имели, то и они от своих же
сговорщиков с немцами для низкой цены товаров — также оскудели.
— Правда, истинная правда, боярин,—
соглашались старички и удивлялись: —И откуда это ты, боярин, в нашем торговом
деле таково стал дотошен?
— Откуда? Я не из княжеского роду, не из
богатых бояр: знавал и я, почем ковш лиха, да ноне цены тому ковшу не забыл.
— Так-так... Да как же ты, боярин, этого
ковша изведешь, чтобы нас то-есть немцы не заедали?
— А вот как: чтобы не было такого тайного
сговора с немцами, чтобы маломочные псковичи не брали у них в подряд денег и не
роняли цены русским товарам, вы, старички и молодшие, лучшие торговые люди,
распишите сами, по свойству и по знакомству, во Пскове-городе и по пригородам,
всех маломочных людей, распишите их по себе, и ведайте их торговлю и промыслы,
а во место того, что они брали деньги у немцев и на них работали, на их колеса
воду лили, будем давать им ссуду из земской избы. Когда таким изворотом
маломочные люди на земские деньги накупят товару, то пущай везут его во Псков,
к примеру, в декабре месяце, сдают товар в земскую избу, в амбары, где и
записываются все подвозы в книги, а вы, лучшие люди, должны принимать тот товар
каждый у своего, кто за кем записан, и давать им цену с наддачею для
прокормления, и чтобы к маю месяцу они накупали новых
46

товаров — к самому Никольскому торгу; после же торгу вы, лучшие люди,
продавши товары свалом иноземцам, должны заплатить маломочным людям ту цену, по
какой сами продали.
— Ну и дока же наш воевода,— твердили после
этого псковичи.
Но Нащокин в своих преобразованиях пошел
еще дальше, урезав свою собственную власть, и опять-таки по образцу западному —
«с примеру сторонних, чужих земель».
Собравши в земской избе всех «лучших людей»
Пскова, он держал к ним такую речь:
— Госпόдо псковичи, лучшие люди!
уверились ли вы, что я хочу добра Пскову-городу?
— Уверились! уверились! — послышались
голоса. — В торговом деле ты уже утер носа немцам.
— Спасибо! Так сотворите теперь сами доброе
дело Пскову-городу и пригородам. Доселе воевода судил вас во всех делах и
обидах; но воевода не всеведущ; вы свои дела и обиды лучше знаете. Так выберите
из себя пятнадцать человек добрых людей на три года, чтобы из них каждый год
сидело в земской избе по пяти человек. Эти пятеро выборных должны судить
посадских людей во всех торговых и обидных делах, а ко мне, к воеводе, отводить
только в измене, разбое и душегубстве. Ежели же случится тяжба между дворянином
и посадским, то судить дворянину — кто будет у судных дел — с выборными
посадскими людьми. Пошлины же с судных дел, решенных пятью выборными, держать в
земской избе для градских расходов. Люба ли вам моя речь?— закончил воевода.
— Люба-то, люба, только дай нам малость
подумать,— был ответ.
— Думайте, думайте.
За этими думами Псков разделился на две
партии: меньшие люди все примкнули к «новшеству» Нащокина, «лучшие» — уперлись
на старине, что для них было выгоднее.
Так и в ином другом Нащокин шел несколько
впереди своего века. За это его и не любили старые бояре и подьячие.
Оттого, когда сегодня утром молодой
Нащокин, Воин, шел из столовой избы через переднюю, его провожало злобное
шипенье приверженцев старины:
— Вон — из молодых да ранний — весь в
батюшку.
— А что батюшка! От него старым людям житья
нет:
48
все бранится, всех укоряет... все, по его, делается не хорошо...
толкует о новых порядках, что в чужих землях!
— Знамо! А каки-таки эти порядки? Что он
завел во Пскове? Приедет воевода в город, а ему там и делать нечего, всем
владеют мужики!
— Да что ж будешь делать! Великий государь
его жалует: грамоты шлет ему прямо из приказа тайных дел, и он, Афонька, пишет
туда же. Уж коли заведен приказ тайных дел, так всякому бы можно писать
великому государю, что хочет, обносить кого хочет — никто не сведает.
— И чему дивиться! Был бы из честного
старого роду, а то откуда взять?
— Умный человек! — ядовито замечает кто-то.
— Умный! Никто у него ума не отнимает, да
как будто все другие глупы?
— Ну, а сынок, поди, шагнет еще выше! Вон и
сейчас у великого государя у ручки был.
Действительно, сынок пошел дальше отца,
только несколько в другом роде.
Во многом приверженец Запада и его
общественных порядков, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, проникнутый благоговением
к европейскому образованию, пожелал и сыну своему, Воиньке, дать по возможности
отведать этого роскошного плода. Но какие были средства для этого в тогдашней
московской Руси? Ни университетов, которыми давно гордилась Европа, ни высших,
даже средних образовательных училищ, ни даже учителей — ничего этого не было на
Руси. Даже для царских детей приходилось брать учителей из Малороссии. Но
Малороссию Ордин-Нащокин не любил. Он был приверженец монархических порядков.
Не будучи сам знатного рода, он душою льнул к древней родовитости, к
аристократизму. Он презрительно отзывался даже о Голландии и ее республиканском
управлении.
— Голланцы — это наши псковские и
новгородские мужики-вечники, те же горланы!— отвечал он Алексею Михайловичу,
когда тот желал знать его мнение о союзе французского и датского королей с
голландцами против Англии.
Понятно, что он недолюбливал и Малороссию с
ее выборным началом.
— Эти хохлатые люди еще почище наших
вечевых горланов!— говорил он о запорожских казаках.— Они своих кошевых
атаманов и гетманов киями бьют, словно своих волов.
49
Зато сердце его лежало к полякам — к
аристократической нации по преимуществу.
И вот из поляков, попавших к русским в
плен, Ордин-Нащокин выбрал учителей для своего балованного сына Воина.
Неудивительно, что вместе с мечтательной любовью к Западу учителя эти посеяли в
сердце своего пылкого и впечатлительного ученика презрение к Москве, к ее
обычаям и порядкам, даже к ее верованиям. Все московское было для него или
смешно, или противно.
Под влиянием западноевропейских воззрений
на жизнь он решился на самый отчаянный по тому времени шаг — похитить любимую
им девушку. Однако все усилия его разбились в прах об унаследованное московской
боярышней от матерей и бабушек понятие о женской чести и стыдливости. Ни
любовь, ни страх вечной разлуки, ни страдания оскорбленного чувства — ничто не
могло заставить девушку переступить роковую грань обычая. Она не перенесла
страшного момента разлуки — и потеря сознания облегчила на несколько минут ее
муки, ее ужасное горе — первое после потери матери великое горе в ее молодой
жизни.
Когда она пришла в себя, то увидела
склонившееся над нею, ужасом искаженное лицо мамушки.
— Где он? что с ним? — были первые ее
слова.
— Не знаю, дитятко,— словно он сквозь землю
провалился. А что с тобой, мое золото червонное!
— Я ничего не помню, мамушка: только он
сказал, что мы больше с ним не увидимся.
— Ах, он злодей! да как же это так? —
встревожилась старушка.— Что тут у вас вышло? чем он тебя обидел, ласточка моя?
— Он ничем меня не обидел: он только
сказал, что нам больше не видаться на сем свете.
— Владычица! — всплеснула руками старушка:—
Да что с ним, с окаянным, подеялось?
Девушка молчала. Даже старой мамке своей
она не могла выдать того, что она считала святою, великою тайной. А соловей все
заливался...
IV. Таинственное исчезновение
молодого Ордина-Нащокина
Прошло недели две после 5 мая, и по Москве,
среди бояр и придворных, разнеслась весть, что молодой Ордин-Нащокин, Воин,
пропал без вести.
Стало также известно, что царь лично отправил
его с важными бумагами и большою суммою денег к отцу, который вместе с другими
боярами, с Долгорукими и Одоевским, находился на польском рубеже для
переговоров с польскими послами о мире.
Одни говорили, что молодой Нащокин кем-либо
на дороге был убит и ограблен. Враги же Нащокиных распускали слух, что Воин,
прельстясь деньгами, которые были ему доверены царем, и будучи учеником
коварных польских панков, с царскими денежками и с важными бумагами улизнул за
рубеж и там протирает глаза этим денежкам.
Известие об исчезновении молодого Нащокина,
естественно, очень смутило Алексея Михайловича, и он тоже начал думать, что
молодой человек был увлечен в сети злоумышленниками и погиб безвременно. Он
даже упрекал себя в том, что дал серьезное поручение такому неопытному юноше и
ему же доверил значительную сумму денег. Алексей Михайлович тотчас приказал
отправить гонцов во все концы; но все напрасно: молодой человек словно в воду
канул.
Как громом поразила эта весть девушку, с
которою он виделся накануне отъезда из Москвы. Она винила себя в гибели своего
возлюбленного. Точно окаменелая бродила она по переходам своего терема и по
саду, где видела его в последний раз и где, казалось, на дорожке, ведущей от
скамейки к калитке, оставались еще следы его ног. Как безумная припадала она к
этим кажущимся следам и все звала своего милого. Она глухо кляла теперь свой
напрасный страх, свою нерешительность. Что для нее людские толки и пересуды,
если б около нее был ее суженый? Тогда она боялась идти с ним под венец, а
теперь с ним охотно бы пошла на плаху. Зачем же ей теперь жить? Для кого? Ведь
только для него светило это солнце, для него синел этот свод неба, для него
раздавались эти трели соловья. А соловей пел и тогда, в тот чудный и ужасный
вечер, когда она, безумная, оттолкнула его от себя.
Она не могла даже плакать, не могла
молиться. По целым часам она сидела на той скамейке, на его месте, неподвижная,
холодная.
51
Старая мамушка насильно увела ее из саду и
уложила в постель. К вечеру девушка вся разгорелась, а ночью бредила, говорила
бессвязные слова или вздрагивала, прислушиваясь к трелям соловья.
Больше недели оставалась она таким образом
между жизнью и смертью. По ней служили молебны, кропили ее крещенскою водою, к
ней приносили из церквей чудотворные иконы, приводили знахарок со всей Москвы.
Все напрасно!
Страшно поразило отца исчезновение любимого
сына. Он также думал, что его Воин погиб от руки злоумышленников. В несколько
дней он осунулся, постарел. Переговоры его с польскими послами о мире шли вяло
— он, казалось, утратил сразу и ум, и энергию, и находчивость, и дар слова,
которому прежде все завидовали.
Между тем розыски пропавшего без вести
производились самым тщательным образом. Исследован был весь путь от Москвы
вплоть до польского рубежа, до того местечка над рекою Городнею, где отец
пропавшего, Афанасий Ордин-Нащокин, и другие русские послы вели переговоры с
польскими комиссарами о мире. Расспрашивали в каждом попутном селе, в каждой
деревеньке, по кабакам и корчмам — не проезжал ли в такие-то и такие дни такой-то,
на такой-то лошади, с такими-то приметами. И почти везде отвечали, что видели
такого-то, проезжал-де, а кто такой — того не ведают. И вдруг след его пропал
как раз у рубежа, в пограничном лесу, где змеились три расходившиеся в разные
места дорожки. Тут он исчез бесследно. За рубежом, на польской земле, его уже
не видали.
Как и чем объяснить это таинственное
исчезновение? Все теряли головы и никто не мог ничего придумать.
Несчастный отец остановился на одной
ужасной мысли: сына его убили.
Но где убийцы? кто? для чего? для грабежа?
Но кто знал, что у него деньги? Ведь гонцы часто ездили и из Москвы, и в
Москву,— и ни один не пропал. Пропал его единственный сын, гордость и утеха его
старости, его надежды!
Он убит — и Афанасий знает, кто его убийцы.
Враги отца, завистники — они наложили злодейскую руку на его сына. Они видели,
как 5 мая великий государь жаловал его к руке. Они знали, куда он едет и с
какими поручениями. С ним были бумаги из ненавистного им приказа тайных дел.
Надо захватить эти бумаги и отмстить высокомерному отцу в его единственном
сыне.
52
Они подослали убийц к невинной жертве. За
ним следили по пятам до самого рубежа, и в последнюю ночь в этом порубежном
лесу — убили, зарезали!
Но где же труп несчастного? Труп зарыли или
бросили в Городню с камнем на шее.
— «Это тебе, Афанасий, за твою гордыню, за
царские милости, за приказ тайных дел!»
Вот что теперь они говорят промеж себя,
усмехаясь в бороды. А у Афанасия сердце кровью исходит, мозг сохнет под
черепом.
Недаром этот «Тараруй» — князь Хованский —
все теперь переделывает на свой лад во Пскове, что сделал там он, Афанасий. Так
этого мало — надо сына отнять!
Хоть бы кости его найти да похоронить
по-христиански!
И Нащокина часто видели бродящим в лесу,
где — он был уверен — зарезали его сына.
Раз он набрел там на старика, сдиравшего
лыки на лапти.
— Здравствуй, старичок! — сказал он.— Бог в
помощь. Ты здешний будешь?
Старик был глуховат и не расслышал слов
незнакомого боярина. Он только кланялся. Нащокин заговорил громче и повторил
свой вопрос.
— Тутошний, тутошний, батюшка болярин,—
отвечал старик,— грешным делом лычки деру на лапотки — только лапотками и
кормлюсь.
— Доброе дело,— ласково заговорил Нащокин.—
Бог труды любит.
— Чаво баишь, боляринушко? — не расслышал
старик.
— Бог, говорю, любит труды, а ты вот
трудишься.
— Тружусь, батюшко,— кормлюсь лапотками. А
ты, чаю, на зайчика?
— На зайчика, дедушка.
— Вор зайчик — молоденьку корочку грызет —
божье деревцо портит зря.
— А что, дедушка, не опасно здесь на
рубеже, в лесу? Не шалят, бывает, польские, а то и русские людишки тут?
— Бывает, батюшко, бывает — пошаливают.
— И убивства случаются?
— Попущает Бог — убивают. Вот и нынешней
весной, сказывали, убили тут боярского сынка.
Нащокина словно что ударило под сердце.
53
— Боярского сына, говоришь, убили?— опросил
он с дрожью в голосе.
— Убили, боляринушко, попустил Бог. Я,
поди, и злодеев-ту этих видел, да невдомек мне было, что это злодеи. Опосля уже
смекнул — да поздно.
— Расскажи же, дедушка, когда и как это
дело было?— Нащокиным овладело страшное волнение.— Припомни, дедушка: может,
злодеи и сыщутся.
— А так было дело, боляринушко. Однова этта
весной, перед вешним Миколой, замешкался я в лесу с лычками — ночь захватила.
— Так перед вешним Миколой, говоришь? —
переспросил Нащокин.— «Так — перед Николой и должно быть», с ужасом соображал
он.— Ну, что же?
— Позамешкался я этта тады в лесу, надрал
лычек эдак свеженьких охапочку, да грешным делом и ковыляю домой. Ан глядь —
вон там из лесу и выезжают на конях неведомые люди да туда вон прямо за рубеж и
по-веялись.
— Трое, говоришь?
— Трое, боляринушко, трое.
— А обличья ты их не разглядел?
— Где разглядеть, батюшко!— далече ехали. А
что меня в сумленье ввело, батюшка, так конь у них, у злодеев, лишний: два, как
и след, верхами, а один-от злодей — одвуконь — другого-ту коня в поводу вел.
Для-че им лишний конь? Знамо, не их конек, а из-под того боярского сынка, что
они, злодеи, убили в лесу и ограбили: теперича этта я так мекаю, а тады — и
невдомек было — украли, думаю, конька, злодеи, да и за рубеж. А дело тут вышло
во-како: душегубство, а окаянных-ту злодеев и след, чу, простыл.
Теперь для Нащокина стало несомненным, что
то были убийцы его сына, убийцы, подосланные его врагами из Москвы. Ясно, что
они следили за ним по пятам, до самого польского рубежа, и тут, совершив свое
гнусное злодеяние, перебрались за рубеж, чтоб воротиться в Москву уже другою
дорогою. Лошадь убитого они не могли оставить в лесу, а увели ее с собою и,
вероятно, продали в каком-нибудь польском местечке.
Нащокин дал старику несколько алтынов и
пошел к тому месту леса, где, по его мнению, был убит его сын. Но и там не
нашел он никаких следов преступления — ни подозрительной насыпи, ни следов
борьбы или насилия.
54
А лес между тем жил полною жизнью, какою
только может жить природа в весеннее время, когда говором и любовным шепотом,
кажется, звучит от каждого куста, когда говорят ветви и листья на деревьях и
трава с цветами шелестит любовным шепотом. Все так полно жизни, блеска и
радости, все дышит любовью и счастьем, которое слышится в этом неумолчном
говоре птиц, в этом жужжанье пчел, в этом беззаботном гудении и каком-то
детском лепете неуловимых глазом живых тварей,— и среди этой жизни, среди этого
блаженства природы — смерть, наглая, ужасающая смерть в самом расцвете молодой жизни!
«И за что, Боже правый!— шептал несчастный
старик.— Не за его — за мои прегрешения!»
«За что его, а не меня, Господи!»
Он упал лицом в траву и беззвучно заплакал.
А над ним было такое голубое небо, такое
ласковое утреннее солнце.
V. В своей семье
На Москве между тем дела шли своим
порядком.
Патриарх Никон, поссорясь с царем, давно
сидел безвыездно в Воскресенском монастыре и на все попытки государя
примириться с ним отвечал глухим ворчанием. Алексей Михайлович с своей стороны,
мешая государственные дела с бездельем, тешил себя тем, что, проживая в селе
Коломенском, от скуки каждое утро купал в пруду своих стольников, если кто из
них опаздывал к царскому смотру, то есть — к утреннему выходу*.
Но сегодня почему-то не занимало его это
купанье стольников. Он вспоминал о своем бывшем «собинном» друге Никоне, и его
грызло сознание, что он был слишком суров с ним. Но и Никон не хотел идти на
примирение.
А тут еще это исчезновение молодого
Ордина-Нащокина. По его вине он погиб! Каково же должно быть бедному отцу?
_____________________________________________
* Государь сам писал об этом стольнику
Матюшкину: «Извещаю тебе, что тем утешаюся, што стольников купаю ежеутр в
пруде. Иордань хороша сделана, человека по четыре и по пяти, и по двенадцати
человеков, за то: кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю; да после
купанья жалую, зову их ежедень, у меня купальщики те ядят вдоволь, и иные
говорят: мы-де нароком не поспеем, так-де нас и выкупают да и за стол
посадят»... (Прим. Д. Л. Мордовцева.)
55
«А все я — всему я виной,— грызла ему
сердце эта мысль.— От меня все исходит — и горе, и радость... А кому радостно?
Больше слез я вижу, чем радостей... Бедный, бедный Афанасий! Не пошли я малого,
он бы жив теперь был... А то на! Обласкал своею милостью — и малого не
стало»...
В такие грустные минуты Алексей Михайлович
любил заходить к своей любимице, к маленькой царевне Софье. Она своими ласками,
своим детским щебетаньем развлекала его, отвлекала от дум.
И Алексей Михайлович задумчиво побрел по
переходам к светлице своей девочки.
Уже перед дверью светлицы он услыхал ее
серебристый смех.
— Блаженни,— тихо, с грустной улыбкой,
проговорил он,— их бо есть царствие Божие.
И он тихонько вступил в светлицу. От этого
светленького теремка, от всего, что он увидел, так на него и повеяло чистотой
детства, невинности, счастьем неведения. Девочка сидела у стола над какой-то
книгой и теребила свои пышные, еще не заплетенные волосы. А в сторонке, у окна,
сидела ее мамушка и что-то вязала.
— Ах, мамка, как это смешно, как смешно,— повторяла
девочка.
— Что смешно, моя птичка?— вдруг услышала
она за собою голос отца — и вздрогнула от нечаянности, потому что ноги Алексея
Михайловича, обутые в мягкие сафьянные туфли, тихо ступали ко коврам, не делая
ни малейшего шуму.
Девочка вскочила и радостно бросилась отцу
на шею.
— Батюшка! государь! светик мой!— обнимала
она его, лаская руками шелковистую бороду родителя.
— Здравствуй, здравствуй, птичечка моя,
ясные глазыньки! — любовно целовал и гладил он девочку.— Здравствуй и ты,
мамушка.
— Сам здравствуй, светик наш, царь-осударь,
на многие лета! — кланялась мамушка.
— Что это вы тут смешное читаете? — спросил
Алексей Михайлович.— Не сказку ли какую?
— Нет, батюшка, не сказку,— отвечала
царевна, и опять ее голосок зазвенел смехом, точно серебряный колокольчик.— Вот
эта книга — она называется «Книга глаголемая Лусидариус или златый бисер»*, Тут
обо всем пи-
_______________________________________________
* Книга эта имеется у автора. (Прим.
Д. Л. Мордовцева.)
56
сано — и о звездах, и о земле, и о зело дивных людях в земле
индейской. Вот послушай.
И девочка нагнулась над раскрытою книгой,
писанною полууставом.
— Слушай,— читала она,— «тамо есть люди,
именуемые силокпеси (циклопесы — циклопы), имеют только по единой ноге и рыщут
борзее птицына летания, а егда сядет или ляжет, тою ногою от зноя и от дождя
закрывается». Как же это, батюшка, об одной ноге? — удивленно посмотрела она на
отца.
— А так, дитятко, чудеса Господни
неисповедимы,— отвечал царь серьезно.
Девочка как бы смутилась немножко, но снова
нагнулась над книгой и что-то искала в ней.
— А вот, смотри,— сказала она торопливо,—
слушай: «тамо же есть люди безглавнии, им же есть очи на плечах, и вместо уст и
носах имеют на персех по две дыры». Как же это, батюшка? Разве без головы можно
жить? — спросила она.
— Не знаю, милая, но у Бога все возможно,—
задумчиво говорил Алексей Михайлович.— А где ты взяла эту книгу? — спросил он.
— Мне мама дала ее почитать, а маме ее
подарил протопоп Аввакум.
— Аввакум,— повторил про себя Алексей
Михайлович.
Он опять задумался, опять что-то укором
подкатилось к его сердцу. «Может быть, за правду и этот страдает,— думалось
ему,— но где правда, где истина... Истина! Иисус же ответа не даде! Боже
великий!»
При имени Аввакума он вспомнил, что этот
мученик религиозного фанатизма, по его же повелению, прикован на цепь в одной
из келий монастыря Николы на Угрешу. А кто прав? он ли, Аввакум, Никон ли?
двуперстное или троеперстное сложение? Где же истина?
«Иисус же ответа не даде»,— ныло у него на
сердце.
Видя грустную задумчивость царя, юная
царевна стала робко ласкаться к нему, и ему представилась другая такая же
сцена: юный Воин ласкается к своему отцу; а теперь этот отец осиротел, и
осиротил его он.
Желая отогнать мрачные мысли, Алексей
Михайлович машинально берет подаренную Аввакумом книгу и читает вслух:
57
— А — вон оно что! о нашей Ефропе тут
пишется — вишь ты!— Ефропой ее именует: — «Вторая часть сего мира зовется
Ефропа, еже простреся по горам, тамо язык германский, Готфы, тамо же величайшая
река Дунай»...
— Вишь ты!— перебил он сам себя.— Дунай, а
мою Волгу-ту и забыли? А, може, мы не в Ефропе живем? Посмотрим, что дальше
будет (читает): «а от моря язык благоизбранный и людие храбри словенстии, яже
суть Русь»!..
— Вишь ты! — улыбнулся он.— Не забыли и нас
— спасибо! Ну, ин дале: «таможе бриляне» — это еще что за бриляне? Не вем...
«чехи, ляхи, поляки, воринганы (варяги, надо бы думать), фрязи, микияне (таких
не знаю), дауцы, керенгвяне (и таких не слыхал), Фрисляндия, и инные многие
земли. На другой половине тоя же Ефропы земли Остерляндия, Сунгория, Бесемия,
галове, греки, та страна даже до моря».
Книга так заинтересовала Алексея
Михайловича, что он присел к столу, а юная царевна взмостилась к нему на колени
и обвила рукою его шею.
— Ах, ты, девка! тяжелая какая стала! —
ласково трепал он волосы у девочки.— И не диво — тринадцатый годок уж пошел.
— Нет, батюшка-царь, четырнадцатый!—
поправила она отца.
— Ой ли? Ну, совсем невеста — пора замуж.
— Я замуж не хочу!
— Ну, захочешь... Сиди смирно! Посмотрим,
что там дале книга пишет.
Он нагнулся и стал читать: «И земля
Дамасия, в ней же есть источник дивный, иже от него зажигаются свещи»... Дивны
дела твои, Господи!— перебил он себя.— «Тамо и великая гора Олимпус, ее же
высота превыше облак, от той же горы начинается земля Италия, тамо украина
имянуемая Рим»... Точно — Рим, где папеж живет... «И Галлия, Британия, тамо
Венеция, юже созда царь Ипутус, оттоле вышла река Рын*, и течет по французской
земле; подле той реки прилежат мнози велицыи украины — Кастилия, Колония (Каталония!),
Местиния, Страстборх, Стерн, потом начнется Испания, к ней прилежат широкия
страны, Картеза град и иные многие. Сие испанское государство лежит все подле
моря. К тому государству близ страны, иже есть Британия и Англия, губерния
Канатос; из сих стран вывозят злато. Тамо же на запод край моря
___________
* Рейн, конечно. (Прим. Д. Л. Мордовцева.)
58
страна, нарицаемая Схоттия: там пришед солнце от восток скрывается; то
есть место, глаголемое запод; тамо же в море близ остров, на нем же древеса,
которые ростут, отнюдь не повалятся; тамо же есть Мерзлое море; в том месте
толика студеность, еже тамо невозможно человеку быти».
— Вот, батюшка,— перебила его Софья,— ты
все воюешь с поляками — на что они тебе? А ты б завоевал нам рай.
— Какой рай, птичка?— удивился Алексей
Михайлович.
— А где великая река Ганг.
И царевна стала перелистывать книгу.
— Ах, все твоя борода мешает,— отвела она
рукой пушистую бороду отца.— Вот! «Там же есть люди в велицей реце Ганги
(начала она читать), яже из рая течет» — видишь? из рая... «Те люди имеют
овощие, иже из рая пловут, и от тех овощев питаются живыми ядрами, а иные пищи
не требуют, и те овощи осторожно вельми у себя блюдут того ради, понеже они
зело боятся злосмрадного всякого обоняния, и теми овощами защищают живот свой;
аще, если которой из них обоняет какую злосмрадную воню, а тех вышеупомянутых
овощев при себе иметь не будет, то вскоре умирает и жив быти не может, яко рыба
на суше». Вот, видишь, где рай?
— Вижу токмо, дитятко мое, что дивны
творения рук божиих,— задумчиво проговорил государь,— а где уж нам, грешным,
рая достигнуть в сей жизни! Хоть бы после смерти Господь сподобил нас рая
пресветлого своего.
Он замолчал. Слышны были только
благочестивые вздохи мамушки.
— Что, мамка, вздыхаешь? — спросил ее
государь.
— О грехах, батюшка-царь,— отвечала
старушка.
Послышался шорох атласного платья, и в
дверях светлицы показалась царица Марья Ильишна, как ее тогда называли, а не
Ильинишна.
Софья соскочила с колен отца и бросилась к
матери.
— Ах, мама! что мы тут с батюшкой читали! И
об рае, и об Европе, и об людях без голов! — торопилась, почти захлебываясь,
будущая правительница русской земли.
— Где ж это вы таки чудеса вычитали? —
улыбалась Марья Ильишна.
— А в той книге, что ты мне дала — «Книга
глаголемая Лусидарус».
— Так и есть таки люди, что без голов? —
недоверчиво спросила царица.
59
— Есть, мама; только у них очи на плечах, а
вместо уст и носа — на персях по две дыры.
— А чем же они ядят?
— Должно быть, мама, этими дырами.
— А где они живут?
— В Индейской земле, мама. И есть там люди
об одной ноге.
Алексей Михайлович тоже подошел к царице.
— Что, Маша, слышно о протопопе Аввакуме? —
как-то робко спросил он, не смея взглянуть ей в глаза.
— Во узах сидит мученик-святитель — на чепи
у Николы на Угрешу! — как бы нехотя, но с нервной дрожью в голосе отвечала
царица.
— Ты спосылала к нему?
— Спосылала не раз.
— От меня?
— От тебя и от себя: твоим царевым словом
умоляла.
— И что ж он?
— Стоит так, чепью окован, руки горе. «Не
соединюсь,— говорит,— со отступниками: он,— говорит,— мой царь, мой! Я,—
говорит,— не сведу с высоты небесныя рук, дондеже Бог его отдаст мне!» И ручки
так к небу простирает. «Не сведу,— говорит,— рук с высоты! не сведу!*» Это он к
тому, что будто тебя у него отступники отняли.
— Ох, Маша, тяжел мой крест — крест царев!
— горько покачал головой Алексей Михайлович.— Тяжела шапка Мономаха! Кто прав?
где истина? повторяю я с Пилатом: «что есть истина? Иисус же ответа не даде».
Помнишь это, Маша?
И царь, задумавшись, повернулся и
направился к себе.
— А что молодой Ордин-Нащокин? так и не
сыскали? — кликнула ему вслед царица.
Но Алексей Михайлович ничего не ответил.
____________
* «Житие протопопа Аввакума». Изд. проф.
Тихонравова. (Прим. Д. Л. Мордовцева.)
60
VI. Стенька Разин в гостях у Аввакума
Что же в самом деле было с Аввакумом,
которого участь так горячо принималась к сердцу всею царскою семьей и из-за
которого у царя с царицей были иногда очень горькие препирательства?
Он, действительно, сидел на цепи у Николы
на Угреше. Ему, впрочем, не привыкать было к этим цепям, к битью плетьми,
палками, к тасканью за волосы, за бороду.
А теперь и таскать было не за что. У него
отрезали его святительскую бороду, остригли его иерейское украшение — волосы.
— Видишь,— говорил он посланцу царицы,
князю Ивану Воротынскому.— Полюбуйся, как окарнали меня! Волки, а не люди:
оборвали меня, горюна, словно собаки, один хохол оставили, как у поляка на лбу.
Да что говорить! Бог их простит. Я своего мучения на них не спрошу — ни в сей
век, ни в будущий, и буду молиться о них — о живых и о преставльшихся. Диавол
между нами рассечение положил.
Теперь он был один в своей темнице, лежал
на полу, на связке соломы, и бормотал что-то про себя. Он был страшно изможден,
худ, как скелет, но в энергических, совсем юношеских ясных глазах светилась
детская радость. Чему же он радовался? А радовался своим мукам, истязаниям,
которым его подвергали в жизни за идею — за двуперстное сложение, за трегубую
аллилуйю, за букву I в слове Icyc, а не Iисус...
Он теперь лежал и с детской радостью припоминал все эти истязания.
— Это тогда, когда воевода у вдовы отнял
дочь девицу, а я за них заступился,— и он воздвиг на мя бури! У церкви его
слуги мало до смерти меня не задавили. И аз, лежа мертв полчаса и больше, и
паки ожив божиим мановением; но его опять научил диавол: пришел в церковь, бил
и волочил меня за ноги по земле в ризах, а я в то время молитвы говорю. Это
раз.
Но ему помешали продолжать перечисление
испытанных им истязаний. Кто-то постучался в железную дверь его тюрьмы.
— Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй
нас!— проговорил за дверью чей-то незнакомый голос.
— Аминь! — с удивлением отвечал Аввакум,
потому что к нему в тюрьму никого не впускали, даже посланцев от царицы.
61
Загремели ключи, три раза щелкнул замок,
заскрипела на ржавых петлях дверь и в тюремную келью вошел неизвестный человек.
Аввакум разом окинул его взглядом и даже
как будто смутился. Перед ним стоял могучий, широкоплечий мужчина в казацком
одеянии, подстриженный в кружало, как стриглись тогда донские и воровские
казаки. Широкий лоб обличал в пришельце могучую энергию. Но особенно поражали
его глаза: в них было что-то властное, непреклонное; за этими глазами люди идут
в огонь и в воду; этим глазам повинуются толпы,— было что-то непостижимое в
них, что-то такое, что смутило даже Аввакума, которого не смущали ни плахи, ни
костры, ни убийственные очи Никона, ни царственный взгляд царя Алексея
Михайловича.
Аввакум быстро поднялся с соломы.
— Благослови меня, святой отец! — сказал
пришелец повелительным голосом.
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа,—
как-то смущенно проговорил протопоп-фанатик.— Ты кто, сын мой?
— Я казак с вольного Дону.
— А как имя твое, сыне?
— Зовут меня Стенькой.
— Раб божий Степан, значит. А по отчеству?
— Отца Тимошкой звали.
— А разве отец твой помре?
— Да. По его душе я и молился в Соловках да
по братней, по Тимофеевой же, что казнили неправедно.
— Кто и за что? — удивился Аввакум.
— Казнил его князь Юрий Долгорукий. Брат
мой старший, Тимофеем же, как и отца, звали, был у нас атаманом и с казаками
ходил в поход супротив поляков, в помощь этому князю Юрью. По окончании похода
брат мой оставил Долгорукого и повел казаков на Дон. Мы люди вольные — служим
белому царю по нашему хотению, коли казачий круг приговорит. Мы креста никому
не целовали на холопство — брат и ушел с казаками домой, а князь Юрий, осерчав
на то, обманом заманил к себе брата — и отрубил ему голову.
— Царство небесное славному атаману, рабу
божию Тимофею,— набожно проговорил Аввакум.— А куда же ты, Степан Тимофеевич,
путь держишь?—спросил он.
— К себе, на тихий Дон, отче святый. Я иду
из Соловок.
62
— Из Соловок! — удивился протопоп.—
Немаленький путь сотворил ты, сын мой, во имя божие: подвиг сей зачтется тебе.
Как же ты обо мне узнал, миленький?
— Твое имя, отче святый, аки кадило на всю
святую Русь сияет,— был ответ.
Аввакум набожно перекрестился.
— Недостоин я сего, сыне: я — пес, лающий
во славу божию за святое двуперстие да за истинную веру,— сказал он смиренно,
но глаза его разом засветились: — и буду лаять до последнего издыхания — на плахе,
на виселице, на костре, на кресте!
Он заходил было по своей тюрьме, но она
была так тесна, как клетка, и он остановился, видимо любуясь своим нежданным
посетителем.
— Как же ты, сын мой, попал ко мне во
узилище? — спросил он гостя.— Вишь, ко мне никого не пущают; даже вон царицыны
посланцы — и те со мною разговаривают через оконную да дверную решетку.
Онамедни сам царь приходил, да только походил около моея темницы и опять пошел
прочь. И Воротынский бедный, князь Иван, просился же ко мне в темницу; ино не
пустили горюна; я лишь, в окно глядя, поплакал на него*. А как ты попал ко мне?
чем отпер сердце недреманной стражи?
— Золотым ключом,— был ответ.
— А! разумею. А что ноне, сын мой, в
Соловках творится, в обители святых угодников Зосимы-Савватия? — спросил
Аввакум.
— Крепко стоят за двуперстие и Никона
клянут.
У фанатика опять засверкали глаза при имени
Никона.
— У! Никонишко, адов пес! — всплеснул он
руками.— Ты знаешь ли, как он книги печатал? «Печатай,— говорит,— Арсен, книги
как-нибудь, лишь бы не по-старому». Так-су и сделали! О, будь они прокляты,
окаянные, со всем лукавым замыслом своим, а страждущим от них вечная память
трижды! Вить ты не знаешь, что у нас делается: за старую веру жгут и пекут, что
баранов. Ох, Господи! как это они в познание не хотят прийти? Слыхано ли! Огнем
да кнутом, да виселицею хотят веру утвердить! Хороши апостолы с кнутами! Разве
те так учили? Разве Христос приказал им учить огнем, кнутом да виселицею? О! да
что и говорить! Зато много ангельских венцов роздали новые апостолы — так и
сыплят венцами.
___________
* См. «Житие пр. Аввакума». (Прим. Д. Л. Мордовцева.)
63
А я говорю: аще бы не были борцы, не бы
даны были венцы. Есть борцы! Ноне кому охота венчаться мученическим венцом,
незачем ходить в Персиду, либо в Рим к Диоклетиану,— у нас свой Вавилон!
Ну-тко, сынок (обратился он к Стеньке), нарцы имя Христово истово — Иисус,
стань среди Москвы, перекрестись двеми персты,— вот тебе и царство небесное, и
венец! Ну-тко, стань!..*
— И стану!— громовым голосом отвечал Разин
(это был он), так что даже фанатик вздрогнул и попятился от него.— И стану
среди Москвы, и крикну имя Христово.
Он был величествен в своем негодовании и,
казалось, вырос на целую голову. Аввакум смотрел на него в каком-то умилении, в
экстазе. Он сам был весь энергия и сила, а тут перед ним стояла теперь какая
силища!
— Слышишь, Москва? слышите, бояре? я к вам
приду — я везде найду вас! Ждите меня!
Разин остановился — его душило негодование.
Потом он стал говорить спокойнее.
— Я прошел теперь всю Русь из конца в конец
— от Черкаска до Соловок: везде-то беднота, везде-то слезы и рыдания, везде
голод. А тут, на Москве-то! палаты, что твои храмы божьи. Да куда! богаче
церквей. Не так залиты золотом и жемчугами ризы матушки Иверской, как ферязи да
кафтаны боярские. А колесницы в золоте, а кони — тож в золоте — сущие фараоны!
Там — корки сухой нету, а тут за одним обедом съедают и пропивают целые селы,
целые станицы. Это ли правда? Это ли по-божески?
Аввакум стоял перед ним как очарованный и
все крестил его.
— Ох, сыночек мой богоданный! Степанушко
мой светик! — шептал он со слезами на глазах.
Они долго еще беседовали, и Аввакум со всею
пылкостью, на какую только он был способен, с неудержимою страстностью своего
кипучего темперамента изобразил такую потрясающую картину смутного состояния
умов в тогдашней московской Руси, что в пылкой голове Разина созрел кровавый
план — завести новые порядки на Руси, хотя бы для этого пришлось бродить по
колена в крови.
— Будь благонадежен, святой отец,— сказал
он с свойственною ему энергиею,— мы положим конец господству притеснителей.
___________
* Подлинные слова из «Жития». (Прим. Д. Л. Мордовцева.)
64
— Как же ты это сделаешь, чадо мое
богоданное? — спросил Аввакум.
— Мы начнем с Дона, Яика и с Волги: тех,
что голодают и плачут, больше, чем тех, что объедаются и радуются. Все голодные
за мной пойдут, только надо дать им голову. А головой той для них буду я,
Степан Тимофеев, сын Разин. Жди же меня, отче святый!
— Буду ждать, буду ждать, чадо мое милое,
ежели до той поры не сожгут меня в срубе,— говорил фанатик в умилении, обнимая
и целуя своего страшного гостя.
Разин ушел, а Аввакум долго стоял на
коленях и молился, звеня цепью.
VII. «За куклой — жених
забыт»!..
Миновало лето. Прошло и около половины зимы
1664 года, и о молодом, пропавшем без вести Ордине-Нащокине уже и забывать
стали. Не забывали о нем только отец несчастного да царь Алексей Михайлович. Не
могла забыть и та юная боярышня, с которой он так грустно простился накануне
рокового отъезда из Москвы.
Это была единственная дочь боярина, князя
Семена Васильевича Прозоровского, шестнадцатилетняя красавица Наталья. Хотя она
и оправилась несколько после постигшего ее удара и тяжкой болезни — молодость
взяла свое, однако она в душе чувствовала, что молодая жизнь ее разбита. Куда девалась
ее живость, неукротимая веселость! Правда, ее похудевшее, томно-задумчивое
личико стало еще миловиднее, еще прелестнее; но при взгляде на нее всем,
знавшим и не знавшим ее прежде, почему-то думалось, что это милое создание не
от мира сего, что такие не живут среди людей и место их среди ангелов светлых.
Отец, боготворивший ее, хотя угадывал
сердцем, какое страдание подтачивает эту молодую жизнь, но он слишком уважал
святость ее чувства и с грустью молчал, будучи уверен, что всесильная молодость
все победит, что богатства молодости так неисчислимы, так неисчерпаемы, что
65
их никакая сила, кроме смерти, не ограбит, даже не
умалит.
Девушка тоже молчала. Чувство ее и ее горе
были слишком святы для нее, чтобы в эту святыню мог заглянуть чей бы то ни было
взор, даже взор отца или матери.
Однажды, за несколько дней перед
Рождеством, отец, желая ее развлечь, накупил ей очень много подарков и разных
нарядов, самых изящных, самых дорогих, какие только можно было найти в Москве.
Девушка горячо благодарила отца, целовала его руки, голову, лицо, обнимала его,
но тут же не выдержала и расплакалась, горько-горько расплакалась.
— О чем ты, дитятко мое ненаглядное,
радость моя единая, о чем же? — испугался и растерялся злополучный отец.
— Батюшка! милый мой! родной мой! — плакала
она, обливая слезами щеки растерявшегося князя.— Знаешь, мой дорогой, о чем я
хочу просить тебя?
— О чем, мое дитятко золотое, солнышко мое!
Проси — все для тебя сделаю!
— Батюшка! светик мой! отдай меня в
монастырь.
— В монастырь! Что с тобой, моя ягодка? мое
дитя! утеха моя!
— Да, мой родной, отдай: я хочу принять
ангельский чин, не жилица я на миру, я хочу быть Христовой невестой.
И несчастная разрыдалась пуще прежнего:
слово «невеста» точно ножом ее по сердцу полоснуло.
— Да Господь же с тобой, чистая моя
голубица! Господь с тобой, сокровище мое!— утешал ее отец.— Обдумай свое
хотение — пощади и меня, старика: на кого ты оставишь меня? С кем я буду
доживать свой век, с кем разделю я мое одинокое старчество? Для кого мои добра,
мои богачества?*
И он сам горько заплакал, обхватив руками
белокурую головку дочери, как бы боясь, что вот сейчас-сейчас она уйдет от
него, улетит на крыльях ангела.
— Хоть погоди малость, поживи со мной до
весны, дай мне одуматься, с государем переговорить: он же об
___________
* У него было еще два малолетних сына от
второй жены; но за какой-то проступок он сослал ее с сыновьями в ее вотчину. (Прим. Д. Л. Мордовцева.)
66
тебе спрашивал... ты так ему полюбилась... он часто видел тебя в
Успенском, как ты молилась там и плакала этими днями. И царевнушка Софья в тебе
души не чает: она просила привезти тебя в собор на «пещное действо». Поедем,
мое золото, а там подумаем, потолкуем: может... Государь спосылает гонцов в
Польшу... может. Бог даст... еще не верно...
Он не договорил, боясь, что зашел слишком
далеко. Он сам хорошо понимал, что в доверчивое сердце своей любимицы он
забрасывает напрасную надежду; как и все в Москве, он знал, что молодого
Ордина-Нащокина уже не воскресить; но ему во что бы то ни стало хотелось подольше
удержать дочь от рокового решения... «Молодо-зелено, перегорит, а там еще
свежее расцветет»,— думалось ему, и он давал понять девушке, что он что-то
знает, чего-то — а чего именно, она сама догадается — он ждет, что им-де с
царем что-то известно, а что — пусть сама соображает. Он слепо верил во
всемогущество молодости и времени: все переживается человеком, всякие душевные
раны, даже, по-видимому, смертельные — исцеляет время. Разве он думал, что
переживет свою Аннушку, мать этой самой девочки? А пережил. Сколько раз, когда
она, такая молоденькая да хрупкенькая, умерла у него на руках и он свез ее в
Новодевичий на погост,— сколько раз он пытался наложить на себя руки! Так не
попустил: не попустил вот этот невинный ангелочек, вот эта самая Наталенька — вся
в мать! Наталенька, что теперь тихо плачет у него на плече. Ее было жаль кинуть
одну на белом свете, ее, этого чистого ангелочка, и он остался жить для нее. И
смертельная его рана зажила, закрылась с годами, хоть по временам и саднит,—
ох, как саднит! Переживет и она свое девичье великое горе, заживет и ее
кровавая рана — заживет, Бог милостив.
— Вот ужо повезу тебя, дитятко, на «пещное
действо»,— говорил он, лаская всхлипывавшую у него на плече девушку.— А там с
государем перемолвлюсь о вестях некиих... кубыть, надо надеяться... а Афанасий
Лаврентьич (он знал, что девочка понимает, о ком он говорит) — и Афанасий
Лаврентьич, кубыть, повеселяе стал малость... Бог милостив, не оставит...
Он чувствовал, как при этих словах у него
на груди, под шитою шелками тонкою срачицею, колотилось сердце его девочки.
— А разве послы наши воротились с польского
рубежа? — робко спросила она.
67
— Воротились, дитятко.
— И Афанасий Лаврентьич?
— И он, золото мое... Сказываю тебе —
кубыть, веселие маленечко стал... Вестимо, Бог его, горюна, не оставит: добер
уже зело человек.
Все это он выдумал. Ничего веселого он не
заметил в старике Ордине-Нащокине. Видел он его в Успенском соборе, как тот
служил панихиду по сыне и плакал. Вот все, что он заметил. Но ему нужно было во
что бы то ни стало удержать дочь на краю пропасти, к которой влекло ее, ее
молодое чувство, ее разбитая любовь и отчаяние.
— Все вот гонцов ждут из Польши —
позамешкались они,— на что-то намекал он.
— А далеко, батюшка, эта Польша —
Аршав-город? — спрашивала девушка, переставая плакать и отирая слезы шелковою
ширинкой.
— Варшава, дитятко, а не Аршав,— поправлял
он (тогда наши боярышни в гимназиях не учились),— а далеконько-таки, правда,
эта Варшава.
— И там все еретички живут, как наша
Маришка-безбожница?
— По-нашему оне еретички, милая, а все ж
оне христианского закону, токмо латынской, папежской веры.
— Сказывают — все красавицы?
— Не все красавицы, милая,— люди как люди.
Он знал, к чему она гнет; догадывался, что
у нее на сердчишке копошилось, но показывал вид, что ни о чем не догадывается.
— А как у них, батюшка, венчаются? С
родительского благословения?
— Вестимо, дитятко. Где ж это видано, чтоб
без родительского благословения что ни на есть доброе чинилось — упаси Бог! А
который человек делает что без родительского благословения, и от того человека
сам Господь отвернется.
Мало-помалу девушка успокоилась, и они
решили ехать в Успенский собор на «пещное действо».
«Пещное действо» это в древней Руси был
особый церковный обряд, не сохранившийся до нашего времени. Он состоял в том,
что за несколько дней до праздника Рождества Христова, и обыкновенно в
последнее воскресенье, во время заутрени, в церкви, в присутствии патриарха и
царя, если служба шла в Успенском соборе, изображалась в лицах, «лицедейно»,
известная библейская история
68
о трех благочестивых отроках — Анании, Азарии и Мисаиле, посаженных в
горящую печь по велению халдейского царя за то, что отроки не хотели
поклониться его идолам.
Для этого, по распоряжению соборного
ключаря, убирали в соборе большое паникадило, что над амвоном, принимали и
самый амвон, а на его место ставили «халдейскую пещь». Это был большой
полукруглый шкаф без крыши, на подмостке и с боковым входом. Стены «халдейской
пещи» разделены были, по числу отроков, на три части или внутренние стойла,
украшенные резьбою, позолотою и приличными «пещному действу» изображениями.
Около «пещи» ставились железные «шандалы» с вставленными в них витыми свечами.
«Пещное действо» начиналось обыкновенно с
вечерни. Это было нечто вроде увертюры или пролога к самому «действу». Начинали
благовестом в большой колокол, и благовест отличался особенной
торжественностью: он продолжался целый час. Москва вся спешила на это
удивительное зрелище, заменявшее ей и наши театры, и концерты, и наши оперы с
оперетками, балеты и феерии. Шествовал на это зрелище и царь с своим семейством
и с боярами.
Собственно действующих лиц полагалось
шестеро, не считая самого патриарха, сослужащего ему духовенства, поддъяков или
иподиаконов и двух хоров певчих: это были— «отроческий учитель», три «отрока» —
самые юные и красивые мальчики из детей белого соборного духовенства, и два
«халдея».
Когда Прозоровские, отец и дочь, приехали в
собор и вошли в храм, «пещное действо» только что начиналось. Царь и царица уже
восседали на державном месте, а около «государя» светилось детским любопытством
оживленное личико его любимицы, царевны Софьюшки. Она с необыкновенным
интересом наблюдала за всем, что происходило в соборе, все видела, все
замечала, почти всех знала и поминутно, хотя незаметно, дергала отца то за
рукав, то за полу одежды, и передавала ему свои наблюдения, замечания, или
спрашивала о чем-либо.
Когда вошли Прозоровские, она,
«непоседа-царевна», не преминула толкнуть отца. Царь заметил Прозоровских и
ласково поглядел на бледное, задумчивое, но прелестное личико княжны. Она
заметила, заметила и сочувственно остановившийся на ней взгляд юной царевны — и
слабый румянец окрасил ее матовые, нежные щечки.
69
Собор горел тысячами огней, которые,
отражаясь в золотых и серебряных окладах икон, на лампадах и паникадилах,
наконец — на золотых и парчовых ризах духовенства, превращали храм в какое-то
волшебное святилище. «Пещь», освещаемая громадными витыми свечами в массивных
«шандалах», смотрела чем-то зловещим.
Вдруг весь собор охватило какое-то трепетное
волнение: все как бы вздрогнули и, оглядываясь ко входу в трапезу, чего-то
ожидали.
Это начиналось шествие — начало «действа».
Это шествовал сам святитель, блюститель патриаршего престола, ростовский
митрополит Иона (патриарх Никон, после неудачной попытки 19 декабря воротить
свое значение, предавался в этот час буйному негодованию в своем Воскресенском
монастыре). Впереди святителя шествовали «отроки» с зажженными свечами. Они
были одеты в белые стихари, и юные, розовые личики их осенялись блестящими
венцами: что-то было в высшей степени умилительное в этих полудетских венчанных
головках.
По бокам «отроков» шли «халдеи» в своих
«халдейских одеждах»: они были в шлемах, с огромными трубками, в которые была
вложена «плавучая трава», со свечами и пальмовыми ветками.
Процессия двигалась дальше по собору между
двух сплошных стен зрителей, напутствуемая тысячами горящих любопытством,
тревогой и умилением глаз.
Князь Прозоровский украдкой наблюдал за
дочерью. Он видел, что глаза ее блестят, нежные щечки рдеют румянцем. Она была
вся зрение. Он глянул на державное место — на царицу, на юную царевну. И у них
на лицах такое же оживление и восторг.
«Ох, женщины, женщины! — думалось ему. Вы —
до старости дети: дай вам куклу, игрушку, действо — и вы все забыли... за
куклою — жених забыт!..»
Святитель вошел в алтарь. За ним вошли и
«отроки», только северными дверями.
Халдеи остались в трапезе.
Началось пение поддьяков, к которому
присоединились свежие, звонкие голоса «отроков».
VIII. «Пещное действо»*
Собственно «пещное действо» совершалось уже
после полуночи, в заутрени, за шесть часов до рассвета.
Внутренность собора еще ярче, чем во время
вечерни, горит тысячами огней. Царская семья опять на державном месте, но более
торжественно разодетая. Духовенство и святитель еще в более пышных ризах.
И Прозоровские, князь и юная княжна, тоже
на своих местах. Только у последней глазки немножко заплаканы: «кукла»
ненадолго утешила бедную. В молодой душе засело что-то более могучее и
оттеснило собой весь остальной мир. Она думает о гонцах из Польши, о последнем
весеннем вечере, когда так безумно пел соловей в кустах. Отец видит это и
страдает.
Предшествуемый «отроками» со свечами и
«халдеями» с пальмовыми ветвями, святитель опять проходит между стенами
молящихся и входит в алтарь. И «отроки» входят туда же.
Утренняя служба началась. Хоры певчих с
особенною торжественностью и силой исполняли каноны. Собор гремел богатыми,
могучими голосами, которые всегда так любила Москва.
Во время пения седьмого канона, где, как
известно, упоминаются «три отрока», когда хор грянул — «Отроци богомудрии», и
когда ирмосы и причеты чередовались по клиросам, на иконостасное возвышение
выступил «отроческий учитель» и сотворил по три земных поклона перед местными
иконами.
Затем, подойдя и поклонившись святителю
Ионе, восседавшему на возвышении против «пещи» в сонме соборного духовенства,
возгласил:
— Благослови, владыко, отроков на уреченное
место предпоставити!
Святитель поблагословил его «по главе» и, с
своей стороны, возгласил:
— Благословен Бог наш, изволивый тако!
«Отроки» в это время стояли в стороне,
лицом к святителю и ко всему собору молящихся.
____________
* Подробное описание «пещного действа»
находится в «Древ. рос. вивлиоф.», VI,
375 и далее. (Прим. Д. Л. Мордовцева.)
71
— Бедненькие! — не вытерпела царевна Софья,
вся превратившаяся в зрение.
«Учитель» отошел к «отрокам», обвязал их по
шеям убрусами, и, когда святитель сделал соответственный знак рукою, передал их
на жертву «халдеям».
«Халдеи», взяв «отроков» за концы убрусов,
повели их к «пещи»: один «халдей» шел впереди, ведя первого «отрока», за ним
два остальные, держась руками друг за друга, а другой «халдей» позади
«отроков».
Вот, наконец, «отроков» привели к «пещи».
— Дети царевы!— громко возгласил первый
«халдей», указывая пальмовою веткой на «пещь».— Видите ли сию пещь, огнем
горящу и вельми распаляему!
— Сия пещь,— пояснял другой «халдей»,—
уготовася вам на мучение.
«Отрок», изображавший собою лицо Анании,
гордо выпрямился и сказал:
— Видим мы пещь сию, но не ужасаемся ея:
есть бо Бог наш на небеси, Ему же мы служим,— той силен изъяти нас от пещи сия!
— И от рук ваших избавит нас! — повторил за
ним «второй» «отрок», изображавший Азарию.
— А сия пещь будет не нам на мучение, но
вам на обличение! — с силою и твердостью заканчивал Мисаил.
— Вот так молодцы отроки! — вырвалось у
царевны Софьи.— Не убоялись пещи огненной.
Она сказала это так громко, что даже
святитель Иона улыбнулся и многие обернулись к державному месту. Софья сидела
вся красная, и мать укоризненно качала ей головой.
Между тем протодиакон, стоя в царских
вратах, зажигал «отроческия свечи», а «отроки», готовясь к мучению,
безбоязненно пели:
«И потщимся на помощь...»
Свечи зажжены, пение отроков окончено.
Тогда протодиакон с зажженными свечами направился к святителю и вручил ему
свечи.
Затем «отроки» поочередно подходили к
святителю и, получив от него по свече, кланялись и целовали его руку.
Тогда «учитель» развязывал каждого из
«отроков», и святитель благословлял их на мучение.
Выходили затем «халдеи» и вели такой
разговор!
— Товарищ!
72
— Чего?
— Это дети царевы?
— Царевы.
— Нашего царя повеления не слушают?
— Не слушают.
— А златому телу не поклоняются?
— Не поклоняются.
— И мы вкинем их в печь?
— И начнем их жечь!
— Ах, злые, гадкие мучители!— опять
вырвалось у юной царевны! но она, спохватившись, сама зажала себе рот рукой.
Тогда «халдеи» взяли под руки Ананию и
втолкнули в «пещь».
— А ты, Азария, чево стал?— обращались они
ко второму «отроку».— И тебе у нас то же будет.
Брали затем и Азарию и также толкали в
«пещь». Потом и Мисаила ввергли к братьям на мучение.
Едва «отроки» ввергнуты были в «пещь», как
выходил чередной звонарь с горном, наполненным горящими угольями, и ставил его
под пещь. Протодиакон же возглашал:
— Благословен еси Господи Боже отец наших!
Хвально и прославлено имя твое во веки!
«Отроки» повторяли за протодиаконом этот
стих, и «халдеи», ходя около печи со свечами, пальмовыми ветвями и трубками,
бросали из трубок «плавучую траву» и махали пальмовыми ветвями, как бы раздувая
огонь.
В это время протодиакон читал «песнь
отроков».
— И прави путие твои, и судьбы истины
сотворил еси!
Чтение протодиакона поддъяки сопровождали
пением, которое так оживляло и разнообразило оригинальное «пещное действо».
Прозоровский украдкой взглянул в это время
на дочь и увидел, что его «девочка опять нашла свою куклу». Это его успокоило.
— Ты не притомилась, девынька?— шепнул он
ей.
— Нет, батюшка,— таково хорошо действо! —
был ответ и ласковый взгляд ясных глаз.
Между тем протодиакон возглашал:
— И распаляшеся пламень над пещию!
А «отроки» как бы подкрепляли его
возглашение:
— Яже обрете о пещи халдейстей!
73
В это время выступал из сонма духовенства
соборный ключарь и подходил к священнику под благословение.
— Благослови, отче, ангела спущати в пещь.
Священник благословлял его, а диаконы брали
у «халдеев» трубки с «плавучею травою» и огнем. Протодиакон же громогласно
возглашал:
— Ангел же Господень сниде купно со
Азариною чадию в пещь, яко дух хладен и шумящ!
В этот момент сверху появляется ангел с
крылами, со свечою в руке и с громом спускается в «пещь».
При виде с громом спускающегося ангела
«халдеи», которые очень высоко держали пальмовые ветки, разом попадали, а
дьяконы опаляли их свечами.
Но скоро «халдеи» опомнились от ужаса, но
еще боялись подняться.
— Товарищ! — заговорил первый «халдей».
— Чево? — спросил второй.
— Видишь?
— Вижу.
— Было три, а стало четыре.
— Грозен и страшен зело, образом уподобися
Сыну Божию.
«Отроки» же между тем ухватились за ангела
— два за крылья, а один за левую, конечно, босую ногу. Затем ангел стал
подниматься вверх вместе с «отроками», а потом сбрасывал их в «пещь» обратно.
Протодиакон снова читал «песнь отроков»;
«отроки» тоже опять пели в «пещи», им вторили дьяки правого, потом левого
клироса.
«Халдеи» между тем поднялись с полу, зажгли
свои свечи и стояли уничтоженные, с поникшими головами. Они были посрамлены.
А с клиросов неслось стройное пение
«...благословите, трие отроцы!»
Ангел снова спускался в «пещь» «с громом и
трясением», а «халдеи» в ужасе падали на колени.
Наконец, ангел совсем улетал, и тогда
«халдеи», ободренные этим, подходили к «пещи», отворяли ее, в удивлении стояли
без шлемов, давно валявшихся на полу, и вели такой разговор:
— Анания! гряди вон из пещи!
— Чево стал? — говорил второй «халдей».
— Поворачивайся! не имет вас ни огонь, ни
солома, ни смола, ни сера.
— Мы чаяли — вас сожгли, а мы сами сгорели!
74
Тогда «халдеи» сами брали «отроков» под
руки, выводили из «пещи» одного за другим, снова надевали на себя шлемы, брали
в руки свои трубки с «плавучею травой» и огнем и становились по обе стороны
«отроков».
Затем протодиакон возглашал многолетие
царю, всему царствующему дому и властям.
После славословия протодиакон вместе с
«отроками» входил в «пещь» и читал там евангелие.
Так кончалось «пещное действо».
Прозоровские возвращались домой, когда было
еще совсем темно. Свет от факелов и фонарей, сопровождавших кареты и пешеходов,
возвращавшихся из собора по домам, освещал иногда внутренность кареты
Прозоровских и бледное личико княжны. Она сидела с закрытыми глазами, и отец
думал, что она, утомленная продолжительной службой, дремлет.
— Батюшка! — вдруг произнесла она.— Ты так
и не говорил с государем.
Он даже вздрогнул от неожиданности.
— Нету, дитятко,— отвечал он.— Когда же
было? действо шло... Вот ужо — на смотру.
Девушка опять закрыла глаза. Факелы опять
по временам освещали ее бледное грустное личико.
«Оо-хо-хо! — думалось Прозоровскому.—
Девочка опять потеряла куклу».
— А смотр государев рано будет? — снова
услыхал он вопрос.
— Рано, ласточка, ты еще почивать будешь.
«Нет, тут не куклой пахнет... Оо-хо-хо!»
IX. Беглец Воин в Венеции
Князь Прозоровский напрасно, однако, тешил
себя надеждою, что всесильное время и молодость, которую никогда нельзя
ограбить — так она богата и всемогуща,— возвратят ему его прежнюю веселенькую
Наталеньку. Время еще не успело затуманить и вытравить из ее сердца светлые
образы ее первого девического счастья, которое она сама погубила своим
безрассудством, а молодость, на
75
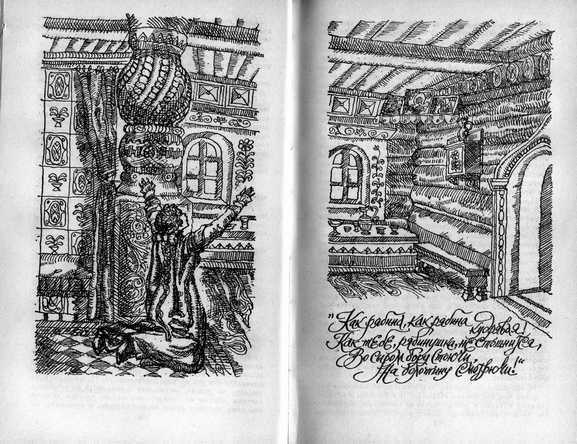
забывчивость которой он надеялся, молодость, которая везде, в самой
себе, в самой этой молодости, найдет новые источники счастья, как богач новые
капиталы, эта молодость слишком бурно чувствовала пережитое ею счастье, потому
что оно было первое счастье ее жизни, счастье, в первый раз сознанное, как бы
открытое на груди того, кого она сама оттолкнула от себя и погубила его,— эта
молодость не могла помириться с мыслью, что она уже никогда-никогда не будет
трепетать на этой именно груди, давшей ей первые в жизни моменты блаженства,—
эта молодость жаждала только его — его одного, со всем пылом страсти. Она ждала только его, и его не было.
Она скоро поняла, что гонцы, посланные в
Польшу от царя, что намеки отца на то, что он, которого она погубила,— жив, что
это — куклы, которыми ее, как маленькую, хотели обмануть, развлечь. Она все
поняла — и ей захотелось умереть. Но смерть не шла к ней. Так надо похоронить
себя заживо. Надо уйти от мира, от людей, чтоб ничто не напоминало ей о жизни,
о ее радостях, которые она похоронила вместе с тем, кого любила.
Прозоровский наконец должен был сознаться
дочери, что молодой Ордин-Нащокин действительно пропал без вести: никакие
царские гонцы не в состоянии были найти того, кого уже не было на свете.
Девушка, казалось, несколько успокоилась на
этом. Странное, но свойственное любящим успокоение: так не достанется же он
никому, как не достался ей. Теперь ее уже не будет мучить мысль о
красавицах-еретичках, о польках: ее Воин не достанется им.
Не достанется же и она никому! Монастырь,
черническая ряса, клобук, темная келья — вот кому она достанется! Там она будет
за него молиться, его ждать в предсмертный час, чтоб там с ним свидеться, там,
за гробом.
Она стала торопить отца — отдать ее в
монастырь, и именно в Новодевичий, где похоронена ее мать. Как ни плакал отец,
она оставалась непреклонна.
— Батюшка! — утешала она его.— Все же я
останусь твоей дочерью — ты будешь ездить ко мне, видеть меня. Ежели что и
переменится — так только имя мое: я уж тогда не буду княжной Натальей, а
инокинею или старицею Надеждою.
И она была пострижена и действительно
получила ангельский чин под именем Надежды. Все инокини и белицы навзрыд
плакали в церкви, когда ее прелестное, бледненькое личико выглядывало из-под
черного монашеского по-
78
крывала и на возгласы постригавшего ее святителя Ионы: «откуду еси
притекла в обитель сию» — или «подаждь ми ножницы сия!» — она кротко отвечала
или покорно нагибалась, чтоб поднять бросаемые святителем на пол, по чину
пострижения, ножницы.
Но как плакал ее отец — этого словами люди
никогда не сумеют передать.
Между тем вскоре после ее пострижения вот
что случилось.
В то время, когда у московских послов
кончились переговоры с польскими комиссарами о мире, с обеих сторон последовал
обмен пленных и беглых.
Обыкновенно партии этих полоняников
пригонялись в Москву, в подлежащий «разряд», а из «разряда», после переписки,
их препровождали в патриарший дворцовый приказ для допросов: не осквернился ли
кто в полону скоромною пищею, не переменил ли веры, не держал ли там папежскую
или иную веру, не бывал ли у «латынского ксенжа» на исповеди или в костеле, не
бирал ли «секрамент» вместо причастья, или даже «не бусурманен» ли и т. д.
В числе присланных таким образом в
патриарший приказ для допроса был один крепкий старик, который, как оказалось,
находился в полону около сорока лет!
Подьячий патриаршего приказа, записывавший
его «распросные речи», глазам своим не верил, чтобы можно было вынести то, что
вынес на своем веку этот старик и остался жив и бодр.
Вот что говорил он в своих «распросных
речах»:
— Зовут меня Варсунофей старец. Родина моя
город Москва. В детстве моем отец взял меня в Киев и отдал учиться грамоте. По
возросте был я в дьячках у Николы чудотворца у Пустынного в Киеве же, а
забаловавшися хмельным делом, во дьячках не восхотел быть и служил у желныря у
Гулявича в Луцку — отдала меня мать в службу тому желнырю за пьянство. И живучи
я у желныря, по середам и в посты мясо и всякую скверну едал, а в Филиппов и в
великий пост мяса не едал. А веру держал папежскую и секрамент дважды принимал.
И живучи я у желныря, занемог, и обещался опять притти к Николе на Пустынь, и
пришед постригся в меньшой образ; постригал в церкве на обедне тое ж Никольские
пустыни игумен Иев Непитущей о Троицыне дни. А тот игумен молил за патриарха
царяградцаго за Кирила...
— Как! — удивился подьячий, закладывая перо
за
79
ухо.— За царяградцаго, а не за нашего святителя, за
московского и всеа Русии?
— Нету, батюшка, как было, так и сказываю,
словно на духу.
— Ох, уж эти хохлы!— вздохнул подьячий.—
Ну, говори дальше.
— Так молил он, Иев, сказываю, за патриарха
Кирила да за архимандрита печерского за Елисея Плетенецкого,— продолжал
допрашиваемый.— А переманатка и манатья на мне не положена, потому что в
большой иноческий образ я не пострижен.
— А как там, у хохлов, крестют? — спросил
подьячий.
— По-хохлацки, батюшка, по киевской вере: в
крещенье обливают, а не погружают — оттого хохлы и слывут обливанцы, и миром, и
маслом помазуют. А постригшися, я не причащался. И я про то отцу своему
духовному, что я секрамент дважды принимал, сказывал и отец же духовной положил
за то на меня епитемью на два года. А идучи я от Николы в Васильков, и взяли
меня в поле в полон нагайские тотаровя, будет тому ноне лет сорок, и свели меня
с протчими полоняники в Крым, а из Крыму свели в Козлов город, а из Козлова
продали на рынке в Кафу, а из Кафы продали в Царь-город, и в Царь-городе
посадили на катаргу, и был я на катарге лет с тридцать; будучи ж я на катарге,
по середам и по пятницам и в великие посты и мясо и всякую скверность едал, а
не бусур-манен и от христианския веры не отступил. И будучи на катарге в море,
отгромили нас шпанского короля немцы, и шпанского короля владетель дука Ференц,
дав мне лист, от себя отпустил. И будучи я в шпанской земле, у ксенза бывал и
секрамент не раз бирал, и в костел хаживал, по шапской католицкой вере
маливался, по середам и пятницам и в великие посты и в иные посты мясо и всякую
скверность едал, а у отца духовнаго не бывал. А из шпанской земли ушел во
францужскую землю, а изо францужския земли шел берегом в тальянскую землю, в
город Лигорны, а из Лигорны в Рим, и был в Риме двадцать ден, и по папину
веленью ксенж исповедывал, а секраменту не имал; и будучи в Риме, веру держал
римскую и до костела хаживал. Из Риму пошел в осень, о Михайлове дни, в прошлом
году, и шел через Веницею, и в Веницеи взяли меня на катаргу; да с катарги меня
выкупил русский человек, нашего боярина Афанасья Лаврентьича Ордина-Нащокина
сын, Воин Афанасьич...
При этом имени как будто что-то дрогнуло в
приказ-
80
ной палате... У подьячего, записавшего «распросные речи» старца
Варсунофия, перо выпало из рук, и он с изумлением, не то с испугом, вскочил с
места; сидевший за другим столом и что-то писавший приказный, по-видимому, дьяк
патриаршего приказа, сухой и лысый старик, тоже вскочил с места...
— Как! Воин Афанасьич, говоришь?— радостно
воскликнул он.— Так он жив?
— Живехонек был, милостивец батюшко! пошли
ему Господь здравия на многи леты,— отвечал допрашиваемый, не понимая, в чем
дело.
— И ты его сам видел и говорил с ним? —
допытывался дьяк.
— И видел, батюшко, и говорил.
— Слава тебе, Господи! — перекрестился дьяк
набожно.— Вот радость-то будет благодетелю моему, Афанасью Лаврентьичу! А уж по
нем давно и сорокоусты читают по монастырям... Ах, Господи! Да расскажи же,
старче, как дело было... Садись, старичок... Проша! дай ему стул!
Подьячий, которого назвали Прошей, тот, что
записывал со слов старца «распросные речи», метнулся по приказу, достал и
притащил стул.
— Садись, садись, старичок, да расскажи по
порядку, как дело было,— волновался и суетился старый дьяк.— Сказывай.
Старец сел на стул, набожно перекрестился и
начал свой рассказ. Все подьячие сбились около него в кучу и жадно слушали.
— Дак вот, милостивцы мои,— говорил
старец-бродяга,— будучи я в Веницее-граде, побирался Христовым именем. Площадь
там есть эдакая, что у самого ихнего собора да около дворца,— а дога у них, у
веницейцов, как бы во место царя правит. На площади этой столбы высокие
каменные стоят, и на одном столбе этта лев поставлен, на другом аки бы ангел.
Сижу я этта на ступеньках под ангелом и пою тихонько каличий стих, что у нас
калики перехожи поют Христа-ради для милостыньки,— пою про Лазаря убогого. Дело
этта было под вечер. Коли смотрю, милостивцы мои, пловет по морю черна лодочка
— гондолой у них называется, длинная такая, а на ей храминка махонька с дверцой
и оконцами, словно бы часовенка, вся коврами цветными да кистями золотыми
изукрашена. Многое множество в Веницее-граде таких гондол, потому — город на
воде стоит, и коней в городе — ни единого, все пеши ходят либо на носилках, а
чаще всего ездят по морю
81
и по каналам в этих самых гондолах. Так и пловет, говорю, этта така ж гондола мимо тех столбов, где я,
горюн-бродяга, сижу. Коли слышу — поет кто-то в гондоле той, да таково
сладостно и горько, Владычица Богородица! Меня словно ножом по сердцу
резануло... Слышу! поет... что бы вы думали, соколики мои! О-ох! поет:
«Как и не белы-то снежки в
поле зебелелися!»
— Господи! что со мной было! Пятьдесят лет,
как меня с Москвы свезли — да где пятьдесят! — более шестидесяти лет, мыкаючись
по белу свету да по катаргам, не слыхал я этой песни. А уж и пел же он — не
пел, а горючими слезами разливался, когда выводил:
«А хуть и ночую — всю ночь
протоскую!»
— Как безумный, голубчики вы мои, вскакиваю
я из-под того ангела, да за гондолой — бегу и кричу — кричу и плачу:
«остановись! погоди!» Так где тебе! Не дошел мой старческий глас до гондолы —
так и скрылась из глаз моих... Что я слез выплакал за ту ночь — и сказать не
сумею: на катарге, в крымской и турецкой неволе так не плакивал...
И старик дрожащими руками утер катившиеся
по его морщинистым щекам слезы. Слушатели видимо были тронуты: у них тоже на
глазах блестели слезы.
— Ну, и что ж, родимый? — прервал общее
молчание старый дьяк.
Бродяга как бы очнулся и заплаканными
глазами взглянул на окружавших его подьячих.
— Ну, и как же потом, дедушка? Сыскал того,
кто пел? —подсказал один из подьячих.
— Да, точно, милостивцы,— заговорил снова
бродяга.— Проплакамши эдак всю ночь, я наутрее опять уселся под тем ангелом. А
катарга, на котору меня брали, уходила в море через два дня: я и был слободен —
бродил на воле, а бежать, коли б и охота была, некуда, потому — море кругом, да
и ярлык уж у меня на плече красный пришит был — катаржный, значит: никто б и не
перевез меня до берега. Сижу я этта опять под ангелом, пою про Лазаря убогаго,—
кто идет — копеечку даст, а то и так послушает, послушает, покачает головой и
пойдет прочь. Коли эдак к полудню подходит ко мне неведомый человек, стал
поблиз меня и слушает, да таково взглядывается в меня. А там и говорит
по-нашему, по-московски, да таково ра-
82
достно: «здравствуй — говорит — землячок! — как тебя Бог занес сюда?»
— Меня от этих его слов точно варом обварило — узнал я глас, что вчера пел «не
белы снежки». Молодой такой, пригожий, черные власы и борода. А я стою и слова
вымолвить не умею: от радости у меня язык отнялся, потому — в кой-то годы
человека увидал с родимой сторонушки. Сердечушко во мне заходило, как не
выпрыгнет.— «Сказывай же,— говорит,— землячок: в неволе томишься? полоняник?
катаржный?» — Я и расскажи ему все про себя, как на духу — откудова и слова
брались! — «А ты,— пытаю его,— кто, отецкий сын?» «Я, — говорит,— беженец...
бежал с родимой сторонушки... бегун... на бегах обретаюсь, и был,— говорит,—
допреж сего сынок Афанасия Лаврентьича Ордин-Нащокина, Воин по имени». «А почто,—
пытаю его,— бежал от отца-матери?» «С тоски сердечной,— говорит,— бежал». А с
чего та сердечная тоска, про то не сказал.— «Как же,— говорю,— думаешь впредь
быть, Воин Афанасьич? Домой воротишься али здесь, на чужбине, останешься?» «И
сам,— говорит,— не знаю: когда я был,— говорит,— на Москве, то она так мне
опостылела, что не глядел бы ни на что; я,— говорит,— и бежал потому — за морем
мне такой рай сулили, что я обезумел, говорит. А как помыкался, говорит, на
чужбине — и в польской земле, и во францужской, и здеся, в тальянской земле, в
Веницее,— да такая,— говорит,— тоска лютая к сердцу подступила, что хоша с
мосту да в воду, и то впору». «Дак отчего ж,— говорю,— не воротиться к
отцу-матери?» «Нельзя,— говорит,— этого сделать: мне уж,— говорит,— на Москву
путь-дороженька заказана: на Москве,— говорит,— меня плаха ждет. А ты,—
говорит,— старче, разве не хочешь на родную сторонушку нести старые кости
свои?» «Как,— говорю,— не хотеть? — сорок лет плачу по святой Руси: а вон опять
меня ждет катарга да и смерть в море незнаемом». Жаль ему меня стало. «Я,—
говорит,— землячок, выкуплю тебя из неволи: иди,— говорит,— на святую Русь да
поклонись ей от меня горючьми слезами». И сам заплакал, а я за ним.
«Поклонись,— говорит,— от меня, блудного сына, батюшке моему рожоному — может,
он простит меня. Да поклонись еще,— говорит»,— а кому — так и не кончил: еще
пуще залился горючьми слезами.
Старик замолчал и задумчиво опустил голову.
— Ну, и что ж, дедушка? — спросил кто-то.
— Выкупил, точно — выкупил меня из неволи,
пошли ему Господь здравие и спасение! — отвечал бродяга.
83
— А сам в Веницее остался?— спросил старый
дьяк.
— В Веницее, батюшка, да и в Риме хотел
побывать.
— А ты сам как же? — спросили его.
— Я, спасибо ему, Воину Афанасьичу — он мне
и денег на дорогу дал — я из Веницеи побрел в цысарскую землю, а из цысарской
земли вышел в Польшу, в Аршав-город, а из Аршава-города в Литву, а уж из Литвы
на русский рубеж: там меня и взяли за приставы и отправили на Москву, в
«разряд», а из «разряду» к вам.
— Ну, спасибо тебе, дедушка, за добрые
вести,— сказал старый дьяк.— Ты, Проша, пропиши до конца распросные речи, а я
побегу обрадовать благодетеля своего, Афанасия Лаврентьича. Шутка ли! схоронил
сына, поминал и сорокоусты заказал, а он — на поди!— живехонек... Ох, младость,
младость!
Он торопливо вышел из приказа, но опять
скоро воротился.
— От радости чуть было не запамятовал,—
говорил он впопыхах.— Ты, верно, голоден, дедушка?— обратился он к бродяге.
— Да, батюшка, сам ведаешь, чем мы, узники,
кормимся — от Бога да от добрых людей.
— Так вот что, Проша,— сказал дьяк,— пока я
сбегаю к Афанасию Лаврентьичу, ты спосылай в обжорный ряд да хорошенько накорми
дедушку. Не ровен час его потребует к себе на глаза Афанасий Лаврентьич,— чтоб
он здесь был.
И дьяк поспешно удалился.
X. «Твой сын — вор!..»
Дьяк патриаршего приказа, желая первым
сообщить Нащокину радостную весть, чуть не загнал лошадь возчика, которого он
нашел около приказа.
— Гони в мою голову! — торопил он его.—
Гони, как на пожар,— прибавку получишь знатную!
И возчик гнал, хлестал свою лошадь и
кнутом, и вожжами и даже сам привскакивал на облучке.
— Соколик! вывози! грабют! — кричал он.
84
Этот окрик на московских улицах никого
тогда не удивлял: грабежи на улицах в городе, особенно по вечерам, были
явлением обыденным. И оттого лошади приучены были к такому своеобразному
понуканью, и когда слышали крик ямщика — «грабют!» — неслись стремглав.
Ямщицкое «грабют» до настоящего времени удержалось на наших проселках и даже на
почтовых трактах.
— Ой, батюшки, грабют! режут! — вопил
извозчик, несясь по Москве.
К счастью для усердного дьяка, Нащокин был
дома.
Уже одно появление гостя в неурочный час
почему-то взволновало Нащокина, но радостный вид дьяка несколько успокоил его.
— Батюшка Афанасий Лаврентьич! вам Господь
милость свою посылает! — выпалил он, кланяясь и крестясь на передний угол с
образами.
— Спасибо, Карп Иваныч, на добром слове,—
отвечал хозяин.— Господь и великий государь милостями своими меня не оставляют;
токмо...
— Знаю, знаю, батюшка!— бесцеремонно перебил
его гость.— Только ноне эту токму приходится бросить — токму-ту эту.
— Какую токму, Иваныч? — не понял Нащокин.
— Да об ней, об этой самой токме ты сам
сичас упомянул,— хитро улыбаясь, отвечал гость,— ты говорил о милостях,
благодарил Бога и великого государя; токмо — говоришь... Знаю я эту токму — это
об сынке, об Воине Афанасьиче — токмо-де его у меня Бог взял... Ан нет! Ноне
твоя токма в нетех обретается.
Нащокин начал было уже думать, что дьяк с
ума сошел, как тот вновь выпалил:
— Воин Афанасьич живехонек! поклон тебе
прислал! Нащокин растерялся: жгучая радость охватила было его, но в тот же
момент он еще более убедился, что бедный дьяк действительно рехнулся. Он
испуганно попятился назад.
— Молись Богу, Афанасий Лаврентьич,—
продолжал дьяк,— сынок твой в Веницеи-граде... здоровехонек... поклон тебе
прислал.
— Что ты! что ты! — снова испугался
Нащокин.— Так это правда? Господи! да как же это? Ты от кого это узнал?
— Семинут, батюшка Афанасий Лаврентьич,
сымал я в приказе распросные речи с одного полоняника...
— С полоняника, говоришь? кто ж он такой?
85
— Московский человек — в полону был сорок
лет в турской земле, и в шпанской земле...
— Ну, а как же сын-от мой?
— Да Воин-от Афанасьич в Веницеи! Да ты
погоди малость — не сшибай меня с речей — дай толком, по ряду все рассказать.
Полоняник-ту этот был в турской земле на катарге тридцать лет, да с катарги
отгромили его шпанского короля немцы, и жил он в шпанской земле, а из шпанской
земли ему отпущение дали, потому — стар человек; и пришел в италийскую землю, в
Рим-город, а из Риму по папину веленью в Веницею пришел. Вот в этой самой
Веницее он и столкнулся с сынком твоим богоданным. Да и сустрелись-ту они чудно
таково, божиим изволением — и рассказать тебе, Афанасий Лаврентьич, дак не
поверишь... и «не белы-то снежки» — и «ночку-ту не ночую»... «а хуть и ночую —
всю ночь протоскую»...
Нащокину опять страшно стало: спятил с ума
старый дьяк! Как же так? И Веницея, и «не белы снежки», и сын его Воин.
— Он-то, Воин Афанасьич, и выкупил старца
Варсунофья с каторги,— продолжал дьяк.
— Да кто этот Варсунофий? — допытывался
Нащокин.
— Да полоняник, говорю тебе толком: он и
поклон тебе от сына принес.
— Где ж он, полоняник твой?
— У меня, в патриаршем приказе сидит, да
теперь, поди, жрет — я велел накормить его с обжорного ряду. Велишь,
милостивец, я сам его к тебе приволоку... семинут приволоку... пущай сам тебе
расскажет и про «не белы снежки», и про сынка.
Соблазн был слишком велик: Нащокин начинал
верить.
— Ну, волоки его ко мне,— сказал он,— да
допрежь выпей у меня, подкрепись, пойдем в столовую избу.
Через несколько минут дьяк уже опять гнал
по Москве.
— Соколики, грабют! режут!— опять слышалось
вдоль по Неглинной.
Наконец, полоняник был привезен к Нащокину
и вторично рассказал ему свою бесконечную Одиссею. С неизъяснимым волнением
слушал его Афанасий Лаврентьевич. Надо знать состояние умов тогдашней Руси,
смутное и ужасное представление москвичей о заморщине, чтобы понять душевное
потрясение отца, узнавшего, что сын его, одинокий, покинувший родину, бродит по
этой незнаемой чуждальной стороне. Если и имелось тогда, даже относи-
86
тельно у образованных москвичей, смутное представление о «Ефропии», то
разве только по «Лусидариусу», из которого москвичи узнавали, что где-то за
Аглицкой землей солнце доходит до «запода» и опускается в море, что великая
река Ганг течет из рая и приносит с собою какие-то райские овощи; что есть люди
с песьими головами, или одноногие, или даже без голов с глазами на плечах и т.
п. Конечно, Ордин-Нащокин, умный дипломат и по тогдашнему времени западник, был
выше этих детских представлений о «Ефропии»; он знал, что такое «Веницея»; но —
знать, что там где-то, за рубежом, в качестве беглеца и «вора» (по тогдашнему
«вор» — государственный преступник), скитается его милый Воин,— это было выше
его сил.
— Ну и как же, говоришь ты, старче божий,
плакал мой сын, когда прощался с тобой? — спрашивал он своего дорогого гостя.
— Плакал, болярин, горько плакал.
— И велел мне кланяться?
— Земно, говорит, кланяюсь моему
богоданному родителю и прошу, говорит, его родительского благословения.
— Ну, а насчет сердечной тоски?
— Сказывал и о сердечной тоске, а в чем и с
чего та его сердечная тоска — того не сказал.
Нащокин начинал догадываться, что это была
за «сердечная тоска». В последнее время он что-то замечал за сыном: его частая
задумчивость, томный взгляд, иногда беспричинная ласковость к нему, а потом
видимая тоска,— ясно, что у него было что-то на сердце...
«Была зазноба,— решил он теперь в уме,— но
для чего было бежать?»
«Блудный сын!» — вспомнилось ему
«комидийное действо», которое недавно сочинил Симеон Полоцкий и приносил ему
для прочтения.
— Ну, а про то не говорил, чтоб воротиться
ему с повинной? — который уже раз спрашивал огорченный отец.
— Говорил — как не говорить! Да только,—
говорит,— мне в Москву уж путь-дороженька заказана: не видать-де мне родной
стороны.
— Что так?
— А плаха,— говорит,— ждет меня в Москве.
— А про то не говорил, кто ево провел за
рубеж? Теперь Нащокину вспомнился прошлогодний рассказ порубежного старика, что
в лесу над речкою Городнею лыки драл: он говорил, что из лесу тогда, весной, о
Нико-
87
лине дне, трое выехало за рубеж, а один из них — одвуконь. Ясно, что
ему указали дорогу за рубеж; у него были соучастники; но кто? поляки? не
учителя ли из польских полоняников подвели так? Ну, заплатили за хлеб-соль.
— А про царские деньги ничего не сказывал?
— снова допытывался он.
— Нету, болярин, про деньги не было речи; а
что мне дал малость на дорогу — это точно, да и меня с катарги выкупил, пошли
ему Господь здравие.
Хотел было Нащокин спросить и про бумаги из
приказа тайных дел, что царь поручил Воину отвезти к отцу; но раздумал.
Конечно, сын его не говорил об этом с полоняником — никакого резону не было.
Бумаги, конечно, он уничтожил, если не передал полякам. А если передал, то это
усугубляет его страшное преступление. Не потому ли так неподатливы были
польские комиссары, коронный канцлер Пражмовский и гетман Потоцкий, при
заключении мира в Андрусове? Эта мысль терзала Нащокина. Что может подумать
царь, когда узнает о преступлениях и предательстве его сына? Продать отечество?
За что? из-за чего?
«Сердечная тоска...» Тут что-то
непонятное... И почему княжна Наталья Прозоровская, такая юная, такая
красавица, без всякой видимой причины пошла в монастырь — постриглась в шестнадцать
лет? С какой стати сам Прозоровский, князь Семен, так часто спрашивал его о
Воине — есть ли какие слухи? жив ли он? Вот откуда эта «сердечная тоска» и это
пострижение княжны... Что между ними было? Почему так все склалось? За что, для
чего погубили себя — и тот и эта?
Но всего больше терзала его мысль о том,
что его Воин изменил России, царю, который так был милостив к нему? Как теперь
он, Афанасий, покажется на глаза великому государю? Нечего сказать! воспитал
сынка на позор себе, на позор всей России. Что теперь скажут его враги, этот
«Тараруй» и вся его роденька, когда узнают о преступных делах его сына? А они
скоро узнают.
Уж лучше бы его в самом деле убили! Не было
бы тогда бесчестия на его седую голову. Все бы жалели, как и теперь жалеют,
бедного отца. А то теперь вся Москва заговорит: «У Афанасья, у царского любимца
и гордеца, сын — вор!—воровством ушел за море и за морем ворует! Не фыркать
было Афанасью на Москву, Москва-де старыми непорядками держится — надо все
новое в ней завести, с иноземного, с заморщины! Вот тебе и завел —
88
родного сынка вором сделал! Во Пскове мужиков во место воеводы
посадил. Хороши новшества, нечего сказать! Ай да Афанасий Ордин-Нащокин!»
Казалось, он уже слышал эти укоризны, видел
злорадные лица врагов, перешептыванья, лукавые улыбки...
И зачем явился этот полоняник? зачем
рассказал все?
— Ах, зачем его не убили? — невольно
вырвалось у него отчаянное восклицание.
«Вор, твой сын вор!» — шумело у него в
ушах.
Теперь он, казалось, возненавидел этого
старца-полоняника, которому сначала так было обрадовался. Он, этот старик,
принес ему роковую весть — принес позор на его голову! Он, казалось, ненавидел
и дьяка патриаршего приказа, способствовавшего перенесению к нему роковой
тайны. Пусть бы лучше служили сорокоусты по его сыне, чем теперь будут
благовестить везде о его позоре.
Сказать дьяку, чтоб все это замял, что
никакого полоняника не допрашивали, уничтожить самые «распросные речи», а его
самого сослать в такое место, куда ворон костей не занашивал?
Да, сослать, «распросные речи» сжечь, дьяку
рот запечатать! Он, Афанасий Ордин-Нащокин, все это может сделать — он силен в
московском государстве, он правая рука царя...
К вечеру Ордин-Нащокин слег — он не
выдержал страшного душевного потрясения.
В горячечном бреду он шептал: «Как я
покажусь на глаза великому государю!.. Он скажет мне: Афанасий! твой сын —
вор!..»
XI. «Возьми одр свой и ходи...»
Между тем наверху, у царя, вот что
происходило.
Алексею Михайловичу в тот же вечер успели
доложить, что сынок Афанасия Лаврентьича не убит и не пропал без вести, а
проявился за морем, во граде Веницее; что там он гуляет в немецком платье,
«пьет богомерзкую табаку» и играет в зернь; что словами своими бесчестит
московское го-
89
сударство и его, великого государя; что он вывез с собою за море
столько денег, что швыряет ими направо и налево и выкупает с каторги
полоняников; что, наконец, собирается в Рим, к папе, чтоб перейти там в папину
веру, а свою православную веру ногами потоптать. Говорили намеками, что
Афанасьевы новшества к добру не приведут.
Вообще все это говорилось осторожно, с
оглядкою — не ровен-де час.
Алексей Михайлович слушал все эти подходы,
но своего мнения не высказал, хотя и выразил сожаление об отце, обманувшемся в
любимом сыне.
Его только одно удивляло — почему сам Афанасий
не явился к нему, чтоб лично доложить обо всем, что он узнал.
Потому на другой день, рано утром, государь
приказал позвать к себе Ордина-Нащокина. Посланный воротился и доложил
следующее: Афанасий Лаврентьевич так убит, что опасно занемог и не может головы
поднять с подушки; что всю ночь он метался и в бреду все повторял: как он
теперь явится великому государю на очи. Боятся, как бы старик со стыда и горя,
когда придет в себя, рук на себя не наложил.
Это известие так встревожило государя, что
он тотчас же пошел на половину царицы, чтоб посоветоваться. В таких делах
женский ум может иногда скорее разобраться, чем мужской: в деле Нащокина
затрогивалась область семьи, область сердца; а тут женщина — дальновиднее
мужчины и найдет разгадку там, где мужчина, может быть, и искать не будет. Он
же так любил Афанасия, что ему страшно было потерять его.
У царицы он застал свою любимицу —
Софьюшку. Юная царевна все носилась со своим «Лусидариусом». Он ей просто спать
не давал — так эта книга волновала ее воображение. Теперь ей не давал спать
вопрос о том, где собственно находится рай на земле; а что он был на земле — из
«Лусидариуса» это ясно как день.
— Как же, мама,— горячилась она,— тут
именно глаголет «Лусидариус», что первая часть мира есть Азия, в ней же восходит
солнце, от рая же исходит источник един, из того источника текут четыре реки:
едина нарицается Виссон; егда же изыдет из рая, тогда именуется Гангия... Ну,
видишь, мамочка, на земле рай.
— Кажись бы, на земле,— неуверенно отвечала
Марья Ильишна.
90
— Так, мамочка,— продолжала Софья,— ну,
слушай: «вторая река Гедеон; егда изыдет из рая, нарицается Нил; третия Тигр;
четвертая Ефрат».
— Так, так, милая,— задумчиво соглашалась
царица.
— Как же, мамочка, в рай попасть? можно? —
приставала неугомонная девочка.
— Нет, нельзя, милая: вить Бог Адама и Еву
изгнал из раю.
— Так что ж, мама! Он согрешил — яблочко
съел, а мы не ели.
Царица невольно рассмеялась.
— Дурочка еще ты — вот что.
— Нет, мама, а ты слушай,— настаивала
Софья,— тут пишется, что до рая человеку сущу во плоти пойти невозможно...
— Видишь? — перебила ее Марья Ильишна.
— Нет, а ты слушай:— понеже,— говорит,—
облежат рай великие горы и чащи лесные; подле оных лесов великие поля, широты и
долготы презельные, и на тех полях много превеликих драконов и иных лесных
зверей; потом начнется ближе всех к тем местам край земли — Индия земля и
великая река Индус, яже течет из горы Кауказосы и течет в Чермное море. В тое
землю трудно дойти человеку, понеже на единой половине в Вендейское море течет
река превеликая Индус, и прилежит ко границе великое море, яко невозможно по
нем прейти в четыре лета»... Так как же, мамочка,— волновалась Софья,— коли
невозможно в четыре лета перейти сие поле, то в пять можно? Говори же, мама,
можно?
За этим горячим разговором застал их
Алексей Михайлович.
— Чего Софья-ту из себя выходит? — спросил
царь.
— Да все вот рай хочет найти,— улыбнулась
государыня.
— Рай? — обратился Алексей Михайлович к
дочери.— Уж и ты не хочешь ли по Воиновым следам идти?
— По каким Воиновым следам, батюшка царь? —
удивилась Софья.
— А сынка Афанасьева Ордина-Нащокина.
— А что, батюшка? — встрепенулась царевна.
Она знала, что Воин пропал без вести. Она
знала этого Воина, красивого молодца, часто его видела и во дворце, и в церкви,
и была к нему, по-своему, конечно, по-детски, очень неравнодушна. А потому она
очень покраснела, когда отец упомянул его имя.
91
— Что ж Воин?— не глядя на отца,
переспросила она.— Вить его давно нет на свете.
— Нет, дочушка, здравствует, и так же, как
ты вот, дорогу в рай отыскивает,— серьезно отвечал Алексей Михайлович.
И царица, и царевна посмотрели на него в
недоумении.
— Ты шутишь, государь?— спросила первая.
— Не до шуток мне, матушка-царица,— грустно
отвечал царь.— Я пришел к тебе об этом именно и посоветовать. Воин отыскался,
жив и невредим.
— Ах, батюшка!— невольно воскликнула Софья,
— Подлинно говорю — жив,— продолжал Алексей
Михайлович,— и ноне во граде Веницее обретается. Отай ушел он из московского
государства, беженцем, как блудный сын, и своим воровством отца убил: Афанасий,
узнав про воровство сынка, зело занемог. Да и каково отцу, и то надо сказать.
Всю ночь, ноне, говорят, Афанасий-ту огнем горел и метался: «Как я, говорит,
теперь великому государю на очи покажусь?» Смерти бедный старик просит.
— Ах, он, горемычный!— соболезновала
царица.
— И мне его жаль, ах, как жаль! — повторял
Алексей Михайлович.— А как поправить дело? Что делать — я и ума не приложу.
Царица задумалась. Все молчали. Софья тихо
ласкалась к отцу и вопросительно глядела в его задумчивые глаза.
— Как ни как, а старика надоть пожалеть,—
сказала Марья Ильишна: верный старик, царства твоего и твоего государского
покоя рачитель — его поберечь надоть, утешить.
— И я так думаю, Маша,— согласился
«тишайший».
— А с сынком — расправа после,— пояснила
царица.
— А что Воину будет, батюшка? — тревожно
спрашивала отца Софья.
Она была девочка умная, всегда любила быть
с большими, и потому она многое знала, что говорилось и делалось при дворе:
оттого, может быть, она и вышла из роду вон — стала небывалым явлением среди
женщин XVII века.
Алексей Михайлович не отвечал на ее вопрос,
а только погладил ее головку.
— Ты права, Маша,— повторил он,— утешим
старика, и понеже, ни мало не помедля: я напишу ему сам, успокою его. А то
долго ли до греха! Помрет старик с печали и со страху. Пойду — напишу.
92
И Алексей Михайлович поспешил к себе.
— Вон оно, дочка, что значит рай-ту
искать,— сказала Марья Ильишна.
— А разве, мама, он рай искал?—
встрепенулась Софья.
— Вестимо. Тесно, вишь, и душно ему стало в
московском государстве: пойду-де и я поищу, где солнце встает и где оно
заходит. Ишь новый Иван-царевич выискался — поехал жар-птицу искать да
моложеватые яблоки! Живой-ту воды не нашел, а мертвой-от водицы родителю
прислал. Утешил старика!
— А что ему за это будет, мама? — робко
спросила Софья.
— Ну, не похвалит за это государь.
— Казнить велит?
— Не знаю, а только не похвалит.
— Его, мама, привезут из Веницеи?
Софья что-то вспомнила и бросилась к своей
излюбленной книге — к «Лусидариусу». Она торопливо перевернула несколько страниц
и остановилась.
— Так вон он где теперь, Воин, в Венецыи,—
сказала она, что-то соображая; потом прочла: — «Там Венецыя, юже созда царь
Уптус, оттоле вышла река Рын, и течет по французской земле...» Ах, мама, куда
он зашел! Вот молодец!
— Смотри, как бы этому молодцу не пришлось
отведать этой Венецыи в Москве,— заметила царица.
Но Алексей Михайлович оказался добрее, чем
думала Марья Ильишна.
Когда Ордин-Нащокин, после мучительно
проведенной ночи и тревожного утра, к полудню забылся сном, ему принесли от
царя письмо.
Сон несколько подкрепил несчастного
старика. Открыв глаза, он увидел перед собою улыбающееся лицо Симеона
Полоцкого.
— Великий государь тебе милость прислал,
Афанасий Лаврентьевич,— сказал он с южнорусским акцентом,— бальзам на раны.
— Какую милость?— испуганно спросил
Нащокин.
— Говорю: бальзам на раны,— повторил
вкрадчиво хохол,— возьми одр твой и ходи; прочти сие.
Он подал ему письмо Алексея Михайловича.
Руки Нащокина дрожали, когда он распечатал его; но когда стал читать, слезы
умиления полились у него из
93
глаз: царь утешал его, просил не предаваться отчаянию, оправдывал даже
его преступного сына.
Нащокин не мог дольше сдерживать себя: он
вслух, восторженно прочел окончание царского письма:
«Твой сын — человек молодой (читал он,
глотая слезы) — хощет создание Владычне и руку его видеть на сем свете, якоже и
птица летает семо и овамо, и, полетав довольно, паки к гнезду своему прилетит.
Так и сын твой вспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание
ко святой купели и к тебе скоро возвратится».
Нащокин с благоговением целовал послание
царя, целовал и плакал.
— Возьми одр твой и ходи,— повторял Симеон
Полоцкий.
XII. Слепцы вожатые
Во все время, пока продолжались переговоры
русских или вернее — московских послов с польскими комиссарами о мире, военные
действия не прекращались ни с той, ни с другой стороны; но только, если можно
так выразиться, боевая линия, с весны 1665 года, передвинулась гораздо южнее.
Война шла почти исключительно, можно сказать, в пределах правобережной Украины,
к западу и югу от Киева.
В то время правобережная Украина совершенно
отпала от Малороссии и имела своих гетманов, польских или турецких
ставленников, как Юрий Хмельницкий, Тетеря и другие. Вся же левобережная
Украина и Запорожье находились под главенством гетмана Брюховецкого, посланцев
которого мы уже видели в Москве, весною 1664 года, на аудиенции у Алексея
Михайловича в столовой избе, где мы в первый раз увидели и Воина
Ордина-Нащокина.
Весною 1665 года Брюховецкий с несколькими
украинскими полками и великорусскими ратными людьми перешел на правую сторону
Днепра. С польской же стороны против него шел знаменитый польский полководец
Чарнецкий с не менее знаменитым коронным хорунжим Яном Собеским, впоследствии
королем Речи Посполитой, с Махновским, с гетманом Тетерею и другими.
94
Чарнецкий двигался по направлению к
Суботову, некогда бывшему владению Богдана Хмельницкого, где когда-то этот
последний держал у себя в плену этого самого Чарнецкого, посла поляков при
Желтых-Водах.
Брюховецкий же в это время стоял ниже
Чигирина, у Бужина, где тогда находился и запорожский кошевой Серко с своими
казаками.
Весенний день близился к вечеру, когда один
из передовых отрядов польского войска, среди пересекающихся лесных дорожек,
троп и болот, как казалось его предводителю, сбился с пути. В это время на
одной из боковых троп, из-за болота, показалось трое путников. Это были
бродячие нищие, слепцы, которых там называют «старцями» и которые, как
великорусские «калики перехожие», бродят по ярмаркам и распевают духовные
стихи, думы, а иногда и сатирические песни, по желанию слушателей. Иногда они
поют и под звуки лиры, кобзы или бандуры, почему и называются то лирниками, то
кобзарями, то бандуристами.
Завидев слепцов, польские жолнеры
остановили их. Двое из них были слепые — один старик, другой помоложе, а третий
— мальчик, их «поводатырь» или «мехоноша». У всех у них было в руках по
длинному посоху, а за плечами крест-накрест висели сумы для подаяний.
— Вы здешние, хлопы? — спросил их усатый
шляхтич со шрамом на щеке.
— Тутошни, панове,— отвечал старший слепец.
— А дорогу до Суботова хорошо знаете? —
спрашивал дальше шляхтич.
— Как же не знать, панове? — отвечал
младший.— Вы сами, бувайти здорови, ведаете, что жебрака, как и волка, ноги
кормят: как волк знает в лесу все дорожки, так и слепцы жебраки.
Некоторые жолнеры рассмеялись.
— И точно волки, а малец совсем волчонком
смотрит. Ты чей?
— Ничей,— бойко отвечал мальчик.
— Как ничей? — удивился шляхтич.
— Ничей, пане: моего батька татары
зарезали, а мать в полон увели.
— А это за то, что вы против панов все
бунтуете.
— Мы не бунтуем, пане.
— Ладно! Так показывайте нам дорогу до
Суботова. А сегодня мы туда дойдем?
— Не скажу,— отвечал старший.
95
— Как не скажешь, пся крэвь! — вспылил
шляхтич.
— Не скажем, — повторили оба слепца.
Шляхтич замахнулся было палашом, чтоб
ударить того или другого за дерзкий ответ, как его почтительно остановил один
из городовых казаков, родом украинец.
— Они, вашмость, не не хотят сказать, а не
знают,— сказал он,— это такая хлопская речь: когда они чего не знают, то
говорят — «не скажу».
— Так-так, панство,— подтвердил старший
слепец,— уж такая у нас, у хлопов, речь поганая. А сдается мне, панове, что
сегодня вы не дойдете до Суботова — далеконько еще.
— Так марш вперед! — скомандовал шляхтич.
Скучившиеся было около слепцов жолнеры
расступились, и отряд двинулся. Где-то позади какой-то хриплый голос затянул:
Wyszla dziewezyna wyszla iedyna,
Jak rozowy kwiat,
и тотчас оборвался. Слышны были шутки, перебранки,
смех.
—
А пусть жебраки запоют какую-нибудь думу — все будет веселей идти,— предложил
городовой казак с огромной серьгой в ухе.
— И то правда! пусть затянут свою хлопскую
думу,— согласились другие.— Эй, вы, слепаки! затяните-ка думу, да хорошую!
— Какую
ж вам, панове? — отвечал старший слепец, не оглядываясь, но ощупывая посохом
путь.
— Какую знаете,— был ответ.
Слепцы тихонько посоветовались между собою,
и младший из них, вынув из-под полы своей ободранной «свитины» бандуру, стал ее
налаживать и тихо перебирать пальцами струны. Скоро он затянул одну из
любимейших для каждого украинца думу — «Невольницкий плач»,— думу, содержание и
мелодия которой хватали за душу каждого, потому что в то время чуть не из
каждой украинской семьи кто-либо томился в крымской или турецкой неволе. Скоро
и второй голос присоединился к первому, и оба голоса, равно как и мелодия думы,
буквально рыдали.
Дума говорила о том, что не ясный сокол
плачет-выкрикивает, а то сын к отцу-матери из тяжкой неволи в города
христианские поклон посылает, ясного сокола родным братом называет: «Сокол
ясный, брат мой родненький! Ты высоко летаешь, ты далеко видишь, отчего ты у
моего отца
96
и матери никогда в гостях не побываешь? Полети ты, сокол ясный, брат
мой родненький, в города христианские, сядь — упади у моего отца и матери перед
воротами, жалобно прокричи, про мою казацкую участь припомяни. Пусть отец и
матушка мою участь казацкую узнают, свое добро-имущество с рук сбывают, богатую
казну собирают, головоньку мою казацкую из тяжкой неволи вызволяют! Потому что
как станет Чорное море выгравать, так не будут знать ни отец, ни матушка, в
которой каторге меня искать — в пристани ли Козловской, или в Цареграде на
базаре. А тут разбойники, турки-янычары, станут на нас, невольников, набегать,
за Красное море в Арабскую землю продавать, будут за нас сребро-злато, не
считая, и сукна дорогие поставами, не меряя, без счету брать...»
Воодушевление певцов росло все больше и
больше. Слушателям, особливо же из городовых казаков, которые все были
чистейшие украинцы, казалось, что это поют и плачут сами невольники,
измученные, ослепленные мучителями-янычарами, что действительно они обращаются
к соколу, к ясному солнцу, к небесному своду. Все толпились поближе к певцам и
слушали-слушали, затаив дыхание или же украдкой смахивая со щеки предательскую
слезу. А они, поднимая свои слепые глаза к небу, пели все с большим и большим
воодушевлением. Сама бандура, совсем не хитрый инструмент, и та, казалось,
рыдала — и у нее дух захватывало от рыданий.
Потом бандура и голоса певцов как-то
обрывались, и этот перерыв еще больше томил душу слушателя: казалось, он ждал,
что же будет дальше в этом безбрежном море печали.
А бандура опять тренькала, сначала один
голос, потом другой, — и снова раздавался невольничий плач и проклятие:
«Будь ты проклята, земля турецкая, вера
бусурманская! ты наполнена сребром-златом и дорогими напитками, только бедному
невольнику на свете невольно: ни Рождества Христова, ни Светлого Воскресенья
бедные невольники не знают, все в проклятой неволе, на турецкой каторге, на
Чорном море изнывают, землю турецкую, веру бусурманскую проклинают: ты, земля
турецкая, ты, вера бусурманская, ты, разлука христианская: не одного ты
разлучила за семь лет войною — мужа с женою, брата с сестрою, детей маленьких с
отцом и матерью! Высвободи, Боже, невольника на святорусский берег, на край
веселый, меж народ крещеный!»
97
— Поганая песня! самая хлопская! —
послышалось среди жолнеров.
— Спойте другую, а то мы уснем. Пойте
веселую!
— Вот что, люди божьи, спойте им про
казака, что штаны латает, либо про Пазину!— со смехом отозвался городовой казак
с огромной серьгой в ухе.
И вдруг неожиданно старый слепец,
повернувшись лицом к жолнерам и взяв бандуру у товарища, быстро забренчал и,
семеня ногами, запел:
Хто попа й попадю
А я Пáзину люблю,
Люблю у день и в ночи,
Ясне свитло гасючи.
На Пазини корали —
Сто золотых давали.
А ни батько купив,
А ни мати дала:
Сама добра була —
С козаками добулá:
Здобулá, здобулá —
Бо хороша була!
— Ай да дед! виват! виват! — кричали
жолнеры.
А слепец, серьезно отплясав, снова повернулся
и зашагал, ощупывая посохом дорогу.
— Еще веселой! еще, старче Божий! — не
унимались жолнеры.
Старик опять повернулся к ним лицом, повел
слепыми очами, в которых видны были только белки, взял у товарища бандуру и,
перебирая по струнам пальцами, залихватски затренькал и стал выделывать ногами
невообразимые выкрутасы, приговаривая:
Баба рака купила,
Три полушки дала,
Тричи юшку варила,
Добра юшка була!
Снова взрыв хохота и одобрительные
возгласы.
— Да эти хлопы хоть куда! превеселый народ!
А еще говорят, что под польскою властью им не хорошо живется: если б в самом
деле было не хорошо, то не выдумали бы таких песен.
Между тем начинало темнеть. Пора было и
привал делать.
— Эй, слепаки!—крикнул шляхтич со шрамом на
щеке.— Далеко еще до Суботова?
98
— Далеконько, пане,— был ответ.
— Засветло не дойдем?
— Где дойти, пане,— не дойдем.
— Так делать привал!— шляхтич. Приказ
начальника облетел весь отряд. Задние ряды также остановились. Надвигались
задние отряды и располагались у опушки густого леса.
Скоро по всей равнине запылали костры.
Слышался смешанный гул голосов, ржанье коней, хлопанье бичей. У одного из
крайних к лесу костров расположились и слепцы, сняв с себя сумки, и слышно
было, как тихо тренькала бандура и так же тихо, монотонно раздавался голос
младшего слепца, который пел:
Летит орел проти сонця,
Згорда позирае:
Хто не знае коханнячка,
Той счастя не знае.
Плыве козак через море,
В мори потопае:
Хто не знае коханнячка —
Той журбы не знае.
Скоро весь польский стан, утомленный
продолжительным переходом, спал крепким сном. Скоро и костры потухли.
XIII. Вместо карася — щука
Ночь была тихая, теплая, но темная. В такие
ночи особенно ярко горят звезды.
Тихо было и в стане. Слышно было, как
иногда фыркали лошади, позвякивая путами, но и те, кажется, поснули. Не спал
только соловей, задорно щелкавший в соседней чаще, да иногда из этой чащи
доносился глухой стон «пугача» — филина.
Как ни была темна ночь, но при слабом
мерцании звезд хороший глаз мог различить на белом фоне разбитой у опушки леса
палатки человеческую тень, которая медленно шевелилась, то нагибаясь к земле,
то поднимаясь. Всматриваясь пристальнее, можно было заметить, что от одного из
потухших костров, именно от того, около кото-
99
рого расположились на ночлег слепые нищие, тихо отделились две
человеческие фигуры и так же тихо поползли по направлению к той палатке, на
белом фоне которой шевелилась человеческая тень.
Когда те две тени, которые отделились от
костра, неслышно подползли ближе к палатке, то по движениям той одинокой тени
они могли различить, что эта одинокая тень молится.
Две тени все ближе и ближе подползают к
палатке.
Вдруг эти тени моментально накрывают собою
молящуюся тень, наклонившуюся к земле. Произошло какое-то движение, борьба, но
ни звука.
Так же беззвучно эти тени понесли что-то в
кусты и исчезли в чаще леса. Около палатки одинокой тени уже не было.
В стане опять тихо — ни звука, ни движения.
В чаще, между двумя трелями соловья, глухо простонал филин. Ему ответил, ближе
к стану, такой же стон ночной птицы.
Но не ночная птица стонала это. Крик филина
раздался из горла одной из человеческих теней, пробиравшихся в глубину лесной
чащи и тащивших ту одинокую тень, которая молилась у палатки.
— Не крутись, ляше,— не выпустим,— шепотом
сказала одна тень, и в этом шепоте можно было узнать голос того слепого нищего,
который недавно пел у костра:
Хто не знае коханнячка —
Той счастя не знае.
— Не бойся, ляше,— мы тебе ничего не
сделаем,— говорил шепотом другой голос — голос другого слепца,— а пуще всего не
вздумай кричать — так и всажу меж ребер вот этот нож по самый черенок.
Тот, к кому относились эти слова, силился
что-то сказать, но не мог,— у него во рту был «кляп».
— Ну, теперь его можно и на ноги
поставить,— сказал старший нищий, мнимый слепец,— ну, ляше, иди с нами, а то
тебя важко нести.
— Ну-ну, ляшеньку, вставай... держись... мы
люди добрые.
Они опустили ношу на землю. Тот встал и
набожно перекрестился.
— А! да лях, кажись, по-нашему крестится,—
заметил один нищий,— а ну, ляше, перекрестись.
Пленник перекрестился.
— Вот чудо! А побожись, перекрестись,
поклонись, что не будешь кричать, и мы у тебя «кляп» вынем изо рта. Ну!
100
Пленник повиновался и перекрестился три
раза. Стон филина послышался ближе. Ему отвечал один из нищих таким же стоном.
— Ну, вот теперь ты и без «кляпа», ляше.
Пленному освободили рот от затычки.
— Ну, теперь здравствуй, ляше, вашмосць!
Мам гонор,— шутливо заговорил старший нищий,— сказывай, пан, кто ты?
— Я не поляк, я — русский из московского
государства,— отвечал пленный чистою московскою речью.
Те были ошеломлены этой неожиданностью.
— Как! ты не лях? Оттака ловись!
— Вот поймали щуку замес карася! Как же ты
попал к ляхам?
— Меня польские жолнеры взяли в полон,
когда я из Мультянской земли, от волох, пробирался в Черкасскую землю, в Киев-град,
к святым угодникам печерским,— отвечал пленник.
— Те-те-те! вот подсидели райскую птицу!
— Как же ты, человече, попал к волохам?—
спросил старший нищий.
— По грехам моим... Так Богу угодно было,—
уклончиво отвечал пленник.
— Э! да ты, человече, я вижу, не
разговорчив: думаю, что с нашим «батьком» ты скорей разговоришься.
Они продолжали двигаться лесною тропой.
Начинало светать, когда перед ним открылась небольшая полянка среди чащи леса.
— Лугу! пугу! — раздался вдруг крик филина;
но это выкрикнул не филин, а старший нищий.
— Пугу! пугу! — послышался ответ с полянки.
— Козаки с лугу! — сказали оба нищие.
На этот возглас послышалось тихое,
радостное ржание коней.
— Здоровы бывали, хлопцы! с добычею! А
какую птицу поймали?
Это говорил показавшийся на полянке
запорожец в высокой смушковой шапке с красным верхом, в широких синих штанах и
с пистолетами и кинжалами за поясом. Сбоку у него болталась длинная кривая
сабля. Тут же оказался и мальчик «поводатырь» с бандурою в руках и с мешком за
плечами.
— И ты уж тут, вражий сын? — заметил ему старший нищий.
— Тут, дядьку,— улыбнулся мальчик.
101
Это уже были не слепцы, жалкие и согбенные,
а молодцы с блестящими глазами, хотя и в нищенском одеянии, ободранные и
перепачканные.
Тот, кого они привели с собой, оказался
богато одетым молодым человеком, но не в польском, а в немецком платье.
Запорожцы — это оказались они — с
удивлением глядели на своего пленника. Они, по-видимому, не того искали.
— Так ты не лях? — снова спросили его.
— Я уж вам сказал, что я из московского
государства,— был ответ.
— А в польском войске давно?
— Недели три будет.
— А кто ведет войско — не Ян Собеский?
— Нет, сам Чарнецкий, а с ним и Собеский, и
Махновский с гетманом Тетерею и татарами.
— Тетеря! собачий сын! совсем обляшился! —
с сердцем произнес старший запорожец-нищий.— Попадется он нам в руки, лядский
попыхач! А теперь они идут к Суботову ?
— К Суботову, а после, сказывали, Чигирин
добывать будут, а добывши Чигирина, хотят перепуститься за Днепр.
— За Днепр! как бы не так! Мы им зальем за
шкуру сала.
— А сколько у них войска и всякой потребы?
— спросил другой запорожец, что был при лошадях.
— Силы не маленьки,— отвечал пленник,— а
сколько числом — того не ведаю.
Запорожцы стали собираться в путь. Мнимые
нищие сняли с себя лохмотья и надели казацкое одеяние, которое вместе с оружием
и «ратищами» — длинные пики — спрятано было в кустах. Тотчас же были и кони
оседланы.
— Так скажи же теперь нам, человече, как
тебя зовут? — спросил старший запорожец.— Надо ж тебя по имени величать.
— Зовут меня Воином,— отвечал пленник.
— Воин! вот чудное имя! — удивились
запорожцы.
— Вот имячко дали эти москали! Чудной
народ. Мы знаем в святцах только одного Ивана Воина. А по батюшке как тебя
звать?
— Мой батюшка Афанасий.
— А прозвище?
— Ордин-Нащокин.
102
— Не слыхали такого. Ну, да все равно:
батько кошевой, может, и знает. Ну, теперь на-конь, братцы. Да только вот что,
Остапе,— обратился старший запорожец к тому, который оставался при лошадях,—
мы, брат, этого воина несли на руках, а ты его повези теперь на коне, потому —
у нас четвертого коня не припасено для него.
— Добре! — отвечал тот.— Пускай хлопцы
подумают, что я везу бранку — красавицу ляшку. Ну, брат Воин, взбирайся на
моего коня, да садись позади седла и держись руками за мой «черес».
Воин сделал, что ему велели. Перед ним на
седле поместился Остап.
— Что, ловко сидеть? не упадешь? — спросил
он пленника.
— Не упаду.
Мальчик «поводатырь» снял свой измятый
«бриль» и стал прощаться с запорожцами.
— А, вражий сын!— улыбнулся старший
запорожец.— На же тебе злотого.
И он подал мальчику монету. Получив
награду, мальчуган, словно лесной мышонок, юркнул в чащу и исчез. Запорожцы
двинулись в путь.
XIV. «Опять соловьи!..»
К вечеру этого же дня наши запорожцы вместе
с пленником прибыли к войску гетмана, которое расположилось станом у Бужина. В
таборе уже пылали костры — то украинские казаки, запорожцы и московские ратные
люди варили себе вечернюю кашу.
Завидев приближающихся всадников, запорожцы
узнали в них своих товарищей и уже издали махали им шапками.
— Э! да они везут кого-то: верно, языка
захватили.
— Вот так молодцы! У бабы пазуху скрадут,
как пить дадут — и не услышит.
Те подъехали ближе и стали здороваться.
— Что, паны-братцы, языка везете? —
спрашивали их.
103
— Языка-то языка, да только язык уж очень
мудреный,— был ответ.
— А что — не говорит собачий сын? перцу
ждет?
— Нет, язык-то у него московский, а не
лядский.
— Так не тот черевик баба надела?
— Нет, тот, да уж очень дорогой, кажется.
Все окружили приехавших и с удивлением
рассматривали пленника в немецком платье. Вдруг раздались голоса:
— Старшина едет, братцы! старшина! Вон и
пан гетман и батько кошевой сюда едут.
Действительно, вдоль табора ехала группа
всадников, наближаясь к тому месту, где остановились наши запорожцы с
пленником. Последние сошли с коней в ожидании гетмана и кошевого. Те подъехали
и заметили новоприбывших.
— С чем, братцы, прибыли?— спросил
Брюховецкий, остановив коня.
— Языка, ясновельможный пане гетмане, у
Чарнецкого скрали,— отвечал старший запорожец.
— Спасибо, молодцы! — улыбнулся гетман.
— Да только, ваша ясновельможность, человек
он сумнительный,— пояснил запорожец,— говорит, что он из московского
государства, а через волохов простовал до Киева.
Брюховецкий пристально посмотрел на
молодого человека. Благородная наружность пленника, красивые черты лица,
нежные, незагрубелые руки, кроткий, задумчивый взгляд, в котором сквозила
затаенная грусть,— все это разом бросилось в глаза гетману и возбудило его
любопытство.
— Ты кто будешь и откуда? — ласково спросил
он молодого человека.
— Ясновельможный гетман! — с дрожью в
голосе отвечал казацкий пленник.— Я сын думного дворянина московского, Афанасия
Лаврентьевича Ордина-Нащокина.
Гетман выразил на своем лице глубочайшее
удивление.
— Ты сын Ордина-Нащокина, любимца его
царского пресветлого величества! — воскликнул он.
— Истину говорю, ясновельможный гетман, я
сын его, Воин.
— Но как же ты находился в польском стане?
— Я возвращался из Рима и Венеции через
Мультянскую землю. Я не хотел возвращаться чрез Варшаву, опасаючись того, что
случилось: в Волощине я узнал, что войска твоей ясновельможности и его царского
пресветлого ве-
104
личества привернули в покорность московскому государю все городы сей
половины Малыя России, бывшие под коруною польскою, и я Подольскою землею
направился сюда — намерение мое было достигнуть Киева; но, к моему несчастию, я
попал в руки польских жолнеров и стал пленником Чарнецкого. Не ведаю,
ясновельможный гетман, как сие совершилось, но Богу угодно было, чтобы нынешнею
ночью меня выкрали из польского стана, и я благодарю моего Создателя, что он
привел видеть мне особу твоей ясновельможности.
Гетман внимательно слушал его и задумался.
— А какою видимостью ты подкрепишь
показание свое, что ты несу- мнительно сын Ордина-Нащокина? — спросил он.— Есть
у тебя наказ, память из Приказа?
— Нет, ясновельможный гетман...
Молодой человек остановился и не знал, что
сказать далее.
— Как же нам верить твоим речам? —
продолжал гетман.— Тебя здесь никто не знает.
— Ясновельможный гетман! — быстро заговорил
вдруг пленник.— Есть ли здесь у тебя в войске твои посланцы, которых в прошлом,
во 143 году я видел в Москве, в столовой избе, на отпуске у великого государя,—
то я узнаю их.
— А кто были имянно мои посланцы? — спросил
гетман.
— Гарасим да Павел, ясновельможный гетман,—
отвечал допрашиваемый.
Брюховецкий переглянулся с кошевым Серком.
— Разве и ты был тогда в столовой избе? —
спросил он снова своего пленника.
— Да, ясновельможный гетман, был; меня
великий государь тоже жаловал к руке.
— Жаловал к руке! тебя! — дивился гетман.
— Меня, ясновельможный гетман, точно
жаловал; великий государь посылал меня на рубеж к отцу, в Андрусово, с его
государевым указом, в гонцах.
— Но как же ты очутился в Риме? — спросил
Брюховецкий.
Вопрошаемый замялся. Гетман настойчиво
повторил вопрос.
— Прости, ясновельможный гетман,— сказал
молодой человек,— на твои о сем вопросные слова я не смею отвечать: на оные я
отвечу токмо великому государю и моему родителю, когда буду на Москве.
105
Гетман не настаивал. Он думал, что тут
кроется государственная тайна — дело его царского пресветлого величества.
Во время этого допроса вся казацкая
старшина полукругом обступила гетмана. Он оглянулся и окинул всех быстрым
взором. Среди войсковой старшины он заметил и своих бывших посланцев к царю
Алексею Михайловичу — Гарасима Яковенка, он же и «Гараська-бугай», Павла
Абраменка и Михаилу Брейка.
Он опять обратился к своему пленнику.
— Посмотри,— сказал он,— не опознаешь ли ты
среди казацкой старшины кого-либо из тех моих посланцев, что ты видал в прошлом
году на Москве, в столовой государевой избе?
Тот стал пристально всматриваться во всех.
Взор его остановился на Брейке.
— Вот его милость был тогда в столовой избе
и жалован к руке,— сказал он, указывая на Брейка.
— Правда,— подтвердил тот.— Як у око
влипив!
— Еще тогда его милость упал и великого
государя насмешил,— пояснил пленник.
— Овва! про се б можно було й помовчать,—
пробурчал великан, застыдившись,— кинь об четырех ногах, и то спотыкается.
В задних рядах послышался смех. Улыбнулись
и Брюховецкий, и Серко.
Скоро опознан был и другой великан —
«Гараська-бугай». Опознан был и Павло Абраменко.
Убедившись в правдивости речей своего
пленника и считая вполне достоверным, что молодой человек — действительно сын
знаменитого царского любимца и, следовательно, сама по себе особа важная,
гетман приказал Гарасиму Яковенку провести его в гетманский шатер, а сам
отправился дальше вдоль казацкого стана, чтобы сделать на ночь необходимые
распоряжения.
Думал ли молодой Ордин-Нащокин, что из Рима
и Венеции он попадет в казацкий стан и притом таким необычайным способом?
Ему вдруг почему-то припомнилась последняя
ночь, проведенная им в Москве, и тот вечер, когда, как и теперь, так громко
заливался соловей. Впрочем, всякий раз теперь, когда он слышал пение соловья,
этот роковой вечер вставал перед ним со всеми его мучительными подробностями —
и томительной болью ныло его сердце. Тогда ему казалось, что девушка
недостаточно любила его; но теперь?.. А если
106
она нашла другого суженого? Ужели напрасно он выносил в течение года и
более в душе своей тоску, как преступник цепи?
И вчера ночью, когда он, в польском стане,
лежал в палатке Яна Собеского и не мог спать, и вчера так же пел соловей,
напоминая ему мучительный, последний вечер пребывания его в Москве. Душа его
жаждала молитвы — и он молился, по временам обращая молитвенный взор к далеким
звездам, мерцавшим на темном небе,— и вдруг его схватили...
Не божественный ли это Промысел, ведущий
его к спасению, к счастью?
Он так был поглощен своими мыслями и так
взволнован, что почти не слыхал, что говорил ему его спутник, как он вспоминал
о своем пребывании в Москве в качестве гетманского посланца, как на прощанье
царь жаловал их к руке и как упал Брейко.
— Только ж и ночи у вас на Москве!—
удивлялся запорожец.— Хоть иголки собирай... А все ж таки у вас соловьи поют,
хоть им, должно быть, и холодненько в вашей стороне...
«Опять соловьи!..»
XV. Поругание над прахом Хмельницкого
Когда утром в этот день проснулись в
польском лагере, то всех поразило исчезновение слепых нищих с поводатырем и —
что уже совсем неразгаданно — исчезновение вместе с ними молодого московского
дворянина.
Тут только поляки догадались, что под
личиною слепцов скрывались казацкие лазутчики, а почему вместе с ними исчез и
московский дворянин — это для них так и осталось тайной. Предполагали, что
между лазутчиками и молодым москалем существовал таинственный сговор; но где и
когда он состоялся? Почему москаль узнал, что то были лазутчики? Значит, и то
неправда, что он говорил о себе, о возвращении будто бы из Рима, из Венеции.
Несомненно, что и он был подослан или казаками, или москалями.
Ввиду всего этого Чарнецкий строго-настрого
приказал усилить в войске предосторожности и рассылать во все сто-
107
роны разведчиков — нет ли поблизости проклятых запорожцев или даже
самого гетмана с войском.
Как бы то ни было, но поляки в этот день
достигли Суботова.
Весь этот день, вследствие ли тревог,
всегда неизбежных в военное время, вследствие ли просто физических причин, но
Чарнецкому весь этот день было не по себе. Он часто задумывался, машинально
водя рукою по своим длинным седым усам, отдавал приказания и снова их отменял,
а когда показалось Суботово и он увидел суботовскую церковь, где, как он знал,
был похоронен Богдан Хмельницкий, странная улыбка прозмеилась под его седыми усами,
а изрезанное морщинами лицо мгновенно покрылось краскою. Это была краска стыда
и негодования. Он вспомнил, как когда-то в этом Суботове он, гордая отрасль
древнего рода, всегда претендовавшего на корону польскую, он, Стефан Чарнецкий,
был пленником у хлопа, у Хмельницкого! Лицо Чарнецкого побагровело. Рана на
щеке, которую когда-то пробила насквозь хлопская стрела, во время штурма
Монастырища, теперь налилась кровью.
— Я отомщу тебе, быдло! — бормотал он.—
Отомщу, хотя тебя и похоронили с царскими почестями. Все это твое дело: ты
посеял эти драконовы зубы — они теперь выросли в людей, в разбойников... Но я
выбью эти проклятые зубы!
Суботово было занято без сопротивления, так
как в нем не оставалось ни одного казацкого отряда.
Прежде чем двинуться к Чигирину, Чарнецкий,
доведавшись, в каком направлении удалились вчерашние мнимые слепцы, отрядил по
этому направлению часть своего войска под начальством Незабитовского и Тетери и
приказал им искать Серка с запорожцами, а если Серко соединился с Брюховецким,
то не допускать до Чигирина ни того, ни другого; сам же остался ночевать в
Суботове.
Чарнецкий приказал разбить свой шатер на
холме, откуда виден был весь его лагерь и откуда он мог созерцать Суботово, с
которым у него соединялись такие обидные воспоминания. Теперь он смотрел на это
местечко, бывшее когда-то гнездом унизившего его врага, с чувством глубокого
удовлетворения: он мог превратить его в развалины, в мусор, и разметать этот
мусор по полю. При закате солнца он долго сидел у своего шатра, и перед ним проносились
воспоминания его бурной, полной тревог жизни. Вся жизнь — на коне, в поле, под
свистом пуль и татарских стрел. Постоянно кругом смерть, похороны, стоны. Но он
108
свыкся с этим — в этом вся его жизнь. Но где же его личное счастье —
не счастье и гордость побед, не слава полководца, а счастье разделенного
чувства? Кажется, его и не было.
Нет, было-было! но так кратковременно...
Этот высокий замок во мраке ночи, темный парк, мерцающие и отражающиеся в
тихой, сонной реке звезды... Тут было это счастье — и такое мимолетное...
И вдруг налетает с войском этот бешеный
вепрь, что теперь лежит под могильной плитой вон в той церкви! Замок в огне,
замок разрушен, дорожки парка потоптаны конскими копытами. А та, чей шепот еще
накануне сулил счастье, лежит мертвая, как скошенная белая лилия...
Мрак все более и более надвигается на
Суботово и на лагерь. В воздухе душно — быть грозе. Оттого ему и дышится так и
тяжело, и в душу теснятся одни мрачные воспоминания...
Ночь. Чарнецкий один в своем роскошном
шатре. Тускло горят свечи в высоком канделябре. Сон не хочет или не смеет войти
в этот шатер, точно он боится часовых, стоящих у входа в ставку старого
полководца.
Чарнецкий встает и тушит свечи. Он ложится
на походную кровать и прислушивается, как где-то вдали глухо раскатывается
гром.
И опять перед ним развертывается панорама
пережитой жизни... Да, пережитой.., Только перед смертью встают в душе подобные
панорамы. И неудивительно — ему уже 66 лет!
Гроза все ближе и ближе. В порывах ветра
слышится не то стон, не то плач...
Это она плачет... это замок горит... ветер
бушует в деревьях парка. А он не может ее спасти... не может пробиться с
горстью жолнеров сквозь густые ряды казацкого войска.
«Сидите, ляхи! Всех ваших дуков, всех
князей ваших загоню за Вислу! А будут кричать за Вислою, я их и там найду, не
оставлю ни одного князя, ни шляхтишка на Украине !..»
Это он, разъяренный вепрь, кричит — это
Хмельницкий... Он врывается в палатку!..
Чарнецкий вскакивает... его душил кошмар...
он слышал голос Хмельницкого... Нет, это удар грома разразился над самою его
палаткою.
И мертвый — он не дает ему покоя...
Гроза бушует уже дальше — раскаты грома
несутся туда, на восток...
109
«На восток и Польша понесет свои громы... Я
понесу эти громы,— опять забываясь, грезит Чарнецкий,— а там и на север, в
Московию полетят польские орлы... Сидите, москали! молчите, москали!..»
Утром, окруженный своим штабом, Чарнецкий
торжественно въезжает в Суботово. Он направляется прямо к церкви, где в то
время только что кончилась обедня.
Народ начал было выходить из церкви, но,
увидав приближение богато одетых всадников, остановился. Чарнецкий, сойдя с
коня, направился прямо в церковь, а за ним и вся его свита. Старенький
священник, служивший обедню, еще не успел разоблачиться, а потому, увидев входящих
панов, вышел к ним навстречу с крестом.
— Прочь, поп! — крикнул на него Чарнецкий.—
Мы не схизматики. Показывай, где могила Хмельницкого.
Перепуганный батюшка пошел к правому
приделу.
— Здесь покоится тело раба божия
Зиновия-Богдана, при жизни божиею милостию гетмана Украины,— робко выговорил
он.
— Божиею милостию,— злобно улыбнулся гордый
лях,— много чести.
Он подошел к гранитной плите и ткнул ее
ногою.
— Поднять плиту! — громко сказал он.
Священник еще больше растерялся и
испуганными глазами уставился на страшного гостя.
Чарнецкий обернулся к стоявшему в
недоумении народу.
— Сейчас же принеси ломы!— скомандовал он.
Бывшие в церкви некоторые из жолнеров бросились исполнять приказание своего
вождя.
Ломы и топоры были скоро принесены. Плита
была поднята. В темном каменном склепе виднелся массивный дубовый гроб. Свет,
падавший сверху, освещал нижнюю его половину.
— Вынимайте гроб! — продолжал Чарнецкий.
— Ясновельможный, сиятельный князь! это
святотатство!— с ужасом проговорил священник; крест дрожал у него в руках.—
Пощади его кости, сиятельный...
— Молчать, поп! — крикнул на него
обезумевший старик.
Жолнеры бросились в склеп, и гроб был
вынут.
— Поднимите крышку!
Топорами отбили крышку — и в очи Чарнецкому
глянуло истлевшее лицо мертвого врага. Чарнецкий долго глядел
110
в это лицо. Оно уже в гробу обросло седою бородой. Черные брови,
казалось, сердито насупились, но из-под них уже не глядели глаза, перед
которыми трепетала когда-то Речь Посполитая. Только широкий белый лоб оставался
еще грозным...
Чарнецкий все глядел на него...
«А! помнишь тот замок над рекою! помнишь ту
ночь! помнишь ту белую лилию с распущенною косою,— лилию, которую убил один
ужас твоего приближения!» — бушевало у него в душе.
«Сидите, ляхи! молчите, ляхи»! А... не
крикнешь уж больше!»
Он все смотрел на него. Ему вспомнилась эта
бурная ночь, удар грома...
Все стояли в оцепенении. У старого
священника по лицу текли слезы. Он отпевал его, он хоронил этого богатыря
Украины...
Чарнецкий, наконец, отвернулся от мертвеца.
Лицо его было бледно, только шрам на щеке от раны, полученной при штурме
Монастырища, оставался багровым.
— Вынести гроб из церкви и выбросить падаль
собакам! — сказал он — и вышел из церкви.
За ним жолнеры несли гроб, окруженный
свитою Чарнецкого, точно почетным караулом.
На лице Яна Собеского вспыхнуло
негодование, но он смолчал...
Едва Чарнецкий вышел на крыльцо церкви, как
к нему почтительно приблизился дежурный ротмистр его штаба с двумя пакетами в
руке.
— Что такое? — спросил Чарнецкий.
— Гонец с Москвы, ваша ясновельможность! —
отвечал ротмистр, подавая пакеты.— Листы от царя московского и от думного
дворянина Афанасия Ордина-Нащокина.
Чарнецкий взял пакеты и вскрыл прежде
письмо от царя Алексея Михайловича.
Странная улыбка скользнула по его лицу,
когда он пробежал царское послание, и обернулся к Собескому.
— Это все насчет того вайделоты, что
вчерашнею ночью пропал у нас без вести,— сказал он с видимою досадою.
— Молодого Ордина-Нащокина?— спросил
Собеский.
— Да, пане. Царь шлет милостивое прощение.
— Прощение? — удивился Собеский.— В чем?
— Об этом не говорится в письме: пан может
сам прочесть его.
111
И Чарнецкий подал царское послание будущему
спасителю Вены и дома Габсбургов, а сам вскрыл послание Ордина-Нащокина.
— Та же песня,— с досадой произнес он,— а
где мы найдем этого вайделоту, чтобы объявить ему царскую милость и отцовское
прощение?
— Я думаю,— отвечал Собеский,— его надо
искать в стане Брюховецкого или у этой собаки — у Серка.
— Так пусть пан ротмистр скажет царскому
гонцу, чтоб он искал беглеца у Брюховецкого или у Серка,— сказал Чарнецкий
дежурному,— а пан ротмистр прикажет списать копии с этих листов и вручить их
гонцу с пропуском моим,— закончил он, передавая ротмистру оба письма.
Между тем за церковью, на площади, слышен
был гул голосов, заглушаемый женскими воплями и причитаниями.
То выбрасывали из гроба останки
Хмельницкого — «псам на поругание»...
XVI. Она узнала его
В один из июльских вечеров, когда уже
начинало темнеть, от Москвы по Девичьему полю ехал одинокий всадник по
направлению к монастырю.
Судя по богато убранному коню и по одежде,
всадник принадлежал к богатому или знатному роду. Низкое, плоское, с
вызолоченными луками седло, обшитое зеленым сафьяном с золотыми узорами, лежало
плотно на богатом малинового бархата чапраке с серебряною оторочкою, из-под
которой виднелся голубого цвета «покровец» или попона, расшитая шелками и с
вензелевым изображением на задних, удлиненных концах с серебряными кистями.
Вензель состоял из трех серебряных букв: В. О. Н. Уздечка на лошади также
отличалась красотой и богатством: «ухваты» и «оковы» на морде коня были
серебряные с такими же цепочками. Ожерелье на шее лошади унизано было
серебряными же бляхами, узенькими поверх шеи и широкими снизу. Повыше копыт
коня висели маленькие колокольчики, у самых щеток, и при движении издавали
гармонический звон, который издавна москвичи называли «малиновым звоном». Сверх
всего этого сзади у седла приделаны
112
были маленькие серебряные литавры, которые при ударе об них бичом
звенели, заставляя лошадь бодриться, красиво изгибать шею и вообще играть.
На молодом всаднике был также богатый
наряд: и ферязь, и охабень, и ожерелья — все блестело или золотом, или
жемчугами.
По небу ходили сплошные тучи, но когда они
раздвигались и из-за них выплывал на минуту полный месяц, то в молодом всаднике
легко можно было узнать нашего бродягу — Воина Ордина-Нащокина.
Он опять в Москве. Но сколько горя, сколько
душевных мук дало ему это возвращение на родину. Он узнал здесь, что та, от
которой он в ослеплении безумной страсти бежал, куда глаза глядят, бежал на
край света, та, мыслью о которой он только и дышал эти полтора года, милый
образ которой не отходил от него ни днем, ни ночью, о которой он думал, что она
променяла его на другого, не захотев для него пожертвовать глупою девичьею
славою,— он узнал здесь и сердцем понял, что она не вынесла разлуки с ним и
навеки похоронила свою дивную красу, свое девство, прикрыв свое прелестное
личико и свою роскошную девичью косу — черничьею ризой! Сердце его обливалось
кровью, когда он думал об этом.
Об этом он думал и теперь. Он ехал туда,
где она похоронила себя заживо.
«Все кончено»,— ныло у него на сердце. И он
с тоской прислушивался, хотя вовсе не хотел этого, как где-то недалеко чей-то
хриплый голос, вероятно, голос пьяного шатуна, напевал знакомую ему, любимую
песню кабацких гуляк. Хриплый голос пел:
«Как рябина, как рябина кудрявая!
«Как тебе, рябинушка, не стόшнится,
«Во сыром бору стоючи,
«На болотину смотрючи!»
Ему досадно было, что его чистые думы о
ней, о том невозвратном прошлом, когда она давала ему свои горячие, хотя
стыдливые ласки, что эти святые думы грязнятся этою пьяною песнею. А пьяная
песня все терзала ему слух и душу...
«Молодица ты, молодушка!
«Молодица ты пригожая!
«Как тебе не стόшнится,
«За худым мужем живучи,
«На хорошего смотрючи,
«На пригожего глядючи».
113
Он
готов был свернуть с дороги и отодрать этого шатуна своим бичем из гибкой
татарской жимолости, но его удерживала мысль о той чистой и невинной, о которой
он думал и по которой томилась его пораненная душа... Ведь при ней бы он этого
не делал — стыдно бы, не хорошо было...
А тот все тянул:
«Наварю я пива пьяного,
Накурю вина зеленого,
Напою я мужа дόпьяна,
Положу его середь двора,
Оболоку его соломою
Да зажгу его лучиною...»
— Ишь нализался! — слышится чей-то другой
голос.— Да еще под праздник.
— С радости, милый человек: кто празднику
рад — с вечера пьян,— отвечал певец и снова гнусил:
«Выду я тоды на улицу,
Закричу я громким голосом:
— Осудари вы, люди добрые,
Вы суседи приближены!
А ночесь гром-от был,
А ночесь молонья сверкала,
Моего мужа убило,
Моего мужа опалило».
— Это тебя-то, видно, пьяницу, жена
подожжет лучиною,— опять послышался нравоучительный голос.
— Нет, шалишь! я сам ее за косы! я сам
пропою! Он допел окончание песни:
«А ты, шельма-страдница,
А не гром убил, а не молонья сожгла,
А ты сама мужа извела*».
Пение
смолкло. А вот и монастырские стены, ворота. Молодой Ордин-Нащокин сошел с
коня, погладил его лоснящуюся шею, потрепал за гриву и, привязав чумбуром к
кольцу, вбитому в стену, сунул монету в руку старика-привратника.
— Пригляди за конем, дедушка,— сказал он,—
я пойду ко всенощной.
____________
* Песня эта выписана покойным историком, С.
М. Соловьевым, из столбцов приказного стола. № 3313. См. «Историю России», XIV. 359. (Прим.
Д. Л. Мордовцева.)
114
— Добро, добро, батюшка-болярин,
попригляжу,— отвечал старик.
Воин вошел в ограду. Ему казалось, что он
входит в обширный могильный склеп, в котором похоронено все, что только он имел
дорогого в жизни. Церковь между тем горела огнями, которые лились на двор
сквозь узкие окна с железными решетками.
С глубочайшим благоговением и каким-то
страхом Воин вступил в церковь.
Навстречу ему неслось из царских врат:
«Слава святей, и единосущней и животворящей и нераздельной Троице, всегда, ныне
и присно, и во веки веков!»
— Аминь! — как бы дрогнул весь клир тихими
ангельскими голосами, и среди всего клира ему, казалось, отчетливо послышался
милый, нежный, давно знакомый голос.
— «Приидите поклонимся Цареви нашему Богу,—
опять неслось из алтаря вместе с дымом кадильным,— приидите поклонимся и
припадем Ему!»
Он действительно припал горячею головой к
холодному полу, а слезы так и лились на этот пол, так и лились... А голоса
клира звенели под сводами храма, высоко, точно пели невидимые ангелы:
— «Благослови, душе моя, Господа!»
— «Благословен еси, Господи!» — отвечал
припевом другой клир.
Воин не поднимал головы от пола: ему
казалось, что он весь изойдет горькими и в то же время сладостными слезами, всю
душу выльет, а с нею и свое горе...
А дивная мелодия все более и более
наполняла своды храма, все неудержимее и неудержимее охватывала умилением
растопившуюся в слезах душу...
— «На горах станут воды...»
«О, Боже великий! для тебя все возможно, ты
установил воды на горах, ты растопил мое окаменелое сердце»,— шептал
несчастный, все еще не поднимая с полу мокрого от слез лица...
За псалмом «на горах станут воды» прошла
великая ектения, потом первая кафизма, антифон, и «Господи воззвах», и
стихиры,— а он все молился и плакал.
Да, теперь он явственно различает ее голос...
Из всего клира выделяется этот чистый голосок, когда клир запел вечернюю песнь:
«Свете тихий!..»
Снова возглашение:
— «Господь воцарися, в лепоту облечеся...»
115
Ему казалось, что все это он слышит первый
раз в жизни: так все казалось ему святым, божественным, не от мира сего!
Но мало-помалу он несколько успокоился,
слезы незаметно унялись сами собою, и он встал с колен, чтобы искать глазами
ту, голос которой, как ему казалось, он узнал. Он глядел на клирос, который
весь был занят то черными клобуками монахинь, то такими же черными покрывалами
молодых черничек и послушниц. Но все их лица были обращены к алтарю, и только
иные вполоборота глядели на местные иконы.
Где же она? Ему до этого казалось, что в
тысяче незнакомых фигур, не видя лиц, он отличит ее головку, ее плечи, гибкий
стан, изгиб белой шейки; но теперь все это было закрыто длинными черными фатами
— головы, шеи, плечи. Но она там — он это чувствовал и слышал ее милый голос.
А служба между тем шла. Из алтаря уже
неслось горячее моление:
— «Услыши вы, Боже, Спасителю наш, упование
всех концов земли и сущих в море далече!..»
«Он услышит, он помилует»,— беззвучно
шептали его губы.
И в этих молениях, стояниях, кафизмах,
поклонах протечет вся ее жизнь! Где же радости, где счастье? И сегодня так, и
завтра, и послезавтра, а там... старость, усталость духа и тела,— все то же, то
же, то же!
А там, глядишь, и последнее возглашение,
последние слезы: «Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурею...»
Где же бури? И их здесь нет... «Тихое
пристанище...» Да, тихое, могильное.
Но вот на клиросе произошло какое-то
движение. Несколько темных фигур отделяются и, проходя мимо местных икон,
делают земные поклоны. Через несколько времени они возвращаются одна за другою:
в руках у них — у одной кружка для сбора приношений, у другой блюдо, у третьей
опять кружка, а там снова блюдо...
Что это! У него чуть ноги не подкосились, в
глазах потемнело, потом опять просветлело... светлее, кажется, стало в храме...
что-то лучезарное блеснуло ему в глаза...
Это она! это ее лучезарное личико,
полуприкрытое полями клобука, ее нежный овал, ее мраморное чело, оттененное
клобуком... Совсем, совсем дитя в таком безнадежном одеянии — в саване, в
черном саване ребенок!
116
Он узнал ее. Но она не поднимает глаз от
блюда — длинные ресницы опущены.
Они идут посреди толпы, одна за другой, и
кланяются. Впереди идет старуха, за ней другая. Последнею идет — она! Слышно:
то алтын с глухим стуком упадет в кружку, то копейка или полушка брякнет на
металлическое блюдо. И на ее блюдо бросают алтыны, полушки. Но она все не
поднимает глаз — все личико ее словно мраморное, ни один мускул на нем не
дрогнет.
Но как она изменилась, поблекла! Словно
полузавядший белый ландыш с опущенною головкой.
Неужели не поднимет глаз? Они все ближе и
ближе... Вот прошла первая кружка, за нею блюдо, опять кружка... Ее блюдо
поравнялось с ним. Она не глядит!
В каком-то безумном отчаянье он с силою
бросает крупную золотую монету на ее блюдо. Она дрогнула — подняла удивленные
глаза — глаза их встретились на мгновенье... Она замерла на месте...
Блюдо со звоном повалилось на пол, и она
упала на пол, как подкошенный колос.
XVII. Только бы видеть его!
После душевного потрясения, бывшего
причиною обморока за всенощной, инокиня Надежда, перенесенная из церкви в свою
келью, придя понемногу в себя, почувствовала глубокую, все ее существо
охватившую радость. Она помнила только, что он не умер, что она не была
причиною его смерти, не убила его, как казалось ей прежде. Он живет, он будет
жить. Она будет думать о нем, будет знать, что он есть на свете, видит и землю,
и небо, и солнце, а она будет молиться о нем — чего ж ей больше!
Она встала с своего скромного ложа и стала
молиться. Она теперь в первый раз почувствовала сладость молитвы. Теперь ей
есть о чем молиться — и какою молитвою! — высшими степенями молитвы!
Матушка игуменья, часто беседовавшая с нею
о молитве, сказывала, что молитва не одна живет, а есть три степени молитвы:
первая степень — это «прошение» — просить Бога о чем-либо, о ком-либо, о себе,
о прощении гре-
117
хов, о душевном покое и т. д.; вторая степень, высшая — это
«благодарение» — благодарить Бога за то, что он дал нам жизнь и хлеб насущный,
и душевный покой, что он печется о нашем здоровье, что он все дает нам по
нашему «прошению»: это молитва человеческая; но есть еще высшая степень молитвы
— молитва ангельская: это — «славословие»: славословят Бога ангелы на небесах
да святые угодники. Этой же благодати удостоены иноки и инокини, потому что они
восприяли ангельский чин и носят ангельский образ. Монашествующие,
удостоившиеся высшей благодати — ангельского чина — должны только славословить
Бога, а просить и благодарить могут только за других. О чем им просить за себя?
Они все имеют, даже больше — они сопричислены к ангельскому чину!
Теперь только юная инокиня Надежда поняла
всю глубину поучений матушки-игуменьи. Ей хотелось не только благодарить — но
не за себя, а за него, что он жив, что он может жить; но ей теперь хотелось
славословить!
И она, радостная, сияющая, распростерлась
перед киотой, откуда глядел на нее кроткий лик Спасителя, и славословила,
славословила! Ей казалось, что она действительно стала ангелом, она трепетала
от счастья, поднималась с полу, поднимала к небу свои нежные руки, точно крылья
ангела, и, казалось, неслась в пространстве, неслась все выше и выше, такая
легкая, воздушная... Она чувствовала за собою веяние своих крыльев,
чувствовала, как она рассекала воздух своим легким телом — и славословила:
«Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы твоея!»
Это была какая-то детская радость, чистая,
невинная. Расплетенная коса опутала прядями всю ее белую сорочку; ее босые
ножки не чувствовали прикосновения к холодному полу; сорочка спустилась с
плеч...
Но вдруг она опомнилась. Она — босая, в
одной ночной сорочке, с распущенными и растрепавшимися волосами — она
славословит Бога! Ей стало и стыдно, и страшно. Матушка-игуменья говорила ей,
что на молитву надо приступать с благоговением и непременно в ангельском
одеянии, чинно. А она вскочила с постели чуть не нагая и как неистовая поднимала
руки, радовалась, трепетала от счастья, летела по небу!
Смущенная, она робко отошла от киоты,
оделась снова вся, как бы к выходу в церковь, причесала и заплела косу, надела
клобук и стала молиться смиренно, тихо, чинно.
118
Но и теперь внутру ее клокотала радость, и
она, сама того не сознавая, славословила Бога так же страстно, как и за
несколько минут перед этим, когда она была в одной рубашонке и босая.
Наплакавшись потом счастливыми слезами, она
уснула как ребенок, не успев даже вытереть мокрые глаза и щеки.
И какие грезы окутали ее спящую! Такого
высокого блаженства, такого счастья, от которого дух захватывал, она никогда не
испытывала в жизни... Что-то сладостное до истомы, до изнеможения...
Когда она потом утром проснулась и
вспомнила томительно-сладостные ощущения ночной грезы, когда ее, уже
бодрствующую, охватила эта истома, смутное сознание чего-то невыразимо
блаженного, совершившегося с нею, помимо ее воли, в сонном мечтании, в «тонце
сне», она вся вдруг зарделась от стыда и счастья — больше от счастья — вся
затрепетала... и расплакалась — расплакалась как ребенок, у которого отняли
что-то очень дорогое...
Она долго не могла встать с постели; ей не
хотелось покинуть сейчас это теплое ложе, где ночью, в сонном мечтании, она
ощутила что-то такое, чего с нею еще никогда не бывало в жизни... И это
ощущение, это блаженство он ей дал, он, и видимый и невидимый, и осязаемый и
неосязаемый...
Когда, затем, она встала, тщательно,
тщательнее чем когда-либо, причесалась, заплела косу, оделась в свое ангельское
одеяние и стала молиться, она молиться уже не могла, не умела — не умела и не
могла ни славословить, ни благодарить, ни даже просить. Она повторяла какие-то
слова, потерявшие для нее силу и смысл, и, распростершись на полу перед киотою,
думала только о нем: он здесь, в Москве, он так близко от нее.
Она приподнялась на колени и стала смотреть
на лик Спасителя — такой кроткий, милостивый. Она хотела думать только о
Спасителе: но его божественный лик мало-помалу затуманивался в какой-то дымке и
исчезал, а вместо него вставала ночная греза, сладостное видение...
В этом положении застала ее мать-игуменья.
Худая, маленькая, вся сморщенная старушка, но с живыми, серыми большими глазами
она, казалось, видела все насквозь. Она пришла навестить свою любимую духовную
дщерь, носившую прежде знатное, но суетное имя княжны Прозоровской. Вчерашний
обморок и испугал, и огорчил мать игуменью. Она знала, как усердна была к своим
обязанностям
119
юная инокиня Надежда, как горячо она всегда молилась в храме, какая
она была постница,— и старушка думала, что юная черничка, не привыкшая к
суровому монастырскому уставу, изнеженная в родительском доме, что она
испостилась и изнемогла.
— Молись, молись, дщерь моя,— сказала она,
входя в келию юной отшельницы и видя, что она встает с колен,— доканчивай
молитву.
— Я кончила, матушка,— сказала девушка,
подходя к руке игуменьи.
— Ну что, дитя мое, оправилась после
вчерашнего-то? — спросила старушка.
— Оправилась, матушка.
— Ну, и благодарение Создателю. Душно вчера
в церкви-то было, ты же усердно — я видела — молилась; ну и сомлела. Это Он
тебе зачтет, Отец небесный. Что наша жизнь? — тлен и прах: там наше житие, о
нем надо думать, о вечном житии.
Теперь почему-то юная черничка смотрела на
старушку с каким-то сожалением. Неужели вся ее жизнь протекла в этом? Неужели
она...
И девушка почувствовала в душе своей холод
— холод от этих стен, от окна с железною решеткой, от всего этого черного,
мрачного.
Когда игуменья ушла, девушке стало как
будто бы легче. Но это ненадолго.
Что-то холодное и безнадежное стало
шевелиться у нее в душе и расти, расти!.. Вчерашнее блаженное состояние прошло.
Тогда отуманило ее счастье сознания, что он жив, что она его видела. Но теперь
она начала сознавать, что потеряла его навсегда, потеряла радость и счастье всей
своей жизни. Для чего теперь ей жизнь? Чтобы ожидать той, другой жизни? Но для
нее теперь не было другой жизни, кроме этой, кроме той, от которой она, в
ослеплении горя, сама бежала. Но тогда она готова была убежать в могилу, не
только за эти мрачные стены. А теперь — вдруг все прошло! все, все — и не для
нее!
Где искать помощи? В молитве? Но после
вчерашнего молитвенного порыва она не могла больше молиться. Какою «степенью»
молитвы могла она теперь молиться? «Славословием»? Но вчерашнее уже не повторится
— оно прошло. Ей вчерашнего мало — ее душа требует большего. «Благодарением».
Но за что же ей благодарить? За то, что она сама оборвала нитку своей жизни?
Благодарить! Нет, и эта степень молитвы отнята у нее — но кем? Она сама ее
утра-
120
тила. Остается «прошение». Но о чем просить, когда ничего уже воротить
невозможно.
Где же помощь! к кому обратиться!
Она опять подошла к киоту и стала смотреть
на лик Спасителя. С какою тоской она смотрела на этот кроткий, всепрощающий
лик.
«Он всех прощал,— шевельнулось у нее в
душе,— простил разбойника, простил ту бедную жену, которую хотели побить
каменьями, а он простил ее за то, что она много любила...»
И она любит!
Девушка с ужасом поняла, что теперь
монастырь стал для нее ненавистен. И так быстро совершился этот переворот в ее
душе! Она ненавидит его, как тюрьму, лишившую ее света, счастья. И чем дальше,
тем больше она будет грешить этим чувством. Все равно душа ее погибнет — в
монастыре ли, или вне монастыря.
Но там, вне монастыря — он, который пришел
вчера с того света, а ночью приходил к ней в видении, «в тонце сне». Там он и
наяву придет, как тогда приходил к ней в сад, когда пел соловей и распускалась
береза.
Девушка подошла к окну своей кельи, которое
выходило на Девичье поле. Перед нею вставал Кремль, золотые маковки церквей, а
там, невидимо, на Арбате — их дом, ее девичий терем, сад... Сирень теперь давно
отцвела, и соловей, и кукушка давно перестали петь...
Она отошла от окна и, припав лицом к
подушке, горько плакала.
Но вдруг она увидела себя в церкви... он
глянул ей в глаза... Как он похудел и постарел за то время, как она его не
видела! Не радостно и ему жилось...
Она услышала шорох за дверью. Вздыхая и
крестясь, в келью вошла ее бывшая мамушка. Что-то родное, далекое, навеки
потерянное напомнил ей этот приход старушки — и дом отца, и ее светлый теремок,
и тенистый сад со скамейкою, на которой он когда-то с нею сиживал.
Старушка с благоговением целовала руки
своей боярышни.
— Что, мамушка, у нас дома? что батюшка? —
спросила юная затворница.
Старушка еще глубже вздохнула.
— Что, ягодка! чему у нас быть хорошему?
Тот же монастырь,— сказала она.
— А батюшка?
— Все то же — кручинится: осиротел он, как
перст один без тебя.
121
— А матушка и братцы не приезжали?
— Нету, родная; да они словно чужие для
него.
Девушка хотела что-то спросить, но не
решалась. Ей все же хотелось заговорить о том, что ее терзало. Она заговорила
стороной.
— А я, мамушка, вечор у всенощной сомлела,—
сказала она.
— Господь с тобой!— встревожилась
старушка.— С чево это, ягодка?
— Должно быть, от жару и ладанного духа...
Я так с блюдом и грохнулась... И как бы ты думала, знаешь, кого я увидела в
церкви?
— Ково, золотая моя?
— Воина Афанасьича... Я, может, с тово и
сомлела: сказывали допреж того, что он пропал без вести — либо помер, либо убит
— так и поминали его... Каково ж мне было увидать его, мертвеца-то, да прямо
пред моими очушками! Я не опомнилась, как меня и из церкви-ту вынесли.
Мамушка в знак сожаления качала головой и
охала; но для нее не было новостью, что молодой Ордин-Нащокин отыскался. Ее
тревожила мысль, как ее боярышня-черничка примет это известие.
Теперь она поняла, почему боярышня ее
«сомлела» вчера... Теперь быть беде! Как-то она, голубушка, перенесет это?
Затем старушка и явилась в монастырь.
— Не след было ему приходить сюда! —
сказала она строго.
— Для чево ж, мамушка, не придти и сюда?
Никому не заказано молиться.
— Не заказано-ту не заказано,— качала
укоризненно головой старушка,— да только смущать-ту чистую душеньку грех — ох,
грех какой!
— Да это, мамушка, я испужалась только
сразу, а вдругорядь не испужаюсь.
— А думать станешь — мысли пойдут
мирские...
— Что ж, мамка, о мирском-ту и молиться.
— О! охо-хо!—качала головой мамка.—
Смущать-ту грех.
Юная черничка в душе не соглашалась с этим.
Как! отказаться даже от того, чтобы его видеть иногда, когда можно! Одно, что
осталось у нее,— это видеть его, как видеть иногда вот ее, мамку, отца — и
вдруг отказаться даже от этого!
Но она не знала, что теперь, правда,
достаточно только видеть его иногда; но скоро этого будет недостаточно. Она
122
не знала, какое зерно заброшено было вчера в ее душу, что вырастет из
этого зерна...
«Нет, нет! только бы видеть его! только бы
знать, что он...»
С большой тревогой старушка возвращалась из
монастыря в город.
XVIII. Она больше не черница
Не в меньшем волнении, как и юная черничка,
возвратился от всенощной Воин Ордин-Нащокин. Только волнение его было иного
рода. После мгновенной радости и потрясения, какие испытал он в момент встречи
с бывшей невестой, когда она узнала его и от радости или от неожиданности упала
в обморок, им овладело глубокое отчаяние. Этот обморок доказал ему, как много
она любила его, а может, и теперь любит. Что ж ему из этого? Сознание, что она
любит его, еще более увеличивало в глазах его цену понесенной им утраты.
Страдания, причиняемые этим сознанием, усугублялись еще мыслью, что его
тогдашняя безумная вспышка столкнула его в бездну отчаяния. Что тогда стоило
выждать месяц, другой, наконец, целый год при спокойной уверенности, что
ожидаемые им минуты полного блаженства только отсрочены? А что он сделал? В
ослеплении минутной страсти он сам разбил свое счастье. Он тогда бросил ей в
глаза не заслуженный ею укор: «жди другого суженого!»
И она нашла его под саваном черницы...
Что ж ему оставалось теперь делать? Тогда
впереди у него было что-то — много было впереди! Видеть чужие земли, все чудеса
заморщины, сбросить с себя родительскую опеку, забыть на время постылую Москву:
целый океан неизведанного был у него тогда впереди! И он изведал все это и
кончил тем, что плакал в гондоле, в Венеции, когда вспоминал об этой самой
Москве, о брошенной в ней невесте, и пел «не белы снежки», глотая слезы
раскаяния.
И вот теперь... Нет, так оставаться нельзя!
Теперь для него Москва — пытка: от нее так близок Новодевичий монастырь!
123
Теперь надо стараться забыть ее,
похороненную в стенах монастыря. А как забыть? где?
Он теперь знал где: там, где люди умирают
под гром пушек, под крики победы, под свистом пуль и стрел. Он пойдет туда — к
запорожцам, к Брюховецкому, к Косагову, что воюют теперь с поляками, его лютыми
врагами, отравившими ему жизнь своею польскою наукою, отнявшими у него счастье,
любовь к родине.
А сложит он там голову — тем лучше! Слишком
уж тяжело стало носить ее на плечах. Да и кому она нужна? Отцу? У него на
плечах государские заботы. Ей? Все равно ей не обнимать уж, не целовать эту
буйную головушку, как когда-то она целовала ее.
На другой же день он сказал о своем решении
отцу. Старика удивило это внезапное решение: всего дней пять как воротился из
долговременной отлучки, после скитания по чужим землям,— и вдруг опять покидать
Москву!
— Хочу заслужить вины мои пред государем!—
одно твердил он на все доводы отца.— Либо лягу костьми в поле ратном, либо со
славою возвращусь, дабы тебе не краснеть за блудного сына.
Решение это в то же время и радовало
старика... «На путь истинный возвращается малый»,— думал он и доложил об этом
государю.
И Алексея Михайловича обрадовало это
решение молодого человека. Он полюбил его как сына, особенно после его
чистосердечного раскаяния в своем опрометчивом проступке. Отца же, старика
Афанасия, он давно любил и высоко ценил его государственный ум.
Он велел Воину явиться к нему — попросту,
не во время смотра и купанья запоздавших стольников, а в его образную и в то же
время рабочую горницу, по-нынешнему — в свой кабинет, смежный с молельною
государыни.
Царь принял Воина милостиво, хвалил за
доброе решение.
— Хощу вины свои заслужить пред тобою,
пресветлый государь! — повторял и здесь то же самое Воин, что говорил и отцу.—
Либо положу свою голову в ратном поле...
— Зачем же? — ласково перебил его государь,
любуясь мужественной его осанкой.
— Батя! ты знаешь — мы от рода римского
кесаря Августа...
Это стрелой влетела в отцовскую рабочую
горницу царевна Софья, думая, что отец у себя один — и остолбене-
124
ла, вся вспыхнув: серебристый голосок ее оборвался
на «Августе».
Она стояла с тетрадкою в руках, как зайчик,
застигнутый врасплох.
Воин низко поклонился ей.
— Что? что?— с любовною улыбкой глядел на
нее Алексей Михайлович.— От рода кесаря Августа, говоришь?
— Да, батюшка государь,— несколько
оправившись от смущения, проговорила она и взглянула на Воина.
Заметив, что статный молодой человек
любуется ею, она стала смелей.
— Откудова ж ты это узнала, всезнайка?—
спросил отец, продолжая любоваться девочкой.
— А вот в этой книге написано,— прозвенела
она и подошла к отцу,— вот, читай: «выписано из жития преподобного Нила,
Столбенского чудотворца...»
— Ну, читай ты, у тебя глазки лучше моих, а
туту так бледно написано,— сказал Алексей Михайлович, гладя головку дочери.
— Вот! — И Софья прочла: — «Прииде во
обитель преподобнаго Нила»... Ах! — остановила она себя.— Не с того листа
начала... Это о некоей девице, не о кесаре Августе...
Алексей Михайлович рассмеялся и повернул
девочку лицом к себе.
— Ты что-й-то путаешь, торопыга.
Софья вспыхнула: она не хотела показаться
смешной перед молодым человеком, который ей нравился, когда она была еще совсем
«чюпишная», а теперь ей почти четырнадцать лет.
— Нет, не путаю! — она перевернула лист.—
Вот: «Грань десятая, глава вторая. В лето проименитого и самодержавного царя и
великого князя Владимера, просветившего всю российскую землю святым крещением,
в храбрости великого князя Святослава, внука самодержавного Игоря и
достохвальные в премудрости блаженные великие княгини Ольги правнука
Рюрекова...»
— Рюрикова,— поправил ее отец.
— Нет, Рюрекова! — настаивала упрямая
девочка.— Туту написано! Смотри.
— Ну, добро,— согласился отец.— Читай
дальше.
— «...первовладествующего в Великом
Новгороде и во всей русской земле, не худа рода бяху и незнаема, но опаче
проименитого и славного римского кесаря Августа, обла-
125
дающего всею вселенною, единоначальствующего на земли, во время
первого пришествия на землю Господа Бога Спаса Нашего Иисуса Христа, иже нашего
ради спасения изволи родитися от без… от безневестныя»...
Девочка остановилась и вопросительно
посмотрела на отца.
— Что это такое «безневестныя»?— спросила
она.
— Это так Богородицу величают,— отвечал
Алексей Михайлович.
— Для чево ж «без невесты»? — недоумевала
Софья.— На чтой ей невеста?
— Ну, ин читай дальше! — перебил ее отец.
— «От безневестныя,— покорно продолжала
юная царевна,— и пресвятыя и приснодевы Марии».
— Воистину так: при римском кесаре
воплотися Сын Божий — при Августе,— заметил Алексей Михайлович.— А вот Воин и
сам был в Риме,— указал он на молодого человека.
Юная царевна так, кажется, и облила его с
головы до ног светом своих ясных глаз. Воин скромно улыбнулся.
— Точно... сподобился... был в Риме и
лобызал каменные ступени лестницы дома Пилатова, по ней же сводили на пропятие
Спасителя,— пояснил он.
— А разве она в Риме?— удивился Алексей
Михайлович.
— В Риме, государь,— отвечал Воин,— ее
перенесли из Ерусалима крестоносные рыцари.
— Эка святыня какая, Господи?— покачал
головою царь.— Ну, что ж кесарь Август? — обратился он к царевне.
Та в это время так и пронизывала своими
лучистыми глазами молодого Нащокина. «Шутка ли! в Риме был, вон этими губами
целовал лестницу Пилатову, следы Христовых ножек»,— казалось, говорили ее
глаза.
Слова отца заставили ее опомниться. Она
нагнулась к книге.
— «Сей кесарь,— начала она снова читать,—
Август раздели вселенную братии своей и сродником, ему же быша присный брат,
именем Прус, и сему Прусу тогда поручено бысть властодержательство в березех
Висле реке граде Мовберок * и Турок **-Хваница (?) и преславный
___________
* Малборк, Мариенбург.
** Торун, Торн.
126
Гданск, и иные многие городы по реку глаголемую Неман, впадшую, иже
зовется и поныне Прусская земля; сего же Пруса семени отъяша вышереченный Рюрек
и братия его; егда еще живяху за морем, и тогда варяги именовахуся и из-заморья
имаху дань на чюди, то есть на немцех и на словянех, то есть на новгородцех, и
на кривичех, т. е. на торопчанех» *.
Кончив чтение, Софья Алексеевна с
торжествующим видом посмотрела на отца и на молодого Ордина-Нащокина.
— Так вот откудова мы родом,— улыбаясь,
сказал Алексей Михайлович,— а я думал, что мы простого роду; а оно вон куда
махнуло — в родню с кесарем Августом! Не махонька у нас роденька! А где ты
взяла эту книгу? — спросил он.
— Симеон Ситианович Полоцкой принес мне,—
отвечала царевна.
— Балует он тебя, я вижу.
— А потому балует, что я хорошо учу все
уроки.
— Добро, добро! Ты у меня умница. Иди же к
матери.
Алексей Михайлович погладил дочь по
головке, и царевна, поцеловав у отца руку, вышла из горницы, с улыбкой кивнув
головой Воину.
Скоро государь отпустил и этого последнего,
пожаловав к руке и пожелав ему счастья на ратном поле.
Три дня Воин лихорадочно готовился к
отъезду: выбирал лошадей, накупал нового оружия, заказывал дорожное и боевое
платье.
А на душе у него было очень тяжело. Хотел
он было еще раз съездить в Новодевичий монастырь ко всенощной, но решимости не
хватило: «увижу ее — и все прахом пойдет»...
На четвертый день утром, когда отец заседал
в царской думе, Воину доложили, что его желает видеть монашка из Новодевичьего.
Сердце у него дрогнуло при этом слове. Но он велел впустить: «за сбором, должно
быть, на монастырь».
Но сердце у него так и колотилось. Он
встал...
В дверях стояла она в своем монашеском
одеянии — бледная, бледная...
__________
* Из старинной рукописи, принадлежащей
автору, а прежде принадлежавшей
«лейб-гвардии» Преображенского полку бонбордирской роте от мушкатер
каптенармусу Михайле Голенищеву Кутузову». (Прим.
Д. Л. Мордовцева.)
127
Он протянул к ней руки. Она бросилась к
нему да так и повисла у него на шее.
— Милый мой! суженый мой!— шептала она и
плакала.
Он сжимал ее в своих объятиях.
— Милая! Наташечка! да как же ты?
— Я совсем к тебе, совсем! и до гробовой
доски! Я твоя... бери меня как знаешь... в жены, в полюбовницы... все равно я
пропала, погубила мою душеньку... Я только твоя, твоя!
— А монастырь?
— Не черница я больше! не Надежда! Я твоя
Наташа! твоя вся! вся!
Он ласкал ее, шептал всевозможные нежные
слова, целовал ее светло-русую головку...
Клобук ее упал с головы на пол. Она больше
не черница...
XIX. Любовь Стеньки Разина
Прошло три года.
Был конец августа 1668 года. На Волге, у
астраханской пристани, стояла многочисленная флотилия речных и морских судов —
«стругов». Было уже поздно. Темная южная ночь давно стояла над Волгой и
городом; мерцавшие в небе звезды показывали уже время к полуночи, а между тем в
Астрахани было, по-видимому, очень шумно: оттуда доносились веселые голоса,
подчас слышалось пение, говор, и от времени до времени ночной воздух потрясаем
был пушечными выстрелами с крепостных башен.
При каждом таком выстреле ходивший взад и
вперед по одному стругу казак останавливался, прислушивался и скучающим голосом
проговаривал:
— "Ишь, черти, загуляли, а ты тут
слоняйся, как уток по верстатью!
В Астрахани действительно гуляли.
Астраханский воевода, наш московский знакомый, князь Семен Васильевич
Прозоровский, справлял именины своей любимой дочери Натальи, которую мы
покинули в Москве, три года назад, уже не Натальею, а инокинею Надеждою.
128
Это и был Натальин день, 26 августа.
Князь Прозоровский назначен был
астраханским воеводою недавно — менее года тому назад. Теперь у него шел пир
горой. Да и неудивительно: он очень любил свою белокуренькую Наталью, а с
другой стороны, он принимал у себя сегодня редких, дорогих гостей. Главным и
почетнейшим гостем был славный атаман вольных донских казаков Степан Тимофеевич
Разин. Он недавно только воротился с своею флотилиею и казаками из морского
похода. Слава его громких подвигов наполнила уже всю Россию, и хотя эти подвиги
сильно озабочивали московское правительство, однако до поры до времени оно
принуждено было не только не показывать своего неудовольствия удалому атаману,
предводителю буйного казачества, но как бы и поощрять его подвиги «великого государя
милостивыми грамотами».
Действительно, в один год Степан Тимофеевич
успел показать, на что он способен. Едва он вышел с своими молодцами с Дону на
Волгу и основался ватагой на знаменитом «бугре», как тотчас же разбил весенний
караван судов, направлявшихся в Москву с казенными патриаршими товарами и
товарами частных лиц, а также с партиею арестантов; начальника стрелецкого
отряда, следовавшего с караваном, приказал изрубить в куски, как барана на
шашлык, судового приказчика и трех служащих — повесить, арестантов —
освободить, чем и сделал их своими слугами, готовыми за него в огонь и в воду.
Потом Степан Тимофеевич уже на тридцати трех стругах, пополненных, сверх своих
казаков, еще и стрельцами, вышел в Каспийское море, оттуда рекою Яиком дошел до
Яицкого городка и обманом взял его, а взявши — велел тамошнему стрелецкому
голове, начальным людям и «несогласным» стрельцам поотрубать головы, ушедших же
из Яицкого городка — тоже порубить и потопить. Дальше — разгромил кочевых татар
у устья Волги и ограбил турецкое судно. Астраханскому воеводе, князю Хилкову,
предшественнику князя Прозоровского, присылавшему к нему просить, чтоб он
отпустил и стрельцов и всех своих пленников, велел сказать:
— Коли-де придет ко мне великого государя
милостивая грамота, тогда отпущу, а теперь не пущу никого.
Когда же князь Прозоровский послал к нему с
той же просьбой двух пятидесятников стрелецких, то одного из них, «грубиана»,
Степан Тимофеевич убил, а другого отпустил живым, но ни с чем.
129
Затем Степан Тимофеевич с своими молодцами
опять вышел в море и на этот раз уже громил прибрежные владения шахов
персидских, потомков царей Кира, Камбиза, Ксерксов и Дариев. Мало того, он
послал в Испагань трех молодцов в качестве своих послов, которые и были приняты
с честью. А между тем сам Степан Тимофеевич успел уже взять город Фарабад,
разграбить его, сжечь до основания, разорить увеселительные дворцы шаха,— и все
это в ожидании возврата своего почетного посольства. Но молодцов скоро
раскусили в Испагани,— и шах отправил против Степана Тимофеевича флотилию из
семидесяти судов.
— Плевое дело! — сказал Степан Тимофеевич
своему есаулу, Ивашке Черноярцу.— Ребята! громи их!
И ребята разгромили флотилию. Адмирал,
командовавший ею, астиранский хан Менеды, бежал с позором, оставив в добычу
Степану Тимофеевичу красавицу тринадцатилетнюю дочку Заиру и сына Рустема.
Когда юную полонянку привели к Степану
Тимофеевичу, он, грубый и сильный, человек железной воли и стальных нервов,
онемел от изумления: он даже не подозревал, чтобы на земле могла существовать
такая поразительная красота! Это смешение чего-то нежного, как лилия, с огнем,
с огненным темпераментом, сверкавшим в черных огромных глазах, это личико
ребенка с пышною черною косою, гибкость и упругость юных членов, невыразимая
грация в движениях — все это отуманило буйную голову атамана. Он полюбил ее
всею силою своей огневой души: тигр по природе, он сделался кроток и робок с
своею пленницей.
— Ребята! — сказал он своим молодцам. —
Ежели кто дотронется до нее пальцем, хоть ненароком, не до нее, а хоть до края
ее одежды,— того я зарежу. Знайте это!
И он убрал ее горенку на своем струге с
неслыханною роскошью: золото, серебро, жемчуга, алмазы, парчи, атлас — все
награбленные сокровища брошены к маленьким ножкам Заиры.
И сам Степан Тимофеевич стал другим
человеком. Молодцы не узнавали его. По целым часам он сидел в горенке своей
красавицы и выходил оттуда сначала мрачный и задумчивый, а потом все светлее, и
радостнее, и ласковее ко всем. Кровь, которую он прежде проливал, как воду,
теперь стала для него противна. Он прекратил разбои. Что-то мягкое и тихое
стало проглядывать в чертах энергического лица. Казалось, он теперь стыдился
того, что прежде считал своею славою. В нем, казалось, опять проснулся тот
человек, который пешком прошел чрез всю Россию, от
130
устьев Дона до Ледовитого океана, чтоб только помолиться и поплакать
над могилами соловецких угодников.
В это лето Каспийское море было очень
спокойное — ни бурь, ни ветров, и казацкая флотилия иногда по целым неделям
стояла в открытом море неподвижно. В тихие, теплые вечера казаки часто пели
свои грустные, мелодические песни о «тихом Доне», о раздольных степях, о
разлуке с милыми.
В это время они часто видели, что их
атаман, теперь такой тихий и кроткий, выходил вместе с своею юною пленницей из
ее роскошной горенки, и по целым часам в стороне от всех они сидели вдвоем,
тихо разговаривая или любуясь зеркальною поверхностью моря, в котором
отражались звезды. Заира умела говорить по-русски, потому что с детства за нею
ухаживала любимая рабыня ее отца, русская полонянка из казачек. В эти тихие
вечера, под грустное, мелодическое пение своих молодцов, укрощенный чистою
любовью тигр, их «батюшка атаманушка» Степан Тимофеевич, рассказывал Заире о
своем родном Доне — что и там такое же голубое небо, как и у них, в Персии, что
и звезды, которые она видела с детства в родной Астирани и в Испагани, такие же
и на Дону, над его тихими водами и над широкими полями.
Сначала робкая и часто плакавшая, теперь
Заира, по-видимому, свыклась с своим положением. И неудивительно: теперешнюю
свою жизнь на море она уже не хотела бы променять на прежнюю, когда она
затворницей жила в отцовском серале. Она полюбила своего кроткого и ласкового,
подчас бурного в своих ласках, повелителя: он теперь заменил для нее весь мир.
Она прежде не знала, что такое любовь, а теперь она полюбила первою, чистою и
нежною, как она сама, любовью. Зачем же ей Персия, отец, все, что не могло ей
дать того, что дал ей вот этот самый сильный, как лев, и кроткий, как ее
египетский голубь, мужчина, этот грозный атаман, победитель ее отца и самого
шаха? Он повезет ее на Дон; он бросит свои разбои и будет атаманом вольного
Дона. Он сам говорил ей это, а она, положив свою детскую головку на его плечо,
жадно слушала своего богатыря, как она его называла, а он тихо гладил и целовал
ее шелковистые волосы. Любовь действительно переродила его.
Вот почему, когда князь Прозоровский выслал
против него своего товарища, князя Львова, с отрядом стрельцов и когда князь
Львов, не уверенный в успехе, послал к Разину парламентера сказать, что если он
возвратит захва-
131
ченные им на Волге суда и казенные пушки, а также уведенных с собою
служилых людей и пленников, то может свободно воротиться на Дон с своими
молодцами,— вот почему это страшилище, переродившееся под ласками обожаемой
девушки, смиренно склонило перед князем Львовым свою гордую голову: Разин
присягнул на кресте и евангелии, что навсегда бросает ненавистные ему разбои, и
с своей ватагой явился в Астрахань.
Вместе с есаулом и другими казацкими
старшинами Разин сошел с своего струга и направился в город, прямо в приказную
избу. Заира долго стояла на борту атаманского струга и любящим взором провожала
прирученного ею тигра: она так любила его!
В приказной избе, где его ждали князь
Прозоровский и князь Львов с другими властями города, Разин смиренно положил на
стол свой бунчук — «насеку», знак атаманской власти: этим он изъявлял полную
покорность.
— Повинную голову не секут,— сказал он
кротко со вздохом.
Князь Прозоровский и все бывшие в избе
глазам не верили, чтоб это был тот ужасный человек, перед которым все
трепетали. Даже во взоре его было что-то мягкое и задумчивое.
«Дивны дела твои, Господи!» — шептал князь
Прозоровский, всматриваясь в этого непостижимого человека.
XX. Клевета
Вот почему сегодня, в Натальин день, князь
Прозоровский с таким торжеством праздновал именины своей любимицы Натальи: он
принимал у себя такого дорогого гостя, которому рад бы был и царь Алексей
Михайлович — таким страшным стало на Руси его имя! — и вдруг он — такой
покорный, смирный, ласковый, обходительный.
Одно всех удивляло на этом пиру: Разин,
который прежде предавался буйному разгулу, которому понятны были только два
наслаждения — резня и попойки,— этот Разин теперь почти ничего не пил.
132
Его угощала из своих рук сама княгиня,
мачеха княжны Натальи, взятая мужем обратно из ее деревенской ссылки вместе с
сыновьями, когда князя послали на воеводство в Астрахань,— и Разин благодарил
любезную хозяйку, но пить — почти не пил.
— Аль в монахи постригся, Степан
Тимофеевич? — улыбалась княгиня.
— Точно, матушка княгиня, хочу свой
маленький скиток завести,— уклончиво отвечал Разин.
Но это не мешало другим гостям пить и
веселиться. Пили здравицы — и каждую такую здравицу сопровождали пушечные
выстрелы с крепостных башен, потому что за окном, где происходил пир, стояли
махальщики с зажженными факелами, которыми и передавали сигналы на крепостные
башни. Пили за здоровье царя, царицы и всей царской семьи. Пили здравицу всему
«тихому Дону» и отдельно — «славному сыну его — Степану Тимофеевичу».
С необыкновенным женским чутьем княгиня
Прозоровская догадалась, однако, что происходило в душе их дорогого
необычайного гостя, с известием о покорности которого уже поскакал гонец от
астраханского воеводы в Москву к царю Алексею Михайловичу. Княгиня заговорила с
ним о его молоденькой пленнице.
— Она, чаю, бедненькая, скучает теперь там
одна на струге,— сказала она.
— Нет, матушка княгиня, она привыкла,—
отвечал Разин.
— А все ж, чаю, плачет по отцу, по матери.
— Поплакала малость прежде, а ноне нет.
— Ах, глупая я!— спохватилась княгиня.— И
невдомек мне послать ей гостинца.
Разина это, видимо, тронуло. Княгиня же
между тем взяла серебряный поднос, наложила на него прекрасных груш, винограду
и других, большею частью восточных, сластей: кишмишу, рахат-лукума, изюму,
винных ягод и пр.
Тогда Разин подозвал своего персидского
толмача, Хабибуллу, который был в числе его послов у шаха, приказал отнести
поднос с гостинцем на его струг и вручить от имени княгини Заире Менедовне, как
он называл свою пленницу при других.
Черные восточные глазки Хабибуллы почему-то
блеснули радостью, когда он принимал поднос из рук княгини.
— Кто идет? — раздался оклик с атаманского
струга, когда в темноте на его сходни стала подниматься какая-то темная фигура.
133
— Это ми, Хабибулла с гастынцам,— отвечал
гортанный голос.
— А! это ты, Хабибулка! с каким гостинцем?
ко мне?
— Нэт, Иван Петровичам, не тебе, а ханым
Заир Менеды.
— Какой гостинец?
— Кишмиш, инджир, рахат-лукум, грушам.
— От кого? от батюшки Степана Тимофеевича?
— И от батушка, и от матушка.
— От какой матушки?
— От самово княгин, от матушка воеводиха.
— А что атаман?
— Атаман скучил, ничаво не едил, ничаво не
пил, толка хадыл и молчил.
— А наши ребята пьют здорово?
— Ай-ай как пиют! всо большим кавшам.
Это разговаривали посланный Разиным к Заире
с фруктами и другими сластями его толмач, персианин Хабибулла, и есаул Разина,
Ивашка Черноярец, остававшийся на атаманском струге в качестве охранителя
прекрасной персианки.
— А что ханым скучил адын без батушка? —
спросил Хабибулла.
— Вестимо, скучает,— отвечал есаул.
— Тэперь нэ будыт скучил.
И Хабибулла направился к роскошно убранной
горенке Заиры, откуда светился огонек.
Заира сидела на богатом персидском ковре с
брошенными на него шитыми шелками подушками и играла с маленькой белой собачкой,
которую она учила служить на задних лапках.
Робко вошел в уютную светличку Хабибулла и,
припав на одно колено, поставил перед Заирой поднос с фруктами.
— А это ты, Хабибулла,— сказала персианка
на своем родном языке.— От кого это?
— От княгини, от супруги воеводы,— отвечал
Хабибулла тоже по-персидски и приложил руку ко лбу и к сердцу.
Прелестное личико Заиры зарумянилось. Она
поправила на шее нитку жемчугов и в смущении спросила:
— А разве княгиня меня знает?
— Вероятно, знает от батюшки Степана Тимофеевича,—
был ответ.
— А что батюшка атаман? — спросила девушка.
134
— Он скучает — ничего не пьет, не ест, как
ни увивается около него княгиня.
Это известие, видимо, встревожило девушку.
Она как-то вся встрепенулась.
— Скучает, говоришь? — с боязнью спросила
она.
— Скучает, ханым.
— Отчего же? не болен ли он? ты не заметил?
— продолжала тревожно спрашивать девушка.
— Этого, ханым, не заметил,— уклончиво
отвечал персианин,— а замечаю только, что у нас, с приездом в Астрахань, что-то
не ладно пошло дело.
— А что? разве воевода сердится?
— Нет, ханым, не воевода, а его жена,—
загадочно отвечал Хабибулла.
— Что его жена? она сердится? — живо
заговорила девушка.
— Да, и сердится, и льнет к нему, как
гурия,— был ответ.
Этот ответ еще более встревожил Заиру.
— А она молоденькая? хороша собой?
— И молоденькая, и красавица.
Розовые щечки Заиры мгновенно покрылись
бледностью. Она, как раненый тигренок, вскочила с ковра. Глаза ее горели.
— Говори все, что знаешь! — схватила она за
руку Хабибуллу.— Говори! Он знал ее прежде?
— Знал, ханым,— угрюмо отвечал персианин.
— И?.. говори же! говори все! — страстным
шепотом настаивала девушка.
— Что мне говорить!.. Известное дело... Они
спознались раньше... воевода стар.
Бедная девушка упала на ковер и горько
заплакала, уткнув свое личико в подушку.
У Хабибуллы глаза сверкнули плотоядным
огнем. Он стал перед девушкой на колени и, нагнувшись к ней, страстно шептал:
— Не плачь, ханым, не печалься, звезда
Востока. Я отвезу тебя домой, в Персию, к отцу. У меня уже и буса изготовлена и
снаряжена — богатое и прочное судно, которое и доставит нас в Персию. Завтра же
ночью мы и бежим отсюда. Завтра атаман назначает пир у себя на струге — зовет к
себе в гости и воеводу с женой...
— С женой? — как ужаленная вскочила девушка
с подушки.
135
— Да, с женой,— отвечал соблазнитель.— Так
ты сделай вот что, жемчужина Востока: русские любят, чтоб на пиру их угощали
жены хозяев. Ты здесь хозяйка — ты и угощай их завтра. Завтра атаман будет
пить, потому что если хозяин не пьет, то и гости не будут пить. Атаман должен
будет пить — и напьется пьяным. Казаки все перепьются и уснут. Уснет и атаман
как убитый. Тогда я тихонько приеду в лодке и возьму тебя на мою бусу. А чтоб
за нами не было погони — я и это устроил. Я подкупил одного персианина, моего
приятеля, который послезавтра, когда мы уже будем далеко от Астрахани, придет
сюда на струг и объявит, что ночью он видел, как с атаманского струга какая-то
женщина бросилась в Волгу и утонула, что он кричал, чтоб со струга ей подали
помощь, но со струга никто не откликнулся — все спали мертвым сном; что он сам
отыскал у берега лодку и бросился искать утопленницу, но так и не нашел — она
пошла ко дну. Так бежим, солнце Востока? Все равно, атаман разлюбил тебя,
променял на прежнюю возлюбленную.
Девушка опять горько заплакала, уткнувшись
личиком в подушку. Хабибулла утешал ее как маленького ребенка — гладил ее
головку, говорил нежные слова, тешил ее возвратом на родину.
Неопытная как младенец, она на слово
поверила хитрому и своекорыстному обманщику, и ее охватило чувство полной
беспомощности. Она очутилась одна вдали от родины. Брата ее, взятого в полон
вместе с нею, Разин давно отправил назад к отцу, так как мальчик очень тосковал
по родине. Девушка же с детскою верою и с детскою нежностью привязалась к
атаману, который был с ней так добр и ласков — добрее и ласковее отца; она
скоро полюбила его первым, беззаветным чувством молодости, сосредоточила на нем
весь свой мир,— и вдруг! этот ее кумир обманывал ее: он любил другую.
Что же ей остается? бежать от него? Но она
не в силах это сделать: она любит его, он для нее все.
Но вдруг в ней зашевелилось сомнение в
искренности слов Хабибуллы. А если он обманывает ее для своих целей, чтоб
получить богатый выкуп от отца? К ней воротилась надежда, и она со всею
страстью южного темперамента бросается на шею Хабибулле.
— Именем Аллаха и его пророка умоляю тебя —
скажи: ты пошутил? ты выдумал на атамана? Он не любит этой русской женщины? —
порывисто шептала она.
И Хабибулла страстно ласкал ее...
136
Но если б только он видел, что с самого того момента, как он вошел к
Заире, Ивашка Черноярец змеей подполз к освещенному окошечку Заириной каюты и
все видел, и все слышал, что там делалось и говорилось,— он окаменел бы от
ужаса.
Ивашка знал персидский язык — и все
слышал...
Разин воротился с воеводской пирушки очень
поздно. Его встретил есаул Ивашка, и, отведя в сторону, долго шептал ему
что-то. Движения, которые делал атаман, слушая своего есаула, и порывистое
дыхание его богатырских легких обнаруживали, что он глубоко взволнован.
Войдя потом осторожно в горенку Заиры, он,
при свете сильно нагоревших восковых свеч канделябры, увидел, что девушка,
горько наплакавшись, уснула тут же на ковре невинным сном младенца. На длинных
ресницах ее еще блестели слезинки. Рядом с нею спала собачка — и та не
проснулась.
Разин стал перед нею на колени и с глубокой
нежностью и тоскою долго смотрел на милое личико ребенка.
Из Астрахани доносился одинокий гул
церковного колокола: то на соборной колокольне били полночь. Было тихо кругом.
Слышно было только, как журчала волжская вода под килем струга и плескалась
около его крутых боков.
Разин с нежностью трижды перекрестил спящую
девушку, с глубокой мольбою поднял глаза к небу, встал с ковра, тихо потушил
свечи канделябры и неслышными шагами вышел в свою каюту.
XXI. «На ж тебе— возьми!»
На другой день все заметили, что атаман был
как-то особенно задумчив. Иногда он встряхивал своей курчавой головой, как бы
отгоняя от себя докучливую мысль. То иногда подолгу останавливался у борта
своего струга и как бы бесцельно глядел куда-то вдаль, ничего не видя.
Он, однако, с утра отдал приказание своему
есаулу, Ивашке Черноярцу, все приготовить для предстоящего
137
пира, так как он ожидает к
себе в гости воеводу, князя Прозоровского, его товарища, князя Львова, и некоторых
других представителей власти.
— Чтобы пир был на славу! — сказал он.
Вчерашнее сообщение о подслушанном им у
Заиры и о том, что он вообще видел, глубоко поразило Разина. Конечно, он далек
был от мысли, чтобы его маленькая Заира была не искренна, чтобы она обманывала
его,— он этого никогда бы не допустил! Она такой ребенок! так наивна в своих
ласках и признаниях, так неопытна. Но это же самое может и отнять ее у него, а
он так полюбил этого ребенка. Ведь она же, по-видимому, не понимала вчера,
какие чувства заставляли Хабибуллу утешать ее, гладить по головке, обнимать;
она принимала эти утешения и ласки мужчины, как ласки няни. Но в ней могла
проснуться от этих ласк и женщина, как она проснулась в ней от его ласк,— и все
это будет в ней невинно, искренно, и сама она не сумеет дать себе отчета в
своих чувствах. Как ему обвинить ее за это? как обвинить ребенка, который
тянется к огню, не зная, что такое огонь!
И как же после этого на такой зыбкой почве
основывать свое счастье!
Теперь Разин только в первый раз задался
этой мыслью. Конечно, мысль эта в душе казака слагалась в иной форме. Но он в
данном случае думал так же логически, как и всякий другой умный человек думал
бы на его месте: человеческая логика и в XVII веке
доходила до известных умозаключений тем же путем, как и теперь, особенно же в
области чувства. А Разин был, бесспорно, умный человек, богато одаренная
натура, которая, смотря по обстоятельствам, могла быть направлена и на
величайшее добро, и на величайшее зло.
Случайная любовь к такому невинному,
чистому созданию, как Заира, повернула его на добро, разбудила в его богатой
душе лучшие, благороднейшие ее силы. Он разом сделался добр, мягок,
возненавидел жестокость, грубость. Он перестал пить.
И вдруг вчерашний случай чуть не разбудил в
душе прежнего Разина-зверя. Он шел в каюту своей милой девочки, чтоб растерзать
ее за одно прикосновение к презренному татарину-ренегату. Но когда он увидел ее
невинное спящее личико с остатками слез на ресницах, он стал перед нею на
колени и с материнской нежностью и благоговением стал крестить ее.
138
Что же будет дальше? Неужели для такого
непрочного хрупкого счастья он должен отречься от самого себя, проститься со
славою, с властью, с громкими подвигами? Он, атаман целого войска и брат
казненного атамана же,— неужели он должен отказаться от всего, даже от мести за
позорную смерть брата, и похоронить себя заживо в глухой донской станице или на
каком-нибудь хуторке!
А отказаться от нее, от этой милой девочки,
от своего счастья, чтоб это милое дитя досталось какому-нибудь презренному
холопу Хабибулле, а не ему — так другому! Он чувствовал, что это выше его сил.
Он так любил ее! Для нее он решился пожертвовать славой, для нее он позорно
преклонил свой бунчук перед воеводой, которого он мог когда угодно повесить; он
все для нее бросил. Когда он держал ее в своих объятиях, а она, ласкаясь к
нему, шептала самые нежные слова, он искренно решился всем пожертвовать для
нее.
И теперь уступить ее другому! Нет, пусть
лучше она никому не достанется: та, которую он ласкал, не должна знать ласк
другого мужчины.
Муки иного рода переживала теперь и Заира.
«А что, если в самом деле он любит другую?»
— думала она, поздно проснувшись в своей хорошенькой каютке. Хотя, по ее
восточным понятиям, мужчина мог любить разом нескольких женщин, и она видела
это в своем отце, у которого был сераль и который приближал к себе и
хорошеньких рабынь, но ее чистая привязанность возмущалась одною этою мыслью.
«Разве она сама может полюбить кого-либо другого, кроме своего
повелителя-атамана? Нет, никогда!»
И она робко выглянула из окошечка своей
горенки. Атаман задумчиво стоял у борта струга, спиною к ней. О чем, о ком он
думает?
В эту минуту, как бы под влиянием ее
взгляда, он обернулся. Из окошечка смотрело на него милое личико,— и задумчивое
лицо его разом просветлело. Он вошел в горенку Заиры. И на лице девушки
отразилась радость, но она не бросилась к нему на шею, как бывало прежде. Она
робко подошла к нему, смущенная, краснеющая; в первый раз по отношению к нему в
ней заговорила женская стыдливость. Он молча обнял ее, крепко прижал к себе,
как бы боясь потерять это нежное существо, и стал ласкать — целовал ее головку,
глаза. Он чувствовал, что она дрожит в его объятиях. Но ни он, ни она не
говорили. О вчерашнем он не сказал ей ни слова — он ждал, не скажет ли
139
она. Но и она молчала. Он заметил, что присланные ей вчера княгинею
Прозоровскою лакомства не тронуты. Поднос с фруктами стоял в стороне на
столике.
— Ты, кажись, не дотронулась до княгинина
гостинца? — спросил он, заглядывая ей в глаза.
— Мне не хотелось,— чуть слышно отвечала
она. Но ни слова о вчерашнем.
Он стал наблюдать за нею, обдумывать ее
поведение. Он видел, что она таится от него. В своей грубой совести он так и
решил, что она виновата: молчит — значит боится. Эта совесть не умела подсказать
ему, что девушка щадит его спокойствие, что ей жаль видеть человека, которого
неминуемо ждет лютая казнь, хоть человек этот и был для нее неприятен — это
Хабибулла.
И он и она со вчерашнего вечера вдруг
почувствовали, что между ними уже что-то стояло: это что-то и было обоюдное
подозрение — «черная кошка».
Он сказал, что сегодня у него будут гости —
воевода и другие власти города.
— А она будет? — чуть слышно спросила
Заира.
— Кто она? — удивился Разин.
— Воеводиха, княгиня.
— Зачем ей быть? Боярыне это непригоже — на
Москве нету такого звычая,— отвечал он.
«Значит, Хабибулла солгал? Может быть, он и
все солгал?»
Девушка крепче прижалась к своему
возлюбленному, точно боялась, что у нее возьмут его. Она чувствовала, как
стучало его сердце, точно молот.
В это время на струге послышался какой-то
говор. Можно было различить, что казаки Разина переговаривались с кем-то на
берегу. С берега слышно было: «Хотим видеть батюшку Степана Тимофеевича!»
Разин вышел на палубу. Перед стругом стояла
группа стариков. При появлении Разина все сняли шапки.
— Здорово, старички почтенные! — ласково
сказал Разин.
— Ты здрав буди, батюшка Степан Тимофеевич!
— послышалось с берега.— Мы пришли к тебе с поклоном: рыбный ряд осетром тебе,
батюшке нашему, кланяется.
— Спасибо на поклоне! — отвечал Разин.—
Милости прошу пожаловать ко мне на струг — выпить по чаре вина заморского.
Старики гурьбой стали всходить по сходням
на струг.
140
— Уж и осетрище изволением божиим попался,
батюшка Степан Тимофеевич,— говорил один старик с бородой по пояс,— такого
осетра не запомню с тех мест, как царила у нас в Астрахани проклятая
Маринка-безбожница с Ивашкою Заруцковым. А ноне трех таких пымали наши ловцы:
дак одного осетра мы спосылаем на Москву великому государю Алексею Михайловичу,
а другого — святейшему патриарху, а третьего тебе подносим, батюшка Степан
Тимофеевич.
— Спасибо, спасибо за честь, почтенные
старички! — благодарил атаман.— А воеводе-то своему вы что поднесете? —
улыбнулся он.
— Воевода и севрюжиной будет доволен,—
отвечал старик, тоже улыбаясь.— А ну, ребята, покажьте чуду-юду!— крикнул он
ловцам, бывшим в косной лодке близ струга.
Рыбаки с трудом приподняли над водою
громадную голову чудовища, которое так билось в воде, что казалось, лодку
опрокинет.
— И впрямь чудо-юдо,— говорил Разин.
А в это время Ивашка Черноярец с казаками
вынесли из трюма огромный бочонок и серебряные стопы, в которые и стали
наливать вино.
Разин стал подавать вино гостям.
— Э! нет, батюшка Степан Тимофеевич,—
отказывался старейший из депутации рыбного ряда,— не по русскому звычаю: в
священном писании сказано: как доносчику первый кнут, так и хозяину первая
чара.
Разин выпил. За ним все. Рыбакам молодцы
Разина поднесли зелена вина, осетра привязали к одной из железных уключин
струга, и депутация откланялась.
Разин приказал убить и выпотрошить осетра,
а потом сварить его в артельном котле.
Между тем на струге расставляли столы и
приборы — серебряные и золотые мисы, стопы и т. д.
К полудню начали собираться гости. Разин
был необыкновенно приветлив и оживлен. Казаки давно не видали его таким. Это
тем более их удивило, что не далее как сегодня утром он был необыкновенно
задумчив и грустен. Что было у него на душе — никто не знал; но многих это
тревожило. Иные думали даже, что он испорчен и что испортила его эта персидская
чаровница-княжна.
Началось угощение. В последнее время,
особенно когда среди казацкого войска завелась эта чаровница, атаман почти не
пил — совсем стал красной девицей. Но сегодня
141
он пил, как никогда. Щеки его разгорелись, глаза блестели нехорошим
огнем. Казаки это видели — они хорошо изучили своего атамана, чего-то
побаивались: быть худу... В иные моменты он как бы забывал все — где он, что
он... Глаза его дико блуждали...
Но через минуту он опять овладевал собой, и
голос его звучал на всю пристань.
Князь Прозоровский и другие гости ничего
этого не замечали и пировали от всей души — ели, пили, смеялись. Всех поразил
чудовищный осетр.
— Где это ты, Степан Тимофеевич, достал
такова великана? — спросил воевода.
— Шах персицкой мне в подарок прислал за
город Фарабад,— загадочно отвечал Разин.
Вдруг точно что осенило его. Он встал и
пошел в горенку Заиры. Через несколько минут он воротился, держа девушку за
руку. Он был бледен. Заира одета была в дорогое персидское одеяние — вся в
золоте, в жемчугах — драгоценные камни так и горели на ней. Она была
поразительно хороша в своем смущении.
Гости ничего не ожидали подобного и все
встали при ее появлении, подавленные, казалось, блеском чего-то невиданного,
ослепительно прекрасного.
— По русскому звычаю,— сказал Разин,— и
нижняя челюсть его задрожала,— по русскому звычаю хозяйка должна поднести из
своих рук по чаре доброго вина. Вот моя хозяйка.
Все низко поклонились, точно бы к ним вышла
царица.
Разин налил вином стоявшие на серебряном
подносе стопы, и Заира, не поднимая глаз, стала разносить вино. Руки ее дрожали
вместе с подносом. Все пили и почтительно кланялись девушке.
Разин потом сел и посадил ее около себя.
— Дай Бог тебе, Степан Тимофеевич, счастья
и здоровья на многия лета,— сказал князь Прозоровский и встал,— и великий
государь не оставит тебя своими милостями.
Помянув имя великого государя, он сел.
— Спасибо, князь,— отвечал Разин.— Я много
счастлив, так много, как тот эллинский царь, о котором сказывал мне один святой
муж. Счастье того эллинского царя было так велико, что оракул сказал ему: «Дабы
тебе не лишиться твого счастья, пожертвуй Богу то, что есть у тебя самого
дорогого». И царь тот зарезал любимую дщерь свою — лучшее свое сокровище.
142
Разин взглянул на Заиру. Он был бледен. А
она сидела рядом с ним, все такая же прекрасная и смущенная.
— Вот мое сокровище! — сказал он, обнимая
девушку. Потом он встал, шатаясь, и остановился у борта струга, лицом к Волге.
Он был страшен.
— Ах, ты, Волга-матушка, река великая!
много ты дала мне злата и серебра, и всего доброго. Как отец и мать славою и
честью меня наделила, а я тебя еще ничем не поблагодарил.
Сказав это, он быстро повернулся, схватил
Заиру одной рукой за горло, другою за ноги — и бросил за борт, как сорванный
цветочек.
— На ж тебе — возьми!
Что-то яркое мелькнуло в воздухе,
послышался плеск воды...
Все в ужасе вскочили. Заира исчезла под
водой. Утром рыбаки вытащили из Волги труп Хабибуллы с кинжалом в груди...
XXII. Купанье стольников
Сообщая этот ужасный эпизод из жизни
Разина, Н. И. Костомаров полагает, что «этот варварский поступок не был только
пьяным порывом буйной головы», с чем, конечно, нельзя не согласиться. «Стенька,
как видно,— говорит историк,— завел у себя запорожский обычай — считать
сношения казака с женщиною поступком достойным смерти. Его увлечение красивою
персианкою, естественно, должно было возбудить негодование и ропот тех, которым
Стенька не дозволял того, что дозволил себе, и, быть может, желая показать, что
не в состоянии привязаться к женщине, он пожертвовал красивой персианкой своему
влиянию на товарищей».
Так рассуждал историк, приговоры которого
всецело обусловливаются тем, что говорят ему находящиеся в его руках материалы
или более или менее достоверные источники, документы. Но о подобного рода
явлениях, обуславливаемых душевными движениями человека, всего менее говорят
документы, как не говорит на суде о своем преступ-
143
лении тот, кого уличают в нем на основании не вполне ясных улик. У
историка в этом случае связаны руки.
Не таково положение романиста. Он должен
все знать, даже то, чего нет и не могло быть в документах: он должен знать душу
своих героев, знать их тайные думы и помышления.
И романист объясняет ужасный поступок
Разина с Заирой так, как он его объяснил на основании психологической критики,
которой он подверг своего героя.
Неудивительно после этого, что Разин,
смирившийся было перед властью, положивший свой бунчук к ногам этой власти,
подружившийся с воеводою и водивший с ним хлеб-соль, вдруг опять превращается в
зверя, еще более лютого, чем он был прежде.
Астрахань теперь опостылела ему. Здесь он
сам разбил свое счастье — и его потянуло домой, на родину, туда, где протекло
его детство, когда у него за спиною не было ни воспоминаний, ни ужасных
призраков, которые теперь иногда посещали его.
4 сентября Разин покинул Астрахань, чтобы,
собравшись за зиму с силой, начать исполнение того, что он на возвратном пути
из Соловецкого монастыря обещал Аввакуму, когда навестил его в тюрьме монастыря
Николы на Угреше.
Между тем отписки князя Прозоровского из Астрахани
о полной покорности Разина вызвали на Верху великую радость, и Алексей
Михайлович перед осенним возвращением из села Коломенского в город решился в
последний раз вдоволь натешиться купаньем в пруду стольников, запоздавших к
царскому смотру.
Наскоро выслушав доклад дьяка Алмаза
Иванова по важным делам и положив по ним резолюции, государь вопросительно
поглядел на дьяка, который переминался с ноги на ногу и, по-видкмому, еще
что-то хотел доложить, но не решался.
— Что у тебя еще? — спросил Алексей Михайлович.
— Пустое, государь: так — челобитьишко
одно,— отвечал Алмаз Иванов,— жалобишка непутевая.
— На кого? — спросил государь.
— На твоих государевых воевод, на
симбирских да на саратовских с товарищи.
— А чья жалоба?
— Твоих государевых оброшных людишек.
— А ну-ко, вычти,— сказал с неохотой
«тишайший», позевывая: ему так хотелось купать стольников.
144
— «Великому государю царю и великому князю
Алексею Михайловичу,— начал, прокашлявшись, Алмаз Иванов,— всеа Русии
самодержцу и многих государств государю и обладателю...» «Облаадателю» с одним азом, государь, прописка...
— С одним азом?
— строго спросил царь.
— С одним — точно: «обладателю» — во место
«облаадателю», государь,— отвечал дьяк.
— А кто учинил прописку?
— Писал, государь, подьячей не у дел Юшка
Иванов.
— Так укажи бить Юшку батоги нещадно,—
решил Алексей Михайлович *.
Надо заметить, что в царском титуле слово
«обладатель» всегда и обязательно писалось с двумя а после первого л; «облаадателю».
— Читай дальше,— приказал государь. Алмаз
Иванов продолжал:
— «Бьют челом сироты твои государевы,
симбирские и саратовские татаровя мурзишки и сотничишки и мордовские и
чувашские людишки, а во всех их место Багай Кочюрентеев сын да Шелмеско Шевоев
сын: велено нам, сиротам твоим государевым, по твоему государеву наказу, твоя
государева пашня пахати за твой государев ясак. И мы, сироты твои государевы,
твою государеву пашню пахали многие годы — рожь и ячмень и овес сеяли. И мы
твою государеву пашню пашучи, лошади покупали, животишки свои и достальные
истощали. А за твоей государевой пашнею ходячи, одежонко все придрали, и
женишка и детишка испроели, и нынече, государь, помираем голодною смертию. А
одежонки нам, государь, сиротам твоим государевым, купити не на што и нечим, и
мы, государь, сироты твои государевы, погибаем нужною смертию, волочася с
наготы и с босоты. А в осеннюю пору, государь, мы ж, сироты твои государевы, на
гумна возим твой государев хлеб, и в клади кладем, и молотим. Да в летнюю пору,
государь, и в зимнюю ездят в Астрахань твои государевы воеводы, и дети
боярские, и казаки, с твоими государевыми делы к Москве и с Москвы, и они,
государь, емлют нас в подводы и с
судами в летнюю пору, и в зимнюю пору с лошадьми и саньми, и у нас, государь, у
сирот твоих государевых, в подводах ездячи и ходячи, голодною смертию
__________
* В то время за малейшую описку в царском
титуле жестоко наказывали, как за государственное преступление. (Прим. Д. Л. Мордовцева.)
145
и нужною с волокиты лошаденки помирают. А которые, государь, из нас
татаровя и иные людишки по дорогам у Волги жили, и они, государь, от подвод
разбегаются, живут по лесам в незнаемых местах. И у нас, государь, у сирот
твоих государевых лучших людишек, у мурзишок, у сотничишков, в подводах людишки
и лошаденки помирают; а другие бегают по лесам от твоих государевых посланников
потому: они, государь, посланники твои и воеводы нас, сирот твоих государевых,
всякими пытками пытают, и поминки с нас всякие емлют, и нас, сирот твоих
государевых, грабительски грабят — коровенка и куры, и гуся и утку, и рыбу, чем
мы сироты твои государевы сыты бываем, емлют насильством же, грабежом,
государь, сымают с нас, сирот твоих государевых, с плеч шубы и зипуны, и порты
и лапти, а у кого, государь, из нас сирот твоих государевых и портов нет, и
тех, государь, морят голодом до смерти, а иных, государь, емлют себе в холопи,
а жен, государь, и девок...»
Алексей Михайлович нетерпеливо махнул
рукой:
— Скоро конец?
— Скоро, государь.
И Алмаз Иванов, пробежав глазами
челобитную, продолжал:
— «А мастеров, государь, у нас в нашей
бусурманской вере нету, ни дровишек, государь, усечи нечим, ни на зверя,
государь, засеки сделати без топора не мошно и нечим, а обуви, государь, без
ножа сделати не мошно же. И нам, государь, сиротам твоим государевым, с студи и
с босоты и с наготы голодною смертию погибнуть, и нам, сиротам твоим, жити
стало невозможно, и впредь, государь, погибнуть».
— Слышал! — нетерпеливо перебил докладчика
Алексей Михайлович.— Ну?
Дьяк продолжал чтение:
— «Милосердный царь государь, пощади сирот
своих, покажи милость, не помори сирот своих напрасною смертию, вели нам,
сиротам своим, по-прежнему покупати у русских людей топоры и ножи и котлы, чтоб
мы сироты твои государевы в конец не погинули и с студи и с босоты и наготы не
померли, впредь бы твоего государева ясаку не отстали. Царь государь, смилуйся,
пожалуй».
Алмаз Иванов кончил и вытер вспотевший лоб
ширинкой. Алексей Михайлович вздохнул с облегчением.
— Ну, слава Богу! — сказал он, зевая и
крестя рот рукой, «чтоб зевотой не вошел в рот и в утробу нечи-
146
стый».— Передай челобитье в думу: коли буду сидеть с бояры, тогда
разберу и указ учиню. А теперь пойду на крыльцо: там, чаю, стольники заждались
мово купанья. Да на их счастье и день теплый выдался.
И царь двинулся на крыльцо.
У крыльца уже давно толпилась дворская
челядь — стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы. На самом же крыльце,
на площадке, имели право дожидаться только бояре, думные люди и другая знать.
Появление царя вызвало бурю поклонов,
земных и поясных. Все заколыхалось, сдержанно кашляло, робко сморкалось «в
персты», по «Домострою», «вежливенько, дабы не рычать носами».
После скучного доклада лицо «тишайшего»
просияло при виде порядочной группы стольников, стоявших в стороне от прочих.
Это были те, за которыми числилась провинка: они опоздали к утреннему царскому
«смотру» — к выходу. Их и ожидало купанье в пруду.
— Ну, Алмаз, вели начинать действо,—
обратился государь к Алмазу Иванову.
Последний подал знак жильцам, которые
стояли около провинившихся стольников: это были «купальные».
«Купальные» подхватили под руки стоявшего
впереди молодого стольника, высокого и стройного, и повели к «ердани» — к
купальной открытой сени.
— Многая лета великому государю! — едва
успел крикнуть стольник, как «купальные» толкнули его в пруд «прямо мордой».
Стольник скрылся под водой, но через
несколько секунд вынырнул и, ловко держась на воде, клал поклоны, ударяя лбом о
поверхность воды.
— Ай да ловок Еремей! — послышались
одобрительные возгласы среди бояр.— И на воде великому государю челом бьет.
— И точно ловок! ах, язва!
А стольник, видя произведенный им эффект,
поднял правую руку и возгласил:
— Спаси, Господи, люди твоя и благослови
достояние твое! Победы благоверному государю нашему Алексею Михайловичу на
супротивныя даруяй...
— Ах, язва! и вода ево не берет.
Алексею Михайловичу, видимо, понравились
проделки стольника.
— Похваляю, похваляю, Еремей! — милостиво
улыбался он.
147
Еремей вышел из воды и, оставляя за собою
мокрый след и низко кланяясь, приближался к царю. Тот пожаловал ловкого
стольника к руке.
— Похваляю, похваляю,— продолжал Алексей
Михайлович,— жалую тебя двумя обедами.
Все с завистью смотрели на счастливца: его
ожидала карьера по службе. Шутка ли! два обеда разом!
Между тем «купальные» тащили уже другую
жертву царской потехи. Это был старенький, сухенький и тщедушный стольничишко,
которому плохо везло по службе. Он никогда не опаздывал к царскому смотру
потому, что, с одной стороны, был холопски усерден к службе и верен, «аки пес»,
с другой — он боялся воды, так как во всю свою жизнь не купался, предпочитая
холодной речной воде паровую баню с веником; но сегодня, на беду, опоздал, за
своею глухотою не расслышав боя часов на одной из кремлевских колоколен.
Он весь дрожал со страху, крестился и
жалобно просил:
— Царь государь! смилуйся, пожалуй! я отродясь
не плавал... я немощен... у меня утин в хребте...
Это тешило «тишайшего», и он смеялся, а
бояре вторили ему почтительным ржанием.
«Купальные», подстрекаемые общим весельем,
взяли свою жертву за ноги и за руки и, раскачав в воздухе, бросили далеко в
пруд. Тщедушное тело бултыхнуло в воду и пошло ко дну. На поверхности всплыли
пузыри...
Ждут, а он не показывается. Еще ждут — нет
его, только пузыри вскакивают.
— Ишь, старый, словно тебе выхухоль в воде
живет,— слышалось меж боярами.
— Что выхухоль! настоящий соболь...
А соболя все нет. Алексей Михайлович
начинает тревожиться.
— Он шутит, государь,— успокоивают его
бояре,— ишь проказник!
Но проказника все нет — и вода в пруду
сравнялась — гладко, как зеркало.
— Ищите его! вымайте из воды! — тревожно
заговорил государь.— Ох, Господи!
Все засуетились, но никто не смел броситься
в воду. Слышались только возгласы, оханья. Все столпились у пруда, разводили
руками, топтались на месте, как овцы...
Вдруг кто-то протискивается сквозь толпу,
крестится и с размаху бросается в пруд.
148
— Еремей! Еремей Васильевич Сухово! —
послышались радостные голоса.
Это был действительно он. Смельчак быстро
доплыл до того места, где скрылся под водою старенький стольник, и нырнул.
Через несколько секунд он вынырнул, держа в одной руке за шиворот утопленника и
поддерживая его беспомощную лысую голову над водою, и скоро достиг «средины».
— Не клади на земь! не клади!— послышались
возгласы.
— Дайте охабень! на охабени качайте!
отойдет!
— Ах, Господи! ах, Господи! — повторял
Алексей Михайлович, глядя на посиневшее лицо утопленника.
Несчастного положили на охабень, качали
шибко, сильно. Жалкое маленькое тело в мокрой одежде беспомощно перекатывалось
по охабню, руки и ноги болтались как плети, посиневшее лицо как бы о чем-то
просило...
Но его так и не откачали...
XXIII. Роковое пожатие руки
В то время, когда Алексей Михайлович
выслушивал доклады дьяка Алмаза Иванова, а потом купал своих стольников, его
любимица, царевна Софья Алексеевна, затеяла прогулку в лес по грибы. Она
воспользовалась прекрасным, теплым сентябрьским днем и тем обстоятельством, что
царская семья и весь двор на днях должны были переехать из села Коломенского в
Москву.
Теперь Софья Алексеевна была уже не
подросток-девочка, а настоящая девица — «большая»: ей уже семнадцать лет, и она
выросла, пополнела и вполне развилась физически.
В это утро, по обыкновению, она училась с
Симеоном Полоцким, который никак не мог удовлетворительно объяснить ей, отчего
это бывает снег. Хотя он объяснял по-ученому, но ужасно туманно, и это
раздражало царевну.
— Егда пара восходит на воздух,— толковал
он,— и ветр далече проженет, и та пара отолстеет, обаче же не может в камень
смерзнутися, понеже тамо есть мгла посреди: все же строится судьбами
Всесотворшего, и идет
149
снег, дождь и град, роса и иней, мразь и зной, воздухом и солнцем,
обаче же токмо един. Он всесильный творец весть.
— Ах, Симеон Ситианович,— зевала царевна,—
лучше пойдемте в лес по грибы: вон какое вёдро — хорошо, зело хорошо; а то
скоро в город переедем.
Конечно, учитель охотно согласился
прогуляться в лесу с своей хорошенькой ученицей, и они, захватив корзинки,
отправились небольшим обществом в рощу, примыкавшую к дворцу села Коломенского:
с ними пошли за грибами и старая царевнина мамка, и случайно бывшая во дворце у
царицы молоденькая Ордина-Нащокина, Наталья Семеновна, урожденная княжна
Прозоровская.
Читатель, может быть, помнит, что княжну
Прозоровскую, постригшуюся было с отчаянья, мы видели в последний раз три года
тому, когда она вдруг неожиданно явилась в монашеском одеянии к Воину
Ордину-Нащокину и решительно заявила, что в монастырь она больше не
возвратится.
Происшествие это в свое время наделало
много шуму в Москве, особенно в придворных сферах. Сделалось известным, что
инокиня Надежда, урожденная княжна Наталья Прозоровская, отпросилась у игуменьи
пойти в Успенский собор, во время службы, с кружкою для сбора пожертвований на
святую обитель. Ее отпустили с одной почтенной старицей. Но в соборе, среди
литургии, молоденькая инокиня Надежда попросила старицу подержать на минуту и
ее кружку, пока она поставит свечку Николе Чудотворцу,— и тотчас же исчезла! Из
собора она поехала прямо к тому, кого она давно любила,— к своему Воину.
Многих хлопот стоило родителям их спасти
юную беглянку от жестокого наказания по «Номоканону» и по монастырскому уставу.
Только личное участие царя в судьбе молоденькой преступницы и его любовь к
старику Нащокину отвратили от ее пылкой головки суровую кару. Притом же Алексею
Михайловичу проходу не давала его «непоседа», царевна Софьюшка, которую он
иногда называл «запорожцем в юпке». Она с утра до вечера нудила над ухом:
«прости да прости Наташу Прозоровскую»...
И пришлось простить. Но ее, конечно, по
тогдашнему выражению, «обнажили от ангельского чина», другими слонами —
расстригли.
Потом любящаяся парочка сочеталась браком,
и с той поры молодая Ордина-Нащокина, жена Воина, глубоко
150
привязалась к царевне Софье Алексеевне за ее заступничество пред отцом
и при всяком удобном случае являлась во дворец.
Все шли с корзинками в руках, и Симеону Полоцкому
дали огромную корзину, потому что он хвастался, что у них в Полоцке он считался
первым «грибонаходчиком».
Дорогой говорили о том, что занимало тогда
умы московского общества — о бывшем патриархе Никоне и о заключении его в
Ферапонтовом монастыре, о ссылке протопопа Аввакума в Пустозерск, в земляную
тюрьму, наконец, об изъявлении Разиным покорности.
— А что он после того, матушка царевна,
сделал! Не приведи Бог,— заметила молодая Ордина-Нащокина.
— А что такое, Наташа? — спросила Софья
Алексеевна.
— Да вот что, государыня царевна. Вечор от
батюшки с Астрахани гонец пригнал с гостинцами мне от родителя — груши да
виноград. Дак сказывал гонец: была-де в полонянках у Разина царская дочь,
персицкого царя — красавица! ни в сказке сказать, ни пером написать. И
полюбись, матушка, та царская дочь атаману Разину — уж так любил ее, так любил!
— и берег как зеницу ока. Пришло,— говорит,— атаману Разину пора-время говеть,
и на духу его батюшка пытает: «что-де у тебя, раб Божий, дороже всего на
свете?» — А так и так, батюшка,— говорит Разин: дороже мне всего,— говорит,—
царска дочь.— «Кинь,— говорит батюшка,— кинь ее в море, как кинул царь Соломон
свой драгоценный перстень. Ежели,— говорит,— Бог примет твою жертву, то на
третий же день рыба-кит, аки Иону, возвратит тебе царевну».
— Ну, и что ж? — в волнении спрашивала
царевна.— Кинул?
— Кинул, государыня,— отвечала
Ордина-Нащокина.
— Господи! — всплеснула руками Софья
Алексеевна.— Ну, и как же было дело?
— Да так: был,— говорит,— у атамана Разина
пир большой, у него на струге: был у него,— говорит,— в гостях и мой батюшка.
Вышла,— говорит,— из своей светлицы к гостям и царска дочь — вся в золоте да в
камнях самоцветных, поднесла гостям по чаре, как закон велит. А Разин и говорит
к гостям: «вот мое сокровище!» это на царскую-то дочь.— «Царь Соломон,—
говорит,— бросил в море свое сокровище — драгоценный перстень, а я — ее!». Да с
этими словами схватил ее поперек и словно золот перстень бросил в море!
151
Все пришли в ужас от этого рассказа,
дошедшего до Москвы уже в искаженном варианте.
— Ну и что ж — рыба-кит не принесла ее на
третий день? — спросила Софья Алексеевна.
— Не принесла, матушка царевна.
Симеон Полоцкий полагал, что это просто
бабья сказка, и потому больше думал о грибах, чем о царской дочери и ее участи.
— А вот сыроежка! вот и белый гриб! —
радостно воскликнул он, нагибаясь, чтоб сорвать грибы.
Скоро и все увлеклись грибами.
В это время у опушки леса показались два
всадника. По всему видно было, что это соколиные охотники, потому что у каждого
из них на рукавице сидело по соколу — один в красной шапочке, другой в голубой.
— Да это никак князь Василий Васильевич
Голицын? — заметила Ордина-Нащокина.
— Он и есть,— подтвердил Симеон Полоцкий.
Царевна Софья Алексеевна почему-то при этом вся вспыхнула.
— Должно, с соколиной охоты едут,— как бы
нехотя сказала она.
Всадники подъезжали все ближе и ближе, и
вдруг один из них, остановив лошадь, соскочил с седла, передал и лошадь и
своего сокола другому всаднику, что-то наказал ему и торопливо пошел к
грибоискателям.
Это был действительно князь Василий
Васильевич Голицын, мужчина средних лет, широкоплечий и достаточно плотный. Он
издали узнал Софью Алексеевну и, приближаясь к ней, почтительно снял шапку.
— Здравствуй, князь Василий!— ласково
сказала царевна.
— Будь ты здрава, государыня царевна,—
поклонился Голицын.— Грибным делом тешишься?
— Точно,— отвечала Софья, скользнув глазами
по всей фигуре собеседника.
Голицын поздоровался и с другими.
— А князь Василий был на соколиных ловах? —
спросила царевна.
— Грешным делом, государыня... Что ж я
смотрю! — спохватился он.— Позволь, государыня, я хуть кошницу буду носить за
тобой.
— И то дело,— согласилась царевна.
Все занялись исканием грибов, изредка
перекидываясь словами: «ай да рыжик!» — «а у меня волнушка!» — «груз-
152
ди!». Усерднее всех лазил по кустам Симеон Полоцкий, желая поддержать
свою старую репутацию.
Молодая Ордина-Нащокина, не сильная насчет
грибной части, боясь набрать мухоморов вместо рыжиков, держалась профессора по
грибной части — старой мамки и не отходила от нее.
Софья же Алексеевна, порывистая,
нетерпеливая, быстро переходила от одного места к другому, и Голицын должен был
следовать за ней. Она вся раскраснелась от ходьбы, и грудь ее высоко
поднималась. Часто взор ее скользил по лицу Голицына, но как-то украдкой,
стыдливо. Она испытывала какое-то радостное волнение вблизи этого сильного
мужчины, и ее все дальше и дальше тянуло в глубь рощи.
Они давно потеряли всех из виду и, кажется,
забыли о грибах.
— Вон гриб, государыня! — сказал Голицын,
нагибаясь.
Нагнулась и Софья Алексеевна — и глаза их
встретились. Что-то горячее сказалось с обеих сторон в этих глазах, и когда
рука Голицына потянулась было к грибу, она ощутила не гриб, а другую руку —
руку царевны. Руки соединились порывисто, судорожно. Но теперь они не смели
взглянуть друг другу в глаза, хотя и чувствовали, что в этот момент они
составляют одну душу, одно существо...
— Ау! ау!— послышался голос
Ординой-Нащокиной.
— Я не могу откликнуться,— шептал в
волнении князь Голицын,— не хочу!
— И не надо,— прошептала и Софья, вставая и
не выпуская из руки руку Голицына.
Из-за ближних кустов показался Симеон
Полоцкий. Он торжествовал — в корзине у него были всевозможные грибы.
— А вы? — обратился он к царевне и к князю
Голицыну.
— Мы нашли всего одни гриб,— отвечал
последний.
— А Симеон Ситианович помешал нам сорвать
его,— добавила Софья, лукаво глянув на Голицына.
— Ау! ау! ау! — повторились ауканья
Ординой-Нащокиной.
— Ау! ау!— отвечала царевна, думая про
себя: «Теперь пущай ее идет».
Софья Алексеевна давно уже чувствовала
влечение к Голицыну, часто встречая его во дворце. Еще девочкой она видела в
нем образец мужчины, а чем старше стано-
153
вилась, тем очевиднее для нее самой росло в ней нежное и тревожное
чувство к тому, кого она в душе называла «Васенькой».
И вот сегодня она в первый раз
почувствовала, что одно прикосновение его сильной, мускулистой руки дало ей
столько счастья и чего-то такого сладостного, чего она еще ни разу не
испытывала в жизни. Это прикосновение точно обожгло ее, и между тем ей хотелось,
чтобы он не выпускал ее руку, ей хотелось чувствовать ее теплоту, ее силу, ее
близость.
Все пошли дальше, продолжая искать грибы и
уже не разбиваясь на отдельные единицы. Софья Алексеевна теперь стала
внимательнее к своему делу, и в корзинку ее, которую продолжал носить Голицын,
все чаще и чаще попадали то рыжики, то сыроежки, то и настоящие белые. Она
рассказала Голицыну о варварском поступке Разина с своею хорошенькой пленницей,
и Голицын тоже принял было это за сказку, если бы рассказ царевны не поддержала
молодая Ордина-Нащокина, сказав, что гонец, привезший эту весть из Астрахани,
еще не выехал из Москвы обратно и может лично подтвердить все сообщенное князю.
Но пора наконец было возвращаться и по
домам. Когда они выходили из рощи, у опушки ее, на дороге, ведущей в Москву,
Голицына ожидал его сокольничий с лошадью и соколом. Голицын простился и
вскочил на коня, взглянув последний раз на царевну.
Софья долго провожала его глазами.
Весь этот день и она и он постоянно
вспоминали, как руки их встретились там, в роще; но они, конечно, не могли
предвидеть, какие кровавые последствия в будущем проистекут для России и для
них самих из этого рокового пожатия одной руки другою.
XXIV. В куль да в воду
В то время, когда в Астрахани и в Москве
происходили описанные нами события, как известно, заключен был с Польшею
Андрусовский мир.
Виновником этого гибельного для Малороссии
мира был старый наш знакомый, Ордин-Нащокин-отец. Этим
154
постыдным миром Малороссия разрезывалась пополам, так сказать — по
живому телу: вся правобережная Украина, Волынь и Подолия, отдавалась Польше
вместе с величайшею святынею русского народа — Киевом!
Мало того! Ходили слухи — и
небезосновательные,— что Ордин-Нащокин советовал царю совсем уничтожить
казачество, как корень всех смут внутри государства и как начало всех
несогласий и недоразумений с соседними государствами: долой Запорожье! долой
донское и яицкое войско!
Когда эти слухи проникли на Запорожье и на
Дон, тогда все казачество подняло голову.
— Лучше жить в братстве с турками, чем с
москалями! — крикнул на полковничьей раде Брюховецкий, потрясая в воздухе
гетманскою булавой.
Это он выкрикнул в Гадяче. Подобный же
возглас раздался и на Дону, на небольшом острове Кагальнике.
— Я вырежу до-ноги все московское боярство
и всех господ и поставлю над Русской землею один казацкий круг! — сказал Разин,
когда к нему на Дон явились посланцы от Брюховецкого.
Посланцы эти — наши старые знакомые,
которых мы видели, в первой главе нашего повествования, в Столовсй избе
Грановитой палаты, на отпуске у царя Алексея Михайловича: это — Герасим
Яковенко или «Гараська-бугай», Павло Абраменко и Михайло Брейко, тот самый
великан, который растянулся во весь рост на ступенях державного места и
восклицанием — «оце лихо! николи с коня не падав, а тут, бач, упав!» — вызвал
общий смех.
Посланцы привели от гетмана в подарок
Разину прекрасного белого арабского коня под богатым чапраком, а для казацкого
круга пригнали сто превосходных черкасских волов, рога которых перевиты были
красными, голубыми, алыми и зелеными лентами.
— Уж и хохлы дошлые! Словно красных девок
волов своих лентами изнарядили! — удивлялись донцы, любуясь прекрасными волами.
Стан Разина в это время, как сказано выше,
находился на острове Кагальнике. Стан был обнесен высоким земляным валом, на
котором в разных местах поставлены были пушки очень внушительных размеров. За
валом вся площадь острова, то есть внутренняя часть острова, состояла из массы
небольших курганов с торчавшими из них плетеными трубами: это были земляные
избы или «курени», в которых помещались казаки Разина и он сам.
155
— Тебе бы, батюшка Степан Тимофеевич,
особый куренек срубить,— говорил ему есаул Ивашка Черноярец, когда рыли
землянки для войск.
— У Христа и норы лисьей не было, а он был
царь над царями,— отвечал Разин.
Гетманских послов Разин принял без всяких
излишних церемоний, которых он терпеть не мог, говоря, что они служат «для
отводу глаз дуракам», и только приказал стрелять из всех пушек, когда послы с
берега садились в лодки, чтоб ехать на остров, и когда пристали к острову.
Присланных гетманом волов оставили на
берегу, конечно, на время, для корму, а коня перевезли на остров и торжественно
провели перед выстроившимися казаками
Разин тотчас же собрал «круг». В кругу
стояли: Разин с своим есаулом и три гетманских посла. В руках у Разина была
богатая атаманская «насека» или бунчук.
Гарасим Яковенко несколько отступил от
товарищей вперед и подал Разину «лист» от гетмана Ивана Мартыновича
Брюховецкого и всего войска запорожского низового к господину атаману Степану
Тимофеевичу Разину и всему вольному войску донскому. Разин взял «лист» — пакет,
поцеловал печать, бережно разломал ее и, вынув из пакета бумагу, подал ее
есаулу.
— Вычитай, что пишет нам ясновельможный
гетман и все славное запорожское войско низовое,— сказал он, несколько
преклоняя бунчук в знак почтения к посольству
В послании говорилось о нестерпимых
утеснениях, делаемых Москвою и ее воеводами Украине, об отдаче Киева и всех
печерских угодников полякам, о намерении уничтожить все казачество.
Казаки не дали есаулу дочитать послание до
конца.
— Не бывать этому! — кричали они, хватаясь
за сабли, точно бы враг стоял перед ними налицо.
— На осину всех бояр! в куль да в воду! —
кричали другие.
Посланцы Брюховецкого объяснили, что
заводчиком всего этого у царя — Афонька Ордин-Нащокин.
— Он и сына свово, проклятого Воинку,
подсылал к нам лазутчиком,— пояснял великан Брейко.
— А наши казаки выкрали его у ляхов. Мы
думали, что оно что-нибудь доброе, а оно вон что — змеиное отродье! — добавил
«Гараська-бугай».
— Мы его и в Москве найдем!— кричали
казаки.
— И батюшку и сынка в один куль!— добавляли
другие,
156
«Майдан» долго волновался, пока Разин не
махнул бунчуком. Все утихло.
— Атаманы-молодцы и все вольное войско
казацкое!— возвысил голос Разин.— Москва хочет утопить нас в ложке воды,
отобрать от нас казацкие вольности...
— Этому не бывать! — опять послышались
крики.
— Не бывать! — подтвердил и Разин.— Мы сами
зажгем московское государство с двух концов: мы с Волги, запорожские казаки и
татары — с Днепра, и тогда посмотрим, кто кого в крови утопит!
— Любо! любо! Только не мы утонем!— кричали
казаки.
Между тем на кострах, разведенных еще с
утра, на пищальных шомполах уже жарились огромные куски черкасской говядины, а
из войскового подвала выкатывались бочки с вином.
Скоро на майдане начался пир.
И донские, и запорожские казаки все были
горазды выпить, а потому гульня была жестокая.
Чей-то голос вдруг затянул:
«Как у нас на Дону,
Во Черкасском городу»...
— К бесу Черкасский город,— раздались
другие голоса,— там Корнилка Яковлев заодно с Москвою! В воду всех согласников!
Тогда другой голос запел:
«Как у нас на Дону,
В Кагальницком городу!»
— Любо! любо! в Кагальницком городу!
Пьяные голоса перебивали один другого,
никто никого не слушал. А какой-то казак с вырванною ноздрей, взявшись в боки,
приседал пьяными ногами и приговаривал:
«А как наш-то козел
Всегда пьян и весел,—
Он шатается,
Он валяется»...
Ему вторила другая пьяная, тоже вырванная
ноздря — из «сибирных», которая, приставив сложенные ладони ко рту, дудела как
на дудке:
«А-бу-бу-бубу-бу-бу,
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу,—
Труба точеная,
Позолоченая!»
157
Между тем Разин, который в это время
разговаривал с запорожскими послами, вспомнив что-то, встал на ноги (он сидел и
пировал с послами на разостланном персидском ковре) и крикнул таким голосом,
который всех заставил очнуться.
—
Атаманы-молодцы! слушать дело! — поднял он бунчук.— Привести сюда бабника с
бабой!
Несколько казаков бросились к небольшой
земляной тюрьме и вывели оттуда рослого, широкоплечего и мускулистого казака и
молоденькую девушку-казачку. За ними еще один казак нес длинный рогожный куль,
в котором отчаянно метался и мяукал кот.
Приведенный из земляной тюрьмы молодой
казак смотрел кругом смело, вызывающе, дерзко. Юная же подруга его была
бледная, как мел, и едва стояла на ногах. Молодость и миловидность ее были
таковы, что даже грубые, зачерствелые черты убийц при виде ее смягчались.
Несчастные обвинялись в тяжком для «казака
в поле» преступлении. Тренька Порядин — так звали молодого казака — нынешней
ночью стерег на войсковом лугу казацких коней. Когда же дозорные казаки
обходили ночью войсковой табун и проверяли варту, то застали Треньку Порядина с
этой девушкой, с Палагой Юдиной, с соседнего хутора. А по казацкому обычаю,
«казак в поле» за сношение с бабой подвергался смертной казни: «в куль да в
воду», притом вместе с бабой, если она поймана, и вдобавок — с котом, который
бы их царапал в куле.
Когда вины несчастных были сказаны есаулом
в казацком кругу перед гетманскими послами, Разин сказал:
— Вершите, атаманы-молодцы! в куль да в
воду! Говоря это, он не сводил глаз с трепетавшей девушки.
В его душе вдруг встал другой милый образ,
так бесчеловечно погубленный им. За что? за чью вину? И уже никогда, никогда
этот милый образ не явится ему наяву, как он часто является ему во сне и
терзает его душу поздним, напрасным раскаяньем. И его разом охватила такая
тоска, такая душевная мука, что он сам, кажется, охотно бы пошел в этот куль и
в воду...
— В куль да в воду! — повторили голоса в
кругу, иные видимо неохотно.
Осужденный посмотрел в глаза своему атаману
таким взглядом, что даже Разин смутился.
— Тебя, вора, в куль да в воду! — глухо
произнес осужденный.— Ты не по закону жил с персицкою княжной, бусурманкой, а
Палага — моя законная невеста...
158
Глухой ропот пронесся как ветер по майдану.
Разин страшно побледнел и пошатнулся, словно бы от удара. Слезы и судороги
сдавили ему горло...
— Он прав... он прав, братцы! — рыдая
говорил он.— Вяжите меня в куль... я не отец вам... я не жилец на этом свете...
Ох, смерть моя!.. вяжите меня!..
Разин упал на колени и положил бунчук на
землю.
— Простите меня, братцы! — И он кланялся в
землю.— А теперь вяжите... вот мои руки... в куль да в воду!..
Он говорил точно в бреду. Весь майдан
онемел от ужаса...
Наконец некоторые из казаков опомнились,
бросились к своему атаману, подняли его...
— Батюшка! отец наш! не покидай нас, сирот
твоих,— умоляли они его,— без тебя мы пропали.
Стон прошел по всему майдану. Разина
обступили, целовали его руки, плакали... Плакал и он... В плаче этом слышалось
глубокое отчаяние.
Но потом он быстро подошел к осужденному и
горячо обнял его:
— Прости меня, Тренюшка! прости, родной
мой! И ты меня прости, Палагеюшка!
Он поклонился девушке в землю. Та бледная,
все еще растерянная и трепещущая от ужасного над нею и ее возлюбленным
приговора, силилась поднять валявшегося в ее ногах страшного атамана.
— Прости! прости меня! — повторил Разин.—
За твой девичий стыд! за мое окаянство — прости!
— Бог всех простит! Бог всех простит! —
раздались отдельные голоса на майдане, а за ними в один голос закричало все
войско: — Бог всех простит! Бог всех простит!
Эта картина, полная глубокого драматизма,
произвела сильное впечатление на запорожцев.
В конце концов, осужденные были помилованы
и как почетные гости посажены в круге, а ни в чем не повинный кот, выпущенный
из куля, с сердитым фырканьем вскочил на ближайшую развесистую вербу и злобно
глядел оттуда своими круглыми, горевшими зеленым огнем глазами.
XXV. Жена Разина
Посольство Брюховецкого к Разину, как
известно, ни к чему не привело. Гетман правобережной Украины, Дорошенко, в
несколько недель покорил под свою власть всю левобережную Украину, и
Брюховецкий своею же чернью — «голотою» — в несколько минут был забит палками и
ружейными прикладами, «как бешеная собака», по выражению летописца.
Разину предстояло действовать одному с
своими казаками.
Наступал 1669 год. Дон вскрылся рано. Надо
было думать о походе.
Вдруг однажды под вечер разинские молодцы,
которые ловили в Дону, ниже Кагальника, рыбу, заметили лодку, которая
осторожно, среди густых тальников и видимо крадучись пробиралась к казацкому
стану. Ловцы настигли ее и увидели, что в ней сидит женщина. На оклик сначала
ответа из лодки не последовало, и лодка продолжала спешить к острову.
— Остановись, каюк, стрелять будем! —
закричал один из ловцов и выстрелил по подозрительному каюку.
После выстрела каюк остановился. Ловцы
подплыли ближе: в каюке находилась только одна женщина средних лет,
по-видимому, казачка.
— Ты кто такая и откель? — спросили ловцы.
— Сами видите, атаманы-молодцы, что я
казачка и еду из Черкасского,— смело и даже гордо отвечала неизвестная женщина.
— Видим, что не татарка,— улыбнулся один из
ловцов,— а куда путь держишь?
— К атаману Степану Тимофеевичу Разину,—
был ответ.
— О-го-го! — покачал головой тот же ловец.—
Высоко, болезная, летаешь, а где-то сядешь!
— Сяду рядом с вашим батюшкой атаманом! —
гордо отвечала казачка.
— Не погневайся, молода-молодка,— заметил
другой ловец, постарше,— в наш городок ваш брат, баба, и ногой ступить не
может; а то зараз кесим башка!
— Што так строго? — презрительно улыбнулась
смелая казачка.
— А так — у нас закон таков; чтоб
бабьятиной и не пахло,— отвечал младший ловец.
160
— Что ж — али баба псиной пахнет? —
презрительно пожала плечами казачка.
— Псиной не псиной, а припахивает.
Этот дерзкий отзыв взорвал казачку: она
вспыхнула и замахнулась веслом, чтоб ударить обидчика. Тот едва увернулся.
— О! да она и в самом деле с запашком! —
засмеялся он.
— Прочь, вислоухие! — закричала вне себя
казачка.— Мне не до вас, сволочь! Мне спешка, видеть атамана; а задержите меня
— завтра ж вас в куль да в воду!
Она торопливо сняла с своей руки перстень с
бирюзой и подала старшему ловцу.
— На! зараз же покажь этот перстень
атаману,— мне ждать неколи, а ему и того меньше! — сказала она повелительно.
Все это говорилось таким тоном, и вообще
незнакомая женщина так вела себя, что казаки уступили ее требованию и поплыли к
острову. Незнакомка следовала за ними. Она так сильно и умело работала веслом,
что ее легкий каючок не отставал от казацкой лодки.
Скоро они были у острова. Из-за земляного
вала, которым был обнесен стан Разина, кое-где поднимался синеватый дымок к
небу.
Лодка и каюк пристали к берегу. Старший
ловец тотчас же отправился в стан, а младший с незнакомой казачкой остались на
берегу.
— Что ж у вас в Черкасском делается? —
спросил было незнакомку оставшийся на берегу ловец.
— Это я скажу атаману,— был сухой ответ.
«Фу ты, ну ты!» — подумал про себя ловец и
только пожал плечами.
Скоро воротился и тот казак, который ходил
в стан с перстнем.
— Иди за мной,— сказал он незнакомке,—
батюшка Степан Тимофеевич приказал звать тебя.
Незнакомка повиновалась. По лицу ее видно
было, что волнение и страх боролись в ней с каким-то другим чувством.
Разин ждал ее на майдане в кругу нескольких
казаков. Выражение лица его было сурово.
Незнакомка робко подошла к нему и
опустилась на колени. Разин молча вглядывался в ее черты.
— Степанушка! Стеня! али ты не узнал меня?
— с нежным упреком произнесла пришедшая.
161
— Нет, узнал,— сухо ответил Разин.
Но и на его холодном лице отразилось
волнение и какое-то другое чувство. Стоявшая перед ним женщина была когда-то
его женой. Была! Да она и теперь его жена: вот тот перстенек с бирюзой, который
когда-то, в ту весеннюю ночку, он сам надел ей на пальчик. Помнит он эту ночку
— они не забываются. Но чем-то другим, какою-то пеленою заслонились
воспоминания этой, давно минувшей ночи. После нее были другие ночи — не здесь,
не на Дону, а на море...
— Встань, Авдотья,— более мягким голосом
сказал атаман,— тебе сказали, что у нас здесь нет жен?
— Сказали,— ответила жена Разина,— да я не
к мужу пришла, а к атаману.
— Сказывай же, с чем пришла? — спросил тот.
— Я при них не скажу,— указала она на
казаков.
— У меня от них тайны нет,— возразил
атаман.
— Так у меня есть,— с своей стороны
возразила жена атамана,— отойдем к стороне.
Разин нетерпеливо пожал плечами, но
исполнил то, чего требовала от него жена.
Когда она передала ему что-то на ухо, Разин
сделал движение не то удивления, не то досады. Жена продолжала говорить что-то
с жаром. Глаза атамана сверкнули гневом.
— А! дак они вот как! — глухо произнес он.—
Ладно же! я им покажу!
— Атаманы-молодцы! — громко обратился он к
кругу.— Нынче же в Черкасской! Слышите?
— Слышим, батюшка Степан Тимофеевич! любо!
— гаркнули казаки.
— А тебе, Авдотья, спасибо за вести,—
сказал Разин жене.— А теперь уходи восвояси: тебе здесь не место.
— Не место! А персицкой любовнице было
место! — крикнула жена атамана.
Глаза оскорбленной женщины сверкали
негодованием. Не такого приема ожидала она от мужа после стольких лет разлуки.
А он словно царь какой принял свою — когда-то Дуню, желанную, суженую. В этот
момент она забыла, что сама когда-то знать его не хотела, когда он был
неведомым бродягой и шатался с такими же бродягами... А теперь он — царь,
настоящий царь!.. «Спасибо за вести, а нам тебя не надо... тебе здесь не
место!..» Бессильная злоба кипела в ее душе...
162
И как назло — бывший ее муж стал теперь еще
красивее: седина в курчавой голове так шла к его черной бороде... А когда-то
она ласкала эту бороду, эту буйную голову... После нее ласкала другая... Эта
была милее, желаннее...
— Не место! жене не место, а любовнице —
место! — повторила она злобным шепотом.
— Авдотья! — тихо, сдержанно сказал ей
муж.— Уходи, если не хочешь сейчас же напиться донской воды.
— Хочу! утопи меня! — настаивала упрямая
казачка.
— Ты не стоишь этого! — махнул рукою Разин
и начал готовиться к походу в Черкасск.
Жена бросилась было за ним, но потом,
закрыв лицо руками, со слезами ушла с майдана.
Скоро ее каючок отчалил от берега и скрылся
во мраке.
«Не солоно хлебала»,— сказал про себя
провожавший ее до каюка молодой ловец.
XXVI. На Москву шапок добывать!
Вести, привезенные из Черкасска женою
Разина, были действительно тревожного свойства.
Из Москвы прибыл на Дон бывший недавно в
«жильцах» стольник Еремей Сухово-Евдокимов, который так отличался в прошлом
году, во время последнего купанья стольников и жильцов в Коломенском пруду, что
Алексей Михайлович пожаловал его двумя обедами разом. Еще тогда же дворские
завистники говорили, что Еремей шибко пойдет в гору после такой «царской ествы,
о какой у него и на уме не было».
Действительно, в Сухово-Евдокимове учуяли
ловкого малого, который в одно ушко влезет, а в другое вылезет, и раннею же
весною ему уже дали серьезное поручение: ехать на Дон с милостивою царскою
грамотою, а под рукою разузнать — не затевает ли вновь чего Разин. В Москве уже
известно было и о варварском его поступке с дочерью хана Менеды — Заирою, и о
том, что он не соединился с прочими донскими казаками, а основал свой особый
стан на Кагальнике. Все это очень беспокоило Алексея Михайловича.
163
Вот с этим-то двойственным поручением и
явился в Черкасск Сухово-Евдокимов «с товарищи».
— Я знаю, Еремей, твое усердие: ты и там
сух из воды выдешь,— сказал ему на милостивом отпуске «тишайший», остроумно
намекая игрою слов и на его «сухую» фамилию, и на его умение плавать.
— Ну, как бы там из «сухово» не вышло
мокренько,— процедил себе в бороду Алмаз Иванов, который лучше других понимал
всю серьезность дел на Дону.
Эти-то вести и сообщила Разину жена,
которая оставалась все время в Черкасске, когда муж ее в течение многих лет
рыскал с своею «голытьбой» то по Дону и Волге, то по Яику и Каспийскому морю.
В ту же ночь Разин с частью своих молодцов
отправился в Черкасск. На Дону в это время начиналось весеннее половодье, и
потому удобнее было ехать в Черкасск на лодках. Столица донских казаков, как
известно, в половодье была неприступна ни с луговой, ни с нагорной стороны
Дона, так как ее со всех сторон окружала вода, и весь Черкасск — его курени,
сады и церкви, казалось, плавали на воде.
Утром флотилия Разина неожиданно окружила
Черкасск. В станице все переполошились, когда услыхали три вестовых пушечных
выстрела с атаманского струга и когда молодцы Разина стали высаживаться на
берег и гурьбой, с криками и угрозами по адресу Москвы, направляться к соборной
площади.
Разин тотчас же приказал бить «сполох», и
соборный колокол оповестил всю станицу, что готовится что-то необычайное. Все
спешили на площадь — одни, чтоб узнать, в чем дело, другие — чтобы только
взглянуть на Разина, имя которого успело покрыться так быстро небывалою славою
и который представлялся уже существом сверхъестественным: его ни пуля не брала,
ни огонь, ни вода, ни сабля; на Волге, например, он расстелит на воде войлочную
кошму, сядет на нее и, точно в лодке, переплывает реку; когда в него стреляют,
он хватает пули рукою и бросает их обратно в неприятеля.
Но за то станичные и войсковые власти все
спешили прятаться от страшного гостя. Войсковой атаман Корнило Яковлев укрылся
в соборе, в алтарь, думая, что нечистая сила, с которой знается Разин, не
посмеет проникнуть в храм Божий.
На соборной площади, или на майдане,
собрался между тем круг. Разин вышел на середину круга, махнул бун-
164

чуком на колокольню, и набатный колокол умолк. Тогда Степан Тимофеевич
с свойственным ему красноречием, с глубоким знанием своего народа и его
инстинктов, начал говорить образным, самым пламенным языком о том, как Москва
посягает на их казацкие вольности, как бояре задумали обратить весь Дон и все
казачество в своих холопей, сделать холопками их жен и дочерей; напомнил им,
как князь Долгорукий самовольно казнил их атамана, а его родного брата Тимофея.
Он говорил страстно, убежденно. Это был один из тех народных ораторов, которые
родятся веками и за которыми массы идут слепо. Он был грозен и прекрасен в
своем воодушевлении, особенно когда говорил о том, что он видел, исколесив
русскую землю от Черкесска до Соловок,— что везде страшная бедность, голод, болезни,
притеснения, а зато на Москве, в царстве бояр,— какие палаты, какая роскошь! —
и все это награблено с бедных, с подневольных, с голодных. И вдруг теперь то же
хотят сделать с вольным Доном, с вольными казаками.
Вся площадь, казалось, замерла, слушая страстные
речи человека, в котором виднелась уже сверхъестественная сила.
Среди слушателей была и его жена. Она робко
затерлась теперь в толпе и из-за широких спин казаков жадно и благоговейно
глядела на своего бывшего мужа. Она теперь не узнавала его, но зато никогда не
любила так, как в этот момент, хотя он вчера и смертельно обидел ее.
«Степанушка! Степанушка мой!» — молитвенно,
беззвучно шептали ее губы.
— Где этот московский лазутчик, что хочет
казаков в дурни пошить? — вдруг оборвал свою жгучую речь Разин, обратившись к
своим молодцам.— Подать мне ево сюда!
Казаки бросились исполнять приказание
атамана. Через несколько минут Сухово-Евдокимова и его товарищей, московских
жильцов, ввели в казачий круг.
— Долой шапки! — крикнул Разин.— Здесь вам
не кабак!
Оторопелые послы московского царя сняли
шапки.
— Ты зачем сюда приехал?— спросил атаман,
подступая к Сухово-Евдскимову.
— Я приехал с царскою милостивою грамотою,—
отвечал последний.
— Не с грамотою ты приехал, а лазутчиком —
за мною подсматривать и про нас узнавать! Так вот же тебе!
166
И Разин со всего размаху ударил царского
посланца по щеке.
— Чево вам от нас нужно? — продолжал
атаман.— Али и без нас мало вам с кого кровь высасывать! Мало вам холопей
ваших, да крестьян, да оброшников, да ясашных! Мало вам на Москве палат, что на
холопских костях сложены! У нас вон нет каменных палат — одни курени да
мазанки. Чево ж вам надо? Наших голов? Так нет же! вот тебе грамота!
И он снова ударил посла.
— В воду его! — махнул он бунчуком.
Казаки набросились на несчастного и избили
его до полусмерти. Затем потащили к Дону и, еще живого, бросили с атаманского
струга в воду.
— Ну-ка, боярин, полови стерлядей у нас во
Дону! У вас на Москве их, слышь, нету,— издевались казаки над своей жертвой.
— Пущай плывет к туркам — они добрее
Москвы!
Искусный пловец тотчас же пошел ко дну.
— Ишь — только ножкой дрыгнул...
— Постой, атаманы-молодцы! погоди! не топи
его! — кричала с берега голытьба.
— Што так, братцы?
— А цветно платье зачем топить? У нас
зипунов нету — сымем с боярина цветно платье.
Казаки согласились с доводами голытьбы и
тотчас же бросились в другие лодки, чтоб баграми отыскивать утопленника.
Труп скоро был вытащен из воды, не успев
еще окоченеть. Зато тем легче было его раздевать — и его действительно раздели
донага.
— Эко зипун завидный! да и рубаха и порты
знатные!
— А то на! эко добро да в воду! Жирно
будет.
— А сапоги-ту! сафьян рудожелт —
загляденье!
— Только чур, братцы; — и зипун, и рубаху,
и порты, и онучи, и сапоги — все в дуван! — по жеребью.
— А хрест тельный? и его в дуван?
— Знамо! мы не бусурманы: на нас, чаю, тоже
хресты. И обнаженное тело московского посла снова бросили в Дон.
— Чать и ракам надо чем-нибудь кормиться.
— Вестимо...
— А шапка, братцы, боярска иде? —
спохватилась голытьба. — Шапки и не видать!
167
— Да! шапка! шапка! иде шапка? неужто
утопили?
— Шапка, должно, в кругу осталась,— там его
атаманы били.
Бросились в круг искать шапку.
— Иде боярска шапка? Подавай шапку в дуван!
Разин, увидев мечущуюся голытьбу, лукаво улыбнулся.
— Эх, братцы, я вам на Москве таких шапок
добуду! — сказал он задорно.
— На Москву, братцы! на Москву — шапок
добывать!— закричала голытьба.
— На Москву! За батюшкой Степаном
Тимофеевичем — шапки, зипуны добывать! — стонал майдан.
И среди этой бушующей толпы только одни
глаза с любовью и тоскою следили за каждым движением народного героя: то были
глаза его жены с навернувшимися на ресницы слезами. Но она не смела подойти к
нему.
Вечером того же дня флотилия Разина
возвращалась в Кагальник. Но это была уже не прежняя маленькая флотилия: почти
весь Черкасск ушел теперь за атаманом, захватив все лодки, какие только были в
станице.
С одного струга неслась заунывная песня, и
грустная мелодия ее далеко разлеталась по воде. Один голос особенно отчетливо
выводил:
«Как во городе, во Черкаскием,
У одной-то вдовы было семь сынов,
А восьмая — дочь несчастная.
Возлелеяв-то сестру, все в розбой пошли,
Своей матушке все наказывали:
Не давай-ка без нас сестру в замужье»...
Вечер был тихий и теплый. Полная луна
серебрила и поверхность широко разлившегося Дона, и прибрежные кусты тальника,
и развесистые вершины тополей. С луговой стороны неслись по воде трели
соловья...
Разин сидел на носу своего струга в
глубокой задумчивости: эта песня напомнила ему детство... А теперь? Он грустно
покачал головой...
Если
б он поднял глаза к нагорному берегу, под которым плыл его струг, то увидел бы
силуэт женщины, которая шла за стругом высоким берегом Дона и от времени до
времени утирала глаза рукавом.
XXVII. Васька-Ус
Весна и лето настоящего года принесли
Алексею Михайловичу много несчастий и огорчений. Тяжел был для него и
предыдущий — 1668 год; но то был год високосный — он и не ожидал от него ничего
хорошего.
А теперь так и повалила беда за бедою. В
начале марта царица Марья Ильинишна, с которою они прожили душа в душу двадцать
лет, умерла от родов. За нею через два дня умерла и новорожденная царевна.
Из Малороссии, с Дона, с Волги — отовсюду
неутешительные известия. Малороссию раздирают смуты: там разом борются из-за
власти семь гетманов — Многогрешный, Дорошенко, Ханенко, Суховиенко и Юрий
Хмельницкий — и кровь льется рекою.
Разин, после зверского убиения в Черкасске
Сухово-Евдокимова, уже двигается с своими полками к Волге.
Вдоль всего среднего Поволжья волнуются
татары «И другие инородцы, которых поднимают против царских воевод Багай
Кочюрентеев да Шелмеско Шевоев.
«А еще бояре в думе назвали челобитье их
непутевым — и их же батоги бить велено нещадно»,— вспоминает Алексей Михайлович
свою оплошность,— «оплошка, точно оплошка».
И патриарх Никон, сидя в Ферапонтове в
заточении, продолжает гневаться — не шлет царю прощения...
«Сердитует святейший патриарх, сердитует...
И протопоп Аввакум не шлет с Пустозерска благословения»...
«Ох, быть беде, быть беде!» — сокрушается
Алексей Михайлович.
И беда действительно надвигалась.
В начале мая Разин с своими толпищами уже
приближался к Волге несколько выше Царицына. Бесконечная панорама этой
многоводной реки всегда воодушевляла этого необыкновенного разбойника. Он ехал
впереди своего войска на белом коне, которого прислал ему в подарок покойный
гетман Брюховецкий.
При виде величественной реки, раскинувшей
здесь свои воды по затонам и воложкам почти на необозримое пространство, Разин
снял шапку точно перед святыней. Поснимала шапки и ватага его. Разин воскликнул:
— Здравствуй, Волга-матушка, река великая!
Жаловала ты нас, сынов твоих допреж сево златом-серебром и всяким добром;
чем-то теперь ты нас, Волга-матушка, пожалуешь?
169
Но в то же мгновенье он как будто вспомнил
что-то и как-то загадочно посмотрел на своего есаула: в душе атамана что-то
давно назревало против Ивашки Черноярца.
По Волге между тем двигалась его флотилия с
пешею голытьбою. Вся Волга, казалось, стонала от песни, которая неслась над
водою. Голытьба пела:
«Вниз по
матушке по Волге»...
В это время из соседнего оврага показалось
несколько всадников. Передний из них на поднятой над головой пике держал
какую-то бумагу.
Всадники эти при приближении Разина сошли с
коней и поклонились до земли.
— Встаньте! кто вы? — спросил Разин,
останавливая коня.
Всадники поднялись с земли. Это были,
по-видимому, татары — всех человек пятнадцать. Впереди их были, как казалось,
атаман и есаул: один худой и высокий, другой приземистый.
— Кто вы? — повторил Разин.
— Мы синбирские татаровя, мурзишки, батушка
Степан Тимофеич: я —мурзишка Багай Кочюрентеев, а он — мурзишка Шелмеско
Шевоев,—отвечал высокий татарин.— Мы к тебе, батушка Степан Тимофеич.
— С каким делом?
— С челамбитьям, батушка.
И Багай подал Разину бумагу. Разин передал
ее есаулу.
— Вычитай,— сказал он.
Ивашка Черноярец развернул бумагу и стал
читать: «Славному и преславному атаману вольного войска донского, батюшке
Степану Тимофеевичи, бьют челом и плачутся сибирские татаровя, а во всех их
место Багай Кочюрентеев сын да Шелмеско Шевоев сын; жалоба нам, батюшка Степан
Тимофеевич, на государевых воевод да на подъячих да на служилых людей; били мы,
сироты твои, челом великому государю и плакались, что мы-де, сироты его
государевы, его государеву пашню пашючи, лошаденка покупали и животишка свои и
достальные истощали, а за его государевою пашнею ходячи, одежонко все придрали,
и женишка и детишка испроели, и нынече, государь, помираем голодною смертию: а
одежонка нам, государь, сиротам твоим государевым, купити не на што и нечим, и
мы-де, государь, сироты твои государевы, погибаем нужною смертию, волочася с
наготы и босоты. И за то челобитье
170
нас, государь, батюшка Степан Тимофеевич, сирот твоих, указано бить
батоги нещадно. Атаман государь, смилуйся, пожалуй».
Разин внимательно прослушал все челобитье,
и брови его сурово сдвинулись.
— Так за это челобитье вас и драли? —
спросил он.
— За этам челамбитьям, батушка, наш войвод
секил нас батогам нещадным,— отвечал смиренно Багай.
— Добро. Я и до вашего воеводы доберусь,—
сказал Разин.— А теперь поезжайте домой и ждите меня, да и всем — и в Саратове,
и в Самаре, и в Синбирске скажите, чтоб меня ждали! Я приду...
Татары усердно кланялись. В это время по
дороге из Царицына еще показались двое всадников. Разин тотчас узнал их: то
были казаки, его лазутчики, которых он предварительно подослал в Царицын, чтоб
они заранее предупредили в городе своих единомышленников о скором прибытии
атамана с войском. Единомышленники должны были тайно, ночью, отворить городские
ворота для незваных гостей.
Разин да и все казаки с удивлением
заметили, что у одного из лазутчиков на седле сидел какой-то ребенок, и
казак-лазутчик бережно придерживал его рукой.
— Это что у тебя за проява? — спросил
Разин.
— Да вот сам видишь, батюшка Степан
Тимофеевич,— калмычонок,— отвечал казак,— девочка сиротка.
— Да где ты ее добыл и зачем? — недоумевал
Разин.
— Да вот видишь ли, атаман: повернули это
мы ужо из Царицына — там тебя ждут не дождутся! коли смотрим — идет навстреч
нам калмычка с ребенком на руках; Да как увидала нас — и ну улепетывать! —
вспужалась нас должно быть. Я кричу этто: «стой! стой! не бойся!» А бежала она,
дура, яром, да к Волге,— а яр-от крутой она возьми да и споткнись — и полетела
вниз с кручи, да прямо в Волгу. Вода-то полая подошла к самой круче — глыбоко
там — калмычка-ту и бултыхни в воду только пузыри пошли. А это пигалица как-то
зацепилась за коренья барыни-ягоды застряла — орет. Я и взял ее, жаль крошку.
Калмычка, должно думать, нищенка шла из Дербетевых Улусов в город побираться; а
как увидала нас, ну, знамо, заячий дух напал — и бултых в воду: сказано — дура
баба.
Маленькая калмычка, совсем голенькая, точно
бронзовая, лет, может, двух или темного больше, во время этого рассказа
доверчиво глядела на Разина и усердно жевала
171
изюм, сама доставая его из пазухи своего спасителя, а спаситель этот
захватил малую толику изюмцу в Царицыне у знакомого армянина. Встречая ласковый
взгляд своей бородатой няньки, девочка весело улыбалась.
Разин также с доброю улыбкою глядел на
черненькое, косоглазое и косматое существо, и в нем заговорило хорошее чувство:
он вспомнил, что судьба не дала ему детей от его Дуни, с которою он давно
расстался; но, быть может, она дала бы ему эту отраду в жизни от другой, от
той...
Он как-то машинально поманил к себе
маленькую калмычку, и она с улыбкой потянулась к нему, быть может, потому, что
он был в богатом с золотными кистями кафтане. Он взял ее и посадил к себе на
седло, и девочка тотчас же занялась кистями.
Казаки с удивлением, а татары просто с
умилением смотрели на эту невиданную сцену: страшный атаман с ребенком на
руках!
«Черт с младенцем!» — не одному казаку
пришло на ум это присловье.
Но забавляться ребенком не приходилось
долго. Разин опять передал маленькую калмычку ее спасителю.
— Куда ж мы ее денем? — спросил он.
— Оставим у себя, атаман,— не бросать же ее
как котенка,— отвечал казак.— Все равно — матери у нее нету, а тащиться с нею
до Дербетевых улусов — не рука, да и там оно, поди, с голоду околеет; а у нас,
по крайности, забавочка будет.
— Ишь ты бабу в казацкий стан пущать! —
улыбнулся есаул.
— Какая она баба? Козявка, одно слово —
мразь.
Разин махнул рукой:
— Ну, ин пущай!
Но едва они двинулись вперед, как справа,
по возвышенному сырту, замелькали толпы народа — и пешие, и конные.
— Кому бы это быть? — удивился Разин.—
Царские рати так не ходят; да это и не воеводская высылка, не разъезд.
И он тотчас же приказал казакам разведать —
что там за люди. Несколько казаков поскакали по направлению к сырту. Издали
видно было, как там, в неведомой толпе, при приближении казаков, стали
поднимать на пиках шапки. Другие просто махали шапками и бросали их в воздух.
— Кажись, наш брат — вольная птица,—
заметил Разин.
172
— Что-то гуторят, руками на нас
показывают,— с своей стороны заметил есаул.— Не калмыки ли?
— Нет, не калмыки: ни колчанов, ни стрел —
ничево таково не видать.
Теперь посланные скакали уже назад. Они
видимо чему-то были рады.
— Ну, что за люди? — окликнул их Разин.
— Нашей станицы прибыло, батюшка Степан
Тимофеевич! — кричали издали.— Васька-Ус бьет тебе челом всею станицей!
— А! Вася-Ус,— обрадовался Разин.— Слыхом
слышали, видна птица по полету! Что ж, милости просим нашей каши отведать: а уж
заварить заварим! Он раньше меня варить начал.
— Раньше-то, раньше,— подтвердил Ивашка
Черноярец,— да только каша его пожиже нашей будет.
— Кулиш, по-нашему, по-запорожски,— пояснил
один казак из бывших запорожцев.
Скоро толпы Васьки-Уса стали сближаться с
толпами Разина. Голытьба обнималась и целовалась с голытьбою и казаками. Шум,
говор, возгласы, топот и ржание коней... картина становилась еще внушительнее.
Сошлись и атаманы обоих толпищ. Васька-Ус,
проникнутый уважением к славе Разина, хоть был и старше его и летами, и
подвигами, первый сошел с коня и снял шапку. Это был маленький, худенький
человечек, из дворовых холопей, уже седой, с усами неровной величины: один ус у
него выщипан по приказанию его вотчинника за то, что он, будучи доезжачим,
раньше своего господина затравил в поле зайца. За этот ус Васька и мстил теперь
всем боярам и вотчинникам, и за этот выщипанный ус он и получил свою кличку.
Разин тоже сошел с коня, и оба атамана
трижды поцеловались.
— Батюшка Степан Тимофеич! — поклонился
Ус,— прими меня и мою голытьбу в твое славное войско.
— Спасибо, Василей, а как по отчеству
величать — не анаю,— отвечал Разин.
— Трофимов,— подсказал Ус.
— Спасибо, Василей Трофимыч!..
— А я с тобой, батюшка Степан Тимофеич, и в
огонь, в воду.
— И на бояр? — улыбнулся Разин.
— О! да на этих супостатов я как с ковшом
на брагу!
XXVIII. Смена часовых
Ночь перед Царицыным.
Полный диск луны и бледные звезды показывают,
что время давно перевалило за полночь. Стан Разина, обогнувший с трех сторон
городские стены, давно спит; только от времени до времени в ночном воздухе
проносятся караульные оклики.
— Славен город Черкасской,— несется с
освещенного луною холма, что высится у обрыва над речкою Царицею.
— Славен город Кагальник! — отвечает ему
голос с другого берега речки Царицы.
— Славен город Курмояр! — певуче заводит
голос с теневой стороны предместья.
— Славен город Чиры!
— Славен город Цымла!
Это перекликаются часовые в стане Разина.
Им вторит дружное кваканье лягушек, раздающееся в камышах да в осоке по берегу
Царицы. Там же от времени до времени раздается глухой протяжный стон, наводящий
страх в ночной тиши: но это стонет небольшая с длинною шеей водяная птица — бугай
или выпь!
Безбрежная равнина водной поверхности Волги
кое-где сверкает растопленным серебром.
Чудная весенняя ночь!
Разин лежит в своем атаманском намете с
открытыми глазами. Ему не спится, его томит какая-то глухая тоска. Как клочья
громадной разодранной картины проносятся перед ним сцены, образы, видения,
звуки из его прошлой бурной жизни: то пронесется в душе отголосок давно забытой
песни, то мелодия знакомого голоса, то милый образ, милое видение,— и опять
мрак, или зарево пожара, или стон умирающих...
Но явственнее всего перед ним носится милый
образ. В намете у него темно, но он видит это милое личико, точно оно сходит
откуда-то вместе с бледным светом месяца, проникающим в шатер через отдернутую
полу намета. Он не может его забыть, не может отогнать от себя это видение...
Отогнать! Но тогда что ж у него останется?..
Он старается прислушаться к окликам
часовых, к ночным неясным звукам. Но среди этих неопределенных звуков слышится
чей-то детский плач...
Нет, это сонное пение петуха в городе...
— Славен город Раздоры!
— Славен город Арчада!
174
На светлую полосу в намете, освещенную
месяцем, легла как будто прозрачная тень. Разин всматривается и видит, что эта
тень приняла человеческие формы...
Что это? Кто это? Но тень все явственнее и
явственнее принимает человеческий облик...
Это она — Заира! Она нагибается над ним, и
он слышит тихий укор ее милого голоса: «Зачем ты это сделал? Я так любила
тебя»...
— Славен город Курмояр!
— Славен город Кагальник!
Разин в испуге просыпается... Но и теперь
его глаза продолжают видеть, и он ясно сознает это несколько мгновений: как
легкая, прозрачная, точно дым от кадила, тень отошла за отдернутую полу намета
и исчезла в лунном свете. Ему стало жаль, что он проснулся и отогнал давно
жданное видение. Если бы не эти оклики часовых, она осталась бы дольше с ним.
Он закрывает глаза. Он ждет — может быть,
повторится видение... Слышен какой-то свист со стороны Волги, что-то знакомое
напоминает этот свист... Да, он вспоминал-вспоминал высокие камыши в заводях
Каспийского моря, такую же ночь прошлого года и тихо качающийся с морской зыбью
струг... Так же и тогда свистела эта ночная водяная птичка — это овчарик... Но
тогда он не один прислушивался к свисту этой ночной птички...
Со стороны города опять доносится пение
петуха. Это, должно быть, уже третьи петухи. Скоро должны прийти из города те,
которые отопрут городские ворота. Но нет, до зари еще далеко.
Не слыхать более окликов часовых. Да это и
не нужно. Кто же осмелится напасть на спящий стан Разина? Да и кому нападать?
Слышится чей-то вздох, тихий, тихий, как
вздох младенца...
Разин открыл глаза... Что это? Опять она!
На лице ее грустная улыбка... Он слышит опять ее голос: «Зачем ты ему поверил?
Он только хотел погубить меня... Он не хотел, чтоб я была твоя»...
— Кто он? — глухо спросил Разин и сам
проснулся от своего голоса.
Но он теперь знал, кто он... Он и прежде
это знал. Если бы не его наушничество, она бы и теперь была жива. Это сознание
давно его мучило, и он уже давно терзался глухою ненавистью к своему есаулу. Он
всему виною!
Разин встал и вышел из шатра. До утра ещё
далеко.
175
— Славен город Раздоры!
— Славен город Арчада!
Это опять оклики часовых, но их самих не
видать.
Разин обогнул угол своего просторного
намета и в тени, бросаемой им от месяца, увидел спящего есаула. Ивашка
Черноярец лежал на разостланной бурке. В головах у него было седло, а руки
подложены под голову. Он лежал лицом вверх, растянувшись во весь рост.
Разин вынул из-за пояса, из оправленных
серебром и бирюзою ножен, длинный персидский нож и по самую рукоятку всадил его
в грудь своего есаула, под самым левым сосцом.
Черноярец открыл глаза...
— Атаман! — с ужасом прошептал он.
Разин быстро повернул нож в груди своей
жертвы и вынул.
— Это тебе за нее! — глухо произнес он.
Убитый даже не шевельнулся больше.
Тщательно вытерев нож об бурку и вложив в
ножны, Разин пошел вдоль своего стана. Казалось, он прислушивался к ночным
звукам. Кваканье лягушек умолкло, но вместо них в камышах Царицы заливалась
очеретянка. По временам стонала выпь и насвистывал овчарик. На Волге, вправо от
Царицына, длинная водная полоса сверкала серебром.
— Хто идет? — послышался оклик часового.
— Атаман,— отвечал Разин.
— Пропуск?
— Кагальник.
Разин шел дальше. Видны уже были очертания
городских стен, и длинная черная тень тянулась от крепостной башни с каланчою.
— Славен город Москва! — глухо донеслось с
каланчи.
— Славен город Ярославль!
— Славен город Астрахань!
Это перекликались часовые на стенах города.
И Разину вдруг ясно представилось, как эти города, которые теперь славят часовые,
будут его городами, особенно Москва. И он вспомнил маленькую келейку в
монастыре у Николы на Угреше и Аввакума, прикованного к стене этой келейки.
Бедно и сурово в келье, только солома шуршит под ногами узника. А там, в городе
— какие палаты у бояр! какое убранство на их конях, сколько золота на их
одежде! сколько соболей изведено на их шубы, на шапки!
176
И этот город будет его городом! Он станет
середи Москвы, на Лобном месте, станет и крикнет, как тогда обещал Аввакуму:
«Слышишь, Москва! слышите, бояре!». И услышат этот голос во всей русской земле,
за морем услышат!
Из-за обрыва, спускавшегося к Царицыну,
осторожно выюркнула человеческая фигура и, увидев при свете месяца Разина,
попятилась назад.
— Хто там? — окликнул Разин и взялся за
свой персидский нож.
— Васька-Ус,— был ответ,— а в придачу —
Кагальник.
— А! это ты, старина? — удивился Разин.—
Што полуношничаешь?
— Не спится, атаман, дак робят проверяю.
— Каких ребят?
— Часовых... Который из них задремит — я
того и сменяю.
— Как сменяешь?
— Вот этим самым ножом.— Васька-Ус показал
широкий нож, на котором видна была свежая кровь.— Который часовой меня не
окликнет и я подкрадусь к ему — тому прямо нож под микитки — и баста! Уж тот
што за часовой, к которому подкрасться можно — последнее дело: я того и сменяю.
Я всегда так-ту, батюшка Степан Тимофеич. и у меня никогда часовой не задремит
— ни-ни! ни Боже мой! Уж это все знают.
— Ну и молодец же ты, Василий Трофимыч! —
удивился Разин.— Вот умно придумал! Молодец! Ну, а я не дошел до этого, не
додумался.
— Ничего, атаман, Бог простит,— утешал его
разбойник.
— Ну и что ж! сменил кого? — спросил Разин.
— Двух сменил-таки — порешил... Другим
наука.
— Ну и молодец же ты! — похлопал разбойника
по плечу Разин.— Будь же ты за это моим есаулом!
— А Иван Черноярец што? — удивился, в свою
очередь, Васька-Ус.— Не хорош?
— Я его тоже сменил, как ты молодцов,—
отвечал Разин.
— А-а! — протянул Ус.
Из оврага, идущего от Царицы, послышался
протяжный, очень осторожный свист. Разин отвечал таким же свистом, только два
раза.
177
Из оврага вышел человек в поповском
одеянии.
— Здравствуй, отец протопоп,— поздоровался
с ним Разин.
— Здравствуй, батюшка Степан Тимофеевич,—
отвечал пришедший.
К нему подошел Васька-Ус и снял шапку.
— Благослови, отче,— сказал он, протягивая
руку горстью, как за подачкой.
— Во имя Отца и Сына...— благословил
пришедший.
— Ну что, отец Никифор? — спросил Разин.—
Уговорил?
— Уговорил — все готово, хоть голыми руками
бери город.
В это время в стане послышались голоса,
говор, шум.
— Злодеи! есаула зарезали!
— Это Васькины ребята! Вяжи злодеев! А где
Васька?!
— Батюшки! и часовой зарезан!
Разин с улыбкой переглянулся с своим новым
есаулом, и они поторопились в стан. Начинало светать.
XXIX. Воевода Тургенев на веревке
Едва первые лучи солнца позолотили кресты и
главы царицынских церквей, как казаки двинулись к городу.
Разин и его новый есаул ехали впереди,—
Разин с бунчуком в руке, Васька-Ус — с обнаженною саблей.
Разинцы подступали к городу двумя лавами:
одна шла к тому месту, где пологий вал и городская стена, казалось,
представляли наиболее удобств для приступа, хотя эта часть стены и башни были
защищены пушками; другая лава подавалась вперед правее, к тому месту, которое
казалось неприступным и где находились городские ворота, прочно окованные железом.
Разин попеременно находился то в голове
правой лавы, то в голове левой.
Воевода Тургенев, недавно назначенный
командиром Царицына, и стрельцы, его подкомандные, по-видимому
178
спокойно ожидали приступа, потому что, с одной стороны, уверены были в
невозможности взять крепость без стенобитных орудий, с другой — что со дня на
день ожидали прибытия по Волге сверху сильного стрелецкого отряда. Тургеневу и
другим защитникам Царицына очень хорошо видно было со стен, как Разин разъезжал
впереди своей, казалось, нестройной толпы. Тургенев, высокий и плотный мужчина
с сильною сединою в длинной бороде, стоял на стене, опершись на дуло пушки, и,
казалось, считал силы неприятеля.
— Дядя,— обратился к нему стоявший рядом
молодой воин в богатых доспехах,— дозволь мне попужать орла-стервятника.
— Какого это, племянник? — спросил воевода.
— А вон того, что на белом коне,— самого
Стеньку.
— А чем ты его попужаешь?
— Вот этой старушкой! — Он указал на пушку.
— Добро — попробуй: только наводи верней.
Молодой воин при помощи пушкарей навел дуло
орудия на Разина. Взвился дымок, и грянул выстрел. Ядро не долетело до цели и
глухо ударилось о глинистую сухую почву.
Разин издали погрозил бунчуком.
Правая лава, между тем, достигла городских
ворот и остановилась. Разин поскакал туда.
Вдруг в городе, как бы по сигналу,
зазвонили колокола во всех церквах. Воевода с удивлением глянул на окружающих.
Со стены, ближайшей к воротам, послышались
крики:
— Батюшки! злодеи в городе! — их впустили в
ворота.
Действительно, Разин беспрепятственно
вступил в город в голове правой лавы: городские ворота были отворены перед ним
настежь.
Навстречу новоприбывшим от собора двигалось
духовенство в полном облачении, с крестами и хоругвями. Впереди, с Распятием в
руках, шел тот священник, соборный протопоп Никифор, которого мы уже видели
ночью около стана Разина. Рыжая, огненного цвета борода его и такие же волосы,
разметанные по плечам, горели под лучами солнца, как червонное золото.
Разин сошел с коня и приложился к кресту.
При этом он что-то шепнул на ухо протопопу, и тот утвердительно наклонил
голову. Затем стали прикладываться к кресту казаки.
179
Между тем на площади расставляли столы для
угощения дорогих гостей. Сначала робко, а потом все смелее и смелее начали
выходить из своих домов царицынцы и спешили на площадь.
Колокольный звон смолк, и духовенство
возвратилось в собор.
Царицынцы со всех сторон сносили на площадь
калачи, яйца, всякую рыбу и горы сушеной и копченой воблы. Мясники резали
волов, баранов и тут же на площади свежевали и потрошили убоину. Другие
обыватели разводили костры, жарили на них всякую живность и сносили потом на
расставленные столы, а с кружечного двора выкатывали бочки с вином.
Всем, по-видимому, распоряжался соборный
протопоп, отец Никифор. Его огненная борода мелькала то здесь, то там.
— Ишь как батько-то хлопочет — так и
порывается,— судачили царицынские бабы, глазея на приготовления к пиру.
— Да и как, мать моя, не хлопотать горюну?
Все это чтоб насолить супостату своему, воеводе жеребцу, за дочку.
— Что и говорить, милая, дочка-то у него
одна, что глазок во лбу, а он, волк лихой, и польстись на девчонку.
— Эка невидаль! девчонка! — ввязалась в
разговор Мавра, известная на весь Царицын сплетница.— Онамедни девка сама к
яму, к воеводе-то, бегала.
— Плещи, плещи, язва! — осадила ее первая
баба.
— Не плещу я! а ты сама язва язвенная! —
окрысилась сплетница.— Ишь святая нашлась! Сама, своими глазыньками видела, как
она, Фроська-то, шмыгнула к нему в ворота — так и засветила рыжей косой.
— Тьфу ты, негодница! Помолчала бы хоша,
сама была девкой,— отвернулась первая баба.
— Глядь! глядь-ко-ся! мать моя! — удивилась
вторая баба.— Чтой-то у того казака на руках? Никак махонька калмычка?
— И то, милая, калмычка, да совсем
голенька. Должно на дороге подобрали.
— Ах, бедная! Семь-ка я сбегаю, принесу ей
рубашонку от моей Фени.
И сердобольная баба побежала за рубашкой
для маленькой калмычки.
180
Вскоре начался и пир. За почетным столом
поместился Разин с своим новым есаулом, а также все казацкие сотники. Их угощал
отец Никифор.
За соседним столом восседали на скамьях
другие сподвижники Разина, и в том числе Онуфрий Лихой, тот самый, что вчера
привез в казачий стан маленькую калмычку. Девочка сидела тут же, на коленях у
своего седобородого покровителя, и, беспечно поглядывая своими узенькими
глазами на все окружающее, серьезно занималась медовым пряником. Она была,
видимо, довольна своей судьбой — как сыр в масле каталась, чего она в своем
улусе никогда не испытывала. Теперь она была в чистенькой рубашонке, и даже в
ее черную как смоль косенку была вплетена алая ленточка. Все это оборудовала
сердобольная баба.
Пир между тем разгорался все более и более.
Слышно было оживление, громкие возгласы, смех. Разин, разгоряченный вином и
подчиняясь своему огневому темпераменту, громко объявил, что он во всей русской
земле изведет неправду, переведет до корня все боярство...
— На семена не оставлю! А Ордина-Нащокина с
сыном Воином на кресте Ивана Великого повешу!
— Марушка! Марушка! подь сюды, ходи через
стол.
Это манил через стол маленькую калмычку
казачий пятидесятник, Яшка Лобатый, коренастый увалень, первый силач на Дону.
Девочке уже дали подходящее имя: ее назвали «Марушкой».
— А где воевода? — вспомнил наконец Разин.—
Подать сюда воеводу!
— Да воевода, батюшка Степан Тимофеич,
заперся с своими приспешниками в башне,— отвечал отец Никифор.
— А! в башне? Так я его оттудова выкурю.
Атаманы-молодцы! за мной! — крикнул Разин, вставая из-за стола.
Сотники, пятидесятники и другие казаки,
пировавшие поблизости, обступили атамана.
— Идем добывать воеводу! — скомандовал
Разин.— Щука в вершу попала — выловим ее!
— Щуку ловить, щуку ловить! — раздались
голоса.
— В Волгу ее! Пущай там карасей ловит!
Ватага двинулась к крепостной башне.
Впереди всех торопливо шел поп Никифор. Полы его рясы раздувались, а рыжие
волосы ярко горели на солнце.
— Ай да батька! ай да долгогривый! —
смеялись казаки.— Да ему хуть в атаманы, дак в пору.
181
Башня была заперта. На крики и стук в
башенную дверь в одну из стенных прорезей отвечали выстрелом, никого, впрочем,
не ранившим.
— А! щука зубы показывает! — крикнул Яшка
Лобатый.— Так я ж тебя!
И он побежал куда-то к площади. Вскоре
оказалось, что богатырь нес на плече громадное бревно, почти целый брус.
— Сторонись, атаманы-молодцы! ушибу! —
кричал он.
Все посторонились, а богатырь со всего
разбегу ударил бревном в башенную дверь. Дверь затрещала, но не упала. Лобатый
вновь разбежался,— и от второго удара дверь подалась на петлях. Последовал
третий, сильнейший удар — и дверь соскочила с петель.
— Ай да Яша! он бы и лбом вышиб! — смеялись
казаки.
И Лобатый же первым бросился вверх по
лестнице. За ним другие казаки. Разин стоял внизу рядом с попом Никифором.
— Щуку не убивайте, молодцы! — крикнул он
вверх.
Оттуда доносился шум борьбы, крики, стоны.
В несколько минут все было покончено — никого не оставили в живых. Пощадили
только воеводу. Его снес с башни Лобатый словно куль с овсом.
Как безумный подскочил к несчастному поп
Никифор и ударил его по щеке.
— Нна! это тебе за Фросю! за ее девичью
честь! — говорил он, задыхаясь, и тут же накинул на шею воеводы веревку.— На
осину его, на осину Иуду!
— Нет, бачка, он не твой,— сказал Разин,
отстраняя попа.— Он наш — войсковой: что круг присудит, то с ним и будет.
Сказывайте ваш присуд, атаманы-молодцы,— обратился он к казакам.
— В воду щуку — карасей ловить! — раздались
голоса.— В Волгу злодея!
— Быть по-вашему,— согласился Разин.— А
теперь скажи, воевода,— обратился он к Тургеневу,— за что ты грабил народ? Али
тебя царь затем посадил на воеводство, чтоб кровь христианскую пить? Мало тебе
своего добра, своих вотчин? Не отпирайся — я все знаю: про тебя, про твое
неистовство и на Дону уж чутка прошла. Кайся теперь, проси прощенья у тех, кого
ты обидел.
Тургенев молчал. Он знал, что его не любили
в городе. Он видел, как сбежавшиеся на шум царицынцы враждебно смотрели на него.
182
— Православные!— обратился Разин к
горожанам.— Што вы скажете?
Все молчали. Всем казалось страшным
говорить смертный приговор беззащитному человеку.
— Казни, батюшка, казни злодея!
Все оглянулись в изумлении. Страшный
приговор произнесла — баба! — и то была — сплетница!
— Ах ты, язва! — не утерпела сердобольная
баба, которой стало жаль человека, стоявшего перед толпой с безропотной
покорностью.
Послышался лошадиный топот. Это прискакал
гонец с верхней пристани.
— Стрельцы сверху плывут — видимо-невидимо!
— торопливо сказал он.
Разин глянул на Тургенева и махнул рукой.
Казаки поняли его жест.
— В воду щуку! к стрельцам на подмогу! —
заговорили они. Один из казаков взял за веревку, которая все еще висела на шее
воеводы, и потащил к Волге, к крутому обрыву. Толпа хлынула за ними в глубоком
молчании.
Вдруг откуда ни возьмись молоденькая
девушка, которая быстро пробилась сквозь толпу и с воплем бросилась на шею
осужденному.
— Сокол мой! Васенька! возьми и меня с
собой! Без тебя я не жилица на белом свете!..
— Владычица! да это Фрося! — всплеснула
руками сердобольная баба.
Это и была дочка попа Никифора: искрасна
золотистая коса, жгутом лежавшая на спине девушки, подтверждала это кровное
родство с рыжим попом, который весь задрожал, увидев дочь в объятиях
ненавистного ему человека.
Тургенев с плачем обнял девушку...
— Бедное дитя, прости меня! — шептал он.
— Меня прости, соколик, я погубила тебя. Но
казаки тотчас же розняли их.
Обрыв был под ногами — и воеводу толкнули
туда. Не успели опомниться, как и девушка бросилась туда же, и Волга мгновенно
приняла обе жертвы.
Поп Никифор стоял над кручей и рвал свои
рыжие космы.
XXX. Струги с мертвой кладью
Разин между тем делал распоряжения о
встрече стрельцов, которые плыли сверху на защиту как собственно Царицына, так
и других низовых городов.
Все свое «толпище», как иногда называли в
казенных отписках его войско, он разделил на две части: одну половину, меньшую,
под начальством Васьки-Уса, он оставлял в городе, с другою, большею, он сам
выступил для встречи московских гостей и для усиления отряда, находившегося на
его флотилии.
Есаул должен был выстроить свой отряд вдоль
городских стен, обращенных к Волге, и всю крепостную артиллерию расположить
так, чтобы она могла обстреливать всю поверхность Волги вплоть до небольшого
островка, лежащего как раз против Царицына и заросшего густым тальником и
верболозом.
Лодки же, на которые он посадил часть
пехоты, он приказал отвести за островок и там укрыть их за верболозом. Он это
сделал для того, что когда стрельцы, подплыв к городу и встретив там
артиллерийский огонь с крепостных стен, вздумают укрыться за островом, то чтобы
там их встретил не менее губительный огонь с флотилии, которая и должна была
отрезать стрельцам отступление.
Сам же он с небольшим отрядом конницы пошел
вверх берегом прямо навстречу московским гостям.
Скоро показались и струги с стрельцами.
Издали уже слышно было, что стрельцы шли с полной уверенностью «разнести
воровскую сволочь», и на первом же струге раздавалась удалая верховая стрелецкая
песня, до сих пор раздающаяся по Волге от Рыбинска, в то время Рыбное, до
Астрахани. Стрельцы пели:
«Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
Сизый селезень плывет!
Ишь ты, поди ж ты, что ж ты говоришь ты,—
Сизый селезень плывет!»
Но стрелецкое пение вдруг оборвалось, когда
с берега казаки, среди которых было немало из волжского бурлачья, гаркнули
продолжение этой песни:
«Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому
Добрый молодец идет:
Он с кудрями, он с русыми
Разговаривает!
Ишь ты, поди ж ты, что ты говоришь ты,—
Разговаривает!»
184
Увидев на берегу небольшой отряд, стрельцы
направили свои струги ближе к берегу и открыли по казакам огонь. Казаки
отвечали им тем же, и началась перестрелка.
По
мере усиления огня казаки отступали, все более и более приближаясь к городу.
Стрельцы из этого заключили, что казаки не выдерживают огня, и пустились за
ними вдогонку.
Но в это время со стен города, о взятии
которого казаками стрельцы и не подозревали, открыли по стругам убийственный
огонь. Пораженные неожиданностью, стрельцы не выдержали артиллерийского огня и
повернули от города, чтоб укрыться за островом, но там их встретила такая же
убийственная пальба из засады.
Царское войско растерялось, поражаемое с
двух сторон и ядрами, и пулями. Но стрельцы все-таки упорно защищались, и
только тогда, когда две трети было их перебито, стали просить пощады.
Разин велел прекратить пальбу и привести
струги с остальными стрельцами к берегу.
Когда струги причалили к берегу, казаки
стали считать убитых и насчитали более пятисот трупов. В живых осталось до
трехсот стрельцов.
Они вышли на берег и кланялись победителю.
Разин сказал им:
— Коли хотите служить мне, оставайтесь со
мною, а нет...
— Хотим, хотим, батюшка Степан Тимофеич! —
закричали побежденные.— Мы шли против тебя неволею... Прости нас!
— Добро,— сказал Разин,— оставайтесь с
нами. А чтобы воеводам да боярам впредь неповадно было перечить мне, я им
покажу, какая ждет их широкая масленица. Атаманы-молодцы!— крикнул он к
казакам.— Снарядимте-ка два струга, которые будут залишние, и изукрасим их, как
вон в песне поется:
«Хорошо были стружечки изукрашены,
Они копьями, знаменами, будто лесом
поросли».
— А мы изукрасим их получше, поцветнее.
Казаки, по-видимому, не понимали его и
ждали, что будет дальше. Тогда Разин указал на два морских струга из тех,
которые им были оставлены прошлого осенью в Царицыне после морского похода и
стояли теперь у пристани порожние.
185
— Вот что, братцы,— сказал он,— сносите
всех убитых стрельцов на эти струги, сносите поровну, а там я скажу, что дальше
делать. Помогайте и вы, ребята,— сказал он оставшимся в живых стрельцам.— А у
кого в кармане сыщите деньги, сносите их есаулу — в дуван пойдут.
Все
принялись за работу, не понимая, для чего это, и скоро оба струга наполнены
были трупами. Разин взошел на один из стругов.
— Эх! — обратился он к трупам.— Жаль мне
вас, горюны, да что делать! Коли лес рубят, то и щепки летят... А я — ох...
какой лес задумал вырубить! — заповедный! Да хочу вырубить дочиста, чтоб и
побегов не осталось.
Он задумался, глядя на обезображенные лица
мертвецов.
— Ну, теперь, братцы, распоясывайте у
мертвецов кушаки! — снова заговорил Разин.
Казаки повиновались. Когда было распоясано
несколько десятков на том и другом струге, Разин остановил эту странную работу.
— Ну, довольно, братцы: есть чем изукрасить
стружечки,— сказал он.— Теперь развешивайте мертвецов по всем снастям,— вот как
в Астрахани белорыбицу либо осетрину, а то и воблу развешивают вялить да балыки
провесные делают... Да чтоб понаряднее были — все бы снасти, и мачты, и шесты
изнавесить боярскими балыками... Пущай любуются да кушают на здоровье... А я из
них таких балыков наделаю!
Только теперь все поняли, к чему клонились
эти странные распоряжения атамана.
И вот казаки и стрельцы принялись
развешивать мертвецов, подвязывая их к снастям кушаками.
Страшную картину представляло это
необычайное зрелище. Из Царицына все население высыпало смотреть на то, что
делали казаки. Весь берег был усыпан зрителями.
А Разин ходил по стругу, иногда
останавливался и задумывался, качал головою, как бы отгоняя назойливые мысли, и
потом встряхивал кудрями и отдавал приказания:
— Выше, выше подвешивай! Да шапку набекрень
надень… Так, так — ладно... Каковы балыки! Это я моему другу любезному, князю
Прозоровскому... Пущай отпишет к Москве тестеньке своему Ордину-Нащокину,
каковы-таковы казаки бывают... А то на! — перевести казаков, вольный Дон да
Волгу-матушку перелить в Москву-реку да в Яузу... Захлебнетесь Доном да
Волгою... Я вам не Ермак дался — не поклонюсь ни Доном, ни Волгою, ни казацкою
186
волею, как тот поклонился царством сибирским: глуп был батюшка Ермак
Тимофеич, не тем будь помянут... Да, отольются волку овечьи слезки... Ей! этого
гладково на самый верх посадите, на палю, как вон у запорожцев да у турок
делают — так, так — ишь важно на пале сидит! А то на — милостивая грамота...
похваляем, а там и в бараний рог, как старца Аввакума... Нет, я вам не
Аввакум!..
Когда ужасная оснастка стругов была
окончена, Разин обратился к стрельцам:
— А кто ваши головы? — спросил он.
Стрельцы отвечали;
— Были у нас, батюшка Степан Тимофеич, пять
голов с нами в Казани послано, да ноне в бою твоими казаками трое из них убиты
до смерти, а осталось только двое,— вот они.
Разин подозвал их к себе. Те стояли ни
живы, ни мертвы.
— Я всех начальных людей, и голов, и бояр
убиваю,— сказал Разин.— Вас я не трону: вы так головами и останетесь; одного из
вас я посажу на один струг, другого на другой. Плывите в Астрахань с своими
стрельцами, как плыли сюда из Казани, и кланяйтесь от меня астраханскому
воеводе, князю Прозоровскому, и скажите, что я ему балыков посылаю... Вон какие
осетры висят! Да скажите астраханцам всякого звания людям, что я чиню расправу
только над боярами да мироедами, а бедных людей не трогаю: бедные — мои братья
и все мы промеж себя ровня. Слышали?
— Слышали, батюшка Степан Тимофеич,—
покорно отвечали стрелецкие головы.
— Так помните, что я вам сказал, и
астраханцам всякого звания людям передайте мои речи от слова до слова, как я
сказал,— заключил свою речь Разин.
Стрелецкие головы поклонились.
— А теперь,— обратился Разин к казакам,—
снесите на оба струга корму всякого и питья на неделю и больше того, чтоб
головам было чем дорогою кормиться. Живо!
Казаки бросились исполнять приказание
атамана, и чрез несколько минут из города принесено было множество калачей,
несколько окороков, балыков, копченой воблы и несколько бочонков вина.
— Это вам корм,— сказал Разин головам,—
голодны не будете. Да не перепейтесь дорогой!
Головы кланялись и благодарили.
187
— А чтоб вы не бежали с дороги, я вас обоих
велю приковать — каждого к своему рулю,— пояснил Разин,— рулем-то вы будете
править, а бежать не бежите... Гребцов вам не надо: сама Волга-матушка донесет
вас до Астрахани. Эй! атаманы-молодцы! принесите две якорных цепи, да
подлиннее, и прикуйте господ голов — каждого к своему рулю.
Казаки принесли две цепи и исполнили, что
им приказывал атаман: одного стрелецкого голову поместили на одном струге с
мертвецами и приковали, другого — на другом, и тоже приковали.
Затем оба струга с мертвой кладью и с
прикованными рулевыми отвели на середину Волги и пустили на произвол судьбы.
Струги тихо поплыли по течению...
Зрелище было до того ужасно, что многие
стрельцы, те, что остались в живых, глядя, как уплывали их мертвые товарищи,
горько плакали.
Разин долго провожал струги глазами и затем
молча воротился в город.
XXXI. Страшная весть
Царь Алексей Михайлович, впечатлительный и
мечтательный по природе, поэт в душе, говоря современным языком, очень любил
всякую торжественную обрядность и «действо», вроде «пещного действа», а
впоследствии и «комидийных действ». Нравились ему и благочестивые зрелища с
обрядовою обстановкою, и благочестивое, душеспасительное песнопение странников
и «калик перехожих», и он охотно слушал духовные стихи о «богатом и убогом
Лазаре», «о грешной душе» и т. п.
И теперь, когда он занимался в своей
образной горнице с дьяком Алмазом Ивановым, на заднем крыльце Коломенского
дворца сидели двое «калик перехожих», о которых он слышал от царевен и в
особенности от царевны Софьи, что они поют разные, «зело предивные стихи».
Дела были неотложные. С нижней Волги с
самого ее вскрытия не было вестей, а между тем ходили слухи, что Разин с Дону
уже двинулся к Волге. Нужно было оза-
188
ботиться о снаряжении на Волгу, в «плавную службу», как можно более
ратных людей с верхней Волги и с Камы. Поэтому сегодня должен был выехать на
Вятку с государевою «памятью» молодой Ордин-Нащокин, Воин, который с ратными
людьми просился в Астрахань — на всякий случай — в помощь к тестю своему, к
князю Прозоровскому.
Вот эту «память» и докладывал теперь царю
Алмаз Иванов. О взятии Разиным Царицына и о разгроме посланных из Казани
стрельцов до Москвы еще не дошли слухи, так как единственный путь для сношения
с низовыми городами — Волга — был уже в руках у казаков, один отряд которых,
посланный Разиным из Царицына вверх по Волге, овладел Дмитриевском, что ныне
Камышин.
— Да, да, настали для нас «злы дни»,—
говорил Алексей Михайлович как бы сам с собою, пока Алмаз Иванов надевал очки,
чтоб читать память,— надо торопить с плавною службою. Ну, вычти...
Алмаз Иванов начал читать: «Лета 7179-го,
маия 30 день, по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа
Русии указу, память Воину Ордину-Нащокину. Ехати ему на Вятку, для того: по
государеву указу, велено быти на государеве службе, в плавной, с боярином и
воеводою, со князем с Юрьем Борятинским с товарищи, с Вятки ратным людем
полтретьи тысячи человеком; да велено на Вятке для государевы плавныя службы
сделати сто стругов».
— Сто стругов? не мало? — спросил государь.
— В перву версту, государь, довольно,—
отвечал дьяк.
— Добро. Ну?
Дьяк продолжал: «А послан из Казани для тех
судов Офонька Косых. И Воину, приехав на Вятку, отдати от боярина и воеводы от
князь Юрья Борятинскова с товарищи дьяку Сергею Резанцеву с товарищи ж отписку,
и говорити им, чтоб они собрали на Вятке ратных людей полтретьи тысячи человек
тотчас, с вогненным и с лучным боем, и рогатины б у них с прапоры были; а были
б ратные люди молоды и резвы...»
— Не то что мы с тобой,— улыбнулся Алексей
Михайлович.
— Где ж нам, государь, холопем твоим
тягаться с твоею государевою резвостью!— пробурчал дьяк свой придворный
комплимент и продолжал доклад: — «И из пищалей бы стреляти были горазды, а
старых бы и не-
189
дорослей в них не было. А как на Вятке ратных людей сберут, и Воину с
теми ратными людьми ехати в Казань тотчас с вешнею водою вместе, а Офонасью
Косых со стругами велети ехати в Казань тот же час не мешкая, чтоб за тем
государеве службе молчанья не было. А не пришлют с Вятки ратных людей вскоре,
по государеву указу, всех сполна, а государеве службе учинитца за ними
мотчанье, и вятчан пошлют из прогонов и пеню им учинят по государеву указу».
Алмаз Иванов кончил.
— Быть по сему,— заключил государь.— Пущай
же Воин едет без мотчанья. Все доложил?
— Все, государь,— отвечал дьяк, собирая в
сумку докладные свитки.
Дьяк откланялся и вышел, а государь
отправился на девичью половину. Там в покоях царевны Софьи он застал
постоянного посетителя девичьих покоев Симеона Полоцкого, который продолжал
заниматься с любознательной царевной, а также приятельницу ее, молоденькую жену
Воина Ордина-Нащокина, Наталью Семеновну, и Артамона Сергеевича Матвеева с
своею юной воспитанницей, Натальей же Кирилловной Нарышкиной.
— А! и ты, старый, тут с молоденькими,—
милостиво поздоровался государь с Матвеевым.
Матвеев стал замечать, что Алексей
Михайлович, встречая иногда у дочери юную его воспитанницу, обращал на нее
особенное внимание, и, казалось, она ему серьезно нравилась. Это и заставило
его учащать к Софье Алексеевне с своею «царевною Несмеяною», как он называл ее
за то, что она почти никогда не смеялась и хорошенькие глазки ее были всегда
серьезны и задумчивы.
— Да вот, государь, моя-то царевна Несмеяна
соскучилась по государыне царевне Софье Алексеевне, я и привез ее,— отвечал
Матвеев, кланяясь.— А я у нее и мамка, и нянька.
— Что же, дело хорошее,— заметил Алексей
Михайлович,— нам, старикам, чем же иным и быть, как не няньками?
— Помилуй, государь! — возразил Матвеев.—
Не тебе бы это говорить, не нам бы слушать! Тебе, великому государю, самая
верста жениться.
Алексей Михайлович поспешил замять этот
разговор и обратился к Симеону Полоцкому.
190
— А слыхал ты, Симеон Ситианович, што ноне
весной было трясение земли в Персиде? — сказал он, садясь около дочери.
— Сказывали, государь,— отвечал ученый
белорус.— Был трус и в Греках.
— А отчего оное трясение земли бывает? —
спросил государь.
— Я зчаю, батюшка, отчего,— отозвалась
Софья.
— О! да ты у меня всезнайка,— улыбнулся
государь.— А ну-ну, расскажи.
— Оттого,— начала царевна по-книжному,— егда
ветры внидут в скважни под землю и паки оттуду исходити имут, и не могут
поразитися вон, и тогда от них бывает трясение земли.
— Так, так... Ну, а с чево эти скважни
бывают? — допытывался государь.
— А с того — где земля вельми жестока, тамо
есть на всяком месте вода под тою землею в исподе, и егда та бездна водная
подвизается от ветров и вон выразитися вода жестокости ради земныя не может,
тогда раздирает землю великою силою, и сице ту страну двизает,— скороговоркой
проговорила Софья, как заученный урок *.
Симеон Полоцкий с любовью смотрел на свою
ученицу — она не ударила лицом в грязь.
— Да, дивны дела Рук Божиих,— задумчиво
проговорил Алексей Михайлович; и потом, обратясь к молодой Ординой-Нащокиной, с
улыбкой спросил: — А что, Наталья, будешь плакать, муженька провожамши в ратное
дело?
— Я уж и так, государь, плакала,— вспыхнула
молодая женщина.— Я б и сама с ним, коли можно, к батюшке поехала.
— О-о! прыткая! — улыбнулся государь.— А
впрочем што дивить! Уж коли матушки-игуменьи не испужалась — бежала к жениху,
дак вора Стеньки и подавно не испужаешься.
Молодая беглянка еще больше покраснела. Hо Софья Алексеевна замяла этот разговор.
— Что ж, батюшка, позвать калик? — сказала
она.
— Позови, позови,— согласился Алексей
Михайлович. Царевна вышла и вскоре воротилась, но уже не одна: за нею,
осторожно ступая, как бы опасаясь провалиться, вошли в светлицу два странника.
Один из них, помоложе,
_________
* «Книга, глаголемая Лусидариусом».
191
был совсем слепой: волосы его, сбившиеся шапкой и никогда, по-видимому,
не чесанные, падали на лоб и на слепые глаза. Другой был зрячий старик, но без
правой руки. Войдя в светлицу, они разом поклонились земно, а потом, стоя на
коленях, проговорили, осеняясь крестным знамением:
— Благословение дому сему и всем обитающим
в оном.
— Аминь,— набожно сказал царь.— Встаньте,
страннички, куда путь держите?
— К преподобным Зосиме-Савватию на
Соловки,— отвечал слепец.
— А откуда Бог несет?
— С Астрахани, государь-батюшка.
Этот ответ произвел общее движение. Молодая
Ордина-Нащокина даже привскочила на месте.
— Из Астрахани?— переспросил Алексей
Михайлович.— А что там слышно? Что воевода, князь Прозоровский?
— Были мы, государь-батюшка, у воеводы,—
отвечал зрячий,— он нас милостиво принял, отпустил с миром и с милостынею и
велел помолиться святым угодникам о здравии твоем, великий государь, и всего
государева дома, да велел еще помолиться о здравии рабы божьей Натальи...
— Батюшка, родной мой! — вырвалось у
Ординой-Нащокиной.
— Да приказал еще воевода,— продолжал
старший калика,— помолиться об избавлении града Астрахани от вора и супостата
Стенька Разина.
— А што об нем слышно, где он? над кем
промысл чинит? — встрепенулся Алексей Михайлович.— Оттудова давно нет вестей.
— Слышно, надежа-государь, сказывали, быдто
вор город Царицын добыл и воеводу предал лютой смерти,— отвечал чуть слышно
калика.
— Боже Всемогущий!— воскликнул Алексей
Михайлович, бледнея.— Пощади люди твоя, и грады, и веси, всемилостивый Господи!
Што ж еще слышно — сказывайте.
— Ой, надежа-государь!— заплакал старший странник.—
Не слыхали мы, а сам я своими глазами видел злое дело ево — как и глаза у меня
не ослепли от тово, што видели... Прошли мы это уж Енотаевский город и
Черный-Яр, идем Волгою, бережочком, коли слышим: птица это каркает, воронье, да
коршуны и орлы клекочут, аж страшно стало. Смотрю я: птица над Волгой тучей
носится —
192
так хмарою и застилает небо. Дале, боле, надежа-государь, вижу я:
кружит та хмара не то над высокими деревами, не то над островом каким, и то
подымается хмара, то спустится к тем деревам. Дале-ближе, государь-батюшка,
вижу я: то не дерева и не островы, а плывут по Волге как бы две посудины — ни
то расшивы, ни то струги большие, а на снастях у тех стругов изнавешено что-то
будто красное, а на том красном понасело птицы видимо-невидимо: и коя птица
стаями садится на те снасти, да на то красное, а коя птица хмарою кружит, да
каркает, да клекочет — и уму непостижимо! Дале-ближе, надеженька-государь, вижу
ясно: плывут два больших струга, а помосты-то у них — вымолвить страшно! —
устланы мертвыми людьми — мертвец на мертвеце,— и все то стрельцы...
— Стрельцы! — в ужасе проговорил царь.
— Стрельцы, надежа-государь,— продолжал
калика,— сотни их там понаметано, либо и тысщи, и на снястях-ту все висят
стрельцы: што их там изнавешено, и сказать не умею! А на всем этом трупе сидит
воронье, да орлы, да коршуны, и клюют те трупы, и дерутся промеж себя за добыч,
и каркают, и клекочут, и тучею-хмарою кружат! Волосы ожили у меня на голове,
надежа-государь, дыбом встали! Мы стоим, смотрим, да только крестимся. А струги
все плывут тихо, все плывут. И слышим мы, надежа-государь, с тех стругов гласы
человеческие: — «люди божьи! помолитесь об нас, грешных,— об рабе божьем
Ларивоне, да об рабе божьем Панкрате: мы-де стрелецкие головы, посланы были с
Казани с ратными людьми для обереженья низовых государевых городов, и
супостат-вор Стенька над нами-де воровской промысл под Царицыном учинили и всю
государеву рать, мало не до единого перебил вогненным смертным боем, а нас-де,
Ларивона да Панкрата, оставил в живых для того: плыли б мы, Ларивон да Панк-рат
с мертвою государевою ратью в Астракань на двух стругах, и поклонились бы
астраканскому воеводе, князю Прозоровскому, мертвою государевою ратью и сказали
б воеводе, чтоб он скоро ждал к себе его, вора Стеньки, приходу. А мы-де,—
говорят Ларивон да Панкрат,— прикованы к стругам чепью».
Как громом поразила всех эта страшная
весть. Алексей Михайлович, бледный, с дрожащими губами, растерянно озирался.
Симеон Полоцкий крестил и дул в лицо молодой Ординой-Нащокиной, которая лежала
в обмоооке. Юная Нарышкина Наталья вся дрожала й плакала. Матвеев Артамон
Сергеевич тоже растерялся. Одна царевна
193
Софья, по-видимому, не растерялась: бледная, с плотно сжатыми губами,
она подошла к отцу, который как-то беспомощно шептал: «злодеи, злодеи...»
— Батюшка, касатик! — взяла она его за
руку.— Пойдем... созови сейчас думу... бояр всех, дьяков... За тебя станет вся
русская земля — за тебя Бог...
И как бы в подкрепление мужественных слов
юной царевны, калики тихо, молитвенно запели:
«Ой, у Бога великая сила...»
XXXII. Братские похороны и поход
Струги с мертвой кладью достигли наконец
Астрахани.
Этот страшный караван с мертвецами,
расклеванными до костей хищными птицами, прежде всех увидели астраханские
рыбаки, закидывавшие тони выше Астрахани. Как и калики перехожие, они не могли
сначала понять, что такое плыло по Волге и почему над этим неведомым «что-то»
тучами кружились и кричали птицы.
Но скоро и для них это «что-то» — что-то
страшное — стало понятным, особенно когда струги подплыли ближе и с них
послышались слабые человеческие голоса, скорее — два стона, исходившие от
каждого струга. Приблизившись к ним в лодках, рыбаки, не смея взойти на
страшные плавучие кладбища, от прикованных к рулям стрелецких голов узнали всю
ужасную их историю. Невольные рулевые были чуть живы, но все еще настолько
владели мускулами рук, что могли с трудом направлять свои струги по стержню
реки: они боялись приткнуться где-либо к берегу или к острову, чтоб не
погибнуть голодною смертью за недостатком корма. Когда же они плыли мимо
Черного-Яра и Енотаевская, то жители как того, так и другого, узнав, что это за
струги такие и какую они кладь везут, с ужасом уплывали от них к берегу.
Выслушав эту страшную историю, астраханские
рыбаки тотчас же поспешили с ужасною вестью в город.
— Недаром тогда старый Илья Осипов из
рыбного ряду сказывал, когда, летось, мы пымали тех ужастенных
194
трех осетров, что послали тады одново государю-царю, дрогово — святому
владыке патриарху, а третьим поклонились батюшке Степану Тимофеичу,— недаром,
чу, Осипов сказывал, что с самой той поры, как в Астракане у нас царила
Маришка-безбожница с Ивашкою Заруцковым, таких осетров в Волге не видывали,— говорил один старый рыбак, поспешая с
товарищами в город.— Должно и ноне будет государствовать над нами батюшка
Степан Тимофеич.
— Дай-то Бог! — отозвался на это молодой
пловец из затинщиков.
— Так-ту так, милый, може и будет он
государствовать, да надолго ли? — возразил старый ловец.— У бояр-ту на Москве
сила не махонька.
Рыбаки тотчас же поспешили к воеводскому
подворью.
Князь Прозоровский в это время объезжал у
себя на дворе прекрасного карабахского коня, присланного ему из Испагани в
подарок персидским купцом Сэхамбетом в благодарность за то, что в прошлом году,
когда Разин ограбил на Каспийском море купеческую персидскую бусу, везшую
поминки шаха царю Алексею Михайловичу, и захватил в полон ехавшего на этой бусе
сына Сэхамбета, князь Прозоровский своим влиянием на Разина, смягченного тогда
любовью к прекрасной Заире, способствовал выкупу из полона молодого перса.
Вместе с отцом упражнялся на дворе в
верховой езде и старший сынишка князя, десятилетний княжич Степа, под
руководством опытного наездника, пятидесятника конных стрельцов Фрола Дуры.
— Я теперь, батя, и свово тезки не
испужаюсь, Стеньки Разина,— хвастался мальчик, трепля гриву своего смирного
киргизского конька.
— О! княжич! — улыбался его ментор, Фрол
Дура.— Да Стенька теперь тебя сам испужается. Вон какой ты ратник — страх!
— Да,— улыбался и воевода,— по нынешним
временам, сынок, нам нужны ратники: не ровен час — опять нагрянет чадушка.
В это время вошли на двор рыбаки.
Принесенная ими весть до того ошеломила
всех, что воевода видимо растерялся. Он не ожидал, что в смирившемся было
крамольнике опять проснулся кровожадный зверь. Послав тотчас же конного
пятидесятника с этим известием к своему товарищу, к князю Семену Ивановичу
Львову, он приказал вместе с тем созвать к себе всех стрелецких голов,
195
а сам поскакал к митрополиту Иосифу — просить его
совета.
Едва он вошел во владычные палаты, как под
окнами раздались крики:
— Плывут! плывут струги с мертвецами!
Услыхав страшную весть, митрополит тотчас
же поспешил в соборную церковь, приказав по пути немедленно собраться туда же и
прочему духовенству.
Скоро от собора к Волге потянулась
церковная процессия с крестами, иконами и хоругвями. Митрополит и прочее
духовенство были облачены в черные ризы. За процессией повалил народ со всех
концов города.
На Волге процессию ожидало потрясающее
зрелище. Выехавшие с пристани навстречу стругам ловцы и ратные люди плавной
службы буксировали к берегу страшные струги. Испуганные необычайным движением
на берегу, вороны, сидевшие на трупах и кружившиеся в воздухе, оглашали воздух
еще более оглушительным карканьем. В толпе слышался плач женщин и детей, и весь
этот плач и карканье хищных птиц покрывал похоронный звон всех астраханских
церквей.
Наконец струги были прибуксированы к берегу
и на борты их кинуты сходни. Когда стрельцы отковали прикованных к рулям голов
и свели их под руки на землю, митрополит и священники, поднявшись по сходням и
не вступая на струги, где за трупами негде было стать, начали общее отпевание
на брани побиенных.
В воздухе почти не слышно было трупного
запаха, потому что мертвецы обклеваны были птицею до костей, а от многих и
кости были растащены и разнесены по степям орлами и коршунами.
За воплями женщин почти не слышно было
погребальных гимнов, и только кадильный дым вился струйками в воздухе и таял,
да от времени до времени с крепостных стен пушкари и затинщики пушечными
выстрелами отдавали последнюю почесть погибшим в бою товарищам.
Между тем на кладбище Троицкого монастыря
сторожа и боярские холопы, по распоряжению городового приказчика, копали
несколько огромных ям для общих братских могил.
Из города в то же время выслано было на
пристань несколько телег для перевозки трупов, и скоро началась страшная
процессия перенесения их с стругов в телеги. Зрелище было потрясающее!
196
Но когда хор митрополичьих певчих вместе со
всем духовенством возгласил стихиру Иоанна Дамаскина: «плачу и рыдаю, внегда
помышляю смерть» и когда в этом надрывающем душу пении слышались такие слова,
как «вижу красоту твою, безобразную и бесславную, не имущую виду», или «како
предаемся тлению», то со всех сторон послышались глухие рыдания...
Плакал и князь Прозоровский. Никогда не мог
он и подумать, чтобы когда-нибудь привелось ему видеть такое зрелище, или
чтобы, отправляясь на воеводство в Астрахань, он мог ожидать, что еще будет
когда-либо плакать так, как в последний раз плакал, четыре года тому назад, в Москве,
в Новодевичьем монастыре, когда там постригали, а ему казалось — хоронили его
любимицу, юную дочку Наталеньку...
«Плачу и рыдаю» — стонало у него в душе, и
он плакал, плакал, как бы предчувствуя, что через несколько дней и его самого
будут стрельцы тащить такого же «безобразного, бесславного, не имущего виду» и
бросят в общую могилу с сотнями таких же, как и он, «бесславных и
обезображенных...».
И вот под заунывный, нестройный, но тем
более удручающий душу перезвон колоколов всех астраханских церквей потянулся
ряд телег с мертвецами к Троицкому кладбищу,— телега за телегой, по тряской и
изрытой водороинами дороге, а трупы в лохмотьях, в красных, изодранных когтями
и клювами орлов и коршунов стрелецких кафтанах, точно недобитые и недоеденные,
подпрыгивали на этих водороинах и еще более увеличивали тем ужас общей картины.
За ними валил толпами народ, жадный до всякого рода зрелищ, даже до таких,
каково было это...
Скоро на кладбище образовалось около
десятка высоких земляных бугров.
А к вечеру — новое зрелище. За день воеводы
и стрелецкие головы успели снарядить и вооружить до сорока больших морских
стругов и посадить на них около трех тысяч ратных людей — стрельцов и других
служилых с князем Львовым во главе. Флотилия эта должна была идти навстречу Разину
и истребить его «воровское толпище» до последнего человека.
С возгласами и песнями отплывали стрельцы
от Астрахани. Чтобы показать свою удаль, стрельцы, едва отплыли от берега под
прощальные выстрелы крепостных пушек, как тотчас же грянули хором любимую тогда
всеми ратными людьми «весновую песню», которая в одном старинном
197
сборнике записана была дословно еще в 1619 году. Запевалой был Костка
«гудошник», и он начал подголоском:
«Сотворил ты, Боже,
Да и небо-землю.
Сотворил же, Боже,
Весновую службу.
Не давай ты, Боже,
Зимовыя службы!»
С берега певцам махали шапками, ширинками —
это бабы. На соседнем струге подхватили другим хором, низкими голосами:
«Зимовал служба —
Молодцам кручинно
Да сердцу надсадно.
Ино дай же, Боже,
Весновую службу:
Весновая служба —
Молодцам веселье,
А сердцу утеха».
— Любо! любо! — кричали стрельцы из вятичей
и ветлужан.— Ай да понизовые! У нас так не сумеют голосом низы забрать.
А понизовые, поощряемые похвалами,
наддавали верхними голосами с подголосками:
«А емлите, братцы,
Яровы весельца,
А сядемте, братцы,
В ветляны стружечки.
Да грянемте, братцы,
В Яровы весельца
Ино вниз по Волги...»
— Не вниз, братцы, а вверх! — поправил
Костька «гудошник».— Вверх по Волге.
— Ино вверх — точно...
«Сотворил нам Боже,
Весновую службу» *.
Князь Львов, сидя под наметом на передовом
струге и слушая эту песню, самодовольно улыбался: он видел, что его ратные люди
с добрым духом и с «резвостью» идут против вора и злодея Стеньки.
____________
* Эта замечательная песня записана, как
сказано выше, в 1619 году, для оксфордского бакалавра Ричарда Джемса, вместе с
другими шестью песнями, в том числе знаменитые песни царевны Ксении Годуновой,
которые и доныне хранятся в Оксфорде. Напечатаны в «Известиях II отд. Акад. Наук».
198
Скоро флотилия князя Львова скрылась из
глаз провожавших ее астраханцев, а они все стояли на берегу и прислушивались к
молодецкому пению, все более и более замиравшему вдали.
Флотилии этой, однако, не суждено было
воротиться в Астрахань...
Что с нею сталось — это мы узнаем из
последующих глав.
XXXIII. «Они там, а мы тут...»
Прошло несколько томительных дней ожидания
возврата стрельцов с князем Львовым; но ни стрельцов, ни вестей никаких сверху
не было.
Только однажды, на заре, знакомые нам
ловцы, закинув тони несколько выше Астрахани, вместе с осетрами и белорыбицей
вытащили к ужасу — несколько трупов. Закинули еще — и опять утопленники!
Но когда хорошенько рассмотрели
обезображенные и распухшие да притом изъеденные раками лица мертвецов, то хотя
и с трудом, однако же, распознали в них тех стрелецких голов, сотников и
дворян, которые отправились против Разина вместе с князем Львовым. Не осталось
никакого сомнения, что и эту высылку, состоявшую почти из трех тысяч стрельцов
и других ратных людей, постигла та же участь, какую испытала под Царицыном
прежняя высылка из Казани.
Астрахань, таким образом, должна была
готовиться ко всему.
— Я давно знал, что так оно и выдет,—
лукаво заметил, отпихивая подальше в воду веслом тело одного стрелецкого
головы, тот молодой ловец из затинщиков, который охотно ожидал в Астрахань
батюшку Степана Тимофеича.
— А ты почем, возгряк, знал про то? —
спросил старик рыбак.
— Мне сказывал Костка гудошник,— отвечал
малый,— мы-де, говорит, спевку сделали промеж себя и всем нашим головам да
сотникам зальем за шкуру сала, штоб
199
они напредки не заедали нашево кормовово да
посощново жалованья.
Плывшие по Волге трупы этих голов да
сотников были, наконец, усмотрены с берега и в Астрахани и выловлены. Не нашли
между ними только князя Львова. Где он? что с ним?..
Ждать спасенья было неоткуда, а тем более
из Москвы: не было более пути, по которому можно было бы тайно послать в Москву
гонца с вестью о предстоявшей Астрахани гибели, потому что Волга была в руках
Разина, а посылать через степь было бесполезно: там по всем направлениям
рыскали калмыки, давно озлобленные против русских воевод за их грабежи и
притеснения.
Оставалось одно — запереться в городе и
укрепиться.
В тот же день совершен был крестный ход
вокруг городских стен. Ход был особенно торжественный и внушительный: церковная
святыня всех астраханских церквей, хоругви, кресты, горящие громадные свечи в
массивных паникадилах — все двигалось вокруг стен, а впереди всего этого
шествовала величайшая святыня города — икона Божией Матери в драгоценном
окладе. У каждых ворот шествие останавливалось и воздух оглашался молебствием и
пением всех церковных хоров и всего духовенства. День был такой тихий, что
свечи горели на воздухе и пламя их совсем не колебалось. Над процессией
кружились стаи голубей, всполошенных церковным звоном и пением.
Вместе с процессией двигался весь город,
особенно женское население. Во главе шествия, позади духовенства, шел воевода и
внимательным взором осматривал городские стены и ворота. Тут же шла и княгиня
Прозоровская с двумя сыновьями. Старший мальчик шел бодро, уверенно. Казалось,
что он был убежден в истине слов своего «коневого учителя» Фрола Дуры: Степан
Разин «сам испужается своего тезки», княжича Степана Прозоровского. Но младший
сынишка воеводы, Сеня, был больше занят голубями, между которыми он искал своих
любимых «турманов».
Однако не весь город участвовал в
процессии. Если бы князь Прозоровский мог видеть и прислушиваться к
таинственным перешептываньям на базарах разных кучек холопей и посадских
ободранцев, то он увидел бы в этом нечто зловещее...
А вечером, когда воевода обошел все
городские стены и башни, осмотрел пушки и боевые запасы, расставил по
200
местам пушкарей, затинщиков и воротников, роздал стрельцам запасное
оружие и приказал стрельчихам кипятить в котлах воду,— стрельчихи коварно между
собой переглядывались...
— Ты, Дарьюшка, не больно-то перекипячивай
воду...
— Знаю, меня не учить стать: не перекипячу,
не впервой своих стрельчат купать в корытцах...
— Ха-ха-ха! вот сказала! — стрельчат купать...
— А то как же? Може и твой сокол полезет на
стену, дак и ему кипятком очи заливать! А сподручнее тепленькой водицей...
— Да они там и не полезут... А тут мы их
сами за белы ручки востягнем на стену...
— Так, так: они там, а мы тут...
XXXIV. Разин в Астрахани
Над Астраханью спускаются сумерки.
Тихо над городом и над Волгою. И в городе
тихо, как будто все поснуло, а между тем никто и не думал спать. Тихо так, что
даже слышится в темноте какой-то шепот. Кое-где неслышно пробегают человеческие
тени. Слышно даже, как у Волги, под учугами, соловей заливается...
— Не долго тебе, соловушко, петь,— говорит
боярский сын, стоя на часах над Вознесенскими воротами.— До Петрова дня уж не
далеко.
— И то правда,— тихо отвечает другой
часовой, сидя там же «в запасе»,— уж и кукушка, сказывают, галушкой подавилась,
не кукует боле; и как овес выкинет колос, дак и соловей потеряет голос.
При всеобщей тишине в воздухе, однако,
проносятся иногда какие-то неопределенные звуки; но слух не может их уловить:
не то жужжанье насекомых, не то шепот прибрежных камышей с осокою.
По небу звездочка прокатилась и сгасла...
— Што это — видишь?
— А што такое?.. а?.. где?
— Гляди, точно лес двигается и шевелится.
— Вижу, вижу... Это они!.. звони в колокол!
бей сполох.
201
И вдруг в вечерней тишине раздался звон
башенного колокола. За ним другой, третий — все башни заговорили.
В городе началась тревога. Послышались
голоса со стен.
— Воры идут! к Вознесенским воротам!
Теперь ясно было видно, как к городу
надвигались массы. В темноте можно было различить, что нападающие тащили к
стенам лестницы.
Услыхав тревогу, князь Прозоровский быстро
вышел на двор, где уже ожидал его оседланный карабахский скакун, подаренный ему
Сэхамбетом. Тут же на дворе суетливо готовились к бою дворяне, дети боярские, подьячие
и стрелецкие головы.
Вложив ногу в стремя, князь приказал
трубить.
— Трубачи! — крикнул он.— Трубить к
Вознесенским воротам!
Он выехал со двора, за ним остальные
служилые люди. Впереди бежали холопы с зажженными смоляными факелами и освещали
путь.
Сойдя у Вознесенских ворот с коня, воевода
поспешил на стену. От факелов мрак кругом еще более сгустился, так что нельзя
было отличить осаждающих. Что-то металось внизу, под стенами, слышны были
голоса: «Давай лестницы!.. приставляй к стенам!.. дружно, атаманы-молодцы!»
— Лей кипяток на головы им, окаянным! —
распоряжался воевода.
Послышался плеск воды со стен.
— Лей дружнее!.. не жалей кипятку! А внизу
вдруг раздается хохот...
— Вода-то у вас, братцы, тепленька! не
замерзла бы! — слышится снизу.
— И впрямь вода не горяча!.. Што за
притча!.. Остыла что ли...— слышны голоса на стене.
Между тем на стене ближе к Троице творилось
что-то необычайное. Там приставлен был сплошной ряд лестниц, и по ним быстро,
но бесшумно взбирались на стену казаки и стрельцы.
Слышен был шепот и сдержанный смех.
— Давай руку! так, так, влезай!
— Соколики! сюда! сюда!— слышались бабьи
голоса.— Мы вас давно ждем.
Слышны поцелуи, радостный говор.
— А где батюшка Степан Тимофеевич?
— Уж он в городе... Город наш!
202
Астрахань взята была без выстрела.
Оказалось, что все втайне было подготовлено для приема Разина и его войска.
Согласники его составляли большую часть населения города: и посадские, и
стрельцы, и холопы — все ждали его, как своего спасителя, милостивца, защиту от
бояр, от приказных, от детей боярских и всякого начальства. Тот трехтысячный
отряд, который был отправлен против казаков с князем Львовым, сдался Разину без
боя и потерял только своих голов и сотников, которых Разин приказал перебить и
побросать в Волгу.
Князя Львова Разин велел оставить в живых и
приказал ему ходить за маленькой калмычкой, за Марушкой, с которой казаки не
хотели расстаться.
Когда казаки подошли к Астрахани на
приступ, то уж они заранее знали, с которой стороны брать ее: они показывали
вид, что начнут штурмовать город с Вознесенских ворот, куда и направились все
защитники злополучного города, а между тем приставили лестницы к стене там, где
их всего менее могли ожидать. Но там ждали их свои — посадские люди, стрельцы и
их жены, а также холопы и базарная, и кабацкая голытьба: они-то и подавали руки
осаждающим, когда их лестницы немного не доставали до верху стены. Стрельчихи
же вместо кипятку налили в чаны, кадки и перерезы теплой воды, в какой они
своих детей купают.
В ночной темноте грянули вдруг выстрелы:
это был знак, что город в руках у казаков.
Воевода, сбежав со стены, вскочил на своего
Карабаха и помчался туда, где он слышал крики торжества. За ним ринулись дети
боярские, дворяне и оставшиеся верными стрелецкие головы. Но их ждала там
гибель: чернь и казаки бросились на них и всех перебили.
Костка гудошник, заметив воеводу, бросился
на него с копьем.
— А! так я ж тебя ссажу с коня!
Копье вонзилось в живот воеводы, и князь
Прозоровский свалился с своего великолепного Карабаха. Испуганный конь умчался,
а стонущего воеводу какой-то сердобольный старик на своих плечах стащил в
соборную церковь и там положил на ковер.
Городские ворота между тем отворили, и вся
масса разинцев двинулась в город и затопила площади и улицы.
Начались неистовства, о которых мы говорить
не намерены...
203
Скажем только, что князь Прозоровский самим
Разиным был столкнут с раската, и его защитник, Фрол Дура, изрублен казаками в
куски...
……………………………………………………………………………………………….
Разин пробыл в Астрахани три недели, завел
в городе казацкие порядки и уничтожил посты — всем велел есть скоромное.
Сдав город Ваське-Усу, как своему
наместнику, Разин накануне выступления в поход приказал привести к себе сыновей
князя Прозоровского.
— Как зовут тебя? — спросил он старшего
мальчика.
— Князь Степан, княж сын Семенов
Прозоровский,— бойко отвечал мальчик.
— Мудрено что-то,— зло усмехнулся атаман,—
и сам князь и княж сын, да еще и Степан, мой тезка, значит... Ладно... А
боярином будешь?
— Буду,— отвечал мальчик.
— Ну, это еще старуха надвое сказала,—
снова усмехнулся Разин.— А в казаки хочешь?
— Нет, не хочу.
— Молодец, из тебя будет прок. А тебя как
зовут? — обратился он к младшему.
— Сеней,— отвечал робко мальчик.
— Только-то? А тоже, поди, князь и княж
сын... А боярином будешь? Высоко пойдешь?
Мальчик молчал.
— Вот что, атаманы-молодцы,— обратился
Разин к окружавшим его,— эти щенята высоко пойдут, как вырастут... Пущай же
теперь пойдут повыше... только ногами кверху. Поняли? а? повесить их за ноги!
Двое из казаков распустили на себе кушаки,
связали ноги юным Прозоровским, которые от страха не могли даже плакать, и
подвесили их с раската... Тут только послышались крики несчастных детей...
Личики их затекали кровью...
— Довольно! Тащи сюда щенят! Их подняли и
развязали.
— Ну, тезка, а теперь будешь боярином?
Будешь вешать нашего брата? — спросил Разин старшего.
Мальчик плакал и молчал.
— Аспид будет,— заметил Разин, глядя на
него.— Туда его — к отцу!
И казаки столкнули мальчика с раската...
— Ну, а этого малыша жаль,— сказал Разин.—
А чтоб он не был боярином, все-таки — выпороть его! Подымайте рубашонку.
204
Ребенка тут же высекли ремнем, но слегка.
— Ну, теперь не будешь боярином,— гладя
мальчика по головке, сказал Разин.— Сеченый — что за боярин! А теперь отвезите
сеченого к матери.
Под раскатом кто-то шел и пьяным голосом
распевал:
«Поставлю я келью со дверью,
Стану я Богу молиться,
На красную-горку поститься,
Чтобы меня девки любили,
Крашоные яйца носили.
Или-или, или-или, или!
Крашоные яйца носили!»
— Да это никак поп Никифор? Ах, горемыка!
Это и был действительно царицынский
соборный протопоп. После ужасной смерти дочери он пристал к казакам и с горя
стал пить.
XXXV. С самим встретиться!..
Был уже сентябрь месяц на исходе.
Воин
Афанасьевич Ордин-Нащокин, с успехом исполнив возложенное на него царем трудное
поручение по сбору ратных людей с привятских и прикамских волостей, находился
уже в Казани в распоряжении воеводы Борятинского и ожидал со дня на день
выступления в поход, когда рано утром, сидя на берегу озера Булака, куда он
ходил, чтобы размыкать свою тоску, к нему подошла старая цыганка и, вглядевшись
в него, таинственно проговорила:
— Об чем закручинился, добрый молодец? Коли
о том, что на Москве, так ту кручину я руками разведу, а коли о том, что
случилось в Астрахани,— так и к той кручине я ума-разума приложу.
Воина поразил этот двойственный намек
цыганки.
— А ты почем знаешь о моей кручине? —
спросил он.
— Черная птица всюду летала, всюду все
видала и добрым людям помогала: поможет и тебе черная птица, добрый молодец,—
по-прежнему таинственно отвечала цыганка.
— Чем же она поможет мне?
205
— А кручину с сердца сымет, а замест
кручины — радость положит; а та радость астраханской кручине сродни будет, а
тебе, добрый молодец, вдвое сродни,— все так же загадочно отвечала цыганка.
Суеверный страх внушали Воину эти слова —
он был сын своего века и верил в чудесное, как Аввакум верил тому, что он беса
из-под печки выгнал и скуфьей бил.
— Что ж ты судьбу мою покажешь мне? —
спросил он нерешительно.
— Покажу,— отвечала цыганка.— Ты видишь в
озере вон то белое оболочко?
Она показала на воду.
— Вижу,— отвечал Воин.
— Так я и судьбу твою вижу из глаз твоих:
вон Арбат, а вон Веницея град — вон, вон — с оболочкой все уплыло, и вот новая
судьба плывет...
Воин вскочил с места: ему казалось, что он
видит сон.
— Почему ж Веницея? — спросил он.
— Не знаю, так мне черная птица говорит...
А слышишь, как кто-то «не белы снежки» поет и плачет? Воин испуганно
перекрестился...
— Чур! чур! сгинь-пропади!
— Полно, добрый молодец, не чурайся!—
улыбнулась цыганка.— Ты думаешь, что я бес? Нет, на мне крест — видишь?— и она
показала висевший у нее на груди крест.
Воин чувствовал, что им овладевает какая-то
таинственная сила, и сила эта исходит от этой неведомой женщины. Но в то же
время рассудок говорил ему, что из него хотят что-то выпытать — для чего? для
кого?
Вследствие этого он сам решился выпытать из
цыганки, что она действительно знает о нем.
— А ты знаешь, кто я? — спросил он.
— Знаю, кто ты был, и узнаю, кто ты есть,—
был уклончивый ответ.
— Кто ж я был? — спросил Воин.
Цыганка посмотрела ему в глаза, потом стала
глядеть на воду.
— Вижу: столовая изба — в ней царь сидит и
бояре... Какие хохлатые люди!—большие... царску руку целуют... А после них —
тот, что на тебя похож, тож руку у царя целует... На Арбате в саду ночью
соловей заливается, а красная девица в слезах потопает... Сгинул добрый
молодец, пошел искать за море живой и мертвой воды... Не нашел живой воды —
кручину нашел... Томится доб-
206
рый молодец, что птица в клетке: и дверцы отворены, и крылья есть, да
летать страшно — коршуны кружат в небе... И запела пташечка: «не белы-то
снежки...» Плачется добрый молодец на свою горькую судьбину...
Цыганка остановилась, а Воин, казалось, все
еще слушал ее: перед ним проходила вся его жизнь. Но в то же время он ясно
видел, что эта женщина действительно многое знает: несомненно, что ей известны
главные моменты из последних лет его жизни. Но откуда она могла узнать все то,
что известно только ему одному да его жене? И он решился выпытать, что еще ей
известно.
— Хорошо говорит тебе твоя черная птица,—
сказал он после небольшого раздумья.— А што она еще скажет тебе?
— Вижу, вижу,— заговорила она снова
таинственно,— вон опять плывет оболочко в воде, и затем за оболочком летит
из-за моря пташка... Откуда ни возьмись коршуны, и пымали бедную пташку...
Опять пташка в полону... Это не пташка, а добрый молодец в полону у польских
людей... Польские люди спят, а слепые люди выкрадывают добра молодца, и добрый
молодец очутился у хохлатых людей... Над Москвою оболочко... В Новодевичьем
монастыре всенощная, и добрый молодец там ищет красну девицу, а во место
красной девицы — черная черница!
Цыганка вдруг замолчала, и, казалось,
собиралась совсем уходить.
— Ну, что ж дальше было с добрым молодцем и
с черничкой? — спросил с улыбкой Воин.
— Што было — сам знаешь,— неохотно,
по-видимому, отвечала цыганка,— а вот што было:
«Как и курочка бычка родила,
Поросеночек яичко снес,
А черничка да сынка привела»...
Воин в волнении схватил ее за руку.
— Так это правда?.. У меня сын родился?..
Сказывай?
Но цыганка вдруг вырвалась и побежала
берегом Булака в город.
— Куда ж ты? Погоди! — кричал ей вслед
Воин.— Возьми денег за труд.
— Черной
птице твоей казны не надо! — не оборачиваясь, отвечала цыганка и скрылась.
В странном смущении остался на берегу
Булака Воин. Что от него нужно было этой цыганке? Несомненно — она
207
из Москвы и кем-нибудь подослана. Но кем? От кого она могла узнать
такие подробности об его жизни? Она сказала, что снимет с его сердца кручину, а
вместо кручины даст ему радость. И эту радость она поведала ему: она прямо
сказала, что та, которая была черничкой, привела ему сына. Неужели это правда?
А они с женой почти четыре года кручинились, что у них нет детей. Его Наталья
думала, что неплодием наказал ее Бог за побег из монастыря. И вот она теперь
мать... Ясно, что цыганка ею подослана. Но отчего ж она этого не сказала прямо?
Отчего Наталья не уведомила его о себе? Ведь почти четыре месяца, как он с нею
расстался, а она ничем не дала о себе знать. Да и где было искать его, когда он
мыкался все лето по Вятке да по Каме?
Да и Бог знает, когда еще им придется
свидеться. Вон какой пожар распустили по всей русской земле! С Дону началось, с
какого-то кабака, а вон куда зарево хватает — до Москвы до самой, до державного
места! Астрахань, Царицын, Саратов, Самара — вся низовая сторона, все в огне. И
полымя все дальше и все шире захватывает — до Белого моря дошло, до Соловок, до
Пустозерска; Аввакума-де из земляной тюрьмы выручать пошли, патриарха Никона из
Ферапонтова вывести хотят...
А какие «прелестныя» грамоты рассылает вор
по всему московскому государству! Хана крымского с ордами зовет на Русь,
персидского шаха в братья себе прочит, в Запорожье его воры мутят... Теперь все
языки поднимаются — татарва, черемиса, мордва, чуваши... Нижний обложили...
Такие невеселые мысли бродили в голове
Воина, когда он, после встречи с цыганкой, возвращался от Булака.
А тестя, князя Прозоровского, не воротить
уж к жизни. А знает ли об этом Наталья? Дошло ли до нее, что отца ее уже нет на
свете? Снизу, говорят, нет к Москве ни проходу, ни проезду: всюду пожар и
кровь.
В тихом, ясном осеннем воздухе стелятся по
небу белые нити паутины... Вёдро, значит, еще долго постоит... Но вон и гуси
длинною вереницею тянутся уж на теплые воды, за море...
Воин грустно покачал головой: ему
вспомнилось его мыканье по белу свету, там, в заморщине... А тут он мыкался по
Вятке да по Каме... дикая, бедная сторона, не то что там: какие города, села! а
здесь—одна беднота, голод... Вот голодные люди и идут добывать себе хлеба ли-
208
бо смерти: им все равно помирать голодною смертью с
наготы да с босоты.
«Женишка и детишка испроели» — правда,
правда: Воин сам все это видел... Он все это доложит великому государю, когда
Бог живым донесет его до Москвы. А там его ждет сынок, Наталья,— да дождутся
ли...
— А! Воин Афанасьич! здравствуй на многая
лета — до конца века!
— Спасибо, Афанасий Ивлич, как твое
здоровье?
— Сам себе дивуюсь, как еще на ногах Бог
держит.
— Да, правда, Афанасий Ивлич, кручинно тебе
было с этою тяготою на Вятке: шутка ли! сто стругов снарядил в такую пору,
когда все в нетех. Ну, да слава Богу, за тобой государево дело не стало.
Это встретил Воина товарищ его по наряду на
Вятке ратных людей для плавной государевой службы и по постройке там же ста
стругов для Волги,— Афанасий Косых, мужчина лет под шестьдесят, но еще бодрый,
с резкою сединой в русой бороде.
— Ты откудова это теперь? — спросил Воин
Афанасия.
— От воеводы, от князя от Юрья: назавтра
поход объявил против вора, и стружечки мои чтоб наутрее отошли от Бакалды вниз
до Симбирского с кормом и с зелейными запасы, а сам он идет на вора по
сухопутью,— отвечал Косых.
— Так завтра? Ну, слава Богу! — И Воин
перекрестился, хотя у него на сердце заскребли кошки. «Шутка ли! с самим
встретиться»,— подумал он.
XXXVI. Монисто князя Юрия Борятинского
— Кажись, он, соколик, глазки открыл?
— И точно, матушка Ираида, смотрит: не
подымает ли его Господь?
— Ох, отец Варсунофей, я, кажись, уж не
чаю.
— Не говори, матушка, на все божья воля: уж
коли меня, старца негодного, Бог вызволил с турской каторги да из Шпанской
земли довел досюдова и сподобил меня
209
приложиться к мощам святых угодников, преподобных Гурия и Варсунофия,
так его, воина Христова, поднимет Господь.
Этот разговор осторожным шепотом вели между
собой старый инок в черной скуфейке с старенькою живою монашкою, черные живые
глаза которой так, по-видимому, не ладили с ее сухим, темным морщинистым лицом.
Они сидели в просторной горнице, в окна
которой проникал нежный свет загоравшейся на востоке зари. В той же горнице, на
высокой кровати у стены, полузадернутой зеленым тафтяным пологом, лежал средних
лет мужчина, по-видимому, тяжко больной. Голова его, обрамленная спутавшимися
волосами, и мертвенно-бледное, с следами сильного загара лицо резко оттенялись
от белой подушки.
Больной действительно открыл глаза.
— Где я?— слабо прошептали его запекшиеся
губы. Старый инок на цыпочках подошел к нему и осторожно нагнулся.
— А! — с горечью протянул больной.— Так я
все еще в Веницеи... а мне чаялось...
— Нету, батюшка, ты не в Веницеи, а на
святой Руси,— с нежностью сказал старый инок,— ты, должно, меня старого пса
признал, што выкупил с полону, с каторги: тебе и мерещится Веницея.
— Так где ж я?— изумленно спросил больной.
— В Синбирском, батюшка, у боярина и
воеводы Ивана Михайлыча Милославского в опочивальне,— проговорил старый инок.
Больной закрыл глаза. Ему казалось, что все
это сон. Но между тем в уме его вставали новые неясные образы. Эти запорожцы,
которых он видел в столовой избе у царя. Но это сон: он во сне, будто бы в
Казани, на берегу Булака видел цыганку, и она много ему наговорила и о сыне, и
о запорожцах. Только теперь он видел их не в столовой избе и не у Брюховецкого,
а где-то здесь, близко... И тот еще, самый большой, что упал в столовой избе,
закричал: «вот оно, аспидово отродье — сынок Ордина-Нащокина!» А вот сам
Разин... Он помнит, как он этого самого вора Разина хватил саблей по голове...
Да, все это сон, хотя он, кажется, и лежит с открытыми глазами...
— Он опять, соколик, открыл глазки,— слышит
он шепот.
— Бредит, должно в огне.
210
— Кто это говорит?— спрашивает больной,
силясь поворотить голову.
— Я, соколик,— говорит монашка, подходя к
нему робко.
— Опять цыганка!— слабо простонал больной.
— Я не цыганка, я старица Ираида, от
Натальи Семеновны к тебе прислана.
— От Натальи? А где она?
— В Москве, соколик.
— Так это не сон?
— Не сон, соколик, опомнись... Припомни —
ты был в бою с вором Стенькою, тебя порубили в бою казаки воровские, и мы не
чаяли видеть тебя в живых. А теперь, слава Господу, ты в память приходишь...
Перекрестись, родной.
Воин (это был он) хотел было перекреститься
— и не мог, застонал: рука его была на перевязи; он был ранен.
Но эта боль заставила его вспомнить все или
почти все. Рать воеводы и князя Юрия Борятинского из Казани подоспела к
Симбирску в то время, когда симбирский воевода, боярин Иван Милославский,
истомленный почти месячным сиденьем в облоге от воров, уже хотел было сдаться —
отворить ворота в кремль. Разин с казаками и татарами стремительно бросился на
царское войско. Завязалась отчаянная борьба...
Воин все вспомнил, но это был какой-то
ад... Гром пушек, гиканье налетавших на них казаков, аллалаканье татар,
вышедших с топорами и рогатинами,— все это смешалось в какой-то страшной
картине...
Лично он вспомнил, как на то крыло, где он
находился, ударили татары под предводительством мурз Багая и Шелмеско; потом в
середину лавы врезался сам Разин с тремя запорожцами... Запорожцы узнали его,
он узнал их... Но тут все смешалось в его уме: мелькнул белый конь под Разиным,
готовый, кажется, раздавить Воина; но Воин махнул саблей и угодил в голову
Разину... Больше он ничего не помнит.
Теперь Воин осмотрелся кругом сознательно.
Да, это не сон, и то не был сон.
Около его постели опять стояли старый инок
и цыганка в монашеском одеянии. В первом он узнал бывшего полонянина
Варсунофия, которого он выкупил в Венеции.
— Ты как сюда, старче, попал? — спросил его
Воин, все еще смутно сознавая свое положение.
211
— К тебе, батюшка Воин Афанасьич, приплелся
я с Москвы,— отвечал старик,— тебе отслуживать за мою волю, што ты дал.
— Как же ты узнал, что я здесь?
— Я за тобой, батюшка, с самой Казани. Воин
недоумевающе посмотрел на монашенку.
— А меня прости Христа-ради, батюшка Воин
Афанасьич, за Казань,— сказала она, низко кланяясь.— Я не цыганка: я старица
Ираида из Новодевичьей обители.
— Для чего ж ты в Казани цыганкой
прикинулась? — спросил Воин с удивлением.
— Так, батюшка, приказала Наталья
Семеновна,— отвечала монашка.
— Моя жена?
— Она самая, батюшка.
— А для чего? — еще с большим удивлением
спросил Воин.
— Ее спытай, батюшка: ее это воля была,—
отвечала монашка.— Для-ради ее супокою мы вот с Варсунофьюшком и пошли искать
тебя, потому — нас, людей божьих, старцев, кому охота обижать? А пошли она
гонца с грамоткою, и по нонешнему времячку ему бы не сносить своей головы: ноне
и царских гонцов по дорогам воры вешают. А мы што? — мы та же каличь, нишшая
братья убогая, с нас нечего взять. А мы-то с Варсунофьюшком в бродячем деле
дотошны: он, сам ведаешь, с самой бусурманской веры, да с Шпанской земли
доплелся до белокаменной; а я, родимый, с той самой поры, как нас с инокиней
Надеждой, што ноне твоя благоверная, отпустила мать игуменья из Новодевичья за
мирским сбором и как инокиня Надежда из Успенского собору ушла к тебе,— с той
поры я все брожу по свету, по угодничкам: и киевским угодничкам маливалась, и
самого етмана Брюхатого видала, и соловецким угодничкам, Зосиме-Савватею,
маливалась же, да и у казанских чудотворцев, у Гурия и Варсунофея, святые раки
лобызала. Там мы с Варсунофьюшком и тебы, соколика, сустрели, да за тобою как
псы верные и сюда прибрели. А все для-ради супокою матушки Натальи Семеновны. И
цыганкой-то я обернулась для-ради ее же благополучия. А ноне вот Бог привел и
за тобой походить. Как это пришел под Синбирской с ратными людьми с Казани
князь Борятинский,— и ты, батюшка, с ним же пришел, да как учинился у вас
смертный бой с вором и антихристом Стенькой,— с утра до ночи бой шел, а мы ни
живы, ни мертвы ждем, чем кончится,— ко-
212
ли к ночи слышим: побили-де царские рати вора Стеньку наголову, и
сам-де он бежал в малом числе, и голова-де у него перевязана — саблей
рассечена, и рассек-де его, сказывают, Воин Ордин-Нащокин, а сам-де Воин убит
лежит. Как услыхали мы это, батюшка Воин Афанасьич, что ты мертв лежишь, мы и
света божьего за слезами не взвидели. Коли слышим: жив-де еще Ордин-Нащокин,
токмо зело порублен. И велел тогда воевода и боярин Иван Михайлович
Милославский снести тебя, голубчика, к нему в палаты, и лекаря к тебе
приставил, а нас — во хожалок место. И был ты все без памяти который день, а
ноне вон божиим изволением в себя пришел.
Монашка радостно при этом перекрестилась на
иконы. Перекрестился и старик Варсунофий.
— Так вор Стенька, сказываете, разбит? —
спросил Воин с просветлевшим взором.
— Разбит начисто, батюшка Воин Афанасьич,—
в один голос отвечали старица и старец,— и тою же ночью бежал.
— Бегу яся, нé солоно хлебавши,—
добавил Варсунофий,— а клевреты его, што не успели бежать, вон все висят на
виселицах вдоль берега,— ишь какое ожерелье изнавешано их! — И старик показал
рукою в окно.
— И запорожцев повесили, тех, что с тобой
вместе, батюшка, в столовой избе у государевой руки были — Гараську, да Пашку,
да Мишку,— добавила старица Ираида.
— Да и татарские мурзы Багай да Шелмеско,
што государю челом били на государевых воевод,— и они повешены ж,— присовокупил
Варсунофий.— А этот мурза Багай, сказывали, мало не заколол боярина и воеводу
Ивана Михайловича Милославского: мы,— говорит,— помираем голодною смертью, с
наготы да с босоты, а вы, говорит, вон какие жирные,— дак его ратные люди с
коня сбили и связали, а ноне вон он болтается у самой Волги, што твоя колода.
В это время в опочивальню, в которой лежал
раненый Воин, вошел пожилой мужчина с окладистой бородой и широкой лысиной ото
лба. На нем было богатое боярское одеяние.
— Ба-ба-ба! — весело заговорил вошедший.—
Да кажись наш богатырь Илья Муромец в добром здоровье?
— Спасибо, боярин Иван Михайлович,— по
милости божьей, сам видишь, я очнулся,— отвечал Воин.
Вошедший был боярин и воевода симбирский
Иван Михайлович Милославский.
213
— Слава Богу, слава Богу! — продолжал
боярин.— Надо тотчас же еще гонца послать — родителя и супругу твою порадовать
весточкою, што ты в себя пришел наконец. Да и великий государь рад будет такой
вести: вить ты саблей огрел вора прямо по башке — зело добре назнаменовал!..
Может, от твоего знаменья он, вор Стенька, и плечи нам показал: бежал, аки тот
Святополк Окаянный.
— А где воевода князь Юрий? — спросил Воин.
— Да все еще монистом своим занят,— с
улыбкой отвечал Милославский.
— Каким монистом, боярин? — удивился Воин.
— Да вон воров нанизывает на веревки —
шутка ли, боле шестисот зерен жемчугу бурмицкого нанизал уж на свое монисто...
Самые крупные зерна у него — три запорожца, што еще с Брюховецким воровали, да
двое мурзишек татарских, Багайка да Шелмеско, кои всю татарву да черемису на
нас подняли,— знатное монисто! — есть чем похвастать князь Юрью... А не
подоспей он — я бы попал в монисто к вору Стеньке... Никто как Бог!
XXXVII. Эпилог
В Грановитой палате, в столовой избе, у великого
государя с боярами сиденье. Тут же и святейший патриарх Иосиф с освященным
собором.
Великий государь и святейший патриарх и
бояре думают: великая смута и крамола охватила всю русскую землю; все низовые
города взяты вором на копье; воеводы, дети боярские и служилые люди прияли от
злодеев наглую смерть; царские рати либо осилены вором и побиты, либо
передались злодею; замутилась вся русская земля, и что будет дальше — Богу
ведомо...
Ниоткуда — ни луча надежды...
Как быть? что умыслить? где набрать столько
ратей?
Великий государь сам думает идти чинить
промысл над крамольниками... Но с кем? где его воеводы? Все они оказались
бессильными...
Отвратил Создатель лицо свое от людей
своих... За чьи грехи?.. ,
214
«Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование
всех концев земли и сущих в мори далече!» — шепчет святейший патриарх, поднимая
глаза к лику Спасителя.
Дьяк Алмаз Иванов, угрюмо уставившись в
какую-то бумагу, прислушивается, кажется, как за окном ворона каркает...
Думают бояре — есть им о чем подумать! — на
них идет эта страшная буря: а кто их укроет? Ромодановский, Шереметев,
Борятинский, Долгорукий? Но от них нет вестей; да и гонцы их все погибают в
пути — всех ловят и убивают крамольники.
Вон как постарел Алексей Михайлович за этот
год... И сколько потерь: жену потерял, дочь и двух сыновей похоронил... «И бе
дом его пуст»...
Слышатся подавленные вздохи да карканье
вороны за окном...
И на крыльце, где обыкновенно собирались
стольники, стряпчие и дворяне, теперь не слышно «шумства» и споров; напротив,
испуганным шепотом передают собравшиеся один другому, что будто бы уж и
Симбирск взят и выжжен, взята и разорена Казань, Лысково, Нижний, Темников,
Корсун, Саранск, оба Ломова, Пенза, Арзамас — все в руках у злодеев,— что все
холопи и крестьяне разбежались, режут и вешают господ, жгут боярские усадьбы,—
что хлеба в полях потопчены, потравлены или выжжены,— что скоро страшный
атаман, которого ни пуля, ни сабля не берут, нагрянет в Москву... Куда
деваться?.. где спасение?..
Алексей Михайлович ждет совета от святейшего
патриарха, на него вопросительно поглядывает — не вразумит ли его Господь?
А святейший патриарх только шепчет, глядя
на лик Спасителя: «Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и
сущих в мори далече»...
И Он услышал!..
Там, на крыльце, или на дворе, пронесся
вдруг ропот не то изумления, не то испуга:
— Гонец!.. гонец пригнал!.. с какими
вестями?..
И столовая изба вся встрепенулась — точно
шум ветра прошел по ней...
Глаза у всех уставлены на дверь — ожидание,
томление, испуг...
«Услыши ны, Боже!..»
Гонец в дверях — едва переступает порог, он
бледен,
215
шатается он, кажется, скоро грохнет на пол... Он ничего не видит — ни
царя, ни бояр...
— Поддержите... он упадет...
Бояре его поддерживают... Он силится
говорить...
— Великий государь!.. воевода князь Юрий...
твои государевы рати... вора Стеньку... и его толпища... разбили наголову...
Крик радости вырвался из сотни грудей. Все
крестились...
— Самого вора Стеньку... Воин
Ордин-Нащокин... саблею посек в голову... а Воина изрубили...
Гонец не договорил. От Симбирска до Москвы
он загнал семь лучших коней — не спал и не ел во весь путь...
Гонца увели, он потерял сознание...
Все оглянулись на старого Ордина-Нащокина,
который сидел недалеко от царя: по лицу старика текли слезы — слезы скорби и
радости.
СОДЕРЖАНИЕ
I. Царское
сиденье......................................................................................
32
II. А соловей-то заливается
!...................................................................... 37
III. Батюшка и сынок...................................................................................
44
IV. Таинственное исчезновение молодого
Ордина-Нащокина............... 51
V. В своей
семье...........................................................................................
55
VI. Стенька Разин в гостях у
Аввакума...................................................... 61
VII. «За куклой — жених
забыт»................................................................ 65
VIII. «Пещное действо»........................................................................
71
IX. Беглец Воин в
Венеции..............................................................….......
75
X. «Твой сын —
вор!..»................................................................................
84
XI. «Возьми одр свой и
ходи...».................................................................. 89
XII. Слепцы
вожатые.............................................................................
94
XIII. Вместо
карася—щука..........................................................................
99
XIV. «Опять
соловьи!..»........................................................................
103
XV. Поругание над прахом
Хмельницкого............................................ 107
XVI. Она узнала его......................................................................................
112
XVII. Только бы видеть
его!........................................................................
117
XVIII. Она больше не
черница.....................................................................
123
XIX. Любовь Стеньки
Разина.......................................................................
128
XX.
Клевета....................................................................................................
132
XXI. «На ж
тебе —
возьми!»........................................................................
137
XXII. Купанье
стольников............................................................................
143
XXIII. Роковое пожатие руки......................................................................
149
XXIV. В куль да в
воду................................................................................
154
XXV. Жена
Разина........................................................................................
160
XXVI. На Москву шапок
добывать!............................................................ 163
XXVII.
Васька-Ус..........................................................................................
169
XXVIII. Смена часовых................................................................................
174
XXIX. Воевода Тургенев на
веревке........................................................... 178
XXX. Струги с мертвой
кладью................................................................... 184
XXXI. Страшная
весть.................................................................................
188
XXXII. Братские похороны и
поход........................................................ 194
ХХХ1П. «Они там, а мы
тут...»................................................................. 199
XXXIV. Разин в
Астрахани........................................................................
201
XXXV. С самим
встретиться!.....................................................................
205
XXXVI. Монисто князя Юрия
Борятинского............................................ 209
XXXVII.
Эпилог...........................................................................................
214