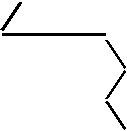Людмила Стефановна Петрушевская
Номер Один, или
В садах других возможностей
Роман

Оглавление
глава 01. Беседа
глава 02. Погоня
глава 03. В садах других возможностей
глава 04. Письмо с реки Юзень
глава 05. Труп друга
глава 06. Вечер и ночь
глава 07. В Москве
глава 08. Родной дом и последствия
глава 09. Группа легких привидений
глава 10. E-mail
глава 1. Беседа
Первый
Вот, это он… поет. Видите? Спит и поет.
Так, минутку…
голос поет
Это место, где уходят в подземный мир, по ступеням вниз, по бесконечному сходу в десять кесов, в вечные льды, ибо, так как, нет там движения. И это была дверь, калитка, полог в нижнее царство из среднего царства, с земли. Никому не дано было видеть, мм, как души уходят туда, тихо уходят, со страданием, с болью протискиваясь, пролезая с трудом в эту дверцу, видя, мм, прозревая, куда уходят, ибо, так как, поскольку, мм, трудно войти в эти льды непомерные, бесконечные, труден путь смерти, мм, нет конца, кесы и кесы вверх и вниз. И у входа трехпалый, однорукий спрашивает: «Какие новости есть, расскажите», а душа отвечает, как заведено, мм, как полагается, как нужно при встрече с незнакомым хозяином: «Никаких новостей нет», и замолкает, так начинается вечное молчание, навсегда.
Так… здесь не пойму… Сейчас вернемся.
голос поет с трудом
И глаза трехпалого как гнезда птицы эхе черные в черных ямах, а третий глаз как слеза заката предзимнего, мм, позднего лета порой, и изо льда вылезает, двигаясь, виляя, тонкая как жгут как мы повязываем волосы из белого конского волоса трехпалая рука, длинная как река Люнг, чтобы взять душу, и если уже сказаны слова, то нет пути назад. Там, в среднем мире, наверху, на земле, живой человек уходит, это работа уходящего, мм, труд смерти, человек тонет, или ранен, или болеет, лежит один среди духов в лесу смерти, куда его отвезли на копыльях в лубке, завернутого в товар, мм, и духи уже начали пожирать, грызть его душу, и нельзя ему останавливаться на этом пути, ибо, потому что, мм, духи уже вселились в человека. Падающего не поднимай, умирающего толкни, мм, тонущему не подавай багра, слеги, шеста, не бросай ему ни кошку — это такой брусок с крючьями — и ни плавательный пузырь. Сейчас отмотаю. Я это уже переводил, мне легко.
голос поет
Три пальца подбираются, и вот уже духи жадно едят, мм, въедаются, вселяются в существо, тело души. Не читайте заклинаний, ваших алмисов, спасти можно только тело, а в душе уже вот они, живут, копошатся, трехглазые, черные. Но если человек не соглашается уйти, выходит наружу из колодца, сохраняет, бережет свою жизнь, спасся, то он изгнанник, он уже не он, мм, не сам собой, он превращен, он в их власти, ему нет места среди живых людей в среднем мире, он дух. И войти в свой дом он не сможет, и жена не ляжет с ним, и мать его не накормит… Так… Остановимся пока. Дело в том, что он предсказывает сейчас себе смерть… Да. Вот. Тут он кричит, что завтра умрет. Вот! Коротко довольно. Дунен маг щул. Видите?
Второй
Что я вижу, ну что я тут вижу…
Первый
И он пропал, кстати. Все оказалось так. И между двух грудей…
Второй
Так. Стоп. Ткни там… И что? Не видно ни черта. Ты вот, ты зачем… Что это? Зачем мне это?
Первый
Мне нужно пять тысяч долларов, я говорю вам, на выкуп Кухарева.
Второй
Так, опять за рыбу гроши. Ты мне что, для того показываешь? За пять кусков я должен эту плешь смотреть твою? Какой-то засранец связанный мычит, понимаешь… Этот только вышел перед тобой ему деньги полтора куска подавай на экспедицию снова здорово, теперь ты ворвался… Что Лена пускает, понимаешь… Опять ей конфетки принес… Я ее сейчас вызову вот!
пауза
Откуда у меня такие средства? На выкуп, я тебе уже сказал сегодня по телефону, это я ни по какой графе не проведу, бухгалтерия та же Вера Никитовна меня не поймет. Ты мне сказал, что предъявишь какую-то сенсацию.
Первый
Я верну вам.
Второй
Ты вернешь, ага. С каких денег, вопрос? Ты же не зарабатываешь!
Первый
Я работаю достаточно много.
Второй
Да, ночами тебя не выкурить, сторожа докладывали. А толку? Кто ты в результате? Вы сидите там со своим отделом, что вы делаете? Вообще в игры компьютерные развлекаетесь? Я знаю, все знаю. Как маньяки сидите там. Ты вообще свою игру сочиняешь. Зачем я вам плачу зарплату? Пьете на рабочем месте, самое дело… На компьютере играете, хороший вам компьютер зачем было покупать? Нет, пристали с ножом к горлу. Конечно, для игр понадобился! Домой просто ноги не идут, да?
Первый
Пять тысяч они просят. Не миллион же! Я верну. У меня сейчас в руках собран ценный материал.
Второй
За четверо суток ты съездил в тайгу и собрал ценный материал? На пять тысяч долларов? Вот это?
Первый
Да, это так.
Второй
А кто ж его купит? Тый материал твой?
Первый
Да тот же Йеллоуфилдский университет.
Второй
Здрасьте! Они что, видели уже?
Первый
Что-то примерно как бы они знают.
Второй
Ты им что, показывал помимо руководства? По интернету? В Штаты передал? Ну и ну. Шпионажем? Уже развлекаешься, так сказать?
Первый
Нет, я вот принес вам. Они там только суть знают, и все. Как бы сам факт.
Второй
Имей в виду, это и так все собственность вот нашего именно института, понял? А не это.
Первый
Так что вот. Нужно срочно пять тысяч самый минимум, а мне еще надо добраться дотуда. Еще долларов пятьсот, из которых четыреста билет на самолет. Сто нанять катер туда и назад. И как можно скорее.
Второй
Денег нет.
Первый
Маленькие пять тысяч.
Второй
Сейчас я с голыми руками, ремонт, сам видишь.
Первый
Время поджимает, они дали всего неделю, через неделю его убьют.
Второй
Я ведь нарочно не хотел оформлять его, этого, как его…
Первый
Да.
Второй
Он же фактически был уволен, ваш этот… Вообще не мой человек. Вы там со своим Никвасом такой хай подняли! Никвас убеждал, что этот ваш… как его… профессиональный кинооператор! Автор фильмов! Но для меня он просто никто, бывший сотрудник. Операторов вон каких фильмов безработных сколько сидит по домам! Мне потом сообщили. Лауреатов! Есть у меня связи в мире кино, они тут же брались найти людей… Артист есть один молодой из ВГИКа. Да я вам столько назову! Он говорил. А вы мне со своим завлабом подсунули этого, как его… Все, иди, только время мое тратишь, у тебя его много, а у меня мало.
Первый
Мало. Я знаю.
внезапно
У вас остается очень мало времени.
Второй (подумав)
Это в смысле чего? Ты что сказал? Угрожаешь?
Первый
Это я в смысле, что я хорошо знаю, у вас мало времени. Вы им, в смысле, дорожите.
Второй
А то ты мне посулишь тут… Ха-ха. Он знает! Что ты знаешь? Что ты в жизни знаешь-то?
Первый
Пять тысяч и все. Я отдам.
Второй
Теперь вот тоже мамаша его… Она мне вообще уже. Звонит как эта. Кто ей обнародовал мой телефон? Верните мне сына, видали! Супругу мою загрузила, понимаешь. Грузит и грузит. Ты ей телефон сообщил?
Первый
Нет.
Второй
Вынужден был принять меры, самое дело. А то она на автоответчике оставляет эти свои крики. Супруга говорит, хоть его выкидай. Дочь все время проигрывает обратно, якобы там ее важные сообщения. Громкий крик вслух, понимаешь ты. Верни ей сына! Послал людей вчера же, поставили мне определитель номера. И зачем это моей… семьи?
Первый
Вот я вам и принес часть своих материалов. Чтобы вы поняли, о чем идет речь.
Второй
Ну нету денег! Продавай сам этому… Хотя продать за рубеж ты не имеешь права! Тебя посылал институт! Наша собственность, да.
Первый
Грант-то прислали из Йеллоуфилдского университета.
Второй
Ну поговори, поговори мне еще. На институт прислали! На целый институт!
Первый
Ну что, вы будете дальше смотреть эту видеозапись? Там немного, пятнадцать минут всего.
Второй
Так что… иди друг отсюдова, пожалуйста. Как это так, вышел человек в тундру поссать и вдруг это стоит пять тысяч долларов за выкуп! Ты виноват!
Первый
Возможно. Все мы виноваты, если кто-то погибает.
Второй
Так он что… погиб?
Первый
Нет, я его видел живым пока. Позавчера.
крестится
Слава тебе Господи. Я вам уже по телефону говорил.
Второй
А вот хочешь совет вам с этой мамой его? Пусть поменяет свою квартиру на меньшую, сейчас такие арапы орудуют… В один день все провернут, оглянуться не успеет, самое дело, а уже сидит в новой квартире в другом районе… за городом, я не знаю… и с долларами! Посоветуй ей, а меня не приплетай к этому. Он не наш сотрудник.
Первый
Вы знаете, психология пожилого одинокого человека… Она всего боится. Потеряет и сына, и жилье. Первое, что она сказала, что эту возможность продать квартиру, узнавши о событии, то есть о том что сына взяли в заложники, эту возможность ей тут же предложили соседи, которые давно зарятся на это дело. За стеной живут и одну ее комнату хотят. И она всю ночь тряской тряслась, ее слова. Они начали стену простукивать, что ли. Ночью. Или ей показалось со страху… Так что она нет.
Второй
Ну ты поменяй свою квартиру! На меньшую тоже.
Первый
У меня нет квартиры. Это собственность жены.
Второй
На все у него есть ответ.
Первый
Ну и вот, я вам принес эту уникальнейшую видеозапись. Она тянет на большие доллары.
Второй
Мне она зачем? Она и так наша собственность. Ты сдашь ее в отдел…
Первый
Видите ли, это можно будет продать в ноябре на симпозиуме на Гаваях. Профессор Шапиро купит из Йеллоуфилда. Я с ним свяжусь обязательно.
Второй
Твой этот, что ли? Да знаю я о нем все. Который вам с Кухаревым грант подкинул. Бывший наш старший научный сотрудник, до меня, тут про него легенды ходили, как он всех подвел уезжая… Сколько материала взял, и в том числе не своего. У тебя, в частности, скачал из компьютера.
Первый
Это не соответствует действительности. Я ему сам дал свои наработки.
Второй
О. Ну вот, я же говорю, пусть он и пришлет тебе за это пять тысяч.
Первый
Их университет деньгами не швыряется.
Второй
Нет, сам, сам пусть он пришлет в долг.
Первый
Это в Америке не принято. Они там берут в банке.
Второй
Так ты проценты обещай больше, скажем, двадцать пять процентов.
Первый
Не принято, не принято у них.
Второй
Так ты уже просил. Просил?
Первый
Я принес вам эту видеозапись, редкая вещь. Может быть, вы захотите поехать с этой пленкой на Гаваи делать сообщение. С первого по пятое ноября. Дорогу и все они оплачивают. Тот же Шапиро пришлет вам приглашение. Это рай на земле, как они говорят. Я все равно не поеду. Но надо дать согласие сейчас, они уже формируют программу и список участников. Просмотрите запись и сразу скажете мне, да или нет. Смотреть там, правда, почти нечего. Надо знать, о чем это и в каких условиях было спето.
Первый
Ну ты жук! Умеешь, а? Хавай, Хавай, слышал я такое. Произносится Хавай. Одни люди там были мои. А Париж, кстати, правильно называется Пари, знаешь? Хаваи. И надо говорить не уик энт, а викэнт, конец недели.
Второй
Буду переводить?
Первый
Стой пока. А это что будет, не понял? Наподобие чего?
Второй
Это неизвестная часть поэмы энтти-уол, поет Никулай-уол.
Первый
Ой, завел ваши эти термины. Зачем мне это, неизвестную часть! Я и известную часть не желаю знать. Я вообще историк, мне ваши мелкие подробности диссертаций не нужны. Будем мыслить глобально, о. Просто перескажешь мне своими словами доходчиво. Мне тут доложили, я в курсе, что Шапиро в Америке скоренько опубликовал перевод твоего этого перевода. Это раньше чем ты тут его опубликовал? То есть он увел твои тексты?
Второй
Я был не против. В интересах народа энтти. Пусть мир узнает. Если я не смог это опубликовать здесь…
Первый
Дурак, стало быть. Дуррак.
Второй
По-тюркски «стой». Дурак — это «стой».
Второй
Стой, да, теперь столбом. А мы, ученые, должны задом сидеть на своем материале. Они же все используют наше! Выкачивают буквально из нашей страны! И спустя сколько лет он прислал нам грант?
Первый
Собственно, какая разница?
Второй
Кухарев с ним, что ли, яшкался?
Первый
Опять-таки, для меня это не имеет значения.
Второй
Но он грант прислал на него и на тебя.
Первый
Да, так и было.
Второй
И ты взял. И еще все говорили, что это твоя тема, а не Шапирина, а этот твой этот, как его?
Первый
Кухарев.
Второй
Вот, и что он там роли вообще никакой не влияет.
Первый
Теперь уже это все не важно, человека вот-вот съедят. Нельзя этого допускать! Понимаете?
Второй
Че ты волнуешься, че волнуешься. Красный стал весь.
Первый
Я вообще думал что его уже нет.
Второй
Да уж. На жареху как пустят… Такой… Плотный мужчина.
Первый
Я займу у вас пятнадцать минут.
Второй
Но не сверх.
Первый
Прежде поясню: это так называемое ночное пение.
Второй
Мне-то что. Хоть утреннее.
Первый
То есть он поет во сне. Специфика.
Второй
Ну и что как во сне. Что это дает, погоди.
Первый
Это как из подсознания. Появляется, видите ли, архаический пра, как бы сказать, текст. Пратекст. То есть тот, которого сам человек не может помнить. Память предков. Как при гипнозе, если выражаться доходчивей.
Второй
Это ты имеешь меня? Для меня подоходчивей? Что я таких слов не знаю?
Первый
Но ведь когда вы будете докладывать на Гаваях, не обязательно все поймут. Там разнообразный будет народ. А им надо внушить, что мы имеем дело с национальным гением… Он хранит в памяти семь поэм, каждая размером с «Илиаду». Я перевел пока что пять. На английском опубликовано две.
Второй
Хорошо уже, давай слушать. Для доклада хавайскому, так сказать, колхозу.
Первый
И еще одно. Никулай-уол исчез. Возможно что погиб. Он себе это здесь предсказывает. Это его последняя запись. Была обнаружена только его сумка на улице у гостиницы. Он носил такой геологический планшет из щегольства. Но за Никулая цену не объявляли.
Второй
Кому он нужен.
Первый
Музей его заперт. Он был еще директором музея. Там экспонаты такие интересные для туристов, подлинный костюм мамота начала двадцатого века. Белый жираф, чучело.
Второй
Белый жираф, вот это уже что-то. В тайге гулял? Это вот сенсация.
Первый
Он его выменял на скелет мамонтенка у кого-то из музейщиков в городе Лакнау.
Второй
Это в Германии? Я там бывал неоднократно.
Первый
Это в Индии почему-то. Откуда там белый жираф? Тоже обменяли, вероятно. Да. Должен вам сказать, что Никулай-уол знает будущее. Не хочет знать, но так получается. Он это дело скрывает ото всех. Валяет дурака. Пьет специально, чтобы забыть. Он однажды что-то об этом говорил за бутылкой. Не желаю знать будущее, твое и свое. И, судя по записи, он предвидел и описал свой уход.
Второй
Что же сам не принял меры? Не спас себя?
Первый
У них это не принято. Они подчиняются судьбе сразу. Даже друг другу не помогают. В этом ночном пении как раз такая просьба к нижнему богу, не оставлять его в живых.
Второй
Новости.
Первый
Он великий дух. Он сам мамот каких нет. Вровень с ним только Никифор, но Никифор давно живет на Аляске вроде бы. Перешел море пешком как гагара, они говорят. Преподает в университете города Анкориджа, кафедра востоковедения как феллоушип.
Второй
Такк. Это…
Первый (перебивая)
Так что Никулай все предвидел, но пошел на свое исчезновение с какой-то целью.
Второй
Че ты упомянул… какое-то я не расслышал…
Первый
Феллоушип — это как бы лауреат в некотором смысле. Дают деньги.
Второй
Ты будь проще! Короче, дали ему грант. Мне то и дело предлагают. А я не знал, что это я лауреат.
Первый
Вот. Так что Никулай свой уход предвидел и сам с некоторой целью ушел из жизни. Ради чего-то. Как бы смертию смерть поправ, как Иисус.
Второй
Здрасьте. Новый нашелся, гля.
Первый
Типа решил пострадать как-то с прицелом.
Второй
Ой-ой-ой.
Первый
Кстати, у нас с ним был любопытный разговор об Иисусе Христе. Он интересовался, а у вас кто верховный мамот. Я с таким энтузиазмом начал ему рассказывать про богочеловека Христа. Он мне: эти евреи, они что, русские? Нет. Так какое же вам дело до того, что было у другого народа?
Второй
Ох-хо-хо! Справедливо! Очень, кстати, по делу смотрит. Евреи — они да, эт самое… Моя жена называет их «другая нация». А тех зовет просто «чурки». Наша девка повадилась ей было двенадцать лет в магазинчик… Жвачка, чипсы, туда-сюда… Там некто Миша торговал, мы потом выяснили Мухаммед. На нее никто еще не смотрел, а этот Миша… Конечно, девочка русская, белая! Короче, приняли мы меры. Сидит за наркоту. А то у нее по телу синяки, понимаешь! Засосы! И еще эта маленькая дрянь заявляет, что вы не знаете, как по ночам печь ляпешка! Вы не трудились!
покраснев, крутит головой | пауза
Вот почему я к ним отношусь…
пауза
Ну продолжай. На чем мы?..
Первый
Так. Никулай говорит: какое вам, русским, дело до того, что было у другого народа?
Второй (оживившись)
Именно!
Первый
Я говорю, это не есть важно, какому народу по рождению принадлежит сын бога. А он: откуда вы взяли, что он сын бога? Это их мамоты сказали? Нет, говорю. Это он сам сказал.
Второй
Ой, кстати…
Первый
Минутку. Я стал доказывать ему, привел в пример воскрешение из мертвых, затем воду, обращенную в вино.
Второй
А как же! Лазаря!
Первый
А мой Никулай говорит: а он себе пулю в лоб не пускал? И торжественно: ну, тогда маленько слабый мамот. Так делать могут все мамоты — мертвого заставят быть живым, из маленькой еды сделать много. Это мамоты могут, сказал он.
Второй
Могут, действительно? Это любопытно. То есть я умру, а они оживят? Так?
Первый
Да нет, в целом. Это все легенды и мифы, как всегда. Не проверенные наукой факты. На чем обычно любая конфессия основана, все религии, чудеса как бы.
Второй
Но факты оживления были, скажи? А то пульнут, понимаешь…
Первый
Трудно сказать. В научной литературе не встречаются, а так…
Второй
А так было, было?
Первый
Причем они говорят, однако, что оживший человек это уже будет не человек, в нем поселятся духи.
Второй
А это нам по семечку, самое дело. Так-так! Ну-ну!
Первый
Ну и вот, он тогда стал толкать речь, что русские — маленько чудные люди. Они не имели отношения к какому-то тому народу, у которого объявился мамот. И почему-то они этого мамота стали считать своим богом.
Второй
В целом верно схватывает, а? Чукча твой. У нас ведь свои какие-то были… Не помню.
Первый
Да. Такая поговорка есть, пню молились. То есть вырезанному из ствола идолу.
Второй
Это не играет значения, но было же свое!
пауза
Первый
Я отвечаю, что не только русские, но и вся Европа и обе Америки, так сказать, христиане…
Второй
А он что?
Первый
А чему он учил, спрашивает дальше Никулай-уол. Так хитренько. Я стал излагать учение Христа. И тут начал понимать, что его слова сильно напоминают мне притчи энтти и их нравоучения. Ну, в сущности, все религии мира учат добру и прощению, то есть тому, чего в мире по определению нет. Как говорил такой философ Франк, наши перегородки до Господа не доходят.
Второй
Франк фамилия еврей!
Первый
Наверное. Симон. Ну вот. Никулай молчал, хмурился. Потом стал говорить, что вот ваше «не убий». Если в твой балаган прибежал лишенный разума, а таких бывает много, и начинает рубить топором твою маму, жену, детей… Значит, надо дать ему это делать? Где здесь смысл? Это будет доброе дело, если ты его отправишь к нижним людям. Кто убивает — не может жить. Он должен умереть.
Второй
Верно излагал. Тут я с ним согласен.
Первый
Говорит: глупое ваше учение. И еще глупей — если тебя стукнут по голове, надо снова ее подставить. Или тем более маму твою бьют, а ты смотришь и говоришь ей: мама, а теперь подставь ему другую щеку. Разумный человек по башке ведь бить не станет. А безумному подставлять голову не надо. Твоя голова нужна жене, старикам и детям, всей родне…
Второй
Думает как я буквально. Я как мамот тут с вами. Все предвижу насквозь… Убить меня хотите. Смотрят, смотрят как эти…
Первый
Дальше он: вот ваше «не желай чужих жен». Еще глупей. Как же к тебе будут относиться жены, если ты их не будешь желать?
Второй
Ах-ха-ха! Бабам приятно, да любому человеку приятно, если его желают! Не говоря про меня! Нецелованный хожу, понимаешь!
смеется
Оса вон в губу укусила вместо того, во!..
Первый
Ну это у них так называемая экзогамия. То есть все женщины должны быть обеспечены половым партнерством дальних родственников до конца детородного периода и мужской опекой в старости. Любой ребенок, родившийся у супружеской пары, считается сыном мужу матери.
Второй
Опять-таки не понял.
Первый
Неважно. Они считают всех детей какой-то женщины общими детьми всех мужчин ее группы. И у каждого мужчины, таким образом, были дети от всех женщин его группы. И дети к каждому мужчине относятся как к отцу. Таким образом, не бывает вдов, сирот и разведенных. Это товарищество по жене так называемое. Обмениваются женами. Заменяют погибших. И считают все остальные народы очень несчастными, что те тайком изменяют друг другу, обманывают и тэдэ.
Второй (кричит)
Вот это ценно! Это ценно! Шведская групповая семья, понял?
Первый
В общем, да, там было возвращение к архаике, все эти хиппи, панки и т.д. Так. Затем я ему говорю: вот еще он учит, сними с себя рубашку и отдай. Он: об этом что говорить? Ты где видел, чтобы энтти оставляли человека на морозе голым? Каждый отдаст. И ребенок знает. Что надо всем помогать. Кто у нас возьмет себе все мясо, если рядом голодные соседи? Кто у нас не отдаст последнее?
Второй
Ты прямо как этот… Агитатор.
Первый
Дальше. Не укради — эта заповедь тоже у Никулая вызвала торжество. Говорит: я его не совсем понял. Разве нормальному человеку придет в голову воровать? Не воруй, не воруй — это только воры говорят, кто сам может украсть. Обычные люди не воруют!
Второй
Главное, они из мертвых точно воскрешают? Это вопрос, как говорится, вопросов!
Первый
Да… Вроде бы. Сам не присутствовал. Они, например, по словам многих, могли прекратить ураган. Это называется «знать слово». Могли внушить целому поселку, что весь берег, к примеру, завален рыбой, в то время как поймали мало. Это называется «отводить глаза».
Второй
Ну! Ценный кадр!
Первый
Могли ходить в царство мертвых, спрашивать, какая болезнь идет. Одна старуха послушала, что Никулай говорит вернувшись из нижнего мира, и дернула с внуком за пятьдесят километров, ушла к соседям. А в поселке началась скарлатина. Ну что еще… Мамоты, говорят, способны быстро найти пропажу, а если кого-то ранили — могут исцелить, выстрелив в эту рану еще раз. Словом кровь останавливают… Отрубленный палец приращивают… Один выстрелил себе в лоб и выплюнул пулю. Но я этого не видел лично, не ручаюсь… Конечно, все это легенды, так сказать, как в любой религии. Миф. Неподтвержденные экспериментально наукой. Так сказать, конфессиональный пиар.
Второй
Че?
Первый
Религиозная реклама.
пауза
Второй
А я тоже из ничего много чего могу, только не афиширую! Буквально из знаешь чего… Откуда я приехал, даже говорить не буду! И где вы, а где я! И что будет с вами через десять лет и кто буду я! Вот вы тут все думаете… Считаете за дураков.
смешок
За отстоев, как моя дочь выразилась недавно по поводу.
пауза
Дура! Две дуры сидят!
пауза, энергично
А я ведь баллотируюсь! Неровен час стану вообще… Академиком тут с вами. А ты, ты вон, судя по личному твоему же делу, диссертацию не смог одолеть. Переводы эти кто их проверит, может ты сам сочинил. А диссера нет у тебя! Игрок ты в компьютерные игры, вот ты что! Наркоманы тут вообще!
Первый
Почему наркоманы.
Второй
И не говори мне, что это ваша принципиальная позиция, не бороться за место под солнцем, как один тут выразился, когда я его уволил. Лень обыкновенная! И прежде всего это касалось этого твоего… заложника. Все время забываю как его звали. Кстати, он и за прошлую видеокамеру института еще не отчитался, которую у него якобы украли с сотрясением головного мозга, это же надо думать!
Первый
Эту камеру у него отобрали в проходняке на Пушкинской. Стукнули хорошо по чайнику ему. В милиции приняли заявление и сказали, что это второй случай, первого там же ограбили фотографа журнала «Жизнь глухих», отняли кофр.
Второй
А книги ценные из библиотеки он тоже при ограблении утерял? Кто он такой, жук этот? Как он вообще с тобой оказался? Перешел в другую лабораторию. Зачем его взяли? Ни к селу там ни к городу. Вообще иранисты. Я его в январе уволил. Нет, он опять вылез. Не помню, как его зовут. Я был против, чтобы он ехал с тобой в экспедицию. Он столько тут мне нашептал! Столько!
Первый
Но из Йеллоуфилда прислали грант именно на него и на меня.
Второй
На институт прислали! Самое дело. На меня!
помедлив
И ты еще ведь не в курсе, повторяю, когда я его увольнял что он мне наговорил про тебя, и что ребенок твой больной только прикрытие для тебя, чтобы тебя не увольняли, а на самом деле это его ребенок.
Первый
Что ж! Я его понимаю. Выдавал желаемое за действительное опять-таки…
Второй
Что у него сестра такая инвалид родилась и умерла, и мать ему сказала, когда он вырос, что он не должен иметь детей… А с твоей женой он не предохранялся, мстил. Видишь вот! И он обязан, так сказать, содержать своего ребенка! Его типа нельзя увольнять и тому подобное.
Первый
Ну что… Кстати, я должен предупредить, что эта запись ночного пения является интеллектуальной собственностью Кухарева.
Второй
И тут кричал мне, что его не имеют права уволить вплоть до генетической экспертизы! Что этот ребенок Алексей он его ребенок.
Первый (не слушая)
Да уж… Я его перед отъездом специально предупредил, чтобы он не брал с собой спирт. И уж ни в каком случае не поил бы Никулая. Наш товарищ Кухарев ведь впервые посетил энтти.
Второй
И я и подписал сразу приказ об увольнении… Мараться об эту гадость! Почему, потому что ты мне гораздо больше симпатичен!
Первый (настойчиво)
Но по приезде к энтти, когда я пошел к своим там информантам Гавриловым, то Кухарев, оказывается, спустился на первый этаж Дома рыбака, где в красном уголке поселили артистов местного театра, и там обнаружил Никулая, познакомился со всеми, выставил спирт. Никулай должен был ехать дальше на гастроли с театром, у них упала посещаемость. А на Никулая всегда аншлаг. Он — местное божество. Это вообще энттская труппа с европейским репертуаром. Театр на основе курса. Они четырнадцать человек когда-то поехали на учебу, учились в Москве… Родили там восемь детей. Детей отправляли домой регулярно. Регулярно друг друга резали… Мне как-то в подарок привезли со своей родины, с Юзени, после каникул одеяло из песцов. Двойное, два метра на полтора мехом наружу. Мы сначала хотели сшить Анюте шубу, но все было некогда, денег не было, и этим одеялом зимой накрывали Алешку, когда он спал на балконе. Потом, правда, пришлось отделаться от этого песцового одеяла. Выкинули.
Второй
Ты что! Люди бы купили. Я лично знаю!
Первый
Нет, плохо выделанная шкура, она лежала на антресолях, в ней завелись черви летом, жена осенью развернула, потом аккуратно смотала и вынесла на помойку. Ну вот, эта труппа, у них в репертуаре «Без вины виноватые», они как раз сидели в гостинице, идти было некуда, вечный праздник, тем более что у них там есть звезда, Варвара, заслуженная она. На роль Негиной. Она главная алкоголичка.
Второй
Время, время. Мало время.
Первый
Я стараюсь вам объяснить обстановку. Юра, как потом рассказали, выставил пузырь спирта и стал настойчиво угощать Никулая, будучи с видеокамерой наготове. Снимал артистов, Никулая. Никулай не может отказать никому, это не в правилах народа энтти, тем более что спирт для них лакомство. Потом там был большой конфликт, Никулая связала администратор полотенцами, и его тут же уложили под стол. У них, у энтти, нет первой стадии опьянения, сразу или за нож берутся, или валятся с ног. Ему совершенно нельзя пить. Потом, я думаю, Юра сел за этот стол и стал поглядывать вниз, прислушиваться и караулить. Актеры мне в красках описали. Они все уже легли спать, а он все сидел наготове с камерой, свет причем не гася. Я ему еще в самолете рассказывал много об энтти, дурак, вводил в курс дела, и о том, что так и не смог записать ночное пение Никулая. Выпьем, да, но вместе, и записать не удается, неловко использовать слабость Никулая, как бы пожаловался со смехом я ему. Ну и Юра решил, видимо, провести эксперимент сам, хотя Никулай — это мой информант, это я перевел его эпос, пять песен Емолой-хайыра, не шутки. Еще две у меня на пленке записаны, лежат в ожидании денег, кстати, как и первые пять.
Второй
Денег нет!
Первый
А потом я рано утром вернулся в гостиницу, пошел искать Никулая, все спят вповалку, дух ужасный, нашел его под столом и развязал. Он не мог шевелить руками. А ему же надо вечером играть на уоле! Я сделал втык администраторше, там такая убоина Валентина работает, поднялся наверх, разбудил Юру. Юра тут же похвастался мне, что записал ночное пение Никулая. Выпили пивка. Он был в ударе. Шутил, смеялся. Я промолчал насчет того, что надо было развязать Никулая как только он уснул. Вообще как бы проглотил это соображение. Ни в чем не упрекал. Я попросил его только показать мне кассету. Сказал ему, что расшифровать ночное пение смогу только я. Сам он не понимает языка энтти как будучи вообще арабист. И что все равно всю работу надо будет делать вместе. Он мне показал запись. Я ее прослушал, очень многое понял, догадался. Одним словом, свел концы с концами. И вот тут я, надо сказать, сделал грубейшую ошибку и предложил ему как бы просто так пойти в одно место прогуляться поснимать, а это было как раз священное место энтти, так называемая Долина Сидящего. То, что я услышал, в моей голове связало все нити, и я повел Кухарева туда, снимать Сидящего. Потому что ночное пение было о нем.
Второй
Сидящего, стоящего, это наподобие чего?
Первый
Минутку. Сидящего царя. Эпоха приблизительно Александра Македонского… Мы пошли туда, достигли мольбища, спустились в могильник, снимали, а на обратном пути он заявил, что съемка могильника — его интеллектуальная собственность и он мне ее не отдаст, будет один автором публикации…
Второй
Его собственность? Да он вор, ворюга! Деньги на экспедицию от института, камера тоже, тема тоже наша, сколько лет ты туда ездиешь…
Первый
А вечером я пошел опять к Гавриловым, чтобы не находиться с ним в одной комнате, он остался с артистами в гостинице. Мы оба очень устали. Я решил у Гавриловых продолжить вчерашнюю работу по записям о прошедшем годе…
Второй
Вот я и вижу, что у вас были с ним взаимоотношения как всегда в науке. Вор у вора дубинку украл. А мне говорили, что вы все тут буквально святые, во главе с вашим бывшим академиком, это, как его… Альц-мей-гером.
Первый
Именно так. Энгельхардтом, если точнее, который болен болезнью Альцгеймера.
Второй
Один хрен, в маразме. Почетный член! Даже премию ему какую-то в зубы сунули уходя… Как говорится, посмертно… Чтобы не скучал на пенсии.
Первый
Картина Рожкина «Шиш».
пауза
Мы его выступления так называли. Картина Шишкина «Рожь», так сказать… А он однажды перепутал.
Второй
Да!
пауза
Теперь я понимаю, почему руководитель того отдела настаивал именно на кандидатуре Кухарева для увольнения. Сдал его с потрохами, как говорится. И было за что, я понял.
Первый
У нас остальные все одинокие матери или перед пенсией.
Второй
Ну да, а у тебя ребенок больной, вообще у вас отдел — это целый интернат для инвалидов по уму, как я понял. Этот Кухарев тогда еще приходил ко мне, когда его увольняли, и выражался про тебя, что ты хорошо устроился на основе больного ребенка, но лишь только на словах, что вы давно с женой разбежались, она живет с другим, то есть с ним самим, с Кухаревым, а это один миф, что больной ребенок у тебя, а вот теперь его увольняют, хотя это у него его собственный больной ребенок и больная тоже престарелая его мамаша полностью на шее сидит с одной пенсией. Не к ночи будь помянута, кстати. О-хо-хо.
Первый
Да. Это все мечты его такие. Фантазии. Не верьте.
Второй
Ты убил его?
Первый
Убил бы, если бы получилось.
Второй
О! Глаза загорелись. Тогда зачем о нем хлопочешь?
Первый
Да необходимо. Невыносимо. Как жить бы стал после того. Как бы преступление энд наказание.
Второй
На твоем-то бы месте он бы деньги выжал изо всех на выкуп, да не отдал бы за тебя. С радостью бы сдал на жареху. А ты?
Первый
Да вот так как-то. Невозможно убить.
Второй
Дуррак. Стой, да? Отстой?
Первый
Ну так вот, я сидел у Гавриловых, и они рассказывали мне о трагических событиях за прошедший год, и вот это и есть мое сообщение номер два на симпозиуме. Люди начали исчезать еще когда я был там прошлым летом, мои информанты сказали, что в предгорьях Джунджи появились чучуны. Были найдены человеческие останки со следами тепловой обработки.
Второй
Как, как это?
Первый
Обьедки жареного мяса на костях. Я почему это знаю. Валялся в одном случае женский сапог, по нему как раз мои Гавриловы опознали, что это останки их матери. Накануне отец повез ее в больницу, и оба исчезли. Вот те самые Гавриловы — это две девочки и их бабка, вернее, четыре девочки. Бабка произнесла слово «чучуны», девки испугались. Хотя, по идее, чучуны не должны знать тепловой обработки мяса, раз, и второе, никогда не ели человечины. Чучуна — это реликтовый гоминоид, как бы снежный человек.
Второй
Болтаешь тут. Наукой же доказано, что их нет. Ну и как же этот Кухарев погиб?
Первый
Не погиб он, говорю вам. Уже было поздно, девочки уложили детей и сами легли, мы только с бабкой сидели. Тут внедряется пьяный Кухарев с камерой и с бутылкой. Хочет снять семью энтти в мирном быту и продемонстрировать где надо. Для моего, то есть его, подчеркнул, будущего фильма.
Второй
Разлетелся.
Первый
Маленькие дети и так далее. Типа этнографические данные о семейном укладе. И что он тоже полноправный член экспедиции. Я стал возражать, не до того людям, они лишились кормильцев, зимой исчезли мать с отцом, взрослые, трудоспособные работники. По всей видимости, их съели. Денег нет. Какие могут быть съемки быта! Но он меня не слушал.
Второй
Съели отца с матерью, это я понял.
Первый
Я и говорю вам, это следующая моя работа, по которой я собрал материал. Дальше. Он начал вытаскивать из спальных мешков, щекотать девчонок. Сказал, что будет их снимать. Те оживились, стали одеваться, он говорит не надо, трясет бутылкой. Хвастался своими, как выразился, репродуктивными способностями. Я говорю, им нельзя пить, они кормят детей. Бабка захихикала, возразила, что маленько можно. Ну, я с ним решил побеседовать. Говорю, давай-ка мы с тобой сначала выпьем и за бутылкой покалякаем. У меня, сказал я ему, материала много, и не только что мы сегодня снимали, но и тайные месторождения самородного золота по берегам ручья. Поскольку в этом ночном пении, говорю, он открыл этот секрет. Пусть бабы лягут, это не для их ушей дела. И Кухарев купился.
Второй (встрепенувшись)
Какого золота?
Первый
Ну это я так. Тут он меня предупредил, что запись ночного пения кассету он надежно спрятал, чтобы я не беспокоился и не искал у него в вещах. Он совершает большой скачок. Он все время повторял, что настало теперь его время. Он даст мне копию потом, только для отчета по гранту. В виде нескольких секунд. Остальное сделает как фильм и продаст Би Би Си, и создаст компанию по вывозу этого добра из могильника, разместит в музеи, сначала как экспозицию на экспорт. Глаза были красные. Могильник, видимо, его поразил. Он намеревался ведь работать в Долине мертвых в Египте с Уилксом.
Второй
Кто бы его туда послал. Он обращался ко мне неоднократно.
Первый
Могильник и меня поразил. Хотя, в принципе, я был готов к этому зрелищу.
Второй
Кухарев повел себя согласно чего? Согласно этого… Как его… Ну, научная этика сейчас кто кого сожрет. И ты его убил.
Первый
Повторяю, пока что он жив, надеюсь.
молчание
Второй
Ну а дальше как развивалось? Это не допрос, имей в виду. Просто я ведь буду выступать общественным защитником тебя по обвинению в убийстве. Мать его уже подает в суд.
Первый
Почему убийстве. Я сказал Юре, что половина гранта действительно его, а половина моя.
Второй
Института это грант! Ни они ни ты, забудьте! Я! Кто прислал грант — это уже веса тут никакого не играет! Понятно? Буквально никакого. Делят тоже.
Первый
Он же перед тем уже набрался как сука блох, его развезло, меня тоже. Все-таки устали. Заснул. Просыпаюсь — его нет, видеокамера валяется. Выхожу из дома, из балагана по-ихнему, метрах в пяти лежит человек отвернувшись, лица не видно, только лохматые черные волосы, и как-то странно шевелит животом, трясется.
Второй
Шевелит?
Первый
При полном свете полярной ночи. Как-то подскакивает. Как бы хохочет. Подхожу ближе, лицо у него обглодано, лежит полусъеденный человек в одежде энтти… Куртка стаканчиком… У них там все практически одинаковое… Подбираюсь поближе, так? И вдруг он как дернется всем туловищем! Я прямо отпрыгнул. Со съеденным лицом привскакивает! И тут из брюха вываливается что-то живое, какой-то волосатый сгусток весь в крови, и тянет наружу толстую змею… Человек поседеть может за один момент.
Второй
Ладно.
Первый
Оказалось, это выскочил из его живота маленький песец, окровавленный весь… И не змею волок, это кишка была, песец ее потянул, бросил и убежал. И странно, обычно собаки в таких случаях все здесь, лают, а тут полное молчание, тишина.
Второй
Фу ты. Чернуха какая-то, терпеть не люблю.
Первый
Ничего не понятно.
Второй
С пьяных глаз померещилось…
Первый
Да! Тут не с пьяных… Пошел искать Кухарева, но он в гостиницу так и не возвращался. Постель была завалена барахлом, как помойная яма, но на ней не спали. Я тогда подумал, что, возможно, ночью этот бич, когда Кухарев вышел, на него напал, Кух его убил (на шее как бы улыбка как от ножа), и смылся от страха, что наделал. Я стал у него искать кассету, все перерыл, не нашел. Потом пошел в милицию, заявил, что есть труп и пропал мой участник экспедиции, они же мне сообщают, что это известно, ждут бригаду из района и что недавно по говорушке, по рации, звонили из зоны, это, объясняю вам, зона смертников, туда свозят всех осужденных на пожизненное заключение, это знаменитый так называемый Андрюшкин острог, и оттуда, сообщают опять-таки мне энттские менты Корякин и Винокуров, уже звонили насчет Кухарева, он у них в зоне и лично вызывает меня по этой говорушке. Я был удивлен, если не сказать больше: туда по тайге идти километров пятьдесят если по прямой, но дороги такой нет, еще кое-где снег, болота, а по Юзени часа два на катере, но катер-то этой ночью не ходил! И потом, Андрюшкин острог — что ему там делать, Кухареву? Вот тебе и на.
Второй
Еще того лучше! Зона смертников!
Первый
Да, там они отбывают. Пожизненное. Серийные убийцы, маньяки и тэ дэ. Людоеды. Как он туда попал? Я стою не знаю что отвечать. В милиции, однако, все точно знали что мне делать, у самих у них топить вездеход нечем, бензин они берегут, и сказали ехать вместе с актерами, там в Андрюшкином остроге запланирован спектакль для охраны и сотрудников. Актерам нанимают катер. Хорошо, возвращаюсь к артистам. Через часа три едем на катере.
Второй
Я пока тебе не верю.
Первый
Да я сам не поверил бы. Но у меня есть доказательства того, что я приехал на катере вместе с театром. Я соскочил первым и снимал, как они сходили на берег, как разгружали реквизит. Снимал Варьку, она тут же села на берегу на свое кресло, это у них знаменитое кресло для спектаклей из прошлой жизни. Списанное из гостиницы. Снимал также ее казнь.
Второй
Еще того лучше. Казнь. Как это казнь?
Первый
Это я расскажу. Позже, уже в остроге, мне показали Юру. Он трясся, ныл, я думал, посталкогольный синдром, но дело обстояло хуже. Он молчал в ответ на все мои вопросы. Что-то бормотал неразборчиво. Вдруг сказал по-энттски, что его ест песец. Все время держался за горло.
Второй
Врешь. Вот это ты выдумал только что.
Первый
Языковой шок, я думаю. Энттский язык имеет тюркские корни, но Юра-то арабист.
Второй
Арабист тоже. Кто это проверял? Нет у него диплома.
Первый
Я тоже кончал русскую филологию, и что? Чему это мешает?
Второй
Все вы тут…
пауза
Первый
Дальше, и откуда он взял про песца?
Второй
Мда… Если только все это не сказки. Такк… Ты его спросил, как он там оказался? Нет, не хочется тебе верить, я уже чувствую. Я старый, опытный это, и не надо меня дурить. Вот не надо.
Первый
Я говорю, он был абсолютно другой. Мне его предъявили, правда, уже потом, когда весь театр был взят в заложники и казнена Варька. Меня конвоировали двое чучун… Это люди с длинными волосами и бородами, босые, с черными монголоидными лицами, вонючие, одетые в оленьи шкуры… Они не говорят, а только гаркают или свистят. Это было как во сне. Ввели в ворота. Юра сидел у стены на корточках. Подошел начальник, в мундире, честь по чести, и сказал, что нужен за этого выкуп, пять тысяч долларов, и ждать будут неделю. А билет-то у меня и паспорт в рюкзаке, а рюкзак у меня отобрали! Говорю, пусть ваши отдадут мне паспорт. Он по-энттски сказал этим вахлакам, чтобы принесли рюкзак. Без тени акцента говорил. А вот по-русски выражался как типичный энтти. По фамилии Проегоркин, такой лысый белый как моль, пятнистый. Болезнь его, по-моему, то ли витилиго называтся. Я было хотел забрать рюкзак, там все мое жизнеобеспечение, записи, лекарства, белье, но они сразу все по нитке разнесли, мне отдали только паспорт. Все вытряхнули на землю. Паспорт был в кармашке. Ни билета, ни денег. Часы тоже сняли. Как я буду добираться до Москвы? Начальник повернулся и пошел, меня повели в тайгу, два часа вели, отпустили только у реки, я топтался, прыгал, холодно же, все ждал какого-нибудь катера, буквально до посинения, наконец меня подобрали… В аэропорту тоже были проблемы, не пускали на самолет, сказали, а вдруг ты продал свой билет.
Первый
Ну хорошо, выдумал ты не очень, прямо скажем. Что это за зона такая? Быть того не может.
Второй
Начальник зоны объяснил все просто: у них кончились продукты, ток отключен, солярки нет. И вот они взяли заложников. Первый из них Юра, они надеются на Москву, что я соберу выкуп. А за артистов энтти даже смешно назначать, кто платить будет? Артисты сами без зарплаты год. Работают кто во что горазд… Круглое катят, квадратное тащат.
Второй
Че?
Первый
Грузчиками в основном.
Второй
Не понял.
Первый
Ну и ладно. Это их шутка. Да. Начальник сказал так: осужденные говорят, что приговор был к пожизненному заключению, а не казнить голодом. Им и за бунт ничего не дадут, и за похищение, и за людоедство, и дальше не сошлют. Уже там край света. Даже если их посадят в тюрьму, все же лучше, там тепло и будут кормить хоть как-то. Я спросил, а кто эти… Ну, волосатые. Он ответил, что это чучуны, они зимой трое приблудились к зоне, рылись в помойке, тут их и накрыла охрана, держали в яме, а потом ходили с ними на охоту как с собаками, они должны были бегать за оленями. Боеприпасы-то кончились… Не догоняли, ослабли, видимо. Дойдет до того, сказал, что когда-нибудь вообще в зоне откроют ворота и всех распустят осужденных, а среди них поголовно каждый убийца. Если не начнут финансировать. А зэки не считают энтти людьми, а чем-то вроде диких обезьян. Что их можно есть. Вот так. Можно думать, что начнется повальное людоедство.
Второй
Это расскажи в органах правопорядка, а мне зачем.
Первый
Правда, я из других источников знаю, что начальник зоны хочет себе джип за четыре тысячи пятьсот. В милиции Корякин и Винокуров между собой говорили по-энттски, смеялись, рассчитывая, что я пойму. У одного русского бандита Сашки в Энтске джип выставлен на продажу. Так что все эти истории с голодом в Анрюшкином остроге возникли, как видно, потому, что начальник зоны свирепо экономит, все продает на сторону. Ничего не боясь. Я сразу же как приехал в Москву, мы ходили в приемную министерства с матерью Юры. Они нам сказали, что начнут проверку, но это зона республиканского подчинения. Направят запрос в Энтск. А там у милиции тоже бензина нет и нет ни малейшей охоты в зону ехать. Они все друзья, вместе рыбачат. А начальник зоны сказал мне на прощанье, мы держим вашего человека неделю, а потом начнем убивать его и подряд заложников. Вообще это первый случай, когда в тех местах просят выкуп. Но исчезать люди начали уже с год. Когда я был там прошлым летом, Никулай-уол сказал, что в предгорьях Джунджи появились чучуны.
Второй
Да, с Кухаревым это сплошная загадка… И ты в ней завязан. Ну, а что казнь?
Первый
Это на закуску. Я хотел бы дальше показать вам кассету с ночным пением. Это будет первый мой ваш доклад на Гаваях.
Второй
Условие ставишь, так-так.
Первый
Все по порядку. Кстати, когда я уже после зоны вернулся, обратился в милицию, мне в милиции так значительно вдруг отдают видеокассету с записью ночного пения. Надпись рукой Юры. Где-то обнаружили, не сказали где. Я рылся ведь у Юры и не нашел… Видимо, они к тому времени знали про убийство, труп пока оставили почему-то, зашли в гостиницу, стали шарить, нашли у Юры кассету. Дальше посмотрели запись, не нашли ничего интересного, темно, лежит связанный человек и мычит, кричит, ноет. И вы не путайтесь. Это у администратора гостиницы Валюшки такой метод, энтти когда выпьют, сразу либо отключаются, либо порют ножами окружающее население. У нее старые полотенца, она сразу связывает, баба могучая. Насчет чучун милиция мне ответила, что обещают разобраться. Случай людоедства.
Второй
Никакие не чучуны. Бичи таежные оголодали и схавали местных. Это у них сплошь и рядом.
Первый
Бичи — случайность, они не сидят на месте, пройдут и все, а тут это стало системой. Ну хорошо. Я ставлю кассету. Он связан, лежит, но, к сожалению, Кухарев еще и плохо снял, почти ничего не видно, дело под столом, но слышно. Ночное пение. Заметьте, называет адрес и время.
голос поет
Между грудей богини Охы, под третьим камнем сверху, это есть место, где уходят в подземный мир… Куда уходит уже, готовится уйти завтра на рассвете моя душа. Ее встретит Сидящий.
нажимает кнопку
Стоп. Первое: точная дата исчезновения Никулая. Второе: адрес. Вот туда мы и пошли на следующий день с Юрой, о чем я очень теперь горько сожалею. Это поляна между двух горок, весьма характерное место, Никулай еще два года назад как бы случайно меня туда привел за пузырек спирта.
Второй
А! Что я говорил! Это ты все же его как-то запродал в зону. Ты. Этого так называемого Юру. Уж не знаю каким образом. Где-то ты мне тут подстроил факты. Ты не хотел такого Юру брать с собой в экспедицию, я сам был против. Это все Шапиры нажим был. У меня интуиция знаешь? И я верю на сто процентов, что его сдал ты. Я бы тоже сдал. И еще бы на этом наварил, сказал бы не пять, а десять кусков долларов.
Первый
Когда мы туда пришли, я был очень… как бы взволнован. Место ухода в подземный мир! Юра об этом не знал, но что-то он все же проинтуичил. Действительно, место между двух холмов. В прошлый раз Никулай мне сказал эдак покровительственно: «Тут в земле есть камер». Так выразился. «В земле есть камер». Я тогда не придал значения. А теперь, когда я услышал это ночное пение, я связал эти две вещи между собой, и мы с Юрой, придя на место, увидели там верхний камень, взялись и отвалили этот камешек весом в центнер хороший…
Второй
Да, этот Кухарев хоть мелкий, но здоровый. Ты послабже будешь. Ты слабый научный сотрудник, ха-ха! Гм.
Первый
Срубили пару мелких пихт, использовали их как рычаги. Под камнем был еще камень, плоский, сдвинули его, там как бы устье колодца и есть расширение вниз. Все нетронутое. Сделали из этих пихт что-то типа трапа, спустились. Там уже следующий камень был отвален, мы бы не справились. Видимо, могильник уже посещали, потому что и склеп над ним был нарушен, а он из толстых бревен лиственницы. Когда-то, видимо, ворами был проломлен туда люк, и с незапамятных времен в склеп набралась вода, она, соответственно, превратилась в лед, в ледяную линзу такую неизвестного размера, может быть даже очень большую… И таким образом все захоронение оказалось внутри этой линзы, причем в первозданном состоянии. Это и есть их святилище, мольбище. Никулай-уол знает то, что может знать только мамот, но у него, я повторяю, с мамотами сложные отношения, они как бы соперничают. Никулай-уол считает себя рангом выше. Он и мамот, потомственный мамот, но он и поэт. Местные его побаиваются, и единственный кто ему как бы не то что равен, но и в чем-то выше его, это их непризнанный верховный мамот, Никифор. Я слышал о нем много, но ни разу не удалось его видеть, Никулай намекал, что он способен на метаморфозы и в данный момент может преобразиться в щуку и уйти в океан.
Второй
Новое дело.
Первый
Щука, в трехсотлетнем возрасте она же мамонт… Верховное существо нижнего мира.
Второй
Ну ты, слабый, не вдавайся, будь проще. Мне это подробные данные, сам пойми, я обойдусь.
Первый
Нам открылось только пространство метр на полтора, люк, причем там на дне стояла вода. Опустили палку, толщина водного слоя где-то полметра, далее материковый лед. Стали светить фонарем. Нечто фантастическое. Подобное, надо сказать, есть в Эрмитаже. Так называемое Пазырыкское захоронение с Алтая. Колесница, царь на троне, ковры, украшения эт сетера.
Второй
Украшение чего?
Первый
И тэ дэ.
Второй
Такк…
Первый
Я сразу понял. Юра тоже был заметно потрясен. Он снимал, потом сказал, чтобы я поднялся наверх и постарался максимально очистить от растительности вход. То есть ему не хватает света якобы. Разумеется, это был предлог. Когда я вернулся, он сказал, что светлей не стало, но я заметил, что он как бы нырял. Куртки на нем не было, майку-рубашку он успел надеть, но проступали мокрые пятна. Лицо горело, как натертое снегом. Вода там максимум плюс четыре градуса. В состоянии перехода в лед. Кухарев начал снимать. Хотя я уверен, он снимал и когда меня не было, но тут я держал фонарь. Сквозь воду проступали как бы очертания огромного такого продолговатого купола, лобные доли три-четыре метра длиной не меньше, огромнейшего черепа, похожего на череп мамонта или ящера, что ли, под водой в темноте не видно, он так наискось уходил вниз, уже в лед… Так что бивни невозможно было рассмотреть… Три глазницы. Верхняя пустая. В нижних как бы мох и еще что-то. Глаза кроме верхнего заткнуты. У них есть такой момент, что не должно быть дыр из нижнего мира, оттуда мгновенно вылетает всякая нечисть в виде мелких албезов. Поэтому я счел, что или при первом взломе могильника что-то произошло, или только что. Возможно, там на верхней глазнице лежала золотая пластина.
Второй
Золотая? Юра взял?
Первый
Сомневаюсь. Вряд ли. Первые взломщики бы не оставили.
Второй
Ты проверял его карманы?
Первый
Нет, вы что! Вы что!
Второй
Что-то все равно не то.
Второй
Я с ним как бы состою в дружбе с университета. Я его знаю как свои пять пальцев. На его лице всегда написано все. Тут бы он вообще с ума сошел, золото скифов! Постарался бы удрать как можно скорее. Это же можно продать любому коллекционеру.
Второй
Ну сколько, ну сколько приблизительно может стоить такая штучка эта пластина?
Первый
В зависимости от изображения.
Второй
Сколько тысяч долларов?
Первый
Ну не знаю. Понимаете, без привязки к могильнику, без публикации данных, без выставки и научных сообщений, особенно без каталога на несколько порядков меньше. Скажем, не пятьсот тысяч долларов, а сто тридцать.
Второй
Да, он бы постарался уехать. Да! Слинять с этим.
Первый
Вот. А он вместо того увязался тем же вечером со мной к Гавриловым. Как бы решив всюду повторять мои пути.
Второй
Сделал ставку на тебя.
Первый
Как бы.
Второй
И тебе это не подошло.
Первый
Я этого не говорил. Во всяком случае, он начал строить планы на этот могильник. Я ему сразу сказал, что я решил не открывать его для науки. Я не стал говорить, что это национальная святыня, мольбище энтти.
Второй
Он решил! Кто ты? Кто? Младший вообще научный! Он решил, ну вы гляньте. Это же мировое мероприятие! Честь института! Симпозиум! Как можно открытие не открывать!
Первый
Ну, есть примеры. Некоторые ученые предпочитают не продолжать исследования, понимая, что это опасно для человечества или для нации.
Второй
Мне ремонт не на что заканчивать! Наш институт весь в процессе, все в известке, ничего не завершено, а денег уже нет! Воруют!
пауза
Я тут с тобой не согласен. Мне деньги, в отличие от вас, нужны. И я, как хочешь, это дело провентилирую… Между двух грудей. Запомнил. Я тогда буду публикатор. Как хочешь, но я это дело обнародую сам. Будет мой приоритет. Сделаю сообщение на тех же Хаваях. Ты мне сейчас все переведи хорошенько…
Первый
Дело в том, что я против, и в ночном пении больше ничего про адрес не сказано.
Второй
Ладно-ладно, ты жарь-жарь, рыба будет…
Первый
Энтти имеют право на свое национальное святилище. Мы должны их защитить.
Второй
Да кто нападает! Они же сами получат выгоду! Когда это дело выколупнут из земли. Будет заповедник, все что надо. Они пойдут в охрану работать. Сутки спи на работе, трое ты у себя в шалаше!
смех
А мы в институте откроем музей. Под это я найду средства. Ну, продадим что-то из могильника. У меня есть хороший мужик, доктор Шуе, директор какого-то, шут его знает, института. Туда люди ходят и занимаются ремеслом, куют или там лепят… Притон такой для безработных и пенсионеров, чтобы их занять, для молодежи. У него там и театр, мужской балет. Они политкорректные, знаешь? К меньшинствам относятся как не знаю что. Мы с ним после спектакля долго говорили… Хохотали. Я выставил водку, икру какую с собой привез… Я десять слов по английски, три по-немецки. Гут! Аи ноу ю ар вери гут! Их бине дубине. Битте дритте мы шутили, оказыватся это пожалуйста третье! А? Парни! Ю а вери-вери! Кис ми! Я обещал ему похлопотать насчет их гастролей у нас. А у него есть возможности связаться с их фондами. Фонд, йес! Мани-мани-мани! Мы его включим в программу. Он добудет деньги… Всюду надо иметь связи, ты понял? Мою мысль довольно простую?
Первый
Понял. Но это невозможно, вот что.
Второй
Ну так ты мне и больше не нужен!
Первый
Смотрите. Нижний Сы не прощает. Вы понимаете? Кухарева это уже коснулось. Если кто для личной выгоды вознамерится…
Второй
Кто? Че? Ну ты даешь… Вознамерится… Слова какие. Угрожаешь? И с этим ты хочешь получить у меня взаймы?
Первый
Понимаете, это их святилище. И врата в нижний мир. Если мы это дело разорим, вывезем — без святыни энтти погибнут. Каждый народ уходит, если нет ничего святого. Выть надо, но укаров мы потеряли. Где укары? А теперь энтти?!
Второй
Не пугай. Укаров он потерял. Мы же живем! Наша страна. Что у нас святого осталось?
Первый
Это спорный вопрос. Пейзаж? Пасха? Язык? Дети?
Второй
И то пока не вырастут! А вырастут, так буквально это… до драки дело доезжает! Да! Дура! И та тоже дура!
пауза
И потом, ты меня их богом не пугай, мне свой поможет. Я хожу, свечки ставлю и так далее. В общем, ладушки. Я буду руководитель проекта, хер этот Шуе предоставит иностранный капитал… Под это дело мы его балет привезем… Заинтересуем его. Сами туда съездим… не раз. Если нет денег, организуй мировой проект! Что бы вы без меня тут делали. И все под маркой моего института! А то я не мог взять в голову, а где же тут моя выгода-то? То есть института? За что я деньги даю? Ну хорошо, едем дальше.
Первый
Отмотаю на начало.
голос поет хрипло, с трудом
По ступеням вниз, по бесконечному сходу в десять кёсов, в вечные льды, ибо, так как, нет там движения. И это была дверь, калитка, полог в нижнее царство из среднего царства, с земли. Никому не дано было видеть как души уходят туда, тихо уходят, со страданием протискиваясь, пролезая в эту дверцу, видя, прозревая куда уходят, ибо, так как, трудно войти в эти льды непомерные, бесконечные, труден путь смерти, нет конца, кесы и кесы вниз. И у входа трехпалый, однорукий спрашивает: «Какие новости есть, расскажите», а душа отвечает, как заведено, как полагается, как нужно при встрече с незнакомым хозяином: «Никаких новостей нет», и замолкает, так начинается вечное молчание, ибо мертвый больше не скажет ничего. Стоп! О, понял-понял, погодите… Еще отмотаю… Так.
голос поет
Только избранный оставляет свою речь, свое говорение на камнях верхнего Джунджи… Вы поняли?
Второй
Что я понял?
Первый
Это прямое указание, где надо искать петроглифы энтти.
Второй
Чо? В каком смысле… петрографы? Это наподобие чего?
Первый
Петроглифы, это вырезанный в камне текст.
Второй
Специфическая у тебя терминология! То есть…
Первый
До сих пор считалось, что у энтти нет письменности. Значит, надо искать в верхних пещерах Джунджи.
Второй
Ну ты меня напрямую озадачил опять. Погоди, дай с тем справиться. Очень много просишь за одну мою поездку на Хавай. Куда я и сам могу поехать без твоих приглашений, кстати… Мне присылают бумажки на все симпозиумы. Вон буклеты валяются. Плати и езжай. Так, давай.
Первый
Ну, поехали.
голос поет тихо
Ну это он опять по второму кругу пошел… Такие повторы довольно часто он использует… И глаза трехпалого как гнезда птицы эхе черные в черных ямах а третий глаз во лбу как луч, как слеза заката предзимнего тра-та-та… и этот глаз соединен с бытующим, сущим, имеющимся в среднем царстве посланцем, пока он есть, живет, передвигается, и через него идет знание Трехпалому. И навстречу новому умершему сквозь лед ползет, вылезает, движется, виляет рука, тонкая как жгут, которым повязывают голову, из белого конского волоса тянется трехпалая рука, длинная как река Люнг, чтобы взять душу умирающего, и если уже сказаны слова привета, то нет пути назад. Там, в среднем мире, наверху, на земле, живой человек уходит, это работа уходящего, труд смерти, умирающий в это время там, в среднем мире, он или тонет, или ранен, или болеет, лежит один среди духов, которые уже начали пожирать его душу, и нельзя ему останавливаться на этом пути, ибо, потому что духи уже вселились в человека. Падающего не поднимай, тонущему не подавай багра, слеги, шеста, не бросай ему ни кошку, сейчас перемотаю немного…
голос поет
и ни плавательного пузыря. Три пальца подбираются, и вот уже духи жадно едят, вгрызаются в существо, тело души. Не читайте заклинаний, не пойте алмисов, спасти можно только тело, а в душе уже вот они, живут, копошатся, трехпалые посланцы Трехпалого. Но если человек не соглашается уйти, выходит наружу, бежит, удаляется от входа в нижнее царство, сохраняет, бережет свою жизнь, то он изгнанник, он уже не он, не сам, он в их власти, ему нет места среди живых людей в среднем мире, он дух…
Второй
Останови. Ну в общем понятно. Это ты за эту галиматню хочешь получить большие доллары? Кому это нужно? Я тебе сколько хочешь сейчас такого наговорю. Бесплатно. Вон ехала из Бухары доктор наук Ирина как сейчас помню Израилевна, на ПМЖ в Штаты, их там в Бухаре начали убивать на улицах уже. Везла с собой четыре чемодана записей песен бухарских евреев, что ли. Короче, на таджикском языке. Кому это необходимо позарез, я пока что не знаю. Я, во всяком случае, не компен… тентен в этом, мы посоветовались и за ту ее нереальную цену не приобрели. Повезла теперь в Америку. Там это тоже никому не нужно оказалось. Сидит теперь сама на этих чемоданах. Звонила, предлагала бесплатно переслать. В дар. Дура.
Первый
Надо бы. Это сокровища, если честно. Бабы со второго этажа за это бы удавились.
Второй
У нее нет денег на пересылку, предлагала нам оплатить. Опять за рыбу гроши.
Первый
Мы эту вашу поговорку уже выучили.
Второй
Смейся. Это народ! Народная мудрость. Чем мы-то занимаемся тут? Именно этим. Изучайте меня. Вот я вам народ! Вышел из тех ворот! Я пью за здравие тех ворот, откуда вышел весь народ, тост. Так. Ну что, не тянут твои эти песни на доклад. А что это ты мне внушал, что у тебя есть видеокассета с записью казни?
Первый
Об этом речь еще пойдет. Не все сразу.
Второй
Нет, ты скажи. А то, может, я вообще с тобой больше общаться не захочу. Якобы ты снял кассету, где она?
Первый
Она спрятана пока.
Второй
Хорошо, найдешь, тогда приходи.
Первый
Договорились. Вы не даете мне взаймы, я понял. Что же…
Второй
Какая там казнь-то? В двух словах. У нас мораторий на казнь, запрещена она.
Первый
Это долгая история. Когда взяли в заложники весь театр… То одну актрису на моих глазах, так сказать, освежевали. Здесь я и был свидетелем акта каннибализма…
Второй
Погоди. Как освежевали? Каннибализма при том.
Первый
Я вам говорил уже о чучунах, что это реликтовые гоминоиды.
Второй
Ну. Как это, реликтовые.
Первый
Я уже говорил, типа снежного человека. Существует целая литература о чучунах.
Второй
Вот! Чем дальше в лес, тем гуще помидоры у нас тут с тобой. У тебя крыша на этом поехала, вот что я тебе скажу. И теперь я еще буду думать, нужен ты мне или нет даже консультантом… К этим двум грудям.
Первый
Когда наш катер пришел, никто нас не встречал. Я стал от нечего делать снимать, как ведут себя актеры. Они начали позировать, играть на камеру. Я тогда ушел в кусты и вел съемку оттуда. Тут подошла тракторная волокуша. Они быстро все побросали на платформу. В том числе и мой рюкзак, я это снимал. Догнал бы я их в любом случае. Интересно видеть поведение. Я снимал. Они шутили, курили, короче, не торопились. Затем выскочили к волокуше эти существа, заросшие, в шкурах, босые. Засвистели. Актеры мигом попрыгали на волокушу. По виду это были как раз чучуны. Один встал к трактористу на подножку, двое чучун встали на волокушу. Энтти начали прятать лица. Видимо, так полагается. Младенцу мать закрыла лицо ладонью. Тронулись. Я все снимал. Волокуша ушла. Я потом побежал следом. Через два часа волокуша въехала на территорию зоны. Вместе с чучунами. Я вскарабкался на лиственницу, ближайшую к ограждению. Там был забор высотой метра в три из заостренных бревен. Тут из-за угла, из ворот, видимо, вышли трое чучун, они вели артистку на небольшую поляну с пнем посредине, как плаха. Прямо ко мне. Это была как раз их главная актриса, Варька, пятидесяти трех лет. Она шла совершенно без одежды. Как в концлагере. Варька по совместительству якобы является матерью Никифора, но данные непроверенные. Он с ней не общается. Так меня предупреждали. Что бесполезно искать Никифора через нее. Ее изнасиловали при мне. С живой содрали кожу. Голову отрубили, подставляли под струю ладони, пили кровь. Такая казнь.
Второй
Ты снимал?
Первый
Я все снимал.
Второй
Изнасилование?
Первый
Не помню. Я же кассету не просматривал.
Второй (тревожно)
Как это не помнишь? Зря,зря.
Первый
Затем один из них меня заметил и полез наверх, держа нож аккуратно в зубах. С ножа стекало. Сам весь тоже в крови. Я успел вынуть кассету и спрятал ее в развилке сучьев. Стал спускаться ему навстречу. Они меня повели как раз мимо того пня, за которым валялось туловище артистки без кожи. Ну что, будем дальше смотреть запись?
Второй
Что такое ты говоришь. Вот ты говоришь казнь. Как это — кожу содрали?
Первый
Есть русская пословица об этом древнем обряде, кстати. Буквально цитирую: голова у тебя первая на плечах и шкура еще не ворочена. Так сказать, определение неопытности. Так. Продолжаем.
Второй
Нет, ты сначала скажи!
Первый
Сейчас. Потом.
голос поет
И еще, когда человек хочет заново родиться, стать другим, переселиться, получить другую участь, судьбу, иную жизнь в чужой шкуре, или вторую молодость… Стоп. Это вроде Фауста, поясняю.
Второй
То есть как — вторую молодость?
с интересом
Как вторую?
Первый
Слушайте.
голос поет
То он тоже находит сюда дорогу, не сам собой, а его ведет Сы, Емолой-Хайыр, главный байрун…
Второй
Достаточно, ты свободен. Тебе задают конкретно вопрос. Ты не отвечаешь. Свободен.
Первый
Байрун — это божество… У мамотов есть свои приемы по возвращению молодости.
Второй
Сведешь меня с ними, кто специалист. Я знаешь какой молодой был?
Первый
А как же. Еще бы. Дальше идем…
Второй
Эх, какой я был! Кудрявый… В пионерлагере за девочку принимали. Мальчик, ты мальчик или девочка.
голос поет
Первый
И он помогает спускаться к трехпалому, но не велит отвечать на вопросы, и трехпалый, с желанием, охотно съев его душу, тогда отпускает его с новой душой, где кишат густо, изобильно духи, отпускает в жизнь, в среднее царство. Так, стоп. Тут я должен заметить этот мотив метемпсихоза…
Второй
Чего?
Первый
Метемпсихоза, переселения душ. Реинкарнация по-другому. Никулай мне говорил, что верховный мамот может переселяться в чужое тело. Ну как их Никифор. Он якобы вообще жил везде, начиная с древней Греции, и выбрал Аляску. То есть для него не существует проблем языка.
Второй
Ты говорил, он рыба? Какой еще мамонт?
Первый
Не сейчас. Не мамонт, а мамот. Жрец. Я специально в прошлом году привез Никулаю брошюру о метемпсихозе.
Второй
Что это, напомни.
Первый
Переселение души в другое тело. Психе — это душа. Мета — это понятно.
Второй
Знаю-знаю. Психология, короче.
Первый
Да. Это популярная такая книжонка, там были описаны достаточно подробно и греческие метаморфозы, вплоть до Овидия, и всякие индийские дела с реинкарнацией.
Второй
Тоже в этом роде?
Первый
Да, мотив перехода души при смерти в новое тело. Что якобы зафиксированы случаи, когда ребенок начинал вспоминать свою прошлую жизнь и даже называл адрес, и якобы туда ехали и узнавали, кто там недавно умер. Ну такая типично таблоидная информация…
Второй
Таблоид…
Первый
Да, это опубликованные желтой прессой якобы достоверные факты с выдуманными подробностями. Широко использовалось как прием всеми конфессиями. Религиями, так сказать. Никулай-уол стал смеяться и говорить, что такое, как он выразился, «мы-психо» он умеет, что его родичи постоянно ходили в нижнее царство и беседовали с умершими.
Второй
Сам-то ходил?
Первый
Скрывает. Итак! По верованиям энтти, души умерших обязательно возвращаются в новорожденных. И когда возникает проблема, какое имя дать еще не рожденному младенцу, мамот поднимается в верхнее царство, там у престола стоят души умерших, это как бы будущие дети. Они называются «сопливенькие». Надо у стоящего с краю сопливенького быстро спросить имя и тут же возвращаться. Имя дают, но тут же меняют его на противоположное, чтобы духи не пошли по следу души. Девочку переименовывают в мальчика, вообще как-то смешно называют ребенка. Например, рыбацкий передник. В России это тоже практиковалось, отсюда такие имена как Нехорош, Невзор, Некрас. Некрасов от этого произошел.
Второй
Ага. А моя фамилия от чего?
Первый
Видимо, от Пантелея. Ну вот слушаем, он об этом как раз и говорит.
Второй
Ты мне потом поподробней напишешь.
голос поет
Но это никогда не будет царство белого как солнце господина Ааы, не упоминайте его имени, мы называем его Нижний, Сы, чтобы запутать, повести неверной дорогой трехпалых, чтобы они не нашли его там, на его месте, не скажем где это, не назовем его имени, а скажем собачий ошейник, мойтрук. И туда, к мойтруку, идут те, кто решился умереть сам, болен человек или обидели, и он тогда объявляет, ухожу от вас, и такие люди желанно, добровольно идут одни в лес мертвых, или их везут в гробу, в лубке и там оставляют, и они ждут, завернувшись в товар — одеяло или материю,— и они съедают грибы, и тогда за ними приходит мухоморная девочка. И они восходят вверх, в Белое царство, назовем его Нижний Сы. Садись в свои шестикопыльные сани, в черных сапогах, в переднике, с висячим ножом, со своим котлом и чашками-хоронами, вечно летовать в краю вечного лета, у господина, назовем его Сы.
голос начинает выть
Первый
Так. Ну вот… Дальше он будет немного орать, это горловое такое пение. Сейчас в большой моде. Все в это дело кинулись, половина парней энтти и часть девушек, выпускники интернатов, сами делать ничего не умеют, теперь изображают мамотов. Истерику у себя вызывают, мухоморов порцайку примут и вперед! Вообще полагается не более шести сушеных грибов, но эти молодые не вникают. У энтти это называется мэндрик, припадок. Старшие такие дела не уважают. Никулай-уол рассказывал, у него предка за мамотизм еще в двадцатых арестовали, и тому в тюрьме даже понравилось. Сидишь, говорит, на нарах. Тепло. Кормят три раза в день, ничего делать не надо. А отец Никулая, Парамон, известный был мамот, он попал в зону, там быстро помер на лесоповале. Но сам Никулай-уол, он не хочет быть мамотом. Он гениальный поэт, он ведь вам столько будет петь, сколько вы будете его слушать… Практически неисчерпаемый источник. Я от него все и записал…
Второй
Мамот, это шаман, если проще?
Первый
Ну приблизительно. Жрец. А зачем Никулаю мамотить, он постоянно находится в состоянии транса без этих плясок и бубнов… Свободно ходит в верхний и нижний мир, ну вроде как Данте… А вы бы его видели! Маленький, неказистый, вечно его мухомором угощают… Когда хотят послушать. Он бы и без этого пел… Но уж такой порядок, надо угостить. Отказать энтти не могут.
Второй
Ой, дикий народ все же. Алкоголики, наркоманы. Вот и весь институт ваш, просили меня вас вытащить после этого вашего академика в маразме… Альцмейгера… И я к вам пришел. Вам же зарплату до меня полтора года не платили! И правильно делали. Вы же все этим занимаетесь, играми. А откуда я проверю, что ты там переводишь. Может, все сочинил и все. Кто скажет? И не возражай. Правильно вам тарифную сетку скостили.
Первый
В Алма-Ате долгое время существовал сектор по переводу киргизского эпоса «Манас» на казахский язык. Директором у них был русский человек. Весело жили. Пока кто-то из местного населения не позавидовал и не донес в вышестоящие инстанции, что там у них разница как примерно между вологодским языком и рязанским.
Второй
Зачем ты у меня время берешь?
Первый
Так. Минуту.
голос поет
А тот, кто вернулся от колодца, отказался от смерти, кто спас себя, тот уже чучуна, он несет в себе злых духов и поэтому не может войти под свой полог, и дети не обнимут его, и жена не ляжет с ним, и мать не подаст ему хорон с кумысом. О госпожа Широкого Столба, тебе деревянная лодочка с гребцом и пищей, в твою ненасытную большую, не знающую конца, обширную пасть, не допусти стать изгнанником, избави от спасения, светлый господин мы знаем как тебя зовут, мойтрук, собачий ошейник.
крик
Первый
Стоп. Это уже пошла молитва, видите, кричит. Заплакал.
голос воет
Не допусти стать чучуной, тернаком, жить в чучунской избушке, пещере, в горах на пустом месте, не допусти не знать дома и огня, одному добывать себе сырое мясо и никогда не увидеть своих детей. Не допусти обратиться в чучуну. Там, в далекой шеньдухе…
Это он по-досельному начал, по-древнерусски.
голос поет
…у берега лайды доспел я мой дом, там мои дети бегают с цыплятами моей собаки, там моя мать и жена живут без сыги, и ты, Сидящий, не допусти букишке сендушному разорить мою жизнь, наметай зверя, ушкана мне в пасти, сколько досель не было…
Есть такой древний русский язык там. Ну вот так. Теперь вы в целом понимаете, о чем идет речь. Я перевел как можно ближе к его речи. Чучуна и тернак — одно и то же, синонимы.
Второй
Да понимаю я все, но это зачем? Ты меня зачем грузишь? А?
Первый
Ночное пение.
Второй
Ну и зачем?
Первый
Это редкая запись.
Второй
Я повторяю, как докажешь, что редкое?
Первый
Это не известный науке вариант первого чогора. Первой главы «Емолой Хайыра». С указанием точного адреса, как я уже говорил.
Второй
Вашей науке, как мы тут установили, ничего не известно. Перевод не опубликован, так? И кто будет, я повторяю, проверять, разбираться? Что это новый вариант? Когда нет старого! Да меня насмех подымут на этих Хаваях! Нет. Я не вижу здесь твоей сенсации. Мало того. Я вижу здесь полное безобразие и очернение нашей действительности! Позор малой нации, буквально. Показ нашей политики, так? Ты посмотри, что у тебя там… Связывают человека! Это что, полит эт самое корректность? Он орет под столом, в мусоре! И непонятно что, главное, орет! И плачет буквально почти слезами.
Первый
Энтти не знают слез.
Второй
Может быть, для Хаваев это сенсация, а мы-то с тобой знаем, и Шапиро в курсе, что любой такое запишет у первого попавшего пьяного на углу при киоске. Утреннее пение с дрожью, ура. А то, что он с закрытыми глазами бормочет, вообще ни в какие ворота не лезет. Вид, вид какой! Я с этим позориться не поеду.
Первый
В данной записи много нового. Первое упоминание святилища. Предсказание своего ухода.
Второй
Это ты, ты так перевел. Другой переведет иначе.
Первый
Считается, что я единственный литературный переводчик.
Второй
Э! Черная каша сама себя хвалит. Кто это проверит? Ежели ты единственный?
Первый
Энтти по последней переписи тысяча с лишним человек, и многие знают русский… Учителя есть, медработники… Они могут быть экспертами.
Второй
Так… Значит, каков результат этой твоей экспедиции? Вы истратили свой грант на что? Чтобы попасть ему в заложники, это одно, с угрозой вообще, как ты тут говорил. Не знаю, кто он мне, а тебе это товарищ. Другое: камеру вам приобрели дорогую как вы просили, вы ее где-то там утратили. Мать его ко мне теперь сюда в приемную рвется. Уже угрожала прийти и стоять с лозунгом внизу у охраны. Своими рыданиями, понимаешь, Лену довела до кондрашки, а Лена не просто так тут сидит ногти красит, ко мне народ идет как я не знаю, вот сейчас ты у меня торчишь, а перед Леной толпа сидит. Ты, конечно, умный и красивый, но я напрасно время трачу. Вот мне от тебя какая конкретно я не говорю выгода? Что ли мне тебя в помощники взять? В помоишники, ха-ха. Размышляю я глядя. Что мне с тобой делать. А толк ли будет? За твою допустим что тысячу долларов зарплату что ты сможешь мне дать?
Первый
Я не готов сейчас к такому разговору.
Второй
Сейчас он не готов! Самое дело. А потом приставать будешь, канючить, сам приползешь, я и триста в месяц тебе не дам!
Первый
Погодите, съедят же его!
Второй
Что ты можешь предложить? Запомни, всегда надо не просить! А пред-ла-гать! А у тебя что? Нет, на Гаваи я с этой лабудой не поеду. А казнь ты записал. Ну и что как казнь? Где она?
Первый
Я думаю, институт может найти возможность спасти члена экспедиции… как же… Позор на весь научный мир. Дурная сенсация для газет с упоминанием имени института и вашей фамилии.
Второй
Ты меня не испугал. Отрицательная, понимаешь, реклама ничем не хуже. Так или сяк, упоминание. Вон Кука съели? И его запомнили. А других не съели, и никто в их сторону и плюнуть не захочет в историческом контексте.
Первый
Как сказал Кук, пусть меня приготовит кок.
Второй
Да… Это что?
Первый
Поговорка. Моя.
Второй
А!.. Дам я деньги, мы его спасем — и никто ни спасибо, ни, понимаешь, насрать. Но у меня самого ничего нет, я пустой. Дачу строю предыдущему сыну. Навязалась на мою голову супруга от первого брака. Как говорится, это только считается, что вы в разводе. Отец должен помочь! А если подумать, что такое отец? А? Секунда! Вот ты, такой красавец, у тебя небось много по лавкам сидит? Имею в виду этих… сопливых.
Первый
Мне хватает Алешки моего… Продолжаю. Тем более что собран сенсационный материал. Найдено сообщество палеантропов-каннибалов, чучун. Их искали более ста лет, и я их нашел.
Второй
И где это? Фактически? Бомжи эти?
Первый
Я ведь прошу деньги не только на выкуп. Выкуп — это дорога к лагерю. В отмеченном месте я оставил видеокассету с записью сцены похищения людей чучунами и казни Варвары. Палеоантропы, я их видел первый и снял на пленку! Реликтовые антропоиды.
Второй
Ты меня буквально своими терминами, как это… Задолбал. Ничего это не типа снежного человека. Это просто бичи таежные. Понадевали шкуры… Обросли, это просто. Не брейся, не мойся — и весь зарастешь. Они же вообще, бичи, типичные, как ты говоришь, гуманоиды, они не люди. Пещерные животные! Для них убить, зажарить, съесть что собаку, что человека, как это… дело аппетита. Даже таких, которые на убой, они специально называют быки. У меня вон два аспиранта, ешь не хочу.
смеется
Я их называю бычки вы у меня. Помясистее которые. Баскетболисты. Так что кому эти твои людоеды нужны. Милиция по них даже не плачет. Ну попересажают их… И весь твой материал коту в задницу.
Первый
Послушайте. Совсем недавно была история. Есть профессор очень известный, Диксон из университета Эрзоны. Он этнограф, антрополог, а по первой специальности он занимался патологоанатомией. Так что ему многое открыто. Я тоже ведь фельдшер по первому образованию, тоже занимался патологоанатомией, понимаю.
Второй
Слушай. Ты мне уже надоел со своей этой… патало-аналогией. Все.
Первый
Да вы дослушайте. Он как-то работал в музее индейцев оппи, это на юге Америки. И он обратил внимание на ящик с человеческими костями, который стоял где-то в запаснике. Вот.
Второй
Я-то тут при чем?
Первый
Сейчас все будет. Кости, заметим, тысячелетней давности. Диксон стал их осматривать и вдруг отметил, что кости были подвержены тепловой обработке.
Второй
Ну и что как тепловая обработка?
Первый
Сварены были эти люди. Или зажарены. Короче, он тут же поехал в Средний каньон, где из могильника были извлечены эти кости, нашел раскоп, стал рыть рядом и обнаружил очаг индейцев оппи, то есть они сами были там и сварены, и осколки горшков присутствовали. Но самое интересное, что на очаге индейцев, на их священном месте, имелись также и копролиты. Понимаете? Копролиты!
Второй
Проще говоря, это что? Твои копро…
Первый
Копролиты — это окаменевший кал.
Второй
Вот те и на. И что? Чем это интересно?
Первый
То есть было, короче говоря, носрано на очаг оппи. То есть мало того, что их съели, эти людоеды еще и надругались над их священным местом. То есть это было практически сакральное людоедство, обрядовое. И затем ритуально осквернили очаг. Такое посмертное наказание для целого племени.
Второй
Ну. Положили с прибором, как говорится. Это я понимаю.
Первый
Очаг для многих народов, да для всех, священен. Вот почему все ссоры в кухне. Готовящий пищу человек воспринимает это место как неприкосновенное для других.
Второй
Ну и зачем это.
Первый
Ну и вот. Оставить кал в чьей-то кастрюле, на чьей-то плите — это древнейшая форма презрения, оскорбления. Так… И профессор Диксон предположил, что те, захватчики, людоеды, и есть одновременно люди, которые положили с прибором на священное место. То есть это был акт наказания, сопровождавшийся ритуальным каннибализмом и осквернением очага.
Второй
Сыплешь терминами как этот…
Первый
Минутку. Ему резонно ответили потомки индейцев оппи, что любой прохожий мог сделать это, когда жилище сгорело, гнездо разорено — он заберется в развалины дома, как это обычно делают, и совершит свой акт дефекации. Испражнится, короче. Для потомков оппи было очень важно, что их предки тысячу лет назад не были ни людоедами, ни осквернителями. Малый народ, католики. И они стали активно возражать. И не людоеды были там, дескать, а случайно типа сгорел дом, и дикие звери съели обожженные трупы, пораскусили кости. Тогда доктор Диксон взялся доказать, что эти копролиты, то есть окаменевшие человеческие фекалии, содержат человеческий белок миоглобин, а именно непереваренные остатки человеческого же мяса.
Второй
Погоди. Как это…
Первый
Ну, миоглобин человека не усваивается в человеческом кишечнике. Иначе бы, я думаю, человек сам себя начал бы переваривать… И если в найденных на очаге копролитах содержатся остатки человеческого белка, то все доказано.
Второй
Ну, мало ли, пришел такой бомж, пожрал сгоревшего там индейца, а потом и посрал.
Первый
Нет, очаг достаточно высоко, туда надо же залезть. Нет смысла. По нужде не забираются на третий ярус дома. Но вы возражаете точно так же, как эти сотрудники музея оппи.
Второй
Ну я же знаю людей.
Первый
И Диксон послал в дружественный университет в биохимическую лабораторию эти копролиты на анализ. Но доктор Айзен, которой были посланы образцы, специалистка по копролитам, окаменелому дерьму то есть…
Второй
Понял уже, понял.
Первый
Она из чувства политкорректности и уважения к малому племени индейцев оппи отказалась публиковать результаты анализов.
Второй
Да проплатили они ей, что я, не знаю народ…
Первый
Что и говорит о том, что миоглобин все же был найден в копролитах. От индейцев оппи, кстати, взято слово «коянизкаци».
Второй
Да?
Первый
Переводится как «Жизнь, выведенная из равновесия».
Второй
Громкие фразы. Жизнь, он всегда выведена из этого… Из как его, равновесия.
Первый
И повакаци.
Второй
Да ну!
Первый
Переводится как «Жизнь в трансформации».
Второй
А какая разница?
Первый
Есть, есть. И еще одно слово оппи — «Накойкаци».
Второй
Вот именно, на кой.
Первый
Это «Война как образ жизни». Там была великая цивилизация, там были многоэтажные дома, обсерватории, каналы. И внезапно все исчезло.
Второй
Съели, что ли?
Первый
Разногласия внутри общины. Гражданская война.
Второй
Нну… Что же, можешь идти. Все.
Первый
Погодите минуту. Вся эта история произвела сенсацию в мире. Индейцы племени оппи были людоедами тысячу лет назад. Тут же были найдены следы древних актов ритуального пожирания человека и в Мексике, и в Европе даже!
Второй
Пусть к нам в Сибирь обратятся, ха-ха.
Первый
И каков результат? Доктор Диксон получил феллоушип Пампкин контекст, это огромная стипендия, и плюс ежегодную премию Аристонской ассоциации врачей за гуманизм, и идет на швейцеровку!
Второй
На швейцеровку?
Первый
Это пятьсот тысяч долларов без налогов.
Второй
На ремонт бы нам эту премию, это да.
Первый
А у меня-то материал погуще будет. Впервые в мире снят на пленку акт людоедства реликтовых гоминоидов, палеантропов-каннибалов. Они, отрубив ей голову, пили кровь из шеи, буквально хлебая горстями.
Второй
Из горла, ха. Из горла будешь? Как эти… алконавты говорят. Развеселил ты меня до ужаса.
Первый
Перед этим изнасиловали, вспороли живот… Содрали кожу…
Второй
Как, как? И ты это снял? Так. А зачем ты мне тогда предъявляешь эту мутоту подстольную? Эти частушки во сне? Где кассета, давай. Я ее в сейф положу сразу же.
трогает ключи на столе
Первый
Вы запамятовали, я вам сказал, что спрятал кассету перед тем как они меня сняли с дерева. Поэтому мне надо туда. Но без пяти тысяч… вернее, без шести тысяч долларов мне нечего там делать.
Второй
И что я получу за эту кассету на Хаваях?
Первый
Уж я даже не знаю, что только вы не получите! Да можете просить сколько угодно. Мировая сенсация, маета.
Второй
Почему это маета?
Первый
Маета — это хозяин по-ихнему.
Второй
Шесть тысяч, шесть тысяч… В долг я тебе достану. Но у таких людей, которые берут проценты. Большие причем! Тридцать процентов в месяц. Я за тебя не стану отвечать своей головой. Дашь мне расписку, короче. И еще. Ты мне сослужишь службу, Иван Царевич. На сером волке. И еще я беру, так и быть, под свое обеспечение тот наш могильник, не забудь. Короче, действовать будем в связке!
запел, потирая руки
Первый
Уйван-крипевач.
Второй
Что опять?
Первый
Это меня так энтти называют. Уйван-крипевач.
Второй
Да? Здорово, но непонятно. Ладно. Вот тебе первое задание, и будь всегда на подхвате. Заработаешь хорошо. Со мной не пропадают. Будем по ресторанам ходить, в интересные места свожу тебя я. Деятели кино молодые… Помогут с фильмом… Такк! Ну что… Поедешь в город Н. Туда ночь с небольшим всего. И отдашь им под расписку двадцать тысяч баксов. Как курьер такой. И шесть тогда получишь себе. Пиши. Вот тебе бумага, вот ручка. Я, такой-то… взял у такого-то… двадцать шесть тысяч долларов юэс. Дату… Подпись… Пока мне эту расписку не давай. Я сейчас тебе отстегну, тогда подписывай. Запомни. Сначала ты видишь сумму, считаешь ее, потом только даешь расписку.
вздох
Ох, неопытность. Ты чего в ступоре? Пиши давай! Я, такой-то Иван Царевич… Крупевич…
Первый
Вот я боюсь что не смогу.
Второй
Все сначала не могут, а потом привыкают и им даже нравится. Хорошо. За то, что ты отвезешь это дело, тебе будет награда, ровно тысяча долларов. Понял? То есть из первых процентов тебе тысячу не платить! Ты что! Тысячу за сутки! И еще я тебе отвалю… Сто долларов на расходные карманы. И еще я тебя научу, ты поедешь в свою эту тайгу не с настоящими долларами, а мы тебе купим за треть цены поддельные, хорошие! В Пакистане печатают! Вернешься, я тебе дам адресок. Вообще заработаешь.
смеется долго и с визгом
Они там не тумкают совсем, твои чучки! Не отличают! Да и я не отличаю! И машинки в обменниках пропускают отлично!
Первый
Вот боюсь что…
Второй
А нет — иди. Никто не держит. С тебя за утраченную видеокамеру суд взыщет, ты материально ответственный…
Первый
Почему я?
Второй
А Юрий твой не наш сотрудник! И в бухгалтерии за камеру ты расписывался. Так что вот. Двенадцать тысяч долларов… В четырехкратном размере…
пауза
А уж убийство сотрудника, этим следователи займутся.
Первый
Нет убийства.
Второй
Нет, так будет.
Первый
Но ведь его действительно убьют через пять дней.
Второй
Думай.
пауза
Первый
А, ладно. Надо так надо. Приключение на голову. Теория большого скачка. Давайте, маета.
Второй
Чо?.. Да, адрес Шапиро у меня есть, ему через интернет сообщат насчет Хаваев, но я поеду не один.
Первый
Да, с женой они многие приезжают.
Второй
Я с аспирантом. Это у меня телохранитель. Возьму одного из двух… Пусть борются за честь. Можешь и ты побороться. Значит, деньги я даю тебе сейчас, а ты мне расписку. Так…
читает
Все правильно.
прячет расписку в сейф
В случае чего не удивляйся, отдашь квартиру.
Первый
У меня нет квартиры. Я живу в квартире жены.
Второй
Но ты там прописан, все в порядке?
Первый
Да.
Второй
Так неужели она ради родного мужа, чтобы спасти его, не отдаст квартиру!
смеется
Первый
А куда она с ребенком денется?
Второй
Так что не отдаст?
пауза
Они все такие. Ну это так. Я это сказал на крайний случай. А со мной будешь, я заступлюсь. Я своих… я своим не дам пропасть.
пауза
Вот адрес. Я все предусмотрел. Купишь билет на поезд ноль сорок пять, поздно утром приедешь, что-то он прибывает около двенадцати, спросишь где седьмой троллейбус в сторону улицы Красной Роты, вот адрес. В такси не надо. Это банк моих старших товарищей. Кротбанк. Сдашь им деньги. Получишь у них квитанцию на свое имя. Теперь ты курьер. Знаешь где курьеры держат деньги? На груди в кармане, застегнут изнутри булавкой и пошли. Карман-банк.
смеется
Большие бабки зарабатывают.
Первый
Йес, маста…
Второй
О нас никто не подумает. Все только о себе.
Первый
Йес, маста.
глава 2. Погоня
Один мужчина, назовем его Номер Один, погнался за не известным ему человеком.
Дело происходило среди дня, Номер Один ехал в троллейбусе, сидел напротив дверей, народу было много. Над Номером Один кто-то нависал, прямо перед глазами болталась пола широкого клетчатого пиджака. Номер один все время отводил этот пиджак от лица, назойливое мелькание, однако берег силы, не возникал. Пиджак похож на наш, тоже клетчатый, но новый и широкий какой-то. Скандал это трата сил, и так их нет. Они охотно скажут «выйдем». А нам не надо, сидим тихо, важное дело.
Когда пришло время выходить, то он встал с облегчением, но тут же попал в небольшую давку, затесался между двумя людьми (один тот, клетчатый), они тоже как-то с трудом пробирались, встали поперек, им мешали, кто-то не пускал выйти, нельзя было разойтись. Чуть ли не свалка началась, а в этой толкучке застрял Номер Один, ругаясь про себя. Но тут он понял (с облегчением), что это еще не его остановка, хорошо что толпа, а то бы выскочил как бызы не там. Пришлось бы ждать следующего переполненного, при том что голова гудит, нет сил, ночь в битком набитом вагоне да и перед тем в Москве русский народный аттракцион под названием передряги.
Он протиснулся обратно, а тот, в клетчатом пиджаке, который вроде не собирался выходить (иначе уже бы давно сошел, а не толокся у открытых дверей) — тот вдруг выскочил наружу.
Пока Номер Один обернулся к своему месту, там, конечно, уже сидела тетя.
И тут, стоя в толпе пассажиров, Номер Один вдруг обнаружил, что на груди у него поперечная прорезь и в кармане пусто! Нет денег! Нет пакета, а в нем находились огромные деньги! Суки! И паспорт! Воры! Все! Все пропало. Ой люди, люди… Ой, что я буду делать…
Номер Один опомнился и рванул, работая локтями, к дверям троллейбуса, они все еще почему-то были открыты, хотя прошло много времени. Слава тебе Господи, выскочил в последний момент. Выскочил, чтобы броситься в погоню. За кем? Все уже рассосались. Улица пустая во всех направлениях.
Перед глазами был вход в магазин. Так. Если вор тот клетчатый куда и спрятался, то только сюда, больше некуда.
Для маскировки Номер Один снял с себя порезанный пиджак и ринулся по трем ступенькам. Там было разветвление, из тамбура две двери. Пошел направо. За витринами что-то делала продавщица, выпрямилась, посмотрела, как бы приглашая. Никого больше не было. Пошел в тамбур, двинул в другой магазинчик. И тут возник перед ним как раз клетчатый пиджак. Он собирался выйти вон. Этот!
Номер Один встал на дороге, желая сказать «отдай деньги». Но как-то не решился. Глупости какие-то. Это не он. Клетчатый пиджак достал из кармана и поднес к уху мобильник. Точно не этот. Сказал:
— Это я. Это Ваха? Это я.
И обратился к Номеру Один:
— В чем дело?— и в трубку, значительно,— Ваха, тут момент.
Посмотрел себе под ноги. Номер Один тоже посмотрел. Ботинки у клетчатого были новенькие, дорогие, блестящие. Не он.
Номер Один посторонился и, как бы следуя своим путем, прошел в магазинчик. Через секунду он выскочил на улицу. Вдали бежал, рвал когти клетчатый пиджак.
Все, это был он.
Он бежал не один, с ним рядом чесал какой-то маленький, бритый наголо, в черной коже.
Номер Один скакнул через улицу и поднял руку.
Как же я забыл, что они всегда работают не одни! И деньги другим сразу передают! Даже если бы я вцепился в того высокого… Лежать бы мне сейчас с пробитой головой… Без документов причем.
Тут он поймал машину, шлепнулся на заднее сиденье и только тогда сказал:
— Меня ограбили, вон те двое на той стороне. Догони метров пятьдесят, а?
Мужик за рулем подумал и отказался. Видимо, хотел подработать, а тут попался псих. Номер Один произнес:
— Пятьдесят метров, ты слышал?
Мужик что-то понял и тронул с места. Номер Один спрятался, выглядывая из-за спины водилы. Ехали медленно.
— Вон они, вон!
Уже не бегут, перешли на шаг. Обгоняем.
Как мать Юры кричала по телефону: «А хотите я убью вашего сына, как вы угробили моего? Вы, вы не хотели его брать, его уволили из-за вас, он знал больше вас, теперь вы присвоили все результаты экспедиции! Я найму, чтобы убили вашего сына!» Не хотел его брать, точно. Как предвидел. Но вынудили.
— Останови вон у киоска, а денег нет. Видишь, ограбили. Порезали. Спасибо.
— Да не за что,— ответил с облегчением мужик и быстро уехал.
Номер Один вышел и спрятался за киоск. Надел пиджак. Дрожь пробирала. Рукой схватился за карман механически, заслоняя прореху.
Те приближались по другой стороне.
Мало того что ограбили уже перед экспедицией, бухгалтерша дала четверть суммы и в рублях. Директор тоже разорялся: «Этого раздолбая не оформлю. Бетакам ему купи — ни Кухарева, ни бетакама. Уже одну камеру упер».
Ограбили ли Юру в том проходном дворе, вот вопрос. Большой вопрос.
Стоп, вот. Они уже ушли вперед, оглядываются. Все-таки чуют, так чуют крысы или тараканы.
Сердце билось как сумасшедший в лихорадке (Анютиного клиента, придурочного автора, выражение, она его редактировала, теперь понятно, что это). Правда! Но что делать с ними, даже если догоним? В горле пересохло, как ножом резало.
Тот в клетчатом пиджаке, высокий чернявый парень, обернулся и проверил взглядом окрестности. В том числе и другую сторону улицы. Разглядел ли он через стекло киоска своего клиента? Машинально Номер Один сунулся подальше за киоск, к окошку. Внутри никого не было. Подвинулся, обошел угол. Там обнаружилась распахнутая дверь с бумажкой, коряво написанной: «М-психоз 12:45 до 12:50». Испугался. Опять. Это еще что? Записка как у входа в балаган Гавриловых тем утром? Схожу с ума?
Обошел эту дверь. Киоскерша находилась вне своей избушки, у края дороги, держалась за дверную ручку и смотрела на трамвай, стоящий неподвижно на путях. Она обернулась, услышав, видимо, сзади чье-то шевеление, и с сердцем сказала:
— Безобразие!
И продвинулась вперед, неотрывно глядя в сторону трамвая.
Воры исчезли, растворились среди домов. Все поняли! Сбежали, бызы.
Улица была совершенно пустынна, так пустынна, как никогда не бывает. Люди как бы попрятались. Воров нет.
Первое движение было — забраться в киоск и там, укрывшись, посмотреть по сторонам из-за стеклянных стен. Он даже встал за спиной киоскерши у входа, ногой на пороге.
— Какое безобразие!— со слезой в голосе повторила киоскерша и показала подбородком.
Все пусто, улица пуста, мы пропали. Под трамваем, под первыми колесами, лежал конец какого-то битком набитого полосатого тюка. Большой полосатый цветной тюк. Вдруг мешок вздрогнул, поднялся горизонтально, но потом опять рухнул. Это оказалась женщина в полосатой кофте, половина женщины, ноги ее были под колесами. Трамвай стоял абсолютно пустой, без водителя.
Почему-то посмотрел на часы. 12:47.
Господи, помилуй меня грешного.
Убрал на всякий случай ногу с порога киоска.
Шарахнулся через улицу далеко впереди, у светофора.
Что теперь скрываться.
На другой стороне, наискосок от киоска, был единственный подъезд. Дом красили, что ли, висела люлька. Номер Один подбежал ко входу. Какая-то веревка, свисающая с люльки сбоку от двери, чуть покачивалась. Только что, стало быть, хлопнула дверь.
Номер Один искал хоть палку, хоть дрын железный. Чем он будет их убивать, если повезет увидеть.
И, словно судьба ему специально подсунула, у подъезда в куче досок, бочек и банок от краски, остатков после ремонта, нашелся новенький обрезок жести, сияя как лезвие ножа. Номер Один схватил это дело и ворвался в подъезд безо всякой осторожности. Тут же сдержал дыхание, потому что у грязной лестницы стояли теперь уже трое, но другие: девка и пара ребят, все помладше чем его убежавшие воры.
Как бы последующее поколение, лет по двадцать.
Они как раз неудержимо, хотя и негромко, заржали, увидев его — почему? То ли его вид с оскаленными зубами, видимо, их рассмешил, то ли обрезок сверкающей жести в руке? Короче, они одобрительно захоркали, глядя на него. Смеялись как-то удовлетворенно. Бызы.
Тем не менее, это был проходной подъезд. Впереди, за лестницей, оказалась полуоткрытая дверь во двор. Теперь вопрос «тут проходили двое» усложнялся.
— Куда они пошли?— с большим трудом спросил Номер Один (голос какой-то писклявый).
Эти улыбались и молчали. Немые? Еще того лучше. Может, и те воры были немые? Нет, те переговаривались. Поворачивались друг к другу носами и шевелили челюстями, как куклы. Пальцами не вертели.
— Здесь проходили двое, где они? Убью,— пропищал Номер Один.
Девушка, гогоча уже откровенно, мотнула головой во двор. Парни вели себя не так вольно, но тоже как-то вяло пересмеивались, глядя ему на пиджак. Ах да. Там разрезано.
Ну, эти если куда показали, надо поступать ровно наоборот.
Номер Один попер вверх по лестнице (при этом он увидел, что девка внизу как бы отрицательно мотает головой, продолжая смеяться).
И в первое же окно между этажами он увидел сверху своих воров, они шли уже довольно далеко по двору, их было прекрасно видно. Напротив, за металлической решеткой, какой-то садик и обшарпанный бедный особняк, сидят на лавочках и стоят люди, слева наш дом.
Он бестолку смотрел, как воры заворачивают налево за угол и исчезают.
Сердце у него екнуло. Все кончено.
Мало того, все кончено с его квартирой! Вот что главное!
Как Анюта орала! Такие вещи нельзя им говорить. Истеричкам. Рыдала, чуть ли не на полу валялась, не хотела отпускать. Он сказал ей, что должен ехать за город брать взаймы деньги на Юру.
Он ей не стал говорить, что спрятал в отцовское старое болгарское пальто, под рваную подкладку, те шесть тысяч. Двадцать тысяч положил во внутренний нагрудный карман. Застегнул на булавку. Осторожничал, да. По правилу в разные корзины яйца класть.
Все, теперь все кончено. Денег нет, долг… Двадцать тысяч. Срочно продавать квартиру, купить путевку на троих… в Бразилию, что ли… Там выбросить паспорта. Жить в лагере для перемещенных лиц в алюминиевом вагончике три года. На дикой жаре. Повеситься в этом вагончике. Жена Опенка в Швейцарии выпила упаковку снотворного после двух лет их жизни там как преследуемых еврейских беженцев, условия сносные, но без права посещать Москву. Теперь уже приезжали с Опенком на родину, в любимую столицу, посмотрели, убедились в своей правоте, сказали, что по прежней специальности ничего не читают никогда, т.к. много работы, и радостно дернули домой вкалывать в своем банке, неизвестно кем, может, уборщицами. Переводчиками при русской шпане, которая возами пригоняет деньги. Леня Опенгейм, четвертый их друг. Шопен, Опенок, Кух и я, и комнатушка в подвале. Были дела. Кто-то привел на день рождения Куха мою Анюту… С нех пор, видимо, простить мне не может, что не успел ее трахнуть… Или успел?
Внизу эта тройка. Вниз нельзя. Домой нельзя. И денег нет на поезд.
Скакнуть с верхнего этажа?
Ситуация чучуны, однако.
Энтти, когда ихние тонут в море, еще и норовят по башке заботливо стукнуть, для верности, чтобы утоп. Пошел по пути духов в нижнее небо, абу. Если выплыл, не примут. Считают его как бы заразным. Что он приведет злых духов в дом. Хотя принимают всех посторонних вроде Юры. Кормят, спать укладывают и не глядят, что Юра уже полез к девочкам под полог у входа. Не к себе под гостевой полог у чумовой печки. Даже если девочки совсем малые.
— Чумо-вая печ-чь! Чумо-вая печ-чь!— повторял Номер Один как заклинание. Мама в тяжелых случаях бормотала «шуры-муры, шуры-муры». Это началось у нее после смерти отца.
Почему те трое смеялись?
Их, видимо, привел в хорошее настроение этот момент — сначала проскочили двое, потом прибежал он во вспоротом пиджаке да еще с этой моделью ножа в руке. Он поднес к глазам обрезок жести — кинжал был кривой, вогнутый, с ясно видными зазубринами после ножниц. Действительно смешно.
Но у них на лице не было удивления.
Почему-то они встретили его, странного человека с разрезом на грудном кармане пиджака, понимающим видом и как бы улыбками одобрения. Как будто они испытывали законное чувство превосходства, все понявши. Решили задачку. Как будто на их вопрос нашелся ответ. Мало того. Как будто они желали, чтобы тем двоим ворам попало. И показали правильный путь, девушка показала.
А какую задачку они решали? Шуры-муры, шуры-муры. Перед тем двое воров быстро прошли, пригрозили и оглянулись на улицу. Почему? Потом явился ответ, человек с разрезанным карманом и с кусочком жести в руке.
Но почему у этой тройки был довольный вид-то? Чему они так обрадовались? Когда один гонится с ножом за другими, тут ничего смешного нет. Шуры-муры, чум. Шуры-муры, чум.
Так люди бывают довольны, когда опасность угрожает кому-то ненавистному. Кому-то, кто давно просит кирпича в морду.
Так улыбаются, когда знают участников приключения. Когда в истории замешаны не чужие и опасные, а свои, намозолившие глаза. Соседушки, шуры-муры чум.
То есть: те двое ворюг известны этим троим очень даже хорошо. И насолили им. И всем тут. И это не первое их дело. Они работают на этой линии троллейбуса и сходят на данной остановке неспроста. У его воров тут поблизости гнездовье, норка. Поэтому они знают здесь каждую мелкую щель, дверь, проход. И, может быть, такие случаи уже бывали, когда за ворами гнались, но каждый раз они растворялись как бы в воздухе, исчезали. И это давно надоело троим бездельникам, неизвестно зачем дежурящим в черной дыре подъезда, где сильно пахнет сыростью и гнилью, как в колодце.
И девушка всем своим видом это показывала. Как бы успокаивала и подначивала: не бось, не бось, иди туда. Дай им, чумовая печь.
Он услышал какой-то шум со свистом, ритмичный. Где-то тут близко работает мотор? А. Это дыхание. Это мы так дышим.
Те двое воров здесь явно напроказили. Девушке досталось. Она тут главная, а парни — мелкие шестерки при ней. Иначе она бы побоялась и не показала путь. За такие указки свободно можно получить пулю в затылок.
Может быть, троим младшим хотелось смены правления. Они не одобряли этой вереницы удач. И поощряли улыбками, подталкивали, намекали, что правильным путем идете, товарищ.
Нет! Шуры-муры, стоп. Они лыбились как-то иначе, очень специфически. Так щерят зубы пойманные на месте воры. Обокраденные хмурятся и злятся, невинные волнуются, а эти искусственно и нагло ухмыляются. Делают вид, что все в порядке.
Точно так же, покачиваясь с пяток на носки и заложивши руки в карманы, усмехался тип якобы из медуправления, принес препараты для Алеши, жена нашла господина по объявлению. Никто его не проверял, какой он продавец лекарств, сука. Ему стало неприятно, когда была устно изложена вся схема их воровства, что они работают на фирмы, как бы бесплатно раздавая ихние образцы, а сами их продают, сдирая с несчастных покупателей немеряные деньги, с родителей детей-калек! Там же написано «нот фор сейл»! Не для продажи! Образцы! Как же вы их можете совать за деньги? Наживаетесь и там и тут! А этот тип именно так улыбался, специально, а потом сказал: «Вам поговорить охота или брать будете?» Анюта выпросила скидку за десять таблеточек, отдала деньги. Что такое десять таблеток, если курс полгода? Все деньги отдала. А Номер Один надрывался, что они убийцы, заманивают дураков родителей этими надеждами. Небольшое улучшение всегда может дать порция наркотиков, это же всем ясно! И начинается привыкание, и как следствие — без лекарств состояние ребенка резко ухудшается. И неизвестно что это за индийская фирма! А полный ваш курс стоит почему тогда десять тысяч долларов? Где гарантии, где лицензия, где упоминания в печати? Даже рекламы и то не удосужились придумать! Потому что фальшак!
— Травы, травы, новые лекарства, испытания, что вы, поговорить захотелось,— улыбаясь, шептал бледный и худой продавец.
Анюта подхватила:
— Да, у нас папка такой, за грош всех обвинит. Типа на тебе рубль и ни в чем себе не отказывай.
Странно, как быстро свои же родные люди принимают сторону любых посторонних. Как будто ты всегда не прав. Защищают их от тебя. И мама так всегда делала, любая соседка была важнее. А хмырь посмеивался именно как вор. Алешка плакал в комнате. Он всегда верещал благим матом, когда они ссорились, приходилось ругаться шепотом в кухне или на бумажке, как подпольщикам. Но не с этим же упырем будешь переписываться. Стоило сказать слово «наркомания», как он стал улыбаться улыбкой черепа, широко.
Чумовая печь, чумовая печь. Путь шел только наверх, и Номер Один лез вверх по ступенькам, проваливаясь буквально как в воздушные ямы, ноги не слушались.
Спуститься и спросить тех? Но они не ответят. Это точно им расстрельный приговор, если они скажут, в каком доме (хотя бы доме) живут воры. Свой же и стукнет тем, взрослым ворам. Уже за то, что она кивнула в сторону двора, девушке может угрожать смерть. А может, ей уже обещали заточкой под ребро… Поэтому она назло и выдала своих.
Правда, он не поверил и пошел вверх. Может, это ее и спасет. Девушка красотка. Девушка-красотка, раз-и-раз.
Номер Один с предосторожностями выглянул в окно на следующем этаже. И увидел, что лысый заходит за край дома. То есть вор вернулся и посмотрел как следует во дворе, нет ли следа. Ура!
Хорошо, пусть чувствуют себя в безопасности. Тем более что им действительно ничего не угрожает. Девушка-красотка, раз-и-раз.
Как они все-таки вычислили, что он за ними едет на машине? Воры на всякий случай все должны проверять. Тем более что они вытащили у него такую толстую пачку долларов.
Номер Один доковылял до верху. Там уже кончалась лестница, она выводила к трапу под потолок, где виднелся люк. Чердак с замком!
Спустился на один пролет. Выглянул во двор. Скверик, за решеткой у особняка стоят и сидят люди… Много детей.
Какой, однако, разветвленный лабиринт этот двор сверху. Гнездо расходящихся троп.
Воров не было. Поднялся опять наверх. Какой на люке вверху увесистый замок. Катастрофа. Снова конец.
Но человек не верит в такой исход, надеется. Ищет путь борьбы.
Убить, убить их. Воры, как все паразиты, ловки, быстры и увертливы. Их главное преимущество — они не боятся чужой муки и смерти. Они не знают вообще жалости и сострадания, суки (в матерной форме думал Номер Один). Чужое горе для них победа, радостное доказательство собственного превосходства. Те трое, два парня и девка, тоже явно хотели смертоубийства, когда девка показала Номеру Один дорогу во двор, а воры были рядом и запросто могли подкараулить его за углом и шарахнуть по голове сцепленными кулаками (тот бритый спортсмен мог), да у них всегда и ножик есть.
Шуры-муры, шуры-муры, что прикажете делать.
Номер Один безо всякой надежды полез по трапу наверх и шелохнул тяжеленький замок. Тот висел на одной скобе, понятно. Декорация. Замок оставим так висеть. Пусть будет как бы заперто.
Теперь надо было поработать головой, то есть упереться лбом в днище люка. Поехали! С огромным трудом открылось. Но ничего особенного в щель не посыпалось. Люком пользовались регулярно.
Попал на чердак.
А, вот почему трудно открывалось, на краешке люка стоял углом ящик с песком. В песке окурки. Жутко воняет кошками.
Номер Один заботливо надвинул ящик обратно на люк, чтобы никто следом не поднялся.
Окинувши взглядом пыльное, замусоренное пространство, пробежал к слуховому окошку, откуда слышен был гул машин — оно выходило, к сожалению, на улицу. Номер Один посмотрел, насколько можно было высунуться, вниз. Воров не было видно.
Номер Один выбрался на крышу и на карачках, стараясь не греметь, полез через гребень, выглянуть с самого края.
С этой позиции все было прекрасно видно, пустой двор, соседний особняк. Группы людей. Взрослые стоят, подростки сидят.
Длинная вытяжная труба над одноэтажной постройкой, по прежнему опыту похоже на банальный морг (?).
Номер Один теперь пополз вверх и двинулся вдоль гребня, надо осторожно посмотреть за тот угол в конце двора, куда ушли воры.
Так! Это был глухой закоулок. Там, внизу, на глубине, находилась дверь еще одного подъезда. Он, видимо, тоже мог оказаться сквозным.
Стало быть, им нужно было именно сюда. На улицу легко попасть и пройдя дальше. Возможно, воры тут!
Для проверки Номер Один перевалил через верх и спустился к парапету, взглянуть на улицу.
И тут же отшатнулся. Девка и двое парней шли по краю тротуара и смотрели прямо на него. Они закивали друг другу, залыбились, показывая наверх. Особенно девка оскалилась. Она была похожа на смерть. Что-то изменилось в ее лице. Все трое посовещались и стали смотреть куда-то, куда явно собирались идти (видимо, в тот проходной подъезд, где скрылись воры). Даже чуть-чуть продвинулись в этом направлении.
Идите, идите. Так просто вы меня не возьмете, шуры-муры.
Он осторожно прилег и свесил голову. Эти трое, однако, никуда не делись, стояли и совещались.
Он продолжал свое наблюдение. Только наблюдение за этими тремя могло принести неожиданные сведения. Они следят за нами, а мы за ними, ха! Шуры-муры, ха.
Теперь они задрали головы и смотрели, но не на крышу, не на свой объект, а куда-то ниже, на какое-то окно. Они как бы ждали чьего-то появления в этом окне (или в окнах квартиры). Девка сунула два пальца в рот, свистнула. У них были заготовлены руки, чтобы показать. Приподняты. Пальцы уже указывали на крышу. Как отличники на уроке, ей-бо.
Так. Там, куда они глядят, там не первый этаж. Это справа от меня, так. И не последний этаж. Скорее всего третий, стало быть. Вопрос, в каком подъезде. В каком, в дальнем, в следующем.
Они что-то говорили и кивали друг другу. Они беспокоились, падлы, чтобы мы не ушли. Номер Один убрал голову, как черепаха, в плечи. Они смотрели то на крышу, на слуховое окошко, то на третий этаж. Караулили, искали где его голова, ждали, когда он полезет обратно на чердак. То есть полный контроль, заблокировали ему отступление с крыши, шуры-муры. Метнешься на чердак, они с двух сторон и поймают.
Пошла серьезная игра. Но если те воры не показываются и не откликаются на свист, то где они? Трое внизу стояли как-то праздно. Вроде бы не знали как поступить.
Может быть, какие-то окна у воров выходят во двор. Разумеется. Одна квартира на этаже, то есть комнаты с любой стороны.
Вдруг они разделились — девка, указующе махнув рукой, дескать, оставайтесь тут и смотрите туда (показала наверх), ринулась к тому подъезду, куда он входил и где они все перед тем стояли. Парни остались наблюдать за дичью.
Номер Один лежал, делать было нечего. Эти караулят, бдят. Сейчас девка сюда поднимется. Зачем? Пошла деловая такая. Она тогда по неосторожности сказала мне куда пошли воры, теперь меня надо убить.
Сторожа мои, сторожа, каменные рыла. Стоят.
Хрен! Пошли, торгуясь, оба к подъезду, один впереди, другой через два шага за ним, тыча ладонью в согнутый локоть. И исчезли. У этих, у олигофренов, у всех детей праздника, долговременные действия вызывают скуку. Их оставили, но они хотели тоже туда же, куда ломанулась и их девка. Они стали доказывать друг другу. Один оставлял дежурить другого, ушел. Но оставленному сторожу стало неинтересно, он кинулся следом.
Номер Один вскочил, протиснулся в слуховое окно и уже был на чердаке.
Он первым делом подбежал к люку, из которого должна была появиться девка. Пыхтя, приподнял тяжеленный ящик и надвинул его подальше на люк, правильно. Всей тяжестью. Но их трое.
Затем Номер Один быстро побежал в сторону того, другого подъезда, куда, по всей видимости, скрылись воры. Туда и чердак заворачивал, все совпадает, подъезд в заулочке.
Охотник остановился над люком, что-то там ждет его.
В горле пересохло и кололо. Сердце! Ничего с утра не пил, ни капли.
А, тут тоже ящик с песком. Стоит капитально, всей подошвой на люке. Спеша отодвинул, потому что под дальним люком уже началась возня. Там пришли.
Рванул на себя крышку, люк открылся. Как по маслу. Можно спускаться вниз с чердака. Но вздрогнул: внизу дико залаяла собака, довольно близко.
Отшатнулся. И тут краем глаза уловил сзади, на чердаке, какое-то шевеление, бесшумное! Догнали! Они здесь!
Там был кто-то сбоку, таился под крышей.
Внизу человек с собакой. Тут это.
Обернулся, вгляделся, оцепенев. Что-то жуткое, темный, плоский человек укоризненно покачивал опущенной головой (в кепке) наверху, ай-яй-яй, пошевеливался, безмолвно поворачивался туда-сюда всем туловищем, свесив голову, сбоку, наверху, в самом неожиданном месте, в темноте. Кто-то двигался там, длинный, узкий как тень, в широком плаще, вытянутый в струнку, и смотрел в пол, нет, не стоял, а как бы, слегка подтанцовывая, сутуло поворачивался то одним боком, то другим. Туда-сюда. Упорно глядя вниз.
Номер Один задрожал. По спине побежал мороз. Спрятался. Подождал, выглянул из-за угла. Нет, это было что-то живое, человек. Но он как-то поворачивался всем туловищем, туда-сюда, легко. Низко свесив голову, танцевал, подкручивался уныло. Наверху, прямо за слуховым окошком. То направо… теперь налево…
У Номера Один на голове зашевелились волосы. В прямом смысле слова зашевелились. Как будто наполнились муравьями. Ничего более страшного он не видел в своей жизни. Человек висел на каком-то шнурке. Но он покачивался. То есть? Висит недавно? Или я его задел?
Номер Один подбежал, приподнял это туловище, инстинктивно надеясь ослабить натяжение. Прижал к себе тощенькое тельце, уж он покойников повидал на веку, санитаром работая. Это молоденькая девушка висела.
Он ее нечаянно задел, когда вылезал из слухового окна.
Номер Один долго одной рукой пилил пояс своим обрезком жести, не получилось, тогда поднялся на поперечное бревно (откуда она, видимо, и соступила), растянул петлю, снял тело. Утюжил, попытался сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, как учили. Но она уже ушла. Девочка лет пятнадцати. Язык прикушен. Полуоткрытые глаза тускло смотрят, как сквозь полоски целлофановой пленки. У мамы были такие же глаза, когда он ее нашел тем утром в ее постели. Девочка черненькая, с челочкой. Такая Одри Хепберн. Господи. Ну, такой мало надо, чтобы обидеться и казнить себя.
Или повесили малышку… Такой дом.
Оставив ее на полу, он тронулся идти.
Грохочет, дрожит дальний люк. Под ближним стоит ждет кто-то с собакой. Она надрывается.
Один ход, в слуховое окно.
Кое-как выбрался на божий свет, одной ногой ступил на крышу, заглянул подальше вниз, нет ли наблюдателей.
Вдруг снизу закричал пронзительный женский голос:
— Молодой человек! Вы работник там?
Какая-то заполошная тетка орала с улицы, указывая на крышу. Толстая тетка в пестром полосатом свитре. Господи… Как та, под трамваем…
— Вы там работник, вы девушку наверху не видали?
Вздрогнул. Еще этого не хватало.
Тут же поднял обе руки, из стороны в сторону отрицательно помахал ладонями, заболтал головой. Понял, что она не поверила. Слишком яростно возражал. Не знающие не понимают вопроса и обычно равнодушны. Даже не ответят. Лгущие реагируют бурно.
Женщина неутешно кричала:
— Дочку мою!
Да уймись ты, сейчас услышат прибегут. Пошел, гремя, посмотреть. Дом стоял отдельно, не было перехода на другую крышу, разве только прыгать вниз. Начал соступать обратно на чердак, втянул ногу, оглядываясь на улицу.
Голос настиг:
— Я поднимусь, не уходите! А то там было заперто! Ее видали она в парадное заходила! Я проверила по квартирам кроме одной. Номер тринадцать! Нету нигде! Остался чердак! Но замки висят! У вас ключ, ключ? Не уходите, умоляю! Второй день ее не можем найти! Поищите ее там!
Он пожал плечами и покачал головой, как немой. Развел руками: нету, мол.
Опять она не поверит.
Женщина визжала:
— А то ушла! Буквально накануне!
Неразборчиво.
Он кивнул. Она продолжала что-то кричать. Останавливались люди, смотрели наверх, на него.
— Ее могли спасти! Она ушла! Уже ее готовили! Но ушла! Понимаете, месяц, всего месяц дали! Где она скитается? Не ела день! Готовили! Шестнадцать лет! Худая совсем! Копераци-иии!
Он уже стоял, скорчившись, наполовину в слуховом окне.
— На всякий случай Ксюша! Ксюша ее зовут! Сразу сообщите, во дворе напротив за садом! Клиника за решеткой! Ну вы знаете! Там пост стоит, пост, поняли? Круглосуточно! Они знают! Их предупредили! Или регистратура! Куда вы, подождите меня!
Кивнул, скрываясь. Баба орала:
— Ей месяц дали! Только месяц! Тридцать дней! По методу …онько! (Неразборчиво). Брались уже!
Посмотрел вниз — так и есть, та тройка во главе с отпетой девкой стояла рядом с тетей на тротуаре и внимательно смотрела прямо в его глаза. Тетенька вопила:
— Месяц! Месяц ясный! Светит месяц, светит месяц! (или что-то в этом духе, какой-то бред).
Скрылся.
Слева лежал, вытянувшись, труп. Ну найдут и без меня. Я сам почти труп, прости меня.
Сзади свисал со стропила пояс с петлей, готовая казнь.
Он встал над распахнутым люком. Внизу виднелась лестничная площадка, ступени, и все лаяла собака.
А, они с этой стороны не идут, потому что сами, уходя, и поставили ящик на люк! Знают, что тут хода нет.
Спохватился, вернулся к веревке, поднял свой кусок жести. Надо срезать.
А не убили ли девочку те трое? То-то девка не хотела, чтобы он шел наверх. Показывала во двор. Беспокоилась. А! Они все трое волновались, что он на крыше!
Может, мертвая девочка перебежала дорогу этой твари? С кем-то встречалась, с кем было нельзя? С клиентом той девки? Такие малявки из-под мамы вообще дико любопытны и глупы, их охмурить ничего не стоит.
Но девочка такая худая, явно патология какая-то. Чуть ли не кахексия. Предсмертное истощение.
Что за растянутое время. Сделать ничего нельзя. Вилка, по шахматному говоря. Невозможно пошевелиться. Тут уже речь идет не о деньгах. Прикончат. Вылезти на крышу и заорать? Тогда деньги уйдут! Квартира! Еще чего.
Он осторожно заглянул куда собирался, в люк и на площадку, в пределах видимости не было никого. Собака лаяла.
И тут же под ним, очень близко, загремел замок, открылась дверь, лязгнув натянувшейся цепочкой, и тонкий старушечий голосок закричал:
— Нет, нет! Уже хватит! Капля моего терпения переполнилась! Больше не могу! Милицию вызвала, вот что, сволочь! Теперь сами расхлебывайте! Охилели совсем! Это что же такое! Что вы тут делаете на общественном месте? Нет своего туалета? Как вам не стыдно? Сбогар, тэ туа! Он все слышит! Дико беспокоен! (Собака как с цепи сорвалась в виде подтверждения). Вы шпана! Уйдите!
Дикий лай.
— Вы здесь не имеете права! Какое просто издевательство! Это не ваш подъезд! Вечно лужи! Ну и что, что Светка живет, так всю кодлу таскать? (пауза, слушает, собака тоже замолкла. Дуэтом продолжали): — Кретины! Жизни нету! Я вас знаю, Светкины друзья! Фи донк, Сбогар! Молчать! Осточертел совсем!
Топнула ногой.
Собака от неожиданности замолчала. Писклявый голос что-то произнес (скорее всего матом), второй хохотнул.
А, все-таки в подъезде кто-то есть! Пацаны зашли поссать?
Как мячи попрыгали по лестнице, явно бежали вниз через ступеньку. Невидимый Сбогар лаял теперь вдогонку.
Заныв, хлопнула входная дверь. Тут же закрылась и старушка с собачкой, прокричав победно:
— Я еще вам… покажу! (с усилием запирая замок, голос стал глуше). Попляшете… у меня! У меня знаете где невестка работает? Сын разведчик, вот где! Фу, Сбогар, они ушли. Фи донк, маленький, тэ туа. Мапузи-папузи мой… сяся! (далее шло неразборчиво).
Но Сбогар знал свое дело и лаял. Наверху затаился еще один посторонний. На чердаке лежал труп. Сбогар сошел с круга, ничего не понимал и старался передать хозяйке свою тревогу.
А, собака лает в квартире! Судя по звуку, она за дверью. Можно идти, не слышно.
Стащил кроссовки, сунул их по карманам.
Аккуратно, как кот на ловле, спустился с чердака на трап, прикрыл за собой дверцу люка и навесил замок, который тут тоже висел для маскировки, теперь повесил его на обе скобы, спасибо. Хода нет, господа!
Тихо-тихо, только лает собака, по голосу небольшая. Журчит какое-то мирное радио или телевизор. Ага, телевизор, судя по выстрелам и искусственным голосам. Идет дублированный фильм. Громче бы сделали. Не дышать!
Надо затаиться.
Номер Один ждал, затаившись наверху, под выходом на чердак, сам как вор.
Затем охотник тронулся сверху и прокрался до третьего этажа.
Сбогар залился выше тоном, как вьедливый колокольчик. Сбогар тявкает слева, стало быть, квартира воров справа. Послушал, но хрен что услышишь из-за этого лая. Сбогар как с ума сбесился. Сколько будешь стоять, столько он будет тявкать. Решился и позвонил в тринадцатую. В квартире молчок, только как бы журчит вода. Те бы сразу спросили «кто там». На двери глазок. Нас увидели. Но это не воры, иначе они бы открыли. С оружием в руках.
Спустился еще ниже. Там, на массивной железной двери второго этажа, видны были две неглубокие царапины, типа буквы «х», которую в момент безделья задумчиво выводят на любом чистом месте люди, знающие русский алфавит. А, тут-то и стояли те.
Над звонком имелась малозаметная бумажка: «М-психоз с 13 до 13:05».
Ничего себе! Как на киоске и как там, на Юзени, на гавриловском балагане в то утро, и тот же корявый почерк. Только времечко другое.
Номер Один посмотрел на часы. Было тринадцать ноль-ноль.
Снизу, со двора, послышались новые звуки: подъехала какая-то машина, Номер Один сбежал на один пролет и посмотрел в окно вниз, во двор. Это был милицейский драндулет, из которого с обеих сторон вывалились молодцы в форме.
К ним спешила тетка в полосатом свитере с разинутым ртом, крича и показывая наверх, на чердак, одной рукой с сумкой. Другой рукой она дежалась за глаза. А, плачет человек.
А сверху, чуть ли не с крыши, опять пошел стук и скрежет. Как выворачивают что-то ломом.
А, они все-таки пробились на чердак! Теперь воюют с люком.
Спускайтесь-спускайтесь. Вот вас сейчас, голубчики, и возьмут. «И меня возьмут,— сообразил Номер Один.— У меня нет паспорта, нет ничего. Пока они будут держать меня в милиции и сутки звонить в Москву, выяснять, кто я, деньги мои уйдут!»
Невидимые рвались в подъезд с чердака. Трещало, грохотало, лаяло, стучало сапогами — еще и милиция поднималась. Эхо голосов:
— Тринадцатая на третьем?
— Да, та ихняя хата.
(Неразбочивый вопрос).
— Сказала, зарезали внука.
А Номер Один стоял посредине и ждал чего-то.
Наверху со скрежетом и хрустом грохнуло. А, они вскрыли люк. Крики, топот по лестнице.
В щели между этажами мелькнуло ощеренное лицо девки.
Номер Один нажал кнопку звонка неведомой квартиры с бумажным объявлением.
Ему сразу же открыли.
С той стороны была какая-то полная чернота. То ли висела портьера.
И в эту секунду его настигли сзади, от порога, начали душить, давить.
глава 3. В садах других возможностей
А Номер Один уже двинулся вперед с этим грузом за спиной, с перехваченной шеей, ослепший, пытаясь оторвать чьи-то руки и не выпуская при том обрезка жести. Ничего не видя, облепленный плотной гнилой тьмой, он вдруг учуял морозную ночь. Воздух зимы. При том кто-то сзади дрожащими руками («Как двойная дрель»,— почему-то подумал), душил его, чтобы сдох. Инстинктивно Номер Один чиркнул за спиной своим обрезком жести, задел что-то мягкое, какой-то голос гулко взвыл как санитарная сирена, руки на горле разжались. Номер Один, освобожденный, ринулся вперед, уйти от погони. Вокруг простиралась тьма, явно тут рядом как глубокая пропасть, ни зги, мороз прошибал до костей. При этом приходилось быть осторожным, нога провалилась, какие-то ступеньки, не сковырнуться бы в спешке, сзади чьи-то прыжки, завоняло вечной, гнилой землей, почему-то сыростью при таком лютом холоде. Пумм! Споткнулся, ступеньки кончились, быстро пошарил ногой, на что-то наткнулся, а сзади явно настигали, стал, торопясь, ощупывать под собой поверхность. Оказалась какая-то ледяная дверная ручка в полу, поднял это на себя, ход в погреб. Соступил. Ооуу!
Завыло, засвистело, упал вниз головой, вошел в воду, резко захлебнулся и тут же, спеша, понуждаемый своей гонкой, внезапно очень больно шарахнулся лицом об лед и пошел ввинчиваться туда, внутрь, прятаться, втискиваться с огромной силой, напружинясь как при рвоте, дышать уже было нечем, а его не пускало в лед, в это стекло, но он торопился, вплющивался, вдавливался, проталкивался, причем поворачиваясь как на пружине. Ему было нужно отсюда выкрутиться! Скорее! Нечем дышать! Никогда в жизни не было так тяжело, он уходил от погони головой вперед, она уже во льду, упирается, бодает, пролезает, а ноги все вертятся, лицо уже стало льдом, скорее, все глубже ввинчиваясь, где конец? Но как давит-то, Господи! Как колет обморозка, иглами в череп, пронзая дальше и дальше, взламывает кости носа, проницает нёбо, несет, нет воздуха и надо ввернуться, просочиться туда, все, готово.
Погони вроде не слыхать. Все, отстали, весь во льду. Конца ему нет. Целиком заморожен. Вошел в лед. А как же дышать? Воздуху, воздуху! И там, во льду, стал дергаться, рваться, продираться в этой груде стекла, и дело сдвинулось. Рот был набит до желудка мерзлой массой, и ее все больше набивалось, до судорог, глаза, мороженые как у рыбы, заваленные ледяным крошевом, вдруг стали различать во мраке, увидели другие тени, по сторонам и внизу, они тоже ползут, но не в одном направлении, а так просто, как черви. И кто-то лезет, упорно, за мной. Елозят, кудряво пробираясь, их несет куда-то, они вморожены в это вечное черное, волокнистое стекло, это что, смерть? Вносит в смерть? Скажите пожалуйста. Уже всё?
Пытался шевелить окостеневшими раздутыми, проткнутыми губами, а как же жизнь? Всё? Тут всё? Спасибо, обиделся он. Чувство страшной, кипучей обиды. Бежал-бежал и привет. Так бы в ментовке сидел… А-аа. Понятно! Все. Плакать не получится. Плакать будут те двое, Анютка и Алешка. Вот провалился так провалился. Называется убежал ото всех. Впечатало, размозжило в этом льду, растрамбовало, втерло туда, размесило, я лед, я теку во льду, в тяжелое время судьбины, а именно после кончины… Лед прожег насквозь, у меня прозрачный, стекловидный череп, но глаза белым мхом забиты, не шевелятся, стоят. Вижу, что ли, себя со стороны? Прозрачный червь сокращается, подтягивается, ползет, уворачивается от игл… Колючая проволока, что ли? Ветки? Цветы? Сад? Откуда здесь… Как узор на стекле. Иней тут. Как на окне в мороз. Что это? Ад, ад? Вот это да. Все-таки убили?
Что будет с ними. Анюта, Алеша. Интересно, мне дадут их увидеть? Из гроба-то? Говорят, что зависаешь над своим трупом. Кто-то передал отсюда? До девятого дня, до сорокового. Видеть все в печи крематория или быть свидетелем под землей? Вот ужас. Но ведь точно, Анюта не поволочет Алешку на похороны. Она его не понесет на плечах. Вдова в черном. Без копейки, и квартира, она не знает, заложена. Расписка у директора. А! Жалко что Анюта так и не найдет деньги в старом пальто, будет лежать это пальто без дела. Дур-рак! Ничего не предусмотрел! Как всегда. Ведь думал, что и умереть не успею.
Стоп. Какие могут быть похороны! Я же теперь в этом городе без документов. Неопознанный. И Анюте не сказал, что еду в другой город. Сказал, что еду на электричке к одним людям за деньгами на выкуп Юры. Точный текст. Теперь сдадут меня в мединститут студентам, ха. Распялят на столе, руки отчекрыжат и будут изучать детально по волокнам мышечной ткани. Как мы в училище. В мясе рыться. Всегда, когда работал санитаром, думал, вот мои приметы, по каким меня можно будет опознать. Шрамов пять на левой руке, укус собаки на правом запястье, полногтя отрублено в тайге на левом указательном.
— Да не все ли равно,— думал Номер Один свои странные думы, как живой, медленно уворачиваясь от замороженных веток с шипами. Опять стеснение, вжатие в тонны льда, а, то была передышка и мысли, теперь работа, нижний мир. Те тени исчезли, погони нет, несет сковавши члены и довольно быстро, только не раздавливайте так голову, а, уже не пригодится, грудь стала листом, просверливаемся сквозь лед, как будто это толстое до бесконечности ночное оконное стекло, вморожены как бы листья как узор на окне, полукружья и зигзаги, папороть, кристаллы, звездочки какие-то протекают мимо, острые края вонзаются, режут, кто бы побывал в том саду! Иглы, жала, бритвы, шипы, накалываешься на них, особенно они прут в замороженный глаз, распяленный как у рыбы. А-а, щипцами волочет вперед, пытки, да? Пытки? Просто компьютерная игра какая-то. Как я сочинял. Ночью рассказывал Никулаю за бутылкой. Что надеюсь эту игру «Реал тайм» продать хорошо. Открытие как бы. Игра в реальном времени. Начинается снаружи, кончается в компе.
Оставьте меня, я ни в чем не виноват. Кому, кому кричать и нечем кричать. И все ввинчивает, помимо воли. Это ясно что, инферно. Рождаюсь да, в ад. Поворачиваюсь в этом мироздании вместе со льдами в первом вращении, дальше ледяные кольца увеличиваются воронкой далеко вниз, туманы черная мгла, руки разрослись и ушли на километры вперед, закрутились там, тянут, тянут жилы из меня! Господи Боже, за что, что я сделал-то? А то и сделал. Жене изменял. Обманывал, завидовал Шопену да и другим, денег хотел. Все мысли о деньгах, но ночами напролет играл на компе. Жене не помогал. Домой шел как на каторгу, скука, скука! Алешка как меня ждал, калека маленький, надеялся каждый вечерок, что приду купать! Она одна его таскала. Даже звонить перестала потом. Уже не плакала. Смешно, но тут это считается, наверно. Но ведь не убивал! Не убивал я Куха! Он же ушел живым! Утром там лежал другой, ему лицо кто-то выел и весь ливер! Другой, клянусь! Маленький, с черными руками… Типичный энтти… Без лица… И руки обгрызены… Не того я убил? Убил все же? Показалось, что это Кух? Безвинного энтти зарезал? Господи помилуй. Эта мысль не приходила в голову… А что это за бумажки — и там, на балагане Марой, и на уличном киоске, и тут, в подъезде? Ловушки, ход в ад. Сразу после убийства появились.
Мне ад, а Анюте с Алешкой? Вы что! Да… Вот как их, Анюту с Алешкой, сейчас начнут сживать с квартиры… Погонят. Она пойдет к матери, с которой не общается после того как мы разменяли их родовую квартиру. Тем более что эта мать вышла замуж. Туда их с Алешкой не пустят. Там однокомнатная, в однушку меня запихнул, теща говорила гнусно улыбаясь и на меня выразительно глядя в последний момент, когда уже приехала машина, надо было им помогать носить эти все шкафы. А я принципиально стоял с Алешкой на руках… Невыносимо было жить в новой конурке, которую Анюта отвоевала в боях… У меня ничего нет. Вернее, у меня ничего не было. У меня не было места на земле. Хорошо что Анюте написал с Юзени то письмо последнее. А где оно? Господи, сбросил куртку в прихожей, а Анюта наверняка сунула ее в ящик с грязным. Письмо во внутреннем кармане!
Странно, что голова-то работает и все чувствуешь… Не может быть, чтобы это было после смерти, ясное сознание. Так называемый ужас вечности. Мог бы ее провести как-то получше, сообразно заслугам. Вот и получил. Праведней надо было жить! Из зева выблевал лед наружу. Из ануса поперло с натугой, режет же! Тут же пошло наоборот: в прямую кишку коловоротом. В анус раздирая до печенок. И тут же высаживает зубы, врастает в мягкое небо, ноет, ноет все. В нос вступило лезвием! В мозг! Пячусь, что ли? Обратный ход льда. Надо грести вперед. А как мельтешил, как старался заработать там, на Юзени. Раз дома не получается. Таскал у них их амулеты жалкие, выпрашивал, они все ведь отдадут. Разорил год назад мамотское старое погребение, лежащее в лесу, копался в костях просто ради какой-то понравившейся мелочи… Жестяной бляшки, про которую подумал, что это будет ценный экспонат, вполне сохранная инсигния… Теперь оно валяется подо всем в дальнем ящике… никому не продал. Иностраны гнусно улыбались в ответ на предложение, когда приезжали в институт для контактов. Французы. Было жутко неудобно. А разорил культовый амбарчик на острове, взял берцовую человеческую косточку, кшшмар. Ее уже не посмел предлагать. Лежит на полке за книгами дома… Ты! Ты кто? Ты где? Боже, прости меня грешного. На работе ночами якобы работал, на самом деле занимался мелким компьютерным грехом, игра, видите ли! Ночи напролет! Связался еще с этим… Он так серьезно, что вы, все играют, приезжайте, дам вам высший уровень. Два часа говорил. Вам надо апгрейдить, это уже вчерашний день, триста долларов. Мировое первенство будет. И что он композитор компьютерных игр. Зарабатывает нехилые бабки, сказал. Такой драгдилер компьютерных игр.
Вот и смысл моих ночных оргий с компьютером, цель — создать компьютерную игру, за них много платят, вот главное. Оправдывал себя, весь мир играет в игры, вся радость в мире это игра, игра на деньги — воры сыграли со мной свою, Панька свою… Самая сейчас главная игра на деньги — терроризм на экране телевизора. За мою кассету тоже можно было бы много срубить! Не хуже чем за теракты с этими героями в полотенцах на башке и с черными вдовами в проводах… После таких показов реклама прекрасно идет! Телевизионная игра «Терроризм в реальном времени» лучше всего оплачивается рекламными агентами. Дайте мне возможность! Пусть Юра остается там кипеть в котле. Падающего не спасай, заповедь энтти.
О как мозжит в груди, не дышу, забито льдом и рот забит льдом, вы понимаете, когда дыхания нет, все о тошнит льдом и тело дует как шар. Не игра не игра. В носу разрывные осколки хрустят пробираются, разносят кости хрупкие, самые тонкие перегородки, рвутся во все пазухи, прокалывают виски. Замерзло, забито все в глубинах черепа, но лезет и утрамбовывается новое… У меня уже ничего не осталось! В церковь надо было почаще ходить! Это ведь не то, не то инферно. Не тот ад-то. Не пекло. В разных конфессиях разные ады… А-аа. Увижу здесь кого? Да не дай Бог узнать здесь отца, мать, пробирающихся так червиво… Они не тут…
Как я плакал на первом курсе, когда умерла эта красивая девочка Надечка, к ней все ходили в больницу, болезнь крови, улыбалась, шутила, черные круги вокруг глаз. Долго думал после похорон, что это и была единственная, была невеста. Ее мама потом, зимой, покончила с собой, уехала за город, легла в поле. Нашли весной. Вот ее мама может быть тут, это же такие, грешники, лазают во льду, сокращаются и вытягиваются как кишки, пресмыкаются. Руки вымотаны на км вперед по кругу… Ищут, роются во льду, проделывают ходы. Тянет, тянет жилы-ы… Какая цель в этом движении, а? А? Все осуждали эту мать, оставила еще хуже след за собой, несчастного человека, мужа.
И никакая твоя жизнь не проносится мгновенно перед глазами, а думаешь ну да, это наш ад, там у них это пекло в жаре, они сжигали своих на кострах, а нас морозили, у нас льды, так гадко, тяжело, тяжесть тяжесть много давит теснит грудь руки-мои-руки каждую кость хрящит плюснит мясо и растягивает по иглам льда, вылущивает кости, я вращаюсь по кругу и руки огромные, растянутые резко вдаль, больные суставы, по космосу несет и этот круг во весь мир, выпяливает, тащит хрящики, какое высшее отвращение, как рвота накатывает, слабость, рабство, что вы делаете со мной, блюю льдом сру льдом, набита клетка грудная вон оно, вон оно, черный трон немыслимой высоты вознесся наверх как древо, и там наверху в глыбах темного света чья там голова с тремя глазными дырами, ужас, огромный длинный череп, мамонт, глазницы пустые косматые как гнезда, о Боже, чистая компьютерная игра, голова в тучах километр дотуда, и возникла молния, падает на меня, огромная как валится дерево, упаси Боже, молниеносная рука, узкая, суковатая, вместо пальцев три отростка, стреляет черная молния сверху в меня, и тут мне стреляет в голову, играем в компьютерную игру под названием «вечность».
Явственно о склони голову, спрячься, его рука входит в горло ищет сердце нет желудок сворачивает на сторону нет ниже выдирает кишки, перфорация, проникновение, ищет, сейчас вырвет с корнем мой бедный мое бедное а зачем оно теперь все кончено. Нет идет под кожей, гадостно трепещет, как пучок червей, шевелит своими змеями, шарит сбоку куча отростков, виляет, елозит из живота выбираясь, на бедре теперь, что с меня взять, оппа! Полезло в карман из кишок выдравшись, глупо, как глупо, лезет в карман, хоть что-нибудь. Хоть какой-то принцип найти принцип спасения
Бывает когда игра идет — о не выдирай, не выдирай из меня кишку как из этого песец потянул, опустошение, кисть руки очень далеко, километра два сквозь серый стекловидный туман, ее там надо ловить, там вытянуты жилы, хвать ее! Уже тут игла, взгромоздилась на глаз, режет ножками, убирай, убирай, ты встань подальше, ты рано — о! Как колючая проволока, ветки топорщатся в орбите ока. Но мы люди опытные, игроки целонощные, неудержимые — понять принцип! Да не тяни из меня, не тяни, нет там ничего, не проглотил кроме булки вчера с колбасой на вокзале…
Тут вдруг единым вихрем злостно свистнуло вон из души, как рвота.
Пусто стало, пусто, грохот, падаю вниз, спиной назад, уже все, не спастись, что же это, прощайте, прощайте, пора нам уходить, Анюточка, мужайся, на тебя одна одежда. Алешенька, оставляю тебя бедного маленького калеку. Бездомные, нищие.
Внезапно ослепило глаза светом, зажмурился, ничего не мешает, хлоп-хлоп сплющенными глазами, открыл осторожно, финал. Все поплыло быстро в сторону, вся эта компьютерная игра, пленка полезла пузырями, продырявилась, распалась. Открылась стена. Обыкновенная, крашеная зеленой масляной краской. Новый вариант ада. На ней было выведено скромное маленькое ругательство, ручкой. Рядом ярко-оранжевая чайка в виде двух полукружий и той же прыскалкой выведено на невысоком уровне детских глаз: «Все любят SEX». Ага, это не чайка, а сиськи. Вверху оказался потолок в ржавых разводах. По сторонам вдруг опрокинулась вниз и вознеслась вверх грязная каменная лестница. Ага. Это опять подъезд. Перед глазами незнакомая коричневая дверь с табличкой (№5) со звонком и фамилиями.
Запах. Запах обычный, гниловатый, с оттенком сырой известки и банной плесени. Да нормальный подъезд, вы что. Ну, смерть, ну, пекло. Идиотизм. Ад в виде бесконечного подъезда. Где подох, там будешь проводить вечность. Интересная мысль. Поиски выхода и ни одна дверь не открывается. Толпы теней бывших людей на каждой точке земли, где они погибли… Так в соседнем доме бомж рвался в квартиры ночью, трезвонил, кричал, ругался, бил копытом во все двери, выл, утром его нашли в лифте мертвого. Подъезд был залит дерьмом. Человек умирал всю ночь.
«А где М-психоз?» — подумал Номер Один. Ничего похожего тут не было.
Оставалось спускаться вниз, может быть, к котлам. В пекло. Смешно.
Он пошел по лестнице, оглядывая стены. Быстро добрался до первого этажа, до входной двери, вместо стекла забито фанеркой. Мы тут вроде уже ходили. Выход? Неужели, Бог ты мой!
Открыл скорее, отшвырнул створку. Фанера задребезжала, с визгом хлопнула сырая тяжелая дверь. Встал на пороге, на крыльце, видя перед собой двор, железную решетку ограды и кусты за ней. Голова была как бы чужая, неверная. Кружилась. Сзади кто-то юркнул, как мышь. Номер Один замедленно оглянулся, но живого никого не оказалось в поле зрения. Глаза не смотрели, вот точно что чужие глаза. Это бывает иногда, чужая голова и не свои глаза.
Номер Один как-то по-новому выскребся во двор, как-то очень ловко, как штопор! Руки шевелились, пальцы чувствовали все, любую шероховатость, гнусную мокрую фанеру, гладкие сосульки старой масляной краски на двери, брр… Ладони были в меру влажные, сухие терпеть не могу! Пальцы настороже, готовые присосаться. Щупальца.
А! И еще в нем, в мертвом, засела какая-то обморочная, голодная досада, типа злобы на эту жизнь, на этот (длинная матерная загогулина) двор. Короче, хотелось их всех (опять длинно подумал) убить. А что это за фигура там? Аа! Где мои деньги?
Как кровь залила мозг, закипела в башке, застучало сердце. Аа! Аааа! (Увидел точно). Грабители! Вон же он!
Во дворе явственно нарисовался вполне спокойно идущий вор, тот, второй, маленький, бритый налысо, в черной кожаной куртке. Он двигался от соседнего подъезда в левую сторону, не спеша, спиной к нам, оглядывая свои пальчики, ссука! Лысая мартышка в черной кожанке сама собой шла не оборачиваясь, а напрасно! Напрасно не оборачиваясь, ибо Номер Один несколькими прыжками неслышно догнал и нанес сильнейший двуручный удар сложенными кулаками (пальцы беречь!) по лысому кумполу, даже не готовясь, на раз!
Лысый быстро лягнул назад ногой, но нас не достанешь! Еще пришиб! Упал, сука. Рвануть за кожанку, лицом ко мне стоять! Стоять! (длинно сказано).
— Цоцоцо…— застрекотал лысый и заметно побледнел. Руками стал слабо отпихивать.
Правильно. Глаза выкатились, челюсть брякнула об пол. Бежать не пытался. Эх, обрезка жести нет! По горлу бы сейчас. Одной рукой за нос, другой чирк! Счиркнуть. Буду убивать тебя. Душить, сворачивать эту толстую накачанную шею. Ведь интеллекта как в клопе! Где деньги?
— То не я то не я,— заталдычил клоп.
— Тыты!— уверенно.— Руки вверх, стоять. Да! Да-авай бабки, бабкибабки даа… давай ну ты,— сказал он безо всяких предисловий, чувствуя себя в полном праве. Почему?
— Не я забил!— хрипит.
Забил? Что забил?
— Тыы-ты!
Никуда, тварь, не денешься! Голос как-то хрипло звучит, но откашливаться нельзя. Во рту как горячая картошка, мешает говорить.
Сказал, тем не менее:
— Заа… бил ме… меня уубил ме… ня, даты?
Что за текст лезет изо рта?
Лысый торчал на месте и не двигался, оцепенел. Челюсть подбери! Смотрит вылупился, фишки как у мороженого окуня. На нижних гнилых зубах прилип зеленый комок жвачки. Тошнит от тебя! Давай деньги.
Вкатил ребром ладони по морде.
Тот согнулся, поднял руки… Пальцы в крови у тебя, вор! Средний и безымянный-то слиплись. Как в дерьме.
Кровь чья?
Пока не стал его убивать, а протянул открытую ладонь, шевеля чувствительными пальцами как краб:
— Ло… Ложи, а ну!
Клади надо было сказать.
Лысый медленно, как бы в задумчивости, расстегнул куртку…
— Да… давай, тормоз! (длинная матерная фраза, что такое, заикаться стал?)
…тот полез под полу своей куртки, застыл…
Пришлось подбодрить действием. Он вытерпел удар носком по голяшке. Согнулся только. Он явно ничего не мог понять.
…вытащил изнутри большой пакет.
Это был пакет с долларами и с каким-то паспортом. И с бумажками. Липкие мутные пятна на нем, слегка ржавые.
Ладонь приняла, обрадовавшись. Пальчики впились в податливый теплый пакет. Спрячем.
— Иии-ищо!
Убивать буду зверски.
Из кармана брюк лысый вынул пачку туго свернутых долларов (ага, это другое…).
Все полученное Номер Один заложил во внутренний карман пиджака, мимоходом удивившись, что карманы глубокие, удобные, все в порядке и дыры на груди нет. Ладно, на том свете побывали, вернулись целые.
Лысый сделал еле заметное движение. Так, да?
Очень быстро перехватив инициативу, Номер Один сделал раз! И ловко вытащил чуткими пальчиками из правого кармана Лысого складной нож типа «бабочка», затем молниеносно, щелкнув кнопкой, приставил лезвие к горлу лысого. И мотнул головой:
— Дава… давай все.
Тот отдал ключи, два мобильника, записную книжку. Сигареты.
— Теперь ииидем. Вруба… ааешься? Але.
Лысый, еле собрав воедино челюсти, проскрежетал:
— Хочмы домне?
— Но допш,— ответил Номер Один на неизвестном языке и тронулся за лысым.
Они пошли обратно в первый подъезд, миновали двери, чем-то уже известные, поднялись на третий этаж, там лысый, сам трясясь как с бодуна, перетерпел, что у него достают ключи из кармана и отпирают его собственную дверь.
Вошли в вонючую духоту квартиры.
Так, у меня что: у меня мои деньги, паспорт мой же. А кто этот человек, это вор. А зачем я с ним иду в его квартиру?
Пованивало высохшим потом, табаком, ссаками, тухлятиной какой-то. Ну и живет вор! Номер Один сунул в карман липкие ключи, пригодятся. Тот не пикнул. Вошли в полутемную комнату, заставленную какими-то телевизорами, магнитофонами, чемоданами, это было откуда-то известно, как «дежа вю». Уже видел я это где-то! Причем недавно! Лысый опустился на колени и добыл из-под кровати обувную коробку. Открыл ее. Там мусорным слипшимся клубком лежал комок золотых цепочек, крестиков, какие-то тусклые колечки, все ношеное, камушки.
Номер Один помотал головой:
— Не-ее.
— Долажьженки?
Лысый тронулся куда-то, идем вместе, оказалось что в ванную, и там, встав на табуретку, он снял решетку с продушины. Решетка потянула за собой провод, на котором, как на удочке, болтался пакет.
— Ницвенцей,— сказал малый, спустившись.— Не кламен.
Он не смотрел в глаза.
— О-открой,— приказал Номер Один.
И угрожающе, заковыристо выругался, а что такое во рту? Как судорога сводит.
В пакете было блестящее распятие, какая-то ерунда, опять колечки, сережки, на одной сережке висело что-то похожее на кусочек дерьма.
— Э, Ящик,— произнес Номер Один своим хриплым говорком,— Не, Яа-щик. Не то.
Как-то у него изо рта выскочило это имя. Лысый перекрестился ладонью справа налево.
— Ну!— приказал Номер Один.
Пошли обратно в комнату. Номер Один кивнул на шкаф. Буркнув какое-то «паменташ», парень достал со шкафа коробку из-под ботинок, что ли. Там, в коробке, оказалась икона в серебряном окладе, небольшая. Она была завернута в серую тряпицу с темным, заскорузлым пятном посредине, к которому прилип комок седых волос. Тьфу!
Номер Один отложил икону с угрожающим «Так! Еще где, где ты еще где ии-имеешь что?»
Лысый квакнул «мам тутай» и упал на колени, согнулся, полез открывать нижний ящик шкафа.
Очень удобно получилось сжать оказавшееся у колен горло, пока этот нырнул рукой в ящик и закопошился среди каких-то тряпок, достал там быстро-быстро нужную вещь, но тут Номер Один наступил ногой в ящик, прямо тому на руку. В этой руке был, ага, пистолет. Пистолет нам пригодится.
Он приставил дуло к шее лысого, снял с него ремень, поставил на колени, скрутил руки сзади. Сволок с его ноги грязную туфлю и запихал ему в рот носком. И нечего на меня так смотреть. Ага. Не вставать! Ноги!!!
От Лысого явственно завоняло.
— Фуняешь, ползи в сортир, в со… сортир лезь бы… быстро.
Скороговорка, блин. Звучит как у Березовского олигарха… Какой финт судьбы, однако!
По дороге сорвал с вешала какой-то грязный шарф, скрутил ему щиколотки.
На колени!
Так, ноги привяжем к рукам сзади этим же шарфом.
Ползи в сортир на коленях!
Запер его там на задвижку снаружи. Всегда удивлялся: зачем делают эти задвижки снаружи на дверях ванной и уборной? А вот зачем!
Он там завозился, замычал что-то. Говори, говори, я не понимаю и не понимал, что ты трындишь.
Выбрался из этой вони, запер дверь на три замка, спустился вниз. Выдвинулся на полвзгляда. Оценил обстановку. Вернулся, сунул пистолет за батарею. Вышел на крыльцо. Медленно: встал рядом с дверью. Удобно для исчезновения.
У соседнего подъезда люди в форме держали, вывернув им руки, тех двоих как бы смеющихся парней. Ну вроде бы они улыбались согнувшись в три погибели и глядя в асфальт. Крутили башками, как бы изображая «ну и ну», не понимая за что. Безмятежное выражение лиц было у них, когда их заталкивали в фургон. Машина отъехала, зато прибыла скорая помощь.
Санитар и шофер вошли в подъезд с носилками, а затем вылезли с грузом. Несли человека, укрытого с головой.
Тут же вертелся какой-то малый лет восьми, из тех, кому много надо. Он мимоходом изловчился и отвернул тряпку от лица покойника.
Это была та девка! Та девка, ее убили все-таки. Недаром она скалилась, боялась. Крашеная блондинка. Та девка, которая бегала только что с двумя парнями, давала круги по лестницам.
Она теперь лежала, ощерившись все в той же улыбке, но языком наружу. Глаза, сильно намазанные, открыты, но половина щеки одна сплошная рана. Лицо, однако, серое, как у той девушки на чердаке.
Господи помилуй! Когда это она успела повеситься? Они ее подвесили?
Мальчишка отскочил, увернувшись от ноги санитара.
Вот тебе и жизнь кончилась, пещерная жизнь. Что-то она бегала, хлопотала, хотела меня убить, боялась тех, дралась, ее били, драли как Сидорову козу, она, видно, прошла все через что может с детства пройти дворовая подстилка, голодала, пила и кололась. Красивая девка. Белья чистого, бани явно не знала. Небось и мать ее пьющая, в доме мужики хороводом. Предки люмпены из деревни, то есть все корни, вся система защиты утеряна — сейчас в деревнях мужики продают детей за бутылку на время, на час (разработка Лены Голик по материалам Владимирской области, т.е. пока мать в город поехала, пишет она). Обычная архаика (это уже идет моя недописанная статья типа «Дискурс контемпорентного мегаполиса как средоточие второй системы метаболизма делинквентов» — ???), история детеныша-самки из неолита, потерявшей свое племя пещерной девки, которую не защищает никто. Убили, наверное, из-за меня. Те двое донесли, что она показала мне где старшие воры. Не могли не донести. Подумали и оба от страха настучали. Может быть, ей заказали меня. Да, она же в последний момент душила. Перед смертью. Даже не тема для дискуссии. Каменный век прет изо всех подворотен с каждым новым поколением детей. Грех думать, но если бы Алешка ходил, то пришлось бы ему гулять во дворе с этими. Жить по дворовым законам до конца школы, если хватит сил. По законам пещеры. Тебя бьют или ты сможешь отбиться. Соседний двор на тебя охотится, это чужое племя. Как меня регулярно потрошили на Красноармейской, за аптекой, по дороге в школу. Или в школе старшеклассники. Ввалились в сортир, схватили, пыхтели, сдавленно хихикали, все помню до мелочей. Задернули руки за спину, поставили на колени в лужу мордой к унитазу. Ткнули хорошенько в грязную вонючую дыру. Кряхтели, расстегивались. Если бы не тетя Таня уборщица… Разоралась, сделала вид что все обычно, опять ссыте мимо. Да. Все из-за того что был чужой. Но как был рад, что свои со двора взяли на дело, стоять на шухере. Честно стоял, когда они полезли в ларек, потом мог говорить в школе «Толя Хромого знаешь?». Если бы отца не перевели на Север, давно бы уже отсидел. Всех со двора пересажали. Наиболее приспособленные к этой жизни так и сохраняют инфантильность, уходят потом в бандиты и в охрану, иногда одновременно. 15% мужского населения в охране (данные Козихиной), 28% в бандитах. Цивилизация, образование, взросление их не касается. Остаются детьми, как энтти мои. Правополушарная, неразвивающаяся цивилизация. Не способная к прогрессу. Энтти все потеряли. Мы их обманываем легко. Скоро они вымрут. Не будет ни этой культуры, ни этих поэм. Наши дети стихов не слагают, бессловесны и в подавляющем большинстве бессовестны, маленькие первобытные, хотя свой стыд у них есть, какие-то свои запреты, табу, приметы, на трещины не ступать, стучать ровно столько-то раз или ровно десять шагов сделать до угла… Излюбленные числа, нумерология. В такой-то день падаем на дно, не шевелимся (тринадцатое). Ананкастический синдром, вторая система метаболизма. То есть в первой системе метаболизма, в древности, человек бежит от опасности или, наоборот, за добычей. Движение логично идет за чувством (страх — следует бегство, голод — надо догнать и убить, гнев — драться, секс — повалить). Вторая система метаболизма — когда эти непосредственные связи уже не существуют. От опасности не убежать — к примеру, выгнали с работы. Опасность есть, но не здесь, не сейчас (завтрашний экзамен, выплата долга с рассрочкой, угроза по телефону, вчера поставленный диагноз). Бегство не поможет. Нельзя ударить начальника. Голод — надо идти в магазин. Повалить бабу прилюдно или караулить в темноте — посадят как маньяка. Тогда надо постучать по дереву точное число раз, плюнуть через плечо, на определенную цифру запрет (синдром в ДПП), посчитать сколько трещин в асфальте, сколько окон на противоположном доме (диагноз Надежды Тэффи, без этого она не могла стронуться от двери), вернувшись посмотреться в зеркало, произнести заклинание. Уехать (распр. способ). Уйти пешком. Не наступать на крышку канализационного люка (случай Илоны Г. Надо ей позвонить.) Возникает система оберегов. Свод нелогичных жестов и поступков. (Аркашка И. всегда стучит по всем деревянным поверхностям, дверям и перилам костяшкой среднего пальца, Мишка Ш. тоже). Все дети, однако, через это проходят. Почти религиозные понятия, оттуда недалеко до ритуала, молитвы. Пошептать три раза. Если эти правила не соблюдать, то будет великое горе с мамой. Начала всех религиозных обрядов — куда ступить, сколько шагов до поворота, как переставить предметы (ритуалы новых религий см. обряды рамакришнаитов, под бормотание молитв с определенной скоростью переставляются инсигнии, да и порядок поворотов процессий и восклицаний в старых конфессиях, равно как если не постучать пять раз, то мама умрет. Этого они боятся больше всего. Матриархальные дети). Надо бы заняться сбором материала, уходит же и это. Вырождаются, новые уже не знают стыда и правил. Вырастают психопаты совсем страшные. Деньги, игры, веселье, убийства, похищения, воровство, пьянство, свадьба не без топора. Хотя быстро обучаются тому, что необходимо (вождение, компьютер для игр, языки, оружие, способы как отнять деньги, это надо отметить, быстрота освоения новых технологий). Любовь испытывают разве что к собакам, кошкам и своим маленьким детям. Но при этом настолько не знают препон, что могут бессознательно изнасиловать ребенка, сначала взасос целуют, щекочут и мнут, потом уже им не остановиться. Как урод этот Юра, убитый, но опять живой.
Все это пронеслось в голове за секунду. Щелк-щелк.
Менты погрузились и уехали. Скорая еще стояла, к ней все несли и несли эти ободранные носилки с девкой.
Пацан, однако, уцепился за ее свисавшую руку, деловито так схватился и шел как у гроба. Сердце щемило глядеть. Сирота с важным видом в последний раз держится за мамкину руку. Санитары плюнули на это дело, мало ли, может, сын один остался у такой матери. Перестали его гнать. Резало в глазах от такой картины.
Номер Один почувствовал, что глаза мокрые: мысль об Алешке. Тот даже не мог бы рядом пойти, калека.
Так. Эту занесли в машину, мальчишка заплясал перед хлопнувшей дверкой, руку ему, что ли, прищемили в злобе, и опять пошли в подъезд двое санитаров в грязных синих халатах с носилками, затем, минут десять спустя, выбрались из подъезда с накрытой ношей. У них тут в городе еще не знают пластиковых мешков. Опять малый, уже в полном праве, отвернул покрывало от лица жмурика, да так и оставил, отпрыгнул. Эти санитары, руки заняты, сразу бьют ногой. Малому попало, екнул, завопил «а че я сделал-то». Отошел, держась за голень.
Кто это, я его знаю, как-то зовут… Знаю, но не помню. Где я его встречал?
Этот труп был вообще нормальный молодой мужик. Глазки открыты. Волосы на ветру шевелятся. Светлые волосы. Худой, бледный. Хорошая морда у парня. Даже жалко до слез. Ямы под глазами. Истощение, что ли? На кого-то смахивает. Да! Знакомое лицо какое! Типа я вас не знаю, но я вас брил сегодня. В вагоне-то! У туалета!
Тихо, тихо. Подойти, они поставили носилки, пока передний санитарище залез в свой грязный салон, подвигает девку и еще что-то, ага, коробки какие-то, с бананами левый груз. Подрабатывают мужики, фрукты в свободное время держат в больших холодильниках морга…
Подойти, открыть покрывало. Да не возникай ты! Все уже. Увидел что надо было. Клетчатый пиджак, разрезанный на груди. На щеке красное пятно, в поезде укусила какая-то тварь, расчесал за ночь. Ну, бред.
Номер Один посмотрел теперь на свои ноги, обутые в какие-то незнакомые блестящие туфли. На пиджак клетчатый, карман слева на груди целый. На руки. Желтая какая-то кожа. Черные волоски на фалангах пальцев. Ладони умеренно влажные. Левое запястье ловко охвачено золотым браслетом часов. Стал щупать свое лицо. Крепкая щетина на голове, какой-то бугор на лбу прямо над левым глазом, с волосами! Здрасьте! Второй бугор симметрично. Это брови! Неандерталец я, однако. Пошел щупать дальше как слепой… Лицо неровное, какие-то мелкие желваки. Потрогал крепкий хрящеватый кривой нос, с гулей на конце. Упал, что ли… он. Кто-то. Госди, скала я. Как говорила наша соседка «с Харькова». Жена немого художника, Светочка. Он писал портреты передовиков прииска. Господи, сказала я. Скала я. Скала я. В карманах: записная книжечка почти чистая с короткими цифрами и сокращениями. Зашифровано, однако. Мобильник. А, это Ящиков телефон. Отключен. Еще мобильник. Включен. Нож Ящика. Мелочь.
Кто такой Ящик.
Но я же помню, вчера объявил Анюте что ухожу, у меня переговоры с людьми, которые дадут деньги, может быть, переговоры на всю ночь. Еду на электричке за город. А она отвернулась, знаем мы ваши переговоры ночами, теперь это называется переговоры. А, кстати, зачем деньги, кому, нам? Нет, это пока за Юру выкуп. Юра сидит в яме у людоедов, явно на куртке следы грязи как валялся в воде, с него снимут шкуру, знаешь такое слово, ошкурят. Буквально, кожу они сдирают с человека. Пекут и едят. А шкуру на себя надевают жиром и кровью наружу. Поняла? Поняла. Ты меня не испугал. А сколько на него тебе дадут. Пять тысяч долларов, если все будет хорошо. Да?!? Заплакала, закричала, как больная, на Юру берешь, а для Алешки тебе жалко? Взял бы сразу и на него и на лечение своему же сыну! Хорошо что Алешка спал на балконе, не слыхал. Кидала вещи вслед. Даже на лестницу кинула. Свою сумку пустую, без денег. Да, потому что утром все выгребла для этого продавца, разносчика лекарств. Пустую сумку швырнула на лестницу, захлопнулась в квартире, щелкнул, замок. Поднял брошенное, отнес обратно к запертой двери. Повесил на ручку. Старая, потертая бывшая кожаная сумка, она ей гордилась, что из настоящей кожи купила, хоть и из кусочков, только что разглядел с чем она ходит. Как бомжик. И выглядит как бомжик, и Алешка такой же, хотя они у меня чистенькие. Все помню, во у меня память после смерти! Дальше, ночь ехал в плацкарте с адресом в грудном кармане, адрес банка, который дал Панька. Директор, знаю, так. Директора фамилия… так. Панька директор. Анюте с Алешкой теперь только в метро просить с картонкой в руке. Госди, скала я. Дальше приехал, дальше у меня вырезали пакет с деньгами, откуда-то они знали, что он у меня на груди.
— Вы куда вы мужики куда его ве-езете?
Молчат.
— Вам что, ба? Бабки вам что бабки не нужны?
Один обернулся:
— На Бродвей.
(Сделал вид что знаю).
Затараторил с бешеной скоростью:
— Давай договоримся, мужики. Вы меня там подождите, лады? Я заплачу. Да сколько скажете. Ждите меня там. Это мой кореш. Не хочу давать его вспарывать, он же верующий.
Что такое, язык не слушается!
Сунул руку во внутренний карман, отслюнявил одну бумажку. Проверил на свету. Эти смотрели застыв. Э, сотня долларов, это мне и самому пригодится.
Пошарил еще в боковом кармане, опять большие, не стал вынимать, сначала ответьте.
Санитар сказал как-то неразборчиво, гугняво, что-то в роде «отстегнешь, тогда командуй». «Онстегнешь, тогна команнуй». Да не получишь ты у меня. Сказал опять «подождете меня там», с длинным добавлением. Сели, недовольные, хлопнули дверцей.
Крикнул им вслед «Договорились, …?».
Уехали.
— Ку… куда они?
Вопрос в пространство.
Подошел тот мальчишка:
— На Бродвей увезли. Валер, дай на мороженое.
Хрен тебе что дам. Где этот Бродвей? Адрес!
— Я на машине покажу. Мама тоже там ее увезли. Дядь Валера, возьми меня с собой!
Жалобно так сказал. Но лживо. Горя они не испытывают. Так, на всякий случай прокатиться. Небось, доставалось ему от мамки. Хотя посмотрел значительно, с упреком. Маленькие умные глаза. Примесь восточной крови.
— Моя мама, Света. Можно?
Мама? Какая, к шутам, мама? Там он сам лично на грязном днище труповозки валяется. Тоска, какая тоска охватывает! Животная.
Холодно. В районе желудка пусто. Сосущая пустота. Как печально, раз, как печально, два. О Господи. О утренняя скучная земля во дворе, мусор, стеклышки битые блестят в убитой почве у гаражей, дует холодный ветер. Железная решетка… Чахлые кустики… Суки! Надо было им заплатить и сесть в их скорягу, быть рядом с этим человеком, проводить его как полагается. Дать его домашний адрес, чтобы все зарегистрировали, чтобы Анюта знала, чтобы оформила хоть какую-то пенсию на Алешку. Нет, он уже получает пенсию как инвалидик… Никакого толку от моей смерти ему не будет. Да. Надо ехать к ней и оставить ей сколько-то денег. А ну как она меня не пустит? Она меня этого Валеру не знает. Тут рассказы не помогут. М-психоз, видите ли. А Юру спасать — а хрен с Юрой. Меня уже нет. Энтти? Их тоже нет. Никого вокруг. Я один! Я один! Сколько ей оставить денег? Анюта — это которая? (длительное умственное усилие). Да, надо отвезти в этот банк баксы, чтобы они не согнали Анюту и Алешку с квартиры. У директора же моя расписка! Да они так или сяк все равно замочат их, моих, просто-напросто. Потребуют подписать бумажки, придут с нотариусом. Алешку на балкон над перилами выставят, сейчас уроним, он заплачет, и она все подпишет. Меня бы стали пытать, бы вытерпела. Ради сына. А стоп: как я верну в банк деньги, если меня уже убили? От лица. От его лица. Кто мне засвидетельствует, что это я вернул? Моя подпись-то уже чужая! Вор, видите ли, возвращает деньги убитого обворованного — а куда? Они там в банке ой как охотно деньги возьмут, но ничего не изменится. Скажут: как это он вернул, да его же убили давно! Заставлю (длинная фраза). Меня сейчас везут в морг. Кредит не вернуть. Куплю им другую квартиру. Здрасьте, я незнакомый друг. Анюта всех посторонних боится, недоверчивая. Какая меня жаба душила, что я санитарам не дал сотню? Да доллары надо было сунуть!!! Посмотреть на него в последний раз, как-то попрощаться. Где Бродвей?
— Где Бро где Бродвей?
— Поедем, покажу, так не знаю,— отвечал пацан.— Дашь на мороженое, на два?
— Деловой, а?
— Дяденька, я не ел ничего…
Но тут кто-то тронул его сзади за рукав, как попрошайка. Это был Лысый! В других штанах причем. Грязная рука, ногти в коричневом, как в дерме. В дерьме и есть. Рук не моет пацан. Как Юра. Но выглядит нормально. Смотрит на меня, киллер. Тускло смотрит. Что ему нужно, ему нужны деньги обратно. Мне он, наоборот, не нужен.
— Кряча,— сказал лысый.— Тонея. Сам-перши… Борился… зе мноу.
— Пошли,— ответил на это Номер Один. Если не можешь по-русски говорить, кой хрен ты тут командуешь?
— Валер, Валер,— забормотал мальчишка,— куда ты?
— Стоп. (Малому). Вот ты. Ты знаешь, где я живу?
— Знаю, квартира тринадцать.
— А где Бродвей?
— Да покажу же! На машине!
— Звевай стонд,— сказал лысый, без угрозы причем и безадресно, но парень исчез мгновенно. Ученый, знает язык.
«Валера» пошел со двора. Как-то надо было показать, что он тут свой. За ним покатил лысый, бормоча:
— Кряча… Тонея чезабил…
В ответ, как бы торопясь, Номер Один посмотрел на свои часы. Два часа дня. Пальцы были длинные, со слегка суженными кончиками. Черные волоски на фалангах. Очень аккуратные ногти, на среднем пальце особенно длинный прямо коготь, под ним что-то сидит… Осколок бритвы! «Писка» называлась в детстве. «Попишу по глазам». Противное ощущение именно чужих ногтей. Хочется изгрызть. Ладонь широкая, чужая до тошноты. Пальчики шевелятся сами собой.
Как тяжело в этом теле… Ломит его, ломает. Что же было?
Покрутил головой. Вот он, Ящик. Явь.
Срочно нужно зеркало. Кто мы.
Они шли по довольно оживленной улице. Груз кучи долларов приятно увеселял. Тепло с левой стороны пиджака.
Ты, лысый, отвалишь сейчас. Исчезнешь.
Навстречу попадались хорошие бабы, девки, но на них двоих красотки не смотрели, даже уклоняясь как бы от прямого взгляда «вопрос-ответ». Их, видимо, вычисляли мгновенно, воров. А по глазам хотите?
Оба они отражались в витринах. Номер Один видел рядом с мелькающим Лысым отражение высокого черноволосого молодого мужчины в клетчатом пиджаке. Номер Один сунулся почесать в затылке (Лысый слегка поотстал) — черноволосый поскребся тоже.
Обмен валюты. Отгораживаясь, поменял сто долларов. Смотрелся в стекло обменника. Ничего не видно.
Надо зайти в кафе, там как правило есть зеркало.
Он свернул в какую-то первую попавшуюся харчевню с самообслуживанием, сел за столик, Лысый, как зеркальное отражение, сел тоже. Не понимая своего положения. Опять завел свое:
— Вешкурве, тыперши курве руске…
— Пойди закажи,— негромко приказал Номер Один.
Лысый протянул руку, подождал с протянутой рукой, получил большие деньги. Других не было. Помедлив, пошел и встал в очередь к буфетчице. Здесь пекли блины, кажется.
Тут же перед столиком встал в позу парнишка лет пятнадцати. Текст обычный, интонации тоже:
— Не могли бы вы… Очень хочется есть… Бабушка в больнице… Мы остались вдвоем с братиком, ему девять лет…
Бледное одутловатое лицо, тусклые глазки. Пьет малый.
— А ну, ва… вали отсюда!
Как же привыкнуть к этому рту? Нижняя губа как бы запинается о зубы.
Буфетчица из-за стойки, как будто бы ждала, зачастила:
— Кому сказано! Иди по-хорошему! Он сюда как на работу ходит!
Голос, однако, заботливый: как бы чего не вышло.
— Я не вру, два дня с братиком не ели!— очень тихо и проникновенно произнес малый.— Девять лет ему, только девять. Мы одни живем в квартире бабушки, совсем одни! Есть нечего. Хотите, пойдем, вы проверите?
Номер Один громко сказал Лысому:
— Ян, возьми ему блин!
— Вы меня не поняли,— тихо, значительно сказал парень и положил руку ему на плечо. Номер Один скинул эту дрянь.— Для нас цена блинов это целое состояние… Там есть гастроном… Я бы купил макарон, хлеба, тушенки… Бабушка в больнице, брат плачет… Хотите пойдемте, вы проверите…
Щечки у него были раздутые, водянистые, сильно пьющий парнишка. Ага. Так он еще и торгует этим «братиком».
Ящик как раз отдал деньги и ждал блинов.
— Сдачи нет,— крикнула буфетчица.— У кого есть мелкие?
Ага.
— Ну ты че ра… развыступался,— сказал Номер Один не своим голосом, высоким и маслянистым, адресуясь в пространство.— Где тут директор? Где, я спрашиваю, директор, где директор, говорю? Что он к людям в этом шалмане при… пристает?
С этими словами он встал, взял парня за шкирку и повел его, причем повел в глубину кафе.
— Позоставьго-у!— беспокойно крикнул Лысый. Он в этот момент нес блины к столику и еще должен был вернуться за сдачей и кофе. Момент был рассчитан. Номер Один зорко следил за происходящим. Этот не оставит без присмотра такие большие рубли. Без сдачи не уйдет.
— Но!— гикнул Номер Один, отворяя дверь во внутренний коридор кафе.
Тут же им повстречалась старушка-вострушка, дитя прошедшего века в синем халате.
— Сюда нельзя!— оценила ситуацию — Че лапаешь пацана,— закричала она и длинно выматерилась,— в милицию захотел? Педик?
— Я сам милиция.
— (Заныла). Че он тебе сделал? Он еще мальчик!
Ага. Эти работают вместе. Видно, она и есть бабушка.
— Девушка,— Номер Один приобнял служащую, а парень, почуяв волю, немедленно исчез.
— Дедушка!— задорно возразила «девушка».
— Из главного по организованной,— выпалил Номер Один и тронул нагрудный карман, где действительно лежали какое-то корочки, с удивлением отметил он.— Молодым человеком надо заняться. Так, займемся молодым, так. Где туалет?
— Иди туда, вот, честное слово, приспичило, из главного, не засерь мне смотри!— заворчала уборщица, которая людей видела насквозь.
Она показала ему путь ручонкой, много лет моченной в хлорке, но нечистой.
После чего скромно удалилась, а Номер Один, имея в кармане связку ее ключей, кинулся искать служебный вход.
— Что ходят тут, где Михална?— вызверилась на него какая-то баба в белом халате.
— Из главного по организованной,— быстро повторил Номер Один и опять тронул нагрудный карман.— Скрылся тут один. Где черный ход? Служебный?
— Так ключи у ней… У Михалны…— растерялась баба и показала рукой налево.— Там лестница наверх и налево вниз…
Он мигом нашел путь, успел выйти и запереть железную дверь, когда с той стороны Ящ начал толкать ее, потом срежетать, вскрывать. Но в замке был предусмотрительно оставлен ключик!
Номер Один, пройдя среди гнусных подробностей заднего двора, баков, хлама, помойных контейнеров и ломаной казенной мебели, нашел выход, запертую на засов калитку, и очутился на небольшой тихой улице. Ящ уже мчит сюда явно.
Остановил (сразу же, первую же) машину. Раньше водилы не тормозили как вкопанные. Он был хмур и удачлив. Все получалось.
— Мошшетэ ехаа-атть ф пооольниццу?— сказал Номер Один почти нараспев. Вот! Надо тянуть гласные!
— В какую, мистер? В каку больницу?— громко, как глухому, проорал шофер.
— Ти-иппа в плишайшую, ищу ттрука. Плисского ттру-ука у меня самочили.
— А, близкого друга замочили,— с сочувствием перевел на русский находчивый водила.— В ближайшую ему. Хельсинки? Финик, я-я?
Пока ехали, Номер Один себя обшарил и обнаружил потайной карман, не очень большой, с паспортом на имя Крячевского Валерия Николаевича. С фотопортретом худого мрачного типа. Подумал, покопался и переложил туда же второй паспорт, из пакета с деньгами. Так, на всякий случай.
Подкатили к какой-то больнице, и водила был послан спросить в приемном покое, где находится морг под названием «Бродвей».
Позвонил в Москву Анюте.
— Аа-ле! Ты-ы? (Сейчас начнется). Му-у-мичка! Письмо мое в ку… в куртке! Наа-найди!
— Але, это кто?
Ду-ду-ду-ду…
глава 4. Письмо с реки Юзень
Муми, пишу это письмо попросил в гост-це у дежурной два листочка и не знаю выберусь ли отсюда живым, но ты тогда двойная вдова, пот что Куха по-моему уже тоже нет или не будет в ж-вых через неделю. Вообще у меня положение чучуны, я тебе о них говорил после прошлой экспедиции. Нет ничего, ни денег, ни документов, ничего, почти сутки не ел. Бубу писать кратко, и не удивляйся бумаги нет клочок. Ошибку будут. Пости меня за наш последний разговор. Ты у меня одна, больше никого нет. Господи, что я пе-реж-л тут! Кух исчез, вышел ночью и пропал. Но он твой второй муж жив. Мы с ним много гов-ли о теб, верне он пяный г-л а я слушал, маса подробностей, он ск-л что он мужчина лесбиянка а? Мне передали, что он ждет меня в Андрюшкином остроге. И это после того как он пропал на расвете, а я его искал все утро, и кто мне это ск-зал? Пьяный Винокуров, мент из местного отделения, куда я пошел заявить что человек пропал. Нет ни в доме рыбака нигде. Утонул м. б.! Он стал смеяться, да, утонул, ваш москвич живой и уже на зоне сидит! Оттуда связались по говорушке с нами майор Про-егоркин звонил что он у нас и ждет этого второго с Москвы, Уйвана Крипевача. Ничего не могу понять! Как? Дурдом. Я Юру видел в три часа ночи, а в пять он пропал и вот он уже где?! Тут он дает мне видеокассету, ваша? Там наклеена бум. и напис. рукой Юры «Ночное пение не стирать». Он напоил Никулая
(на обороте)
и записал его когда он спал, то что я себе не разрешал. Вообще этот Юра он мне сообщ. что он твой муж и Алешка его сын! Майор Проегоркин ск-зал типа если хотят его видеть живым. Я туда же поехал на след. день.
Ехали на место с коллективом театра «Энтти-уол», на большом катере. Они тут на гастролях, ездят туда где им заплатят. Поехали без Никулая-уола, он тоже пропал ночью. Единственный ценный реквизит, довольн. старинное кресло 50-х гг XX в. типа «цековская гостиница». На нем всегда сидит местная народная артистка, Варька, 53 года. За день до того как Кух исчез, они с Кухом переспали, для Куха возр. это не помеха. Он етит что живое движется, это нечто новое для меня. Старый друг оказ-я козел. То есть я знал, но не так-е. Кстати, с подозрением на тебя. Он к тебе ход-л, так сказ-л. Прошлый г. когда я в эксп-ции. Перед поездкой по Юзени всю ночь артисты пили (спасибо в кав-чках Куху, его батл), хотя народу энтти пить нельзя я тебе говорил, но Кух привез сюда три бут. спирта, разводил и видимо одну бут. отдал за хороший аметист. Огромный. Он у меня сейчас в кармане и единственное что я мог бы продать, но здесь никто не купит. По ручьям тут много но не такого, это чист цвет очень жив идеальная форм излучает явно. Камни это глаза богов энтти.
(второй листок)
Эти артисты они не люди для энтти, и ин-стр-цы их не ценят, кому нужна эта худ самодеятельность я дум они скоро все перейдут в мамотизм им не заработать иначе а так ино-сранцы приез-ют. Варька Юре все время говорит «Моя твоя ревнует, так не доставайся же ты никому», ее прежняя роль бесприданницы. Мне вертолетчик сказал он не заплатил мамоту Егору сколько тот просил за лечен, запоя, теперь голова болит еще хуже третий день, вертушка не хотела взлетать, а у самого если гов-ть научно делириум типичный, с бодуна ломает. Егор не настоящий мамот, поест мухомора и впадает в мэндрик. Меня мамоты любят еще с тех времен десять л. назад когда они почти не камлали а мы с Шопеном приезжали снимать фильм достали в музее в Энтске у Никулая спецодежду мамота, и когда мамот Гаврила увидел эту робу пощупал, он заплакал и отказался камлать там не хватало на хвосте одной железки, это рангом ниже, кол-во инсигний гов-рит об уровне мамота. Потом согласился когда мы спилили одну железку из подмышки где не видно и пришили на хвост, он увидел и не проверял сколько инсигний, мы ему сказали что нашлось от др костюма. Их надо обманывать, дети!
(на обороте)
Нет, это обряд, его нельзя изменять, а сейчас все можно я тебе показывал этот наш фильм, ты не любила смотреть но самое сильное Шопен повез оригинал с собой в Америку камлание Марфы 80-ти лет, ты помнишь ты регулярно засыпала на этом месте когда я показывал гостям но это ты не засыпала а теряла сознание. Это пение на вдохе. Когда родня пресекла камлание Марфы, они понимают чт это большой взрыв энергии и потом старуха день не может работать слоняется курит, а им надо чтоб она раб-тала, то когда они перестали ее водить на возже, убрали ремень, амрук, на котором ее водили, она упала, мы это тоже снимали, у нее начался приступ оч похоже на эпилепсию чуть не умерла, им нельзя прерывать камлание. Настоящим. Ну ты видела вид-запись, хотя не хотела видеть спала. Про эту школу мамотов и ее выпускников отдельная песня, они дают представления точно как индейцы в резервации в Америке.
Вертолет еще не вылетел с аэродрома к нам. Им топить нечем вертушки, ждут хороший заказ и тогда летят. При этом драмкружке их театре состоит один наст-щий певец энт-уол, тот самый Никулай-уол Энттин, мой старый друг. У него развито ночное пение, но я его никогда не записывал, не хотел поить оберегал. Из-за дружбы. Типа благоговел. Я в самолете когда летели вводил делать нечего нашего с тобой общего друга Куха в курс сравнительного энттиоведения и ск-л Куху, что мечтаю как-то поймать ночное пение Никулая,
(мелко-мелко)
тогда он сделал вид что не понял, сука, но когда по приезде сошли с автобуса пошли спать он спустился к артистам и поднес Никулаю стакан разведенного спирта и сидел с ним с видеокамерой, решил взять от темы все, но Никулай выпил запреты забыл (давно все понял), полез драться с ножом Кух струсил явно но сказал, что удержал его с помощью полотенец связали беднягу, он ругался, так все и шло пока не заснул а в три ночи он начал петь связанный, Кух же не понимает что когда энтти заснул то можно развязывать бедный Никулай до утра лежал замотанный ведь Кух ничего но знает насколько это ценно, руки уола. И языка не зн-т. Ничего не в силах оценить уровень.
Я уже на почте и взял бланки телеграмм сама видишь. Утром Никулай вообще был не человек, руками не владел, затекли и посинели за ночь и свою балалайку уол не мог взять и вообще молчал от сильной боли энти никогда не стонут это значит вызвать духов нижнего мира к себе если подать знак страдания. Кух мне утром похвастал что имел всех весь театр. Я все время берег их энтти, не лез к людям, а этот козел плевать хотел. И там же валялся камень подозрительного происхождения, скорей всего краденый у актеров, большой идеально обточенный аметист, здесь в ручьях таких я не встречал. Я его тоже подобрал, имея в виду, что все равно он у него пропадет, а это надо отдать в музей Никулаю, он любит такие вещи. Все остальное у меня все вещи исчезли. Затем он стал спрашивать у меня же, вор, что это такое он записал у Никулая, не скрывая, что да, сделал запись ночного пения Никулая и это есть теперь его Кухова интелл. собств-сть. Да это же еще надо понимать что это, новая вещь или энти-уол или полная плешь набор слов, ругань и плач, тут этнограф нужен со знанием языка энтти.
(Следующий бланк)
Фиг такой чел существует вообще, может, Шопен кроме меня, да и то давно потерял там квалиф-цию. Я Куху об этом сказал, что это просто ругался Никулай на него, на Куха, и сулился его превратить в песца, переселить его душу. Посм-лся над Кухом я от души. Сказал, что Никулай это умеет. Он струхнул. А то бы он, приблизно зная содержание ночной записи, запросил бы по емеле с Даньки большие баксы за эти сраные три минуты. Больше трех минут они не поют ночью мне гов-рили. Он мне сказал что полчаса. Но Никулай я сразу прослушал стонал полчаса и ругался, просил развязать, что не сможет играть вечером на концерте, пел что умирает завтра умрет. Может думал, что он на северном небе вообще. Гов-л с Емолоем (Хайыром). Храпел храпел да и вдруг стал тонко петь, эффект потряс-щий. Они поют на вдохе не как мы на выдохе странная вещь когда ее впервые слышишь что-то происходит с головой это лечебное пение они так лечат людей это крик на вдохе. Подобное этому только магический смех, им лечат даже икот-ницу (перм.), т.е. лечат насильственное изрыгание брани и богохульства, когда ты меня ругаешь я предлагал помнишь смейся.
(следующий бланк)
Кух этого вообще не знал и мне начал врать что напоил Никулая и сам отпал на время а около связанного Никулая оставил включенную камеру но я сомневаюсь думаю что он потерял сознание от пения Никулая и потом вообще не мог понять где потолок где пол где дверь. Иногда я тоже слушал Никулая с измененным сознанием т е кажется тебе что ты вверх ногами. Первый раз человек это слышал причем глубоко больной человек психически он попал буквально в самый эпицентр событий и боюсь его уже нет в живых но он болен был уже давно я понял это здесь я же с пятого года не был с ним в экспе это не мне глупая идея пришла в голову больную взять его с собой, Шопен на него прислал полгранта, а он, я мыслю, жаловался Ш. на нищету что его уволили он мне как раз этого не простил. Он требовал у Шопена грант, а я тихо молчал в тряпку по емеле, только намекал мол, где же воз-ность опубликовать эпос туды-сюды. Ни слова о нашем мат. положении. Шопен ведь уволок мои работы как свои публиковал. И в рез-те прислал нам на двоих, ну ты в курсе. П-шу как бы все факты подряд. И притом я подумал, что Ю. лучше со мной, чем останется в Москве и будет лезть к тебе как прошлым летом.
(Следующий бланк)
Нас было 4 товарища. Ты моих друзей не любила ник-да. Была права. У Куха болезнь она называется сатириаз. Стремление трахать все. Вплоть до детей без различия пола. Той ночью когда он пропал, я спец-но повел его спать в балаган старухи Гавриловой, чтобы он больше не лез к Никулаю, так он и к ней стал лезть обниматься, я ему долго объяснял, даже въехал по морде а потом он взбеленился, вышел и все, пропал. Как он оказался в остроге? Какое-то мгновенное переселение в пространстве, до острога тут 50 км по реке и еще два часа ходьбы. Как мне холодно тут. Хоть горячего бы чаю выпить но нет денег. О сатириазе посмотришь в энциклопедии. Кух оказ-ся на свободе среди доверчивых энтти как обезумел лезет в любое жилье сразу под женский полог, разобрал, что это ближе ко входу. Три ночевки трое-пять детей обеспечено к марту. Белых детей. Видеокассету отдал дежурной на сохр., теперь эт мой единств багаж. Может быть это мое последнее письмо у меня нет живой души на свете ближе вас муми.
Ругаются отобрала бланки. Долго стоял молча у окошка, дала еще лист оберт. бумаги для посылок, ура! Не удивляйся. Я не говорил тебе когда уезжал что на карту поставлено все будущее мое твое и Муми-тролля, и надеялся — это все Шопена теория Большого Скачка как в социалистическом Китае. Одним махом все исправить все ошибки все промахи предыдущ. жизни, найти способ и завоевать мир как капрал Наполеон как ефрейтор Шикльгрубер как ничтожество рябой Йоська как президенты штатов как редчайший в России невинный случай нашего Путина. «Вы говорите гений а поговорить не с кем». И махнул наш Даня Шопен вон отсюда теперь сидит посреди американов в тех местах к-рые наз-ся «подмышка США», жара, все время льет и дикие заросли, такой медвежий угол, одна мейн-стрит вдоль и четыре улицы поперек плюс универс-тский кампус, это весь город, ну я тебе расск-вал. Он профессор и что, но только на семь лет, потом могут и не избрать, если на кафедре проголосуют против. Как рез-тат, самая его большая эмоция (положительная, увы) это когда у нас в Росс взрывы или масс, гибель, он дум-ет что был прав уехавши. Такой эгофутуризм. Предвидение плохого в эго целях как победа собств. предусмотрительного разума над нашим. Теперь мы знаем, что нигде детей не защитить, нигде в мире. Но я думал, опершись на Шапиру и его грант, как раз совершть Скачок. Темой предварит-но заинтересовались еще три университета в Канаде Израиле и Венгрии (энтти не их родня), я пишу все подробно не только для тебя Муми мама, пойми. Ты вс знаешь. Но деньги дал один Данила, спасибо ему, хотя сейчас Кух уже жарится на огне а я могу не вернуться. Помни у меня в компе на работе в файле (код drWcol-in9ф никому) в файле «И-Крипевач» заложена моя компьют. игра почти законченная, на к-рую я надеялся как на продать. В садах других возможностей. Это ещ один вариант если меня нет. Там же тел чела кот. может эту игру купит, Евгений Манукович или что-то в эт. роде. Мамиконович, а. Пароль орел. Игра интерактивная нов. Воз-ности двадцати уровней в том числе и в реал, времени.
Понадобилась им ручка она одна. Таких игр еще нигде нет. Правда Никулай когд я ему расск-л принцип игры, усмехнулся свысока и ск-л хитро что мамоты такое могут. Его обыч. реакция невозмутим. Спьяну соврал? Все конфессии основаны на этом убеждении, на вере в чудеса своих святых. Боюсь мне не хватит этой бумаги. Данька Шапиро в ун-те в Йеллоу-лде, ты знаешь, адрес у меня в книжке в ящ. под ст-м и в файле запкнижка в компе. Пишу загадками если письмо попадет в чужие руки. Ты знаешь а другие нет.
(Теперь обязательно, мама: след. этап изучения нынешнее состояние России как рабовладельческого гос-ва. Наша задача этнографов. При Йоське Джугашвили был феодализм, теперь развитие рабовладельческого строя, плавно перех-щий в первобытный (пещера, костер). Бомжи уже живут так и масс, переселенцы. Мы еще вспомним этого бухгалтера Карла Маркса нехорош, словами, как гов-л их Бисмарк, т.к. Карл трындел все наоборот, от пещеры к комм-зму).
(на обороте)
Энтти боятся говорить о людоедстве, в милицию не жалуются. Дети сказали мне в прошлом году в конце сезон, они тогда уже приехали в интернат и мы их записали в Энтске. Четыре случая. Отец повез жену, Лидию Гаврилову, в больницу, исчезли все. Были найдены кости даже не закопанные, обжаренные. Рядом один сапог вышитый Лидии, они опознали. Но дети с бабушкой кости похоронили и мне не показывали. Их дела. У меня есть этот прошлогодний рассказ детей на ау-кассете (под стол, в коробке). Мумичек, в этот приезд исчез и старший сын, еще осталась бабка и две девочки Марой и Степа одни это мои информанты уже два года у них две девочки имен не помню то ли Есь и Ань? (Есь — весь мир, ань — душа). Т.е. Елизавета и Анна. Кух их всех хотел изнас-вать, когда мы пошли к ним я их заново записывал, они уже больше сказали. Бабка кстати не против Куха. Думаю, они теперь боятся рожать своих и думают что дети, рожденные от русских, спасутся. Энтти считают что чучуны едят только мясо энтти. Об этом я хотел гов-ть с Никулаем, но он исчез, музей остался без него такой музей! Я тебе расск-л про белого жирафа. Я привел Паньке много свидетельств людоедства у нынешних чучун. В прош. веке чучунами занимались Горовиц, Петр Л.Траверт, Ксенофонтов, Христофор Кривцов (энтти). Горовиц выдвинул гипотезу очень убедит-ную. Пишет, что булуро, булуг-ды, бюэлены — это мифич. существа с одним когтем на ладони, так наз. тернаки, их не существовало. А чучуны существовали всегда, это были ИЗГОИ. Когда энтти пропадает допустим на льдине, он должен вернуться через 16 суток, там такой квадрат: четверо суток на юг, 4 на запад, 4 на север и 4 на восток обратно, и он должен попасть ровно на свой берег. Если нет, то даже когда он через двадцать дней приползет, его не примет родная жена. Они, энтти, если кто-то тонет, никогда не спасут, уже человек пошел путем льда. Духи если его и вернут, то он уже тоже дух — не человек. И такие изгои, чучуны, и становились быстро дикими, изгои ведь всегда дикари, наши бомжи пример, и они уже не имели права говорить, входить в балаган (хотя энтти известны своим гостепр-ством, сначала гостя накормят, а потом спрашивают, откуда он, любого примут). И эти чучуны использовали вместо языка свист, одевались только в целиковые оленьи шкуры, а пищу должны были либо есть сырое мясо, ловить оленей, либо воровать из лабазов, а тогда любой энтти мог охотиться на чучуну и убить его. Родины для чучуны, семьи, родни уже не было они с этим мирились. Из оружия у них: примитивн ножи у пояса, без к-рого не ходит ни один энтти, затем луки со стрелами и пузыри переплыть на др. льдину или берег. Это факты из книги Горовица, он 25 л. жизни посвятил этой проблеме. Т.е. последние упоминания чучун почти пятьдесят лет назад.
(второй лист оберточной бумаги)
Долго стоял молча у окошка спасибо дали еще.
При сов. власт. погиба-щих начали спасать, больницы, полярн авиац, поиски людей на льдине. И энтти принимали таких спасенных, поскольку вообще их религия была запрещена, мамоты высланы (с Юзени в лагерь Бутыгичаг, заметь, разницы в климате никакой, но они там погибали все до единого, не сопротивлялись). Чучуны, по легендам энтти — существа, одетые в целиковую шкуру оленя мехом наружу, темны как камень, имеют длинные волосы, развевающ. при беге, сильно развитый волосяной покров лица и отсуств. речь. Нек-рые источники гов-т об одноногих чучунах (у меня мой сон помнишь? Одноногие колонны прыжками вниз по Ленинскому пр.). Особенно важн что среди чучун никогда не обнаруживаются детеныши. Что подтверждает гипотезу Горовица. Нет такого племени где бы не заводились детеныши! Т.е. это не племя. Как там Муми тролль мой детеныш, я жутко скучаю, вы у меня одни, я без вас один, вы моя родина. Есть куда возвр-ться. Одного чучуну лет пятьдесят назад охотники когда его настигли, бабка Гаврилова дала неохотно информ. после стакана, он ел сырое мясо, которое своровал из их лабаза, он повалился на четвереньки, мычал, показывал на рот, плакал. Его забили копьями (охот-ки признались в милиции). Так и со мной будет, шучу. Я Паньке директору перед отъездом обрисовал ситуэйшн, после чего он всем начал читать поучения мне ск-ли в отделе, что мы долж. охранять северные народы (без вас типа не знали). Сделал новейш. открытие, что как косоглазые не выживают от спиртного, так у нас у европеоидов (произнес «европедов» оговорочка по Фрейду) дети белой расы не выживают от наркотиков, а для азиатов наркота это многие века типа ерунда. У азиатов (он нашим втирал) нет расщепляющих спирт ферментов, открыл. Это тебе для Шопена пусть посмеете. Выступил с сообщением, что желтая раса гробит наших белых детей, выращивает и продает им наркоту. Бездетную Россию заселят муслимы, азиаты начин. с туркменбашей и до Китая и кавказцы. Спец. уничтожение. Вот вам тема (это он Никулину, профессору). У него ясно, больной вопрос его дочь двадцать лет студ-ка МГУ, они все там колются. Он подозрев-ет правильно. Потом долго чесал язык что вы думаете если ваш дружок Шапира прислал ваш. сотруднику грант то вы в особ. положении, то нет. Все, неожиданно все побежали прилетела вертушка целую жди если выле то отправлю
нет не взяли. Теп. сижу надолго. Муми если ты получила это письм а я еще не приехал не отдавай его Шопену, Шапиро Данил Shapiro Daniel Yellowfield University Urumqe, напиши ему адрес на память не знаю в моей синей кн-ке, что есть документ, к-рый тянет на 50 тыс дол пусть найдет грант. Не меньше, вам должно хватить на что-то что ты будешь делать бедная моя. Мужайся. Ну теперь для Шопена. Продолжение. Сама пон-шь если ты читаешь это то меня уже нет. Но вопрос я видел чучуна да. Он спустил с себя шкуру оленя когда хотел надеть кожу женщины энтти Варвары и он был белый. Лицо черное а сам белый. Не волосатый! Я думаю что тут уже давно есть в четвертом поколении белые связи, т.к. есть желание спасти детей т.к. чучуны поедают только энтти, и энтти стар-сь своих дочерей отдать белым хоть на одну ночь. Я уже выше гов-рил давно, оч. красив, дети, умн и идут после интернат дальше есть в аспирантуре и защищ. канд.
(На обороте)
Метисы они такое будущее человечества, расы должны смешиваться все быстрей, оч. высок, рожд-сть бедняков, в Америке посмотри точнее в моей статье в компе цифры к 2051-му году белых будет 51% (сейч 74), черных будет 14%, ост. латиносы 20% и азиат. 26% (их сейч 4). Но и в европе мода на все африканское, смеш. браки, Поль Роже рассказ-л так как местн. парни женятся на парнях или задумываются, а черн мужик всегда гот-в при отсут. еды и жилья занять пустующую нишу, поселиться и родить. Париж как столица Арабской республики (их местная шутка последователей Ле Пена, данные Роже). У Опенка во франц. Швейц-ии среди русских женщин эми формула: «она вышла за нуара» и сравн-вают у кого дети белее. Мало бум-ги. Правда то что индейцы оппи не хотят чтобы знали что тыс лет назад они ели друг друга, и наложили вето это их дело, но данные об энтти открыты, они заинтересованы в продаже материалов, они гибнут, ты пон-шь? У них отобрано все и никто не производит таких простых вещей для них как чумовые печки, они оч. нужны. Погублена земля, их охот, угодья и пастбища, рыба, все. Ну ты знаешь. Эти данные есть в м. статье и цифры пишу мелко. Надо орать бастовать и т.д. Теперь эти чучуны, о к-рых я тебе скажу вот что. Паника среди энтти огромная. Они не сопротивляются чучунам, ибо это древние дела, тьма времен нет бум-ги. Они верят в чучун. Но три года как тут в старой зоне сделали лагерь пожизненных, смертников. Там сидят и там голодают. Умирают и гов-т что казнь запрещ. а что же нас голодом казнят (Никулай гов-л, к нему обращ-ся нач. зоны насчет оленя). Просят у энтти, да их охрана не спр-шивает стреляла для себя домашних олешков пока было чем. Шопен, я занялся этими чучу-нами и вижу что близко к цели. Но мой последний час я боюсь не посадят в верт-т а ночь тут равна смерти. Меня могут убить. Они поймут что я не нужен для выкупа они сами могут. Одна надежда на письмо но нет денег на конверт с маркой. Расскзываю: Мы поехали с Кухом к моим информантам семья год как там исчезли мать с отцом, потом ст. сын, остались две девочки и старуха, Кух съел пять сушеных мухоморов с полога взял и полез к дев-ам, мы с ним поспорили, он меня избил до крови жестоко (занимался боксом в школе, я знал) и пошел отлить и не вернулся, я возился вытирал кровь пот. заснул а утром я его не мог найти, но рядом с балаганом лежал труп неизв. энтти. М. б. у них была драка, энтти был пьян, полез, Кух его убил, испугался и убежал. Я пошел в милиц., заяв. о пропаже, там вдруг сказали, что он сидит у нач. зоны в Андрюшкином остроге — а туда два часа на катере и два км. пешком, как он успел за ночь? Или это дела Никулая кот. хотел его услать? Я верю во все, иначе нет объяснений и что Куху дурному там делать. Его похитили, как я пон. потом. Мы сели с театром на утр. катер, доехали до места, там должна была прийти волокуша тракторная. Я все написал мумичке она тебе прочтет позвони ей. Муми перепишешь ему письмо. Мы сошли на берег в 11 час. Стали ждать волокушу ехать туда где Кух с Никулаем, я дум. они вместе пропали. Пока что снимал быт театра из кустов. Долж. тебе ск-ть, что, к сож. наш стар друг стал другим. Упоминание его вызывает в театре гром. смех.
(мелко)
Волокуша пришла это если ты забыл трактор с санями котор. катят по пыли. Я пока снимал из кустов, они погруз сели, кресло поставили реквизит тут из леса выскочили трое черных заросших волосатых с мохнат. туловищами босые я стоял и держал камеру сним-л театр где еще такое зрелище в мировом масштабе они на меня спец-но не обращ. вним. я спрятался продолжаю встали двое на волкушу один к тракт-сту в каб. Люди молчали только ребенок костюмерши плакал 5-месячн.
Нашел еще кусок оберт. бумаги в корзине прости пятна и рвань Варвара сидя в кресле улыбалась в камеру мне артистка. Они поволоклись. Пошел по следам волокуши она свернула в тайгу там бывш. заброшн. острог пре-вращ. в зону окружен. забором из стволов листвен-цы выс 3 м. Я шел 2 часа. Забор заточен, бревна, сверху проволока. Влез на дер. посмотреть через забор с камерой а тут они выходят трое вели Варвару артистку седые волосы распущены голая как в Освенциме перед газовой печью смотрит вверх может меня увидела может нет. Улыбалась так не забуду никогда. Уже шла по дороге к нижнему царю. Я снимал но изнасилование не стал снимать, это бы продали по всему миру прости Шопен и дети бы это видели я против, у тебя двое у меня один мальчик. Содрали кожу с живой отрубили голову пытались пить кровь из горла лилась им в руки как специально перемазались и тут один снял с себя оленью шкуру и хотел надеть варварину кожу, хотел натянуть на ноги ее ноги, она маленькая, номер не прошел. А тело у него почти белого чел-ка! Не волосатое. Правда ноги кочевника. Ни фига себе чучуна. Потом я сним. как они ушли волоча ее тушу без кожи. Голова ост. валяться. Это наз живодеры и со скота так снимают заживо с оленей. Муми что твоя кож сумка кот. ты так любишь что содрана шкура живьем не могу. Потом один с ножом вернулся полез за мной на пихту. Я кассету вынул из камеры и спрятал в развилку пихты. Этот не видел. Думал что будут с меня тоже снимать кожу. Мороз по коже. Невольная дрожь перед казнью, непередаваем, ощущ в низу живота. Меня привели в зону. Отобрали все по дороге, вытряс, из карманов. Мне сказал нач зоны «я начлагерь майор Проегоркин», как если б мы с ним были незнакомы, а мы с ним знак-мы в прошл. году в Энтске пили вместе. Он ск-л что все зэка и персонал голодают умирали конч. боеприпасы не присылают по-дукты и он не может допустить тут однако (так сказ) пожизнена заключен а не смерт казн (так сказ) и просит о помощи телефон отключ. за неуплату. Осталась одна говорушка но и та. Ты предст. каково влияние местн. языка он гов-т как энтти! И что Куха они взяли у чучун теперь себе в заложники и ск-зал, чтобы на энтти обратил внимание вес мир (так сказ-л), прислали подмогу и ликвидир-ли зону смерт-ков кот. подыхают медл. смертью от гол. Тиви ск-л должно помочь. ТВ в смысле. И у них эти чучу-ны, кот. выпускают за мясом (моя догадка ловить энтти и забивать их на мясо), он сказ-л за все за Куха и театр просят 5 тыс долларов меня отпускают (якобы) в Москву найти эти деньги неделя срок или пригонишь из Энтска джип чероки с полным баком, продает зять директора хлебозавода бандит Сашка вернешься отдадим камеру все и скажешь миру правду в гл-за, не хуже Чечни, что делают с малыми народстями. Я сомнев что они нашли кассету за нее они м. получить и больше я чтобы проверить спросил этого друга не хочет он в подарок книгу Горовица о чучунах он сказал книга в зоне как раз есть и ее прочли. А??? Я в прошлом году ост-лял Никулаю-музейщику две книги: Горовица «Неведомые чучуны» и Васильевой популярн. брошюру «Метемсихоз или реинкарнация, мифы и легенды». Никулай исчез, неужели его тоже съели. Я ск-л про театр, про казнь Варвары, он ни слова. Не удивился, как энтти. Энти не удивляются, это у них позор. Сказал, ну и пускай об этом узнает весь мир. Он не против —
(на обороте)
Предъявили мне Куха он гов-л как энтти — что его ест песец. Он реал. псих. Начлаг меня отпустил, я долг плясал на берегу, и меня взял тот же катер в сторону Энтска, он шел обратно из Килиша, но дальше на верт-т не взяли а тем более без билета и нет денег. Деньги они забр. пот. что мой рюкзак артисты бросили на волокушу вместе с вещами и рюкзака я уже не увидел а там все было. А уж в Энтске вообще, я долж. объяснять всем и каж. что меня ограбили в лагере пожизненного заключ и что у них нечего есть а по территории острога разнос-лся аром, жарен, мяса он ск. что олешка завалили. Хрен! Я не ел сутки и не смогу меня тошнит при одной мысли что
они жарили Варвару (опять отобрали ручку). У меня бесцен. материал пишу мелко возьми лупу под столом в короб, не вижу сам что пишу ты разберешь бум нет. Ты понимаешь что есть вещи выше сил чел-ка даже меня спец-ста. Все трудности кот были дома все наши несчастья ничто я видел такое. Шопен будет прыгать от восторга но они там всегда слишком приветствуют наш несчастья и зарабатывают на этом как пресса так и наука фильмы, книги, дисс-ции. Шопен ты прав но для меня это каж раз нож сердце. Ты испыт чувство превосх-ства что твои Янка и Сенька спасены и в этом твое ощущ. правоты. Ты эго-футуролог пессимист, т.е. я всегда говорил что ты там в Ам-ке предвидишь наше плох будущее и радуешься, что тебя и тв. семьи нет с нами. Но есть 11 сентября, увы. Есть и вам угроза в каждой точке мира. Прости, это я от обиды за энтти. Мумичка не переписывай это ему. А это да: но тут не только энтти уходят, но и их цивилизация, литература самая древн в мире, их иск-ство. Тут в Энтске наладили обучен, мамотов, 2-хнедельн курсы видел тут у аэропорта объяву. Никулай-уол стал преподавать, но он не мамот он не был никогда мамотом, хотя все знал с дет. от отца, отца арестовали и все, а он теперь взялся и учит чему не знамо тут главный скрытый мамот но его никт не видел зовут Никифор вроде и в прошл годы когда мы о нем узн-ли, я просил показать где петроглифы, а нам сказ-л Никулай, что Никифор не разреш-л, мы просили о встрече, но Никифор не стал с нами общатьс и отряд попал во вьюгу в нач августа а когд к нам ехали спасатели, вертолет с ребятами упал пара сломанных ног. Еле вышли из тайги. Поним что Никифор не допустил. Я его искал и спраш повсюду его все знают но он не показ-ся белым, вся связь была чер. Никулая. Кстати, я сказал Никулаю о «В садах других возм-стей», что это игра со всем миром.
Я на вертолеты, площадке в зальчике ожидания диспетчер дал бумагу ручку спер на почте пускай! У них еще есть! Ждут вертушку. Спец-но сказал для передачи Никифору о своей компьютерной игре «В садах других возможностей»! Вдруг заинтер-ется. У него есть деньги, есть все. Практически он всесилен. Никулаю бесполезн гов-ть, он не вруб-ся. Этот Никифор наци местн. Несущий победу. Он энтти наци. Мы его не увид и не сняли на пленку. У него якобы оконч. два института, в Питере и в Гарварде и знает все языки. Жил везде. Путь индейцев и резервац. презирает. А сюда едет народ французы ваши америка с ума сходят снимают на камеры мамотов покупают амулеты инсигнии дешево за рубли обвешиваются все а здесь не знают что т. доллар. О полкуска хлеба на столе оставили, но не могу есть тошни. Как забыть но нельзя забыть это мои материалы о совр. рабовладельческом строе плавно переходящ в первобытный строй но если напечатать о чучунах тут начнут сажать безобидных бичей из тайги и так закроют дело о людоедстве но странно что этот нач лагеря вел себя как типичный энтти (высокий оч белая кожа пятнами светлые волосы сам с Новосибирска как сказал). Твоя дает моя пят кусков долара. И странно так смеялся. И это майор. Мумичка тебе придется все перепечатать бедная. Еще для статьи, что гл. вопрос бытия нации это обычаи и способ воспитания реб-нка. Традиции педагогики. Скажем, нашу страну оккупировали. Обратили в свою веру. Ну хорошо, у каждого мужа столько жен сколько он прокормит, на круг по 3. Так, в поликлиниках тогда пусто все врачихи взяты в гаремы, в б-цах вообще, там д. быть одни мужч-ны и принимать только б-ных мужчин, кто же из мужей допустит чтобы его жену щупал другой. Все жены заняты в поле выколачивают одеяла и пребирают пшено, пекут ля-пешка. Из троллейб. парков из офисов, прядильных фабр. НИИ и трамв. депо все взяты в гаремы
(на обороте)
И никаких стульев и кров-тей, едят на полу на тряпке, спят на полу. Вся женск. половин, страны ждет ребенка. Далее дети род-сь и что, а русск. женщ. родивш. ребенка, она всю жизнь положит на него (не на мужа), и разве она доп-стит что нет поликлин, и б-ц, и ни зубик вырвать ни аппендицит вырез-ть, и если муж будет выст-пать она его отоварит скалкой по чайнику где полотенце намотано (по чалме) и весь гарем собравшись тоже мужа прижмет и тут оккупация кончится. Это тебе в виде смеха что для нашей эпохи матрипархата (слово Паньки) характ-но. А патриархальн мужчина в зрелом возр когда нач импотенц он мечт-ет об инцесте содомии и педофилии. О, пришел вер-толе вертушка неожидан целую посадят ли
посадили пишу уже в Энтске на эродроме не знаю как доберусь мест нет, денег тем более люблю и всегда любил не воображай себе ты сама знаешь что у меня никого нет кроме тебя и мумика. Твой навеки. Только что в зал вошел охранник в пятнистой форме, подошел ко мне и сказало: «Уйван-Крипевач, моя твоя ревнуе, так не доставайся ж ты никому, ты знаешь меня, я Варвара, с меня сняли кожу». Пьян был был этот, но откуда ее слова? бред целую твой Иван Ц.
глава 5. Труп друга
Шофер, которого послал Номер Один, вернулся из больницы с постным видом (явно нечто повидал по дороге и загрустил, сообразив какое светлое будущее его ждет). Водила сообщил, что Бродвей это морг сразу с заду мединститута.
Номер Один боялся что не успеет, но успел, труповозка с красным крестом стояла без водителя у пандуса кафедры паталогоанатомии (вывеска). Сбоку на стене висел самодельный указатель в виде стрелки с надписью «Отделение головы». Юмор в белом халате. Сказал громко сам себе:
— Оттеление коловы от ттела.
Водитель даже не кивнул, не понял юмора.
Так. Все-таки санитары ждали, видимо, сидели где-то за кулисами этого анатомического театра.
— А вот х. вам я ттенек ттам.
Не дам денег. Номер Один отпустил своего водилу с небольшой суммой, тот удивился, увидев сколько ему заплатили, но смолчал. И будешь молчать, сукка. Сачемм ттепя шапа тушит? Не души его, жабба.
Нервно подошел к труповозке. Открыл. Посмотрел. Труп («Сам») валяется в салоне. Девка в углу, лицом вниз, как собака брошена. Ящики с бананами тоже тут.
Быстро-быстро, могут люди подойти, сел за руль, оторвал проводки, соединил как будто всегда так делал, тронулся. Выехал из закоулков на проспект и вдруг понял что не знает куда ехать! Остановка седьмого троллейбуса, дальше вернуться и перпендикулярно улица со спиленными пеньками, а по нашей ходит трамвай, напротив стеклянного киоска дом на ремонте фасада, первый же подъезд налево.
(Вслух):
— Что ты ты что же это хре-хрен (длинный матерный период с удовольствием) никак не мо… никак не можешь свернуть, не могут ездить а еээ-ездиют… Напо… напокупали права и ездиют, не могут а ездиют… В киосок врежься еще, да, в ки… киосок врежься еще, а, пропустил, спа… спасибо (мат).
Никак не привыкнуть. Что с языком, сводит все лицо судорогой.
Но как же мы не посмотрели номер дома! Стал из кабины свесясь спрашивать где седьмой троллейбус, испуганная бабка показала робко перстом и окстилась, перекрестилась, а сама смотрела на его средство передвижения. Поняла с кем имеет дело, повидала на веку похоронных карет. Поехал по маршруту семерки не в ту сторону до конца, мимо сверкающих магазинов, по главной улице, видать, по проспекту. Народ шастает туда-сюда, цветы, нищие, соборы, дворцы. А мы тут с трупом в скромном грязном автобусе с красным крестом на борту. Добравшись до круга, наконец вроде бы поехал в нужную сторону, вылез у знакомого магазина с двумя входами, осмотрелся, оценил обстановку. Все вспомнил. А, это дом семь. Пощупал деньги большой ком слева. Господи, что же это происходит! Надо говорить не «киосок», а «киоск», и «ездят». А не «ездиют», сельсовет. Кто я. Нужно бояться Яща! Он думает что раз у меня его ключи от квартиры, я обязательно приду порыться еще. Все, добрался, приехал, посмотрел адресок, во дворе первый подъезд, сбегал наверх, Яща еще нет, в квартире пахнет жутко. Плюс ко всему еще и в сортире все загажено и по квартире следочки. Осторожно, чтобы не вляпаться, пробрался к телефону, позвонил, набрал ноль два, завопил старческим голосом — с вами говорят соседи квартиры грабителя — глаза жильцов, так сказать… зоркие. Его кличка Лысый — звать вроде Ящик — адрес дом семь квартира пять снимает — квартира будет открыта — там наворованные вещи — приезжайте срочно — доллары спрятаны в бачке унитаза — десять тысяч — на шкафу снятые драгоценности с убитых лиц пожилого возраста старушек. «Кто говорит» — доброжелатель. Отбой. Прискачут мигом.
Действительно, откуда только он знал это, в бачке заляпанного унитаза, в плавающей пустой бутылке с навинченной крышкой, запечатанной чем-то белым, нашлось, но меньше, считать было некогда. Взял. Целуйте меня в туза. Привернул крышку бутылки и пустил ее снова туда же. Пусть пороются в дерьме. Долго мыл руки в грязной ванной.
Поднялся к якобы своей собственной квартире номер 13, напротив которой лаял тогда Сбогар (и сейчас надрывается, визжит и прыгает). Позвонил как бы к себе. Молчание, только шебуршнулось что-то и вроде вода льется. Заглянул в глазок, это я. За дверью что-то екнуло, затем треснуло, как сучок под разведчиком, опять тишина и молчание.
Спустился на второй этаж, к железной коричневой двери, где тогда висела сбоку табличка «М-психоз», но сейчас ее не было. Ножом, как всегда, свеженацарапанное ругательство.
Вышел во двор, открыл заднюю дверцу перевозки, залез, и, стараясь не смотреть на лежащую ничком Светку, ухватил подмышки, спустил на асфальт с огромным трудом и, задыхаясь, поволок покойника наверх, в тринадцатую квартиру. А куда еще? Бабка дома (какая еще бабка?).
Тащить его, ох, тяжело. У трупа на спине была рваная рана с запекшейся кровью и на груди на кармане тоже надрез. Не повезло тебе, Друг. Куда я тебя потащу, зачем? А, чтобы это, чтобы не порезали на столе в морге. А дальше? Позвонить Анюте, что ее муж лежит и сказать адрес, а что она сможет? Другой город, больной ребенок на руках, одна. Нет денег. Она сойдет с ума. Кто такая Анюта, вот вопрос. Жена этого жмура.
Скорей. Ящик почему не идет? Милиция тоже не спешит. А. Ящ боится засады и с кем-то должен договориться. Хорошо! Валите сюда все пятеро! Или у него в милиции купленные?
Если увидит меня тут в обнимку с этим, не миновать ножа под лопатку.
Вот: дико стрельнуло по спине, как острой финкой полоснуло, причем глубоко же, о.
Ну да! Вдруг вспомнил, как поспорили с Ящем, сказал ему, что должен много Чуносому после карт (кто это, но от одного имени мороз по коже и тоска, какая тоска, страх), и сказал Ящику, чтобы он уходил, ничего не получишь, и как только отвернулся, получил вот это! Нож от него в спину на пороге своей комнаты. Внезапный сильнейший удар как коленом под левую лопатку.
Как-то всплыло сразу. Да!
Еле впятился в подъезд. Машина осталась открытой. Оглянулся. В дверцу уже лез тот пацан. Везде он лезет. А, там же его мать.
Поднялись с Другом на полэтажа. Умотавшись, посадил кадавра на пол под подоконник. Тяжелым было это худое вроде бы тело. Мы знаем, как трудно нести трупы в одиночку, мы, бывшие санитары. Иногда волокли за ноги по полу. Это же не люди уже. Свяжешь проводом…
Посмотрел на него, поднял ему голову. Почему-то было ощущение, что в нем тлеет какое-то подобие жизни. Он был почти человек.
Номер Один вспомнил, как еще мальчиком не мог поверить в смерть отца и все кидался на старух, которые пришли обмывать покойника, «Я вас просто прошу, умоляю, он жив, вы видите? Уходите!» Отца принесли из тайги. Видимых повреждений не было. Но старые бабки из поселка знали свое дело. Старые бабки, дочери ссыльных мертвых. Все тут были бывшие и дети бывших.
Потащил по лестнице дальше вверх. Мимо того странного места, м-психоз. Прошла вниз старушка в полотняной кепке и брюках, отшатнулась, прижала к груди кошелку. Красные щечки, нежно-голубые глаза. Атеросклероз, стенокардия. Разумовщина вроде ее зовут. (Разумовская?).
Зорко поглядела на них двоих, произнесла что-то, спускаясь, типа «хсспспссии помилуй». Да она на разведку. Обычно Разумовщина без своего Захара не выходит. Кого тут привезли на труповозке (смотрела сверху). Граждане! Труповозка забирает, а не развозит по домам! Зачем нам это в подъезде! Сейчас потрусит в милицию жаловаться, уже два раза ее прямо из отделения отправляли в седьмой дурдом на поправку, а если еще она с этой новостью ворвется, к нам два трупа привезли, вообще Сбогар останется один.
Откуда я это знаю?
И снизу кто-то тяжелой иноходью, хромой кто-то, топ-бух. Топ-бух. Знакомо, однако.
На следующем пролете мы уже выдохлись и доволоклись до лестничного окна еле-еле.
Курить охота.
Зачем мы сюда идем? Эта квартира номер тринадцать — легальное место жизни меня, Валеры.
Докултыкался до нас и некоторый хромец, заместо головы два ящика, лица не видать, башка на сторону, кепка, картонных коробки с бананами одна на другой. Ого. Из труповозки товар. О, да там сейчас целый муравейник небось. Пацан раздает (продает?). Ладно, потом.
— Папиросы есть, дядь Вань?
— Откуда,— просипел дядь Вань из-за коробок. Добрался до подоконника, аккуратно поставил свою ношу. Вздохнул, посмотрел косо. Сильно дрожали у него руки. Отвернулся, невнятно бормоча какие-то сложные матерные контаминации.
— По-поможешь, дядь Вань?— спросил Номер Один.
Пауза.
— А ты кто таков?— глядя в сторону, вопросил дядь Вань.
— Ну кто-кто. Ваа… валера!
— Таких тут нету,— странно возразил дядь Вань.
— Не узнал, что ли, че не уузнаешь сво… своих,— грубо сказал Номер Один, употребив обычную длинную формулировку.— Напомню!
С ними так и надо разговаривать.
— А, ты вайея!— задыхаясь, отвечал старый хрен. Хм.— А ты как помог мне? Раз ты ваея, то ты мне доужон,— продолжал свои загадочные речи дядь Вань.— У, ваея. Язбий мне (дальше следовало какое-то уже совсем непонятное слово). Язбий мне на хей акваюм. Заяза на хей.
Так. Все понятно.
— Бананы из машины,— Номер Один кивнул на ящики,— зачем попятил?
— Почему из машины?— ловко возразил дядь Вань.
— Я же привез.
Дядь Вань испуганно приободрился и вскричал, все так же глядя в окно:
— Э! А знаешь, скоко он стоий, акваюм?
С огромным душевным протестом Номер Один почему-то порылся в кармане и протянул дядь Ване большую бумажку. Дядь Вань, не поднимая головы, рассмотрел деньгу, принял озадаченный вид и стал со скрежетом что-то соображать. Возможно, он заподозрил, что сошел с ума. Затем дядь Вань спрятал глазки, кивнул в сторону сидящего у стены Друга и спросил:
— А че он какой-то?
— А какой, че ты?
— Ну че он сидит?
— Вызвал скорягу, вызвал врачей, приехали,— завел скороговорку Номер Один,— вызвал, а они говорят он помер и не взяли. Не берут его, говорят он помер.
— Да, падъи бьятские,— воодушевился дядь Вань.— У чейявека инфайкт, может быть, на хей. А они его на пейевозку взяли увез-йи. И мою дочку тоже. А потом бья пйивез-йи назад. Да живые они. Я же вижу. Они на япу, бья, хо-чут. А я смотъю, пейевозка стоит. Думаю, за Ра-зумовщиной (следовала длинная заковыристая брань), а она вон пош-уа идет живая. А ей давно поя на юбок садиться. Надоея со своим этим как его, гуйяшом. Захар… Мычит, мычит!
Имеется в виду Сбогар, конечно. Гуляшами в шутку назывались все местные собаки.
Тяжело дышал. При этом явно зубы заговаривал и в глаза не глядел.
— Как это на лубок садиться?
— Да ну! Это у нас так говойили, бабки. Поя на юбок тебе, дескать, собираться. Дома у нас в дейевне.
Номер Один тут же вспомнил популярную книжонку «Архаические обычаи славян».
— Гроб, что ли? Лубок?
— Ну гйоб не гйоб…— стал скрытничать дядь Вань. До сих пор народ все знает, свои прошлые дела. Славяне стариков в голодную весну возводили на край оврага и сажали на санки в этот лубок, корыто. Привязывали. Это бывало когда уже вскрывались овраги и есть было нечего. И пускали сверху «на лубке» под лед. Жуткая поговорка «любишь кататься, люби и саночки возить». Старики сами должны были везти свои сани, что ли.
— Встал не так и оделся не так — нараспев начал Номер Один, особенно глядя на дядь Ваню. Удалось не заикнуться ни разу,— Зааапряг не так и пое-ээхал не так… (дядь Вань не реагировал, упорно глядя в окно). Заехал в овраг, не выедет никак, да? Таак говорили бабки, когда поо-помирали?
Видимо, причитание было записано в другом регионе. Объект не реагировал.
При том дядь Вань как-то сильно забеспокоился и стал тянуться щепотью ко лбу, но сделал вид что там чешется.
— Ваея! Я тебе так отвечу,— после паузы дрожащим голосом, на что-то решившись, вдруг заявил он.— Да! (Пауза, трусливо).— У вас там в кухне вода текет. С кьяна в кухне. Да? Текет. Тимофевна ваша меня зовет. Пьишой. Пьишой, а она мне сует монету. Я не хочу пахать за эти меукие бйин деньги. Ушой. Как пьишой, так ушой. А вода текет из къяна. А съесаей она не пущает, все знают, она вообще не отмыкает им. Так что у вас вода текет.— И осторожно добавил: — Уже внизу всех зайива-ет… Те вызывают, а она не отмыкает. Никому не отмыкает. Говойит, Ваею моего уби-и.
И он безумным глазом наконец посмотрел на «Ваею» и совершил наконец некий намек на крестное знамение — от носа к первой пуговице пиджака и затем слегка вправо.
Ага, катастрофа.
Надо тоже перекреститься. Вот так. Склонить голову.
— Это была ооошибка. Просто я без со… сознания был. Кровь на мне была чу-чужая, не моя. Ты, дядь Вань, быстро за инструментом сходи. Я тебе еще о… отстегну.
— А у меня вот Светку уж заеза-и так это да,— вдруг сказал дядь Вань, надеясь, видимо, на добавку по случаю горя.— Там внизу стоит тыюповозка, она там в ней на дне ижит. Димка с ней. Вот иду звонить.
А пока что тащут коробки с бананами. И Димка не то что бы «с ней», а, видимо, торгует уже с машины. А то я вас не знаю.
— …звонить в ми-ицию. Еще новости.
— Да я знаю. Зарезали ее. Царствие небесное,— сказал новоявленный «Ваея» и широко перекрестился.
— Акваюм ты мне язбий на хей,— продолжал перечисление своих убытков дядь Вань, опять-таки не глядя в глаза.
— Да дам тебе еще на ааквариум… на рыбок… Еще сто-столько.
— А я остайся один с пацаном,— дядь Вань намекал, что никакая сумма не будет достаточной для компенсации его потерь.
— Все будет, дядь Вань. Поонимаю.
— Вообще нам воду пеекъёют в подъезде на хей,— посулил дядь Вань, чтобы еще выше поднять планку.
— Да не перекроют, поглядим, че перекрывать, не пере… не перекроют,— ответил жадный Номер Один и тут же спохватился.— Может, и бо-олыие дам.
— Тебе она не откъёет. Жьябиха. Мейкие мне сует. Копейки. Жадная сука бьять.
— А тебе если откроет, дам больше. И вообще, дядь Вань, я случайно тогда тебе банку разбил, бежал торопился,— вдруг сказал Номер Один. Неизвестные ему факты выскакивали из перекошенного рта свободно и сами собой.
— Ейе меня не убий,— согласился дядь Вань.— А банка быя таких не достать, ябоя-тойная тыёх-итыёвая!
— Лабораторная тре… трехлитровая? Да купишь себе настоящий аквариум. Еле не убил, это не считается.
— Акваюм,— согласился дядь Вань и застыл. Пришлось дать ему еще. Дядь Вань ничего не понимал, откуда на него сыплются эти деньги. Он совсем испугался. По лицу было видно, как растеклись его мысли. Он достал деньги и начал их рассматривать, потом спрятал их и вот тут щедро, широко перекрестился. И поглядел на «Ваею». Валера не сгинул. Дядь Вань кивнул себе и сказал:
— Ты не думай, я пьякай тогда не из-за банки… Не из-за йибок… У меня Гйиша помей, дъюг.
— Дядя Гри… Гриша?
— Я пьякай бьять в ёт на хей,— расчувствовался дядь Вань.— В ящиках его наш-и. У винного. Два дня (тут он запнулся).
— Два дня лежал валялся?— сочувственно поддержал его «Ваея».
— Ну!— чуть не плача, кивнул дядь Вань. Этот трехлетний по языку дядь Вань вспомнил о смерти. Его надо было затормозить на этом скользком пути, а то он, имея деньги, сейчас похромает в свои «Четыре ступеньки» (в винный) и затем сгинет на неделю.
— Пошли, по… поможешь,— решительно сказал Номер Один.
Дядь Вань стоял сомневался. Собственно, ему больше денег и не нужно было. Хватит и этих.
Номер Один это понял и сказал еле внятно:
— Деньги ве-верни?
— Эх, понес-ась, Ваей,— крякнул дядь Вань, как бы не расслышав, и взял на себя ноги. При этом оглянулся на свои ящики, аккуратно положил покойниковы ноги на пол и сначала отнес ящики на полэтажа вверх, а затем уже вернулся выполнять свой печальный долг. Сопрут, конечно, он прав.
Номер Один, известный себе как Валерий, понес все тело, а слесарь деликатно приподнимал как бы шлейф, одни ботиночки трупа, хромая по ступенькам. И на том спасибо.
Сделали привал под дверью за номером тринадцать, посадили Друга у стены. Дядь Вань прокашлялся, посмотрел на «Ваею», который денег больше не высовывал, затем решился и позвонил. В квартире стояло молчание.
Дядь Вань стал, приплясывая, стучать и заглядывать в глазок:
— Тимофевна, отчиняй!
Тот же эффект.
Затем что-то за дверью стукнуло.
— А? Тимофевна! Ну вот он я,— не дождавшись другого сигнала, солидно пробасил дядь Вань.— Че? Говойи шибче, не с-ышу!
Помолчав, он сообщил, адресуясь в дверной пробой:
— Тут ми-иция, давай отчиняй! (Шутливо). Я понятой тут! (Пауза). Да не ипи дую!
Обернувшись, дядь Вань сообщил:
— Она завсегда епит дую.
— Че это она лепит дуру?
Тут дядя Ваня как бы споткнулся. В его корявом мозгу, видимо, промелькнули какие-то соображения о нереальности происходящего. Но тут мысль насчет денег и близкой выпивки все заслонила, и он снова возопил:
— Тимофевна! Тебя в ми-иции штъяфанут на хей! С автоматом пьидут! Я понятой! Отк-ывай!
В ответ на такие слова (милиция, понятой, автомат) загремели замки и щеколды, затем был снят тяжелый деревянный засов (Номер Один знал, что там есть такой брус), и дверь приоткрылась. Номер Один уже был наготове с телом. Дядь Вань даже с некоторой угодливостью принял на себя ноги Друга и проник в квартиру первым. Друг ехал вперед ногами, как полагается. Бедному убитому была оказана маленькая почесть…
В квартире стоял полный мрак. Дядь Вань брякнул ботинки на пол.
— Куда, куда,— закудахтала невидимая бабка.
Знакомый запах густо полез в ноздри. Отчаянная вонь вечной нищеты, беспорядка, пьяного разгула. Номер Один почувствовал себя прекрасно, это был его дом, его кров, его место, он приободрился, все шло путем. Лилась вода в кухне, бабка скрежетала как всегда.
— Это ваейин дъюг,— назидательно отвечал ей дядь Вань.— У него инфайкт. Есть кто дома?
Ответом был опять невнятный скрежет. Пока несли Друга в комнату, дядь Вань поддерживал разговор:
— Как это никого нету! Ты есть, Тимофевна, и все. А кого несем. Да у него я говою, инфайкт. (Скрежет). Да нет, я тебе кьян без денег починю. На хей бьять. Пйиду вот.
В голосе его слышалась некоторая запинка, которая у нечестных людей возникает при абсолютно явной и несусветной собственной лжи. По всему было видно, что это «пйиду» осуществится где-то не раньше чем через недельку, если вообще. Шутка ли, такие деньги на руках!
Вдруг из коридора прорезался старческий жестяной голос (вылитый крик Бабы-Яги из мультфильмов):
— Да на фик его инфаркт! Валеру убили, теперь это. В евоной комнате до сих пор стоит крови калужа застыла! Милиция была! А я сги-наться не могу! Санитары его унесли, простыню забрали! Все! Какие еще валерины дружки! Все, его нету! Да я не знаю кто его зарезал! (отвечала она якобы кому-то на лестнице). Я и не знаю кто с ним был! На фик! И не сказала никому! Вода течет! Мне за ним замывать надо, а я сгинаться не могу! Ооой,— заплакала она фальшивым баритоном,— кому я нужна, никто теперь и на хлеб не даст, Валера, Валера, внучек мой! Похороны надо, а как я Валентине скажу? Как Алисе скажу? Как Анджелке скажу? Мать и две его жены остались, кажная с ребятами,— кричала она дядь Ване,— одному год, другому девять месяцев братья. А мать его Валентина умрет ведь! Если ей сказать! У нас и так Витька в армии погиб! А кто хоронить их будет? У Анджелки с Алисой ничего, у меня ничего! Дружки не дадут! Меня уж никто не погребет! Ящик, Ящик его убил, запомните, всем говорю. Проклятый. Пусть он хоронит! Он бес!
Положили друга на кровать, где прямо на грязном матрасе валялось ватное одеяло красного цвета в сером пододеяльнике. На полу виднелось подернутое пленкой большое пятно крови.
Тусклые грязные окна. Бабушка стоит в коридоре, слепо таращась на происходящее в комнате. Тоже хороша подружка, обворовывала его сколько раз пьяного, а куда прячет, искали-искали с Алиской, не нашли. Стоп. Кто такая Алиска?
Обшарил (профессионально) все карманы Друга. Нашел расческу. Вытащил большой лилового цвета камень. Повертел в гибких, умелых пальцах. Камушек небесно засиял. «Как слеза заката предзимнего позднего лета порой»… С кем это было, когда?
Положил его во внутренний карман.
Дядь Вань заглядывал сбоку с большим уважением.
— Я пьиду чеез час или уаньше,— бодро, но лживо сказал дядь Вань, адресуясь к бабке.— Пообедаю вот. Къюч язводной возьму. Кьян починим. Токо бананы вон купий отнесу.
И он посмотрел на Номера Один призывным взором, как бы заклиная демона раскрыть мошну.
— Вот при… придешь с ключом разводным, тогда на х и полу-получишь, когда придешь с ключом ра… разводным,— отвечал тот.
Бабка вдруг очнулась и железным голосом заорала:
— Тебя ж убили! Ты, Валера?
И она опустилась на колени, закрыв лицо, а затем начала креститься.
— Так, ду-дура. Баба-ба, я жи-живой. И он жи… живой, б. Я ухожу, я ухожу и смотри у меня, баба-ба, ты моего друга на х, б, не трогай. Просто не ка… касайся, б, на х. Пусть лежит себе на х и лежит. Ни… никому не отдавай. (Запел для легкости) Встаал не так и оделся не так! (Эти задрожали). Дядь Вань, а если его тут не будет когда я ве… вернусь, то запомни в р, я тебе вторую ногу сло-сломаю! Гля, не стукни в ме-ментуру, смотри, б на х.
— Слушаюсь, б, на х,— отвечал дядь Вань голосом слуги из какого-то телефильма. Или это его дворовые кровя заговорили.— Извиняюсь, на хей.
— Господи!— вдруг сказала бабка.— Господи, спаси и сохрани от нечистой силы. Этот Ящик, он тут был, на х. Он ножом орудовал. Не говорит по-русски, а как черт по коробке лепит.
И она от души выматерилась.
— Точно,— отвечал ей дядь Вань.— Ты это,— вдруг сказал он,— ты, ваея, не думай. Он мейтвый у тебя б. Я б вижу б. На спине-то что… Поеза-и твово дъюга.
И дядь Вань, резво припадая в сторону укороченной ноги, скоренько смылся.
Друг лежал как живой, совершенно не холодный, только не дышал. Глаза его, правда, ввалились еще больше, вокруг век было черно, нос заострился. Но и с больными это бывает.
Старуха посмотрела на него мельком и сказала:
— Не жилец.
— Смотри у меня, бабушка,— на ясном матерном языке, почти не заикаясь, произнес Номер Один.— Я скоро приеду, не трогай этого друга, поняла? (Длинный заковыристый период). Просто не дотрагивайся. Вот тебе денег. Я живой. Это ошибка была. И он такой же живой! Врачи зашили рану и все.
Он сунул ей сто долларов. Бабка присела на колени и каким-то ватным голосом сказала:
— Слава тебе господи! Ошибка была (она перекрестилась, не глядя на Валеру). Залепили. Зашили. Ошибочка вышла. Господи, спаси и сохрани от нечистой силы (и она опять самым грязным образом выматерилась).
Разумеется, она в данный момент своими глазами наблюдала живых чертей.
Затем бабка пошла шаркающей походочкой бедной старушки прятать сотню (к другим вдогонку), а Номер Один отвалил, прихватив с собой ключи с гвоздя и, вдобавок, деревянный брус, чтобы оставить во дворе на помойке, из расчета, что его немедленно унесут. Всё же щеколды вылетят из двери, если поднажать плечом, но брус не переломить, как ничто не переломить в этом народе.
Стал спускаться.
Сбогар (Захар) выл, запертый, по покойнику.
Тут же он услышал, как бабка быстрейшим образом хлопнула за ним дверью, щелкнула двумя замками, потом вдруг заорала и стала громко ругаться, видимо, не найдя засова.
Вышел во двор, расправив свои тренированные, с десятью гибкими пальцами, руки. Носить тяжести вредно.
Скоряга стояла где была, и из нее, как тот песец из тела эннти, выскочил с озабоченной мордой уже известный чернявый пацан. Бананов, само собой, уже не было. Светка лежала лицом вверх, прикрытая газетами бесплатных объявлений. Жужжала муха.
Мелкий независимо скрылся за машиной и оторопел, когда Номер Один поймал его и сказал:
— Зачем в машину лазил? Где, где-где бананы мои куда куда уне-унес? Замочу сейчас, а?
— Там мама моя, дядь Валер,— сказала морда и зажмурилась, ожидая худшего.
— Да я ттебя,— сказал Номер Один.— По… положу рядом с твоей матерью.
Морда заплакала тихо, закусив губу, отворачиваясь. Парень был одет как нищий, драные кроссовки явно из мусорного бака, какие-то джинсы как из-под трактора вынутые, в черных пятнах. Куртка с десятого плеча. Смуглые, цвета машинного масла, запястья.
Мгновенная мысль для статьи: именно пассионарные дети, применим тут гумилевское выражение, вечно воруют, ищут щели, проникают, тащут, находят что-то себе на шею, бросают в костер, что-то взрывают, сами взрываются. Они умеют все. Научаются мигом. Алешка, собственный сын Номера Один, который едва мог сидеть в подушках, будучи посажен за компьютер, сходу научился тыкать единственным пальцем, который у него работал, в какие-то ему нужные кнопки. Играл деловито так.
— Водить можешь?— неожиданно спросил Номер Один.
Морда, мгновенно просохнув, кивнула:
— Отец научил. На «Жигулях». У меня есть папка, только он разведчик. Он не тут, понял? Мама сказала, отец вернется.— Он помолчал и добавил: — Дядь Валер, я так и думал, что ее привезут обратно, что она не умерла.
Он посмотрел на «дядь Валеру» вверх своими быстрыми, слишком быстрыми, еще мокрыми черными глазами.
— Ну так, отгони машину на улицу и там оставь в любом месте, ясно?— с новообретенными вывертами и затычками, причем на предельной скорости сказал Номер Один, сопровождая эти слова матом, чтобы легче дошло.— Но молчи. Если поймают — ты нашел брошенную, если поймают, нашел, понял, нашел и все. Меня не видел. Я потом на тебя выйду. На, бери.
Морда взяла, не проверяя, деньги (очень немалые, мелких не было опять), спрятала их в кроссовку под босую ногу, залезла в кабину, недолго потыркалась там, затем перевозка завелась (ага, понимает) и уехала со двора.
Черные брови, на кого-то этот парень был очень похож… продолговатое лицо, щеки худые, подбородок вперед… Нос кривой. Отец разведчик. Все они тут разведчики, мифологема советского кино, внедренная в сознание масс. И президент отец разведчик.
Мотор ревел, удаляясь, но вдруг стих довольно быстро. Надо было сказать пацану отогнать подальше, ну да некогда.
Номер Один, свободный как отсидевший свой срок человек, вышел через подъезд на улицу.
У ворот стояла, ничего не делая, симпатичная девушка в темном слишком широком плаще. Он ей сказал пару слов. Она обернулась. Чудное личико, черная челка, глаза большие, но какие-то мутные. Худая, почти кахексия. Такое впечатление, что вот-вот сложится пополам.
— Я вас гдей-то видел,— повторил он.— Возьмем бутылку и пойдем к тебе?
Она встрепенулась, набрала воздуху в свою грудь, тощую как у цыпленка, и ответила ему такой забористой матерной фразой, что Номер Один только одобрительно кивнул и быстро просквозил мимо. Что-то меня глючит. У нее точно лицо как у той, что висела на чердаке. Сестра однояйцевая. Ах ну да, в одном же дворе. Забыл я, что ли.
Он прошел мимо железной решетки. Зорко вгляделся в особняк. Да. Сидят на скамейках ребятишки. Родители выстаивают рядом. Полные сумки с термосами. Девочки, повязанные платочками, парни лысые. На воротах вывеска. А, раковый корпус для детей. Это они, видимо, после облучения.
Проскочил мимо, свернул в сквозной подъезд. Оказался на проспекте. Только деньги дают такую свободу, только деньги.
Куда теперь, в Москву. Надо вернуть директору его гребаные доллары и освободить себя от этой мутоты. Все!
А х ли отдавать Паньке деньги. А его люди заберут квартиру нашу. Нашу какую квартиру. Нашу с Анюткой и Алешкой. А х ли Анюта вообще возникает. Будет требовать десять кусков на х знает что, б, на фальшивку, на шмаль, на которую она же и подсадит ребенка. Она б. С ней спал Кух. А где мой дом. Мой дом где, с бабкой? Где я? В городе Н. Я человек. Старший научный сотрудник. Автор новейшей гипотезы тра-та-та, компкомп, создатель комп игры «В садах других возможностей», компьютерный композитор т м в б в д что-то. Валера.
— Ксюшенька-аа!— завыл без слез вдали на задворках знакомый голос.— Ксюшенька-аа!
Да, ведь она все это время кричала. Каждые пять минут.
А Ксюшенька вон она там стоит.
глава 6. Вечер и ночь
Он шел мимо витрин, глядя на свое отражение внимательно, завернул в парикмахерскую.
Дыра, пропахшая дешевым одеколоном. В зеркале ожидалки отразился высокий вор, чернявый как иностранец, с карими глазами, лицо длинное и как бы такое… вогнутое. Хороший б клетчатый пиджак фокусника, брюки в тон, черные запыленные туфли (вытер их, не торопясь, тюлевой гардиной, клиенты, сидящие в очереди, оторопело засмеялись). X ли. Возникнет кто, у меня под ногтем писка. Острый осколок бритвы под ногтем правого среднего пальца. Гоу эвэй, пошли отсюдова на х б. Я знаю английский. У меня в кармане столько, сколько никто не имеет из вас. Я покрыт от горла вниз черной шерстью и интересно какая у меня елда. Далее отменил выход на улицу и посетил сортир парикмахерской. Небольшая елда. Какая при эрекции. При эрекции нормальная, но хотелось бы побольше. Очень бы хотелось, до зарезу. Но пришлось выйти, ничего не получилось, в дверь дико стали стучать, били ногой.
— Молодой человек! А! Посторонних кто разрешил?! Вы не имеете! Иди, иди! Можно так занимать, это служебный туалет! Вы что? Вы кто? Что вы мне показываете? Онанитик тут нашелся! Приличный мужчина, и чем занимаешься! (Визгнула). Показывает еще тут! Нина, Таня! В милицию звоните!
— А по глазам хочешь? Попишу сейчас.
Сразу посторонилась, лицо закрыла руками. Дал по голове. Пискнула и опустилась на колени, прикрываясь лапами. Можно сбегать за пистолетом и взять у них деньги у всех. Потом всех покоцать. Тех кто смеялись и вообще. Но ушел, ожидающие молча сидели, не глядя на него, никто не смеялся. Поникли. Почуяли, животное стадо сразу чует дискурс. Опасно.
Дальше была жизнь свободного человека, вольного в своих поступках. Вольно-го! Пообедал в каком-то шалмане, ушел не заплатил ничего. Как бы в туалет. И оставил на столе недоеденное мороженое. Дочавкай за меня, та дырка, которая там за стойкой. От нечего делать поехал на тачке посмотреть на этот банк, куда должен был отвезти двадцать тысяч. Улица Красной Роты, дом тринадцать. Приехали, наоборот, на улицу Красных Электриков. Ну и городишко! Водила долго кружил.
Визуальный, как говорят научные кадры, осмотр и вокальный опрос граждан показал, что в доме тринадцать находится детская поликлиника, молочный пункт и, сзади, диагностический центр. Где врачи за большие деньги делают свою же работу, принимают тех же больных детей района, но внимательней. Мы с Алешкой это прошли. Диагностики, б.
Поликлиника. Внутри нянечки, секретарь главного врача и мамаши с якобы больными детьми, которые дети бегали везде свободно и очумело как тараканы в кухне.
Все опрошенные хором ни о каком строении три не слышали. Такого тут не было отродясь. И все на него вызверились неизвестно с какого переполоху, орали, вы что, молодой человек! Почуяли собаки дичь.
Номер Один растерялся. Против этих мамаш не пойдешь с пиской, глаза выдерут.
Так. Стало быть, Панька его подставил. Нет такого банка.
Панька заранее все спланировал, и в троллейбусе, в семерке, дежурили те люди, которые высматривали пакет, мы его спрятали на груди и они долго ковырялись со мной, щипач Ваея.
Я себя ограбил, но ничего не помню, ни как охотился, ни как резал. Помню как гнался!
Да, Панька специально сказал «отдашь тогда им квартиру».
Зачем же было на эту удочку поддаваться, ох дурак. Ну маета, ну козел. Къзел.
Мщение, мщение! Пепел улицы Красная Рота стучит в мое сердце!
Легкой походкой по вокзалу. Поздний вечер. Поезд красного цвета.
Не темнеет, как у нас там в Юзени. В Юзени сейчас нет ночи, южное небо. Время светлых богов, Црауд, Смарт и Бьюти, плюс Солнце, Тепло и Вода. Они победили северные небеса, северное небо ушло вниз, туда где вечная тьма. Боги Мрак, Холод и Лед.
Покупать билет — такой привычки Номер Один в себе не чувствовал. Он просто шел вдоль состава и выбирал вагон.
Вот подходящая проводница. Можно устроиться к ней, но зачем.
Вернулся к началу перрона, стал наблюдать.
Подумал чуток. Поискал глазами. Села щука на забор, охватил ея задор. Стихи сочинял для Алешки. Тут соседи прибежали, прекратите этот ор. Охватил ея задор. Только для него сочинял. Он смысл жизни.
Так! Гагарин сказал поехали!
С посторонней сумки, стоящей на чьем-то чемодане, стащил бейсболку, какие носят задом наперед дети и некоторые лысые правильно. Тут же, отойдя, надел козырьком правильно.
Отступил к началу перрона. А! Мимо ехала кара, нагруженная чемоданами. Сверху красовался дорогой металлический объект с ручкой и двумя кодовыми замками. Пошарим глазами вокруг. Вот они! Хозяин, пожилой лет пятидесяти, идет около водителя кары, озабоченно воркуя по-американски с такой же старинной подругой. Стараются иметь в поле зрения этого водителя кары. Понимают, что тут воры. Первое место в этой части света по воровству. Идем рядом, так чтобы грузчик на каре нас видел. Выкрикнем несколько фраз по-американски, но в сторону карщика, чтобы эти не подумали, что разговариваю с ними. Так: Лефт, лефт ёр сайд! Плиз. А карщик бы подумал, что это я американам кричу, свой своякам. Так и подумал. А как же, мы с ними вместе. Туге-даррр.
Остановились около проводницы. Вытащили билеты. Водитель кары начал снимать чемоданы, первым тот, алюминиевый. Помогаем ему с недовольным лицом. Американы стоят как положено, считают места. Все.
— Пятое купе, пожалуйста, плис!— С приятностью сказала проводница, блондинка. Близко около нее стоим, близко. С чемоданом в руке. Другая рука гибкие пальцы, нежно и аккуратно, в невесомости, пробирается.
Ее ключ, отмычка от всех дверных пробоев, у нас, опускаем в карман.
— Йес, мэм,— произнесем.— Лет ми гоу. (Карщику). Сколько они вам должны?
— Сколь договорились. Семь мест. Чумай-данов три. Сумки четыре.
Татарва.
Переведем американцам какую-то несусветную сумму. Пусть подумают.
— Уау!— Поразившись, дядя начал рыскать по карманам в поисках дополнительных русских денег (нужная сумма у него уже была наготове в потном кулаке), замешкался, а мы с железным чемоданом идем вперед.
Они сейчас должны подхватить остальной багаж, там всего много, время имеется.
Миновали этот вагон, проникаем в следующий. Отмычка и там подошла, мы в купе соседнего проводника. Быстро вскрыли чемодан, взрезали ножом буквально строго, как консервную банку. Вынули из чемодана видеокамеру, очки в футляре, запасные, так, какую-то барсетку с духами и бутылочками, называется (подумал, вспомнил) мессерер, банку полкило черной икры, бутылку очень хорошей финской водки, подумали и сунули в карман чистые носки и, что скрывать, запечатанную пачку трусов. Закинули вскрытый чумайдан на верхнюю полку и завалили матрасом. Пошарили, нашли полотенце. Полотенце на плечо, мужчина сейчас выйдет в туалет, прихватив самое дорогое и необходимое типа… а, вспомнил, несессер. Вышел, заботливо заперевши дверь.
Далее Номер Один, держа в руках свои богатства (видеокамера под полотенцем на плече), пошел вперед. Кепку провалил в щель, когда переходил из тамбура в тамбур.
Одно купе в следующем вагоне было пустое, но вещи уже лежали на второй полке. Выглянул в коридор. В конце, в тамбуре, у выхода, какая-то стая довесков прощалась, видимо, с провожающими, галдя в сторону перрона и то и дела лопаясь от хохота. Коллективная, б, от школы поездка. Это их купе пустое.
Номер Один подхватил с полки небогатого вида, но полный рюкзак, вытряхнул какие-то шмотки, положил туда все свое, икру-камеру-водку-трусы-носки, плюс со стола два объемистых теплых пакета видно что со жратвой, с гвоздя прибрал чью-то висящую на крючке черную куртку под кожу, набросил ее, возложил американские очки на нос (все расплылось как от вазелина) и в таком виде попер мимо довесков (они и не оглянулись, смеясь, расступились и все), добрался до вагона СВ, открыл купе для проводников и лег на верхнюю полку. В этом купе проводники обычно провозят левых пассажиров.
Проводница явилась, когда поезд уже тронулся, а как же, открыла своим ключом дверь.
— Из главного по организованной,— подняв голову, сказал Номер Один. Тронул верхний карман.
— И что?— невнимательно реагировала проводница. Нижняя губа ее обвисла. Баба явно испугалась, инстинктивно испугалась, опытная женщина. Лежит убийца.
— Иди на х.,— отвечал он.
— Для тебя, мой хороший, постараемся. Радость сделать?— приветливо ухмыльнувшись, ответила эта жуткая баба.
— Потом. (А что это такое?). Отведи меня… (поискал слово) на шконку.
— Пошли, мой хороший.
Повела его и открыла перед ним купе, где сидела чернобровая загорелая блондинка в самом соку, гладкая, как бы только что с моря, в зеленой кожаной куртке. Завозилась и накинула на нос темные (почему?) очки.
Постояв, проводница смылась.
Номер Один негромко сказал, предвкушая:
— Из главного по организованной. Попрошу предъявить паспорта.
Блондинка живо оглянулась на дверь. Грохотал поезд.
Пожав крутыми плечами, блондинка полезла в свой красный сапог и достала из-за голенища паспорт.
— Тэ-аак,— возвращая паспорт, сказал Номер Один.— Кравченко Зинаида Михайловна, ну что будем с вами делать, Кравченко, что?
Машинально поддернул ширинку.
Ночной поезд набрал скорость. На столе дребезжали бутылки с водой и два казенных стакана.
— Дверь запрем,— предложил он.
Девушка пожала плечами. Она немного как бы вылиняла.
Запер купе, посидел, с удовольствием вперившись в блондинку. Она слегка повела головой туда-сюда, как будто ей был тесен воротник, и стала упорно смотреть в окно.
Дальше Номер Один не знал, что предпринять. Надо было действовать как в кино. Быстро.
Но тут в животе резко буркнуло, покатилась волна голода. Не ел ничего со вчерашнего дня?
Номер один, спеша, полез в чужой рюкзак, покопался, вынул сначала бутылку финской водки, потом целлофановый пакет с жареной курой, ого! Затем небольшую пачку салфеток (чья-то мать собирала), бутылку с какой-то красной мутной водой, нарезанный белый хлеб и сказал девушке:
— Хочешь подавиться?
Она значительно произнесла:
— Спасибо, молодой человек, я сыта (мы-ладой нараспев, южные кровя).
— Ух ты, какие мы,— заметил Номер Один. Блондинка мельком посмотрела на него и как бы выпрямилась.
— Очки сними,— потребовал Номер Один властно (а руками раздирал куру).
Она сволокла очки. Так она была ничего, такая крепкая баба, белокурая (или парик), загорелая, слегка подкрашенная, очень черные брови и (внимание) оказались под очками ярко-синие очи.
— Какие у вас глаза, однако,— отметил он.— Синие как море.
Помолчали.
— Никогда не видел ни у кого таких глаз. Васильки!
— Та тю, та эта линзы,— (упирая на букву «а», объяснила блондинка).
— Я тебе налью водочки? Наша водочка, ваши стаканчики.
— А налей.
Уже спокойная стала баба. Розлил водку.
Номер Один быстро выпил, налил еще, выпил.
— Пожрешь со мной?
— Та не, не буду. Я уже покушала (пыкушала).
Внезапно она попросила его выйти:
— Переоденусь.
— Как хошь.
Вышел, поваландался некоторое время в сортире, вернулся.
Она полулежала в каком-то блестящем халате, накрывшись до пояса одеялом с простыней.
Быстро выпил еще, тут же слопал тощие полкурицы, чавкая и вытирая руки о казенный пододеяльник, потом ножом вскрыл банку черной икры и съел полкило с помощью хлеба, а затем, когда хлеб закончился, с помощью пальцев. Стал рыгать. Дальше нашел там же в рюкзаке теплый пакет с пирожками. Заготовили как на маланьину свадьбу. Пирожок один просквозил, но дальше все.
— Выпей, ты чо,— потребовал он и протянул ей стакан.
Она отпила глоточек, вытерлась его салфеткой. Аккуратная. Посмотрим, какая ты.
Поикал, отхлебнул оранжевой бурды. Компот? Сладкость какая. Фу.
В купе открылась дверь, некто блондин, загорелый до копчености, заглянул. Тоже отдыхал, видно, на море.
Так, скользящий взор. Веером.
— Чо надо, чурка? Из главного по организованной! (Тронул нагрудный карман). Вашш документы?
Тот сразу задвинул дверь.
Те довески, ребята школьники, вот придурки, все побросали, обрадовались, что уезжают, столпились в тамбуре, вот и сидят сейчас без еды.
А ты следи! Ты смотри за собой! Нечего тут!
Икота одолевала. Выпил еще компоту.
Воспитывайте тревогу, внимание и бдительность!
Валера поболтал оставшейся водкой:
— Выпьешь? А? Выпьешь?
Она что-то пробурчала как бы засыпая. Валера жаждал действий.
— Такк!.. Проверка багажа проверка и руу-ручной клади!— выпалил он.
Встал, запер дверь.
Ловко достал из-под ее подушки сумку. Быстро присела.
В сумке был кошелек, битком набитый долларами.
— Фальшивые,— сказал Номер Один тревожно.— Берем на экспертизу. Что же так, гражданка, а? Лежите, лежите.
Внезапно, как буря, налетел, толкнул ее. Спрятал деньги во внутренний карман. Был необыкновенно доволен, спокоен.
— Нам уже с вами спать, однако, надо,— мягко продолжал он.— Где я вас мог видеть? Вы по телевизору выступали?
Она тем временем отвернулась к стене, всем своим видом показывая, что спит. А сама явно хотела крикнуть.
Валера допил водку.
Речь неслась скачками с неожиданными припевами, когда встречались непреоооодолимые звуки.
— Ты хорошая девка,— сказал он просто-просто.— Знаешь? Поэму Лермонтова «Сашка» знаешь? Я могу читать хоть всю ночь. Я не люблю худых. Дцп. Дощечка два прыща. Мой отец говорил так. Почем твои мослы?
Не дрогнула.
Продолжаем. Язык развязался, треплется. Мы уже привыкли болтать как ни в чем не бывало. Я ухожу, я ухожу.
— Он приставал к одной Светке с нашего двора. Мы стояли на втором этаже… Это было что ли в восьмом классе, да! В парадном пиво пили,— слегка заплетаясь, болтал Валера. Травить байки про эти дела — хорошее начало. Надо подготовить бабу.— Она вообще была у нас это… новенькая. Они только к нам во двор переехали. А отец мой пьяный был, шел с получки. На Светку глядит, никогда не видел, деньги вынимает: «Почем твои мослы». Что-то ему померещилось. Мы начали ржать. Отец смешной был. Я его зарезал. А ну повернись, лица не видно.
Вынул ножик из кармана. Повертел в пальцах очень ловко, нагнулся, провел лезвием (плашмя) по ее голой руке. Ого, кожа стала куриная! Опыты над людьми, так сказать.
Она дернулась, почему-то потрогала часы на этой руке. Легла на спину. Глаза зажмурила. Хорошо. Интересно даже.
Сел к ней.
— Руки убрать. Так. Руки! (Пыталась прикрыть грудь).
— Но я был несовершеннолетний, посидел на зоне до восемнадцати и все. Даже гроб нес с перевязанной головой. Отец сотрясение мозга мне устроил. Белый бинт, в больнице перевязали и на похороны отпустили. О невыезде! Мама не могла идти… Только что на брата похоронка пришла… Погиб при исполнении и так дальше. И тут я и отец. Он меня тубареткой по кумполу. Я его ножом хлебным… Пределы защиты. Да. Ну вот. Эт самое (мат неуклонно рвался из уст), я люблю женщин. У меня три жены.
Легкий намек на интерес на ее лице. Трусит, однако. Глаза закрыты, губы пытаются как бы иронически изогнуться. Надежда на человеческие взаимоотношения. Презумпция гендерной это… провокативности.
Ножом провел пониже шеи. Хорошая реакция! Все дернулось у ней. Волоски вокруг соска встали дыбом.
— Двое пацанов, девять месяцев и три, что ли. Пять?.. А мать Алисы та-акая сука. Я ругаюсь, простите. Прости меня если сможешь за все что было и все что будет (песня такая, что ли?).
Нет, погоди у меня. Разгреб на ней одежду, открыл ее живот. А!!! Так и есть. Пояс на ней.
Долго возился, отстегивая. Пояс с толстой мошной. Она заплакала. Приложил кончик ножа ей к глазу.
— Помолчи, а? Арестована.
В поясе было много чего. Монеты ржавые… Какие-то в пакетике старые золотые коронки, даже с зубным налетом, чьи? Кого убили? Ладно.
Надел пояс себе под майку.
Живот гладкий, как сливочное масло. Эх бабы, ничего нет прекраснее женского тела, у тебя лучше чем у известной Данаи, говорил библиотекарше. Как ее звали-то?
Уткнулся в это мягкое лбом. Вздрогнула, отодвинулась к стенке. Как бы дает место рядом. Надеется! Погоди, не готов. Поднял голову.
— Ее звали Даная! А Алиса пошла чиститься на аборт. Ну вот, эт самое… А сыну три месяца. Мы живем, я, дочь и теща. Там дочь у меня. Спутал. Старая теща, уже сорок пять лет, пришла вместо Алиски посидеть пожить с внучкой. И в первую же ночь: «Иди ко мне, Алиска будет кровить месяц, а я целка». Стилимули… стимулирвала меня, эт самое, блин.
Показал на лежащем объекте. Дрогнула. Стала отбиваться.
— Ну че дергаешься, погоди… Руки убери, ну! Да! Она, теща, говорила, лучше будет покой в семье, чем ты, козел, изнасилуешь свою дочь, пока жена в больнице. Так мне потом сказала. Жили мы с ней месяц.
Увлекся. Лилось легко, как у Никулая. Ккто… ккто такой Ни… кулай?
— Ну! И повели кота на мыло. Только Алиса в свою поликлинику, она опять мне лезет рукой так (расстегнулся, взял руку объекта, показал на себе. Объект завозился.). Промискуитет знаешь? Вульва и тэ пэ. (Показал на объекте). А это знаешь как называтся? Вот это.
Замерла, блин.
— Забыл как. Пэ… Забыл, короче. Да. Потом ее вообще убил мужик ее. По голове от так топором!
Отворачивается. Ну куда ты денешься! Лежать!
— Мы с Алиской говорили тому мужику, который с ней связался, что доведет она тебя! Он ее топором убил, пили оба, поругались. Лежи! Че ты… Самое дело… Я же не ножом! Ладно бы ножом. Ну и вот…
Полез дальше, увлеченно рассказывая.
— Он сам на себя милицию вызвал, дали ему восемь лет. Он когда ей раскроил череп-то, она жива была, он ей говорит «Давай я скорую вызову», но она не разрешила. Сама эт самое. Как с собой покончила, ее бы спасли на хей. Вот, эт самое. И говорит: «Я целка». Видали? Ты понимаешь что это значит? Это атавизм матриархата. Ты целка? Нет? Проверим!
Выложив эту мысль, он тряхнул головой и продолжал:
— Я отца зарезал! Честно, блин. Он на мать полез. Она больная лежала, а ему приспичило, вынь да положь. Да при мне! Полез, она начала ругаться, плакать. А ей нельзя, у нее сильно болело, ей операцию сделали, удалили что-то. А он стал тащить с нее одеяло. Говорит, дай по-другому. А я буквально тут же смотрел футбол. Разрешите?
Икнул. Посмотрел. Как следует прижал ее руку. Ну бревно ты. Показал как надо. Не шевелится.
— Во у меня батяня комбат отец был! Работай, блин. Да не так!
Отвлекся, вытер руку о простыню. Затем сделал хороший глоток огненной воды, как ее называют писатели-чукчи. Время есть, до утра далеко. Прошлую ночь… Прошлую ночь тоже в поезде болтался… А где сумка-то с бритвой, с зубными всеми делами? Где? Была же сумка!
Гнев закипел. Стал вспоминать. В голове все спуталось.
Ты, где моя сумка? Украла?
Что-то было не то.
— Ты!!! Где?!! А?!!
Лежала как бревно, закрыв глаза. Ну бревно! Провел ножичком опять по горчичного цвета животу, ровная темная полоска от пупка ниже. Немного ошибся, пошла кровь.
Заговорил быстро, глотая слова:
— Я сам его зарезал, честно, я ему говорю так: «Отвали», он табуретку взял, по голове меня как… (…)! Я на кухню пошел, взял нож, а он к матери громоздится, одеяло с нее сорвал, рукой лезет.
Показал как. Крякнула от боли.
— Бабка на мне повисла, ну а мне что, его хоронили, я гроб нес в белом бинте на голове, я молодой сел, пятнадцать лет. Я люблю вас, люблю с вами, с бабами поговорить, ну подними… Поднимись. Так. Ты че такая толстая, а? Че такая толстая, разъелась, а? Ну не бойся… Да не дрожи…
Укусил за грудь. Не сильно. А, из глаза у нее вытекла слеза. Из линзы.
— Дай линзу посмотреть какая…
Полез в глаз. Дернулась, стала дрожать. Схватилась за пальцы, не понимая, что там осколок бритвы.
— От дура! Руки!
Что-то как чешуйка выколупнулось. Вытер руку о простыню. Кровь.
— У меня три жены. Алла, эта… Марина… и Галя с Ирой, сестры. Четыре. Мать Марины тоже хорошая сука (ччто-то перепутал… Алиска или Марина? Марина медсестра… Тощая). Марина ушла в больницу, я у них тогда жил. Побежала. А, я говврил ужже. Вот… Вот…
Всю ее перекосило. Плачет, но молча. Вот как интересно, бабы разных народов! Шерсть на животе! И по ногам внутри шерсть! Ну ты подумай! Всегда у нас только русские телки были, ну надо же, какая разница. Говорят, у них бывает хвост сзади из волос!
— Скажи, а где у вас хвост?
Но переворачивать не стал, целое дело. Потом.
— И меня к себе в комнату ночью зовет. Старая уже, сорок пять лет, лежит и говорит мне: «Маринка кровить будет две недели, а я целка». И руками мне в ширинку. Вот так… вот так… Че ты! Че, не бойся… Или Алиска? Потом-то ее, тещу, убили… Мы говорили тому мужику, он с ней связался. Говорили, это тебя не доведет! До добра. Он ее топором замочил по пьяни. Убежал, потом вернулся к ней и стал говорить «давай скорую вызовем». Она не разрешила, так умерла. А он сам на себя милицию вызвал, восемь лет дали. И мне восемь лет тогда дали. А у меня же была самозащита! Мать продала дачу, нашла адвоката женщину. Я у ней один остался вооб-шче! Я целка, сказала. Ты целка? Ты понимаешь, что это означает? Это есть атавизм пережитка прошлого.
(Контаминация Паньки-директора. Кто это?)
Сейчас будет готова, но доводить до конца не надо…
Наше время не пришло, мы еще не в силе.
Это деды такие бывают, гладят. Гладиаторы. Но пока не можем.
— При матриархате всем распоряжается старая мать, и мужчины племени, в том числе и ее сыновья, живут с ней. Я говорю понятно, эй? Известная фраза «я ел вашу мать» есть оскорбление. Да! Есть патриархат, а есть… матрипархат. Опять панькинская контаминация.
Номер Один сказал эту мудреную фразу, тряхнул головой, как бы сам себе удивляясь, и продолжал:
— Мать для меня самое главное! У меня старшего брата убили в Сызрани, в армии. Пришло извещение, все. При выполнении служебного долга. В мирное время! Какая война может быть в Сызрани? Там три с половиной человека татар живет, все мирные. Она слегла. Я должен для нее жить! Я для нее все! Представляешь, брата убили, а я тоже на зоне. Ну? Почему я его зарезал: она плачет, а он на нее лезет, одеяло при мне сдергивает, штаны снимает с нее. Он ее всем заразил. Сифилис у мамы! До чего дело доехало! Я… достаю автомат… Калаш… И как — от души — его раз! И развалил. Размесил буквально! Его в морг, а меня зашивали. На мне столько швов! Я тебе покажу.
Быстро приспустил брюки. Встал.
Никакого результата. Испугался. Что это? Что со мной?
— Гляди, швы! Ты! Открой глаза! Как тебя зовут? Я тебя где-то видел! Давай-давай, глаза открой! Ну-ка гляди прямо!
Вылакал остатки водки из ее стаканчика. Что-то проняло слишком сильно. Сел. Опять ее руку крепко приложил. О чем говорил? О чем я говорил-то?
— Моя мать для меня самое главное! Но мать со мной жить не хочет. Живу с бабкой. Иногда спрашивает: «Вову ты убил?» Да нужен он мне! Я, что ли. У меня двадцать мерседесов было. Дал этому Вове полтора миллиона баксов. Он стал морду прятать, туды-сюды, дефолт. Ничего не вернул. Мне какое, на хей в йёт, дело? И не я его взорвал на хей. Но меня вызвали на взрыв, я видел эту ногу, как окорок, паленое сало. Нога осталась и полруки от локтя, но без пальцев. Двоюродная сестра Ленка, его жена, вообще, я на похороны пришел, она кричать. Чо кричишь, давно в лоб не огребала? Ты же вдова! Лечись! Не трогал пальцем я твоего засранца! Правильно его разнесли.
Рука у нее неживая какая-то. Не действует на меня ее рука!
— А ну, глаза открой! Иди на пол. Давай сделай мне эт самое. Радость. А?
Она не реа- эт самое, не ре-ги-а-ги-ро-вала. Из глаза у нее текет кровь?
— Ты что как эта,— продолжал Валера.— Эт самое. Знаешь что такое либидо? Это когда женщина, эт самое, холодная. Как тебя звать? Вот из ё нэйм? А, ты не секешь. Я тебя где видел? Глаз открой? А ну вставай. У меня сифона нет, только трихо… это. Трихо…
Жмурилась. Кровавые слезы из левого глаза. Вытерла, посмотрела на ладонь. Закрыла глаза. Затряслась. Ужасается. Слезы потекли обильно.
Водки не было. Мутило сильно. Хотелось пить. Допил эту сладкость жуткую из горла.
— У вас не найдется водки бутылка? Я заплачу. Ну?
Шевельнул обеими руками пояс под майкой.
Как каменная гора трясется. Сильно ущипнул (с вывертом) за грудь. Вздрогнула. Мокрая морда. Молча помотала головой, не открывая своих этих… линз.
Попил ее пепси из горла и продолжал:
— Вообще-то, знаешь, я убийца. Киллер. Я убил одного своего товарища. Ножом по горлу, знаешь? Он выскочил из балагана пошел отлить, я тихо за ним. Отодвинул полог, он спиной ко мне, даже не отошел, льет, скотина, как из шланга, а у меня в руке охотничий нож. Так… (подняв локоть) обхватил его, голову резко! Назад! И по горлу. Как свинья визгнул, а потом уже подавился, захаркал, столько крови хлынуло… Стал заваливаться на меня, я его быстро так пихнул… Кровь же! Он упал… из кармана выпал камень аметист и видеокассета… Он ее прятал, а не спрятал! Да… Или я у него сам забрал, не помню… Не помню! И тут — я же наполовину в за пологом стоял — вижу, кто-то двигается к балагану… Какой-то энтти… Пьяный. Качается идет. Только эт мне… не хватало! Свидетель, блин… Я спрятался. Пошел якобы спать. Голова пу-устая… Звонит в ней что-то… Почему-то естудей… Еще вчера я был человеком… Еще вчера я был, а теперь меня нет. (Неожиданно запел). Естудэй… Олл май трабл там пара-папам… Странное чувство полной пустоты. Это вот и есть смерть, сказал я и заснул. Проснулся через час, не больше. Во сне плакал, думал что делать, надо оттащить его подальше, в лес. Пусть собаки его сожрут. Проснулся, думал это сон. Высунулся, вышел — его нет. Ничего нет, крови нет. Немного подальше лежит этот энтти, трясет животом. Как смеется, а лицо съедено. А того моего товарища нет!!!
И он покрутил головой. Помолчал.
Не то говорю. С дамами же надо по-другому!
Стал поднимать ее подмышки. Каменная, тяжелая баба, хотя и горячая по температуре. Мокрое лицо склизкое. Какое-то отвращение. Свалить ее на пол. Что-то нету сил.
— Чучуны вот предпочитают похищать девушек или женщин. Во многих сказках у них этот мотив, похищение девушки медведем. А это как раз и были они! Это древняя парадигма, похищение женщин косматым чудовищем. Общеизвестный дискурс. У неба семь мыслей! Поняла?
Лежит как камень. Плачет.
—Вы знаете, что такое либидо?
И тут он сам засомневался.
— Это когда… женщина хочет!— произнес он на всякий случай многозначительно.— Ты чо молчишь, почем твои мослы? Мой отец спрашивает Светку: почем ваши мослы? Мы стоим, пиво пьем, Я говорю: тихо, сейчас цирк будет! Отец штаны спустил, держит в одном кулаке, другим стал накачивать. Вот так. А дело-то в подъезде! Мы все смотрим, ржем. А Светка особенно заливается хохочет. Он: «Смеешься, б?— говорит.— А ну, Валерка, подержите все ее». Мы ее подержали, интересно же. Мы ржем, она стала вырываться, мы ее за локти крепко держим, она начала кричать «вы чо, охренели» так, а он свой удар знал, в армии его друг научил, руки сцепляются замком, сразу человек вырубается. Ну он ее этим замком ударил по кумполу. Много ей надо было? Вообще как щепка была. Она так сползла по стене. В крови вся голова, текет по плечам. Сгреб ее под себя. Мы ржем! Ух папанька мой был! Мы стояли смотрели, прямо порно! Поелозил две минуты, подергался и все. Мы думали в шутку, чирик-чирик. Но он встал, застегнулся и говорит: «Так будем кончать со всеми». А Светка в крови, лежит буквально мертвая. Он быстро ушел. Испугался, что ли. Боевой был у меня отец! Они в армии и не такие штуки делали. Я уже тогда понял, что убью.
О. А еще щипнуть? С ногтями! Начала проявлять активность, цепляется за руки. Запищала.
— Ты молчи! Я тебя аресте… вваю. Открой глаза!
Открыла окровавленный глаз. Смотрит вверх. Боится.
— Ты погоди, ты погоди. Ну вот. Потом кто-то наверху вышел на лестницу, мы убежали. Я своим сказал, кто стукнет — того зарежу. Поняла?
Нажал обеими руками ей на горло. Задержал руки. Забилась. Немного ее порезал ногтем с осколком бритвы.
— Поняла, кто есть… это. Ху! Вот. (Помолчал, тряхнул головой). Да. О чем я?.. Не сочтите откровенность за глупость! А домой пришел — отец спит, утром ничего не помнил. А Светка из больницы вышла, но в школу не вернулась. Так, училась в какой-то спецухе для дураков. Садово-плодовое училище. По озеленению. Но родила через девять месяцев, как полагается, мы специально посчитали. Да и вылитый мой отец этот пацан. Так что нас двое братьев. А, да, было три, но Витьку убили в Сызрани в стройбате. Отец меня любит. У энтти такого быть не может, чтобы люди ссорились, они друг дружку берегут.
Спит или померла. Придушил? Эй!
Надавал по щекам. Руки мокрые. Вытер.
Ну ладно.
— Ты что как эта… Они до сих пор боятся нас, белых. У них кто был мамот, того ссылали. А куда — с Юзени в Бутыгичаг, тысяча километров, тот же климат. Но они там быстро умирали, в лагерях, на урановых рудниках работать возить тачки не могли, не терпели унижения, не понимали что кричат, этих правил, в строю вообще не могли стоять, сразу садились на корточки, к тому же непривычная пища. Они люди свободные, народ особенный. Знаешь, я думаю —
Она не понимает ни хея. Не-пдви-жжность. И у нас полная непдвижжноссть… Не встает, не встает. Джон Стейнбек.
Вдруг мотнул головой, вытаращился. Где я?
Проскок.
Сижу у себя за шкафами, Галина Ивановна загородилась папками, достала термос, играет на компьютере, у нас перерыв, Котова поставила чайник, Валя разворачивает бутерброды, меня мутит. Интернат для детей-инвалидов в Дмитрове. Лежат. Запах. Кто может, тянет руки. Ты принес гостинчика? Возьми меня домой. Там Алешка почему-то. А, их согнали с квартиры.
Морозит лицо. Дурно, дурно мне!
Тут же покосилось, выпрямилось.
Заметил свои голые ноги, срам, сижу сбоку тетки. У нее красное блестящее размазано по лицу, что это. Рот как у древнегреческой маски, видал? Трагедия. Надо прикрыться чем-то. Одеялом.
— Лук! Они самые древние люди на земле, которые пережили много обледенений и приспособились именно к ним. Ледниковый период — как прошлое, так и будущее всего человечества. Каждые сорок-шестьдесят тысяч лет обледенение. Апокалипсис это не огонь, а лед. Лук, то есть видишь ли, энтти не боятся вечного льда. Поэтому их надо сохранять. Они одни переживут и продолжат жизнь на земле. Они могут существовать в белом безмолвии, без источников энергии, тюлений жир горит в жилище из шкур. Немыслимый запах стойбища.
Дернулась встать.
— Лежи, лежи. Ты арестована. Да! Они никого не обижают и всякого примут. Это тот самый золотой век, который все думают был в Греции, но там шли бесконечные войны, брали рабов. Тут у энтти раб может быть в одном случае, это мальчик, который, если хочет жениться, два года пасет стадо оленей у хозяина, чью дочь он любит. Потом ему ее отдают в жены. А какие там женщины! На вес золота. Спокойные, тихие. С детства курят трубку. С трубкой в зубах она все переделает, и дети у нее хорошие, и с любым мужиком не откажется лечь. Мне не с кем поговорить! Понимаешь, наступает время и некому сказать. Одно что не слушают, а другое что никто не понимает. Да! Компьютерная игра это единственный мой наркотик. У меня уже такие разработки на новую игру, бешеные деньги можно будет взять! Моя жена не хочет меня слушать. Когда я начинаю ей про Север рассказывать, она злится. Она считает, что у меня там много детей родилось. Не много, всего двое. Считай, за десять лет экспедиций. Ну может, других я не знаю или в них не уверен. Девочке три месяца. Второй девочке год и три месяца. Волосы светлые, глазки смешные! Синие и косые. Мои доченьки, Лиза и Ань. Мою жену там зовут Марой, Машка. Вторую жену зовут Степа, Степанида (заснул на миг).
Тихо-тихо села.
— Стой! Кто идет!
Легла.
— Я пришел к ним в балаган их навестить, привез им денег, подарки. Со мной увязался мой сотрудник, и когда выпили, легли, я с ними, он в мужском пологе, то он сразу полез к нам под полог, я его оттаскиваю, а он бормочет «чего ты, чего ты», а сам шурует руками, мы укрылись шкурами, тянет, снимает с Марой… Потом, когда я его оттащил, он сказал, что все расскажет моей московской жене. Я говорю — пошли поговорим, может, тебе нужны деньги. Он сказал «другой разговор, я на квартиру коплю, чем с этой Галькой жить», имея в виду свою маму. Мы отползли за печь. Я сказал, я твои проблемы эти не решу, таких денег у меня нет, он сказал, тогда не рассчитывай на меня, я все скажу твоей Анюте при любом раскладе, пустишь ты меня к своим девкам или нет, ты с ними трахался, я слышал, ты кончил с двумя уже, я потому и вмешался, я человек и не выдерживаю, когда при мне это. Тебе можно, а мне нельзя, их же двое. Я сказал, они тебе недоступны. Он сказал, они что, твои бабы? Я сказал, они еще дети. Он: ни (…) себе дети кормящие матеря! От тебя родили? Я сказал, откуда ты это взял. Он сказал, давай посчитаем, они дети предыдущих твоих экспе… эски… ну ладно.
Шевельнулась.
— Лежать! Я говорю, почему ты так считаешь. А, он сказал, другое дело, с тебя пятнадцать тысяч баксов, твоя жена Анюта, кстати, была мною очень довольна, ее же нужно раздражать, долгий путь, тогда она кончает, я, говорит, рожден как мужчина-лесбиянка, а ты ее просто трахаешь как вонючий кобель она сказала. И я ответил, хорошо, пятнадцать тысяч, но баб этих не трогай. Я стоял перед ним на коленях в пологе расставив руки, мотал головой как слон как будто сплю, не пускал его к девочкам. Он сказал «Пойду пока отлить, потом мы вместе с ними ляжем. И ты мне заплатишь еще не знаешь как, я опущу тебя».
Раскрыла свой рот:
— Пусти, гражданин начальник! На оправку надо.
— В дальнейшем в хорошую погоду. Нож видишь? Такк! Я остался в балагане, он прошел вперед, я за ним и перерезал ему это… Вот так, ножом! (показал над ней движение). Но, самое главное, он остался жив! Горло ему так перерезал! А он на следующий день со мной общался… Как ничего не было.
Она молчала, всем своим видом демонстрируя, что действительно ей нужно. Лживые какие они все! Ловкие! Быстрые! Вся приподнялась, смотрит.
— Ты чо? Не надо, не надо, не надо никуда, надо вот тут сейчас… Скажите «А»… Возьми? Рот открой! А ну на колени!
Он нагнулся к соседке, приподнял ее каменную, мокрую голову, полез рукой ей в рот, отвернул вниз челюсть, но что-то стало с башкой. Устал как не знаю что. И он прилег на минутку.
Тут же: «Конец, конеец!» — гром по небу.
глава 7. В Москве
Проснулся от землетрясения, все вокруг рушилось, падало, дрожало, какой-то громкий голос с небес возвещал все, конец. Дико болела голова.
— Все, конец, приехали, гражданин!— орала баба и трясла его за плечо.— Але! Москва уже!
— Я с-слушаю… (прокашлялся) — Але.
— Нажрутся как скоты…
Вышла.
Сел встрепанный. Где это. Поезд, ага! Мы в поезде, приехали. (Куда?).
Опять заглянула:
— Москва уже, все! Мне белье давай!
Напротив было пусто, полка и все.
Вскочил, штаны спущены… Пальцы в крови. Застегнулся. Плюнул на пальцы, вытер полотенцем. Посмотрел вокруг, что у меня было? Ничего у меня не было. Охлопал себя, чтобы не забыть. На столе пустые бутылки. Посмотрел под столик. Поднял оба сиденья. Ноль. Сомневаясь, выскочил.
Как будто только этого и ждали, поезд плавно тронулся. Проводница с ожесточением поднимала ступеньку, тут же закрыла дверь вагона, глядя в пол.
А-аа! Все деньги где? Где мои деньги?
А-АААА!
Побежал что было сил по перрону.
Обокрала та курва! Проводница с ней в сговоре. Аааа!
Остановился на краю платформы. Поезд ушел.
Сел в отчаянии на асфальт. Людей почти не было. Стал бить себя по голове.
Вдруг возник рядом наряд милиции.
Быстро выскреб из-под ногтя писку. Выщелкнул.
— Вашш документы.
Встал. Ощупали.
— Да меня обокрали в вашем поезде! Ааа! Что делать?
— Паспорт ваш есть? Предъявите.
— И паспорт увели! Аааа!
— Не кричите, гражданин. Выпимши были? В поездах тоже разные люди бывают. Пройдемте.
— Аааа! Не могу идти! Скорая помощь!
Быстро ощупали с головы до ног. Сзади тоже. Найдут нож!
— Да вот он, ваш паспорт, в кармане. Еще скажите спасибо что не убили. Так, что у вас украли? Чемодан? Что? Пройдемте, напишете заявление.
— Да вы что, украли деньги. Заяву, заяву примите!
— Сколько?
— Чужие деньги-то, вот в чем дело! Человек квартиру заложил! Аааа!
— Валерий Николаевич? Мы вам сочувствуем.
Какой к е. м. Валерий Николаевич? А, проверили же паспорт!
Посмотрел на руки. Руки не мои. Но и часов золотых нет.
— И часы украли!
— Да успокойся, они в водку подсыпают… Клофелинщицы. Так. А это чей паспорт?
— Да друг у меня умер в Энске, надо оформлять, везу вдове. Убили его. Ехал ей вез деньги (длинно выругался) и паспорт. Теперь его и не похоронят! (Даже заплакал).
— Вот, а вы говорите.
Нож, стало быть, не нашли. Его тоже те попятили. Все взяли! И удостоверение то, корочки милицейские!
— Такая тетя была в моем купе, волосы белые… Синие глаза… в зеленом кожаном пиджаке. Еще у нее был металлический такой чемодан, она в нем шевырялась… Смотрела вещи. Я не видел, она за крышкой смотрела. Перебирала. Потом они открыли большую банку икры, брали прямо пальцами, водку пили… Парень к ней пришел, в кепке, бейсболке.
— Чернявая? Женщина, какая?
— Говорю, блондинка.
— Ну собой чернявая? В смысле кожа как сапог?
— Ну вроде…
Другой сказал:
— Ну это Индия, наверно.
— Зинаида Кравченко, показала паспорт.
— Такая же Кравченко, как ты.
— Парень потом кепку снял, тоже блондин оказался… Белый.
— Они в этом поезде там все работают белые…
— Потом она сказала, что хочет переодеться, потом они мне дали выпить водки… Финская водка «Абсолют» была, полбутылки. Примите от меня заяву! Я пойду с вами!
Потеряли всякий интерес к нему, быстро отчалили. У них уже создалась картина.
Видимо, американы обнаружили пропажу чумайдана уже когда поезд тронулся. Проводница, однако, не выдала… У них был расчет на меня и на клофелин. Чемодан они, конечно, обнаружили вскрытый и предъявили хозяевам, что человек в кепке бросил его и ушел.
Голова кружилась. Так, но еще деньги есть, те, что остались в подкладке старого пальто отцова. Шесть тысяч там есть.
Пошел вдаль пустой, как голый. Пошел домой.
Ага. К кому домой? Анюта не примет меня такого. И уж во всяком случае не даст рыться в стенном шкафу.
Наскоро притырил кошелек у тетки в толпе, денег немного, но на телефонную карточку хватит. Отошел, тетка подняла дикий вой, причитая как они обычно делают «ой люди, люди, ой, обокрали последнее! Помогите! Не доеду теперь, ой». Села мешком на асфальт. Потом легла, замолчала, как та под трамваем. Женщина присела около нее, трогает ей шею. Звонит по мобильному.
Ушел. Купил телефонную карту. Набрал свой номер. Голос тихий, хриплый на шепоте.
— А… анюта! Му-уми! Это я. У меня го-горло.
— Ой, слава тебе Господи! Ты откуда? Ты заболел? Что с горлом?
— Про-остыл.
Похрипел.
— Совершенно не твой голос. Слушай. (Пауза). Я ведь вчера как с ума сошла, я решила что мы расстаемся!
— (Шепотом) еще новости.
— Вот. Я вообще когда ты ушел стала собирать все твои вещи, хотела чтобы все, понимаешь? Я как одна, так и буду одна, но без этого бесконечного мучения и ожидания. Тебя нет, нет и нет. Стала собирать твое и даже заплакала, как мало у тебя вещей, пара брюк, куртка и белье старенькое. Какие-то рубашечки… Носки непарные. И в стенном шкафу эти рюкзаки по десять лет стоят, твоя диссертация закадычная…
— Ну это-то ты не тро… не трогай…
— Ты слушай, что дальше! (Засмеялась). Ну я все приготовила на вынос… Не распакованные твои материалы…
— Ты чтооо?! (Засипел).
— Еще старые резиновые сапоги, какие-то кеды, куртки полусожженные брезентовые… Все свалила в кучу…
— Спаасибо.
— Да! И так дышать нечем. Алешка спит, я плачу… Пальто старое твоего отца сверху взгромоздила… Понесла на помойку сначала сапоги и пальто, каким-нибудь бомжам.
— Ты что, сука!— зашелестел Номер Один.
— Ну погоди, погоди, дальше радостная весть! Это как знак с небес! Отнесла я это все кучей, возвращаюсь на лестницу — на ступеньках лежит пакет, а в нем! Представляешь, в нем шесть тысяч долларов!
— (Застонал шепотом) аааа!
— Кому-то большое горе! А я плачу от счастья!
— Ты что… Да ты что…
— Ну вот, я поняла, это знамение мне от Бога! Я рано утром позвонила Ратмиру Сергеевичу, ну тому, из медуправления, застала его еще дома.
— Да ты… Да ты зна… знаешь что ты наделала, сука?
— Ругайся, ругайся, уже поздно! Что с голосом у тебя? Как будто не ты… Чего так заикаешься?
Покашлял. Ответил:
— Ме… меня огра… ограбили… это шо… это шок. Про-пройдет.
Продолжала с воодушевлением, не вникая в ответ:
— А. Ну понятно. На севере. Отняли рюкзак? Ну что так переживать! Ну вот. Застала его, он дома! Говорю «Ратмир Сергеевич!», обрадовалась…
— Да ты… Да он всееегда дома, ты всеее-гда застаешь его дома. Он не рабо… не работает ни в каком управлении!
— Глупости. Я звоню ему всегда он велел, рано утром или ночью. Я говорю, последний шанс наш это шесть тысяч за полный цикл. Больше денег нет и никогда не будет. Он вздохнул так и говорит: «Еду». Потом привез все и объяснил. У него была партия почти просроченная, ну она до следующей недели, но все медики знают, что после срока еще шесть месяцев можно! Я уже даю Алешке эти ампулы! Уже две выпил! Победа! Я у тебя не просила, мне Бог послал!
— Не ра… не радуйся,— зашептал,— особенно так, сволочь, квартиру у нас отберут через месяц. Я те… тебе сказал, что меня ограбили… Это все моего директора дела. Я дал ему расписку на двадцать шесть ты… тысяч… до-долларов. Под залог, оказывается, квартиры. Получил на выкуп Юры, ну ты помнишь. И меня в поезде обо… обокрали.
— Какк?!? Шшто??? Ты как?… Что ты сказал?
Завыла, но быстро замолчала. Алешка слышит.
— Слушай, что-то я стал плох. Помолчи. Ты совсем ох-хренела, Аня. Слу… слушай, значит так, ты потратила все деньги на эту шмаль, а меня тут вообще обокрали. Я достал на выкуп, дал расписку на двадцать шесть тысяч долларов. Под залог, нормально, квартиры. И у меня все взяли! Ночью в поезде!
— Ты в своем уме? Я вообще тебя не понимаю! Ты что говоришь такое? Зачем двадцать шесть ты взял? Это не твоя… квартира!
— Да, твоя. Но я дал ра… расписку. Все. Они мее-меня достанут, убьют. Кваквартиру отберут.
Замолчала. Какой-то писк.
— Может быть, к тебе прие… приедет мой один знакомый, Валерий. Открой ему.
— Это не ты говоришь!
— (Шепотом). Муми, ты как всееегда права. А этот Ратмир всучил тебе для Алешки на… наркоту, как я и предупреждал. Будет улучшение, общий тонус поднимется, а через полгода резкий спад. Общеизве… известные дела. Ну прощай, может, больше мы не ууу-уви-димся.
— (Тихо, чтобы Алешка не услышал). Ты уходишь? От нас совсем уходишь?
— Во-возможно.
— (Еле слышно, шепотом). Ну и привет твоей жене! А мы на улице будем жить!
Не заплакала. Бросила трубку. Теперь будет всем подругам звонить, и тут же новость дойдет до директора. Да ему и так уже сказали, что деньги не пришли. И прекрасно.
Между прочим, уже был вечер.
Вышел в город. Денег нет и противно щупать чужие карманы. Господи, как противно. Та тетка легла как под трамвай, раздавленная.
А все-таки хорошо что нас обокрали, милиция бы встретила, у дяди доллары, на пакете следы крови… и хорошо что пистолет спрятал за батарею… Вовремя засунул его. И чужой рюкзак, в нем банка икры и видеокамера, и нож взяли. Год Бутырок и шесть лет колонии строгого режима нам бы светило. Спасибо тебе от всей души, Зина-Индия.
А нас-то ждали на перроне. В купе не стали заходить, мало ли где я спрячу свои цацки. Или вообще скажу что не мое. По описанию уже составили портрет.
Вечер, вечер, красный закат.
Поехал знакомой дорогой в родные места, к себе домой.
Сел на лавку во дворе напротив балкона. Алешка уже, видимо, проснулся в своем ящике, и Анюта его унесла. Он спит утром и вечером на балконе. Толку-то.
Его нет. Позвал тихо-тихо:
— Сынок! Алешка! Вставай!
Нет, заплакал. Проснулся. Плачет! Чего она, сука, не идет! Не слышит! Спит, наверно, как всегда, после бессонной-то ночки. Не плачь, парень, не плачь (тихо так сказал).
Алешка замолчал, потом звонко спросил:
— Папа? Папа?
Тут она вылезла, заговорила, забормотала, Алешка ей стал рассказывать что-то, поднатужилась, вытащила его из ящика, большого в спальном мешке, зорко поглядела вниз, по сторонам, никого не увидела. Ну, сидит какой-то мужик на лавке. Посторонний.
Скоро она не сможет его поднимать.
Произнесла специально отчетливо:
— Ну какой папа, какой там папа. Где это ты слышал папу.
Ушла с Алешкой. А вот слышал!
Далее путь был простой, к продмагу, который теперь назывался пышно, «Десятый вал». Туда хаживали богатые.
Местные обозленные жители в «Вал» не заглядывали, боялись цен, а шастали в подвальчик. Там было все родное, плохое, пол затоптанный, товары подозрительно дешевые, явно просроченные, и продавщица своя, приветливая Маша.
Номер Один подошел в сверкающему стеклянному аквариуму, поднялся по мраморным ступеням на полированное крыльцо, но в дверь не вошел, а просто встал в позицию «ноги на ширину плеч». Руки заложил за спину, как телохранитель в кино.
Немного погодя подвалил тяжеленный «Мерседес» с зеркальными стеклами.
Оттуда, закопошившись, вывалилась парочка пьяных дядьков в кепках, с толстыми сумками через плечо.
Один крикнул водителю:
— Владимир, чтобы никуда, понял? Гляди, а то будет как тогда.
— А что было тогда?— спросил второй.
— Да я его полчаса выглядывал.
— Понял.
Выкатив животы из-под кожаных курток, эти двое пошли в магазин.
Им навстречу вылез нетрезвый персонаж по имени Дядя Шиш, который всегда ошивался у автостоянки «Десятого вала». Выставив две чудовищные культи (обрубленные выше локтя), дядя Шиш начал:
— Шитня хота!
И весело кивнул на оттопыренный грудной карман.
— Че?— брезгливо спросил второй из приехавших. Первый осторожно, как кот лужу, обошел Шиша.
— Жжить неохота!— повторил Дядя Шиш. Это был весь его репертуар.
Номер Один сказал Шишу пару слов, предупредительно поднялся перед клиентами по ступеням, открыл им дверь и просочился следом, причем сделал морду кирпичом и вертел головой по сторонам, как телохранитель.
Стоящий внутри вежливый парнишка в синем костюме с красным галстуком и плакеткой на груди (надо такую же иметь) вежливо сказал:
— Попрошу сдать сумочки.
— Просят сдать сумочки,— сказал задний переднему.
— Да охренел ты,— отозвался передний.— Там же все мое.
— Ну сдадим, ну вынем,— зачастил задний.
— Сумочки придется сдать,— повторил красный галстук твердо.
Дядя долго доставал какие-то пухлые конверты, рассовывал по карманам. Потел.
Номер Один смотрел строго по сторонам, мимо парнишки в синем, как бы ожидая выстрелов из-за угла.
Затем Номер Один проводил свою парочку к дежурному, помог им поставить сумки, бормоча «ничего-ничего, не беспокойтесь», проследил, в какие ячейки попало добро, одобрительно кивнул, когда двое положили номерки в боковые карманы, приклеился к ним и так и пошел впритык за мужичками к полкам, по дороге прихватив корзину на колесах. Они набрали полные охапки банок и коробок, и тут он все у них принял и уложил в корзину.
— Спасибо,— сказал второй.
А первый все останавливался и как бы мечтал.
— Не за что,— произнес Номер Один.
Тут старший по званию, видно, додумал свою думу и сказал:
— Надо проконсульти-рваться.
Добыл мобильный телефон из внутреннего кармана, очки оттуда же и долго, отстранившись, набирал. Номер Один скромно наблюдал со стороны.
— Слушай,— это прозвучало весомо.— Это ты? Это я. Ну как ты чувствуешь? Так. Так. Да не за что. Рыба моя (взволнованная пауза), слушай, такой возник вопрос. Брать черную икру? А? А семгу? А красную? А. И шампанское, понял. Ну до скорого. И я тебя. Что? А. (Запыхтел). И ее также.
И он, радостно покраснев, убрал телефон в наружный, и так уже полностью набитый, карман. Своим кралям звонил.
Номер Один выжидательно застыл. Они еще много чего нахватали, он им советовал, какой сорт кофе лучше взять, протискивался мимо и т.д. Заботливый сотрудник магазина, шестерка.
— Приведу вторую повозку,— сказал он.
— Нам в винный,— ответил второй. Первый был важен и в основном отдувался. Типичный генерал.
Номер Один отошел и подвалил к парнишке в синем костюме, достал мобильный телефончик, нажал какие-то кнопки и сказал: «Володя, я несу». После чего предъявил два номерка от сумок, получил их и строго вышел в дверь.
Там он прямиком направился к машине Владимира (синий костюм наблюдал за ним из-за дверей), постучал в зеркальное окно и недовольно сказал:
— Велели сумки положить в машину ихние.
— Че?— водитель приспустил стекло.
— Я охранник из магазина. Прислали свои сумки, а то их там надо сдавать.
— Ага,— зевнул Владимир, дородный мужчина.— Давай.
— Велели в багажник покласть. Сказали в багажник и запереть.
Владимир смекнул, что ему не доверяют, и шумно вздохнул:
— О, елки.
Затем он с трудом вынес туловище из-за руля, попутно прихватив ключи зажигания, далее встал во весь свой почти двухметровый рост, как колонна, и проделал целый ряд манипуляций: ключи зажигания спрятал в карман куртки, захлопнул дверцу, достал из внутреннего кармана крошечный пульт, свистнул кодом. Машина заперта. То есть это был водитель солидный, с предосторожностями. Пошел к багажнику, ставя ноги строго в полуметре одна от другой. Опять пискнул кодом. Открыл багажник.
— Нефтяники?— спросил Номер Один.
— Все вам надо,— важно промолвил Владимир.
— Небось, по скважине у каждого?
— Сам ты скважина! Они оружием занимаются,— невольно гордясь, отвечал Владимир.
— Иди ты!
— Вчера,— неспешно и с презрением говорил Владимир, в то время как Номер Один шестерил, ставил сумки в багажник и поправлял их,— всю ночь их ждал, были в сауне. Утром выходят вчетвером. Неудобно им было. Пиши, говорит, заявление на материальную помощь. На сколько хочешь. Я написал на двести баксов. Они в Москве редко бывают.
— Арабы у них покупают?
— Сам ты араб.
— О. Я бы тоже купил.
— Да ты… Они аэродромами продают.
Номер Один захлопнул багажник. Владимир пискнул кодом. Запер. Развернулся по направлению к своему водительскому месту, убоина.
Номер Один тогда вынул мобильник из кармана, нажал кнопочки и сказал:
— Ну, я все положил. Че? Че еще? А.
Сунул мобильник в карман и сказал:
— Они просят тебя туда, купили ящик водки.
— Мало я написал им материальную помощь,— злобно произнес шофер и пошел враскоряку к магазину.
Номер Один сопроводил его до дверей, услужливо открыл их, слегка задев могучее туловище водителя, и остался на улице.
Владимир внутри магазина осматривался, меденно, как маяк, поворачивая свою башню. Сейчас тронется их искать, колесить по всему пространству. Обратился к персоналу, что-то произносит. Просто как Терминатор. Парнишка в синем костюме стал ему объяснять направление, тыча рукой в сверкающую даль. И второй подошел, потом они все смылись.
Излишнее усердие затмевает ум.
Номер Один мгновенно очутился у машины, нашарил в кармане пульт (пикнуло), открыл дверь, сел, достал ключи, завелся и плавно отчалил от «Десятого вала».
Затем он позвонил по мобильному, будучи уже километрах в двадцати от места преступления (где сейчас творилось незнамо что), набрал номер Паньки, директора. У того в доме стоял говорящий автоматический определитель номера, идиотская машинка, которую шеф поставил, чтобы контролировать жизнь своей дочери-дуры. Шеф был голубятня, но дочь тем более ревновал, выслеживал по линии секса, наблюдал за ее нравственностью, как всякий старый распутник. Весь панькинский институт был в курсе.
Таким образом, голос автоответчика продиктовал номер свежеприобретенного мобильного его новому владельцу.
Тут и директор откликнулся.
— Это от Вахи,— сказал Номер Один.— Мы ничего не по… не получили.
— О. Здравствуйте, Григорий Иваныч. Как здоровье?— с совершенно естественной бодростью сказал Панька.— Как успехи? Как на даче? Как супруга?
(Видимо, рядом сидели его две дуры). Номер Один успел вставить:
— Что будем делать?
— А. Объясняю. Дело в том, Григорий Иваныч, что этот проект сейчас замораживается на месяц.
— Как так.
— Момент, я перейду к другому телефону, плохо слышно (пауза). Але, слушайте, ничего не понятно, ведь моего сотрудника я послал к вам, его же ограбили!
— Ну.
— Так все в порядке! Ах ты сволочь!
— Нет, мы не получили ничего. Так что… счетчик тикает.
— Но я же…
— Неважно! Денег нет.
— Вот те на. А где?.. Слушай, тебя как зовут? Что значит неважно? Я тебя знаю?
— Не очень.
— Ну вот: я через месяц продаю его квартиру, он нам заложил, и деньги уже будут другие, понял? Не те, которые он вам вез, а хорошие! То есть что я говорю…
— Деньги паки… па-акистанские были?
— Какие… пакистанские!.. Вы что!
— Это не мое дело.
— Я отдам, отдам!
— Месяц? Так говоришь?..
— Ну меньше, меньше! Необходимые формальности! Ну там подписать документы…
— Значит так: это меня не касается. Ты меня не знаешь. Я здесь, в Москве, по другому делу. То ты с Вахой моим обсудишь. А это дело мое, его не касается, ясно?
— Нет, мне важно сказать. Как это так, я доставал эти проклятые а… тридцать тысяч, настоящие, отличного качества… И что же ваши люди мне тут напортачили? Я же ясно сообщил, седьмой троллейбус и время, и куда едет. Номер поезда. Он вез тридцать тысяч.
Так.
— Слушай, мне некогда.
— И что как некогда? Я же верну!
— Ты… Дело о другом. Вахе не говори что я тебе скажу. Нам известно, что ты занимаешься крадеными машинами. Перебиваете там номера. В гараже института, в подвале. Сбываете в Осетию. Якобы ты сдаешь в аренду под мастерские, на саа… на самом деле это твои люди. И ты никому не откатываешь. Кроме ментуры. И ты хочешь «мерс».
— Кто, что, не понимаю. Не понимаю!!!
— (Зачастил). Слушай, у меня сейчас в ру… в руках Мерседес шестисотый, пробег ми-минимальный, этого года, он стоит сам знаешь сколько, пробега нет почти, без криминала, все нор… нормально. У людей проблемы, срочно ну… нужны деньги. Про-просят двадцать пять, но не пакистанскими, понял? Если будет паа-пакистанскими, мы твои адреса знаем. И на улице Цандера, и на Ска-скатертном. Ты Вахе должен и если-если будешь мне должен, до… дочку свою не увидишь.
— Да зачем мне оно надо, спасибо. Ничего опять-таки не понимаю, какая машина, какие гаражи,— как в бреду зашептал Панька.— Так что вот что, Григорий Иванович,— бодро и громко продолжал он.— Не получится у нас с вами пока ничего. Привет семье. Супруга передает супруге тоже.
— Значит так, если ты хочешь эту машину, цвет серебристый лед, новая, с документами, то го… гони к институту с деньгами. А нет… То сам зна-знаешь что бывает.
— Сейчас это не представляется возможно,— путано отвечал Панька.— Але!
— Минуту. Я по другому телефону,— сказал Номер Один и слегка изменил интонацию, как бы отвернувшись.— Слушай, кацо, друг. Ты предлагал двадцать четыре, и я согласен. Тот клиент отпал у меня. Где. Записываю. Новоалексеевская… до упора в железную дорогу… и налево… шиномонтаж. Все, еду (и якобы в телефон Паньке) Ну все, лады. Все продано. Хорошая машинка.
— Я перезвоню,— сухо произнес Панька. В его горячую голову, однако, что-то запало.
Он действительно быстро перезвонил. Видимо, с улицы. С грохотом проехал какой-то транспорт.
— Але! Это вы? От Вахи?
— Это я. Что надо.
— Я… Я даю двадцать пять.
— Теперь это стоит двадцать шесть, закон джунглей.
Помолчал, но потом согласился.
— Через полчаса у ваших гаражей, но не во дворе, а со стороны проходной института. Ты понял, какая у нас информация? Де… деньги в пакете, каждая тысяча отдельно, ты понял, со стороны проходной, через… через по-полчаса, не во дворе.
— Через сорок минут, ладненько?
— Но никаких этих твоих спортсменов, шка… шкафов этих. Мы все знаем. Увижу кого-нибудь рядом, все. Мои люди всех вас достанут. Ваши адреса есть.
Тут он вдруг Панька, как больной, захихикал и произнес свою любимую фразочку:
— Как говорил Конфуций, тигр сначала бьет, а потом кричит.
Ни к селу ни к городу.
— Так это же тии… тигр,— ответил Номер Один и отключился.
Всегда Номер Один к делам директора относился со смехом, но не сейчас. Не сейчас.
Старые болячки засвербили. Вся история последних лет. Вел машину и кипел злобой.
Многие молчали, потому что люди в институте начали получать хоть какую-то зарплату и премии, как-то работа (в основном на сторону) шла, не то что при прежнем благородном старце Энгельхардте, который проводил время на международных симпозиумах и со своей высоты ничего не замечал, а самолеты ему и его секретарше оплачивала институтская бухгалтерия, в то время как сотрудники не получали ничего месяцами. Это кончилось плачевно, Энгельса с почетом ушли на запоздалую пенсию, дали ему какую-то международную премию (как шутили, «посмертно»), появился новый директор, Панька, про которого заранее говорили, что он похож на архиерея и столько же смыслит в науке, но хороший практик. Он действительно забирал себе все долларовые гранты, которые люди доставали под свои экспедиции, якобы деля эти доллары на все отделы. Не говоря уже и о мелком бизнесе и о разносторонних интересах, среди которых намечалась и педофилия. Он поговаривал: «Я мужчина и должен все испытать!» Он купил квартирку на Скатертном якобы для дочери, но использовал ее сам. Один уволившийся водитель как-то рассказал другим, что возил туда теплые мужские компании, которые останавливаются у одного «Макдональдса» на шоссе, где голодные дети на автостоянке ждут, кто бы их угостил. Мальчик там якобы стоял раскорякой, не мог ходить, смеялся водитель с презрением.
Вот и испытай, что должен.
Зазвонил телефон.
— Да, але, да. Ну да, я угнал вашу, да, та… тачку.
Был доволен и говорил медленно и почти правильно.
— Ну стоп-стоп-стоп, а то… Ну долго (выругался с удовольствием) мораль тут мне орать будете… Я сейчас соо-сообщу позвоню в органы, что вы незаконно продаете оружие воздушного боя… С дальних аэродромов. Ну что. Да, ваш автомобиль да, у меня. Да, я его заказал, была проделана работа. За вами ездят уже три дня. У сауны хотели взять прошлой ночью, но водитель сидел. Да. Но ваш мерс будет скоро разобран на детали. Я нисколько не хочу. Нет. Да что вы мне смешные деньги предлагаете? Сколько? Да я за тридцать ее сейчас могу загнать. Сорок? А как вы считаете, я вам поверю? Ну хорошо. И сумки, ладно. Машина будет стоять, так, через пятьдесят минут в районе, пишите… (продиктовал), это гаражи инстатута. Внутри буду сидеть я, борода, очки, партийная кличка Феликс Федорович. Скажите «Феликс Федорович, мы от Вахи». Пусть будет один человек, ясно? У меня там тоже свои люди, четверо дежурят. Адрес позвоню скажу когда будет все готово. Ваш телефон. Записал, ждите.
Приехал пораньше, поставил машину подальше и правильно сделал. Прогулялся к институту.
Панька явился, конечно, не один. Держа дистанцию, впереди и позади шли так называемые помощники, Витя и Сева, два шкафа, оформленные в отделе кадров как лаборанты с незаконченным средним образованием. Любовники и шестерки.
Позвонил ему.
— Ну что, это я, от Вахи, ты готов?
Он ответил:
— Тут со мной вызвались поехать мои студенты.
— А я один. Пусть остаются на месте, подходите ко мне. Я на углу, у светофора, за кустами стою.
Постепенно темнело.
Панька подошел, посмотрел на Валеру и сказал:
— Да, вы человек Вахи, я вас видел. В бане мы были вместе. Очень приятные воспоминания (он мимолетно смазал горячей ладошкой Валеру по руке. Брр.). Так. Ну, где машина?
Он все осмотрел детально, влез внутрь. Пыхтя, отдал деньги. Двадцать шесть пачек. Старые, ношеные, настоящие доллары.
— Че старые-то?
— Уж какие были. Я не банк. И так все подмел.
Врет.
Номер Один отдал ему ключи. Пульт оставил себе. Вышел, нагруженный двумя сумками.
Панька сразу тронул, лицо у него было радостное, и подобрал своих малышей по дороге. Свернул к институту.
Номер Один тут же позвонил хозяевам машины.
— Вот адрес. Ваш пульт и сумки лежат за табачным киоском рядом с институтом, в траве слева, прямо у стены. Все, жду.
Спустя десять минут приехали три машины, люди в камуфляже ощупали землю, нашли только пульт, поехали к институту. Оттуда через паузу понеслись характерные звуки атаки. Глухо хлопнуло несколько раз. Бьют по замкам. Разумеется, им никто не открыл железные ворота гаражей, там имеется глазок, Витя и Сева были на стреме. Но раздался небольшой взрыв. Видимо, снесли ворота. Затем послышались выстрелы. Скорее всего, были задеты интересы большого военного комплекса. И зачем им оставлять свидетелей своего позора, когда у такой фирмы увели автомобиль?
Спустя еще пятнадцать минут на улицу выехали четыре машины, в центре кортежа красовался мерс.
Пошел посмотреть.
Все трое в разных позах лежали в гараже. Панька и его купидоны, бедные, безмозглые и безработные спортсмены. И один охранник, тоже из их банды.
Брезгливо вынул у Паньки ключи, обшарил все карманы, ничего.
И тут раздались чьи-то шаги. Так. Застанут рядом с трупами. Бежать.
Огляделся, мимолетно взглянул на дверцу рядом с воротами. На ней нарисовалась бумажка «М-психоз 23:50—23:55». Преодолел желание прыгнуть туда. Взглянул на часы. Ровно 23:50, надо же!
— В чем дело?— испуганное восклицание.— Что это вообще за базар? Что вы тут делаете?
То и делаем. Это на пороге стоял, на тебе, дежурный по институту, лаборант со второго этажа Костя. Молодой отец после университета. Он услышал выстрелы, взрывы и зачем-то спустился посмотреть.
Номер Один отчетливо сказал, отвернувшись:
— Через по… через полчаса вызовешь милицию и пожарных, ясно? И молчи, если хочешь жить, Костя. Скажешь, что были люди в черных масках на трех машинах, взорвали ворота гаражей. Что тут перебивали номера на краденых машинах. А ты выбежал, испугался и спрятался вон там, за будкой. И иди туда, ясно? Прямо сейчас.
Костя, пожав плечами, пискляво ответил:
— Ура.
И исчез, умный, интеллигентный мальчик.
Номер Один панькинским ключом открыл дверь, поднялся к директору в кабинет, нашел на кольце еще ключ от сейфа, там у этого была заначка, бутылка французского коньяку (спрячем в карман), хлыст (ага), баночка с какой-то мазью, спрей «интим» и куча бумаг.
Все свалил на пол, выгреб туда же содержимое ящиков стола и вытряс те немудреные подарочные книжки, которые стояли на полках. Порхнуло несколько пятисотенных евро. Так.
Поджег зажигалкой кучу. Горело неохотно, но потом занялось хорошо. Где-то тут горит и его собственная расписка. Пошуровал, распушил листы. Вспыхнуло.
Открыл окно и выкинул вон по частям компьютер, монитор так хрястнул об асфальт, что удовольствие доставил огромное! Позвонил 01. А то загорятся архивы, библиотека, жалко.
Хотя вряд ли Панька стал бы заносить в компьютер все долговые расписки.
Заботливо кинул в огонь и дискеты со стола.
Посмотрев, хорошо ли горит (костер поднимался уже на полметра от пола), Номер Один неторопливо ушел, взяв сумки.
И не было у него места, где преклонить голову, посчитать прибыль.
Двадцать пять от этого… И толстое портмоне от того, от генерала… И его водителя большой пустой кошелек.
глава 8. Родной дом и последствия
Он набрал номер.
— Алло,— солидно сказал в трубку Номер Один.— Это Анна Влади… владимировна? Это Валера, знакомый вашего мужа. Он велел передать вам свой паспорт и деньги. Все в порядке, он сказал, что вы ничего уже не должны и квартиру не отберут. Так я зайду?
Она наконец откликнулась:
— Да?
Робкий такой, тонкий голос. У нее всегда такие интонации, когда она против. Несогласна и недовольна.
— Я могу к вам заехать?
Тоненьким голосом:
— О. Разумеется… Только уже поздно. Мы с Алешей спим.
Да не спишь ты ни фига! Раньше двух не ложишься! Все сидишь редактируешь чужие докторские. За копейки.
— Ну я на ми… на минуту. Отдам и уйду. Он очень просил оставить деньги, боится, что опять что-то произойдет.
— Странно как-то… Так говорил? Ну я не знаю… мне ничего не нужно. Раз квартира остается… Мы ничего, мы проживем. (Специально тоненьким голоком). Передайте ему, я устроюсь на работу в дом инвалидов, нас с Алешей возьмут…
Проскок! Я видел уже этот дом инвалидов и Алешу в койке.
Еще новости! В дом инвалидов Алешу! Такого умного пацана! А сама будешь дома ночевать?
— А квартиру сдадим… Так и скажите. Ему некуда возвращаться.
— В дальнейшем в хорошу… в хорошую погоду,— сказал Номер Один свою обычную фразу.
Она насторожилась. Но тут послышался ясный, тонкий голосок.
— Нет, засыпай, Алеша, это не папа,— ответила этому голосу жена.
— Короче, я еду. Адрес мне ваш муж дал.
И он положил трубку.
Все внутри кипело. Алеша не спит в двенадцать ночи! А мне некуда возвращаться! Что же это за баба!
Довольно быстро для такого гиблого места Номер Один поймал машину и поехал домой.
Когда он позвонил в дверь, жена открыла ему дверь только на ширину цепочки.
— Извините, мы спим,— сказала она. Умная женщина, однако!
— Тут две сумки еще. Они не пролезут, вы что.
Он показал новенькие, туго набитые сумки.
— Пока что возьмите паспорт.
— А зачем мне его паспорт? Как же он без него?
Она начала что-то понимать.
— Он жив?
— Я не в ку-курсе,— ответил Валера.— Мне он велел передать, сказал перед смертью…
Она сразу залилась слезами там, за цепочкой. Наконец открыла, взяла в руки его паспорт, посмотрела на фотографию и быстро пошла на кухню, плечи ее тряслись от беззвучного плача.
— Мам, папочка приехал?— спросонья запищал Алешка.
— Нет, нет, спи, нет.
Она пошла к Алеше, а Валера у порога снял ботинки, надеть свои тапки не посмел, остался в новых американских носках не без гордости, и сразу сунулся в ванную вымыть руки. Но что-то было необычное там, под вешалкой.
Все было как заведено кроме того что в прихожей. В ванной висело бельишко. Пахло детским мыльцем. Все чисто вымыто. Анюта молодец. Перебрался на кухню с сумками, по дороге отметив, что да, вот оно: под вешалкой стоят чьи-то новые мужские тапочки, большого размера причем. Тут вошла жена. Вяло, сопливо предложила:
— Чаю хотите?
— Хочу.
Поставила чайник. Села. Тоненькие руки, большие глаза, челка. И дать-то тебе можно восемнадцать лет. Только истощенная, как узница какая-то. Старый халатик. Тапочки с дыркой на большом пальце. Тонкий розовый ноготок поблескивает. Он всегда ей сам стриг ногти на ногах с того времени, когда она ходила Алешкой и не могла наклоняться. Волосы золотые собраны в пучочек. Красит волосы дешевым аптечным гидроперитом. Нет денег в этом доме. Нет денег.
Сначала вытащил пакет с деньгами, все двадцать шесть тысяч. Положил на холодильник.
— Муж ваш сказал, что это вам на какое-то время хватит.
Выставил бутылку коньяка.
Она не пошевелилась. Горел огонек под чайником.
Тихо, тепло. Чьи же это тапочки? Для меня купила. Нет!
Стал распаковывать сумку. Эт-то еще что! Пакеты… Господи, из сексшопа искусственный член!
— Ой, нет, это мое.
Дальше было тонкое красное белье, четыре упаковки.
— Это вам. Протянул.
— Это, вероятно, тоже не мне. Она усмотрела размер.
— Ну продадите, все же дорогое…
— Это он не мне покупал. Кому-то побольше меня.
Потом шли колготки, черные кружевные, сетчатые, но тоже все оказалось большого размера. Кого он там себе завел, этот генерал? Слоних каких-то.
— Ну все понятно, больше не надо смотреть,— сказала она задумчиво, глаза в разные стороны от обиды.
— Я вам все это оставлю, мне зачем.
Она смотрела куда-то в пол. Вот идиот! Не мог поглядеть содержимое сумок там, на лестнице!
— Вообще это не он покупал. Я вам честно признаюсь. Это я купил своей жене, но я же вас не знаю, и решил вам все подарить, потому что мужа вашего убили.
— Знаете, не надо обманывать. Его не убили. Не верю. Вы эти вещи видите в первый раз. И деньги заберите.
Вот, это вся его Анюта, она такая. Нет других на свете. Таких маленьких, упрямых. Кого-то она уже принимает.
Он стал мычать какую-то мелодию. Сонный, довольный голосок:
— Папа?
— Нет, спи, Алеша.
Ушла. Алешка узнал его интонации. Вернулась, стала у притолоки:
— Ну что, извините, мы будем ложиться спать. Я вас провожу.
Ждет кого-то, б.
— Дело в чем,— замельтешил Валера,— у меня поезд утром… Я бы здесь на кухне… Переспал бы… Кинешь мне какое-нибудь старое пальто.
— Старого пальто уже нет. А вы можете снять комнату в любой гостинице — и подвинула в его сторону пакет с долларами.— Я не возьму.
Точно кто-то у нее есть! Кто-то с бабками! Спонсор.
— Ну хоть на со… сохранение. Я потом приеду.
— Вот уж это нет. Больше я вас сюда не приглашаю. Муж будет недоволен.
Какой муж?
Во дает баба, ДДП. Дощечка два прыща. Да кто на тебя позарится! Мослы!
Кто-то у нее бывает, ночует. Алешу надо спросить. Алеша не соврет. Или тот приходит по ночам? Надевает свои тапочки!
— Нет, женщина, я посижу тут до утра. Вот так, женщина.
Стала водить головой, ошарашенно глядя по сторонам. Закусила губу. Сейчас шарахнет сковородкой.
Нет, подняла трубку телефона. Набирает… милицию!
— Да ты что, охре-охренела?
Вырвал у нее телефон. Хотял грянуть им об пол, но побоялся, что Алешка проснется.
Сердце стучало. Милицию! С такими деньгами вызывать!
Спонсор у тебя?
Он протянул руку и положил ей на бедро. Куриная косточка. Незнакомая бабья мякоть.
Вот! Наконец!
Быстро дернул свою молнию.
Анюта вцепилась пальцами в его руку, оглянулась, побледнела, выкатив глаза по собачьи, в разные стороны. Боится, что Алешка проснется. Забормотала «ну что вы, Господи, ну что вы». Он понял, что кричать она не будет. Ах ты тварь! Ты у меня крикнешь! Водишь? Водишь к себе?
Отправил ее одним махом на пол. Она сложилась у его ног в узел, защищая руками почему-то голову, и бормотала «Господи, что с вами».
Все было в порядке с Джоном Стейнбеком.
Там, на полу у нее началась другая песня: «Не убивайте, оставьте меня в живых, он умрет без меня, отца у нас нет».
Бормотала.
Отца, видите ли, нет! Есть! Валера поднял ее голову за волосы. Вцепилась своими палочками в его руки, шептала «отпусти, сволочь, отпусти». А чтобы ты знала свое место!
Так кошки выглядят, если взять их за шкирку. Рот растянут, глаза враскосяк.
Она висела на своих волосах, пытаясь отцепить его руку. Не плакала, бормотала одно и то же: «Не убивай меня, гадина, ребенок погибнет».
Как это не убивай. Как это гадина.
Освободил Джона Стейнбека.
Сначала ты мне сделаешь… вот бери! Взять! А потом придушу. Отворачиваешь морду? Ударил ее лицом о свое поднятое колено. Ухнула. А вот это не надо, кровь пошла у нее из носу. Это мне не нравится. Еще раз о поднятое колено.
И вдруг раздался дикий визг, от которого у Валеры зашевелились волосы на голове. Он даже отпустил бабу. Он терпеть ненавидел, когда эти короеды выступают, дети так называемые. Валера тронулся это дело придушить. Этот ор, дикий вой, непрерывный как сирена, тонкий визг раздавленной собаки.
Но он не мог сделать ни шагу. В его ноги крепко, как железные крючья, вцепились ее руки. Она поняла, что сейчас будет, и повисла на его ногах как тяжелая, окостенелая масса, которую он пинал, но увязал как в болоте. Как будто ноги полотенцем стянули на х. Но все-таки двигались они оба к двери, к этому дикому вою, сводящему с ума визгу, который шел из дальней комнаты.
Номер Один запыхался. Дикий вой, режущий уши, как на последнем издыхании, продолжался. Надо было как-то с этим кончать, придавить, вогнать обратно в глотку, для чего и существует нож. Один мах и все! Оставил ее горло и полез в ящик стола. Она прижалась спиной к столу, но ноги его не отпустила.
Тут короед замолчал. Но это он набрал воздуху. Ви-и-изг!
Тонкие, вязкие как жвачка руки залепили ему конечности, лбом она прижалась к его коленям. Кровь к крови. Давила, скрывала лицо, рот. Кусала сквозь брюки ногу! Как зверюга!
Все у него съежилось, на полшестого повисло.
Валера тянулся к ящику с ножами. Одна рука ее за волосы, другая тянется. Сейчас у нее съедет скальп.
Чувство было как во сне — бегу, но не двигаюсь. Стал отлеплять бабу, молотя кулаком по ее спине, по голове, по худым костям, по цыплячьему мясу!
Она молчала и не отцеплялась. Оказывается, она охватила локтем и ножку стола, а тот заклинило между холодильником и стиральной машиной. Каждый сантиметр в этой кухне на счету! Все мерили рулеткой! Надо, таким образом, выдвинуть стол. Он выдвинулся со скрежетом, но не прошел между плитой и стиралкой.
Этот замолчал. Сейчас опять!
В тишине он услышал ее хрип, как ножом по стеклу. Она тихо скрежетала, щопотом: «Убей его сначала, его сначала! Ради Бога!»
От удивления он кашлянул. Как убей его? Сына моего?
— Папа!— визгнул голос Алешки.
И тут из дальней комнаты раздался довольно сильный, какой-то неживой удар, как будто что-то неподвижное рухнуло. Потом глухой, длинный стон. Потом молчание — и тихий, безнадежный детский плач, все кончено. Это плакал наш Алешенька! Маленький калека упал с кровати!
— Папа,— плакал, захлебываясь, Алешенька,— папа, папочка. Я упав…
Все нутро рванулось в ту комнату. Да отвяжись ты, падла! Поднять, обнять, утереть слезки, не плачь, папа тут. Отстань! Отпустил ее волосы. Все!
Снизу раздался ее неожиданно громкий, хриплый голос:
— Алеша? Ты что?
Цепкие плети, державшие как спрут его ноги, отпали.
Жена из-под его ног на четвереньках поползла в сторону двери. Кровь на полу.
Отодвинулся, застегнулся.
Шатаясь, встала и пошла, трогая пальцами, очень осторожно, волосы и утирая лицо. Руки ее в крови. Мое колено мокрое от крови. Укусила, что ли? Больно же колено!
А, это ее кровь.
Она ушла в ванну. Он привел себя в порядок и, скрываясь, выглянул из-за притолоки.
Там, на пороге дальней комнатки, стоял на четвереньках его сын. Он дрожал. Он даже переставил руку культяпочкой и попытался подвинуться еще на шаг. Один мизинец отставлен. Единственный, который шевелится. Голова опущена. Подвинулся, трясясь. Пополз!
Жена из ванной говорила громко и хрипло:
— Ну молодец, Алешенька! Ну давай, иди! Иди ко мне.
А парень, как заведенный, твердил «папа».
Вышла из ванной, не глядя в сторону Валеры, умытая, в халате, накинув на больную голову полотенце. Ноги-то все равно в крови, вот дура! Алешка увидит!
— А это я тушь красную на себя пролила,— поглядев туда, куда смотрел Номер Один, бодро, не своим голосом начала объясняться Анюта. Что-то еще говорила утешительное, нежное там, в комнате.
Почему-то подхватив с холодильника пакет с деньгами, и, от позора, сумки, Номер Один выметнулся на улицу.
Он трясся так же как его сын.
Куда теперь, встал вопрос. У меня нет дома.
Позвонил одной Верке. Телефон знал наизусть, звонено было-перезвонено. Квартирка рядом с институтом.
Которая в библиотеке всегда ему так радостно улыбалась и давала домой книги из читального зала. Редкие издания! Верка с диван-кроватью. Называй меня теперь Верба. Нет, ты Даная. Можно было прийти даже ночью. Без проблем.
— Хал-ло! (она так всегда, как бы по-английски).
Забормотал как-то криво, прокашливаясь, глотая слова, что я сам от такого-то, его друг, сам из города Н., а поезд только завтра. Просьба будет большая, я заплачу сколько скажешь. Постелить на кухне. Привет от него вам, Верба.
Ее мать говорила ласково «мандинка ты». Вера со смехом рассказывала. У нее кухня довольно большая. Диванчик стоит для гостей.
— Да?— сказала эта Верба, помолчав, простым и грубым голосом.— А пошел ты туда-то. Новости еще! От Ивана он.
И бросила трубу.
Москва бьет с носка.
К друзьям, кто мои друзья? Кто примет постороннего человека? Витек нет, во всяком случае его жена холодно удивится. Новая квартира в центре с дорогим ремонтом. Витька даже неудобно беспокоить. У Володи жена добрая, но у них стоит из-за этого автоответчик. Веня откроет дверь всегда, даже постороннему, и жена его тоже, но столько будет расспросов, давно не виделись с вашим другом, с университета. Как-то дико. Веня поет в храме. А когда бы мы находились в своей собственной шкуре, тоже бы вот так не разлетелись переночевать. Неловко. Юра был друг, после того как Оппегейм и Шопен эмигрировали. Но теперь все. Ящ мой друг? Какой такой Ящик? Яки Ящ? Он убил меня.
Пусто.
Взял машину, доехал до вокзала. Кипела бурная жизнь, старые проститутки ожидали своего часа, какого-нибудь в хлам пьяного транзитника, валил народ с поезда, вечный карнавал, а он после драки да и парчина, даже обе, в крови. Милиция невдалеке попарно.
Кто-то подошел, сказал:
— Ты от кого?
— От Вахи.
— Ну и сливайся отсюда.
Угрожают. Приняли за кого-то. Да и вид, конечно,
Поменял доллары, купил себе бутылку, закусь, первые с краю штаны спортивные, а то люди глядели на его брюки. Переоделся в сортире. Бутылку тут же выпил. Умылся, вытерся рукавом. Весь трясся.
И вдруг позвонил домой, покашлял и шипя сказал:
— Але! Анюта? Муми! Плохо слышно! Это я! Я по межгороду звоню!
Она хрипло, надтреснутым голосом ответила:
— А! Это ты? Какой-то голос незнакомый.
— У тебя тоже!
— Ты жив? Я так и думала. Прекрасно,— сказала она и состроила даже какую-то усмешку, подпустила иронии.— Спасибо за подарки.
— Каки подарки?— изумленно ответил он.— У меня ни копья! Муми… мумичка!
— Как какие подарки? Человек от тебя приходил…
— Ты что, Муми!
— А деньги?
— Вот те на. Анюта! Честное лее… ленинское! (это семейная поговорка).
— Неважно. Слушай. Лекарство-то… оно действует! Алешка двигает ногами и руками! Так сказать… Не было бы счастья…
Тут она заплакала, зарыдала взахлеб бормоча: «Я так соскучилась по тебе, мы так соскучились по тебе».
— Тут ветер и дождь,— отвечал он.— Такие ветра! Ночи не сплю.
— Я так и думала.
— Пытаюсь достать деньги, мумичка!
— Но ты представляешь, какое лекарство!
— Это не это!— воскликнул он.— Это моя гимнастика с ним!
— Лекарство, лекарство,— рыдала она.— Но он все равно говорит, да, Алешенька? Он все равно говорит: когда папа будет со мной заниматься? Скажи, Алешенька! Это папа звонит!
Его голос, сиплый:
— Па? Па?
После плача.
— Да, мумичек.
— Ковда… (вздохнул тяжело после плача). Ковда гивнастикой будешь со мной… Я упав!
Он говорил, говорил взахлеб.
— Дай-ка маму. Пока-пока. Целую-целую (…). Че это он не спит у тебя. А как сама-то?
Помолчала.
— Знаешь, я тут упала… С лестницы тут упала… Нос разбила, вся распухла. Голова кожа распухла как подушка… Но ничего, жива! Жива осталась! Быстро приезжай! Невозможно без тебя!
— Сейчас как? Сейчас я не в силах.
Она как-то странно засмеялась. Как смеются оскорбленные и униженные.
— Лед, приложи лед! Муми! К голове!
— А, как я не догадалась, сейчас… (возня, пошла с телефоном к холодильнику) сейчас.
— С какой лестницы?
— У соседей стремянку взяла, занавеска упала… Синяки.
— Слушай, а у тебе не сломано ничего? Ты в нос говоришь…
— Да не знаю… Погоди, а что это ты столько по автомату наговорил? У тебя же денег нет? (Подозрительная).
— А… Тут автомат вообще без жетонов работает, по… поняла? Он сначала одну штучку проглотил, а потом видишь, я говорю и все! Так что сходи на рентген. Вызови мать с Алешкой посидеть и сходи.
— А, мы вчера опять с ней хорошо поговорили. Она обиделась, что я ей не звоню. А ей звонить, это на час попреков. Ты не из автомата звонишь!
— Сходи на рентген… Проверь мослы свои…
— Что ты говоришь? Что-о?
— Слушай. Если меня нет — выходи тогда замуж за моего Валеру. Он верный, хороший парень. Будет отцом.
— Как это — тебя нет? Как это? Глупости какие. Буду ждать всегда. Мы с Алешей будем ждать тебя всегда! Идиотов не предлагай. Никогда! Ты говоришь не своим голосом!
— А у тебя тоже не сво… не свой. Меня убили (заплакал). Молись.
Он повесил трубку, как будто прервали.
глава 9. Группа лёгких привидений
На перроне Валера договорился с проводницей, залег в отдельное двухместное купе спального вагона, все как полагается, уже не было того задору взять чемоданчик у лоха. Не было мыслей. У вора должны быть мысли и задор. Шутки на уме. Шутки с теми кто попадется с добром. Трали-вали.
Все на эту ночь в порядке, он лежит на чистом белье в отдельном купе, но очень болят ноги. Как если бы были побиты в самую голяшку. Он пощупал их, посмотрел. Ни синяков, ничего. А боль прогрессир-вала, увели-чвалась, боль в тех местах, за которые она держала мертвой хваткой. Спрут. Силой своих жил. И голова, что с головой?
Сел, посмотрел свои ноги. Потом руки. На сгибах следы уколов. А. Надо достать удовольствие. Ломка, ломка, что ли? А пойдешь к проводнице, она тебе такое впарит, что и не встанешь завтра, а встанешь, то без денег. Мука, такая мука, тоска.
Надо начинать ту жизнь. У меня две жены. Одну зовут Алиска, у нее мать со мной жила тоже. Двое каких-то ребят. Вонючая квартира, бабка. Да не хочу я вас! Деньги есть. Найти новую подругу, почище. И что, щипать карманы по троллейбусам? А диссер? В рюкзаке записи, какие на х записи. Она все выкинула, а-а!!!
Не может быть! Нет, не выкинула. Остановилась на старом пальто, надеюсь. Записи десяти лет!
Лысый Ящ меня караулит и Вахе я вроде бы должен. Но что, сколько… И другие меня знают, наверно, много народу меня знает. А я не знаю никого. Холодно, выворачивает наизнанку, ноги тянет. Ну и что, ну тапочки у меня дома. Ну имеет она право. Когда последний раз мы с ней спали? Или подруга ей отдала чьи-то… Да нет. Тапки обычно не отдают. Держат под вешалкой для гостей. Да купила небось сама. А на какие деньги? Нет.
Нет. Это тапки его.
А чо с ними чикаться вообще? Да замочить их! Не пустит. На цепочку закрытая сидит, как бобик. У меня все болит, пока эта баба жива. Убрать бабу, не будет болеть. И не встает… Вот, не встает у меня. Не получа-ет-ся опять!..
Холодно. Допил бутылку. Сна не было. Куда едем-то?
Весь вагон гремит, толчет тебя, месит, визг какой-то, дили-дон, болтается какое-то ведро, что ли.
Поехать рвануть на Север? Его примет любой балаган, пожить там лето, собирать материалы, вести дневник, записи… Куда я денусь с этими записями, у меня образование-то… восемь, что ли, классов… Кто их опубликует… Компьютера нет. А что я знаю по-английски? Ничего, представь себе! Ниче-го! Нафиг. Предтавьте себе, как говорила Марья Михална, жуткая математичка, которая его ненавидела, добилась, что к экзаменам за девятый класс не допустили. А тут и сел в колонию. Зарезал этого… Папаню. Так и надо ему было. Не лез-зь! Скучно, скучно как. Математика — барьер, непроходимый для кого? Для нас, для удобрений. Государство расставляет сети математики, чтобы не пропустить дальше кого? Мы нужны для другого, для черной работы. А вот хей вам, мы воры.
Вылез в коридор. Потыркался в разные купе — было заперто. Выползла проводница, безмолвно смотрела, как он вертится у чужой двери.
— Вам что надо-то?
— Отвали, б,— сказал.
— Чаю?
— Водки мне.
Ага, из ее бутылки выпьешь…
— А вагон-ресторан работает?
— Да сходи, сходи,— заботливо отвечала проводница.— Пятый вагон отсюда. Может, продадут. Закрылися уже.
Пошел, шатаясь, считая тамбуры и переходы. Миновал спящий плацкартный вагон. Одна компания веселилась, пила, сбоку, завешенные простыней, трахались, он отогнул простыню, поглядел. Быстро трясется малый, встав на руки и закусив губу, под ним откинутая голова бабы, как бы ей больно, сморщилась, ноет. Хотят кончить. Интересно же. Повеселел маленько. Но его окликнули, заорали, заматерились, стал подниматься кто-то с лавки, в руке тупой ножик, быстро все веселье у них прошло. А я случайно остановился. Выругался, качнулся дальше. Долго стучал в вагон-ресторан, разнес какое-то стекло, бежал обратно.
Проводница вышла:
— Дать чаю?
— Нет, б.
Заперся, плюхнулся в постель и долго боялся. Они подмешивают и в чай. Ничего не вышло и на этот раз. Импо? Импо?
Тут же вспомнил урок прошлой ночки, спрятал пакет с деньгами в рундук под собой.
Проснулся быстро, поезд еще шел. Причесался пятерней, стал рассматривать содержимое сумок. Эти подарки как раз Алиске и Анджелке. Резиновый хрен бы подарил теще, пусть бы похохотала. Веселая была бабка, олдовая герла. Сохранила семью. Лежит на кладбище теперь. Во второй сумке были какие-то бумаги, контракты, печати, подписи. И на дне в коробке в красивой упаковке такая сложная конструкция с дырой и волосами, модель. Прилагается типа вонючий брр вазелин. Кому это покупали, себе, конечно, генералитет. Так. Сначала надо посчитать деньги. Ого! Так. Надо будет купить побольше пояс. Индия где теперь? Я с этими деньгами вообще все куплю. Квартиру куплю сегодня, чтобы больше бабку эту не слышать.
(Тонко завыл).
Как болят ноги! Как тянет в руках! Жить не хочется. Жить неохота. Как повторял всем тот веселый дядя Шиш. Друганы отрубили у него по пьяни обе лапы за долги и пустили на улицу просить, не пропадать добру. Или это у Валеры такая болячка? Скажем, облитерирующий эндартериит? А это что такое?
С трудом дожил до двенадцати дня, поезд кланялся каждому столбу, еле-еле полз.
Чай отверг, проводницу не пустил.
Приехав, осмотрелся на перроне внимательно, его тоже какие-то глаза внимательно осматривали. Кто-то уже говорил по мобильному. Валера не стал брать такси и быстро пошел куда? Домой. Куда еще? Каждый человек идет домой! У вокзала сесть в машину — и поминай как величали. Народ там известный. На троллейбусе тоже не поехал, могла возникнуть нежелательная встреча. Чего-то опасался и правильно делал.
Во дворе его увидел пацан, на скамейке гужевался рядом с… Господи! Это была та самая покойница Светка!
— Мама моя,— гордо сообщил пацан издали.— Мы ее отнесли домой… Сегодня вышла во двор!
Светка неотрывно, прикрыв лицо ладонью, смотрела на решетчатую ограду онкологической клиники. Оттуда из ворот вылезла женщина с открытым ртом, в руке сумки, другая прикрывает щеку, оглянулась по сторонам и закричала:
— Ксюшенька-а! Ксюшенька-а!
Светка спряталась за пацана, бормоча:
— Опять меня мать ищет.
— Мать?— не понял пацан.
Женщина в полосатой кофте шла прямо на них, ничего не видя, вертя головой и выпевая жалобно:
— Ксюшенька-а!
Она подошла к Светке:
— Девушка и молодые люди! Помогите мне пожалуйста —
Светка сидела отвернув голову как попугай чуть ли не на сто восемьдесят градусов, смеялась.
— Тут девочка не проходила? Она здесь, я знаю, она здесь где-то от меня скрывается, а у нее операция назначена на вчера! Шестнадцать лет, не видели? Вы видели! Скажите ей ее спасут, надо только лечь! Надо лечь на стол!
Малый ответно раскрыл рот и смотрел на полосатую женщину без единой мысли на лице. Пялился как дурак.
Светка тряслась от смеха.
— Ничего страшного нет, все вылечиваются! Передайте ей! Это пройдет, это проходит! По методу доктора Здленко, травы Здленко! У меня уже есть травы Здленко на после операции! Ксюшенька!!!— снова завопила она.
Парочка на скамейке смотрела в разные стороны, неудержимо и молча давясь от хохота. Тряслись их плечи.
— Смееетесь над чужим горем!— сказала тетка и сама вдруг засмеялась.
Затем она, улыбаясь, обратилась к самому Валере:
— Мы из этой клиники! Вы не видели тут девушку в темносинем плаще? Худая такая! Черненькая!
Светка встала и пошла, склонив голову в плечо, рукой загораживая рот.
— Видите ли,— зорко на нее глядя и качая головой, продолжала твердить тетка,— она ушла из больницы только накануне операции. Она считала, что дни ее сочтены. Но ее ждут врачи.
Светка скрылась в подъезде. Валера ответил:
— Спрашивала уже.
— Но вы не видели? Я прямо-таки чувствую, знаю, что она где-то здесь.
Опять завыла, глядя по сторонам:
— Ксюша-а! Ксюшенька!
— На чердаке смотрели?
— Что? Что вы сказали, молодой человек? Там же замок! Там замок!
Затем пацан слез с лавки, подошел к Валере и тихо сказал:
— Тебя Ящик ищет, тебя Ваха дожидается, говорит, ты ему должен. Алису с Антоном твоим увезли на дачу, будут пытать Антона, сказали. Пока Алиса не скажет.
Так… Алиса и Антон — это кто? Чучуна не знает своей семьи. Семья чучуны должна уйти.
— Где Ящик?
— У вас в подъезде, и был Чуносый, только ушел.
Чуносый? Известное нам имя. Что-то жуткое.
Надо бы уйти, но куда? Таскаться опять по улицам?
Знакомым путем проследовал через чердак с фальшивым замком, где тогда висела девушка с челкой.
Пробежал к дальнему люку.
Тряхнул головой.
Господи! Она опять лежала там в углу мертвая. На прежнем месте!
Стараясь не глядеть на труп, постоял, подумал, спустился тихо по трапу, бережно и осторожно в свой подъезд. Глюки, глюки у меня. Видения. Боли в теменной части черепа, тянет руки и ноги. Ломка начинается! И посталкогольный синдром! У бабки найду. У нее знакомые держат мешок с анашой, она от меня прятала. А водкой припаривает себе ноги. Равно как и своим говном.
На третьем этаже монотонный лай Сбогара. Уже без визга и воя. Привык.
Внизу шебуршение, какие-то деловые голоса. Собрание, что ли, у них?
Послушал у двери своей квартиры. Льется вода, внизу что-то тихо говорят, стоит шум, постукивают ногами. Как будто ожидают.
Как хочется лечь. А. В моей кровати жмур. Этот лежит уже сутки. Небось вонять начал.
Где Ящик, вот вопрос.
Сел пока что на ступеньку. Сколько осталось мне жить. Антону девять месяцев. Вспомнил зареванное маленькое лицо. Их пытают, но кто они.
Заглянул через перила вниз. Какая-то очередь? Куда? Люди стоят, но как-то чудно, некоторых держат подмышки как пьяных… Другие сидят или вообще лежат… Общее бормотание. Молятся?!
Грохнула дверь подъезда, топот снизу. Тяжелый топот с цоканьем, сапоги подкованные. Поднимаются двое. Милиция? И ладно.
Ага, мелькнули халаты. Санитары! Бабка вызвала санитаров! Сейчас будут выносить этого! Моего Друга, который завонял.
Поднялся на пол-этажа, подальше от своей двери. Санитары уже встали там. Затрезвонили. Рявкнули, назвали себя.
Бабка открыла сразу, они вошли в квартиру, шаги звучат глухо, замерли.
— Нужна простыня, бабуля!— крикнул один.
— Нету у меня.— проскрежетал голос бабки.— Давеча забрали.
— Тогда не возьмем твоего жмура! Пошел мат, обе договаривающиеся стороны бубнили что-то насчет простыни опять.
Грянул звонок телефона. Телефон как раз у открытой двери, дребезжит как сирена.
Взяли трубку. Новый голос, орет по телефону:
— Хало? Цо? Не! Ешче немаго! (Пауза). Допш.
Ящик.
Затем какой-то один вышел из квартиры, постоял (Валера замер) и потанцевал вниз разболтанной походкой. Да, это он, Ящик.
Кто-то с плачем бормочет оправдания.
Его голос с акцентом:
— Вы не платили, тогда идите.
В ответ еще более визгливый плач, какие-то объяснения женским голосом (стеклорез, не голос):
— Ему всего пятнадцать, только пятнадцать! Сын мой, сын!!! Ну не успею за деньгами.
— Не знам, не знам. Пошла, пошла.
Какая-то мелкая свалка в очереди.
Что тут, торгуют, что ли?
Рыдания, много шагов вниз, неровных, со спотыканьем.
Решил все же зайти в свою квартиру.
Медленно, тихо стал спускаться на третий этаж. На цырлах. Сердце сильно билось.
Дверь была открыта. Рывок, закрыться… Да они взорвут дверь. Девка во дворе его видала, скажет. Чуносому скажет.
Встал в темной прихожей под лампочкой в двадцать пять ватт, обычный бабкин свет — и тут из комнаты поволокли в простыне, свисающей как гамак, труп этого.
Валера загородил им дорогу, санитары застопорились, сбоку клонилась вперед как скифский камень бабка, из глазных щелей зорко и безумно смотря на Валеру, покачивала головой с явно читаемой мыслью «уходи, уходи, уходи».
Санитар сказал Валере:
— Плати, не потащим так. Она не дала.
Бабка значительно молчала.
— Да мне-то что,— ответил.
Надо отступать на лестницу.
Ага, а уже сверху, с чердака, кто-то тяжело, медленно, со стонами, спускается по трапу. Кто-то плачет, причитает тонким голосом «А-а, Ксюшенька, а-а, моя девочка».
Она! Проследила за ним, нашла ход. Поднялась на чердак. Нашла свою Ксюшеньку.
Надо обратно тем же путем на чердак и смываться как можно скорее.
Вот она, уже идет, показалась, спускается по лестнице сюда, тащит на горбу безжизненное тело, оглядывается конкретно наверх, к кому-то, кто выступает следом:
— Молодой человек, помогите же мне! Вы, вы!
Осторожно заглянул по направлению к верхнему этажу — спускаются грязные желтые ботинки, Ящик следом за теткой идет вниз (с чердака? Когда успел?).
— И вы, вы! Я боюсь упаду! Поддержите!
Это уже она к нам обращается.
— Вы, мужчина! Умираю!
Отступил перед санитарами.
Те все-таки понесли бесплатно.
Толстое лицо Ящика, маленькие глазки сощурены. Две дырки. Два дула. Жует свою жовку.
Сделаем как бы полупрыжок вниз, протиснемся между санитарами (мат) и вот пошел вместе с ними шагать вниз по ступеням, раз-два. Прихватив простыню в горсть, как бы помогая.
Качался как улов в сети жмурик.
— Ты чо, отвали,— сказал задний санитар,— чо под ногами тут… Маячишь…
Валера покопался в кармане и, идя в том же ритме, сунул переднему сто долларов, заложил в карман халата.
— А ну, разойдись, дайте пройти вниз…
Куда там, задний сантар, которому не перепало, замахнулся ногой, врезал нам под колено, не останавливаясь, мат пошел непрерывно.
Тут уже началась эта толпа внизу и пришлось тесниться, пробираться.
Какая-то чумовая очередь, все держат в руках — это что? Трупы они держат, придерживают. Те лежат и полувисят. Эти уже больше суток, отмякли. Что я, не знаю окольдерелых? Не работал санитаром? Окольдерелые тут все были молодые, совсем дети встречались, лет по четырнадцать… Лысые. Те самые… Девочки в платках… Их держали, скорее всего, матери или бабки. Какие-то тетки со страшными, бледными, как из теста, мордами, иногда попадались мужики с черными пятнами вокруг глаз, трясущиеся… Иероним Босх! А кто такой Босх. Был художник такой, уродов рисовал. Ага.
С трудом просачивались санитары, проталкивались сквозь густую толпу.
— Не! Не!— Заорал сзади Ящик.— Бежго! Чуня!
— Да все, ожидаем!
Какая-то женщина с мальчиком, этот живой, хрипит-дышит, прислонила его к себе, умоляет:
— Ну Господи же… Не верите? Последние секунды! Все мои деньги! У нас агония!
Мужской голос на площадке в толпе:
— Совсем ты, да? Он живой! Че приперла его? Он еще живой! Тут мертвых, мертвых, дура больная!
— Речь идет о последних минутах! Я готова!
— Ну и че? Она готова. Отвали отсюда! Во блин дает, живого!
— Деньги, вот деньги!
Сверху крик:
— Деньги везьмем, а живых не!
— Что делать, что делать!
— Придуши ты пацана своего!— засмеялись внизу.
А сзади вопль:
— Кто-нибудь! Кто-нибудь! Паа-маа-гите! Господи, да что ж это такое! Не толкайтесь, мужчина, я с ребенком! У меня же ребенок!
Санитары пробирались.
— Молодые люди, ну поддержите, ну падаю (мать Ксюши с трупом, обморочно задыхаясь).
И передний санитар:
— Поди! Поди!— заорал.
Даже не оборачивались эти затылки, люди тесно прижались друг к другу. Глаза запавшие у мертвых, ввалившиеся. И у живых тоже. Гримасы на лице, застывшие гримасы нетерпения. Непонятно, что это за очередь? К врачу? Нет. Врачам тут делать уже не фига. Зачем они мертвых держат на руках? Сдавать пришли? Погребальная контора? Босх. Кто это Босх?
Санитары, а с ними и Валера дотолклись до второго этажа, где вообще котловище было несусветное, их уже не пускали.
Передний санитар вскричал благим матом:
— А ну! От стены! Дайте пройти! А ну! Поди!
И стал бить кованым сапогом.
— Вы что деретесь, здесь больные дети!— вызверилась какая-то тощая, интеллигентная баба, держа под мышки здоровенного мертвого парня. Как она его удерживала-то?— Это же больные!— визжала она со слезами.— Сына моего не смейте касаться!
Ей, видно, попало по ноге. Понятно было, она ее подняла, как птичка, и терла о другую ногу. Вся перегнулась на сторону.
Какие больные, это неживые.
Как-то нехотя отклеивались, посторанивались, зверски оборачивались, потные уроды в обнимку с красивыми мертвыми. Красномордая тетя прижала к себе совершенно лысую девочку, никого не пропускает, растопырила локти.
Сзади тонко выл бабий голос:
— О умираю — смерть моя пришла — кто ее похоронит — спасите люди — моя Ксюшенька! Ой люди люди!
И Ящик оттуда же, сверху:
— Чуня! Бежго!
Не оборачиваться.
Что это опять: у очень знакомой железной двери присобачена бумажка «М-психоз» и дальше мелко какие-то часы.
Это сюда они все стоят, теснятся.
«Ну уж нет»,— подумал Валера, прячась за санитаром, и вдруг у него в кармане зазвонил мобильный телефон! Как гром грянул на лестнице!
Это звонят тем торгашам.
Тут же Валера увидел внизу направленное прямо в глаза дуло револьвера и харю Чуносого (узнал его сразу почему-то, знакомая личность, вроде бы серийный убийца).
— Ждем только лишь тебя,— сказал Чуносый.
Их там человек шесть стояло, все знакомые какие-то… Кто это? Какие-то бандиты явно. А, вон Светка смотрит! Но как-то нерешительно, как чужая. Нет ее этого выражения отпетости на лице. Наглости.
В такой момент все замечаем, усмехнувшись, подумал про себя. Сердце колотилось.
Чуносый рукой, револьверчиком отстранял какую-то жирную бабу с девочкой на спине. Баба держала ее как мешок с картошкой, но нежно. Свой мешок со своей картошкой. На девочке был белый платочек и длинное платье. Задралось. Торчали окаменевшие ноги, худые как палочки в белых носочках и кроссовках. Мать никого не пропускала.
Стоим над ней.
Чуносый показывает санитарам, быстрее, мол, те оробели, топчутся, боятся идти под дуло.
Впереди образовался пятачок, пустое место. Чуносый усмехался как смерть, играя оружием:
— А тут он и явился! Пол-лимона за тобой!
Санитары протискивались боком.
Валера попытался скрыться за бабой, держащей на плече девочку.
Сзади надвинулась тетка с Ксюшей на руках, она причитала, выла, ни на что не обращая внимания:
— Ой, нашлась моя девочка… Ой, видите, нашлась моя девочка… Ой Господи, нашлась. Ой, кто ее задушил… Ой-дайте-мне-кто ее задушил… Ой-я-сама-его-задушу (и т.д.).
Ну что, убьют — сейчас или потом после пыток. Все, прощайте.
Кто прощайте? Алешенька. Анюта, Марой и Степа. Доченьки мои.
Чуносый, жутко улыбаясь (желтый металл и голубые десны наружу), поманил его рукой.
У перил все еще нерешительно топтались на ступеньках санитары. Валеру прижимала сверху тетка с «Ксюшенькой», теснила к тем, кто у дверей ожидал его.
Чуносый, глядя вверх, сказал громко:
— Поднажми, Ящик!
Толчок сверху, какой-то сдавленный вопль, и Ящик уже слева протянул руку и крепко держит за локоть. Вонь, какая вонь! Откуда?
И тут сверху на голову обрушились огромная масса с визгом и криком «Да что вы наделали, задавили, мужчина, падаем!»
— МУЖЧИНАААПА-ДАААЕ-ЕМ!
Валера увидел, что нижние как-то отшатнулись, а те кто его ждал, наоборот, подвинулись навстречу как плотина встала, и сам кинулся направо, подальше от железной боксерской лапы Ящика. Но уже волокло вниз. И, чтобы хоть как-то удержать равновесие, правая рука потянулась к стене, к железной двери, и чуткими пальцами встретила какую-то кнопку, и в последнем усилии попыталась зацепиться, смазала по ней. А сам он стал неудержимо падать, падал вниз головой, на тех кто стоял там и стрелял?
Ящик неотрывно рядом, сплелся с нами.
Гром какой-то раздался. И тут в глазах почернело, все как провалилось, зазияла тьма, дунуло жутким холодом. Дверь-то оказалась открыта, его туда вдавили! Он мчался, тесня перед собой ком тел, за ним несся кто-то, тесно прижавшись толстой грудью, крик стоял «А-ааа» как в пустом пространстве, вдруг его подсекли под колени, Валера споткнулся и упал вниз головой и полетел, знакомый мороз продрал его до костей, тьма открылась, и он засвистел вниз в промозглом ночном тумане…
Покой безвольного полета, дух захватило.
Пошли знакомые дела, бабах мордой! Все, вонзились в тот же лед, жгучий лед, текут мимо вяло ползущие во тьме черви, лезут в глаза мерзлые сучья, колючки белого сада. Опять черная великанская ветка с тремя огромными когтями отвалилась от дерева и стрельнула как молния, рука одноглазого, и тут же все расползлось: стена с ругательством, надписью «все любят sex» и нарисованными оранжевым сиськами.
Номер Один сидел на полу в своем грязном, разрезанном на груди пиджаке. Руки собственные, белые. На пальцах нет шерсти, нет чувствительных кончиков, нет пружинистой силы. Часы «Слава». Никакого маникюра. Пощупал лицо, все еще укус на щеке, блямбочка. Как долго не проходит! Кроссовки почему-то в карманах, тусклые, сами по себе просят милостыню. Денег, разумеется, никаких. Тут же, нате, расческа. Нагрудный карман с дырой.
Вяло спустился вниз по лестнице. Пусто. Вышел во двор.
Там, у соседнего подъезда, уже полно было скорых, милицейских машин, людей в формах, в белых халатах.
Выносили трупы, накрытые с головой, по очертаниям судя — пузатые, громоздкие туловища. Немолодые. Одна была та тетка, которая нашла Ксюшу и плакала за спиной (теперь ее мертвая рука в полосатом рукаве свисала, в кулаке зажат платок).
Толпа ребят наблюдала за таким невиданным зрелищем, ребята и девочки — молодые, бледные, симпатичные, слишком бледные… Лысые все. А, вот и та, в сером платье, в платке, в джинсах, белых носочках и кроссовках, платье все еще криво сидит, ножки худые, она что-то она лепечет, обращаясь в пространство:
— Теракт, что ли… Мало им взрывов. Охилели совсем. Вон трупы несут и несут… Куда смотрит милиция, интересно. Вообще! Жить стало тут невозможно! У нас соседи сдали однушку! И въехало чуть не двенадцать их в однокомнатную квартиру! И к ним идут и идут! И ночью шумят! А у меня дочь умерла в клинике… Инвалид первой группы… Я на грани, можно сказать. Обращаемся, все бесполезно. Они уже подмазали в милиции, участковый к ним ходит… Оплатили… Спать невозможно!
Тощий мальчишка, тоже никому:
— Я и вообще плохо сплю. Со снотворными всегда. Составляю из разных таблеток такие составчики. Один коктейль на ночь, другой когда в полшестого проснешься. Дочери никогда нет дома, она менеджер в ночном клубе. Или спит. Мальчик был целиком на мне… Обиделся и умер… Он увлекся мотоциклами. Такие есть рокеры. Катали его, жалели. Стал исчезать по ночам… А своего мотоцикла у нас нет… С ужасом думала, разобьется… Он все мечтал о мотоцикле и просил денег сто баксов, а я его обидела, несмотря что его дни сочтены… Ну же ты лежишь, ну лежи и не думай ни о чем! Теперь виню себя, зачем я ему так сказала? Бог с ним, пусть деньги бы пропали, но он бы надеялся и мечтал! К нему один парень ходил, они хотели на двоих купить мотоцикл, ему сто баксов не хватало, парень ходил и ходил к нам в палату… Был конечно заинтересован денежки огрести, Павлик бы умер, и все ему бы. Хитер монтер! Павлик на меня так горячо смотрел, умолял. Он же не знал… В его последние дни… Операция была, врачи вскрыли и зашили обратно.
Тут парень кинулся к подошедшей девочке:
— Галочка! Ты жива? Мне тоже обещали, что Павлик оживет! Сто баксов я носила всегда в сумочке! Тебя увезли, мне сказали, в морг, я у Павлика ночь сидела, он смотрел все время в угол потолка… Спрашивал, сколько времени. Следил за часами. Я ему слезы вытирала, текло из глаз. Но это он не плакал. Пить давала, но «Боржоми» слишком соленый, у него рот пересыхал. Вышла к Тане медсестре в коридор. Может, какой-нибудь укольчик для поддержания, просила. Она ответила, что все по карте уже сделано. Что, что сделано, ты только с утра, а я уже сутки сижу… Ничего не делаете! Она: не надо ему мешать. Своих детей у нее нет, она не понимает. Сестры, у которых дети, тут не работают… А потом все, последний разок вдохнул и остановился. Глаза огромнейшие смотрят в потолок. Надо же закрыть! Мать должна это. Я ладошкой так аккуратно… Он дернулся весь и глаза открыл… И тут как поток по глазам побежал темный… Нельзя, оказывается, глазки закрывать им… Надо ждать… (Решительно) я виновата, я его убила.
Мальчик захлебнулся слезами. Девочка стояла, глядя в сторону, видно было, что она мало что соображает. Она нерешительно сказала:
— Павлик… Ты что…
— Галочка! Павлик ушел из жизни! Я из палаты во двор, сама шатаюсь, и в калитку, а навстречу бежит твоя мама и говорит, что за сто баксов можно оживить! Надо только принести тело. Господи, что мы только не делали! Пошли туда под предлогом, что мы верующие и не хотим чтобы детей вскрывали, нам ни в какую дежурный, но тут приехал автобус, дежурный нас выгнал… Мы стояли. А потом все тут набежали, он повез Славочку, помнишь Славочку, ему было три годика, и дежурный дверь оставил, мы со двора проникли и унесли вас… Галочка! Как я рада, что ты жива! Нас предупредили, что мы-то уйдем. Ну и что? Зачем мне жить, например? Все равно скоро собираться. Но ты погляди что творится! Ужас! За свои пятьдесят пять лет такого не видела…
Так говорил мальчик Павлик.
А, а вот черненькая девушка в темном плаще без пояса, вот она. Плачет и приглушенно зовет, вертя головой:
— Ксюша! Ксюшенькаа! Люди добрые, не видали девочку?
Одной рукой рот прикрыла.
Как рой бестолковых мотыльков, группа легких привидений. Бормочут. Не знают куда идти? Говорят приглушенно сами с собой. Глядят друг на друга, как будто едва проснувшись.
Разглядывают собственные руки, ноги. Одежду. Нерешительно топчутся Кто-то встал на ящик и заглядывает в окно, пытаясь увидеть свое отражение. Без мата. Один пошел хромать, впятив голову в плечи, и вдруг опомнился, распрямился… Оглянулся. Хромать перестал.
— Сколько погибших… Что здесь было?
Павлик:
— Галочка, вот погоди, опять никого не найдут, помяни мое слово. Ну всего тебе хорошего… А то дочь сейчас с работы пришла… Она ничего не знает… Что Павлика нет… Кричать будет на меня… Каждый день благословлять надо было, вот еще денек прожили, понимаешь? Ему ведь врачи пророчили, что он не доживет до десяти лет. Но мы боролись… как это… Ну пока…
Нерешительно пошел, оглядываясь. Ксюша громко:
— Травы Здленко, травы Здленко! Я вам говорю, дают быстрый эффект. Я же не хочу, чтобы она умирала! Я ее не отдам! Что вы, в пятнадцать лет онкология! Мы боремся!
Ее никто не слушает. Шарахаются, думая, что это бред… Начинают разбредаться. Выходят со двора кто куда.
Те самые санитары несут из подъезда в простыне покойника. Мало времени прошло! И из простыни опять назойливый звонок мобильного! Знакомый мотивчик! А! Мой телефон! Валеру понесли! Все деньги уезжают!
Подшмыгнем к носилкам и из правого кармана, пригнувшись, сграбастаем что удалось. Камень, тьфу! Санитары (другие) заорали, задний начал лягаться.
Уйти быстро!
Все деньги уезжают в Валерином пиджаке, большие тысячи и золотые зубы, вытащенные у стариков по больницам. Уезжает телефон торговцев оружием.
Мы в парадном. А у нас в кармане аметист и расческа.
Надо же, Лысый Ящ освоил метемпсихоз.
Ммда. Нет такой вещи, которую бы народ не присобачил для своих нужд.
О, вон и желтые ботинки, накрытые кое-как. Несут Ящика. И все по очереди на носилках едут кто там были, кто меня внизу встречал. Все сейчас гурьбой отправятся на Бродвей. Видимо, сами оказались невольными переселенцами, нехотя заменили кого-то, кто только что умер…
Сидит на лавочке та девушка, она уже перестала звать Ксюшу. Сонно сидит, ничего не понимая.
Вдруг она встала, огляделась, удивилась и просто так ушла. Куда-то домой, наверное, у нее же есть дом. Там жила ее обезумевшая мать, которая теперь мертвая едет в труповозке на Бродвей, да. Девочка прожила тут каких-нибудь двадцать четыре часа. Двойное перерождение.
А! Мы тоже, выходит, дважды пересекали тот порог…
Легко вздохнув, Номер Один отправился со двора. Светило солнце. Стояла какая-то холодная, ветреная, ясная погодка.
Надо было как-то достать денег и ехать домой, в Москву.
Валере легко было идти, имущества в пиджаке одна вещь, яркий, идеально круглый аметист, а кому его толкнуть? Не тот это город, покупать аметисты, простые люди, лохи, они не знают что это такое, глаз Бога, им не впарить, это нищий город, а жены богатых бандитов признают только брюлики. Это не наш путь.
Теперь на проспект.
Вот! Новый, с блестящими стеклами, большой магазин. Это для нас!
Снял пиджак, повесил на руку.
Вошел.
Всем разрешается войти, хотя охранник у дверей долго провожал его призывными взорами, Номер Один это чувствовал и спиной. Хрен я к тебе подойду. Все имеют право.
Тут же проследовал в отдел мужской одежды. Оглянулся. Никто не следит.
Походил между вешалок, повыбирал, посмотрел ярлыки, увидел цены, присвистнул. Выяснил, где примерочная кабина.
Понюхал рубашку, запах пота. Не мылся больше суток. Бездомный узнается по запаху.
Надел на себя пиджак серый, хороший. Блестящий даже. Из зеркала на него смотрел слегка встрепанный молодой мужчина неземной красоты. Слегка небритый. Модель с рекламы. Вот что делает с человеком одежда!
Причесался. Спрятал расческу обратно в свой порезанный пиджак и пока вынес его на руке и повесил на свободную вешалку. Остался в новом. Стал перебирать товар.
Подумал. Услышал голоса: женский молодой, тягучий (приосанился) и мужской монотонный, ды-ды-ды. Женщине было не по себе. Она повторяла:
— А я не слышала. Говорю, я не слышала. Я дома была. Я спала, может быть. Никуда не уходила я!
Мужчина же дважды ответил, скучно и жутко:
— Я тебя накажу.
Клиент!
— Что мы же… лаем?— выдвинувшись от вешалок, произнес любезным, хотя и скучающим тоном, Номер Один. Так. С этим заиканием надо кончать.
— Костюм желательно,— сказал мужчина среднего возраста, очень опасный на вид.
Номер Один поднес ему пиджак синий, подвел к зеркалу, а его пиджак с любезностью принял на вешалку и держал в руках.
— Или хотите серый?
— Да, как у вас, но сильно подороже,— сдержанно, со внезапно прорвавшимся чувством превосходства молвил покупатель.
— Си-час.
Прошла халда-продавщица и увидела картину: дядя меряет, а рядом с ним шестерка и баба. Баба отвернулась и плачет. Пусть. Шестерка уже в новом пиджаке. Дяде немного жмет подмышками. Развел локти, проверил. Вякнула неприветливо:
— У нас такие только пятидесятые, пятьдесят вторые есть, но четвертый рост. Вам не подойдет.
То есть оскорбила вдвойне: намекнула и что толстый, и что короткий.
— Спасибо, девушка,— ответил клиент.— Справимся сами с этим вопросом.
— Ты чо выступаешь,— удивился, в свою очередь Номер Один.
Обиделась и немного испугалась. Пожав плечами, удалилась.
Номер Один повел клиента к тому месту, где только что взял свой красавец серый пиджак, и протянул ему такую же вещь со словами:
— Размер пятьдесят второй, пожалуйста.
— Откуда вы знаете мой размер?
— Мы это обязаны,— отвечал Номер Один с профессиональной легкой улыбкой.— И знаем, что в бедрах вы поуже, а в талии поширше (специально сказал «поширше», для убедительности). То есть пиджак надо немного переделать.
— Так, да? И можете?
— Мы оказываем услуги,— запел Номер Один,— вы подбираете по длине, а мы запошиваем. Так что меряйте брюки от любого другого костюма с запасом.
Дядя просто расцвел.
— Я вам подберу пока, примерочная вон там.
Тем временем баба, вытерев сопли и слезы (рукой перекрестила нос в обе стороны, как грузчик!), вдруг решительно пошла вон, помахивая сумочкой — молодая кобылка, высокая, стройная, беленькая, в красном костюме.
Дядя растерялся. Метнулся было за телкой, но был ведь в казенном пиджаке (два других, собственный и синий, висели на на вешалках в руке у продавца).
— Я вам советую,— понизив голос, сказал Номер Один,— идите в примерочную.
Это были слова человека с рекламы, опытного в сердечных проблемах. Дядя шумно вздохнул, передернул плечами и последовал в примерочную, а Номер Один сообщил ему, отодвинув край шелковой занавески:
— Вот вешаю вам оба пиджака, ваш и новый, пока наденьте пятьдесят второй и готовьтесь мерять брюки, я их принесу вам на номер больше. Этот же цвет или два разных?
— Давайте разные,— ответил солидно клиент.— Я только из Италии. Прочесал, понимаешь, все, но не мог подобрать буквально за всю страну ни разу…
Намекает, «вы меня не знаете, но вы меня узнаете».
Италия ваш дом, коза востра, ударение на первом слоге.
Задвинул клиента портьерой.
Постоял. Проследил в щелку, как клиент надел новый пиджак, покрасовался, после чего снял ботинки и начал стаскивать брюки… Встал в носках, поворачиваясь так и сяк. Смотрел на себя в зеркало. Ножки сизые, худые. Плавки раздутые. Имеется аденомка. Брюхо здоровенное.
Номер Один ушел к вешалкам, снял с себя серый пиджачок, взял свой на локоть и быстро, как бы вглядываясь и ища, помчался по следам прекрасной телки. Продавщицы, наблюдавшие всю сцену с жутким интересом, переглянулись. Помощник бежит за женой! Или она ему не жена? Чуть его не спросили! Как-то даже сунулись следом.
Вышел на улицу мимо довольно пристально глядящего охранника. Чует, мразь.
А что? Как мы пришли, в том же виде и уходим, прикрыв пиджаком раздутый правый карман.
Поймал машину, громко сказал: «На Московский вокзал».
Проехал вдоль следующего фирменного магазина, запомнил, велел повернуть за угол и тут остановил водителя, расплатился с ним. Взял сдачу. Быстро побежал в магазин.
Там купил себе хорошие серо-синие брюки, темносинюю в черную полоску рубашечку с коротким рукавом, хотел приобрести широкий клетчатый пиджак или что-то солидное из черной кожи, но окоротил себя (Валера, Ящик, стоп), купил все-таки темносерую неброскую куртку, этажом выше взял могучие, многоэтажные серые кроссовки, затем черные очки и черную кепку-бейсболку, довольно дорогую. Анюте купил теплый тонкий яркокрасный халатик (цвет как у той кобылы), белье беленькое дорогое и сумочку (не кожаную), Алешке тоже ярко-красный комбинезон спать на балконе, потом ему же недешевую машинку. Все с большим внутренним сопротивлением, увы. Старый пиджак положил в урну, предварительно вынув из него расческу и камень. Махнул рукой, сел в тут же остановившуюся машину и поехал в аэропорт. Оттуда позвонил домой.
— Але, Анюта? Как дела? Я денег достал! Хватит на все, и на выкуп Куха! Мне не звонили?
— А, это ты?
— Ну я это, я! Что, не узнаешь родного мужа?
— Слушай,— после паузы низким голосом сказала Анюта.— Тут много новостей.
— Да? Каких это? Ну говори, говори!
Сейчас скажет, что лекарство помогло.
— …Вашего директора убили.
По интонации понятно: довольна.
— А,— отозвался Номер Один.— Ну я это предчувствовал. Бандит он был. Квартира в порядке, стало быть. Так что остался один должок, деньги есть на выкуп, мне надо лететь на север, за Юрой.
— Юра? Юра…— сказала жена загадочно,— ты уже не успел.
— Что такое? (Сердце замерло).
— Ты ничего никому не должен, Юра же уже приехал! Его отпустили.
— Как, когда?
— Сегодня он вернулся домой к маме! Она уже три раза звонила, ищет тебя и плачет.
— Я сейчас перезвоню. Погоди, Мумичка. Алешке привет. Сама-то как?
И тут она:
— А у меня не пугайся, все лицо синее. Но жива. У Алешки, приедешь, большой прогресс. Лекарство достала — чудо.
И положила трубку.
Господи.
Набрал номер квартиры Куха.
— Здравствуйте, это Галина Петровна?
Приглушенный голос скорбно ответил:
— Слушаю.
— Как у вас там? Как состояние?
— Вы кто?
— Вы меня не узнали, что ли, Галина Петровна. Это я! Иван!
— А. (Помолчала). Это вы все-таки. Я вас искала. Юра вернулся. (Приглушенно) Он не-но-рмален. Он пошел во двор и там на детской площадке спустил брюки и сделал ка-ка, понимаете?
— Что?!
— Да! Кучу навалил. Вернулся в квартиру, расселся на полу в кухне как йог и ел сырую картошку. Немытую!!! Луковку почистил и съел. Сырое мясо я вынула оттаивать на радостях, сел и настрогал ножиком и съел! Тут пришли родительницы которые гуляют в песочнице с детьми, ко мне с претензиями, что они борются с собаками, которые гадят в песок под лозунгом наши собаки чище ваших детей, а тут вон какое безобразие и хулиганство. Я его спросила, он ли это, а он кивает и улыбается. Это что?! Я потребовала у всех на глазах, чтобы он за собой убрал. Дала ему старый испорченный совок для мусора, уголок отломан, сам же Юра и наступил год назад. Новый совок мы так и не приобрели! Я его попросила, он с этими родительницами, две бабушки, пошел убирать (краткое рыдание). Это все влияние вас! Вас, идиот! С вашими дикими взглядами. Он опростился как Лев Толстой! Он сказал — будущее за нами. Кого он имел в виду? Это секта? А вы знаете, что сектанты продают свои квартиры родителей?! Вы это знаете? Чтобы не пачкать руки собственностью! Вы главарь секты? Уймитесь, кретин! Зачем вам Юра, чистый, незапачканный человек? Он специализировался по Египту! Он бы дождался Египта! Его бы послали в долину королей! Как он и мечтал! К Уилксу! Он бы достал грант! А что теперь? Кой его леший понес в тайгу? Это вас воздействие, вас! Вы если сам оттуда ссыльный, то… (тут она длинно, демонстративно замолчала, всхлипывая). Он сказал мне, что он самый лучший народ в мире и умрет, но отомстит. Что за бредни? Какой он народ? Говорит, мы все поэты. Ну это он хватанул через край. Он вообще в жизни один стих написал в пятом классе на восьмое марта, дорогая любимая мама всем дурным ты поступкам яма! Поняли? Еще он сказанул такое, что, видите ли, мы, кто-то какие-то мы, свободно уходим и возвращаемся в какие-то нижние льды. Это что, вы религия?
— Галина Петровна, он когда вернется, я ему еще позвоню.
— Сомневаюсь в этой необходимости. Вы мне никогда не нравились, но этого я от вас не ожидала!
— Я из другого города.
— А. (Испуганно). Из какого?
— Из Нового Амстердама,— ответил Номер Один.
— (Пауза). А. Ну позвоните, хорошо. (Подозрительно). Как вы оказались там? Новый Амстердам это где? Анюта ничего мне не сказала!
— Но сюда ведь быстрее чем из Энтска — три часа. Из Энтска Юра сколько добирался?
— Юра сказал, что прилетел одна нога здесь другая тоже здесь. Предтавляете? (Она тоже, оказывается, говорила «предтавляете», как та училка. Какая училка? Математики вроде бы. Но у нас был Илья Васильевич!).
Она бурно продолжала:
— В ответ смеялся. Ни документов, ни багажа! Ни билетов, что просто безобразие! Посеял! Интересно, как он будет отчитываться за командировку? Туда сто долларов с лишним билет! И оттуда сколько-то! Предтавляете? Рук не моет! В ванную идти ни в какую, пачкать такую вещь, говорит. Из унитаза, я обнаружила, напился! У меня унитаз чистый, унитаз, как говорится, это лицо хозяйки, но он вышел, с лица с него течет! Рукой, видно, как-то зачерпывал, хулиганство, не головой же погружался! Голова не пролезет туда, в отверстие! Что ты там делал, Юра, ты одичал, говорю. Кошка из этого пила, но не ты! Я понимаю, тайга, но опять-таки, не до этой степени!
— Галина Петровна, все это временно, в течение суток пройдет. Они теряют индивидуальность самое большее через тридцать шесть часов.
— А! А! Что? Кто?
— Я вам позвоню минут через сорок.
— Погодите! А вы знаете (торжественно), я вам еще не сообщила, что Юра начал убирать весь двор, я в окно слежу. Ходит с мусором все прижав к груди, грязные пакеты! Я только его переодела! Вытерла! Воротник умудрился намочить! Обшлага! Что вы с ним устроили мне расхлебывать!
Она опять заплакала.
— Вы его в окно позовите аккуратно, крикните «Уол!» Так, нараспев: «Уол-уол!»
— Уол? Вы что, в своем разуме? Как я буду на весь двор орать это «уол» и еще нараспев! Что люди подумают! Там наш актив гуляет с внуками! Головка актива тем более! Марья Алексевна!
— Какая головка?
— Ой. (Пауза, кокетливо). Это мы когда еще в походы ходили с Белорусского, бывало, отстанем и говорим: мы головка хвоста. Мы — головка хвоста.
— Ничего, крикните так. Он поймет.
Через полчаса, побродив по аэропорту и основательно подкрепившись в кафе, Номер Один перезвонил Юре на квартиру.
— Але, Юра пришел?
— Хосподи,— в нос ответила Галина Петровна.— Он тут.
Она уже не плакала.
— Он Иисус?— вдруг спросила она.— Как это у вас называется? Мессия? Он по воздуху пришел? Или у меня психоз начался от такого счастья? Неврастения?
— Психоз, но это пройдет. Это игра.
— О неттт! Этто не игра!— на том конце провода горько засмеялись.— Он весь в этом… в собачьем… гуано! В каке!!! И не умеет умыться!
— На самом деле у него два высших образования, он знает языки и он объездил весь мир.
— У кого языки? Какие? Вы что? С немецким у него всегда было плохо я над ним стояла! Английский едва со словарем! Это я у нас в семье поверьте единственная могу вам признаться не скрывая кто в оригинале…
— Дайте мне Юру.
— Кто знает и читает Диккенса в оригинале…
— Минутку, я не знал, как здорово, я понял, дайте Юру.
Ее прервали на самом интересном месте. Разочарованно усмехнулась. Затем в трубке долго раздавалось шуршанье, Галина Петровна бормотала:
— Не тем концом берешь! Это не надо в рот! Это шнур телефонный! Это к уху! Сюда говори! Вынь провод… Обслюнявил. Ну вот что за человек! Дай, говорю! Скорей, он из Новой этой… Гренландии! Деньги бегут!
Наконец голос произнес:
— Это кто?
— Никулай,— сказал Номер Один.— Ты чего концерты закатываешь? Старушек пугаешь?
— Бызы.
— Не ругайся, извини. Давай обратно домой. Я камень привезу, сейчас сажусь на самолет.
— Кассету, однако, никому не показывал?— сказал знакомый до противного Юрин циничный тенор. Звучало как анекдот про чукчу.
— Откуда ты знаешь… (Пауза, нет ответа). Да она осталась там в развилке на пихте, у острога… Ну где все происходило.
— Напрасно, бызы. Я думал, бызы, твоя взяла кассету.
Бызы, самое большое энтттское проклятие.
— Что же делать, меня же схватили. Думал спрятать, сохранить.
— Моя найдет. Это важно. Телевидение, однако. Общественное мнение. Паблик рилейшнз. Ти ви. (Длинная английская фраза. Юра по-английски почти не умел). Раньше главный театр были войны, теперь теракты в кадре на телевидении. Без телевидения терроризм не существует. Основная задача! (Пауза). Показать всем казнь, как с нами обращаются. С народом энтти. Телевидение главная террористическая армия мира, ее сенсация это как атомный взрыв. Я нарочно сделал так. Варвару так и далее. Отдал мать. Он отдал на распятие сына, а я ее. Так не доставайся же ты никому.
— Варвара, ты?!
— Сняли кожа как с зайца. Боль, боль. Ди с чеб де сравдибая боль.— сказал Юра в нос как бы плача.— У тебя распятие, у меня содрали кожу. Помнишь наш разговор, шибко глупый ваш бог.
— Никулай?!
— Без кожи, как без кожи жить.
Пошла как бы минута молчания. Затем Юра своим отвратительным хамским голосом продолжал:
— Телеэкран создает новые страны. Телеэкран ведет информационные войны и диктует на чьей стороне будет правда, за кого болеть. За бедные народы. Герои телеэкрана террористы. Журналисты — реклама террора. Телевидение сохранит энтти. Казнь матери потрясет мир. Я найду кассету.
— Хорошо, привези мне. Мы все сделаем. У меня есть знакомый на втором канале. Он за это ухватится.
— А. Нет. Нужен бибиси и сиэнэн. (Далее Юра некоторое время говорил на неизвестном языке).
— Ты скоро там будешь? На Юзени?
— Да. Одна нога здесь.
— Никулай! А как связаться с Никифором?
— Ну. Это я.
— Так я и думал. Стой пока, Никифор!— сказал Номер Один.— Как будешь там дома, приди в себя, понятно? Вернись в энтти! Метемпсихоз делай. Уходи из Юры срочно, поняла? Юру посылай сюда, а то он уже не вернется. Я знаю! Двадцать четыре часа плюс-минус десять часов, и человек уже не вернется в себя, все! Это такой результат твоей игры!
— Третий глаз зачем брала? Бызы.
— Это не я брал, это не я. Клянусь моим сыном!
— Каким твоим сыном?— вдруг спросил с подлой интонацией Юра.
У Номера Один сильно забилось сердце, но он пропустил эту каверзу мимо ушей.
— Я же не знал, что это такое, думал просто аметист! Но это не я его взял! Никулай?
— Зачем третий глаз брала, однако?
— Ты меня понял? Я не брал, ты что.
— Он у тебя.
— Но это не я! Поверь мне! Поверь, Никулай! Ну чем поклясться? Никифор! Опять-таки, сыном клянусь!
— У тебя их четверо.
— А кто? Алешка мой?
Засмеялся.
— Алешка? Мой? Да? Парализованный?— с замиранием сердца спросил Номер Один.
Юра помолчал и наконец ответил:
— Ну! И еще трое. Вася, Кистяндин и Титов.
Номер Один перевел дух, закричал:
— Клянусь моим сыном Алешей, который калека и не ходит! Никифор, прошу тебя! Он будет ходить? А?
Молчание.
— Никифор, он будет ходить?
— (Неохотно). Будет.
— Хорошо! Умница! Никулай, надо издать Емолой! Как-то надо издать! Деньги на издание! И хотя бы цех чумовых печек!
Ответ непонятен. Что за язык? Венгерский? Ладно.
— Сейчас нет времени! Не думай ни о чем! Ты через двенадцать часов забудешь все! Будешь Юрой! Юра плохая мужчина!
Юрин жирный хохоток.
— Ты будешь в его шкуре и не сможешь больше камлать! Все потерял будешь! Я это знаю! Никифор, уходи из его шкуры!
— Уйду, мама его помирал скоро начнет а то. Хороший женщин, однако.
— Ну вот, пусть Юра вернется. Ну, скажем, через недельку… А в Юре пришли кого хочешь… ну кто у вас там помирает ныне?
— Варвара, однако. Охранник. Он в лес мертвых уже ушел, лег. Шибко пила. Не может забыть. И я. Варвара в вохру лагерную переселилась, там охрана был, я Варвару в него послал… Уже он там, лежит в лубке покрылся товаром ждет. Я буду мамонт. Помирает энтти народ.
— А Никулай где?
— Съели собаки. (Юрин специфический смех).
— Господи. Боже мой, Боже мой. А Никифор?
— Рядом с вохрой лежит мертвый. Там, в нашем лесу. Я со своей матерью.
— Я тебя не увижу никогда?
Ответ на незнакомом языке. Смешок Юры.
— Ну вот. Ты стал чучуна, Никулай, Никифор, я понял. И я чучуна. Увидимся. Я скоро вылечу к вам туда с камнем. Туда, где две груди. Где на троне царь мира. Я не допустил к нему никого, поверь мне. Я верну.
— Нет! Юра (хохоток) все сделает без Уйва-на-крипевача.
— Да не беспокойся, я все устрою, все для вас! Ты теперь дай трубу Галине Петровне.
— Хорош женщин,— с чувством произнес Юрин поганый голос.— Шибко хорош. Галька! Иди бери трубу.
— Юра! Она не энтти! Не трожь ее, Юра, однако, а то камень не верну,— давясь от смеха, пригрозил Номер Один. Потом опомнился и, понизив голос, сказал:
— Извини. Я знаю, ты шуток не прощаешь. Энтти не любят, когда над ними шутят. Прости. Дай ей трубку.
Видимо, Никифор уже этого не слышал. Опять зашуршало. Кто-то пискнул.
— Ну алло,— трагически произнесла Галина Петровна.— Он меня по спине гладит. Это что?! И ниже! Отстань! Идиот!— стала отбиваться она.— (Тихо, гневно) ты сошшел с ума!
— Он сейчас уйдет. Дайте мне его быстро. Долгий скрежет, как будто мнут бумагу.
Хряск! Грохот, пауза, какие-то пробежки, затем стон:
— Алло! (Панически) Я его обидела! Я дала ему трубкой по голове! Я обидела сыночку! Больного! Это как пощечину стукнуть! Он ушел! Он в окно ушел!!! Убился!!! Там же седьмой этаж!!! (Быстрое рыдание, треск).
Загрохотало, как будто трубка упала на пол вместе с телефоном. Пауза. Громкое шуршание. Запыхавшийся крик:
— Внизу никого нет! Я выскочила на балкон! Нет тела!
— Застрял?
— Нет! Что вы так спокойно? Ужас, ужас! Я спущусь, извините! Это что за ужас, нахальство! Он что, я видела, улетел? Какой-то свист раздался! Вообще вы даете, вся ваша секта проклятая!
— Да он прилетит скоро, Юра. Не беспокойтесь. Через неделю.
Гудки.
глава 10. E-mail
Сижу в интернете в аэропорту. Боюсь что ты меня не примешь я давно уже стал чучуной. Но ты меня не примешь а я тебя приму ты не волнуйся я сейчас улетаю обратно на Юзень надо вернуть один предмет в одну могилу и надо вернуть Никулая ты его не знаешь я тебе говорил ты не слушала как всегда засыпала ревновала это великий энтти. И самое главное это искупить огромн. Вину этого идиота безграмотного Куха он вынул глаз Царя нижнего мира когда я поднялся наверх отодвинуть бревно уже не было того прямого луча солнца, даты прошли, бревно мешало я провозился с полчаса ничего не вышло, спускаюсь у него все мокрое красное лицо шея рука красная отмороженная а куртка сухая в мокрых пятнах это пока меня не было он сука снял куртку и рубашку и майку, изловчился сука и полез рукой под воду третий глаз во лбу царя так и сверкал из-под воды зрелище фантаст-кое, но там глубина все-таки надо было погрузить лицо, руки не хватило нырнул и вынул то, что Никифор назвал глазом Царя. Я спросил ты чо он говорит вспотел падла. Убить его мало. Только после разговора по телефону только сегодня понял все, этот аметист глаз бога. А я его таскал в кармане вынул у Юры пьяного не помню когда. Думал это не твой мир а мой и экземпляр уникальный. Я туда верну его Царю я знаю путь скажу только тебе тебе все равно, между двух гор выемка величиной с арену цирка, заросла лесом, ничего не заметно, но центр это поваленная лиственница под ней яма там вырублены как ступени в мерзлой земле надо спуститься и в самом конце крышка как в колодце открывается вверх надо поднять ее и оставить а внизу туман и опять как бы трап и вот там три дня в году когда лучи солнца падают отвесно там
Компьютер зашалил вдруг все уплыло
А там
там высвечивается ледяная поверхность там выпуклость очко линза и там, когда солнце стоит над, протаивается проталина до глубины полметра и больше когда как, и надо смотреть. Там сидит макушкой к солнцу Царь и его тень во льдах вниз огромная он сидит на троне на коврах и его рост один череп безмерный мастодонт или ящер глаза не видны но вот третий глаз вверху вот этот камень аметист с гусиное яйцо величиной. И если заглянуть вглубь там видна мумия лошади и тени от колес каждое в пять метров И мне надо нырнуть туда и вставить обратно глаз это яйцо в гнездо глаз в глазницу Царя нижнего мира, а то все зло свищет в пустую третью глазницу из нижнего мира они так веруют а это величайшее из известных мне захоронений примерно 3000 лет до нашей эры в Эрмитаже на 1-м этаже такой же но хуже, тут земля энтти хранит в вечной мерзлоте все что было в доледниковый период. (Они единств. живущие все ледниковые периоды, кажд. 40—60 тыс. лет у нас обледенение, отсюда нефть и уголь, кровь и жир Земли, спрессованные подо льдами морями остатки прежних цивилизаций). Вот их земля хранит много сокровищ. Но это не означает что ее надо сплошь вскрывать. Ни Рим, ни Париж свою землю не вскрывают, хотя под ними тоже сокровища. Но это еще не все, т к Врата Царя это еще и точная постоянная точка перехода в нижний мир это те самые врата в смерть и он охраняет их и те люди, кот. знают тайну врат тех уже нет у народа энтти, последний был Никифор он же Никулай-музейщик а теперь это в другом виде Юра Кух. Не принимай его!!! Я дал Никулаю ту книжонку «Метемпсихоз» и это принесло неожидан, плоды, он стал пользоваться м-психозом повсюду можно ск-ть освоил метод и начал интеракт. компьют. реал тайм игру в переселение душ, а когда я ему рассказал, что изобрел свою игру, ну ты помнишь я те говорил что надеюсь, та игра В садах других воз-ностей даст мне доход. Там ады всех конфессий и в преддверии в чистилище пытки придум. Человеком, дыба колесо четвертование шкаф с остриями внутрь Железная Дева костер и весь мир нижнего Освенцима. И перед тем необходимо в реал. мире найти себе команду то что наз. друзья, то есть спасти кого-то выручить и тогда сколотить группу спасенных тобой, предугадывать планы других групп и играть в сады других возможностей. Вкус победы, пон-маешь? Каждое счастье это преодоление, разгадка, победа. Репетиция рая. Как рай и победа каждый оргазм с тобой. И вот тут опять не хочу а всплыв. Юра. Нас было четверо, Юра последний. Я думал что он друг но он враг. Никулай мне тогда в ответ на мой рассказ об игре снисходит так ск-л «А». Он уже прид. свою собств. игру. Он сначала стал бороться с зоной смертников, кот истребляли народ энтти под предлогом что появились чучуны: у них в библиотеке есть книга Горовица о чучунах (была всюду, тираж 50 тыс экз) и начальство зоны решило под видом чучун с помощью зэков забивать энтти а энтти покорны см-рти. Наш покойный Панька был прав, что это не чучуны. Моя гипотеза не сработала. Просто из зоны выпускали заросших грязных смертников монголоидного типа их много среди зэков, это даже тип побежденных неандертальцев см. лицо Дарвина, они ловили и убивали на мясо энтти, энтти покорны и не могут, не должны сопротивляться чучунам. Оружия смертникам, конечно, не давали. Так, охот ножи. Зэка и так на все пойдут приговорены к пожизненному заключению хуже их не пошлют там реальн край света. Даже если это станет известно и выйдет на поверхность, смертной казни все равно нет. Никулай (Никифор) чтобы спасти энтти переселился в убитого начальника лагеря! Шутки м-психоза. Никифор (он и Никулай) пока что стал нач. зоны, чтобы навести порядок в зоне и чтобы поднять шум на весь мир, мы ему были нужны для этого и он организовал сцену казни актрисы Варвары, теперь она боец вохра и он умир-ет ушел в лес мертвых, я точно догадался еще раньше в аэропорту. Да, я заб сказать что конечно тот мертвый энтти у бабагана Гавриловых был сам Никулай, он хотел войти в Юру и взять камень, т к знал что Юра украл камень из головы Царя, а без этого там свищет черная вечность в глазную дыру албезы боги смерти т е конец народа и энтти уйдут со своей земли все, будут как чучуны, и это касается нас, это на нашей территории албезы албезы. А я получил камень почему-то у местных ментов вместе с видеокассетой, с записью ночного пения. И это для меня болталась там утром на балагане первая бумажка игры, «М-психоз 06:00—06:05» я долж. Был войти в балаган и за этой дверью стать Юрой, а сам бы лежал мертвым и все, а я не стал входить и побежал в гости-цу. Потом, я знаю из др. источников, Юра имел душу Никулая он все стонал, что его жрет песец а потом Никулай увидел соединился с камнем у меня в кармане стал охотиться за мной и подставлял мне все время разные возможности все время ловил меня на бумажн. Объявление «М-психоз», хотел привести меня в лед и вытащить из кармана глаз Царя, но, видимо, не успевал по времени, не отработ-н процес трехпалая рука не успевала достич кармана. Этим временем восп-зовался мой один вор Ящик (Ящ) знакомый, после того как он меня убил а я стал Валерой вором, пот. объясню. Он начал продавать родителям умерших детей (рядом клиника детс онкология) право на самоубийство и воз-ность переселиться в их тело смертию смерть поправ воистину, умереть и так их спасти. Я только недавно все понял. Это большая компьютерная игра Никифора в реальном времени и в реальном мире. Дверь с запиской «М-психоз» и пять минут, условие м-психоза всегда свежий труп рядом, можно даже в морге соседней клиники, и ты переходил в него а сам погибал. Тут одна дев. совершила переход в повешенную и обратно и обратно в повешенную потому что я привез свой труп из морга и эту девку, вернее не то что ты подумала а обыкн. трупы дневной давности с бананами домой и они дядя Ваня и сын моего отца ее унесли из санитарки машины я понял домой, а видно девушка Ксюша из онкологии все ходила вокруг дома и они ее запустили в м-психоз в день кода меня не было и Светка встала живая, а та девочка опять легла на чердаке повешенная. И когода я ее увидел а тут шла с чердака мать девочки с ее трупом в руках почти упала на меня ох сложно. На меня надавили а те давились ко мне навстречу и я их всех погреб в черной дыре. Я толкнул Сетку в яму. Девочка стала жива. Ясложно понять, я сам еле понял, пот. Все объясню.
Я ничего не пон-л, я, автор гипотезы об артифицированной экстраполяции парадигмы реликтовых гоминоидов (шутка, имеются в виду чучуны) в как его там, это, в унавоженную почву национального ужаса как результат внесения контемпорентных файлов в виде двух популярных постгуттенберговых увражей (брошюр) в архаизированное сознание фаминного (голодающего) контингента через биб-ку зоны Андрюшкин острог, але!
Представь я мог бы стать безногой женщиной из-под трамвая мог стать голубым спортеменом-проститутом и даже Панькой-директором — а в сам. Перв. Раз я мог стать и Никулаем, пот. что первая бумажка с этими словами была на дверях балагана в ту белую ночь, меня бы схоронили на глубине пятьдесят сантиметров на вечной мерзлоте а камень бы вернулся в череп. А я бы пил с раскосыми глазами, плодил бы детей, ходил бы в страну мертвых и знал все чего так и не узнал. Почему нет. Мумичка это похоже на бред сум-шечего но имей в виду, что я могу вернуться в другом виде! Нечего делать. Но моя люб к тебе и Алешке теперь со стороны все сильнее вы единственное что у меня мое родное, был момент я горько сомневался в тебе результат клеветы Юры ты не поним-ешь что когда рядом и близко то все затянуто запачкано бытом и все бьются друг о друга ранят, и только вдали эта люб. так горит и так тепло в груди люблю вас люблю всех если я не вернусь то все равно я вернусь все равно буду бродить рядом помогать буду твой новый муж он скажет тебе пароль вот он никому не сообщай
Будет муж кот. Ты будешь больше ценить чем меня и не считать просто подсобной силой которая обязана и обязана все отдавать Алешке как ты все свое время и мысли Алешке а не мне. Он Алешка твой муж и твое все, прости как у многих русск женщин, а мужчина он способен на другое его ролевая функция иная. Но знай повторяю что это буду я. Но у меня и долг перед энтти я им не чужой, не то что ты подумала а серьезно и дело всей жизни. Таких слов не скажешь прямо вот пишу. И еще, да все воровство в нашем мире, все кража я был вор все у тебя могут украсть, твою единствен жизнь тоже, я понял но вопрос в том что надо отвечать высшим разумом и решать кажд воровство как задачу как высшую матем-тику, как игру и сценарий, всек наши богачи знают сценарии создавали их на развалинах страны.
я смогу быстрь и медленно в виде расписания на будущее. Ты спросила кто будет новым директором это я. Не сразу но знаю. У нас будет дом на берегу озера. У нас будут дети шесть человек. Вот еще — самое плохое что после переселения души в новое тело память остается на всю жизнь, но личность предыдущая сохр-тся только первые два дня, затем все, новая шкура диктует свои условия. Первые два дня все еще ты прежний чел-к любишь жалеешь ненавидишь свое а потом все потерял и ты чучуна и не должен приходить к ним и мне привиделось во сне что у тебя новый муж и его нов. Тапки под вешалкой стоят что это что! Новые домашние тапки? Такой сон. Скажи это правда или что. И еще — наши прежние души приходят к нам это бывает и мы сами себя не узнаем а это отец или мать или бабка возвращаются смотрят из твоих глаз и диктуют тебе и это самое страш что ты бываешь св. мать котор меня ненавидит а я моя ревнивая мать. Папа ясно. Изменял маме, с кем он там был в тайге на заимке и как его убили загадка боюсь догадыва-ся — ну ладно пора идти за билетом н самолет я пишу в интернет кафе отправляю целую буду тебе звонить вернусь щас вернусь Ммичка твой Иван-царевич Уйван Крипевач. Да, я только подумал покупать билет и сообразил что мой паспорт у тебя. Ил нет? Или у меня украли не помню, но его нет все обрыл. Память это человек а я поел два дня не был человеком
Придется мне добираться домой на машине и уже из Москвы лететь, а это письмо я щас отправлю. Главн. вопрос этот мой сон, чьи тапочки. Я чувствую что могу все, то есть
что чо приближ опасность
это Юра пришел за камнем Ник стал там за комп
смотрт при всех улыб прыгу нетнетвозми как отвал иле рука с черн неба гром во
буде молн