
ВОСПОМИНАНИЯ
О
Эм. КАЗАКЕВИЧЕ
СБОРНИК
МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1984
Составители Г. О. КАЗАКЕВИЧ, Б. С. РУБЕН
OCR и вычитка Давид Титиевский, декабрь 2007 г., Хайфа
Библиотека Александра Белоусенко
Александр Твардовский
Э. Г. КАЗАКЕВИЧ
Э. Казакевич, пожалуй, первый из тех ныне широкоизвестных писателей военной темы, которые в годы войны не писали, — они проходили четырехлетнюю «нормальную школу» войны, то есть воевали. Война была для них каждодневным трудом и бытом — окопным или маршевым — с отдыхом в тылу на госпитальной койке после очередного ранения. Оттуда, из огня, они и пришли в литературу, когда война кончилась, пришли со своим, особой ценности художническим свидетельством о ней.
И хотя перо тех, кого война призвала с их профессиональным опытом и литературным именем, честно сослужило свою службу в эти грозные годы, теперь оно уже не всегда могло равняться в безусловной достоверности, богатстве красок и точности деталей с пером нового послевоенного пополнения советской литературы.
Среди произведений этих писателей заглавное место по праву принадлежит «Звезде» Казакевича, небольшой по объему повести о воинском труде и трагической гибели группы разведчиков.
Появление этой повести сразу означило приход в русскую советскую литературу большого, вполне самобытного и яркого таланта и, более того, новую ступень в освоении материала Великой Отечественной войны.
3
В отличие от своих литературных сверстников, еще державшихся в освещении фронтовой жизни приемов жанра мемуарно-хроникального или очеркового, Казакевич в «Звезде» дал блестящий образец жанра собственно повести, художественной организации материала, независимой от паспортной подлинности имен героев, календарной точности времени и географической — места действия.
Редкостная отточенность формы, соразмерность частей и завершенность целого, музыкальная перекличка зачина с концовкой при глубоком лиризме и драматизме содержания, незабываемой живости лиц героев, их человеческом обаянии поставили эту повесть в ряду лучших произведений советской литературы, не утрачивающих во времени своей впечатляющей силы.
Это, между прочим, один из примеров, решительно опровергающих вздорные мнения о том, будто бы наша литература в период культа личности не могла создавать ярких и глубоко правдивых книг. Как будто настоящее искусство, кровно связанное с жизнью народа, вообще способно в молчании выжидать особо благоприятных для себя условий!
Я бы затруднился назвать книгу кого-нибудь из нынешних молодых прозаиков, выступающих в куда более благоприятную для литературы пору, — книгу, которая бы приближалась по глубине содержания и достоинствам формы к «Звезде» Казакевича.
И в творчестве самого Казакевича «Звезда» остается заглавной вещью среди его произведений, посвященных военной тематике: «Весна на Одере», «Дом на площади», «Сердце друга», несколько рассказов и очерков. Каждое из этих произведений вызывало большой интерес читателей, многочисленные отклики печати. Смерть Казакевича помешала ему порадовать нас, может быть, таким же этапным произведением его литературной зрелости, каким была «Звезда» для его литературной молодости.
В последние недели и даже дни тяжелой болезни, превозмогая страдания, он порывался диктовать продолжение нового романа «Тридцатые годы», над которым работал ряд лет; делился с друзьями попутными замыслами, между прочим замыслом книги о советских врачах, благородный труд которых он имел печальную возможность изучить по опыту последних лет своей жизни.
За несколько дней до конца он в разговоре со мной, как всегда избегая столь свойственной и вполне понятной
4

А. Т. Твардовский, М. К. Луконин и Э. Г. Казакевич.
Комсомольск-на-Амуре. 1949 г.
в его положении темы болезни, только и сказал, что истосковался по работе.
— Ничего не хочу, никаких услад жизни праздной, ни отдыха — хочу писать, — ужасно это проворачивание всего в голове вхолостую...
Все, кто знал его близко, отмечают редкое обаяние его личности, ум и доброту, остроумие и веселость безобидного озорства, жизнелюбие и трудолюбие, твердость и принципиальность во взглядах, оценках, суждениях по вопросам литературной и политической жизни.
Внешний портрет этого интеллигентного человека в очках, с глубокими ранними залысинами и сединой, дающий представление как бы о кабинетных только склонностях и навыках книгочея и домоседа, решительно не совпадал с самыми существенными его чертами поведения и свойствами характера. Иногда мне казалось, что он сознательно, силой духа противостоял такому банальному представлению о человеке интеллигентного, кабинетного вида. Он действительно много писал и еще больше читал дома и в спецзалах книгохранилищ, — был одним из самых ревностных читателей среди наших писателей, уже в зрелом возрасте усердно и успешно изучал иностранные языки, словом, был работягой, человеком суровой дисциплины труда, усидчивости и регулярности.
Но он был и страстным путешественником, охотником, отлично стрелявшим, водил машину без всяких скидок на любительские права, был весельчаком и остроумцем, душой дружеского застолья, хорошо пел русские народные и солдатские песни — недаром одно время ходил запевалой роты. Наконец, он был подлинно храбрым человеком на войне, хотя это никогда не вытекало из его собственных изустных воспоминаний. Я, например, уже много лет дружил с ним, когда от генерала Выдригана, командира дивизии, где Казакевич был начальником разведки, услышал о том, что Эммануил Генрихович свой первый орден получил за добычу «языка» в наиболее трудное для такой задачи время длительной обороны.
Только тогда он и сам поведал мне, как, тщательным наблюдением изучив намеченный участок обороны противника, в некий рассветный час, более суливший удачу, чем самая непроглядная ночь, он с малочисленной отборной группой разведчиков свалился в траншею к немцам и, после короткой рукопашной захватив одного из них, приволок в свое расположение. Больше всего мы, рассказывал он с обычным для него юмором, боялись, отползая со своей
6
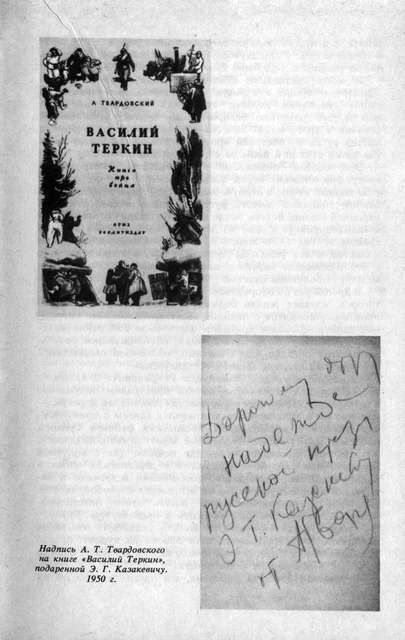
ношей под пулеметным огнем противника, что пуля попадет в этого немца, и тогда все — прахом, так как повторить такую операцию уже было бы невозможно.
В непосредственном боевом общении с солдатами и офицерами армии в суровую пору войны Казакевич всем своим существом глубоко воспринял исторический опыт народа, его поистине беспримерный подвиг, исполненный величия и трагизма. И там, на войне, родился выдающийся мастер русской советской прозы, до войны известный лишь как автор стихов и поэм на еврейском языке.
Это особой сложности обстоятельство литературной биографии ставило перед Казакевичем, в чем он отдавал себе полный отчет, и особую задачу углубления и обогащения памяти знаниями живого русского языка в самых недрах народной жизни. Вскоре после войны Казакевич отправляется в «командировку» в одну из деревень Владимирской области сроком на год — с женой и детьми — всем домом. Там и застал я его однажды летним днем в колхозной избе с его любимыми книгами, пишущей машинкой, ружьем и мелкой рыболовной снастью.
В другой раз он отправляется на длительный срок в Магнитогорск, изучает жизнь большого металлургического предприятия, знакомится с людьми, ведет каждодневные подробные записи. Дальним прицелом здесь было собирание материала к роману о тридцатых годах, но ближайшим результатом этой поездки был отличный, многим запомнившийся его очерк «В столице Черной Металлургии».
Однажды я увидел Эммануила Генриховича в каком-то необычном для столичного жителя простецком полупальто с нагрудными карманами и в армейских сапогах. «В дорогу», — пояснил он и действительно отправился вдвоем с приятелем-художником в пеший обход нескольких районов средней полосы в зимнее время. Нездоровье воротило его с полдороги, но эту свою командировку — где пешком, где с попутной машиной или санями, с ночевками в деревенских избах и районных Домах колхозника, необычными встречами и занятными приключениями — он вспоминал с особой охотой.
Менее всего писательскую жизнь этого литератора-москвича можно было бы уложить в пресловутую формулу «квартира — дача — курорт». Кстати сказать, я что-то не запомню, чтобы Казакевич ездил просто на курорт, просто отдыхать. А в последние годы пошли недели и месяцы отдыха поневоле в санаториях и больницах.
Вспоминая навсегда ушедших, мы часто говорим об их
8
чуткости и отзывчивости, но больше в общей форме. А вот, по-моему, хоть и малый, неброский, но очень выразительный пример деятельной отзывчивости на чужую нужду или беду.
К Казакевичу обратился один старый писатель, как-то утративший за годы эвакуации права на свою квартиру, с просьбой о помощи. Казакевич, в свое время вдоволь намыкавшийся по углам и комнатушкам, снимаемым на разные сроки, теперь занимал хорошую квартиру. Конечно, он звонил и писал куда нужно, но, видя, что дело это затяжное, а человеку, который, кстати сказать, не был ему ни братом, ни сватом, попросту негде ночевать, потеснился, поселив у себя старика с женой впредь до исходатайствования им жилья. Они прожили у него около года. Не думаю, чтобы такая простая форма отзывчивости встречалась у нас слишком часто.
А сколько можно было бы привести примеров всегдашней готовности Эммануила Генриховича помочь самым деятельным практическим образом брату писателю, пришедшему к нему с рукописью, попавшей в редакционно-издательский затор, начинающему из провинции, студенту, фронтовику-инвалиду, всякому доброму человеку, постучавшемуся в его дверь.
Как редко кто, он умел порадоваться заслуженному успеху товарища, носиться с какой-либо журнальной новинкой или рекомендовать, продвигать чью-нибудь рукопись, в которой он увидел нечто настоящее, существенное, хотя бы несовершенное еще по форме.
Знакома была всем нам, его друзьям, и его едкая беспощадность характеристик того, что встречается в литературе, — претенциозно-надутого, фальшивого, своекорыстного.
Нам долго и долго будет недоставать его удивительной по остроте понятливости в беседе, о чем бы ни зашла речь,— с полуслова, с намека.
Ни при деловой встрече в редакции, ни в домашней обстановке, ни в дальней дороге (одну из моих сибирских поездок я завершал вместе с ним, мы проезжали места, где он был когда-то директором театра, затем председателем колхоза), ни на родине, ни за границей (ранней весной этого года мы бродили с ним поздней ночью по улицам Рима, он отлично — навык разведчика — ориентировался в любом новом месте) — никогда и нигде с ним не могло быть скучно, разве что на каком-нибудь из наших длинных заседаний.
9
Но в последнем случае — стоило только, улучив минуту, выйти с ним покурить, и все то, о чем томительно шла речь на заседании, приобретало куда более оживленный интерес.
Однако замечу, что при его живости характера, энергии и усвоенных повадках боевого командира он, в отличие от многих наших собратьев, не был оратором, — здесь он был застенчив до крайности.
Долго и долго будет недоставать возможности поговорить с ним о только что прочитанной книге, газетной новости, о какой-нибудь поездке, о случае из области литературного быта, о забавном и серьезном, самом серьезном и значительном — вплоть до таких раздумий, какие не могут не приходить нам в эти дни еще такой свежей утраты.
А миллионам его читателей будет недоставать того чувства заинтересованного ожидания, которое обращено бывает на тех из нас, кто чем-то накрепко запомнился, чье слово по-особому дорого и нужно про всякий день.
Может быть, оно и не бывает иначе, но горько, что это не единственный случай, когда мы, потеряв товарища, которого, казалось бы, и ценили, и уважали, и любили при жизни, только теперь вдруг в новом, гораздо большем объеме постигаем значение его работы, его возможностей, его присутствия среди нас...
1962
Николай Тихонов
БОЕЦ И ГУМАНИСТ
Эммануил Казакевич был добрым и мягким человеком. И писательский талант его был добрый. Но этот писательский талант жизнь закалила в огне войны, самой жестокой из всех войн, бывших на свете. Но и в самом пекле сражений Казакевич сохранял то нравственное здоровье, ту высоту и чистоту отношения к людям, его окружающим, которые позволили ему рассказать и о войне, и о жизни, и о тех, кто были его боевыми товарищами, с любовью и вдохновением. Недаром запевом этих песен о людях на войне явилась великолепная лирическая, романтически свежая повесть «Звезда». Он прекрасно понимал, что это не только его ощущение происходящего. Это может быть со всяким. Почитайте у него строки из другого произведения: «Весь мир, включая эту землянку, бесконечные овраги, разбитые деревни и изрытые саперными лопатами мокрые равнины в этот момент показались ему новыми, небывалыми, окрашенными в другой цвет и находящимися как бы в другом измерении».
Это переживает уже не лейтенант Травкин, а капитан Акимов из повести «Сердце друга». Но такие измерения мира свойственны и самому автору. И когда его герой в противовес этому необычному, светлому состоянию хочет ожесточиться, у него это не получается. Это ожесточение не получалось и у Казакевича.
11
Он наблюдал безжалостные картины войны, переживал смерть друзей и товарищей. В условиях дикого существования для него все равно сохранятся светлое преображение чувств и вера в советского человека, способного во всех условиях на подвиг, на товарищество, на большое чувство.
Когда позже Казакевич в своих произведениях изображал Владимира Ильича Ленина, он, стараясь передать образ великого вождя революции, искал в нем прежде всего высокую человечность и предельную правдивость перед собой и людьми.
Книги Казакевича написаны гуманистом, которому история поручила, прежде чем писателем, быть разведчиком, прежде чем описывать, — быть свидетелем ужаснейших картин войны, прежде чем позволить размышлять над характерами и событиями, — пройти дорогами войны и самому испытать ночи «Звезды», переживания весной на Одере и увидеть дом на площади в некоем немецком городе. Но недаром эпиграфом к роману «Дом на площади» были взяты слова Гёте: «Не часто дается людям повод для таких высоких дел! Спеши творить добро!»
Он хотел как бы подчеркнуть своими произведениями, какое количество замечательных людей, несчетное количество богатых характеров имеем мы и как много может черпать писатель из этой неиссякаемой сокровищницы, которую наш народ так щедро пополняет.
Вера в человека руководит им при отборе его персонажей. Победить фашизм могли люди, не превосходящие фашистов жестокостью или ослеплением собственной гордыней, а именно такие человечные представители нового мира, которые сохранят веру в жизнь, в свободную волю, в новые законы человеческого существования.
И дети этих героев-победителей будут так же с вниманием и сочувствием читать книги Казакевича, как читали их отцы этих детей — непосредственные участники событий и товарищи писателя по боевому содружеству.
А про писателя можно сказать теми же словами, что сказал он сам про своего героя, погибшего в бою: «Ему суждена неповторимая судьба: будучи мертвым, жить!»
1962
Константин Симонов
СЕРДЦЕ СОЛДАТА
В январе 1947 года в журнале «Знамя» появилась маленькая военная повесть «Звезда». В нашей литературе произошло большое событие — с этой повестью в нее вошел новый крупный писатель Эммануил Казакевич. Повесть была первая, но автор ее прожил уже большую жизнь. До войны он был поэтом — выпустил несколько книг стихов на еврейском языке. На войне он был строевым командиром, командовал дивизионной разведкой, дошел до Берлина. За плечами была уже большая жизнь, но большой и блестящий мастер русской прозы родился именно тогда — вместе с повестью «Звезда».
«Звезда» была и осталась одной из лучших книг о великой грозной войне. Она была трагична, потому что трагична была война; она была полна любви к людям войны и глубокой веры в них. Иначе и не могло быть, потому что Казакевич любил этих людей, знал их, дошел в их рядах до Берлина.
После «Звезды» появились «Весна на Одере», «Двое в степи», «Сердце друга», «Дом на площади» — все о той же войне и о тех же людях. О некоторых из этих книг много спорили, но одно было бесспорно всегда — на всех них лежала печать большого таланта, большого знания войны, большой любви к людям нашей армии.
Превосходный рассказ «При свете дня» — последняя вещь об этих людях, напечатанная при жизни Казакевича. Сейчас этот рассказ невольно воспринимается как некий эпилог ко всем его военным вещам. По этому рассказу сейчас
13
ставят фильм, ставят фильм и по «Двое в степи». Автор их уже не увидит. И может быть, еще и поэтому особенно хочется, чтобы они оба стали прекрасными.
И еще хочется, чтобы в кино еще раз поставили «Звезду», которая когда-то, в годы культа личности, была испорчена в фильме фальшивым концом.
Долго и тяжело болевший последние годы, Казакевич как писатель был в самом расцвете сил и таланта, и так было до самого конца. Он много и страстно работал во все времена, но наше нынешнее время открывало перед ним новые горизонты, еще шире расправляло ему крылья, и он работал особенно много и особенно страстно.
Повесть «Синяя тетрадь» и рассказ «Враги», по моему убеждению, принадлежат к одним из лучших вещей, написанных в нашей прозе о Ленине. Совсем недавно напечатанный большой рассказ, а скорее маленькая повесть, «Приезд отца в гости к сыну» полон суровой правды жизни и глубочайшей веры в то, что социалистические отношения красят людей, а собственнические — уродуют.
Я говорю о последних, при жизни напечатанных вещах.
Горько говорить слово «последние». Горько думать о том, что в письменном столе ушедшего из жизни писателя остались два больших незавершенных романа. А сколько еще вещей могло быть не только завершено, но еще и наново задумано и написано во славу нашей литературы, на радость ее читателям. Ведь Казакевич не дожил даже до своего пятидесятилетия! Его близкие друзья говорят, что уже и смертельно больной он еще пытался писать, работать.
Но смерть оборвала все. И сейчас, думая о нем, вспоминаешь его собственные слова, сказанные о другом человеке, в повести «Двое в степи»: «Великий разводящий — Смерть — снял с поста часового».
И еще вспоминается, как на майские и октябрьские демонстрации Казакевич всегда приходил или в старом кителе с боевыми орденами, или в пиджаке со всеми своими орденскими планками. В праздничные дни он считал это важным. Он считал, что мы не праздновали бы этих праздников, если бы в войну не оказались хорошими солдатами революции и не сумели бы защитить ее от фашизма.
Он сам был настоящим солдатом революции, он доказал это своей жизнью, своими книгами и умер, как положено солдату, — на боевом посту, не выпуская из рук оружия.
1962

Э. Г. Казакевич. Москва, 1949 г.
Г. Г. Казакевич
НЕМНОГО О НАШЕЙ СЕМЬЕ
Наши с братом родители в юности жили в Гомельской губернии, в селах Новозыбковского уезда, отстоявших одно от другого на пять верст. Села эти, Увелья и Яловка, были довольно большие, особенно Увелья, белорусские, но жили там и по нескольку еврейских семей, находившихся между собой в родстве. Семья отца, Генриха Львовича, была очень бедной, семья матери, Евгении Борисовны, богатой, и папа юношей ходил из своей Яловки в семью этих богатых родственников как репетитор для старшей дочери Жени, ее сестры и брата. Сам он обучался в местных начальных школах, и все отмечали его большие способности.
Революционные события 1905 года застали их обоих в уездном городе Новозыбкове, где мама, преодолев сопротивление своего отца, нашего дедушки, училась в русской гимназии, а папа, оканчивая гимназию экстерном, зарабатывал частными уроками. К этому времени он был уже убежденным социалистом, участвовал в работе революционных кружков и принимал участие в местных манифестациях, требовавших революционных перемен.
Поженились папа с мамой в 1908 году, вопреки воле маминых родителей: ее отец был категорически против ее брака с «нищим». Папе было тогда двадцать пять лет, маме двадцать, и любили они друг друга уже лет шесть. После их свадебного обряда родители мамы отказались от нее и лишили
16
всякой поддержки (до моего рождения в конце 1911 года).
Вскоре после женитьбы папа и мама поехали в Киев. Там папа поступил в технологический институт. Он стремился получить высшее образование, и мама очень хотела, чтобы он продолжал учебу. Но через год они переехали в Гродно, где папа стал учиться на педагогических курсах, чтобы посвятить себя делу народного образования. Как видно, и душа его не лежала к техническим дисциплинам, а тянулась к гуманитарным. На этих курсах папа был среди передовых студентов и горячо отстаивал свои взгляды. Окончив курсы, он получил звание учителя начальных классов школ для бедных детей (были в те времена и такие), и семья наша, уже вместе со мной, годовалой, уехала в Кременчуг, куда папу назначили на работу. Там, в Кременчуге, в 1913 году родился мой брат Эма — 11 февраля по старому стилю, 24-го по новому.
Накануне первой мировой войны мы все переехали в Хотимск, на новое место работы папы. Когда началась война, отца призвали было в армию, но тут же отослали обратно — он был близорук, носил сильные очки. В Хотимске наша семья сняла квартиру, в которой прежде жил доктор. Так эта просторная квартира из нескольких комнат и осталась в памяти у нас, детей, как «квартира доктора». Здесь Эма переболел менингитом в тяжелой форме. Лечил его старый фельдшер. Потом привезли доктора из города. Эма лежал без сознания. Доктор выслушал его новым — с резинками — стетоскопом, поразившим меня, и развел руками, показывая, что бессилен. Но старый фельдшер был уверен, что лечил ребенка правильно и что все обойдется. А наутро Эма открыл глаза и произнес: «Мама». И действительно, все обошлось даже без каких-либо осложнений.
В 1916 году наша семья по настоянию мамы переехала в Екатеринослав (теперь Днепропетровск) — большой город, где имелись широкие возможности для преподавания и учебы. Наш папа был необыкновенно способным человеком, и мама старалась, чтобы его способности проявились наиболее полно. В Екатеринославе папа работал сперва в начальной школе, затем в частной гимназии, а мама училась в педагогическом институте. И мы, дети, ходили вместе с отцом в приготовительный класс гимназии, и малюсенький Эма тянул свою руку первым — на все вопросы, хотя находился здесь «незаконно», только потому, что его не с кем было оставить дома. Но он уже умел читать и писать.
Жили мы дружно. Помню, как мама с папой пели в два
17
голоса, помню песни, которые они пели. Мы с Эмой тоже им подпевали. У папы был очень красивый голос, пел он превосходно, хорошо играл на концертине. Я тоже выучилась впоследствии играть на ней. Мы все очень любили музыку, пение, но больше всего в нашей семье любили книги.
Вскоре после нашего переезда в Екатеринослав произошла Февральская революция 1917 года. Это было время исключительной общественной активности. Начались выборы в Учредительное собрание. Эма знал номера всех партий, а их было много, например: 2-й — большевики, 7-й эсеры и т. д. Когда у нас, детей, спрашивали, где папа с мамой, мы в один голос отвечали: «На Каретной». Там находился революционный клуб, непрерывно проходили собрания, митинги, формировались военизированные дружины, и наши родители были в самой гуще этих событий. При этом революционном клубе даже устроили детскую комнату, где на время собраний и демонстраций родители могли оставлять своих малолетних детей.
Помню, как отец показывал нам с Эмой какую-то книжку серого цвета с вертикальной красной полосой и спрашивал: «Монархия или республика?» (Это было название книжки.) Мы в один голос отвечали: «Республика!» Нам это слово почему-то нравилось больше. Отец радостно восклицал: «Вот видите, мои дети тоже революционеры».
Отец был прирожденным революционером, прекрасным оратором, агитатором, он давно уже вел агитационную и разъяснительную работу среди бедноты и рабочих. А преподавая в школах и гимназии, воспитывал своих учеников в атеистическом духе.
После Октября 1917 года различные кружки и социалистические партии влились в РКП. Вскоре и отец с матерью стали членами Коммунистической партии. Помню, как папа и мама голосовали за второй список — большевиков. Мы, дети, видели также, как город занимали петлюровцы, и наши родители прятались тогда дома, не выходили на улицу. Занимали город и австрийские войска. Был случай, когда власть в городе в течение дня менялась дважды. Потом пришли красные, и папа с мамой сразу побежали в свой клуб.
Из Екатеринослава мы эвакуировались в Новозыбков — в 1919 году, когда к городу подходил Деникин. В Новозыбкове мы, дети, жили с мамой у деда. А папу по партийной линии назначили вскоре в Гомель редактором газеты «Горепашник».
18

Семья Казакевичей: Эммануил, его отец – Генрих Львович,
мать – Евгения Борисовна и сестра Галя. Гомель, 1919 г.
Это был очень трудный период в нашей семье — папа фактически разошелся с мамой. Мама работала в Наробразе, как тогда говорили. Летом 1919 года она ездила в охваченное голодом Поволжье, собирала там детей, оставшихся сиротами и бедных, привозила в Новозыбков, организовывала там детский дом. В поездках по Поволжью она простудилась и заболела туберкулезом легких, предрасположенность к этой болезни была у них в семье, а мама к тому же была очень хрупкой. Когда она лежала больной, Эма не отходил от нее, был главный помощник и утешитель. Он очень любил ее. Затем мама поехала лечиться в Москву, к брату. А мы, дети, на несколько месяцев остались в детдоме, в Гомеле. В детдоме было голодно, сахара совсем не получали, в кружки с кипятком бросали соль и крошили хлеб. Сами мыли полы, я мыла и за себя, и за шестилетнего брата. Эма тяжело болел дизентерией, лежал в изоляторе, потом в больнице. Вернувшаяся из Москвы мама забрала нас в Новозыбков, где организовывала детские сады и детские дома и работала в них сама. Там тоже всем нам было и трудно и голодно. А папа в то время был переведен уже в Киев — редактором республиканской газеты «Коммунистише фон» («Коммунистическое знамя»). Жил он в бывшей гостинице «Континенталь», называвшейся по-новому Первым Домом Советов. Здесь жили все ответственные работники, в том числе Гамарник, Якир, Котовский, Картвелишвили, Постышев. В Киеве, в этом доме-гостинице, наша семья, к счастью, вновь воссоединилась, когда мама привезла туда лечить опять тяжело заболевшего Эму. Она сама легла с ним в больницу, так как по пути в Киев Эма заразился еще сыпным тифом. Из больницы она пришла уже к отцу. Со временем отношения у них наладились, и мы, дети, сыграли в этом важную роль.
В Киеве отец очень много работал, занимаясь не только редактированием газеты, повседневной публицистикой, но и литературной критикой. Он хорошо знал русскую литературу, классику, еврейскую литературу — Шолом-Алейхема, Менделе-Мойхер-Сфорима, Ицхока Переца, Опатошу и многих других. Переца и Шолом-Алейхема любил читать вслух. Изучил он самостоятельно также немецкий и французский языки. Помню, как он читал нам с Эмой, взяв каждого на колено, сказки Перро по-французски и тут же переводил.
В Киеве мы с братом учились несколько месяцев в консерватории по классу пианино. В «Континентале» всем, у кого были дети, ставили в номера пианино, и уроки проводились
20
поочередно то в одной квартире, то в другой. Эме почему-то не понравилась преподавательница в консерватории, и мы перешли в музыкальную школу Шейнина, где он учился играть на скрипке. Он был чрезвычайно музыкален, имел идеальный слух. И рисовал он хорошо. Устраивал дома целые спектакли из моих кукол...
Как и все вокруг, мы были потрясены известием о смерти Ленина, хотя и знали о его болезни. Но саму мысль о его смерти никто не мог допустить. Я видела, как плакал папа. Он был на Восьмом съезде Советов, видел и слышал Ленина и сам с дореволюционных еще лет нес его слово в массы.
В том же 1924 году мы переехали в Харьков, куда перенесли столицу Украины. Папу назначили там главным редактором республиканской газеты «Дер штерн» («Звезда») и — одновременно — центрального литературно-художественного и публицистического журнала «Ди ройте велт» («Красный мир»). В Харькове наш дом всегда был полон известных и начинающих писателей и поэтов. У нас запросто бывали и останавливались, подолгу жили, приезжая из других городов, Квитко, Маркиш, Фефер, Фининберг, Гофштейн и многие другие. Как-то Перец Маркиш воскликнул, обращаясь к нашей маме: «Женя, скоро ваша кушетка заговорит стихами!» На этой кушетке спали приезжавшие поэты, в том числе и он.
Приходили к нам и известные артисты, режиссеры, композиторы. Михоэлс, Зускин были личными друзьями нашего отца, и, когда московский ГОСЕТ приезжал на гастроли в Харьков, первый их визит был к нам. Режиссеры и театральные деятели Грановский, Марголин, Лойтер — все были вхожи в наш дом, все любили нашего отца Генриха Львовича. Он действительно был красивый человек. Отец был добрый, общительный, вспыльчивый, увлекающийся, веселый. И очень артистичный. Хорошо пел, прекрасно читал вслух. Как-то даже на чью-то свадьбу принес с собой книгу Шолом-Алейхема и стал там читать. И все слушали с огромным удовольствием.
Уже в годы Великой Отечественной войны, в октябре 1942 года, я получила от брата письмо из Владимира, в котором он так говорил о нашем отце:
«Я и ты — дети своего отца, человека могучего нравственного здоровья, оптимиста, Брюньона-интеллигента. И — не знаю, как тебе, но мне это помогает. В худшие времена я всегда слышал в себе биенье папиного сердца и видел его улыбку...»
21
А мама была совестью и умом нашей семьи. Она понимала, что отец натура талантливая, и стремилась к тому, чтобы он занял достойное место в жизни. Была она серьезная, сдержанная, жила больше внутренней жизнью, и мы, дети, часто старались ее рассмешить. Особенно старался Эма, и это ему удавалось. Относился он к маме с неизменной любовью и нежностью.
После окончания семилетней трудовой школы в 1927 году Эма поступил в профтехшколу. Но через год его исключили — за эпиграммы, карикатуры, споры с директором. Да и у него самого все интересы находились в другой области. Он много читал, писал — стихи и прозу, переводил, жил литературой. Родители это хорошо понимали и потому не расстраивались по поводу того, что брата исключили из профтехшколы.
Папа в то время был назначен директором Харьковского театра. Потом он работал редактором отдела республиканского Центриздата и много сил отдавал воспитанию молодых литераторов. Одновременно он занимался переводами, перевел на идиш труд Ленина «Развитие капитализма в России» и «Анти-Дюринг» Энгельса, составлял русско-украинско-еврейские словари, подготовлял и редактировал учебники для вузов. Он часто выступал в клубе имени III Интернационала, одном из центров литературно-общественной жизни в Харькове. Там постоянно бывал и Эма, много работавший в этот период над переводами Маяковского. Он очень любил Маяковского, присутствовал на всех его выступлениях, когда поэт приезжал в Харьков. Смерть Маяковского в 1930 году была для него сильнейшим потрясением. Брат поехал в Москву на его похороны. Потом перевел его поэму «Во весь голос». Любимыми поэтами брата были и Пушкин, Гейне, Лермонтов, Пастернак.
В 1931 году брат один уехал в Биробиджан, а через год туда приехали и отец с матерью. Я с мужем и полуторагодовалым сыном переехала тогда жить в Москву. В Биробиджане отец был назначен редактором областной газеты «Биробиджанер штерн» («Биробиджанская звезда»), избран членом обкома партии, вел, как всегда, большую общественную работу. Умер он скоропостижно в декабре 1935 года, в возрасте пятидесяти двух лет. А через полтора месяца умерла мама.
Спустя пять лет, в 1940 году, в Москве, брат написал «Письма к моему отцу на тот свет». Из них видно, какое огромное место в его душе занимал и продолжал занимать наш отец:
22
«Часто я думаю — сколько умных советов я мог бы получить от тебя, если б у меня при твоей жизни хватило бы ума спрашивать у тебя советы! Но ум приходит слишком поздно.
...Вообще ты всегда относился к моим произведениям с большой верой в меня и может быть, недостаточно критически. Спасибо тебе за это, отец... Ты твоим глубоким пониманием помог мне сохранить веру в себя. И кроме этого «педагогического» смысла, — может быть, ты таки был прав в твоем хорошем мнении обо мне? Но этого я еще сам не знаю — это видно будет позже».
1983
А. К. Горлинский
В ДЕТСКИЕ ГОДЫ
С Казакевичем мы познакомились в конце 1921 года в Киеве.
Моего отца на Киевском губернском съезде Советов избрали секретарем губисполкома, и он из небольшого городка Богуслав, где был председателем ревкома, переехал в Киев. Вскоре всей семьей мы переселились к отцу, который получил однокомнатный номер в Первом Доме Советов (ранее гостиница «Континенталь», в настоящее время консерватория) на Николаевской улице (ныне улица Карла Маркса). Никаких удобств не было, завтрак и ужин мать готовила на керосинке, обед брали из столовой, находившейся в помещении бывшего ресторана.
В Первом Доме Советов жили партийные, советские, профсоюзные работники, военные, журналисты.
Соседний с нами номер (комнату) занимал председатель Киевского губисполкома Гамарник Ян Борисович. Помню его всегда спешащего, озабоченного, деловитого. Комната с другой стороны обычно пустовала. Она была забронирована за Григорием Ивановичем Котовским. Он останавливался здесь, приезжая в Киев по служебным делам.
Через некоторое время нашей семье, учитывая, что нас было пять человек, дали двухкомнатный номер. В нем был совмещенный, как теперь говорят, санузел.
В 1923 году мы вновь поменяли свою «обитель», переехав
24
в еще «более комфортабельную» квартиру. Здесь нашим соседом оказался секретарь Киевского губкома КП(б)У Лаврентий Иосифович Картвелишвили, которого обычно все называли просто «товарищ Лаврентий».
Жили в Первом Доме Советов все очень просто и скромно. Я вспоминаю, как порой в воскресные дни в квартире над нами, в которой поселился после своего приезда в Киев Постышев, слышался шум и грохот. Мать в этом случае обычно говорила: «Павел Петрович снова красоту наводит, полы моет».
Одной из моих обязанностей по дому было приносить из кубовой кипяток. Вот тут-то, вскоре после нашего приезда, я и встретил впервые Эму. Однажды у входа в кубовую я столкнулся со стремительно выбежавшим из-за угла парнишкой, державшим, как и я, в руках чайник. Это было так неожиданно, что мы не успели остановиться и столкнулись. Потирая ушибленные лбы и обмениваясь «комплиментами», мы вскоре перешли на дружеский тон, познакомились, рассказали друг другу, откуда и когда приехали в Киев, где и кем работают наши родители.
Подружились мы очень быстро и в дальнейшем почти все свободное время проводили вместе.
Отцов своих мы видели редко. Они уходили на работу, когда мы еще спали, возвращались, когда мы уже спали. В середине дня они порой приходили домой пообедать. Хорошо помню отца Эмы, худого, высокого мужчину, часто сильно усталого, ему, как журналисту, приходилось работать не только днями, но и по ночам. Мать Эмы, миловидная, маленького роста женщина, также работала, если не ошибаюсь, по линии народного образования. Моя мать, у которой на руках был грудной младенец — мой младший брат, в это время не работала и имела возможность всем нам уделять внимания несколько больше.
Нужно отдать должное нашим родителям, все свободное время, которого у них было так немного, они старались посвящать нам. Никогда в обращении с нами у них не было раздражительности, всегда хватало терпения внимательно выслушать наши вопросы и весьма доходчиво ответить на них.
Дома взрослые часто обсуждали злободневные проблемы, положение в мире, внутри нашей страны. Мы, дети, внимательно прислушивались к этим разговорам. Многого не понимая (во всяком случае, не воспринимая всей сложности, глубины тех или иных событий), мы, однако, улавливали
25
главное, суть, пусть по-детски, но улавливали. Такая атмосфера царила и в других семьях, поэтому, оставаясь одни, в своих детских компаниях, мы часто горячо продолжали обсуждать вопросы, волновавшие умы взрослых.
Мы познали горести, тяготы и лишения гражданской войны. Мы хорошо знали, за что боролись, воевали наши отцы. Некоторые из нас, в силу различных обстоятельств, временно находились на территории, занятой то петлюровцами, то махновцами, то белополяками, пережили очень многое, и оно осталось в нашей, как губка все воспринимавшей, детской памяти. Поэтому мы со всей детской страстностью, я бы сказал даже — с каким-то фанатизмом, переживали все происходящее вокруг, поддерживали все революционное, люто ненавидели врагов, о которых нам рассказывали родители, да многое мы видели и сами.
Эма был более чем на год старше меня. Что тянуло меня к нему? Очевидно, то, что привлекало к нему и других ребят. О чем бы мы ни заговорили, он знал больше нас. Вместе с тем он никогда не старался показать свое превосходство. Во всех наших многочисленных делах и затеях все ребята участвовали «на равных», хотя зачинщиком большинства из них являлся именно он.
Что было для него характерным в те годы? Большая любознательность. Он очень многим увлекался, рассказывал об этом живо и интересно и невольно увлекал других.
Особенно меня поражало в нем отличное знание физической карты мира. На чистом листе бумаги он свободно рисовал контуры континентов, государств, горных хребтов, рек, на память называл столицы, крупные города.
Одной из любимых его игр была игра в путешествие. Назывались два города, и требовалось перечислить океаны, моря, проливы, заливы, реки, по которым пролегает путь между ними. Неизменным победителем, как и в известной игре «в города», выходил Эма.
Детей в нашем доме было много. Сверстники и даже старшие хотели с ним дружить, младшие относились с большим уважением. В своих чувствах Эма был экспансивен, ненавидел, когда кто-либо поступал несправедливо, всегда заступался за младших, обиженных, хотя это и заканчивалось порой для него самого синяками и шишками. Характер у него был прямой, добрый, открытый. Не знаю, каким он стал взрослым, но в те годы он был веселый, жизнерадостный, общительный.
Однако о себе, своем раннем детстве он рассказывать
26
не любил. Когда я расспрашивал о годах, предшествовавших его приезду в Киев, он обычно мрачнел, отмалчивался, переводил разговор на другую тему. Видно, это были для него весьма тяжелые, горькие, печальные годы. Уже много лет спустя я узнал, что в раннем детстве он довольно долгое время пробыл в детском доме, где почти непрерывно тяжело болел. И об этом вспоминать ему не хотелось.
В конце 1922 года в Киеве при некоторых предприятиях, учреждениях, клубах стали создаваться отряды юных пионеров имени Спартака. Мы без колебаний стали «спартаковцами».
В школу родители зачислили меня, из-за довольно продолжительной моей болезни, не в начале, а в середине учебного года. Класс встретил меня настороженно. Значительная часть учащихся была из семей «бывших» и нэпманов. В старших классах этой школы учились ребята, помнящие или даже сами входившие в детские организаций типа бойскаутов. Я попал как бы в другой мир, в другую атмосферу, совсем не такую, какая была у ребят в Первом Доме Советов.
Я остро ощущал отсутствие рядом со мной Эмы, учившегося в другой школе, который мог бы вовремя дать мне хороший совет, поддержать, помочь.
Наша классная руководительница, женщина преклонного возраста, была аполитична, избегала всего, что могло в какой-либо мере касаться жизни страны, проходящих революционных процессов. А ведь жизнь требовала даже от таких юных, как мы, четкого определения своих позиций. Я скоро прослыл в классе «красным». Таких, как я, в классе было меньшинство, но мы держались крепко.
В нашем возрасте ребята обычно увлекались играми в «разбойников», «воров и сыщиков», однако наши игры на переменах или после окончания занятий вряд ли даже можно было назвать играми. Во дворе нашей школы был небольшой холм, и у нас все время шла борьба — кому владеть этой «командной высотой», нам, «спартаковцам», или ребятам, называвшим себя бойскаутами, хотя в школе ни тех, ни других, как-либо организационно оформленных, не было. Схватки затевались горячие, часто переходящие просто в драки. В ход пускались палки, камни. Многие из нас ходили со следами этих «сражений». Учителя, в том числе и наша классная руководительница, старались этих следов не замечать или считать их результатами «невинных забав».
27
Хотя нас, «спартаковцев», было и меньше, но мы часто обращали в бегство наших противников.
У Эмы в школе происходило то же самое, и поэтому наши ежедневные с ним встречи обычно начинались с «обзора военных действий на школьных полях сражений».
Вспоминая сейчас далекое наше детство, хотелось бы остановиться на следующем. Среди ребят, живших в Первом Доме Советов, были русские, украинцы, евреи. Все мы очень дружили, жили единым детским коллективом, у себя дома мы порой говорили на разных языках, учились в разных школах, но общались между собой только на общем, едином, понятном и родном для всех нас русском языке. У меня в семье говорили на русском и украинском языках, у Эмы на русском и еврейском. Я учился в русской школе, Эма в еврейской (отец его был еврейским журналистом), но никогда это не вызывало у нас каких-либо недоразумений, трений, столкновений. В стране все нации и народы получили равные права. Шло бурное становление, развитие национальных культур, ранее в царской России находившихся в неравном, угнетенном состоянии. В Киеве работали русские, украинские, еврейские театры, школы, на многих языках издавались газеты, журналы. Для нас, с самых ранних лет воспитывавшихся в духе взаимного уважения наций, интернационализма, все это было абсолютно естественным и нормальным. Мы даже не могли себе представить иного положения, иных взаимоотношений.
Нэпмана мы считали врагом, но его национальность не имела никакого значения. Все служители религий, культов — священники, ксендзы, раввины, муллы — были для нас носителями «опиума для народа». И так во всем.
Эма очень любил читать, и я старался от него не отставать. Часто деньги, которые родители выдавали ему на школьные завтраки, уходили не по назначению. Он рыскал по букинистическим лавкам, книжным киоскам в поисках интересующих его книг и брошюр. Читать нам порой доводилось в самых неблагоприятных условиях, при тусклом освещении, на чердаках или в подвалах, куда мы забирались, чтобы почитать книги «не по возрасту» или избегая материнского недовольства за многочасовое чтение. Возможно, это и стало одной из причин близорукости, которая впоследствии у него сильно развилась.
В квартире у Казакевичей всегда был целый ворох свежих газет и журналов, которые мы просматривали с большим интересом и вниманием. Из них мы знали, что дела-
28
ется на свете, и пусть по-детски, но имели о событиях, волнующих мир, свои суждения. Сейчас порой самому кажется странным, как это в 9—10 лет мы знали, кто такие были Ллойд Джордж, Керзон, Болдуин, Макдональд, Бриан, Пуанкаре, Клемансо, Куно, Штреземан и многие другие. Мы их воспринимали как ярых противников рабочего класса, душителей революционного движения, врагов нашей Советской Родины.
Особенно мы переживали, когда весной 1923 года вспыхнула всеобщая забастовка рурских рабочих. У нас в стране собирались средства для оказания помощи бастовавшим. Из газет мы знали, что дети рурских рабочих голодают, плохо обуты и одеты. Мы мучились — чем бы им помочь. Долго думали, и наконец Эме пришла в голову мысль, которая захватила нас всех. Решили организовать вещевую лотерею и все вырученные средства передать для оказания помощи детям бастующих.
Эма, я, Леня Реут, Буся Паргаманник, братья Сухановы и другие ребята обошли всех живших в нашем Доме Советов и рассказали о нашем замысле. Конечно, все живо откликнулись, и мы собрали для лотереи довольно много различных вещичек.
На лестничной площадке между первым и вторым этажами мы поставили раздобытый нами большой стол, расставили на нем разыгрываемые вещи, вывесили плакат (его написал Эма): «Покупая лотерейный билет, ты этим помогаешь детям рурских рабочих» — и стали дежурить. Так как жилые помещения начинались со второго этажа, то все жившие в доме обязательно проходили мимо нас. Нечего и говорить, что каждый из проходивших непременно брал один или несколько билетов. Почти все от выигрышей отказывались, и, таким образом, предметы пускались в «повторный оборот». Деньги, вырученные от лотереи, Эма и я, как доверенные лица нашей детской компании, ежедневно спешили отнести в ближайшее отделение госбанка. Первые два дня приходилось упрашивать, чтобы в выдаваемых нам квитанциях указывалось: «в помощь детям рурских рабочих», так как соответствующий лицевой счет банка назывался «в помощь рурским рабочим», но в конце концов мы добились своего.
Вспоминается и конец октября 1923 года. Эма, крайне взволнованный, прибежал ко мне с криком: «В Гамбурге революционное восстание. Руководитель Тельман!» Мы бросились к географической карте. Эма быстро нашел Гамбург.
29
Не помню, кому из нас первому (вероятнее, все-таки ему) пришла мысль, что нельзя спокойно нам тут сидеть. Надо быть там, вместе с восставшими. Твердо решаем — бежим. Мы клянемся друг другу, что никто, кроме нас двоих, об этом знать не будет. Прикинули, что на подготовку потребуется два-три дня. Мы потихоньку, во время еды, собираем куски хлеба, пряча их по карманам, запасаемся спичками, солью, сахарином (выдававшимся вместо сахара), деньгами, которые нам выдавали на школьные завтраки, а также добытыми от продажи букинистам наших книг (в том числе «пострадали» и некоторые учебники), намечаем возможные маршруты.
Бежать решаем утром. Будто отправляемся в школу, а в действительности подадимся на вокзал.
Наступило намеченное нами для побега утро. Я проснулся раньше обычного, все припасенное уложил в ранец. Наскоро позавтракал и, поцеловав спавшего годовалого братишку и маму, чем несколько удивил ее, побежал в «школу». Друг уже ждал в назначенном месте. Наш уход из дому не вызвал подозрений, ведь был обычный день занятий в школе. Только для нас он был необычным. Из газет мы знали, что восставшим приходится тяжело, приведена в действие вся машина подавления, но действительного положения все же себе не представляли. Наш план был купить билеты из Киева до Шепетовки, а там добраться до местечка Кунев, где проживали мои дедушка и бабушка. Граница с панской Польшей в этом районе проходила по небольшой речушке Вилии, протекавшей как раз по окраине Кунева. Я прекрасно знал эти места и считал, что мы сумеем незаметно перебраться через Вилию, а там уже — заграница и будет видно, как двигаться дальше.
Дойдя до Крещатика, садимся в допотопный трамвай. Вот и вокзал. Шум, гам, суета. Смотрим указатель отправляющихся поездов, ближайший поезд на Шепетовку идет во второй половине дня. Сидеть на вокзале нельзя, если нас начнут искать, то легко найдут. Решаем ехать пригородным поездом до Фастова, а там уже ждать поезда на Шепетовку.
Отправляемся к билетным кассам. Вдруг слышим крик мальчишки — продавца газет: «Свежие газеты! Свежие газеты!» Эма покупает газету, мы пробегаем заголовки: «Восстание в Гамбурге подавлено!», «Кровавая расправа». В глазах Эмы вижу слезы, в моих, очевидно, тоже. Что делать, не знаем! Выходим на привокзальную площадь, забиваемся
30
в какой-то уголок и долго молча сидим. Я жду, что скажет он, более разумный и опытный. «Ничего не поделаешь, надо возвращаться домой», — со вздохом произносит он, и мы медленно бредем по киевским улицам. Дома так ничего и не узнали о нашем замысле. Только в субботу мать, просматривая за неделю мой школьный дневник, увидела запись о прогулянном дне. Мне пришлось что-то объяснять, путано и неправдиво.
В те годы еще далеко не полностью было ликвидировано тяжелое наследие гражданской войны — беспризорность. А тут еще в 1922 году небывалая засуха на всем Поволжье, страшный голод. Несмотря на все меры по оказанию помощи голодающим, последствия были необычайно тяжелые. Тысячи осиротевших ребят подавались в хлебные места. Много беспризорных было и в Киеве. Их старались разместить по детским домам, приютам для безнадзорных, но, к сожалению, охватить всех было невозможно. Грязные, в отрепьях, голодные беспризорники шныряли по рынкам, базарам, толкучкам в поисках съестного, воровали. По ночам они ютились в еще не остывших от асфальта котлах, канализационных и водопроводных люках, развалинах домов. Процветали площадная брань, драки, поножовщина, игра в карты, «блатные» песни.
Хорошо помню, как однажды, гуляя с Эмой по склонам Днепра, мы с удивлением увидели, как из открытого канализационного люка появилась грязная голова какого-то парнишки. Лицо его давно не видало воды, волосы были неимоверно всклокочены. Мы остановились. Беспризорник быстро вылез из люка и недоверчиво рассматривал нас. Ведь нас было двое, а он один. Эма, умевший быстро устанавливать знакомства, подошел к нему, что-то начал говорить, и скоро мы беседовали, смеялись, шутили. Паренек был очень голоден. Я сбегал домой, принес хлеб и отдал нашему новому знакомому. Он оказался сиротой, откуда-то из-под Камышина, смышленым и разговорчивым. Мы его «подкармливали» примерно с неделю, а затем мать Эмы помогла устроить его в детский дом.
Такие встречи и знакомства повторялись неоднократно. Мы втянули в это дело и своих товарищей. Не обходилось и без огорчений. Встретившись с каким-нибудь беспризорником, подкормив его, мы договаривались о следующей встрече, приходили, а его и след простыл. Конечно, ничего особенного мы сделать не могли, но все же были довольны, что сумели хоть несколько ребят вытащить из омута беспри-
31
зорности, пристроить (опять-таки благодаря матери Эмы) в детские учреждения.
Летом 1923 года Эма надумал выпускать рукописные журналы, сразу два. Один — с рассказами и стихотворениями, второй — чисто юмористический (каждый по 8—12 страниц). Основную работу выполнял он сам. Он увлекался рисованием, и более половины места журнала занимали его рисунки. Стихи, юморески, большинство рассказов были также его. На мою долю приходились небольшие рассказы (о временах года, природе, встречах с беспризорниками, посещении кино и театров), а также переписывание материала начисто. Мы выпустили по два-три номера каждого журнала, затем начался новый учебный год, и выпуск «приказал долго жить».
Как и все мальчишки, мы увлекались кино, по нескольку раз ходили на фильмы: «Акулы Нью-Йорка», «Знак Зорро», «Индийская гробница». Особенно любил он фильмы с участием Дугласа Фербенкса, Мэри Пикфорд, а также комиков — Чарли Чаплина, Гарольда Ллойда, Бестера Китона, Макса Линдера, Пата и Паташона.
Из театров мы посещали только два: русский драматический и театр оперы и балета. Спектакли смотрели обычно с галерки, куда продавались самые дешевые (так называемые студенческие) билеты. В русском драматическом театре запомнились: «Синяя птица», «Тетка Чарлея» и «Хорошо сшитый фрак». Первой оперой, которую мы слушали и которая буквально потрясла нас, был «Демон».
Любил Эма и цирк, тогда располагавшийся рядом с нашим домом. Недавно отремонтированный, ярко освещенный, шумный, он неизменно привлекал наше внимание.
Сын директора цирка (с которым мы познакомились во время одной из уличных «баталий» и некоторое время дружили) часто проводил нас на цирковые представления. Мы с замиранием сердца следили за выступлением воздушных гимнастов, эквилибристов, дрессировщиков, иллюзионистов, борцов, музыкальных эксцентриков, жонглеров, клоунов.
Сын директора цирка был причиной одного нашего сильного душевного потрясения, которое особенно болезненно перенес Эма. Несмотря на нашу любознательность и довольно большую для наших лет начитанность, мы как-то не задумывались над вопросом — откуда берется все живое, почему и как появляются на свет дети. У нас хватало других детских забот и хлопот. До поры до времени это нас не интересовало. Однако неизбежное должно было случиться.
32
И приходится сожалеть, что первые сведения о «тайне жизни» мы получили не от родителей, в соответствующей деликатной и понятной для нас форме, а от «улицы».
Я помню, как однажды, теплым осенним вечером, сын директора цирка со своими двумя великовозрастными дружками решил нам «открыть глаза на жизнь». С большим цинизмом, грязно смакуя, описывая все в животно-натуралистических тонах, со всей наготой и неприглядностью, то и дело прибегая к площадной брани, он «просвещал» нас, а мы молча стояли, жалкие, растерянные, сразу как-то духовно опустошенные.
Наконец Эма с криком: «Все это вранье, а вы дряни» — бросился с кулаками на «учителей». Несмотря на то что я тотчас же ринулся ему на помощь, мы были избиты, как никогда раньше. Но не физическая боль, не разбитые носы, не многочисленные царапины, ссадины и шишки мучили нас. Мы были уничтожены, раздавлены морально, все казалось ужасным и безысходным, все сразу опротивело. В эти тяжелые для нашей детской психики мгновения мы проклинали весь мир, все земное. Эма кричал: «Умереть, я хочу умереть, я не могу больше жить, как я смогу теперь смотреть в лицо всем взрослым, своим родителям, близким и знакомым... Я должен покончить с собой, умереть...»
В эту тяжкую для нас минуту не было рядом настоящего, доброго друга, мы были предоставлены сами себе, с нашими недетскими терзаниями и переживаниями. Много прошло времени, прежде чем мы «отошли», окружающее стало вновь нас интересовать, жизнь позвала к себе.
Эма любил ходить по улицам, площадям, садам и скверам Киева. Он был очень наблюдательный, все его интересовало, привлекало. Обо всем, что происходило на улицах, мы узнавали очень быстро и стремились стать очевидцами происходящего. А дела порой творились поистине удивительные.
Например, какой-то запыхавшийся гражданин возбужденно рассказывает собравшейся вокруг него толпе, будто только что он видел на Крещатике проезжавшую пролетку, в которой восседали голые мужчина и женщина, единственным одеянием которых были широкие ленты, переброшенные через плечи, с надписью «Долой стыд». Мы бежали на Крещатик, там что-то невероятное, давка неимоверная.
Такое повторялось несколько раз. Нам ни разу (как, возможно, и остальным) не удалось увидеть эту пролетку, зато многие зеваки, попавшие в сутолоку, недосчитывались своих кошельков, часов, брошек, сумочек.
33
Или вдруг с молниеносной быстротой по городу разносится весть, что среди бела дня какие-то налетчики ограбили банк; спасаясь от преследования, забрались на крышу одного из университетских зданий и оттуда отстреливаются. Мы мчимся к университету. Действительно, одно из зданий, выходящее на теперешний бульвар Шевченко, оцеплено милицией. Тут же пожарная команда, машина «скорой помощи». На крыше видны какие-то люди, изредка слышны револьверные выстрелы, после каждого из которых собравшаяся толпа панически разбегается, чтобы затем медленно собраться вновь. Наконец финал — из подъезда выводят нескольких человек, их сразу же плотно окружает милиция и куда-то конвоирует.
Но больше всего врезались в память факельные шествия по главным улицам города, организуемые комсомольцами. Молодежь несла огромные чучела Керзона, Болдуина, Бриана, белогвардейских битых генералов Юденича, Колчака, Деникина, Врангеля, гетмана Скоропадского, Петлюры, Махно. Тут же чучела богов и святых православной, католической, иудейской, мусульманской религий. Лозунги, плакаты, сотни зажженных факелов — незабываемое зрелище. В колоннах звучат песни: «По морям, по волнам», «Наш паровоз, вперед лети», «Мы, молодая гвардия», шутки, смех, частушки — хлесткие, едкие. Почему-то запомнилось: «Долой, долой монахов, раввинов и попов. Мы на небо залезем, разгоним всех богов». Шумное факельное шествие обычно двигалось по Крещатику на Владимирскую горку и заканчивалось сожжением чучел и плясками.
Быть может, рассматривая эти действия сейчас, мы сочтем их примитивными, не соответствующими современным принципам пропаганды научного атеизма. Но, как говорится, из песни слов не выбросишь, такие шествия тогда организовывались, мы были их свидетелями и участниками, они глубоко запали нам в душу.
На всю жизнь запомнился день, когда мы узнали о смерти В. И. Ленина. Мы знали о болезни Владимира Ильича, читали бюллетени о состоянии его здоровья, но никогда и мысли у нас не появлялось о возможной его смерти. Помню зимний морозный день 22 января 1924 года. Мы только что вернулись из школы. Эма, как обычно, прибежал ко мне и рассказывал школьные новости. Вдруг открывается дверь, входит мой отец, бледный, взволнованный, и с дрожью в голосе говорит: «Дети, вчера вечером умер Ленин». Голос прерывается, отец беззвучно плачет. Зарыдала мать. Мы
34
с Эмой буквально застыли. Как тяжелым обухом слова отца ударили по головам. «Нет, нет! Этого не может быть»,— вскрикнул Эма и выбежал из комнаты.
В последующие дни мы, как всегда, много времени проводили вместе. Печальное известие глубоко потрясло Эму. Он подолгу рассказывал мне о Владимире Ильиче и всей семье Ульяновых, о его детских и юношеских годах, начале революционной деятельности, аресте, ссылке и эмиграции, о его роли в подготовке и победе Октябрьской революции и руководстве молодым Советским государством. Он старался прочитать все, что только публиковалось в газетах в те дни о Владимире Ильиче. Чувствовалось, что он рассказывает не столько для меня, сколько для того, чтобы лучше запомнить все самому, осознать, прочувствовать величие жизни и деятельности Ильича. Он часто останавливался, надолго замолкал, думая о чем-то своем. Хорошо помню его слова: «Придет время, и я постараюсь написать о Ленине».
Наступил день похорон. Мы знали, что в четыре часа дня по всей стране на пять минут должно остановиться движение. В три часа мы были на Крещатике. Мы хотели отдать последний долг Ильичу, участвуя в этой торжественно-траурной церемонии.
И вот четыре часа. Надрывно-тягостные, тревожные заводские и паровозные гудки далеко разносятся в морозном воздухе. Останавливаются транспорт, пешеходы. Эма и я вытягиваемся на краю тротуара, стоим «смирно». В этот момент мы представляли себе, будто стоим в почетном карауле у изголовья любимого Владимира Ильича.
Мороз очень сильный. Кажется, вся земля замерла, застыла. Даже птиц не видно, попрятались. Тело пронизывают ледяные иголки, но мы продолжаем стоять неподвижно.
Вскоре отца Эмы перевели в Харьков. Обстоятельства сложились так, что после их отъезда мы потеряли друг друга. Наша семья тоже уехала из Киева. Отца часто переводили по службе, и мы на одном месте долго не задерживались.
Вновь о Казакевиче я услышал только в 1947 году, когда прочитал его повесть «Звезда». Подать о себе голос я не считал возможным. Мне представлялось, что все его время расписано по минутам, что я буду его отрывать от важных дел. Только в январе 1962 года, приехав на несколько дней в Москву, я решил навестить Эммануила. Узнав, где он находится, поехал в Переделкино, разыскал его дачу и с
35
волнением открыл входную дверь. Вечерело, в прихожей было темно. Навстречу вышел высокий, худощавый мужчина в ватнике и в валенках. Я сразу узнал Эммануила, возможно потому, что неоднократно в печати видел его фотографии последних лет. Он меня не узнал. Но когда я несколько хриплым от волнения голосом сказал: «Эма! Вспомни Киев», он сразу же радостно воскликнул: «Алеша!»
Весь вечер мы вспоминали детство, пережитое. Эммануил вскользь, как бы нехотя, коснулся своей болезни, а затем беседа перешла на его творческие дела и планы.
Он рассказывал, что уже в дни смерти и похорон В. И. Ленина дал себе слово попытаться воспроизвести его образ, жизнь и деяния, всегда помнил об этом, но все не решался, не считал себя подготовленным. Только сравнительно недавно наконец решился и создал «Синюю тетрадь». Нежно и взволнованно говорил он о Ленине, подчеркивал его непримиримость, принципиальность, мудрую человечность и высокий гуманизм.
Эммануил говорил, что хочет включиться в создание Ленинианы средствами кино и мечтает написать сценарий о небольшом по продолжительности, но очень емком отрезке жизни В. И. Ленина с момента, когда он узнал, что в России произошла Февральская революция, и до возвращения на родину, встречи его с питерскими рабочими на Финляндском вокзале. Говорил, что, если ему позволит здоровье, он попытается проехать по маршруту, которым возвращался Владимир Ильич в Россию, проехать обязательно в ту же самую пору года, побывать во всех местах, связанных с деятельностью Ленина в это время. Так, мол, он лучше прочувствует, вживется в обстановку того времени, в которой жил, работал, боролся и творил Владимир Ильич.
Когда пришел час расставания, Эма взял с меня слово обязательно в дальнейшем систематически встречаться и подарил экземпляр своей книги «Синяя тетрадь», надпи-сар: «Дорогому старому другу — Алеше, а ныне Алексею Кирилловичу Горлинскому — с любовью от автора. Эм. Казакевич. 9.01.1962».
На следующий день, глубоко взволнованный этой встречей, я уехал к месту службы, далеко от Москвы. А в сентябре этого же года с глубокой скорбью узнал о безвременной кончине самого близкого и дорогого товарища моего детства, Эмы — Эммануила Генриховича Казакевича.
Т. Ген
ЕГО ЛЮБИЛИ
26 сентября 1962 года, то есть назавтра после того, как в Москве на Новодевичьем кладбище был похоронен Эммануил Казакевич, мне довелось побывать в Харькове — в том самом городе, где прошли детские и отчасти юношеские годы писателя. Ехал я в Жданов, но решил сделать на день остановку, чтобы побродить по Харькову, пройтись по тем же улицам, по которым мы, школьники, а затем учащиеся профтехшколы, много лет подряд ходили вместе со своим веселым и остроумным сверстником Эмой Казакевичем. Сдав свой чемодан в камеру хранения, я вышел на вокзальную площадь.
Было шесть часов утра, на вокзал я вернулся поздно вечером. Весь день мне казалось, что рядом со мной идет Эма. Сперва я отправился на улицу, где жили Казакевичи, зашел во двор с раскрытыми воротами (вспомнилось, что эти ворота и тогда, десятки лет тому назад, всегда были распахнуты, будто приглашали зайти в гостеприимный дом), и точно так же, как когда-то, постоял на крылечке, словно ожидая, что сейчас, увидев меня из окна, стремительно выбежит ко мне мой хороший товарищ и скажет:
— Что же ты стоишь тут? Зайди в дом. Папа у себя, и он хотел тебя видеть.
Затем я отправился на Рыбную улицу, где была наша школа-семилетка. Мне казалось, в ушах звучит:
37
— Казакевич, к доске!
Явственно, сквозь толщу минувших лет, глазам представился светловолосый худой мальчик одиннадцати или двенадцати лет, ученик пятой группы (классы тогда назывались группами). Вызов к доске застал Эму врасплох, он увлеченно перешептывался с соседом по парте. Быстро поднявшись с места, поправив очки на носу, Эма идет к доске. Он чуть-чуть заикается, но отвечает правильно и твердо держит мелок в руке. А почерк у него отличный. По нашему мнению, его цифры даже красивее, чем у учителя математики.
Казакевич прекрасно успевал не только по литературе и языку — здесь ему не было среди нас равных,— но и по математике, физике, химии. Он отлично чертил, очень любил географию. Бывало, на перемене повернет большую географическую карту мира «лицом» к стене и начнет вслепую указывать пальцем на различные, совсем нам еще неизвестные страны, моря, реки.
— Здесь — Эквадор, а здесь — Гватемала... Вот где протекает река Инд...
Одной из его любимых игр (зачастую увлекался ею и на уроках) была игра в слова. Заключается она в том, что, написав на листочке какое-нибудь слово, желательно подлиннее, столбиком сверху вниз и рядом — снизу вверх, в промежутке между противостоящими буквами образовать новые слова. Эма был в этом деле непревзойденный мастер.
В школу он часто приносил какой-нибудь толстый фолиант в добротном переплете — сочинения Мольера, Шекспира, Байрона, Гейне, других классиков мировой литературы. У Генриха Львовича, отца Эммануила, была прекрасная библиотека, и сын широко ею пользовался. Солидные тома не помещались в школьном ранце, и Эма обычно носил их под мышкой.
Наша школа гордилась своим поэтом — Иосифом Котляром, печатавшим стихи не только в газете «Юнге гвардие» («Молодая гвардия»), но и в большой «взрослой» газете «Дер штерн» («Звезда»), редактором которой в то время был Г. Казакевич. Юный, но уже почти признанный поэт Котляр учился в седьмой группе, Эма — в пятой. На литературных утренниках неизменно звучал голос Котляра — певучий, немного томный. Не помню, чтобы Казакевич когда-либо выступал на этих утренниках, но стихи уже писал и даже «печатал» в стенгазете. Он унаследовал все хорошие качества своего отца — блестящий ум, щедрое сердце, жизне-
38
радостность, одного только он не перенял: Генрих Львович был великолепным оратором — Эммануил не любил выступать с трибуны.
Генрих Львович Казакевич был редактором первого еврейского советского журнала «Ди ройте велт» («Красный мир»), первой на Украине ежедневной газеты «Дер штерн», начавшей выходить в 1925 году, позже он работал редактором в Укрнацмениздате, в издательстве «Лiм» («Литература и искусство»). Его дом всегда был полон молодых писателей — старых писателей тогда еще не было. «Старому» Перецу Маркишу едва исполнилось тридцать лет. В небольшой уютной гостиной вечерами гремел голос Маркиша — казалось, его слышно в библиотеке имени Короленко, находившейся в двух шагах от дома Казакевичей. Он читал свою поэму «Братья».
Красная кавалерия, русская земля...
Лев Квитко — цветущий молодой человек, широкоплечий, краснощекий, светлые глаза его были всегда будто в ожидании какого-то небывалого радостного события — читал свои стихи медленно, произносил каждую строку так, словно желал, чтобы слушатели испытали ее на ощупь. Из Киева приезжал Давид Гофштейн — его первый визит к Казакевичу. Таким образом, Эма вокруг себя видел известных писателей, был с ними лично знаком.
Закончив семилетку, Эма, как и большинство его соучеников, поступил в профтехшколу, преобразованную потом в машиностроительный техникум. На практических занятиях в мастерских худенький близорукий Эма быстрее и лучше других мастерил «ласточкины гнезда», подгонял одну половинку гнезда к другой так, что они идеально наглухо сцеплялись. Далеко не каждый практикант умел так. Юный Казакевич усердно изучал машиноведение, другие «точные» предметы; правда, в его тетрадях, в ближайшем соседстве с чертежами станков, геометрическими фигурами, математическими выкладками, нередко можно было видеть дружеский шарж на преподавателя или учащегося, веселую эпиграмму. Директор профшколы не был поклонником юмора, но и он от души смеялся, слушая шутки Казакевича. К счастью, те, что касались лично директора, до него не доходили. А вообще-то говоря, нужно было быть уж слишком угрюмым человеком и вдобавок еще тупицей, чтобы обижаться на Эммануила. В одной группе в семилетке, затем на одном
39
курсе в профтехшколе вместе с Казакевичем учился паренек, далеко не блиставший способностями, прямо скажем, порядочный остолоп. Отвечая урок, он чаще всего мямлил нечто совершенно несуразное. Эма не мог пройти мимо этого парня, чтобы не погладить его очень густую и очень жесткую шапку волос, делая при этом такой вид, будто полон восхищения этой «мягкой» шапочкой, и в особенности умом, что скрывается под нею.
— М-да,— говорил Казакевич выразительно, и все смеялись, а паренек пуще всех, он считал его своим лучшим другом, да так оно и было. Все считали себя лучшими друзьями Казакевича и этой дружбой гордились, каждому казалось, что Эма выделяет его, именно ему посвятил лучшую эпиграмму, дружеский шарж. Казакевич умел находить в людях такие добрые качества и свойства, о которых те порой и не подозревали. В отзывах и рассуждениях о товарищах почти всегда преобладали преувеличения в сторону положительной оценки. Его искренне любили товарищи, и он искренне любил их.
Однажды летом 1930 года, ранним вечером, в доме Казакевичей собрались трое начинающих писателей: Григорий Диамант, Борис Миллер и автор этих строк, мы делали тогда первые пробы пера. Миллер, работавший на фабрике, написал два-три рассказа из жизни рабочей молодежи, они вошли потом в его первую книжку «Смена за сменой». Диамант работал на стройке Госпрома — первого «небоскреба» в стране, гордости харьковчан. Он писал стихи о новостройке, о минувшем детстве, о желании все в жизни испытать...
Первые страницы моей общей тетради заполнила новелла о Доме рабочих подростков, в котором я тогда жил, остальные страницы тетради были еще в ожидании новых творений. Мы принесли своих первенцев на суд отцу нашего друга.
Каждый из нас прочитал свое «избранное», последним читал Эммануил. Немного запинаясь, он прочитал рассказ, очаровавший нас необычностью сюжета. В нем говорилось о саклях, спрятавшихся в ущельях гор, о минаретах, о дервишах. Вскоре эта новелла была напечатана в харьковской молодежной газете «Юнге гвардие» с портретом автора. Это было первое опубликованное прозаическое произведение Казакевича. Писал он легко и быстро, вскоре у него была куча других новелл, также многоактные драма и комедия — то и другое не увидело света. Однако главным жанром, определившим его творчество на многие годы, была поэзия.
Мы были разными. Во-первых, разнило нас, так сказать,
40
«семейное» положение. В этом отношении у Эмы в тот период было все благополучно; во всяком случае, так нам казалось. Он жил в семье, его не обременяли житейские неудобства — тесный барак общежития, неуютная столовка со скудным меню, томительное ожидание очередной получки. Должен сознаться, что в ту пору я вообще считал его баловнем судьбы. Лишь много лет спустя я узнал, что еще в раннем детстве, выпавшем на годы гражданской войны, он в полную меру познал и голод, и болезни, и койки в детских домах. Отдавая сердечное тепло людям, Казакевичи меньше всего распространялись о своих былых и настоящих горестях и трудностях.
Кроме «семейного» различия, мы, во-вторых, заметно отличались по уровню интеллектуального развития, хотя общее образование у нас у всех было примерно одинаковое. Эммануил был гораздо начитаннее, удивлял нас знанием мировой литературы, чтением в подлиннике Гёте, Гейне, цитированием наизусть больших отрывков из Шекспира, Мольера. Внешний облик подчеркивал его сугубую «интеллигентность». Бледное лицо, очки, тонкие пальцы. Но Эммануил крепко подружился с тройкой рабочих парней, объединил нас в литературную группу, дав ей шуточное название «Птичье молоко». Он, впрочем, не старался выделиться и верховодить. Вечерами мы часто гуляли по улице, заняв весь тротуар. Не умея сдерживать шаг, Казакевич шел немного впереди, ежесекундно поворачиваясь к нам. Громко, с пафосом декламировал Гейне, чаще всего стихи из «Книги песен», отрывки из поэмы «Германия. Зимняя сказка». Трубным голосом читал наизусть «Во весь голос» Маяковского. При всем том было в нем много ребячливости, детского озорства. Поражая нас и прохожих проникновенным чтением вслух шедевров великих поэтов, он мог удивить и другим.
Впереди идут две девушки. Эммануил чуть притрагивается рукой к спине одной из них. Та, быстро обернувшись, уже готова крикнуть «нахал», но проказник невинно щурит глаза на свою ладонь, на которой будто лежит пылинка, которую он снял с пальто девушки, и девушка с милой улыбкой говорит ему «спасибо».
В профтехшколе Казакевич редактировал рукописный журнал, который его стараниями сделался многотиражным. Пишущей машинки не было, выручал прекрасный четкий почерк Эммануила, все страницы, от первой до последней, были написаны его рукой, он же потом размножал их на
41
стеклографе. В журнале был «Веселый уголок», и все знали, кто главный автор этого «уголка».
Мы были постоянными посетителями общегородской библиотеки имени Короленко. Общежитие было нашим домом по нужде, библиотека была домом по любви, нашим желанным очагом. Усевшись за одним из столов в просторном и уютном читальном зале, читали книги, писали в своих тетрадках.
Время от времени мы перешептывались, и, когда шепот становился громче, быстрыми неслышными шагами подходила старенькая заведующая залом, энергично махала худыми руками:
— О ужас! Молодые люди, вы забыли, где находитесь!
После того как она во второй и в третий раз, подойдя к нам, повторяла сухими губами «О ужас!», мы поднимались со своих мест и отправлялись вниз, в вестибюль. Здесь к нашим услугам, у стены около гардеробной, стоял широкий жесткий диван — как раз на четверых. Наговорившись вдоволь о том, о другом, затевали «торг»— кому из нас первому прочитать свое новое произведение. Больше всех приходилось упрашивать необычайно скромного Григория Диаманта. Нежную любовь к Диаманту Казакевич пронес через всю свою жизнь. Талантливый поэт Г. Диамант погиб в первые дни войны, находясь на службе в пограничных войсках на Украине.
Эммануил читал свои собственные и чужие стихи громко, увлеченно, не обращая внимания на посторонних, которые стояли у гардероба и прислушивались. После каждой удачной строфы, звучного эпитета, яркой метафоры Диамант на своем еврейско-волынском певучем диалекте тихонько, про себя, отмечал: «Гит, месикн гит» («Хорошо, очень хорошо»). Со всеми щедрыми преувеличениями, свойственными молодости, мы искренне хвалили Казакевича, не боясь даже произнести слово «гениально». Изумленно и сердито наблюдал за нами усатый старик гардеробщик. Как все гардеробщики на свете, он в своей форме выглядел очень солидно и был полон собственного достоинства. Я написал маленький рассказ об этом гардеробщике и прочитал его, сидя со своими друзьями на диване в вестибюле в самом близком соседстве с моим героем.
В 1931 и 1932 годах вышли первые книжки членов нашей литературной группы. «Крестным отцом» наших первенцев был Казакевич-отец — он им дал путевку в жизнь, помог каждому из нас составить сборник, тщательно отобрав
42
лучшее, он же был нашим редактором. Как мы радовались, когда миловидная чернобровая девушка из издательства «Лiм», той же рукой, тем же почерком, которым она заполняла бланки договоров на издание книг маститых авторов — Павла Тычины, Владимира Сосюры, Максима Рыльского, Ивана Ле, Льва Квитко, Переца Маркиша, написала и наши никому не известные имена. Однако с одним из нас, а именно с Эммануилом Казакевичем, договор не был заключен, его книжка не появилась вместе с нашими.
— Эма еще подождет,— сказал Казакевич-старший.— У него поменьше жизненного опыта, чем у вас, в его вещицах немало абстрактного. Но я верю в его литературные способности. Если он будет писателем — то хорошим. Эма умеет задумываться...
В 1931 году я поехал на учебу в Москву и вновь встретился с Эммануилом спустя несколько лет в Биробиджане, где он жил вместе с родителями. Вырос, вытянулся и все такой же худой. Был он в косоворотке, в сапогах с высокими голенищами.
— Где ты работаешь?— спросил я у него.
— В колхозе,— ответил он.— Председателем.
Даже не верилось, и, грешным делом, я было подумал, что Казакевич, по старой привычке, меня разыгрывает.
— Брось шутить... Работаешь собкором в одном из районов области?— пытался я угадать.
— А ты газеты читаешь?— вместо ответа спросил меня Эма в свою очередь.— Вижу, не читаешь. Жаль. Читал бы — знал, что колхоз, где председателем Эммануил Казакевич, на третьем месте по сенокосу и на втором — по надоям молока.
Молодой председатель колхоза был в Биробиджане не менее популярен, чем его отец — редактор газеты «Биробиджанер штерн» («Биробиджанская звезда»). Поэт, витавший в облаках, опустился на таежную заболоченную землю, окунулся в заботы о хлебе насущном, об устройстве жизни переселенцев в далеком незнакомом краю, который отныне должен был стать их родным домом. Писатель Г. Добин даже начал писать роман о председателе колхоза Казакевиче. Для того чтобы человек, несведущий в сельском хозяйстве, возглавив колхоз, тут же с треском не провалился, ему нужно было в кратчайшее время овладеть целым комплексом знаний, вдобавок научиться руководить коллективом — отнюдь не легким, состоящим из бывших мелких лавочников, кустарей-одиночек, «людей воздуха», как метко опре-
43
делил их Шолом-Алейхем. С самого раннего утра Казакевич был в бригадах и звеньях. Уставших людей подбадривал шуткой, остроумным словом. Вечера проводил в правлении колхоза, а потом, до поздней ночи, при свете керосиновой лампы проходил «сельхозакадемию» на дому. Для этой цели приобрел библиотечку специальной литературы.
Поставив на ноги переселенческий колхоз, Казакевич неожиданно появляется в новом амплуа. Его назначили директором Биробиджанского областного драматического театра. Театра еще не было, здание на улице Ленина только строилось, не было режиссера, не было артистов, был только директор — двадцатилетний Эммануил Казакевич. Облеченный полномочиями руководителя театра, он курьерским поездом отправился в Москву с неотложной задачей: найти артистов, создать труппу, обеспечить ее опытным главным режиссером и добротным репертуаром, подготовить первый спектакль и привезти театр в Биробиджан. В Москве Казакевич подружился с Михоэлсом, молодой директор несуществующего театра и всемирно известный народный артист, художественный руководитель Московского ГОСЕТа нашли общий язык, они говорили об искусстве, литературе, и, разумеется, главной темой разговоров был новый театр. Их можно было тогда чаще всего встретить вместе в еврейской театральной студии, помещавшейся в Столешниковом переулке, в старом особняке. Выпускной курс студии образовал ядро нового театра, при ближайшем участии Михоэлса шли репетиции спектакля, которым должен был открыться театральный сезон.
В 1936 году Казакевич написал очень грустное стихотворение «Лунная соната» на смерть родителей. Вслед за отцом — через несколько недель — умерла мать. Те, кому довелось видеть Казакевича-отца и Казакевича-сына, когда они беседовали, гуляя вдвоем по улице, невольно улыбались, как улыбаются приятному и вместе с тем поучительному зрелищу. Если настоящая дружба основана на полном взаимопонимании и равноправных отношениях, то примером такой дружбы могли служить Генрих Львович и Эммануил Генрихович Казакевичи. Поистине то были счастливые отец и сын. В своем отце Эммануил всегда имел умного, надежного друга, он не знал мелочной опеки, а только мудрую любовь.
После смерти родителей Эммануил переехал в Москву, к тому времени и я стал москвичом. Мы снова, как в Харькове и в Биробиджане, очень часто, порой ежедневно, встреча-
44
лись. Жил он литературным трудом — писал стихи, переводил, вместе с Давидом Бергельсоном написал небольшую книжку «Биробиджан». В гонорарных ведомостях издательства «Дер эмес» («Правда») нередко фигурировало его имя, но заработки далеко не всегда покрывали расходы.
Эма не любил обедать один даже в будничный день.
— Ну, не будь же исключением,— говорил он другу, отказывавшемуся идти в столовую.— Уже пообедал? Не беда, пообедаешь еще раз. С нами идут...— и он называл полдесятка друзей, изъявивших желание вместе пообедать.
В Москве на наших литературных собраниях, вечерах, юбилеях всегда можно было видеть Абе Лева, являвшего собой колоритнейшую фигуру. Выше среднего роста, крепко сбитый, в люстриновом пиджаке, застегнутом на одну пуговицу, в руке толстая, с набалдашникам палка, которую во время ходьбы он заносил далеко вперед, словно желая настигнуть ею невидимого противника. У Абе обычно был недовольный и как будто даже сердитый вид. Возможно, у него и в самом деле имелись основания быть сердитым. Почти всю свою жизнь этот человек жил среди писателей, был их лучшим советчиком и другом. Если понадобилась книга — библиографическая редкость, Абе Лев достанет вам ее; нужна справка исторического характера — Абе перероет десятки томов и раздобудет; если у вас пусто в кармане — намекните об этом Абе, он выручит, одолжит у другого и вам даст. В прошлом рабочий-кожевник, участник революционного движения, он самоучкой стал историком, литературоведом, библиографом, используя свои знания не столько для собственных работ, сколько для того, чтобы одаривать ими других. Но был Абе задет за живое тем, что, как ему казалось, писательская братия не принимает его всерьез, не оказывает должного уважения и почета. Вероятно, он был прав.
Однажды, после юбилея одного литератора, Абе Лев, проходя мимо группы беседующих писателей, буркнул в сердцах:
— Юбилей! Экая невидаль! Шум, тарарам... Я тоже юбиляр — и ничего, решительно ничего — ша-ша-ша...
Эммануил Казакевич, стоявший в кружке писателей, поспешно оставил собеседников, догнал Абе.
— Если не ослышался, и у вас скоро будет круглая дата. Скажите же, сколько вам исполнится?
— Какая разница — сколько?— проворчал Абе.— А если шестьдесят, я кого-то ограбил? Почет, почести — это такое дефицитное удовольствие, которое писатели сами любят и
45
неохотно делят его с другими. Ничего не требую, ничего мне не нужно...
В полной тайне от будущего виновника торжества была создана юбилейная комиссия, возглавил ее Казакевич. Первым делом купили роскошный альбом. Бергельсон, Маркиш, Квитко, Галкин, Кушниров, Годинер, Росин, Гурштейн — не было ни одного еврейского литератора в Москве, который бы в стихах, маленьком эссе не выразил свою искреннюю признательность и любовь к юбиляру. Давид Бергельсон посвятил ему новеллу, в которой весьма красочно рассказал о той большой помощи, которую Абе оказал ему в его работе над романом «У Днепра». Увлекшись, Бергельсон так расширил рамки этой помощи, что жена его всплеснула руками:
— Это уже чересчур! Выходит, он написал за тебя «У Днепра»!
На собранные в складчину деньги Казакевич и два его помощника — редактор издательства Н. Левин и я — члены комиссии, закупив закусок и вина, покатили к юбиляру домой. Эммануила я видел на многих вечерах, и всегда в том месте за столом, где он сидел, царило наибольшее веселье, больше всего именно оттуда неслись шутки, остроты, давался зачин песне. У Эммануила, как и у его отца, был довольно сильный голос, когда они оба пели вместе, это был прекрасный дуэт. Таким, каким Эммануил был на юбилейном вечере Абе Лева, я никогда прежде его не видел. На этот раз он успешно соперничал даже с таким мастером радовать, веселить людей, как Михоэлс. Соломон Михайлович сидел во главе стола, около юбиляра, Эммануил Генрихович — на противоположном конце стола, и оба они как бы соревновались в произнесении остроумных тостов, пении народных песен. Абе Лев не вытирал слезы, катившиеся по раскрасневшемуся, изборожденному морщинами, старому и вместе с тем будто помолодевшему лицу. После вечера он говорил Казакевичу:
— Особое спасибо тебе, дорогой. Утешил мою старость...
Эм. Казакевич написал поэму «Поединок Абе Лева с Адольфом Гитлером»— остросатирическую, полную сарказма там, где речь идет о Гитлере, и насыщенную великой любовью к человеку из народа, обладающему чистой совестью, добрым сердцем и железной волей для победы над врагом.
В 1939 году вышла книга стихов Казакевича на еврейском языке «Ди гройсе велт» («Большой мир») — она явилась творческим отчетом поэта, проработавшего уже де-
46
сяток лет в литературе. Жизнь, устройство переселенцев в Биробиджане, новые людские взаимоотношения, зарождающийся новый быт вдохновенно, с искрящимся юмором изображены в следующей его книге — в романе в стихах «Шолом и Хаве». Роман был подписан к печати 5 мая 1941 года и увидел свет тогда, когда его автор уже был на фронте.
Война разлучила меня с Эммануилом. Мы служили в разных дивизиях, лежали после ранений в разных госпиталях. Вернулся он с войны в звании капитана, с орденами и медалями и... с трофейной легковой машиной, от которой, впрочем, сумел очень быстро избавиться. Я бы не сказал, что после войны увидел перед собой совсем другого Казакевича. Из-под толстых стекол очков так же мягко блестели его умные глаза, под военным обмундированием скрывалась та же «штатская» фигура, так же, как раньше, он чуть запинался на отдельных словах. В той же степени, в какой Казакевич возненавидел войну, он полюбил Советскую Армию, ее уклад, ее быт. Оказавшись на «гражданке», он на первых порах, видимо, чувствовал себя не совсем уютно. Часто он заходил в особняк на Кропоткинской, № 10, где находилась редакция газеты «Эйникайт» («Единение»). В один из дней он вошел туда в приподнятом настроении. Из пустого бумажника вынул листочек с десятком строк, отпечатанных на машинке. Редактор журнала «Знамя» Всеволод Вишневский уведомлял Казакевича, что его повесть «Звезда» будет опубликована в одном из ближайших номеров журнала. Вишневский благодарил автора за его прекрасное произведение.
Повесть «Звезда», которую Луи Арагон охарактеризовал «как лучшую военную повесть нашего времени», вылилась из-под пера Казакевича на русском языке — на том языке, на котором он четыре года говорил с солдатами, когда шел с ними в разведку, воевал, томился на больничной койке в госпитале.
Существует мнение, что попытки писателя переключиться с родного языка на другой язык, перейти из своей национальной литературы в другую не могут быть увенчаны большим успехом, он не оставит в той — другой литературе сколько-нибудь заметного следа. Эммануил Казакевич оставил заметный след в еврейской литературе и все лучшие особенности своего дарования, которыми отличился в ней, широко развил и приумножил в русской литературе. Генрих Львович еще в то время, когда его сын только вступал на литературное поприще, правильно определил характер его таланта.
47
— Эма,— говорил он,— любит ставить проблемы, у него большой размах.
После «Звезды» Эм. Казакевич опубликовал в журнале «Знамя» повесть «Двое в степи». Он не раз говорил, что «Двое в степи»— самое любимое из того, что он написал. Однажды, когда я пришел к нему на дачу в Мичуринце под Москвой, он держал в руках журнальную публикацию.
— Вот, читаю «Двое в степи»,— сказал он,— и представь себе, не нахожу в ней недостатков. Только в одном месте допущена ошибка. У меня там сказано, что около избы выстроились ульи. Это неправильно. Ульи возле изб не ставят. Я уверен,— добавил он,— что эта повесть будет долго жить...
Эммануил Казакевич зачастую удивлял людей, даже очень хорошо знавших его. Диапазон его таланта был широким. С отважностью подлинно большого художника он создал образ В. И. Ленина, сумел передать чувства и ход мысли гениального вождя человечества. Больше, чем какому-либо другому произведению, Казакевич отдал «Синей тетради» сил и здоровья. Для этой работы он мобилизовал всю зрелость своего мастерства, высокий свой интеллект и огромное трудолюбие. Великая сила и великая любовь двигали им, когда он писал о Ленине.
Пять месяцев Эммануил Генрихович Казакевич не дожил до своего пятидесятилетия. Он много написал и многого не успел написать. Незадолго перед смертью Казакевич сказал мне, что написал несколько сот страниц нового романа «Новая земля». «Уже много»,— заметил я. Он улыбнулся: «Это только начало».
«Его творчество было смелым и пытливым, как и эпоха, в которой он жил, оно пронизано ее бурными страстями, запечатлено ее величавой монументальностью»— так писал Казакевич в предисловии к сборнику поэм и стихов Маяковского, вышедшему в его переводе и в переводе других авторов на еврейский язык незадолго до войны. Эти слова в большой степени можно адресовать самому Эммануилу Казакевичу, страстно любившему жизнь и умевшему монументально запечатлевать наше многосложное и великое время.
1977
Борис Миллер
НАЧАЛО
Мы часто собирались в клубе «III Интернационал». В этом клубе мы с Казакевичем познакомились, а затем и подружились. В Харькове, тогдашней столице Украины, в начале Пушкинской улицы, там, где она выходит на площадь Тевелева, высилось большое кирпичное здание. Когда-то в нем была хоральная синагога, а с конца двадцатых годов размещался еврейский рабочий клуб. Рабочие парни, вроде меня, приехавшие из маленьких местечек в Харьков для работы на фабрике или заводе, едва переступив порог клуба, сразу же устремлялись в буфет. Здесь за сносную цену можно было получить недурной винегрет.
В клубе часто проводились литературные вечера, диспуты. Здесь можно было увидеть многих в ту пору уже известных еврейских писателей.
В летние месяцы клуб переносил свою работу в небольшой сад на Черноглазовскую. Сад, с небольшими беседками и разноцветными лампочками, подвешенными между деревьев, выглядел очень уютно.
Я, Диамант и еще трое-четверо наших сверстников делали тогда первые пробы пера. Заняв одну из беседок, мы отдавали на суд друзей кое-что из написанного. Первые мои рассказы я тогда целиком составлял в голове, а руки в то время были заняты привычной работой — шлифовкой метал
49
лических изделий. То, чего я не успевал продумать за работой, додумывал ночью, лежа на жесткой постели. Я снимал угол и приходил туда лишь затем, чтобы переночевать. Все свободные часы я проводил в городской библиотеке имени Короленко. Здесь и писал свои рассказы набело, писал сразу, точно мне кто-то диктовал их, ведь все до мельчайших деталей и до последней строчки было заранее «написано» в уме. Было ли в моих рассказах что-нибудь путное, я не знал, и меня скорее удивило, нежели обрадовало, когда, прочитав в одной из беседок на Черноглазовской рассказ, я вдруг услышал, что он хорош. Пока такую оценку моим творениям давали Диамант и еще кое-кто, я не придавал этому особого значения. Но когда слово «хорошо» произнес Казакевич, у меня радостно забилось сердце. Он знает, что говорит!
С ним мы также познакомились в клубе. Как-то мы присутствовали на диспуте. Слово предоставили немолодому уже, грузноватому человеку с живыми глазами, добродушно смотревшими из-за узких стеклышек очков. Он темпераментно и остроумно полемизировал с оппонентом. Рядом с нами сидел долговязый, худощавый юноша с густой шевелюрой и в роговых очках. Мы его часто тут видели, и нам бросилось в глаза, как свободно, непринужденно держал он себя со всеми. Стесняясь своей провинциальной неосведомленности, я все-таки решился спросить у юноши, кто выступает.
Тот повернулся ко мне и Диаманту, ответил:
— Мой отец.
Так мы познакомились.
Отец его, Генрих Казакевич, был видным еврейским критиком, публицистом и издательским работником.
Вскоре в нашей группе начинающих Эма занял ведущее место. Дело было не только в том, что известные писатели, на которых мы, вчерашние местечковые парни, наивно пялили глаза, когда видели их в клубе — до этого мы их знали только по школьным хрестоматиям,— запросто приходили к Казакевичам в дом и трепали его по щеке, когда он был маленький. Когда мы познакомились, ему было неполных семнадцать, и он уже сам писал так, что у него можно было многому поучиться. Каждый из нас писал либо стихи, либо прозу, Эма же пробовал себя во всех жанрах. Никто не знал тогда ни одного иностранного языка, а он хорошо владел немецким. Помню, он нас ошеломил, прочитав стихи
50
Гейне на немецком, а затем на еврейском языке в собственном переводе.
В другой раз, пригласив нас к себе домой, он прочитал отрывок из исторического романа, над которым тогда работал. Особое впечатление, помнится, произвели почему-то длинные эпиграфы к каждой главе и имена, стоявшие под ними: Шекспир, Вальтер Скотт, Гюго, Стендаль... Эти имена для большинства из нас в ту пору еще были не открытыми, мы завидовали ему и испытывали гордость за него. Он тогда заканчивал также драматическую поэму и приступил к работе над романом в стихах.
На Эммануила, хотя он был моложе некоторых из нас, мы все смотрели чуть ли не как на своего учителя. И если еще учесть его открытую и искреннюю привязанность к нам, его способность зарядить каждого веселым, приподнятым настроением, то станет совершенно ясной та роль, которую он играл среди нас. Вот почему у меня так забилось сердце, когда о моем рассказе он сказал: «Хорошо!»
Мы завидовали Диаманту, к которому Эма относился с особой теплотой. Стихи он писал неизвестно когда и где. Никто не видел его с карандашом и бумагой. Он никогда не предлагал послушать его стихи, об этом его надо было долго упрашивать. Был он великий молчальник. Можно было часами шагать с ним, полностью отрешенным от окружающего нас уличного гомона, и молчать. Иногда он вдруг, как бы про себя, начинал читать строку за строкой. И неизвестно было — сочинил он эти строки давно или они рождаются только теперь, на ходу.
Трудно было представить себе более противоположных людей, чем Эммануил и Диамант. Несхожесть их чувствовалась во всем. И может быть, именно поэтому Эма проявлял к нему повышенный интерес. Но Диамант этого как будто не замечал. Единственный среди нас, он не считался даже с его мнением, когда дело касалось его собственных стихов.
Однажды поздно вечером мы втроем — Казакевич, Диамант и я — возвращались из клуба домой. Диамант, обычно молчавший, вдруг заговорил. Он высказал желание услышать мнение о своих стихах одного известного поэта.
— Вот как?— воскликнул Эма и назвал поэта не по известной его фамилии, а просто по имени — так, очевидно, называли его у них в доме.— Хочешь, я завтра свожу тебя к нему?
— Завтра?— растерялся Диамант.— К чему такая спешка?
51
Казакевич был в отличном настроении, и в такие моменты он любил беззлобно подшучивать над друзьями.
— В кои-то веки,— сказал он, смеясь,— появилась у Гиршке смелая мысль — и он тут же сразу — в кусты!
— Не понимаю, к чему спешить?— повторил Диамант со свойственным ему выражением обиженного чем-то ребенка и, нахмурившись, замолчал.
Но Эммануила, очевидно, осенила какая-то идея. Вообще он был горазд на выдумки и планы, которыми тут же зажигался сам и зажигал ими всех нас.
— Идея!— воскликнул он.— С поэтом,— он опять назвал его по имени,— я познакомлю вас всех. Мы все заявимся к нему домой. Я знаю, он будет рад! К тому же он не только поэт, но и отличный прозаик. Мы все будем читать ему свои рассказы, стихи.
Назавтра мы всей компанией вечером явились к поэту. Эммануил чувствовал себя здесь как дома. Я же, Диамант и другие были заворожены всем происходящим. Впервые в жизни мы видели большого «живого писателя» не на портрете, не в клубе даже, а у него дома. Просторный светлый кабинет с застекленными книжными шкафами и с картинами на стенах, казалось, излучал таинственный неведомый свет. Мы с восхищением смотрели на миловидную жену поэта, угощавшую нас чаем, на его маленькую дочь...
Я сидел на краешке стула, опасаясь лишний раз пошевелиться, слушал чтение моих товарищей, потом и сам что-то прочитал. И весь этот вечер меня не покидало ощущение нереальности всего происходящего. Неужто это правда, что мы, такие простые ребята (Эма не в счет), сидим в доме у этого человека и он слушает то, что мы читаем? Неужто ему, прославленному поэту Льву Квитко, больше нечем заняться? Рослый, плотный, большеголовый, с мягким доброжелательным взглядом карих глаз, Квитко медленно шагал по кабинету и, вопреки ожиданию, говорил с нами очень тихо, чуть ли не шепотом.
— Из того, что вы здесь прочитали сегодня,— приглушенно говорил он,— видно, что в каждом из вас что-то есть и что из вас может выйти толк. Но при одном условии,— еще тише добавил он,— если вы будете учиться и работать над собой.
И, как бы нашептывая каждому из нас важный секрет, добавил:
— Наше с вами ремесло требует работы...
«Наше с вами ремесло»,— сказал он, и этим самым нас,
52
молодых, только-только начинающих, он как бы зачислил в свой цех, сделал своими собратьями по перу.
Каждый из нас, разумеется, понимал, что все сказанное им имеет, возможно, какое-то отношение к нашему будущему, но никак не к настоящему. Хвастать нам еще совершенно нечем. Но все же с того вечера мы стали уважительнее относиться к себе и, уходя от Квитко, чувствовали, что за спиной у нас как бы выросли крылья.
— Ну что я вам говорил?— весело сказал Эммануил. Мы, конечно, были ему очень благодарны. Он впервые ввел нас в священные чертоги поэзии и познакомил с одним из ее признанных жрецов.
Между тем Эммануила осенила новая идея. О нашей небольшой группе начинающих поэтов и прозаиков уже знали в литературных кругах. Однажды, когда мы по обыкновению собрались вместе и познакомили друг друга с несколькими новыми рассказами и стихами, он вдруг воскликнул:
— Что же мы за литературная группа? У нас ведь нет еще и названия.— И тут же объявил блицконкурс на лучшее название для литературной группы.
Никто из нас ничего путного не мог придумать. Тогда Эммануил буквально сразил нас.
— «Птичье молоко»,— сказал он.
— Почему «Птичье молоко»?— удивились остальные.
— Когда хотят сказать, что всего есть в достатке, обычно говорят: «лишь птичьего молока не хватает». И вот мы, молодые, создадим это птичье молоко. Создадим самое лучшее и прекрасное, что можно создать!
Эммануил был убежден, что мы на это способны. Что касается нас, мы намного скромнее оценивали свои силы, но энтузиазм Эммануила заражал нас большой верой в самих себя, в нашу способность создать нечто значительное и важное.
— Ну вот, название у нас есть,— сказал Эммануил.— Теперь необходимо выработать декларацию. Что мы будем за группа без своей декларации?
Надо сказать, всякого рода литературные декларации были в начале тридцатых годов в большой моде. Мы предложили Эммануилу, чтобы он сам декларацию и составил, никому из нас никогда этим заниматься еще не приходилось.
53
— Нашу декларацию мы должны составить сообща,— заявил он.
Решено было собраться еще раз. А пока каждый из нас должен был продумать, какие пункты следует включить в декларацию.
Собираться пришлось нам не раз. Но безрезультатно.
— Понятия не имею, как это делается,— признался я. Отнекивался и Диамант:
— Стихотворение написать могу, но декларацию — увольте!
Эммануил, волнуясь, всегда начинал чуть заикаться.
— Писатель должен все у-м-меть!
— А, никакие мы не писатели,— сердито отозвался Диамант.
Эммануил больше ни на чем не настаивал. Мы давно заметили, что никогда не терявшийся Эма пасовал иногда перед робким и застенчивым Диамантом. Так было и на этот раз. Мы разошлись ни с чем.
Так название «Птичье молоко» нигде и не было зафиксировано. Лишь мы, члены этой группы, иногда упоминали о нем с легкой иронией, относившейся и к названию, и к самим себе.
Вскоре Эммануилом овладела одна идея, вытеснившая все остальные,— Биробиджан. Он был убежден, что поехать туда непременно должна вся группа «Птичье молоко» в полном составе.
— Именно там,— говорил он,— на дальневосточной земле, мы как следует расправим крылья.
Я ответил Эммануилу, что останусь пока здесь, поступлю в институт, а по окончании его приеду в Биробиджан. Он пытался меня переубедить, потом отвернулся и холодно проронил:
— Поступай как знаешь.
Эммануил уехал в Биробиджан. А отца его послали туда на руководящую работу. Мать пока оставалась в Харькове. Уехали на Дальний Восток и несколько ребят из «Птичьего молока».
Через год Эммануил вернулся в Харьков за матерью. Он порядком изменился за этот год — стал выше ростом, заметно похудел, лицо загорело на дальневосточном солнце.
— Да, солнце у нас жарит посильнее, чем здесь!— сказал он. Слова «у нас» относились не к городу, где прошли
54
его детство и начало юности, а к дальневосточной земле, на которой он прожил всего лишь год. Но, видимо, этот год имел в его жизни едва ли не большее значение, нежели все прожитые до этого годы.
Привез он с собой тонкую книжечку своих стихов, отпечатанную в типографии биробиджанской районной газеты. Книжка в скромной обложке, на серой газетной бумаге. Это была первая книга Казакевича и первая книга на еврейском языке, отпечатанная в том далеком крае.
Вместе с Эммануилом приехал молодой кореец Ким — славный паренек с черными раскосыми глазами. Эммануил всюду брал его с собой и представлял как своего близкого друга. Ким, по-видимому, должен был подтвердить перед всеми харьковскими друзьями Эмки, что в далеком Биробиджане действительно все ново, молодо и прекрасно, что в этот изобильный край нужно ехать!
Вскоре Эммануил вместе с матерью и Кимом уехал обратно в Биробиджан.
Письма от него приходили редко, но стало известно, что в Биробиджане Эммануил окунулся в настоящую работу, накапливая тот жизненный опыт, которого ему недоставало раньше.
Работал он и председателем колхоза, и заведующим Домом культуры, позднее он стал организатором и первым директором местного театра. Перевел несколько пьес, поставил и свою веселую комедию. Но театр отнимал слишком много времени, и Эммануил перешел на работу в редакцию газеты. Здесь он получил возможность часто бывать в командировках, встречаться с людьми, писать о них.
На этой работе я и застал Эммануила, когда после окончания института приехал в Биробиджан.
Незадолго до того умер отец Эммануила, а спустя полтора месяца и мать. Жил он теперь один в той большой квартире, которую раньше занимала вся семья.
Не нашел я в Эммануиле и следа той беззаботной улыбки, которая ранее всегда сквозила в уголках его по-мальчишески припухлых губ. Лицо его осунулось. Передо мной стоял мужчина с жестковатым взглядом, говорившим о многом пережитом и о твердой решимости ни перед какими испытаниями не пасовать.
1974
Любовь Вассерман
ДВЕ ВСТРЕЧИ
В молодости, когда Эммануил Казакевич жил в Биробиджане, мне часто приходилось с ним встречаться. Но особенно мне запомнились две встречи. Первая — вскоре после моего приезда, и одна из последних — через несколько лет. Об этих встречах я хочу рассказать... Девятнадцатилетний, в длинной шинели и в солдатских сапогах, он чем-то напоминал пограничника. Отец его, первый редактор «Биробиджанер штерн», Генрих Казакевич сказал: «Познакомься, это мой сын Эммануил». Мой новый знакомый сверкнул на меня стеклышками своих очков и саркастически спросил: «Вы еще не замерзли у нас, в Тихонькой?» Это он намекал на мой полушубок, меховую шапку и большие валенки. Он сам, по-видимому, холода не боялся. Это обнаружилось в тот же вечер, когда в своей тонкой шинели долго гулял со мной, несмотря на сильный мороз, и... читал стихи, читал так страстно, с таким темпераментом, что смог бы согреть не только одного человека.
Все было покрыто снегом. В небе висела огромная луна. Он спросил: «Вы когда-нибудь видели такую огромную луну? — И сразу у него родилось сравнение: — Точно ведро ртути...» — и сам весело рассмеялся.
Потом он читал стихи Гейне «Ткачи» на немецком языке и с воодушевлением сказал: «Вот это — талант! Вот это сила! Это огромный утес среди поэтов...»
56
Эммануил также прочел наизусть несколько сонетов Шекспира и целые отрывки из «Мцыри» Лермонтова. Я слушала затаив дыхание, вся превратилась в слух, забыла о морозе. Предо мной открылся источник мировой поэзии. И было даже немножко непонятно и удивительно, когда же этот худощавый юноша в очках и длинной шинели успел овладеть всем этим богатством! Он остановился у дерева с покрытыми снегом ветвями. Свет огромной луны освещал его бледное выразительное лицо. Теперь он уже читал свои собственные стихи.
Таким я его запомнила на всю жизнь.
* * *
Он был неутомимым пешеходом. Однажды он проделал маршрут от Ленинска до Екатерино-Никольска, побывав в селах Биджан, Венцелево, Благословенное и Амурзет. Куда б он ни приходил, он везде чувствовал себя как дома. Всюду у него были друзья и знакомые: охотники, колхозники, трактористы, геологи. Они любили его за остроумие, сердечность и за его стихи и песни, которые он превосходно читал и пел.
Однажды он предложил сделать вылазку на 24-й километр, к сопкам. С нами были писатель Давид Бергельсон и поэт Бузя Олевский. Бергельсон, тогда уже пожилой человек, не смог пойти пешком.
— Придется доставать машину, — сказал Казакевич и куда-то зашагал.
Через некоторое время он вернулся с грузовой машиной. Достать машину в то время было исключительно трудно, так как во всем Биробиджанском районе было около десятка машин.
Дорога на Бирофельд еще не была асфальтированной. Большая грузовая машина подпрыгивала на кочках и ухабах. Вдруг Эммануил запел, сначала тихо, а потом все громче и громче, популярные песни Дунаевского, Покрасса и другие на еврейском языке. Мы были удивлены, потому что в то время «Москва майская» и «Широка страна моя родная» еще не были переведены на еврейский язык.
— Вам нравится? — спросил он. — Это я сегодня перевел; кажется, получилось...
Мы подошли к сопке и стали на нее взбираться. Казакевич знал здесь каждую тропинку, каждый кустик, что здесь
57
растет и как оно называется. «Тополь, — рассказывал он, — растет очень быстро, мы насадим его в городских скверах и вдоль улиц».
Еще тогда, когда контуры города еле обозначались, он видел вокруг себя широкие асфальтированные улицы, скверы и парки.
Мы отдохнули и закусили. Казакевич устроился в тени большого дерева и долго смотрел на тонкий ручеек, который омывал подножие сопки, вслушивался в шум тайги, казалось, впитывал в себя красоту окружающей природы.
Когда мы возвращались домой, он спросил: «Хотите послушать?» — и стал читать свое новое стихотворение «Слово имеет гражданка тайга». Это стихотворение переросло потом в поэму, но начало ее я услыхала в тот день у Бирофельдской сопки. Уже тогда он спорил с тайгой и был уверен, что советские люди воздвигнут здесь город с промышленными предприятиями и стройками.
И вот таким я его тоже запомнила...
1964
Яков Чернис
В ТАЕЖНОМ КРАЮ
В начале сентября 1932 года мы, группа молодых ребят из Киева и Одессы, прибыли в Биробиджан. В Киеве нас провожали еврейские писатели, деятели культуры. На вокзале было шумно, много говорили, пели комсомольские песни, а когда поезд тронулся, профессор Либерберг (он был выше всех ростом) вдогонку крикнул:
— Передайте привет старому и молодому Казакевичам!
Кто они — «старый и молодой Казакевичи» — я, одессит, в то время не знал и даже ничего не слышал о них.
И вот мы на переселенческом пункте в Биробиджане, слегка опьяненные тем, что свыше десяти суток качались в вагоне, пока поезд доставлял нас от Москвы до станции Тихонькая, и еще тем, что небо над нашими головами такое ясное и синее. Нам кажется, что нигде на свете нет подобной синевы, ясности, такого воздуха, которым можно захлебнуться.
Первый завтрак на биробиджанской земле в дощатом помещении переселенческого пункта. На столе свежий душистый хлеб, масло, мед и... красная икра. Аппетит у нас отменный, чайник с крепко заваренным чаем переходит с одного конца стола на другой. В это время в комнате появляются несколько молодых ребят и поздравляют нас с прибытием в Биробиджан. Один из них подходит к каждому из нас, новоприбывших, жмет руку, представляется:
— Эма, — и садится за стол. — Молодой человек, — весело
59
говорит он, — не жалей икры, это тебе не черниговский вокзал, ты в Биробиджане. Хлеб у нас из приамурского совхоза, масло из бирофельдского колхоза, мед из бирских ульев, а икра из Теплого озера, где мы сами ее разводим, так что не стесняйся, уплетай за обе щеки.
— У Казакевича без шуток не обходится, — заметил кто-то из вошедших вместе с ним.
— Это вы — молодой Казакевич? А кто старый? — спрашиваю я.
— Старый Казакевич, — ответил Эма, — это редактор газеты «Биробиджанер штерн», который не желает печатать стихи молодого Казакевича. — Но при этом он достал из кармана свежую газету, где было опубликовано его стихотворение, и тут же прочел нам.
Так в первый день, даже в первые часы нашего приезда в Биробиджан я познакомился с Эммануилом Казакевичем.
Он высокого роста, с головой, покрытой светлыми, густыми, слегка взлохмаченными волосами, на носу — толстые стекляшки очков в проволочной оправе. Улыбка не сходит с его лица даже тогда, когда он серьезен. Одежда — коричневая вельветовая «толстовка», армейские галифе, сапоги с широкими голенищами — делает его еще более худым, чем он есть.
После завтрака Эма предлагает познакомиться с городом. Мы шагаем по деревянным тротуарам, балансируя руками, как канатоходцы в цирке: когда кто-нибудь наступает на один конец тротуара, подпрыгивает тот, кто на другом конце. Упасть с такого тротуара опасно, внизу кочки и трясина. Так мы подходим к Бире. На противоположном берегу реки — отдельно стоящая сопка, довольно высокая, круглая и крутая. Это пока единственная достопримечательность города. Перебираться надо паромом, но теперь он у другого берега.
— Ребята! — обращается к нам Эма. — Вы помните, как там у Менделе1 написано: «Дядько! Парому давай!» Так вот, давайте хором крикнем!
И мы кричим:
— Дядько, парому давай!
Пока паром плывет к нам, Эма рассказывает о Бире: какая это удивительная река, откуда она течет, куда впадает и какая рыба в ней водится.
____________________
1 Менделе М о й х е р - С ф о р и м (1836—1917) — классик еврейской литературы.
60
Эма рассказывает обо всех особенностях так подробно, точно он всю жизнь прожил у этой реки. Голос у него энергичный, но порой он слегка заикается, и это ему как-то даже идет.
Приплыл паром. Вскоре мы уже на правом берегу и направляемся к сопке. Эма показывает, как лучше подниматься по ней.
От Москвы до станции Тихонькая мы наблюдали удивительно красивые пейзажи — горы и долины, реки и озера, леса и поля, большие города и затерявшиеся деревушки, громадные мосты, соединяющие берега больших рек, и маленькие мосточки. Все привлекало наше внимание, но все это проплывало, как во сне. Здесь пейзаж имел свою прелесть, он обрел постоянство.
У подножия сопки змеилась голубая, в солнечных бликах лента быстрой Виры. Над головою же — синева, синева и огромное солнце. Далеко на севере виднелись сопки с заснеженными вершинами, а вокруг нас — тайга, на востоке и западе — тайга до самого горизонта, невдалеке только вершины Малого Хингана...
— Между линией железной дороги и рекой расположится город,— говорит Эма.
Восхищенные, смотрели мы, как он стоит на вершине сопки с руками, протянутыми к еще дикой, нетронутой тайге...
В конце 1932 года Эма стал начальником строительства биробиджанского Дома культуры. Он, бывало, говорил: «Все имеется — начальник, площадка, огороженная забором, вывеска, что здесь строится Дом культуры. Только самого строительства нет».
Комитеты ОЗЕТа1 собирали деньги на постройку Дома культуры, в госбанке был открыт специальный счет, и к тому времени уже была собрана значительная сумма. Но практически к строительству никак не приступали. Эма сильно переживал, что дело не движется из-за отсутствия стройматериалов и свободной рабочей силы, как заявляли в местных инстанциях.
В то время в Биробиджане не было ни одного клуба, только красные уголки на предприятиях. Единственный кинотеатр находился тогда на углу Октябрьской и Валдгеймской улиц. Снаружи он выглядел как сарай и внутри также мало чем отличался от сарая.
___________________
1 О З Е Т — Всесоюзное общество по земельному устройству трудящихся евреев.
61
А молодежи прибавлялось, без клуба или Дома культуры жить стало невозможно. Однажды на городском комсомольском собрании, где обсуждался вопрос, который никакого отношения к строительству Дома культуры не имел, поднялся Эма и начал рассказывать, как обстоит дело со строительством «его» объекта. Объяснив положение, он в упор спросил собравшихся:
— Ребята! Вы хотите иметь Дом культуры?
— Да! — ответили изо всех концов зала.
— Так послушайте меня. Нам не на кого полагаться. Давайте возьмем стройку в свои руки. Вы согласны завтра же собраться на субботник?
— Согласны!
— Каждый комсомолец может привести на субботник еще одного парня или девушку?
— Да-а-а!
— Давайте примем решение...
Собрание еще не окончено, но Эма уже занят завтрашним днем. Субботник надо хорошо организовать. Он просит секретаря райкома комсомола немедленно обсудить этот вопрос с членами бюро, создать штаб субботника, выделить ответственных за сбор инвентаря. И прежде чем собрание закрывается, Эма вторично берет слово и объявляет, что каждый, кто придет на субботник, должен принести с собой лом, топор или лопату. После собрания было шумно, все разговоры — о завтрашнем субботнике. Когда собралась пятерка-штаб, вдруг выяснилось, что никакого проекта и сметы строительства нет. Первым это заметил комсомолец, который по профессии был техником по деревообработке.
— Скажи мне, Эма, — спрашивает он, — на сколько мест будем строить Дом культуры?
Эма задумывается, а в это время кто-то произносит:
— На двести мест.
Эма загорается, слегка заикаясь, говорит вслух:
— Что такое двести мест, что значит двести мест? Город растет и еще будет расти и расти, это надо иметь в виду.
Теперь уже вся пятерка говорит одновременно, называются разные цифры, но никто эти цифры обосновать не может. Тогда наш техник убедительно разъясняет, что перед тем как приступить к постройке любого здания, надо знать все его размеры, из какого материала будут сооружаться стены, удержат ли они крышу и так далее. Все это называется — проект, и его у нас нет.
— Хорошо, — говорит Эма, — мы закрываем наше засе-
62

Э. Г. Казакевич. Биробиджан, 1932 г.
дание, до завтра еще есть время для составления проекта.
К тому времени, в свои девятнадцать лет, Эма многое знал, он соединял в себе мальчишескую фантазию и практичность опытного человека. В Биробиджане уже вышла его первая книга стихов «Биробиджанстрой».
В этот вечер, когда я уже собирался ложиться спать, ко мне вдруг зашел Эма.
— Что случилось?
Вместо ответа он меня спросил:
— Твой сосед дома?
Я жил в одной квартире с главным инженером треста «Биробиджанстрой» Рафальским, тихим, уже немолодым, не очень здоровым, скромным человеком. А жена его держалась весьма молодо, была бойкой женщиной. Она заботилась о муже и оберегала его, чтобы он, не дай бог, лишнего шага не сделал.
— Попроси его к себе на пару минут, но без жены. Когда Рафальский пришел, Эма пригласил его сесть и сказал:
— Райком комсомола поручил нам двоим, — он показал на себя и меня, — передать вам просьбу, чтобы вы составили проект Дома культуры на семьсот мест. Фронтон и сцена должны быть двухэтажными, зрительный зал и двустороннее фойе — одноэтажными. Чертеж фундамента должен быть готов к завтрашнему дню, все остальное — к послезавтрашнему. — Эма говорил уверенно, видимо, он уже кое-что почитал, посмотрел в журналах и книгах.
Рафальский пожелтел, потом побледнел, как стена:
— Товарищ Казакевич, это невозможно, невозможно. Вы понимаете, о чем вы говорите? Вы ведь не специалист в вопросах строительства! Один человек не в силах сделать этого, не в состоянии.
— Все возможно, все возможно, товарищ Рафальский,— спокойно отвечает Эма. — Вы должны знать, что те, кто вам дал такое задание, хорошо разбираются в вопросах строительства, иначе они не занимали бы таких постов, как, к примеру, наш секретарь райкома комсомола. Неужели вам будет приятно явиться в райком и отказаться от этого поручения?
— Нет, — говорит Рафальский. — Вы меня не совсем поняли...
— Товарищ Рафальский, завтра после работы начинается субботник. Мне нужен чертеж фундамента. На нем должны быть точно указаны длина, ширина и глубина траншей. Когда
64
все это будет готово, сможете пойти спать. Остальное надо сделать к послезавтрашнему дню. Послезавтра я еду в Хабаровск, в крайисполком за стройматериалами, мне нужно знать, сколько потребуется кирпича, цемента, древесины, гвоздей и так далее. Все это вы подсчитаете.
На столе уже лежит чертежная доска, на ней лист миллиметровки. На лист ложатся первые линии. Эма подсчитывает клеточки миллиметровки, прикидывает размеры зрительного зала. Он доволен:
— Чтобы в фойе, было немного свободней, прибавьте еще по одной клеточке, получится как раз хорошо.
Рафальский говорит:
— Когда приступают к строительству здания, надо знать, из каких материалов оно будет сооружено; если из легких, фундамент может быть легким, из тяжелых — он должен быть массивным.
— Теперь некогда думать об этом, пока у нас отсутствует проект. Поэтому мы решим этот вопрос так, как решил хелмский раввин.
Рафальский не знает историю с хелмским раввином, и Эма рассказывает:
— В городе Хелме был пожар, и огонь уничтожил баню вместе с миквой1. Стали строить новую баню; когда дело дошло до миквы, разгорелся спор. Одни считали, что пол в микве необходимо выложить строгаными досками, чтобы, не дай бог, не занозить ногу. Другие считали, что доски для пола не следует строгать, чтобы, не дай бог, не поскользнуться, а то и утонуть недолго. Обратились к раввину, чтобы он окончательно разрешил спор. Раввин решил так, что обе спорящие стороны остались довольны: доски надо строгать, но класть их строганой стороной вниз.
На наш звонкий смех открылась дверь и показалась рассерженная жена Рафальского.
— С ума сошли, не иначе, уже полночь, а они сидят и рассказывают анекдоты.
Рафальский пошел успокоить жену и вскоре вернулся.
— Какое же отношение имеет анекдот к фундаменту?
— Самое прямое, — ответил Эма. — Расчеты будем вести для кирпичного здания, а если оно будет деревянное, фундамент всегда его выдержит.
Уже далеко за полночь чертеж фундамента готов. Эма повторяет все, что требуется выполнить в течение сегодняш-
______________________
1М и к в а — бассейн в бане для ритуального омовения.
65
него дня. Рафальский отправляется спать, а мы с Эмой выходим на улицу. Его дом — рядом с нашим.
— Ну, как тебе нравится сегодняшняя работенка? — спрашивает он. — У меня есть один план, но об этом позднее, а пока спокойной ночи.
— Спокойной ночи! — отвечаю я.
В это время открывается окно и высовывается голова Генриха Казакевича:
— Уже пора говорить «доброе утро»! Где вы шатаетесь целыми ночами, гулены?
— Товарищ Казакевич, если вы нам дадите хотя бы одну страничку вашей газеты, мы все опишем,— отвечает Эма.
— Ну, хватит, хватит, каждый раз дай ему страничку, словно они в огороде растут.
Назавтра к концу рабочего дня первыми к месту субботника пришли члены штаба. Эма знакомит нас с планом работ, распределяет обязанности, за каждым членом штаба закрепляет несколько комсомольских ячеек и участок работы. Прибиваем плакат, поздравляющий всех участников субботника, и Эма открывает ворота строительного участка.
На субботник приходят не только комсомольцы. Комсомольская организация «Биробиджанстроя» явилась вместе со всем техническим персоналом. Даже Рафальский — и тот здесь. Создается бригада, которая занимается изготовлением носилок и ящиков для раствора. Эма сам размечает будущие траншеи, забивает колышки и натягивает шпагат. Вот уже вынуты первые лопаты грунта. Вместе с Рафальским Эма следит, чтобы траншеи соответствовали разметке. Эма не пропускает ни единой мелочи, он видит все и появляется как раз там, где это требуется.
За три часа работы траншеи под фундамент выкопаны. Эма просит членов штаба собраться на несколько минут. Траншеи не могут долго оставаться пустыми. Не позже завтрашнего дня их надо заполнить битым кирпичом, это посоветовал Рафальский, стройка уже захватила его. Тут же на месте секретари комсомольских ячеек получают задания выполнить эту работу. Транспортом они будут обеспечены.
Эма взбирается на повозку, складывает руки рупором и призывает:
— Внимание! Все ко мне!
Мы собираемся вокруг «трибуны», у ребят хорошее настроение, балагурят и ждут, что скажет Эма.
— Мы сегодня начали важное дело, — говорит он гром-
66
ко. — Трудно было начать, но коль начали, мы доведем дело до конца. Большое спасибо выражают вам райком и штаб. Мы здесь еще не раз встретимся. Давайте поклянемся, что новогодний бал отпразднуем в своем Доме культуры. Договорились?
— Договорились! — дружно отвечают все, и эхо прокатывается по стройке.
Народ расходится весело, окрестности оглашаются задорными комсомольскими песнями.
Мы осматриваем проделанную работу; Эма вытирает потное лицо и говорит с улыбкой:
— Ну, кажется, сегодняшним днем можем быть довольны.
Мы провели еще несколько субботников, и фундамент был заложен полностью.
В райкоме партии нас поддержали. Рафальский при помощи других специалистов подготовил полный проект Дома культуры, соответствующие организации обсудили его и утвердили. Определился перечень необходимых материалов. Руководители предприятий и строек стали «подбрасывать» некоторые стройматериалы: кто древесины, кто немного кирпича, а кто пару ящиков стекла. На территории стройки появился временный склад для строительных материалов, но их поступило слишком мало.
Эма, бывало, шутил, что сделался уже хозяином двух замков. Он вытягивался перед отцом, по-военному прикладывал руку к козырьку и рапортовал:
— Товарищ главный редактор «Биробиджанер штерн», докладывает начальник стройки Дома культуры. На стройке все в порядке. Одним замком заперт пустой склад, другим — ворота площадки, где находится склад. Ключи от замков в надежных руках начальника стройки...
Стройка после наших субботников никак дальше не двигалась, поскольку в план денежных средств года этот объект не вошел. Эма не мог себе места найти, и вот однажды он появился у меня на работе и начал шуметь:
— Почему у меня одного должна голова болеть из-за строительства Дома культуры, а вы, отдел народного образования, политпросветчики, этим не занимаетесь? Вас это не трогает?
Я пытаюсь его успокоить, не сразу догадавшись, в чем дело, но он подмигивает мне и нарочно расходится еще больше. В дело вмешивается заведующий отделом народного образования. Договариваются, что завтра Эма и я едем в
67
Хабаровск в крайком комсомола, чтобы, как говорится, стучать во все двери. Это начинает воплощаться тот самый «еще один план», о котором Эма упомянул в ночь, когда был составлен чертеж фундамента.
В те годы добраться из Биробиджана в Хабаровск было не так уж и просто. В поездах Москва — Хабаровск и Москва — Владивосток редко оказывались свободные места; проходил на Хабаровск еще один поезд, местного значения, «Максимка» его называли, но он всегда был облеплен сотнями людей так, что к вагонам никакого доступа не было.
Эма придумал трюк, при помощи которого мы должны сесть на московский поезд. Когда поезд начинает отходить, мы, полураздетые, бежим по перрону, пытаемся на ходу прыгнуть на ступеньки последних вагонов. В одной руке у каждого из нас мыльница, в другой — верхняя рубашка, на шее — полотенце. Проводники думают, что мы — отставшие пассажиры этого поезда, сами нам протягивают руки и помогают забраться в вагон. Вот теперь мы надеваем верхние рубашки и забираемся в вагон-ресторан. По бутылке пива мы цедим до самого Хабаровска. Ни один контролер в вагоне-ресторане билеты не проверяет. Наш трюк удался.
В Хабаровске мы приходим к секретарю крайкома комсомола Петру Листовскому. Наперебой рассказываем о субботниках на стройке, о том, как молодежь жаждет иметь Дом культуры. Петр Листовский — это задорный, веселый парень, любимец молодежи края. Обеими руками он обнимает нас за плечи и говорит:
— Вы же золотые ребята, идемте к Крутову, сейчас уладим все!
Мы вошли в кабинет Крутова — председателя крайисполкома. За столом сидел крупный человек лет сорока, с коротко стриженными черными волосами, черными усами и ясным лицом. Он поднялся, одернул полувоенный френч, подал нам руку и улыбаясь спросил:
— Что вы там задумали, черти полосатые? Вы знаете, какая стройка идет в нашем крае? Стройматериалы у нас на вес золота!
Эма коротко, но очень четко изложил суть дела. Крутов задумался, потом достал синий карандаш и написал на бумаге, поданной Эмой: «В крайплан. Для молодежи. В первую очередь. Сверх всяких лимитов. М. Крутов».
Довольные, прощаемся мы с председателем крайисполкома. Он говорит Эме:
68
— Похож, очень похож на отца. Передайте привет товарищу Казакевичу.
...Случилось так, что то здание, в которое Эма Казакевич заложил первый камень и возведению которого отдал много сил и молодого энтузиазма, вскоре было передано Биробиджанскому еврейскому государственному театру, а Эммануил Казакевич стал директором этого театра.
Эма гордился тем, что в строительстве нового города принимал самое непосредственное участие. Он не был сторонним наблюдателем, сам месил глину, таскал кирпичи, и это дало ему полное право сказать в стихотворении «Рождение города»:
Сарай, что сам я возводил,
Когда-то был здесь стройкою огромной.
Его забором я огородил
И в мостик уложил просмоленные бревна.
И сам открыл я тот дворец-сарай,
Как клуб и как кино на Первомай.
Эма всегда был в гуще городской жизни, был одним из новых хозяев сурового таежного края, жил со строителями юного города одними радостями и заботами:
Я жил всегда с людьми, не по-другому,
Скорбел с людьми и праздновал не раз.
Таскал кирпич к тому большому дому,
Не говоря пустых красивых фраз.
Старого и молодого Казакевичей связывали большая любовь, взаимопонимание и дружба. Генрих Казакевич был крупным знатоком и исследователем литературы, опытным журналистом и партийным работником. К тому же он был исключительным оратором и прекрасным собеседником. Ни к кому из старших мы, молодые, так не тянулись в, то время, как к Генриху Казакевичу. Он очень хорошо, возможно лучше других, понимал, насколько талантлив его сын — Эма. Это не мешало ему награждать сына шутливыми, поддразнивающими эпитетами. И отец, и сын любили острое слово, шутку, юмор — это было их повседневное оружие. (Был даже случай, когда капитан одного из владивостокских военных кораблей, ехавший с Эмой из Москвы, сошел с поезда в Биробиджане, ибо Эма не завершил рассказ серии анекдотов.)
Осенью 1934 года в Биробиджан приехала группа писателей, совершавших поездку по Дальнему Востоку: Александр Фадеев, Петр Павленко, Рувим Фраерман и венгерский поэт Антал Гидаш. На предприятиях их радушно встречали трудя-
69
щиеся города. Гости живо интересовались новостройками и культурной жизнью области. А ночь они захотели провести в тайге. Выехали в одно из живописнейших мест — на двадцать третий километр дороги из Биробиджана в Ленинское.
Как раз в этот день я, тогда секретарь Ленинского райкома комсомола, приехал на «козлике» в Биробиджан. Эма встретил меня в обкоме комсомола. Узнав, что я на легковой машине, он несказанно обрадовался:
— Все, ты уже пропал, и твоя машина тоже пропала.
Выяснилось, что надо доставить его и отца на двадцать третий километр. Они не уехали вместе с гостями, ибо Генрих Казакевич задержался на бюро обкома партии.
В Биробиджане стояло бабье лето. Тайга нарядилась в золото и медь. Придорожные кусты были пунцово-красные, а ели и сосны на общем фоне казались только что выкрашенными свежей зеленой краской.
Когда мы приехали к месту, облюбованному гостями, солнце уже садилось. Разложили большой костер, и Фадеев преподал нам урок приготовления мяса на костре. Пили кислое вино, закусывали жареным мясом. У костра стояла корзина с только что собранным диким виноградом. Он уже не был терпко-кислым, холодные ночи как бы присладили его.
Пошли разговоры. По правде говоря, сквозь столько лет память не сохранила в подробностях все, о чем говорилось и рассказывалось. Но хорошо помню, что незаметно инициатива перешла к Эме. Он рассказывал, а все с удовольствием слушали и смеялись.
Узнав, что Эма переводил Маяковского на еврейский язык, Фадеев предложил ему прочитать что-нибудь. Эма смущенно встал (видимо, он не мог сидя читать Маяковского) и сказал:
— Я не знаю, будет ли интересно вам слушать Маяковского на языке идиш?
Фадеев также встал с места и своим тонким, как бы ребячьим, голосом сказал:
— Ничего, читайте!
Эма стоял несколько в стороне. Казалось, что он выхвачен из густой темноты светом костра. Прежде чем начать читать, он, словно на сцене, сделал шаг вперед и звонким голосом начал:
— Владимир Маяковский, «Во весь голос».
70
Все повернулись к нему и с большим вниманием слушали, как он читает. Фадеев стоял недалеко от него и притопывал ногой, как это делают музыканты во время игры. Эма читал удивительно красиво, с чувством, любовно произносил каждое слово. В какой-то момент, когда Эма, как это случалось с ним в минуты волнения, заикнулся, Фадеев подхватил строку по-русски. Эма не остановился, он продолжал читать до конца. Когда он кончил, в тайге раздались аплодисменты. Фадеев подошел к Эме, пожал ему крепко руку и сказал:
— Очень хорошо, очень хорошо, отлично, удивительно! Как вы поняли, я следил за ритмикой. Не знаю, как в остальном, но ритмика Маяковского в переводе выдержана блестяще.
Александр Александрович подсел к Генриху Казакевичу и сказал, слегка похлопывая его по плечу:
— Хороший сын у тебя, Генрих, за такого краснеть не будешь.
Эма, наверное, не ожидал, что в эту ночь его будут хвалить, да еще кто — сам Фадеев! Поэтому он немного застеснялся, ушел в себя. Но прошло немного времени, и Эма опять в центре разговора, рассказывает сказки и анекдоты. Думаю, что все присутствующие в эту ночь в тайге не жалели, что с ними вместе был такой прекрасный молодой человек.
Каждый, кто встречался с Эммануилом Генриховичем, знал его как исключительного рассказчика, сочинителя экспромтов, шуток и анекдотов. Это ведь тоже талант!
Вот однажды Эма обращается к отцу:
— Высокочтимый, уважаемый и дорогой товарищ редактор «Биробиджанер штерн»! Разрешите представить вам вашего ближайшего родственника, Эммануила Генриховича Казакевича, или, как вы его называете, «праздношатающегося и гулену». Он написал стихотворение, которое наверняка войдет в историю литературы.
— Ну, хватит тебе, хватит дурачиться, покажи, что ты там написал, хвастунишка несчастный!
Генрих Казакевич берет стихотворение, читает его про себя, потом вслух, его глаза сияют, он весь светится.
— Ну? — спрашивает Эма. — Можно пойти в кассу за гонораром? Ни копейки за душой!
— Да, это правда, ни копейки за душой! — отвечает отец.
Но он был богат, богат своей прекрасной юностью, кипучей юностью в это кипучее время, богат всем, что его окружало, всем, что вдохновило на творчество, и всем, что было в его собственной душе.
1973
Сем. Бытовой
СЕРДЦЕ ДРУГА
Лето 1933 года.
В то время я работал в редакции «Тихоокеанского комсомольца», много путешествовал по Дальнему Востоку, бывал наездами и в Биробиджане, где Генрих Львович Казакевич, отец Эммануила, редактировал областную газету. Помнится, выдалась темная, с моросящим дождем ночь. Сойдя с поезда, я отправился в редакцию в надежде застать там кого-нибудь из сотрудников и устроиться на ночлег. Гостиницы в городе тогда еще не было, как не было и города, только недавно заложенного между линией железной дороги и холмистым берегом стремительной Биры. С десяток бревенчатых, так называемых «фаршированных» домов стояли вразброс на виду у высоченной сопки Тихонькой, давшей название железнодорожной станции, вернее, полустанку, мимо которого мчались скорые поезда.
Приезжавшие в Биробиджан корреспонденты центральных и краевых газет обычно останавливались у местных журналистов.
Я застал в редакции дежурного по номеру. — Посиди немного, — сказал он, — вот-вот должен прийти редактор подписать полосы. Он их уже читал, внес кое-какие поправки. Так что скоро мы с тобой пойдем домой, выпьешь чаю с дороги и ляжешь спать.
В первом часу ночи явился Генрих Львович. Среднего
72
роста, быстрый в движениях, он сбросил с себя прорезиненный плащ с капюшоном, снял очки и уставился на меня близорукими глазами.
— Так это ты, полуночник! — И протянул мне длинную худую руку. — Видимо, срочно, что среди ночи пожаловал?
— Ничего нет срочного, просто надумал приехать и сел в первый же отходящий поезд.
— Тогда извини, пойду подписывать полосы. — И, схватив со стола сырые оттиски, ушел к себе в кабинет.
— Он уже тебя не отпустит, — сказал дежурный.
И верно, в третьем часу Генрих Львович увел меня к себе.
Мы пили чай с сотовым медом, и Казакевич рассказывал о делах молодой области, о переселенцах, которые, что ни день, прибывают эшелонами с Украины.
— Как раз мой Эма теперь в колхозе «Валдгейм» устраивает людей. На днях должен вернуться с очерками в газету. Он тебе обрисует положение дел. Если будет мало для статьи, подскочим с тобой в «Валдгейм» на попутной подводе, а то мне самому никак не выбраться из редакции. — И, протерев пальцами толстые стекла очков, добавил: — Кстати, мой сын — поэт, тебе с ним интересно будет познакомиться.
От города до вновь организованного колхоза «Валдгейм» километров двенадцать. На переселенческом пункте была одна-единственная машина, и ходила она лишь в сухую погоду, а в эти нудные дождливые дни, когда раскисли дороги, ездили на лошадях. Но и подводы частенько застревали в непролазной грязи.
Двое суток мы ждали возвращения Эммануила, а он почему-то не показывался. Правда, он передал несколько корреспонденции по телефону, а с очерками не торопился.
Мы решили с редактором съездить в «Валдгейм».
Погода несколько улучшилась. Дождь то переставал, то коротко лил. Ветер гнал по свинцовому небу небольшие темные облака, и в узкие просветы выглядывало солнце. Созвонившись с начальником переселенческого пункта, редактор попросил его учесть два местечка на какой-нибудь попутной подводе.
— Через полчаса идет караван переселенцев, — ответил начальник, — так что поезжайте с ними.
Мы отправились в дорогу.
Наша телега, запряженная парой гнедых монголок, двигалась впереди целого каравана таких же телег. Люди, сидевшие на них, имели, прямо скажем, унылый вид. Впервые
73
попав с солнечной Украины в суровый таежный край, где было пустынно и где им предстояло строить новую, непривычную жизнь, полную трудностей, они поначалу испытывали страх. Одни угрюмо молчали, другие выражали свой испуг вслух, а третьи со слезами на глазах требовали, чтобы их тут же вернули на станцию и первым же поездом отправили обратно на запад.
Вскоре снова полил холодный дождь. Лошади остановились. Люди, сидевшие на телегах, накрывались чем попало. Но дождь быстро прошел, и снова засверкало солнце.
— С попутным солнцем, — сказал Казакевич. — Уверяю вас, дорогие друзья, все будет отлично. На Дальнем Востоке солнечных дней втрое больше, чем дождливых. — И стал рассказывать о богатствах области, которую академик Комаров назвал «жемчужиной Дальнего Востока».
О Генрихе Львовиче хочется сказать особо. Старый коммунист, профессиональный журналист и литературный критик, переводчик ленинских трудов, человек острого ума и обширных знаний, он пользовался известностью и уважением не только в Биробиджане. Его связывала давняя дружба с секретарем Дальневосточного крайкома партии Лаврентьевым, редактором «Тихоокеанской звезды» Шацким, крупным военным и писателем Оскаром Эрдбергом и другими видными людьми Дальнего Востока.
Александр Александрович Фадеев, познакомившись с ним на одном из пленумов крайкома, назавтра привел его к себе в номер гостиницы, читал ему главу из романа, которую Генрих Львович собирался перевести для своей газеты.
По предложению Фадеева Генриха Казакевича как редактора альманаха «Форпост», выходившего на еврейском языке, избрали в состав правления Дальневосточного отделения Союза писателей, куда также вошли Оскар Эрдберг, Борис Кисин, Анатолий Гай, Иван Шабанов и заместитель редактора «Тихоокеанского комсомольца» Василий Ким — кореец, писавший на русском языке.
Позднее Генрих Львович пригласил Фадеева в Биробиджан и сопровождал его в поездке по области.
Они побывали на меловых разработках в Лондоко, на Теплом озере, где организовался завод по искусственному разведению кеты, в переселенческих колхозах «Бирофельд» и «Валдгейм».
В «Валдгейме» встретился впервые с Фадеевым Казакевич-младший. Знакомство это возобновилось и перешло в дружбу в послевоенные годы...
74
Мы прибыли, в колхоз в третьем часу дня, но Эммануила там не застали. Оказалось, он был в лесу на корчевке. Вернулся только к вечеру, усталый, весь до нитки вымокший, с топором, засунутым за пояс, как заправский лесоруб.
— Ну, сын, как успехи? — спросил отец, подходя к нему и протягивая руку. — Вижу, ты тут совсем прижился.
— Ребята подобрались отличные, просят меня остаться с ними на корчевке.
— Раз ребята просят — оставайся, но и газеты не забывай, — сказал отец и тут же представил меня: — Познакомься, тоже поэт.
Из-за этих хороших ребят Эммануил прижился в «Валдгейме» и даже некоторое время был во главе колхоза.
— Ты уж меня извини, — обратился он ко мне, — надо привести себя в порядок. А потом заскочу домой, так что не уезжай.
Он приехал в город уже в девятом часу.
Застав меня в редакции, Эммануил предложил пойти прогуляться к Бире.
Вечер выдался чудесный. Небо чистое, звездное. Луна полная, свет от нее сказочный. Стремительная река шумит на перекатах, и шум ее, несколько приглушенный густыми зарослями краснотала, склоненного над водой, ничуть не нарушает вечернего спокойствия.
Мы перешли деревянный мостик и углубились в негустой лес, где лунный свет наполнил каждую ложбинку.
Мы слишком долго шли молча, не зная, с чего начать разговор. Наконец я сказал:
— Эммануил, ты бы дал для нашей газеты несколько стихотворений. На той неделе буду готовить литературную страницу. Ведь твои вещи, кажется, еще не появлялись в краевых газетах на русском языке?
— По-моему, я труднопереводимый, — сказал он и засмеялся.
— С корейского, думаю, труднее переводить, однако стихи Цой Хо Рима перевели и напечатали.
— А откуда он, Цой Хо Рим?
— Из Владивостока.
— Так ведь и у меня есть корейский цикл, и, кстати говоря, совершенно свежий. — И стал восторженно рассказывать о поездке в корейское село Благословенное на Амуре. — Недавно я сопровождал в колхоз «Амурзет» партию переселенцев и на обратном пути заехал к корейцам. Чудесное, скажу тебе, местечко в нашем краю. Прямо-таки экзо-
75
тическое. Слушай, друг, давай как-нибудь созвонимся и отправимся туда пешим порядком из Биробиджана. Всего каких-нибудь пятнадцать километров сквозь тайгу, по падям и распадкам, по соевым полям. Говорят, что даже в Посьетском районе нет таких красивых корейских сел, как Благословенное. Ну как, согласен?
И с горячностью стал рассказывать о своем давнем заветном желании совершить поход по какому-нибудь из маршрутов Арсеньева, скажем из Хабаровска в Советскую Гавань.
— Если бы удалось сколотить на такое дело дружную ватажку из наших ребят-литераторов, можно было бы не только посылать с дороги очерки в газету, но издать впоследствии отличную книжку. Ах, как мало еще в нас решимости и любознательности! Прости меня, мы — те самые камни, под которые вода не течет...
Его неспокойная, я бы даже сказал, мятущаяся натура постоянно требовала движения, перемены мест, нового дела, да чтобы потрудней, порискованней, где можно было по-настоящему проявить себя.
Никто в то время, понятно, не мог предвидеть судьбу Эммануила Казакевича, его такой стремительный взлет как художника, однако основы его большого, доброго таланта закладывались уже в тридцатые годы, в пору его бурной юности.
Хотя был он одних лет с дальневосточными литераторами, а иных и помоложе, но по своим литературным знаниям, по начитанности, по общей культуре Эммануил стоял выше любого из них. Он с детства хорошо знал немецкий язык и все время совершенствовался, читая в оригинале немецких классиков.
Суждения его о литературе были оригинальны, свежи, остры, всегда вызывали интерес.
А к тому, что в те годы писал, он относился, помнится, не слишком серьезно, о печатных вещах вообще не любил говорить.
— Что за счеты, друг ситный, — иронически отвечал он, когда его начинали хвалить за какие-нибудь только что опубликованные стихи. — Что с возу упало, то пропало! Лучше поговорим о странностях любви.
Это можно было понять и так: все впереди, все в будущем. Меткое словечко, острая шуточка, смешное сравнение, кажется, никогда не переводились у Эммануила.
Работал в Хабаровске наш общий друг, журналист Шая
76
Липкин, и Казакевич, обычно сообщая по телефону, что на днях приедет, кричал в трубку.
— И не забудь передать Липкину, что будем черпать жизнь полной шайкой!
Или вдруг среди ночи, сидя в редакции, соединится с Хабаровском, попросит дежурного по гостинице срочно разбудить меня и, когда прибежишь ни жив ни мертв с третьего этажа в вестибюль, где стоял телефон, и схватишь трубку, на другом конце провода услышишь голос Эммануила:
— Как, между прочим, спал?
— Нормально, а что?
— По телефону сказать не могу. Подробности в афишах!
Эти «подробности в афишах» приклеились к нам на долгие годы и стали каким-то паролем в наших дружеских отношениях.
...Только мы вышли из леса, перед нами выросла сопка Тихонькая. Гигантский, правильной формы конус упирался, казалось, в звездное небо, отбрасывая широченную тень на распадок, сплошь заросший колючим шиповником. Но чтобы пройти к подножию сопки, нужно было пересечь распадок по давно нехоженой, едва приметной в темноте тропинке, и, пока мы прошли ее, исцарапали в кровь лицо и руки.
Бродили с полчаса вокруг Тихонькой. Я сказал, что мне очень нравится эта гигантская сопка утром, когда от подножия до вершины на ней распускаются красные, белые и желтые пионы, и как они чудесно выглядят в обрамлении светло-лилового багульника.
— А ты заметил, что таежные цветы не пахнут? — перебил он. — Даже моя любимая сирень здесь не имеет того запаха, что на Украине. Но цветет буйно. В Благословенном, например, в каждом дворе сирень: белая или лиловая, и такая густая, такая крупная — загляденье, а аромату мало. — И, помолчав, заключил:— Удивительная тут земля, все растет мощно.
— Недаром говорят, что Дальний Восток — край ста чудес...
Эммануил засмеялся.
— Ты что, не согласен? — удивился я.
— Из них девяносто девять чудес сдобрены комаром и гнусом, черт бы их побрал, кровососов этих. Ах, и попили они моей крови на корчевке. Никакие защитные сетки не помогали, в них еще хуже: дышать нечем.
Он посмотрел на большие, переделанные из карманных ручные часы:
77
— А не пора ли до дому, одиннадцатый час?
— А как же с корейским циклом?
— Разве ты завтра уезжаешь?
— Думаю.
— Так мы посидим ночью, сделаем подстрочники.
Двадцать седьмого августа 1933 года в «Тихоокеанском комсомольце» были напечатаны в моем переводе стихи Эммануила Казакевича «Из корейских мотивов».
— Жди, приеду пятьсот веселым! Как раз он стоит на Тихонькой под парами! — как всегда, повышенным голосом предупредил Эммануил и добавил: — Подробности в афишах!
«Пятьсот веселый» — товаро-пассажирский поезд — ходил в те годы из Иркутска во Владивосток главным образом с завербованными на рыбные промыслы. Из Биробиджана до Хабаровска — расстояние около ста пятидесяти километров — он тащился более шести часов, и Эммануил явился ко мне ни свет ни заря.
— Спать нам уже не придется, — сказал он. — Пойдем на Амур!
Часа два мы бродили по аллеям парка, еще окутанным легким утренним туманом. Было довольно зябко, и Казакевич предложил посидеть в беседке на утесе, откуда открывался вид на разлив реки. Противоположный берег понемногу освобождался от марева, и слева открывались отроги Хехцирских гор.
— Кажется, на этом утесе в тысяча девятьсот восемнадцатом году были расстреляны белыми шестнадцать венгерских музыкантов? — после недолгого молчания спросил Казакевич.
— Да, на этом утесе и на том месте, где мы сидим с тобой.
— Ты не интересовался, как это происходило в точности? — спросил он и признался, что давно собирается покопаться в архиве и выяснить в деталях эту трагическую историю.
— Рассказывают по-разному. Я записал эту историю со слов одного очевидца, метранпажа из нашей типографии, бывшего партизана. Оркестр состоял из пленных венгров, которых война забросила на далекий Амур. Зимой музыканты подрабатывали в кафе «Чашка чая», а летом по вечерам играли в парке. В один из теплых осенних вечеров в город вместе с японцами ворвались калмыковцы. Пьяные беляки носились
78
по улицам, врывались в дома, грабили и избивали людей. Потом шумной ватагой ввалились в парк и приказали музыкантам играть «Боже, царя храни». Венгры в ответ заиграли «Интернационал». И началась дикая расправа. Избитых, окровавленных музыкантов погнали под конвоем на утес и поставили у края обрыва. Прощаясь с городом, который их приютил и теперь не был для них чужбиной, венгры опять заиграли пролетарский гимн. Тогда грянули выстрелы. И все шестнадцать, с трубами, флейтами, скрипками, упали с крутого обрыва в бурные волны Амура. Самый юный из них будто бы еще несколько минут держался над водой, не отнимая от губ флейты, пока набежавшая волна не захлестнула и его.
— И ты ничего не написал о музыкантах? — взволнованный рассказом, спросил Казакевич.
— Честно говоря, пробовал, пока не выходит...
— Не беда, что пока не выходит. Не торопись, непременно выйдет. Великолепная тема интернационального братства революционеров. Какая сила души, какое геройство! И как эти чувства раскрылись у них! Будь они послабей духом, что им стоило сыграть «Боже, царя храни» и сохранить свои жизни. Ничего не стоило, сыграли бы — и все тут. Ведь играли же чардаш и польку-бабочку... Но это бы шло против их убеждений. Несомненно, венгры в душе давно сочувствовали нашей борьбе, нашей Советской власти, красным партизанам, воевавшим неподалеку от города, в тайге, где-то на берегах Тунгуски или Урми... И когда представился случай сделать свой выбор, венгры — все шестнадцать, как один, — бросили открыто свой вызов в лицо врагу. И о том, как прекрасно умерли они за революцию, веселые венгерские солдаты, нужно написать непременно.
— Напиши, Эма!
— А ты как же?
— Я же говорю, что не выходит у меня. Начал поэму белым стихом и на середине застрял...
— Чудак-человек! — громко прервал он меня. — Нет, не белым стихом надо писать про это, а красным, понял? Красным, кровью сердца своего! — И поспокойнее добавил:— А вообще-то дело не в том, каким стихом написать, а в том именно, что нам еще не под силу такие великие темы.
В том, что героическая смерть венгерских музыкантов волновала писателя долгие годы, я убедился спустя уже много лет, когда Казакевич жил в Москве. Как-то я заглянул к нему на Лаврушинский вскоре после его возвращения из Венгрии, и он спросил меня:
79
— А ты помнишь, друже, как мы с тобой сидели на Амурском утесе?
— Помню. А что?
— Там еще нет мемориальной доски?
— Как же, установили.
— Вот и отлично. Когда я был в Будапеште, то рассказал своим венгерским друзьям, что есть на далеком Амуре утес, одинаково священный для нас и для них. И пригласил их когда-нибудь приехать на Дальний Восток.
На Амурском утесе установлена мемориальная доска с надписью: «На этом месте 5 сентября 1918 года белогвардейцами были расстреляны 16 военных австро-венгерских музыкантов, сочувствовавших Советской власти».
Следующий приезд Эммануила в Хабаровск был связан с хлопотами по открытию в Биробиджане Областного драматического театра. Казакевича назначили директором театра, и он горячо взялся за новое для него дело.
В краевых организациях нужно было утвердить смету, получить субсидию, согласовать репертуар — словом, забот хватало.
Эти несколько дней мы виделись только по вечерам, когда Эммануил, набегавшись за день, вваливался ко мне в номер, где уже поджидали его наши общие друзья.
С ним всегда было хорошо и весело, и мы засиживались обычно за полночь.
Хотя театр отнимал у него порядочно времени, Эммануил успевал много писать. За год с небольшим он опубликовал в альманахе «Форпост» большой цикл стихов. Перевел на еврейский лирику Маяковского, издав переводы в Москве отдельным сборником. Позднее перевел для Областного театра «Уриэля Акосту» К. Гуцкова и «Профессора Полежаева» Л. Рахманова.
Постоянное общение с театром, дружба с его талантливыми актерами побудили Казакевича испробовать свои силы в трудном жанре драматургии. Он написал две или три оригинальные пьесы, и одна из них — «Молоко и мед» — довольно долго шла на сцене театра.
И еще вспоминается его приезд в Хабаровск с пачкой рецептов для матери.
Евгения Борисовна очень долго болела. Я помню ее, невысокую, худенькую, с заостренными чертами бледного лица. Она медленно двигалась по квартире. Почти не покидала ее.
80
Лишь в солнечную и сухую погоду сын выводил ее на улицу, и они недолго гуляли вблизи дома в тени деревьев.
Он тепло и нежно относился к матери и, когда ей делалось особенно худо, не отходил от ее постели, читал ей книжки и в назначенные часы давал порошки и микстуры.
— Видимо, лекарства сразу не приготовят, — сказал он, забежав ко мне на несколько минут. — Придется ждать до завтра. Где же мы встретимся?
Как раз в этот день я был свободен от газеты, и мы пошли в аптеку вместе.
Сдали рецепты и отправились в «Тихоокеанскую звезду» повидаться с Титовым и Кулыгиным. Они недавно закончили пьесу о Сергее Лазо, и Елпидифор Иннокентьевич Титов, увидев Казакевича, обрадовался:
— Эммануил Генрихович, приходите к нам вечерком послушать «Лазо».
Казакевич объяснил, зачем приехал в Хабаровск.
— Ну, тогда в другой раз, — сказал Титов и добавил: — Нам с Петром Гавриловичем очень бы хотелось узнать ваше мнение о пьесе.
— Если маме станет лучше, я через недельку снова приеду, — пообещал Эммануил.
Но он не приехал ни через недельку, ни через месяц.
Двадцать третьего декабря 1935 года умер Генрих Львович Казакевич.
Эта скорбная весть застала меня на амурской границе. Вестовой принес на заставу пачку газет сразу за несколько дней. Сверху лежали номера «Биробиджанской звезды». Взял газету, развернул и, увидав портрет Генриха Львовича в траурной рамке, ужаснулся.
Не так давно приезжал он на краевое совещание редакторов, выступал с обстоятельной и, как всегда, остроумной речью. Вечером забежал в «Тихоокеанскую звезду», попросил машину, чтобы ехать на вокзал. Поймав меня в коридоре, пожурил, что давно не показываюсь в Биробиджане.
— Эма в Кульдур собирается, поезжай с ним. Это чудо-место! Самый знаменитый на весь Дальний Восток курорт. Источники молодости! Приезжают на костылях убогие калеки — смотреть жалко, а через месяц-полтора бегом бегут к поезду с чемоданом на плече. А пейзаж! Специально для поэтов!
Один из активнейших строителей молодой области, он
81
всегда говорил о ней с восхищением, мечтал о том времени, когда люди раскроют тайны ее богатейших недр.
— Кладезь, кладезь у нас! Надо только копнуть поглубже эту землю-матушку! — говорил Генрих Львович приезжающим в Биробиджан корреспондентам. — Когда окрепнут колхозы, область начнет развиваться главным образом как промышленная. По данным геологов, долина между Бирой и Биджаном богата полезными ископаемыми, особенно оловом. А Лондоковские меловые горы могут обеспечить стройматериалом весь Дальний Восток. А какая тайга у нас! Корабельные сосны, ясень, бархат, тис! Так что, пожалуйста, ставь в своей статье вопросы поконкретнее, поострее.
Таким был Генрих Львович, неутомимый труженик, жизнелюб, немного даже романтик.
Вот о ком можно сказать, что сгорел на работе, ради которой он, человек уже в летах, не жалел ни времени, ни сил.
«Крайком ВКП(б) с прискорбием извещает о преждевременной кончине товарища Генриха Львовича Казакевича, редактора газеты «Биробиджанер штерн», члена партии с 1919 года, активного строителя Еврейской автономной области.
Для увековечения его памяти президиум Облисполкома постановляет:
1. Присвоить строящемуся в г. Биробиджане звуковому кино имя товарища Казакевича.
2. Переименовать Валдгеймскую улицу в г. Биробиджане в улицу Казакевича.
3. Принять похороны тов. Казакевича на счет Облисполкома.
4. Выдать семье покойного единовременное пособие в размере 3000 рублей.
5. Установить ежемесячную пенсию жене покойного Евгении Борисовне Казакевич в размере 400 рублей...»
И первое, о чем я подумал, застыв над газетой: «А как же теперь будет без Генриха Львовича Эммануил?» Он был для него больше чем отец. Он был ему друг, советчик, наставник, с ним сын делился своими творческими замыслами, ему первому читал все, что выходило у него из-под пера.
Спустя много лет, когда Эммануил Казакевич был, что называется, в зените славы, дважды лауреат Государственной премии, мы как-то во время одной из наших встреч заговорили о Генрихе Львовиче. И Эммануил с печалью в голосе сказал:
82
— Теперь мой отец был бы мне особенно нужен. — И, помолчав, добавил: — Да ты сам это отлично знаешь.
А 6 февраля 1936 года Липкин прибежал ко мне с только что присланной из Биробиджана газетой.
— Читай, какое новое горе свалилось на нашего товарища.
И вот что я прочел:
«Обком ВКП(б) Евр. А. О. и Облисполком выражают свое глубокое сочувствие тов. Казакевичу Эме по поводу смерти его матери Евгении Борисовны Казакевич, последовавшей после тяжелой и продолжительной болезни 5 февраля в 1 час 45 м. дня».
Евгения Борисовна пережила своего мужа на полтора месяца.
Так один за другим два тяжелых удара обрушились на Эммануила.
Он долго не приезжал в Хабаровск.
— Лед тронулся, господа присяжные заседатели! — распахнув дверь, прямо с порога закричал Эммануил.— Пошли смотреть! Ведь это пограндиозней, чем у Льва Николаевича Толстого!
Я не сразу сообразил, что он имеет в виду, и, обрадовавшись, что Эма после столь долгого отсутствия наконец приехал в Хабаровск, принял его слова за шутку.
— Садись, буду тебя угощать жареным гусем. Таких у нас продают гусей в гастрономе — мечта поэта.
— Пошли, увидишь настоящую мечту поэта, — горячо возразил он. — Амур тронулся!
— Что же это ты — прямо с поезда сбегал на Амур?
Он снял очки, протер их концом шерстяного шарфа и водворил на место.
— Понимаешь, только свернул с Волочаевской на улицу Карла Маркса, вижу — толпы людей бегут в сторону Амура. Спрашиваю одну гражданку, что случилось, а она, глянув на меня с презрением и жалостью одновременно, говорит: «Вы что, молодой человек, нездешний? Амур тронулся!» Тут уж я волей-неволей, что называется, влился в поток и тоже побежал. Картина, скажу тебе, захватывающая. И тут я подумал о тебе. И так мне тебя жалко стало, что пропускаешь этакое зрелище, что решил сходить за тобой. Так что пошли!
83
Конечно, все это он придумал. Но я охотно согласился полюбоваться ледоходом.
На улице Карла Маркса, кстати, было, как всегда в этот час, не так уж и много людей. А в парке стояли с десяток любопытствующих, и интересовала их не сама картина грандиозного ледохода. Они смотрели, как с самолетов, летящих на бреющем, сбрасывали небольшие бомбы в реку, чтобы льдины не повредили железнодорожный мост.
Прошедшей ночью Амур тронулся. Почерневший лед кое-где еще лежал большими полями, а местами уже трещал, ломался, образуя целые горы. Эммануил был весь внимание. Он то и дело протирал пальцами стекла очков, провожал глазами плывущие вниз высокие ледяные горы.
Поначалу было туманно и очень ветрено. Потом небо очистилось, стало выше, брызнуло яркими, хотя и нетеплыми, лучами солнце.
— Ну, что я тебе говорил! — глянув на меня сбоку поверх очков, произнес Эммануил. — Разве не мечта поэта? — И добавил с иронией: — А ты говорил, жареный гусь!..
Когда мы часу в одиннадцатом, позавтракав гусем, пошли в редакцию, нас встретил бывший секретарь Биробиджанского горкома партии Яков Левин. Теперь он заведовал в крайкоме промышленным отделом и возглавлял соцбытсектор.
Начало апреля — время не отпускное, и путевки, присланные из Москвы, «горели». И Яков Левин, как говорится, с ходу предложил нам поехать в Кисловодск.
— Ну, босяки, решайте, — торопил он. — Сегодня я говорю «да», а завтра, быть может, скажу «нет».
— Если дадите и на проезд, то и мы скажем «да», — в тон произнес Эммануил и посмотрел на меня вопросительно.
— Да! — сказал я.
— Через час чтобы пришли с заявлениями, — сказал Левин.
Путь в десять суток из Хабаровска в Москву останется в памяти на всю жизнь.
Уже после войны, встречаясь с Казакевичем, мы вспоминали нашу поездку на курорт. Кстати, и Галина Осиповна, жена Эммануила, помнит ее, потому что почти с каждой станции он посылал ей, тогда еще своей невесте, телеграммы с одним и тем же текстом: «Подробности в афишах».
Когда я однажды спросил Эммануила, что все-таки означают эти «подробности в афишах», он посмотрел на меня поверх очков, помолчал и вдруг разразился громким смехом.
84
Дорога наша на курорт не обошлась без приключений.
На станции Еланская Эммануил слишком долго приценивался к продуктам питания, и, пока ему накладывали в тарелку каких-то дешевых шанежек, поезд тронулся. Нужно было только видеть, как он бежал вдогонку за вагоном с горшочком варенца в одной руке и с тарелкой шанежек в другой и дико орал:
— Сенька, спасай продовольствие!
Он передал мне тарелку и горшочек и, ухватившись за поручни, вскочил в вагон. Проводник ругался:
— Порядочные люди в вагон-ресторан ходят, а вы по базарам шляетесь. Потом за вас отвечай.
— Люблю домашний стол, папаша, — серьезно сказал Эммануил.
Через много лет, когда Казакевичи жили в Москве и я зашел к ним, Галина Осиповна, открыв мне дверь, крикнула мужу:
— Ты знаешь, кто пришел?
— Кто?
— «Подробности в афишах»!
И пошли воспоминания о нашей веселой поездке на курорт.
Весной 1946 года, вскоре после демобилизации, я встретил Эммануила в Москве. Он был в военной форме без погон, с тремя рядами орденских колодок на кителе и нашивками за ранения.
Он сидел за баранкой заграничного автомобиля, кажется «опель-олимпия», который привез из Германии. Завидев меня, просигналил клаксоном. Я обернулся и, узнав Эммануила, подбежал к нему. Он обнял меня, и мы дружески поцеловались.
— Сенька, ты хорошо знаешь Самуила Галкина. Он, кажется, даже твой земляк.
— Да, мы из Рогачева!
— Галкин секретарствует в антифашистском комитете. Давай садись в машину, и поедем в комитет. Понимаешь, мне очень нужны деньги, чтобы привезти Галю с дочурками в Москву, а то они до сих пор мытарятся в эвакуации.
— Разве Галкин откажет тебе, ведь ты фронтовик?
— Все-таки съездим к нему.
— Милый друг, если мое присутствие поможет, я готов.
85
Я сел рядом с Эммануилом, и он довольно долго кружил по московским улицам, рассказывал о своих фронтовых делах и о том, как он думает жить дальше.
— Главный вопрос с жильем, остальное приложится, — рассуждал он. — Если не удастся прожить на литературном гонораре, устроюсь куда-нибудь на работу. Когда нужно кормить семью — любой труд почетен. Маленько окрепну, обживусь, начну что-нибудь писать серьезное о войне. Кое-что я уже задумал...
Когда мы пришли к Галкину, выяснилось, зачем Эммануил просил меня поехать с ним. Он уже, оказывается, получил какие-то деньги в комитете и часть из них отправил семье на жизнь, а на ее приезд в Москву нужна была гораздо большая сумма. Как ни трудно было уговорить Галкина, но он в конце концов выдал Казакевичу какую-то сумму дополнительно.
Эммануил был счастлив.
— Ну, теперь мои девочки скоро будут со мной!
И очень явственно вспоминается встреча вскоре после опубликования «Звезды» в журнале «Знамя» и почти одновременно в библиотеке «Огонька».
Приехав в Ленинград, Казакевич в тот же день позвонил из гостиницы:
— Завтра приду обедать! Подробности в афишах!
Когда он назавтра пришел, на столе уже стояли разные закуски из дальневосточных рыб — семужного посола чавыча, копченые кетовые спинки.
— Откуда все это? — спросил он.
— Недавно привез с Камчатки.
— Молодец! Теперь я воочию вижу, что ты верен дальневосточной теме. Храни и дальше славные традиции Амура-батюшки!
Он тут же достал из кармана «огоньковскую» книжку со «Звездой» и прямо на обложке написал: «Моим дорогим дальневосточным друзьям Семену и Любови Павловне на добрую память о встрече в Ленинграде».
Потом он стал расспрашивать меня о поездке, о местах, где я побывал. Когда я ему сказал, что мне удалось съездить в Советскую Гавань, он спросил:
— По железной дороге?
— Прямым сообщением — из Комсомольска.
Он задумался, затем напомнил, что в тридцатые годы,
86
когда еще не были разбужены предгорья Сихотэ-Алиня, он мечтал пройти этим арсеньевским маршрутом.
Хотя творческие замыслы определились у Казакевича на много лет вперед — повесть, два романа, и все о минувшей войне, — в глубине души он хранил желание когда-нибудь написать роман о Дальнем Востоке, о судьбах людей, связавших с краем свою жизнь.
Даже в таком чисто «западном» романе, как «Весна на Одере», родословная главного героя Лубенцова начиналась в Приамурье, и как раз в тех местах, которые хорошо были знакомы Казакевичу.
— И еще у меня в наметках небольшая трагедийная повесть, — рассказывал он. — Я буду писать ее или очень долго, или она выльется у меня сразу.
Тогда я еще не знал, что речь идет о повести «Двое в степи», написанной, по словам Казакевича, чуть ли не в две недели.
«Двое в степи», мне кажется, одна из вершин творчества Эммануила Генриховича. Правда, повесть доставила автору немало тревог, но он имел достаточно мужества, чтобы остаться самим собой.
Как раз вскоре после выхода этой повести в свет Эммануил летом снова приехал в Ленинград.
Устроившись в «Европейской» гостинице, он позвонил и попросил приехать. Я жил тогда на Невском и через пятнадцать минут был уже у него.
Мы провели вдвоем в номере почти весь день. Эммануил ждал телефонных звонков из Москвы и, не дождавшись, сам позвонил туда.
Разговор шел о повести «Двое в степи». В Москве носились слухи, что где-то вот-вот должна появиться «разносная» статья, и он спрашивал, какую позицию займет редакция. Кажется, ему ответили, что позиция редакции остается неизменной, что редакция будет отстаивать повесть, и Казакевич несколько оживился.
Потом он позвонил домой, справился о здоровье Галины Осиповны, о детях.
— Ну, а теперь побродим по Невскому, — предложил он.
Вечер выдался замечательный. Солнце уже село, и небо над городом было очень синее, с темно-сиреневым отливом. Мы свернули на Дворцовую площадь, потом с четверть часа постояли у Ростральных колонн на виду у Петропавловской крепости. Эммануил задумался, и я не мешал ему.
В эти минуты память вернула меня к берегам говорливой
87
Биры, к величавой сопке Тихонькой, на которой в эту пору буйно цветут пионы. Сколько раз мы гуляли с моим другом у ее зеленого подножия, делились своими думами, заглядывали в будущее, и в мыслях моих не было, что когда-нибудь мы будем бродить вдоль Невы и что Эммануил, сын Генриха, станет известным писателем.
Обычно веселый, неунывающий, сыпавший острыми словечками, Эммануил на этот раз был молчалив и грустен. Его душевная тревога передалась и мне, и я тоже молчал.
Вдруг он сказал:
— Я не против критики, даже самой суровой, будь она только справедливой.
— Стоит ли заранее волноваться?
Он перебил:
— Найти повод можно...
Теперь известно, чем это кончилось. Повесть «Двое в степи» выдержала испытание временем.
Мы вернулись в гостиницу уже под вечер. Я не стал заходить в номер, решив, что Эммануилу захочется поработать. Время было у него напряженное — одна вещь завершалась, другая обдумывалась.
Перед отъездом в Москву он позвонил, просил прийти к поезду. У вагона «Красной стрелы» я застал старых друзей Казакевича, известных актеров супругов Колиных.
Эммануил рассказывал не то фронтовой эпизод, не то сюжет новой повести, точно уже не помню. Рассказывал он горячо, взволнованно, и друзья с вниманием слушали.
— Так ты, старик, приезжай в Москву! — крикнул мне Эммануил с подножки вагона, когда поезд тронулся.
— Привет Гале!
— Спасибо! Подробности в афишах!
И оттого, что он едет домой, к жене, к детям, к нему вернулось хорошее настроение.
Вспоминается короткая встреча с Казакевичем в Москве, на одном из съездов писателей.
Он пришел в Колонный зал прямо из Воениздата, где только что вышла повесть «Сердце друга». Первую пачку книг принесли в киоск прямо из типографии, и я уже успел купить себе экземпляр.
— Эмма, автограф!
— А ты читал повесть?
— Как же, в журнале.
— Ну, и что ты хочешь сказать?
— Как всегда, нравится.
— Спасибо, друг, я верю тебе!
Печальную весть о смерти писателя я услышал в Карловых Варах. Я знал, что Казакевич тяжко болен, что на его выздоровление нет уже никаких надежд, но что так скоро наступит развязка — не допускал мысли.
Незадолго до его кончины в печати появилась повесть «При свете дня», затем рассказ «Приезд отца в гости к сыну», отрывки из большого романа, над которым он много трудился (« Это будет роман о России, может быть даже многотомный роман», — как-то говорил он мне), и восхищение его крепнущим талантом отодвигало тревогу.
Тихим осенним вечером на аллее Бетховена я подсел на скамейку к одному болгарскому товарищу, тоже лечившемуся в санатории «Империал». У болгарина был транзисторный приемник. Из Москвы сообщили скорбное известие о смерти писателя.
Мой болгарский знакомый, оказалось, читал почти все, что написал Казакевич, и тоже был потрясен печальным известием.
Вдруг он сказал с акцентом, но твердо:
— Он, я слышал, был еще и очень храбрый солдат...
И я рассказал болгарскому товарищу, что дружил с Эммануилом Казакевичем еще на берегах Амура, с далеких юношеских лет, и что для меня особенно горестна весть о его кончине...
1970
И. Колин
В ТЕАТРЕ
В середине 33-го года было объявлено решение Комитета по делам искусств при Совнаркоме РСФСР: организовать на базе выпускного курса театрального техникума Московского ГОСЕТа Государственный еврейский театр Биробиджана. R период создания театра я и познакомился с Эммануилом Казакевичем.
Я благодарю судьбу, что она мне дала возможность узнать этого необыкновенного человека, сотрудничать с ним, общаться и много лет быть его другом.
Еще до личного знакомства я уже много наслышался о молодом харьковском поэте Эме Казакевиче, о его незаурядной эрудиции, переводах на еврейский язык стихов Гейне... Нам, студентам театрального училища, были известны легендарное озорство, неисчерпаемый юмор компании молодых, начинающих литераторов, активистов рабочего клуба имени III Интернационала, вдохновителем которой и был сын видного литератора, главного редактора газеты «Дер штерн» юный, неугомонный Эммануил.
Мне полюбились лирические стихи энтузиаста и пионера Биробиджана. Да, Эммануил Казакевич был страстно влюблен в эти края, в тайгу, воспевал людей, которые ее обживали.
Этой романтикой он зажег и нас, молодых выпускников театрального училища. Увлек и страстью к созданию нового театра.
90
Казакевич был организатором и первым директором Биробиджанского театра.
«Директорство» Казакевича никак не вязалось с обычным пониманием этих руководящих функций. Он не был директором в обычном понимании этого слова...
Москва. Красная Пресня. Клуб имени Ленина — база Биробиджанского театра. Из кабинета директора слышится смех, восторженные возгласы, аплодисменты. На письменном столе, на диване, на стульях и на полу сидят молодые артисты театра. В середине кабинета стоит длинный, худой молодой человек в роговых очках, с горящими глазами на исхудавшем лице, с красивыми вьющимися волосами, и, чуть заикаясь, читает лирические стихи. И не только лирические, но и озорные... Талантливые, замечательные стихи. И не только стихи, но даже ироническую поэму. И каламбуры, эпиграммы. Это был наш директор Эммануил Казакевич. И представьте себе, что этот высокий, чуть сутулый, близорукий человек, поэт, решал большие организационные проблемы нового родившегося театрального организма. А проблемы были сложные, и первая из них — комплектование труппы. Мы, выпускники, группа молодых, еще неопытных артистов, были «основой». Но театр требовал в свой состав опытных артистов, мастеров. Их можно было заполучить только в уже сложившихся, действующих театрах. И только энтузиазм, романтика, незаурядный ум и вечный юмор Эммануила были в состоянии поднять из Киева, Одессы, Минска, Москвы опытных артистов и увлечь в Биробиджан.
Этот юноша в кожаной куртке, голова которого, казалось, находилась лишь в сфере поэзии, должен был организовать и творческий процесс в театре, и театральное хозяйство, сформировать технические цеха, доставать в довольно трудное время тес, гвозди, материалы для оформления, для костюмов ближайших премьер. Это все в то время была гигантская глыба, поднять которую было очень сложно. Казакевич эту глыбу поднял. Наконец, надо было перевезти весь театр из Москвы в Биробиджан, там обеспечить работу и быт большого коллектива, открыть первый сезон нового театра в новом помещении — такая задача тяжела и для испытанного администратора.
Казакевич все эти проблемы решил. Решил смело, дерзко и даже... озорно. Не давали вагонов на перевозку имущества, декораций. В то время очень трудно было с транспортом. Официальные бумаги, посланные в Наркомат путей сообщения, не дали положительного ответа. Острый разговор с ответствен-
91
ным товарищем в наркомате тоже не помог. Тогда Эммануил встал в его кабинете и начал читать свои стихи... Ответственный товарищ оказался любителем литературы. Заявка на вагоны была подписана.
Во всей многосторонней деятельности по организации театра ему сопутствовал его неизменный друг — юмор.
Я вспоминаю, к примеру, такой случай. Казакевич высоко ценил главного режиссера театра М. А. Рубинштейна и чутко к нему относился. Но великолепно знал некоторые слабости и мнительность этого доброго человека. Один раз, во время безмерно затянувшегося разговора с Рубинштейном, который Казакевичу никак не удавалось прервать, он вынул из ящика стола случайно оказавшийся у него бутафорский револьвер и положил его на стол. Это было сделано Эммануилом так серьезно и убедительно, что Марк Аронович сразу замолк, встал и выбежал из кабинета. Я помню, как он, встретив меня после этой сцены, таинственно шепнул: «Иосиф, будьте осторожны с Казакевичем, он хранит у себя в ящике оружие...»
У нашего необычного директора не было штатных помощников. Он все почти делал сам. Я не могу вспомнить Казакевича с портфелем. Не было у него и положенного директору секретаря. К нему в кабинет заходили запросто, без стука, без доклада. Когда Эммануил, уже не будучи директором, пришел по какому-то вопросу к его преемнику, секретарша остановила его: «К кому вы?» Казакевич с удивлением ответил: «К директору». — «Кто вы, как доложить о вас?» — спросила вышколенная секретарша. «Александр Македонский», — ответил Эммануил. Так она и доложила под общий хохот присутствующих.
Вспоминаю один вечер в клубе имени Ленина на Красной Пресне. В кабинете Казакевича особенно людно. Составляется первая афиша Биробиджанского театра. Вдруг он ко мне обращается: «Иосиф, надо подумать о твоем псевдониме. Ну что это за актерская фамилия «Штофенмахер». Представь себе, в конце спектакля какие-то театральные психопатки начнут тебя вызывать, а в зале не расслышат твоей фамилии...» Тут же все коллективно начали придумывать мне псевдоним. Какие только необычные звучные фамилии не назывались. Я, конечно, принял это все как очередную шутку Эммануила. Но когда через несколько дней принесли напечатанную первую афишу Биробиджанского театра, я не нашел своей фамилии, там значился выдуманный Казакевичем псевдоним «Гросс»... Кстати, тогда у нас еще не было
92
осветителя и бутафора. А в афише я прочел: «Осветитель — Фриц, бутафор — Дальний». Когда я спросил у нашего директора, что это означает, он мне подмигнул и ответил: «Это для солидности...»
Нам, друзьям этого необыкновенного человека, дорога каждая мелочь, каждая крупица общения с ним. Мы всегда знали: за этим озорством, юмором, иногда сарказмом стоит незаурядный человек и художник. И все-таки, когда молодой Эммануил был организатором и директором театра, я не предполагал, что это будущий герой Отечественной войны, а читая его добрые лирические стихи, не думал, что он станет замечательным прозаиком...
Великолепно закончив свою миссию организатора театра, он ушел от нас, подарив нам через некоторое время отличный перевод с немецкого пьесы «Уриэль Акоста» Карла Гуцкова, а затем и свою комедию «Молоко и мед». Он ушел из театра, но остался нашим большим другом. Он был отзывчивым другом при всех трудных обстоятельствах своей тогдашней жизни и остался таким же простым, добрым, обаятельным и тогда, когда его имя стало широко известно не только у нас в стране, но и за ее пределами. Тот же юмор и озорство не покидали его и тогда, когда «Звезда», «Двое в степи», «Весна на Одере», «Синяя тетрадь» и другие произведения принесли ему славу. Я не могу забыть ночь, проведенную с ним во время гастролей в Киеве, когда он, ночуя у меня, по-мальчишески бросив на пол свои очки, говорил о литературе, драматургии и театре. Он очень любил театр и мечтал для него писать. Я вспоминаю мою встречу с ним в Кисловодске. Гуляя, он рассказывал мне сюжет задуманной им комедии для театра, которую собирался написать под условным названием «Гусиное перо»...
Как-то на прогулке, глядя на старое дерево, он сказал мне: «Видишь, как несправедливо. Нас, возможно, скоро не станет, а это дерево, засохшее, старое, будет стоять...»
1973
Ф. Глебов
ЭТО БЫЛО В 41-м ГОДУ
Эммануилом Казакевичем я встретился на Западном фронте в начале октября 1941 года. Мы с ним одновременно приняли тогда первое боевое крещение, одновременно хлебнули горечь отступления, а затем вместе учились быть боевыми командирами в лютую зиму 41-го года.
Хочу вспомнить, как все это было.
В конце сентября, на рубеже обороны под Вязьмой, я сидел в окопе с ручным пулеметом системы Дегтярева и, изучая свой сектор обстрела, старался представить себе, откуда и как могут появиться солдаты или танки противника.
Издали доносился нарастающий грохот боев. По ночам горизонт светился заревом пожаров.
Неожиданно пришел приказ: меня и еще троих из нашего взвода откомандировать на фронтовые курсы командиров пулеметных взводов.
Сдав оружие и попрощавшись с товарищами, 1 октября мы прибыли в учебный полк.
В старом еловом лесу под Уваровкой вокруг костров толпился военный народ из разных частей фронта. Были тут и бывалые кавалеристы в длинных шинелях, и щего-
94
леватые интенданты, которым предстояло переквалифицироваться на пулеметчиков, но больше всего было бывших ополченцев.
Всех нас распределили по подразделениям. Каждой роте свое место в лесу. Вооружившись топорами и лопатами, к ночи мы построили себе шалаши. Когда стемнело, в целях маскировки погасили костры, а ночью ударил мороз. На утренней поверке до команды «стоять смирно» вся шеренга топталась, разминаясь, чтобы согреться.
В строю рядом со мной дрожал от холода высокий, худой, сутуловатый молодой человек в короткой шинели и в обмотках.
Близоруко щурясь сквозь толстые стекла очков и как-то очень интеллигентно улыбаясь, он спросил меня: «Вы с Кавказа?» Стуча зубами и стараясь так же интеллигентно улыбаться, я ответил: «Нет, я москвич, у меня только усы грузинские».
«Равняйсь! Смирно!» — прокричал старшина. Разговор прервался. Стоя перед ротой со списками в руках, старшина выкликал фамилии в алфавитном порядке. «Я! Я! Я!» — отзывались в строю. «Казакевич!» — «Я!» — крикнул мой сосед.
Поверка окончена. «Казакевич и Глебов, в распоряжение политрука шагом марш!» Политрук пригласил нас к костру. Ему уже были известны наши гражданские профессии: писатель и художник. Он сообщил нам, что в связи с наступлением холодов полк должен в течение четырех дней построить теплые землянки всему личному составу, чтобы с 6 октября приступить к боевой учебе. Сейчас главное наше оружие — лопата. Нам двоим приступить к земляным работам после того, как выпустим боевой листок, мобилизующий курсантов роты на ударную работу. Нам вручаются лист бумаги и цветные карандаши.
Слово «рота» хорошо рифмуется со словом «работа». Вскоре к стволу ели был прикреплен боевой листок со стихами Казакевича под ярким заголовком «Сестра лопата» и с моим «символическим» рисунком, где наш воин лопатой убивал Гитлера.
К ночи с 5-го на 6 октября в землянках пылали земляные печи.
Радуясь теплому ночлегу, мы засыпали, вдыхая уютный запах свежей соломы и высыхающей земли. Но в полночь нас подняли по тревоге. В кромешной темноте октябрьской ночи
95
полк ушел на станцию Уваровка и погрузился в товарный состав.
Мы догадывались, что едем не в тыл, а вперед, на запад.
Вагон был набит до отказа. Те, кому не хватало места на нарах, сидели на полу. Мы с Казакевичем устроились рядом.
В темноте вагона светились огоньки самокруток. Мы закурили и перешли на «ты».
«Так, значит, у тебя только усы грузинские, а ведь я тебя тогда принял за кавказского горца», — как ни в чем не бывало он продолжал наш разговор, прерванный при первом знакомстве. За четыре дня авральной стройки землянок говорили только по делу, а теперь было время побеседовать. «У меня очень длинное имя,— сказал Эммануил,— зови меня коротко Эм. Есть такая автомашина — Эм-1. Я Эм-один в том смысле, что второго такого нет».
Не зажигая огней, поезд шел очень медленно. Под равномерное постукивание колес мы рассказывали друг другу каждый о себе. Выяснив, что оба мы из московских ополченцев и оба были запевалами в ротах, вспомнили о том, как в июле уходили мы из Москвы на Западный фронт. Он с группой писателей в составе 8-й стрелковой дивизии Краснопресненского района, я с группой студентов старших курсов художественного института в составе 18-й стрелковой дивизии Ленинградского района.
В начале похода ополченцы еще не были похожи на военных. Шли в собственной гражданской одежде, без оружия, с рюкзаками за спиной. Пестрая масса людей в возрасте от 20 до 50 лет. Все остриженные наголо.
Шли строем колоннами по четыре.
Командиры взводов, выпускники пехотного училища, шли в военной форме по обочине дороги, на ходу обучая нас походному строю.
Мало кто из нас знал тогда новые строевые песни, поэтому, в отличие от кадровых частей, колонны ополченцев распевали старые казачьи и солдатские песни времен первой мировой войны и красноармейские песни времен гражданской войны.
В прокуренной темноте вагона мы вспоминали о том, как, отойдя от Москвы, ополченцы вставали лагерем в лесу, строили шалаши, получали военное обмундирование и начальную военную подготовку и через несколько дней шли дальше на запад. В местах, удобных для обороны, опять строили
96
шалаши, рыли окопы, противотанковые рвы и эскарпы; приближаясь к фронту, получали оружие, принимали воинскую присягу и, дойдя до линии фронта, вливались в боевые порядки вторых эшелонов боевых частей.
Шоссейные дороги обстреливались и бомбились самолетами противника, поэтому войсковые части двигались окольными проселками. Стояла жара. Шли непрерывным потоком в сплошном непроглядном облаке пыли. По пути все колодцы были вычерпаны до дна и не успевали пополняться водой. Пить сырую воду из водоемов было запрещено. Пропотевшие гимнастерки и лица идущих были одного цвета — цвета пыли. Мы, молодые, вдобавок к своей выкладке несли винтовки и вещевые мешки старших товарищей.
Нелегко быть запевалой, когда в горле сухо, нос забит пылью и на зубах хрустит песок, но без песни в походе нельзя, и мы пели.
Я рассказал Казакевичу о том, как, проходя деревнями, наш взвод запевал:
Слушай, товарищ, война началася,
Бросай свое дело, в поход собирайся!
И вся рота подхватывала:
Войны мы не хотим, но в бой готовы!
Ковать мы не дадим на нас оковы!
И как женщины выносили навстречу нам кринки с молоком. На ходу кринки передавались по рядам. Мы отпивали каждый по глотку, и петь становилось легче.
Так мы прошли около трехсот километров.
В конце похода я получил от комбата по всей уставной форме «благодарность от лица службы за исполнение строевых песен с увольнением в город». Но города не было, «увольнение» осталось неисполнимой мечтой до окончания войны.
«Да! — сказал Казакевич. — Что бы ни было, мы обязательно победим и уволимся в город. Я буду писать о войне, а ты будешь рисовать». Закуривая, я чиркнул спичкой. Слабый свет ее огонька осветил лицо Казакевича. Его большие, немного грустные глаза задумчиво и печально смотрели в темноту вагона.
Сквозь равномерный шум идущего поезда донеслось уханье взрывов. То ли бомбежка, то ли артобстрел?
Поезд замедлил ход, резко остановился, потом тронулся и медленно пошел дальше...
97
В вагоне замирают разговоры и возникает напряженная тишина.
«Песню про Ермака знаешь?» — спрашивает Эм. «Все знают», — отвечаю я. «Самое время спеть», — говорит он, и мы затягиваем в два голоса:
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали...
И многоголосый хор подхватывает:
И беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали.
Огоньки самокруток постепенно гаснут, потому что нельзя одновременно курить и петь. Маленькое окошко вверху стены вагона вытягивает махорочный дым. Становится легче дышать.
Эм оказался опытным запевалой. Песни сменяли одна другую. Пели до хрипоты.
Поезд двигался как бы крадучись. Окошко вагона посветлело, наступило утро. Поезд остановился. Когда открылись двери вагона, нас ослепила белизна выпавшего за ночь первого снега. Пахнуло лесным ароматом увядшей листвы и свежей пороши. Мы высадились в березовом лесу.
На белоснежной полянке, окруженной золотом не облетевших еще молодых берез, состоялся короткий митинг. Выступил политрук роты: «Товарищи бойцы и командиры! Наш полк теперь уже не учебный, а ударный стрелковый! Мы находимся под Гжатском. Наша боевая задача — остановить массированное наступление оголтелых фашистских захватчиков! Сейчас выступаем походным маршем навстречу врагу. Оружие и боеприпасы получим попутно. Смерть немецким оккупантам!»
Митинг закончен. Полк на марше.
Ритмично скрипит свежий снег под сотнями армейских ботинок и сапог. Кругом белеют поля и золотятся перелески в пойме реки Гжать.
«Раз, два, левой! Запевай!» В свежем утреннем воздухе звенит голос Казакевича.
Эх, да как на горке калинá,
Эх, да под горою малинá,
Малина, малинá-а-а!
98
Я вторю, и вся рота подхватывает:
Чубарики-чубчики, малинá-а-а!
Малина, малинá-а-а...
И опять запевала:
Эх, да там девица гулялá,
Эх, да цвет калины ломалá,
Ломала, ломалá-а-а...
На пути склад боепитания. Вооружаемся по принципу, кто каким оружием владеет. Опять у меня знакомый ручной пулемет системы Дегтярева. Командиры взводов объясняют бывшим интендантам, как обращаться с противотанковыми гранатами и бутылками горючей смеси.
Казакевич в составе пулеметного расчета получает станковый пулемет. Значит, нас с ним разлучают. Скоро ли увидимся? «Береги очки, Эм, ни пера, ни пуха!»
Подразделения идут на сближение с противником, соблюдая маскировку и тишину и выслав вперед разведку. К ночи наша рота остановилась в лощине. Впереди никакой стрельбы не было. Перед нами поле возвышалось большим отлогим холмом. Посреди поля на фоне угасающей зари темнел силуэт большого стога. Откуда-то издали доносились звуки танцевальной музыки.
Командир взвода объяснял обстановку отделениям: «Части противника за холмом на другой стороне поля расположились на ночлег по краю леса западнее Покров — Мишино Музыка слышится от них. Наша задача с наступлением темноты занять огневой рубеж в поле вправо и влево от стога, окопаться для стрельбы лежа и на рассвете после короткой артподготовки броском атаковать и уничтожить части противника».
Не стану подробно описывать, как мы выполняли эту задачу, потому, что мы с Казакевичем действовали раздельно, и еще потому, что бой был неправдоподобно тяжелым1. Скажу
_________________
1Приводим отрывок из воспоминаний Н. М. Кулагина, бойца-курсанта Особой отдельной 179-й учебно-боевой бригады, потом доцента Московского технологического института, об этом бое:
«Последняя ночь нашего отделения — в избе, где мы сварили картош- (продолжение сноски на стр. 100 )
99
по-военному кратко: в бою 7 октября, при активном сопротивлении и натиске превосходящих сил противника, наша атака была опрокинута и отбита. Полк был обойден с флангов, взят в клещи и отступал, неся большие потери.
Позади пылали пожары. Горело Мишино, горел Покров, горело Токарево. В полях испуганно метался скот. Разрозненными мелкими группами отходили остатки нашего полка, держа направление на Можайск. Следом наседали немцы.
___________
(продолжение сноски со стр. 99) ки, поели, покурили и на соломе, заботливо принесенной хозяином-колхозником, улеглись спать.
Но это был необычный сон. Мы обменивались домашними адресами с тем, чтобы сообщить родным о гибели товарищей. В этот раз я узнал, что Эммануил Казакевич живет совсем неподалеку от меня: в Сокольниках, в районе Майских прудов. Это еще больше сроднило перед боем.
Тогда он мне сказал:
— Коля, я буду сражаться во весь рост!
И в этом я убедился, когда завязался наш бой с противником. Это было 6 октября. Во второй половине дня началась артиллерийская подготовка. Мы наспех окапывались и ждали команды к выступлению. Команда скоро последовала, и мы открыли пулеметный огонь по противнику. В кустарнике на небольшом косогоре со станковым пулеметом «максим» действовал Казакевич, нещадно выпуская очередь за очередью. Нам было трудно. Нас жали назад, но мы, маневрируя, переходя от одной позиции к другой, продолжали вести огонь. Ствол нашего пулемета резко повышал свою температуру, но интервалы исчислялись секундами. Нас обстреливали с бреющего полета самолеты, накрывали минометные разрывы, косили пулеметы. Мы несли очень большие потери, но люди продолжали пядь за пядью отстаивать свою родную землю.
Когда к вечеру стих бой — немцы тогда воевали «по своему усмотрению», ритмично, по точному расписанию, не ведя боев ночью, — мы сидели в окопе и наблюдали тяжелое зрелище: догоравшие хаты и сараи колхозников, подожженные фашистскими извергами, испуганно и печально снующих по ложбинам матерей, детей и стариков, тоскливо ревущих коров.
Все это вызывало у Казакевича взрыв глубокой душевной боли, гнев и ярость в беспощадной борьбе с врагом.
Казакевич говорил:
— Мы должны мстить этим гадам до последнего вздоха.
Ночью Казакевич вместе с другими бойцами ходил на разведку в направлении горящего омета на стороне расположения фашистских войск. Это было предпринято немцами специально, чтобы сделать снимки территории для ведения боев на другой день. Так как накануне наибольшие потери понес первый полк, то утром наш, 2-й полк должен был стать головным. Утром 7 октября начался последний организованный бой нашей 179-й Особой учебно-боевой бригады.
Я снова видел Эммануила Казакевича ведущим бой как пулеметчик. В последние часы, когда кончился запас лент, я видел Казакевича бешено метавшимся на линии боя с автоматической винтовкой и гранатами: он продолжал бороться до конца. Он был сильно взволнован, устал, но не складывал своего оружия, он не чувствовал победы над собой, хотя состав полка все таял и таял. Он практически показывал, что «и один в поле воин». Нашу бригаду разбили почти до основания». — Сост.
100
Санитарные повозки везли раненых. На одной из них я с трудом узнал нашего политрука. Он лежал в крови и без сознания. К вечеру немцы отстали, стрельба стихла.
От Мишина до Можайска 60 километров напрямик лесами.
Под тяжестью пулемета сильно болели плечи.
Остатки нашего батальона сошлись в деревне Борисово на дороге между Вереей и Можайском. Казакевича среди них не было, и никто не знал, жив ли он.
В Можайске мы вошли в состав полка, наспех сформированного из разрозненно отступавших групп разных частей.
По старой Можайской дороге полк ушел под Кубинку, где занял оборону за рекой Нарой. Получилась передышка.
Вскоре к нам прибыла комиссия из штаба фронта для отбора на те же краткосрочные курсы командиров пулеметных взводов. Всех, кто имел высшее гражданское образование, вывели строем из расположения части.
Опять я стал курсантом.
Перед строем появился командир верхом на коне и объявил, что мы должны следовать за ним в пешем строю в направлении станции Быково Московско-Рязанской железной дороги. В пути пищевого довольствия не гарантирует и предупреждает, что отставшие от колонны будут караться как дезертиры. Расстояние перехода 100 километров.
Минское шоссе было забито людским потоком. В направлении на восток тянулись толпы беженцев. По обочинам вели коров, навьюченных домашним скарбом. Плакали дети. Наша колонна двигалась в том же направлении. Впереди, как ориентир, маячила верхом на лошади фигура нашего командира.
Шли нестройно. Песен не пели. Навстречу нам в направлении на Можайск двигались части всех родов войск.
Не доходя Одинцова, свернули на Внуково, ночью обошли Москву с юга, к утру вышли на Рязанское шоссе, забитое толпами беженцев из Москвы.
На обочине дороги стоял грузовик, груженый продукта-
101
ми. В кузове какой-то человек раздавал продукты окружающей толпе. Когда мы поравнялись с ним, он закричал: «Подходи все, кто в обмотках!» Наш командир мигом оценил обстановку: задержан московский грузовик с ворованными продуктами. Нам объявлен привал. Можно выйти из строя. Утолив голод, мы продолжали путь на восток.
В Быкове курсы разместились в помещении бывшей спортивной школы. Наконец-то мы оказались под крышей и впервые за четыре месяца с наслаждением отмылись в настоящей бане и получили новые ботинки, новые ватники и зимние шапки. Началась боевая учеба, но, когда участились бомбежки Рязанской железной дороги, нас перебросили под Владимир, где вновь я встретился с Казакевичем.
Оказалось, что после того, как мы с ним расстались шестого октября на подходе к селу Покров, он ходил в ночную разведку. На следующий день был контужен в бою под Мишином, а затем прошел путь отступления в составе другого подразделения, где временно командовал взводом.
Курсы разместились в лесу около реки Клязьмы в бараках казарменного типа. По всей длине этих бараков вдоль стен тянулись сплошные нары в два этажа. В середине — проход. В проходе железные печки.
Опять мы с Казакевичем оказались в одном взводе и, проявив некоторую инициативу, получили соседние места на верхних нарах.
Вновь, как два месяца назад, нас вызвал политрук. Нам двоим поручается выпуск стенгазеты. Работать над газетой будем в вечерние «часы самоподготовки». Газета должна мобилизовать курсантов освоить в двухмесячный срок объем подготовки, рассчитанный при нормальной обстановке на два года.
Боевая учеба должна проходить под суворовским лозунгом «Тяжело в учении — легко в бою». С целью закалки курсантов изучение матчасти станковых пулеметов будет проходить в поле в любую погоду. Пищевое довольствие по тыловой норме военного времени. Придется подтянуть ремешки и учесть, что, несмотря на морозы, валенок и полушубков нам пока не обещают. Работа над стенгазетой не должна отражаться на нашей личной успеваемости.
Декабрьские морозы доходили до 30 градусов с лишним. Боевая учеба — весь день с пулеметами в поле.
Некоторые курсанты не выдерживали нагрузки и просились на фронт до окончания курсов без аттестации, то есть рядовыми.
102
Нам с Казакевичем из-за большого нашего роста особенно не хватало тыловой нормы питания. Мы придумали выход из положения: по вечерам в часы «самоподготовки», если не было работы над газетой, я рисовал портреты курсантов — бывших интендантов. Они были ранее аттестованными, имели кубики на петлицах и получали дополнительный паек. Портреты я рисовал карандашом в размер почтового конверта. Эм сочинял к ним стихотворные подписи. Интенданты посылали эти портреты с письмами домой, а с нами делились своим доппайком. Спрос на нашу художественную продукцию перекрывал наши физические возможности.
Вспоминается, как после изнурительного дня и после отбоя ко сну мы с Казакевичем лежали на нарах. За стеной барака свирепствовал мороз. От стены сильно дуло. Мы лежали в шапках, накрывшись с головой ватниками и шинелями поверх армейских одеял. Казарма уже храпела. Надо было спать, но нам что-то не спалось.
«Послушай, Эм,— сказал я,— есть стишок для газеты:
Поутру встав,
Учи устав.
Ложишься спать —
учи опять».
«Это после. Сейчас надо уснуть. Надо отключиться от всего окружающего,— сказал он.— Представь себе, что здесь вместе с нами блоковская Незнакомка. Сейчас я ее вызову». Он читает тихо, нараспев:
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И вот уже сквозь сон я слышу:
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
В дальнейшем мы взяли себе за правило после отбоя на сон грядущий, для «отключения», таким же манером читать друг другу стихи любимых поэтов. Это здорово помогало.
В шесть утра «подъем»!
103
Через три минуты мы стоим в строю голые по пояс. Утренняя зарядка на морозе. «На месте бегом!» Обтирание снегом. После завтрака строем повзводно уходим в сторону Клязьмы.
Чеканим шаг. Светает. В морозном воздухе звенит голос Казакевича, я вторю, и взвод подхватывает:
Соловей, соловей, пташечка!
Канареечка жалобно поет!
Раз поет, два поет,
Умирает и поет!
Канареечка жалобно поет!
«Взвод, стой!»— командует комвзвода. «Казакевич и Глебов ко мне! Прошу в песнях поменьше смертей. Смерть канареечки отставить. Выполняйте! Взвод! Вперед шагом марш!»
Запеваем другой вариант:
Соловей, соловей, пташечка!
Канареечка жалобно поет.
Раз-два, раз-два, горе не беда!
Канареечка жалобно поет!
Взвод выходит к берегу Клязьмы на стрельбище. Комвзвода перед строем: «Курсантам Казакевичу и Глебову за отличное исполнение строевых песен от лица службы объявляю благодарность!»
* * *
Эм верил в победу и верил в себя.
Вспоминаю, как сказал мне о нем наш политрук:
«То, что другим дается с трудом, курсант Казакевич схватывает на лету. По его способностям ему бы не взводом, а полком командовать».
Когда я передал эти слова Казакевичу, он сказал: «Политрук прав».
В конце декабря часть курсантов (и я в том числе) была переброшена для продолжения боевой учебы в Мытищи. Казакевич был направлен во Владимир. Мы переписывались. В январе 42-го года он сообщил мне, что получил звание младшего лейтенанта и назначен адъютантом командира полка.
В конце января 42-го года я в звании младшего лейтенанта был направлен в 30-ю отдельную стрелковую бригаду,
104
наступавшую в районе Кондрова под Калугой, а 12 февраля был ранен в бою под Юхновом и потерял связь с Казакевичем.
С тех пор прошло 35 лет, многое забылось. Но навсегда останется в памяти образ Эммануила Казакевича. Умного, обаятельного, талантливого человека.
Дружеское общение с ним помогло мне выдержать тяжесть того периода войны, когда решалась судьба Москвы. В самых трудных условиях его никогда не покидало присутствие духа, человеческое достоинство и спасительное чувство юмора.
Эм всегда знал, когда кому нужна шутка, когда стихи, когда песня, когда крепкое словцо, когда дружеский совет и помощь.
Вновь встретились мы уже в 1946 году в Москве, уволившись из армии оба в звании капитанов.
Вернулись к своим мирным профессиям, он писал о войне, а я рисовал.
В московской суете встречались мы не часто, но всегда с той теплотой, которая отличает свидания людей, вместе прошедших по тяжким дорогам 41-го года.
Мне довелось иллюстрировать одно из первых изданий романа Казакевича «Весна на Одере».
О послевоенных годах лучше меня расскажут другие. Я хотел вспомнить о тех днях Казакевича, близким свидетелем которых я был, и о той военной обстановке, в которой раскрывался неповторимый характер молодого Казакевича.
1976
З. Выдриган
НЕВЗГОДЫ И РАДОСТИ
1
Учебный стрелковый полк занимал заводские помещения1. Условия жизни даже для испытанного солдата нелегкие: холод, иногда недоедание, нехватка обмундирования, неотремонтированные помещения. Постелью служили еловые и сосновые ветки, вместо подушек — вещевые мешки. Надо было беспокоиться о том, чтобы воины учились в лучших условиях, лучше питались. Я думал над тем, как найти выход. Просил разрешения вывести полк в лес, где можно было построить землянки, а пока построятся — спать возле костров, но такого разрешения не получил...
Военная судьба принесла мне не только трудности и невзгоды, но также и радости. Это — преданная мужская дружба, встречи, которые оставили след на всю жизнь.
Однажды зашел ко мне курсант Эммануил Казакевич, пришедший в полк в январе 1942 года. Поговорили мы с ним обо всем откровенно, очень чистосердечно. Я рассказал ему о своих заботах, поделился опасениями за первый батальон, в котором случались нарушения дисциплины. Попросил Казакевича пожить среди бойцов этого подразделения.
Мой Эма, как я потом называл его, опираясь на пал-
____________
Из книги 3. Выдригана «Путь солдата». Одесса, 1969.
1Захар Петрович Выдриган после тяжелого ранения командовал этим полком в г. Владимире. – Сост.
106

Э. Г. Казакевич и командир полка
З. П. Выдриган. Шуя, 1942 г.
ку — хромал после ранения,— пошел в батальон и, что называется, полностью пленил солдат. Как ему это удалось, не знаю, но, когда вечером следующего дня наведался я в батальон, среди бойцов царило радостное оживление. Комиссар полка подполковник Исаев просил меня оставить Казакевича в этом батальоне.
...Нам не разрешили перебазироваться в лес, потому что решено было перебросить полк в другое место. Условия передислокации в суровое военное время — очень нелегкие. Железная дорога занята фронтовыми перевозками, автомобильный транспорт тоже.
Я предложил командованию бригады перебросить полк походным порядком, на лыжах.
...Когда полк развернулся в колонну, я отошел в сторону, пропуская бойцов, осматривая почти каждого из них: хорошее ли настроение у солдат, могут ли они одолеть переход. Солнце слепило нам глаза, острый ветер стегал лица. Но полк шел.
Время от времени полк останавливался на привал — отдохнуть, поесть. Возле костра, где был Казакевич, всегда было шумно, звучали шутки, смех. Я подошел и услышал: «Вот еще, хлопцы, случай,— говорил Казакевич.— С котовцами это было. В конце октября 1919 года. Вышли они из боев под Киевом, прибыли в город Рославль Смоленской губернии на отдых. Разместились в деревянных бараках. Пооборвались все, сапоги истоптали. Ждали нового обмундирования, а пока под одной шинелью по двое спали — грели один другого в холодных бараках. А тут еще и тиф… Одним словом, им было хуже, чем нам. В это время вызывают Котовского к аппарату: «Принимайте приказ. Бригаде с лошадьми и артиллерией немедленно выступить на разгром Юденича». Собрал Котовский бойцов, командиров, рассказал, какая новая опасность нависла над молодой Республикой Советов. И зачитал приказ о выступлении на помощь красному Петрограду. В бараках загремели стекла от мощного «ура!».
Но как перевезти полураздетых бойцов до станции? Решили переправлять их группами. Одна группа прибыла — передает сапоги другой. Последний эскадрон, не дождавшись сапог, пошел в восьмиградусный мороз босиком.
Обмундировалась бригада уже в дороге и прямо из вагонов двинулась в бой».
Я уже слыхал про этот поход из уст своего брата, который служил в коннице Котовского, и удивлялся осведомленности
108
молодого Казакевича. Он же заключил: «Так! А мы разве хуже?»
«Даешь поход!»— крикнул кто-то из бойцов. Заиграл горнист. Начальник колонны скомандовал: «На лыжи, марш!»
Полк прибыл фактически на пустое место. Помещения, где мы должны были жить, стояли без окон и дверей. А это же была зима, лютая зима 1941/42 года. Только сплоченный, испытанный полк мог переносить такие невзгоды.
После занятий курсанты до поздней ночи работали, чтобы в короткий срок создать нормальные условия для боевой учебы в обстановке, максимально приближенной к фронту. Никто, от курсанта до командира полка, не жалел сил для этого.
...Люди гордились своим полком. У нас сложились свои традиции и обычаи. Была даже песня, которую написал лейтенант Эммануил Казакевич.
...В апреле 1943 года меня назначили заместителем командира 51-й стрелковой дивизии по строевой части в 21-ю резервную армию Западного фронта. Эммануил Казакевич настаивал на том, чтобы его забрать на фронт. Откровенно говоря, мне было жаль его и себя тоже, потому что, в случае разлуки, я оставался без близкого друга и хорошего советчика.
Я знал, что законным путем никак не смогу взять Казакевича на фронт... Эма написал мне, что он так или иначе попадет на фронт, хотя бы через штрафной батальон.
Зная его характер, я боялся этого, боялся, что Казакевич пойдет на все... Договорился с начальником штаба дивизии, подготовили Казакевичу удостоверение, что он — командир разведывательной роты 51-й Перекопской стрелковой дивизии. В командировочном удостоверении указали, что Казакевич едет в город Владимир с целью набора разведчиков для дивизии. Обеспечили Казакевича проездными документами, через 4 дня наш новый командир разведывательной роты доложил о благополучном возвращении из служебной командировки. А когда в сентябре 1943 года меня назначили командиром 76-й стрелковой дивизии, с разрешения командующего 21-й армией генерала Н. Крылова я забрал Казакевича командиром разведывательной роты, а потом назначил его начальником разведки дивизии.
109
2*
«На одной из зеленых улиц Херсона мы беседуем с хозяином уютного домика, генерал-майором в отставке Захаром Петровичем Выдриганом.
— Это был самый плохой адъютант за всю мою военную службу.— Сквозь стекла очков на нас смотрят улыбающиеся глаза Захара Петровича. Потом он серьезно добавляет:— И это был самый замечательный человек. И прекрасный офицер-paзведчик.
Нам хочется расспросить Захара Петровича об одной загадочной истории в биографии Казакевича. Вскользь о ней упоминалось в книге А. Бочарова «Эммануил Казакевич». Там сказано: «В июле 1941 года писатель ушел добровольцем в армию, участвовал в битве под Москвой. Переведенный в одну из тыловых частей, он настойчиво рвался на фронт. После нескольких отказов командования он исчез из тыловой части, а некоторое время спустя стало известно, что Казакевич — на переднем крае: ходит в поиски, выполняет боевые задания».
Как это было?
— В январе 1942 года наш полк набирался сил,— вспоминает бывший командир той «тыловой части» 3. П. Выдриган.— Как-то во время строевых занятий бросился мне в глаза худощавый нескладный сержант в очках. Ногу изо всех сил тянет. Хромает, но, говорят, не жалуется. Вызвал я его к себе. Оказалось: ополченец-москвич, член Союза писателей. Уже был в боях, ранен, снова хочет воевать. Мне этот неловкий, кругом штатский сержант, «доходяга», как тогда говорили, сразу понравился. Умный, прямой, знающий. У меня-то с образованием негусто было — ЦПШ, церковноприходская школа, а свои академии я в основном на фронте проходил. Правда, любил всю жизнь хорошие книги. А Казакевич — ну просто ходячая библиотека...
Одним словом, направил его для начала в самый отсталый батальон. Для проверки. Он там сразу стал всеобщим любимцем. Немного позже послал я его на краткосрочные курсы младших лейтенантов. После курсов назначил своим
_____________
* Из публикации К. Григорьева и Б. Хандроса «Эммануил Казакевич и генерал Выдриган» («Новый мир», 1970, № 9). Запись их беседы с 3. П. Выдриганом существенно дополняет отрывки из маленькой биографической книжки, вышедшей уже после его смерти. Приводим из публикации эту запись, относящуюся к 1966 году. — Сост.
110
адъютантом. Я вам говорил: ужасный был адъютант. Но уже тогда я понял: человек он верный и смелый.
Тут прибыло сообщение о гибели моих сыновей — одна похоронная за другой. Я и раньше не мог усидеть в тылу, хотя понимал, что кому-то надо обучать солдат для фронта. Но рана уже не мучила меня, и я просил назначения на передовую. А когда узнал о гибели сыновей, стал особенно настойчиво добиваться выезда на фронт. И адъютант мой не отставал от меня. Писали рапорты: я — начальству, он — мне. А пока суд да дело, пронюхали в штабе бригады, что у меня в адъютантах член Союза писателей, и забрали Казакевича в редакцию бригадной многотиражки.
Наконец в мае 1943 года дали мне дивизию на Западном фронте, и я отправился на передовую. А Казакевичу ни рапорты, ни письма не помогают. Тогда пришлось нам пойти на хитрость. Назначил я своей властью Казакевича командиром разведроты. Заочно, разумеется. Выписал ему удостоверение. Послал за ним сержанта с предписанием: мол, младшему лейтенанту Казакевичу, якобы срочно командированному для пополнения разведроты, немедленно явиться на место службы в такую-то дивизию. Прибыл он и действительно принял роту разведчиков — приказ есть приказ. Тем временем его разыскивали в тылу и даже собирались арестовать за дезертирство. Настоящую погоню устроили... Но поскольку дезертиры на фронт, а тем более в разведку, как правило, не бегут, да и я ходатайствовал как мог,— военная прокуратура дела заводить не стала. Позже, приняв другую дивизию, я уже вполне официально через соответствующие инстанции добился перевода Казакевича, ставшего к тому времени первоклассным офицером-разведчиком, к нам в 76-ю дивизию...»
3
30 ноября 1962 г.
«Дорогая Галина Осиповна!
Я пишу свою автобиографическую повесть под названием «Жизнь солдата». Естественно, в ней упоминаю о своем дорогом и верном друге Эммануиле Генриховиче Казакевиче. Годы у нас с ним были разные, но мы были одинаковы. Мы так дополняли друг друга, что просто это трудно не только сказать, но и объяснить.
Вы понимаете, Галя, там, где надо, Эма старел, а я молодел. Там, где необходимо было ему спокойствие, он брал
111
его у меня, хохла. Там, где надо было погорячиться, я брал у Эмы.
У нас не было секретов друг от друга. Он меня считал отцом, но я не считал его сыном, потому что он был больше похож на рассудительного и верного друга.
Когда он был в чем-либо убежден, он никогда не отказывался от своих убеждений в угоду самым большим начальникам. За что я его и любил.
Он был честен не только перед людьми, но и сам перед собой. А это в жизни делать очень трудно.
Он был храбрый. Он любил жизнь и умел жить так, как должен жить человек.
Пьяным я Эму никогда не видел. Даже тогда, когда все вокруг было пьяно, он и его второй отец сидели трезвые и радовались минутам заслуженной друзьями вольности.
Он так же, как и я, имел слабость: храбрым прощать многое, трусам — ничего.
Женщинам всегда и во всем уступать, кроме семьи, родины и партии. Это была наша с ним святая троица. Те годы, что я был с ним, он до забвения самого себя любил Вас, Галя, и дочерей.
У нас с ним был дружеский договор: если что случится с кем-либо из нас, то оставшийся все делает для семьи погибшего как друг и отец. Правда, в то время у меня не было никого, о сынах я знал, что они погибли, а жены-друга не имел. Я знал по его рассказам Вас, Женю, Лялю и в меру своих сил сберегал его для вас, мои дорогие...»
В. Назаров
ДОРОГОЙ МОЙ ДРУГ ФРОНТОВОЙ
В последние дни января 1942 года группу курсантов, окончивших во Владимире пехотное училище и получивших офицерские звания, направили в 354-й курсантский запасной стрелковый полк, дислоцировавшийся в том же городе. В один из первых дней я познакомился с Эммануилом Генриховичем Казакевичем, который был тогда младшим лейтенантом и адъютантом командира полка. А командовал полком подполковник Захарий Петрович Выдриган.
Пожимая руку Казакевича, я разглядел за толстыми стеклами роговых очков его глаза. Они мне показались коричневыми, выражали доброту и затаенную грусть. Он был худой. Выделялся заостренный нос и впалые щеки смуглого лица. На нем была изрядно потрепанная шинель. Да и шапка была большая. Он сдерживал приступы кашля, часто курил и поглаживал усы, которые еще не успели как следует отрасти.
Казакевич сказал, что он в полку, как и все мы, новичок, что в составе народного ополчения участвовал в боях, защищая столицу. Наш полк был учебным, готовил младших командиров для гвардейских частей.
Меня потянуло к нему. Сейчас, оглядываясь в далекое прошлое, задумываюсь: почему установились между Казакевичем и мною самые добрые, дружественные отношения? Главное в «притяжении» Казакевича были мягкость и внимание его к людям. Привлекало умение рассказать что-то смеш-
113
ное и остроумное. И сам он смеялся громко, иногда до слез. Вскоре мне стало известно, что Казакевич член Союза писателей, поэт.
Наш полк переводился в Шую. Казакевич предложил мне устроиться там вместе на квартире.
...И вот мы в Шуе. Очень близко от штаба полка нашли комнату. Ее хозяйка заботилась о нас.
Дни в Шуе начались с напряженной организации учебных занятий. Казакевич был глазом и правой рукой командира. В морозный февраль 1942 года он пробыл на рубеже обороны, который был построен для тактических занятий с курсантами, более суток, проверяя, все ли требования боевого устава пехоты исполнены при его сооружении.
Месяца через два после приезда в Шую Казакевич сказал мне, что готовится вступить в партию. Он считал, что в это тяжелое время, когда над Родиной нависла смертельная опасность, нельзя быть вне рядов партии.
Через месяц после этого разговора Казакевич пришел домой раньше обычного. Он был радостно взволнован.
— Я принят в кандидаты партии! — сказал он.
В этот вечер заботливая хозяйка угостила нас морковным чаем и картошкой в мундире. Пили чай без сахара, а картошку ели без хлеба. Но это не нарушало радостное настроение. Эту радость я переживал как свою, готовясь и сам к вступлению в партию.
В конце апреля Казакевич сообщил мне, что командир полка 3. П. Выдриган обратился с рапортом о направлении в действующую армию. Казакевич показал мне и свой рапорт на имя командира полка. Такой же рапорт написал и я. Но, против ожиданий, Выдриган получил отказ. И мы все остались пока в Шуе.
В июле Казакевича перевели во Владимир в редакцию бригадной газеты «Боевые резервы». Он часто приезжал в Шую. Останавливался у меня. Кровать Казакевича всегда ожидала его. Он даже ключ от комнаты оставил у себя.
В марте 1943 года 3. П. Выдригана отозвали в отдел кадров МВО — за назначением в действующую армию.
Мы просили его вызвать и нас на фронт. Он обещал.
Вскоре Казакевич приехал в Шую в плохом настроении. Оказалось, что командование бригады отказало ему в просьбе направить на фронт.
— Я должен быть только там, — сказал Казакевич. И заявил, что он самовольно уедет на фронт к Батьке, как мы называли Выдригана, который в это время был замести-
114

Младший лейтенант Э. Г. Казакевич.
Курсантская запасная стрелковая бригада. Шуя, 1942 г.
телем командира дивизии. Он предложил: «Давай, старик, уедем вместе». Признаться, я не ожидал такого предложения. И, подумав, ответил, что это невозможно, так как я командир минометного батальона и оставить батальон не могу. Казакевич согласился и обещал, как только попадет на фронт, с помощью Батьки вызвать и меня.
Вскоре из Владимира пришла новость: Казакевич самовольно уехал на фронт.
...В конце 1943-го и начале 1944 года я проходил переподготовку комбатов на курсах «Выстрел». Мне предстояло направление в суворовское училище, где мог задержаться до конца войны. И вдруг за несколько дней до окончания переподготовки меня вызвал начальник курсов и сообщил, что по приказу отдела кадров МВО я направляюсь в распоряжение командира 76-й стрелковой дивизии. Я понял, что тут приложил свою руку наш Батька, и не без участия Казакевича.
* * *
Во второй половине марта 1944 года по фронтовым дорогам я добирался в 76-ю стрелковую дивизию. В селе Ружин, километрах в пятнадцати восточнее Ковеля, я отыскал избу, в которой размещалась разведка дивизии.
— Где начальник разведки? — спросил я красноармейца.
— Спит. Готовится к ночному поиску, — услышал в ответ. Я открыл дверь в соседнюю комнату и тихо вошел. На деревянной кровати, покрытой соломой, комочком, на боку лежал Казакевич. Спал он в очках, сапогах и шапке. Под головой лежала свернутая шинель. Я осторожно присел на край кровати. Прошло семь месяцев, как мы расстались. Обветренное, слегка загорелое лицо, обросшее, выглядело более здоровым, чем в тылу. Но вот Казакевич проснулся и не успел открыть глаза и разглядеть меня, как я обнял его.
— Вася, это ты? — обрадовался он. — Здорово, старик! Вот и слава богу, теперь мы все вместе.
Казакевич поднялся, и я заметил на гимнастерке его орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».
Недалеко от нашей избы разорвался снаряд, вскоре второй. Казакевич заволновался. Снаряды начали рваться часто, затем разрывы перешли в гул артиллерийской канонады.
— Скорее в щель, — сказал Казакевич, надевая на ходу шинель. Я последовал за ним. Недалеко от нашей избы была вырыта щель, в которую мы прыгнули. На дне ее от таявшего снега накопилась вода.
116
Казакевич рассказал, как вчера при артналете погиб один из лучших разведчиков. Я понял, почему Казакевич так разволновался. Он опасался за меня: ведь я вызван на фронт Выдриганом по его просьбе.
В то время дивизия оказалась в очень трудном положении. В боях она понесла большие потери в людях и технике, но пополнения не получала. Например, батальона, который я должен был принять, не существовало. А полоса обороны дивизии оставалась прежней.
Чтобы предупредить прорыв противника и вовремя сманеврировать, надо было знать его намерения. Незадолго до моего прибытия разведчики захватили пленного. Это был, по словам комдива, дебют Казакевича в роли начальника разведки. Стало известно, что в районе Ковеля немцы передислоцировали соединения.
* * *
Казакевич не любил рассказывать о своем участии в боевых делах. А я находил неудобным приставать к нему с расспросами. Сейчас сожалею. Однако о суточном отсутствии сразу же после нашей с ним встречи рассказал. Возможно, потому, что хотел как можно скорее вооружить меня сведениями о фронтовых делах.
Шла подготовка к захвату «языка». Казакевич с командиром разведроты внимательно просматривали траншеи противника на участке 93-го полка. Им приглянулся клинообразный выступ. К нему наиболее короткий и удобный подход. Наблюдения показали, что днем гитлеровцев в нем немного, а ночью еще меньше. Но все это нужно было подтвердить с более близкого расстояния.
Ночью Казакевич с разведчиком поползли в нейтральную зону, к бугорку с пеньком и кустиками, который они облюбовали еще днем. Узкая полоска на нашем минном поле для них была заранее разминирована. Они ползли с автоматами и запасными обоймами, гранатами, малыми лопатками, биноклем и сухим суточным пайком. На флангах батальона наши постреливали, чтобы отвлечь внимание противника.
Бугорок с пеньком оказались пригодными для наблюдения. Они вырыли две ямы, в которых, скрючившись, могли укрыться.
— Все шло хорошо, — рассказывал Казакевич. — Но пенек чуть не подвел. Он оказался трухлявым, и половина
117
его отвалилась. Пришлось связывать. Хорошо, что захватили с собой на всякий случай веревку.
Наблюдение подтвердило, что «клинышек» — наиболее удобное место для взятия «языка»: обедать все уходят в блиндаж, в траншее остаются дежурный наблюдатель и пулеметчик, после обеда не все возвращаются в траншею. Ночью немцы спят, оставляя в траншее несколько человек.
Вернувшись из разведки, Казакевич тщательно подготовил поисковую группу.
За сутки до выхода в поиск разведчиков освободили от каких-либо заданий, они должны были выспаться впрок. Казакевич спал мало — хватало разных забот.
Ночь была тревожной не только для батальона, в котором все было приведено в повышенную боевую готовность, но и для многих в штабе дивизии. Особенно тревожно было в разведроте.
Ранним утром я услышал в телефонной трубке голос Казакевича. Он говорил, от волнения слегка заикаясь. Я понял, что все хорошо: «язык» взят.
В штабе 93-го полка Казакевич уже допросил пленного. Но в присутствии комдива повторил допрос. Пленный имел звание ефрейтора, недавно прибыл в район Ковеля в составе 342-й пехотной дивизии из-под Могилева. Он сообщил, что, как слышал от своего командира взвода, в направлении Ковеля переброшена дивизия СС «Викинг» и скоро начнется наступление.
Казакевич в разведсводке, направленной в штаб корпуса, срочно сообщил о готовящемся наступлении. Его данные вскоре подтвердились.
* * *
И вот наступил памятный день 27 апреля 1944 года. В 5.00 противник огнем артиллерии, массированным налетом авиации, а затем танками и пехотой начал наступление на передний край нашей и соседних дивизий.
Противник значительно превосходил нас в живой силе и особенно в технике. Это и решило исход боя не в нашу пользу.
Вскоре после артподготовки, длившейся не менее часа, противник танками при поддержке авиации прорвал линию обороны соседней дивизии. Его пехота под прикрытием танков зашла в тыл нашей дивизии.
118
Казакевич и я были вместе с комдивом на его наблюдательном пункте — на окраине села Ружин, в частично сохранившемся кирпичном здании школы. Казакевич вел наблюдение за противником и первый увидел приближающиеся к НП немецкие танки. Создалось очень угрожающее положение: мы могли быть окружены и расстреляны.
Казакевич настойчиво требовал от комдива оставить НП. Выдриган не хотел отходить. Требование Казакевича было благоразумным. Небольшая группа разведчиков, огнеметчиков и других бойцов, которые были на НП, не могла противостоять врагу. Казакевич беспокоился и за жизнь Выдригана и за судьбу дивизии. Одновременно немцы стали сильно теснить наши подразделения с фронта. «Ваша смерть не принесет нам победы, товарищ полковник»,— сказал Казакевич комдиву. И тогда комдив решил занять линию обороны за рекой Турья, а в селе Задыбы организовать КП. Он направился туда, взяв с собой и нас.
Через Турью сохранился железобетонный мост. Комдив и Казакевич были на мосту в то время, когда немецкий самолет сбросил на мост бомбу. Я немного отстал. Визг падающей бомбы заставил меня лечь на обочину шоссе. Бомба, к счастью, пролетела мимо моста и взорвалась в глубине реки. Мост сохранился и, задержав взрывную волну, идущую снизу, защитил лежащих на нем комдива и Казакевича. Я же этой волной был контужен. С тяжестью в голове, со звоном в ушах поднялся с обочины шоссе, почувствовал головокружение, но побежал догонять их. Они уже были за мостом, поднимались на крутой берег Турьи. На этом берегу были установлены для защиты моста несколько зенитных пушек. Комдив дал нам задание организовать оборону моста. «Он пригодится для наступления на Ковель», — сказал комдив. С нашими полками связь была временно прервана. По приказанию комдива мы задерживали отступающих и направляли в траншеи. Участок обороны у моста поделили: Казакевич справа от зениток, а я слева. Раздался пристрелочный выстрел зенитки. Пушки готовились к отражению танков.
— О, мы еще живем. У нас пушки! — сказал Казакевич и пошел на свой участок. Мы организовали неплохую оборону с достаточно плотным огнем пехотного оружия. Особенно этот огонь поражал немцев с «фронта» Казакевича, с участка обороны, где он командовал. Этот огонь был фланговый, и танки не могли укрыть немцев. Нам удалось удержаться и организовать оборону за рекой Турьей, сохранить мост.
119
На исходе дня ко мне подошел капитан. Он оказался офицером штаба дивизии, которая была на подходе, чтобы сменить нас. Не скрою, я был этому рад. Капитан угостил меня папиросами, а я полез в карман шинели за зажигалкой. Зажигалка и карман оказались в крови: я был легко ранен осколком снаряда в бедро, но в пылу боя не заметил. Мы покурили и пошли на «фронт» к Казакевичу. Я крикнул ему, чтобы он шел в траншею из своей ячейки, и, указывая на капитана, еще громче прокричал: «Это наша смена!» Казакевич ответил, что пойти не может, так как его подстрелили. Я подбежал к нему.
Казакевич одной рукой обнял меня за шею, а другой опирался на сучковатую палку и заковылял. Он был ранен пулей в бедро, кажется, правой ноги.
Казакевича мы отправили в медсанбат. Сами же, измученные всем пережитым, пешком добрались до штаба дивизии.
* * *
На второй день после тяжелого боя 27 апреля из-за контузии и я оказался в медсанбате. Меня поместили в палатку, где был Казакевич. И здесь мы оказались вместе.
В медсанбате нас навестил Батька. Он возвращался от нового командира корпуса. Прежний командир корпуса за непринятие мер по укреплению боеспособности дивизий и за прорыв противником обороны был отстранен. Выдриган сообщил нам, что дивизия на отдыхе, скоро получит пополнение и будет готовиться к наступлению на Ковель.
...Казакевич настойчиво требовал от лечащего врача, чтобы его выписали. И врач уступил. Опираясь на палку, прихрамывая, Казакевич сел в машину и уехал в штаб дивизии. У машины было много провожающих. Молодые медсестры пришли почти все. Им было грустно расставаться с офицером, который не раз стихами, рассказами, анекдотами веселил их на полянке у клубной палатки. Нередко вечерами Казакевич, как голосистый запевала, начинал песни: народные, советские, веселые и грустные.
Через несколько дней и я вернулся из медсанбата.
Вскоре парторганизация штаба дивизии единодушно приняла Казакевича в члены партии. Незадолго до этого и меня приняли в члены партии. Рекомендации нам дал Захарий Петрович. И мы гордились, что наш Батька — активный участник гражданской войны, сам вступивший в партию в те
120
пламенные исторические дни,— теперь дал нам свое доброе напутствие в ленинскую партию.
...Наша дивизия, немного отдохнувшая, пополненная людьми и техникой, вновь заняла оборону на переднем крае.
...На рассвете 5 июля 1944 года дивизия перешла в наступление и 6 июля совместно с другими дивизиями освободила Ковель.
Казакевич в стихотворении «5 июля 1944 года» точно передал наше ощущение в бою за Ковель.
Был день как день, обычный день июля,
И если бы не ад, закрытый мглой,
Казалась бы летящая к нам пуля
Тяжелой медоносною пчелой.
Но то был ад, со всей его котельной,
Обычный ад войны. И город весь
Казался западнёй смертельной,
Куда мне долг приказывает: лезь!
Весь выжжен, взрыт, весь взорван и распорот,
Зияющий и страшный, как провал,
Открылся предо мною этот город.
Который путь к Варшаве прикрывал.
Да, города не было. Были только развалины на мертвых улицах. Всюду мины, мины, скрытые, приготовленные для нас. Наши полки готовились преследовать противника.
Комдив, а вместе с ним и я направились на западную окраину Ковеля. И здесь в траншее был ранен в голову полковник Выдриган.
Весть об этом быстро дошла до Казакевича. Он прибежал взволнованный. Комдив с забинтованной головой все еще лежал на дне траншеи. Он что-то хотел сказать, но Казакевич строго остановил его. Уложив Выдригана на плащ-палатку, мы понесли его к медпункту. Вскоре комдива отправили в госпиталь. А наступление продолжалось.
* * *
Через два или три дня после освобождения Ковеля я встретился с Казакевичем и его разведчиками. Они выглядели растерянными, приунывшими.
Мне очень хотелось успокоить, подбодрить их. Я посоветовал не думать о противнике, а как следует отоспаться.
Штаб дивизии занял блиндажи, в которых недавно размещался противник. Казакевич и я расположились в одном из блиндажей. Растянувшись на нарах, покрытых соломой,
121
Казакевич сразу уснул. Утром он тотчас же покинул блиндаж. Вслед за нами блиндаж заняла редакция дивизионной газеты. В соломе, на которой спал Казакевич, сотрудник редакции обнаружил маленькую противопехотную мину. Казакевич, к счастью, крепко спал, не шелохнувшись, и это его спасло.
...22 июля 1944 года советскими войсками, в составе которых участвовала и наша дивизия, был освобожден польский город Владава. К вечеру этого дня я вернулся с переднего края в штаб дивизии и увидел Казакевича, лежащего на земле, рядом с нашим штабным автобусом. Я с беспокойством подошел к нему.
— Да, старик, расстаемся, — сказал Казакевич, — осколок гранаты врезался мне в бедро. Меня отправляют в госпиталь.
— Не забывай, Эма. Дай знать о себе, — просил я Казакевича, прощаясь с ним.
...После войны судьба вновь свела меня с Казакевичем. Мы оба работали в органах советской военной администрации в городе Галле. Он в комендатуре, а я в Управлении администрации.
...Ранним мартовским утром второй послевоенной весны я стоял у машины Казакевича, до предела нагруженной канистрами с бензином, чтобы без заправки в пути доехать до Москвы. Долгожданный приказ о демобилизации Казакевича был подписан. И он уезжал на Родину.
...Шли годы. В январе 1962 года я пригласил Эммануила Генриховича приехать ко мне в санаторно-лесную школу, где я работал директором. Я знал, что он нуждается в отдыхе. Казакевич обещал приехать в феврале, но по возвращении из Италии здоровье у него резко ухудшилось. Нам стало известно, что он смертельно болен.
Двадцать лет длилась наша дружба. Я счастлив, что встретил человека, который был верным другом и в дни ненастья и бурь, и в дни затишья и солнца.
До сих пор трудно мне заглушить сердечную боль от преждевременного ухода из жизни такого друга, такого человека. Ведь он прожил так мало — всего 49 лет.
...Каждый год 22 сентября в 13 часов 30 минут (время его смерти) я прихожу на Новодевичье кладбище к скромному памятнику на могиле Казакевича, ставлю букет цветов. Постою у могилы, вспомню Эму и мысленно поговорю с другом.
1977
В. И. Шиков
ЗАПИСКИ ОДНОПОЛЧАНИНА
В один из дней сентября 1943 года, вскоре после освобождения города Ельни, 216-й полк нашей 76-й стрелковой дивизии находился на опушке соснового бора, что между Ельней и деревней Большое Тишево. Туда лейтенант Казакевич привел пополнение. В то время он был офицером оперативного отделения штаба дивизии. Круг его служебных обязанностей был очень широк. Вместе с другими офицерами он готовил данные, по которым командир принимал решение на бой; оформлял решения комдива приказами и распоряжениями; доводил их до полков и подразделений, проверял и помогал точно их выполнять.
Штаб дивизии во время боев находился в 4—6 км от передовой линии фронта. Противник всегда стремился узнать его расположение и уничтожить артиллерийским и минометным огнем или ударами бомбардировочной авиации. Тогда мы несли потери. Были убитые и раненые. В минуты смертельной опасности Эммануил Генрихович вел себя поразительно хладнокровно. Он даже не прерывал того дела, за которым его заставал огневой налет врага. Если писал — продолжал писать, если разговаривал по телефону, то интонация его голоса не менялась.
Но не это отличало его от других. Так поступали многие бойцы и командиры. В опасные моменты у Казакевича очень
123
резко проявлялась другая черта — наблюдательность. За 19 лет нашего знакомства мне вообще никогда не приходилось видеть Казакевича рассеянным или невнимательным. А когда кругом бушевала смерть, он становился как-то особенно наблюдателен. В это время Эммануил Генрихович успевал видеть гораздо больше, чем мы. Характерно, что в минуты смертельной опасности он меньше всего интересовался тем, что целиком поглощало наше внимание. Мы следили, как правило, только за противником, за каждым новым заходом бомбардировщиков на цель, а Казакевич в это время наблюдал за людьми, примечал каждое движение, запоминал фразы, которые срывались с наших уст в эти страшные мгновения, следил за выражением лиц,— словом, ничто не ускользало от его внимательных глаз.
Так же Казакевич вел себя на передовой во время боя. Ему все хотелось видеть своими глазами, все хотелось заметить и запомнить. В таких случаях он забывал об опасности. Иногда, в самый разгар боя, когда кругом гуляла смерть, Казакевич мог встать в полный рост и смотреть запоминающе на происходящее.
Близко познакомился я с Эммануилом Генриховичем в ночь с 22 на 23 сентября 1943 года, после боя за платформу Панская, что между Смоленском и Рославлем. В то время я работал агитатором политотдела дивизии и по долгу службы должен был широко пропагандировать героические подвиги воинов своего соединения и на них воспитывать высокие морально-боевые качества бойцов и командиров. Днем на НП командир 93-го полка майор Сальманов заметил мне, что и в штабе дивизии у нас есть люди, о которых стоит рассказать, — вот лейтенант Казакевич два дня назад, в бою перед деревней Жигалово, лично убил трех фашистов, захватил немецкий обоз и сдал в полк 12 подвод, нагруженных консервами, галетами и нательным бельем. А поздним вечером, в землянке, я встретил самого героя этого боя — Казакевича и пристал к нему с расспросами.
Эммануил Генрихович рассказывать явно не хотел. Я настаивал.
— Да отвяжись ты! Будто не знаешь, как бьют немцев, — отмахнулся он. И после небольшой паузы Казакевич спросил: — Говорят, что ты долгое время был разведчиком. Вот и расскажи о первом своем удачном поиске.
Я знал, что Эммануил Генрихович тоже начинал войну рядовым разведчиком, и поэтому поставил ему условие: «Расскажу, если и ты расскажешь о своем первом «языке».
124
Казакевич согласился... Когда я закончил свое повествование, он сказал: «У меня все было гораздо проще».
Однажды, когда он был еще в народном ополчении, их выстроил командир и сказал: «Кто хочет идти в разведку? Два шага вперед!» Казакевич сделал эти два шага...
Линию фронта перешли очень удачно, даже ни одного немца не увидели. Среди бела дня взяли «языка». Изрядно выпивший фашистский солдат, горланя песню, шагал по пустынной дороге. Его скрутили, заткнули рот пилоткой и потащили, прежде чем гитлеровец успел опомниться. «Мне тогда показалось, что разведка — дело простое», — закончил Эммануил Генрихович.
Командовал нашей дивизией З. П. Выдриган, которого все любили, а у Казакевича с ним были особо теплые отношения. Потом, после войны, наш комдив станет прототипом образа полковника Сербиченко в «Звезде» и генерал-майора Середы в романе «Весна на Одере».
А тогда на Смоленщине, в сорок третьем, полковник Выдриган, ехавший на «виллисе», однажды увидел нас с Казакевичем в минометной роте 207-го полка. Комдив, как затем будет сказано в повести, «медленно вылез из машины и остановился посреди грязной, разбитой дороги, уперев руки в бока и насмешливо улыбаясь», спросил Эммануила Генриховича:
— Ну что, корнет, говорят, ты дорогу в штаб забыл. Правда?
Выдриган назвал Казакевича корнетом потому, что знал его пристрастие к лошадям. Корнет — это первый офицерский чин в кавалерии дореволюционной русской армии. Эммануилу Генриховичу по служебному положению не полагалось иметь лошадь, но она у него при наступлении всегда была. Как только дивизия переходила к обороне или выводилась во второй эшелон, тут же следовал приказ командования: «Отобрать лошадей у всех, кому они не положены по штатному расписанию». Лошадь у Казакевича отбирали. Так было до весны 1944 года, пока он не стал начальником разведки дивизии, на которого этот приказ не распространялся. Тогда у Эммануила появился вороной Орлик, описанный им в «Весне на Одере».
После разговора с полковником Выдриганом Казакевичу пришлось быстро «вспомнить» дорогу в штаб. Возвращались мы вместе. Идти надо было далеко, в деревню Уваро-
125
во. Дождь перестал. Близились сумерки. Ветер усиливался. Шли молча. Эммануил, закутавшись в плащ-палатку, чуть сутулясь, широко шагал по обочине проселочной дороги и, казалось, смотрел только под ноги, стараясь выбрать более или менее сухой путь. И вдруг, повернувшись ко мне, радостно воскликнул:
— Виктор, нам повезло! Смотри — пегасы!
Справа в кустарниках оседланные лошади спокойно щипали траву. Недавно здесь вела бой наша кавалерийская часть. Это были кони убитых всадников. Казакевич взял себе буланого, я — серого.
— Вот теперь мы и впрямь корнеты, — сказал он и, вскочив в седло, продекламировал Некрасова, изменив последнюю строчку:
Ну, трогай, саврасушка! Трогай!
Натягивай крепче гужи!
Служил ты хозяину много...
Да, видно, хозяин дал маху —
Война доконала его!..
Наступила ночь. По дороге, навстречу нам, сплошным потоком с погашенными фарами шли грузовики с боеприпасами, горючим, продовольствием. На переправе образовалась пробка. Стояли долго. В темноте ничего нельзя было понять. Кто-то выкрикивал какие-то приказания, кто-то матюгался.
— Тут до утра не разберутся, давай попробуем вброд переехать,— предложил Казакевич.
— А как в такой темноте брод найдешь?
— Речка маленькая, дорога проселочная, в таких случаях крестьяне строят мост на мелком месте. Вот и попробуем перебраться на тот берег рядом с мостом.
Эммануил оказался прав: в этом месте было не глубоко — лошади по брюхо.
К полуночи приехали в Уварово. Оперативный отдел штаба нашли в просторной избе. Зашли. Ярко горит керосиновая лампа. Тепло. На столе телефоны, карты, бумаги. Под окном на табуретке радиоприемник.
— Уютно устроились,— восхищенно произнес Казакевич и попросил красноармейца поставить в сарай лошадей и дать им сена.
— Каких лошадей? — чуть ли не хором спросили офицеры.
— Наших.
126
— Слушай, Эмка (так звали Казакевича близкие фронтовые друзья), где ты коней берешь?
— На дороге попадаются.
Офицеры захохотали.
— Чего смеетесь? Верно говорю, Шиков подтвердит. Идем мы с ним с передовой, дорога прескверная: грязища по колено, холодно, ветер с ног валит. Смотрим — пасутся оседланные кони. Думаем: зачем мучиться бедным пехотинцам? Сели и поехали.
Офицеры опять засмеялись: рассказу его не поверили.
К октябрю наша дивизия с боями прошла с востока на запад всю Смоленскую область. Впереди была, как выразился Казакевич, Белая Русь. Здесь, километрах в четырех западнее деревни Сысоево, мы натолкнулись на сильно укрепленный рубеж немцев. Командующий армией приказал нам начать наступление 5 октября и прорвать оборону противника.
Перед рассветом на фронте затихло. Молчало все — пушки, минометы, пулеметы, автоматы. На востоке, за нашей спиной, занималась заря. Впереди, за лощиной, из предутренней дымки вырисовывалась гряда. На этой гряде были немцы. Предстояло выбить их оттуда. Шли последние приготовления к атаке. Эммануилу Генриховичу комдив приказал остаться на НП.
Атака началась перед восходом солнца — в 6 часов 30 минут. «Вперед!» — понеслось по цепям батальонов. Солдаты дружно поднялись и побежали к высоте. И тут застучали пулеметы противника. Поток пуль резанул по цепи. Некоторые упали, чтоб никогда больше не встать. Кто-то крикнул «ура». «Ура!!!» — подхватили остальные, ускоряя бег. Но вот за высотой ухнули орудия. И началось! От взрывов снарядов и мин задрожала земля. Это противник обрушил на головы наступающих море огня. Не выдержав, наши цепи залегли. Спасаясь от смерти, каждый искал укрытие. Одни вползали в воронки от снарядов, другие, лихорадочно работая лопатками, окапывались там, где были огнем прижаты к земле.
На НП зазуммерил телефон — комдива вызывал командующий. З. П. Выдриган доложил обстановку, потом долго слушал, изредка стараясь ответить, но командарм не хотел его слушать, прерывал на полуслове, видно, крепко ругался, угрожал...
127
Закончив разговор, командир дивизии гневно спросил меня:
— Почему лежат красноармейцы? Где ваша агитация? Идите и немедленно поднимите людей в атаку!
— Есть поднять в атаку, — ответил я и выпрыгнул из окопа.
— Вернитесь! — приказал комдив. — Пойдете с группой.
Выдриган выделил для этой цели еще четырех офицеров. Среди них был Казакевич.
Чтоб добраться до прижатых к земле рот, предстояло преодолеть метров восемьсот, не больше. Но каких метров! Казалось, тысячи смертей, опьяненных людской кровью, дико скакали по полю и остервенело рвали землю, покрытую осенней сединой.
«А, была не была!» — махнул рукой Эммануил, и мы, выскочив из траншеи, рванулись вперед. Казакевич был опытный солдат. Бежал по всем правилам — молниеносно вскакивал и, бросаясь то вправо, то влево, что есть духу мчался вперед метров сорок, камнем падал на землю и по-пластунски отползал на несколько метров в сторону. Если представлялась возможность, то старался прыгнуть в воронку от снаряда, а потом высматривал другую и делал новый рывок. С каждой сотней метров уменьшалась наша пятерка: одного убило прямым попаданием мины, второго прошила пулеметная очередь, третий, легко раненный, остался лежать в воронке.
Мы доползли наконец до канавы, ставшей спасительным укрытием для наступающих. Нашли командира полка подполковника Левитина, передали ему приказ комдива: «Поднять людей в атаку».
— А я приказ выполняю — атакуем, — сказал Левитин.
— Лежа атакуете? — спросил Казакевич.
— Не лежа, а ползком, — ответил командир.
— А что докладываете «десятому» («десятый» — позывной комдива)? — допытывался Эммануил Генрихович.
— Так и докладываю: ползем вперед.
— Но бойцы-то лежат на месте, а не ползут. Что скажете комдиву после боя?
— Скажу, что ползли, ползли да и приползли. Спросит: «Куда приползли?» Отвечу: «В свою траншею!» — И уже гневно продолжал: — Вы что? Не видите? Поднять в атаку — значит расстрелять полк!
В воздухе стоял грохот. Поле боя стонало. Кричали ра-
128
неные: «Помогите! Братцы, помогите! Спасите!..» Казакевич пододвинулся ко мне и тихо сказал:
— Левитин прав. Какая уж тут атака без артподдержки. Главное сейчас — помочь раненым, а вечером, когда стемнеет, надо убитых вытащить, похоронить по-человечески...
Верховный Совет Туркменской ССР принял шефство над нашей дивизией, в которой воевало много уроженцев солнечного Туркменистана. Из Ашхабада приехала делегация, привезла несколько вагонов подарков: урюк, кишмиш, сушеные яблоки, виноградное вино. Для создания документального фильма о дивизии приехали два писателя, два художника, два кинооператора. Было приказано обеспечить необходимые условия для съемок. В их распоряжение выделяются подразделения, которые повторят подготовку к наступлению, атаку и преследование противника. Будут снимать сожженные деревни, зверства фашистов. «Какой же это, к черту, документальный фильм! Бутафория! Снимать за двадцать верст от передовой! — возмутились офицеры, услышав об этом. — Пусть снимают настоящий бой!..» Заговорили о том, что о нас, фронтовиках, сейчас много пишут, а полную правду войны не показывают. Не могут. Казакевич в разговор не вмешивался. Он сидел, прислонившись к дереву, и смотрел вдаль. Казалось, не слушает спор. Но как только майор Карлов безапелляционно заявил: «И никогда не напишут!» — Эммануил Генрихович, не поворачивая головы, спокойно сказал:
— И книги напишут, и сложат легенды про нашу бессмертную рать.
Ему возразили:
— Напишут много. Трескучих фраз нагромоздят, а всю правду войны не покажут. Не покажут, потому что писатели и художники с нами в атаки не ходят, не знают, что чувствует боец, сидя в окопе с противотанковой гранатой, когда на него прет немецкий «тигр» или «пантера», не знают, что значит идти в штыковую.
— Ошибаетесь, друзья! Правду такой войны не скроешь.— Казакевич стал доказывать, что в литературе войну покажут правдиво, объективно, многогранно. — Нельзя ориентироваться только на маститых литераторов, широкоизвестных мастеров слова. Вперед надо смотреть. Воюют миллионы. Среди них — будущие писатели и поэты, художники и артисты. Произведения о войне создадут те, кто еще не успел
129
написать ни одной строчки, те, кто еще сам не знает, что он — талант, будущий бытописатель войны. Учтите, что многим воинам сейчас только по 18—20 лет. Вся жизнь у них впереди.
В январе сорок третьего года в нашей армии ввели погоны, как это было в старой русской армии. Введение погон послужило толчком для разговоров о традициях дореволюционного офицерского корпуса. Говорили, что в царской армии был такой порядок: пока старший начальник не начнет есть, младший ложку в руки не возьмет. Этот неписаный закон стал входить и в жизнь нашего командного состава. По этому обычаю заместитель командира дивизии по тылу подполковник Певный хотел провести офицерский ужин, посвященный 26-й годовщине Октября. Каждому отделу и отделению за столом было определено место. Мы пришли, сели за стол и... тоскливо смотрели на остывающий ужин — ждали командира дивизии. Он опаздывал.
Казакевич ждать не стал. Он, как и все мы, пришел на ужин в новом обмундировании, которое выдали по зимнему плану накануне. На нем была защитного цвета коверкотовая гимнастерка, темно-синие шерстяные брюки и начищенные кирзовые сапоги. Эммануил вошел, оглядел большую, чисто вымытую избу, в которой буквой «П» стояли столы, покрытые вместо скатертей чистыми простынями, и произнес шутливую речь в честь хозяйственников. Речь выглядела примерно так:
— Друзья мои, да это же царский ужин! Если б роскошь эту видел Людовик Четырнадцатый, то, уверяю вас, король-солнце лопнул бы от зависти... Слава доблестному начальнику АХЧ и его войску!— воскликнул Казакевич, показывая рукой на столы, где против каждого стояло по миске картошки с соленым огурцом и по куску черного хлеба, а на середине стола котелки с водкой из расчета по пол-литра на двоих.
Эммануил сел за стол, отстегнул от ремня флягу с водкой, налил друзьям, себе и, подняв кружку, в наступившей тишине произнес тост:
— За здоровье! За победу!
Начальство, сидевшее за центральным столом,— заместители командира дивизии — осуждающе смотрело на Казакевича и «ело его глазами», а он, как будто ничего не замечая, налил еще по сто граммов и произнес новый тост. Остальные офицеры присоединились к нему, и веселье началось...
Когда пришел полковник Выдриган, мы уже были навеселе, пели, смеялись, шутили. С постными лицами сидели только замы: они до прихода командира «ложку в руки не брали».
Ужин кончился, мы одевались, чтобы пойти посмотреть кинофильм «Антоша Рыбкин», который демонстрировался в сарае. Ко мне подошел начальник политотдела полковник Уткин. Он взял меня за ремень и громко, чтоб слышал Казакевич, сказал:
— Товарищ Шиков, когда будете читать лекцию об офицерской этике, надеюсь, вы не забудете рассказать о поведении одного из младших офицеров на сегодняшнем вечере.
Пишу с полной ответственностью, что если бы собрать всех однополчан, с которыми прошел в составе 76-й стрелковой дивизии с боями от Ельни до Эльбы, и задать вопрос: «Где вам во время Великой Отечественной войны пришлось вести самые тяжелые, самые изнурительные и самые кровопролитные бои?»— не задумываясь все в один голос сказали бы: «В Боброве!»
За эту небольшую белорусскую деревню, что в Оршанском районе, нашей дивизии пришлось вести бои во много раз более тяжелые, чем за Варшаву и Берлин. Так считал и Казакевич.
В повести «Сердце друга» Эммануил Генрихович дал хотя и не широкое, но очень верное, правдивое описание начала первого боя за Боброво и условий, в которых мы там дрались в последующие дни. Подчеркиваю: писатель рассказал не о ходе боев, а об условиях, в которых мы оказались на этом участке фронта.
Бой за эту деревню начался 14 ноября 1943 года. Вот как об этом сказано у писателя. Сказано точно, так, что и прибавить нечего.
«Рассвет наступал туго, как будто нехотя... Туман все густел. Он был похож на тот утренний туман, который иногда покрывает поверхность моря...
Стрелка часов приближалась к восьми. Напряжение стало уже невыносимым, когда раздался первый залп орудий.
Землянка задрожала. Акимов замер, пристально глядя в одну точку, на дрожащее бревно, из-под которого то и дело валились кусочки глины. Артиллерия рокотала. Ее рокот то
131
сливался в один тревожный и сильный гул, то распадался на отдельные мелкие гулы.
Акимов подошел к амбразуре. Впереди расстилалась одна сплошная полоса тумана, медленно черневшего от примеси порохового дыма. А ближе, образуя косую сетку, все так же падал мелкий дождь.
В ту секунду, когда артподготовка закончилась и как бы на закуску был подан залп «катюш», прорезавший вихрем темное небо, ухо Акимова уловило хотя и смягченное туманом, душившим звуки, как вата, но отчетливое «ура».
...Акимов связался по телефону с первой ротой. Оттуда доложили:
— Мешает продвигаться пулеметный огонь. Деремся в тумане.
...Во второй роте, у Вельского, дело обстояло хуже. Перейдя ручей, она встретила сразу же сильный огонь и залегла в прибрежной осоке.
— Делай бросок и врывайся в траншею,— сказал Акимов.— «Сирень» прошла далеко вперед, а ты отстаешь.
Какой-то шутник или романтик дал, в виде, что ли, компенсации за дурную погоду, всем подразделениям в таблице позывных названия различных цветов. Странно было в этот дождь, слякоть и туман обмениваться такими словами, как «Сирень», «Фиалка», «Жасмин», «Черемуха»...»
Хочу пояснить, что «какой-то шутник или романтик»— это и есть Казакевич. Позывные придумывал он, о чем знали все офицеры штаба. А позднее, когда мы стояли в обороне на реке Проня под Чаусами, Эммануил Генрихович ввел музыкальную таблицу позывных: «Флейта», «Гобой», «Кларнет», «Виолончель», «Арфа», «Валторна» — словом, целый симфонический оркестр. Политотдел назывался «Оперой». Помню, как от души смеялся Казакевич, слушая разговор по телефону солдат-связистов: «Квинта»? Я «Синкопа». Здорово! Вы ужинали? Нет? Плохо! А вот «Октаву» уже от пуза накормили...»
В этот день дивизия наша успеха не имела. Мы встретились с сильно укрепленной обороной противника на подступах к Орше. Гитлеровское командование хорошо понимало, что Орша открывает нашим войскам путь в Польшу. Знало это, конечно, и наше командование, поэтому от командующего армией генерал-полковника Гордова поступали каждый день приказы одного и того же содержания: «Наступать! Во что бы то ни стало прорвать оборону противника! Взять Боброво!»
132
И мы наступали три недели подряд. Наступали, хотя никто уже не верил в успех. Были, как потом напишет Казакевич, исполнителями той «державной воли, которая заставляла... всю дивизию... сражаться и жертвовать собой».
Немцы занимали очень выгодные для обороны позиции. Они укрепились за ручьем, на высоком западном берегу. Там были и леса и неразрушенные деревни. А у нас были, говоря словами повести, «...условия невозможные. Кругом — пустыня. Противник все пожег при отступлении. Леса нет, дров нет... Дождь хлещет месяц подряд. Блиндажи обваливаются, а обшивать их нечем. Кругом — глина, вода. Оружие и то чистить негде. Бывало, пулеметы отказывали...»
Мы занимали изрезанную оврагами равнину. Всю эту равнину от края до края немцы просматривали и простреливали. Единственным нашим спасением были залитые водой овраги. В них и находились «люди, окопавшиеся в глинистой хляби огромных, тянувшихся на десятки километров оврагов, простуженные, охрипшие, покрытые фурункулами».
Потом ударили морозы. Немцы не жалели снарядов и мин. Дивизия несла потери, день ото дня людей в строю оставалось все меньше и меньше, а задача нам ставилась прежняя: «Прорвать оборону противника! Овладеть деревней Боброво!»
И мы наступали, несмотря на потери, до тех пор, пока от дивизии не остались рожки да ножки. Но приказ был прежний — наступать на Боброво. Тогда командир дивизии вызвал к себе оставшихся в живых командиров и замполитов полков, офицеров штаба. Он решил создать штурмовой отряд. Командиром отряда назначил одного из командиров полков, подполковника Голубева. Выдриган приказал передать ему бойцов из других, фактически уже не существующих полков и, обращаясь к подполковнику Голубеву, сказал:
— Архип Авдеевич, тут — все офицеры. Решай сам: кого из них возьмешь к себе комиссаром, кого начальником штаба.
— Комиссаром отряда прошу старшего лейтенанта Шикова, а начальником штаба — старшего лейтенанта Казакевича, — ответил Голубев.
Всю ночь мы готовили отряд к предстоящему бою. Бойцов одели в белые маскхалаты, создали три боевых группы, назначили командиров групп, каждому солдату разъяснили задачу.
Примерно за час до рассвета Голубев приказал Казакевичу занять место начальника штаба. Прежде чем уйти, Эммануил подошел ко мне и тихо спросил:
133
— Ты веришь, что мы своим отрядом ворвемся в Боброво?
— Нет. Не верю. А ты?
— И я не верю. Коль дивизией не взяли, то где уж нашему отряду. Нас и похоронить-то будет некому. — Казакевич даже рукой махнул. Помолчал. Опять спросил: — У тебя есть чистое белье?
— Нет. А зачем оно?
— Таков обычай был в русской армии: перед смертью надевали чистое белье.
— А у тебя есть?
— И у меня нет,— ответил Казакевич.
Мы обнялись, и он ушел в штабную землянку...
Подошел связной и передал, что меня просит к себе подполковник Голубев. А вскоре в землянку влетел ординарец и крикнул:
— Товарищ подполковник, наши в Боброве!
— Что ты мелешь!
— Ей-богу, в Боброве. Немцев там нет — ушли!
Это было так неожиданно, так ошеломляюще, что мы, забыв обо всем, выскочили из землянки и побежали по траншее. Наших солдат в ней уже не было: их силуэты маячили в Боброве.
Произошло вот что. Командир дивизии передал в отряд остатки дивизионной разведроты. Разведчики не стали ждать рассвета и нашего приказа на наступление, а, пока темно, решили поближе подобраться к противнику. Преодолели минное поле врага — тихо. Прошли проволочное заграждение — противник молчит. Вскочили в первую траншею — там ни души! Немцев не было ни во второй, ни в третьей траншеях... Я бросился к ближайшему телефонисту и стал звонить Казакевичу. Говорю ему:
— Звони «десятому» и докладывай, что мы выполнили боевую задачу: деревню Боброве заняли, отряд продвигается вперед.
— Не болтай! — прервал меня Эммануил. — Я нахожусь в двухстах метрах от тебя и ни одного выстрела не слышал. Как же могли взять? Вы что, ножами всех перерезали? Так, что ли?
...Немцы отошли на три километра. Нам поступил приказ: передать участок фронта свежим, прибывшим из тыла частям, а самим отправиться в новые места. И тут Казакевич громко, как на митинге, произнес:
Прощай, раз...ный овраг,
Где нас держал так долго враг!
134
А после небольшой паузы подал команду: «По-о ма-ши-и-нам!»
И сразу же: «Отставить! Пойдем пешком!»
Мы искренне смеялись меткому слову про грязный, осточертевший нам овраг и команде: «По машинам». Никаких машин у нас на передовой не было, а в этих боях тем более...
Дивизию нашу перебрасывали под город Чаусы. Шли пешком через Монастырщину, Мстиславль, Кричев и остановились на реке Проня, где заняли оборону. По сравнению с тем, что мы пережили под Бобровом, это была благодать, а не война.
По фронтовым дорогам мы вместе с Э. Г. Казакевичем в составе 76-й стрелковой дивизии, а потом с 47-й армией, прошли с боями от Ельни, через Варшаву и Берлин, до Эльбы. В конце войны наша 76-я уже называлась Ельнинско-Варшавской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизией...
Фронтовая дружба не прерывалась и после войны. Э. Г. Казакевич остался таким же, каким был, и после того, как сделался известным писателем. Мы нередко встречались. Помню, в 1953 году, спустя десять лет после первого нашего знакомства, Эммануил Генрихович приехал ко мне в город Калинин. К тому времени он был уже дважды лауреат. Естественно, мне, начальнику гарнизонного Дома офицеров, захотелось организовать встречу с ним военнослужащих.
Встреча состоялась. Рассказывая о Казакевиче, я вспомнил о том, что мы, однополчане, знали его на фронте как чуткого и отзывчивого товарища, храброго офицера, опытного разведчика. И о том, что ему, довоенному поэту, в годы военного лихолетья писать стихи было некогда — он с оружием в руках дрался с врагами Родины, а из его фронтовых произведений я помню только песню нашей дивизии, которую мы любили и пели. Эммануил Генрихович сразу оживился, отложил записки читателей и с большим вниманием прослушал текст своей песни, которую я прочитал.
На другой день мы шли по главной улице города. Эммануил Генрихович благодарно сказал:
— Хорошо, что ты сохранил песню. А я ее совсем забыл.
— Вероятно, она не только у меня, а и у многих ельнинцев в дневниках, — ответил я.
— Вряд ли. Сам знаешь, по приказу вести дневники на фронте запрещалось, а напечатана она нигде не была...
135
— А я все же вел, — признался я.
Вот эта песня, которая распространялась на фронте в рукописи, шла вместе с нами. Ее пели с большой искренностью, на знакомый мотив. Это была наша песня, о нас, о наших боях и походах.
ПЕСНЯ
76-й стрелковой Ельнинской дивизии
Оружьем на солнце сверкая,
На запад штыки устремив,
Дивизия наша лихая,
Как буря, пошла на прорыв.
Припев:
Марш вперед,
За наш народ.
Песню запевая,
За отчизну в бой идет
Семьдесят шестая.
Покорны могучему шагу,
Пред нами просторы встают.
Про нашу большую отвагу
Уж грянул московский салют.
Припев.
Запомнят смоленские дали,
Запомнят и Днепр и Десна,
Как ельнинцы с боем шагали,
Не зная покоя и сна.
Припев.
Вспомянем любимых героев.
Погибших в кровавом бою,
Спаявших священною кровью
Солдатскую нашу семью.
Припев.
Не ведает сердце измены,
Не ведает страха душа,
И с русскими братья-туркмены
Шагают, фашистов круша.
Припев.
Нас ждут в безутешной печали
Народы под вражьим ярмом.
Священную клятву мы дали,
И мы к ним с победой придем.
Припев.
Проложим штыками своими
Наш путь неуклонный вперед.
Пусть ельнинцев грозное имя,
Как гром, на Берлин упадет.
1977
Ф. Ф. Волоцкий
ВЕРА В ЛЮДЕЙ
Судьба свела нас на фронте в 1943 году в штабе 76-й стрелковой дивизии, и прослужили мы вместе до середины 1944 года. Эммануил Генрихович запомнился мне как начальник разведки. Коллектив у нас в штабе был боевой, сплоченный. С первых дней знакомства Эммануил Генрихович понравился нам своими всесторонними глубокими знаниями, выдающейся эрудицией. Он мог на любую тему говорить интересно, весело, со знанием дела. Позднее все мы убедились в его умении руководить разведкой, убедились в его безграничной храбрости, которую он показывал, когда сам лично водил группы разведчиков в тыл врага.
По долгу службы (я был начальником 6-го отделения) мне часто вместе с Эммануилом Генриховичем приходилось готовить документы скрытого управления войсками для разведгрупп. В совместной работе я узнал его еще лучше. Он был выдающийся человек. Главное в нем — это невероятная, особая вера в людей и совершенно открытая душа. При первом же знакомстве он говорил о таких вопросах, что я даже сначала заподозрил неладное, подумал, что это решили меня прощупать, и только позднее я его понял и доверял ему безгранично. Делясь своими мыслями с товарищами, объективно оценивая реальную действительность, он прежде всего сам полностью доверял человеку. Таким Эммануил Генрихович сохранился у меня в памяти.
Он был исключительно веселым и жизнерадостным. Мы,
137
близкие его товарищи, звали его «веселая серьезность». Поведение Эммануила Генриховича в кругу боевых товарищей — «однокашников», как он любил называть всех нас, было самое искреннее, дружеское. Своим неиссякаемым юмором он всегда поддерживал в нас бодрое настроение.
Вспоминается середина ноября 1943 года. Наша дивизия несколько суток вела непрерывные бои перед Оршей, где противнику удалось закрепиться на заранее подготовленных рубежах. Погода была очень плохая — беспрерывный дождь пополам со снегом, местность без единого деревца и даже куста, землянки протекали, везде непролазная грязь, для огонька никакого топлива — адский, нескончаемый холод. Все люди были грязные, такие грязные, что трудно выразить. Завелись паразиты, и мы вечерами в моменты затишья снимали рубахи и сжигали паразитов на языках пламени походных ламп. Настроение было отвратительное: В один из вечеров, к полночи, в землянку зашел Эммануил Генрихович в момент, когда мы были без рубах, занимаясь их очищением. «Ну что, ребята, скучно смотрите и плохо встречаете гостей», — сказал он. Мы отвечали угрюмо, создавшееся положение угнетало нас. Перед землянкой монотонно ходил часовой, шаги его были слышны здесь, и вот Эммануил Генрихович начал экспромтом на мотив веселой песни: «Не ходи ты у землянки, не стучи подборами... Вы идите, братцы, к богу со своими разговорами». Он засмеялся, мы засмеялись, развеселились и позабыли тяготы фронтовой жизни. Настроение улучшилось.
Как я уже говорил, Эммануил Генрихович был человеком незаурядной храбрости — и личной, так сказать, солдатской, и командирской. Неспроста штаб армии назначил его начальником разведки дивизии. Он был прирожденным разведчиком и, работая начальником разведки, находился в своей стихии. Он всегда каким-то особым чутьем чувствовал пульс боевой готовности противостоящего противника. Начальство относилось к Эммануилу Генриховичу с уважением, зная, что любое задание он со своими разведчиками всегда выполнит. А комдив перед принятием решения особенно внимательно выслушивал его.
На фронте командиры всех рангов были жадные до «языка», а уж командиры дивизий и их начальники штабов в этом отношении народ особенный — им подавай «языка» каждую ночь: а вдруг противник тайно сменил свои части перед фронтом дивизии? И Эммануил Генрихович не подводил своего комдива и начштаба.
138
Группы тщательно инструктировались по маршруту, по связи, по тактике действий, сопровождались им до передовой. И в большинстве случаев к утру они возвращались с «языком». Эммануил Генрихович встречал их первым.
Но бывали и неудачи, причем в самые критические моменты. В самом конце декабря 1943 года, перед Новым годом, мы сменили части против Могилева. Обстановка и сведения о противнике были неясные. Эммануилу Генриховичу было приказано любыми средствами добыть «языка». Он дважды забрасывал группы для выполнения задания, но группы эти не вернулись. Тут сказались очень трудные условия для действий разведчиков — новая для нас, незнакомая местность, с которой противник уже хорошо свыкся, и особая бдительность немцев, опасавшихся нашего удара.
И тогда Эммануил Генрихович решил повести группу сам. Начальник штаба спросил: «Почему сами идете?» Он ответил: «Я не имею права и не могу больше рисковать человеческими жизнями». В два часа ночи группа во главе с Эммануилом Генриховичем возвратилась без потерь, невредимой и с трофеем. Они доставили в мешке «языка», который оказался богатым купцом из Берлина, привезшим на фронт своему воинству новогодние подарки. «Язык» оказался особо ценным для нашего командования, его быстро забрали в штаб армии, а оттуда даже в штаб фронта для отправки в Москву. Как мне помнится, именно за этого «языка» Эммануил Генрихович получил в нашей дивизии первую боевую награду.
Помню, как в праздники, когда мы все собирались где-нибудь на полянке или в укрытии и поднимали тост за нашу победу над врагом и после веселились, как могли в тех условиях, Эммануил Генрихович любил петь песню: «Жалко только волюшки во широком полюшке, солнышка на небе и любови на земле».
Он сочинил слова и музыку песни нашей 76-й стрелковой Ельнинской дивизии. Запомнились слова: «За отчизну в бой идет семьдесят шестая». Марш этот получил в 1944 году распространение в частях дивизии.
Эммануил Генрихович покорял меня широтой и глубиной знаний, и поэтому для меня не явилось неожиданностью то, что из-под его пера вышли в свет замечательные произведения. Этого и надо было ожидать. И те, кто его хорошо знал, этого от него и ожидали.
1976
М. А. Коган
НАШ НАЧАЛЬНИК
В одном из боев на Ельнинском направлении летом 1943 года я, тогда пулеметчик, увидел недалеко от себя какого-то лейтенанта, внимательно наблюдавшего за полем боя. Был очень жаркий июльский день, трудный бой и полное отсутствие воды, крайне необходимой не только людям, но и особенно нашему станковому пулемету. Нервы были напряжены до последней степени, а тут еще этот лейтенант обратился ко мне не то с советами, не то с вопросами, за что и получил от меня не очень любезный ответ. Конечно, я поступал не «по уставу», но мне в тот момент было не до соблюдения формы...
Через некоторое время я увидел, что к лейтенанту подползло несколько человек, в одном из которых узнал полковника Выдригана. Выдриган затем подполз к моему расчету — он всегда лез туда, куда ему не положено, — и поставил передо мною новую задачу, связанную со сложной переменой позиции. Я стал ее выполнять и опять увидел около себя лейтенанта. Он пытался нам помочь, но по своей неопытности больше мешал. Я намеревался снова сказать ему несколько еще более резких слов, но вмешался Выдриган и успокоил нас. Поставленную нам задачу мы выполнили, и я хорошо помню, как лейтенант попросил дать ему выпустить по цели пулеметную очередь. И остался этим очень доволен. После боя мы с ним вместе перекусили, немного выпили и разговорились по душам. Никаких обид и претензий ко мне за мои слова в ходе боя у него не было.
140
Так я познакомился с Эммануилом Генриховичем Казакевичем — нетрудно догадаться, что он оказался тем самым лейтенантом.
Знакомство это впоследствии отразилось и на моем должностном положении. Дело в том, что я более или менее сносно знал немецкий язык, и Эммануил Генрихович настоял на моем назначении из пулеметчиков в военные переводчики, в которых тогда была очень большая нужда. По инициативе Эммануила Генриховича мне предоставили возможность быстро пополнить свои знания языка военной терминологией, я сдал экзамен, был аттестован как переводчик второго разряда и назначен на эту должность в свой же 93-й стрелковый полк. В тот момент я был единственным штатным переводчиком в дивизии, и вся моя дальнейшая фронтовая служба была связана с полковой и дивизионной разведкой под общим руководством Эммануила Генриховича и в непосредственном подчинении В. Е. Бухтиярова, начальника разведки нашего 93-го стрелкового полка.
Я много общался с Эммануилом Генриховичем как в период боев, так и в моменты кратковременного отдыха между боевыми действиями. Меня всегда поражала его работоспособность. Он вечно был в разъездах, в движении, энергия его была неисчерпаема, и, по-моему, он позволял себе немного отдохнуть только тогда, когда от усталости валился с ног. Работая так сам, он и других заставлял полностью отдаваться работе. Это был его девиз — максимальная отдача, о чем он неоднократно говорил нам.
Помню, как в один из приездов в наш полк, в период краткого отдыха, он в беседе с Бухтияровым и мной заговорил о том, что хорошо бы всех разведчиков дивизии хоть немного обучить немецкому языку — пусть только отдельным необходимым фразам, командам, военным терминам. Я выдвинул свои возражения: разведподразделения полков и дивизии раскинуты на слишком большом удалении одно от другого и мне одному даже при обеспечении меня транспортом с подобной задачей не справиться; к тому же эти дополнительные занятия отнимут время от боевой подготовки разведчиков, которого и так мало. Эммануил Генрихович глубоко задумался, повторяя вслух: «А это надо, обязательно надо». И он нашел выход, устроив с разрешения командования недельные учебные сборы всех разведчиков дивизии в одном месте. Конечно, за семь дней многому не научишь, учитывая, что людям надо было заниматься не только немецким языком, но в первую очередь боевой подготовкой. Однако
141
некоторый минимум они хорошо усвоили, причем учились, вопреки моим ожиданиям, с интересом, и впоследствии эти знания им весьма пригодились. Наши разведчики уверенно пользовались такими словами, как «стой», «руки вверх», «бросай оружие», «документы», «молчи», «ложись», «иди», «ползи», и многими другими, необходимыми при взятии пленных, конвоировании, при разведке местности. Эммануил Генрихович был этим очень доволен. Он постоянно всем нам напоминал, что на войне ничем нельзя пренебрегать. А надо мной частенько подтрунивал, называя пессимистом,— намекал на этот случай.
Он никогда не пользовался своим положением начальника, ему было чуждо сводить свои отношения с подчиненными к приказу да еще с окриком, что не очень-то приятно людям вообще, тем более в боевых условиях. Его доброжелательное, даже ласковое отношение к человеку весьма ценилось всеми разведчиками, и он этим достигал гораздо больше, чем иные окриком или бездушным, а то и грубым приказом. Вспоминаю такой эпизод, уже на территории Польши, кажется. Мы стояли в глубокой обороне, но готовились к наступлению. У противника была сильно укрепленная позиция, активности он не проявлял, и мы ничего не знали о нем. Все полковые и дивизионные разведчики чуть ли не круглосуточно ползали по местности, но проникнуть в расположение противника и взять «языка» не могли. Несли большие потери. А предстояло скорое уже наступление. И вот в один из этих тревожных дней через позиции нашего полка отправилась в поиск группа дивизионных разведчиков.
Откровенно говоря, мало кто верил в удачу и этого поиска, слишком сложна оказалась обстановка. Но — надо было идти. Провожал эту группу Эммануил Генрихович, и положение его было очень трудным. Начал он, как и полагается, с боевого приказа, но мы видели, что эти слова ему тяжело произносить. И он отставил слова приказа, обратился в своем дальнейшем напутствии к людям по-простому, по-товарищески, с большой душевной теплотой, объяснил им такую опасную для них задачу как вынужденную, необходимую, выполнение которой может сохранить жизнь многих бойцов дивизии. Это трудно передать словами. Я смотрел на разведчиков и видел, что Эммануил Генрихович затронул своими словами и тоном, каким они говорились, какую-то струну в этих людях. Они как-то преобразились, в их глазах зажглись решимость, твердость и злость (а это тоже необходимо для разведчика), желание выполнить задание во что бы то ни
142
стало. И они выполнили это задание, хотя и потеряли больше половины людей. Вот таков был Эммануил Генрихович в боевой обстановке.
Но когда необходимо было проявить твердость характера и выдержку, он и с этой задачей прекрасно справлялся Помню, как в период одного из наступлений в Польше наша дивизия захватила большое количество пленных, и мне поручили организовать кратковременный лагерь для последующей отправки их в тыл. Кого только не увидели мы в этом примерно пятитысячном скопище: немцы, венгры, французы поляки и небольшое количество власовцев.
Лагерь неожиданно посетил командир дивизии Гервасиев со своими штабниками, в числе которых находился и Эммануил Генрихович. Я был подготовлен к такой возможности и быстро доложил Гервасиеву интересовавшие его данные Все уехали, за исключением Эммануила Генриховича, и я понял, что сейчас-то и начнется главная работа. И я не ошибся. Несмотря на то что многие пленные врали, нам удалось путем перекрестных допросов выяснить действительную картину положения и состояния противника. Это чрезвычайно сложная работа, требующая большой выдержки и терпения чего мне зачастую не хватало. Но Эммануил Генрихович был выдержан до предела, тактичен, не повышал голоса и все время мне повторял: «Зачем портить себе нервы из-за этого отребья, и виноваты ли только они одни?»
Но когда дело дошло до власовцев, он преобразился, от его спокойствия не осталось и следа, он, что называется метал гром и молнию, и я услышал в их адрес такие выражения с воспоминанием всех их предков, что трудно было себе представить это именно от Эммануила Генриховича. А когда он узнал, что власовцев кормили, как и всех других пленных, он был возмущен до глубины души и обрушило на меня с градом упреков — как я дошел до такой жизни. Сгоряча даже бросил такую фразу: «А зачем вы вообще этих скотов держите здесь?..» Но я знал уже характер Эммануила Генриховича, молчал и — не ошибся. Через некоторое время услышал от него сквозь зубы: «Хоть они и отпетые сволочи но все-таки люди». На мое замечание, что своими действиями они давно потеряли право называться людьми, он, посмотрев на меня, опять сквозь сжатые зубы произнес: «Я вас хорошо понимаю, но давайте мы останемся людьми».
Меня поражала его душевность, его старание всегда помочь ближнему, поддержать человека. Вспоминаю случай когда мне пришлось в качестве переводчика допрашивать
143
своего первого пленного. Это было на марше, еще на Смоленщине, в 1943 году, когда к нам попал тяжело раненный немецкий летчик. К моменту допроса к нам в полк наехало не только все высшее дивизионное начальство, но и командир корпуса со своей свитой. Набралось человек сорок, и я как новичок, первый раз попавший в такую обстановку, конечно, растерялся. Кругом — никого ниже подполковника, каждый дает мне, старшине по званию, свои советы, указания, в помещении стоит шум...
Раненый же летчик, отъявленный фашист, с многочисленными наградами, принадлежал к группе известных асов. Мне приказали вытянуть из него ответы на вопросы: где базируется его летная часть, ее состав, куда и с какой задачей он летел. Однако состояние его было тяжелое; врач сделал ему укол, летчик пришел в сознание, и его предоставили мне для допроса, но, по словам врача, жизнь его исчислялась не более как 30—40 минутами.
Конечно, при таком базаре, когда каждый «помогал» своими советами, мне было очень трудно работать, и я совсем потерял голову. Вот тут-то ко мне на помощь и пришел Эммануил Генрихович. Он все понял и, подойдя ко мне, стал тихонько меня успокаивать, а потом спросил: «Что нужно сделать?» — «Послать всех к черту», — ответил я. Конечно, Эммануилу Генриховичу это тоже было не просто, ведь он был только старший лейтенант. Но он рискнул и напрямую обратился к командиру корпуса, генерал-лейтенанту, и заявил, что при таком большом количестве людей и таком шуме мы ничего не добьемся. Повторяю — это было для Э. Г. очень рискованно. И действительно, все присутствовавшие полковники и подполковники обрушились на Эммануила Генриховича за то, что он позволил себе вмешаться таким образом и попытался как бы ограничить их права. Но все обошлось благополучно, ибо шум усилился еще более, и командир корпуса понял его правоту, оставил в комнате командира дивизии и начальников штабов, а всех остальных отправил проветриться и покурить. Вот тогда-то мы с Эммануилом Генриховичем совместно и выудили у летчика ответы на все интересующие нас вопросы.
Такой был Эммануил Генрихович в работе.
Меня всегда поражали его любознательность, его общительность и простота в общении с людьми. Он очень любил всех расспрашивать, причем вопросы его были не стандартные, каким-то внутренним чутьем он определял индивидуальные особенности собеседника, его знания и соответственно
144
этому задавал вопросы. Сам он говорил немного, слушал, слушал и все старался записывать. Как правило, вопросы начинались с условий службы, а потом переходили на различные темы, не имеющие прямого отношения к фронтовому быту,— они касались гражданской специальности и работы того солдата или сержанта, с которым говорил Эммануил Генрихович, его семьи, а также театра, кино, литературы и т. д. Чувствовалось, что с помощью этих вопросов он как бы составлял себе сначала представление о сугубо гражданском человеке и сопоставлял того прежнего с тем, кто находился теперь в военной обстановке, — с его поведением и мышлением в новых условиях. И все записывал, много записывал (от разведчиков он всегда требовал трофейных блокнотов и бумаги). Некоторые его записи я читал и видел, что он собирает жизненный материал о людях, их чаяниях, мыслях, поступках. После войны, читая его произведения, я без труда узнавал многих наших сослуживцев.
Беседы с людьми были для него истинным удовольствием. Он непрерывно искал этого общения, причем интересовался разными людьми — разными по образованию, гражданскому и военному положению, психологии. Вспоминаю эпизод.
В разведку довольно часто попадали люди с уголовным прошлым, многие из которых оказывались потом хорошими солдатами. В 1944 году в какой-то период я замещал начальника разведки полка В. Е. Бухтиярова и при очередном пополнении обратил внимание на одного типа, страшного по виду, который сам изъявил желание пойти в разведвзвод. Я его взял. Вскоре выяснилось, что он самый настоящий бандит, был приговорен судом к высшей мере наказания, замененной 10 годами заключения, откуда он и попал на фронт. В конце концов он оказался хорошим разведчиком и в какой-то степени привязался ко мне. Разговаривая с ним, я убедился, что он довольно развитой человек и, если его немного расшевелить, — небезынтересный собеседник. И я решил свести его с Эммануилом Генриховичем.
Эммануил Генрихович буквально загорелся, когда я ему рассказал об этом солдате. И после некоторой подготовки беседа у них состоялась и продолжалась около трех часов. Помнится, Эммануил Генрихович исписал тогда целый блокнот, в возмещение которого ничего не потребовал (редкий случай). Он старался выяснить, как сын культурных родителей (отец этого человека был доктором технических наук, мать — профессором консерватории) стал отъявленным бандитом, а потом честным и смелым солдатом. Я при их беседе
145
не присутствовал, единственное, что мне сказал после их встречи Эммануил Генрихович, это то, что уже давно не беседовал столь интересно и полезно. И помахал передо мною блокнотом. Позднее я видел этот исписанный блокнот, в конце которого была составлена графическая схема всего жизненного пути этого человека с комментариями по каждому этапу. В своих пометках на схеме Эммануил Генрихович указывал причины резких изменений в судьбе своего собеседника: вина родителей, влияние окружающих, школа и т. д. Подобные беседы у Э. Г. были со многими людьми.
На мой же вопрос, зачем это ему надо, Эммануил Генрихович ответил, что, возможно, в будущем на основе анализа таких материалов ему удастся обосновать зависимость резких изменений в мышлении и поведении человека от окружающей его обстановки. Может быть, он даже хотел создать какой-то специальный труд. Что касается судьбы его блокнотов, то когда под городом Ковель немцы нас довольно сильно потрепали, часть его вещей и записей, как говорил мне сам Эммануил Генрихович, пропала. Пропал, по всей вероятности, и тот блокнот, в возмещение которого он почему-то не потребовал после беседы дополнительной бумаги.
И здесь, очевидно, следует пояснить, что это было за «возмещение». Дело в том, что мы испытывали крайний дефицит в писчей бумаге, вернее — ее совсем не имелось у нас. Для тех людей, кто не делал каких-либо записей (вроде меня), это было не страшно, но Э. Г. переносил отсутствие бумаги очень тяжело.
Эммануил Генрихович с отвращением относился ко всяким трофеям и с нескрываемым презрением высказывался о тех, кто гонялся за ними. Бывали ссоры, когда он прямо-таки выходил из себя, увидев у кого-либо трофейные часы, зажигалки и прочее. А когда нам на фронте разрешили отправлять домой небольшие посылки, Э. Г. от всей души возмущался этим, не стесняясь в выражениях.
Но с трофейными блокнотами и чистой бумагой дело обстояло иначе. Бумага была ему нужна для записей.
Нашим приездам к нему в штаб дивизии с донесениями и по делам службы Эммануил Генрихович всегда бывал рад, но в разговорах постоянно бросал как бы между прочим одну и ту же фразу: «Беда, пропадаю, нет бумаги, писать не на чем». Мы делали вид, что ничего не понимаем, тогда он не выдерживал, взрывался и восклицал: «Ну, неужели вы не привезли мне ни одного листика чистой бумаги?!» Тут мы выкладывали наши запасы блокнотов и бумаги, добытых
146
при отступлении немцев, и он сразу становился радостным.
Как-то я в шутку сказал ему: «Бумага ведь тоже трофейная, а вы такой противник трофеев!» На что Эммануил Генрихович ответил: «Те трофеи, которые идут на благо общего дела,— нужно использовать. Мы же используем трофейное оружие, оно идет на пользу, ну и бумага для истории тоже сделает свое положительное дело. Бумаги давайте как можно больше!» Помню даже и такой случай. Однажды застал я его за заполнением какого-то своего блокнота. Оторвавшись от письма, он заявил: «Сегодня исписал более 20 страниц, с пользой или без пользы — не знаю, но за вами компенсация в виде чистой бумаги, у меня ее больше нет». Конечно, это была шутка, но мы прекрасно понимали его тяжелое положение из-за отсутствия бумаги и старались ему помочь.
Однажды, помня его высказывание насчет оружия, я рискнул преподнести ему небольшой трофейный пистолет индивидуальной выработки с инкрустациями. Сначала Э. Г. устроил мне порядочную головомойку, но потом сказал: «Ну, ладно, возьму, спасибо...»
А на отдыхе это был веселый, общительный человек, любил читать стихи, рассказывать всевозможные истории, интересно рассуждать на различные темы. Читал он нам Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина.
К анекдотам относился сносно, но терпеть не мог глупых и особенно пошлых. Вспоминаю, как-то был рассказан анекдот из этой серии, все молчали, а Э. Г. невозмутимо сказал рассказчику: «Вы забыли сказать, когда надо смеяться».
А в своих беседах с нами любил поговорить о том, что и как будет после войны, после победы. Тут уж он философствовал вовсю. Весьма красочно представлял, как объявят об окончании войны, какие у нас будут растерянные, но довольные физиономии и кто что станет тут же делать — этот будет петь, этот плясать, тот вдребезги напьется... Рассказывал, как мы будем сдавать оружие (тут уж я не утерпел и спросил — сдаст ли он свой маленький трофейный пистолетик, на что получил ответ: «Подумаю»), как будем получать демобилизационные предписания, поедем домой, как встретимся с родными. Надо отметить, что подобные разговоры очень хорошо на нас действовали и в какой-то степени «снимали напряжение». Тогда, правда, все это нам казалось смешно, но впоследствии многое из его «философствований» оказалось действительностью...
1977
В. Е. Бухтияров
ОТВАЖНАЯ ДУША
Эммануила Генриховича Казакевича я узнал на войне. Его назначили начальником войсковой разведки дивизии, а я был офицером разведки полка этой дивизии.
Первое знакомство состоялось в апреле 44-го года. Наш полк подвергся сильному артиллерийскому обстрелу и беспрерывным атакам со стороны противника. Немцам удалось обнаружить наблюдательный пункт полка, и они обрушили туда огонь всех имеющихся у них средств. Кроме артиллерии нас обстреливал бронепоезд прямой наводкой, несколько заходов сделала эскадрилья бомбардировщиков «Ю-88». Кругом все было изрыто воронками от взрывов, ходы сообщения и землянки у НП разрушены.
Все это видели с наблюдательного пункта дивизии. И вот в момент маленького затишья у нас появился Эммануил Генрихович. Он шел не по ходам сообщения, так как они были завалены, а прямо по открытой местности. Большой, с высоко поднятой головой, в очках, он шел не пригибаясь от выстрелов.
Командир полка подполковник Киреев сказал мне: «Это твой начальник Казакевич. Идет нас воодушевлять».
Эммануил Генрихович, зайдя в полуразрушенный блиндаж, обратился к нам шутя: «Живы, смертники!» — и всем крепко пожал руку. Передал нам от комдива благодарность за стойкую оборону. А ко мне он обратился так: «Ну, борода! Я разведкой полка доволен. Ваши данные о против-
148
нике помогают нам отражать атаки, и, пожалуй, немцы больше не пойдут на нас». Так потом и оказалось.
Наш разговор с ним с первой же встречи был душевный, искренний, не как начальника с подчиненным. Мы подробно беседовали о действиях противника. Я заметил, что Казакевича интересуют не вообще данные о противнике, а все новое в его действиях, перемещения, изменения в его обороне. Это были не шаблонные вопросы или поучения. Его интересовало также и то, в каких условиях живут и воюют разведчики, как они обучены и как готовятся к разведоперациям.
Таким я знал Казакевича на протяжении всей нашей совместной работы. Он всегда появлялся там, где трудно, советом и делом помогал нам, подвергая свою жизнь опасности, спешил помочь людям.
Несмотря на то, что он приходил в полк как представитель вышестоящего штаба, он никогда не подчеркивал этого, был тактичен, шутил, смеялся со всеми, иногда и пару анекдотов расскажет. Очень метко высмеивал немцев, вынужденных отступать после захлебнувшейся атаки. После его ухода им восхищались, говорили: «Вот человек! Таких представителей вышестоящих штабов к нам приходит мало».
Однажды кто-то из нас заметил Казакевичу, что он пренебрегает правилами маскировки. Он ответил общеизвестной шуткой, что для него пуля еще не отлита, а вообще-то согласился, что маскировку нужно уважать.
Его обращение с товарищами и подчиненными было примером для подражания. Помню, он вернулся в строй после одного из ранений и вызвал нас, полковых разведчиков, к себе. Мы приехали на лошадях, привязали их недалеко от его землянки, вошли и — сразу крепкие рукопожатия, вопросы, пошел дружеский разговор, проговорили до трех часов ночи. В этот вечер мы переговорили о многом и посмеялись от души над забавными историями, которые Эммануил Генрихович рассказывал. А о работе сказал кратко: «Я уверен, что вы сделаете все возможное и не подведете».
Мы были под впечатлением этой встречи. По дороге в свои полки говорили о нем, и все были единодушны в оценке. Всего несколько слов Казакевича о том, что он верит в нас, в то, что порученное нам дело мы исполним как надо, были дороже длинных строгих указаний, назиданий, упреков и разносов, на которые не скупятся иные начальники.
Эммануил Генрихович не любил шаблонов, всегда искал новое в своей работе. И это ему удавалось. Он хорошо знал условия фронтовой жизни, знал людей, с которыми работал.
149
Он уважал смелых, отважных, точнее — любил таких людей; и не терпел малодушных, нерешительных, трусов. Сам он всегда был смел, хотя любил жизнь не менее других. Под артиллерийским и минометным обстрелом вел себя бесстрашно. А на замечания или советы насчет осторожности, когда пробирался к нам на передовой наблюдательный пункт, отвечал шуткой: «Война еще не кончилась. Если гнуться после каждого выстрела, то к концу войны можно превратиться в обезьяну». Любил он природу и даже в то тяжелое время, бывало, окинет взглядом полянку и скажет: «Ах, как красиво!»
Не жаловал лодырей, тех, кто ленился, пренебрегал или не хотел изучать и знать все, что ему положено по долгу службы. Сам же всегда и везде, где только можно, искал книги и — находил и читал. С нетерпением ждал газет. Из произведений тех лет особенно любил поэму Твардовского «Василий Теркин» и часто читал ее вслух. О Теркине он сказал: «Теркин — очень нужный человек для фронта».
После второго ранения Казакевича увезли в глубокий тыл, и мы, разведчики, очень жалели о нем.
После войны я служил уже в штабе корпуса, в городе Лангезальц, а Казакевич был в разведотделе штаба армии в г. Галле. Однажды он приехал к нам, и мне сказали: «Вас вызывает Казакевич». Я решил, что по служебному делу. Как только я вошел, Эммануил Генрихович, подойдя ко мне, взял меня за плечи и проговорил: «Остались живы. Я знал, что вас не убьют». Затем, вдруг вспомнив: «А где же борода? Ах! Зря сбрили! Так было хорошо видеть вас с бородой».
Потом, после разговоров, он открыл мне цель приезда. Он хотел поехать со мной в Веймар. «Там столько интересного. Разве можно быть в Германии и не побывать в Веймаре!» Я сразу согласился, взял разрешение, и мы выехали. Ехали мы поездом. В дороге мы так увлеклись воспоминаниями о пережитых днях войны, что чуть не проехали Веймар. Эммануил Генрихович подробно расспрашивал меня о моей службе и о делах по разведке. Отдельные моменты он просил рассказать во всех подробностях, задавал много дополнительных вопросов.
В Веймаре в гостинице, где мы сняли номер, Казакевич расспрашивал у служащих по-немецки о городе. Вечером мы опять долго беседовали, и он сказал мне о своем желании уйти в запас. «Пойду в гражданку (это слово было тогда распространено) и займусь литературным трудом, опишу всю тяжесть фронтовой жизни, особенно хочется описать
150

Э. Г. Казакевич в эвакогоспитале. Барнаул, 1944 г.
труд разведчиков, полный опасностей и тревог. Все то, что пережили мы с вами. Вот только удастся ли?»
Утром мы пошли по историческим местам Веймара. На площади Ратуши он сказал: «Этот древний город и эта площадь многое видели. По этой площади ходили великие люди: Гёте, Шиллер, Лист». Побывали мы на кладбище, где похоронены Гёте и Шиллер. Казакевич долго стоял в задумчивости, а потом по-немецки расспрашивал подробно служителей. Он не перебивал собеседника в ходе разговора, а в конце весь разговор перевел для меня. Потом мы пошли в дом-музей, где жил Шиллер. Дом сильно пострадал. Из разрушенной части все было вынесено. Эммануил Генрихович попросил служителя провести нас туда, где работал Шиллер, где была его библиотека, хотел увидеть, какие там книги. Помню, у бюста Байрона он задержался, спрашивал, почему именно этот бюст стоит в кабинете. Во дворе мы увидели огромный черноклен, посаженный, как нам сказали, самим Шиллером более ста пятидесяти лет назад. Эммануил Генрихович сорвал на память несколько листьев и положил их в свой блокнот, где что-то записал. Я последовал его примеру.
Потом мы посетили дом, где последние свои годы жил Лист. Дом был цел, и обстановка сохранилась. Нас встретила пожилая седая немка. Эммануил Генрихович и ее о многом расспрашивал. Я дивился, с каким большим вниманием он воспринимал все виденное и слышанное, с каким интересом и нетерпением задавал все новые и новые вопросы. Он говорил: «Как хорошо, что мы сюда приехали! Ведь столько интересного увидели здесь и узнали». И еще сказал: «Молодцы, все хранят». Мы вышли из дома Листа. Но Эммануил Генрихович находился под впечатлением увиденного.
— Теперь, Василий Егорович, война кончилась, и мы будем вместо артиллерийских канонад слушать музыку Листа, Бетховена, Шопена, Чайковского. Музыка нужна человеку, как и другие блага жизни. Много за войну нами упущено. Все жили одной мыслью — разбить врага, а все остальное откладывалось до окончания войны. И вот теперь это время настало. Надо наверстать упущенное.
А на обратном пути мы много говорили о восстановлении разрушенного, о трудностях, которые впереди.
— Тебе, на мой взгляд, надо продолжать служить, в академию поезжай. Всем увольняться нельзя, — сказал он мне.
Это была последняя наша с ним встреча.
1963
О. Ф. Утешева-Василенко
«УЗНАВАЛА И КАТЮ, И МАМОЧКИНА, И ТРАВКИНА,
И КОМДИВА...»
С Казакевичем мне приходилось встречаться часто, так как, будучи фельдшером батальона связи, я обслуживала и разведчиков. Помню, однажды во время подготовки группы к операции я объясняла разведчикам, как оказывать себе и товарищам первую помощь. Вдруг зашел в блиндаж Захарий Петрович Выдриган. Я обратила внимание на то, какими печальными глазами смотрел он на Казакевича. Тот тут же сказал: «Товарищ полковник, мое место только здесь и больше нигде». Полковник еще раз напомнил группе, как поступать в случае осложнений. Я вместе с санинструктором Таисией Кучеренко пошла проводить группу до того места, где еще можно было идти в полный рост. Казакевич всю дорогу шутил, тихонько напевал, кажется, из «Орленка». Потом отдал нам свой носовой платок, а Таиса вложила ему в карман маскхалата свой платочек — так у нас было заведено, делалось это в надежде на благополучное возвращение в часть. Прощаясь, Казакевич пожал нам руки, мы возвратились, а они ушли по своему маршруту. Точно не помню, через сутки или двое группа возвратилась с «языком», которого тогда чуть было не задавили кляпом. Захарий Петрович был очень доволен Казакевичем...
По роду службы Казакевич часто находился в блиндаже командира дивизии. Бывало, после того, как даст все указания, объяснит, что и как, Захарий Петрович подойдет к Ка-
153
закевичу, потеребит его чубчик, стиснет плечи его и скажет: «Ну, давай лапу — ив добрый час!» Казакевич по всем правилам сделает «кругом» и четким шагом уходит, а Захарий Петрович подойдет к столу, задумается, постучит пальцем по карте, погладит свою лысину, потрогает черные усы, вздохнет и скажет: «Ой, як я люблю цього хлопця за його мужнiсть!»
Однажды на рассвете мы с санинструктором Таисией спешили на НП, когда нас догнал связной и, задыхаясь от волнения, сообщил, что привели раненого Казакевича. Примчались мы и застали такую картину: Казакевич сидит, нога перевязана портянкой, глаза ввалились, страшно грязный, уставший, в сторонке лежит связанный немец. Оказывается, двух раненых разведчиков, которые были с Казакевичем, увезли прямо в медсанбат. Я сделала перевязку. Когда усаживали Казакевича на лошадь, он ругался от страшной боли, повторял свое любимое: «ах, твою бригаду», «ах, твою дивизию»... За этого «языка» Казакевича, кажется, наградили.
...Видела я его и плачущим. Когда под Ковелем тяжело ранило Захария Петровича. Мы старались все сделать, чтобы облегчить страдания раненого комдива. Казакевич, помню, подбежал ко мне и спросил: «Скажи, Оля, он будет жить?» Как мальчик, сжал в руках пилотку, сказал: «Скажи, что да!..»
Генерал часто вел с Казакевичем разговоры о том, как надо требовать от солдата и что делать для того, чтобы быть душой солдата, и действительно, Казакевич всегда жил одной жизнью со своими разведчиками. Его, молодого командира, солдаты уважали за простоту в обращении с ними. Он был им другом и советчиком, а после одной разведки за «языком» солдаты полюбили его за находчивость и мужество.
Был он очень веселым человеком. Я и сейчас, закрыв глаза, вижу его быстрого в движениях, когда что-то рассказывал, обязательно в ладонях ловко покручивал карандаш: подбросит, поймает за кончик, положит в карман и продолжает рассказ с жестами, потом, засунув руки в карманы брюк и выпятив вперед плечи (мы все при этом часто хлопали его по сутуловатой спине, чтобы не страдала выправка), начнет маленькими шажками ходить по блиндажу, в котором полный шаг не дашь, и расскажет что-нибудь такое, что все насмеются, расфантазируются и на время забудут про фронт, про немцев, про войну...
154
Я много слышала от разведчиков, что они любили ходить с ним в разведку, зная и веря в его находчивость, мужество и храбрость. А любили его за ум и доброту. Солдаты часто делились своими переживаниями, читали ему письма из дома, просили иногда помочь написать письмо. Я сама была несказанно благодарна Казакевичу за то, что помог мне разыскать родных... Недавно снова перечитала «Звезду». Читала и плакала. Узнавала и Катю, и Мамочкина, и Травкина, и комдива нашего — Захария Петровича Выдригана...
1966
М. Г. Буймович
ПЕРЕД ПОБЕДОЙ И ПОСЛЕ НЕЕ
Непосредственно вместе мы служили на фронте недолго — в 76-й стрелковой дивизии, когда Эммануил Генрихович был начальником разведки. Потом его взяли в разведотдел штаба 47-й армии, а я стал сначала помощником начальника разведки нашей дивизии, а затем и начальником. Но и после его перехода в штаб армии мы продолжали дружить и виделись сравнительно часто, хотя находились довольно далеко друг от друга.
К глубокому сожалению, записей тогда и позже я никаких не вел, и архива у меня почти нет. Нет схем, карт и всего того, что могло бы оживить в памяти те или иные события. А прошло уже более 30 лет, и многое очень важное забылось или видится сейчас по-иному.
Но точно помню, что Казакевич не однажды сам участвовал в добыче «языков», то есть солдат противника. Несмотря на свой совсем нестроевой вид и отсутствие военной выправки, он был чрезвычайно смелым человеком. Там, где нужно было, и там, где, может быть, и не нужно, он не раздумывая бросался в огонь, совершенно не опасаясь того, что его могли убить или ранить. Для него было характерным отсутствие какой бы то ни было склонности к внешнему эффекту и наличие большой внутренней собранности и храбрости.
Помню, что он любил лошадей и хорошо ездил верхом.
156

На фронте. Март 1945 г.
У него была очень красивая гнедая лошадь по кличке Орлик. После него на Орлике ездил я, а когда меня ранило, хозяином этой лошади стал Василий Егорович Бухтияров...
Эммануил был весьма находчивым человеком. Казалось, никакая ситуация не могла его вывести из равновесия. А к продвижению по службе совершенно не стремился и всегда говорил, что он человек штатский. Но он обладал глубоким аналитическим умом, столь необходимым истинному разведчику, умел тщательно и грамотно в тактическом отношении проанализировать боевую обстановку и сделать из нее четкие правильные выводы.
Будучи начальником разведки 76-й дивизии, я нередко бывал в разведотделе армии и видел, как начальник отдела полковник Малкин и другие офицеры высоко ценили Казакевича. Как никто другой, он умел лаконично и точно обрабатывать поступавшие документы и писать соответствующие сводки и донесения для командования армии и в штаб фронта. Писал он и такие реляции, как представления к наградам, и все считали, что у него «легкая рука».
Со всеми он держался ровно, по-товарищески, перед начальством никогда не заискивал, не лебезил, а порой даже был не совсем почтителен. У него был острый язык, и он всегда высмеивал жадность, мелочность, стяжательство, нескромность. Очень любил сочинять эпиграммы, иногда шуточные, иногда трогательные, а то и беспощадные, злые. Но по отношению к своим товарищам был всегда верным и настоящим другом.
Мы с Эммануилом оставались дружны, виделись и после войны, когда я работал заместителем военного коменданта города и района Вернигероде, большого промышленного и сельскохозяйственного района в Гарце. Меня туда назначили с первых же дней организации советской военной администрации в Германии. А Эммануил продолжал служить в разведотделе штаба 47-й армии, и где-то в июне или в июле мы там с ним встретились. Было это в городе Виттенберге.
Как водилось, отметили нашу встречу. Эммануил Казакевич умел при случае выпить, но никогда не увлекался этим и, мне кажется, пил только для того, чтобы поддержать компанию. Эммануил был тогда по званию капитан, а я только что получил звание майора, иначе говоря, был «молодым майором». Мы сидели, шутили, и я возьми и скажи ему, что, мол, если ты мне не отдашь теперь чести на улице, я тебя посажу на гауптвахту. На это он мне ответил, что посмотрим еще, кто кого посадит. В присутствии друзей было
158
заключено пари, и мы вышли на улицу. И сразу же повстречали военный патруль во главе с подполковником.
Эммануил прошел мимо меня и демонстративно не отдал мне честь, да еще показал язык. Я тут же обратился к подполковнику, чтобы он задержал нарушителя дисциплины. Но Эммануил отозвал его в сторону и убедительно стал говорить ему, что я — младший лейтенант, он меня знает, что погоны майора я сам себе надел... Подполковник отнесся ко мне с большим подозрением, и в конечном счете задержан был я. Потом по этому поводу много шутили, и мы все смеялись над этим случаем...
Мне запечатлелось, что он начал работать над своими произведениями сразу же после войны. Помню, когда я служил в Вернигероде, он бывал у меня довольно часто и интересовался буквально всем. Много расспрашивал меня о жизни немцев, о рабочих, служащих, фермерах, о работе советских и немецких учреждений, о наших взаимоотношениях, о том, как создавались различные партии, и об отношении населения к ним. Его интересовало, как работает наша комендатура, какие в ней отделы, какие отношения с различными группами населения, каким образом и какими средствами мы помогаем немцам построить новое демократическое общество. Подробно расспрашивал о том, как разрешаются разного рода конфликты — хозяйственные, политические, экономические, транспортные...
А ведь в то время, в самые первые дни образования советской военной администрации, не было еще никаких немецких учреждений. Все фашистское более не существовало, и по каждому поводу немцы обращались в единственный тогда орган власти — в нашу военную комендатуру. В работе же у нас были большие затруднения и сложности — до нас в этом районе побывали англичане, после них — американцы, а потом уже пришли мы. Эммануил и этим тоже интересовался. Ему важно было узнать, как налаживалась жизнь народа буквально с первых же часов: как обеспечивались они хлебом, продуктами питания, промышленными товарами, водой, электроэнергией, всем необходимым, как и когда начали работать культурные учреждения города — кинотеатры, клубы, рестораны, варьете. После этих длительных бесед, проанализировав, очевидно, нашу, и в частности мою, деятельность, Эммануил обычно давал очень дельные советы.
Кстати, я являлся заместителем коменданта по экономическим вопросам, но ни разу Эммануил не воспользовался этим лично для себя или для посылок своей семье. Ко всяким
159
«трофеям», «шмуткам» он был совершенно равнодушен. А что греха таить, некоторые наши офицеры гонялись за всевозможным «барахлом».
В городе Вернигероде, на высокой горе, стоял огромный, хорошо сохранившийся замок курфюрста Штольберга. И Эммануил при первом же посещении попросил меня повезти его туда. Впоследствии он не раз наведывался в этот замок, живо рассматривал его архитектуру, художественные произведения, собранные там. И уж совсем увлекся старинными книгами, находившимися в библиотеке замка. (Оказались в этом замке и многие ценности из наших советских музеев, которые немцы разграбили во время оккупации.)
В доскональном знакомстве с замком курфюрста Эммануилу помогало, конечно, знание немецкого языка. Смотритель этого музея-замка мне потом неоднократно говорил, что еще не встречал такого любознательного и жадного к знаниям человека.
Встречались мы и в Москве. В августе 1947 года, будучи в столице, я несколько раз приходил к Казакевичам домой на Беговую улицу. И тогда тоже в каждую нашу встречу Эммануил часа по три-четыре расспрашивал меня о работе советской военной администрации в Германии, прежде всего о работе наших комендатур. Эта тема явно занимала его.
1977
А. Тимченко
ОДНАЖДЫ ПО ДОРОГЕ
Мне пришлось только один раз встретиться с Казакевичем в годы Великой Отечественной войны. Эта встреча состоялась в 1944 году на территории Польши. Я работал тогда в Оперативном отделе 47-й армии 1-го Белорусского фронта, а Казакевич — в разведотделе этой же армии. Конечно, я тогда не знал, что он будет писателем, но встреча с ним произвела незабываемое впечатление. А познакомились мы вот при каких обстоятельствах. В одну из осенних ночей я как представитель Оперативного отдела, а он как представитель разведотдела выехали на передовую в район расположения 76-й стрелковой дивизии, чтобы уточнить передний край обороны этой дивизии и обследовать ее боевую готовность. И вот случилось так, что группа офицеров, в том числе и я с Казакевичем, ехали на грузовой автомашине. В течение поездки, пока было можно, мы пели песни, рассказывали всякие истории, анекдоты. Так вот запевалой и душой всего нашего общества был Эммануил Казакевич. Эммануил произвел на меня неизгладимое впечатление. Это осталось в душе навсегда. Сколько в нем было тогда энергии, молодого задора, веселости и обаятельности, мы просто все восхищались им. Мне запомнилось, как здорово он запевал, а мы ему все подпевали. И «Офицерский вальс», и другие фронтовые песни. Он был неутомим, весел, полон жизни. К сожалению, больше мне с ним так и не пришлось встретиться. Книги его я, конечно, все прочитал.
1974
161
М. Малкин
ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДЧИК
Перелистывая пожелтевшие, истертые странички дневника военных лет, я с волнением вспоминаю события четвертьвековой давности. Многие страницы моих военных дневников потеряны, но ряд эпизодов запечатлен в книгах моего покойного друга Эммануила Казакевича.
По ночам в тесной землянке при тусклом свете коптилки писатель-солдат вел свои записи о боевых действиях разведчиков. Записи, легшие потом в основу его повестей.
Однако никем до сих пор не описаны военные подвиги самого Эммануила Казакевича, чудесного человека, с которым прошел я трудный путь войны от Вислы до Берлина и Эльбы.
Я познакомился с ним на фронте, осенью 1943 года, вот при каких обстоятельствах.
Войска нашей армии готовились к наступлению. Люди, бывавшие на фронте, знают, какое невероятное напряжение физических и умственных сил требуется от разведчиков перед началом наступления, чтобы собрать все данные о противнике. Много бессонных ночей мы провели в поисках «языка», а пленные все не попадались.
Сложность была в том, что перед нашим передним краем расстилалась болотистая пойма реки, а таинственная кромка противоположного берега, видневшаяся впереди, за которой пристально наблюдали сотни глаз разведчиков, не раскрывала своей тайны.
162
Река была быстроходной, по ней плыло много бревен, коряг и разной домашней утвари.
Тяжелые мысли лезли в голову. Как пробраться на тот берег и как притащить оттуда живого «языка», который мог бы уточнить группировку противника и раскрыть его намерения?
Немало разведчиков утонуло тогда в реке под обстрелом врага, не добравшись до противоположного берега. Другие смельчаки погибли, уже ворвавшись в траншеи немцев, в коротких рукопашных схватках.
Как-то на рассвете, когда я из траншеи наблюдал за рекой, подошел молодой сухощавый офицер в очках и вежливо, не по-воински, поздоровался. Военная форма сидела на нем нескладно, и это свидетельствовало о том, что офицер не из кадровых.
Прищурившись, он тоже стал наблюдать за течением реки и спросил:
— Можно мне предложить?
Не дождавшись ответа, он скороговоркой, сугубо гражданским языком, стал излагать свой план: пустить дерево по реке и под его прикрытием разведчикам добраться до того берега. Такой план показался мне примитивным, ничего не обещающим.
Однако совет этого «штатского» офицера лег потом в основу действий разведгруппы по захвату пленного.
Ночью было свалено несколько ветвистых деревьев, и когда первое из них поплыло по реке, оно вызвало интенсивный огонь с противоположного берега.
Когда через большие промежутки времени поплыло второе, а затем третье дерево, немцы уже меньше реагировали, а потом и вовсе перестали обращать внимание на плывущие по реке деревья.
Нам было важно проследить, куда течение относит дерево и через какой промежуток времени оно коснется противоположного берега, чтобы знать, сколько потребуется нашей артиллерии времени для обеспечения отхода разведчиков.
Когда мы все это проследили, за одним из таких деревьев поплыли в неизведанный путь разведчики.
Наступили сумерки, все на реке стихло и замерло. Ночь была теплая, от реки тянуло сыростью и пахло прелью. Немцы почему-то не стреляли, даже не пускали ракет. Изредка только лучи дальних прожекторов отрывисто бегали по ночному небу. В траншее стояла напряженная тишина. Солдаты
163
молча курили махорочные закрутки, волнуясь за своих друзей разведчиков...
Ночь тянулась долго. И лишь на рассвете на противоположном берегу резко взметнулась красная ракета, и грянула артиллерийская канонада. Все загрохотало, зашумело, задвигалось, все бросились к своим боевым местам...
На западном берегу что-то ярко запылало, поднялись столбы дыма, песка и пыли. Это наши артиллеристы прикрывали отход разведчиков. Закончилась артиллерийская канонада так же внезапно, как и началась.
Наконец у поворота траншеи показались усталые, вымокшие с ног до головы, сияющие и счастливые разведчики. Они волокли свежего «языка»...
Вы, конечно, догадываетесь, что «штатский» офицер, первым высказавший мысль об использовании плывущих по реке деревьев, был Эммануил Казакевич.
Мы стали с ним добрыми друзьями. Он оказался интереснейшим собеседником, обаятельным человеком. Был прост в обращении, никогда не зазнавался, не говорил льстивых слов. Часто ему попадало от начальства за его прямоту. Некоторым кадровым офицерам эта прямолинейность казалась наивностью, незнанием тонкостей воинского этикета. Но затем стало ясно, что это — черта характера Казакевича, который не переносил ни грубости, ни чинопочитания.
Любому начальнику и подчиненному он говорил только правду в глаза.
В дивизии полковника З. П. Выдригана, где служил в ту пору Казакевич, плохо работала разведка. Начальник разведотделения штаба дивизии, кадровый офицер Н., кичился своей воинской выправкой, знанием военной службы, а по существу это был жестокий, сухой, ограниченный человек, которого разведчики не уважали. И это приводило к самым неприятным последствиям.
В конце концов Н. был освобожден от должности, и, по моему предложению, на его место назначили Казакевича. Он не имел специальной военной подготовки, но обладал ясным умом и добрым, душевным подходом к людям. И дела в разведке пошли по-иному.
Как-то поздно ночью я зашел к разведчикам в землянку. Все крепко спали, только дежурный сержант бодрствовал у раскаленной печурки. В землянке я застал Казакевича. Низко наклонившись над коптилкой, он что-то записывал
164
в блокнотик. Мы разговорились, и беседа незаметно затянулась до рассвета. Он сказал мне тогда: «Надо побольше записывать, потом уже не восстановить — ни вспомнить, ни даже вообразить пережитое будет нельзя».
После взятия Ковеля наша армия продолжала наступление.
22 июля 1944 года семеро разведчиков во главе с начальником разведки 76-й дивизии капитаном Казакевичем на лошадях пробрались в тыл к противнику и захватили мост на пути отхода немцев. Отважной семерке, удерживавшей мост, пришлось принять бой с отрядом вражеских солдат, численностью до сорока человек. Двое наших разведчиков были убиты, ранены трое, в том числе и Казакевич. Он получил осколок гранаты в правое бедро и был эвакуирован в тыловой госпиталь для излечения.
Войска нашей армии с боями продвигались на запад, а госпиталь, где лечился Казакевич, все дальше и дальше отводился на восток. Мы часто получали от него письма.
Военный госпиталь, где лечился Казакевич, в сентябре 1944 года оказался в Барнауле.
25 октября 1944 года его, хромающего, выписали из госпиталя и направили в Омск в резерв Сибирского военного округа.
По существу, война для писателя могла бы уже закончиться. Но он пишет рапорт с просьбой отправить его на фронт. Не дождавшись ответа, под предлогом, что его вызывают в Москву, сбежал в Варшаву догонять свои войска. Путь довольно длинный: Омск—Варшава!
В ноябре 1944 года, когда мы вели бои в городе Воломно, близ Варшавы, ко мне в блиндаж, опираясь на палку, вошел улыбающийся Казакевич. Он сразу, без обиняков, признался, что, поскольку начальство в Сибири не отпускало его из резерва, он без документов самовольно убежал на фронт.
Помню, что крепко ругал его за такую недисциплинированность, а в душе любовался им и радовался за него.
Пришлось доложить дело Казакевича члену Военного совета армии генералу И. Н. Королеву. Последовало распоряжение — поставить вопрос на партийном собрании и потребовать исключения провинившегося из партии. Я заявил, что буду голосовать против такого предложения. На суровом лице генерала чуть промелькнула улыбка...
— Не волнуйся, не исключат. А пропесочить надо. А то
165
все так и станут бегать, кто куда захочет, — сказал он с усмешкой.
Через некоторое время Казакевич стал работать в разведотделе 47-й армии, который я возглавлял.
Вместе мы в боях прошли через всю Польшу, форсировали Одер, обошли Берлин, потом штурмовали его с запада.
Врезались в память бои за Шнайдемюль, не стихавшие ни днем, ни ночью. Грохот артиллерийской канонады, лязг и рев танков, треск рушащихся горящих зданий — все это смешалось в один сплошной гул. Разобраться в сложнейшей обстановке такого боя очень трудно, и от разведки беспрерывно требуют новых данных.
В развалинах здания наши разведчики оборудовали наблюдательный пункт, откуда неотступно следили за противником. Среди разведчиков был и Казакевич. Пробравшись на НП, я застал его у стереотрубы. Он неотрывно смотрел в одну точку. Я спросил, что он так долго рассматривает.
Он приподнялся, уступая место, и предложил мне взглянуть на разбитый дом, который стоял в «ничейной» полосе, — считалось, что там нет ни немцев, ни наших. В трубу я увидел, что дом обитаем, — туда заползают и вскоре уползают обратно немецкие солдаты. Дом напоминал муравейник — ползучее движение в обе стороны почти не прекращалось.
Что все это означает? К вечеру мы послали в таинственный дом небольшую группу разведчиков. Просился в этот поиск и Казакевич, но его не пустили.
Разведчики благополучно проникли в дом. Спустившись в большой подвал, они обнаружили продсклад, да еще какой. Организовав засаду, разведчики увидели, как немецкие солдаты, пробравшись в подвал, набивают карманы и сумки шоколадом, бутылками ликера и, не задерживаясь, под непрерывным огнем уползают обратно к своим. Один из таких любителей сладкого прошел за шкаф в углу и наткнулся на нашего разведчика. Немец оторопел от неожиданности и не сводил немигающих, широко раскрытых глаз с наведенного на него автомата. Руки немца поднялись сами собой. Он застыл...
Той же ночью Казакевич допрашивал пленного. Тот оказался толковым и охотно рассказал все, что знал.
Меня всегда поражали упорство, трудолюбие и работоспособность Казакевича. Когда он отдыхал? В перерывах между боями, глубокой ночью, когда очень крепок солдатский сон, он сидел часами над блокнотом.
Своих героев он не выдумывал. Он писал о близких
166
друзьях, с которыми сам шел по-солдатски рядом. Он сам жил жизнью лейтенанта Травкина, героя повести «Звезда», и майора Лубенцова из «Весны на Одере».
...Шла весна 1945 года — последнего года войны.
Мы вели бои юго-западнее и западнее германской столицы. Берлин был полностью окружен. Вдруг из осажденного города на запад хлынула масса немецких войск. Говорили, что прорвалось то ли 10, то ли 20, то ли 30 тысяч немцев с бронетранспортерами и самоходками. Пленные показывали, что они прорываются на соединение с войсками, которые ведёт какой-то генерал с запада, чтобы уничтожить здесь русских и восстановить положение. Но это уже, конечно, были не те войска, которые могли «восстановить положение», — двигались деморализованные массы вооруженных людей, шли колоннами по дорогам и без дорог, лишь бы пробиться на запад. Их били, они отбивались и, как обреченные, перли вперед. Шли голодные, оборванные, но только на запад.
Перекрыть все дороги было невозможно. Часть немцев просочилась через боевые порядки наших полков и вышла в район Вахов, где располагался штаб 47-й армии.
Резервных частей у командующего армией под рукой не было. В штабе началась суматоха. Беспрерывно звонили телефоны, сообщали все новые и новые подробности о немцах, которые шли густыми колоннами.
Батальон охраны штаба армии, связисты и разведчики заняли круговую оборону. Все офицеры штаба находились в боевых порядках подразделений и ждали подхода немцев.
И вот на горизонте показалась колонна человек в триста. Впереди колонны двигались несколько штурмовых орудий «фердинанд». Левее этой колонны двигались еще и другие подразделения. Шли медленно, с оглядкой. По колонне немцев с нашей стороны был дан залп из винтовок. Построчили недолго пулеметы. Наши зенитки выпустили бесприцельно два снаряда.
Немцы засуетились, рассыпались по придорожным кюветам и кустам. Самоходки противника открыли огонь. Колонна залегла, не делая попыток двигаться дальше.
Мы наскоро выслали вперед несколько групп разведчиков. И тут ко мне подбежал Казакевич. Слегка заикаясь, торопясь, он выпалил:
— Давайте пошлем к ним парламентеров, чтобы сдались в плен. Я же знаю немецкий, я и пойду...
Кто-то из стоявших рядом офицеров проворчал:
167
— К ним, гадам, не с белым флагом надо ехать, а танками давить...
Я хотел было отклонить предложение Казакевича. Он это уловил и быстро добавил: «Они сдадутся. Они понимают, что им хана. Им только надо об этом сказать. Они поймут. Вот увидите».
Я предупредил, что это опасно для него. Он ответил: «Зато сколько жизней будет спасено».
И через несколько минут броневичок с белым флагом покатил в сторону немцев.
Казакевич остановил машину в том месте, где врассыпную лежали немцы, встал на броневик и, держа белый флаг, прокричал по-немецки:
— Солдаты, кто хочет жить, идите к нам, война закончена, и мы никого не убиваем.
Наступило мучительное молчание. Затем к броневику стали осторожно подходить без оружия одиночные солдаты. Казакевич убеждал их:
— Идите к своим и ведите их сюда. Мы гарантируем вам жизнь.
Через некоторое время толпы немцев с белым флагом устремились к броневику. Так под белым флагом, эскортируемые броневичком, немцы и двинулись в нашу сторону.
Был назначен старший, колонна стала приобретать воинский вид. По пути к ней, вылезая из кюветов, присоединялись другие солдаты.
Как потом выяснилось, рвались они на запад не потому, что верили в победу («Какая уж там победа», — буркнул пожилой белобрысый немец с грязной перевязкой на руке). Многие были родом с запада и просто хотели попасть домой. Другие боялись расправы русских.
Колонну встретил стрелковый взвод, высланный из батальона охраны. А Казакевич на своем броневичке, с белым флагом, посадив к себе в помощь нескольких немцев, вернулся к кустарнику, убеждать тех, кто еще не одумался.
Так за двое суток, без единого выстрела, нам сдались в плен более шестисот гитлеровских солдат.
Прошло более тридцати лет, как закончилась война, и естественно, что многие события того времени стали забываться, но любопытно, что все связанное с Эммануилом Генриховичем не забывается.
Уже после окончания войны мы как-то, будучи в слу-
168

Г. Казакевич и начальник разведотдела штаба
47-й армии полковник М. Б. Малкин. Осень 1945 г.
жебной поездке, остановились с Казакевичем в небольшом городке с замысловатым названием Фогельзанг — «Птичья песня». Решили зайти в первый попавшийся дом перекусить — сухой паек был у нас с собой. Нас встретила перепуганная, угодливая хозяйка дома. С ней была маленькая белокурая девочка лет пяти, которая, завидев нас, стала что-то гневно выкрикивать.
Перепуганная мать пыталась закрыть девочке рот, но та, вырываясь, продолжала выкрикивать гневные слова. Казакевич присел на корточки, погладил девочку по белокурой головке и улыбнулся. Потом он мне перевел: «Почему, — спрашивает она, — у меня такие тоненькие ручки? Потому что вы, русские, не хотите нам давать хлеба и сала...»
После капитуляции Германии штаб 47-й армии дислоцировался в немецком городе Галле. Для нас, кадровых офицеров, наступила обычная жизнь военного человека в мирных условиях — подготовка войск, штабные учения, боевые стрельбы и т. д.
В этих условиях Казакевич как-то не мог найти своего места. Однажды я предложил ему поехать в военную академию учиться. Он выслушал меня и каким-то сухим усталым голосом произнес:
— Нет, товарищ полковник. Слишком я люблю мир, поэтому и пришел добровольно на фронт воевать, а сейчас прошу представить меня к увольнению в запас.
После войны я встречался с писателем несколько раз в 1946 году. Он жил тогда на Хамовнической улице в неблагоустроенном бараке. Казакевич был в старой фронтовой шинели и кителе, не имел ни штатского костюма, ни пальто.
Я вспомнил, что Казакевич повсюду возил с собой объемистый сундучок, за который ему часто попадало от меня. В такой сундучок можно было спрятать не один костюм. Галина Осиповна вытащила из-под кровати знакомый, мне сундучок и открыла крышку. Сундук был набит старыми книгами и даже нотами — там лежали произведения Гёте, библии на немецком языке с иллюстрациями, творения Бетховена.
— Вот все, что он привез с фронта, — сказала Галина Осиповна и бережно закрыла крышку.
Последний раз я был у Казакевича в 1953 году. Он жил в доме писателей в Лаврушинском переулке, и его библиотека, конечно, уже не умещалась в сундучке.
1970
Н. Пономарев
ОТ ВАРШАВЫ ДО БЕРЛИНА
В маленькой комнате деревянного барака в Хамовниках, где после возвращения из армии в Москву поселился Э. Г. Казакевич с семьей, глубокой осенью 1946 года мне довелось в рукописи прочитать о боевых действиях группы дивизионных разведчиков. Рукопись была озаглавлена «Звезда». В комнате было холодно и сыро. Маленькая настольная лампа горела каким-то тусклым светом. В общем коридоре шумели соседи. Стараясь не отвлекаться, я внимательно читал.
Эммануил Генрихович грел руки над большим железным чайником, вода в котором, наверное, к утру покрывалась корочкой льда, и внимательно следил за моим чтением. Едва я успел отложить последнюю страницу, он спросил, есть ли неточности в описании действий разведгруппы и порядка поддержания связи со штабом дивизии.
Некоторые моменты казались мне само собой понятными и поэтому едва ли нужными, а позывной радиостанции разведгруппы — «Звезда», по-моему, не очень годился в качестве заглавия. Я полагал, что, может быть, лучше его обстоятельное и интересное описание назвать «Ночной поиск в дивизионном тылу противника» или что-нибудь в этом роде.
Эммануил Генрихович стал терпеливо и обстоятельно объяснять, чем отличается рассказ от документального отчета
171
или развернутого боевого донесения, подготовленного для доклада вышестоящему штабу. Я сейчас уже не помню многого из того, что он говорил в тот вечер. Но тогда, пожалуй, впервые до моего сознания по-настоящему дошло, что здесь, в Хамовниках, состоялось мое знакомство с писателем Казакевичем, а до этого я знал его только как хорошего офицера-разведчика.
Мне посчастливилось провести с Эммануилом Генриховичем немалое время на войне. Однако я не видел, а может быть и не обратил внимания на то, чтобы он вел какие-то дневники и делал литературные заготовки, чем в моем представлении должен был заниматься каждый литератор, оказавшийся в боевой обстановке.
В редкие часы фронтового затишья он старался развлечь товарищей, пародируя в стихотворной форме наши разведсводки и сочиняя веселые варианты писем по просьбе нашего штабного чертежника сержанта Гриши Лямина1 — доброго и на редкость застенчивого парня.
_______________
1Вот что написал Г. В. Лямин Г. О. Казакевич в 1969 году:
«Здравствуйте, Галина Осиповна!
Письмо Ваше получил. Я действительно есть тот Лямин Г. В., которого Вы разыскивали.
Мне, вторую половину войны, приходилось непосредственно жить и работать вместе с Эм. Казакевичем. Как Вы знаете, он работал в Разведотделе штаба 47-й армии — одним из помощников начальника отдела. Мне, как чертежнику, очень часто приходилось с ним изготовлять для доклада начальству карты-схемы системы обороны противника.
Я, как и он, попал в штаб на службу из «низов»...
Так что о военных ситуациях и др. событиях я Вам не могу прокомментировать. А вот о юморе у меня кое-что осталось в памяти. Так, например: нач. штаба армии в период войны интересовался положением всего советско-германского фронта. Разведотдел получал в то время Выписки из Генштаба (изменения в линии фронта), и меня, как чертежника, ежедневно командировали к нему. По этому случаю Эм. Казакевич, будучи в курсе этих похождений, сочинил песенку на знакомый Вам мотив (нетрудно угадать):
Живет начальник штаба
в высоком терему,
и только Гришка Лямин
понравился ему.
Я и шофер, возивший начальника отдела, были рядовыми. И среди офицерского состава отдела (а их было немало) для нас был Эм. Казакевич самым добрым и доступным по любому личному вопросу и совету.
Среди коллектива отдела он пользовался большим авторитетом и уважением.
После окончания войны Эм. Казакевич прилагал много усилий по вопросу демобилизации в гражданку.
Посылаю Вам фото военных лет, это будет Вам памятью нашей скромной фронтовой дружбы...» — Сост.
172
Разумеется, эти пародии и стихотворные шутки никто из нас не считал достаточным основанием для приобщения Казакевича к числу армейских и фронтовых литераторов, частенько появлявшихся с неизменными блокнотами и убедительными просьбами рассказать, о чем думал разведчик, когда шел в ночной поиск, или что он чувствовал, находясь в засаде.
Казакевич добросовестно делал свое нелегкое фронтовое дело, был отличным боевым товарищем и остался в памяти его армейских друзей хорошим разведчиком, спокойным и рассудительным, не любившим рассказывать о себе.
Внимательно перечитывая его книги «Весна на Одере», «Дом на площади», «Сердце друга» и все, что он написал о людях на войне, убеждаешься, насколько глубоко и детально он знал фронтовую жизнь. Для того чтобы написать такие книги, мало быть очевидцем событий, надо быть их непосредственным участником и рассказать о них честно и правдиво, без прикрас.
На войне бывает всякое — героические сражения огромных масс людей, подобно тем, которые отображены в «Весне на Одере», и трагические положения отдельных солдат и офицеров, оказавшихся наедине со своей совестью, как те «двое в степи». Эммануил Генрихович был редкостно правдив, доброжелателен и честен во взаимоотношениях с товарищами. Он всегда иронически отзывался о тех офицерах-разведчиках, которые, докладывая о результатах выполнения поставленных задач, старательно подчеркивают особую эффективность своего личного участия и не проявляют склонности обращать внимание на свои промахи и упущения, тяжело отразившиеся на других.
Фронтовая биография Казакевича во многом необычна — пройти путь от бойца народного ополчения до помощника начальника разведотдела армии дело непростое, особенно для человека, по состоянию здоровья вообще непригодного к военной службе. Эммануил Генрихович подавляющую часть своего ратного пути прошел в полковой и дивизионной разведке, где средняя продолжительность жизни солдат и офицеров одна из самых коротких на войне. Дважды раненный в боях, дважды побывавший в госпиталях, он снова стремится на фронт, и не просто на фронт, а в войсковую разведку. Это о многом говорит и многого стоит.
О Казакевиче на войне вспоминать сейчас не легко, ибо он как большой писатель заслоняет Казакевича — офицера-разведчика, каким мы его знали в те годы. В моем распо-
173
ряжении сохранилось очень мало материалов, которые бы позволили более или менее полно воссоздать его кропотливую работу по вскрытию группировок немецких войск перед фронтом частей и соединений, где ему приходилось служить.
К тому же в официальных штабных документах и разведсводках зафиксирован конечный результат повседневного самоотверженного труда солдат и офицеров войсковой разведки. В них почти не говорится о том, что все эти разведгруппы, разведвзводы и разведроты состояли из ярославских, иркутских, владимирских ребят, таких разных и непохожих один на другого, но постоянно готовых прийти на помощь товарищу и, рискуя жизнью, добиваться выполнения боевой задачи.
Эммануил Генрихович, пожалуй, выделялся этой непохожестью больше, чем другие. Она проявлялась и в поведении, и в манере разговора, и, наконец, в сохранении чувства юмора в самых, казалось бы, неподходящих для этого обстоятельствах. Непохожесть особенно отчетливо видна не в том, что делает разведчик, а в том, как он это делает и каким образом себя ведет. Казакевич вел себя не то что необычно, а немножечко не так, как бы вел себя на его месте другой офицер-разведчик. Попытаюсь пояснить это на некоторых примерах, не придерживаясь точной хронологии, а так, как это запечатлелось в моей памяти.
В последних числах марта 1944 года соединения 47-й армии действовали под Ковелем в очень сложной обстановке. Немецким войскам удалось деблокировать город, введя в бой танковую дивизию СС «Викинг». Весенняя распутица, лесисто-болотистая местность до крайности затрудняли решение боевых задач.
Незадолго до этого в командование нашей армией вступил генерал-лейтенант В. С. Поленов — двенадцатый по счету командующий за три с небольшим года существования 47-й армии. Надо было привыкать к новому командующему. Генерал Поленов был человек решительный, но весьма своеобразный и крайне нетерпеливый. Он доставлял немало хлопот разведчикам, поскольку в любой момент мог потребовать исчерпывающие данные о противнике, несмотря на то, что толком не всегда было известно точное расположение даже своих собственных войск. Следует иметь в виду, что в тот период сведения из войск поступали в штаб армии с большими перебоями — банды бандеровцев, орудовавшие в полосе армии, систематически уничтожали линии связи и нападали на связистов.
174
Особенно неясное положение сложилось перед фронтом 76-й дивизии, начальник разведки которой был освобожден от занимаемой должности, и в начале апреля вместо него был назначен старший лейтенант Э. Г. Казакевич.
Для уточнения положения дел на места выезжали офицеры штаба армии и принимали непосредственное участие в организации разведки.
С подобной задачей мы добрались до штаба 76-й дивизии и разыскали нового начальника разведки. Мне приходилось видеть немало начальников разведок полков и дивизий. Большинство из них обычно в чем-то отличалось от других офицеров — то ли наличием трофейного оружия, то ли особой манерой носить военную форму, — одним словом, начальника разведки не так трудно было узнать.
Однако старший лейтенант Казакевич в этом отношении был на редкость нетипичен. Перед нами появился не очень складно обмундированный офицер, в больших очках, с тульским наганом на каком-то неуставном поясочке, — больше похожий на лесного обходчика, чем на руководителя разведки боевой дивизии.
Пошли в штаб. Эммануил Генрихович принес свою рабочую карту, на которую он наносил разведданные, не очень сообразуясь с требованиями Наставления полевой службы штабов в отношении общепринятых условных обозначений. Докладывал он о сложившейся обстановке и замыслах противника обстоятельно, стараясь обратить особое внимание на моральные и боевые качества личного состава противостоящих частей противника. Группировка войск была действительно пестрой. Перед фронтом 76-й сд, по данным Казакевича, находились боевые группы войск СС, венгерские дивизии, немецкие полицейские и саперные батальоны, подразделения власовцев и разных других отщепенцев, переданные под общее командование обергруппенфюрера СС фон дем Баха. Что касается самого фон дем Баха, то Казакевич охарактеризовал его как редкостного живодера, способного на самые зверские расправы не только с местным населением, но и со своими солдатами. Эту характеристику эсэсовский генерал с лихвой подтвердил своей безрассудной жестокостью во время боев с восставшим населением Варшавы осенью 1944 года.
Закончив доклад и спрятав карту в полевую сумку, Эммануил Генрихович внимательно посмотрел на нас и с серьезным видом, очень доверительно добавил:
«Все, что я вам доложил, относится к фактической сторо-
175
не дела, а юридически перед фронтом дивизии противника вроде бы нет. По той простой причине, что если судить о его потерях по всем нашим донесениям о результатах боев за последние недели, то каждый противостоящий нам немец убит дважды, а некоторым, по-видимому, особенно не повезло, и их вывели из строя трижды».
Затем, немного подумав, добавил: «Не исключено, что к общей сумме потерь по ошибке могли приписать немцев, погибших в боях с русскими войсками, наступавшими здесь под командованием А. А. Брусилова в 1916 году». Упоминание о брусиловском прорыве дало нам понять, что он хорошо знает не только настоящее положение дел, но и боевое прошлое района действий своих разведывательных групп.
Став начальником разведки дивизии, Э. Г. Казакевич строго придерживался своего излюбленного правила — при первом же удобном случае отправляться на передний край и вместе со своими разведчиками принимать участие в поисках и засадах. Добывать данные о противнике нередко приходилось дорогой ценой. Бои на Ковельском направлении в апреле и июле 1944 года обошлись Эммануилу Генриховичу двумя тяжелыми ранениями. Но едва встав на ноги, он снова возвращался в строй.
История второго ранения весьма характерна для Казакевича. Во главе отделения конных разведчиков он пытался в тылу у немцев захватить мост через реку Владавка. Мост захватили, но такими малыми силами удержать не могли и вынуждены были с боем отойти. В бою осколком гранаты Казакевич был ранен и опять попал в госпиталь.
Я не очень уверен в том, что была крайняя необходимость принимать участие в такой рискованной операции самому начальнику разведки дивизии, поскольку перед ним стояли и другие немаловажные задачи. И дело здесь не в какой-то особой отваге и лихости Эммануила Генриховича — человека безусловно смелого и умеющего сохранять выдержку в трудные минуты. Для него всего важнее было дело, и ему он подчинял все остальное, в том числе и самого себя. Позднее он сам рассказывал, что вообще было чертовски жутковато, «но уж очень нужен был этот мост, да к тому же попутно надеялись прихватить одного-двух контрольных пленных, которых вы требовали».
Думаю, что в становлении Казакевича как офицера и смелого разведчика немалую роль сыграл командир дивизии полковник З. П. Выдриган, с которым Эммануила Генриховича связывала большая дружба. В период боев на Ковельском
176
направлении полковник Выдриган действовал во главе штурмовой группы и был ранен.
В своих разведывательных сводках Казакевич был предельно точен, сомнительные данные стремился перепроверить, если возможно, лично. Когда у него возникали опасения в том, что в донесениях, поступающих от разведгрупп, эмоции и факты находятся не в должной пропорции, он коротенькой запиской в своей обычной шутливой манере сообщал: «Сегодня ночью в районе высоты 213,3 наши ребята якобы захватили пленного, которого якобы допросили и якобы выяснили, что он по меньшей мере из личной охраны фюрера». Это означало, что Казакевич отправился в разведподразделение полка для перепроверки и уточнения данных. Так было во время боев на Ковельском направлении, так он стремился действовать под Варшавой и при стремительном продвижении советских войск к Одеру.
В начале февраля 1945 года часть сил 47-й армии была брошена для ликвидации окруженной немецкой группировки в крепости Шнайдемюль (ныне город Пила). Данные о численности окруженного гарнизона наш разведотдел получил от штаба 61-й армии, которую в этом районе сменил наш 125-й стрелковый корпус, а также из штаба фронта. Однако сведения нуждались в уточнении и проверке. Задачи по разведке были разработаны и переданы начальнику разведки корпуса. Эммануила Генриховича командировали в район боевых действий войск с тем, чтобы он на месте оказал необходимую помощь в организации разведки. В результате энергичных действий разведподразделений удалось с весьма высокой точностью установить, что в крепости обороняются части 75-й и 172-й пехотных и 12-й танковой дивизии немцев, 4-й бригады СС «Нидерланды» и подразделения фольксштурма.
Гарнизон крепости практически не имел возможности ни удержать город, ни вырваться из окружения. Не желая напрасных жертв, советское командование решило предъявить ультиматум коменданту крепости и начальнику гарнизона полковнику Ремлингеру. Узнав об этом решении, Казакевич сказал, что он очень сомневается в успехе, поскольку такой фанатик, как Ремлингер, на переговоры о капитуляции не пойдет. Эммануил Генрихович рассказал, что в крепости комендант расклеил приказ, в котором коротко объявил: «Кто уйдет с поля боя — будет расстрелян». Наши разведчики на трупах немецких солдат в крепости нашли записки следующего содержания: «Этих солдат расстрелял я, и так буду поступать с каждым, кто побежит с поля боя. Комендант
177
Ремлингер». Одну из таких записок Казакевич привез в штаб армии и уверял, что ее текст говорит о намерениях немецкого командования больше, чем данные о численности окруженного гарнизона.
Комендант крепости отклонил наш ультиматум, и 14 февраля город был взят штурмом.
Казакевичу было свойственно уменье быстро сопоставлять различные факты и логично дополнять недостающие сведения, — черта характера особенно ценная для разведчика. Оценивая обстановку, разведчику зачастую приходится иметь дело с противоречивыми данными и различными неопределенностями, на основе которых надо делать конкретные выводы, преодолевая ряд трудностей, в том числе и психологического порядка.
Добыть сведения — это еще не значит полностью выполнить задачу разведки. Полученные сведения крайне важно правильно оценить, своевременно и убедительно доложить командованию. А это не всегда так просто, как на первый взгляд может показаться.
У некоторых командиров и начальников на основе различных предпосылок складывается свое субъективное представление о намерениях противника и перспективах развития обстановки в целом. И если данные разведки укладываются в рамки этого представления, то они легко принимаются к сведению и с удовлетворением учитываются. В противном случае всегда есть опасность того, что их могут расценить как необоснованные, неубедительные или даже дезинформационные. Подобные примеры большинству разведчиков хорошо известны.
Казакевич обладал способностью убедительно докладывать, доказательно мотивировать свои выводы и соображения, в чем ему помогала отличная память и разносторонние знания.
Умение Эммануила Генриховича на основе разрозненной информации создавать достаточно полную картину положения противника во многом предопределило решение командования перевести его из дивизии в разведотдел штаба армии, что удалось сделать только в ноябре 1944 года, после возвращения Казакевича из госпиталя.
Знал он действительно очень много и при каждом удобном случае стремился в чем-нибудь расширить наш кругозор. Делал это он как-то незаметно, попутно и тактично. В конце 1944 года разведотдел штаба 47-й армии находился в Рембертуве, недалеко от варшавского предместья — Праги.
178
Мы поселились в небольшом коттедже дачного типа.
Хозяин дома отнесся к нашему вселению без особого восторга, по-видимому опасаясь за сохранность своей библиотеки, которую Эммануил Генрихович внимательно изучал, переставляя книги по какому-то другому, своему принципу. На чердаке дома он набрал большую кипу немецких и польских газет, журналов и толстенных каталогов.
Весь этот бумажный ворох на ночь заворачивал в шинель и спал как на подушке. В свободные минуты просматривал журналы, вырезал помещенные там фотографии и, разложив их на полу, с видом заправского экскурсовода давал необходимые, по его мнению, пояснения.
«Вот перед вами, — говорил он, — выдающийся польский пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский, бывший одно время по совместительству премьером и министром иностранных дел Речи Посполитой. История пана Игнация наглядный пример того, что ничего хорошего не получается, если человек начинает заниматься не своим делом. Вместо того чтобы писать оперы, господин Падеревский подписывает Версальский договор, однако на этом не успокоился и утвердил еще уйму законов, повергших в уныние не только любителей музыки, но и всех остальных поляков, которые сеют и жнут, куют и строят». В таком же плане Эммануил Генрихович комментировал и другие фотографии.
О крупных польских и немецких городах, через которые с боями проходили наши части, у Казакевича в памяти был большой запас интересных подробностей — чем этот город знаменит, кто из видных деятелей науки и культуры в нем жил и работал.
Особенно памятны его рассказы о Германии. Когда штаб 47-й армии передислоцировался в Виттенберг, Эммануил Генрихович в первый же день повел нас осматривать старинную замковую церковь, на воротах которой августинский монах Мартин Лютер более четырехсот лет назад прибил свои знаменитые 95 тезисов.
Во время осмотра он перевел нам содержание тезисов и рассказал несколько эпизодов из истории религиозных войн. Затем в обычной своей манере, быстро сменив тему беседы, стал доказывать, что саксонцы по языку и характеру речи отличаются от остальных немцев — они более темпераментны, настойчивы и энергичны, поэтому, мол, на любом сколько-нибудь заметном административном посту Германии непременно сидит саксонец.
179
«Раз вы уже побывали в Саксонии, то сами должны были обратить внимание на это немаловажное обстоятельство», — сказал Казакевич.
Когда и где Эммануил Генрихович успел почерпнуть все эти сведения, мы толком не знали, ибо о своей жизни и работе до войны он рассказывал очень мало. Да и то, что сообщал, воспринималось нами как веселая шутка. Трудно было поверить, что одно время он был председателем колхоза или что руководил театром.
Такие факты сообщались попутно, между прочим. Как-то сильно простудился начальник 1-го отделения разведотдела подполковник Н. С. Шевченко. Он несколько часов просидел в ледяной воде, ожидая возвращения с задания разведгруппы. Лечили мы его подручными средствами — усиленными порциями местного самогона, именуемого почему-то «бимбер». Результаты были неважные. Шевченко растирал куском шинели распухшие ноги и непрерывно ругался, считая, что лечебные свойства «бимбера» поляки испортили, добавляя в него для крепости карбид.
Казакевич его успокаивал и говорил, что хорошо бы достать большой котелок собачьего жиру или кусок мяса самой обыкновенной дворняги, поскольку лучшего средства от простуды, проверенного многолетним опытом корейцев, в медицине нет. Секреты такого лечения ему сообщили корейцы, с которыми он был знаком на Дальнем Востоке, будучи там председателем колхоза. Шевченко до службы в армии работал агрономом, и, наверное, поэтому Эммануил Генрихович для большей убедительности своих советов упомянул и о собственной причастности к земледелию.
О том, что Казакевич был директором театра, мы узнали в Галле, во время осмотра города. Эммануилу Генриховичу не понравился какой-то памятник, придававший, по его мнению, всей площади вид плохой декорации. От рассуждений о роли декораций он перешел к трудностям работы в театре, сославшись на свой опыт руководства одним вполне приличным, как он говорил, театральным заведением. Потом еще раз вернулся к памятнику и для нашего сведения сообщил, сколько весит огромный монумент «Битва народов», воздвигнутый в Лейпциге в ознаменование одержанной здесь в 1813 году победы над Наполеоном.
В разведотделе армии одной из обязанностей Казакевича была подготовка разведывательных донесений и
180
сводок, ежедневно высылаемых в штаб фронта. Работа над сводками сопровождалась сетованиями на тяжеловесный язык поступающих с мест донесений. Эммануил Генрихович с самым серьезным видом предлагал, например, начинать очередную сводку бодрым утверждением о том, что наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, успешно продвигались «по Тюрингии дубовой, по Саксонии сосновой, по Вестфалии бузинной, по Баварии хмельной».
Он полагал, что польза от этого будет несомненной, — во-первых, в разведуправлении фронта попутно познакомятся со стихами хорошего поэта, о котором и нам следовало бы кое-что знать, а во-вторых, повторят административное деление третьего рейха, что тоже не вредно.
Самым внимательным слушателем таких рассуждений был переводчик нашего отдела капитан Михаил Аглатов. Эммануил Генрихович продиктовал ему несколько стихотворений разных советских поэтов, которые Аглатов заучивал на память. Особенно понравилось Мише стихотворение Багрицкого о том, как три грека в Одессу везли контрабанду. Заключительные строки: «Ай, Черное море, хорошее море!» — Аглатов произносил с особым нажимом, повторяя их к месту и не к месту, и изрядно всем надоел.
Однако, набравшись терпения, мы не прерывали декламационные упражнения Аглатова. Все знали, что с Черным морем у него связаны самые драматические воспоминания военного времени.
С капитаном Аглатовым Эммануил Генрихович беседовал всегда очень охотно и подробно расспрашивал о его жизни. Михаил Аглатов был личностью примечательной. Этот маленький, толстый бакинский армянин, в совершенстве владевший немецким языком и знавший все его основные диалекты, прибыл в распоряжение разведотдела штаба 47-й армии весной 1942 года, когда она находилась на Керченском полуострове.
Явился он в штаб в отлично сшитом гражданском костюме, фетровой шляпе и в великолепном галстуке. По какой-то непонятной причине Бакинский горвоенкомат, призывая его в армию, не удосужился выдать военное обмундирование, и Аглатову ничего не осталось делать, как, захватив воинское предписание, в своем лучшем костюме отправиться на фронт. В мае 1942 года он пережил трагическое отступление войск Крымского фронта и, не умея плавать, переправлялся через Керченский
181
пролив на автомобильной камере, на всех известных ему языках проклиная немцев, заставивших его пуститься в столь рискованное плаванье.
Весь его облик и характер удивительно напоминает Оганесяна из «Весны на Одере», и все, что было интересного в нашем замечательном переводчике, можно найти на страницах этого романа. Эммануил Генрихович говорил, что Миша Аглатов личность историческая — это Афанасий Никитин нашего времени, он тоже ходил за три моря — Каспийское, Азовское и Черное. Правда, не по своей воле.
С Аглатовым Эммануил Генрихович обычно проводил допрос пленных. Хотя он сам бегло говорил по-немецки, но Мишу брал с собой для создания непринужденной обстановки и уличения немцев в плохом знании своего родного языка, особенно в части военной терминологии.
Допросы представляли собой обстоятельные и, если позволяло время, неторопливые беседы, в ходе которых получали уйму интересных сведений, выходящих за рамки обычных разведданных.
Когда попадался не очень сведущий немец, фольксштурмист или резервист самых старших возрастов, ничего не знающий, кроме командира своей роты, Эммануил Генрихович беседовал с ним на разные житейские темы. После допроса он возвращался вместе с Аглатовым в разведотдел и докладывал, что немец, к сожалению, знает очень мало.
«Мы с Мишей, — говорил он, — сами рассказали этому пленному о боевом составе 131-й пехотной дивизии, в которой он имел несчастье служить. Если хочешь, то его показания можно включить в разведсводку, но учти, что они не будут существенно отличаться от того, что мы сами знаем об этой дивизии».
Разумеется, такие сведения включать в сводку не имело смысла, и Казакевич, великолепно зная об этом, тут же предлагал данные другого порядка.
«Не плохо бы указать в сводке, — советовал Казакевич, — что этот немец захвачен на заброшенном хуторе, где ловил кур весьма оригинальным способом собственного изобретения, который он нам подробно описал. Способ прост и весьма надежен, так что заслуживает поддержки и распространения. Кроме того, он дал нам адрес своих родственников и пригласил навестить их, когда мы будем в Германии. Это мы ему обещали».
182
Материалы таких допросов были полезны не столько для разведотдела, сколько для работников 7-го отделения политотдела армии, ведавших организацией пропаганды среди немецких солдат. В этом отделении служил лейтенант Советской Армии Конрад Вольф — частый гость разведотдела. После войны он вернулся на родину и ныне является президентом Академии искусств ГДР.
Работать с такими коллегами было легко и интересно. Наш дружный многонациональный состав разведотдела пользовался большим авторитетом в штабе, легко устанавливал и поддерживал хорошие деловые отношения с офицерами, что очень помогало нам в решении служебных задач.
Последние недели войны — когда наши части стремительно продвигались к Одеру и затем приняли участие в штурме Берлина — были крайне напряженными для всех сотрудников разведотдела. Особенно много хлопот было у офицеров информационного отделения, в котором работал Эммануил Генрихович. Не спали сутками, сменяя друг друга у телефонов и на узле связи, организовывали прием и отправку многочисленных пленных, не говоря уже о самом главном и основном — непрерывном анализе разведданных и составлении донесений для командования, штаба фронта и информации войск.
Днем 27 апреля 1945 года части 77-го стрелкового корпуса 47-й армии овладели городом Потсдамом. Кольцо окружения было замкнуто. Впервые за все годы войны офицеры разведотдела оказались без обычного противника, — впереди за Эльбой находились союзные англо-американские войска. Разведчики получили долгожданную передышку.
В самые последние дни войны произошел трагикомический эпизод, едва не закончившийся печально для Казакевича и Аглатова.
В ночь с первого на второе мая из окруженного Берлина через реку Хавель прорвалась крупная группировка немцев и ринулась на запад к Эльбе, через расположение тыловых служб нашей армии. Отдельные группы вооруженных немцев проникли в пункт дислокации штаба армии и оказались около дома, в котором разместился разведотдел.
Казакевич с Аглатовым отправились на узел связи и в темноте неожиданно столкнулись с немецкими солдатами. На отличном немецком языке Аглатов приказал им сдать оружие, сославшись на соответствующее распоря-
183
жение какого-то тут же выдуманного немецкого генерала. Солдаты сдали оружие и были доставлены в разведотдел. Эммануил Генрихович считал, что это был самый удачный его ночной поиск за время войны.
Первые недели после Победы прошли в каком-то неудержимом вихре необычных заданий, поездок, встреч, переговоров. Один офицер нашего отдела обзавелся трофейным легковым автомобилем и гонял на нем целыми сутками. Эммануил Генрихович с большим желанием принимал участие в этих поездках. Его интересовало все — библиотеки и ратуши, уцелевшие заводы и лагеря перемещенных лиц.
В университете города Галле он пытался разыскать какого-то ученого немца, сейчас уже не помню — историка или филолога. Ученого не нашли, но зато вдоволь наговорились с различными немецкими чиновниками, университетскими служащими и уцелевшими профессорами. Не скрою, отношение у нас к ним в первые мирные дни было весьма настороженным. Ведь для нас долгие годы войны каждый немец был вооруженный враг.
Когда приходилось останавливаться на ночлег в немецкой деревушке, где, кроме нашей небольшой группы с трофейным «фольксвагеном», советских солдат и офицеров не было, кто-нибудь предлагал установить дежурство, предосторожность, мол, не помешает, как-никак, а мы на территории врага.
Казакевич спокойно ложился спать, вешая на стену свой тульский наган, и убеждал нас последовать его примеру.
«Немцы народ дисциплинированный, — говорил он. — Раз война окончена, то они будут вести себя тихо и постараются не нарушать наш сон».
И действительно, за все время наших многочисленных поездок никаких эксцессов не было.
Сразу же после окончания войны в советской оккупационной зоне в городах и крупных населенных пунктах стали создаваться наши военные комендатуры, в обязанности которых входило множество задач — от организации продовольственного снабжения населения до урегулирования бытовых конфликтов.
Часть офицеров органов военной разведки, знающих немецкий язык, привлекалась для работы в комендатурах. Казакевич очень интересовался этой необычной для наших офицеров деятельностью.
184
В одном из маленьких немецких городов, кажется Косвиг, обязанности коменданта выполнял бывший офицер нашего отдела капитан Виктор Черевичко. Это был очень смелый офицер, имевший личные счеты с немцами — на оккупированной территории погибли его ближайшие родственники.
В силу своего прямолинейного характера он не признавал каких-либо переходов, для него существовало только белое и черное. Соответственно этому каждый немец был хорошим или плохим — то есть мертвым или живым. Казакевич уговорил нас поехать в Косвиг и посмотреть, как теперь капитан Черевичко управляется с немцами. Мы не сомневались, что наш капитан установил в городе жесткий порядок и либерализма не проявляет.
«А я, — утверждал Казакевич, — готов держать пари на ящик мозельского вина, что Витя организовал в городе молочную кухню, учредил несколько прачечных и лично откармливает и отмывает маленьких немчурят. Мужик он в сущности добрый, а злой только в бою».
В Косвиг мы съездили и пари проиграли, еще раз убедившись в том, что Эммануил Генрихович разбирается в людях куда лучше нас.
Небольшой особняк на площади Косвига, где размещалась советская комендатура, по-видимому, помог Казакевичу глубже ознакомиться с работой наших первых комендатур и позволил с такой впечатляющей силой создать «Дом на площади».
Может быть, война и не была его главной темой. Но то, что он написал о войне, снискало ему глубокую признательность всех, кто прошел через эту великую войну.
Я не знаю секретов писательского труда и могу лишь догадываться о том, что герои многих книг Эммануила Генриховича живут вместе с нами, потому что каждому из них отдана часть его большого писательского сердца. У настоящих писателей завидная судьба — они вечно остаются в жизни героев своих книг.
Остался с ними и Эммануил Генрихович Казакевич, большой писатель и душевный человек, остался в строю советских военных разведчиков и капитан Казакевич — как всегда, там, где всего труднее и где он больше всего нужен.
1976
Д. Данин
«ВОТ ОНИ И ВЫШЛИ!»
Мне хочется рассказать одну историю из писательской жизни Эммануила Казакевича. Она связана с появлением его маленькой повести «Двое в степи». Не знаю, прав ли я, но эта повесть всегда казалась мне лучшим из того, что он опубликовал. Начну, однако, издалека. У всякой истории есть предыстория, а у той — своя, и то, что могло бы сойти за старт, на самом деле теряется в глубинах души и жизни. Начать издалека побуждает еще и подспудное желание оправдать свое право даже на эти короткие воспоминания.
...Память о долгой дружбе — как старая дорога, зарастающая понемногу травой: она вся в невидимых со стороны колдобинах и бугорках мудреных подробностей. Возвращаться по ней назад хорошо бы вдвоем — с тем, с кем она была пройдена. Хорошо бы отзываться на жадное «а помнишь?» и самому бы твердить этот жадный вопрос. Словом, хорошо бы писать воспоминания о живом. Но их пишут после того, как дорога оборвалась на нежданном-негаданном повороте. Возвращаться назад приходится в одиночестве. И потому это трудно. Чем ближе был друг, тем труднее о нем пишется. Еще потому труднее, что чем ближе был он, тем разветвленней в памяти о пережитом и
186
переговоренном все обнаженно доверительное, а пересказывать это без ведома и разрешения ушедшего как-то не получается. Ловишь себя на чувстве, будто готовишься предать былое безоглядное доверие. Лучше помолчать — пусть еще пройдет время.
Итак — всего одна историйка, на которую разрешения не требуется. Но сперва — о начале дороги.
Нас свела не случайная встреча, а война. Мы познакомились на рубеже июня — июля 41-го года во дворе распущенной на летние каникулы школы в районе Арбата. Там происходил сбор писательского народного ополчения перед выходом из Москвы — куда-то в западном направлении.
Среди известных писателей уже вполне почтенного возраста — таких, как Юрий Либединский или Рувим Фраерман, Александр Бек или Николай Вильям-Вильмонт, Степан Злобин или Александр Роскин, — узкоплечий ополченец совсем юношеского вида в синем свитере показался мне ровесником, а по несмелой повадке — тоже только начинающим литератором. (Позднее я узнал, что ошибся: в незнакомой мне еврейской поэзии он уже заслужил к тому времени славу талантливейшего из молодых.) В ту поворотную минуту — а выглядела она минутой ухода на фронт — искалось в окружающих сходство с собой, и внимание лепилось к пустякам: смотри-ка, такой же вещмешок, такие же ботинки, те же очки. И худоба, и вроде бы студенческая неухоженность...
Он сидел на свеженькой ремонтной доске у стены, и место рядом с ним пустовало. Я устроился на этом месте без всяких там «вы не возражаете?» или «если позволите?». Нам ни минуты не случилось быть на «вы». Обменялись внимательными взглядами искоса, из-под очков, и потом рукопожатием, как уже связанные неизвестным, но единым будущим однополчане. Назвались друг другу. Его имя мне ничего не сказало. Тем меньше мое — ему. Тотчас установили, у кого сколько диоптрий. И тотчас убедились, что по мирному времени — оба белобилетники. Ему было 28, мне — 27. Разговор не запомнился, но остался в памяти жест: он пощупал рукой мой податливый бицепс. Тогда и я пощупал рукой его податливый бицепс. «Не Бальзак!» — сказал он. И чем-то мгновенно — на всю жизнь — понравился мне... Обилие ничего не значащих сходств — вместе с одинаковостью роста — сделало свое дело: когда нестройно строилась на-
187
ша колонна, мы стали рядом. Потом перестроение по четыре нас развело, и помню легкий укол сожаления, что это случилось.
А через три месяца, на дождливом рубеже сентября — октября, где-то под Семлевом за Вязьмой, был второй укол сожаления. По-настоящему серьезный — с комом в горле, как при расставании надолго, если не навсегда. Дело в том, что из той короткой череды дней и недель ополченской жизни два с лишним месяца мы были волею обстоятельств совершенно неразлучны.
В конце июля нас обоих, возможно как самых молодых, перевели из писательской роты в отдельный отряд Особого отдела армии, а оттуда — в 13-ю дивизию, где ополченцы Ростокинского района либо знали друг друга с довоенных времен, либо успели тесно сжиться в первых испытаниях войны. Нас восприняли как залетных птиц. И шалашик у нас был на двоих, и в наряды нас назначали вдвоем, и патрульную службу мы несли вместе, и бок о бок караулили ночами провиантский склад.
Вместе мы подали заявления в школу младших лейтенантов и вместе где-то в лесу проходили медкомиссию. У Казакевича близорукость была чуть сильнее, и, страшно боясь, что он вдруг не пройдет, мы перед окулистом хитро перепутали очки, дабы уравнять наши шансы. Не прошел, однако, я. Так на исходе сентября настала минута, когда мы напоследок снова вместе шли по лесной дороге, но один был уезжающим — неизвестно куда, а другой провожающим — неизвестно почему.
Я вспомнил о начале нашей дружбы только затем, чтобы сказать о существенности ее истоков. Она длилась потом двадцать лет — до самой его смерти. И не всегда отличалась безоблачностью. Бывали глухие размолвки, но никогда — из-за вздора или третьих лиц, а тоже из-за вещей существенных. Однако те давние истоки всякий раз оказывались еще существенней и возвращали мне (или — нам) то, что на время утрачивалось.
И был, наконец, приступ безвыходной жалости-печали — трагической, ничем и никем не отменимой, — когда в сентябре 62-го года он, уже обреченный, лежал в 13-й больнице, один, в палате со второй пустовавшей постелью. На его исхудавшем лице без очков громоздилась обезболи-
188
вающая маска с закисью азота — веселящим газом, и он в обычной своей манере легко острил: «Смотри, чем я не четвертый космонавт?!» И, чуть поглаживая желтой рукою оперированный живот, с почти достоверным оптимизмом говорил: «Слушай, у тебя же здесь тоже нехорошо, ложись на эту пустую койку, — вместе нам будет лучше и вылечат нас вместе!» Маргарита Алигер — его преданнейший друг той поры — смотрела на меня от окна безнадежно серьезными глазами, внушая на расстоянии, что надо соглашаться, надо соглашаться! И я, в подражанье ему, старался улыбаться тоже подостоверней, и отвечал, что это прекрасная идея, и вспоминал пустующее место на свеженькой ремонтной доске в июльском дворе московской школы и опустевшую дорогу, по которой ушел он в сентябрьском лесу за Вязьмой...
Он ушел тогда превращаться из прирожденно штатского человека в доподлинно боевого офицера. И прошло около полугода, прежде чем в феврале и в марте 42-го вдали от ополченского Подмосковья — за Калугой — я получил в редакции газеты 10-й армии три письма от младшего лейтенанта Казакевича, уже сполна вкусившего невзгод и радостей истинно фронтовой жизни. Те завораживающие письма сохранились. В одном из них были строки:
«Я адъютант командира части... Он меня любит, и это чего-нибудь да стоит.
...Я мог бы иметь много свободного времени, но оно бы тяготило меня. Писать я не могу, ибо, утратив один язык, я не обрел еще другого — это во-первых, или, вернее, во-вторых, и в сердце пустовато — это во-вторых, или, вернее, во-первых.
Несмотря на мое служебное положение, обязывающее по традиции быть ловеласом, мною только изредка овладевают греховные желания... Не понимаю, что сие означает... может быть, необходимое отупение после октябрьско-ноябрьской эпопеи, когда я по дорогам Московской области повторял ставшие страшно актуальными тютчевские слова:
Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня.
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?
189
Думаю, что это пройдет вскоре.
Когда я был в Москве... видел М., постаревшего, видел выложенного шпалами С. И я начал подозревать, что мне, молчаливому поэту, непишущему писателю, лучше, чем им. Что-то накапливается в сердце и не разбрызгивается понапрасну в поневоле пустых, ибо незрелых словах...
Иногда я начинаю тосковать по моим писаниям, особенно по трагедии о Колумбе, которую оставил недописанной в буйном цвету, 21 июня 1941 года. Будь со мной ты, я стал бы писать пьесу... может быть, совместно с тобой. Но один я не могу приняться за что-либо, мне перестало хватать для этого двух глаз, двух ушей, двух рук...»
Помню, когда приходили на фронт московские журналы, я все надеялся встретить серьезные — не минутные — стихи Казакевича. Верилось: то, что у него — одного из самых содержательных людей, каких я знал, — накапливалось в сердце, ждало лишь своего часа. Но этому часу предстояло прийти только после войны. И выразиться копившемуся суждено было не в стихах, не в драматургии, а в прозе.
Мое поколение помнит, какое утешающее и неотразимое впечатление произвела его первая послевоенная вещь — коротенькая «Звезда». Она появилась в 47-м году. Была издана у нас повсеместно и переведена на десятки языков. Она обрушила на бедствующего Казакевича нежданные деньги и ту надежную славу, когда все — и ближние, и дальние — переполняются ожиданием: а что он еще нам скажет, этот внезапно раскрывшийся талант, с его безусловной честностью, покоряющей человечностью и необманной поэтичностью?
Но для самого Эммануила Казакевича взрывоподобный успех «Звезды» был совершеннейшей неожиданностью. Однако вовсе не потому, что он был скромником, а тут — вдруг свалилось!.. Нет-нет, он скромником не был — ни в оценке собственных сил, ни в поступках.
Правда, порою у него появлялась непредвиденная улыбка застенчивой взволнованности, и даже бледность проступала на лице, когда от людей, высоко им ценимых, он слышал нечто непомерное в похвалу своему таланту... Так было, когда Твардовский — задолго до их тес-
190
ной дружбы, возникшей в пятидесятых годах, — щедро и широко на людях поздравлял его со «Звездой»... Так было, когда Олеша, очень его любивший, с чеканной непререкаемостью сказал о повести «Двое в степи»: «Эма! Это колоссально! Это говорю вам я — Юрий Олеша...» И точно так же, словно робея и чего-то боясь, он мог внезапно бледнеть в присутствии женщины, которая понравилась ему — на минуту или всерьез. (Чаще — на минуту.)
Но все это были вещи иной природы, чем действительная робость или всамделишная застенчивость. За этим не стояло отсутствие притязаний. И не таилась неуверенность в себе. Напротив, напротив: в его душе варились громадные притязания. Их не умерял даже иронический и зоркий контроль его сильного ума, оснащенного высокой осведомленностью в истории человеческих ценностей. Он знал, что чего стоит. Но ощущал в себе такие возможности, что мерил их неограниченной мерой. Не буду вольно цитировать его слова в нескончаемых разговорах на летних патрульных дорогах. В дни войны он по меньшей мере дважды или трижды доверил бумаге признания, на какие мало кто отважился бы даже шутя.
«Незачем говорить, — написал он жене своей, Гале, — что я совсем не стремился перещеголять Лермонтова чинами, а Дениса Давыдова орденами. Если оно и получилось так, то я, во всяком случае, желаю поскорее иметь возможность перещеголять первого и второго стихами».
В том же ключе поминал он Дениса Давыдова во фронтовом письме Вере Острогорской, предвоенной выпускнице института имени Горького, к которой относился доверительно и нежно.
Это признания 44—45-го годов. А весною 42-го, как раз тогда, когда ему перестало хватать двух глаз, двух ушей, двух рук, он однажды написал о Моцарте и о себе:
«Чего греха таить, я находил в этом гениальном ребенке свои собственные черты — странную смесь лености и необычайного трудолюбия, любви к разгулу и страсти к творчеству, скромности и чудовищного самомнения».
Вот только в такой отчаянно-нескромной психологической смеси гнездилась в душе его скромность. И когда стеснительная взволнованность звучала в его голосе, а
191
внезапная бледность проступала на лице, это случалось от счастливого чувства или предчувствия, что вот они и сбылись — или сбываются — его тайные надежды!
Впрочем, не только с его литературными притязаниями бывало так. И не только с женщинами. В часы дружеских вечеринок он любил петь. По праву: он обладал сильным голосом и прекрасным музыкальным слухом. Старые и фронтовые песни приводили его в глубокое волнение. Порою он пел их, тоже бледнея, но уже всем лицом. И серьезно-напряженные его глаза становились влажными. Помню, как это поразило Веру Панову в вечер их первого знакомства. Она потом написала из Ленинграда (18 января 49-го г.): «Привет Казакевичу. Спасибо ему за слезы».
...А полнейшая для него неожиданность успеха «Звезды» объяснялась до крайности просто: он писал ту повесть как «пробу пера» — впервые нечто прозаическое по-русски. Он решительно ни на что не рассчитывал — для себя проверял: выйдет или не выйдет? Гадал, как по ромашке, «на русскую прозу»: к сердцу прижмет, к черту пошлет?
Демобилизованный офицер, он прикатил в середине 46-го года из Германии на трофейном «опель-кадете». И все бы хорошо, да только на первых порах не шла у него работа — он не знал, как усесться за стол. Переполненный пережитым, он не мог решить, о чем писать. И главное — как писать... И потому денег не было. До такой степени не было, что иногда он подхватывал на своем «опельке» ищущего такси пассажира, чтобы разжиться купюрой на такую роскошь, как бензин. Но природа обделила его комбинационным талантом делателя денег из воздуха, а заодно — способностями шофера. Наш общий друг Наум Мельников недавно с улыбкой напомнил мне (вечно жадное — «а помнишь, а помнишь?»), как не давался Казакевичу за рулем простенький освобождающий маневр, если колеса его «опелька» попадали в трамвайную колею. И вскоре он не слишком расчетливо — без сожаления — расстался со своим трофеем: ему не удавалось заработать даже на бензин! (Кстати — не странно ли, что Казакевич, такой деятельный и ладно скроенный, свободный от смешных чудаковатостей житейски беспомощных интеллектуалов-недотеп, даже на войне не на
192
учился бриться сам, а после войны не научился толком справляться с пишущей машинкой?)
В ту пору он часто оставался у меня ночевать. Нет, лучше — у нас: его очень полюбили моя мать и моя жена (Софья Дмитриевна Разумовская — литературный редактор в тогдашнем «Знамени»). И он в свой черед сердечно привязался к ним. Иногда подолгу о чем-то разговаривал вполголоса с матерью, а когда я входил, они замолкали, она клала свою старческую ладонь ему на руку и заключала это секретничанье немецкой фразой со щегольским произношением. Звучало что-нибудь вроде: «Ихь хоффе, зи верден михь нихьт ферратен, нихьт ваар?» А он, вставая, отдавал ей честь и гаркал: «Аллее ин орднунг!» 1 Ясно было, что она сетовала ему на меня, но он и впрямь не выдавал ее, а только говорил: «Слушай, у нее же бюненауешпрахе (сценическая речь)! Ей кое-что не нравится в нашем поколении. Так что? Она права».
Мы виделись так часто, что, когда он не появлялся день-два, в доме повисал тревожный вопрос тех лет: «Не стряслось ли что-нибудь с Эмиком?» И однажды зимой 46/47 года этот вопрос, безответный на протяжении двух недель — телефона у него не было, — заставил меня и Бориса Рунина пуститься на розыски барачного дома в Хамовниках, где великодушие генерала Выдригана — дивизионного командира Казакевича — дало ему и его семье, вернувшейся из эвакуации, временное пристанище.
В узкой комнате на втором этаже над шаткой деревянной лестницей две маленькие девочки в заячьих шубках — Женя и Ляля — смотрели на нас с угрюмо-спокойным удивлением: гости там бывали в диковинку. А Галя, жена Казакевича, выглядела измученной длящимся эвакуационным бытом. Скудость жизни начиналась с ветоши для ног у порога и кончалась ворохом простуканной до дыр копирки на приоконном столе. И несуразной роскошью из другого обихода казалась среди керосинок и тазиков трофейная пишущая машинка незапомнившейся марки.
А Казакевич — худющий, в неизменном кителе без погон, заросший многодневной щетиной — был простужен и
________________
1 «Я надеюсь, вы не выдадите меня, не правда ли?»
«Все будет в порядке!»
193
весел. Простужен — оттого что в бывшей генеральской комнате стояла блиндажная холодина. И весел — оттого что на столе лежала перепечатанная Галей рукопись объемом около ста страниц.
Она называлась «Зеленые призраки». Это и была «Звезда». Отчего и как произошло переименование — чуть ниже...
Он сказал, что пока болел, все время «сидел, как барон фон Гринвальдус — все в той же позицьи»: работал. Оттого и не появлялся. Этого барона из шуточной «Немецкой баллады» Козьмы Пруткова он поминал потом не раз, когда усаживался у нас дома с Софьей Дмитриевной за редактирование своей очередной вещи. Тогда этот славный черед только начинался...
Он сказал Гале, что в общем уже здоров, и ему осточертело сидеть взаперти, и надо посоветоваться, как быть с «этой повестухой из жизни мертвых», и, кроме всего прочего, «пора ударить водкой по бездорожью!» (то была одна из его любимых присказок). Помню, в те первые минуты главной темой был объем рукописи. Четыре листа! Если кто-нибудь напечатает, это надолго выход из всех его затруднений. Гонорар за четыре листа представлялся ему тогда почти сказочным. Впрочем, Рунину и мне — тоже: мы были молодыми критиками.
Вышли втроем, когда уже вечерело. Борис Рунин поспешил домой. И это было опрометчиво, потому что Казакевич взял с собою рукопись.
Мы приехали ко мне, сумев запастись по дороге всем необходимым, чтобы удар по бездорожью был достоин двух недавних фронтовиков. Потом, пока мы его наносили, рукопись лежала на диване — тихонькая, беленькая. И шло обсуждение легчайшего варианта ее опубликования — через одного знакомого из журнала «Пограничник»: соблазнительная тема — приключения фронтовых разведчиков, завлекательное название — «Зеленые призраки», наш знакомец — отзывчивый малый, Софья Дмитриевна — опытный редактор. Если текст и подкачал — ничего, можно вытянуть... И все в этом роде, как о спасении утопающего, вот этого тихонького, беленького, которому, наверное, хочется жить... И все оттого, что сам Казакевич не говорил ни единого обнадеживающего слова о своем детище. Он поразительно ничего не предчувствовал! Только вдруг
194
не без волненья сказал, что хочет прочитать всю рукопись вслух.
— Прямо сейчас! И тебе одному — С. Д. я еще боюсь...
Мы устроились в моей заставленной книгами комнатенке, оставив недопитые рюмки. Он снял очки и стал читать — несказанно просто, стремительно, печально и тревожно. За тонкой перегородкой в своем спичечном коробке С. Д. уловила музыку звучащего текста и тихо вошла, несмотря на запрет. Она слушала, сидя за его спиной. Он читал, ничего не замечая. А я смотрел на него во все глаза, балдея от изумления и не решаясь зажечь папиросу.
Это длилось два с лишним часа и кончилось минутой полной немоты. Казакевич сглатывал волненье, нахлынувшее на него самого, и ненужно долго надевал очки. С. Д. обняла его сзади за плечи, и он не удивился. Я сказал ему что-то вроде: «Ты просто собака!» Потом мы заговорили все трое, но я не могу этого воспроизвести.
Помню голос С. Д.: «Какие вы оба дураки! Какая приключенческая повесть! Это будет напечатано в «Знамени». Я сейчас позвоню Толе, а вы оставите мне рукопись и будете слушаться меня!»
И помню свой голос: «Зеленые призраки» — хорошо для детектива, а для твоей вещи нет. Тоскующая Катя зовет Травкина: «Звезда», «Звезда»... Эти позывные — лучшее названье. Это будет твоя звезда!»
Так мне посчастливилось стать крестным отцом «Звезды», и я рассказываю об этом не без тщеславия: приятно хотя бы таким способом сказать свое слово (одно) в литературе.
Если память не изменяет, повесть уже на следующий день была прочтена Анатолием Тарасенковым — заместителем Всеволода Вишневского по «Знамени». А сам Вишневский взял ее на ночь домой. В четыре часа утра, по его собственному признанию, он поднял на ноги телефонным звонком Николая Тихонова и своим телеграфно-неистовым языком сообщил ему, что произошло литературное событие. Энтузиазм Вишневского был тем знаменательней, что трудно вообразить менее схожие манеры мыслить и писать, чем у него и Казакевича. Благословение редколлегии журнала было единодушным, и «Звезда» вне всякой очереди увидела свет. (Или напротив — излучила свой свет.)
Хвастаться — так уж до конца. В сентябре 47-го, когда повесть вышла отдельной книжечкой, Казакевич подарил ее нам, первослушателям, иносказательно припомнив в дар-
195
ственной надписи тот удивительный стартовый вечер: «С. Д. и Д. — двум... астрономам, открывшим эту неведомую Звезду. Ах, Звезда ли это или только беззаконная комета?.. 26.09.47 Эм. Казакевич».
...Пушкинская «беззаконная комета в кругу расчисленном светил» была, на мой слух, целым психологическим трактатом в его устах.
Шесть лет назад, в ополченском сентябре 41-го года, когда он томился по «настоящим поступкам» — рвался в школу младших лейтенантов и тянулся к своим предвоенным замыслам вроде пьесы о Колумбе, — он по десять раз на дню, казалось бы беспричинно, произносил другие пушкинские строки: «когда б не смутное влеченье чего-то жаждущей души...» Он не затруднялся встраивать эту фразу в любой разговор, вдруг меняя интонацию на мечтательную.
— Понимаешь, — говорил он, — когда б не смутное влеченье чего-то жаждущей души, я бы сейчас... Ну-у, что ты думаешь — я бы сейчас?.. — И после секундной паузы: — Закурил бы по второй!
И не улыбался. Иногда следовало что-нибудь гигантски неприличное — здесь невоспроизводимое. И снова — без улыбки. Но это лишь выглядело дурачеством, а на самом деле было серьезно-грустной игрой с психологическим подтекстом.
Ему всегда хотелось большего, чем предлагали обстоятельства.
Строки Пушкина звучали как пароль в грядущий день — близкий или далекий.
На пароль нашелся отзыв.
Он нашелся на одном беспросветном рассвете, когда уже психически пошатнувшийся лейтенант Раевский зачем-то поднял нас двоих по мнимой тревоге после трудного дня земляных работ. В тихом мирном лесу смертельно не хотелось выползать на моросящий дождь. Мы потом без конца вспоминали, как один из нас спросонок сказал лейтенанту голосом Пастернака: «Спи, царица Спарты, рано еще, сыро еще...» Конечно, эта штатская вольность не лезла ни в какие ворота и выскочила только спросонок. На счастье, Раевский переспросил: «Что? Что?» — а в ответ мы уже стояли вертикально...
С того рассвета Казакевич включил пастернаковские
196
слова в свою игру: едва раздавался пароль — «когда б не смутное влеченье...», как уже звучал отзыв — «рано еще, сыро еще...».
Он и позже не забывал этой словесной игры, полной скрытого и трудно выразимого значения. В тех первых его письмах, что пришли после драматической ополченской эпопеи, он среди прочего писал:
«...С учебной бригадой, куда я уехал от лейтенанта Раевского, я участвовал в боях и отходах... Командовал взводом и вообще вел себя довольно хорошо. Много думал о тебе и твоей судьбе. Ясно представлял себе тебя, выбирающегося из окружения, что ты при этом говоришь, делаешь, думаешь... «Смутное влеченье чего-то жаждущей души» осталось, но оно не столь остро, как бывало... Мне писали из Чистополя, что Борис Пастернак переводит «Ромео и Джульетту». Я написал моему адресату о нашей любви к Б. Л. и о том, как мы в условиях тяжелейших как-то утешались его стихами, и просил передать ему это. Пусть будет рад, что и он пригодился на войне...»
Но это уж — к слову. А суть вот в чем: Казакевич иногда любил играть в ту пушкинско-пастернаковскую игру и после войны. Не была ли ее вариантом и фраза в дарственной надписи на книжке: «Ах, Звезда ли это или только беззаконная комета?» В самом деле... Редко кто из литераторов бывал так подлинно и прочно счастлив, как он весною, летом и осенью 47-го года. Чего-то жаждущая душа, казалось, сполна утолила свою жажду, и теперь уж неправедно было бы повторять, что рано еще и сыро еще. Русская проза прижала его к сердцу, а не послала к черту! И все-таки в дни торжества — тайно томящая тревога: «Ах, Звезда ли это?..» Кратчайшее психологическое подтверждение его настоящести как писателя и человека.
Тревога была тем томительней и непрерывней, что он тогда уж работал над новой вещью. Он не дал себе роздыха, а сразу оседлал волну нахлынувшего воодушевления. Еще в апреле 47-го, когда он правил верстку книжного издания «Звезды», у него начала расти на столе вторая рукопись. Он уединился в Переделкине и накануне майских праздников прислал с оказией деловое письмо для срочной передачи Николаю Михайловичу Яковлеву — главному ре-
197
дактору издательства «Московский рабочий». (Проще было прочесть это письмо Н. М. по телефону — мы знали друг друга с фронтовых времен, — и потому текст остался у меня.) В том письме был абзац: «Я работаю здесь... как пьяный и помешанный. Повесть движется. Кажется, она будет называться «Весна в Европе»...» Чувствуется, в каком горении он жил. Через два года та «Весна» стала романом «Весна на Одере». Но вовсе не вторым, а третьим его повествованием о войне. Откуда же вдруг взялось второе?
Собственно, только об этом-то «вдруг» я сначала и собирался тут рассказать — о рождении повести «Двое в степи». Да как-то незаметно короткое воспоминание разрослось. Теперь уже трудно переиначить. А вообще-то вместо всего предыдущего довольно было бы для предварения одной фразы: замысел этой повести совершенно непредвиденно ворвался в его далеко рассчитанные планы, когда он с головой погрузился в другую большую работу.
А было так...
Ранней осенью 47-го мы шли однажды по улице Горького без всякой цели. Точно лежала у офицера Казакевича увольнительная в кармане, он бездельно наслаждался миролюбивой теплынью ясного дня и оттого, что ему хорошо писалось, рассказывал о своих находках для романа. Пробовал их на слушателе. Иными словами — ив праздности продолжал работать. У Центрального телеграфа встретили общего приятеля — поэта Икс. Он охотно присоединился к нам. А через минуту — еще одного приятеля, прозаика Игрек, созданного самой природой для пристального, но ленивого глазения на мир.
— Вы куда?
— Никуда.
— Тогда я с вами.
Вчетвером зашли в кафе. Заняли столик у огромного окна-витрины. И любой прохожий мог бы безошибочно решить, что вон те четверо за стеклом — тридцатилетние в полувоенном — наверняка вспоминают сейчас войну. Оно и вправду: мы что-то пили, не столько слушая друг друга, сколько перебивая, и фронтовые байки — без особого сочинительства, а все же почти невероятные — боролись за первенство над нашим столиком. Самое удивительное, и без тени сочинительства, рассказал Икс. Нам, остальным, пришлось надолго замолкнуть.
198
...Случившееся произошло на Степном, если не ошибаюсь, фронте в тяжелые месяцы войны. Молоденький лейтенант был послан с оперативным пакетом в штаб дивизии, которой грозило окружение. По дороге, столкнувшись с немцами, он проявил малодушие. Важный пакет не был доставлен вовремя, и противнику удалось осуществить охватывающий маневр. Минутная слабость обернулась преступлением с тягчайшими последствиями. Лейтенанта отдали под трибунал. Но события дали ему отсрочку. Немцы прорвали фронт. И отступающий штаб армии забыл лейтенанта в штрафной землянке на отшибе. Вместе со своим конвоиром он, безоружный, начал выходить из немецкого окружения. Он не спасался, а шел за возмездием, которое его ожидало. Он сознавал неискупимость своей вины. И не был предателем. Голос той внутренней свободы, когда веления совести и долга неразличимы, заставлял лейтенанта идти навстречу заслуженной каре. Он мог легко бежать — да разве что от трибунала, а не от самого себя и всего, что преданно любил. И он пробился к новой линии фронта — пришел к своим...
То была история, полная трагизма и очищающего нравственного звучания. Поэт Икс сказал, что еще в дни войны о ней написал газетную корреспонденцию Савва Голованивский.
— А я напишу поэму... — добавил Икс.
— Да нет же, это материал не для стихов, а для хорошей прозы! Я напишу рассказ... — сказал Игрек.
Помолчали. Было о чем. Потом раздался голос Казакевича — волевой и чуть запинающийся. (Возбужденный или негодующий, он всегда начинал чуть запинаться, словно сглатывал волнение.)
— Об этом напишу я! Небольшую повесть, вроде «Звезды». И я сделаю это раньше, чем ты начнешь придумывать свою поэму, а ты раскачаешься на свой рассказ. Я напишу об этом! Правильно ли вы меня поняли, товарищи офицеры?
Назревал уже не шуточный спор, из тех, что в молодости возникают запросто и уводят далеко. Голос Казакевича звучал слишком серьезно. Привилегированное положение было у меня, и я поспешил сказать, что приоритетные права юридически есть только у Саввы Голованивского, но он уже их использовал. И еще:
— Пока очевидно лишь одно: кто бы из вас ни написал поэму, рассказ или повесть, критический разнос ваших созданий первым напишу я...
199
Посмеялись и заговорили о другом. Загоревшийся было спор забылся. Ни Икс, ни Игрек обещанного не исполнили. Они здравствуют и пишут поныне. Мне пришлось зашифровать их известные имена под Иксом и Игреком, потому что один из них попросил не упоминать его. Было бы несимметрично упоминать другого.
Кончился 47-й год. В начале 48-го раздался однажды звонок Казакевича:
— Слушай, ты помнишь разговор в «Национале»? Готовься писать критическую статью!
— Брось! Не может быть...
— А я говорю: готовься!
Вечером он приехал. И снова лежала на диване рукопись объемом около восьмидесяти страниц. Снова — беленькая, однако уже не тихонькая, робко просящая права на жизнь. Казакевич на этот раз был совершенно уверен в достоинствах и жизнеспособности своего детища. И чувствовал себя заранее счастливым отцом.
Рукопись называлась «Двое в степи». Запомнился четкий лиловый шрифт. Как и «Звезда», она была перепечатана на машинке Галей Казакевич с той преданной внимательностью — без неряшливых поправок, — когда текст просто зовет: «Пожалуйста, прочтите меня». Казакевич уверял, что вся работа над повестью заняла у него две недели! В конце и вправду стояли точные даты: «14—27 января 1948 года».
На этот раз он вслух не читал. Помню, вдруг сказал, что неплохо бы позвонить Иксу — спросить, как дела с поэмой? Позвонили. Икс даже не сразу понял, о чем речь. Звонить к Игреку не знали как — его не было в Москве. Из долгих разговоров того вечера в памяти осталось немногое... Невозможно примириться с сознанием, что три десятилетия прошло с тех пор! И четырнадцать лет, как уже не стало Казакевича...
Впоследствии я прочел в его тогдашнем письме к одному другу: «Выйти с новой вещью после нашумевшей «Звезды» страшновато...» Вот об этом он говорил и в тот вечер. И это было единственное, что напоминало его тревогу времен «Звезды» — пушкинскую «беззаконную комету».
...Жизнь непредсказуема: слишком много переменных величин. «Двое в степи», тогда же опубликованные в «Знамени», ожидала нелегкая судьба. Критика встретила эту
200
повесть совсем по-иному, чем «Звезду». Но Казакевич видел в своей вещи поэтизацию совести и не сдавался...
В 1962 году «Двое в степи» увидели свет в книге военных повестей Казакевича. На экземпляре, хранящемся у меня, надпись: «Вот они и вышли!»
Когда он делал эту надпись своим замечательно ясным и твердым почерком, он не знал, что ему оставалось жить всего семь месяцев.
Не забывается фраза из той повести: «Великий разводящий — Смерть — сняла с поста часового». И не забывается строка из его старого письма:
«Что-то накапливается в сердце и не разбрызгивается понапрасну...»
Март 76 г.
Т. Титова
ОТЕЦ МОИХ ПОДРУГ
В 1946 году в 3-м классе 39-й московской школы появились новенькие — Женя и Ляля Казакевич. На вопрос учительницы о профессии отца Женя серьезно ответила: «Наш папа — писатель». Учительница, естественно, поинтересовалась, какие книги написал их папа. Девочки так же серьезно объяснили, что книга только пишется, что она будет о войне, о разведчиках. Речь шла о будущей повести Казакевича «Звезда».
Но мы, одноклассницы, сначала не очень-то поверили, что отец у новеньких — писатель. Это была какая-то фантастика: район — рабочий, у большинства детей родители — маляры, плотники, уборщицы, а тут вдруг — писатель.
Но довольно скоро наше недоверие исчезло. Женя каждый день пересказывала нам удивительную историю, которую сочинял для них Эммануил Генрихович. Это был фантастический детектив о приключениях вездесущего, таинственного Бартоломео Пфальц Грэвена, «человека с моржовыми усами». Как и полагается, рассказ обрывался на самом интересном месте, мы с нетерпением ждали, что будет дальше, и на следующий день получали продолжение, еще более захватывающее.
Ну конечно же, такое мог придумать только настоящий писатель!
Мне Женя и Ляля очень нравились, я им, видно, тоже
202

Э. Г. Казакевич с дочерьми Лялей и Женей. Москва, 1947 г.
пришлась по душе, мы подружились, и вскоре девочки пригласили меня к себе.
В те времена в Москве было много трущобных мест, но таких...
Между Малой Трубецкой улицей и Хамовниками тянулись кварталы двух- и одноэтажных деревянных бараков. Когда-то очень давно, примерно в 1926 году, они были построены наскоро, как временные общежития для строителей. Постепенно общежития стали семейными, а потом их поделили на комнатки, и простояли эти «времянки» до 1958 года. Теперь по этому месту проходит прекрасный Комсомольский проспект.
А в 1946—1947 годах, когда здесь жили и Казакевичи, этот район был весьма убогим. Но для меня его убожество стало очевидным лишь много лет спустя. А в те времена нам и в голову не приходило, что мы «плохо живем». Полуголодные, живущие в тесных, сырых клетушках, пропахших керосином, мы считали это нормальным, потому что все вокруг жили так же или почти так же.
Наша семья жила в одноэтажном бараке в тринадцатиметровой комнатке вшестером. Семья Казакевичей — в двухэтажном сооружении того же рода, и комната их была чуть больше нашей. Однако у нас было существенное преимущество: водопровод и канализация. Ничего этого не было в бараке Казакевичей. А если учесть, что подниматься к ним на «второй этаж» нужно было по шаткой деревянной лестнице, то можно себе представить, какими трудностями обрастал и без того тяжелый послевоенный быт.
Казакевичи занимали комнату площадью около 18 кв. метров. При входе, как и положено, крошечный закуток, где спрятались керосинка, кастрюли и прочая нехитрая утварь. Справа у стены — тумбочка, накрытая клеенкой: это «буфет» и «обеденный стол». У окна — письменный стол. У стены слева — что-то вроде широкой тахты. Несколько стульев. Вот и все.
И тем не менее жилье их показалось мне тогда прекрасным. Во-первых, книги (среди них несколько роскошных немецких изданий с цветными иллюстрациями); во-вторых — такой соблазн! — пишущая машинка.
Первое впечатление от Эммануила Генриховича: очень строгий дядя. Умные, серьезные глаза, высоченный лоб, очки. Я слегка оробела, увидев, как внимательно он смотрит на меня. Э. Г. вдруг довольно сурово спросил: «Почему ты в платке, Тамара?»
204
Меня, после очередной детской болезни, а может, по каким-то еще соображениям, остригли под машинку, я стеснялась такой «прически» и носила платок в ожидании, когда отрастут волосы. Я объяснила это. «Сними, пожалуйста», — спокойно сказал Эммануил Генрихович. Я сдернула платок, уже с некоторым интересом ожидая, что же будет дальше.
А дальше было вот что: Эммануил Генрихович внимательно, со всех сторон оглядел мою голову, а потом очень серьезно, чуть глуховатым голосом проговорил: «Прекрасная голова! Ровная, круглая, без шишек. Такую голову хоть на выставку, а ты ее платком закрываешь».
Я все еще не могла понять, шутит этот взрослый человек или нет. Голос — серьезный, на лице — ни тени улыбки. Я заглянула ему в глаза — они тоже серьезные, даже чуть-чуть печальные... Вдруг мне стало легко дышать, робость прошла, я почувствовала главное: этот человек очень добрый и очень искренний. Теперь вполне можно не стесняться своей остриженной головы, если он считает, что этого делать не следует.
Меня тогда удивило (позже я поняла, что это одно из замечательных душевных свойств Казакевича) его серьезное, пристальное внимание к духовному миру детей, своих и чужих. Никакого заигрывания, никакой унизительной снисходительности. Человек растет, но это — человек, и к нему, как к любому, прежде всего — справедливость, иногда довольно суровая по форме, но всегда добрая, теплая в сердцевине, по существу.
Откуда-то в нашем классе пошла мода копировать иллюстрации из учебников на заранее приготовленную сетку, а потом раскрашивать эти «репродукции» цветными карандашами.
Мне рисование по клеточкам довольно быстро наскучило, но, не желая отставать от класса, я продолжала это занятие, помещая время от времени среди копий и собственные «произведения».
Мне было тогда 9 лет, и я с детской наивностью как-то заявила, что «рисую», что у меня — целый альбом с рисунками.
Эммануил Генрихович выразил желание взглянуть на мои рисунки. Я с гордостью притащила свой альбом. Эммануил Генрихович полистал его. Дольше всего разглядывал плоское симметричное яблоко. Потом поднял на меня свои прекрасные глаза и глуховато, с некоторым оттенком скорб-
205
ного удивления, очень четко выговаривая слова, спросил: «Это что? Ж...?»
Я так и ахнула. Во-первых, меня потрясло, что Эммануил Генрихович так обыденно и в то же время интеллигентно произнес слово, которое хоть и было среди нас в ходу, все же считалось «неприличным». Во-вторых, мое злосчастное «яблоко» действительно ни на что другое не походило (а я-то, дуреха, раньше не заметила этого!).
Эммануил Генрихович терпеливо ждал ответа. Ситуация оказалась столь необычной, что сначала я онемела, а потом неудержимо расхохоталась. Хохотали все, кроме Эммануила Генриховича. Он молча смотрел на нас, весело блестя глазами.
С того дня я забросила свое дурацкое рисование, все свободное время читала и была благодарна Эммануилу Генриховичу за то, что он так просто и весело освободил меня от этой странной моды.
Впоследствии я не раз убеждалась в том, как мастерски Эммануил Генрихович владел словом. Например, он часто употреблял такое выражение: «Молодцы, ребята!» Это могла быть и самая высокая похвала и крайняя степень презрения, все зависело от интонации. Иногда это произносилось так, что я врагам своим не пожелала бы оказаться на месте этих самых «молодцов». А какие слова он придумывал! Как-то, войдя в комнату, где кто-то из нас, детей, раскашлялся, он спросил; грозно и весело: «Кто это здесь хархельствует?»
Что еще мне помнится из того далекого и не очень благополучного времени?
Как-то в классе нам поручили выпустить стенгазету. Редколлегия (Женя, Ляля и я) отнеслись к делу ответственно. Каково же было мое удивление, когда Эммануил Генрихович разрешил пользоваться пишущей машинкой, не сопроводив свое разрешение обычным в таких случаях «смотрите не поломайте» и т. д. Более того, он читал и подправлял наши заметки, самым серьезным образом объясняя, что и почему исправил.
Как раз в эти дни к ним заехал Борис Ефимов, и Эммануил Генрихович попросил его нарисовать в нашу «Колючку» карикатуры. Ужасно жалко, что газета эта не сохранилась.
Потом Казакевичи переехали в другой район, связь наша на некоторое время прервалась.
Но вот 31 декабря 1950 года, примерно в три часа дня, в дверь нашей комнатушки постучали. Я открыла и не сразу узнала своих прежних подружек. А они приехали за мной
206
(уверена, что инициатива принадлежала Эммануилу Генриховичу), чтобы вместе встретить Новый год!
На улице нас ждала «Победа». Шофер Казакевичей мигом домчал нас до Лаврушинского переулка, где, в доме 17, Казакевичи получили прекрасную четырехкомнатную квартиру. Я поняла, что тяжелые времена для их семьи миновали.
Мы поднялись на третий этаж, позвонили в квартиру 79, и дверь нам открыла незнакомая молодая женщина, домработница.
Дальше все было как в сказке: и роскошная елка, и праздничный стол, и музыка, и счастливые лица, и фейерверк шуток Эммануила Генриховича, и взрывы хохота, и песни.
Весь этот день был для меня таким неожиданным и радостным, что вспоминается как нечто единое, как яркая вспышка, когда трудно выделить какие-то детали.
С тех пор я часто бывала у Казакевичей, где меня встречали всегда радушно.
Когда же дома бывал Эммануил Генрихович, то посещения эти становились для меня настоящим праздником, который еще долго-долго звучал в душе. Всегда вокруг него создавалась атмосфера высокой духовности и в то же время — шуток, выдумок, неисчерпаемого юмора. А какое удовольствие получали мы, когда Эммануил Генрихович затевал игру в буриме! Рифмы задавались самые невероятные, самые нелепые! Все мы долго бились над ними, прежде чем придумывали хоть что-нибудь путное. А у Эммануила Генриховича четверостишия рождались мгновенно, и какие! Сколько было смеха, веселья самого непринужденного! Сколько радости, когда удавалось получить одобрение или похвалу Эммануила Генриховича.
Помню только одно буриме. Рифмы были заданы такие: палитра — стук, пол-литра — паук. Как только произнесли слово «паук», Эммануил Генрихович начал записывать, а потом, весело поглядывая на нас, давал нам вполне насладиться и собственными «творческими муками» и радостным ожиданием его четверостишия. Вот оно:
Готов мольберт. Как радуга палитра.
О творческий восторг! О гулкий сердца стук!
Но тщетно все... Заветные пол-литра
Влекут его, как муху злой паук.
Я ругаю себя, что не вела в ту пору дневника. Эммануил Генрихович так щедро одаривал нас красотами своего ума,
207
эрудиции, своего совершенно особенного юмора! Но все это настолько просто, легко, не придавая особого значения своим словам, что и все вокруг принимали эти богатства как нечто само собой разумеющееся. И вот теперь я очень сожалею, что не записывала его шуток, его высказываний: оказывается, слово-золото — редчайшая редкость.
Не могу не сказать о необыкновенной музыкальности Эммануила Генриховича. Он прекрасно пел. Прекрасно не в строго вокальном смысле слова (хотя его слуху и голосу мог бы позавидовать любой профессионал), а очень душевно, с удовольствием и со вкусом, предельно выразительно.
Помню, как тревожно и ласково звучала песня «Горит свечи огарочек», когда пел ее Эммануил Генрихович. А когда к нему присоединялись жена и дети и пение продолжалось на два голоса, песня становилась до слез щемящей...
Многие песни того времени («Эх, дороги», «В лесу прифронтовом» и др.) душевно тронули меня только тогда, когда я услышала, как поет их Эммануил Генрихович. Ведь я знала, что он фронтовик, разведчик, что для него эти пути-дороги и «прифронтовые леса» не просто поэтические строчки, а реальность, будни той многотрудной и опасной работы, которой он был занят в годы войны. Вот почему, когда он пел, каждое слово песни становилось особенно значительным, звучало с такой суровой нежностью, так проникало в сердце.
А несколько лет спустя я слышала, как он пел сонеты Шекспира, положенные на музыку Кабалевским. И здесь меня поражала точность воспроизведения вещей, рассчитанных на певцов-профессионалов. Но Эммануил Генрихович пел их так же естественно, свободно, смакуя каждое слово, как он пел, скажем, русские народные песни, которых знал множество.
Я выросла в атмосфере русской песни (мои родители родом из маленькой деревушки Рязанской области, все мои тетушки и дядюшки — большие любители песни и знали их буквально с колыбели), сама я тоже очень люблю их петь, и часто, в самые голодные и тяжелые дни, мы поддерживали себя именно русской песней. Вот почему я и могла по-настоящему оценить верность интонации, глубину и свободу, с какой пел русские песни Эммануил Генрихович. «Ой ты, ноченька, ночка темная», «Прощай, радость, жизнь моя», «Далеко, далеко степь за Волгу ушла» и многие другие великолепные русские песни прекрасно и грустно пел Эммануил Генрихович.
Почему-то я не помню, чтобы он пел песни веселые,
208
бодренькие... Может, не любил их, может, мне не пришлось услышать.
Мажорные, светлые мелодии я слышала, когда Эммануил Генрихович напевал что-нибудь из классики. Слово «напевал» не очень подходит в данном случае, потому что вещь не напевалась, а воспроизводилась, исполнялась, насколько это возможно для одного голоса. Например, симфонию соль минор Моцарта Эммануил Генрихович знал наизусть, и когда мы слушали ее (у Казакевичей была большая фонотека), он тихонько напевал, причем абсолютно точно, как бы сам становясь частью симфонического оркестра.
Как-то я пришла к Казакевичам, но подружек своих дома не застала. Меня, по обыкновению, прежде всего напоили чаем. Галина Осиповна сказала, что Эммануил Генрихович нездоров. Я устроилась с книжкой в столовой, вдруг, слышу, из кабинета — музыка: это Эммануил Генрихович поставил пластинку. Галина Осиповна пригласила меня в кабинет, вернее, позвала, а пригласил меня Эммануил Генрихович (Галина Осиповна сказала ему о моем приходе).
Я поздоровалась. Эммануил Генрихович сказал: «Здравствуй, Тамара. Садись. Будем слушать прекрасную музыку. Это Дворжак. «Stabat Mater».
Галина Осиповна вышла. Я почувствовала себя очень скованно. Это и понятно: Эммануил Генрихович болен, и я боялась помешать ему. Но он как будто забыл обо мне: полулежал, прикрыв глаза, и, видимо, полностью отдался власти музыки. Моя скованность незаметно исчезла, и вскоре я тоже была целиком захвачена сладостной скорбью музыки Дворжака. Когда замерли последние звуки, Эммануил Генрихович некоторое время молчал, потом спросил меня одними глазами: «Ну, как?» Я ответила только: «Спасибо». Тихо вышла из комнаты, боясь расплакаться.
Этот эпизод очень характерен для Эммануила Генриховича: он всегда активно приобщал к своему прекрасному, яркому духовному миру всех, кто был рядом с ним.
«Спеши творить добро» — эти слова были законом его жизни, причем проявлялся этот закон в его поступках очень органично, непринужденно и постоянно, как дыхание.
Мне думается, не одна я испытала на себе обаяние этого человека, не одна я бесконечно благодарю судьбу за дар общения с такой высокой душой, какой обладал Эммануил Генрихович Казакевич.
1977
Александр Крон
САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК
Легче писать воспоминания о людях, которых знал не близко и встречал не часто. С Эммануилом Казакевичем мы виделись часто, а с тех пор как стали дачными соседями, почти ежедневно, и за эти годы столько было пережито вместе, столько переговорено во время долгих и неторопливых прогулок по переделкинским лесным тропкам, что многое восстановить уже невозможно, да вряд ли и нужно. Остался в памяти целостный образ, сложный, привлекательный и настолько неотторжимый от большого отрезка моей жизни, что до сих пор я не ставил перед собой задачи как-то его анализировать. Это был характер настолько органичный, что и в тех случаях, когда он меня восхищал, и в тех, сравнительно редких, когда он меня возмущал, я, как правило, не задавал себе недоуменных вопросов, а говорил: «Эмик — это Эмик».
Эмиком он для меня стал чуть ли не с первого дня знакомства: во всяком случае, я не помню, чтоб мы когда-либо говорили друг другу «вы» и звали по имени-отчеству. В такой короткости нет ничего удивительного, если вспомнить, что мы были молоды и познакомились вскоре после демобилизации, он — из армии, я — из флота. Встретились мы впервые в редакции «Знамени», куда в первые послевоенные годы привычно заглядывали почти все литераторы-фронтовики, кто по делу, а кто и без дела. Заочно мы были уже знакомы, мне очень нравилась его только что опубликованная повесть «Звезда», а он знал мою пьесу «Офицер флота»,
210
напечатанную в том же «Знамени» в сорок четвертом году.
Самое первое впечатление было: типичный интеллектуал. Скорее физик, чем гуманитарий, один из тех склонных к иронии и беспощадному анализу представителей нашей помолодевшей науки, которые в послевоенные годы заметно потеснили привычный академический типаж.
Затем, при более близком знакомстве:
Поэт. Не только потому, что пишет стихи. Поэт по душевному складу, по тонкости слуха — равно к музыке и к звучащему слову. Поэт по своему ощущению природы, по богатству образных ассоциаций, по той детской непосредственности восприятия, которая свойственна поэтическим натурам и в зрелом возрасте.
Еще позже, когда стали видеться часто:
Ёра, забияка... Гуляка, enfant terrible с бретерскими замашками. Дружелюбный, но неровный в обращении, склонный к розыгрышу, эпатажу. Не лишенный дипломатического лукавства, но не боящийся обострять отношения. При этом нисколько не бахвал. Мог похвастаться какой-то грубоватой выходкой, а от разговора о своих военных заслугах всячески уклонялся, и о некоторых подробностях его славной военной биографии многие, в том числе и я, узнали только из посмертных публикаций.
Потребовалось некоторое время, чтобы все эти трудносовместимые на первый взгляд черты слились для меня в нечто единое. В своей противоречивости Казакевич был совершенно естествен. О женщинах иногда говорил грубо и недоверчиво, а в семье был всегда мил и нежен, да и в творчестве своем создал несколько трогательно чистых и поэтических женских образов. Бывал неприятно насмешлив с нашим соседом, поэтом Александром Яшиным, разговаривал иногда язвительно, а когда у Яшина заболел на даче сын, сам предложил ему взять у него машину, причем без всяких условий: «Вернешь, когда сможешь». Яшин прибежал ко мне ошарашенный: никто из местных машиновладельцев, которых он считал своими друзьями, ему машины не дал, а чужой Казакевич, казавшийся желчным и неприветливым, сделал это с легкостью, как будто иначе и быть не могло.
Мне кажется, что объяснение некоторым свойствам характера Казакевича нужно искать в его военной биографии. Во время войны Казакевич не работал в военной печати, как многие из нас, а был начальником разведки. Я немного знаю разведчиков и догадываюсь: для того, чтобы пришедший с «гражданки» хрупкого вида интеллигент в очках смог за-
211
воевать у этих отчаянных парней безусловный авторитет, нужны были не только ум и смелость. Нужно было не уступать им ни в чем, ни в большом, ни в малом, вести себя так, чтобы никто не осмелился подтрунить над молодым командиром, разыграть его, как принято с неопытными новичками, чтоб никто не мог усомниться в его способности принимать быстрые решения, быть агрессивным, в критических случаях — беспощадным. А попутно — не хмелеть от первой стопки, не лезть в карман за словом, быть всегда начеку и никому не уступать первенства. Это стало привычкой, но назвать эту привычку «второй натурой» было бы, пожалуй, неправильно. В Казакевиче не было или почти не было ничего «вторичного», наносного. Война сформировала и отточила этот характер, скорее многогранный, чем двойственный.
Существует въедливый предрассудок, будто книжная образованность и склонность к анализу подавляют художническое видение мира. Люди, охотно цитирующие крылатую фразу: «А поэзия, прости господи, должна быть глуповата», как-то забывают, что Пушкин был не только гениальным поэтом, но одним из умнейших и образованнейших людей своего времени. Конечно, если представления художника о действительности почерпнуты только из книг, это не может не наложить на его творчество отпечатка книжности, умозрительности, а иногда и дурной литературщины. Но к Казакевичу все это не имело никакого отношения. У него был богатый жизненный опыт, кстати сказать, не только военный; сильный логический аппарат в соединении с изощренной интуицией помогал ему постигать людей и докапываться до потаенного смысла многих событий. Насколько органично для Казакевича было слияние этих двух начал, можно видеть на примере его военной прозы. Казакевичу не был близок жанр исторического романа-эпопеи, его небольшие повести, да и романы (их он любил меньше) построены на локальном материале; чтоб написать «Звезду», «Двое в степи» или «Сердце друга», достаточно было личного опыта и собственных впечатлений. Однако лишь немногие писатели-фронтовики могли сравниться с Казакевичем в доскональном знании истории Великой Отечественной войны. Его интересовали все аспекты: стратегический, экономический, дипломатический... Он покупал и читал все издания, посвященные событиям минувшей войны, но этого ему было мало: он старательно штудировал материалы с грифом «для служебного пользования». Помню, как в течение одного летнего месяца он одолел шеститомные мемуары Черчилля, вперемежку с отче-
212
тами о союзнических конференциях и трудами немецких стратегов. Никакой близлежащей утилитарной цели он себе при этом не ставил, знания ему были нужны прежде всего для расширения кругозора, для проникновения в исторические закономерности, приведшие к мировой войне.
Позднее, увлекшись ленинской темой, Казакевич так же капитально подошел к изучению личности Ленина и его произведений. Он осваивал многочисленные документы эпохи с тщанием исследователя, хотя образ Ленина привлекал его прежде всего как художника.
Казакевич хорошо знал литературу, память у него была превосходная. Как-то заговорили при нем о популярных в начале века произведениях русских и западных декадентов, и выяснилось, что Казакевич многого не читал. Меры были приняты быстрые и решительные: за немалые деньги было куплено у букиниста собрание сочинений Д. Мережковского, прочитаны сохранившиеся в библиотеке моего отца романы Ст. Пшибышевского, Ж. Гюисманса... И опять-таки с единственной целью расширить свое представление о мире и людях. Как-то ему пришла в голову совершенно мальчишеская затея — составить список примерно из пятидесяти самых близких его сердцу деятелей науки и искусства и развесить по всей даче их окантованные портреты. Теперь уже не помню всех, кто был занесен на эту своеобразную доску Почета, были там и Пушкин, и Бальзак, и Эйнштейн, и Чаплин, и о каждом из них Казакевич мог говорить с увлечением, каждый чем-то питал его внутренний мир.
Были ли мы близкими друзьями? Несомненно, и у меня, и у него были друзья более близкие. Слово «дружба» произносилось редко и неизменно присутствовало только в дарственных надписях на книгах. Наша близость проявлялась наиболее полно не в быту, а в откровенных разговорах, в сразу возникшем и укрепившемся с годами чувстве доверия. Летом мы подолгу бродили вдвоем и обсуждали всё, что нас в ту пору занимало и волновало: политические события, литературную жизнь, книги и людей. Во многом сходились, иногда спорили, но, даже расходясь в оценках, понимали друг друга с полуслова. Существовал молчаливый договор, что наши беседы не рассчитаны на широкую аудиторию, он сохраняет свою силу и теперь, скажу только, что на протяжении ряда лет у меня не было более увлекательного собеседника. Человек независимого и оригинального ума, Казакевич всегда стремился проникнуть в глубь любой проблемы, все догматическое, стандартное, банальное вызывало у него скуку или
213
ярость. В его оптимизме не было ничего казенного, он верил в мощь многонациональной советской литературы, радовался появлению новых имен, но в своих оценках бывал бескомпромиссен. Общепринятые оценки для него мало что значили, у него был свой счет, он мог прийти в восторг от рассказа никому не известного писателя и с убийственным сарказмом говорил о тех, кого считал «литературными временщиками». Казакевич был самолюбив, но не ревнив к чужому успеху, свободен от групповых пристрастий, в людях ценил дарование, ум и честность, глупость он еще прощал, но был непримирим к пошлости.
Наши беседы не всегда носили серьезный характер, иногда мы сходились с единственной целью — посмеяться. Смеялись мы даже тогда, когда обстоятельства складывались для нас совсем не весело. У Казакевича был незаурядный дар эпиграмматиста, некоторые из его эпиграмм были чистейшей импровизацией и, насколько мне известно, никогда не были записаны. Эти блестящие импровизации не имели ничего общего с худосочными «подражаниями» или полукомплиментарными виршами, которыми принято сопровождать «дружеские шаржи», это были настоящие эпиграммы, хлесткие, соленые, Казакевич и не помышлял отдавать их в печать, он забавлялся сам и забавлял немногих друзей. А я смешил Казакевича пародийными монологами, опыт драматурга помогал мне схватывать «зерно» наших общих знакомых и довольно похоже их изображать, постепенно от монологов мы перешли к диалогам и импровизировали уже вдвоем. В качестве отправной точки бралась какая-нибудь фантастическая ситуация, затем она совместно разрабатывалась, и мы от души веселились. Помню, кто-то рассказал Казакевичу вряд ли достоверную сплетню, будто одна гастролировавшая у нас известная зарубежная танцовщица горько жаловалась: во всех странах, где она бывала, у нее всегда были любовники и только у нас ей почему-то не везет. Казакевич предложил совместно разработать эту тему, и получился забавный аттракцион, который мы впоследствии в разных вариантах не раз повторяли. Свои диалоги мы редко запоминали — нам нравилось импровизировать, а не показывать готовые «номера». Бывало, что и озорничали — ночью ходили под окнами одного известного поэта, распевая на мотив солдатской песни его лирические стихи. Поозорничать Казакевич любил, и ему все сходило с рук, выручало присущее ему обаяние. Как-то он на пари рассказал в присутствии одной почтенной и чрезвычайно благовоспитанной
214
писательницы весьма рискованный, типично мужской анекдот. Писательница не только стерпела, но очень мило хихикала.
Казакевич знал и любил музыку. Еще при первом знакомстве я был приятно удивлен, что он хорошо знает творчество моего отца, композитора Александра Крейна, не только «Лауренсию» и широкоизвестную музыку к «Учителю танцев» в ЦТСА, но и другие, редко исполняемые произведения. Музыку Казакевич любил разную — знал много песен, народных, солдатских, революционных, тонко разбирался в камерной и симфонической музыке, к джазу относился равнодушно, а эстрадных песенок не любил. В концерты мы ходили врозь, но часто слушали вместе любимые пластинки. В концерте партнер не так важен, как при прослушивании музыкальной записи. Нужен человек, с которым хочется молча переглянуться, а по окончании пьесы поговорить. Казакевич был идеальным партнером; не обладая никакой специальной подготовкой, он отлично разбирался в тонкостях исполнительского мастерства.
Постепенно у нас вошло в обычай делиться своими замыслами и показывать друг другу в рукописи незаконченные работы. Годы, когда мы особенно часто виделись с Казакевичем, были для меня переломными, я все дальше отходил от театра и впервые взялся за роман. Казакевич внимательно следил за моими опытами, советовал, подбадривал, поругивал за медлительность. В свою очередь он охотно давал мне читать свои черновые наброски, а однажды принес несколько густо правленных чернилами машинописных страниц и потребовал, чтоб я прочитал их тут же, при нем. Вид у него был одновременно смущенный и вызывающий.
С первых же абзацев я насторожился. Речь шла о чем-то очень знакомом. Много лет назад близкий друг нашей семьи, член партии с 1901 года, Софья Самойловна Михайлова-Штерн рассказала мне, как она по поручению Владимира Ильича Ленина разыскивала скрывавшегося в Москве лидера меньшевиков Л. Мартова, чтобы передать ему неофициальное предложение немедленно уехать за границу. Софья Самойловна рассказывала этот эпизод очень красочно, и на меня произвело большое впечатление отношение Ленина к Мартову, непримиримость к политическому противнику соединялась с высокой гуманностью. Уже после смерти С. С. Михайловой я пересказал Казакевичу эту историю, в достоверности которой я и поныне не сомневаюсь, и она ему тоже понравилась. Прошло два-три года, и вот передо мной рассказ под названием «Враги».
215
— Понимаешь, что получилось, — сказал Казакевич, когда я закончил чтение. — Сперва я забыл, от кого я все это слышал. А вспомнив, не сразу сообразил, что ты теперь стал прозаиком и, может быть, захочешь сам написать рассказ на этот сюжет. Короче, у меня к тебе два вопроса: не наврал ли я в чем-нибудь существенном и не возражаешь ли ты, чтоб рассказ был напечатан. Это твое право.
Подумав, я ответил, что я не только не возражаю против напечатания, но разрешаю, в случае каких-нибудь затруднений, сослаться на меня. Факты в основном изложены правильно, но в деталях есть значительные расхождения; в частности, Софья Самойловна, изображенная в рассказе под именем Софьи Марковны, ни по внешности, ни по характеру, ни по своей биографии не похожа на ту замечательную женщину, которую я знал с детства. Рассказа я писать не собираюсь, но, если мне когда-нибудь придет охота писать мемуары, я оставляю за собой право описать Софью Самойловну по-своему и заодно воспроизвести ее рассказ так, как я его запомнил.
Разговор этот никак не омрачил наших отношений, и рассказ был вскоре напечатан.
Обстоятельства складывались так, что большая часть наших встреч происходила с глазу на глаз или в узком семейном кругу, а между тем в Казакевиче была очень сильна общественная жилка, и в тех немногих случаях, когда нас связывало какое-то общее дело, я ясно видел, что в нем заложены незаурядные способности организатора и вожака. Интересный собеседник и заводила в любой компании, он был весьма посредственным оратором, секрет его влияния был в другом.
В 1954 году мы с Казакевичем поехали в Махачкалу на съезд писателей Дагестана. Не помню, был ли Казакевич формально утвержденным главой делегации, но это не существенно, важно то, что он им был фактически. В составе нашей делегации были писатели старше его по возрасту и по литературному стажу, были специалисты по литературе народов Дагестана, но Казакевич с необыкновенной быстротой ориентировался в новой для него обстановке, и, хотя он никого не оттеснял и не пытался командовать, как-то само собой получилось, что его номер в гостинице стал штабом делегации, а сам Казакевич центром притяжения для большинства участников съезда. Запомнилась поездка в Буйнакск, где мы — москвичи — провели целый день в гостях у Расула Гамзатова. Буйнакск не аул, а большой город, но жизненный
216

Группа писателей в Дагестане. В первом ряду: А. Югов, Р. Гамзатов,
Я. Хелемский, Э. Казакевич, А. Крон. 1954 г.
уклад в нем несколько другой, чем в прибрежной многонациональной, столичной Махачкале, он более горский, более традиционный, и сам Расул у себя дома был немножко другой, и раскинутое гостеприимными хозяевами угощение мало походило на обычный послесъездовский банкет. Молодого барашка резали тут же во дворе, огромные куски свежесваренного, еще дымящегося мяса были выложены на чисто выскобленную столешницу, вместе с вином и свежей зеленью они составляли основу пиршества. Меня поразило, с каким тактом и достоинством Казакевич вошел в незнакомую ему среду, сперва он только присматривался, опасаясь нарушить местный ритуал, но не прошло и часа, как он оказался в центре всеобщего внимания, не только сидевшие за столом, но еще какие-то толпившиеся в дверях люди с восторгом слушали его рассказы, смеялись его остротам, а еще немного позже, когда было уже достаточно выпито, Казакевич, сидя во главе стола, сильным и верным голосом запевал свои любимые фронтовые песни, отбивая такт кулаком правой руки и властно дирижируя левой.
Двумя годами позже Казакевич возглавил редколлегию альманаха «Литературная Москва». Редколлегия работала на общественных началах, должности главного редактора не существовало вовсе. И опять, как-то само собой, без всякого давления, Казакевич стал центром, а его дача — штабом. Входившие в редколлегию маститые писатели старшего поколения К. Г. Паустовский и В. А. Каверин охотно признали за Казакевичем первенствующую роль. Казакевич обладал редким искусством объединять людей, он мог быть резок, но его нельзя было заподозрить в недоброжелательстве или тайных расчетах. Мне кажется, что он мог быть превосходным редактором литературного журнала, мог стоять во главе творческого объединения, мог быть очень полезным в налаживании контактов с зарубежными писателями, можно только пожалеть, что его способности и общественный темперамент были так мало использованы.
Казакевич умер молодым. Всякая ранняя смерть справедливо называется безвременной, но когда умирал Казакевич, мы, его друзья, с особенной остротой ощущали безвременность его гибели, все мы чувствовали, что он находится накануне нового творческого взлета. Он ушел от нас в расцвете сил и возможностей, неисчерпанный и нерастраченный, полный юношеского задора. Умирал он так же мужественно, как и жил.
1977
А. Ю. Никич
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПОРТРЕТУ
Гостиная-приемная в Голицынском доме творчества была в те годы крошечная. Дубовый старый буфет, занимавший почти целиком одну из стен, придавал помещению домашность — тесно, но уютно. А. И. Старцев, которого я приехал навестить, любил здесь работать — вдалеке от суеты города и близко к природе: в нескольких минутах ходьбы от дома начиналось поле, а за ним — лес. В окне уходил короткий ноябрьский день, сумерки уже начали съедать углы комнаты. Сидя в креслах, мы негромко беседовали. От меня был виден проем двери, за ним прихожая, в которой уже зажгли свет. По узкой крутой деревянной лестнице, что вела на второй этаж, кто-то спускался. Спускался совсем бесшумно, ставя ноги на ступени, будто крадучись. Сошедший — в сером свитере, армейских галифе, в сапогах — остановился на секунду в дверях, немигающим пристальным взглядом оглядел нас и, не сказав ни слова, отступил в коридорчик — и словно растворился в повороте за дверью.
— Это Казакевич, автор «Звезды», познакомить вас? — спросил Старцев. — Вам наверняка это будет интересно — он тоже «болен» войной.
Однако мое знакомство с Эммануилом Генриховичем в тот вечер не состоялось, а произошло уже зимой в маленькой квартирке на Беговой улице, где в те годы жил писатель со своей многочисленной семьей.
Казакевич встретил нас с Абелем Исааковичем удиви-
219
тельно радушно, так, будто знал и меня, вроде как и Старцева, уже не первый день. Мы быстро договорились о том, что Эммануил Генрихович мне будет позировать.
Кабинетом комнату Эммануила Генриховича назвать было трудно — так она была мала. Метров семи. Я с трудом втиснул в щель между книжной полкой и столом свой мольберт. Казакевич сидел в кресле. Перед сеансом он меня спросил: «Выпить не хотите?» — «Нет!» — «А я себе разрешу: моя доля проще — не уснуть». Дело было в том, что, видимо, Эммануилу Генриховичу хотелось снять напряжение, устранить некоторую неестественность ситуации. Позировал он замечательно — часа полтора-два без перерыва, только изредка прося разрешения закурить.
Наша работа на третьем или четвертом сеансе была прервана какой-то командировкой Казакевича по делам Союза писателей и возобновилась много позже.
Во время одного из сеансов Эммануил Генрихович спросил меня: «У вас чувство страха часто возникало на войне?» Я замялся было, но отвечал, что, мол, конечно, было, заметил, что в то же время о смерти в отношении себя если и думал, то как-то нереально.
Казакевич засмеялся и, как маленькому, сказал: «Молодец! Молодец, что не фасоните теперь — оставшись целым-то». Помолчав, добавил, продолжая усмехаться: «А что смерть не понимали применительно к себе, так это от молодости, даже, может быть, от детства, от детскости, которая живет в нас. Кажется, что жить будешь всегда. И в голове сидит схема мира, где ты обязательно молодой, хотя есть и старики, но это тебя вроде как бы не касается — ты молодой и таким будешь всегда». И, помолчав, заключил: «Хотя, как известно, это совсем не так...»
У Казакевича была очень своеобразная речь — чуть глуховатым голосом он начинал фразу, набирая слово за словом, чуть захлебываясь, оттого ее конец шел толчками, как глубоко пульсирующий ток крови, заканчивавшийся выходом вопросительной интонации или усмешки. Чуть глуховатый тембр его голоса звучал всегда напряженно, отчего я начинал чувствовать некое волнение и даже стеснение, что неоднократно замечал не только в отношении себя, но и в отношении других людей, которых я наблюдал в течение многих лет в разговорах с ним.
К тому, как я работал над тем, первым, холстом, Казакевич относился немного безразлично, хотя однажды спросил: «В какой том собрания сочинений вставим этот портрет?» —
220
и засмеялся чуть смущенно, но в полном счастливом убеждении в том, что это время не за горами.
Потом я уехал писать весну, и сеансы наши прервались.
Уже много времени спустя, рассматривая холст у себя дома, я решил, что руки и торс написаны вяло, — и вырезал из холста голову, в которой, мне казалось, был уловлен Казакевичев пристальный взгляд.
Эммануил Генрихович эту акцию — «сохранения куска» — не разделил со мною — «неудачи следует оставлять». Впрочем, к тому времени появился еще один опус.
«Еще один» был написан в деревне Глубоково Владимирской области, куда писатель уехал на долгие месяцы из Москвы.
Зимой 50-го года я две недели прожил в этом прекрасном доме. Утренние часы Эммануил Генрихович отдавал позированию, вторая же половина дня была посвящена его работе.
Та часть избы, где был устроен кабинет, имела совсем городской вид благодаря полкам с книгами, занимавшим стены от пола до оклеенного белыми обоями потолка, и только два оконца, задернутые ситчиком, оставались ненарушенными — избяными окнами; они пропускали недолгий зимний свет до половины комнаты, потому я и устроил между ними свой мольберт — ближе к свету.
Получилось так, что в простенке между окошек, за моей спиной, висело довольно большое зеркало, в котором с того места, где сидел позирующий Казакевич, был виден мой холст и можно было наблюдать, что я делаю, как идет работа. Меня это немного нервировало, и я было решил снять зеркало, но Эммануил Генрихович попросил меня оставить его, не снимать.
— Вы даже не представляете себе, — сказал он, — как это удивительно: вы смешиваете и раскладываете по холсту, в сущности, перемешанную с маслом цветную глину — и вдруг из этих смесей возникает живая плоть — влажные губы, кожа, блеск металла или стекла. Это удивительно,— повторил он, — не снимайте зеркало, для меня это очень важно.
Я смирился. Но чтобы несколько отвлечь его пристальное наблюдение за тем, что я делаю, я старался затевать разговоры, в которых Эммануил Генрихович был бы ведущим. Я знал некоторые его маленькие слабости.
— Эммануил Генрихович, почитайте Гейне, только по-немецки.
Он откликался на эти мои просьбы всегда с какой-то
221
юношеской радостью. Ему было присуще в чтении стихов подчеркивать музыку и ритм стиха, делал он это как-то совершенно без форсирования. И быть может, потому, что чтение по-немецки он перемежал иногда Пастернаком, любимые им его стихи звучали другой мелодией, другой ритмикой, другим строем — чистой высокой звучностью русского слова.
Впрочем, при чтении прозы (а вечерами он иногда читал мне вслух) особо любимых им страниц русских классиков он также упивался особенностью звукового строя фразы, — это, очевидно, было частью его художнической натуры — восторженность перед не им созданным. Как-то вечером он читал вслух Пушкина.
— Нет, вы только послушайте, Анатолий Юрьевич, — вдруг прервал он чтение, — ну, не чудо ли: «душа тобой уязвлена». Только он мог себе позволить такое — «уязвлена»,— это поразительно по точности, так незаменимо, что даже через столетие языковых сдвигов мы сегодня не видим в этом чего-то иного, только глубоко трагическое «уязвлена».
Несколько недель спустя, уже в Москве, Казакевич привел ко мне домой своих близких, показать свой — мой портрет. Нежно приобняв за плечи свою сестру, поглядывая на холст, засмеялся: «А ведь этот человек может написать «Войну и мир»? А?»
В середине января 53-го года, через несколько дней после выхода в свет номера «Нового мира», где было опубликовано «Сердце друга», мне позвонил Казакевич и с ходу предложил в виде зимнего роздыха «поехать побродить». «Куда?» — «Я и сам не знаю точно,— засмеялся он. — На северо-восток? Кострома — Чухлома? Договорились?»
До Чухломы мы не доехали, да и, по правде говоря, «побродить» мало вышло, больше поездить. До Костромы добрались на поезде.
В этом городе оба мы оказались впервые. Индустрия жилищного строительства еще не коснулась его, не разутюжила его старину бульдозерами, не заполнила коробчатыми кварталами — Кострома была тиха, и обязательные губернские черты русской провинции встречали приезжего на каждом шагу, на каждом углу, на каждой улице — провинциальным ампиром, торговыми рядами, церквами и прочими ушедших веков сооружениями. Как бы продолжая набирать ощущения уходящего в прошлое, мы отправились в Ипатьев-
222
ский монастырь, путь к которому был совсем недалек от гостинички, где мы бросили свои пожитки.
Зимнее утреннее солнце будто плавило в холодной эмалевой синьке январского неба розово-белое чудо русских зодчих. Нашим восторгам и охам не было конца.
Отправляясь в монастырь, я захватил на плечо ящик с красками и со всеми своими необходимостями для работы на природе и немного погодя устроился писать этюд Годуновской звонницы, уходившей сверкающим розовым кубом в бесконечную высь. Через часа полтора воротился, после осмотра внутренних помещений, Казакевич.
— Вы с ума сошли, ведь мороз за двадцать градусов, а вы тут как пришитый, — и начал заботливо помогать мне собирать и укладывать нехитрые причиндалы нашей профессии. У меня и в самом деле чертовски замерзли руки.
Вечером, продолжая знакомство с городом, отправились в гордрамтеатр, — очевидно, вялая игра актеров могла быть объяснена тем, что пьеса была скверная. Эммануил Генрихович дотерпел до середины первого акта, тихо тронул меня за локоть и посмотрел выразительно, показывая на горевшую призывно надпись «Выход». На улице было тихо и морозно. Когда вернулись после бесконечного плутания по засыпавшим уличкам и переулкам, в номере показалось чудовищно неуютно. Оглядываясь на стены, окрашенные зелено-танковым колером с «муаром», Казакевич досадливо буркнул:
— Сбежим отсюда утром. Бред эстета-завхоза какой-то, глядишь, и приснится черт-те что...
Утром мы «ушли» из Костромы. На выходе из города в сторону совхоза «Караваево» нас подобрала попутка. Сидя рядом с шофером старенького, видавшего виды «джипа», бог весть как попавшего в эти края с войны, Казакевич молчал, то ли думал о чем-то, неотвязно его мучившем, то ли дремал. Внезапно, повернувшись всем корпусом к водителю, спросил:
— Книжки читаете?
— Да как сказать... — уклончиво ответил тот.
— Ну, что значит «как сказать»? Читаете! Это ясно! А какие любите?
Шофер, как-то неохотно нанизывая слово к слову, отвечал, что читает, что теперь все читают, и он читает, а интересно ему, конечно, про войну.
Водителю было лет двадцать.
— Ну, а книги каких писателей о войне читали?
— А о войне только один и пишет, — скосив глаза
223
в сторону Э. Г., сказал шофер. — Константин Симонов, слыхали? Ну, это тот, что написал «Жди меня, и я вернусь»... Казакевич усмехнулся и, обернувшись ко мне, сказал:
— Вот так-то, Анатолий Юрьевич...
В Караваеве все было напоказ, как и в рядом расположенном совхозе, куда мы махнули.
— Нет! — говорил Казакевич. — Это все для ВСХВ, поехали дальше. Дальше от городов. Айда к Чухломе.
Беспокойство, мучившее Казакевича, привело нас в г. Макарьев на Унже, а из него еще дальше, на делянки Макарьевского леспромхоза. В те годы городок на Унже жил жизнью слободы, что занималась пимокатным делом и лесоповалом в леспромхозе. Секретарь райкома партии, молодой совсем, послевоенной формации человек, был польщен приходом Казакевича и уговорил писателя устроить вечер в городском педучилище. Оно было культурным центром Макарьева не только для самого городка, отстоящего от железнодорожной магистрали на 80 км, а и для других районов, примыкающих к нему.
Оповещение в таком маленьком месте — изустное, без афиш и рекламы — переполнило к вечеру актовый зал педучилища. Эммануил Генрихович, сидя на маленькой сцене за столиком, был обозрим с головы до ног, обутых в валенки, что вызвало у набившихся в зал стариков и старух явную симпатию. Они тоже сидели в валенках. Студентки, несмотря на мороз, многие приоделись «по-вечернему», в туфельках — все же столичный гость.
«Гость», после того как его по всем титулам и званиям представила заведующая учебной частью, остался на сцене один. Неловко оглянулся и сказал: «А я ведь не один — я в пути со своим другом, художником». Но это замечание его не было никак воспринято, собравшиеся жаждали ПИСАТЕЛЯ. И вот он перед ними. Из фамилии на обложке он материализовался в человека, и это было для большинства завораживающе. Казакевич поглядел в притихший зал и предложил: «Давайте устроим вечер вопросов и ответов. Вы спрашиваете — я отвечаю». То ли до этого у них такой формы встреч не было, но это вызвало большой энтузиазм присутствующих. Позже, придя в номер нашего заезжего приюта, Эммануил Генрихович, глядя на ворох записок, принесенных со встречи, сказал устало:
— Отвечать одному — легко, отвечать одному и в то же время нескольким стам — трудно, все время ищешь опорные слова для других — ведь пришел и к этим, что не писали
224
записок, но слушали почти три часа. А тишину вы заметили? — И уже размягченный недавним вниманием, посмеиваясь над собой, засовывая стопу записок в чемодан: — Ведь понимаю, что половина добрая обо мне и слыхом не слыхала, и строчки не читала, и пришли от чистого человеческого любопытства, как та старуха, которая попросила слова у меня и громогласно объявила, что теперь и «помирать можно —- писателя живого повидала», — но если откинуть любопытство, — вы заметили — в зале было много прекрасных лиц с высокими светлыми лбами.
— Головами? — спросил я.
— Да нет! — раздраженно ответил он. — Лбами. — И повторил: — Лбами, умными, светлыми лбами.
Через несколько дней, когда мы на розвальнях добирались до железнодорожной станции, он вспомнил опять этот вечер с какой-то грустью, заметив:
— Вот в таком богом и властями забытом месте — педучилище. Это очень хорошо, что я с ними поговорил, — лица были пытливее, чем записки, — и здесь время!
Мы возвращались в Москву, и я чувствовал, что беспокойство вновь овладевает им.
Когда я выходил из Третьяковской галереи, я решил навестить Казакевича, которого давно не видел. Жил он теперь тут же в Лаврушинском, в доме напротив галереи.
Открывшая мне дверь жена писателя сказала, что у Эммануила Генриховича сейчас Олеша, что они скоро освободятся, чтобы я подождал в столовой, где, кстати, и чай на столе. У меня гудели ноги, и я был рад посидеть в тишине, за чашкой чая. Вскоре вышел из кабинета Эммануил Генрихович, плотно притворив за собой дверь.
— Там Олеша, Юрий Карлович. Вы его знаете?
— Нет, я с ним не знаком, никогда его не видел.
— Это человек удивительный, я вас обязательно с ним познакомлю сегодня...
Надо заметить, что еще раньше, когда в наших беседах разговор заходил о современных прозаиках, Казакевич об Олеше говорил, всегда выделяя его из порядка «десятилетий», то есть он не был для него писателем 20-х, или 30-х, или 40-х, или 50-х годов — он был для него, как мне казалось, писателем нашего времени.
Казакевич считал, что созданное Олешей — немногое по объему — обладает подлинным качеством — качеством,
225
с которым в литературе и искусстве живут и остаются для будущего, — это писатели одного романа, художники одной картины:
«Даргомыжского мы все знаем по «Русалке», им создано еще довольно много, но он — автор «Русалки», впрочем, как и Бородин с «Князем Игорем»; его «Богатырская симфония» и романсы за чертой «Игоря». Бородин — это «Князь Игорь». Олеша — это навсегда «Три толстяка» — этого уже хватит. Олеша — это «Зависть» — это достаточно для целой жизни. Сервантесу хватило одного «Дон Кихота».
Эти примеры им часто приводились, когда он высказывал восхищение Олешей. И то обстоятельство, что он, проведя рукой по корешкам стоящих на полках десятков томов академического издания Льва Толстого, любил повторять, что «гений — это производительность», никогда не умаляло ни жизни, ни подвига тех, кто сделал меньше, но в «качестве». Качество, как литературная ценность, позволяло ему в градациях оценок современников употреблять к слову «писатель» эпитет — «Большой». Олеша для него был Большой писатель.
За высокой белой дверью кабинета что-то делал автор «Трех толстяков», «Зависти», «Великодушного рогоносца» и еще не читанного тогда нами «Ни дня без строчки». От этого я испытывал неловкость и напряжение, и, когда дверь внезапно отворилась и из кабинета вышел Олеша, я вскочил, как школьник при появлении учителя в классе.
Олеша, будто что-то откинул со спины, перешагнул через порог кабинета, потом, секунду помедлив, быстро подошел ко мне, взял меня за руки, сияя безвозрастными синими глазами, и сказал:
— Здравствуй, Джотто!
Пораженный Эммануил Генрихович тихо спросил Олешу:
— Юрий Карлович, откуда вы знаете, что Анатолий Юрьевич — художник?
Олеша повернулся к нему сразу всем телом, всем своим плечистым мешковатым корпусом:
— Разве об этом надо говорить?
Казакевич много раз потом вспоминал этот эпизод, повторяя:
— Только Олеше дано так восчувствовать другого. Это непостижимо.
Он его очень любил. И его смерть была для него настоящей большой потерей.
1977
Анатолий Медников
СИЛА И ЦЕЛЬНОСТЬ ДУШИ
1. СОРМОВО
Сорок девятый год. Начало зимы. Александр Фадеев читает на заседании секретариата письмо — приглашение писателям от коллектива знаменитого Сормовского завода принять участие в столетнем юбилее, создать коллективную книгу о заводе.
Фадеев говорит о горьковской традиции коллективных писательских работ, которую надо поддерживать, о возможности приобщиться к богатейшему материалу, о будущей книге, чья добротность должна измеряться если не веком жизни, то хотя бы половиной заводского юбилейного срока. И это как минимум!
— На заводе вас с нетерпением ждут, товарищи, а дело важное, большое дело! — обращается он к писателям, которые едут в Сормово.
Кажется, Эммануила Генриховича Казакевича не было на этом заседании. Во всяком случае, я его там не видел, а встретил только через неделю уже в Горьком, куда я поторопился приехать и оказался первым, кто поселился в старенькой, скромной сормовской гостинице. Окна гостиницы выходили в сторону завода и на теперешнюю улицу Коминтерна, а раньше — «Сормовску большу дорогу, что слезами улита», как пелось в старинной песне.
Вторым из нашей группы, кто приехал и поселился в этой гостинице, был Казакевич. В это время он был уже автором двух широкоизвестных повестей — «Звезда» и
227
«Двое в степи», причем подвергавшиеся критике «Двое в степи» собрали, мне казалось, не меньшее число рецензий и отзывов, чем «Звезда», отмеченная Государственной премией.
С Казакевичем я не был лично знаком до этой зимы. Читал его произведения, видел его портрет на обложке огоньковской книжки, уже в штатском: в пиджаке, в белой рубашке и при галстуке. С фотографии смотрело лицо с большими умными глазами, в очках.
Бросалось в глаза некое несоответствие между внешним впечатлением тонкой и чуть меланхолической интеллигентности и богатым набором орденских ленточек на груди. Может быть, по этому несоответствию я узнал сразу же «живого» Казакевича, когда он вошел в маленькую комнату буфета гостиницы, где я завтракал.
Я внимательно посмотрел на него, он вопросительно на меня, кивнул утвердительно на мой вопрос, не писатель ли он, и когда я назвал свою фамилию, спросил — почему я к завтраку не взял фронтовых ста граммов?
Голос у Казакевича был приятный, с характерной для уроженцев юга России мягкостью и манерой чуть растягивать гласные.
Говорил он с полуулыбкой, за которой скрывалась то ли легкая ирония, то ли просто хорошее настроение вкупе с желанием действительно немного выпить по поводу приезда.
Мы выпили по сто граммов и отправились на Баррикадную улицу, или, как говорят здесь, «в завод».
Как часто за последние два десятилетия я шагал по этой узкой, внешне мало чем примечательной улице, но знаменитой тем, что именно здесь, в гнезде бунтарей, как называли до революции Сормово, полиция разгоняла первые рабочие демонстрации, а грозный клич «Долой самодержавие!», прозвучавший на убогих улицах фабричной слободки, прокатился по России раскатом грома.
Прежде чем зайти к директору, мы решили немного побродить между цехами, выйти к скованной льдом Волге, к заводской гавани, где зимовали суда.
— Подышим немного заводом, — предложил Казакевич.
Заводы меняются так же быстро, как и города, если не еще быстрее. Где ныне былые приметы сормовской старины? А тогда, в сорок девятом, существовали и закопченные паровозные цехи, и старые кузницы, и стена, на которой можно было прочесть слова: «В этом цехе в 1870 году была пущена первая в России мартеновская печь».
228

За письменным столом. Москва, 1949 г.
Я помню, мы говорили о слиянии завода с Волгой, которое столь характерно для Сормова и проглядывало во всем его облике, архитектуре и композиции цехов. Большие и малые заводские улицы и переулки, где бы они ни начинались, все неизбежно и целеустремленно тянулись к гавани, к берегу главной водной улицы России.
Погуляв по заводу, по снежным аллеям, которые тогда начинали украшать заводскую территорию, мы пошли в заводоуправление, в кабинет Ефима Эммануиловича Рубинчика.
Директор завода незадолго до этого получил воинское звание генерала инженерно-технических войск, а затем Золотую медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда.
Я впервые увидел Рубинчика именно в генеральском мундире. Невысокий, седой, подвижный, он производил впечатление человека, чей темперамент каждую минуту готов разрядиться в энергии слов, жестов, даже в походке, в звуках высокого, напряженного голоса.
Казакевич, капитан запаса, невольно собрался, подтянулся перед генералом и приветствовал Рубинчика по-военному:
— Здравия желаю, товарищ генерал! Мы двое из группы московских писателей. Прибыли. Остальные на подходе. Я лично... от военной темы делаю первый шаг к мирной...
Все это походило на рапорт, может быть не слишком уместный для писателя, но на лице Казакевича не дрогнул ни один мускул.
— И очень хорошо. А как вы устроились, товарищи? — спросил директор и тут же сказал, что на заводе с нетерпением ожидают приезда писателей и что хорошо бы книгу выпустить к юбилею.
Кажется, Казакевич ответил «сделаем» или «постараемся», присовокупив к этому снова свое четкое «товарищ генерал». Мне показалось, что делал он это в силу той строевой закваски, что глубоко укоренилась в нем за время войны, а может быть, и оттого, что, повторяю, в устах писателя эта чеканность речи звучала как-то по-особенному неожиданно и, несомненно, слегка льстила собеседнику.
А он, наш собеседник, увлеченно заговорил о заводе и с указкой в руке прошелся вдоль стен своего кабинета, где висело множество фотографий кораблей, различные графики, схемы, а также портреты людей, в которых угадывались старые сормовские рабочие. Казакевич с интересом разглядывал лица стариков, самому младшему, наверно, было лет семьдесят, не меньше.
230
— Наша старая гвардия, — произнес директор с гордостью. — Патриархи Сормова! Вот вы зайдете в цех и увидите у станков представителей трех, а то и четырех поколений одной семьи. Вот такими семьями мы богаты. Да, патриархи! — повторил он. — Вот тема.
Я не знаю, в какой мере слова директора повлияли на решение Казакевича написать очерк об одной из сормовских династий. Но тем не менее он написал именно об этом, и, думается, не только потому, что такими династиями действительно богато Сормово, а и в силу своего интереса к теме исторической преемственности поколений, к теме рабочего класса, интереса, который потом так развился и окреп в его последующих произведениях.
Казакевич выбрал себе рабочую династию Вяловых.
К сожалению, этот очерк («Черты характера») не был опубликован писателем, хотя рукопись сохранилась в архиве. Помню, как он читал мне в гостинице первые наброски. Сам я в ту пору погрузился целиком в увлекший меня драматический, но локальный производственный эпизод, когда ранний паводок на Волге заставил сормовичей в полном смысле слова героически бороться за скорейшую сборку судов, чтобы они не были затоплены в судояме. Может быть, поэтому стремление Казакевича даже на малой «площадке» очерка мыслить масштабно, исторично произвело на меня сильное впечатление.
Очерк начинался с полемического противопоставления литературы о династиях царских, княжеских, о торговых и банкирских домах рассказу о династии рабочей семьи Вяловых, с ее бурлацкими истоками, рабочей выносливостью и трудолюбием, революционной верой в будущее.
Очерк этот Казакевич дописал уже в Москве. А в Сормове он старался больше видеть, слышать, «дышать заводом». И вот произошел случай, сам по себе печальный, который позволил ему, однако, еще лучше узнать Сормово и его людей. А мне этот случай впервые приоткрыл Казакевича-человека, черты его характера и отношение к жизни.
Примерно дней через десять после того, как мы приехали в Сормово, Эммануил Генрихович заболел. Первые признаки недомогания он обнаружил у себя, когда мы из Сормова поехали в Горький, чтобы выступить по местному радио.
В те годы из Сормова в Горький долго тащился трамвай, а день был морозный, ветреный, Эммануил Генрихович зяб, иногда знобко поеживался, кашлял.
231
В радиокомнате надо было предварительно написать наши краткие выступления. Казакевич по меньшей мере минут тридцать сидел над полстраничным текстом. Он чувствовал себя все хуже, я видел это по его глазам. Тут впору было и вовсе уехать домой, а не мучиться над помарками для трехминутного выступления, но он продолжал упорно работать.
Такси на обратную дорогу мы не достали, и с пылающим от жара лицом Эммануил Генрихович еще долго трясся в холодном трамвае. Он не позвонил мне ни вечером, ни ночью, я решил, что он спокойно спит в своем номере. Но утром я был поражен известием, что писателя из девятнадцатого номера увезли в больницу!
Это большое, из красного кирпича здание еще дореволюционной постройки стояло тогда в глубине парка. Рядом луг, где стоят обелиски в честь первых революционных демонстраций и столкновений рабочих с полицией.
Не сразу я разыскал больного, которого привезли ночью. Я нашел его в большой комнате с множеством кроватей — мне показалось, что там их было не меньше тридцати. На одной из кроватей дремал Казакевич.
— Температура ночью подскочила к сорока, — сказал он, как бы оправдываясь. — Вызвал «неотложку». Сейчас уже меньше.
При этом он слабо махнул рукой, словно бы заранее отводя мои упреки за то, что никому не сказал, не позвонил.
— Все обошлось. Дежурная по этажу оказалась такой милой девушкой, вызвала врача. Ничего, ничего! — успокаивал он меня, как будто это я заболел в командировке, в чужом городе, а не он. — Все хорошо, здесь я увижу и узнаю то, о чем нам никогда не расскажут в директорском кабинете. И потом, здесь я никакой не писатель, а просто больной. Этим снимается неизбежная фальшивость положения человека, собирающего материал путем наблюдения со стороны и опросов героев. А сейчас я лежу, как все, — думаю, тоскую, немного страдаю, одним словом, как в жизни и как на фронте. — Он улыбнулся. Потом поманил меня к себе поближе и шепнул: — А какие здесь интересные люди! Где-где, а уж в больнице рубят всю правду-матку. Про все.
— Интересные? — переспросил я, полагая, что у Казакевича с температурой сорок было совсем мало времени узнать, каковы здесь люди.
— Очень, — убежденно повторил он.
232
— А может, попросить, чтобы перевели в палату, где меньше людей? Или в отдельную?
— Не надо! — сказал Казакевич. — Именно здесь я и останусь.
У него не было ни тени уныния, досады, никаких жалоб, никаких просьб, кроме одной: он попросил не сообщать о его болезни домой. Недавно у него родилась дочка. Третья. Жена еще не совсем хорошо себя чувствует. Узнает, примчится в Сормово. Не надо ее беспокоить.
Казакевич пролежал в больнице недели две, был коротко знаком со всеми соседями по палате; почувствовав себя лучше и справившись со своим бронхитом, он вел записи и даже попросил меня принести ему в больницу рукопись романа. Он назывался «Весна на Одере».
Известно, что Казакевич начал писать этот роман сразу же после войны, а задумал его еще на фронте, но роман писался трудно, медленно, и раньше его увидели свет и «Звезда» и «Двое в степи». Большая незаконченная работа все время владела мыслями писателя, тянула к себе, тревожила. Эммануил Генрихович сказал мне в Сормове, еще до болезни, что колебался в Москве, брать ли ему в поездку рукопись или не брать. И все-таки взял.
Никто не знает, где ему будет лучше работать — дома ли, в маленькой комнатке Дома творчества, в какой-нибудь сельской гостинице или вот в Сормове, по соседству с шумно дышащим заводом и в компании с другими литераторами, чьи машинки дробно постукивали за стенами гостиничного номера.
В нашу группу входили московские прозаики и очеркисты. Как это обычно водится, многие привезли с собой в Сормово незаконченные рукописи, продолжали здесь над ними работать.
Как-то вечером я зашел в номер к Казакевичу и застал его за письменным столом. Он работал над романом. В тот день он писал одну из глав о Гитлере; и при мне, еще, видно, по инерции работы, продолжал, рассказывая, думать об этой главе.
Эммануил Генрихович ходил по комнате и «мыслил за Гитлера». Да, именно за Гитлера, загнанного нашим наступлением в бетонную нору своего подземного бункера, мятущегося в страхе перед неизбежным возмездием, но все еще надеющегося на чудо в облике генерала Венка, командующего 12-й немецкой армией. Именно этой армии Гитлер отдал
233
приказ пробиваться с запада к окруженному кольцом наших войск Берлину.
Эпизод этот вошел в роман, его можно перечитать. Я же вспоминаю о нем потому, что меня в тот вечер удивило это предварительное проговаривание вслух внутреннего монолога Гитлера. Позже я узнал, что Казакевич вообще любил в первой редакции, так сказать изустной, проговаривать вслух то, что он затем, во второй редакции, заносил на бумагу. Некоторые свои вещи в первой редакции он диктовал.
В тот вечер Эммануил Генрихович, да позволительно мне будет так сказать, вживался в образ Гитлера-изувера как художник, стремясь понять, что творилось в этом воспаленном, пропитанном ядом ненависти мозгу.
Рассказывая мне о будущей главе романа, Казакевич выглядел — так мне казалось — счастливо-возбужденным. Только ли оттого, что работа, сам процесс сочинения доставлял ему творческое удовольствие? Конечно, и поэтому. Но вместе с тем Казакевич, гвардии капитан запаса, коммунист, несомненно, испытывал в этот момент радость отмщения, полноту той удовлетворенности судьбой, которая тяжкими годами войны была заработана им, фронтовиком, ставшим писателем.
Он сам сказал мне об этом.
— Когда пишешь о таких, как Гитлер, Геббельс, Гиммлер, невольно встаешь перед дилеммой: как изобразить правду чувствований, всю эмоциональную сферу жизни этих извергов и не впасть при этом в излишнее очеловечивание характеров, что противно нашей совести и представлениям о человечности вообще. Это трудно.
Он задумался, потом добавил:
— Есть у нас литераторы, которые считают, что о Гитлере как о человеке вообще писать нельзя. Вряд ли это правильно. Есть поучительность и в биографии злодея, преступника. Тем более если в нем сконцентрировалось все зло, вся мерзость и опасность фашизма. Во всяком случае, художник не может проходить мимо, невозможно делать вид, что таких людей не было. Этого нам не простит история.
Я тоже видел Германию последних месяцев войны. Я был и в рейхсканцелярии Гитлера, о которой мы говорили в тот вечер, был в первые дни и часы, когда туда ворвались наши солдаты. Естественно, нам было что вспомнить.
— Это наша война, — сказал Эммануил Генрихович. — Я говорю «наша», имея в виду наше поколение. Все лучшее, благородное, героическое, с чем пришло в мир наше поколение,
234
оно отдало этой войне. И другой у нас уже не будет. И второго поверженного Берлина — тоже. И тех радостей и тех страданий, которые мы пережили.
«Наша» — это означало, что именно наше поколение обязано сказать о минувшей войне весомое и достоверное слово, оставить для истории, для литературы правдивые свидетельства.
— О войне, о разгроме фашизма будут еще писать по меньшей мере лет пятьдесят, — совершенно убежденно произнес Казакевич. — Настоящие книги о войне напишут ее подлинные герои, те, кто не отделял себя от воевавшего народа. Настоящие — значит правдивые. И нет правды мелкой и крупной, окопной и стратегической, солдатской и генеральской. Как и мир, правда неделима, правда едина, если это ленинская правда.
Вечерами Казакевич любил погулять по улицам Сормова. Иногда мы гуляли вместе, выходили к берегу Волги. На снежном ее полотне отражались огни завода — яркие всполохи мартеновских плавок. Направо в цепочке протянутых над берегами мерцающих точек угадывался большой волжский мост.
«Издали завод похож на общее собрание действующих вулканов, — скажет позже Казакевич в своем очерке о Магнитогорске, добавив: — Полюбите этот пейзаж вечного дела, и вы уже почти можете писать...»
На берегу всегда было ветренее, холоднее, свежий воздух, настоянный на морозном духе сосновых заволжских лесов, обдувал нас. И хотя мы порой удалялись по берегу от завода километра на четыре, все же в воздухе ощущалась и легкая горечь дымка.
— Вот так же пахнет зимой сосновая роща после артналета, — вспомнил как-то Эммануил Генрихович.
Это было точно. И я подумал тогда, что весь он еще во власти фронтовых ассоциаций.
Я и позже не раз убеждался, что Казакевич не только всегда остро помнил фронт, но и пронес через всю свою жизнь любовь к армии. В Сормове, на заводе, он больше тяготел к рабочим — бывшим фронтовикам и вообще ко всем тем, чья судьба так или иначе была в прошлом связана с армией.
— Люблю бывших стриженых ребят, — признался он мне, — люблю солдатское общество и, когда приходится, с удовольствием выступаю перед солдатской и офицерской аудиторией.
235
Он и сам себя частенько называл «солдатским писателем».
Признаться, меня тогда даже немного удивило, зачем Казакевич в самый разгар своей работы над военным романом вдруг приехал в Сормово. Он объяснил это тем, что ему хотелось немного отвлечься от фронтового материала — для контрастности подышать иной жизнью. Но, вероятно, причины здесь были в постоянном стремлении Казакевича к объемному, разностороннему охвату действительности.
* * *
Прошли годы. Давно уже потеряли силу и отошли в область истории мотивы и обстоятельства, которые помешали сборнику — большому коллективному труду писателей — увидеть свет. И будет жалко, если об этом сборнике забудут вовсе, ибо эта работа — яркий документ времени, вместивший в себя ценный историко-революционный и познавательный материал.
Сам Казакевич через девять лет вспомнил об этом в своем очерке «В столице Черной Металлургии». Не называя Сормово, но, несомненно, думая и о нем, он писал:
«Непростительно, что до сих пор почти ничего о Магнитке не написано, как не написано о Кузнецке, о Комсомольске-на-Амуре, о Норильске и многом другом. Великое начинание Горького — «История заводов и фабрик», задуманная им как история человеческих судеб, объединившихся для великих дел, — было прервано в самом начале и развеялось, почти не принеся плодов. Поколение строителей того времени уже постарело и, гляди, вскоре вовсе сойдет с исторической арены.
А великая реальность литературы не заключается ли именно в том, что она запечатлевает свое время?»
Э. Казакевич был одним из тех людей, кто умел взвешивать события и злобу дня на масштабных весах времени, смотреть вперед через барьеры случайного, наносного, преходящего, и эта историческая дальнозоркость составляла, мне думается, одну из важных особенностей его писательского зрения вообще.
— Это пройдет, — часто говорил он по поводу каких-либо огорчительных событий, занимавших в какое-то время общественное мнение. — Это лишь маленький зигзаг на пути истории.
236
Органический, глубокий оптимизм Казакевича имел своим истоком высокую революционную меру вещей и событий.
Казакевич был огорчен задержкой с выходом сборника. Но вместе с тем его занимали уже новые заботы и тревоги, что естественно для много работающего писателя.
В тот день, когда наша группа в последний раз встретилась в издательстве «Советский писатель», Казакевич, я и Заболоцкий отправились погулять по Москве, под вечер забрели в Парк культуры имени М. Горького.
Помню маленький кавказский ресторанчик около пруда. Было уже темно, и часть террасы, где мы сидели, причудливо отражалась в воде.
Заболоцкий читал нам свои чудесные стихи на грузинские темы. Читал он, почти не жестикулируя, спокойно, я бы сказал — раздумчиво, и смотрел при этом на полное электрических бликов темное зеркало пруда, словно бы в его отражении видел сейчас и ночной Тбилиси, и сочинский рейд, и «сонный Гурзуф».
Где скалы, вступая в зеркальный затон,
Стоят по колено в воде,
Где море поет, подперев небосклон,
И зеркалом служит звезде,
Лишь здесь я познал превосходство морей
Над нашею тесной землей,
Услышал стремительный ход кораблей
И отзвук равнины морской.
Есть таинство отзвуков. Может быть, нас
Затем и волнует оно,
Что каждое сердце предчувствует час,
Когда оно канет на дно...
Потом, через девять лет, когда не стало Заболоцкого, я вспоминал эти строчки как пророческие.
Казакевич слушал поэта завороженно. Обычно скупой на комплименты, он горячо говорил тогда Николаю Алексеевичу о любви к его таланту. Потом речь за столом, как всегда, перекинулась к отшумевшей всего четыре года назад войне, завязался разговор о военной литературе.
— Когда пишешь большую вещь, — сказал Казакевич, — когда долгое время находишься наедине с романом, то особенно к концу работы мучает чувство неуверенности и тревоги. Вы все это знаете. Несколько лет труда — и вот готова рукопись, ты несешь ее в редакцию. А что получилось, что скажут товарищи? Успех, или провал, или еще хуже — ни то ни се? Средняя, блеклая, как говорится, проходная вещь? Ужасно!
237
— Ничто так не способствует успеху писателя, как успех, — заметил Заболоцкий.
— А я вот слышал, как про одного писателя сказали: «Он потерпел успех», — улыбнулся Казакевич. — Не дай бог так! Как еще многие плохо и мелко пишут. А надо брать глубже, как можно глубже. От эпизодов, которых было уже достаточно, надо идти к объемным характерам и философии войны. — Потом, вздохнув, он добавил: — А все же неприятная эта штука — ожидание первых отзывов на роман. Я сейчас приближаюсь к таким тяжелым денечкам.
Казакевич имел в виду свой роман «Весна на Одере». Вскоре он закончил работу и начал писать второй роман и новую повесть — одним словом, лет на восемь отойдя от рабочей темы и целиком погрузившись в материал войны.
2. ПОЕЗДКА В ДЕРЕВНЮ
Казакевич, при всей его большой любви к книгам, менее всего походил на писателя, которого можно было бы назвать книжным. Тяга к жизни, живой и вечно меняющейся, сложной, противоречивой, составляла едва ли не главную суть его натуры.
Отсюда его поездки в Сормово, в Челябинск, на Магнитку, его пешие походы с ружьем по Подмосковью, дальние маршруты за рулем автомобиля.
Казакевич, если можно так выразиться, числил себя в постоянной командировке в жизнь, в ее глубины. Так, он уехал в одну из своих длительных командировок, на этот раз в деревню во Владимирскую область. Он прожил там больше года, писал, охотился, подружился с местными жителями, занимался общественной и литературной работой.
Поздней осенью 1950 года я поехал навестить Казакевича. До Вязников — на поезде, а оттуда взял такси и долго добирался сначала по шоссе, затем по размытой дождями грунтовой дороге. Поплутал, но нашел небольшое село с двумя порядками изб, одну из которых снял писатель для всей своей семьи.
Тогда, в конце октября, жена и дети уже уехали в Москву, Казакевич жил один. Увидев меня, он бурно обрадовался:
— Ну, молодец, что приехал! Ну, просто молодец!
Он только что пришел из леса, был в галифе и высоких болотных сапогах, в стареньком ватнике, сохранившемся, должно быть, еще с войны, с ружьем на плече. И вся эта охотничья амуниция сидела на нем ладно, пригнанно, нич-
238
то не теребенькало, не звякало при быстром, легком шаге, как и полагалось бывшему офицеру-разведчику, умевшему, подобно героям его книг, двигаться бесшумно по лесным чащам.
Мой неожиданный приезд вызвал у него прилив бурного оживления, веселости и хозяйственной озабоченности. Он тут же попросил хозяйку приготовить ужин, а пока потащил на озеро, чтобы я увидел, какие здесь чудесные места.
«Выяснилось, что деревня находится в Вязниковском районе, который ничем особенным не отличается от множества других районов», — писал он об этой деревне, где родился герой его очерка «Старые знакомые» сержант Петр Аленушкин. Район этот «...славится вишневыми садами. Через него протекает река Клязьма... В старину здесь работали богомазы, талантливые иконописцы, сбывавшие свой товар через бродячих разносчиков — офеней — по всей России...».
Владимирский край привлек писателя еще и обаянием владимиро-суздальской старины, исконностью, первородностью этих мест, где зарождалось многое из того, что вошло затем в основы русской культуры. Он считал эти края уже своими, а себя патриотом-краеведом.
Но, отдавая много времени поездкам, походам по этим местам, Казакевич еще и привез в деревню целый грузовик книг из своей библиотеки. Я был поражен, увидев в избе знакомые полки, занимавшие, так же как и в Москве, четыре — только меньшие — стены комнаты, и заваленный рукописями, своими и чужими, письменный стол.
Казакевич хотел сделать много, но он еще хотел сделать все очень хорошо, его взыскательность питалась самыми высокими образцами русской классики, которую он отлично знал. Особенно он любил Чехова.
— Давай почитаем Чехова, — предложил он в первый же вечер. Казакевич не был ни сентиментальным, ни излишне чувствительным, был в чем-то суров, порой резок в суждениях. И я уж не знаю, чем объяснить, что, когда мы читали рассказы Чехова («Архиерей», «Невеста» и другие), за стеклами его очков поблескивали слезы...
На следующий день Казакевич читал главы из романа «Дом на площади». Сначала прочел вступление — о том, как шестеро солдат, оставленные начальством где-то в районе Гомеля сторожить сено, не дождавшись машин из дивизии, отправляются догонять свою часть, едут и идут через Германию вместе с группами немецких беженцев и наконец
239
где-то на привале, ошеломленные беспорядочной автоматной стрельбой, узнают, что война закончилась!
— Ну как? — спросил Казакевич.
— Очень хорошо, — сказал я.
— Хорошо? — недоверчиво переспросил автор. — А не затянуто?
Вступление к роману в том черновом варианте мне тоже показалось на слух немного длинноватым, перегруженным деталями, но я не решился сказать об этом.
От слов Казакевича я смутился.
Не то чтобы Эммануил Генрихович таким жестоким способом решил преподать урок принципиальной критики. Он сам мог ошибаться в оценке этого куска. И все же это был действительно урок все той же беспощадной взыскательности, с которой он работал и сам, и которая проявлялась тогда, когда помогал тем молодым, что тяготели к Казакевичу, ценили и любили его.
Казакевич любил хороших и простых людей. И с теми, кого он считал хорошими, сходился быстро, легко, ибо умел и слушать, и вникать в чужую беду и радость, и обладал талантом доброжелательности не только по отношению к своим друзьям — писателям. В Вязниковский район он приехал еще и затем, чтобы написать очерк о фронтовой дружбе, о тех, кого любил всем сердцем, о славных участниках боев за Берлин — живых и мертвых.
«...Я пришел в деревню, где родился мой погибший товарищ, в погожий сентябрьский день... Мимо прошел мальчик, и я спросил его, где здесь живут Аленушкины, на что он мне ответил, что полдеревни — Аленушкины. Тогда я пояснил, что имею в виду тех Аленушкиных, у которых погиб сын на войне. Мальчик, подумав, ответил, что у нескольких Аленушкиных погибли сыновья на войне, и тогда я, смущенный и притихший, замолчал, а мальчик, постояв немного, ушел...»
«Старые знакомые» — очерк Э. Казакевича — едва ли не одна из самых первых у нас художественно-документальных вещей публицистического плана, направленная против неонацизма и реваншизма в Западной Германии. Писатель судит прошлое от имени погибшего солдата и его близких. И не только от имени Петра Аленушкина, его матери, но и от имени всех матерей того самого мало кому известного Вязниковского района, что дал за войну двадцать два Героя Советского Союза, преимущественно летчиков.
Завершающая очерк маленькая главка — о семье Але-
240

Э. Г. Казакевич и М. В. Исаковский. Коктебель, 1954
нушкина, о прекрасной осени в деревне, о горе матерей, потерявших сынов, о земле, на которой работают «простые и спокойные люди — солдаты и сержанты запаса», — написана с мужественной поэтичностью, которая всегда была свойственна Казакевичу. Ради этого стоило прожить год в деревне.
Конечно, Казакевич написал там не только эти странички, он сделал там многое. Но, однако ж, не раз именно такой веской мерою труда мерил сам писатель цену правдивой и сильной строки.
* * *
В последние годы жизни Казакевич много болел, я видел его реже, но каждая встреча оставляла во мне ощущение силы и цельности его натуры и творческого жизнелюбия. Не всякая беседа с иным собратом по перу вызывает прилив бодрости — Казакевич же, даже больной, постоянно заражал желанием работать. Это испытали на себе многие. Оптимизм его был необычно устойчив и плодотворен. Может быть, потому, что в нем жил, не слабея, бойцовский, партийный и гражданственный темперамент.
Известно, что его «Синяя тетрадь» долго не могла пробить себе дорогу к читателям. Но Казакевич не отступил, не опустил рук.
— Многие думают, что моя главная тема — война, — говорил он. — Нет, моя главная тема — Ленин.
О любви к Ленину писатель говорил часто и горячо. Все теперь знают, какие планы связывал Казакевич с Ленинианой в своих художественных повестях и рассказах. Мне кажется, что ни одна из вещей, написанных им, не доставляла Казакевичу столько забот и столько радости, как «Синяя тетрадь».
Летом, а часто и зимой, особенно в последнее время, уже болея, Казакевич жил в Переделкине, на даче. На своем участке он поставил отдельный низенький домик из толстых бревен. Мне это сооружение чем-то напоминало блиндаж. Не хватало только нескольких слоев наката на крыше. Здесь Казакевич, отдалившись от всякого шума, работал в тишине.
Я встретил его зимой шестьдесят второго года, кажется в январе, встретил шагающим по тропке, пробитой им в заснеженном лесу. Он был в меховой куртке, в сапогах и пы-
242
жиковой шапке. Шел улыбающийся, бодрый, как-то по-особенному легкий на ногу, должно быть оттого, что резко похудел. Я сразу заметил, как обострились его черты, стали казаться еще большими его умные, светящиеся глаза.
Я знал, что он болеет, перенес операцию и уже после нее успел съездить в Италию на конференцию Европейского содружества писателей.
Об Италии он сказал:
— Там было прекрасно. Хотелось бы побывать там еще раз, подольше. И поработать. Теперь, как я увижу какое-либо чудесное место на земле, мне хочется там обязательно поработать.
Догадывался ли он о серьезности своей болезни? Наверно, все же догадывался, но гнал от себя мрачные мысли. Он сообщил мне тогда, что перенес операцию по поводу язвы желудка и теперь все больше втягивается в работу, чтобы наверстать упущенное время. Увлечен романом «Новая земля».
— Ну, роман я, во всяком случае, закончу. На это хватит времени. Режим такой: два часа работы, полчаса прогулки по лесу. Силы все же не те... — При этом он грустно усмехнулся.
Погуляв по лесу, мы пришли в его домик. Он разделся и тут же, потирая с мороза руки, сел за письменный стол, не потому, что собирался при мне писать, а, должно быть, там, за столом, было для него самое привычное и удобное место.
— Трудно, но так интересно писать большой роман. О целой эпохе, когда, по сути дела, начиналась наша индустрия и наша мощь и складывались черты того народного единства, с которым мы вышли навстречу войне и выстояли. Тогда начинались и мы сами. Да, увлекательно и очень, очень трудно!
Он произнес это, ничуть не боясь показаться смешным в этой своей непосредственности, поправил пальцами стопку бумаги, первую часть большой задуманной им эпопеи, которая тогда и вдохновляла его, и мучила огромностью задачи, и поддерживала его сильный дух в слабеющем теле.
...Тяжело писать о последнем свидании. Я долго не мог собраться с силами, чтобы пойти к нему, уже обреченному, ибо боялся, что не смогу оставаться спокойным и он это увидит.
Знакомая квартира в Лаврушинском с устойчивым запахом лекарств. Всегда открытые двери — каждый может
243
войти без звонка. В столовой врачи, дежурные сестры и дежурившие по очереди друзья Казакевича. Алигер, Бек шепотом расспрашивают врача под тихое бульканье какой-то жидкости, разогреваемой на электрической плитке.
— Ему немного лучше, — сообщила жена, — он начал понемногу работать.
— Пишет?
— Нет, диктовал.
Я вошел в комнату, где раньше был кабинет писателя и четыре стены до потолка были заставлены книгами. Он и сейчас лежал среди книг, рядом со своим рабочим столом.
Увидев меня, слабо улыбнулся, протянул исхудалую руку. Я не знаю, что он прочел в моих глазах, опережая вопросы, сказал негромко, с уверенносгью, которая щемяще резанула меня по сердцу:
— Поправляюсь. Очень медленно после операции, но поправляюсь. Как твои дела?
— Ничего.
Мне захотелось услышать подтверждение того, что он уже работает.
— Да, немного диктовал. Но еще слаб. Мучительно, ужасно мучительно, когда весь роман проворачивается в голове, но не можешь писать. Хочу жить, чтобы закончить вещь.
И вдруг неожиданно вспомнил о Сормове.
— Что в Сормове? — спросил он, когда я подсел на стул, стоящий около кровати. И глаза его оживились.
Признаться, меня удивила тогда заинтересованность смертельно больного человека в том, что происходит на заводе, где он побывал тринадцать лет назад. Нет, болезнь не затянула его сердце серой пленкой равнодушия. Ни на мгновение я не сомневался в искренности его интереса и живо отвечал, когда Эммануил Генрихович расспрашивал меня о заводских людях, которых он помнил, о герое своего очерка Вялове, о его семье. Он поинтересовался, давно ли я был в Сормове.
— В прошлом году, но поеду еще скоро.
— Хорошо, — кивнул он. — А как Рубинчик, где он сейчас?
Я сказал, что бывший директор Сормовского завода вновь работает в Горьком, в тот год он был одним из заместителей председателя совнархоза. До последней минуты Казакевич питал живой интерес ко всему, что так или иначе входило в его жизнь, занимало его мысли, вплеталось в его обширные творческие планы. И работал. Если не мог писать,
244
то диктовал, не мог диктовать — думал, «проворачивал в голове» свой роман.
Поистине, он умирал стоя.
Хоронили Казакевича с воинскими почестями, как и подобает «солдатскому писателю». Дубовый зал ЦДЛ, где он лежал, был заполнен до отказа. Люди стояли и на улице Воровского. Было много военных, офицеров и генералов, и не только в почетном карауле. Армия, которую Казакевич так любил, пришла проститься с ним.
Примерно за год до смерти Казакевич, мысленно обращаясь к потомкам, сделал надпись на обложке своей знаменитой «Звезды». Этой очень краткой, простой и вместе с тем трогающей сердце надписью писателя на книге, подаренной им Литературному музею, я и хочу закончить:
«Помните ли вы нас, товарищи потомки, знаете ли о наших свершениях, догадываетесь ли о наших страданиях?
Эм. Казакевич».
1968
Иван Симонов
ВЛАДИМИРСКАЯ СТРАНИЦА
В биографии писателя Эммануила Генриховича Казакевича, которого широкий круг его читателей и почитателей знает как постоянного жителя Москвы, есть одна страница, когда его постоянный московский адрес почти на полтора года сменился адресом: «Владимирская область, Вязниковский район, деревня Глубоково, Станковского сельсовета».
Об этом владимиро-вязниковском периоде в жизни писателя и хочется рассказать мне, вязниковцу, в той мере, в какой довелось бывать мне вместе с Казакевичем, порой участвовать в различных встречах, поездках и беседах или слышать от самого Эммануила Генриховича передаваемые им впечатления о пребывании на владимирской земле.
* * *
Есть у меня в домашней библиотеке книга первой памяти военных лет: на глянцевитой суперобложке четверо усталых (по тяжело клонящимся вперед фигурам видно) воинов в железных касках на головах и плащ-палатках, накинутых на плечи, продвигаются по изрытой снарядами, до месива разъезженной проселочной дороге. Следом за ними ползет и буксует грузовая автомашина.
246

Э. Г. Казакевич, бакенщик Л. Е. Бударин, его жена и дочь. На Клязьме. 1951
И на обочине — двое верховых: должно быть, командир докладывает подъехавшему старшему начальнику о продвижении своего отряда. Это — обложка романа Эм. Казакевича «Весна на Одере», выпущенного издательством «Советский писатель» в 1950 году.
Много раз мною, тоже участником Великой Отечественной войны, читана и перечитана эта книга. Но и сейчас, стоит лишь открыть ее, как снова надпись, сделанная автором на первом чистом листке разворота, оживляет в памяти 25-летней давности картины. Вот она, эта надпись, которую вместе с книгой бережно храню я четверть века:
«Ивану Алексеевичу Симонову — с уважением и, главное, с уверенностью в его будущих успехах.
Эм. Казакевич
24.VI.50.
Бакен № 106».
Проставленные здесь день и месяц не означают даты приезда Эм. Казакевича в Вязниковский район, как и бакен № 106 не означает места нашей встречи. О нем, об этом бакене над живописной и судоходной в наших местах Клязьмой, как и о старом бакенщике дяде Лене (Алексее Ефимовиче), ныне тоже покинувшем эту горячо любимую им землю, в своем месте пойдет подробнее речь. А сейчас, последовательно, о Казакевиче.
Знакомство Эммануила Генриховича с Вязниковскиы районом и его жителями началось с райкома партии, с его секретаря — Бориса Васильевича Токарева — страстного энтузиаста и знатока родного края. Прежде чем принять окончательное решение, писатель побывал в самых различных уголках владимирской земли, заглядывал в ближний край Горьковской области, пока не остановился убежденно на деревне Глубоково. Тогда и встретились мы впервые в райкоме партии, в кабинете Бориса Васильевича, — московский писатель и местный журналист, собственный корреспондент владимирской областной газеты «Призыв» по «вязниковскому кусту», включающему в себя три района.
День был солнечный, теплый. По улицам города звенела весна. В самом разгаре был тот бурный и обильный водой период, о котором по вязниковским деревням с веселой шуткой говорят: «С гор вода, рыба со станов, медведь из берлоги — мужик из штанов» (меняет зимние стега-
248
ные ватники на летнюю одежду). Перепутают каламбурно «мужика» с «медведем» — и совсем забавно получается.
Казакевич, по-молодому стройный, подтянутый, в полувоенной форме, в туго натянутых кожаных сапогах без морщинок на голенищах, в больших синих очках, стоял, приклоняясь к оконной раме, и засматривал через улицу на противоположный косогор. Там по сырым ложбинкам вишневых садов плавились в лужах последние кучки снега, растекаясь извилистыми ручейками, и мальчишки устраивали запруды.
Потом он расспрашивал о городе, о его истории и достопримечательностях, о жизни колхозов района. И мне, рожденному и всю жизнь прожившему на этой земле, приятно было рассказывать столичному гостю об издревле доброй трудовой славе нашего текстильного города, о знаменитых вязниковских парусиновых полотнах, что упоминаются еще в Указах Петра I, о революционных традициях текстильщиков, о чудесной владимирской вишне, родиной которой являются Вязники, о чудодейных мстерских художниках лаковой миниатюры и мастерицах художественной вышивки, о том, что в Великую Отечественную войну 22 вязниковца стали Героями Советского Союза.
А Борис Васильевич, то откладывая, то вновь поднимая телефонную трубку, уже звонил куда-то насчет грузовика, чтобы помочь приезжему писателю перевезти свою московскую библиотеку в вязниковскую деревню. И Казакевич, улыбающийся и довольный, согласно кивал головой.
Поселился он в доме колхозницы Зинаиды Кисловой, которая с радостью уступила ему переднюю часть своего немаленького деревенского дома, а сама переселилась в заднюю горницу. Не все удобства московской благоустроенной квартиры на новом месте предусмотрены, но есть где работать свободно и без помехи, есть где и отдохнуть, а при случае — «в тесноте, да не в обиде» — и гостей встретить.
И о телефоне для московского новосела секретарь райкома позаботился. Большое значение придавал Казакевич постоянной связи с городом, чтобы быть в курсе всех текущих событий. Интересы его были широки и разнообразны. И районным организациям взаимно хотелось с ним для совета, для активного приобщения к жизни района постоянную связь держать.
Эммануил Генрихович сразу же энергично включился в общественную жизнь колхоза, района, области. За малое
249
время он успел перезнакомиться накоротке со всеми работниками полеводства, животноводства, механизаторами, садоводами, овощеводами в деревне Глубоково, свел дружбу с мстерскими художниками, мастерицами художественной вышивки, интересными людьми окружных деревень, а глубоковцам стал постоянной опорой в решении сложных хозяйственных задач. Он помогал односельчанам-колхозникам получать в районе и областном центре детали и запасные части, необходимые для ремонта тракторов и других сельскохозяйственных машин, вместе с председателем артели хлопотал о цементе для завершения постройки скотного двора, о шифере для крыши, гонял во все концы области свою «Победу», пробравшуюся наконец-то по весеннему бездорожью до самой деревушки. Как местный житель, заинтересованный во всех сельских делах, принимал участие в работе исполкома Станковского сельсовета, много ездил и беседовал с советскими и партийными работниками, специалистами сельского хозяйства, работниками культуры. И мне, с раннего детства влюбленному в родной свой край, приятно было слышать, когда в час дружеской беседы большой столичный писатель, уже тогда широкоизвестный автор знаменитой повести «Звезда» и романа «Весна на Одере», увлеченно рассказывал, какое светлое и отрадное впечатление произвела на него наша щедрая на дары владимирская природа, как пришлись ему по душе радушные и хозяйственно-заботливые владимирцы.
Широко умел видеть Эммануил Казакевич и хорошо рассказывать. Было в нем какое-то не поддающееся определению качество, что тянуло к нему людей.
Скоро четырехметровая деревянная скамейка перед домом писателя и зеленая лужайка вокруг нее стали любимым местом сбора глубоковцев для обсуждения хозяйственных дел и для «сашеночки» под гармошку сельской молодежи в веселый час. И сам Эммануил Генрихович старался расширять свое знакомство, умело находя и скупых на слова знатоков своего дела, и интересных собеседников. Одним из хороших знакомых и стал у писателя старый бакенщик дядя Леня — Алексей Ефимович Бударин, неутомимый жизнелюб и прямо-таки кладезь народной мудрости и меткого русского слова.
Придет Казакевич к его маленькой избушке в жердяной загородке над клязьминской водой, поприветствует:
— Будь здрав, дядя Леня!
— Буду, если люди от того улыбаться будут.
250

Э. Г. Казакевич с председателем колхоза Героем Социалистического Труда
Е. К. Ушаковым. Муромский р-н, Владимирская обл., 1950 г.
— Чего лопатой возле стенки ковыряешь? Золотой клад, что ли, отыскал?
— Где уж нам, горюнам, капиталами владеть! — смиренно ответствует дядя Леня. И поясняет не без намека: — Вот дубовые стояки в землю закапываю, под березками для бездельников столик устраиваю, чтобы они свои впечатления на деревьях не записывали.
Невысокий крепыш с густой россыпью серебра по крутым кудрям, дядя Леня всегда производил впечатление чего-то надежного, долговечного, ко времени созрелого на своем месте. Надо — без долгих сборов костерок под березовым увеем запалит. Надо — «одним ментом» стерляжью уху «сварганит»: «с пылу, с жару — полпуда навару». Подвернется случай — и притчу выдаст, да еще с посулом на будущее:
— Явится желание — могу и песен привезти. Это только до Мстеры доскочить. На твоем резиноходе, — мотнет кудлатой головой в сторону «Победы» Казакевича, — ментом оборочусь.
Так они дружили. И всегда были в этих деловых или шутливых пререканиях и чувство такта, и чувство меры с обеих сторон.
Приезжали к писателю в Глубоково его московские собратья по перу, везли на просмотр различные рукописи сотрудники издательств и журналов. Полусказочную избушку над Клязьмой тоже стороной не обходили. И автору этих строк свой подарок с надписью Эм. Казакевич именно здесь, на бакене № 106, вручил. И фотокорреспондент «Литературной газеты» А. Лесс тоже здесь, на вязниковских при-вольях, среди цветущих июньских лугов, приезжих москвичей и их новых, из текстильного города, друзей фотографировал. И доныне эти фотографии напоминают о днях пребывания Казакевича в нашем краю.
Александр Трифонович Твардовский в Глубокове тоже побывал. Помню кратенький отрывок из его беседы с Эммануилом Генриховичем о творчестве.
— Главное — тему нужно выносить, чтобы она в душе выпелась, — говорил Александр Трифонович. — А на бумагу положить — это уже техническая сторона дела.
У Казакевича свои аргументы:
— Производительной работу я считаю только тогда, когда сижу с карандашом за столом. За увлеченной работой приходит и вдохновение.
Много нам, начинающим, давали для раздумья эти
252

Э. Г. Казакевич и внук Л. Н. Толстого.
Владимирская обл., 1950
краткие беседы и добрые советы старших товарищей. Именно в те дни, с помощью наезжающих москвичей, при постоянной поддержке Казакевича, оживилась заметно работа вязниковской литературной группы, которой довелось мне руководить бессменно десяток лет. Александр Трифонович, Эммануил Генрихович, наш песенный земляк, уже тогда получивший широкое признание и известность Алексей Фатьянов, журналист Леонид Коробов — все они вложили свою лепту в дело помощи младшим товарищам.
От доброго семени неплохой получился и урожай. Одна за другой стали появляться в свет книги стихов и прозы вязниковцев — Ивана Ганабина, Бориса Симонова, Юрия Мошкова, Владимира Михайлова, Ивана Симонова. И ныне не ради только доброго слова об ушедшем из жизни, как положено по неписаному обычаю, но с чувством человеческого долга перед истиной, перед светлой памятью писателя, можно без всякой тени преувеличения сказать, что для некоторых владимирских литераторов Эммануил Казакевич был настоящим «крестным отцом» в литературе.
Только благодаря его долгим и неустанным стараниям как в процессе работы над рукописью, так и при ее издании появилась в свет повесть старого члена партии, жителя ближайшей к Глубокову деревеньки Ставрово — Григория Семеновича Ушакова — «Половодье».
— Хоть и «Половодье», а воду из него надо основательно повыжать, — не уставал повторять Эммануил Генрихович, снова и снова проходясь по рукописи с карандашом в руках после каждой переделки ее автором. И получилась плотная, хорошая книга о становлении Советской власти в нашем краю.
И еще об одной встрече хочется упомянуть.
Однажды, во время перерыва на одном из совещаний в райкоме партии, обедали мы в вязниковской столовой. Обед подходил уже к концу, когда в просторный зал столовой вошел неторопливо светло-русый, элегантно одетый молодой человек. Быстро окинув глазами помещение, он легким шагом направился к нашему столику.
— Сергей Никитин. Выпускник Литературного института имени Горького. Тоже владимирец, уроженец города Коврова, — отрекомендовал его Эммануил Генрихович.
Они вдвоем долго беседовали за соседним столиком, листая объемистую рукопись, принесенную молодым автором. Теперь я знаю, что речь шла о первой книге Сергея Константиновича Никитина, готовившейся тогда к изданию.
254

На Владимирщине. 1950 г.
А когда мы снова остались одни, Эммануил Генрихович сказал с большой убежденностью:
— Талантливый парень! И вся жизнь у него еще впереди.
В своем предвидении таланта Казакевич не ошибся. Замечательным мастером рассказа вошел в большую советскую литературу Сергей Никитин.
Сейчас, когда пишутся эти строки, вместе с отрадным чувством добрых воспоминаний подступает и непрошеная печаль. Нет уже с нами ни того заботливого и чуткого учителя, каким был Эммануил Генрихович Казакевич, ни его талантливого ученика, так рано ушедшего из жизни, ни воспетого в никитинских книжках чудесного «дяди Лени».
А след Эммануила Генриховича четко и надолго отпечатался на владимирской земле. Как забыть, что именно он взял на себя огромную долю труда по созданию литературно-художественного альманаха «Владимир» и в двух первых выпусках не только формально, как бывает иногда с большими писателями, но и фактически был одним из активнейших членов редакционной коллегии. Не забыл он приобщить к этой работе и мастеров мстерской живописи. Художественное оформление первой книги альманаха, вышедшей в 1951 году, полностью было выполнено прекрасным мастером-орнаменталистом Евгением Васильевичем Юриным и молодым талантливым Игорем Кузьмичом Балакиным.
Не забывал Казакевич и о своей основной работе. В планах писателя было создать многотомную эпопею на современном материале нашей советской действительности, вслед за Вязниками объехать другие места нашей Родины, ее промышленные центры. Неожиданно ранний уход из жизни помешал осуществлению этих широких творческих замыслов.
Литературной памятью о пребывании на вязниковской земле оставил он тогда же напечатанный в первом номере журнала «Новый мир» за 1951 год художественный очерк «Старые знакомые», где в описании сельских картин узнается сразу деревня Глубоково и приклязьминские вязниковские места, и прототипом главного героя очерка — сержанта Аленушкина — послужил рядовой колхозник из той же деревни, участник Великой Отечественной войны Аркадий Дорогов.
Нестирающейся благодарной памятью живет Эммануил Генрихович Казакевич в сердцах вязниковцев и владимирцев.
1977
Владимир Матов
ПОКУПКА ВЫЖЛОВКИ
С Казакевичем я познакомился благодаря охоте. Однажды, когда «Звезда» уже издавалась и переиздавалась и у нас и за рубежом, мне позвонил критик Д. Данин и передал просьбу Казакевича, которого я еще ни разу не видел, помочь ему обзавестись охотничьим хозяйством. Понадобилось оно, поскольку Казакевич надумал большую часть года жить в деревне. После продолжительных поисков он наконец снял на длительное время большую избу в деревне на берегу Клязьмы, в Вязниковском районе Владимирской области, километрах в пятнадцати от шоссе, куда на легковой машине возможно было добираться только в сухие летние месяцы. Ни тогда, ни позже мне не приходилось слышать от Казакевича объяснения его несколько необычного решения. Ясно, однако, что «хождение в народ» можно объяснить только одним — стремлением тесней сблизиться с жизнью деревни. Колхозника в солдатской шинели Казакевич хорошо знал по фронту; хлебороба, снявшего шинель, хотел изучить и почувствовать.
И вот Казакевич появился у меня в очень большой, но не очень светлой, из-за войны давно не ремонтировавшейся комнате в многокомнатной, коммунальной квартире в одном из арбатских переулков.
Очень живо встает в памяти первое впечатление — еще молодой, а одет кое-как, видимо своей внешностью не инте-
257
ресуется, и застенчив, как юноша. Смущенно назвав себя, подсев к моему письменному столу сбоку, он обвел взглядом комнату и, слегка улыбнувшись, негромко проговорил: «Жилище интеллигентного москвича в послевоенные годы...»
Эммануила Генриховича я представлял себе иным. Черты лица, я бы сказал, утонченно интеллигентные; очки, негромкий голос, — не зная, трудно было бы догадаться, что это боевой офицер, командир разведчиков. На преуспевшего писателя тоже походил мало: скромный костюм, поношенная шляпа и, главное, удивительная застенчивость. Попав в незнакомый дом, просто конфузился и, несмотря на радушный прием, далеко не сразу чувствовал себя свободно. Глаза у Казакевича были немного грустные, немного мечтательные. Впрочем, такой взгляд и должен был быть у написавшего «Звезду»...
Об охоте Эммануил Генрихович имел представление весьма приблизительное, о чем прямо и заявил. Разные побасенки, вроде попадания белке пулькой в глаз или смертельных схваток с волками-людоедами, его не занимали. Трезвый реалист, он понимал, что даже спортивная охота — дело не из самых простеньких, и расспрашивал меня о том, о сем. Он обладал довольно редкой способностью — умел слушать. Как сейчас, представляю себе его внимательный взгляд через сильные очки и как низкий голос потихоньку, с растяжкой произносит: «Понятно». Почему-то он любил это бытовавшее на войне слово.
Покупки мы делали в охотничьем магазине на Кузнецком мосту. Как большинство начинающих охотников, Казакевич долго вертел в руках пятизарядную одностволку, а остановился, вопреки моим настойчивым советам приобрести обычную двустволку, на вошедшей в моду двустволке с вертикальным расположением стволов. Позже я догадался, что дело было вовсе не в моде. Его тянуло к привычному; привыкнуть же к ружьям он мог только на фронте — к трехлинейке и к автомату.
Так как Казакевич собирался не на дачу, а на житье в места, где тогда еще было достаточно зайцев и лисиц, ему захотелось иметь гончую.
Приобрести рабочую охотничью собаку — дело нелегкое; после войны оно стало даже трудным. Если уж охотник продержал собаку трудные военные годы, вряд ли с ней расстанется. Я согласился помочь подыскать собаку, но обещать ничего не мог. На том мы и расстались. Выручил, как это часто бывает, случай.
258
В десятке километров от станции Бекасово жил один знакомый охотник — специалист по истреблению волков, организатор истребительских бригад; он хорошо знал и другие виды охоты. Вот он как-то на вальдшнепиных высыпках, когда мы случайно встретились в лесу, и спросил меня, не нужна ли кому хорошая русская выжловка. Молодую, дипломированную выжловку хороших кровей продавал брат моего знакомого. Понадобились деньги на ремонт дома, а гончая для промысла волка не нужна — вот и приходилось продать. Волчатники братья Кротовы — это была марка; пренебречь столь исключительным случаем я, конечно, не мог и тут же договорился о пробе в ближайшее воскресенье.
Узнав подробности, Казакевич загорелся больше моего, и на стыке осени и зимы мы выехали с вечера.
Трудно придумать худшую погоду, чем в ту ночь. Потеплело, густо повалил крупными хлопьями снег, и, разумеется, сырой. Сразу стало ясно, что он может перейти в дождь, я предложил вернуться. Куда там! Казакевич, что называется, рвался в бой с такой энергией, что я вспомнил, как сам на грани детства и юности начинал охотиться. Эммануилу Генриховичу такие переживания были внове. Непогода? Мокрый снег? Да это только увеличивало интерес! То была его первая охотничья поездка.
Ехать пришлось не так уж далеко, но только перед рассветом добрались мы до конечного пункта асфальтированной дороги. Им оказался санаторий южнее Пахры. Поселок еще спал; начали выискивать окошко, где был бы свет, — напрасно. Наконец встретили какого-то бессонного старика, с ведрами направлявшегося к колодцу. Спрашиваем нужную деревню. Есть такая; до нее еще восемь километров, машины туда в этакую погоду не пойдут, «это уж и думать нечего. Топайте». Я опять за свое: «Вернемся». И «топать» не хотелось, и напарник, хотя и фронтовик, казался слабоват. Грязища, липкая глина — восемь километров, а окажется все десять, а то и двенадцать — не шутка. Смотрю, Казакевич огорчился, по-настоящему огорчился... Ну что с ним было поделать?
С ружьями и спинными мешками с едой потащились мы по снегу, смешанному с грязью, по щиколотку. По раскисшей пахоте пересекали поля; радовались, когда попадалась луговина или перелесок, — хоть не вязли ноги. Расспрашивали редких встречных. Казакевич, то болтая о пустяках, то вспоминая что-нибудь фронтовое, шагал напористо. Трудно было поверить, что еще на войне он страдал от плоскостопия.
259
В конце концов мы добрались куда следовало, но слишком поздно. Нас ждали, ждали и решили, что из-за непогоды от поездки мы отказались. Снег начал таять — какой же гончатник, имея гончую, согласится пропустить первую, к тому же столь редкую — «печатную» порошу? Одним словом, охотники и выжловка были в лесу. Не оставалось ничего иного, как идти к ним. «А как мы их найдем?» — снаивничал опытный разведчик, неопытный охотник. Ну, это было просто...
Сразу за деревенскими полями начинались леса, море лесов. Снег мог продержаться еще часа полтора-два, приходилось спешить. Наскоро перекусив, с ружьями без чехлов, мы отправились. Следы двух мужчин и крупной собаки на сыром снегу выглядели действительно как напечатанные. С деревьев все чаще и чаще падали капли.
Темный вековой ельник изредка сменяли так называемые «ледины» — участки лиственных деревьев, пересекали ручьи с луговинами по берегам. Типичная стация (место обитания) беляка, но «лежковых» следов попасться не могло, их скрыл снегопад; возможно, беляки под непогоду не вставали — такое бывает. Все это приходилось разъяснять Казакевичу, а он мотал на ус. Когда попался гонный след, то есть след зайца, которого гнала интересовавшая нас выжловка, Эммануил Генрихович, конечно, удивился — как это задние лапы зайца оставляют следы впереди, а передние — сзади. Поправив очки, нагнувшись, он принялся рассматривать следы. Посматривая на него со стороны, я про себя посмеивался — приятно, если ученик любознателен и заинтересован. Новые для Казакевича охотничьи термины — «гон», «гонный» след или «лежковый», как и «выжловка», — тотчас подверглись профессиональному обсуждению.
Кроме Кротовых, других охотников в лесу не было. Как их следы ни петляли, потерять их было невозможно. Часа через два, но раньше, чем снег исчез, мы услышали впереди выстрел, потом еле донесся гон, а вскоре еще выстрел. Казакевич ускорил шаг, но вдруг остановился и стал опять что-то рассматривать под ногами. Это оказались четкие отпечатки двух добытых беляков, брошенных на снег со связанными лапами в том месте, где охотники останавливались покурить и передохнуть.
Несколько мрачная красота старого елового леса, низкое серое небо, белизна снежного покрова полянки, следы тяжелых сапог и больших лап крупной собаки, такие отчетливые, что видны оттиски когтей... И эти резко очерченные, протаявшие силуэты двух беляков — картина была характер-
260
ная. Слушая звуки уже обильной капели и далекого гона, Казакевич долго стоял во власти новых впечатлений, точно впитывал их, как губка влагу.
Зная, как стреляют Кротовы, я не сомневался, что и эти выстрелы тоже означали добычу.
Наконец мы догнали охотников; зайцев у них оказалось даже больше — пяток. Но, к сожалению, на том охота и закончилась. Совсем потеплело, пошел дождь, о гоне нечего было и думать.
Невозможность продолжать охоту Эммануила Генриховича, однако, не огорчила нисколько. Прежде всего, уж очень заинтересовали его охотники, в особенности старший. Ему было за шестьдесят, а фигура юношеская, походка легкая, высокий, поджарый, плечистый. И брат ему под стать. Казакевич только переводил взгляд с одного на другого. Младший молчал, старший тоже не принадлежал к числу разговорчивых, но когда принимался рассказывать, было что послушать. В тот день Казакевич говорил мало, слушал и наблюдал. Кроме того, выжловка, в которой, собственно, было все дело, нас очаровала. Оказалась безусловно высококровной крупной русской гончей, с отличной породистой головой и умными выразительными карими глазами. По внешнему виду лучшего было нечего и желать. Что касается работы, то добытые беляки говорили за себя. Все-таки мне хотелось самому послушать и посмотреть, как выжловка гонит. Я высказался за вторую пробу. Казакевич только усмехнулся: он уже влюбился в собаку.
Запомнился тот день с необычными для осени тяжело обвисшими под обильным снегом лапами елей и, удивительной в лесу, частой звучной капелью. Больше запомнился, вероятно, Казакевичу. Человек преимущественно городской, пожалуй, впервые в мирной обстановке он оказался среди обширных, что называется, «нетронутых» лесов, даром что всего в полусотне километров от Москвы.
Не хуже помню я и тот вечер, собственно говоря, ночь, начинающуюся в это время года чуть не с пяти часов, продолжающуюся чуть не до восьми утра.
Пока хозяйка, по-деревенски не торопясь, «сооружала самоварчик», пока я разбирался в родословной и в дипломах выжловки и, больше для порядка, пробовал торговаться, а Эммануил Генрихович просто отсчитывал деньги, пока попили чайку, пока «спрыснули» сделку — «нельзя же, товарищи, без этого! Толку не будет. Это уж не «по-охотницки»... — и т. д., сумерки кончились.
261
Километр, другой — и пришлось шагать в темноте. Последние остатки снега успели стаять. Шли больше наугад — местности не знали, а скоро и своих ног не стало видно, не то что спутника и новокупки. Выжловка, понимая, что уводят из родного места, тосковала, ища сочувствия, жалась к ногам нового хозяина, изредка поскуливала. Надеяться на нее как на проводника не приходилось. Другое дело — домой; к старому хозяину, конечно, привела бы.
Ориентиров никаких; изредка виднелись по сторонам огоньки деревень, едва маячившие сквозь насыщенное влагой пространство. Нам-то огоньки далеких поселков ничего не говорили, даже названий селений мы не знали. Где шагали — лишь угадывали: вязнут ноги, — значит, пахота; почва потверже и лужи — проселок; мягко, но под ступнями не чавкает — значит, трава, лужок. А то вдруг возникнет вплотную впереди, кажется, уж вовсе черная высокая стена — опушка.
И все-таки как-то знали, куда идем, хотя был ли с собой компас, не помню. Зато было развившееся на войне шестое чувство — чувство местности. Сколько таких же угольно-непроглядных ночей прошагали на фронте...
Но в той глубоко мирной темноте не спускались с черного неба ракеты с их проклятым мертвенным светом и не слышали мы звуков никогда, даже в самые тихие периоды, не умолкавшего переднего края, в лучшем случае все же погромыхивавшего и постукивавшего «передка». И главное — кроме неотвязных воспоминаний обо всем этом в каждом из нас еще жило ощущение, что вот, честно отвоевались, как сумели и смогли, и уцелели. Уцелели в таком пекле! Будто родились вновь.
И очень утомленные после бессонной ночи и трудного дня, довольные результатами поездки, не смущаясь темнотой, шагали мы без дороги, почему-то уверенные, что в конце концов доберемся до асфальта. Разновозрастные, не сомневались, что и по дороге жизни обоим предстоит идти еще долго, долго... Так думал и чувствовал даже я, уже порядком переваливший за пятьдесят, а тем более — Казакевич, представлявшийся мне таким молодым. Мог ли кто предположить, что жить ему оставалось считанные годы?
Выжловка тревожилась напрасно — обрела лучшую жизнь. Даже грубого окрика ей больше слышать не приходилось. Казакевич был удивительно мягким, добрым и добродушным человеком. Про таких говорят — мухи не обидит. Немногословный, тихо и мирно жил со своей тоже молчаливой и покладистой Галиной Осиповной, воспитывал девочек и работал,
262
работал с утра до вечера и с вечера до утра. То был вот уж действительно писатель-работяга. Не представляю себе, как он отдыхал, развлекался. В кино и то почти не ходил.
В добровольной вязниковской ссылке, где мне пришлось у него побывать, единственным развлечением Эммануила Генриховича были редкие поездки к приятелю, старику бакенщику, чтобы поесть рыбацкой ухи, поваляться на берегу Клязьмы. Семья могла приезжать к нему только на лето — дочери учились в Москве.
Что касается выжловки, то мне представляется — приобретение ее не являлось необходимостью. Охотились с ней больше соседи, деревенские приятели Эммануила Генриховича. Отказывать он не умел, поэтому зачастую бывал без денег. Получен гонорар — помогает родным, близким, а то и не очень близким, помогает щедро. И, конечно, давал взаймы — кто бы ни попросил. Кончалось тем, что до следующего гонорара не хватало, занимал сам, бывало, подолгу сидел в долгах. А поскольку заниматься денежными делами Казакевичу было не с руки — нужно было писать, — семейным наркомфином являлась Галина Осиповна. Временами трудная бывала должность.
Из московской жизни Казакевича запомнилась мне всего одна вечеринка по случаю Дня Победы в его квартире в писательском доме в Лаврушинском переулке. Это не был вечер воспоминаний на тему «как мы воевали». Казакевич органически ненавидел всякую рисовку. Просто позвал нескольких близких приятелей провести вечерок. Я, недавний знакомый, оказался в числе немногих приглашенных, видимо, вследствие бескорыстных стараний приобщить хозяина дома к охотничьему клану. Из гостей вспоминаю Вершигору с его приметной бородой и тоже фронтовика Данина, только искавшего свой путь в литературе. Его жену Софью Разумовскую, которую начинающие писатели почтительно именовали Софьей Дмитриевной, — она редактировала прозу в «Знамени» у Всеволода Вишневского. Софья Дмитриевна очень старалась обнаружить литературные дарования в бурном разливе «самотека» послевоенных лет. Это она была первым редактором «Звезды», она «открыла» Казакевича. И, разумеется, особо вспоминается присутствовавший на вечеринке приметный автор «Теркина».
Казакевич, довольно поблескивая очками, расхаживал среди гостей, был радушным хозяином. А оделся для торжественного дня в выношенную, выгоревшую, потертую, сохранившуюся от войны форму. И в этом тоже не было намека
263
на рисовку — к своему фронтовому прошлому Казакевич относился с уважением.
Охотился Казакевич немного. Постоянно ему бывало некогда, постоянно ждала работа, словно он понимал, что нужно спешить. Да, пожалуй, и не в его натуре был этот спорт. Сколько ни «философствуй», что, дескать, охота — прежде всего общение с природой, все же результатом любого вида охоты, кроме «охоты» с фотографическим аппаратом, является добыча. А убивать «братьев наших меньших» такому доброму и мягкому человеку, каким был Эммануил Генрихович, не могло не претить. Все же интереса к охоте он не терял. Палить по-мальчишески в уток, а если их не оказывается, то по всему летящему и потом «по-охотничьи», столь же «романтично», сколь и обильно, выпивать на лоне природы — такое было решительно не для Казакевича. К сожалению, многие начинающие охотиться и в зрелом возрасте, даже интеллектуалы, даже писатели, дальше такой «охоты» не идут. Только не Эммануил Генрихович. Он обзавелся еще и легавой собакой, вообще его занимала — и для Казакевича это было характерно — охота по всем правилам, так сказать, охота по Аксакову. Если уж иметь охотничью собаку, то первоклассную, или, скажем, знать побольше о дичи, на которую охотишься, и т. д. Хотелось ему побывать на «классической» охоте на глухаря на току; на лосиной облаве, постоять на номере, поджидая из флажкового оклада волка. И еще — обязательно поохотиться на куропаток.
Ни на лосиной, ни на волчьей охоте, насколько мне известно, Казакевич так и не побывал, хотя его знакомство со старшим Кротовым продолжалось. Что же касается серых куропаток, то этой увлекательной позднеосенней охотой, последней в сезоне охотой с подружейной собакой, мне удалось Казакевича «угостить».
Случайно узнав, что за Гжатью, недалеко от Минской автострады, обильные выводки куропаток, ранним осенним утром, чтобы договориться о поездке, заявился я к Казакевичу на его скромную половину литфондовской дачи в Переделкине, где неожиданно застал еще и Твардовского. С виду очень разные, они сблизились за те годы, что Казакевич печатался в «Новом мире». Александр Трифонович в Переделкине не жил, приезжал из Москвы и, случалось, оставался ночевать, как это и было в данном случае. Охотой редактор «Нового мира» не интересовался нисколько, но, узнав, что собираемся в родную ему Смоленщину, принял участие в обсуж-
264

Э. Г. Казакевич и профессор Ю. И. Миленушкин
на охоте. 1953 г.
дении поездки. Приглашение присоединиться к нам, однако, отверг.
Думается, что в то утро мне довелось в последний раз видеть вместе — друживших автора наиболее реалистической поэмы о русском солдате на войне и автора наиболее поэтической прозы о нем.
Охота под Гжатском удалась. Стояла удивительная поздняя осень — солнечная, сухая. Лес успел почти обнажиться, а днем становилось почти жарко. И птицы было вдоволь, и моя молодая подружейная собака отлично работала — то была охота из редкостных и запоминающихся надолго. Жаль, что для Казакевича она не смогла повториться.
Эммануил Генрихович не дожил до того времени, когда перед всеми, и в первую очередь перед каждым культурным охотником, встала, и сразу во весь рост, задача сохранять окружающую среду для будущих поколений. В те годы, когда ему случалось отдыхать на охоте, мы, с большой дозой легкомыслия, еще не задумывались над этой проблемой. Дичи было еще достаточно, а в иных местах даже много.
И перед моим мысленным взором часто предстает ясный осенний день, остатки золота на березах и полный сил человек в очках с двустволкой за плечом, беззаботно шагающий по пшеничной стерне навстречу еще ласково греющему солнцу. Хочется, чтобы таким Казакевич и остался в памяти.
1963
Ариадна Эфрон
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Э. Г. КАЗАКЕВИЧЕ
Познакомилась я с Казакевичем летом 1955 года... Год этот остался в памяти смутным и трудным... Помню, Москва поразила своей — иного слова не подберу — округлостью. От лихорадящего, самому себе противоречащего города конца тридцатых годов на первый взгляд и следа не осталось...
Москва 1955 года показалась мне внешне устоявшейся, гладкой, бестревожной. Слаженное движение толпы и транспорта приобретало стремительную плавность. Люди были хорошо и весело одеты, с улиц уходила ветхозаветность, из витрин — допотопность...
Я приютилась у Лили с Зиной, в их крохотной, темной и неизменно доброй норке. Теткам и самим-то, по правде, негде было жить и нечем дышать — их вытесняли, отнимали последний воздух вещи многих людей и многих поколений, призрачные вещи, вполне реально громоздившиеся и ввысь и вширь. Все мы трое спали на старых горбатых сундуках, под угрожающе провисавшими книжными полками. В изголовье у Зины стоял железный ящик с маминым архивом, привезенным после ее гибели моим братом Муром — из Елабуги через Ташкент — и сбереженный тетками вплоть до моего прибытия. Чтобы в этот ящик засунуть хотя бы руку, требовалось каждый раз разорять многослойное Зинино гнездо, перекладывать ее постель на постель больной Лили, ставить
267
дыбом доски, на которых лежал матрац. Мамины тетради я доставала наугад — и ранние, и последние.
Днем я уходила — кого-то разыскивала, с кем-то встречалась, искала работу.
...В тот день я должна была встретиться с Вильмонтом, с которым кто-то из знакомых говорил обо мне. Он, тогда, кажется, член редколлегии журнала «Иностранная литература», обещал дать мне первую мою вожделенную работу — стихотворный перевод то ли Элюара, то ли Арагона. Редакция помещалась в левом крыле здания Союза писателей, бывшем «Дворце искусств» на бывшей Поварской — адрес этот был мне хорошо знаком с самого раннего детства...
Я пришла раньше назначенного мне Вильмонтом срока, у меня еще оставалось время войти внутрь этого дома, в памяти моей многоголосого, как праздник, и всегда многолюдного.
В том, что мне довелось прийти именно сюда, в том, что сомкнулся и этот круг тридцати пяти лет в диаметре, было, верно, доброе предзнаменование! Но нет, дом внутри оказался глух и нем...
В маленьком — сплошные столы — помещении «Иностранной литературы» толстый, легкий, диккенсовский по форме и неведомый по существу Вильмонт встретил меня любезно и приветливо, вручил мне французский текст перевода, сказал, что с ним можно не спешить — время терпит! (И оно действительно терпело, ибо стихи эти были давным-давно переведены.)
После «деловой» части Вильмонт пригласил меня позавтракать с ним в писательском клубе, тогда помещавшемся в старом здании, рядом с «Дворцом искусств». Час был еще ранний, столики — почти все свободны, только в углу, недалеко от входа, расположилась небольшая компания; одного я узнала — почти не изменившегося, маленького, сутулого, с резкими чертами и складками на лице, Олешу. Разговор — сугубо мужской, ибо о женщинах, — то разносился по зальцу, то затихал, прерываясь взрывами смеха; все мне казалось странным — от белых скатертей, никелированных судочков и цветов на столах до отрывков чужого разговора, вторгавшегося в наш с Вильмонтом, не клеившийся. Вильмонт говорил мне о маме, о том, как он с ней познакомился (или еще раньше был знаком — не помню), как она для него, то есть для «Интернациональной литературы», делала переводы, и что переводы эти были блестящие, и что у него они, верно, где-то сохранились... Но слова его были круглые и не проникали дальше слуха, — круглые, обтекаемые по привычке,
268
гладкие, обегавшие и миновавшие главное, как бы благополучные и о благополучном. Мы ели что-то вкусное, давным-давно мною забытое, и эти круглые слова перемежались жеваньем и запиваньем и чужим, долетавшим до нас, смехом. День был солнечный, от бликов, сверкавших на приборах, скатертях, половицах, на полированных готических хорах, уходивших ввысь, подобно органу, немного дурнило, как на пароходе.
— Как вы думаете, — прервала я Вильмонта, — не пришло ли время издавать Цветаеву? Вот я сейчас разбираю материнский архив, у меня подбирается материал на вполне проходимую книгу — ну пусть это будет для начала только книжечка — лирики... К кому бы мне с этим обратиться? Как действовать? Через кого?
Вильмонт на секунду задержался с ответом, потом сказал, что он думает, что действительно время как будто бы пришло или приходит, и очень хорошо, что архив сохранился, но что вот он не очень себе представляет, к кому и куда обратиться по поводу издания книги или хотя бы книжечки, так как он лично не связан с издательствами и никого такого не знает и вряд ли чем-нибудь смог бы помочь, несмотря на... кстати, погодите, вот тут как раз Казакевич, вот с кем можете посоветоваться, уж он-то со всеми знаком и вообще порядочный человек... «Казакевич! — крикнул он. — КАЗАКЕВИЧ! Подойдите на минутку».
Один из сидевших за столиком у входа нехотя обернулся, бросил: «Сейчас!» — и, вновь облокотясь, подавшись к сближенным головам собеседников, продолжал разговор. Мы ждали. Наконец тот встал и медленно приблизился к нам валкой неспешной походкой, весь несколько нечеткий и небрежный — и осанкой, и одеждой, и выражением лица. Среднего роста, неопределенно-светлый, в сонных губах — тлеющая папироска, за очками не видно глаз — какой-то набросок человека! Отодвинув стул, он тяжело, обстоятельно уселся, неторопливо и скучно обвел очками нас с Вильмонтом, и сердце стукнуло мне — не то, не тот!
— Познакомьтесь, Казакевич, — бодро протрубил Вильмонт, — это Ариадна Сергеевна Эфрон — дочь Марины Цветаевой, она...
И тут произошло поразительное. Все только что бывшее лицом Казакевича мгновенно схлынуло, как румянец, сменяющийся бледностью; словно кто-то дернул и, сверху донизу, от лба до подбородка, сорвал кожу сытно пообедавшего, мирно-равнодушного, чужого человека, и я увидела лицо его души.
269
Это было чудо, и как таковое не поддается описанию, даже теперь, столько лет спустя, оно не стало воспоминанием, а продолжает жить во мне неугасающей вспышкой, непреходящим мгновением, поборовшим само необоримое течение времени.
Прекрасное, детское по незащищенности и мужское по железной собранности, по стремлению защитить, братское, отцовское, материнское, самое несказанно-близкое человеческое «я» рванулось навстречу моему — недоверчивому, — подняло его, обняло, вобрало в себя, уберегло, вознесло — единой вспышкой золотых проницательных грустных глаз...
Оборачиваясь назад, вижу, что Казакевича знала и очень хорошо, и очень мало. Мало — потому что встречались мы редко, разговаривали скупо, переписывались по-деловому. Хорошо — потому что нам сразу, с первого того взгляда и до того последнего, не потребовалось ни близости во времени и пространстве, ни многоглаголанья устного или письменного для того, чтобы узнать друг друга. Я говорю не об узнавании-открытии человека, а о том, которое случается как бы после долгой разлуки, независимо от того, была ли эта самая разлука.
Мы встретились и расстались как однокашники, как люди одной мужской судьбы, несмотря на то что кашу, которую каждый из нас хлебал или расхлебывал, жизнь для нас варила в разных котлах.
Отношения наши были искренни и просты, но простота эта никогда не оступалась в фамильярность. Мы не только вслух, но и внутри себя обращались друг к другу на «Вы», как младший к старшему, несмотря на то что были однолетками; но я оказалась старше Казакевича... А он меня — на всю войну, да и не только; дело в том, что по сути своей, по всему своему внутреннему складу Казакевич принадлежал к поколению отцов, то есть как бы на целое поколение раньше себя и меня родился.
Он был из тех, кто ленинское вбирал с живого голоса и действия...
За книгу Цветаевой он взялся без промедления. Узнав от меня, что рукописный архив моей матери еще не разобран и что из него во время войны исчезли опубликованные при ее жизни сборники, необходимые для составления предполагаемой книги, Казакевич познакомил меня с Тарасенковым, у которого были почти все цветаевские издания, а Тарасенкова — с замыслом нового сборника...
Казакевич и Тарасенков «зондировали почву», «заручались поддержками», «укрепляли позиции» — один лично, другой, из-за болезни, по телефону. Но атаковать Котова, тогдашнего директора Гослитиздата, ездили вдвоем. После соответствующих размышлений и согласований Котов принял решение и включил сборник в план выпуска 1957 года.
И вот мы с Казакевичем у Тарасенкова, под сенью его изумительного собрания русской поэзии XX века, занимавшего все — с пола до потолка — полки его библиотеки. Руками ценителя и скряги Тарасенков достает — одну за другой — цветаевские книги, машинописные и типографские, переплетенные им в яркие ситцы, рассказывает, каким трудом, хитростью или чудом доставались они ему.
Когда среди них я опознала свою «Царь-Девицу», в 1941 году выкраденную из материнского архива и проданную в Лавку писателей, откуда ее извлек Тарасенков, — на его лице отразилось такое страдание, что я молча поставила синенький томик с тиснеными своими инициалами обратно на полку, где она и стоит по сей день.
А лицо у Тарасенкова было очень русское, почти лубочное, голубоглазое и губошлепистое. Близость смерти делала его значительным...
Мы собрались, чтобы поговорить о составе будущей книги. Казакевич сидел у стола, круг света из-под зеленого абажура падал на его руки. Он взял лист бумаги и, прикусив папироску, морщась от ее дымка, вывел синим, безупречно отточенным тарасенковским карандашом:
МАРИНА ЦВЕТАЕВА
Стихотворения, поэмы, драмы.
Этот листок у меня и сейчас хранится.
Работать над первой посмертной книгой матери оказалось трудно и больно...
Во всех подробностях составления сборника Казакевич
271
не участвовал. Он иногда заходил — забегал — к Тарасенкову, причем вспоминаю теперь, что визиты эти почти всегда неприметно совпадали с ухудшением состояния здоровья Анатолия Кузьмича, которого он умел рассеивать, смешить, отвлекать от мыслей о неизбежном, с мальчишеской, казавшейся непреднамеренной непосредственностью.
Красивая, похожая на императрицу Евгению в современном воплощении, Маша, жена Тарасенкова, поила нас чаем; разговор за столом тек весело и дружелюбно. Мужчины подтрунивали друг над другом, как подростки; Маша от них не отставала; посмотреть со стороны — все казались счастливыми, а счастье — прочным. Потом переходили в тарасенковский кабинет. «Ну, как работа над книгой?» — спрашивал, серьезнея, Казакевич. Мы рассказывали, спрашивали его мнения о том или ином стихотворении, которое Анатолий Кузьмич обычно читал вслух, а Казакевич непременно перечитывал про себя. Он, — правда, куда осмотрительнее, чем я, — тоже настаивал на включении возможно большего количества поздних стихов.
Новый, 1956 год я встречала в Красноярске; вернувшись оттуда в начале января, зашла к Тарасенкову. (К тому времени работа над разделом лирики была нами в основном закончена — оставалось сделать окончательный выбор поэм и пьес.) Анатолия Кузьмича я нашла в постели; в углу комнаты еще стояла прелестная, свежая, с сильными пружинистыми ветками елочка, густо увешанная игрушками.
Тарасенков был весел, оживлен: напротив него, в кресле, сидел Казакевич и развлекал больного — рассказывал смешно о несмешном.
— Докладывайте, как съездили, — потребовал Казакевич, — всё, всё — и какие попутчики были, и о чем говорили... Нет ничего лучше долгих суток пути — и непременно в общем вагоне, и чтобы все перезнакомились и друг другу душу выкладывали, и чтобы козла забивали, и бабки бы сновали взад-вперед с ночными горшками, когда все чай пьют, и чтобы плакали и визжали липкие от конфет дети... Хорошо выскакивать на морозных полустанках, где поезд стоит две минуты, — хватать у баб горячую картошку, соленые огурцы, семечки, — хорошо ехать, опережая новости и свежие газеты, спать до одури, петь «Рябину»...
— Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели... — проговорил Тарасенков, — съездить бы вот так во Владивос-
272
ток и обратно. — И грустно добавил: — Тогда и помирать можно...
Выслушав мой отчет о поездке, он объявил меня талантом, которому грех романов не писать; Казакевич же заметил, что «талант» мой, думается ему, не в том что я рассказываю, а в том, о чем умалчиваю, и что коли уж писать, то короткие повести, не требующие счастливых концов.
Потом речь пошла о мамином «Фениксе» — ранней пьесе из цикла «Романтика», которую в мое отсутствие Тарасенков отдал перепечатать на машинке; Казакевич прочел эту вещь, она ему очень понравилась; оба заговорили о том, что именно «Феникса» необходимо включить в подготавливаемый сборник.
Я сразу помрачнела; мне казалось, более того, я была цветаевской уверенностью уверена, что прежде «Романтики» следовало публиковать «Федру» или «Тезея», одну из настоящих человеческих трагедий, где на подмостки выведены были страсти, еле прикрытые свободными складками домотканых одежд, а не затянутые в камзолы и корсеты увлечения.
— Не понимаю, — сказал Казакевич в ответ на мои категорические, но сбивчивые возражения, — все же почему вы ратуете за вещи трудные для восприятия, в то время как наша задача — облегчить первое знакомство читателя с Цветаевой? Ведь это — первая книга, от нее зависят судьбы последующих...
— Потому, — говорила я, — что «Феникс» — это не та Цветаева; настоящая Цветаева — это «После России», это — поэмы «Горы» и «Конца», это — «Тезей» и «Федра»...
— Неверно. Нет «той» или «не той» Цветаевой, а есть работы ранние и позднейшие, более простые и усложненные, и те и другие — талантливы, и те и другие — Цветаева, в движении, в пути.
— Нет, — твердила я. — Настоящая Цветаева — это та, что погибла; та, что писала «Феникса», — выжила бы. Посмертная книга — не просто знакомство читателя с писателем, а тот самый памятник...
— ...Нерукотворный, который надо воздвигать всему поэту, во всем его, так сказать, объеме; воздвигать и жизни его, и гибели. И не следует забывать, А. С., сколько еще барьеров предстоит преодолеть. К чему создавать искусственные?
— Да бросьте вы прикидываться, А. С.: «Феникс» — отличная пьеса, — скучающе, капризно произнес Тарасенков — ему надоел бесплодный спор.
Прикидываться: слово еще не успело дойти до сознания,
273
я только ухом услышала его, как слезы буквально хлынули у меня из глаз...
Мои собеседники, не затянув паузы, заговорили о другом.
Когда я успокоилась, Казакевич встал, медленно пересек комнату и молча поцеловал мне руку.
Казакевич был человеком ярких и глубоких качеств, страстей, дарований; человеком сильного, глубокого, отзывчивого сердца и ума; внешностью же обладал, манерами, повадками — защитного цвета. Был ли то органически-защитный цвет скромности или плащ Гарун-аль-Рашида, позволявший ему видеть и слышать жизнь, сливаться с ней, ненаряженной и неприкрашенной, таящей, как он сам, свое богатство и могущество? Или и в «мирной» обстановке не пожелал он расстаться с незримой теперь шинелью фронтового братства?
Только глаза выдавали в нем бойца, Гаруна, поэта.
И жил он по-бивачному,— вместе со всей семьей. Ни в нем, ни в Гале, ни в дочерях, ни в самой их «писательской» квартире не чувствовалось ни солидности, ни оседлости. Серьезность — была, а вот солидности — ни на йоту. Все вещественное было просто, случайно, второстепенно — одежда, обстановка... Казалось, что никто тут не привык, не пустил корней, что это — не навсегда, а так, передышка, и каждый готов — по сигналу — вскинуть мешок на плечи и шагать дальше, оставив рояль и захватив с собой — музыку.
Казакевич любил своих проницательной, со-страдающей, со-чувствующей, со-радующейся любовью. Он равно понимал и муку Галиных предугадываний и воспоминаний, и первооткрывательскую робость и смелость Олиных школьных каракуль и аккордов, и щемящее мужество такой еще невзрослой самостоятельности Ляли и Жени...
Помню один вечер, когда я забежала к Казакевичу по каким-то очередным делам; Галя принесла нам — для бодрости — по чашке черного кофе, вышла и тотчас вернулась с блюдом огромных, неправдоподобных яблок. Над этими яблоками глаза ее сияли и радовались, а не вопрошали, как всегда, горестно.
— Попробуйте,— сказала она.— Это Женя привезла!
— Съешьте, Ариадна Сергеевна, ну правда же, съешьте хоть одно!— начал угощать и Эммануил Генрихович (как
274
будто в силах человеческих было одолеть два таких яблока!).— Не простые ведь, золотые, Женины трудодни!.. Вы знаете, славные у нас девочки, не признают «писательских» привилегий, врачебных справок и родительского заступничества и попустительства. Ездят себе со своими вузами на воскресники и субботники, на посевные и уборочные — куда пошлют и на сколько бы ни послали. Работают всерьез и возвращаются с почетными грамотами и вот с яблоками... А там, кстати, нелегко — и работа нешуточная, и народ всякий. Хватает и пьянства, и буянства, и несчастных случаев. Ну что же, пока, как говорится, бог милует...
Он улыбаясь взял с блюда самое крупное яблоко и взвесил его в ладони. В одной руке у него было перо, в другой — яблоко. Как скипетр и держава.
Мы с моей приятельницей Адой Александровной не на шутку встревожились, узнав, что Женя Казакевич по окончании института получила направление в Красноярск, оставивший по себе у нас, особенно у Ады Александровны, достаточно долго там пожившей, недобрую память. Повинен в том был не сам своеобразный, красивый и трудовой сибирский город, не суровый климат, не неизбывные «перебои со снабжением», а угрожающая засоренность его «рецидивом»...
— Поймите, я вовсе не хочу сказать, что там одни уголовники, кроме того, с тех пор положение должно было улучшиться,— говорила я Эммануилу Генриховичу,— но все же это не место дня молоденькой и совсем там одинокой девочки. Неужели с преодоления трудностей именно такого рода придется ей начинать самостоятельную жизнь? Неужели нельзя ее устроить куда-нибудь, где было бы обыкновенное человеческое окружение — без подмеса?
— Без подмеса не бывает. Чем ближе к цивилизации, тем гуще подмес. А устроить — нетрудно, тем более что институт, в котором Женя проходила практику, готов ходатайствовать об изменении назначения — они с удовольствием примут ее на работу здесь, в Москве, причем без всяких родительских демаршей. Но и Женя и Ляля хотят ехать, только куда направят.
— В Красноярске очень тяжелые жилищные условия, поселят ее бог знает на каком расстоянии от завода — как она будет добираться?
— Как все...
275
— Ей будет слишком трудно для начала, это ни к чему.
— И это ни к чему, и многое другое. Но как нам с Галей ни тревожно за девочек, вмешиваться, отговаривать мы не должны, не вправе... Мы очень будем ждать Жениных писем,— добавил он грустно,— будем ее поддерживать. Я съезжу ее навестить,— сказал он, загораясь,— мне ваше описание Красноярска понравилось — любопытный городок! А Женя — девочка с характером, умненькая, стойкая, трудолюбивая и, главное, с чувством юмора. Не пропадет! Единственное, чего я по-настоящему боюсь...
— Чего же?
— Как бы замуж не выскочила...
— Но...
— ...не за того человека. Хорошие девочки всегда выходят не за тех...
И он посмотрел вдаль — туда, в еще не сбывшееся,— зорко, ласково и тоскливо.
(Нам удалось как-то помочь Жене — первое время в Красноярске она жила у знакомых Ады Александровны, а потом стала шагать сама.)
* * *
Ему вообще было свойственно, мгновенно оторвав взгляд от сегодня, по-снайперски нацеливать его в завтра.
Это бывало, когда речь шла о чем-нибудь важном, еще не устоявшемся; о чем-нибудь второстепенном, но возведенном в высшую степень; о чем-то, жестоко определившемся сейчас, но долженствовавшем переоцениться в будущем; одним словом, заглядывать вдаль предлогов было более чем достаточно.
— Пастернак — поразительное явление,— говорил Казакевич,— поразительное поэтическое и человеческое явление. Стихотворного дара отпущено ему на тысячу жизней. Он — неиссякаем. Все скудеют на склоне лет, перепевают самих себя, самих себя переживают. А этот, прожив одну творческую жизнь, шагнул во вторую. Наперекор закону творческого и всяческого роста, он начал со сложного, а пришел к лермонтовской ясности. И конечно же самое ценное в его прозе — это стихи. Какие стихи!
И он начал их читать наизусть, глухим сосредоточенным голосом, как бы внутрь себя, сгорбившись, понурив голову.
276
Читал одно за другим и вдруг страдальчески чертыхался и махал рукой.
Потом читал стихи из «Сестры моей — жизни»; потом отрывок про море —«Приедается все — лишь тебе не дано примелькаться...».
У него была поразительная память — от всего сердца память. Еще мы говорили про Бориса Леонидовича — человека, вспоминали его слова, выражения, рассказы и невольно подражали его неподражаемому голосу, как все, хоть однажды слышавшие его; и улыбались, и любовались, и светлели внутренне, и все это было молением о чаше: да минует его чаша сия!..
А Пастернак как-то спросил меня:
— Ты Казакевича знаешь? Он тут ко мне приходил несколько раз, все пытался как-то помочь, стихи напечатать, все обнадеживал и так далее. С ним можно говорить! Он все понимает! О-о-очень, о-о-очень хороший и несомненно о-о-очень талантливый человек. И, понимаешь, вдруг решил подарить мне свою книгу. Я никогда ничего не читаю. Слишком время дорого, чтобы читать то, что сейчас пишут. А тут решился — он сам мне так понравился!..
Казакевича ни о чем своем не надо было просить: то, в чем ты нуждаешься, он знал лучше тебя самого; заботы и хлопоты о чужих делах молча брал на себя. Эти заботы были частью его будней — ничего из ряда вон выходящего. И все доводил до конца — сам.
Умение просто и буднично помогать людям — редчайший человеческий талант. Все, или почти все, мы кому-то помогаем и чьей-то помощью пользуемся. Но, помогая, ждем воздаяния — хотя бы в виде благодарности! — но, помогая, улучшаем свой собственный мир, успокаиваем собственную совесть, из чужой радости, облегчения создаем собственные радость и облегчение.
Необычайно добр и отзывчив был Пастернак — однако его доброта была лишь высшей формой эгоцентризма: ему, доброму, легче жилось, работалось, крепче спалось; своей отзывчивостью на чужие беды он обезвреживал свои — уже случившиеся и грядущие; смывал с себя грехи — сущие и вымышленные. Это он сам знал и сам об этом говорил.
Казакевич же помощью своей не свой мир перестраивал и налаживал, а мир того, другого человека и тем самым
277
переустраивал и улучшал мир вообще. Тяжелый труд — заботы о чужом насущном — был частью его повседневного бытия, такой же неприметной и необходимой, как хлеб, который он ел.
Пастернак помогал людям как христианин — какой мерой даешь, такой и тебе отмерится; Казакевич — как коммунист. Пастернаковская bienfaisance была для него праздником, bienfaisance Казакевича — буднями. Что до меня, то они были безмерно мне дороги оба. Пастернак спасал мне жизнь... Казакевич выправлял ее, когда я вернулась на поверхность без кессоновой камеры; принимал на себя давления ведомых мне и неведомых атмосфер. И множество безвоздушных пространств, ибо ничто так не давит, как их «невесомость».
Никитские ворота в час меж волка и собаки. У светофора поспешно тасуются пешеходы, и в самой их гуще мы чуть не разминовываемся с Казакевичем, но, обернувшись, доузнаём друг друга и вместе выныриваем на тротуар.
— Откуда, Эммануил Генрихович?
— Я? Только что из Италии, как ни парадоксально!
— О господи!
И вот мы уже неспешно провожаем — он меня, я — его, совсем не в ту сторону, в которую надо бы, а куда-то в третьем направлении. Конечно, спрашиваю: «Ну как?» Он отвечает: «Хорошо!» Спрашиваю — не мешали ли попутчики? — говорит — нет; были среди них мне приятные люди, а тот, имярек, который мог бы помешать, оказался слишком мал. Слишком ничтожен по сравнению. Забавно: попадая в другую жизнь, в иные условия, такие чувствуют себя, будто их на свежую воду вывели, — робеют... Впрочем, этот Антей показался мне не наглым, а даже каким-то пришибленным...
«...Чувство узнавания — удивительная вещь. Не по тому, что видано, читано, не по книгам, картинам, картинкам, кино,— скорее вопреки этому всему узнаешь. То, что заранее представлял себе, к чему себя готовил, вначале даже мешает, получается нечто вроде двойного зрения, но это смещение скоро проходит».
«...Чувство колыбели; не родины, а праотечества».
«...Писать о поездке? О нет: упаси боже от туристиче-
278
ской прозы... По тем дорогам — как и по всем иным — надо долго ходить пешком и не одни подметки сносить, прежде чем отважишься писать «путевые впечатления».
* * *
В течение последней болезни Казакевича я часто бывала у Маргариты [Алигер] — от нее узнавала о его состоянии. А состояние его было одно — мужество.
— Он так внутренне неизменен, так по-всегдашнему умен, остроумен, даже весел, что, когда с ним говоришь, порой отвлекаешься от той, главной мысли — и теряешь бдительность...— рассказывала она.
Близкие отбивали Казакевича от смерти. Маленькая, хрупкая, в чем душа — Маргарита превратилась вся в совершеннейшее оружие обороны и нападения, прикрывая собой любую щель, любую брешь, в которую врывался — или просачивался — противник. Круглые сутки не спал телефон. Он живым мускулом, живой жилой связывал обе квартиры и — дальше, Маргаритиным протяжным голоском добивался и добывал — надежду, лекарство, луну с неба.
Луну с неба! Я видела, как она заглядывала в окна. Маргарита рассказывала, что дочка ее, когда была маленькая, думала, что сколько окон, столько и лун, и конечно же была права... Теперь обе ее девочки выросли, у каждой была своя жизнь и своя луна, ничего общего не имевшая с той, что целилась в Маргаритино окно. Телефон звонил, Маргарита спешила к нему, я же, холодея, оглядывалась на луну.
В те дни вокруг Маргариты обесценилось все вещественное, привычное, нужное, но не имевшее непосредственного отношения к болезни Эммануила Генриховича. Всё, кроме телефона, да еще холодильника, в котором лежало что-то, что больной, может быть, захочет хотя бы попробовать,— утратило значение и смысл, несмотря на то, что на стульях — сидели, на постелях — спали, что, как обычно, в ходу были и кастрюли и тарелки и что быт — продолжался.
Жизнь шла в сукнах и не нуждалась в декорациях и аксессуарах; трагедии вообще не нуждаются в них. Даже письменный стол поэта перестал существовать, а только казался — что говорить о прочем: все не бывшее бедой или борьбой ими вытеснялось.
Мне очень хотелось увидеться с Казакевичем, но я боялась помешать, уж коли не могла помочь. Маргарита сама
279
вызвалась узнать у него, хочет ли он меня видеть, у Гали — не утомит ли его мой приход. Они сказали, что прийти можно.
Это было днем; кажется, в первой его половине. Погода стояла отвратительная, лил и лил дождь. Я пришла к Маргарите, пообсохла немножко. Она позвонила к Казакевичам — Галя ответила, что ждут нас через полчаса. Выпили по чашке кофе, поговорили о постороннем — Маргарита недавно вернулась из Японии (болезнь обострилась в ее отсутствие), я — только что из Латвии. Разговор вяло цеплялся то за Латвию, то за Японию, а взгляд за какую-то чужедальнюю, из фонариков или из зонтичков сооруженную анилиновую безделушку, made in Japan. Потом оделись и пошли; пока сидели, были почти одинаковые, а встали, и снова меня пронзила Маргаритина малость и птичья худоба, рядом с ней я чувствовала себя шкафом...
Спустились с лестницы, Маргарита помедлила в подъезде и, глядя в сторону, с усилием произнесла: «Он очень изменился. Пожалуйста, не показывайте вида, что это заметили; и еще: не говорите ни о чем неприятном...» — «Что вы! Об этом можно было не предупреждать...» — «На всякий случай...»
Во дворе метался ветер, дождь бил по горизонтали, не с неба, а от стены корпуса к стене, двор гудел и, казалось, раскачивался, как колокол, и этот колокол мы переходили вброд, молча. Молчали и в лифте.
Маргарита толкнула (не закрывавшуюся, чтобы не беспокоили звонки) дверь в квартиру Казакевичей. По коридору шла нам навстречу Галя, быстро, но так неслышно и бесплотно, будто по воздуху. Грубая седина спутала ей волосы, от лица ничего не осталось, его сожгли, съели глаза. Меня потрясла их зияющая, не отражающая света, сухая чернота. Мы обнялись, не проронив ни слова. Вошли в столовую, неузнаваемо загроможденную мебелью, выставленной из комнаты Эммануила Генриховича. По столовой, как ткачиха между станками, бесшумно сновала женщина в белом халате — стенографистка Казакевича, ставшая его нянькой, санитаркой, сестрой — когда беда навалилась на этот дом. То была уютная, вся какая-то плавная женщина, с прекрасным, полным терпения и любви лицом матери; сейчас по нему, сверху вниз, как слезы, струились тени. Мы все переглянулись; говорят — «читать в глазах», «говорить глазами»; какое там чтение, какая речь! Эти глаза — в глухонемой тишине — вопили.
Но стоило нам перешагнуть порог комнаты Эммануила
280
Генриховича, и глаза стали как глаза, и лица как лица. Открывшаяся и снова затворившаяся дверь действовала как переключатель.
Посередине и поперек неузнаваемо-пустой комнаты, на белой кровати под белой простыней лежал желтый, как солнце, улыбающийся Казакевич, и я, едва увидев эту улыбку, тотчас обрела почву под ногами.
— Здравствуйте, Ариадна Сергеевна, давно не виделись,— сказал он милым своим, обычным, чуть запинающимся голосом, протянул мне руку с закатанным по локоть рукавом и крепко, сильно, ладонь в ладонь, пожал мою.— Давно не виделись. А я, вот видите, лежу. Садитесь же!
Я пододвинула стул и села у изголовья, спиной к выставленному и затянутому марлей окну. Маргарита устроилась на низенькой скамеечке, по другую сторону кровати. Галя постояла у изножья, прошлась по комнате, что-то переставила, что-то одернула; вставила несколько слов в разговор; увидев совсем неприметное движение Э. Г., спросила сдержанно:
— Вот ты сейчас приложил руку к боку; что — болит?
— Нет, это я просто так,— ответил он, и их улыбки встретились.
Все мы улыбались. Потом Галя вышла. В комнате стоял рассеянный и пасмурный свет, чем-то странно знакомый; потом я вспомнила — такие были белые ночи у нас на Севере: непрозрачный свет, в котором растворялись тени.
Мы с Казакевичем открыто и с радостью рассматривали друг друга, именно радость мне, готовой к худшему, доставил его вид. Конечно, он похудел, но худоба эта казалась не болезненной, а какой-то мальчишеской, юношеской, чуть угловатой. Он был тщательно выбрит, «обихожен», подтянут, насколько только может быть подтянут лежащий, И это тоже было мужеством и сопротивлением. Движения рук были свободны, нескованны. И свободно покоились на высоких подушках голова и плечи. Вот только непривычны мне были дымчатые стекла его очков, за которыми взгляд только угадывался, как в тумане. И, конечно, неправдоподобен цвет кожи.
— Чистый китаец,— сказал Эммануил Генрихович и обнажил золотистую грудь; от нее, вниз к животу, шел широкий, с палец, рубец шва. Казакевич был вспорот, как рыба. Но, господи, насколько же он казался (был!) сильнее этого шва, и этой желтизны, и стерильной белизны простынь, и чистоты и пустоты комнаты, и кресла на колесах, и костылей в углу, и покрытых салфеткой лекарств на тумбочке,
281
и почти недоступного обонянию, но тревожащего запаха их, и назойливого уныния ветра и дождя за марлевым окном! Насколько он был достовернее всех нас, за порогом его комнаты превращавшихся в безгласных призраков, в тени его болезни!
— Как вы ухитрились загореть? В такой дождь?
— Да вот, была в Прибалтике...
— ...Загорели и стали похожи на эстонку. Правда, Маргарита? Откуда такая брошка с такой бирюзой?
— Вот именно «с такой». Эрзац-бирюза. Рижская. Зато там янтарь — настоящий. Набрала целую коробку. Хотите — поделюсь?
— Нашли чем. Только янтаря мне сейчас и недоставало! А вам в спину не надует из окна? Хотя — что я; после балтийских ветров...
И пошел разговор — зигзагами, о том о сем, какой ведут собеседники, которым некуда спешить, у которых — много времени впереди. Только, может быть, чуть более шутливый, хотя говорили и о серьезном: о книгах; о старших дочерях — Жене и Ляле; о том, что он, Эммануил Генрихович, каждый день встает и делает несколько шагов на костылях. Это очень трудно — учиться ходить, но надо, надо. Вот и сегодня он дошел до столовой и обратно.
Потом Маргарита прочла наизусть эпиграмму на одного литератора, недавно сложенную Эммануилом Генриховичем, и он ее слушал с равнодушным, однако чуть ревнивым видом: тут мне вспомнилось, как однажды, на немудрящее мое замечание о некоем писателе, который «и мыслей своих толком изложить не умеет», Казакевич мрачно заметил:
— Для того чтобы уметь излагать, надо иметь что.
Поговорили об издаваемом и неиздаваемом. Я передала ему привет от гослитовской молодежи (еще совсем недавно он выступал у них в издательстве, они верили, что он придет к ним еще). Он поблагодарил, просил кланяться им.
— Кстати,— сказала Маргарита,— я принесла вам занятный журнальчик — американский, на русском языке. По-видимому, их посольство старается, рассылает его кое-кому из писателей. Почему-то и я оказалась в числе. Посмотрите — это вас позабавит.
Казакевич взял журнал, подержал, но не раскрыл; повернув ко мне золотое лицо, с которого сбежала улыбка, тихо и твердо произнес:
— А ведь я уже побывал по ту сторону, Ариадна Сергеевна!
282
— Как?!
— По ту сторону жизни. Было такое мгновенье, когда я переступил черту, вернее — оказался за чертой. Впрочем, мгновенье ли. Земное чувство времени исчезло. Но само время еще длилось. Я — был — там. Этого не передашь.— Он секунду помолчал.— А потом произошло чудо.— Он медленно сжал кулак.— И тогда я смог захотеть вернуться. И — вернулся.
— Не так,— сказала Маргарита, так же тихо и твердо.— Не так. Сперва вы захотели вернуться. А чудо было лишь следствием...
— Комсомолка тридцатых годов...— ласково и издалека отозвался Казакевич.— Она, Ариадна Сергеевна, не верит в чудеса...
— Верю,— сказала Маргарита.
Помедлив, Казакевич добавил:
— А все-таки бог есть, или как его ни назови. Что-то — там — есть.
Разговор, вырвавшийся из четырех стен дозволенного, плавно вошел в прежнее русло. Мы еще поговорили о разном, но после тех слов эти — не звучали, вернее, только звучали, и я их не запомнила. Помню лишь, что радостное, приподнятое чувство, вызванное настойчивой, убеждающей силой этого человека, крепло и утверждалось во мне. Чувство его непобедимости. Вера в нее.
Это и была та «потеря бдительности», о которой я слышала от Маргариты.
Пора было уходить. Мне не видно было лица Казакевича — он уткнул его в тот самый журнальчик на русском языке и, казалось, бегло просматривал его, быстро поворачивая страницы,— и вдруг я заметила: из-за острого угла страницы, наконец в этом повороте видимый из-за туманного заслона очешного стекла,— ясный, грустный карий глаз давно и пристально глядел на меня.
И этот глаз — все — знал.
Словно игла вошла мне в сердце.
Я встала, наклонилась и крепко поцеловала его в губы — всей своей жизнью всю его жизнь. Так мы и простились навсегда.
1963
Бернгард Рубен
СУДЬБА И ПАМЯТЬ
Когда молодым лейтенантом я прочитал «Звезду», а вскоре после нее — «Двое в степи», Казакевич стал моим писателем. Возникла потребность читать все, что он публикует. «Звезда» сразу проникла в сердце. Я перечитывал ее неоднократно, но — не взахлеб, не воздвигая свой мир между строк повести, а намеренно без спешки, стремясь подольше остаться один на один с автором. И, восхищаясь повестью, впитывал в себя глубоко человеческий, истинно поэтический подтекст ее.
Потом, когда сам писал первую повесть, я снова взялся за «Звезду», стараясь постичь ее стройность, ритмику, разгадать тайну новизны и точности слова.
Понятно, что свой первый литературный опыт мне захотелось показать именно Казакевичу. И так же понятно, что именно ему показывать повесть было страшней всего. Я долго раздумывал, пока наконец решился написать и отправить коротышку-записку.
Месяца через два пришел ответ. Сдерживая себя, развернул маленький листок с тремя строчками машинописного текста. «Мне переслали Ваше письмо,— отвечал Казакевич.— Написанную Вами военную повесть я готов прочитать. Пришлите мне рукопись».
Прошло еще время, Эммануил Генрихович прочел рукопись, и вот меня провели к нему в кабинет в квартире на
284
Лаврушинском. Состояние было такое: предстаю перед судией, явился за приговором. Но интерес к моему писателю, радостное ожидание неминуемой теперь встречи с ним умерили, почти сняли тревожное напряжение чувств. И уже не думалось о своей судьбе — не терпелось узнать Казакевича.
Я украдкой приглядываюсь к нему. По внешнему сугубо интеллигентному виду этого человека трудно предположить, что он — автор «Звезды», опытный и лихой разведчик.
Казакевич усаживает меня в кресло, делает несколько шагов по комнате, бросает из-за очков взгляд на мои капитанские погоны и вдруг спрашивает:
— Сколько вам лет? Вам надо писать,— бегло, но категорически объявляет он.
И тут же с грубоватой прямотой в сердцах восклицает:
— Но кто, черт возьми, так пишет!
То, что последовало за этим энергичным вступлением, по форме походило, пожалуй, на разнос — откровенный и резкий. Но это был настоящий разговор, а точнее — монолог человека, который всем своим существом предан профессии писателя и для которого без писательства нет жизни; человека, который в работе строг и требователен к самому себе до жестокости и потому имеет все права на жесткий разговор с другими, с теми, кто вступает на заветный путь.
— Неужели вы не нашли здесь никакого другого слова?!— беспощадно цитируя, восклицает Казакевич.— А чего стоит вот эта фраза! Вы сами-то вдумались, что у вас получилось? Запомните: читателю нет дела до того, что вы хотели написать,— он читает то, что вами написано.
Я молчу. Мне стыдно. Но — не обидно.
— Это — небрежность, хватанье слов, нечеткое выражение мысли. А ведь можете писать...— Эммануил Генрихович вдруг останавливается посреди комнаты и читает вслух небольшой отрывок, в котором описан солдат, ступающий по заминированной земле с миноискателем в руках.
Читает Казакевич тихо, внятно, и мне кажется, что этот отрывок — уже не мой, а вот корявые фразы и словечки, резко подчеркнутые карандашом требовательного мастера,— мои.
Внезапно, дочитав отрывок, Казакевич словно отключается от внешнего мира, застыв на миг посредине комнаты, пробегает глазами строчки рукописи, что-то приглушенно повторяет, потом быстро берет карандаш и волнистой чертой меняет местами два слова в конце последней фразы.
285
— Вот так!
И в самом деле — глагол, отнесенный на конец, перенес с собою и ударение, завершающее внутренний ритм всего прочитанного куска.
— Как вы работаете? Читаете кому-нибудь вслух написанное?— спрашивает Казакевич. И в ответ на мое нерешительное «нет, не пробовал» очень по-доброму советует: — Надо читать. Даже если покажется иногда, что домашние вас не так понимают.
Разговор переходит на сюжет, и Казакевич говорит, что автор должен рассказать читателю не просто что-то, а нечто ему очень нужное, и не только рассказать, но и убедить его. А сделать это возможно в первую очередь судьбой героев. Например, гибелью героя. Но вначале пусть читатель глубоко полюбит этого героя...
Казакевич передает мне рукопись. И вдруг — холодновато, чуть ли не официально, глядя через очки в сторону, мимо меня:
— Однако возможно и в таком виде отнести рукопись в издательство, я готов позвонить, с вами заключат договор, дадут редактора, вы получите деньги...
— При чем тут это, не нужно никаких денег,— перебиваю я запальчиво. Возникает пауза.
— Ерунда,— скептически бросает Казакевич.— Деньги всем нужны.
Но перемена тона не доходит до меня. Во мне иной настрой: литература — Храм. И принять откровенную житейскость его слов в тот момент мне не дано.
— Впрочем,— негромко добавляет Казакевич, продолжая глядеть куда-то в сторону,— если все, что я тут высказал, вас заинтересовало — поработайте дома.
— А нельзя ли, Эммануил Генрихович, когда закончу работу, показать ее вам еще раз?
— Можно, можно!— Казакевич снова оживляется и смотрит мне прямо в глаза.
...Только дома, листая рукопись, начинаю понимать, насколько щедр этот человек, с которым пробыл я целый вечер. Рукопись в пометках, за многие эпизоды выставлены оценки. Я поражаюсь внимательности, с какой прочитана повесть. В каждом подчерке, в каждой записи на полях видна энергичная и требовательная заинтересованность.
А на титульном листе поверх моего заглавия «По следам войны» легким карандашом надписано — «След войны».
Давая название своей повести, я старался поточнее обо-
286
значить ее «материал»: война кончилась, но освобожденная от врага земля находится еще в плену у минных полей, неразорвавшихся снарядов, бомб, гранат, по этим местам идут солдаты со щупами и миноискателями, на каждом шагу их караулит смертельная опасность, они идут по следам войны, и мирная жизнь для них не настала... Я знал книгу походных записок Л. Войтоловского «По следам войны» (о первой мировой войне), она имелась у нас дома в библиотеке покойного отца, писателя, участника Отечественной войны, которому я потом посвятил свою повесть (с Казакевичем они не были знакомы совсем). Однако тождественность названия меня не очень стесняла. Мало ли одинаковых названий у разных книг. Было бы оно точным. Но насколько поэтичнее, тоньше и — точнее оказалось название, предложенное для повести Эммануилом Генриховичем! Ведь речь-то в конце концов не об орудиях убийства, пусть даже дьявольски хитроумных, а о людях, их душах.
Внимательно рассматриваю простой карандаш, с волшебной легкостью переиначивший мое тяжеловесное название. Потом возвращаюсь к пометкам в тексте. В этих пометках я снова вижу самого Казакевича, который без смягчающих комплиментов и обтекаемо-вежливых фраз, а грубовато, прямо и по-настоящему заботливо только что говорил со мной. И тут я догадываюсь — он знал, что к нему явились за судьбой, на суд праведный, неумолимый. Представляю себе опять бледноватое лицо его, и большой открытый лоб, и крепко взятые сединой редкие волосы, и глаза, остро взглядывающие из-за очков,— и все эти внешние черты уже неразрывно связываются в сознании с автором «Звезды»...
Мне довелось еще видеть Эммануила Генриховича, говорить с ним в трудные для него дни.
А начались они вскоре — из-за литературного альманаха. Когда через несколько месяцев я приехал к Казакевичу на дачу, он был молчалив, даже замкнут, хотя и чувствовалось, сколь несвойственно ему такое состояние.
— Сейчас получилось то, что нужно,— сказал он, возвращая рукопись.
Эммануил Генрихович показал мне на стул, а сам сел к столу с пишущей машинкой, повернулся к приставленному сбоку проигрывателю, пустил лежавшую на диске пластинку и начал печатать. Мрачноватость постепенно исчезала с его лица.
— Вот,— Казакевич протянул два письма и снова груст-
287
но посмотрел на меня.— Только я не знаю, поможет ли мое благословение в нынешней ситуации. Или наоборот — повредит.
Захотелось отвлечь его шуткой, высказать слова участия, но — сколько еще в нас внутренних табу и скованности! Я побоялся неуместности слов.
Все-таки мы поговорили — о литературе.
— Кто владеет душой?— спросил он, имея в виду главного писателя, и в свою очередь, о себе, сказал:— Достоевский. Это такая глубина... И вы придете к нему, нельзя не прийти.
В Воениздате, куда Эммануил Генрихович меня направил, отнеслись к его рекомендации уважительно. Авторитет Казакевича имел прочное основание — его книги, его жизнь.
...Был я и на его похоронах. До сих пор в глазах: у края глубокой могилы — Твардовский, с силой метнувший вслед за гробом, на который уже стали кидать лопатами землю, большой букет ярких цветов. Туда, к н е м у. В этом жесте — и непокорность судьбе, и боль, и нежность...
А в памяти — первая встреча с Казакевичем: уверенный в себе и в своем таланте, взыскательный и чуткий писатель-солдат, готовый на отклик, поддержку, несмотря на собственные трудности и занятость.
* * *
Спустя годы после краткого знакомства с Эммануилом Генриховичем, уже читая посмертные публикации его писем и документов военной поры и работая над этим сборником («Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь...»), я все более стал задумываться над его судьбой.
Жизнь Казакевича была разнообразна и полна событиями; причем он никогда не ждал, что события подхватят его и куда-то понесут,— наметив свой путь, сам бросался в их заверть.
И во время войны он стремился определить свою судьбу самостоятельно. «Белобилетник» и профессиональный литератор, он положил себе воевать в окопах. Побуждения его были столь сильны и глубинны, что он пошел на крайность — на побег из запасной бригады во фронтовую дивизию.
Впоследствии, когда «Звезда» столь заметно выделила писательское имя Казакевича, его фронтовая биография предстала как очевидный источник творчества. Но ч т о
288
происходило с ним, поэтом, на той «пяди», где сотворялась сама эта биография?
После боев на дальних подступах к Москве и отступления Казакевич попадает во Владимир, в запасную бригаду.
С его плохим зрением возможно было, не кривя душой, посчитать свой боевой долг выполненным. Тем более что к концу сорок первого года остатки ополченцев — кто не погиб летом и осенью — были уже отозваны из армии или распределены там применительно к их профессиям. Он добровольцем сражался за Москву. Слава богу, уцелел, и не потому, что берегся... Но все рациональные соображения подобного рода для него не существовали.
Вид у него был измученный (З. П. Выдриган даже употребил слово «доходяга», вспоминая в одной из бесед с журналистами свое первое знакомство с ним). Он хромает — сильная потертость ноги или воспаление. Но — никаких жалоб, чтобы, упаси господь, ни у кого и мысли не возникло, что он не годен к строю или, еще того хуже, будто сам метит куда-нибудь «в обоз». Недели три Казакевич был полковым библиотекарем, потом, когда полк передислоцировали в Шую, его зачисляют в роту младших лейтенантов, и в январе 1942 года он становится офицером. Командир полка подполковник Выдриган предлагает ему должность адъютанта. Казакевич соглашается. Их быстро притянуло друг к другу. Началось, по-видимому, с шуточного стихотворного рапорта, в котором Казакевич докладывал командиру полка о том, что он — несчастный библиотекарь, ни в каком подразделении не значится в списках, и потому нет до него дела ни начальнику продовольственно-фуражной службы, ни обозно-вещевой, и никак он не добьется поменять свои рваные обмотки...
У Казакевича была собственная мерка в адъютантстве — он считал себя сподвижником командира и работал от солдатского подъема до отбоя. Он знал, что Выдриган полюбил его, и не давал себе ни малейшей поблажки. Характерная деталь: когда в полку проводились командирские занятия — в открытом поле, на морозе,— он вставал в общий офицерский строй, не пользуясь специфическими привилегиями адъютантов. (Все, кто знают армейскую службу, подтвердят необычность такого поведения.) Казакевич полагал свое достоинство не в «привилегиях», но в том, чтобы быть как все и быть самим собой, не превращать должность в тепленькое местечко, оставаться офицером, командиром. И Выдриган, к его чести, понимал и ценил это в своем
289
адъютанте. А Казакевич увидел в Выдригане героя — разведчика первой мировой войны, командира партизанского отряда гражданской, наконец, командира полка Великой Отечественной, который вывел полк из окружения, был тяжело ранен разрывной пулей, настоял вопреки медицинской комиссии на своем возвращении в армию... Вот на чем были замешены их отношения.
Запасная курсантская бригада готовила для фронта сержантов. И младший лейтенант Казакевич отдавал себе отчет в приносимой им пользе: «Чувствую я себя хорошо и искренне доволен, что я в армии и посильно помогаю борьбе с противником. Особенно это чувство укрепилось во мне после пятидневного пребывания в Москве... Нет, каждый мыслящий человек должен теперь быть в армии, если только он не женщина и не баба» (из письма жене. 21.3.42 г.) 1.
Однако в те же дни он пишет Д. Данину: «...здесь я и пробуду до весны, а там и опять на фронт пора». Но — «на фронт еще не посылают, хотя пора бы уже, по совести говоря...» — пишет он ему же через три месяца.
По совести говоря...
Потом его, как члена Союза писателей, переводят в бригадную газету во Владимир. К этому сроку Казакевич уже целый год пробыл рядовым и офицером в строю. Жене он сообщил: «...меня, неожиданно для меня самого и без каких-либо просьб с моей стороны, вернули некоторым образом к моей довоенной специальности. Что ж, хотя и не хотелось уезжать от друзей в полку, но, вероятно, все к лучшему» (18.7.42 г.).
Итак, вроде бы сошлись его писательство и военная служба. К тому же газета была для него давно и хорошо знакомой обителью. Он включился в работу с ходу и со всей энергией и добросовестностью потянул редакционный воз. Он удачно писал во всех жанрах — от передовиц до стихотворных фельетонов, и для него могли бы открыться журналистские перспективы в Московском военном округе, где он служил.
Но именно теперь и здесь, когда он волею армейской судьбы «прокрутил» себя через бригадную газету, стремление уехать на фронт овладевает им все сильнее и безудержнее. Стремление это наталкивается на препятствия: «Меня отсюда не хотят отпускать. Делают это из соображений
________________________
1Все письма, документы и стихи приводятся по публикации: «Военный путь Э. Г. Казакевича». «Литературное наследство», т.78, кн. вторая
290
деловых — я работаю хорошо, и из дружеских — нечего, мол, ехать на фронт. Сиди здесь — чем тебе плохо? Но этим мне делают медвежью услугу. Все равно — на фронт нужно идти...» (жене. 10.5.43 г.).
Уразумев наконец, что переговоры с бригадным начальством бесплодны, Казакевич взял выше рангом, и во время командировок в Москву он по всем линиям, где только имел возможность, бил в одну намеченную точку.
Он обращался к влиятельным писателям, надевшим военную форму и получившим солидные чины, к офицерам политуправления округа, к работникам окружной газеты. Выслушивали его понимающе и дружественно. Писатели пытались протежировать. Но в политуправлении отвечали прямо — нет, бригаде тоже нужны кадры, и ему по всем статьям место как раз там.
Получая отказы, он долгое время уповал еще на то, что их курсантская стрелковая бригада все-таки поедет в полном составе на фронт — о чем доверительно толковал ему начальник политотдела.
Между тем его военная газета давала возможность периодически бывать на фронте — за материалами о боевых делах воспитанников бригады, вместе с отправляемым пополнением («Вчера приехал из продолжительной командировки на фронт»,— пишет он жене в ноябре 1942 г.). И такие командировки в их газете не исключение, скорее практика. Так что совесть его могла быть спокойной. Ведь многие писатели выезжают на фронт только в командировки. Не говоря о тех, кто делает свое дело вовсе вдали от фронта. И разве не испробовал он уже все пути, чтобы вновь попасть в действующую армию?
Нелишне упомянуть, что этот «белобилетник» и ополченец, ставший «офицером военного времени», был отцом двоих маленьких детей. Думает ли он о них перед тем, как снова лезть в пекло? Думает, но — как солдат. За два месяца до исполнения своего плана он пишет жене:
«Моя милая, в моей жизни, вероятно, предстоят некоторые существенные изменения. Я в свое время тебе об этом напишу, когда все выяснится. Теперь я только прошу тебя, чтобы ты обо мне не беспокоилась. Я так сильно хочу с вами, любимые дети, увидеться, что убить меня невозможно».
И — больше, чем солдат:
«О моей дальнейшей судьбе я еще ничего опреде-
291
ленного не знаю. Думаю, что вскоре поеду навстречу неизвестному. Но это не должно тебя волновать. Нам на роду написано быть вместе, и мы будем вместе. Поэтому ты должна присоединить свои молитвы к моим стараниям попасть на фронт в дивизию, формируемую моим полковником» (жене. 10.5.43 г.).
Жена, мать двоих детей должна молить...
Да ведь и стремится-то он, профессиональный писатель, из военной газеты — в войсковую разведку, где и кадровым офицерам необходима специальная подготовка.
Тут уж вовсе никакой разумности вроде бы не видно (не говоря про его зрение). Зато напрашивается догадка, что непосредственно боевое дело его самого устраивало гораздо больше, чем военная газета, пусть даже и фронтовая. Наверное, это и толкнуло его в адъютанты к Выдригану: чтобы воевать, надо было пройти настоящую школу.
Не приходилось рассчитывать и на близкий конец войны. Весной 1943 года, когда Казакевич наиболее активно осаждал своих начальников и настойчиво списывался с Выдриганом, на фронте и в тылу с тревогой думали о том ожесточенном летнем реванше, который гитлеровская Германия непременно ринется взять всей своей мощью — за зимнее поражение под Сталинградом. И Казакевич понимал это, хотя, как и все, ждал победу, мечтал, надеялся.
Он рвался на фронт. Он должен был воевать. Он задыхался во Владимире. Он просто не мог высидеть в тылу, когда шла война.
«Желание, горячее и непреоборимое, быть на фронте, активно бороться в рядах фронтовиков за наше дело — желание, о котором я вам много раз говорил,— вот причина моего внезапного отъезда.
С точки зрения житейской мне здесь жилось прекрасно. Но у меня с немцами большие счеты — я коммунист, командир, писатель. Пора мне начать эти счеты сводить» (из письма, оставленного начальнику политотдела).
А письмо секретарю партийной комиссии заключалось такими словами: «Тыловая жизнь, легкая для тела и тяжелая для души,— на этом кончается».
Уход Казакевича в народное ополчение в июле 41-го, в первые же дни войны, был порывом, слившимся с общим патриотическим настроением всего народа; побег на фронт в июне 43-го — его личным решением, осуществления которого он добивался столь упорно и страстно.
292
Казакевич был молод и не был «бабой». Он считал, что во время войны, тем паче — такой войны, следует находиться в армии, а свой долг видел в том, чтобы сражаться. Так требовала совесть, к этому вел склад его характера.
Но веление совести и чести не отменяло его главной приверженности:
«Конечно, иногда безумно тянет к своим писаньям — ведь все-таки я писатель, черт возьми! Тянет к Колумбу, которого я чувствую иногда где-то возле себя даже своим обонянием, тянет к Моцарту и к десяткам недописанных поэм и пьес. Не хватает той внутренней интенсивной жизни, которой я жил последние несколько лет до войны. Но я надеюсь на скорое окончание войны, и тогда мы повоюем с пером в руке с могучими призраками, осеняющими меня и теперь перед тем, как я засыпаю. И на бумаге еще ярче и сильней (от долгого воздержанья) расцветут образы...» (жене. 21.3.42 г.).
Заметим попутно, что в марте 42-го, после отпора немцам под Москвой и до летнего их прорыва к Волге, он еще ждал близкого краха Германии, а «воевать с пером в руке» собирался по инерции со своими довоенными «призраками», столь далекими от него во времени и пространстве.
Что бы ни делал Казакевич с первых дней войны, он оставался поэтом. Он писал стихи, вспоминал стихи, поэзия жила в нем, поддерживала его, выражала его отклик на все, чем было затронуто сердце.
Первый отклик — через несколько дней после того, как он стал рядовым 22-го стрелкового полка 8-й Краснопресненской дивизии Московского народного ополчения. Четверостишие на еврейском языке. Потом он стал писать стихи по-русски. Переход этот не был легким — при всей искренности и силе чувств, которыми вызывались стихи.
Пытался ли Казакевич все же печататься в эти месяцы? 26 декабря 1941 года он писал жене (период учебы на ускоренных курсах младших лейтенантов):
«В свободное время — о, как его мало!— пишу русские стихи, одно, новогоднее, послал сегодня в «Правду», правда, без надежды на то, что его напечатают, потому что при работе почты оно прибудет в Москву после 1 января 1942 г. и, следовательно, не подойдет».
293
Будто нарочно раздумывал — посылать, не посылать — и послал не загодя, а так, чтоб опоздало и не напечаталось, и с тем больше не искушать себя... Сколько известно, других попыток публиковаться в большой прессе он не сделал, хотя писать стихи продолжал. Сочинил и песню для своего курсантского полка.
В августе сорок второго, получив сообщение жены о смерти ее отца, он посылает написанные ранее и посвященные ей стихи «Владимирская элегия». В одной из строф там говорилось:
Вот путь к тебе недальний на Восток.
На Западе ж — распятая Россия.
О, сколько солнц и лун пройдут свой срок!
Как бесконечен путь к вратам Батыя!
Первого февраля сорок третьего года он пишет жене:
«С фронта приходят все новые прекрасные новости. А ведь только еще 1 февраля. Еще минимум полтора зимних месяца осталось, и я уверен, что за это время произойдут еще немаловажные события. Все завоевания, сделанные немцами за лето 42 года, почти сведены на нет территориально, а потери их огромны. Сегодня по радио сообщили, что наши войска в Сталинграде взяли в плен генерал-фельдмаршала фон Паулюса и 16 генералов, среди них —14 немецких и 2 румынских...»
В этом же радостном феврале он, особенно, по-видимому, остро переживая свое тыловое местонахождение, пишет стихотворение «Сетование».
Синяя птица моей судьбы,
Что загрустили вы?
Сели на пень на какой-то гнилой.
Перышки скрыли под серой полой,
Стали какой-то ни доброй, ни злой,
Птица.
................................................
Синяя птица моей судьбы,
Птица моей мечты.
Я называю вас нынче на вы,
А называл ведь на ты...
Он оставался поэтом. И на введение погон после Сталинградской битвы реагировал по-своему. Сообщая жене о воз-
294
можном приезде в отпуск, он написал: «Приеду при новой форме — в погонах, как мой предок М. Ю. Лермонтов». Ведь все поэты — братья...
А говоря о себе как о «молчаливом поэте, непишущем писателе», Казакевич имел в виду широкую профессиональную работу как главное, чем литератор участвует в войне. В этом смысле он действительно «замолчал», избрав для себя иной род участия — с оружием в руках дойти до «врат Батыя».
Казакевич с юности был привержен к русской литературе, но только война всецело погрузила его в среду русского народного языка. Переход с одного языка на другой, отрицание «поневоле пустых, ибо незрелых слов» — все это (не говоря про душевный настрой) сковывало его профессиональную работу в поэзии. Отсюда и ощущение того, что «перестало хватать для этого двух глаз, двух ушей, двух рук». И еще одно, что, вероятно, уводило его от поэзии и от драматургии: предчувствие грядущего перехода к прозе, в которой и суждено будет наиболее полно проявиться его таланту. Он сам об этом упомянул (пока неопределенно) в письме к жене:
«...в сердце непоколебимая уверенность в том, что мы будем все вместе, и я продолжу свои труды — хороши они или плохи, но я ими жил, и часто думаю о моем «Колумбе», о «Моцарте» и о десятках еще не написанных вещей. Утешаюсь тем, что как только кончится война, я начну писать роман — большую книгу, которая иногда болезненно ощутимо стучит в сердце как ребенок восьми месяцев стучит в живот матери. Она уже готова, может быть, и нужно только, чтобы не было войны, а были — ты, Женичка и Ляличка и много белой бумаги на столе. А это будет» (5.12.42 г.).
Ему так мечталась его книга, что в какой-то миг казалось, будто она уже в нем.
И о том же — в шутливых стихах, сочиненных в Шуе:
Фабричный город Шую,
Наверно, удивлю я —
Куплю тетрадь большую
И книгу напишу я...
По свидетельству сослуживцев, у него и вправду имелась конторская книга, в которой он постоянно делал записи.
Значит, к переходу с одного национального языка на
295
другой добавлялись поиски иного «языка» в самом творчестве, поворот «магического кристалла» новой гранью.
В этот период и выпало ему испытание газетой. Но Казакевич обладал острым чувством истинного в себе. И — силой характера, чтобы не мириться с подменой и противиться принуждению. Он помнил о своей Литературе и понимал, что публицистика — не его стихия. Вот почему бригадная газета «Боевые резервы» так и осталась единственной его «печатной площадкой» военных лет. (И на фронте также его не потянуло ни в какую редакцию.)
Литература же, в свой черед, требовала от него все видеть и все испытать самому. Постичь всю беду и подвиг народа.
Участие в войне было для Казакевича нравственной необходимостью. Для Казакевича-человека эта проблема выражалась вопросом-ответом: «Где ты был, Адам? Я был т а м». Для художника: «Почему т ы напишешь об этом? Я это п е р е ж и л».
В марте 1943 года он записал в дневнике: «Перечитал еще раз гениальное «Восстание ангелов» А. Франса. Глубоко был тронут этой в четвертый раз прочитанной книгой. Читал главы из синклеровской эпопеи «Зубы дракона». Для моей великой книги — ценное пособие по изучению психологии и практики фашизма и вообще движущих сил современной истории».
За три месяца до фронта он думает о своей «великой книге», готовится к ней...
Казакевичу, когда он рвался на фронт, было 30 лет. Он не только чувствовал «смутное влеченье чего-то жаждущей души». Казакевич понимал, чего жаждет его душа. Об этом он прямо сказал в письме редактору бригадной газеты:
«...Я хочу, искренне хочу быть на фронте. Это не поза «удальца» или голые слова хвастуна. Это — вопрос моего горячего желания и, если хочешь, дальнейшей литературной жизни». И после войны ему не потребуются годы, как Хемингуэю или Ремарку, чтоб написать «Звезду» и «Двое в степи»,— эти десять литературно формирующих лет, обязательные почти в каждой писательской биографии, он прожил до войны.
Выходит, он стремился на фронт в творческих целях, пусть даже отдаленных?
Нет. И да. Но прежде — нет.
Нет, потому что его вели прямое патриотическое чувство,
296
самоотверженность зрелой души, характер бойца. При всей преданности поэзии он не колебался в том, что должен воевать, а не писать:
«Вообще ход войны, вернее, моего военного существования, убеждает меня, что не стань я поэтом, я был бы военным. Но быть поэтом слишком большое, хотя и горькое счастье, чтоб я мог променять его на несладкое счастье быть солдатом. Но теперь последнее необходимо, и этой необходимости нужно подчиняться наилучшим образом» (жене. 10.5.43 г.).
Да, потому, что он — поэт — был влеком и своей литературной Звездой и, ничего определенно не рассчитывая, но сознавая и эту свою внутреннюю необходимость, предчувствуя свое будущее (если, конечно, оно вообще суждено ему), стремился туда, в бой, на передний край и в расположение врага, чтобы дать себе эту возможность — сделаться писателем Казакевичем.
Так случилось, что профессиональный литератор не только не стал писать в то время о войне, но даже ушел из военной газеты, чтобы сражаться самолично. Обстоятельства вынудили его осуществить свое решение таким «поэтическим» способом. Он поступал наперекор обстоятельствам, не себе.
И здесь надобно несколько уточнить ход событий и сказать о роли Выдригана в судьбе Казакевича.
В апреле сорок третьего полковник Выдриган добился направления в действующую армию и был назначен заместителем командира 51-й дивизии на Западном фронте. Судя по письмам Казакевича, Выдриган предпринял энергичные официальные шаги для вызова его на фронт, но — безуспешно:
«Он делает все, чтобы меня забрать к себе... да уж не придется воевать с командиром, который является моим другом» (жене. 10.5.43 г.).
«Единственное «но»: ПУМВО и мое начальство. Но я, желая уехать, добьюсь своего. А в крайнем случае... Уехать на фронт — не преступление же, в самом деле! Война так война!» (мужу сестры. 27.5.43 г.).
Тогда-то под ответственность Выдригана и выписали в дивизии документы для Казакевича, который параллельно с хождениями по начальству подавал своему полковнику настоятельные сигналы о помощи.
297
В пакете, доставленном во Владимир специально присланным сержантом, были запечатаны: удостоверение о том, что младший лейтенант Казакевич Э. Г. назначается помощником начальника 2-го отделения (разведки) штаба 51-й стрелковой дивизии, и выписка из приказа частям дивизии по этому поводу. Выписка предназначалась для местного бригадного начальства в качестве «официального» прикрытия отъезда Казакевича, а справка-удостоверение с его фотографией — для проезда в условиях военного времени, когда на каждом шагу его могли остановить патрули и задержать как дезертира. Впрочем, юридически он, самовольно покидая свою запасную бригаду, и так оказывался в положении дезертира. И подлежал ответственности. Присланные из дивизии Западного фронта документы не имели никакой законной силы для Московского военного округа.
Получив эти бумаги, Казакевич ночным поездом покинул Владимир, оставив рапорт генералу — командиру бригады, письма начальникам и сослуживцам, стихотворение «Прощание» и выписку из «приказа», где назывался и пункт прибытия. В письмах перечислялись также многие работники штаба и политотдела, которым он передавал персонально дружеские пожелания и привет, как бы производя смотр всех тех, кто не кинет в него камень, а, наоборот, поддержит его репутацию или, по крайней мере, сохранит в своем сердце добрую память о нем. В одном из писем сказал прямо: «Мой отъезд, возможно, вызовет чей-нибудь гнев. Нужно этот гнев умерять. Надеюсь на друзей».
Узнав ночью об исчезновении Казакевича, редактор немедленно сообщил об этом этапному коменданту и — в отдел контрразведки «Смерш», а наутро письменным рапортом доложил о случившемся начальнику политотдела бригады. К рапорту он приложил все написанные Казакевичем письма, не передав их по назначению.
Но Казакевичу удалось миновать патрульные наряды и контрольно-пропускные пункты и живо добраться до деревни Сулихово, где находился штаб 51-й дивизии. Неделю,— пока там судили-рядили, как договориться с кадровиками и зачислить его в штат по всей форме,— он был прикомандирован к дивизионной газете. Последняя мимолетная остановка, только подтвердившая бесповоротность указанного внутренним компасом пути: прощай, газета, нет, не за тем он бежал на фронт.
А тем временем политуправление Московского военного округа спешно снеслось с политотделом 21-й армии, в кото-
298
рую входила 51-я дивизия, и уже через неделю Казакевича — в отсутствие Выдригана — увезли из дивизии в штаб армии, где вручили предписание вернуться в МВО.
В Политуправлении МВО Казакевич после крепчайшей головомойки получил строгий приказ — следовать обратно в бригаду. Это наказание возвращением было для него самым страшным.
И вот тут-то и вмешалось «стечение обстоятельств». В этот момент Выдригана вызывают в Москву в Главное управление кадров за новым назначением. Вернее всего, они с Казакевичем встретились на дороге между штабом дивизии и штабом армии — Казакевич не мог уехать, не простившись с Выдриганом. И прикатили в столицу они вместе. Об этом говорится в сохранившейся «памятной записке» Выдригана, которую он составил для выступления по телевидению в сентябре 1966 года. А в Москве, на следующий день после проработки Казакевича в МВО, Выдриган получил в ГУКе назначение заместителем командира 174-й дивизии и, вписав в свое командировочное предписание младшего лейтенанта Казакевича, увез его с собой.
В МВО, однако, сразу передали дело окружному военному прокурору. Началось следствие. Казакевичу пришлось давать на фронте письменное объяснение прокурору дивизии (уже в 76-й дивизии, которой с сентября 43-го года командовал Выдриган). После этого объяснения его больше не теребили, но прокурорская переписка по этому поводу закончилась лишь весной 44-го, когда Казакевич воевал под Ковелем и был уже начальником разведки дивизии...
Получилось ли у Казакевича с переходом на фронт в конце концов так удачно потому, что он встретил на своем пути Выдригана? Бесспорно. Но своих друзей мы носим в душе своей: к одним нас тянет, от других отталкивает. Да и подмечено не раз, что встречаем мы на своем пути именно нужных нам людей, нужных для того, чтобы состоялось или не состоялось, получилось или не получилось то дело, на которое хватает или не хватает наших сил,— будто мы знаем наперед, кого нам выбрать и чего мы заслуживаем.
Конечно, тогда, летом сорок третьего, Казакевичу повезло. Не будь Выдригана, ему пришлось бы пробивать другой вариант — и все могло обернуться по-иному, вплоть до упомянутого Выдриганом штрафного батальона.
Но счастливый исход дела Казакевича подтверждает, что и свою удачу мы носим в себе.
299
...Ему выпало еще два года войны. С оружием в руках, в окопах.
Хотя и на фронте — тотчас по прибытии — его подстерегал негаданный поворот:
«Штарм пытался несколько раз забрать меня к себе — то переводчиком, то начальником отдела наград (!), но я отбрыкался при помощи начальства — ведь там далеко от жизни и вообще скучно. ...Штадив1 просит моего командира отдать меня на должность помощника начальника отдела разведки. Вероятно, в конце концов я сумею уйти на эту в высшей степени интересную работу» (сестре. 15.8.43 г.).
И — ушел. Все то, что влекло его на фронт, побуждало теперь быть на переднем крае, идти в разведку, а не в штаб армии, заслуживать награды, а не оформлять наградные листы.
Но почему более всех военных профессий пришлась ему по душе войсковая разведка? Зная его книги, нетрудно представить почему.
Войсковая разведка для него была сродни творчеству. Она предоставляла самостоятельность, независимость, возможность наблюдать войну по обе стороны линии огня. В ней были риск и артистизм, непременность бесстрашия и благородство взаимовыручки. И — ореол таинственной возвышенности окружал братство разведчиков. Все это удовлетворяло его натуре, поэтической ее направленности. Он и в окопах сумел выбрать себе место. Трудное, опасное, но — по сердцу.
Иногда, правда, его «иррациональность» ставила его самого в тупик:
«Я думаю о своем военном пути. Все у меня не так, как у других. И все интересно. Я иду особым путем не из любви к оригинальности, а просто так получается. Черт его знает, что я за человек! Я часто сам себя не пойму. Вероятно, ты знаешь меня лучше, чем я себя» (жене. 27.7.43 г.). В июле сорок четвертого Казакевич был тяжело ранен. Ранение заставило допустить мысль, что он уже отвоевался,
_____________________
1Казакевич был сначала назначен переводчиком разведроты 174-й дивизии. Через десять дней комдив забрал его к себе адъютантом. Казакевич в тот момент не возражал: «Это для меня интересней, потому что я сумею больше видеть и даже влиять на события. А при моей активной натуре последнее имеет значение» (жене 25.7.43 г.). Однако еще через три недели он был уже в разведотделении штаба дивизии.
300
и, лежа в госпитале в Польше, он подвел свои ратные итоги за три года и один месяц войны. К его «не менее пяти подлинным подвигам» воина, которыми он, оценив себя глазами бывалого солдата, открывал свой перечень, надо прибавить еще один — подвиг верности литературе. Для него это было связано на фронте с мучительным неписанием.
Казакевич воевал, но внутренняя творческая жизнь не прекращалась, писательская судьба развивалась. Вот несколько выдержек из его фронтовых писем:
«Я ни минуты не жалею о том, что покинул уютную городскую жизнь во Владимире, сменив ее на полную неожиданностей неустроенную жизнь фронта. Как губка, впитываю я в себя все, что вижу и слышу, и настанет такой день — верю, что он настанет,— когда все это выльется в великую книгу. Дай бог сил и жизни» (жене. 18.8.43 г.).
«Записываю все, что пригодится для книги, которая будет, если я жив буду» (сестре. 20.10.43 г.).
«Какое-то чувство абсолютно созревшей творческой силы — и, поверь, Галечка, очень большой — наполняет до краев, и это — я заметил это не раз — чувствуют и окружающие во мне.
...У меня в голове — гнездо прекрасных стихов, а главное — книга, которую я потихоньку, в своем дневнике уже теперь называю Великой Книгой» (жене. 31.10.43 г.).
Ему еще только мнилась книга, но предощущалась, должно быть, лирическая интонация его будущей прозы. Страдания и гибель людей определили ее. Он чувствовал, вероятно, несоответствие этой пробуждавшейся в нем раздумной, лирической и печальной интонации — боевому накалу фронта и бытию войны. Была, значит, и такая причина его молчания — в открывавшемся качестве таланта. (И то, что он написал потом о войне, самое лучшее, было выведено этой «интонацией» умного и доброго сердца.)
После жестоких боев осенью сорок третьего он писал жене:
«Мы прошли полосу мертвых деревень, сожженных немцами при отступлении. Нет на свете ничего печальнее зрелища запустения, и ничего нет трагичнее судьбы людей, живущих жизнью троглодитов, пещерных людей, кое-как выкопавших себе землянки. Они там существуют вповалку, с детьми, со стариками. От деревень остались одни дымоходы. Ночью эти дымоходы производят при-
301
зрачное впечатление — это походит на надгробные камни или на кладбище инков. Лунные тени ложатся на эти надгробные камни. Человеческое горе может здесь сравниться разве только с человеческим терпением, которое поистине безгранично.
Мое сердце разрывается от жалости при виде детей, которые бог знает сколько времени не раздевались. Они смотрят круглыми глазами и как будто спрашивают: за что? Естественно, вспоминаются Женичка и Лялич-ка» (21.10.43 г.).
И в другом письме, остро чувствуя необходимость завершения войны:
«А уже пора — и не потому, что трудно мне — мне ведь легче, чем всем, — я ведь переживаю все тяготы не только как объект, но и как свидетель, как будущий творец и судья, — но потому, что невмоготу народу, а у меня доброе сердце, и мне, по сути дела, несмотря на кажущуюся суровость, страшно жаль людей — не знаю, знаешь ли ты это» (9. 11. 43 г.).
Стихи — не с целью напечатать — он все же писал, без этого ему было не обойтись; и по ним — как дыхание по зеркалу — проверял, наверное, что божий дар в нем еще жив. Но даже в веселых, шуточных стихах «Прощание с медсанбатом» не преминул сказать:
Я на войне, и я войной дышу.
Я не поэт. Я воин. Я разведчик.
Я все, чем назовет меня весь свет,
Но временно я больше не поэт.
Что песни нынче? Песни впереди...
Но вдруг весь мир становится мне тесен,
И жарко вдруг становится в груди
От трепета еще не спетых песен.
И я в ковчеге песен, точно Ной,
Плыву на волнах, поднятых войной.
(Май 1944 года)
«Вернусь ли я к этому сладкому и горькому занятию — литературе?» (сестре. 26. 6. 44. г.).
«Скоро я буду иметь столько орденов, как Денис Давыдов, и писать стихи — я полон ими, и они перекипают во мне, умирая не родившись — потому, что я не в силах делать две вещи зараз — воевать и писать» (В. Д. Острогорской. 4.2.45 г.).
302
«Почти четыре года я не пишу. Иногда меня охватывает страх: а если я уже не смогу больше писать? Сяду и — не смогу?» (сестре. 2. 3. 45 г.).
Тяжелое ранение в июле сорок четвертого привело его в сибирский эвакогоспиталь.
«Галечка, итак, после долгого и утомительного путешествия я на месте, в г. Барнауле... Тут и лежим мы и — с большим или меньшим терпением — ждем, пока заживут раны» (11.9.44 г.).
Но и на госпитальной койке Казакевич торопил себя. Мыслимое ли это дело — ему не быть участником и свидетелем окончательного разгрома врага! В последних числах сентября он сообщает сестре:
«Через семь — десять дней я выписываюсь наконец. Отсюда я еду в распоряжение СибВО, в Новосибирск. Куда пошлют — не знаю. Постараюсь попасть опять под Варшаву. В тылу я сумею жить только в штатском платье. Пока я военный — хочу быть на фронте. А я военный, пока».
Ей же из Омска, 2.10.44 г.:
«Дорогие, я попал после госпиталя в резерв СибВО. Настроение ужасное, просто трудно передать. Кто знает, что такое резерв, тот поймет. Только бы мой комдив успел прислать на меня требование — тогда, может быть, отпустят на фронт».
В тот же день — жене:
«Я в резерве СибВО, в Омске, куда попал после госпиталя. Надеюсь вскоре и отсюда «сбежать» на фронт».
Из сибирского резерва офицеров отправляли на фронт только по спецзаявкам ГУКа. Казакевич написал в штаб своей 47-й армии, обратился с рапортом к начальнику отдела кадров СибВО. Не дождавшись ответа, он попросил предоставить ему двухнедельный отпуск в Москву — якобы для доработки своей повести, принятой в журнал «Знамя». (Никакой повести он «Знамени» еще не давал, поскольку ее и не было у него.) В батальоне офицерского резерва обаятельный и веселый офицер-писатель, «душа общества», быстро завоевал расположение командования. Отпуск ему предоставили. И Казакевич опять «махнул», по его выражению, на фронт. Навык разведчика, сметка, решительность помогли ему и на этот раз. Он благополучно прибыл под Варшаву. Но в диви-
303
зию его уже не направили, оставили работать в разведотделе штаба 47-й армии. А в Омск полетела вскоре из ГУКа телеграмма об исключении капитана Казакевича из списков резерва.
И снова фронт, бои. И — думы о творчестве:
«...пора возвращаться к своей старой, любимой профессии... Мне кажется, что я уже все испытал: и страдания, и лишения, и омерзение при виде низости, и восторг при виде благородства, — все, чем богата война...» (В. Д. Острогорской. 10.3.45 г.).
«Война между тем приближается к концу... ...А потом — работа, та работа, которой я не мог заниматься четыре года и к которой рвется моя почти онемевшая душа» (жене. 9.4.45).
Казакевич написал свою Книгу войны.
Но он не управился написать еще одну книгу — роман-эпопею, который все более и более представлялся ему самым главным, самым важным его произведением. Прошедший через тысячу смертей на фронте, он надеялся, что впереди у него еще много времени, и, как обычно, был увлечен одновременно несколькими замыслами.
Не хватило жизни? Но почему после первой операции, получив предупреждающий «звонок», он все же перебил работу над романом заготовками для повести «Иностранная коллегия»? Потребовалось вновь окунуться в истоки? Материал романа оказал сопротивление? Или ему мешало что-то в себе самом и долго не удавалось это преодолеть? А когда наконец перед ним открылась «даль свободного романа», было уже трагически поздно? Кто знает... Наши пределы, как и наши победы, внутри нас.
...Думая о Казакевиче, вспоминаешь слова Пастернака, обращенные к Художнику:
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только — до конца.
Казакевич оставался живым до конца.
1963, 1977
В. Кардин
«РАЗВЕДЧИКИ УШЛИ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ...»
Споров не было. Хотя мы, слушатели Военно-политической академии, не очень-то охотно читали про войну, а коль читали, то критически, подмечая какие-нибудь армейские недостоверности, несообразность ситуаций или повторение уже известного. Мы были молоды и самонадеянны, у каждого позади четыре года фронта, окружения, окопы, госпитали. Чем нас могла пронять повестушка о разведчиках? Не сверхгероях, которые щеголяют в эсэсовских мундирах, похлопывают по плечу Гиммлера. О самых разобычных, полковых, тех, что в поиск за «языком»...
Имя автора ничего не говорило, но сама «Звезда» сказала многое. Не только легко выразимое, но и ускользающее от привычных слов, оставляя смутную тревогу, неясную надежду.
Потом, в «Весне на Одере», Саша Мещерский, начавший свою жизнь еще в «Звезде», напишет печальные и наивные стихи:
Разведчики ушли и не вернулись...
Человек, создавший «Звезду», знал войну по обе стороны передовой. До деталей, вряд ли доступных кому-либо, кроме войскового разведчика. Как снаряжается поиск, какого «языка» надо брать, а каким — велик соблазн! — все же разумнее пренебречь!
305
Безусловность знания подкупает, однако не завоевывает. Осведомленность автора «Звезды» была настолько доскональной, обладала такими запасами, такой основательностью, что не нуждалась в демонстрировании. Многое — об этом мы догадывались, чувствовали — осталось за пределами короткой повести...
Из истории в общем-то обыденной, не нарушая этой обыденности, не накручивая приключений, неизвестный писатель извлек нечто необычное, выказав мудрость и человечность. Трогательная — не от мира сего — доверчивость, добросердечная наивность и — писательский взгляд, который жестче, проницательнее профессионального взгляда разведчика. Что есть бескорыстие в солдатском ремесле? В каком соотношении пребывают собственная выгода и солдатский долг? (Позже Казакевич не однажды вернется к излюбленной мысли о бескорыстии как первой добродетели, условии человеческого достоинства, признаке, межующем людей.)
Бойцы Травкина собираются в поиск, надевают маскхалаты, он видит и укрытое от глаза — отрешение разведчика от житейской суеты.
«Разведчик уже не принадлежит ни самому себе, ни своим начальникам, ни своим воспоминаниям. Он подвязывает к поясу гранаты и нож, кладет за пазуху пистолет. Так он отказывается от всех человеческих установлений, ставит себя вне закона, полагаясь отныне только на себя. Он отдает старшине все свои документы, письма, фотографии, ордена и медали, парторгу — свой партийный или комсомольский билет. Так он отказывается от своего прошлого и будущего, храня все это только в сердце своем.
Он не имеет имени, как лесная птица. Он вполне мог бы отказаться и от членораздельной речи, ограничившись птичьим свистом для подачи сигналов товарищам. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств — духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга вынашивающим одну мысль: свою задачу.
Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц только двое: человек и смерть».
Таким бережет моя память первое впечатление от «Звезды», первый щемящий отзвук. Вера в писателя, которому внятен потаенный смысл того, что видели многие.
Перечитывая сегодня «Звезду», я думаю: это все же неполно объясняет безоговорочную популярность повести.
Наступили годы, еще хранящие отсвет войны, люди
306
расставались с армейской формой, а те, что продолжали ее носить, сменили полевые погоны на золотом шитые. Наступило время перевести дыхание, оглянуться вокруг в готовности отстраивать разрушенное и врачевать раны. Чувство потерь не притупилось, оно уверено в своей неутолимости, но еще не знает, во что отольется (человеку не дано жить только утратами).
На это время и пришлась «Звезда» с ее сокровенной сердечностью, одухотворенной жертвенностью. «Печаль моя светла...»
* * *
Мы познакомились десять лет спустя. Казакевич издал уже несколько книг, был хвалим и ругаем, то неожиданный, как в «Звезде», то сливался с литературным фоном. Но у меня еще с сорок седьмого года держалось ощущение необычности, которая должна неизменно ему сопутствовать. В первых же наших разговорах проскользнул — не прямо, конечно, — вопрос, вертевшийся у меня на языке. О «Весне на Одере». Роман представлялся мне (и сейчас представляется) неплохим, написанным увлеченно. Однако в нем, на мой взгляд, было меньше Казакевича, чем в других его книгах.
Я старался быть предельно осторожным. С таким вопросом и к близко знакомому не полезешь, а мы встречались второй либо третий раз.
Казакевич, не дожидаясь, пока я обставлю свой вопрос загородками и дипломатическими подпорками, спокойно перебил:
— Чтобы критика отцепилась. После «Двое в степи» она мне не давала передышки. Я и думал...
Казакевич не смеялся, улыбался он вообще редко. Говорил резко и прямо, любил рубить сплеча, уголком глаза следя за впечатлением. В этот же день мне довелось убедиться, что он способен и на ледяную грубость.
Раздался телефонный звонок. Казакевич вежливо поздоровался, кивнул мне: редактор. И продолжал вежливый разговор из редких «да», «конечно», «безусловно» и — неожиданного: «Идите вы...» Трубка легла на рычаг. Казакевич продолжал развивать свою тему. Смысл ее, насколько мне сейчас удается восстановить, примерно таков: ему всегда известно, что он пишет, на что идет. В наитие не верит и не ждет озарений, знает цену каждой своей книге, каждой строчке.
307
— И никогда не промахнулись?
— Однажды. Со «Звездой»...
Не признавая в творчестве какого-либо таинства, он говорил о нем совершенно свободно, без малейшего придыхания. Как и о других опробованных профессиях.
То немногое, что я пытаюсь рассказать о нем, знаю от него, из первых рук. Из источника самого достоверного и самого субъективного.
Эти сведения пришли ко мне при наших встречах в пятьдесят шестом году и потом, когда я пробовал написать «литературный портрет» Казакевича. В обоих случаях он держался одинаково, чуть флегматично, иногда оживляясь. Чаще всего что-то выдумывая, фантазируя. Я и поныне не поручусь, когда, насколько он творил легенду. Но это касалось не работы, не биографии, а всевозможных историй вокруг его книг, их проработки или наград. Он заикался, подражая одному, грассировал, изображая другого, твердил «так сказать», «значит», подделываясь под третьего, переходил на кавказский акцент...
Не берусь судить, какова роль стечения событий, случая в крутых извивах его судьбы. Но он всегда оставался ее хозяином с неотъемлемым правом последнего слова.
Это разительно не отвечало облику не просто интеллигента, — человека робкого, кабинетного. Немощный, узкогрудый, бледный, с чуть затрудненным дыханием, в очках с толстыми стеклами.
Где уж ему спать на снегу, топать полсотни километров по болоту, тащить гранаты, «сидор» с толовыми шашками, красться с пистолетом к немецкому дозору...
Трудно вообразить его войсковым разведчиком — рядовым или начальником. Трудно, однако не невозможно. Нужно прежде всего переступить через ординарность собственных представлений, вспомнить, как бывало, как невыигрышно, несоответственно делу выглядели иной раз люди, занимавшиеся им.
И вот что еще надо: сквозь глубокую штатскость Казакевича разглядеть — нет, не военную косточку, ее не было в помине, — но способность принимать решение, становиться таким, каким он считал сейчас необходимым.
В «Звезде» упоминается о фанатизме при исполнении долга. Это писатель и о себе. Решив, он превращался в фанатика. Касалось захвата контрольного пленного или бегства из запасного полка. В запасном, как и все почти, он штурмовал штаб рапортами, писал, в политуправление:
308
пошлите на фронт. Не добившись согласия, с увольнительной до 24. 00, воспользовавшись навыками разведчика, обманув десятки патрулей и контрольно-пропускных пунктов, удрал на передовую. Запасной полк объявил его дезертиром. В сорок четвертом сбежал из тылового офицерского резерва.
Он отдавался долгу с увлечением и яростью. Как Лубенцов из романа «Дом на площади», которого писатель нередко снабжал собственными мыслями.
Однажды я застал у Казакевича в Лаврушинском переулке человека в кителе со следами недавних погон. Демобилизованный однополчанин, попав проездом в Москву, неуверенно позвонил с вокзала. Казакевич примчался незамедлительно, поселил у себя и слушать не желал насчет гостиницы.
Он исчезал то в магазин, то на кухню. Мы оставались вдвоем с подполковником запаса. О Казакевиче он говорил вдохновенно.
Вот ведь, лауреат, знаменитость, а такой... Ему, видимо, хотелось добавить «простой». Но слово не совсем подходило. И, подумав, подполковник произнес: «демократичный». Однако и это не совсем устроило. «Был надежным товарищем и остался».
От него я услышал, как Казакевич, уже начальник разведки дивизии, сам в одиночку отправился за «языком».
Дивизия занимала оборону, пленного захватить не удавалось. Командование нервничало, устраивало Казакевичу разносы, тот бранил разведчиков. А проку — никакого.
Тогда-то Казакевич, никому ничего не сказав, днем пролез через нейтральную и вернулся с пленным офицером.
Признаюсь, эпизод мне показался почти фантастическим. Собеседник это заметил и, не настаивая, объяснил:
— Может, и не совсем так. О разведчиках ходили легенды. Не о каждом. О тех, кто давал повод, «ложился» в легенду...
Почти все профессиональные литераторы, ушедшие на фронт, если не погибали в первые месяцы, постепенно оседали в армейской печати, делались корреспондентами центральных газет. Член Союза писателей Казакевич избрал и осуществил свой собственный вариант фронтовой судьбы.
Он сам стиснул себя обязанностями, вогнал в железные рамки непосредственного долга. И не желал признавать ничего иного.
Одержимость, не связанная со слепотой. Нечастая спо-
309
собность взвешивать собственные данные, соотнося их с объективно необходимым. Он свободно владел немецким, понимал по-итальянски и французски. На черта это в газете? Зато в разведке как нельзя более кстати.
Помимо, однако, соображений рациональных — их Казакевич охотно выкладывал, — я убежден, существовали и подспудные. В его искреннем рационализме присутствовала не то чтобы бравада, но и самозащита.
У нас распространены два варианта писательской биографии. Прозаики и поэты, созданные войной из позавчерашних школьников и студентов, вчерашних сержантов и лейтенантов. А второй — те, кто пошел на фронт, уже имея за плечами сборники стихов и рассказов, романы и поэмы, планируя: выживу — напишу и о войне. Пока же газета, очерки, репортажи, блокнот с заготовками.
Казакевич в армии был разведчиком. И только. Собственное литературное прошлое, успехи и поиски довоенных лет над ним не имели власти.
Будучи взрослее, зрелее сержантов и лейтенантов, которым предстояло стать писателями, он, выказав качества разведчика, миновал едва не десяток армейских ступеней, дойдя до разведотдела армии. Кому из собратьев по перу посчастливилось столько увидеть, кому война открылась в таком ракурсе, требуя на каждой ступени непосредственного участия?
Однако — думается мне — он и на фронте оставался писателем. Когда ходил с поисковыми группами, составлял сводки и донесения, в нем накапливались будущие книги. Сколько бы здравого смысла ни присутствовало в решении стать разведчиком, он испытывал и острую жажду художника, утолимую лишь непосредственным участием. Наблюдений, даже вблизи, недостаточно.
В «Весне на Одере» об этом сказано без околичностей. Благо, речь о литературном герое.
Лубенцов не захотел отправлять Мещерского в опасный поиск на подступах к Берлину. Мещерский писал стихи.
«Поэт, говоришь? — задумчиво переспросил генерал, потом, прищурив глаза, усмехнулся. — Ну и хорошо. Пусть пойдет в поиск, а то ему не о чем будет писать».
Нашлось бы, вероятно, о чем. Но тут еще и нравственное право писать о войне.
Нравственное начало определяло для Казакевича человека. Ему он верил больше, чем иным поступкам и фразам. Таков был первый урок, преподанный фронтом.
В романе «Дом на площади», когда баталии сменяются мо-
310
ральными поединками, Казакевич старается внести ясность и в авторском отступлении растолковывает:
«Я думаю, что скупой, жадный, корыстный человек не может быть социалистом, какие бы красивые слова он ни говорил на любых собраниях. Корыстолюбие в личной жизни — это едва ли не то же самое, что капитализм в общественной. Дайте волю бескорыстному человеку — и он пойдет путешествовать. Дайте волю человеку корыстному — и он станет капиталистом». Это его, Казакевича, мысль, личная и неотступная, мерка, с какой он подходил к людям — в жизни и в своих книгах.
Право взыскательно судить о людях предполагало, что и писатель-судья прошел через все искусы и невзгоды, хлебнул фронтового лиха не походя, не быстрым глотком при коротком наезде. Всю чашу, до донышка. По нормам армейской разведки, по жестоким правилам древней игры: человек и смерть.
* * *
— В чем же вы ошиблись со «Звездой»?
— Считал ее удручающе обыденной, боялся нести в редакцию.
— Что так?
Разговор происходил в кабинете Казакевича. Он поднялся с кресла, прошелся.
— Не хватало уверенности в себе. По причине отсутствия опыта и денег...
Он вступал в область воспоминаний — безрадостных, однако достаточно далеких, чтобы предаваться им без душевных затрат.
Видимо, прояви Казакевич малейшее желание, его бы оставили в армии; такими в повоенные годы дорожили. Писатель, дремавший в нем четыре военных года, вернее — обреченный дремать, проснулся и предъявил свои права на офицера разведки.
Какой это был писатель, что мог, умел?
Эммануил Генрихович начинал в середине тридцатых годов стихотворениями, поэмами, романом в стихах на еврейском языке. Люди, знающие еврейский, отзываются о нем как о поэте незаурядном, первоклассном переводчике Пушкина, Лермонтова, Гейне, Маяковского. Однако после сборника «Большой мир» Казакевич поставил точку. Почему? Мечтал о широкой читательской аудитории.
311
Тут-то и разразилась война.
Вернулся из Берлина — ни кола ни двора. Заняться переводами? Но если ставил крест, то навсегда.
Он сидел, накинув шинель, в нетопленой комнатенке барака (денег на дрова не было), писал «Звезду» и клял себя за потерянное время. Повесть ему не нравилась, и приятелям стоило немалых усилий убедить его отдать рукопись в «Знамя».
Всеволод Вишневский, редактировавший тогда журнал, прочитав повесть в один присест, торопливо писал Казакевичу:
«Сегодня ночью прочел Вашу повесть «Звезда»... Поздравляю Вас. Это настоящая вещь: точная, умная, насквозь военно-грамотная, полная размышлений и души.
Вещь нелегкая для любителей «беллетристики». Вещь горькая и вместе с тем полная силы и оптимизма...
От имени «Знамени» благодарю за повесть. Мы дадим ее в № 1 за 1947 год.
Вы должны писать. Все данные за это.
Вс. Вишневский
P. S. Отдельно примите чувства б. разведчика с 1915 года».
Сохранилось ли это письмо? Мне его дал переписать Казакевич, когда я принялся за статью о нем. Письмом, видимо, дорожил.
Последующие книги такого редакторского радушия не встречали, похвальные отзывы чередовались с критическими. Сейчас заметно: и достоинства, и недостатки книг порой преувеличивались.
«Весна на Одере» печаталась в «Знамени» не с такой стремительностью, как «Звезда». Новому редактору роман нравился, но, в отличие от автора, не казался защищенным от нападок. Прогноз Казакевича был вернее. Однако оправдался не сразу.
* * *
С каким восторгом он принял статью М. Щеглова «Реализм современной драмы», с какой увлеченностью писал ему, едва начавшему печататься и вызвавшему первые споры: «Думаю, что в Вашем лице советская литература приобрела критика выдающегося».
Как и всякого истинного писателя, Казакевича тревожили судьбы литературы, привлекали новые имена.
312
Возглавляемое практически им издание «Литературная Москва» распахнуло двери и перед молодыми прозаиками, поэтами, критиками.
К этому времени относится мое знакомство с Казакевичем. По причудливой цепочке, начавшейся машинисткой, до него дошло известие о моей статье. Он заинтересовался, позвонил. Я сказал, что статья о прозе двадцатых годов называется «Рожденная революцией» и превышает четыре листа, что при таком объеме ни один журнальный редактор и читать не станет, о печатании же и думать нечего.
— Я прочитаю, — отозвался Казакевич.
Через считанные дни — новый звонок. Статья прочитана Казакевичем, Алигер, Беком, другими членами редколлегии. Если автор не возражает, будет напечатана в «Литературной Москве». Ошеломленный такой стремительностью автор не возражал. После короткой паузы вопрос: не хотел бы я получить аванс, — у начинающих литераторов обычно слабоват бюджет.
— Спасибо, не надо.
Снова пауза и — предложение: не соглашусь ли я поработать над статьей вместе с Казакевичем? Так, небольшая редактура...
Я приехал в Лаврушинский переулок к назначенному времени. Обряд знакомства занял минуты.
— Давайте для начала послушаем музыку, — сказал Казакевич. — Второй концерт Рахманинова. Не возражаете?
Не дожидаясь моего согласия, он поставил пластинку.
Мы молча слушали, я оглядывал кабинет, дивясь его строгости. Ни одного лишнего предмета. На столе ни единой безделушки, ни фотографий, ни бумаг. Книжные полки из надежно пригнанных реек. Без полировки, без стекол. Позже я познакомился с этой библиотекой, еще раз убедившись в аскетической целеустремленности хозяина. Единственной роскошью кабинета был громоздкий, как шкаф, музыкальный комбайн: радиоприемник вместе с проигрывателем.
Когда проигрыватель щелкнул и пластинка кончилась, Казакевич предложил мне сесть за стол, а сам опустился в кресло сбоку.
— У вас один экземпляр рукописи, у меня — второй. Читаем одновременно, не спеша. Погодите, у вас же нет ручки.
Он выдвинул центральный ящик, где лежали десятки самописок самых неожиданных цветов, размеров, форм.
313
— Видывали такое? То-то же. Коллекционирую. Выбирайте.
Я взял толстую черную ручку с хищно изогнутым пером.
Казакевич одобрил выбор и пояснил: японская, заправляется почти пузырьком чернил, центрована, как хороший пистолет, — рука не чувствует тяжести.
И коллекция, и объяснения меня не слишком занимали. Чего он тянет? Золотит пилюлю? Ждет, пока я размякну, а потом начнет рубку.
Ничего он не золотил. Не отсыпал комплиментов и не бранил. Надо кое-какие места уточнить, прояснить. Сам он вызвался в редакторы, надеясь малость подучить меня.
— Я стреляный воробей. Не раз битый.
— Захваливали тоже не раз.
Он легко подхватил:
— Похвалы во вред только дуракам...
Каждый про себя читал статью, кивком давая знать о законченной странице.
Он не цеплялся к мелочам, не проявлял вкусовой своенравности. Но был неумолим. Малейший спор лишался смысла.
Для него данная фраза, абзац существовали не сами по себе; свет клином на них не сходился. Он был редактором-писателем, редактором-политиком и любое место статьи воспринимал во взаимосвязи с другими публикациями альманаха. Он держал в уме, постоянно взвешивая, десятки причин, и половина которых мне не приходила в голову. Недоступные мне причины тоже подчас отливались в категорическое «нет».
Очень заманчиво многое в поведении и манерах Казакевича приписать его недавнему фронтовому прошлому, армейской профессии. Но я-то полагаю, дело в складе его характера и дарования.
Придя к решению, он проникался одержимой настойчивостью, делаясь зорче, настороженнее. Анализирующая мысль уживалась со свободным воображением, властность — с мягким простодушием и юмором.
Война откорректировала его самого, открыла ему в других глубины, недоступные прежде. Расплывчатые мечты о «широкой аудитории» получали живое наполнение. Он узнавал эту самую «аудиторию» в час, когда она, сколоченная в роты и батареи, меньше всего ощущала себя ею. В упор увидел своего героя и своего читателя...
Далеко не всегда понимая редакторские претензии Каза-
314
кевича, я, кажется, постепенно начинал понимать его самого. Правда, от этого не становилось легче.
Мучительно пытаясь угадывать, я перекраивал фразу, переставлял слова, менял эпитеты.
А он, сдерживая нетерпение, нависал сзади, пока я корпел над новым вариантом, и твердил: «не годится», «еще попробуйте».
Я брал чистый лист, он шагал по кабинету. Снова вырастал за спиной. И снова — «нет». Раз, другой.
— Это уже ближе. Пожалуйста, еще. Он ходил, я писал.
И наконец удовлетворенно:
— Сойдет.
После этого — либо дальше, либо:
— А если «Бранденбургский концерт»?
Брал пластинку из бокового отделения комбайна или шел в коридор, где в белых пристенных шкафах с вертикальными пазами хранились черные диски. Говорили, одна из самых богатых тогда в Москве коллекций. Но за все эти дни я ни разу не слышал модных песенок, современной музыки, джаза. Только классика.
Заключительный аккорд, щелчок в репродукторе.
— С богом — вперед. Так длилось до обеда.
За обеденным столом в соседней комнате две-три рюмки водки и продолжение разговоров, начатых в кабинете. Присутствие дочерей — им наши разговоры были ни к чему — его настолько не ограничивало, что он продолжал в своем обычном тоне, не прибегая к эвфемизмам. Такова, видимо, была норма. Дочери сидели, смирно уткнувшись в тарелки.
После обеда мы возвращались в кабинет. Но, по молчаливому уговору, больше не прикасались к статье. Оба экземпляра лежали на столе. Слушали музыку. Казакевич, меняя пластинки, рассказывал и расспрашивал. Он был откровенен и любознателен.
* * *
В книгах Казакевича многое навеяно собственным опытом. Но прямого автобиографизма нет.
«Двое в степи» написаны за тринадцать ночей. С жильем еще было туговато. Днем стол принадлежал дочерям, школьным учебникам.
315
Эммануил Генрихович спал урывками, слонялся по улицам, думал. Ночью, когда все стихало, бросался к бумаге.
Он умел отрешиться от непосредственных обстоятельств. И бытовых (иначе смог ли бы в бараке создать «Звезду»?), и от фронтовых, столь неотвратимых в произведениях автобиографических, но второстепенных, скажем, для «Двое в степи». Поглощенный душевным смятением Огаркова, проявившего малодушие и ожидающего расстрела, взвалил на его молодые плечи непомерную тяжесть — гибель дивизии. Нравственная, психологическая дилемма захватила писателя, и он, на мой взгляд, недооценил меру вины Огаркова — кровь сотен и сотен людей...
Повесть вызвала резкие, не во всем справедливые упреки.
Казакевич считал себя неверно понятым, произвольно истолкованным. Когда между нами зашла речь о «Двое в степи», он показал копию своего письма читательнице, где высказывался с армейской прямотой, исключающей кривотолки.
«Любой солдат, струсивший в боевых условиях, — так или иначе изменник Родины. Это очевидно для всякого.
Допускаю, что и трусы бывают разные. На войне случалось, что иной человек струсит по неопытности, по боевой неискушенности. Такие люди со временем превращались в прекрасных воинов...
Храбрость — не богом данный талант. Молодой человек, глубоко чувствующий свой долг перед Родиной, может быть, и был храбрецом. Страх смерти не способен заглушить в настоящем советском человеке могучее чувство патриотизма и товарищества».
В повести — тяга к осложнению дилеммы. В письме — противоположная склонность. В обоих случаях пишущий искренен. Но в первом — он художник, разрешивший себе перешагнуть через некоторые реальные обстоятельства, во втором — боевой офицер, признающий лишь практическую целесообразность поступков.
И тут и там Казакевич, склонный к перехлестам, видимо, хватил лишку. Умевший взвешивать, шел на литературный риск, выводя героем юношу, оплошавшего в бою, приговоренного к расстрелу.
Довоенное и военное прошлое постоянно присутствуют у Казакевича. Чаще всего подспудно, как знание жизненной многообразности, разветвленности судеб. Иногда далеким воспоминанием, поддержкой в беде. Лубенцов, который из
316
«Весны на Одере» перебазировался в «Дом на площади», с нежностью думает о Волочаевке, знаменитой сопке Июнь-Корань, под сенью которой прошло его детство. В мрачную минуту, придавленный грузом несправедливых обвинений, Лубенцов «внезапно вспомнил Дальний Восток, и юношеские впечатления стали проноситься в его голове».
Накопленное не всегда удовлетворяло. Казакевич, нуждаясь в притоке живых впечатлений, отправлялся в Магнитогорск, а задумав большой — так и недописанный — роман, поселился во Владимирской области. Вряд ли он ушел бы от войны. Но зона освоения расширялась, биографии уходили вглубь, переплетались.
Прежние темы и книги его не завораживали.
Я собирался писать рецензию на роман «Дом на площади» и сказал, что думаю о блистательных страницах, соседствующих с сыроватыми. Казакевич нетерпеливо забарабанил пальцами по столу:
— Нельзя ли без кулинарной терминологии: «сыровато», «недопечено»?..
— Не всегда заметно, где кончается писатель, а где начинается герой.
Он толкнул ко мне книгу.
— Давайте поконкретнее. Растекаться по древу — все мастера.
— В «Весне на Одере» Лубенцов не блистал эрудицией. А в «Доме на площади» он и Гейне цитирует, и Гёте.
— Должность обязывает. Комендант немецкого города... Вы меня текстом уличите.
Я принялся листать роман.
— Вот хотя бы: «Памятка советского коменданта». Это же не Лубенцов, не его рука — ваша: «человек не может быть похож на ангела. Но сразу же после ангелов должен идти комендант...»
Он не спешил возразить, но и не торопился со мной согласиться. Лишь задумчиво вздохнул:
— Угодил в цейтнот.
Я не понял, как это — в цейтнот, когда речь о серьезной работе, на которую возлагаешь надежды.
— Да, в цейтнот, — повторил Казакевич. И неохотно объяснил.
Писатель Н., обещавший роман для первого номера альманаха, в последнюю минуту передал его в журнал. Альманах остался без большой прозы. Казакевичу ничего не оставалось, как спешно заканчивать «Дом на площади» и с
317
колес засылать в набор. Редактор взял верх над писателем.
— Можно будет для отдельного издания, — неуверенно вставил я.
Казакевич скривился:
— Еще не хватало...
Году, должно быть, в пятидесятом он приехал на читательскую встречу в нашу академию. Мне не запомнились подробности. Кроме одной.
Среди записок попалась звучавшая примерно так: каково ваше отношение к критике по адресу «Двое в степи»?
Казакевич прочитал записку и невозмутимо ответил: эта критика его не интересует, он сейчас работает над новым романом.
Здесь не было позерства (или самое минимальное). Разговор о «Доме на площади» лишь подтверждал такое отношение. Тогда оно меня поразило. Сегодня кажется нормальным. Думать надо о том, с чем поутру сядешь за стол.
Написанное, напечатанное оставалось позади. Казакевич говорил о нем, словно об отгоревшем. Это, мол, все присказки. А сказка?.. Однако «присказки» сотнями тысяч выходили в свет...
Но пройденное — желаешь того или нет — не растворяется за спиной. Принципы письма уже выработались, стиль набрал инерцию. И полученные синяки предостерегающе напоминали о себе.
Когда я добродушно отозвался о каком-то критике, Казакевич взорвался:
— Порядочный человек?!
Рванул на себя ящик стола, безошибочно выхватил папку, распахнул, сунул мне газетную вырезку...
Ему хотелось выглядеть более непробиваемым, нежели он был. Довольно болезненно воспринимая критику, Казакевич не всегда, пожалуй, — это обнаруживается при сегодняшнем взгляде — отделял обоснованное от наносного. В стремлении защититься, обезопасить себя иной раз перебарщивал, после одной крайности ударялся в другую. «Весна на Одере» — ответ на критику по поводу «Двое в степи», ответ, отдающий прямолинейностью. Соблюдены пропорции, соотношения батального полотна.
«Весна на Одере» удостоилась похвалы в прессе, Государственной премии. Тогда он написал «Сердце друга», вызвавшее новые нарекания, далеко не во всем беспочвенные.
Казакевич сам обратил мое внимание на такую закономерность: через раз премия, через раз критика. Случайность?
318
На войне — в штабе дивизии, в разведотделе армии — ему хватало на лету схваченной тактики. Задачи, пусть с несколькими неизвестными, решались на сравнительно ограниченном пространстве, охватывали относительно короткий период.
В литературе он вынашивал долгосрочные планы, мечтал о романах, охватывающих десятилетия, брал предварительные пробы из разных временных пластов, стараясь предугадать, как времена, когда выйдет роман, соотнесутся с теми, которым он посвящен.
Смелость далеко нацеленных линий не гарантирует успеха.
Как, впрочем, и предпочтение уже освоенных ситуаций.
Да и собственный многодумный стратегический план он способен был в один прекрасный день порушить.
При неизменном намерении находиться вне суетливой текучки он пребывал во властной зависимости от сегодняшнего дня и начинал этот день с утренней газеты. Его остро занимала политика, политические фигуры, перспективы. В этой области он ориентировался, быть может, слишком для писателя свободно.
Однако и гении, творившие вечное, не пренебрегали газетами. Пушкин вникал в хитросплетения политики...
Казакевич был человеком определенных мнений, категоричным. Но не выглядел оракулом, изрекателем истин. Выручала врожденная ироничность
Я удивился насмешливости, с какой он иногда отзывался о серьезном. Эммануил Генрихович ответил вольным пересказом из Гёте: на свете есть столь серьезные вещи, что о них можно говорить только шутя.
С легкостью он переходил от политики к литературе. Часто к немецкой.
Я не пишу биографию Казакевича, не занимаюсь разбором его книг. Лишь вспоминаю его самого, пытаясь разглядеть отражение авторской личности в повестях и романах. Оно тем прихотливее, чем сложнее, противоречивее сам писатель.
Демобилизовавшийся однополчанин Казакевича был прав, отказавшись от эпитета «простой».
* * *
О дружбе Казакевича и Твардовского напишут, вероятно, те, кто наблюдал ее постоянно. У меня — сведения отрывочные, частные.
319
Было общее в их отношении к литературе, горячем и самозабвенном. Готовность, жертвуя временем, своей писательской работой, отдаваться редактированию, корпеть над чужими рукописями, привечать молодых. Бессребреничество. Скромность жизненного уклада.
Не будучи людьми «простыми», не приемля панибратства, до которого охочи многие литераторы, они держались просто, не дипломатничали в обыденных взаимоотношениях. С каждым из них не всегда легко было говорить, но всегда было понятно, отчего не легко.
Оба они проявляли равнодушие — в какой-то степени думается, намеренное — к одежде.
Однажды я встретил их под вечер на улице Герцена. Ни будничным своим обликом, ни отставшими от моды костюмами, без малейшего тщания повязанными галстуками (Твардовского я вообще не видал в пиджаке без галстука, Казакевич разрешал себе такое) они не выделялись из толпы. Ничего от лауреатского благополучия. Ничего от самовлюбленной богемной небрежности. Два усталых интеллигента возвращаются со службы.
Как-то раз Твардовский при мне прошелся по адресу поэта в крикливо-пестром пиджаке, оранжевых штиблетах: «Негоже писателю выглядеть попугаем». Казакевич высказывался покрепче.
Их дружба, не исключавшая споров, размолвок, длилась до последних дней Казакевича и всего сильнее сказалась в эти дни, когда Твардовский хлопотал о дефицитных лекарствах, медицинских консультациях, вникал в лечебные подробности.
Насколько бережен был Твардовский к Казакевичу, мне довелось убедиться на собственном опыте.
Я написал «литературный портрет» Казакевича и принес в «Новый мир».
Вполне возможно, «портрет» не удался, и резкое заключение Твардовского оказалось справедливо.
Александр Трифонович незамедлительно прочитал рукопись. Хотя в подобных случаях часто полагался на отдел, секретариат, замов. Если статья шла, читал ее в верстке. На сей раз самолично завернул «портрет».
Дело, вероятно, все же было не в критичности некоторых замечаний. Хотя «портрет» писался с благожелательством и уважением к автору «Звезды». Твардовский — это я слышал сам и знал от Казакевича — иной раз отзывался о книгах друга более непримиримо. Но придерживался, видимо,
320
мнения: одно — застольная беседа, другое — публикация в «Новом мире».
Участь «портрета» предопределялась его недочетами, но не только ими, а также обостренной бережностью Твардовского к Эммануилу Генриховичу.
Острый на язык, насквозь ироничный, не дававший спуску и друзьям, Казакевич вызывал к себе именно такое отношение. Даже у людей не столь близких, как Твардовский.
Много ли примеров, когда болезнь одного писателя создает вокруг него плотное защитное окружение, готовое каждую минуту прийти на помощь.
После первой операции — Казакевичу сказали: язва — он не сразу оправился. Уставал от разговора, хотел лечь.
Спустя несколько месяцев я встретил его в переделкинском лесочке.
Минутное, конечно, впечатление. Но попытаюсь передать.
По березовой роще брел горожанин, не очень-то ее замечающий и, в отличие от солдат из «Звезды», нисколько не сливающийся с природой. Человек вышел набрать в легкие воздуха, отдышаться после болезни, после тяжкого застольного труда. Этот труд, может быть, болезнь неотступно с ним. Он вышел, чтобы от них оторваться. Нет же. Согбенные немощные плечи, глаза в землю.
Вдруг поднял голову, живо меня окликнул. И — прежний Казакевич. Неунывающий, насмешливый, верящий в себя.
Да, на даче. Вкалывает. Вроде бы получается. Это наконец будет то, настоящее... Обед? Сам варит.
— Не хуже, чем в Доме творчества. Приходите — убедитесь. И никакого «сухого закона»...
Обстоятельно объяснял, как, из чего готовит обед, в каком магазине делает покупки.
Расспрашивал с обычной заинтересованностью, комментировал с неизменной язвительностью...
А вскоре — резкое ухудшение, постель.
Тогда-то сама собой образовалась дружина, обеспечившая круглосуточное дежурство в доме Казакевича. Разномастная по характерам, возрасту, литературным приверженностям. И. Андроников, Л. Левин, Б. Рунин, Ник. Чуковский, А. Бек, Д. Данин.
...Четкий график, восьмичасовая вахта. Сдававший сооб-
321
щал заступающему, в каком состоянии больной, что надлежит сделать и достать, куда позвонить, кого вызвать.
Казакевич лежал в своем кабинете. При нем почти неотлучно жена и секретарь Татьяна Владимировна Дубинская.
Татьяна Владимировна самозабвенно ухаживала за больным и продолжала исполнять свои секретарские обязанности. Боль чуть отпускала, и Казакевич диктовал.
Если бы не постель, не запавшие глаза без привычных очков, это был прежний Казакевич.
На мою долю несколько раз выпадали ночные дежурства. Они проходили в комнате, куда потом перенесли библиотеку.
Ночь за ночью, полка за полкой, книга за книгой.
Никогда больше я не встречал библиотеку, так четко отражавшую интересы хозяина: история, военное искусство, философия, классика. Без малейших отклонений.
Не попадались даже книги с дружескими автографами. Возможно, они хранились где-нибудь в другом месте...
Через несколько лет я обратился к медицинской сестре, приезжавшей к Казакевичу для инъекций. Надо было делать уколы тяжело заболевшему товарищу. А препарат находился в стадии испытаний и еще не получил официального благословения. Сестра отказалась.
— Но ведь Казакевичу вы кололи жидкость, не имевшую разрешения, и облегчили страдания!..
— Это жидкость-то ему помогала? — Она уничижительно посмотрела на меня. — Я ему вводила болеутоляющие. Главное, он вас всех обдуривал, изображая, будто ему легче. Да разве вы понимаете, на что был способен Эммануил Генрихович!..
И вдруг заплакала.
За несколько суток до смерти, после ночи, казавшейся ему последней, он продиктовал Татьяне Владимировне «эту ночь».
— Мне уже не сгодится. Кому-нибудь из братии...
Днем боль притихла.
— Я еще сам этим воспользуюсь...
* * *
На Новодевичьем прозвучали надгробные слова и вырос холм из венков. Шли дни, а боль все не отпускала.
Я задумался: почему? Ведь с сорок первого только и хороню, провожаю друзей.
322
С Казакевичем мы не были друзьями. На роль наставника он не претендовал. Любимый писатель? Сказать так — покривить душой.
Почему же не стихала тоска, не слабело чувство утраты?
В нем с неотразимой привлекательностью переплетались противоречивые свойства. Его мужество было трезвым и романтичным одновременно. Мудрый, ироничный, простодушный, он внушал надежду — человеческую и писательскую.
Но уже никогда не будут окончены оборвавшиеся на полуслове рукописи и не прозвучат озорные экспромты.
«Разведчики ушли и не вернулись...»
1977
Л. Л. Кузьмин
О ЧЕЛОВЕКЕ, СТАВШЕМ МНЕ БЛИЗКИМ
Казакевича я видел в Челябинске в 1957 году. Тогда стояли у нас сильные морозы. Весть о приезде писателя быстро распространилась по заводу (я тогда работал на Тракторном слесарем и был членом литературного объединения). Собрались мы, литкружковцы, и решили — пригласим Казакевича к нам, покажем ему наш завод, почитаем наши стихи и рассказы. Откровенно говоря, мы мало надеялись, что он к нам придет. Бывало, и раньше в город и на завод приезжали маститые писатели, но к нам не очень-то заглядывали.
Казакевич пришел. Мы, конечно, очень обрадовались. Он был в темно-синем кителе, глаза большие, усталые. Мы ему рассказывали о нашем литературном кружке, читали. Слушал он молча, внимательно. Потом стал говорить сам. Конструктору Вилю Андрееву сказал, что он хорошо строит диалог. «Это очень трудно. Даже известные писатели часто ломают себе на этом зубы, — сказал он. — И я вам завидую».
Тут пошла непринужденная беседа. «Я вам и вообще завидую. Вы живете в гуще людей. Рабочий человек обычно бывает скромный, мало говорит о себе. Вам следует быть наблюдательными, проницательными, чтобы увидеть и услышать и понять, что за скромностью и малословием таится. Иногда и выпить вместе не мешает», — сказал Казакевич.
Говорил он и о своих творческих планах. Я так понял,
324

Э. Г. Казакевич беседует с литкружковцами.
Челябинск, 1957
что это будет серия романов или же эпопея от рождения советской власти и до сегодняшнего дня. Большое место должен занимать Урал и его люди, особенно строительство Магнитогорска. Он оживился среди нас, много шутил в этот вечер.
— Вот поеду в Магнитогорск — буду сотрудничать в заводской газете, бесплатно, конечно, и попутно собирать материал.
По нашей просьбе он рассказал нам кратко о себе, отметив при этом, что собирался быть писателем всю жизнь, с детства.
Рассказал и о разведчиках. Пошутил:
— Теперь мои товарищи обязательно стараются меня залучить с собой на охоту, потому что я хорошо ориентируюсь на местности.
На следующий день заводская библиотека устроила читательскую конференцию по книге «Дом на плошади». В читальном зале собралось много людей. Казакевич сидел грустный, задумчивый, почти хмурый, положив руки на колени. Конференция была собрана на скорую руку. Какой-то пенсионер скучно и нудно, любуясь собой, пересказал содержание романа. Кто-то выступил явно «по поручению». Тут вышел парень и сказал, что, кроме «Звезды», все книги Казакевича плохие, что он сам, то есть этот парень, написал бы много лучше, чем Казакевич. Это была бравада, парень, видимо, хотел «себя показать». Скуки как не бывало. По залу прошло волнение. Кто-то крикнул: «Заткнись!» — с прибавлением еще одного слова, не совсем печатного. Поднялось с десяток рук, все просили слова. Вышел плотный мужчина, лет 35, рабочий, на вид угрюмый, и медленно и четко сказал:
— Товарищ Казакевич, не обращайте внимания. Я рабочий человек. Я люблю ваши книги и люблю вас, потому что вы их написали. И не только я, но и мои товарищи. Говорю это потому, что знаю.
Его слова потонули в громе аплодисментов. Казакевич сидел склонив голову, он был большой, какой-то неловкий и усталый.
Конференция была очень бурная, чего совсем нельзя было ожидать вначале. Выступали многие, хотели выступить еще больше, выступления были не «по поручению», не подготовленные, а каждый говорил от себя. Мы вышли его провожать. Он всем пожал руки. Ладонь была большая и теплая.
На следующий день, после работы, я поспешил в заводской клуб, там должна была состояться встреча рабочих
326
с писателем. Клуб был полон. Прямо с работы шли и шли сюда люди. Когда Казакевич вышел на сцену, ему долго аплодировали. Мне показалось, что ему от этого неловко. Пожилой рабочий, бывший фронтовик, стоявший рядом со мной, сказал мне: «Настоящий солдат, сам воевал, это видно из его книг» — и еще сильнее захлопал.
Стою среди всех и чувствую, как колотится сердце, такая в тот момент была любовь к нему, и не только у меня, а у всех, пожалуй. Он рассказал, какое впечатление на него произвел завод. Ему преподнесли подарок, кажется макет трактора. Выходил он из клуба в плотном окружении людей, он был оживлен, что-то все время говорил, но я не слышал, слишком много людей было вокруг него.
Еще раз я увидел его через месяц. Это было в отделении Союза писателей, там Борис Ручьев читал главы из «Индустриальной поэмы», о которой Казакевич высказал высокое мнение. Поэма всем очень понравилась.
Казакевич поделился своими впечатлениями о Магнитогорске. «Вот приеду в Москву, расскажу своим друзьям, каких людей я тут видел, представляю, как они будут мне завидовать».
1969
Александр Авдеенко
СЛЕД В ЖИЗНИ
Раскрываю старую телефонную книжку и начинаю искать знакомые по тридцатым годам фамилии... Герасимов Георгий Иванович!
С Жорой Герасимовым мы вместе встречали зарю Магнитки: он на литейном дворе домны в должности старшего горнового, а я на горячих путях на правом крыле танка-паровоза № 20. Вместе сражались за большой чугун, за освобождение домны, за «пятилетку — в четыре года».
Герасимов — мой земляк. Работал там же, где и мой отец, — в доменном на Макеевском заводе.
— Георгий Иванович?.. Тот самый, который зажег вечный огонь Магнитки? Жора?..
— Да!.. Кто со мной говорит?
Я назвался. Пришлось напомнить и кое-какие подробности из молодой нашей жизни.
Герасимов заорал, завопил в трубку:
— А-а-а-а! Объявился наконец пропащий! Откуда ты звонишь? Из Березок?.. Бери такси и айдате к нам. Суворова, двадцать четыре. Дом в десять окон. Под золотыми плитками. Ставни кленовые, ворота дубовые. Надеюсь, не заблудишься. Ну! Айдате!
«Айдате!» Украинец стал разговаривать как коренной уралец.
Сажусь в свои «Жигули» и еду на правый берег. Дом
328
его не такой уж красавец, как он хвастался. Покрыт обыкновенным шифером. И ворота, и ставни не дубовые и не кленовые — обыкновенные.
Стучу в калитку. Открывает ее плотный, выше среднего роста, плечистый, с широкой грудью, улыбчивый, моложавый, с веселыми глазами...
Всю свою жизнь Георгий Герасимов был на острие тарана, ударяющего по старому миру и его проклятым порядкам и пережиткам: по исконному «авось да небось», по разгильдяйству, пьянству, нерадивости, небережливости, лодырничеству, подхалимажу, по плохому снабжению, по прорывам, по тюхам-матюхам, по дуракам, по кривде и несправедливости. Ударял и трудом, и словом. Больше, конечно, трудом, талантом, мастерством, энтузиазмом, умом.
Работал. Все время работал. Всю жизнь. И теперь, на пенсии, не отдыхает, а трудится. Дома, в школах, на курсах ДОСААФ, всюду, куда его зовут. Лучше бы, конечно, работать на домне, у горна, или на разливочных машинах. Но что делать...
Хозяйка приглашает к столу. Ох и мастерица же она творить какой-то особенный уральский борщ, салат с грибами, пироги, котлеты, пирожные, наливку!
Валентина Петровна, румяная от кухонной жары, от удовольствия, что угодила гостю, машет на меня рукой:
— Хватит насмехаться. Вы точь-в-точь как Эммануил Генрихович.
— Кто? — спросил я и вздрогнул от неожиданности.
— Казакевич. Ваш собрат. Писатель. Вы на его месте сидите.
— Когда он был у вас?
— Давно. Когда писал книгу про Ленина. «Синяя тетрадь» называется. Читали, конечно. Очень хорошая. Он нам ее прислал. Я ее уже раз пять перечитала. Вы подумайте, такая книга родилась в нашем доме! Вот посмотрите.
Она взяла с этажерки завернутую в белую бумагу книгу, положила предо мною. Раскрываю обложку. Знакомый энергичный почерк. Простые, идущие от сердца слова: «Дорогому другу Георгию Ивановичу Герасимову и его милой семье. Люблю вас всех и помню. 14 апреля 1962 года. Эм. Казакевич».
— Он что, жил у вас?
— А вы и не знали? — удивляется Валентина Петровна. — Долго жил. Там, в угловой комнате. Пойдемте, я покажу.
329
Пересекаем недлинный коридор. Входим в большую светлую комнату. Окно выходит в сад.
— Все здесь осталось так, как было при нем. Вот за этим столом Казакевич писал. Вот на этом диване после работы отдыхал и читал. Завтракал и обедал всегда за общим столом, вместе с нами. И все время шутил и смешил всех нас. Очень веселый человек. А про ум и простоту я уж и не говорю. А как здорово пел фронтовые песни!
Георгий Иванович подал реплику:
— Валя, ты забыла про самое главное!
— Это про что? — нахмурилась Валентина Петровна. — Все в Казакевиче было главное. Никаких пустяков. Что ни сделает, что ни скажет, как ни глянет, как ни засмеется, — все у него по-человечески выходило! Даже анекдоты так рассказывал, что не стыдно было их слушать.
— Все правильно, Валя, согласен! Я хочу сказать, что ты забыла...
— Ничего я не забыла... Днем он все время писал. Сидит и пишет, пишет. Больше молчит. Иногда только сам с собой о чем-то разговаривает. Вечером выходит в столовую. Глаза сквозь очки блестят. Лицо довольное. Хлопнет, бывало, в ладоши, скажет: «Ну, братцы, мне сегодня повезло; целый день с Ильичем общался. До чего же он человечный человек! Вы только послушайте, как он разговаривал со своими друзьями и врагами».
И начинает нам читать все, что написал днем. Он стоит бледный, с дрожащими руками и губами, а мы с Георгием Ивановичем сидим за столом, глаз с него не сводим, слушаем. Кончает читать, очки снимет, протрет стекла и спросит: «Ну как, братцы? Правда, здорово жил и работал Ильич, а?»
Он и ночью часто, забывая о сне, «общался» с Лениным. Было так, что до самого рассвета вел свои беседы с ним. После этого утром и весь день был тихим, задумчивым. Так Казакевич был связан с Лениным, так Ильич приковал его к себе, что он ни на час не разлучался с ним. Обедает с нами — и вдруг бросает вилку, бежит в свою комнату к бумагам, к синей тетради или достанет из кармана записную книжку и что-то впишет в нее...
Я с удовольствием слушаю простодушный точный рассказ Валентины Петровны, работницы, пенсионерки, добрейшей женщины. Вот человек — Казакевич. В молодости был отважным фронтовым разведчиком. После войны написал немало хороших книг о солдатах, офицерах, генералах. Оставил всюду, где жил, добрый след на земле и в сердцах людей.
330

Э. Г. Казакевич и сталевар Г. И. Герасимов.
Магнитогорск, 1958 г.
Я знал Казакевича в последние годы его жизни: часто встречался с ним на лесных тропах и дорогах Переделкина — дачного Подмосковья. Бывал по вечерам в его бревенчатом рабочем домике под березами. Заглядывал и он ко мне. Около трех недель мы колесили с ним по весенней прекрасной Норвегии. И там, в Норвегии, он оставил в сердцах многих людей добрый след.
Однажды, путешествуя по стране в автобусе, мы подъехали к паромной переправе через большой синий-синий фиорд, в котором отражались горы, укрытые блистающими снегами. Чуть позже нас прибыл еще один автобус с английскими туристами — исключительно женского пола. Это были, как мы позже выяснили, вдовы погибших норвежских моряков. Вышли за них замуж во время войны, в Англии, где в то время немало было беженцев из разных стран.
Пришел паром с того берега фиорда. Погрузили автобусы, и мы поплыли, вернее, заскользили по тихому прозрачному морскому заливу, глубоко врезавшемуся в край суровых гор, альпийских лугов и водопадов.
Пожилые англичанки, женщины из народа, знающие, почем фунт лиха, то ли растроганные красотой пейзажа, неправдоподобно яркого, как на переводной картинке,— заснеженные вершины гор и зеленые-презеленые горные луга, темные ущелья и солнечные поляны, черные скалы и серебряные потоки, падающие с огромной высоты, лыжные трассы и обнаженные до пояса загорелые лыжники, — то ли вспомнив своих погибших мужей, то ли оплакивая свою несчастную молодость, запели какую-то печальную английскую песню. Пели с чувством, хорошо. Привлекли к себе внимание всех пассажиров, сидящих на довольно просторной палубе парома.
Казакевич внимательно, с серьезным лицом слушал хор вдов. Когда женщины умолкли, он посмотрел на небольшую группу советских туристов и сдержанно вполголоса сказал:
— Братва, теперь давайте споем и мы. Запевать буду я. Помогайте все, кто умеет и не умеет петь. Внимание! Начинаю.
И он тихо, с пронзающей душу искренностью, с простотой кобзаря, исполняющего народную думу, запел: «Враги сожгли родную хату...»
Вдовы мгновенно притихли. Смотрели они не на всех поющих, а только на одного запевалу. Постепенно его голос становился громче, горше, печальнее. И когда Казакевич закончил песню словами: «И на груди его светилась медаль за город Будапешт», англичанки были потрясены. Они не понимали русского языка, но сердцем чуяли, что это великая
332
песня, песня неутешной печали. Чувствовали они и то, что этот русский, в роговых очках, в клетчатой фланелевой рубахе, пел и про них. И для них.
И мы, его товарищи, давно знавшие Казакевича и любившие его, тоже смотрели на него новыми глазами. Сегодня мы открыли еще одну тайну его человеческого обаяния...
Казакевич приехал в Магнитку для того, чтобы написать о ней рассказ, повесть, роман — что выйдет, на что хватит сил. Так почему же он, попав в Магнитку, вдруг принялся за «Синюю тетрадь», за работу давно задуманную, прочувствованную, трудную, медленно, тяжело продвигающуюся вперед? Я думаю, потому, что атмосфера в рабочей Магнитке, в столице трудовой доблести, оказалась самой идеальной для ленинской темы, для самого Казакевича. В Магнитке Казакевич окончательно додумал свою думу, ясно, до мелочей увидел и почувствовал Ильича во всей его глубине. Думаю, что дом Герасимовых, рабочая семья Герасимовых тоже сыграли немалую роль. Казакевич потянулся к Георгию Ивановичу потому, что увидел и почувствовал в нем тот тип рабочего, который высоко ценил и горячо любил В. И. Ленин. В Герасимове он еще почувствовал истинного первопроходчика Магнитки, простого великого рабочего, в устах которого слова о человеческом братстве звучат не простой фразой, а истиной нашей действительности. Живя рядом с таким человеком, под одной крышей с ним, обедая с ним за одним столом, постоянно с утра до ночи общаясь с ним, чуткий, восприимчивый, мудрый Казакевич впитывал в себя вольно и невольно, сознательно и бессознательно его взгляды на жизнь, его человеческие эмоции — все то, что ему так необходимо было для архитрудной, архисложной работы над «Синей тетрадью».
Думаю, что и А. А. Фадеев поселился в семье магнитогорского сталевара Захарова не только для того, чтобы поближе, крупным планом познакомиться с бытом современного рабочего. Ему важно было пожить у истоков нашей жизни — там, где рабочие люди ищут и добывают истину. Все мы умозрительно понимаем, что такое Магнитка и магнитогорец — человек горячего труда. Всем нам доступны идеи, заложенные в фундамент Магнитки, в основы нашего государства и общества. Но далеко не все мы, в том числе и писатели, знаем, в какие именно чувства облечены эти идеи. Одно от другого неотделимо, просто не существует. Каждая идея, для того, чтобы стать живой, действенной, достоянием чело-
333
века, должна соединиться с его чувством. Закон жизни! И о нем однажды в рецензии на книгу Рубакина хорошо напомнил Владимир Ильич. «Автор не догадывается... — писал он, — что без «человеческих эмоций» никогда не бывало, нет и быть не может человеческого искания истины».
Фадеев и Казакевич, искатели истины, правды жизни, это отлично знали. И потому тянулись к тем, кто наиболее глубоко чувствовал Магнитку.
Казакевич в доме Герасимова обдумал интересную статью о Магнитке, напечатанную в журнале «Новый мир». Вот что, в частности, он писал:
«Никакая грандиозная плавка, никакой огненный дождь, никакое восхищение высшей целесообразностью этого нагромождения цехов и труб, мудростью производственных процессов и их сложностью не заслонят от меня прекрасного лица горнового Дмитрия Карпето, чудесной хитроватой улыбки водопроводчика Петра Гомонкова, веселых, любознательных, жизнелюбивых глаз доменщика Георгия Герасимова».
Живя у Герасимовых, Казакевич писал и дневник, посылал друзьям много писем. Галина Осиповна Казакевич любезно предоставила мне возможность познакомиться с его перепиской и дневником. Я сделал несколько выписок, непосредственно относящихся к Магнитке, к Герасимовым. Вот они:
«Я знакомлюсь с жизнью Магнитки. Это город-чудо, им может гордиться наш рабочий класс и весь народ. Он стоил больших, чрезмерно больших жертв, но сделанное — огромно, надо увидеть все это собственными глазами, чтобы оценить по заслугам. Оценить и удивиться тому, как мало сделано литературой. Не одна она в этом виновата... Здесь это ощущается особенно сильно — видимо, из-за компактности строительной площадки, когда все знали всех и каждое достижение имело свое имя и адрес. В древних Афинах было тысяч сорок граждан, меньше, чем в Бердичеве, и все знали друг друга. Солон или Перикл, вероятно, знали всех афинян по именам. Когда история делается на таком малом плацдарме, она становится необычайно интимной (несмотря на ее величие) ...»
«Что же имеет значение? Хорошее настроение. Оно у меня есть, потому что я нахожусь в средоточии жизни, среди людей, которые работают, читают и думают. Я благословляю тот час, когда решил надолго уехать из столицы. Превратившись в путешественника, человеко-пытателя, рядового читателя газет, я чувствую подъем духа, более мне присущий, чем упадок его. Конечно, наилучший вариант соединения
334

Среди рабочих Чепельского завода.
Венгрия, 1954
литературы с жизнью — это начать все сначала, т. е. с полной неизвестности и работы рядовым человеком на заводе или в учреждении; испытать снова великое наслаждение растворения в толпе людей, идущих на работу или с работы. К сожалению, вернуть молодость, как это известно из многих источников, невозможно. И моя поездка, таким образом, паллиатив, но прекрасный».
«Здесь много хороших людей. Масштабы производственных процессов накладывают свой отпечаток на лучших из них. Я встречаюсь с ними, беседую — разумеется, ничего не записывая, — а возвращаясь домой, записываю все, что могу запомнить интересного. Думаю, что запоминаю все интересное, и только интересное. У меня уже толстая общая тетрадь с записанными в ней судьбами людей. Это верный метод работы; при нем пропадает только минимум. Лучше всего было бы опять-таки быть здесь, в Магнитке, в начале стройки и видеть все собственными глазами. Но надеюсь, что я, по крупицам, правда, собираю все самое существенное и так. Не буду обижаться на свой метод, как глупо было бы обижаться историческому романисту, пишущему, скажем, о Древнем Риме, если бы он получил возможность побеседовать по часу времени с Катоном-старшим, Доллабелой, Сапронием либо — на худой конец — с самым завалящим всадником или замухрышкой плебеем!..»
«...У меня хорошо. Я каждый божий день встречаюсь с одним-двумя интересными людьми, а в особенно удачный — с тремя. Кроме того, я присутствую на партийных активах и рабочих собраниях, и это тоже бывает интересно. Завтра исчезаю из гостиницы, поселяюсь у одного доменщика — он сдает мне комнату с полным пансионом. У него собственный домик с садом и «Победой». Мой новый адрес известен только первому секретарю горкома партии, начальнику доменного цеха и, естественно, моему хозяину. Я решился на это, потому что в гостинице я слишком на виду, и начинающие писатели начинают меня донимать, так же как разного рода жалобщики. А надо ведь работать».
«...Мой хозяин Георгий Иванович Герасимов и его жена Валентина Петровна — милейшие и гостеприимнейшие люди. Их домик состоит из четырех комнат, одна из которых столовая, другая — спальня, третья — местопребывание бабушки (хозяйкиной мамы) и племянника, студента здешнего горно-металлургического института, в четвертой живу я.
Мне здесь очень хорошо, и единственное, с чем мне приходится бороться, — это с преувеличенной заботливостью хо-
336
зяев о моем спокойствии, благоденствии и, главное, питании. Я с трудом добиваюсь возможности мало есть, объясняя, что это следствие не моей скромности, а необходимости. Хозяйка удивляется и страшно огорчается моим малоедением, тем более что готовит она отлично, но никак не верит моим искренним похвалам, так как ем я все-таки мало.
Моя тетрадь записей о Магнитке все пухнет. Я беседовал со множеством интереснейших людей, а также с людьми малоинтересными, но помнящими много интересного. В голове понемногу начинает формироваться неясный еще, мерцающий контур будущего произведения, или, вернее, части его, относящейся к Магнитке. Я тут разыскал людей, о которых никто не знал. Здесь оказался один оставшийся с 30-х годов американец и один итальянец. Я нашел начальника милиции 1930—1932 годов и т. д. Я провел два дня — сплошных — с начальником Магнитостроя Анкудиновым, пришедшим сюда в 1930 году простым десятником. Я имел беседу с местным попом отцом Иваном. Я посещаю партактивы и рабочие собрания и беседую с людьми разного рода и биографий. Я хочу ознакомиться со всеми сторонами здешней жизни, и мне это удается лучше, чем когда-либо раньше...»
«...На исходе первый тур моей магнитогорской командировки. Недельки через две мы увидимся в Москве, в нашем доме. Мне остается побеседовать с 10—15 человеками, после чего я могу подытожить мои сведения о Магнитке 1930—1933 годов и даже, пожалуй, начать писать. В Москве я тоже должен — в архивах и публичной библиотеке — порыться в материалах, а также встретиться кой с кем из проживающих там магнитогорцев. Затем я месяца полтора отдохну и поработаю либо поеду сюда снова на месяц-полтора, чтобы завершить отбор материалов для романа. Поглядим...»
«Эти дни, что я живу у Герасимовых, я порядочно поработал над повестью «Ленин в Разливе». Там найдено много интересного... Я ни с кем не встречаюсь, но это не значит, что мои знания о Магнитке не подвигаются вперед. Мой хозяин — Георгий Иванович — прибыл сюда в 1930 году, и каждый вечер мы с ним беседуем. Он рассказал мне уйму интересных фактов и подробностей...»
«...Собирать материалы можно до бесконечности — на это жизни не хватит. А надо приступать к писанию и пополнять свои знания по ходу дела — там, где их окажется недостаточно, зная точно, что именно тебе нужно узнать».
1974
Александр Шмаков
КАЗАКЕВИЧ НА УРАЛЕ
Приезды Казакевича в Челябинск и Магнитогорск были запоминающимся событием для литераторов Южного Урала. Эммануил Генрихович сразу же встретился с местными писателями, рассказал о своих творческих планах, надеясь на нашу дружескую помощь и поддержку, и не ошибся. Было сделано все, чтобы Казакевич плодотворно поработал на Урале и написал добротную книгу о его людях.
В Челябинске Э. Казакевич выступил перед радиослушателями, встретился с тракторостроителями и читателями библиотек, в Магнитогорске вел продолжительные и задушевные беседы с доменщиками и сталеварами, коксохимиками и прокатчиками. Разговор шел о жизни и труде, литературе и культурных запросах металлургов.
Так появился его очерк «В столице Черной Металлургии». В, нем поднимались проблемы, связанные с перспективами культурного строительства в городе, с развитием духовной жизни рабочего класса Магнитки.
Этот очерк показал, как глубоко вник писатель в историю города и строительство металлургического комбината, какими наблюдательными и зоркими глазами взглянул он на окружающую обстановку и жизнь рабочих людей.
Приезжая в Магнитогорск, он по-хозяйски обосновывался в гостиничном номере. На столе его были томики Ленина, множество книг по истории рабочего движения на Урале, о строительстве индустриального гиганта у горы Магнитной.
Я дважды встречался с писателем в этом городе. Мы бе-
338
седовали с ним вечерними часами о его новом произведении — романе «Новая земля».
— Это будет книга, — говорил тихим голосом Эммануил Генрихович, — не только о строителях Магнитки, но и о рабочем классе России, его духовном росте, его облике хозяина, создающего на земле все ценности и радости нашей жизни. Это будет произведение о нашей партии, которая, как заботливая мать, воспитала и подняла рабочего человека. Словом, размах гигантский, а воплощение пока в наметках и небольшой стопке исписанной бумаги...
Эммануил Генрихович внезапно оборвал фразу и обратился ко мне:
— А каковы ваши планы?
Я рассказал о работе над романом «Гарнизон в тайге» — из жизни бойцов и командиров Особой Дальневосточной Краснознаменной армии...
— Интереснейший край, а люди, люди какие! — говорил он. — Люблю я Дальний Восток, с ним у меня связаны самые лучшие воспоминания...
Тогда я узнал, как журналист и поэт Казакевич начал свой путь на дальневосточной земле. Он уехал туда в числе комсомольцев-энтузиастов первой пятилетки, стал газетчиком и литератором. Здесь у него вышли первые книги стихов и пьесы увидели свет рампы.
Казакевич очень тепло рассказывал о встречах с командармом ОКДВА Блюхером, с писателями края, бок о бок с которыми начиналась и его писательская судьба. А потом с большой заинтересованностью продолжал разговор о людях Магнитки, Урала, который пришелся ему по душе своей богатой историей и еще более красочной перспективой.
С большим вниманием к приезду Казакевича в Магнитогорск отнесся секретарь горкома партии Александр Константинович Соловков. Он взял как бы личное шефство над писателем и не только знакомил Эммануила Генриховича с интересными людьми металлургического комбината, но и сам, очень живой и эмоциональный собеседник, много рассказывал о Магнитке, о необычных людских судьбах. В частности, он подсказал писателю сюжет рассказа «Приезд отца в гости к сыну».
Секретарь горкома посоветовал Казакевичу пожить в семье металлурга, чтобы лучше познать быт рядового рабочего, и рекомендовал ему с этой целью первого горнового — ветерана Магнитки Георгия Ивановича Герасимова. Соловков приглашал писателя на интересные заседания и встречи, про-
339
водимые в горкоме партии, и делал все, чтобы Эммануил Генрихович глубже вник в жизнь людей «столицы Черной Металлургии».
Вскоре Казакевич перешел жить в дом гостеприимного Георгия Ивановича. В судьбе этого знатного доменщика как бы отразилась судьба целого поколения металлургов комбината. Рос индустриальный гигант, поднимались одна за другой его домны, росло и мастерство Герасимова, мужал его характер. Личность Георгия Ивановича давала материал для широкого обобщения и раздумий, помогала лучше увидеть образ рабочего человека.
Между доменщиком и писателем установились самая близкая дружба и товарищеские отношения.
Эммануил Генрихович приехал на Магнитку с неоконченной рукописью повести о Ленине. Это было его будущее произведение «Синяя тетрадь». Долгие беседы с Герасимовым в вечерние часы помогали Казакевичу глубже осмыслить задуманное, как бы яснее увидеть написанное. Здесь, в тихой комнатке доменщика, читались главы этой повести о Ленине, — Георгий Иванович был ее первым слушателем. Писатель словно выверял себя, особенно когда читал главу о приезде в Разлив Серго Орджоникидзе, с которым не раз встречался и разговаривал Герасимов.
Магнитогорские знакомства с людьми и впечатления ярко переданы в одном из лучших рассказов писателя «Приезд отца в гости к сыну». И кто знает, может быть, в образе Ивана Ермолаева, ставшего известным металлургом, старшим горновым Магнитки, есть черты характера Герасимова — его ухарская удаль и мужицкое упрямство, гордость комбинатом, любовь к труду, коллективу доменщиков.
Эммануил Генрихович принадлежал к талантливой плеяде советских писателей. Его творчество оставило глубокий след. Кроме известных книг о Великой Отечественной войне он создал историческую повесть «Синяя тетрадь», очерк «Столица Черной Металлургии», рассказ «Приезд отца в гости к сыну» и большое полотно — незавершенный роман «Новая земля», над которым писатель работал в Магнитогорске.
Я узнал от Эммануила Генриховича, что он написал сценарий о Моцарте, но почему-то тогда не придал значения сказанному. Моцарт, его мир и духовные интересы казались такими далекими от того, чем жил в Магнитогорске Казакевич, что соединить их вместе было почти невозможно.
Руководитель Магнитогорской хоровой капеллы Эйдинов однажды рассказывал о посещении Казакевичем музыкального
340

Э. Г. Казакевич и художник Ю. М. Непринцев в мастерской
скульптора Ж. Кишфалуди-Штробля. Будапешт, 1954 г.
училища. Писатель встретился с учащимися и долго беседовал с ними о музыке и литературе. Все были удивлены знанием Казакевичем истории музыки, тончайшим пониманием Моцарта. Эммануил Генрихович хорошо знал творчество композитора, говорил о нем свободно и увлеченно, словно сам был профессиональным музыкантом.
После беседы с учащимися писатель еще почти три часа с вдохновением говорил о Моцарте с преподавателями, рассказывал им о своем сценарии о великом композиторе. В подтверждение своих мыслей он иногда даже напевал моцартовские мелодии. Смеясь, признавался, что едва ли сценарий будет опубликован, так как в произведении этом допущено много «вольности».
Автор повести «Синяя тетрадь» своим последним и самым значительным произведением показал, сколь ответственно он подходит к освещению сложных событий жизни.
Образ Ленина и рядом Моцарт. Только подлинному таланту присущ подобный полет воображения. Казалось, ничего общего не было в выборе темы, а между тем Ленин и Моцарт были рядом в душе писателя и волновали его своими великими судьбами.
Казакевич был по натуре жизнелюбивым и энергичным, щедрым на дружбу с людьми. Письма его к уральским писателям и товарищам — лучшее тому доказательство. Ему всегда хотелось оказывать творческую помощь тем, в кого он верил и знал, что участие его окупится пользой для литературы. Отзывчивый, он вместе с тем был требовательным и взыскательным, строгим судьей без скидок на дружбу. Дело литературы для него являлось самой жизнью, и кривить душой перед нею Казакевич не мог еще и потому, что сам был суровым и требовательным к себе, к своему творчеству и работе.
Эммануил Генрихович торопился дописать задуманное. Кроме романа «Новая земля», писатель одновременно работал над повестью о героической борьбе одесского подполья против французских интервентов в 1919 году. Это была «Иностранная коллегия», оставшаяся в набросках. А впереди еще большой и смелый творческий замысел — второе произведение о Ленине, охватывающее предгрозовые события 1917 года, названное «Тихие дни Октября».
Казакевич только расправлял крылья своего могучего таланта. Он входил смело и энергично в историко-революционную тему. Но его работу прервала преждевременная смерть.
1977
М.Галлай
ОСТАВАЛСЯ САМИМ СОБОЙ
Случай познакомиться с Эммануилом Генриховичем мне представлялся не раз: у нас имелись общие знакомые, хотя я в те годы (50-е) был от так называемых «литературных кругов» достаточно далек. Итак, возможность познакомиться была. Но я не стремился к этому знакомству. Более того — побаивался его... Дело в том, что книги Казакевича — начиная с неповторимой «Звезды» — я очень любил (как люблю и по сей день). И мне по общеизвестной читательской наивности казалось, что автор таких книг сам обязан быть немножко Травкиным или Лубенцовым или, во всяком случае, как-то похожим на них. В то же время случайные контакты (случайные, так как, повторяю, в те годы я вращался на орбитах, от литературы весьма далеких) с одним-двумя литераторами, по своему человеческому облику очень мало похожими на созданных ими персонажей, неожиданно оставили у меня саднящие зарубки в душе. Говорю «неожиданно», так как, вообще говоря, сентиментальностью характера не отличаюсь. Но вот тут почему-то оказался чувствителен. А столкнуться с подобного рода «ножницами» между героями Казакевича и его собственной личностью мне особенно не хотелось — очень уж много света излучали эти герои. Вот почему я не рвался к личному знакомству с ним, — хотя, конечно, в таком, более или менее связном, виде я свои опасения осознал и сформулировал
343
для себя позднее, тогда же просто чувствовал: не тянет меня знакомиться с Казакевичем — и все тут!
Забегая несколько вперед, хочу сказать, что, узнав Эммануила Генриховича, я увидел, насколько он оказался (по крайней мере в моих глазах) одновременно похож и непохож на своих героев. Похож своей человечностью, органической демократичностью (чувства превосходства над так называемыми «простыми людьми» в нем не было ни на копейку), развитым чувством долга. Непохож ироничностью ума, прорывающимся иногда скепсисом, а иногда даже душевной усталостью, несравненно большим калибром ума. Условно — тут иначе, как условно, не скажешь — я бы уподобил Э. Г. повзрослевшему, набравшемуся всякого, в том числе и горького, жизненного опыта, много поучившемуся и почитавшему, несколько приуставшему от жизни Лу-бенцову. Но, повторяю, это, конечно, лишь очень условно...
Познакомились мы в конце 50-х годов. И как-то сразу возникла у меня глубокая симпатия к Э. Г. Многое в нем было непохоже на профессионального литератора, да и вообще на «чистого» гуманитария. Взять хотя бы такую, в общем-то, частность, как интерес к технике. Казакевич расспрашивал меня об авиации так, что я, проработавший в ней всю жизнь, не всегда мог, что называется, с хода ответить на его вопросы. Он легко переходил с деталей (тут он бывал иногда до въедливости дотошен, но и я лицом в грязь, в общем, не ударял) на такие далекие перспективы, такие широкие обобщения, о которых я раньше и не задумывался. Однажды, помню, поразил меня вопросом о том, как, по моему мнению, влияет летная профессия на личные нравственные свойства человека. Сейчас очень близкая к этому тема — о профессиональном и нравственном облике ученого — часто фигурирует на страницах «Литературной газеты», но в те годы сама постановка вопроса о существовании подобной связи была, по крайней мере для меня, в новинку... Или — в разговоре о художнике Нисском, любящем привносить в пейзаж нашей средней полосы элементы созданного человеком — автомашины на шоссе, линии электропередачи и т. д., — Э. Г. вдруг спросил меня, как я считаю: самолет в небе украшает или портит его? Имея в виду, конечно, не только самолет и не только небо...
Эрудиция у него была не просто обширная — как, знаете, бывает иногда у людей эрудиция этакого, я бы сказал, «складского» характера: знает человек про очень многое, ле-
344
жат эти знания у него в голове, как на складе, а если нужно, он вынет любую «единицу хранения», покажет ее восхищенному собеседнику и спрячет обратно. Нет, у Эммануила Генриховича эрудиция была совсем другого толка — факты не лежали у него тихо и мирно в памяти, а как бы находились в непрерывной переработке, сталкивались между собой и с другими, вновь поступающими сведениями и в таком горячем, бурлящем виде (хотя и в весьма сдержанной упаковке — тихий голос, неторопливая речь и т. д.) выплескивались на собеседника.
Я предполагаю, что вряд ли ему были чужды так называемые «узкоцеховые» литературные интересы: кто что о ком сказал, кого похвалили, кого обругали, что пропустили, что зарубили и так далее. Предполагаю так потому, что не было в Э. Г. черт снобизма (типа «Я выше этого...»), что интересовался он всем, происходящим вокруг него. Но, конечно, в этой области я для него был, что называется, не собеседник... Зато как много он знал и сколь многим интересовался в других областях! Был, в частности, большим знатоком истории второй мировой войны — и опять-таки не только в том, что касалось фактов (хотя и по части фактов удивлял своей эрудицией и памятью), но и в освещении, понимании, толковании этих фактов.
Так, однажды он вдруг заговорил о взаимовлиянии боевых событий на разных фронтах — особенно о влиянии событий на нашем Восточном фронте на ход войны на Западе. Сейчас эта тема обрела вторую молодость под влиянием стремления некоторых западных историков постфактум «подкорректировать» факты. В ходе разговора я тогда, среди прочего, высказался в том смысле, что не понимаю решения нашего командования срочно прийти на помощь союзникам, столкнувшимся в последнюю военную зиму с мощным контрнаступлением немцев в Арденнах.
Верность союзническому долгу я воспринимал как аргумент недостаточно убедительный и во всяком случае не оправдывающий многих лишних потерь, неизбежных в ходе наступления, начатого ранее запланированного времени и, следовательно, не в должной мере подготовленного. Тем более с учетом еще очень свежей в нашей памяти истории бесконечных проволочек с открытием союзниками Второго фронта.
Эммануил Генрихович выслушал меня (он вообще обладал не часто встречающимся свойством: умением выслушать собеседника не перебивая, до конца) и убедительно, аргументированно по пунктам опроверг мою позицию.
345
...Когда я, неожиданно для самого себя, в возрасте, который принято называть вполне зрелым, вдруг взялся за перо и написал небольшую книжку воспоминаний-размышлений об увиденном за годы работы летчиком-испытателем, то решил последовать советам общих знакомых и показать рукопись Казакевичу. Так и сделал — и был удивлен и даже несколько задет его почти нескрываемо прохладной реакцией: Эммануил Генрихович сказал, что сейчас очень загружен, вряд ли сумеет прочитать рукопись быстро, просил позвонить недельки через три... Что ж, через три так через три — подождем!.. Но уже назавтра за полночь меня разбудил телефонный звонок — звонил Казакевич, причем заговорил он настолько в другой, по сравнению с нашим предыдущим разговором, тональности, что у меня в голове, каюсь, шевельнулось даже легкое подозрение: не принял ли мой собеседник некоторую дозу «градусов».
Но менее чем через сутки после этого ночного разговора мы продолжили его уже без посредства телефона, и я мог убедиться, что отношение Э. Г. к моей рукописи — устойчиво положительное.
Интересно, что — в отличие от многих рецензентов и редакторов — он не стал цепляться к мелочам (типа: здесь у вас длинная фраза, а в этом абзаце дважды повторяется слово «который»), а постарался увидеть в рукописи основное. И сам в связи с этим заметил, что в некоторых местах хотел было сделать редакторские замечания, но решил воздержаться от них, чтобы не нарушать индивидуальности речи автора. Зато единственное принципиальное замечание, которое он высказал, — избыточность фактов в ущерб размышлениям — было очень веско, и в дальнейшем я старался всегда иметь его в виду.
Но одними советами Э. Г. не ограничился. Надо сказать, что, кроме всего прочего, он был, что называется, «деловым человеком» (чему, вообще говоря, удивляться не приходится, если вспомнить всю его биографию, не только литературную, но и военную). А посему, в принципе одобрив рукопись, он тут же предпринял вполне деловые шаги к ее дальнейшему продвижению — рекомендовал своему другу А. Т. Твардовскому для публикации в «Новом мире».
Зачем я рассказываю сейчас обо всем этом, казалось бы, относящемся больше к моей собственной биографии, чем к биографии Казакевича?
Да потому, что, как мне представляется, тут проявилось многое, очень для него характерное: и бережное, уважитель-
346
ное отношение к литературной индивидуальности начинающего автора, которого по существу и литератором-то еще нельзя назвать, и стремление к тому, чтобы за деревьями увидеть лес, и та же деловитость... И еще одно, наверное, не последнее для характеристики Э. Г. Когда я, расхрабрившись по ходу этого, во всех отношениях приятного для меня, разговора, заметил:
— А знаете, Эммануил Генрихович, мне ведь поначалу, когда я вам принес рукопись, показалось, что вы этим не очень-то довольны, даже вроде бы раздосадованы? — он ответил:
— Был недоволен. Верно. Знаете, сейчас столько графоманов развелось: все пишут, кому не лень... Вот я и подумал: хороший человек, а ведь придется ему выкладывать, чтобы бросал это дело, не надеялся... И раскрывал вашу рукопись с таким чувством, будто лекарство нужно принять...
Да, говорить неприятные вещи людям в лицо он умел — это общеизвестно. Но, оказывается, поступать так бывало для него не всегда эмоционально просто. Однако просто там или не просто, но кривить — пусть из самых гуманных побуждений — душой, когда дело шло о литературе, он не мог! Назвать в подобной ситуации черное белым или белое черным противоречило бы его прочно установившимся представлениям о порядочности, с одной стороны, и уважению к литературному делу, с другой. И в этом тоже был Казакевич.
И последнее — о манере держаться. Я не раз встречался с людьми, участвовавшими в войне (в том числе с такими, кто повоевал действительно здорово), а потом на всю жизнь усвоившими стиль поведения этакого лихого рубаки, которому милее всего штыковая атака, а сдержанная, спокойная, интеллигентная манера общения с окружающими решительно не по нутру. Все, знавшие Казакевича, помнят, что ни малейшего намека на такую внешнюю лихость в нем не было, хотя, честное слово, у него-то, провоевавшего во фронтовой разведке и не раз ходившего в тыл противника за «языком», имелись все основания гордиться своей боевой биографией.
Нет, всегда — и на людях, и в разговоре с глазу на глаз — он оставался тем, кем был в действительности: скромным, умным, проницательным, глубоко интеллигентным человеком, другом своих друзей, врагом своих врагов — благо и те и другие у него имелись.
347
...Перечитав написанное, я обнаружил в сделанных мною набросках портрета Э. Г. некоторый перекос: очень уж он получился у меня «положительный». А ведь на самом деле он был человеком отнюдь не розово-благостным. Любил созорничать. Бывал довольно хлесток в выражениях. И вообще принадлежал к категории людей, довольно мало заботящихся о соблюдении так называемых внешних приличий. Но все это — повторяю — не выходя из органически свойственной ему ровной, внешне спокойной манеры поведения. Драгоценным умением оставаться всегда самим собой он владел вполне.
Таким он представлялся мне и таким остался в моей памяти.
1975
Вл. Лидин
В ФИОРДАХ
Богатство характера большого регистра заключено всегда в том, что человек такого характера не только влечет к себе других, но и как-то органически находит ключ к любой человеческой душе. В каюте турбоэлектрохода «Балтика», на улицах и в портах Копенгагена и Бергена, впервые близко узнав Эммануила Генриховича Казакевича, я понял, что влечет к нему людей и почему именно.
На одной из набережных Копенгагена есть большой сумрачный дом, на уровне второго этажа которого висит мемориальная доска в память жившего в этом доме великого сказочника Андерсена. Бродя с Казакевичем по улицам Копенгагена, мы пришли к этому дому. В канале перед ним тихо покачивались мачты шхун, и пахло свежестью морской воды, смолой и канатами.
— Невеселый дом, — сказал я, глядя на печальное жилище Андерсена.
— Это нам с вами он кажется невеселым, — ответил Казакевич. — А у сказочника свое мерило вещей. Может быть, именно в этом доме он написал «Принцессу на горошине». Писательский мир всегда необычен и в то же время чрезвычайно прост. То, что совсем незаметно проходит мимо обыкновенного человека, задевает писателя. Сознайтесь, у вас уже чешутся руки написать новеллу «Дом Андерсена».
349
— После вашего «Дома на площади» ни о каких домах писать не буду, — сказал я.
Казакевич вдруг задумался:
— А знаете, все-таки необыкновенная вещь история... Кажется, только вчера была битва на Волге, а сегодня мы с вами разгуливаем в качестве туристов по Копенгагену. А еще принято говорить, что история это долгое дело.
Меня, да и не меня одного, поразило, как Казакевич быстро, как говорится, «ориентируется на местности». Подержав минуту-другую в руке примитивный план города, какой обычно раздают туристам, он твердо и уверенно вел за собой в нужном направлении, и всегда безошибочно. Я, наверное, всю жизнь буду благодарен Казакевичу, что в Осло, после просмотра какого-то фильма на отдаленной улице, он вдруг повел за собой целую группу по неведомым уличкам и вывел к городскому кладбищу...
Белой ночью, в полном безмолвии и пустынности уже закрытого на ночь кладбища, мы прошли от одной великой могилы к другой, от Ибсена к Бьернстьерне Бьернсону и неутомимому полярному исследователю Сведрупу. Без Казакевича я никогда, наверно, и не попал бы на это кладбище. На палубе норвежского парохода русский хор огласил северный фиорд солдатскими песнями и просто русскими народными песнями, и запевалой, темпераментным, лихим, изобретательным, был Казакевич. Почтенные норвежцы-путешественники поглядывали на него с недоумением, смешанным, однако, с восхищением: он задавал им загадку незнакомой, но чем-то необычайно пленительной души.
Исхаживая из конца в конец Стродёт, одну из самых нарядных улиц Копенгагена, мы допоздна говорили с Казакевичем о литературе. Наконец, остановившись, мы почти одновременно сказали друг другу:
— Неужели даже здесь, в Копенгагене, мы не можем поговорить о чем-нибудь другом?
Но после этого мы продолжили разговор все-таки о литературе. Казакевич был писателем в истинном смысле, болел делами литературы, и не так часто можно встретить писателя, который столь страстно и столь одержимо хотел бы все свои силы отдать именно литературе, во имя необходимости выразить и высказать все, что является его духом и его делом...
Казакевич, как и некоторые другие писатели, нашел свою тему на войне. Он познавал войну не умозрительно, а на ощупь, она была фактурой его книг, жестких и
350

Э. Г. Казакевич и В. Г. Лидин.
Теплоход «Балтика». 1960 г.
лирических, обнажающих естество человека и вместе с тем призывающих к тонкому пониманию этого естества и к милосердию: он был писателем-гуманистом в высоком смысле этого слова. Его интересовал не только дух человека, но и социальные условия его существования — все же ближе всего к ремеслу писателя стоит социолог.
В Бергене мы вместе с Казакевичем поехали на квартиру одного местного учителя, пропагандиста Общества дружбы Норвегии с нашей страной, и Казакевич быстро влюбил в себя и этого учителя, и его семью. Он умел влюблять в себя, не буду скрывать — влюбился в него и я. С ним было легко, темы бесед казались неисчерпаемыми, знания его были всесторонни, он был добротно энциклопедичен, именно добротно, а не поверхностно; суров в своей строгой принципиальности, но и глубоко сердечен, человеколюбив, и в случае необходимости достойный человек мог рассчитывать на страстное заступничество Казакевича. Своим острым словцом, умением образно, иногда даже несколько скандализуя умеренных людей, сказать что-либо Казакевич напоминал другого острослова, тоже на этот счет необычайно одаренного, — Исаака Эммануиловича Бабеля. Я часто вспоминал Бабеля, слушая едкую, образную речь Казакевича.
К Казакевичу, как мне кажется, тянулось множество людей, влекомых к нему не только его писательским талантом, но и талантом человеческим. Соединение этих качеств встречается редко, в Казакевиче они соединялись. Если задуматься над его писательской жизнью, то она вызывает горчайшее чувство своей кратковременностью. Мы нередко говорим «преждевременно», справедливо полагая, что человек обычно недовершает то, что мог бы сделать. Но о Казакевиче следует сказать иначе: он был лишь на подступе к новым открытиям, его книги лишь намечали тему, к которой он шел, и это была бы большая литература по глубокому осмыслению жизни, философии и тем гуманистическим началам, какие определяют авторов капитальных книг, а не книг проходных с их неверным успехом...
В одном из маленьких и удивительных городков Норвегии, Олесунне, в семь часов вечера, самую оживленную пору в больших городах, нас встретило безлюдье, словно город вымер; на пустынных улицах не было ни стариков, ни даже хотя бы одной влюбленной парочки. Только на пристань пришло несколько десятков жителей встречать пароход, как это описывает не в одном из своих романов
352

С норвежскими детьми. Норвегия. Лето 1960 г.
Гамсун. На пустых прелестных аллеях городского парка тоже не было ни одного человека, пламенели в одиночестве канны, и большие черные скворцы сновали по газонам.
— Необыкновенно, — сказал Казакевич, когда мы сели на скамейку возле памятника неведомому нам историку, уроженцу этого городка, — никакой жизни вокруг, только одни скворцы. Просто как кадр из фильма.
Мы прожили нашу жизнь в бурях, особенно он, и нам было странно, что в мире возможна такая невстревоженная тишина. Казакевич думал о своем:
— Хорошо бы прожить в этом городе три года и написать три романа, один за другим.
Я мысленно усомнился, где в этом городе искать темы, но Казакевич словно понял, о чем я подумал.
— У меня все три романа в голове, — сказал он. — Кроме того, я написал бы здесь книгу рассказов. Я жил бы совсем тихо, утром заходил бы вот в то кафе позавтракать, а потом возвращался бы писать. Ходил бы и на пристань встречать пароходы.
Впоследствии я узнал, что он действительно писал два романа одновременно, и, может быть, нужны были лишь тишина и одиночество, чтобы выполнить все положенное для себя. В Олесунне. с его тишиной и безлюдьем, Казакевич ощутил себя как в рабочей комнате.
Позднее, когда мы снова шли фиордами и чайки летали над серебряными в белой ночи водами и всхлипывали над нашим пароходом, Казакевич ушел на корму и о чем-то глубоко задумался в плетеном кресле.
— Наверно, чайки так же летали над судами викингов, — сказал он. — А уж кричат они несомненно так же, как кричали тогда.
Потом он достал записную книжку и записал в ней что-то; вероятно, его путевые записки сохранились, — может быть, в них есть и о чайках, кричащих так же, как и во времена викингов. Он всю дорогу исписывал целые страницы путевого дневника. Я этого не умею, довольствуясь только короткими записями.
— Нет, я описываю все подряд,— сказал он.— А то останется после меня нечто вроде: «Ночь. Приход В. Разговор. Чайки» — или что-нибудь в этом духе.
Моей шутки на этот счет он не принял, ответил несколько резко, потом сказал миролюбиво:
— Давайте привыкать друг к другу.
Что касается меня, то я быстро привык к Казакевичу,
354
и не только привык. Вернувшись из совместной с ним поездки, я перечел почти все его книги, заново открыл для себя Казакевича, по-новому ощутил его талант и радовался, что судьба, хотя бы ненадолго, близко свела меня с ним.
Мы условились по возвращении встречаться, но мы не встречались. Я узнал, что, вернувшись, Казакевич тяжело заболел, приступы болезни были у него и в поездке; потом я узнал, что он перенес тяжелую операцию. А потом я снова встретил его, необычайно доброго, оживленного и полного планов. Мы сердечно обнялись в одной из зал Центрального Дома литераторов, затем Казакевич уехал в Италию... Но все это был только счет времени и оттяжка времени, а дальше все навалилось сразу, и больше я уже не видел Казакевича. Я знал, что он умирает, и большей несправедливости не представлял себе, не представлял себе и бездейственным этого жизнелюбивого, жизнедеятельного и поистине, по украинскому слову, «моторного» человека.
Однако мы узнали о его конце и увидели Казакевича бездейственным. Но и того, что сделал он за свою короткую жизнь, достаточно, чтобы остаться в литературе великих лет, когда создавался новый человек, когда в испытаниях войны проверялся его дух, и чуткий и умный писатель запечатлел это. Мы называем жизнь писателя «большой» не по тому, сколько писатель прожил на свете. Казакевич прожил большую жизнь, как и положено большому писателю, и те, кто знал Казакевича, могут представить его себе только в действии, и никакие годы не ослабят этого действия. Время не затуманит его черты, а только прояснит их; это случается не со всяким писателем.
— Помните дом Андерсена в Копенгагене? — спросил меня Казакевич в нашу последнюю с ним встречу.
— Как же, — ответил я. — Недавно я даже перечел «Принцессу на горошине».
— Вот видите, — сказал он удовлетворенно. — Значит, все-таки я был прав, свои лучшие сказки Андерсен написал именно в этом доме.
Может быть, он хотел сказать этим, что чем беднее вокруг него, чем меньше отвлекает от внутренней цели, тем богаче художник.
1963
Николай Чуковский
ТАЛАНТ И СЕРДЦЕ ДРУГА
Вскоре после войны я прочитал в журнале повесть неведомого мне писателя Эм. Казакевича. Повесть называлась «Звезда». Она потрясла меня. Я видел войну, я прочел много прекрасных книг о войне, но такой сурово-лирической, сдержанно-нежной книги я еще не встречал. Мне показалось, что она построена музыкально, как песня.
Через несколько дней в Союзе писателей состоялось обсуждение «Звезды», и я впервые увидел ее автора. Он сидел у трибуны, еще недавний офицер-разведчик, и внимательно слушал, как выступавшие хвалили его повесть — одни безоговорочно, другие с оговорками. Потом ему предоставили слово, и в коротенькой речи его прозвучало удивление, что труд его так понравился.
— Но если вам нравится, я еще много для вас напишу! — закончил он.
Он мог дать такое щедрое обещание, потому что знал, как богата его душа. Война была для него университетом, из которого он вынес удивительное знание людей и любовь к ним, а это — подлинное богатство для писателя. И он сдержал свое слово: за несколько лет он написал «Двое в степи», «Сердце друга», «Весна на Одере», «Дом на площади» — великолепные вещи, темпераментные, умные, в которых дышит дух истории, народной судьбы.
В эти годы я с ним сблизился. Мы оба жили за городом,
356

Кржижановский читает Э. Г. Казакевичу
свои сонеты. Москва, 1951
недалеко друг от друга, и часто бродили вместе по лесу. Как-то я сказал ему, что Отечественная война — его главная тема.
— Нет, — ответил он. — Неверно. Моя главная тема — Ленин.
Тогда он не написал еще о Ленине ни строчки. И не скоро он приступил к этой великой теме. Но готовился к ней всегда — долгие-долгие годы.
Он любил Ленина, восхищался силой ленинской мысли, изучал Ленина и мерил Лениным все, что совершалось вокруг.
Изобразить Ленина в художественном произведении — задача ответственная и трудная. Казакевич понимал это лучше, чем кто-либо. Решить такую задачу мог только большой художник, обладающий тончайшим художественным тактом, и Казакевич решил ее в своей повести «Синяя тетрадь».
Под рукой художника все оживало, как по волшебству, — и озеро, и дождь, и солнце, и шалаш, построенный косарями, и те немногие, очень разные люди, с которыми сталкивался Ленин в то время. Несколько слов, несколько штрихов — и каждый человек, изображенный предельно экономно, встает перед читателем со своим особым душевным миром. И над всем этим Ленин — думающий, страстный, добрый и непримиримый...
К повести «Синяя тетрадь» Казакевич относился как к первой попытке, как к началу целой серии повестей и рассказов о Ленине. Смертельная болезнь, более мучительная, чем любая пытка, уже разрушала его тело, но ум его был светел и деятелен, как прежде. Он успел написать о Ленине еще одну вещь — рассказ «Враги». Рассказ этот был напечатан в «Известиях», и читатели газеты, несомненно, запомнили его.
Работая над повестями и рассказами о Ленине, Казакевич продолжал думать и писать о нашей сегодняшней жизни, обо всем том, что видел вокруг себя. Он был писатель современный в полном значении этого слова, и все, что совершалось в нашем обществе, глубочайшим образом волновало его. Пока у него были силы, он много ездил по стране. Он задумал большой роман о жизни своего поколения. Но успел он написать только два рассказа — «При свете дня» и «Приезд отца в гости к сыну».
Эти два рассказа превосходны. Оба они посвящены основному вопросу морали: как должен вести себя человек, чтобы быть правым перед людьми и своей совестью. Оба они
358
сотканы из правдивых, точно найденных деталей, написаны темпераментно, с той страстной жаждой победы добра и справедливости, которая присуща была Казакевичу и в жизни.
В жизни он был отличный, верный товарищ, склонный преувеличивать, а не преуменьшать достоинства людей, встречавшихся ему на пути. Он был деятельно доброжелателен и очень скромен. Он очень любил революцию, потому что очень любил правду, и всегда объединял эти два понятия. Он был твердо убежден, что никакая неправда не может быть полезна революции.
— Правда всегда революционна!
Он был образованный, начитанный человек, не пропускавший ни одной книги по философии, по истории партии, по военной истории, по экономике. Художественную литературу, и русскую и иностранную, знал он отлично и любил самозабвенно.
— У Хемингуэя и Ремарка есть чему поучиться, — сказал он мне однажды, — но я люблю русскую литературную традицию и буду ей верен.
Он умирал мучительно, изнемогал от страданий. Но едва боль отпускала его, он снова диктовал продолжение своего романа. Он знал, что умирает. За несколько дней до смерти он сказал мне шепотом:
— Они думают, я жить хочу, а я роман кончить хочу! Этот роман кончить ему не пришлось. Но все созданное им за неполных два десятилетия работы в русской литературе так значительно, так самобытно, полно такой любовью к истине, что останется навсегда.
1963
И. Э. Южный-Горенюк
«ИНОСТРАННАЯ КОЛЛЕГИЯ»
В феврале 1958 года меня и мою жену попросили встретиться с писателем Эммануилом Генриховичем Казакевичем, которого интересовали события в Одессе в период интервенции Антанты 1918—1919 гг.
Я и моя жена — члены КПСС с 1917 года, оба активно участвовали в подполье этого периода. Я был членом ревкома, руководил контрразведкой при Одесском областкоме КП(б)У.
В непринужденной обстановке мы беседовали с Эммануилом Генриховичем и его женой Галиной Осиповной. Мы поняли, что внимание Эммануила Генриховича привлекла Жанна Лябурб — героическая дочь французского народа, которая, по словам В. И. Ленина, «поехала работать в коммунистическом духе среди французских рабочих и солдат и была расстреляна в Одессе».
Эммануил Генрихович подтвердил, что хочет написать повесть под названием «Жанна Лябурб». По-видимому, замысел написать эту повесть возник давно. Материал, сырье для литературного произведения, добывала Галина Осиповна.
Благодаря специфике моей подпольной работы я знал о многих активных участниках подполья, был осведомлен об их роли и подпольной деятельности. Но по условиям
360
конспирации встречался в тот момент далеко не со всеми, познакомился после выхода из подполья.
Многие участники подполья преждевременно закончили свой жизненный путь. Они унесли в безвестные могилы то, что сохраняла их память. Теперь уже никакие документы и архивные материалы не расскажут того, чего не рассказали эти товарищи.
В условиях подполья не всегда записывались важнейшие решения областкома, ревкома и конференций. Некоторые документы были так надежно спрятаны, что не обнаружены до сего времени, многие были уничтожены в дни многократных смен властей. Далеко не полон фонд газет и листовок, издававшихся подпольно. Донесения и сводки областкома и партийной контрразведки в вышестоящие инстанции не все обнаружены.
Все это понимали Эммануил Генрихович и Галина Осиповна. Поэтому они пытливо, с «пристрастием» расспрашивали о деятельности большевистского подполья, о Жанне Лябурб, о руководителях областкома, ревкома, «иностранной коллегии» и рядовых подпольщиках. Мы с женой высказали мнение, что Галина Осиповна настолько кропотливо поработала в архивах и библиотеках, что, пожалуй, они знают больше, чем мы можем рассказать. Они знают события в целом, исторические факты, исторические лица, а мы рассказываем эпизоды, даже не представляющие никакого интереса. Эммануил Генрихович ответил, что его как раз интересует то, о чем ни в архивных документах, ни в исторических трудах, ни в литературных произведениях не упоминается.
Его интересует психология подпольщиков, повседневно подвергавшихся смертельной опасности, интересует, что их воодушевляло, питало веру в победу. Почему они не впали в уныние, не посчитали погибшими все завоевания революции, когда увидели войска иностранных интервентов, вооруженные первоклассной военной техникой? Не испугались, не спасовали при виде марширующих воинских частей Добровольческой армии, сплошь состоявших из офицеров бывшей царской армии, хорошо знавших военное дело и прекрасно владевших оружием? Почему интервенты Антанты были вынуждены убрать свои войска, почему бежали из Одессы белогвардейские полки, польские легионеры и другие, почему они не вступили в бой с полурегулярными частями Красной Армии, предводимыми атаманом Гри-
361
горьевым, лишь недавно перешедшим на сторону советской власти?
Почему городская дума, которой командующий войсками интервентов генерал Д'Ансельм передал власть, тут же уступила ее вышедшему из подполья Совету рабочих депутатов?
Участники подполья могут помочь ответить на эти и многие другие вопросы. Эммануил Генрихович желал встретиться с возможно большим количеством людей и просил нашего содействия.
Наша беседа продолжалась около четырех часов. В заключение Эммануил Генрихович сказал, что узнал много нового, что ему необходимо хорошо все продумать и уточнить свой замысел.
Его внимание привлекла «Елена» (Софья Ивановна Соколовская), секретарь подпольного областкома КП(б)У, представлявшая областком в «иностранной коллегии», ведавшая изданием и распространением подпольной литературы. По его словам, в ней он увидел героиню, сыгравшую выдающуюся роль.
Он сказал, что сможет приступить к работе над этой темой лишь во втором полугодии, и просил подготовить тех участников подполья, с которыми ему будет полезно побеседовать.
На этом мы распрощались с Эммануилом Генриховичем и Галиной Осиповной.
Эммануил Генрихович позвонил мне примерно через год после первой встречи. Он сказал, что решил написать роман под заглавием «Иностранная коллегия», в котором отразит полностью все героическое подполье Одессы. Я ответил, что в конце 1958 года в Одессе издана книга под названием «Иностранная коллегия», автор В. Г, Коновалов, полунаучная, полубеллетристическая. Еще в 1952 году в Киеве вышел роман Ю. Смолича «Рассвет над морем», который переведен на русский язык и издан большим тиражом в Москве. В нем, по убеждению моему и других участников событий, героическое подполье и интервенция Антанты отражены как в кривом зеркале.
Эммануил Генрихович сказал: «То, что в одном случае совпадает название, а в другом — тема, меня не смущает. Я напишу роман под названием «Иностранная коллегия», но по-своему, это не будет повторением Коновалова и ничего общего со Смоличем. Я напишу правдивый исторический роман, отнюдь не описание авантюрных похожде-
362
ний, не детектив». Он добавил, что сейчас работает над другим романом, у него несколько замыслов, которые он разрабатывает, но к роману «Иностранная коллегия» его мысли постоянно возвращаются, эта тема его увлекла и приковала, этот роман он обязательно должен написать, не может не написать.
Меня он просил готовить людей для встреч с ним. Я обещал сделать все от меня зависящее. Меня также привлекала перспектива содействовать в написании такого романа.
5 мая 1959 года меня положили в больницу. Отвели в комнату при приемном покое, указали кровать, сказали, что вторая уже занята. Я положил свой узелок и пошел погулять.
Когда я возвратился, увидел восседавшего на второй кровати... Эммануила Генриховича!
Мы очень обрадовались столь неожиданной встрече в таких необычных условиях, долго беседовали, и, конечно, не столько о болезнях, которые привели нас в больницу.
Пока мы разговаривали, я всматривался в Эммануила Генриховича. Внешне он мало изменился со времени первого знакомства. Но был менее оживлен, менее энергичен, что-то его угнетало. В процессе разговора я пришел к выводу, что отчасти это объясняется непонятной болезнью. В основном же сказались неприятности, связанные с литературной деятельностью. В то время ему не удавалось «продвинуть» в печать повесть, посвященную пребыванию В. И. Ленина в Разливе; хотя Александр Твардовский одобрил повесть и обещал напечатать ее в журнале «Новый мир», но до сих пор не печатает ее.
Находясь в больнице, Эммануил Генрихович много и упорно работал. Ему была вскоре предоставлена одноместная палата. Никто его не тревожил, не звонил по телефону, не мешал сосредоточиться. Однако меня он просил навещать его. Он говорил, что одиночество полезно для работы, но также необходимо отдохнуть, переключиться на другую тему.
Я заставал Эммануила Генриховича за работой: стол, стулья, кровать, подоконник и пол — все было усеяно исписанными листами. Я не спрашивал, над чем он трудится. Справлялся о здоровье, самочувствии. Он не жаловался на недомогание. Мы уславливались о времени прогулки, я уходил, чтобы не мешать, не отвлекать его. Во время прогулок мы беседовали по злободневным вопросам. Обычно Эммануил Генрихович комментировал газетные сообщения.
363
Затем, неизменно, возникали вопросы, связанные с темой «Иностранной коллегии». Так возник вопрос: почему моя партийная кличка — «Южный»? Я объяснил, как это произошло, рассказал также, кто такие были и что делали в подполье Борис Юзефович — «Северный»; Семен Кессельман — «Сеня Западный»; его брат Арнольд — «Восточный».
Мой рассказ произвел впечатление на Эммануила Генриховича. Он воскликнул: «Получается, что против интервентов и белогвардейцев выступали в Одессе все силы света, все «четыре стороны света»! Этот мотив я обыграю!»
Несколько раз, с непередаваемыми интонациями он повторил: «Этот мотив я о-бы-гра-ю!»
Эммануил Генрихович говорил снова о повести, посвященной пребыванию В. И. Ленина в Разливе. В повести сохранена историческая правда. Он собирал ее по крупице, проработал уйму источников, расспрашивал Емельянова, всех, кто мог внести хоть еле приметный штрих. Однако рецензентов озадачило то, что повесть противоречила некоторым традициям и канонам. Одним из действующих лиц являлся А. В. Шотман, имя которого долгое время было предано забвению. И фигурировал Г. Е. Зиновьев, также скрывавшийся в Разливе согласно решению ЦК нашей партии. А не показать в повести Зиновьева он не может, он необходим, ибо был с В. И. Лениным в Разливе. В диалоге и споре с Зиновьевым более выпукло, ярче и рельефнее вырисовывается образ В. И. Ленина, его научно обоснованный оптимизм и несгибаемая воля, его вера в разум и силу рабочего класса. Непреклонная уверенность В. И. Ленина противопоставляется интеллигентскому хныканью и безверию Г. Зиновьева. Уже в Разливе обнажается его будущая трусливая и предательская линия поведения в вопросах вооруженного восстания...
Примерно через два года после больницы я, разговаривая по телефону с Эммануилом Генриховичем, поделился впечатлениями о туристской поездке в ГДР и Чехословакию, сообщил, что участники подполья Одесской, Херсонско-Николаевской, Молдавской и Крымской областей подготовлены и ждут встречи с ним. Он ответил, что скоро назначит день встречи.
И вот 16 декабря 1961 года встреча состоялась. Некоторые вопросы ставили в тупик участников подполья. О них никогда не задумывались, не упоминали в воспоминаниях.
364
Трудно было сразу ответить на вопросы: «Чем вы питались? Какие цены были на хлеб, мясо, овощи, картофель и другие продукты питания? В какие театры и кино ходили, какие пьесы, кинокартины смотрели? Как проводили свободное время, отдыхали? Какие песни пели? В какие игры играли? Как выглядел Николаевский бульвар, городская дума, Одесский порт, знаменитый маяк, вид с бульвара на рейд, откуда ожидали антантовский десант, панорама рабочей окраины — Пересыпи?»
В этот день Эммануил Генрихович высказал заветное желание восклицанием: «Эх, надо поехать в Одессу, все увидеть своими глазами!»
Когда приглашенная Соня Яновская не явилась на встречу, Эммануил Генрихович сказал: «Неудобно затруднять ее, уж лучше мы поедем к ней, договоритесь, когда она сможет нас принять?»
26 января 1962 года мы поехали к Соне Яновской. Мы застали ее в момент, когда она — профессор кафедры математики — заканчивала консультации студентов-дипломников. Соня нас приняла приветливо. Она была в годы нашей молодости секретарем редакции газеты «Коммунист», издававшейся в подполье на русском языке.
Многое она рассказала Эммануилу Генриховичу. Снова он говорил о том, что хочет все увидеть, побывать на том бульваре, с которого российская буржуазия и аристократия с нетерпением и надеждой глядела — скоро ли на рейде покажутся корабли, везущие долгожданный десант войск Антанты. Снова повторил: «Вы понимаете, что я хочу написать так, чтобы вы, участники подполья, когда будете читать, думали, что я в то время был среди вас». Поэтому, когда он предложил мне совершить поездку вместе с ним, я дал согласие.
Когда мы, распрощавшись с Соней, сели в ожидавшую нас машину, Эммануил Генрихович хитро улыбнулся и спросил: «А вы знаете, куда я поеду, как только расстанусь с вами?» Я пожал плечами. «Еду прямо к Фофановой. Я условился встретиться с нею сегодня. Она выдвигает версию, что В. И. Ленин возвратился в Петроград во второй половине сентября, а не 10 октября 1917 года, как это считают установленным1. Это очень интересно, если только она сумеет это доказать. Это говорит о том, что Владимира
______________________
1 Подробнее об этом см.: «В. И. Ленин. Биографическая хроника», т. 4. М., 1973, с. 373. — Примеч. ред.
365
Ильича беспокоила недостаточно энергичная подготовка вооруженного восстания».
Некоторое время ехали молча, затем он сказал, как бы размышляя вслух: «Если глубоко проанализировать обстановку в стране и в ЦК, позиции каждого члена ЦК, получается, что подготовка вооруженного восстания в Октябре была проведена В. И. Лениным, опиравшимся на большинство членов партии, почти против большинства членов ЦК. Это очень интересная тема, ее стоит разработать».
Следующая встреча Эммануила Генриховича с бывшими подпольщиками произошла 8 февраля 1962 года.
Вера Николаевна Лапина передала Эммануилу Генриховичу фотоснимки своей подруги юных лет Елены, которые до этого нигде не были опубликованы. Рассказала о ней начиная с детских и юных лет.
Когда мы остались вдвоем, Эммануил Генрихович сказал, что ему необходимо поработать в архивах Наркоминдела и Коминтерна, а также в архивах Харькова, Киева, Одессы.
Снова интересовался, какие были в продаже папиросы, табаки, махорка, названия и марки, что большей частью курил простой народ.
Он подарил мне книгу «Синяя тетрадь» с надписью: «Дорогим друзьям Розалии Яковлевне и Иосифу Эммануиловичу — в знак глубокого уважения от автора. Эм. Казакевич. 8—11/1962».
В феврале 1962 года из Смоленска приехал Михаил Гарин, активный участник подполья в Одессе, и мы вместе поехали к Казакевичу на дачу в Переделкино.
Эммануил Генрихович основательно расспросил его.
А М. Д. Гарин передал Эммануилу Генриховичу тетрадь со своими краткими воспоминаниями. Затем я привез в Переделкино еще двоих участников подполья — тт. Владимира Матвеевича Бессонова и Михаила Владимировича Земблюхтера. Наш разговор был прерван телефонным звонком. Невольно мы стали свидетелями разговора со Львом Шейниным. Мы поняли, что Лев Шейнин предлагает и усиленно убеждает Эммануила Генриховича написать киносценарий, заполняющий «брешь» в Лениниане — промежуток времени между пребыванием В. И. Ленина в Разливе до событий, отраженных в кинофильме «Ленин в Октябре».
Разговор длился довольно долго, Эммануил Генрихович категорически отказывался, мотивируя тем, что не располагает свободным временем, необходимым для этой работы.
366
Надо рыться в архивах, разыскивать и расспрашивать людей, соприкасавшихся с В. И. Лениным в этот отрезок времени. Он в данное время поглощен другими замыслами и темами.
Когда Эммануил Генрихович закончил разговор, мы спросили, почему он отказывается от столь лестного предложения. Ведь после «Синей тетради» это логическое продолжение темы о В. И. Ленине, о подготовке Великой Октябрьской социалистической революции.
Вначале Эммануил Генрихович отвечал односложно, как бы рассеянно, повторял те же доводы, которые приводил в разговоре с Л. Шейниным. Я сказал, что ведь, насколько мне известно, он фактически работает над этой темой. Он сам мне говорил, что едет к тов. Фофановой в связи с версией о дате возвращения В. И. Ленина в Петроград, что громадный интерес представляют позиции членов ЦК по вопросам о вооруженном восстании и другим.
Эммануил Генрихович прищурил глаза, хитро улыбнулся и после паузы ответил: «Да, меня интересует этот отрезок времени в жизни В. И. Ленина. Я напишу о нем, но не киносценарий, а повесть, а может быть, роман!»
На мой вопрос — какая разница, все равно колоссальную работу надо проделать — Эммануил Генрихович воскликнул: «О, разница огромная! Киносценарий попадает в руки кинорежиссера. Начинаются творческие переработки и поиски. Бывает, что автор киносценария едва узнает свое творение, когда смотрит кинокартину. Другое дело повесть или роман. Если не удастся напечатать полностью, частично или вовсе это не увидит свет, потомству достанется рукопись без поправок и искажений».
Мы беседовали довольно долго. Эммануил Генрихович пригласил нас в столовую и угостил вкусным обедом. После обеда тт. Бессонов и Земблюхтер попрощались, а мы перешли в «рабочую комнату» — в пристройку к основному помещению. Эммануил Генрихович писал стоя, конторка заменяла письменный стол. Вдоль всех стен довольно обширной комнаты книжные полки, масса книг и журналов.
Он получал уйму писем и бандеролей из разных уголков Советского Союза и зарубежных стран. Через свои сильно увеличивающие очки пробегал текст молниеносно. Сортировал и раскладывал корреспонденцию по какой-то системе.
С нами работала стенографистка, которая записывала бе-
367
седу в «рабочей комнате», а пожилая, очень приятная домработница потчевала нас как радушная хозяйка.
Я передал Эммануилу Генриховичу записку, в которой изложил свое мнение, с какими архивными материалами ему необходимо ознакомиться.
Еще в январе месяце Эммануил Генрихович как-то задал вопрос: «Не знаете ли вы случайно, где можно достать первое издание сочинений В. И. Ленина?» Я ответил, что, возможно, достану полный комплект. Я заехал на прежнюю квартиру. Там я оставил книги, среди которых было два комплекта первого издания сочинений В. И. Ленина. Но увы! Их уже не было. Чтобы хоть как-то выполнить свое обещание, я 23 февраля 1962 года привез в Переделкино и отдал Эммануилу Генриховичу два полных комплекта бюллетеней XIV и XV съездов нашей партии, переплетенных в 7 или 8 томов. Эммануил Генрихович был очень доволен, бегло просматривал один за другим тома бюллетеней, близко поднося их к глазам. Однако, когда прошла первая радость, я рассказал о судьбе двух комплектов первого издания сочинений В. И. Ленина. Эммануил Генрихович был очень раздосадован и начал меня укорять. Мы уже перешли к очередным делам, но он никак не мог успокоиться.
Мы уточняли предстоящие встречи со старыми коммунистами, живущими в Москве, Харькове, Киеве и Одессе. Эммануил Генрихович включил в маршрут Николаев и Херсон, он должен обязательно повидать своего генерала (Выдригана). К тому же деятельность «иностранной коллегии» распространялась на Николаев и Херсон. Дата выезда была поставлена в зависимость от того, поедет ли Эммануил Генрихович на конгресс европейских писателей, открывающийся 11 марта во Флоренции.
8 марта я был на квартире в Лаврушинском переулке. Снова обсуждали — с кем из проживающих в Москве надо будет встретиться по возвращении из поездки. Наметили пять интересных встреч в Москве, семь — в Одессе. Решили еще раз подумать и дополнить список. Мы беседовали, занимались текущими делами, но чувствовалось, что Эммануил Генрихович чем-то озабочен, немного расстроен. Я знал, что он был включен в состав делегации от Советского Союза на Европейский конгресс писателей во Флоренции, который открывался 11 марта, но уже восьмое, а заграничные паспорта с иностранными визами все еще не получены и до сего дня неизвестно, будет ли допущена советская делегация. Эммануил Генрихович посмеивается
368
и шутит: «Мне-то что, я дома, чемоданчик наготове, раздастся телефонный звонок, я помчусь на аэродром. А вот Даниилу Гранину каково! Он приехал из Ленинграда, чтобы быть под рукой».
В тот день Эммануил Генрихович подарил мне книгу своих повестей, в которую вошли «Звезда», «Двое в степи», «Сердце друга». Он надписал: «Дорогому И. Э. Южному — разведчику 1918—1919 гг. от разведчика 1941 —1945 гг. 8III/1962 Эм. Казакевич».
10 марта я позвонил ему по телефону, ответила мне дочь Женя: «Папа вылетел во Флоренцию».
Значит, к открытию конференции Эммануил Генрихович поспел. А наша поездка состоится по возвращении. Я продолжал подготовку.
15 марта на собрании Херсонско-Николаевской группы, происходившем в Музее Революции СССР, была заслушана моя информация. Бюро группы определило список товарищей для встречи с Эммануилом Генриховичем.
2 апреля я уже беседовал с ним в Москве, мы наметили встречи еще с девятью участниками. На следующий день я договорился с историком Л. М. Зак, и она передала Эммануилу Генриховичу фотоснимки юной «Елены» (Соколовской). Мною был составлен и согласован с Эммануилом Генриховичем план всей поездки, предусматривавший перечень городов, которые мы посетим, участников, с которыми будут встречи, и архивы, в которых будем знакомиться с источниками. Установили окончательную дату выезда.
14 апреля 1962 года отправились в путь на автомашине.
Ехали без приключений, в 13.00 выбрали полянку в тени деревьев и сделали привал на обед. Скатерть-самобранку заменили газеты. Разложили припасы. Эммануил Генрихович восхищался: «Ай да женушка, ничего не забыла!»
После отдыха отправились в путь. К вечеру приехали в городок Мценск, где решили переночевать. Дежурный администратор гостиницы любезно предоставила одноместную комнату Эммануилу Генриховичу и двухместную мне и шоферу. Мы сразу пошли отдыхать, а Эммануил Генрихович еще разговаривал по телефону с Галиной Осиповной, работал.
Утром позавтракали в столовой и отправились в путь.
Мы сидели в машине рядом. Эммануил Генрихович обратился ко мне: «Вы ведь работали в ВСНХ и Наркомтяжпроме, вы помните, сколько этажей в здании на площади Ногина?» Я сказал, что в то время, когда я работал, было всего пять этажей. Впоследствии было построено новое здание,
369
шестиэтажное. Я хорошо помню, что в старом здании было пять этажей.
Эммануил Генрихович интересовался: «А знали ли вы кого-нибудь из бывших лидеров и видных меньшевиков?» Я рассказал, что в аппарате ВСНХ работали многие «бывшие вожди» меньшевиков, с которыми я был знаком. Они считали себя учеными, знатоками Карла Маркса, а большевиков считали невеждами, которые без их помощи и без буржуазных специалистов не сумеют наладить народное хозяйство. Мы посмеивались и часто подшучивали над ними, над их апломбом.
Эммануил Генрихович рассказал, что сдал в редакцию газеты «Известия» рассказ под заголовком «Враги». Он довольно подробно изложил содержание. Его беспокоило, не ошибся ли он, написав, что бывших лидеров меньшевиков разыскали в здании ВСНХ на 5-м этаже. А вдруг в этом здании четыре этажа?
Я его убеждал, что он не ошибся. В то время, когда происходило описанное им в рассказе, существовало только старое здание.
К полудню мы приехали в небольшой, ничем не примечательный городок, название его я забыл. Здесь мы сделали остановку, пообедали. Эммануил Генрихович ушел в отделение связи, шофер ковырялся в машине, по обычаю всех шоферов. В городке поражала какая-то тишина, неподвижность, неторопливое движение людей, транспорта.
Возвратился Эммануил Генрихович. Сообщил, что разговаривал с Галиной Осиповной — дал задание побывать на площади Ногина, проверить, сколько этажей в старом здании ВСНХ. «Лишний раз проверить не мешает», — заключил Эммануил Генрихович. Я не возражал, я также считаю, что во всяком деле точность не вредна.
К вечеру 15 апреля приехали в Харьков. Когда я сказал, что буду жить на Сумской улице, дом 17, Эммануил Генрихович воскликнул: «Это же известный дом бывшего страхового общества «Саламандра»!» Я не знал, что это известный дом, думаю, что и многие не знают.
Утром Эммануил Генрихович заехал за мной, и мы направились на улицу Дарвина, поднялись на 5-й этаж старинного дома, в котором каждый этаж равнялся двум современным. Здесь, без лифта, без воды и удобств, проживал одинокий 75-летний заслуженный доктор медицинских наук, профессор микробиологии Владимир Леонтьевич Елин.
Нам открыла дверь его младшая сестра. Увидев нас, она
370
расплакалась, сквозь слезы сказала, что Владимир тяжело болен, находится в больнице. По его просьбе она приехала из Одессы. Владимир нас ждет. Адрес она нам сообщила. Мы поехали по указанному адресу.
Главврач больницы, узнав, что писатель Казакевич желает повидать больного Елина, дала разрешение и сама сопровождала нас. В палате было пять-шесть больных, я стал обводить их глазами, увидел Владимира в левом углу палаты, впился в него глазами и не мог вымолвить ни слова. Владимир меня узнал, радостно воскликнул: «Южный». Я продолжал стоять, пока не преодолел оцепенение, подошел к Владимиру, поздоровался, расцеловался, познакомил с подошедшим вслед за мной Эммануилом Генриховичем, улыбавшимся мягко и приветливо.
Вести беседу в палате было неудобно, не на что было сесть, стесняло присутствие нескольких больных. Эммануил Генрихович спросил главврача — может ли Елин, по состоянию здоровья, отвечать на вопросы и нельзя ли перейти в другое помещение. Главврач разрешила; две медицинские сестры, поддерживая под руки, провели Владимира в ординаторскую.
Эммануил Генрихович спрашивал, записывал ответы Владимира в большой блокнот. Владимир сказал, что точно помнит — Жанна Лябурб прибыла в Одессу 15 февраля 1919 года, было ей лет 40, восторженная, не знавшая правил конспирации.
Эммануил Генрихович своевременно заметил, что Владимиру стало трудно отвечать на вопросы, он тепло и сердечно поблагодарил его, взял обе руки Владимира в свои и пожелал ему от всей души выздоровления.
Я обнял Владимира, мы крепко расцеловались. То, что произошло со мной, когда я увидел Владимира, не осталось не замеченным Эммануилом Генриховичем. Как только две медицинские сестры увели Владимира и мы остались наедине, он спросил: «Что случилось с вами, когда вы увидели Елина? Вы его не узнали? Он сильно изменился? Он ведь вас узнал!»
Я ответил: «Я узнал Владимира, хотя болезнь сильно изменила его. Но в то мгновение, когда я его увидел, смерть была на его лице. Это меня потрясло, я не мог произнести ни слова, сделать шаг к нему. Я видел много друзей, врагов, безразличных мне людей в миг смерти, по-разному реагировал, но такого еще не случалось».
Эммануил Генрихович был поражен, взволнован. «Как
371
это вы увидели смерть на лице Елина? Как можно увидеть смерть? Расскажите, объясните!» Я ответил: «Выразить словами — затрудняюсь. Когда я увидел Владимира, мне показалось, что на его лице какая-то пелена, вуаль, печать предсмертных мук и страданий. Когда он вскрикнул — «Южный», я не мог произнести слова. Потребовалось огромное усилие, чтобы подойти и расцеловаться. В то же мгновение видение исчезло. Владимир улыбался».
Эммануил Генрихович задумчиво произнес: ведь до того, как главврач разрешила свидание и беседу, она просмотрела историю болезни Елина и сказала, что он серьезно болен, но состояние не безнадежное. Непонятно, почему вам померещилась печать смерти. Я ответил, что слыхал заключение главврача, но, по-видимому, это меня настроило чересчур оптимистично, я не ожидал увидеть того, что увидел, и был потрясен.
Эммануил Генрихович обещал Владимиру обратиться к председателю Харьковского горисполкома с просьбой ускорить предоставление жилплощади, так как он давно состоит на учете для улучшения жилищных условий.
Как я впоследствии узнал, Эммануил Генрихович свое обещание выполнил. Сестра Елина сообщила мне, что приглашение явиться за получением ордера на однокомнатную квартиру было получено через месяц, в день смерти Владимира Елина.
Вечером Эммануил Генрихович вместе с другом, у которого он жил, заехал за мной, и мы гуляли по ночному Харькову. Машина, по команде Эммануила Генриховича, останавливалась у достопримечательных мест на улицах и площадях, мы выходили из машины и слушали его увлекательные рассказы. Не было, казалось, такого объекта, историю которого Эммануил Генрихович не знал, особо подробно рассказывал он о Доме промышленности. Его мы обошли вокруг.
Утром следующего дня Эммануил Генрихович вместе с другом заехали за мной, и мы отправились к Соне Мармеладовой, бывшей комсомолке и активной участнице подполья. Соня вспоминала песни, которые пели жители Одессы. Сначала напевала мотив без слов, вспоминала слова, затем уже пела четко; Эммануил Генрихович записывал слова песен в большой блокнот. Когда Соня запела песню на еврейском языке (идиш), это ничуть не смутило Эммануила Генриховича, он перевернул блокнот и стал быстро писать справа налево, по-еврейски.
372
Эммануил Генрихович рассказывал мне, что начинал как еврейский поэт, однако я не думал, что он в состоянии без затруднений записывать еврейские песни. Эммануил Генрихович подарил Соне книгу с дарственной надписью. Соня прислала позднее воспоминание об этой встрече и песни, посвященные ею памяти Эммануила Генриховича, которые озаглавила «Поющая Одесса».
В воспоминаниях Соня писала:
«За годы моей работы с больными у меня выработался наметанный глаз врача. Мне всегда много говорит лицо больного, его выражение.
Увидев на экране телевизора Генерального конструктора Туполева во время его последнего выступления, я ужасно встревожилась, поняв, что дни его сочтены. Как же не увидела я этого в лице Казакевича? Его глубоко затаенного страдания?»
Вечером мы снова ездили по улицам и площадям Харькова. Эммануил Генрихович сидел рядом с шофером. Он был очень оживлен, знания его были неисчерпаемы, говорил, почти ни на минуту не умолкая, сопровождая свою речь шутками и прибаутками. Было весело.
Утром следующего дня мы поехали в ЦГАОР УССР. Директор — женщина средних лет — выслушала просьбу Эммануила Генриховича, затребовала архивное дело, содержавшее «Доклад об иностранной работе» за подписью «Сергей».
Прочитав «Доклад», Эммануил Генрихович обратил внимание на то, что «Сергей» просит не направлять для подпольной работы иностранцев. «Значит ли это, что подпольный областком считал иностранцев менее способными вести агитацию и пропаганду в войсках интервентов?» — удивился Эммануил Генрихович. Я ответил, что иностранцы бесспорно пользовались успехом у соотечественников в солдатских шинелях, но более подвержены опасности провалов и гибели, так как они привыкли работать в условиях буржуазной демократии на родине и недооценивали звериное лицо своих соотечественников-колонизаторов и русской белогвардейщины.
Так было и с Жанной Лябурб.
Утром, в половине восьмого, появился Эммануил Генрихович, присел рядом со мною на диван и сказал, что мы не поедем в Полтаву, он сейчас летит в Москву. В течение ночи он три раза разговаривал с редакцией «Известий», согласовывал уточнения и изменения в его рассказе «Враги». Надо
373
сегодня же закончить, иначе рассказ будет задержан до его приезда, возможно и совсем не увидит света.
Выглядел Эммануил Генрихович очень плохо. Заметно было, что он устал, провел почти бессонную ночь, его беспокоила судьба рассказа. Договорились, что я и шофер будем ожидать его возвращения. Как только закончит дело с печатанием рассказа, он вернется, и мы продолжим поездку. Мы попрощались, и Эммануил Генрихович поспешно ушел. Через несколько минут я обнаружил на диване забытую им кепку. Почему-то нас это очень расстроило. Было довольно прохладно, в Москве будет холодно, недолго и простудиться. Но делать нечего. Шофер, вернувшись с аэродрома, сообщил, что Эммануил Генрихович благополучно улетел, о кепке и не вспомнил.
После обеда поехали по городу, но без Эммануила Генриховича было неинтересно. На следующий день во всех киосках мы спрашивали газету «Известия», но только к концу дня удалось достать номер от 21 апреля 1962 года, в котором был напечатан рассказ «Враги».
Мне рассказ понравился, но довелось слышать и неодобрительные отзывы, некоторые говорили, что В. И. Ленин и Ф. Э. Дзержинский не соответствовали здесь их представлениям.
В разговорах по телефону в первый и второй день после его отъезда Галина Осиповна говорила: «Ждите, Эммануил Генрихович скоро прилетит». На третий день ответила: «Эммануилу Генриховичу нездоровится, возвращайтесь в Москву. Там видно будет, когда он будет в состоянии продолжить поездку».
Я заехал в ЦГАОР УССР и заказал несколько архивных дел, имея в виду, что Эммануил Генрихович сможет с ними познакомиться. Я не предполагал, что ему эти архивные материалы уже не понадобятся. Я не мог и подумать, что видел его в последний раз в то утро, когда он уехал на аэродром, забыв на диване кепку.
Время от времени я справлялся о здоровье Эммануила Генриховича, Галина Осиповна неизменно отвечала по телефону: «Спасибо, ему немного лучше!»
Слухами земля полнится, я уже знал о тяжелой болезни Эммануила Генриховича, однако надежда не покидала меня. Не верилось, что такой Человек, в расцвете физических и творческих сил, может уйти из жизни.
1976
П. Резников
ПРИ СВЕТЕ ДНЯ
Года три назад, когда я проезжал по трассе из Будапешта к озеру Балатон, мне бросилась в глаза надпись на дорожном указателе — «Секешфехервар». Она была написана крупными белыми буквами на голубом фоне.
Секешфехервар! Я вспомнил рассказ Эммануила Казакевича, и его героя Андрея Слепцова, и сцену, где он держал на единственной руке ребеночка и с любовью произносил это странное, необычное для русского уха слово, шутливо уверяя женщину, что оно, это слово, «приворотное» и им можно успокоить малое дитя. Секешфехервар! — бывалый солдат крепко запомнил это слово, потому что оно, как он объяснял, «было испытанием для всего Третьего Украинского фронта...» Я хорошо знаю этот рассказ, потому что дважды к нему обращался как режиссер телевидения...
...Странное волнение меня охватило, когда вместе с моими товарищами — сценаристом и редактором — направлялся в Переделкино, где нас ждал Эммануил Генрихович. Мы везли писателю на утверждение сценарий по его рассказу «При свете дня». Этот рассказ только что вышел, порадовал читателей, и, как это бывает, им заинтересовались, и кинематограф и театр. Мы знали, что Эммануил Генрихович отклонил варианты адаптации его рассказа, которые ему предлагали. Как он отнесется к нашему сценарию?
Писатель принял нас во флигелечке, где находился его
375
скромный кабинет — рабочий стол, машинка на маленьком столике, вдоль бревенчатых стен полки с множеством книг. Воздух — свежий.
— Вам не холодно, вы, кажется, были нездоровы?
— У меня болезнь не простудная.
Он смотрел на каждого из нас, пока мы объясняли, что нас заинтересовало в его рассказе, потом взял сценарий, приблизил его к глазам и сосредоточенно стал его просматривать.
Мягкое нежное лицо с близорукими глазами — облик типичного интеллигента. Это мало вязалось с тем, чем был этот человек на самом деле. Я знал Казакевича еще по Харькову, помнил никому не известного тогда Эму, шагающего по Сумской улице, всегда окруженного сверстниками, молодыми, шумными. Был на том вечере, когда общественность города провожала большую группу харьковчан на Дальний Восток. Среди отъезжающих был Казакевич. Это было еще до войны.
В 42-м я побывал в тех краях, но Казакевича здесь уже не было. Как о писателе узнал о нем после выхода его пленительной «Звезды», затем зачитывался каждой новой его книгой. Это были книги писателя с удивительной судьбой — труженика и солдата.
— Если не возражаете, я попрошу оставить мне сценарий — надо подробней посмотреть.
Сразу подкупило это его серьезное и уважительное отношение к тому, что мы собирались делать (что греха таить, в то время телевидение вызывало у многих писателей, мягко говоря, чувство недоверия).
— Между прочим, — он снял с полки одну из папок, — вот рецензия на телеспектакль по моей повести «Синяя тетрадь», — львовяне прислали.
Кажется, он был горд тем, что его произведениями заинтересовалось и телевидение, и нам это льстило. Как известно, путь Казакевича в литературе не был ни легким, ни гладким. Последующие за «Звездой» произведения его полны острыми конфликтными ситуациями и проблемами, вызывавшими споры и, нередко, негативные оценки критиков. Эммануил Генрихович рассказывал нам, в частности, о трудностях с публикацией той же «Синей тетради» и других произведений. Но он неизменно был принципиален и оставался верным своей позиции до конца. При этом он не таил никаких недобрых чувств к тем, кто его сразу не понял. Я спросил его, какой журнал он предпочитает. «Мои произведения, как вы могли
376
заметить, — ответил писатель, — печатаются в разных журналах». В интонации его явно слышалась ирония по отношению к тем, кто придает непомерно раздутое значение группировкам и мелким раздорам в литературной среде. Он мыслил широко, и ему было важно, чтобы его произведения дошли до читателя, ради которого он жил и так ярко творил. Но это к слову.
Через некоторое время мы с редактором пришли во второй раз к писателю — теперь уже на Лаврушинский. Никаких признаков болезни. Он был весел, в превосходном настроении. Прежде чем говорить о деле, он колоритно рассказывал о своей поездке в Италию с группой писателей; дурачился с симпатичным псом своим, потом говорил по телефону — звонили из газеты — о статье про инвалидов Отечественной войны, расспрашивал затем о телевидении, о работе в нем Ираклия Андроникова, с которым они были друзьями...
Когда же заговорили о деле, по которому мы пришли, он очень просто сказал:
— Сценарий понравился... Кое-что исправил, даже дописал... Ловко вы нашли этих двух ведущих... в них все дело!..
Что происходит в рассказе «При свете дня», если говорить о сюжете?
Бывший солдат Андрей Слепцов, после того как давно отгремела война, выбрался наконец из Сибири в Москву, чтобы выполнить последнюю волю своего бывшего командира Виталия Нечаева, с которым его сдружила нелегкая военная судьба и который умер у него на руках. Слепцов решил повидать его семью. Сначала удивится его приходу двенадцатилетний сын Нечаева Юра, потом нянька, которую он ошибочно примет за мать годовалой девочки — ее-то он успокоит своим «приворотным» словом. Потом придет и жена командира Ольга Нечаева...
Целый день проводит Слепцов в доме Нечаевых, рассказывает жене Ольге Петровне о подвигах Виталия Николаевича, о том, каким бесстрашным, волевым человеком он был. Слепцов, однако, чувствует, что Ольгу Петровну это удивляет и раздражает, будто не о муже идет разговор, а о другом, чужом для нее человеке. В довершение он по каким-то признакам узнает, что у Ольги Петровны другой муж, новая семья, и, расстроившись, с болью за своего любимого командира, — которого, как кажется Слепцову, забыли, не почитают такого необыкновенного человека, — покидает этот дом. Таков коротко сюжет. Но суть произведения Казакевича, конечно, не в «голом» сюжете. Все дело в скрытом, напряжен-
377
ном диалоге, который происходит между Виталием и Ольгой Нечаевыми, — очень тонко переданном писателем нравственном споре, который проясняет отношения и поступки в их совместной жизни и тогда, когда они были разлучены войной. Этот доскональный психологический анализ, этот внутренний диалог, раскрывающий глубинную жизнь двух людей, разных по своему мироощущению, и есть самое интересное в рассказе Казакевича. Именно это оставил сценарист, введя в действие двух других людей — мужчину и женщину, которые — один от имени Виталия, другая от имени Ольги — включаются в действие, чтобы обнажить, прояснить, оправдать или осудить поступки и мысли героев рассказа. Инсценизация такого характера сохраняет не только внутреннюю авторскую интонацию, но и самое литературу. Это-то и понравилось Эммануилу Генриховичу.
В одной из наших бесед Казакевич как-то высказал мысль о своем отношении к актерской игре. Его раздражала напыщенная манера исполнения многих актеров. Это было причиной того, что он не часто, по его словам, посещал театр. Из того, что ему нравилось, он назвал старый МХАТ и итальянского актера Эдуардо де Филиппе, которого он видел на гастролях в Москве. Безыскусственность и абсолютная жизненная достоверность Эдуардо покорили писателя.
— Наверное, так надо играть на телевидении, — не то спросил, не то утверждал Эммануил Генрихович. Как-то он примет наш спектакль, подумалось мне. Но Казакевич был доброжелателен. Когда он посмотрел спектакль, то был особенно доволен исполнением ведущих — Иветты Киселевой и Владимира Кенигсона, отметил их простоту и доверительность, еще он пожалел, что мало дал слов Людмиле Фетисовой в роли Ольги Нечаевой, понравились ему Юрий Пузырев, Петр Чернов, Николай Гриценко, сделал он и замечания — деликатно, доброжелательно...
Спустя два года я повторил этот спектакль с болгарскими актерами в Софии. Сложный духовный мир героев рассказа, их нравственная чистота, прозрачность их мыслей и чувств были восприняты болгарскими телезрителями сердечно.
Уже теперь, собирая факты в одну цепочку, я понимаю: было что-то интересное в том, что болгарский актер воплощал образ русского солдата, с пронзительной нежностью произносящего название памятного венгерского города — Секешфехервар...
...Дорога, на которой я вспомнил рассказ Казакевича, мчала меня дальше. Как и Слепцов, я мысленно варьировал
378
это слово, но думал я уже не о солдате, которому оно полюбилось, а о другом образе другой книги писателя — подполковнике Лубенцове, который, возможно, как и Слепцов, с боями проходил по этой земле и дошел до Берлина. Разведчик, боевой командир волею судьбы становится, однако, администратором, дипломатом. Я думал и о других интересных людях большого романа Казакевича «Дом на площади», который мне предстояло воплотить теперь уже на венгерской студии телевидения. Венгры сами выбрали это произведение. Группа деятелей телевидения — режиссеры, сценаристы, редакторы — побывала в Москве. В Останкине мы показали им много различных работ, среди них был и телеспектакль по этому роману, который мы назвали «Комендант Лаутербурга». Это был спектакль, в котором играли отличные актеры: О. Яковлева, Л. Богданова, В. Никулин, Г. Мартынюк и другие, но особенно хорош был дуэт Николая Волкова и Леонида Броневого, в котором тонко выстраивались отношения между советским комендантом и бургомистром немецкого города Лаутербурга.
Чем увлек роман наших венгерских гостей, понять нетрудно, если вспомнить о событиях, отраженных в нем. Поверженная фашистская Германия — первые ее дни и месяцы: разруха, житейская неустроенность, отравленные, искалеченные фашизмом души людей — вот с чем пришлось столкнуться советскому коменданту провинциального немецкого города Лаутербург. Но такая же ситуация сложилась и в только что освобожденной Советской Армией Венгрии. И в том же Секешфехерваре, и в других городах этой небольшой страны советские коменданты шаг за шагом помогали жителям залечивать тяжелые увечья, нанесенные фашизмом, — экономические, психологические, моральные... Можно не сомневаться — как и Лубенцов из романа Казакевича, они покоряли население совестливостью, бескорыстием, человечностью. Что эта тема волнует венгров, я сразу же ощутил в работе с исполнителями (в спектакле были заняты лучшие актеры театра и кино). Они не только тонко поняли стилистику, художественные качества романа, но — что очень важно — как-то лично восприняли его общественную значимость. И по-новому, с особым одухотворением зажили персонажи романа советского писателя на малых экранах братской Венгрии.
Мне не раз приходилось ставить спектакли по произведениям Казакевича и у нас в стране, и за рубежами Родины, и всегда они оказывались благодарным материалом для телеэкрана. В романах, рассказах писателя есть какая-то особая
379
притягательная сила — обаяние и простота его героев и в то же время их значительность. Взволнованные раздумья автора, выстраданность и, я бы сказал, исповедальность его книг — все эти особенности делают прозу Казакевича телегеничной, как телегеничны по своей природе книги Толстого и Чехова. Не случайно то, что опыт работы над рассказом Казакевича «При свете дня» подсказал мне мысль экранизировать для телевидения такую сложную вещь Чехова, как «Скучная история». Наверное, не все получилось тогда, но телеспектакль «При свете дня», при всех его недостатках и художественной незавершенности, имел то несомненное достоинство, что разрушил традиционную форму тех инсценировок для телеэкрана, которые строились по театральному образцу (их в то время было немало), и открыл для нас новые возможности звучания прозы в домашнем телетеатре. Кстати сказать, Казакевич почувствовал особенности телевидения — его демократичность, его огромный «зрительный зал». Он счел нужным специально дописать заключительные строки, которых не было в опубликованном рассказе. Эти строки как бы обнажают смысл происходивших на экране событий. Вот эти слова, которые произносил один из ведущих:
«Помните — герои рядом с нами. Они не великие полководцы и не великие артисты. Они просто люди. Но они велики своей преданностью общему делу и любовью к людям — именно к окружающим людям.
Любить человечество легко. Трудно любить окружающих тебя людей. А они-то как раз в этом нуждаются. Герои рядом с нами. Умейте же их понять не тогда, когда уже слишком поздно. Умейте их понимать, ценить, любить!»
Эти слова можно отнести к внутреннему смыслу всех произведений писателя.
После того как спектакль прошел в эфир, по многочисленным заявкам зрителей был назначен его повтор — это было 22 сентября 1962 года. И так случилось, что именно в этот день пришла трагическая весть — Эммануила Генриховича не стало. Мы посвятили свой скромный труд памяти писателя.
С тех пор прошло много лет... В эти годы герои его книг продолжали жить и во вновь изданных книгах, на кинолентах, на сцене театров, на бесчисленных экранах телевизора — и в Москве, и в Софии, и в далеком городе Венгрии Секешфехерваре...
1976
А. Эфрос
ОН БЫЛ, А НЕ КАЗАЛСЯ
Уже много лет прошло с тех пор, как умер Казакевич, а знал я его совсем немного. И все же хочется хотя бы страничку написать о нем, так он чудесно запомнился за этот небольшой срок моего с ним знакомства. В его квартире не было, кажется, ни одной модной вещи. Все какие-то старые, крупные предметы, на которые он, по-моему, не обращал никакого внимания. В кабинете — стол, а остальное — всё полки с книгами, много полок, и какая-то маленькая, старая тахта, на которую всегда смешно вскакивала небольшая сердитая собачонка.
На даче тоже было до необычайности скромно — по-моему, это была всего половина какой-то небольшой дачки, и все там напоминало скорее избу военного времени. И помню, мы почему-то ехали с этой дачи в Москву на газике образца 1941 года. Трудно представить себе, чтобы он вальяжно сидел в собственной «Волге» с прекрасными чехлами. Тот день был зимний и холодный, и в газике этом сильно продувало.
Уж очень он был фронтовой, от тех военных лет, человек. Какой-то походный, скромный, совсем не маститый, хотя книг написал много.
Он же был действительно очень крупным писателем, но совсем не «делал вида».
Его книги пользовались большим успехом, и я, кстати
381
говоря не очень-то любящий читать что-либо не относящееся непосредственно к моей работе, читал каждую его книгу.
Его почерк, творческий почерк, как-то выгодно отличался какою-то, если так можно выразиться, умною душевностью.
Настоящего писателя можно почувствовать чуть ли не по первому абзацу, и уже втягиваешься в чтение из-за одного почерка, вне зависимости от сюжета и мысли, которые пока тебе еще неизвестны, но по почерку ты уже чувствуешь, что будет нечто стоящее. Так было и с Казакевичем.
И потом, он писал как-то объемно, видно, и мне, режиссеру, сразу хотелось ставить то, что я читал. Так это было зримо.
Однако ставить мне пришлось лишь «Двое в степи» на «Мосфильме».
Сценарий был написан Казакевичем наскоро, на какой-то папиросной бумаге — это я почему-то запомнил. Повесть «Двое в степи» раньше ругали, считая, что автор оправдывает дезертира, что ли? Иногда бывают такие нелепые недоразумения — кто-то придумает что-то, и только спустя много лет восстанавливается истинный смысл простой повести.
Тут было так же — ее ругали, но потом, на «Мосфильме», решили поставить по этой повести фильм! И эта затея уже тогда не показалась безумной, ибо все понимали, что повесть хорошая и никаких там нету вредных идей. Напротив.
Казакевич относился к работе спокойно. Только однажды, когда обсуждали сценарий, я, позвонив ему, рассказал о советах. Он раскричался ужасно в трубку, такими словами, как можно на фронте ругаться. Но не из-за этих самых советов, а потому, что давал их тот же, кто за это когда-то ругал. То есть он предлагал вставить то, что когда-то считал порочным. Ох, как кричал тогда Казакевич в трубку!
Он был вообще замечателен этой своей прямотой, простотой какой-то, деловой простотой, без всякой примеси «липы».
Мы снимали с любовью, в прекрасной голой степи, но фильм получился, кажется, средним — я был неопытен и недостаточно знал кино.
Хотя за фильм мне этот не стыдно.
Когда мы совсем все закончили, кто-то сказал, что фильм слишком мрачен, и велел переделать финал. Была уже перезапись. Нужно было в течение часа на что-то решиться. Казакевич был болен.
Я позвонил домой и попросил свою жену приехать срочно на студию. Мы посмотрели последнюю часть, в пере-
382
делке и в отрыве от общего — нам показалось это возможным. И вот состоялась премьера в Доме кино. Картина пошла после какого-то совещания.
Сидели «киношники»! Я с оператором спрятался сзади и ждал провала. И вдруг я слышу — все затихают, совсем затихли, смотрят! Я замер в испуге — неужто «снобы» примут картину, полюбят ее?
В зале никто не поднялся, казалось, успех неминуем, остались две-три минуты. Я даже забыл, что именно там была переделка. И вдруг, теперь уже вместе со всеми, увидел этот финал, перекроенный мною, в тот нервный вечер.
И вдруг я услышал, как зал засмеялся. Захлопали стулья. Все как бы ждали — будет в финале просчет или нет. Все ждали и верили, что просчета и фальши не будет, но мы допустили ошибку, и зал, вмиг, перестал доверять нам.
Мы с оператором сидели как на скамье подсудимых, боясь подняться. Один режиссер подошел к нам и, похлопав меня по плечу, сказал что-то в том смысле, что, несмотря на финал, все в порядке. Я этот случай помню как некий жуткий урок.
Казакевича в живых уже не было. Он умирал очень страшно. Я был у него в больнице за день до смерти. Когда я сказал, что степь, где снимался наш фильм, похожа на шинель, — он улыбнулся, только с очень большим трудом.
1976
Ираклий Андронников
НЕПОДВЛАСТНОЕ ВРЕМЕНИ
Эммануил Генрихович Казакевич принадлежит к числу самых замечательных людей, каких я когда-либо видел, самых замечательных современных писателей, каких я читал. Это талант бесспорный, бесспорный для всех. Независимо от возрастов, вкусов, читательского таланта, культуры. Не только потому, что он общенароден в опытах жизни и выступает как осуществление неосуществимой для большинства людей потребности высказать до конца свою душу, исповедаться, вспомнить неуловимое. Но прежде всего потому, что и в прозе это прекрасный поэт и слово его воспринимается как стихи. Уже по мелодике слога можно судить об этом, даже не зная, что, прежде чем взяться за прозу, он был известен до войны как поэт. И в повестях и в романах своих он поэт мужественный и нежный, строгий и человечный, страдающий за людей и бесконечно жизнелюбивый, ироничный, грустный, пылкий, полный юмора, поразительной глубины, благородства и такого ума, что в жизни ему, по-моему, иногда приходилось скрывать это свое превосходство, ибо Казакевич был демократичен по-настоящему, обладал глубочайшим тактом и чувством товарищества. Уверен, пройдет время, и о нас во многом станут судить по его книгам, в которых люди наделены душевной красотой и благородно представлены. И они ценят это.
Мы познакомились с ним после войны, когда уже появи-
384
лась «Звезда» — этот маленький, но обширный по содержанию роман, этот философский рассказ, это лирическое стихотворение в прозе, эта светлая трагедия, эта повесть о том, как Звезда закатилась и погасла, а в эфире продолжает звучать голос любви: «Звезда. Звезда. Я Земля. Я слушаю тебя, слушаю, слушаю тебя...» Но звезда молчала... Повесть о бессмертии подвига и любви. Это — проза поэта, ибо сами позывные не только голоса разведчика и радистки, но и голоса из Вселенной («И звезда с звездою говорит»).
Только очень большой писатель, очень музыкальный писатель мог с такой свободой передать в повести тембр своего голоса, свои интонации, темп своей речи, своеобразие манеры видеть и слышать характерные особенности людей. И при этом — высокая верность в изображении времени, Великой войны, военного быта, удивительная пластичность и музыкальность повествования:
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная
Святая прелесть в них...
Я ему об этом сказал. Он спросил:
— Почему вы не пишете о литературе? Не только о Лермонтове. Не статья, а отдельные мысли, впечатления... Вам потом самому будет интересно перечитывать эти записи. А то забудете.
Я почувствовал, что поднялся на ступеньку выше.
Как-то поздно вечером мы возвращались вместе из Дома литераторов домой, на Беговую, где мы жили с ним по соседству, шли пешком, заговорили про «Двое в степи». В ту пору эта повесть была у всех в памяти и вызывала разноречивые оценки. Некоторым критикам и писателям казалось, что автор поставил своих героев в исключительные условия, что обстоятельства, в которых оказались Огарков и Джурабаев, нетипичны.
— А я и не собирался изображать типичный случай, — говорил Казакевич. — Для меня важно, что Джурабаев действует по уставу. И никто не может сказать, что действия по уставу нехарактерны. В первый период войны Огарков мог уцелеть. А вот характер конвоира другим быть не может: он выполняет свой долг, верность присяге. Им кажется, что это неправдоподобно. А «Дон Кихот» правдоподобно? «Король Лир» правдоподобно? Пьер Безухов на редуте Раевского во время Бородинской битвы!.. Если бы такое было в действи-
385
тельности, этого графа послали бы знаете куда?! «Гамлет» кончается тем, что все поубивали друг друга. Такого не бывает. Но искусство — всегда то, чего еще не бывало.
Постоянно вспоминаю его. Вижу то в Москве, то во Флоренции, в Праге, в Переделкине, в Риме, на улице, в гостинице, в Союзе писателей, в редакции, в Колонном зале, и снова на площади святого Петра в Риме, и снова в Москве, у него дома, у меня дома, у Заболоцких... Вспоминаю его голос, приглушенный, довольно высокий, быструю речь. Вижу его лицо — задумчивое, серьезное, спокойное, часто сурово-сосредоточенное. Всегда думающие глаза. И внезапный переход к стихотворным экспромтам, к шуткам, хохот, делавший его лицо счастливым, наивным и озорным.
— Сегодня я товарищ Улучшанский, — говорил он. — Я переписал заново пять страниц. А вчера вечером я был товарищем Ухудшанским, — пришлось выкинуть несколько строк, а они мне нравились.
(Вообще к Ильфу и Петрову мы прибегали довольно часто, я имею в виду романы.)
Конечно, он был прав, надо было записывать интересные разговоры, мысли, которые приходили на ум не только ему, но и мне.
Однажды — это было еще на Беговой — мы с Вивой пошли к Казакевичам. У них было еще несколько человек. Сложился разговор о войне, и я стал рассказывать о генерале Чанчибадзе — не ту историю, которую я часто исполнял и которую все знали, а другую — о том, как на 4-м Украинском фронте в августе 1943 года корпус Чанчибадзе, овладев холмом, не мог сразу взять курган, который на карте значился как «высота + 8,0». Как, наконец, дивизия взяла ее, а ночью противник контратаковал, и она снова перешла в руки врага и задерживала не только корпус, но и движение соседей. Пренебрегая опасностью потерять управление корпусом, Чанчибадзе, взяв замполита и меня (я был в командировке от газеты «Боец РККА»), поехал выправлять положение, явился на КП батальона и под прикрытием ИПТАП сам пошел поднимать бойцов в атаку, а с собой взял и меня. Я рассказывал о буре огня, о броске вперед, показывал генерала, его гнев, и пыл, и отвагу, и решения, и ответный огонь минометов... Внимание Казакевича воодушевляло меня, и второй раз я потом эту историю так рассказать уже не мог.
— Эта война не по уставу, — сказал Казакевич, — в таком виде это не напечатаешь, но записать это нужно, хотя так, как он исполняет, он записать не сможет. Тут надо и видеть
386

В Венеции. Весна 1960 г.
и слышать. А что стенограмма! Но, Ираклий Луарсабович, это очень хорошо. Это — большая литература.
В собственных глазах я поднялся на еще несколько ступенек выше. Так важно и дорого было мне его мнение.
Так «Высота плюс восемь ноль» и осталась незаписанной. И на публике не исполнялась ни разу. Да я и не смог бы снова рассказать ее так, как рассказывал при Казакевиче.
Когда он получил квартиру в Лаврушинском, а мы переехали на улицу Кирова, встречи стали совсем редкими. Но вот в начале 1962 года мы в составе туристской писательской группы поехали во Флоренцию на конгресс Европейского сообщества писателей и тут подружились по-настоящему.
После Флоренции был Рим, где нас поселили с ним в одном номере, и более двух недель мы виделись все время, кроме тех часов, когда спали. Спали мы мало, а разговаривали много. Говорили о «Сердце друга», о «Весне на Одере», о «Синей тетради», о новом замысле — написать о советской дипломатии в первые годы революции. И о работе над романом о тридцатых годах.
Однажды Эммануил Генрихович стал читать стихи Тютчева. Тут выяснилось, что он знает наизусть тысячи стихотворных строк.
— Я много переводил и натренировал память, — говорил он, видя мое удивление. — Специально я не заучиваю.
Он глубоко уважал Юрия Карловича Олешу:
— Олеша писал только то, что хотел сказать, и ни разу не покривил душой.
Мысли об Олеше он записал для радиопередачи. Магнитная лента сохранила интонации Эммануила Генриховича и чудно передает его прямой характер, его торопливую убежденность. Я потом включил эту запись в пластинку фирмы «Мелодия» — «Говорят писатели» (диск второй). И Казакевич говорит там так, как говорил в жизни.
Он очень доброжелательно относился к молодым.
— Я очень на него рассчитываю, — сказал он о молодом поэте, с которым был мало знаком. Прочел его стихи. Потом прибавил: — Боюсь, что на этом все кончится.
Мы часами гуляли по Риму. В музеях Казакевич отставал от остальной компании, потому что не просто глядел на картины и статуи, а изучал их, рассматривал с разных точек. Он приехал в Италию во второй раз и заранее говорил мне, Антонову, Гранину, на что следует обратить внимание особое. Иногда, если кто-нибудь из нас находился неподалеку, он окликал его и комментировал полотна так, что
388
можно было от неожиданности захохотать в голос. Особенно если в лицах апостолов находил сходство с кем-нибудь из членов Союза писателей. Это не мешало ему в следующую минуту говорить о той же картине всерьез и очень тонкие вещи.
Остроумный, с тонкой выдумкой, он не чурался самых незамысловатых шуток и каламбуров. Когда мы ехали из Флоренции в Рим, — кроме нас десятерых, в автобусе никого не было, — Казакевич предложил делить слова так, чтобы получались имя и фамилия. Скажем, Веневитинов — Веня Витинов, Бенедиктов — Беня Диктов. Пиня Целин и Феня Цетин... Игра незамысловатая, но для дороги годится.
Все сочиняли. Я не мог выдумать ничего. Казакевич подходил ко мне:
— Как! Вы ничего не придумали? Это — позор!
У меня ничего не выходило. Казакевич строго шептал:
— Мне за вас неловко перед товарищами! Хотите, я подарю вам свое, а вы скажите, что наконец сочинили.
Я понимал, что он шутит, и все же страдал. Казакевич подходил снова:
— Не выдумали? Я дарю вам первоклассную вещь: велосипед — Василиса Пед.
...Как-то раз, уже в Риме, я предложил ему совершить ночную прогулку. Он отказался — устал. Я пошел с Граниным и Антоновым. Ходили мы, наверно, часа три. Долго стояли у знаменитого Колизея.
Когда я, стараясь не разбудить Казакевича, вошел тихонечко в комнату, он, не открывая глаза, спросил:
— Что вы так долго?
Я сказал:
— Как жаль, что вы не пошли. Была изумительная прогулка.
— Вам кто-нибудь встретился по дороге?
Я понял, к чему он клонит, и сказал:
— Да.
— Кто?
— Коля Зей.
Казакевич открыл глаза и быстро сел на постели.
— Вы это сами придумали?
— Ну, а кто же!
— Я проверю. Он был один?
Я напряг мозги до последней возможности и сказал:
— Нет, с ним была целая рота Зеев.
Казакевич выдохнул и упал навзничь.
389
— Вы не можете представить себе, как вы меня обрадовали! Я просто страдал оттого, что вы в этой игре оказались такой бездарностью!
Тут мы стали рассказывать друг другу разные истории и так хохотали, что швед, живший за стеной, прислал сказать, что он сделал попытку заснуть, но она окончилась неудачей.
Вообще он был бодр, о болезни говорил в прошлом времени. Вернулись в Москву. Я был у него после майских праздников, если не подводит память, 8-го. В конце мая болезнь возобновилась. Его положили в Кунцевскую больницу. Мы с женой приехали его навестить. Он еще шутил насчет желтизны своей кожи.
Пользуясь моментом, когда женщины вышли в коридор, он сказал мне:
— Ираклий Луарсабович, болезнь развивается быстро. Меня окружают женщины. Возьмите мое лечение в свои руки. Так им будет спокойнее. Это моя дружеская просьба к вам.
Время от времени он замолкал. Боли становились невыносимыми. Я пошел за дежурным врачом. Он сказал, что нужна консультация хирурга. Это было в субботу вечером. Я позвонил домой Дмитрию Алексеевичу Поликарпову, заведующему отделом культуры ЦК. Под утро профессор Овчиннинский сделал Казакевичу операцию. Она продолжалась четыре часа. В семь часов я вернулся в больницу. Овчиннинский снимал резиновые перчатки. Сказал, что сделано все возможное, но положение безнадежное. Спасти Эммануила Генриховича не удастся.
Напрасны были попытки найти способ хотя бы отсрочить конец, испробовать какие-то еще не признанные наукой средства. Галина Осиповна Казакевич, Маргарита Иосифовна Алигер, Ида Марковна Радволина и я вчетвером ездили в Министерство здравоохранения, в Четвертое главное управление... Эммануила Генриховича взяли домой. С ужасом наблюдал я, как надвигался конец, а он, в полном сознании, молча, конечно же думал о том, что оставляет незавершенными начатые работы, которые обозначили бы новый взлет, новые грани его замечательного таланта. Чтобы перебить эту горькую мысль, я раскрываю его прекрасные книги, и вновь убеждаюсь в том, что время не властно над ними, и верю, что воплощенный в них образ этого удивительного писателя никогда не умрет.
26 января 1978 г.
Маргарита Алигер
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА
Ну как, Маргарита, ваша решимость не померкла при свете дня? — спросил Казакевич, позвонив мне в тот час, о котором мы твердо условились накануне вечером.
— Ни в малой мере! — решительно ответила я.
— Тогда не пора ли бросать работу и выходить на солнышко?
— Ну что ж, я готова.
Когда я через несколько минут спустилась на улицу, он уже ждал у моего подъезда.
— Как будем добираться? — спросил он, близоруко оглядывая залитый апрельским солнцем Лаврушинский переулок. — Старик Моисей любил таксей...
— Какого черта! В такой-то денек? — возразила я.— Послушайте, а не пойти ли нам пешком?
— Здоровая мысль! — быстро согласился он. — Путь неблизкий, но и не то чтобы дальний. Прогуляемся и по пути еще раз взвесим все «за» и «против».
— Никаких «против» я не знаю и ничего взвешивать не буду, — снова не согласилась я. — А прогулка у нас будет чудесная.
И мы отправились.
С Лаврушинского свернули по набережной, оттуда Москворецким мостом на Красную площадь и дальше, по улице
391
Горького... День выдался на диво, и мы шли легко и весело — нам всегда бывало весело вместе.
Нет, это была не просто прогулка. У нас была цель. Мы шли на Пушкинскую площадь в редакцию «Известий», несли туда новый рассказ Казакевича. Накануне вечером я долго уговаривала его совершить эту акцию и вот, кажется, уговорила.
О чем мы говорили в неблизком и неторопливом пути, сегодня, пожалуй, уже и не вспомнишь. Но, разумеется, он припоминал и рассказывал новые подробности недавней своей поездки в Италию, на конгресс Европейского сообщества писателей, откуда он не так давно вернулся. И, как всегда, перемежал серьезное со смешным и продуманное с наблюденным.
И наряду с впечатлениями от скульптур Донателло и своим ощущением политической атмосферы в нынешней Италии снова с удовольствием повторял сочиненную им эпиграмму:
Сегодня выступал в Палаццо Веккио
один простой советский человеккио.
И живо и весело рассказывал о своих спутниках, над одним подшучивая, другого всерьез оценивая и хваля, третьего презрительно уничтожая. Он неизменно привозил из каждой новой поездки новых людей, порой даже новых друзей, — люди очень тянулись к нему, он привлекал их своей яркостью, умом, остроумием, человеческим блеском, который быстро открывался окружающим. Вот и несколько его итальянских спутников приехали глубоко увлеченные им. И его заинтересовали иные из них, но даже и над интересующими его, приятными ему людьми он охотно подтрунивал. Хороший товарищ, глубоко порядочный человек, во имя острой и блестящей шутки он был способен даже на некоторое вероломство.
Он вообще обожал мистификации и был поистине мастером высокого класса в этом жанре. Однажды они с женой сидели в первых рядах кресел Большого театра на балете с участием Улановой. Вокруг была блестящая публика, постоянные почитатели таланта знаменитой балерины, и спектакль, как обычно, закончился долгими, бесконечными овациями, вызовами, восторгами. Казакевич во всем этом принимал горячее участие, но вдруг, уловив момент, когда стало несколько потише, сказал громко, так, что было слышно на несколько рядов вокруг: «Слушай, Галя, может быть, останемся на второй сеанс?» В другой раз они отправились с Д. Даниным на
392
Международный шахматный турнир, проходящий в Концертном зале имени Чайковского. Просидели целый вечер, взволнованно следя за игрой великолепных мастеров — Ботвинника и Бронштейна, а когда выходили в потоке возбужденных зрителей, Казакевич вдруг громко сказал, обращаясь к своему спутнику: «Безобразие! Где же концерт? За что деньги взяли?! Сидят два очкарика, играют в сашки... Подумаешь, есть на что смотреть! Надо потребовать деньги обратно!» Любители шахмат возмущенно загудели, а смущенный Данин едва уволок все еще порывающегося поскандалить Казакевича.
Но вернемся, однако, к нашей прогулке.
Еще одну линию нашего разговора я помню отчетливо, ибо она носила, условно говоря, несколько конфликтный характер, и едва бы я удержалась в течение столь долгой прогулки от того, чтобы не вернуться к волнующей меня тогда теме. Постараюсь покороче изложить суть дела.
Осенью минувшего 1961 года гуляли мы как-то в переделкинской березовой роще. Гуляли, говорили о том о сем — тем для разговора у нас бывало предостаточно, — и вдруг он сказал как-то очень буднично и просто, словно о чем-то несущественном:
— Давайте напишем вместе пьесу.
— Давайте, — так же просто и не задумываясь согласилась я. Но, помедлив, все-таки спросила: — А о чем?
Спросила, отлично понимая, что сейчас последует вполне определенный ответ. Ибо Казакевич был буквально набит сюжетами, замыслами, планами. Он и ответил сразу и очень коротко, буквально в нескольких словах изложив достаточно острую тему, очевидно не столь давно пришедшую ему на ум, ибо она была связана с некоторыми реальными и недавними событиями.
Я была несколько ошарашена — так все было внезапно и в лоб. И речь, честно говоря, шла о чем-то столь чужом для меня, далеком и даже непривлекательном... Но ответить я не успела.
— Ну ничего, ничего, не спешите, подумайте все-таки, — сказал мой спутник, очевидно безошибочно почувствовавший мое состояние. — Авось что-то вам и придет в голову. По-моему, тут много интересных возможностей.
На том на первых порах разговор и кончился. Больше мы к нему не возвращались. Но у меня в подсознании началось какое-то движение, шевеление, вызревание. И очень скоро я поймала себя на том, что непрестанно и в разных связях думаю о столь мимолетном предложении Казакевича.
393
И оброненные им два-три слова стали упорно превращаться в сюжет, населенный людьми, обстоятельствами, переживаниями.
— Знаете, я ведь все время думаю о вашем предложении, о пьесе. И представьте, что-то начинает придумываться, — сказала я ему как-то. — Может быть, рассказать вам? Подумаем вместе...
— Непременно! — с жаром отвечал он. — Только знаете что, не сейчас. Сейчас я снова по уши влез в роман, и мне не хочется отвлекаться. Давайте немного отложим. Не возражаете?
Нет, я не возражала, я охотно соглашалась ждать сколько угодно. Я была даже рада тому, что он наконец вплотную занялся романом. Я уже говорила, что он был буквально переполнен замыслами, сюжетами, намерениями, писал одновременно несколько вещей, охотно о них рассказывал, неизменно волнуясь и загораясь, по-моему, как-то уж чересчур лихорадочно мечась между начатыми, а то и неначатыми, незавершенными и только едва забрезжившими работами. То он рассказывал мне о замысле повести «Иностранная коллегия», то читал заготовки и готовые главы из «Московской повести», в персонажах которой подчас без труда угадывались знакомые лица, то вдруг обрушивал на меня поразительные по плотности фактуры двух-, трех-, а то и полустраничные «Были двадцатого века», то вспоминал о давно задуманной «повестушке» «Озеро Рица» и даже начинал собираться на это прохладное горное озеро. Но за всем и надо всем неизменно нависал роман, задуманный очень крупно и значительно. Я уже отлично была знакома с его замыслом, — Казакевич часто и обстоятельно рассказывал мне о нем и читал куски и целые главы, и так все это было талантливо, интересно и серьезно, что очень уж хотелось, чтобы он сосредоточился на этой вещи и завершил роман. А он так часто по тем или иным причинам отвлекался, с такой недоступной моему пониманию судорожностью бросало его из стороны в сторону, что порой становилось даже тревожно. Меня его творческое богатство ошеломляло и восхищало, но чем-то и пугало. Не могла я как-то уловить законов, по которым он работал, и постичь, что заставляло его вдруг бросить роман и совсем ненадолго кинуться к одной из повестей, а то еще вдруг заняться чем-то совсем неожиданным, вроде перевода-пересказа итальянского «Пиноккио». Хотелось, чтобы он как-то систематизировал и организовал свою работу, что-то завершил, довел до конца... Чтобы присутствовала какая-то
394
логика, какая-то последовательность, которая, наверно, существовала для него, но упорно ускользала от меня. Естественно, что я-то уж не стала отвлекать его еще и пьесой. Однако замысел ее становился все плотней, все весомее. Мне уже невмоготу стало носить все в голове, меня уже потянуло к бумаге. И я принялась за работу, и работа пошла, увлекая и радуя меня. Что-то получалось, определенно получалось, и я, по своему обыкновению, решила начерно дописать пьесу до конца, а затем вернуться к ней и перебелить ее, занявшись ее тщательной внутренней и внешней отделкой. И на последнем этапе я очень рассчитывала на помощь моего соавтора, на его великолепный глаз и безошибочный слух, на самое его присутствие в пьесе.
Где-то в начале марта я начерно закончила пьесу, о чем и доложила Казакевичу. Он сидел на даче, сразу же захотел услышать написанное, и я приехала к нему в многоснежное еще, однако уже обещающее весну Переделкино. Он слушал мое чтение, как всегда, очень внимательно, оживленно реагировал, несколько раз даже перебивал меня восторженными возгласами: «Молодец, Маргарита!» — и, дослушав, шумно стал поздравлять меня с удачей. Я была рада его реакции, но отлично понимала, что восторги его весьма и весьма преувеличены, что работа еще предстоит огромная, а вот тут-то он мне и понадобится.
— Вот и чудесно! Я рада, что вам это нравится. Теперь и вы подключайтесь, и займемся вместе доведением до кондиции, — перебила я его похвалы.
— Зачем? — пожал плечами мой соавтор. — Пьеса, в сущности, готова, и уж теперь я вам решительно не нужен. С отделкой сами управитесь.
Я горячо возмутилась: как же так, именно сейчас-то он мне и позарез нужен, именно сейчас я на него рассчитывала и многого от него ждала. Но он был непреклонен и наотрез отказался от всякого участия, не видя в нем никакой необходимости, раз уж я сама сумела сделать самое главное, разработать и разложить на голоса его более чем лаконичную мысль. Если же мне в чем и понадобится его помощь, так ведь мы всегда, чем можем, помогаем друг другу, но при чем же тут соавторство? И вообще у него сейчас воз работы, уж я-то знаю — и началось обычное, отлично мне знакомое и совершенно меня обезоруживающее перечисление, плюс некоторые новые намерения, возникшие, очевидно, в самое последнее время.
Сперва я надеялась его уговорить, потом, поняв, что
395
ничего не выйдет, обиделась и даже рассердилась. Сейчас мне уже трудно восстановить, что именно в сложившейся ситуации меня обижало, но помню отлично все свои ощущения, очень глубокие, даже болезненные. Мне казалось, что он предал меня, бросил, обманул... А он, упорно стоя на своем, выдвигал все новые и новые резоны:
— Вам осенью не работалось, и мне хотелось вывести вас из этого состояния, что, как видите, отлично удалось...
— Но ведь идея-то ваша...
— Подумаешь, идея! Могу вас завалить своими идеями. Мне с ними самому за всю жизнь не справиться... (Бедный, не знал он тогда, какая горькая правда таилась в его столь риторическом возгласе.) Наконец, подарил же Пушкин Гоголю идею «Ревизора». Чем я хуже Пушкина?! — без ложной скромности заключил он.
— Вы мне льстите, — устало отмахнулась я.
Он и впрямь охотно и щедро делился с людьми переполняющими его идеями и замыслами. К нему можно было прийти со своими планами, затруднениями и сложностями, и он умел вникнуть в чужие намерения, и увлечься ими, и помочь автору, и придумать и щедро подарить ему что-то свое. Но бывало и наоборот: услышав чей-нибудь интересный рассказ, почувствовав в нем нечто близкое, свое, значительное для него, он мог, не задумываясь и даже не спрашивая разрешения, забрать его себе и написать по-своему. Так случилось когда-то с сюжетом рассказа «Двое в степи».
На Пушкинской площади, у «Известий», разыгралась следующая мизансцена: Казакевич достал из внутреннего кармана пальто рукопись, передал ее мне, пожелал «ни пуха ни пера», я в ответ послала его к черту, поднялась в отдел литературы и искусства, где и оставила рукопись. Автор ждал меня на улице. Во всей этой достаточно странной процедуре был некий туманный смысл: считалось, что у меня легкая рука. К такому заключению Казакевич пришел на протяжении последних примерно полутора лет, когда он много и тяжко болел и немало времени проводил в больницах, и так как в то же время серьезно хворала и его жена, то я старалась, чем могла, помочь ему хотя бы в литературных делах. Именно тогда долго и сложно решался вопрос о публикации повести «Синяя тетрадь». К этой вещи Казакевич относился трепетно, и с ней для него было связано уже немало переживаний, вплоть до осложнившихся почти до разрыва отношений с «Новым миром», то есть с Александром Твардовским. Последний, несмотря на близкую дружбу и глубокий
396
интерес к Казакевичу как к писателю, по каким-то своим литературным соображениям отверг эту повесть. «Синей тетрадью» заинтересовался редактор «Октября» Ф. И. Панферов. Однако с публикацией «Синей тетради» все было не так просто, и она по разным причинам несколько раз срывалась. Журнал упорно не отказывался от своего намерения, и после смерти Панферова в конце концов повесть все-таки была напечатана. Предшествующие ее появлению месяцы Казакевич провел в больнице и в санатории и связь с редакцией поддерживал через меня. Потому-то он и решил, что ее напечатанью способствовала я и что у меня, стало быть, легкая рука. Вот он и захотел, чтобы и новый рассказ в редакцию передала я. Во всей этой возне был, разумеется, элемент игры, но играли мы, соблюдая при этом полную серьезность. У Казакевича была даже вполне подходящая к случаю железная формула: «Мы — суеверные марксисты».
— Все,— сказала я, вернувшись.— Все. Дело сделано. И перестаньте, пожалуйста, вибрировать.
Он, разумеется, отшутился, но и впрямь успокоился и на обратном пути был весел, доволен, даже благостен. Я понимала, однако, что «вибрировать» он не перестанет — очень уж напряженно относился он ко всякой своей работе, связанной с ленинской темой. Тема эта отнюдь не ограничивалась «Синей тетрадью» — у него был задуман целый ленинский цикл, — и тема эта, повторяю, была для него чрезвычайно значительна и дорога. Он был убежденным ленинцем в истинном и изначальном смысле этого слова, личность Ленина глубоко и остро интересовала его и бесконечно много для него значила. Он был убежден, что, снова и снова возвращаясь к ней в своей работе, он сумеет в разных аспектах прояснить многое и в нашем времени, ответить на иные живые и жгучие вопросы нашей современности.
— Знаете, что я решил предпринять в порядке борьбы с вибрацией?— заявил он мне на следующий день.— Уехать из Москвы. Поеду в Харьков и в Одессу работать в архивах. Надо всерьез приниматься за «Иностранную коллегию». Самое время. Поеду на машине, возьму с собой старика Южного... С ним я гораздо больше найду и узнаю... Да и весна в Одессе дорогого стоит. Лучшего времяпрепровождения и не придумаешь.
Южный был старый одесский большевик-подпольщик, во время интервенции Одессы возглавлявший контрразведку подпольного обкома партии. Казакевич давно уже разыскал его в Москве, и Южный охотно делился с ним всем, чему был свидетелем.
397
Начались сборы, подготовка машины... И они уехали.
Нет, я не ошибаюсь, дело было именно в первой половине апреля. А в середине месяца я уехала на несколько дней в Ленинград, что было связано, кстати сказать, с пьесой, о которой речь шла выше.
Чуть ли не на следующий день по приезде Казакевич разыскал меня по телефону в «Октябрьской» гостинице.
— Откуда вы? — изумилась я. — Из Харькова? Из Одессы?
— Из Москвы! — весело кричал он. — Как ваши дела?
— Отлично. Пьеса понравилась. Театр предлагает заключить договор.
— Чудесно! — гремел Казакевич. — Поздравляю вас! И еще поздравляю вас с тем, что ваша репутация себя оправдывает. Не опоздайте купить сегодняшние «Известия», там будет напечатан мой рассказ. Когда в Ленинград приходят «Известия»?
Голос его буквально звенел от счастья, и, всей душой откликаясь, я не могла не понять, что звонил он лишь затем, чтобы поделиться своей радостью. Судьба пьесы его не шибко интересовала.
Решив печатать рассказ, газета стала звонить автору и при помощи домашних разыскала его в Харькове.
— Я бросил там Южного и машину и рванул в Москву, — рассказывал он. — Кое-какие мелочи пришлось сделать. И вот — рассказ в газете. Завтра-послезавтра вернусь в Харьков, и поедем дальше...
Но это ему не удалось.
В Москву я вернулась 19 апреля, дневным самолетом, чтобы успеть вечером в гости к Каверину, — ему исполнилось шестьдесят лет. Вероятно, именно там я узнала, что Казакевич в Москве. Почувствовал себя худо и побоялся нелегкой автомобильной поездки. Очень возбужденно переживал появление в печати и успех нового рассказа, интерес, им вызванный. Я с горечью подумала о том, что «Иностранная коллегия» опять откладывается...
Поездка сорвалась непоправимо. Казакевич вернулся в Переделкино, похварывал, но и работал. И тут в печати появилась резкая критика его последнего рассказа. Рассказ был исторический, и его критиковали с точки зрения достоверности — так ли было на самом деле или не так? — совершенно игнорируя право литературы на домысел, осмысленный и сознательный, во имя некоей авторской концепции, сверхзадачи, идеи. Увы, подобная критика произведений, посвя-
398
щенных историческим событиям, у нас, к сожалению, случается, и я подчас с горечью думаю о том, что с подобной позиции можно было бы и «Моцарта и Сальери» стереть в порошок, и разнести в пух и прах великие шекспировские хроники. Уж во всяком случае подобная критика не потерпела бы и не допустила бы бессмертной сцены обольщения Ричардом Анны у гроба короля Генриха.
На Казакевича столь решительное наступление критики произвело неожиданно для меня сильное впечатление. По мне, так самое важное, чтобы вещь была напечатана, а уж там — пусть критикуют как хотят, читатель имеет возможность судить сам. Но на сей раз мы с Казакевичем общего языка не нашли. Он был вне себя от ярости, рвался на борьбу, что всегда кажется мне бессмысленной потерей сил, столь нужных для работы. Он вообще бросил работать, принялся сочинять ответ своему оппоненту, добиваться его опубликования в той же «Литературной газете». Написал несколько вариантов, один другого острее и злее, но был все еще не удовлетворен, все еще что-то переписывал, дописывал, правил, смягчал, заострял — словом, потратил на злополучный ответ критику бесконечно много времени, душевных сил, нервной энергии... Я собиралась в туристскую поездку в Японию, предотъездные дни были, разумеется, очень загружены, и все-таки накануне отъезда я по его просьбе приехала в Переделкино, и мы снова читали, правили, сокращали, дополняли злополучное письмо. Я просила его успокоиться, остановиться, перестать тратить силы... Отдать, наконец, письмо в газету и забыть о нем, приняться за работу, прийти в себя...
— Ну ладно, пусть это будет последний вариант, окончательно и категорично. Сегодня вечером пусть Галя его перепечатает, завтра вы отдадите его в газету, после чего хорошенько прогуляетесь, потом поспите, потом сядете за стол, на котором уже не будет никаких следов письма, никаких черновиков, никаких вариантов... Чистый стол, а на нем что угодно, только не эта нескончаемая полемика.
— Да, да... — рассеянно соглашался он. — Вы правы...
— Дайте мне слово, что вы именно так поступите.
— Даю слово.
С тем мы и распрощались.
Эту последнюю строчку я написала несколько дней назад. Написала, поставила точку, опустила руку с карандашом и задумалась. И поняла, что не знаю, как продолжать, как, какими словами, какими силами писать дальше. Ибо прости-
399
лись мы в одном мире, в мире, где была весна, работа с ее радостями и горестями, дружба с ее прихотями, подчас даже и обидами, широко распахнувшийся мир — Италия... Япония; жизнь, прекрасная со всеми оговорками, трудностями, огорчениями... А встретились мы в другом мире, в мире горя, болезни, страдания... Словно бы самолет с Дальнего Востока, вернувший меня из Японии домой, приземлился совсем на другой земле, совсем не на той, весенней и полной жизни, с которой я улетала. А все ее сложности и огорчения, в том числе и критика злополучного рассказа, как они, в сущности, были ничтожны и несущественны... Горе, громадное и чугунное, о которое я словно лбом ударилась, едва ступив на родную землю, заполнило собой все, вытеснив воздух, свет, работу, радости, изумления... Я не помню, какое стояло лето в то лето, не помню никаких жизненных подробностей, никаких частностей и обстоятельств, из которых слагается повседневная жизнь. Только неослабевающее напряжение, какую-то одержимость, исступленное желание что-то сделать, что-то придумать, чем-то помочь... И я не знаю, как писать об этом, какими словами и изобразительными средствами, и я не хочу, не могу писать об этом, не желаю писать об этом, и вот, однако, все-таки пишу... И все написанное мной выше — истинная правда и в то же время не вся правда, ибо все в жизни, вся жизнь, даже самые страшные ее периоды никогда не бывают однозначны и одноплановы, никогда не могут быть исчерпаны одним оттенком, одним определением.
Все мы, друзья его — нас оказалось немало, — делали все, что было в наших силах, — их оказалось немало, гораздо больше, чем можно было предположить, — чтобы что-то изменить, не допустить, переспорить. Сперва добивались разрешения на лечение методом, еще не утвержденным и не признанным нашей медициной, который, однако, давал хоть малую надежду. Когда же стало ясно, что нам не удастся нипочем добиться применения этого метода в больничных условиях, забрали его из больницы домой, где было все организовано и налажено для необходимого лечения. Выписали из Ленинграда врачей, применявших уже несколько лет новый метод, нашли и в Москве молодого талантливого врача, который взялся в домашних условиях применять новое лечение. Все, что требовалось, появлялось. Все, что могло помочь, добывалось. Все было пущено в ход: японские корреспонденты «Правды» и «Известий» присылали японский митомицин. Японские специалисты, оказавшиеся в это время на съезде онкологов в Москве, были привезены на дом и давали москов-
400
ским врачам указания, как плодотворнее применять их отечественное лекарство.
Стояло лето 1962 года, несколько месяцев тому назад едва не погиб в автомобильной аварии известный физик Л. Ландау. В борьбе за его жизнь горячее и активное участие приняли его друзья, обеспечив врачам множество необходимых условий: немедленный транспорт, получение необходимых лекарств даже из-за границы, круглосуточное дежурство на всякий случай. Мы решили перенять их опыт. Чтобы облегчить домашним круглосуточный уход за больным, в доме всегда дежурил кто-нибудь из товарищей, всегда был наготове куда-то позвонить, куда-то съездить, что-то подвезти...
Но, увы, если жизнь Ландау была спасена и продлена еще на несколько лет, нам в нашем случае это не удалось.
Когда его привезли из больницы, он был ужасно слаб, молчалив, печален, даже подавлен пережитым, еще не шутил и, казалось, ничем не интересовался. Чуть что не в первый вечер он говорил мне совсем тихо, с заметным усилием:
— Знаете, я помню, я все помню... И операцию, и все, что чувствовал после нее, когда был еще в бессознательном состоянии. Какой-то сверхпамятью, над которой не властны никакие наркозы... Я помню страдание и мое мучительное желание до конца вникнуть в него, осмыслить, что оно такое есть... Чтобы суметь написать его когда-нибудь... И знаете, что было главным? Мне все время удавалось зафиксировать столь твердо, что я, даже очнувшись, помню это: я осознавал не состояние, не физическое ощущение, я все время определял: вот тут это Толстой, а тут Достоевский. Они оба уже задолго до меня написали, что такое страдание... Даже физическое. Я теперь убежден: их не следует разделять и противопоставлять друг другу. Они нераздельны и взаимодействуют неотделимо один от другого. Потому-то это так грандиозно. Если бы они не существовали рядом и вместе, они не были бы так велики, каждый из них. Я теперь в этом убежден...
Все мы жили двойной жизнью, о чем точней всех написала в своих воспоминаниях, увы, уже покойная Ариадна Сергеевна Эфрон: мрачное напряжение и неотступная тревога, словно одежда, сбрасывались у порога его комнаты, куда мы входили оживленно и даже весело, куда приносили все и только то, что могло развеселить и развлечь его, заинтересовать, доставить радость... Тогда и я припомнила позабытую было в момент горького возвращения поездку в Японию, двадцать четыре дня другой жизни, столь жестоко оборвавшейся.
401
Его занимали все новые и новые подробности, вспыхивающие в моей памяти. Он расспрашивал и переспрашивал, и случалось, что сам отвечал на иные вопросы, потому что знал бесконечно много, всем на свете интересовался и мог порой вспомнить, рассказать, объяснить совершенно неожиданные факты, исторические события, явления жизни. Он был глубоко, всесторонне и многогранно образован, причем образовал он себя сам, широтой интересов, жадным и умным чтением, ибо, в сущности, нигде и ничему долго и систематически не учился. Чтобы понять меру его образованности, достаточно было приглядеться к его библиотеке, собранной, кстати, уже после войны, в последние десять — двенадцать лет жизни, — до тех пор ему не на что было покупать книги и негде было их держать. Книги заполняли от пола до потолка стены самой большой комнаты в квартире, и это была библиотека истинно интеллигентного и высокообразованного человека.
Он был недолог, увы, период, о котором я пишу, — июль — август, первая половина сентября... Меньше трех месяцев... А кажется, что целая жизнь... Целая горькая, страшная жизнь, но все-таки жизнь, в которой рядом с горем и страданием соседствует и радость — сегодня все хорошо, ничего не болит, дело идет на поправку, — и шутка, и улыбка, которым он бывал так рад, на которые так охотно откликался. Ибо чувство юмора, неисчерпаемое и блистательное, никогда не покидало его, даже в самые тяжелые моменты.
Он любил дурацкий анекдот о том, как человек, у которого только что умерла жена, приезжает к ее отцу и просит замуж сестру покойной, и когда и вторая вскорости умирает, снова приезжает к отцу и сообщает ему: «Папа, вы же будете смеяться, но вторая тоже умерла!» Это дурацкое «вы же будете смеяться...» стало у нас неким условным термином. Уезжая из Москвы, он писал мне, часто начиная так письмо. Ложась на операцию накануне моего возвращения из Японии, он просил близких непременно сразу же передать мне: «Маргарита, вы же будете смеяться, мне опять будут резать живот...» И когда мы наконец увиделись, он, еще совсем слабый и жалкий, тем не менее первым делом спросил, передали ли мне все именно так, как он просил. Когда его увозили из дому на последнюю операцию, я прибежала в последний момент, — он уже лежал на носилках, а носилки стояли на полу. Я села на пол рядом с ним, и он жалко улыбнулся и сказал едва слышно: «Вы же будете смеяться...»
И в те последние трагические месяцы мы, сколь это
402
ни странно, много шутили и смеялись, и бывали у нас даже и веселые вечера и дни, и он, как обычно, без конца шутил и сочинял веселые стихи по самым невеселым поводам. Так, одну из ленинградских врачих, часто наезжавших к нему, звали Нина Дмитриевна, а московского врача, постоянно при нем находящегося, звали Юлий Зусманович, и я не припомню сейчас целиком грустного и шутливого стихотворения, в котором рефреном повторялись горькие строки: «Я снова промаялся нынче всю ночь, и мне безуспешно старались помочь Лжезусмана сын и Лжедмитрия дочь...» Сохранились ли они, эти стихи? Да и многие другие... Он легко и празднично владел стихом и неизменно по самым разным поводам сочинял короткие эпиграммы и длинные баллады и поэмы. Их собирала и переписывала тайком от него его старшая дочь Женя, очень близкий ему человек.
А еще мы несколько лет играли в имена-фамилии, которые образовывались из разных слов, с полным правом любым образом нарушать правописание и орфографию. Например: Мотя Матик, Братья Геня Рал и Миня Рал... Были у нас иностранцы: чех Элик Тричка, американки Мисс Ури и Миссис Сипи; были аристократы: Леди Нец и Сэр Пуховски-Универмаг и некая Дора Говизна. Но я придумывала множество вариантов и тут же чаще всего их забывала, а Казакевич все собирал, записывал, систематизировал. А то начинал он вдруг собирать всевозможные прилагательные к слову «писатель» или синонимы слова «дурак». И исписывал несколько страниц, и это бывало очень неожиданно и остроумно. Трудно припомнить и перечислить все литературные игры, игры со словом и игры словами, которые он изобретал, в которые увлеченно и подолгу играл, вовлекая и окружающих.
Понимал ли он, что происходит и всю тяжесть собственной трагической ситуации? Наверно, и да и нет. Когда ему стало снова худо — в мае — июне 1962-го, — упорно и деловито пытал лечащего врача, умную и чуткую женщину, Анну Наумовну Голодец:
— Сколько вы даете мне времени? Год даете? Мне нужен год, чтобы закончить первую часть романа. Есть у меня этот год?
И в то же время, разумеется, надеялся на улучшение, до последнего часа надеялся, ждал его, верил в него.
Иначе, разумеется, не согласился бы на последнюю, уже совершенно бессмысленную, совершенно безнадежную, мучительную операцию. («Эгоизмом близких» назвал эту опера-
403
цию умный врач и умный человек, покойный профессор Лев Александрович Зильбер.) Но ежели я ошибаюсь, ежели он все понимал, то можно только низко поклониться его неколебимой решимости никого своим пониманием не обременять, никого не впускать в мир своих последних раздумий. Для подобной решимости необходимо огромное мужество.
На некоторое, увы недолгое, время состояние его заметно улучшилось, и все мы были переполнены надеждой. Сам же он заявил с обычной решительностью:
— Я здоров как бык. Надо приниматься за работу. Хватит валять дурака!
И попытался начать диктовать. Но ничего из его попытки не вышло. Ему с трудом удалось справиться с маленьким предисловием к двухтомнику, выходящему в Гослитиздате. Он быстро уставал и быстро отказался от попыток работать. Именно в те дни его навестил однажды один наш общий приятель. Вечером Казакевич подробно рассказывал мне об их встрече. Рассказал и о том, что его гость поделился с ним тревогами о своем здоровье и раздумьями о возможном конце:
— Недавно он был один на даче и внезапно дурно себя почувствовал. Что-то с сердцем. К утру все обошлось, но он решил, что это первый звонок и надо на всякий случай подготовиться. Написал завещание, литературное завещание, скорее распоряжение. Составил список лиц, которым доверяет после смерти свое литературное наследство. И вы, между прочим, попали в этот список...
Я с тревогой слушала его рассказ и вся напряглась, решив, что наш общий товарищ завел столь странный разговор со смертельно больным человеком для того, чтобы заставить его задуматься о тех же достаточно существенных вопросах. И вот он сейчас именно об этом и заведет речь со мной. И я должна разговор этот принять спокойно и серьезно, без отшучиваний и жалких слов. Ну, единственно, что я могу себе разрешить, это повернуть разговор так, будто бы об этом стоит задуматься каждому из нас... Но решимость моя оказалась ни к чему, — он ни о чем подобном речи не завел. Ни разу не заговорил он о близком конце и в самые последние дни, в больнице.
В один из самых последних дней, чуть ли не накануне конца, меня подвез к Казакевичу в больницу Александр Твардовский. Они были друзьями по большому счету, подружились в первые послевоенные годы, ездили вместе
404
на Дальний Восток, близко и часто общались. В последние годы в их отношениях не раз возникали осложнения, но их всегда неизменно тянуло друг к другу. А уж когда грянула беда, Твардовский, со всем присущим ему жаром сердца, кинулся на помощь и принимал горячее участие во всех наших хлопотах и заботах. Он часто навещал больного, полный, как и все мы, боли за него, тревоги и надежды, отлично понимая, что такое Казакевич и какая невосполнимая потеря нам грозит. В тот день все эти чувства совместились в нем со счастливым возбуждением, с нескрываемой радостью — в этот день он одержал победу в долгом и нелегком литературном споре и был переполнен торжеством. И очень хотелось ему поделиться своей радостью с Казакевичем, но в больницу его уже не пускали.
— Так вы все подробно ему расскажите. Непременно расскажите...— в который раз напутствовал он меня, прощаясь. И я, разумеется, сразу же все подробно пересказала совсем обессилевшему Казакевичу. Он слушал меня взволнованно и радостно, насколько это возможно для умирающего человека, и даже в глазах его, полных боли и страдания, появилось что-то иное, какое-то оживление, искорка негаснущего интереса к главному делу его жизни.
— Он молодец, Саша Твардовский! Он молодец! Передайте ему, что я рад, я рад и что он молодец... — с усилием несколько раз повторил он.
В один из последних дней разыгралась незабываемая сцена. В палату вошел молодой врач-анестезиолог и занялся наладкой установки закиси азота, стоящей в изголовье, — этот вид наркоза давали больному в самые тяжелые минуты. Казакевич лежал с закрытыми глазами. Врач заметил, что по щеке из-под закрытых век катится слеза.
— Закись? — негромко спросил он.
— Нет, зависть, — не открывая глаз, ответил Казакевич.
Врач отошел от него, негромко сказав нам:
— Бред. Действие наркоза.
Казакевич с усилием открыл глаза и совсем тихо, очевидно из последних сил, сказал:
— Не бред...— и указал глазами на висящие у постели наушники, откуда слышалась музыка Моцарта... — Тридцать шесть лет, а сколько успел... А я? Надо было все забыть, все бросить... Только писать... Все написать...— и умолк и снова закрыл глаза.
Он лежал один в своей последней палате, и по его
405
просьбе был установлен проигрыватель и все время звучала музыка. Д. Данин принес сюда любимые вещи Казакевича: концерт для гобоя Чимарозо и Моцарта: квинтет для деревянных инструментов и 2-ю часть XVII дивертисмента. Чимарозо все время играли и на похоронах, на хорах Дубового зала Дома литераторов. После похорон Женя спросила у Данина, что это за музыка и как ее достать, и он в ответ подарил ей пластинку. Впрочем, наверняка она имелась и в богатейшей фонотеке Казакевича, — он был глубоко и органически музыкален — чудесно пел и любил петь, в армии ходил в запевалах, — и всем своим существом чувствовал, любил и великолепно знал музыку.
Он был рожден и создан для долгой-долгой жизни, ума и таланта было ему отпущено с лихвой, может быть даже для нескольких жизней,— все, что он задумывал и собирался написать, никак невозможно было успеть за одну жизнь, особенно если принять во внимание, что работать профессионально он начал, собственно, только после войны, когда ему было уже за тридцать. Он был задуман для долгой и деятельной жизни, и по складу характера, по всей природе своей он был деятелем, организатором, со вкусом к организаторской деятельности, с выдумкой, инициативой, талантом. Никто не назначал его ответственным редактором альманаха «Литературная Москва», он был в составе редколлегии — один из многих, — но он немедленно стал главной фигурой, вокруг которой концентрировалась вся работа редколлегии. Во всякой поездке, во всяком мероприятии он немедленно, как-то незаметно и совершенно естественно, становился главой группы, ее центральной фигурой.
Он мог много написать и принести людям много пользы и радости. В сущности, он полноценно проработал всего каких-нибудь пятнадцать лет, если же считать с того момента, как у него появились отдельная комната и рабочий стол, то и того меньше — лет десять — двенадцать. Он не дожил пяти месяцев до своего пятидесятилетия, а он так хотел, так умел, так любил жить.
Смерть лишила его стольких праздников, стольких радостей человеческих. Но ведь все на свете диалектично и противоречиво, и вот мы, пережившие его, знаем уже, однако, сегодня и одно ее великое благодеяние. Ранняя смерть избавила его от страшного горя — ему не пришлось пережить смерти Жени, его старшей и любимой дочери, нелепо и безжалостно погибшей через двенадцать лет после смерти отца. За такую милость можно многое отдать. Пожалуй, даже двенадцать лет жизни.
1976
Л. Левин
КРАСНОЕ СОЛНЫШКО
Из записной книжки: «14 июля 1962 года. 17 часов 55 минут. Дежурю у больного Э. Казакевича. Сменил Даню Данина, дежурю второй раз. Дежурства начались 7 июля, вскоре после того, как Э. перевезли из больницы. Передо мной список дежурных. 7 июля дежурили И. Радволина, М. Белкина. 8 июля — Б. Володин (ночь), М. Алигер, З. Гуревич, М. Берестинский, Б. Рунин. 9 — Д. Данин (ночь), И. Радволина, М. Алигер, А. Бек, Л. Либединская. 10 — А. Рыбаков (ночь), Н. Мельников, М. Алигер, Л. Левин, Б. Володин. 11 — Ф. Светов (ночь), М. Белкина, М. Берестинский, Д. Данин, Н. Чуковский. 12 — В. Кардин (ночь), А. Крон, А. Бек, А. Рыбаков. 13 — Н. Мельников (ночь), М. Белкина, И. Андроников, Г. Корабельников. 14 — Б. Рунин (ночь), В. Кардин, Д. Данин, Л. Левин. Меня должна сменить Радволина. На 15 июля записаны Ю. Трифонов (ночь), М. Алигер, З. Гуревич, В. Рудный, В. Кардин. На 16 — М. Кудинов (ночь), А. Крон, А. Бек, Ф. Светов. На 17 — А. Яшин (ночь), А. Турков, М. Юфит, В. Каверин, Д. Данин».
В дни, когда была сделана эта запись, Эммануилу Генриховичу Казакевичу оставалось жить немногим больше двух месяцев. Он скончался 22 сентября 1962 года.
После очередной операции смертельно больного Казакевича перевезли домой. Друзья решили организовать круг-
407
лосуточное дежурство у телефона, стоявшего на письменном столе в его кабинете. Мысль об этом пришла, вероятно, Данину — незадолго до того он так же дежурил у попавшего в автомобильную катастрофу академика Ландау.
В отличие от Ландау, Казакевича уже ничто не могло спасти. Тем менее могли спасти его наши дежурства. Но свою пользу они все-таки приносили, освобождая родных Казакевича от мучительных ответов на телефонные расспросы, от звонков в аптеки и от множества других разговоров, которые были просто не под силу Галине Осиповне Казакевич и дочерям.
Возможно, кто-нибудь скажет, что приводить список дежурных было не обязательно.
Но уж очень наглядно показывает он, сколько друзей было у Казакевича. Самые разные люди с готовностью бросали все свои дела и усаживались у телефона, чтобы чем-нибудь помочь, как-то облегчить участь если не самого умирающего, то хотя бы его родных.
С грустью перечитываю я сейчас этот список — в нем немало и тех друзей Казакевича, которые ушли, пережив его совсем ненадолго.
Из записной книжки: «Только что заходила Галя — бледная, сгорбленная, усталая. Разговаривает медленно, вполголоса. Сама производит впечатление тяжелобольного человека. Она говорила: «Я же хорошо знаю Эму. Он не способен думать о простых вещах, о которых часто думают люди, — о том, что хорошо бы купить костюм. Голова у него все время полна идей, образов, обобщений. Сейчас он хочет, чтобы голова работала не так отчетливо. Вчера его навестило несколько человек, и с тех пор у него не проходит возбуждение. Конечно, он не может не думать о своем состоянии. Он же видит, как ему плохо. Недавно он сказал врачу: «Правильно поступил Хемингуэй — вовремя покончил с собой. Но я же не сделал самого главного. Мне нужно дописать хотя бы первую часть романа. А после этого я готов. На свете есть огнестрельное оружие».
Весной 1956 года мы встретились с Казакевичем в Кисловодске. Галина Осиповна жила в санатории имени С. Орджоникидзе, мы с ним — в санатории имени М. Горького.
В одном коридоре с нами, занимая такую же узкую комнату-одиночку, жил С. Щипачев. Мы часто гуляли втроем — то до Храма Воздуха, то до Красного Солнышка, а то и до Большого Седла. Традиционные маршруты эти, конечно, известны каждому, кто хоть раз побывал в Кисловодске.
Казакевич отдыхал, лечился и немножко работал.
Незадолго перед тем был впервые опубликован его роман «Дом на площади». Теперь он готовил его для издания в «Роман-газете».
Во время одной из прогулок он сказал:
— Я должен с тобой серьезно поговорить. Меня тревожит твоя дальнейшая судьба. Сколько можно бездельничать? Ты на глазах теряешь квалификацию.
Все, кто знал Казакевича, никогда не забудут его интонацию — комически-серьезную, подчеркнуто аффектированную, полную веселого сарказма. Впрочем, ни одно из этих определений даже приблизительно не схватывает ее неповторимого очарования.
Заслышав эту интонацию, самые серьезные люди невольно начинали улыбаться. На меня она производила особенно сильное действие — едва Казакевич успевал открыть рот, я уже хохотал.
Засмеялся я и на этот раз, хотя и не понимал, куда он клонит.
— Что же ты смеешься, чудак? — с совершенно искренним возмущением воскликнул Казакевич. — Люди, смотрите на него — человек теряет квалификацию, ему грозит голодная смерть, а он смеется!
Не знаю, насколько это было смешно, но я хохотал во все горло. Казакевич остановился и хлопнул меня по плечу.
— Впрочем, не все еще потеряно, — сказал он. — Не унывай. Я нашел выход.
— Какой? — сквозь смех спросил я, все еще не понимая, что он придумал.
— Очень простой. Поскольку ты сам сейчас ничего не пишешь, тебе как воздух необходима хотя бы редакторская практика. Без нее ты наверняка пропадешь. Я хорошо к тебе отношусь и готов спасти тебя. Прочти «Дом на площади». Только без халтуры. Не в общем и целом, а внимательно, с карандашом в руках. Я перечитал здесь это произведение и убедился, что оно еще далеко не совершенно как по форме, так и по содержанию.
409
Вернувшись с прогулки, Казакевич принес мне свой роман, и я в течение нескольких дней действительно прочитал его с карандашом в руках.
Когда я возвращал ему книгу, он полистал ее и, увидев, что в тексте довольно много пометок, сказал:
— Читал ты, судя по всему, внимательно. — И тут же перебил себя: — Но я должен еще разобраться в твоих пометках. Дело ведь не в количестве.
Из записной книжки: «Под окном остановился большой автобус. Шофер включил радио — как раз началась трансляция футбольного матча. Радио работало очень громко. Галя попросила меня спуститься и поговорить с шофером. Шофер — молодой парень, — когда я объяснил ему, в чем дело, смущенно улыбнулся и тотчас выключил приемник».
Разбираться в моих пометках Казакевичу предстояло уже в Москве, ибо его кисловодское житье-бытье подходило к концу.
Накануне отъезда Казакевичей — рано утром машина должна была отвезти их на аэродром в Минеральные Воды — мы пошли на прогулку: Галина Осиповна, Эммануил Генрихович и я.
На Красном Солнышке нас неожиданно застигло нечто вроде снежного заряда. Внезапно налетела черная туча. Сразу потемнело. Лежавший внизу Кисловодск заволокло облаками и снежной пеленой. Мы почувствовали себя путниками, поднявшимися на недоступные горные вершины и надолго отрезанными от остального человечества.
Сходство было бы еще полнее, если бы на Красном Солнышке не приютился крошечный ресторан. У нас была там добрая знакомая — молоденькая официантка Ниночка. Увидев Казакевича, она сразу начинала улыбаться, а услышав его голос, покатывалась со смеху. Чем серьезнее он к ней обращался, — а он обращался к ней исключительно серьезно, всегда называя ее по имени-отчеству, — тем неудержимее она хохотала.
На этот раз нам — одиноким путникам — ничего не оставалось, как заглянуть в гости к Ниночке.
В маленьком зале, где и всего-то помещались два столика, было пусто. Казалось, все вокруг исчезло в снежной пелене и на свете в самом деле существовали только мы трое
410
да смеющаяся Ниночка, которая уже несла нам коньяк и бутерброды с колбасой.
Все, что она принесла, оказалось необыкновенно вкусным. Коньяк был ароматен, как никогда. Колбаса остро пахла чесноком и, вместо того чтобы утолять голод, только разжигала его.
Галина Осиповна напомнила, что впереди — ужин, а после ужина кинофильм у нее в санатории; она запаслась билетами еще с утра. Но мы не слушали ее и стали наперебой умолять Ниночку, чтобы она поговорила с поваром — нельзя ли заказать что-нибудь более фундаментальное, чем бутерброды с колбасой.
В конце концов, поскольку мы в ресторане были одни и других посетителей из-за продолжавшейся снежной бури не предвиделось, Казакевич попросил, чтобы повар вышел к нам, так сказать, для личных переговоров.
Появился пожилой, лысоватый мужчина лет под пятьдесят. Он вежливо сказал, что, к сожалению, не может предложить нам ничего, кроме шашлыка по-карски.
Мы с Казакевичем незаметно переглянулись и чуть не захлопали в ладоши.
Затем события стали развиваться в таком лихорадочном темпе, что я просто был не в состоянии за ними уследить.
Мы уже не в зале ресторана, а на кухне. На столе перед нами распространяют немыслимое благоухание шампуры с нанизанными на них божественно румяными кусочками мяса. Обняв сидящего рядом повара, Казакевич обычным своим громовым голосом затягивает «Горит свечи огарочек». Ему вторит повар. В громогласный мужской дуэт высоким тоненьким голоском вступает Ниночка, а старая седая женщина, видимо судомойка, молча утирает глаза концом фартука.
Оказывается, Казакевич и повар воевали на одном участке фронта. Оба уверяют, что во время войны где-то встречались, может быть даже ходили вместе в разведку.
— Паша, — обращается к повару Казакевич, — этот тип, — следует небрежный, чтоб не сказать пренебрежительный, кивок в мою сторону, — ответственный работник. Но тоже, представь, был на фронте. В минометном батальоне. Правда, недолго. Разведки не нюхал. Как скажешь, возьмем его в компанию?
Известие о том, что я тоже фронтовик, Паша встречает с энтузиазмом. То, что я не нюхал разведки, он мне великодушно прощает.
Мы поем «Синий платочек», «На позицию девушка про-
411
вожала бойца», «Ты ждешь, Лизавета», «В кармане маленьком моем».
Казакевич поет с характерной для него солдатской истовостью, не щадя ни своего горла, ни чужих ушей. Глаза его при этом странно округляются, и в них возникает опасное выражение удалой бесшабашности.
Впрочем, все эти наблюдения сделаны мной раньше, еще в Москве (кажется, впервые я видел Казакевича за дружеским столом 31 декабря 1949 года у него на Беговой; меня и тогда поразила особая, истовая серьезность, с которой он во весь голос пел солдатские песни).
Из записной книжки: «Сегодня телефон звонит сравнительно редко. Прошлый раз мне то и дело приходилось отвечать на вопросы о самочувствии Э. Звонили Твардовский, Коптяева, какие-то незнакомые люди».
Сколько времени это продолжалось — трудно сказать. Мы не наблюдали часов, потому что были счастливы. Особенно счастлив был Казакевич. Влюбленными глазами он смотрел на повара и, обнимая этого стареющего толстого детину, восторженно говорил:
— Каков парень, а? Люди, вы только посмотрите на него! Орел!
Улучив минуту, когда Казакевич вышел, а Галина Осиповна заговорила с судомойкой, повар наклонился ко мне.
— Никак не пойму, — зашептал он мне на ухо, — кто он есть, ваш товарищ? Тоже ответственный работник?
Я объяснил, что мой товарищ назвал меня ответственным работником в шутку, что оба мы — литераторы, а он — с гордостью добавил я — очень известный, можно сказать, знаменитый писатель, дважды лауреат.
— Писатель? — с недоверием переспросил повар. — Что я, писателей не видел! Вон их тут сколько ходит. Не похож он на писателя. Слишком чересчур отчаянный!
Вернулся Казакевич, и над Красным Солнышком снова понеслись солдатские песни: «С берез, неслышен, невесом...», «Прощай, любимый город».
Не знаю, сколько просидели бы мы в гостях у повара Паши, если бы не Галина Осиповна. Мягко, но настойчиво она напомнила Казакевичу о завтрашнем отъезде и о том, что машина придет рано утром.
Но Казакевич не мог так сразу расстаться со своим новым другом.
412
Последовали объятия, поцелуи, обмен адресами, взаимные клятвенные уверения в вечной любви и преданности.
— Лаврушинский переулок! — кричал Казакевич. — Напротив Третьяковской галереи. Каждая собака знает. Только спроси Третьяковку. Прямо с вокзала — ко мне! В любое время дня и ночи!
Наконец, провожаемые Пашей, Ниночкой, судомойкой, мы вышли на воздух.
Снежная буря давно кончилась. Стемнело. Небо было полно звезд. Внизу мерцали огни Кисловодска.
Казакевич еще долго стоял на крылечке, не желая расставаться с местом, где он только что был так счастлив. Потом тяжело вздохнул и, не оглядываясь, быстро пошел по терренкуру. Мы с Галиной Осиповной поспешили за ним.
Спустившись до санатория Орджоникидзе, мы зашли в комнату, где жила Галина Осиповна, передохнули немного и стали прощаться. Казакевич идти в кино не захотел. Галина Осиповна поколебалась, но в конце концов тоже раздумала и предложила свой билет мне.
Разумеется, следовало отказаться и вместе с Казакевичем отправиться восвояси. Но я был полон энергии и отправился в кино.
Из записной книжки: «В квартире разговаривают только шепотом. На столе все время что-то кипятится. Стоят бутылки с лекарствами. Ходят люди в белых халатах.
Когда Э. привезли из больницы домой, он сказал Данину: «Я ее видел».
Вернувшись в санаторий, я неожиданно столкнулся с Галиной Осиповной. Как она оказалась здесь в такой поздний час? Вид у нее был крайне расстроенный.
Не ожидая моих расспросов, Галина Осиповна сказала:
— Вот и говорите после этого, что предчувствий не бывает. Когда Эма ушел, я места себе не могла найти. Ложилась, вставала, опять ложилась. В конце концов оделась и пошла сюда. Что же вы думаете? Вхожу в комнату, а он лежит на кровати и стонет. Шел в темноте, оступился, подвернул ногу. Теперь она распухла, не может ходить. Завтра чуть свет придет машина. Как он поедет?
— Врач был?
— Был. Наложил лубок. А вдруг это трещина? Или, не дай бог, перелом? Надо бы остаться на несколько дней.
Да где там! Непременно нужно быть в Москве.
413
— Можно к нему?
— Конечно. Нога так болит, что спать все равно не может. Как он завтра полетит в Москву с больной ногой и после бессонной ночи? Как доковыляет до самолета?
Казакевич лежал, положив забинтованную ногу на подушку. На лице была не то улыбка, не то гримаса боли.
— Зачем ты так быстро шел? — спросил я, понимая всю бессмысленность этого вопроса.
— А зачем ты меня бросил?
Казакевич засмеялся, но тут же закряхтел от боли в ноге. В следующую минуту он опять смеялся и опять кряхтел — и так в течение всего разговора.
— Как тебя угораздило подвернуть ногу? — задал я еще один вопрос, столь же бессмысленный, как и первый.
— Ах, если бы около меня был сейчас мой друг Паша,— жалобно сказал Казакевич. — Он не задавал бы мне таких вопросов.
Галина Осиповна молча прислушивалась к нашему разговору, явно не слыша его и думая о своем. Видно было, как она встревожена и как заботит ее предстоящий перелет в Москву.
— Давай останемся здесь на несколько дней, — с тоской сказала она. — Как ты доберешься завтра до самолета?
— Ножками доберусь. Ножками. Не оставаться же здесь после того, как мы спели «Прощай, любимый город». И здорово спели, надо признать!
Он засмеялся и снова застонал от боли в ноге.
Галина Осиповна повернулась ко мне, молча покачала головой и развела руками. Видимо, это должно было означать: ну вот, судите сами, что за человек! Может быть, сломал ногу. Неизвестно, как будет добираться завтра до Москвы. А он...
Из записной книжки: «На столе лежит книга Корнелия Зелинского «На рубеже двух эпох». Автор прислал ее Казакевичу с такой надписью: «Какие-то пустяковые причины ослабили начавшую развиваться нашу дружбу. В моем представлении Вы всегда были и остаетесь человеком, у которого следует нам многому поучиться. Ваш иронический склад ума не приемлет (неразборчиво; видимо: патетики. — Л. Л.). Но в дни болезни, может быть, люди иногда лучше понимают друг друга. В эту зиму мне пришлось много поболеть, проваляться в больнице месяца полтора...»
414
В тот вечер Казакевич долго не отпускал меня. Нога у него разбаливалась. Он знал, что все равно не уснет.
Галина Осиповна дремала в кресле. Клевал носом и я. А Казакевич продолжал вспоминать о нашей прогулке на Красное Солнышко и перебирал все новые ее подробности.
— Нет, ты скажи, какой парень! А как поет! Сразу видно, что разведчик!
Мои силы иссякли. Поняв это, Казакевич не стал меня больше задерживать.
— В твоих пометках я разберусь уже в Москве,— сказал он, пожимая мне руку на прощание. — Мы еще вернемся к этому вопросу.
...Лето 1956 года я провел на станции Мичуринец. Там же неподалеку была дача Казакевича.
В день рождения ко мне пришли друзья, в том числе М. Алигер. От нее Казакевич узнал, что у меня день рождения, и пришел вместе с ней. В подарок он принес мне «Дом на площади», уже успевший выйти в «Роман-газете».
Когда гости разошлись, я прочел: «...одному из лучших редакторов этой книги, еще несовершенной по форме и содержанию».
Так он вернулся к этому вопросу.
Из записной книжки: «25 сентября 1962 года. 22 часа 30 минут. Поезд Москва — Прага. Еду в Карловы Вары. Вчера похоронили Казакевича. С Новодевичьего поехали на Лаврушинский. Все те же люди, что дежурили у телефона. Медленно поднимались по лестнице, не спеша мыли руки, молча проходили в комнату, где еще так недавно что-то кипятилось на столе и ходили люди в белых халатах. Никто не решался заговорить. Первым был Твардовский. Глухим голосом, глядя куда-то в сторону, он сказал: «Прошу помянуть выдающегося русского писателя и замечательного человека». Потом говорили Данин, Алигер. Галя внимательно слушала и молча кивала головой. Я ушел раньше других — оставались сутки, чтобы закончить дела и собраться в дорогу. На следующий день на вокзале собралось непривычно много друзей. Я понял: после вчерашнего всем хотелось быть вместе, почувствовать, что, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Кто-то принес бутылку шампанского. Мы еще раз помянули «выдающегося русского писателя и замечательного человека».
1977
Ю. Крелин
ЧТО ЗА СИЛА В НЕМ БЫЛА?
Человек познается в болезни. Может, это мой специфический взгляд на жизнь. Но и, наверное, человек познается в болезни, когда можно сравнивать с прошлым. А я узнал Эммануила Генриховича уже в конечной стадии его болезни. Ему оставалось жить месяц с небольшим.
Я видел умирающего человека и знал лишь его книги. По книгам я понимал — это умный человек, это поэт, это человек, любящий свой русский язык. (Уже после его смерти я узнал, что «Звезда» была первая книга, написанная им на русском языке.)
Я пришел к нему в дом и встретился с абсолютно непривычной для меня обстановкой вокруг больного человека. В больнице, где я чаще встречался с тяжестью предсмертных дней разных людей, все всегда было не так. В больнице деловито, буднично, келейно.
Дома был штаб по спасению родного человека. Большое количество писателей, друзей, близких людей. Штаб скорби и надежд. Я и не подозревал, что Эммануил Генрихович был центром целого литературного мира в мире литературы нашей страны.
Круглосуточно дежурили по очереди писатели. Как только что-то надо было, включались все возможные каналы помощи.
416
Запущенный рак порождает кучу мистических лекарств, метафизических надежд: энергия близких, ищущих несуществующее, умеряет горечь и боль. Помочь не могут — поэтому все, кому больно, стараются помочь несущественным или несуществующим, но порождающим хоть какую-нибудь надежду.
Больной поморщился от зарычавшей под окном машины — близкие кидаются во все стороны и добиваются временного знака, запрещающего проезд машин мимо дома. Умирает любимый многими человек. Так в прошлом устилали соломой мостовую под окнами умирающего, чтоб цокот копыт не тревожил больного.
Кто-то сказал, что у японцев есть антиопухолевый антибиотик: писатели привозят из Японии неведомый препарат; приводят с международного конгресса онкологов японских ученых.
Где-то кто-то пробует какое-то новое средство — и химики достают какие-то немыслимые реактивы. Несущественное и несуществующее. Желаемое неосуществимо.
Дверь не запиралась, звонок был отключен — боялись, что по множеству приходящих Эммануил Генрихович заподозрит слишком большое беспокойство окружающих.
Сколько человек любило его!
А я и не знал.
И вот такого человека мне надо осматривать, ощупывать — лечить.
А мне уже известна перспектива. У меня никакой надежды. Опыт лишает надежды и подрезает крылья.
А через час после его осмотра, когда я констатировал абсолютно безнадежную ситуацию, у меня появились надежды. Абсолютно необоснованные.
Либо я плохой профессионал, либо этот человек обладает такой невероятной могучестью, что начинаешь принимать желаемое за действительное.
А ведь он мне почти ничего не сказал.
Мучения страшные, а он создает какие-то куплетики, сыплет эпиграммами, подчас злыми, горькими и все-таки веселыми.
— Мне еще надо прожить какой-то срок, — говорит он мне в первый же день. — Я должен закончить роман. Я живу все свои годы лишь для него. Все, что мною написано, это только для существования, для хлеба. А главное еще не закончено. Вы должны это понять.
417
Да. Но ведь со смертью не поторгуешься. А потом уже не мне говорит:
— Татьяна Владимировна, запишите, пожалуйста, это обязательно надо записать.
Диктует.
Сестра делает обезболивающий укол.
На следующий день я прихожу, и мне говорят, что ночь была ужасна — не спал, боли.
Вхожу к нему. Лежит довольный, почти счастливое лицо.
— Видели сегодня «Литгазету»? Рецензия Рюрикова обо мне. Очень милая рецензия...
Рюриков, газета, все спешат хоть чем-нибудь облегчить ему боли.
Какая же сила в человеке. Я много видал различных проявлений жалости. Это все не так.
Нарастают боли. Частичная непроходимость.
Все, что делается, бессмысленно. Надо дать покой человеку. Обезболивать, обезболивать — умерять мучения.
Все наши действия продлевают мучения. Боли усиливаются, состояние ухудшается.
Еду к шефу своему, рассказываю. Говорю, что, может быть, есть смысл сделать операцию (вернее, нет смысла, но, может быть, есть смысл), может, облегчим его существование, на какой-то срок умерим непроходимость, а там видно будет.
— Ты что! С ума сошел. Ты врач или пустобрех? — говорит мне шеф разумные слова.
Мы приезжаем вместе, осматриваем вместе и увозим Эммануила Генриховича на операцию. Что за сила в нем была?
Вот у шефа я никак не ожидал возникновения тех же невозможных надежд. Мне он казался железным профессионалом.
Мы сделали операцию.
Эммануил Генрихович проснулся после наркоза. Это было под утро. Часов до двенадцати дня мы обезболивали его, периодически давая вдыхать закись азота. Он радовался и говорил, что какое это счастье иметь рядом такой аппарат и такую спасительную маску. Он с обожанием и уважением смотрел на нашего анестезиолога, который наладил этот аппарат возле его постели.
— Теперь я воочию понимаю, что такое мозговой трест в клинике, — говорит он мне.
418
А около восьми часов вечера он не велел больше давать ему эту маску.
— У меня дуреет голова, тускнеют мысли от нее. Нельзя ли попросить Татьяну Владимировну? Мне нужно ей кое-что продиктовать. Надо торопиться.
И он диктовал маленькими кусочками еще несколько дней. Время от времени диктовал, отказываясь от обезболивающего, но одуряющего, затемняющего мысль газа.
Двадцать первого сентября он сказал сидевшему около него Твардовскому:
— Ты знаешь, я себе не представлял их работу, хирургов. Я обязательно напишу повесть о них. Это поразительно. А я напишу точно, ты меня знаешь, я так просто, зря не говорю.
И Твардовский, выйдя от него, пересказывал разговор, и мне казалось, что он верил в это обещание. Мне казалось, что и я верил.
И мы кидались что-то делать...
Что! Что можно было...
А двадцать второго он умер.
До последнего момента мы ни во что не верили, но он вселял в нас веру.
Странная сила в нем была. Так я и не понял ничего. Не успел понять.
А может, он такой же был и до болезни?..
1977
К. Паустовский
О ЧЕЛОВЕКЕ И ДРУГЕ
Я вместе с Эммануилом Казакевичем, Беком и несколькими другими писателями участвовал в выпуске одного альманаха.
Альманах вел Казакевич — человек, если можно так выразиться, сверкающий. Безмерно талантливый, обладавший разящим умом, храбростью простого солдата, убийственным юмором, лирической нежностью к друзьям и привязчивостью к хорошим людям.
Он был беспощаден к подонкам всех рангов, к двурушникам, угодникам и пошлякам. В обращении с ними он был резок и даже циничен.
Я пришел к Казакевичу за несколько дней до его смерти. Он умирал от рака и хорошо знал это. Ничто не могло скрыть от него быстрого приближения конца. Все говорило об этом — и страшные боли, и яркий, совершенно лимонный цвет его тела, и даже то, что дверь в его квартиру стояла открытой, чтобы люди, приходя, не звонили и не стучали. Малейший звук отзывался в теле Казакевича резкой болью. По многим признакам он знал, что умирает. Прежде всего по глазам родных и друзей, по их неестественному, деланному спокойствию, по тем невидимым, зажатым слезам, которые тяжелее самых отчаянных рыданий.
И все же он прочел мне только что придуманную им
420
ядовитую эпиграмму на одного критика, а когда мы прощались, сжал мою руку, загорелую и здоровую, своей желтой, слабой рукой, посмотрел на наши две руки и сказал, усмехаясь:
— Дружба народов! Европейца и желтого. Годится для плаката.
Я не решился поцеловать ему руку, чтобы не взбудоражить его. Мы только обнялись. Но все кричало во мне о чуде, о необходимости чуда, о том, чтобы вдохнуть в него жизнь, хотя бы свое дыхание, чтобы вернуть к существованию этого пленительного, нужного всем, нужного народу человека.
Через несколько дней у открытой настежь двери его квартиры на Лаврушинском переулке стояла прислоненная к стене крышка гроба...
* * *
Никогда я не мог подумать, что мне придется писать о смерти Казакевича. Писать о смерти человека и друга.
Только потеряв его, мы поняли до конца, что он принадлежал к первым и лучшим людям нашего времени — по остроте и смелости мысли, по вольному и умному таланту, глубокой честности, по блеску его воображения и тому бурному человеческому обаянию, которое мгновенно покоряло всех.
Даже по отношению к людям, которых он ценил, он, в зависимости от их поступков, был то суров, то нежен, то насмешлив, то ласков. Потому что был безошибочно справедлив и рыцарски предан правде.
Эммануил Генрихович был неожиданным человеком в том смысле, что он стремительно захватывал окружающих своими замыслами, рассказами, эпиграммами, спорами, шутками.
Но в этом выражалась только малая часть его существа. Нередко он бывал и печален и гневен или, вернее, как-то гневно-печален. Это его состояние всегда находилось в связи с опасениями за судьбу литературы, за достоинство человека и его независимость.
Тяжесть и бессмыслицу его гибели ничем не снимешь. Можно после этого возненавидеть законы природы. В этом случае они превратились в чудовищное беззаконие.
Природа слепа и лишена способности оценок. Она бьет без разбора. Мы же — неотъемлемая часть этой природы —
421
обладаем оценками в полной мере. С этой нелепостью нельзя примириться.
Жизнь не берегла Казакевича, да и он сам себя не берег. Если бы была хоть малейшая возможность, его бы не отдали смерти. Мы, понимающие вопреки ослепшей природе великую ценность человека, оказались беспомощными.
Казакевич жил мужественно и мужественно умер. Это было мужество большого и прекрасного сердца. Зная полную безнадежность своего положения, он был мужественным ради окружающих, ради близких людей, ради того, чтобы оставить им надежду на чудо.
Существует выражение «гробовое одиночество». Нужно представить себе состояние человека, уходящего из жизни в неслыханных муках, его отчаяние, его одиночество, представить себе все, что он передумал и перестрадал один в единоборстве со смертью, чтобы понять высоту и величие его духа, не уступившего ни крупицы своей человечности этой проклятой и подлой болезни.
О Казакевиче как о большом писателе будет сказано много. Сейчас каждый думает о другом.
Я думаю о том, что никогда больше не услышу его шутливый голос и не увижу застенчивую нежность в его глазах. И не услышу другой его голос, строгий и точный,— когда он читал стихи. Никогда не услышу. В это нельзя поверить.
Что делать нам, оставшимся? Продолжать то, что делал Казакевич. Служить жизни, которой он был так предан, служить литературе — одному из лучших человеческих дел, умножать силу духа и красоту этой земли.
1962
Александр Бек
УМНЫЙ И НЕЖНЫЙ ХУДОЖНИК
Вспоминаю последнюю встречу с Эммануилом Генриховичем Казакевичем почти накануне его смертного часа. Измученный тяжкой болезнью, он произнес: — Устал. Зверски устал. Он уже угасал, уходил из жизни. Что еще могло его интересовать? Я заговорил о его повести «Двое в степи», которую только что перечел, о своих впечатлениях. Оживились его безмерно усталые глаза. Смягчилась горькая складка губ, раньше таких жизнелюбивых, всегда готовых улыбнуться. Он и теперь слабо улыбнулся, живо слушал, сам с неожиданной горячностью высказался о своем детище.
До самого конца, до последней минуты в нем продолжала теплиться свойственная истинному художнику любовь к делу своей жизни, к миру, что он сотворил, по-своему воспроизвел, миру, заключенному в переплеты его книг. И еще более — к тем своим созданиям, которые еще не были закончены, требовали от него: «Живи, живи!», теснились за этим его выпуклым, высоким, красивым лбом.
Перо Казакевича-писателя было наделено волшебным свойством: без малейшей натяжки, фальши, сладости он умел воссоздавать безупречно хороших, самоотверженных, добрых, верных долгу людей — людей, что по праву зо-
423
вутся советскими, несут в душах ленинскую искорку, взращены нашей великой революцией, великой партией, к которой принадлежал Казакевич.
И вместе с тем ему был дан и иной дар — непримиримость. Моральный закон коммуниста — непримиримость к несправедливости — владел его душой...
И, наконец, последнее. Идеалом и глубочайшей любовью Эммануила Генриховича был образ Ленина. Всем известны посвященные Ильичу проникновенные произведения Казакевича.
Чтобы их написать, он в канун XX съезда стал углубленно перечитывать, изучать Ленина. И, как он мне говорил, прочитал с карандашом в руке важнейшие ленинские произведения и особенно внимательно все, что Владимир Ильич писал в годы революции.
Это тоже своего рода завет Эммануила Генриховича: читайте, изучайте Ленина, не жалейте на это времени и сил. Будьте до последнего дыхания верны Ленину, его великой партии.
Сам Казакевич, тонкий, умный и нежный художник, всем своим творчеством, всей своей жизнью воплотил этот завет.
1962
Г. О. Казакевич
ЧИТАЯ ЕГО ДНЕВНИКИ, ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПИСЬМА
«Писать хорошо еще и потому трудно, что писать плохо — легко», — такая запись есть в дневнике Эммануила Генриховича. Я пишу плохо не потому, что писать плохо легко, просто я не умею по-другому. Пишу же потому, что мне представляется нужным в этой книжке сказать о некоторых моментах жизни Эммануила Генриховича, о некоторых его поступках, никому или мало кому известных, но занимавших большое место в его жизни, отнимавших у него много времени, сил и являвшихся выражением его сущности, его способа жить и действовать.
Важнейшим для писателя Эммануил Генрихович считал знание жизни и чтение книг. Особое отношение к книге как непременному, очень важному участнику жизни началось в семье, с детства. Эммануил Генрихович рассказывал, как в дни получек его отец и он — мальчик — вдвоем отправлялись в книжные лавки выбирать и покупать книги. Это были дни особые, во все остальные дни между получками тайно ожидаемые, радостные и навсегда памятные. Тем более что отец относился к сыну не как к бесправному малому существу, над которым взрослым бывает удобно и безопасно проявлять свою власть, но как к равному, как к личности; вопросы и соображения сына отец воспринимал с серьезностью, общение отнюдь не выглядело высокомерно-снисходительным со стороны отца, это были отношения двух
425
уважающих друг друга, доверяющих друг другу мужчин.
Уже в том, как Эммануил Генрихович брал в руки книгу, как держал ее, как привычно-бережно прикасался к листкам, видна была его любовь к книге, его великое уважение к книге, его радость от общения с книгой; казалось, что и книга чувствует себя в его руках надежно. Свою статью к столетию Публичней библиотеки имени В. И. Ленина он так и назвал — «Слово о Большом Друге».
Эммануил Генрихович читал много всегда, с детства. Он умел читать быстро, сноровисто, и у него была хорошая память.
В 1960 году Эммануил Генрихович ездил с туристической группой в Италию. Ехали через Париж. С аэродрома Бурже нужно было на автобусе отправиться на аэродром Орли, а оттуда лететь в Рим. Эммануил Генрихович рассказывал, как он попросил водителя автобуса ехать не самым коротким путем, а кружным, чтобы побольше увидеть, и водитель его просьбу исполнил. Эммануил Генрихович вслух называл товарищам здания, площади, памятники, мимо которых они проезжали. Они увидели Триумфальную арку, Дом инвалидов, Лувр, Эйфелеву башню. Водитель спросил по-французски: «Мосье проживал в Париже?» Но Эммануил Генрихович был тогда в Париже впервые, знал же он о Париже по описаниям в прочитанных книгах, по картинам художников, по фотографиям.
Зимой 1946 года Эммануил Генрихович в письме А. А. Фадееву писал, что до войны не обзавелся имуществом и постоянным жильем потому, что, по молодости лет, не придавал всему этому серьезного значения, да и не было тяги к собственности, и тут же добавил в скобках: «Надеюсь, что и не будет». И действительно, никогда это стремление к собственности не овладевало его душой, не имело над ним власти. Только книги! Книги были необходимы ему. Они были нужны, как нужен человеку хлеб.
Как-то Эммануил Генрихович, придя домой, рассказал, что был в компании еще двух писателей и вдруг один из них стал рассказывать о том, что свои костюмы он заказывает у знаменитого своим портняжным мастерством рижского портного и летает в Ригу на примерки.
— Он говорил, а нам стало как-то скучно, неловко. Ну, летаешь на примерки, ну и летай на здоровье, но зачем хвастать?.. Этим ли надо хвастать? — удивлялся Эммануил Генрихович.
Для Эммануила Генриховича в его отношениях с людьми,
426
с которыми он сталкивался, главным было не то, в каких человек ходит «чинах», сколько его поступки, его повседневное поведение. Мне представляется нужным рассказать здесь об одном из поступков Эммануила Генриховича именно потому, что этот поступок является для него типичным, естественным.
Эммануил Генрихович получил предложение — участвовать в создании фильма вместе с известным в те, пятидесятые, годы кинорежиссером Л. Предложение для Эммануила Генриховича было интересным: до того он еще в кино не работал, и тема была ему близка — о Вооруженных Силах Советского Союза, и деньги были нужны — у нас бывали периоды безденежья.
Эммануил Генрихович редко бывал в кино, фильмов режиссера Л. не видел, и было решено устроить на киностудии просмотр нескольких его фильмов, чтобы Эммануил Генрихович мог познакомиться с творчеством режиссера Л.
Когда Эммануил Генрихович после просмотра вернулся домой, он, еще не успев раздеться, крикнул: «Всё! От работы над фильмом я отказался! Совсем отказался!» И вот что он рассказал.
Незадолго до конца просмотра, во время небольшого перерыва, к режиссеру подошла женщина с бумагами в руках. Разговор был явно служебный, деловой. Что-то вызвало неудовольствие режиссера, и он начал кричать на женщину, дав волю своему раздражению, несдержанно, грубо. Эммануила Генриховича поразила и сама грубость и несдержанность, какая-то привычная, как бы принятая здесь, и то, что она обрушилась на женщину, да еще на подчиненную, не могущую ответить, защититься, да еще при посторонних, да еще она знала, что этот посторонний — писатель, а от этого ей было еще унизительнее, еще горше. И эта неожиданность: ведь с Эммануилом Генриховичем он был вежлив, деликатен, интеллигентен. И вдруг куда это все девалось,— режиссер предстал в совсем другом виде.
Просмотр закончился, зажегся свет. Режиссер ждал, что Эммануил Генрихович скажет об увиденных фильмах. Но Эммануил Генрихович молчал, так что режиссер даже несколько забеспокоился. Наконец Эммануил Генрихович решительно сказал, что работать с режиссером не сможет. «Что, фильмы не понравились?» — спросил режиссер. Эммануил Генрихович сказал, что не в фильмах дело. «Тогда в чем же дело?» — удивился режиссер (удивился потому, что
427
до просмотра вроде бы была уже договоренность о совместной работе).
— Я объяснил ему, в чем дело. Я ему все выложил начистоту. Нет, я был достаточно деликатен. Я ему сказал: «В то время, когда вы кричали на бедную женщину, вы были весьма необаятельны». Я думаю, что он меня понял. Работать с ним я не могу и не буду.
Так в тот раз дебют Эммануила Генриховича в кино не состоялся.
Читая дневники Эммануила Генриховича, я поражаюсь тому, насколько его принципы, его мысли и чувства точно отразились в дневниковых записях. Вот запись именно о его отношении к собственничеству, этому страшному по силе, цепкости, стойкости человеческому пороку, к этой сильнейшей из человеческих страстей:
«Клятва: пока будет кровь в жилах, а сердце будет биться — пусть в пыли, во прахе — буду бороться против собственничества — источника всех человеческих бед, жадности, подлости».
Эта клятва самому себе, наедине с собой есть кредо его души.
Перед войной мы снимали комнату с сенями в поселке Пески под Коломной.
Мы часто переезжали с места на место, снимали комнаты, а это было нелегкое дело, так как хозяйки комнат неохотно впускали жильцов с детьми. Как-то, когда мы все тихо сидели каждый за своим занятием (тихо потому, что проживание в одной комнате приучило нас всех соблюдать тишину), я заметила, как Эммануил Генрихович, сидевший за столом и полностью ушедший в свои мысли, в свой мир, вдруг вернулся в действительность этой комнаты, посмотрел на нас троих каким-то особенным взглядом, будто впервые увидел нас, увидел как бы со стороны, и сказал — шутливо, но и в какой-то мере с искренним удивлением:
— Так, значит, это ты — моя жена? А вот это — мои дети? И вы еще живы? И вы еще не умерли с голоду?
У нас тогда не было своего жилья, не было никакого имущества, но мы не страдали от этого, вещи и деньги не занимали наши души, были для нас не на главном, не на первом месте, так всегда было в нашей семье.
Эммануил Генрихович часто усаживал наших маленьких детей к себе на колени и, обняв их и раскачиваясь вместе с ними в ритм музыке слов, читал вслух стихи Пушкина, Маяковского, Блока, Пастернака, Гейне по-русски и по-не-
428

Э. Г. Казакевич с женой Галиной Осиповной
и дочерьми Женей и Лялей. Москва, 1939 г.
мецки. «Айя-папайя, вас рашелт им штроо?» — слышу я его голос, читающий стихотворение о том, как смелеют и начинают действовать мыши, когда лев крепко спит. И из стихотворения Киплинга особенно понравившуюся ему строчку: «Туи-тугу — поет певун. Вся в масле Анна трет чугун». В этой Анне, которая вся в масле и которая трет чугун, в песне певуна, в ритме стиха живая, зримая осень, хотя нет самого слова «осень» и нет осеннего пейзажа. И он повторял восхищенно: «Вся в масле — Анна — трет — чугун». А когда он произносил: «Все те же мы: нам целый мир чужбина; отечество нам Царское Село», его глаза влажнели и он какое-то время молчал, не мог говорить от взволнованности. Поэзия была очень важной, насущной, составной частью жизни, без которой просто и немыслима жизнь.
Как-то летним днем, свежим после крупного и быстрого дождя, к нам пришли знакомые — муж с женой. Я их провела от калитки к бревенчатой избушке, в которой Эммануил Генрихович работал (там же стоял проигрыватель — там и музыку слушал он или мы все вместе). Мы подошли к крыльцу и услышали голос Эммануила Генриховича. В раскрытом окне мы увидели: он сидел за столом и читал вслух стихи. Жестами мы условились, что войдем тихо, сядем и будем слушать, — нам не хотелось его прерывать. Так мы и поступили. Я видела, что Эммануил Генрихович заметил наш приход, но продолжал читать, а мы бесшумно уселись и слушали. Когда он отложил книжку и перестал читать, гостья сказала:
— До этой минуты я не понимала стихов Пастернака, хотела понять, принималась читать, но не понимала и бросала. Вы для меня открыли Пастернака. Спасибо вам за это чтение.
Книги Эммануил Генрихович покупал только те, которые хотел читать или перечитывать, или те, которые нужны ему для работы, и еще, чтобы читали дети. Иногда он говорил детям: «Как я вам завидую, вам еще предстоит прочитать так много прекрасных книг, которые я уже прочитал!» Его образованность, знания шли от чтения. Он хорошо знал историю, литературу, живопись, русскую и европейскую. Еще в школьные годы он выучил немецкий язык, читая со словарем Гейне по-немецки. Именно потому, что он хорошо знал немецкую историю, немецкую литературу, искусство и язык, его почти на год задержали в армии после окончания войны. Вернулся он домой только весной 1946 года. С собой он привез плетеный сундучок с книгами, из-за этих книг он
430
в свое время претерпел много неприятных минут. Его непосредственный начальник, человек сугубо практического, делового склада, не мог понять, зачем это нужно — возить с собой книги? Он считал непрактичным и несерьезным делом загружать машину, перевозившую имущество офицеров, книгами. Недоумение его было искренним — он действительно не одобрял такую непрактичность. Эммануилу Генриховичу приходилось самым серьезным образом неоднократно отстаивать свой бедный сундучок, и ему это удалось.
Чтение для Эммануила Генриховича было не только отдыхом, удовольствием, оно было творческим, вызывало поток ассоциаций, размышлений, было источником радости и познаний.
«Читаю «Эстетику» Гегеля. Очень крупно. И все, что он пишет, — это свойственно великим мыслителям, Марксу, Ленину, Спинозе,— он пишет так, словно до него никто ничего не знал, а он должен все сочинить и изложить сначала. Писатель тоже обязан так», — записал Эммануил Генрихович в дневнике.
И в письме детям:
«Читаю Плутарха и удивляюсь тому, как мало переменился человек за последние две с половиной тысячи лет».
Помню, это было, кажется, в 1958 году, Эммануил Генрихович побывал в книжной лавке писателей и привез оттуда много книг. Они лежали, еще не разложенные по местам, стопками на столе, на стульях, на подоконнике. К нам пришел Александр Трифонович. Освобождая кресло от книг, Эммануил Генрихович между прочим сказал:
— Вчера здорово кутнул, массу денег потратил, — и назвал довольно крупную сумму.
— А что, много людей было? — спросил Александр Трифонович.
Эммануил Генрихович помолчал, раздумывая — почему много людей, а поняв, сказал, улыбаясь:
— Да нет, книг вот накупил... Увлекся. И стал показывать книги.
Знакомство их состоялось в редакции «Знамени» в 1947 году. Тогда редакция «Знамени» как-то стихийно, без какого-либо постороннего вмешательства, стала своеобразным писательским клубом, куда и по делу и просто так приходили писатели-фронтовики, знакомились, встречались, мирно или горячо беседовали, спорили. Кто-то (кажется, Тарасенков) на вопрос Твардовского — кто вот этот человек, я его не
431
знаю — ответил, что это автор «Звезды», Казакевич. Александр Трифонович подошел, представился и сказал свое мнение о «Звезде»; с тех пор, почти сразу после этого знакомства, их потянуло друг к другу, постепенно знакомство перешло в дружбу, постоянную, не терпящую длительных перерывов во встречах. Это были крупные личности, яркие индивидуальности; между ними случались ссоры, но притягательная сила, уже существовавшая между ними, интерес друг к другу были выше, мощнее ссор, недоразумений-недоумений, как Александр Трифонович называл эти ссоры и размолвки. Их дружба, взаимная привязанность продолжалась до конца жизни. Александр Трифонович приходил к уже совсем больному Эммануилу Генриховичу в больницу и домой, помогал во всех хлопотах, предпринимавшихся в надежде, пусть и мифической, спасти Эммануила Генриховича, а после его смерти написал, не мог не написать, воспоминания о нем, они напечатаны в этой книжке.
Рассматривая купленные Эммануилом Генриховичем книги с большим интересом, Александр Трифонович признал, что да, действительно, можно было увлечься. Среди книг были: письма Марка Туллия Цицерона, Вентури — «От Моне до Лотрека», двухтомник Тацита, последний том 90-томного издания Л. Н. Толстого, «Домашний быт русских царей и цариц», «Русские повести XIX века», письма Ван Гога, «Дела тайного приказа», Карен Михаэлис «Мать» и другие.
Память у Эммануила Генриховича была удивительная. Он мог взять лист бумаги, начать что-то на нем писать, и вскоре получался своеобразный календарь: название страны (Россия, Франция, Италия, Англия, Германия, Польша, Голландия и т. д.), а под названием страны — столбиками — списки по отдельности писателей, художников, композиторов: имена, год рождения и год смерти. Все это по памяти, которой он управлял, как хороший хозяин управляется в своем хорошо отлаженном хозяйстве. Память его была точной, безошибочной, творческой.
Как-то придя домой поздно, после какого-то заседания в Союзе писателей (он считал, что литература растет не от заседания к заседанию, а от произведения к произведению, но на заседаниях должен был бывать), Эммануил Генрихович рассказал мне забавную историю, происшедшую в перерыве заседания. Вышли прогуляться Твардовский, Смеляков, Луконин и Эммануил Генрихович. Смеляков стал читать стихи Пушкина. Когда он сказал: «К нему и птица не летит, и зверь нейдет», Эммануил Генрихович тихо сказал: «Тигр».
432
Смеляков спросил: «Что — тигр?» «Тигр нейдет», — ответил Эммануил Генрихович. «Почему — тигр? Уж коли — птица, значит — зверь. Здесь естественное противопоставление, логическое и закономерное вполне: раз обобщенное — «птица», то и такое же обобщенное — «зверь», при чем же здесь и почему — «тигр»?» И стали уверять Эммануила Генриховича, что он ошибается, что именно «зверь», а не «тигр». Наконец Смеляков предложил позвонить его жене и попросить ее посмотреть в книгу, тогда спор будет разрешен. Так и сделали. И оказалось, что «тигр нейдет». Эммануил Генрихович высказал предположение, что в черновике у Пушкина, возможно, и было «зверь», но потом он заменил на «тигр», так как тигр — это самый страшный зверь, не просто любой зверь — в том числе — лиса, еж, белка и т. д., а даже сам тигр и тот не идет. Все посмеялись тому, что прав оказался прозаик, а не поэты.
Среди бумаг Эммануила Генриховича есть на листке такая запись:
«Мое литературное небо устроено так: Боги — Ленин, Данте, Шекспир, Толстой, Моцарт, Да Винчи.
Архангелы — Пушкин, Гейне, Стендаль, Франс, Гоголь, Достоевский, Пастернак, Блок, Цветаева, Мусоргский, Шуберт, Веласкез, Тициан, Гете, Спиноза, Гегель.
Ангелы — много.
Мои любимые в слове — Данте, Шекспир, Толстой, Пушкин, Гейне, Достоевский, Стендаль, Франс.
Из современных художников слова я больше всех ценю — Пастернака, Бабеля, Цветаеву, Фадеева, Твардовского, Олешу, Хемингуэя, Ремарка, А. Камю.
В музыке — Моцарт, Шуберт, Мусоргский.
В живописи — Тициан, Рембрандт, Веласкез, Ренуар, Сислей, Писарро, Джорджоне».
У Эммануила Генриховича был большой жизненный опыт, ведь он был и председателем колхоза, и директором театра, и начальником строительства, он исходил и изъездил верхом Дальний Восток, ходил в сорокаградусный мороз на охоту в тайгу, жил в Магнитогорске, в деревне Глубоково, ходил пешком и ездил по Ярославской и Костромской областям, будучи еще в год призыва начисто снятым с воинского учета, служил в армии пять лет, в том числе почти три года в действующей, был разведчиком, прошел путь от рядового до помощника начальника разведотдела штаба армии, имел два ранения и одну контузию. Это неполный перечень
433
его путешествий и занятий. Но чем бы он ни занимался, он постоянно был в мире искусства. В небольшом блокнотике-дневничке в марте 43-го года между записей о военных делах, тревогах, надеждах есть и такая запись:
«Перечитал... гениальное «Восстание ангелов» А. Франса. Глубоко был тронут этой в четвертый раз прочитанной книгой. Читал главы из синклеровской эпопеи «Зубы дракона». Для моей великой книги — ценное пособие по изучению психологии и практики фашизма и вообще движущих сил современной истории.
Прочитал «Птиц» и «Лизистрату» Аристофана. «Птицы» великолепны. Парабаза восхитительна. Арии соловья, введенные для лирического интермеццо, поразительны и дают для понимания эллинского духа больше, чем томы исследований».
Вот еще запись в дневнике (уже ближе к шестидесятым годам):
«Лучшие романы мировой литературы: Иов, Руфь, Дафнис и Хлоя, Тристан и Изольда, Опасные связи, Манон Леско, Дон Кихот, Война и мир, Анна Каренина, Хаджи Мурат, Отцы и дети, Пармский монастырь, Мертвые души, Тарас Бульба, Бесы, Братья Карамазовы, Идиот, Преступление и наказание, Евгения Гранде, Полковник Шабер, Кузина Бетси, Шагреневая кожа. Холодный дом, Принц и нищий, Крошка Доррит, Давид Копперфильд, Гекльберри Финн, Прощай, оружие!, По ком звонит колокол, Гроздья гнева, В поисках утраченного времени, Черный обелиск, Искры жизни. На Западном фронте без перемен, Триумфальная арка, Безобразная герцогиня, Еврей Зюсс, Кола Брюньон, Человек-невидимка, Борьба миров, Ласарильо с Тормеса, Квентин Дорвард, Роб Рой, Герой нашего времени, Саламбо, Мадам Бовари, Восстание ангелов, Таис, Боги жаждут, Милый друг, В овраге, Палата № 6, Принцесса Клевская, Улисс, 42 параллель, Лотта в Веймаре, Виктория, Пан, Капитанская дочка, Мужики (Реймонта), Адольф, Земля людей, Страдания молодого Вертера, Котик Шпигель, Мать (К. Михаэлис), Записки кота Мура, Маленький Цахес, по прозванию Циннобер, Золотой осел, Каждый умирает в одиночку, Гулливер, Кандид, Робинзон Крузо, Макс Хавелаар, Война с саламандрами, Швейк, Гаргантюа и Пантагрюэль, Михаэль Кольгаас, Векфилдский священник, Тристрам Шенди, Мюнхаузен, Последняя граница, Жиль Блаз, Монахиня, Том Джонс» <...>
Так же, как потребность в книге, в чтении, любовь к
434
музыке, потребность в ней началась в семье, с детства. У всех членов семьи был отличный слух, хорошие голоса, отец играл на концертино, дома устраивались семейные концерты, если в это время в доме были гости, то и они участвовали в них. И в нашей семье музыка была непременной частью жизни семьи. Все это шло от Эммануила Генриховича. Музыкальный вкус, любовь к музыке, понимание ее выработались у всех нас под его влиянием. Вот что записал он в дневнике:
«С тех пор... как я начал интересоваться музыкой по-настоящему, я обрел новый мир — прекрасный и неожиданный, здешний и соседний, источник наслаждения, о котором даже не могут догадаться люди, не хуже меня живущие рядом со мной, но не интересующиеся ею. Музыку надо слушать с таким же вниманием, с каким приходится читать Гегеля, чтобы не пропустить главное и полностью насладиться. Речь идет о великой музыке. Настоящая музыка, кроме прочего, отличается от деланной тем, что она выражается только музыкой же. Грусть, растерянность, печаль, страсть она изображает самой собою, а не паузами, придыханиями, многозначительными исполнительскими вывертами. Пауза в музыке должна так же выражаться средствами музыки. Так всегда делал Бах и Моцарт...
Слушал сегодня концерт для виолончели с оркестром Дворжака. Очень хорошо».
Эммануил Генрихович любил петь русские народные песни:
Когда вырастешь большая,
Отдадут тебя замуж.
В деревню большую
Да в семью чужую.
И еще одна из любимых его песен:
Знать, в тяжелый тот век
Жизнь не в радость была,
Что бежал человек
Из родного угла.
Покидал он семью,
И детей и жену,
И искал на земле
Только волю одну.
Александр Трифонович любил петь «Летят утки и два гуся». Он начинал петь, а Эммануил Генрихович подхватывал. Пели протяжно, медленно, с удовольствием.
Часто пел песни времен войны: «Ты ждешь, Лизавета»,
435
«Вьется пыль под сапогами», «Белоруссия родная, Украина золотая», любил и часто пел песню:
Командир узнает, кого не хватает,
Эскадрон пополнит и не вспомнит обо мне.
Жалко только волюшки во широком полюшке,
Солнышка на небе да любови на земле.
Эх, любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить.
С нашим атаманом не приходится тужить.
Эх, нечего тужить!
Мы все часто слушали любимые в нашей семье музыкальные произведения. От мала до велика все напевали основную мелодию симфонии соль-минор Моцарта, «Болеро» Равеля, «Маленькую ночную серенаду» Моцарта, сонеты Шекспира Кабалевского. Эммануил Генрихович называл музыку «радость жизни».
* * *
В 1950 и 51-м годах Эммануил Генрихович жил в деревне Глубоково на Владимирщине. Его активный общественный темперамент проявился здесь в том, что он затеял и осуществил издание областного альманаха «Владимир». Наша изба стала штабом альманаха точно так же, как потом наша квартира в Москве стала штабом альманаха «Литературная Москва». В Глубоково приезжали члены редколлегии, авторы. Помню совсем юного Сергея Никитина, который жил у нас в избе, пока «доводил» свои рассказы, старого писателя Светозарова, с которым Эммануил Генрихович работал над его повестью для альманаха. Эммануил Генрихович редактировал рукописи, работал с авторами, ездил в Мстеру договариваться о художниках для оформления журнала, вел переговоры с типографией. К нам в Глубоково приезжал А. Т. Твардовский, Эммануил Генрихович и его привлек к работе, приезжал поэт Фатьянов, и его вовлек Эммануил Генрихович в это дело.
Эммануил Генрихович ездил по Владимирщине, побывал он и в Суздале, где посетил старого рабочего поэта И. А. Назарова. Назаров и его больная жена жили в весьма тяжелых условиях. Изба была полуразрушенная, пенсия мизерная, Назаров был человек стеснительный, скромный, не «пробивной». Увидев все это, Э. Г. пишет мне в письме:
«...переведи немедленно телеграфом И. А. Назарову пятьсот рублей по адресу: гор. Суздаль, Владимирск. обл., ул. Льва Толстого, 10».
436
В следующем же письме, назавтра, он напоминает мне: «Послала ли ты Назарову, как я просил, пятьсот рублей? На всякий случай повторяю: вышли телеграфно немедленно 500 руб. гор. Суздаль, Владимирской обл., ул. Льва Толстого, 10. Старик очень нуждается».
Всегда, когда Эммануил Генрихович видел, что кто-то нуждается в помощи, он, не раздумывая, помогал, чем только мог, и стремился довести дело помощи до конца. В этом случае он обратился в Союз писателей с просьбой оказать Назарову денежную помощь, исхлопотал через облисполком, чтобы помогли привести в жилое состояние избушку, в которой жил Назаров, начал и закончил хлопоты о персональной пенсии, добился издания книги его стихов, вел переговоры с Институтом мировой литературы о покупке у Назарова биобиблиографического справочника, который Назаров составлял в течение почти всей своей жизни.
В 1955 году Эммануил Генрихович по поручению Союза писателей был в Тамбове. Там он узнал о тяжелых жилищных условиях трех литераторов. Начав хлопоты и получив обещание, что этим товарищам помогут, он не забывает об этом деле, не оставляет его, а спустя время, в потоке забот и работ, возвращается к нему:
«Дорогой Алексей Михайлович!
Собирался приехать, но из этого ничего не вышло — работа, разные поездки, потом предсъездовская и съездовская суета. Теперь кончаю новый роман — «Дом на площади», надеюсь сдать его в печать летом, после чего — если Вы не жалеете о своем приглашении — постараюсь побывать у вас и обязательно в Ярославле у П. Н. Алферова.
Беспокоит меня вопрос о том, получат ли ваши тамбовские литераторы те три комнаты, которые Вы обещали выделить для них в новом доме. Напоминаю Вам об этом, Алексей Михайлович, так как знаю, что у Вас забот множество, а аппарат может пожелать «забыть» о Вашем указании на этот счет, а Иван Кучин, Герасим Приземлин и Сергей Голованов — в особенности первые два — живут в невозможных условиях.
Спасибо Вам за то, что Вы, как и обещали, дали указание предоставить стандартный домик молодому способному литератору Стрыгину. Домик этот он из лесхоза получил и, естественно, счастлив».
В 1950 году мы получили квартиру в Лаврушинском переулке, а в 1953 году Эммануил Генрихович получил в аренду
437
дачу под Москвой. Мы поехали посмотреть ее. Я удивилась и даже несколько встревожилась, когда Эммануил Генрихович вдруг сказал мне не совсем обычным, очень серьезным голосом: «Сядь, Галя, мне нужно с тобой поговорить». Мы сели на стоявшие посреди комнаты, забрызганные известью козлы, и Эммануил Генрихович сказал:
— У меня есть квартира в Москве, а теперь вот и дача. У Юрия Карловича нет ничего. Почему? Так не должно быть. Это — неправильно. И я подумал: отдадим им комнату, пусть Юрий Карлович (Олеша.— Г. К.) и Ольга Густавовна поживут спокойно, отдохнут от бездомья, от скитаний по углам и знакомым, от вечной проблемы — где взять денег для оплаты за снимаемые комнаты... Ну, а там видно будет... Вот это я и хотел тебе сказать. Теперь как ты скажешь — так и будет.
И они поселились у нас. У них тогда не было никакого имущества, так же, как и у нас перед войной и некоторое время после войны. Юрий Карлович и Эммануил Генрихович тогда были мало знакомы, подружились они уже потом, когда мы стали жить в одной квартире.
Как, наверное, все известные писатели, Эммануил Генрихович получал множество писем различного характера, в том числе от людей, пробующих писать — стихи, рассказы, повести, жаждущих услышать о своем произведении компетентное суждение, разрешения сомнений, совета — стоит ли, есть ли тот божий дар... Таких писем — очень много, и на все Эммануил Генрихович отвечал непременно. Не было случая, чтобы он не ответил на такое письмо, отмахнулся, отделался отпиской — независимо от того, была ли в образце творчества корреспондента хоть искорка таланта или не было ее.
«Уважаемый товарищ С.
Мне кажется, что Вы имеете дар рассказчика. Повествование Вы ведете живо и непринужденно. Как говорится, у Вас «легкое перо». Это, разумеется, достоинство. Но это же может стать крупным недостатком <...> Так оно и получилось в Ваших рассказах...
Все Ваши рассказы <...> сюжетны, построены на необычайном случае. Но почти все эти случаи анекдотичны. Нет в Ваших рассказах веяния настоящей живой жизни, все они бьют на внешний эффект. Нет людей, нет страстей, нет настоящих жизненных конфликтов <...> Вот где основной недостаток Ваших рассказов. И очень жаль <...>
Тут как будто все есть, что относится к нашей современ-
438
ности: и недавно закончившаяся Отечественная война, и научная работа, и воспитание нового поколения. Но все эти черты якобы современности <...> сводятся к анекдоту, притянуты для того, чтобы иллюстрировать какой-нибудь не весьма интересный, но кажущийся необычайным случай.
...Мой совет Вам — отказаться от мишуры внешних эффектов. Напишите несколько рассказов, с самыми простыми сюжетами или совсем без сюжетов. Без сюжетов, но с людьми. И пусть эти люди живут, радуются, мучаются, стремятся. И пусть эти люди говорят реальные слова и делают реальные вещи <...> Сюжет в рассказе — вещь не плохая, но тогда и только тогда, когда за ним бьется настоящая жизнь и действуют настоящие люди. Я готов отдать сто остросюжетных рассказов О’Генри за один бессюжетный рассказ вроде «Архиерея» Чехова. Тут, конечно, дело в направлении, но я держусь именно такого направления.
Желаю Вам всяческих успехов, а главное — работы, напряженной, творческой».
Хочется мне привести отрывок из письма человеку, роман которого Эммануил Генрихович уже прочитал, ответил и снова пишет в ответ на письмо автора романа.
«Уважаемый Анатолий Владимирович!
Меня обрадовало Ваше письмо. Раскаяние — одна из тех христианских добродетелей, которые ценятся и при социализме. В связи с Вашим письмом я думал о Вашей работе. Может быть, мои размышления окажутся полезными для Вас, и я поэтому решил изложить их с полной откровенностью, т. е. так, как полагается среди настоящих литераторов».
Дальше идут размышления, советы, письмо-беседа. Эммануил Генрихович писал всегда правдиво, серьезно и доброжелательно.
Это не легко — откровенно высказать свое отрицательное мнение автору. Зато с какой радостью Эммануил Генрихович писал о своем восхищении, высказывал его, когда работа была достойна того.
«Дорогой товарищ Щеглов!
Ваша статья о драматургии кажется мне произведением зрелого ума и нешуточного таланта <...>
При прочтении я испытывал чувство восхищения, давно уже не испытанное мной над критическими статьями. Думаю, что в Вашем лице наша советская литература,— может быть, впервые — приобретает выдающегося критика. Я не боюсь сказать Вам это: глубокий зрелый ум, который Вы так
439
блестяще обнаруживаете, легко оградит Вас от самодовольства перед лицом чьих бы то ни было похвал — моих или людей, более значительных, чем я. (Спасительное чувство недовольства собой — чувство, отличающее настоящих деятелей, Вам не должно изменить...) Жму Вашу руку
Ваш Эм. Казакевич».
Свое восхищение Эммануил Генрихович считал нужным высказывать все равно — известному писателю, начинающему ли, другу или совсем незнакомому человеку. Вот письмо известному писателю В. Ф. Тендрякову, мастеру, которого Эммануил Генрихович лично знал, уважал и высоко ставил. Он был искренне рад удаче товарища и не мог не сказать слов восхищения, не высказать свою радость успеху, таланту товарища.
«Дорогой Владимир Федорович!
Пишу Вам эти несколько слов для того, чтобы выразить мое глубокое восхищение Вашей повестью «Тройка, семерка, туз». Какая сильная, славная, добрая вещь! И что бывает нечасто — лучше всех написан мастер Саша — «начальник», «положительный герой». Его противник, каторжник, босяк, не так хорош — он чересчур традиционен. Кстати, это — традиция — вновь возникла в столь достоверных обстоятельствах, что не вызывает нареканий.
Что лучшее в повести — сплавной участок, атмосфера его жизни и быта, грубая и трогательная правда жизни, ее эпическая простота и высота, сродни «Илиаде» <...>
Поздравляю Вас. Предсказываю Вашей маленькой повести долголетие среди лучших русских повестей».
Не только тогда, когда его просили высказать свое суждение, прочитать рукопись, но и без побуждения извне высказывал свое мнение Эммануил Генрихович. Он просто не мог не высказать свою радость, прочитав талантливую вещь, это было проявлением его общественного темперамента, одной из форм его участия в литературном процессе, сердечным желанием доставить товарищу радость, это было потребностью его души.
«В редакцию «Знамени» Дорогие товарищи!
Прошу передать тов. Л. Аннинскому мой «читательский отзыв» о его статье (из № 9). Статья очень хорошая. Л. Аннинский — тонкий ценитель поэзии, умный человек и превосходный писатель. Сколько ему лет? Может быть, он тот,
440

Э. Г. Казакевич. 1960 г.
кто заменит нам рано ушедшего даровитейшего М. Щеглова?
Во всяком случае, передайте ему от меня самый дружеский привет и лучшие пожелания.
Эм. Казакевич».
Хочется привести здесь еще одно письмо, написанное после того, как Эммануил Генрихович прочитал рукопись, отослал ее со своими замечаниями, а затем, после доработки автором, снова ее прочитал:
«Уважаемый товарищ Ржевская!
Последний вариант Вашей повести, присланный мне Вами сюда, в Глубоково, я прочитал.
Повесть стала гораздо лучше. Пожалуй, можно сказать уже теперь, что Вы написали хорошую вещь. Очень этому рад <...> Повесть Вашу я послал Твардовскому в «Новый мир». Надеюсь и уверен, что ее там напечатают. Прошу Вас, сделайте те поправки, о которых я здесь пишу».
И тут же пишет письмо в «Новый мир»:
«Дорогие товарищи, Александр Трифонович и Сергей Сергеевич!
Повести своей дать Вам не смог, но про Вас не забываю. Посылаю Вам небольшую вещь молодой писательницы. Несмотря на некоторую растянутость второй части, повесть эта, по-моему, — очень хороша. По ней надо немножко пройтись опытной рукой — и журнал получит превосходную вещь...
Жму Ваши честные руки».
А вот ответ Э. Г. на вопрос, на который и ответить не так-то просто.
«Уважаемый товарищ Б. М. Ф.!
...Для того чтобы писать — надо писать. Технология писания, если она есть вообще, познается только личным опытом. Никакой школы, кроме самой жизни, плюс чтение хороших книг, здесь нет и, видимо, не может быть. Гегель считал это обстоятельство преимуществом литературы перед всеми другими искусствами, для которых школа, технический навык играют если не главенствующую, то... необычайно существенную роль. Недаром писательское искусство излюблено графоманами. Графоманов-композиторов или художников сравнительно мало, поскольку овладеть «технологией»
442
музыки и изобразительного искусства труднее, чем элементарной грамотой.
Однако я предполагаю, что сама постановка Вами вопроса: писать мне и как писать — указывает на то, что Вы не художник. Если бы Вами овладело «die Lust zu fabulieren», как говорил Гете, т. е. страсть к сочинительству, полет фантазии, взрыв воображения, Вы писали бы уже давно, не спрашивая ничьих советов. И все-таки то обстоятельство, что Вы (вероятно) не художник по преимуществу, еще не означает, что Вы не должны писать. Допустим, что не страсть к художеству, а страсть к более активной жизни вызвала на свет божий Ваши вопросы. Вероятно. Вы чувствуете себя — и возможно небезосновательно — человеком, могущим влиять на других, и ищете наилучшую форму для этого влияния. Я понимаю Вас и сочувствую Вам в этом отношении. Вас угнетает недостаточная активность Вашей жизни.
Вы умеете мыслить, следовательно, должны уметь эти мысли излагать. И, может быть, Ваш путь — если Вы действительно можете стать и станете писателем, — это не художественная проза, а публицистическая, где полнота и выпуклость мысли часто заменяют полноту и выпуклость образов. Попробуйте писать дневник сердца, подобный прозе Герцена или Гейне. В этот дневник Вы сможете вкрапливать картины жизни, наблюдаемые Вами, например, на Оке и Вятке, где Вы недавно путешествовали, или на Вашем заводе, где наверняка есть много интересных людей и ситуаций. Вы немножко об этом пишете в своем письме.
Это проза не рассудочная, а интеллектуальная.
Если такая проза Вам по плечу, то, поверьте мне, — она окажется ничуть не хуже «выдумки» <...>
Вот Вам мой совет. Но при этом помните, что я вполне могу ошибиться. Я слишком мало знаю Вас».
* * *
Правильно ли это — тратить свое время и свои силы на чтение чьих-то рукописей, на подробные ответы авторам, на беседы с авторами у себя дома, на хлопоты о помощи незнакомым людям, все равно — в житейских делах или литературных, тем более что делать это не было никаких указаний или обязательств иного порядка, не приносило денег или иной другой выгоды, не прибавляло славы и совершалось как бы втайне. Не рациональнее ли, не практичнее ли было бы употребить это время и эти силы на свою работу, на свой
443
отдых, на свои дела? Наверное, есть люди, живущие и действующие по такому принципу. Ответить на этот вопрос категорически, однозначно нельзя. Просто Эммануил Генрихович не мог поступать иначе. Не мог пройти мимо несправедливости, мимо чьей-то нужды, беды. Это было свойство его души, органически входило в его жизнедеятельность, в его существование на земле.
Постепенно, когда я разбирала архив, образовалась папка, которую я озаглавила «Помощь людям». В ней собралось много бумаг: документы, записи, письма. Вот записи карандашом на листе, поспешные, с сокращением слов — запись рассказа человека о том, что его жена на сносях, живет в домработницах, так как им негде жить, он ночует где придется, что делать — неизвестно. Почему он пришел к Эммануилу Генриховичу? Об этом он у молодого человека не спросил, а просто начал хлопоты, чтобы им дали хоть какое-нибудь жилье.
Я тогда вспомнила, как мы с Эммануилом Генриховичем, когда он вернулся из армии, заглядывали в окна подвальных этажей и мечтали о маленькой комнатушке в любом из них...
И жилье этим людям дали.
В 1962 году в анкете журнала «Вопросы литературы» был и такой вопрос:
«Следует ли считать необходимым соответствие между тем, что писатель проповедует в своем творчестве, и его личным поведением?»
Эммануил Генрихович ответил на этот вопрос кратко и убежденно:
«Да, да и да!»
Вся его жизнь тому свидетельство. Все его произведения освещены изнутри любовью к людям, верой в добро, в его силу, в его торжество.
1983
В. Каверин
Э. КАЗАКЕВИЧ
1
Когда мы познакомились, ему едва ли было больше тридцати шести лет. Наши квартиры в новом поселке на Беговой оказались рядом. Там жили многие писатели: Н. Заболоцкий, И. Андроников, В. Гроссман, и в каждом доме Э. Г. радостно приветствовали — он был общим любимцем. Худой, в очках, еще носивший (если не ошибаюсь) солдатскую шинель, он жил и легко и трудно. Легко — потому что у него был свободный, изящный характер и — это бросалось в глаза — острый интерес ко всему, что произошло, происходило или могло произойти. Интерес был не сплетни-ческий, напротив — профессиональный. А трудно он жил — потому что всегда нуждался.
Я не знал тогда о нем почти ничего — ни того, что он был разведчиком, который в первые дни войны служил простым бойцом, а в последние — занимал должность помощника начальника разведки одной из армий, взявших Берлин. Ни того, что он был одним из заметных еврейских поэтов. О первом я узнал, когда на него поздней ночью напали двое бандитов и он не только отбился от них, но скрутил руки и отвел в милицию, а ведь совсем не производил впечатления физически сильного человека! «Разведчик», — объяснил мне один из друзей. А о втором мне стало известно, когда после успеха повести «Звезда» Светлов шутливо предположил, что, может быть, одну из почтенных, но посредственных писательниц ждет удача на обратном пути — от русской прозы к еврейской поэзии.
445
«Звезда» — это был как раз тот случай, когда никому не известный писатель однажды поутру просыпается знаменитым. Что поразило меня в этой повести? Две черты: ее заземленность и ее нежность. И то и другое, как это вскоре стало ясно, было характерно для прозы Казакевича. «Звезда» начинается так: «Дивизия, наступая, углубилась в бескрайние леса, и они поглотили ее». А вот первая фраза третьей главы: «То, что на военном языке называется переходом к обороне, происходит так...» И далее следует последовательное описание.
Это и есть заземление, не позволяющее отклониться в сторону, уйти в приблизительность, неопределенность. О том, что происходит, рассказывается в ключе полной, неотвратимой, беспощадной реальности. Это — информация, наполненная, а иногда даже переполненная трепещущей, взволнованной жизнью. Это хладнокровие авторского лица, которое обязано оставаться бесстрастным, для того чтобы выразить себя со всей полнотой.
Что же сказать о нежности, которой дышит повесть от первой до последней страницы? Чем строже, чем основательнее заземлено дело разведки, тем поэтичнее хватающая читателя за сердце нежность. Так написана едва намеченная любовь Кати к Травкину. В их отношения вложен двойной смысл. Ни одной доверительной встречи, ни одного откровенного разговора! Война оставила им только одну возможность: перекликаться позывными. «По голосам с «Земли» Травкин понял, что там его сообщение принято как нечто неожиданное и очень важное. В заключение с ним заговорил женский голос, и Травкин узнал Катю. Она пожелала ему успеха и скорого возвращения.
— Мы горячо обнимаем вас, — закончила она дрожащим от волнения голосом и, как будто сказав нечто имеющее прямое отношение к служебным делам, спросила: — Поняли вы меня? Как вы меня поняли?
— Я понял вас, — ответил он».
В этих простых словах Катя ищет скрытый смысл. Что означал ответ Травкина на ее заключительные слова? «Сказал ли он «Я вас понял» вообще, как принято подтверждать по радио услышанное, или он вкладывал в свои слова определенный тайный смысл? Эта мысль больше всех других волновала ее. Ей казалось, что, окруженный смертельными опасностями, он стал мягче и доступней простым, человеческим чувствам, что его последние слова по радио — результат этой перемены».
446
Вся небольшая, лаконично написанная повесть настроена на это чувство. С нежностью относятся разведчики к Травкину, с нежностью смотрит на них комдив, который сам был разведчиком: «Надев маскировочный халат, крепко завязав все шнурки — у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, — разведчик отрешается от житейской суеты, от великого и малого... отказывается от своего прошлого и будущего... срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств... так начинается древняя игра, в которой действующих лиц только двое: человек и смерть».
2
Я не думал писать о «Звезде», принимаясь за эти заметки, и написал только потому, что, перелистав ее снова, был удивлен и обрадован свежестью, которая так и светится на каждой ее странице. Такая повесть могла внушить уверенность в своих силах. Уверенность упрочилась, когда через год Казакевич опубликовал рассказ «Двое в степи». В нем полным голосом было названо то, что в «Звезде» как бы не нуждалось в наименованиях. Теперь речь шла не о чувствах, продиктованных любовью автора к своим героям, теперь вещественную атмосферу войны пронизывает мысль: существует ли свобода воли в условиях грозного, не на жизнь, а на смерть, столкновения? Лейтенант Огарков совершает ошибку, в результате которой на его совесть ложится вина за гибель целой дивизии. Он арестован, приговорен к расстрелу и в сопровождении конвойного Джурабаева отправлен в штаб армии. Решение должен утвердить Военный совет. Но армия отступила, арестованный и конвойный остаются одни. И начинается томительный путь по беспредельной степи, которая «не имела зримых границ, а только звуковые — она была окаймлена пулеметной дробью».
Случайности подстерегают их, Огарков принимает участие в опасной разведке, когда истомленный Джурабаев засыпает, — и возвращается к нему добровольно, идя навстречу позорной, заслуженной каре. Как равные, они вливаются в чужое подразделение, идут в атаку, отбивают контратаку — и вновь перед глазами читателя возникает психологическая пропасть, от которой никуда не уйти: конвойный ведет в штаб армии арестованного, которого ждет расстрел. «Рослого, белокурого юношу и коренастого, широкогрудого солдата видели в степи многие. Их видели сидящи-
447
ми у дороги, поедающими арбузы и помидоры, спящими рядом на одной шинели под каким-нибудь одиноким деревом или среди колосьев васильков в открытом поле». Но вот новая и на этот раз роковая случайность. Конвойный убит. «Великий разводящий — Смерть — снял с поста часового». Теперь ничто и никто не мешает Огаркову спасти свою жизнь. Но он отказывается от случайной удачи. Перед лицом долга свобода воли не существует. Огарков «уже не жалкий беглец, убегающий от смерти, а мужчина, идущий навстречу справедливой судьбе».
Острота подлинности, скупые средства, за которыми безусловное знание материала, показали, что успех «Звезды» не был случайностью. Рассказ «Двое в степи» останется в литературе счастливой догадкой. Пришла ли она в голову автору? Уверен, что да. Более того, она подкрепила и утвердила его затаенную надежду создать произведение, еще небывалое в литературе.
3
Мы любили друг друга, хотя несходство привычек и характеров бросалось в глаза. Наши отношения можно назвать, если окинуть их одним взглядом, развивающейся дружбой. Мы были людьми разных поколений — ему минуло десять лет, когда я выпустил первую книгу. Это ничему не могло помешать. С ним я никогда не чувствовал себя старшим. Напротив, в иных литературных делах за ним оставалось решающее слово. В сравнении со мной у него был огромный жизненный опыт: он был начальником строительства, председателем колхоза, директором театра, корреспондентом. Он знал и понимал армию в действии и мог бы, вероятно, командовать полком или даже бригадой. Ничто пережитое не прошло бесследно для него. Он был как бы воплощенной историей собственной жизни.
Конечно, наши отношения не упали с неба. Мы были единомышленниками, хотя подчас расходились в оценках явлений искусства. Вера в будущее связывала нас, что нисколько не мешало ему подшучивать над моим необоснованным оптимизмом. Не помню, чтобы мы когда-нибудь ссорились. В годы наибольшей близости он даже жил у меня; тогда он энергично работал над романом «Дом на площади», отстранив все другие дела и спасаясь от телефонных звонков.
Не только я, все, кто знал Казакевича, не могли не оце-
448

В поездке по Италии с А. Н. Арбузовым, Л. Н. Кавериной и
В. А. Кавериным. Весна I960 г.
нить высокой образованности этого человека, не окончившего машиностроительный техникум и ставшего знатоком русской, западноевропейской и античной литератур. Талант легкой беседы встречается редко. Он владел секретом такой беседы и умел как бы дирижировать ею. В любом кругу он сразу же оказывался центром. Этому помогала беспечность. Вопреки своей профессиональной деловитости, сосредоточенности, душевной занятости, он был легок, беспечен.
4
Если бы меня спросили, какую черту я считаю самой характерной для Казакевича, я бы ответил — мужество. Мне случалось видеть его в дни, когда настигавшие трудности казались почти непреодолимыми. Он встречал их лицом к лицу. Иные из них могли легко сломить другого человека. В свою очередь они ломались, сталкиваясь с ним. Отношение к жизни было философским, и мужество входило в эту философию как естественный факт.
Моя работа интересовала его. Один из немногих друзей, он первым читал новую рукопись, а иногда второй и третий ее варианты. Я ценил его замечания, подчас резкие, всегда обоснованные, иногда касавшиеся отдельного абзаца или даже слова. По поводу одного из первоначальных вариантов повести «Косой дождь», в которой сюжет развивается на фоне поездки в Италию (в ней приняли участие мы оба), он заметил, пожав плечами:
— Похоже до противности.
Я не обиделся на него: он был прав. Искусство и природа Италии поразили меня, — вот откуда появилась слишком подробная разработка фона. Между тем смысл повести заключался не в том, где происходило ее действие, а в утрате привычных отношений между ее героями и возникновении новых, связанных с обстановкой поездки. В дальнейших вариантах фон занял свое место, а на первый план выступили и нечаянная надежда на любовь, и рептильность искусства, и разочарование детей, понимающих, что отцы сознательно уходят от правды.
Мою повесть «Семь пар нечистых» Казакевич одобрил без оговорок. Он возражал лишь против названия, утверждая, что его условность противоречит избранной реалистической манере. «Как ваша работа, которая всегда является для меня предметом нешуточного интереса?» — писал он мне из Железноводска 1 июля 1959 года. Этот «нешуточный
450
интерес» сказался и в том, с какой настойчивостью он убеждал меня взяться за роман «Двойной портрет». И убедил в конце концов, хотя готовый материал, подаренный мне самой жизнью, все же «вылеживался» почти восемь лет, до тех пор пока не стал ясно просматриваться сквозь историческую призму.
5
«Весь мир кишит сюжетами. Чехов потому так много написал, что, не мудрствуя, брал эти сюжеты и писал. Перед ним не стоял вопрос о том, напечатают ли тот или иной рассказ. Здесь, в нашей дачной слободке, каждая дача, жизнь ее обитателей дает тьму сюжетов... Сюжеты валяются на белом снегу, и никто их не поднимает», — записал Казакевич в своем дневнике 29 декабря 1953 года.
Его архив — горькое чтение, властно возвращающее к размышлениям о собственной жизни. Можно ли избегнуть спора с самим собой, как осуществить свои замыслы, не позволяя им распоряжаться тобой? Пастернак был прав, когда, подводя итог жизни поэта, писал:
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой...
Эти «боренья» занимали такое большое место в жизни Казакевича, что он стал избегать их — они воровали у него время, необходимое для работы. Если поставить рядом то, что было совершено им и что не совершено, — отношение будет один к трем. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить три списка.
1. Опубликовано: «Звезда», «Двое в степи», «Весна на Одере», «Дом на площади», «При свете дня», «Сердце друга», «Приезд отца в гости к сыну», «Синяя тетрадь», «Враги», очерки.
2. Начато и частично написано: «Новая земля», роман; «Мифы классической древности», рассказ; «Московская повесть»; «Адмирал океана», пьеса о Колумбе; «Крик о помощи», рассказ; «Русские в Германии», пьеса; «Тетка Марфа», рассказ; «Иностранная коллегия», повесть; «Моцарт и Сальери», киносценарий; «О Владимире Дале», этюд; «Автобиографические заметки»; «Донос», рассказ.
3. Задумано и осталось в набросках и планах: «Жена президента», рассказ; «Дочь диктатора», рассказ; «Генерал Пешков», рассказ; «Тихие дни Октября», рассказ; «Остров
451
справедливости», рассказ; «Ярославль и Флоренция», очерк; «Летние впечатления», очерк; «Этюды о русских писателях». И это далеко не все.
«Толстой чем силен: кроме прочего тем, что овладел ритмом жизни... Писатель, описывающий только более важное — обманщик... он искажает жизнь. Он берет ее в главных чертах, а жизнь нельзя брать только в главных чертах... авторский произвол в выборе главных черт, как и всякий произвол, не соответствует течению жизни. Создается ритм, но это не жизненный ритм, а ритм литературный, «олитературенный», ритм Гюго, а не ритм Толстого. Опоэтизировать обыкновенное, а не выискивать среди обыкновенного поэтичное, вот, мне кажется, верный путь» (29.12.48).
Но чтобы «опоэтизировать» обыкновенное, надо работать, зарываясь в глубину, изучая подробности с тщательностью профессионального этнографа. Быть может догадываясь, что увиденное и пережитое он сумеет написать лучше, чем продиктованное воображением, он едет на места действия своих будущих книг. Он полгода живет в семье рабочего на Урале и полтора года в маленькой деревне Глубоково, Владимирской области, в крестьянской семье. Он едет в Ташкент, Самарканд, Бухару. «Весной уеду на большой завод — Уралмаш или Магнитогорск», — решает он в июле 53-го года и едет.
Попытайтесь окинуть одним взглядом все, что он намерен был написать, и вы невольно испытаете чувство недоверия. Как? И «Московская повесть», в которой он хотел рассказать трагическую историю жизни Марины Цветаевой, и «Иностранная коллегия» — повесть о французах в оккупированной Одессе, и «Мифы классической древности» — рассказ о греческом рапсоде, создателе мифов, и «Адмирал океана» — пьеса о Колумбе, и киносценарий «Моцарт и Сальери». Но на первом месте в каждом списке, которые Казакевич составлял часто, оглядываясь на прошлое и заглядывая в будущее, с тремя восклицательными знаками стоит название «Новая земля». Это и есть роман, который он считал своей Главной книгой.
6
Не следует думать, что эти неосуществленные замыслы лишь намечены. За многими стоят усилия, продиктованные упорным стремлением к цели. Доказано, что, работая над «Войной и миром», Толстой опирался на сравнительно не-
452
большой свод материалов. Изучение деталей, подробный инвентарь быта, кажущаяся необходимость узнать все — увлекательное, но опасное занятие. В дневнике, который Эммануил Генрихович вел от случая к случаю, я встретил неожиданную запись о песчаных отмелях, которые, как это ни странно, «образуются не на мелких, а, наоборот, на глубоких местах (над ними водовороты)».
Быть может, в эти водовороты, возникавшие как роковой результат глубины изучения, и попадал подчас Казакевич? Из всего собранного, изученного, наблюденного, обдуманного приходится — я знаю это по собственному опыту — вовремя «вытаскивать ноги». Но вот что удивительно: ведь и это Казакевич делал очень легко! Я уже упоминал, что некоторые замыслы частично осуществлены, и даже опытный взгляд не обнаружит в них следов многолетнего изнурительного труда. Вот как начинается, например, повесть «Иностранная коллегия»:
«Высадка десанта началась в полдень. Дул свежий южный ветер, и пелерины на французских офицерах развевались, хлопали, били по блестящим сапогам и длинным саблям, обвевали прохладой их мужественные обветренные лица. Зуавы в красных чалмах, европейцы, одетые по-восточному, смуглые спаги, мавры с орлиными лицами в белых бурнусах засновали по сходням туда и обратно, изредка бросая на порт, на дома Одессы и на верхнюю кромку Карантинного мола, куда высыпали жители города, любопытные и веселые взгляды. Затем раздалось могучее ржанье. Тяжелые артиллерийские кони, застоявшиеся, жирные, медленно, кося бешеными глазами на пенящуюся воду под сходнями и упираясь, пошли вниз с нижней палубы. Артиллеристы в широких шароварах и подоткнутых шинелях, смуглые, усатые, добродушные, как украинские «дядьки», придерживали их под уздцы. Затем быстро съехали скорострельные пушки с ярко-зелеными зарядными ящиками. Пулеметы «Льюис», задорно прогрохотав, пролетели почти до края мола, сопровождаемые гикающими «пуалю». Затем вывели еще коней, на этот раз — кавалерийских, красивых, как девушки, похожих на зятя Наполеона, Иоахима Мюрата, с красными и синими султанами на головах. Вскоре весь мол зацвел пестрыми султанами и эполетами, плюмажами, малиновыми фуражками, расшитыми золотом или серебром, красными матросскими шапочками с помпонами.
Издали, из портовых зданий грянул духовой оркестр. Оркестр гремел также и с борта транспорта. Французский
453
шпарил «Стеньку Разина», но в очень быстром плясовом темпе. Русский играл вальс из «Вальпургиевой ночи» Гуно.
Наконец, напоследок, под особо усилившиеся звуки оркестровой меди, с палубы сбежали тесным строем человек пятьсот сенегальских стрелков, с лицами черными как вакса, серьезные, как идолы, в ярких мундирах, с примкнутыми к винтовкам штыками.
После французов высадился греческий батальон. Ослики и мулы с колокольчиками преисполняли восхищением мальчишек, стоявших на молу впереди взрослых,— мальчишек оборванных и сопливых и мальчишек гладких и одетых в матросские костюмчики. За осликами вынесли хоругвь — самую настоящую, православную, как носили еще недавно на крестных ходах во время двунадесятых праздников, а позади хоругви шел настоящий православный поп, одетый в парчовую ризу и золоченую епитрахиль, с большим золотым крестом на груди и с кадилом, только, в отличие от наших попов, очень худой, с впалыми аскетическими щеками и иссиня-черными, не нашими, а заморскими волосами и бородой.
На верхней кромке Карантинного мола буйный южный ветер рвал шали, накидки и платья женщин и фалды мужских рединготов, ряс, мундиров и пальто. Там собралось пол-Одессы, а пол-Одессы в то время означало и четверть Петербурга».
Не думаю, чтобы это было легко — узнать, как были одеты зуавы и спаги, какого цвета были султаны на кавалерийских, похожих на Мюрата, конях, какие — на артиллерийских.
То же самое в полной мере относится к «Московской повести», от которой сохранился подробнейший план, позволяющий судить о размахе замысла, необозримый список книг, которые необходимо было прочесть, перечень героев, в число которых входили Чехов и Пастернак, Фадеев и Савва Морозов, десятки характерных для начала века выражений и вполне законченные главы, в которых некоторые персонажи изображены с таким блеском, что не узнать их невозможно.
7
«Мысль о создании этой книги (или, вернее сказать, серии книг) пришла мне в голову неожиданно и, придя, ошеломила меня. Ошеломила своей дерзостью, грандиоз-
454
ностью замысла. Потом испугала невероятным обилием трудностей различного порядка. Но, отдавая себе полный отчет во всех этих трудностях, я уже, сам того не зная, был в плену категорического императива. Случайная задача стала казаться неслучайной, нужной, ценной, необходимой, наконец — неизбежной, неотвратимой, как сама смерть. Я говорил себе: 1) Не надо — это двенадцать лет жизни, это беспрерывное, на всю жизнь копание в старых газетах, бумагах, книгах, исторических фактах, о которых я не могу иметь суждений ввиду недоступности подлинных материалов.
2) Объективность тут так же опасна, как и яростная субъективность. Первая фальшива, вторая — неубедительна.
3) Брось — куда тебе справиться с задачей, которая по плечу людям типа Толстого, Бальзака, Золя.
4) Гляди — ...не увлекайся заманчивым, но обманчивым желанием охватить все, что ты знаешь.
Но жгучее стремление быть творцом в большом смысле слова, то есть создать целый гармонический мир, а не детали мира, — это стремление победило все... До изнеможения боролся я с этим, но не смог побороть».
Внутренняя жизнь Казакевича должна была измениться в связи с этим замыслом — и изменилась. Это подтверждают его дневники. Теперь он уже не мог существовать и работать, не думая о нем. Хотел он этого или нет — но замысел невольно присоединялся к любой задаче, к любой прочитанной книге. Он заставлял задумываться над собой, оглядываться назад, оценивать прошлое, взвешивать свои силы. Как будто живое существо, о котором нужно было заботиться, появилось в доме. «А теперь — главное: собрать силы для написания эпопеи, энциклопедии советской жизни за 25 лет, с 1924 по 1949—50. Это — огромный, может быть, не по силам труд, но я должен совершить его и, надеюсь, совершу. Это — большой, гигантский роман, в котором вся наша жизнь, главные и второстепенные ее стороны должны найти отражение — верное, объективное.
Итак, время — 1924—1949.
Объем 240—250 авторских листов, 5000 страниц.
Место — Москва, деревня Владимирской области, завод старый (Сормово) и новый (Магнитогорск? Автозавод им. Сталина?), фабрика (Вязники?), Ленинград, Киев, Одесса, Крым, ДВК, Германия, Польша, Китай, Венгрия.
Круг героев: крестьяне, рабочие, интеллигенты, писатели, дипломаты, генералы, солдаты Советской Армии, нэпманы, студенты, партработники, хозяйственники.
455
Главный герой — советский народ, страдающий, побеждающий».
У каждого писателя своя манера работать. М. Зощенко расхаживал из угла в угол и записывал каждую фразу лишь после того, как она была совершенно закончена в уме. Ю. Тынянов мог в один день написать печатный лист, а потом начинались недели молчания. (Впрочем, «Кюхля» был написан в течение месяца.) К. Федин пропускал по три-четыре строки — с тем, чтобы над каждой из них осталось свободное место для исправлений. Это была, без сомнения, медленная, тщательная работа, — непохоже, стало быть, что он работал быстро. Что касается меня, то однажды я пожаловался Фадееву, что за год написал только четыре листа, и он сказал:
— Это много.
Без сомнения, Казакевич знал, что для того, чтобы написать свою гигантскую эпопею, он должен работать быстро. Недаром в одной из дневниковых записей он оправдывает графоманов: «Надо учиться графомании. Не будучи в некоторой степени графоманом, нельзя много написать, а хочется написать много. Какое блаженство для писателя... создать серию романов, в которую можно окунуться с головой, как в другую, похожую и необычайно непохожую жизнь».
Это не мешает ему трезво оценивать всю сложность работы. «Работа современного, в особенности советского, писателя необычайно усложнена в сравнении с трудом писателей XIX века. Прежде всего, она обращена к неизмеримо большему кругу читателей... Тут отпадают и не могут не отпасть... намеки, обращенные к избранному кругу друзей, весь расчет на близких людей, которых писатель чуть ли не всех знал лично» (27.4.53).
8
Как же шла эта работа, для которой был жизненно необходим не только талант, но мужество и полная уверенность в своих силах? «Настало время сдирания шкуры, — записывает он в дневнике в сентябре 1951 года. — Хватит ли у меня для этого страсти к мученичеству?»
Работа шла с трудом, с перепадами, настолько длительными, что между начатыми и брошенными главами начала эпопеи (только начала) хватало времени на новую повесть.
Работа была подходами к работе, и эти подходы то казались бесспорными, то теряли свою определенность, не-
456
уязвимость. Размышления о том, как написать роман, занимают все большее место в дневнике.
«В большой вещи главное: полюбить все части ее, все ее «атмосферы», всех ее людей равно. Пока не полюбишь — не пиши...» (28.4.59).
Он сопротивляется распадению эпопеи на отдельные произведения и приходит в отчаяние, когда это распадение все-таки происходит. Он составляет грандиозную схему, напоминающую родословную дворянского или княжеского рода. Я сожалею, что ее нельзя воспроизвести в этих заметках. Схема охватывает все социальные слои, начиная с двадцатых и кончая пятидесятыми годами. Фамилии героев обведены прямоугольниками, от главных идут линии, соединяющие их со второстепенными. Студенты, колхозники, шоферы, нэпманы, артисты, политические деятели, рабочие, люди науки, поэты, режиссеры, церковники. Места действия — Владивосток, гетто, деревня во Владимирской области, Испания, Сталинград, Индонезия, Ленинград, Москва.
9
Но можно ли судить об этой эпопее, которая похожа на рассыпанную колоду игральных карт? Можно. Остались не только тщательно обдуманные «портреты», не только беглые, но меткие наброски, не только записи бесед с будущими героями, не только множество биографий, записанных неравнодушной рукой, но первые двенадцать вполне законченных глав1.
Что можно сказать о них? Прежде всего: в этой зрелой уверенной прозе нет ничего «изящного», как понимал это слово Казакевич: «Ничего изящного не будет в моей книге. Это будет жизнь, с ее радостями и тяжестями. Оборони меня, боже, от изящного» (дневник, 24.11.50).
Книга первая «Столица и деревня», часть первая «Метель», начинается с авторской записи, смело определяющей «задачу наступления» и наглухо закрывающей возможность «сдачи позиции». Перебирая разнообразные возможности «начал», Казакевич решительно отбрасывает и «суховатый, но сильный исторический обзор», и «прелестные картины среднерусской нечерноземной полосы», и «символическую
_____________________
1Они снабжены содержательным комментарием В. Эйдиновой в журнале «Урал», 1967, №3
457
фистулу вроде упавшего дуба... бурного ледохода», и «изящные сетования по поводу тяжести неуютного переходного времени...» «Я хочу быть грубым... я откажусь от всех соблазнов... от соблазна учить, даже от соблазна не только казаться, но и быть несчастным. Я буду делать свое дело без дерзости, но и без боязни».
Это напоминает предсмертный вызов Маяковского: «И мне агитпроп в зубах навяз, и мне бы строчить романсы на вас — доходней оно и прелестней. Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне».
Если сопоставить прозу этих двенадцати глав с повестью «Звезда» и рассказом «Двое в степи», можно смело сказать, что Казакевич на этот раз отказался и от нежности, и от символики. Он отказался и от стремления тронуть сердце читателя трагедией несовершившейся любви, с такой пронзительностью изображенной в «Сердце друга».
О законченных главах «Новой земли» (одно из названий) можно сказать, что они созданы с таким запасом прочности, которого хватило бы на десятилетия. Он вспоминает в дневнике, как страшно было ему писать «обыкновенные» слова, потому что они казались ему бедными, ничтожными, беспомощными. Здесь с первых страниц бросается в глаза та смелость по отношению к бедному, привычному, обыкновенному слову, о которой в этой записи он замечал: «Те же семь нот были в распоряжении Дунаевского и Моцарта». Теперь эти семь нот даются в сочетаниях, поражающих своей определенностью и простотой. Книга начинается с аккорда, ошеломляющего своей внезапностью и нелепостью. К комсомольцу Феде Ошкуркину, который за два с половиной года из скованного и услужливого до раболепия деревенского парня сумел превратиться в самостоятельно мыслящего, знающего себе цену блестящего студента, приезжает из деревни сестра Надя. Она приезжает с известием, которое мгновенно и бесповоротно разрушило все, чем жил, на что надеялся, к чему стремился Федя: семейство Ошкуркиных раскулачили. Отныне он — сын кулака. Казалось бы, ничего не изменилось; на деле изменилось все. Разговаривая о случившемся с сестрой, Федя мимоходом с ужасом заметил, что окает, как раньше, по-деревенски, и это внезапное возвращение к деревенскому прошлому показалось ему полным трагического смысла.
Сцена раскулачивания дана через восприятие Нади, и уже одна эта скупо, но пронзительно написанная сцена убедительно показывает, что Казакевич в «Новой земле»
458
избрал новую для него форму полного, безусловного объективизма. Судя по его дневнику, это было аналитически обосновано: «Раньше, когда я был моложе и, следовательно, самолюбивее... я самые лучшие мысли приписывал не героям, а себе, автору, чтобы казаться читателям глубже и умнее. Это надо изменить. Авторский монолог — «Звезда», конфликт личного с общественным — «Двое в степи», внутренняя и внешняя жизнь человека — «Сердце друга». ...В этом, по крайней мере, центр моих стараний» (13.2.55).
Центр стараний заключался в том, чтобы перешагнуть достигнутое — отказаться от авторского монолога, увести в глубину конфликт между общественным и личным, уравновесить внешнюю и внутреннюю жизнь героя. Удалось ли это Казакевичу в «Новой земле»? Даже если судить по первым двенадцати главам, — да, удалось.
Сопоставим двух, на первый взгляд бесконечно далеких друг от друга, героев Казакевича: Ошкуркина и Акимова («Сердце друга»). И тот и другой изображены вне авторского монолога. Казакевич как бы стремится доказать, что все происходящее с ними — не выдумка автора, а сама жизнь, которая совершается в бесстрастном, как метроном, роковом неизбежном ритме.
Но в полной мере это удалось в изображении Ошкуркина. Акимов как бы нарочно задуман, чтобы читатель его полюбил: он хорош собой, высок, полон энергии, спокоен, храбр, способен на глубокое чувство. И его любит не только читатель, но все, кто делит с ним тяжкий труд войны.
Но за что любят Федю Ошкуркина?
Проститутка Лизка, которую он случайно спасает от облавы, приводит его в грязную, захламленную квартиру. Он опустошен, у него нет души, он почти не существует. Настоящее — университет, комсомольство, друзья — отодвигается от него все дальше, их уже почти нельзя различить в разыгравшейся метели. Будущего нет. Все кончено — остался только железный крюк, вбитый под потолком с основательностью, завораживающей Федю. «Ему казалось, более того, он был уверен, что встанет с постели только для того, чтобы повиснуть на этом крюке».
Но в этой квартире — много детей, и они сразу привязываются к странному незнакомому молчаливому человеку. Они любят его ни за что. Они не знают, что с ним случилось, почему он мрачен, ежеминутно задумывается, молчалив и мертвенно спокоен. Но они инстинктивно чувствуют, что он шагнул к ним через пропасть оцепенения, обморок
459
души. Они влюблены в него, они потрясены его рассказами о ловле щук с помощью деревянных кружков, окрашенных в два цвета, о комсомольце из Индокитая, который никогда не видел снега и решил набить им карманы, чтобы на родине показать родным и знакомым. Он читает им наизусть «Сказку о рыбаке и рыбке», а когда пытается уйти, они не пускают его, и на дворе, под свист метели, с их помощью он лепит большого снежного человека.
Он нужен не так, как нужен людям Акимов, он нужен просто потому, что он — человек, а среди людей — лишних нет, каждый нужен каждому, все люди — люди.
Так проходит этот день — в том ритме не сюжета, а жизни, о котором Казакевич писал в своем дневнике. В этих страницах проза Казакевича поднимается на более высокую ступень, на ступень высшего объективизма. Не только эта глава, все двенадцать написаны в той неотразимой по своей определенности и направленности манере, новой для Казакевича, потому что «образ мира» явлен в них без скрытого авторского подсказа, с неподкупной смелостью, отрешенной от всех соблазнов, и даже, может быть, соблазна успеха.
В. Эйдинова в журнале «Урал» пишет, что «лейтмотивный образ метели, снова и снова возникающий на страницах первой книги романа, рождает представление об исключительно трудном пути Советской страны». Она ошибается: нет ни малейшего намека на символическое значение метели. С символикой так же покончено, как с авторским монологом. Ничего не изменилось бы, если бы действие первых глав происходило в ясную солнечную погоду.
10
Подвести итоги деятельности Казакевича невозможно — смерть настигла его в разгаре работы. Он скончался, окруженный неосуществленными замыслами, его литературная жизнь была не только не прожита, а в сущности едва начиналась.
И горше всего, что он скончался с ключом в руках — это был найденный с тяжкими сомнениями ключ к толстовско-стендалевской традиции, в которой были созданы первые главы «Новой земли». Он молил судьбу дать ему два года, а потом — хоть один — чтобы закончить роман. Он надеялся, что после того, как он шагнет через роман, у него появится новое зрение.
460

Э. Г. Казакевич. Москва, 1948 г.
В его дневнике есть два «Разговора с богом» — разумеется, это разговоры с самим собой. Вот они:
«Если бы я верил в бога, я бы обратил к нему следующую молитву. «Дай мне сил быть жестоким и непримиримым ко всем мерзостям, созданным тобой. Дай мне сил отдать последнюю рубашку страдальцам, созданным тобой. Дай мне простодушия в сношениях с угнетенными, дай мне коварство в сношениях с угнетателями. Дай мне сил делать свое дело без страха и без дерзости».
Вот второй диалог:
«— Господи, разве можно так поступать? Дать человеку талант и не дать ему здоровья! Смотри, как мне плохо, а я ведь должен написать свой роман. Кто-кто, а ты ведь знаешь, как это нужно написать.
— Ты напрасно жалуешься. Тебе сорок восемь лет, за это время можно было успеть кое-что, согласись. Приходится еще раз тебе напомнить, что Пушкин, Рафаэль и Моцарт умерли в тридцать семь лет, что многие другие умирали еще раньше, и успевали сделать так много, что откладывали отпечаток своей личности и своего искусства на целое поколение.
— Это... верно. Но ты ведь знаешь причины, почему я не мог развернуть свои силы...
— Но великие тем и отличаются, что даже в труднейшие времена они способны остаться собой и оттиснуть очертания своего лица или хотя бы ладони на огромном, изменчивом, железном лице времени. Раз ты не мог, значит, ты не велик. Примирись с этим и не жалуйся».
Казакевичу удалось оттиснуть очертание ладони на изменчивом лице времени. Картина его труда, складывающаяся из напечатанного и оставшегося в архиве, глубоко поучительна не только для тех, кто берется за перо, надеясь на легкую жизнь, но и для тех, кто рядом с ним упрямо и смело действовал в литературе. Первых — если они свободны от мелкого честолюбия — эта картина, быть может, заставит бросить перо. Вторым она напоминает и будет напоминать о том, что русским литераторам судьба требовательно предложила только один выход: оставаться самими собой.
Это в полной мере относится к Казакевичу. Меняясь, он всегда оставался собой.
1977
СОДЕРЖАНИЕ
Александр Твардовский. Э. Г. КАЗАКЕВИЧ .... 3
Николай Тихонов. БОЕЦ И ГУМАНИСТ........11
Константин Симонов. СЕРДЦЕ СОЛДАТА.......13
Г. Г. Казакевич. НЕМНОГО О НАШЕЙ СЕМЬЕ.....16
A. К. Горлинский. В ДЕТСКИЕ ГОДЫ.........24
Т. Ген. ЕГО ЛЮБИЛИ.............37
Борис Миллер. НАЧАЛО..............49
Любовь Вассерман. ДВЕ ВСТРЕЧИ..........56
Яков Чернис. В ТАЕЖНОМ КРАЮ..........59
Сем. Бытовой. СЕРДЦЕ ДРУГА...........72
И. Колин. В ТЕАТРЕ...............90
Ф. Глебов. ЭТО БЫЛО В 41-м ГОДУ........94
З. Выдриган. НЕВЗГОДЫ И РАДОСТИ.........105
B. Назаров. ДОРОГОЙ МОЙ ДРУГ ФРОНТОВОЙ.....113
В. И. Шиков. ЗАПИСКИ ОДНОПОЛЧАНИНА......123
Ф. Ф. Волоцкий. ВЕРА В ЛЮДЕЙ..........137
М. А. Коган. НАШ НАЧАЛЬНИК..........140
В. Е. Бухтияров. ОТВАЖНАЯ ДУША.........148
О. Ф. Утешева-Василенко. «УЗНАВАЛА И КАТЮ, И МАМОЧКИНА, И ТРАВКИНА, И КОМДИВА...»......153
М. Г. Буймович. ПЕРЕД ПОБЕДОЙ И ПОСЛЕ НЕЕ . . . .156
А. Тимченко. ОДНАЖДЫ ПО ДОРОГЕ........161
М. Малкин. ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДЧИК........162
Н. Пономарев. ОТ ВАРШАВЫ ДО БЕРЛИНА......171
Д. Данин. «ВОТ ОНИ И ВЫШЛИ!»..........186
Т. Титова. ОТЕЦ МОИХ ПОДРУГ..........202
Александр Крон. САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК . 210
A. Ю. Никич. ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПОРТРЕТУ......219
Анатолий Медников. СИЛА И ЦЕЛЬНОСТЬ ДУШИ.... 227
Иван Симонов. ВЛАДИМИРСКАЯ СТРАНИЦА.....246
Владимир Матов. ПОКУПКА ВЫЖЛОВКИ.......257
Ариадна Эфрон. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Э. Г. КАЗАКЕВИЧЕ 267
Бернгард Рубен. СУДЬБА И ПАМЯТЬ........284
B. Кардин. «РАЗВЕДЧИКИ УШЛИ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ...» . 305
Л. Л. Кузьмин. О ЧЕЛОВЕКЕ, СТАВШЕМ МНЕ БЛИЗКИМ 324
Александр Авдеенко. СЛЕД В ЖИЗНИ........328
Александр Шмаков. КАЗАКЕВИЧ НА УРАЛЕ......338
М. Галлай. ОСТАВАЛСЯ САМИМ СОБОЙ.......343
Вл. Лидин. В ФИОРДАХ.............349
Николай Чуковский. ТАЛАНТ И СЕРДЦЕ ДРУГА...356
И. Э. Южный-Горенюк. «ИНОСТРАННАЯ КОЛЛЕГИЯ» 360
П. Резников. ПРИ СВЕТЕ ДНЯ...........375
A. Эфрос. ОН БЫЛ, А НЕ КАЗАЛСЯ.........381
Ираклий Андроников. НЕПОДВЛАСТНОЕ ВРЕМЕНИ.384
Маргарита Алигер. ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА.......391
Л. Левин. КРАСНОЕ СОЛНЫШКО.........407
Ю. Крелин. ЧТО ЗА СИЛА В НЕМ БЫЛА?.......416
К. Паустовский. О ЧЕЛОВЕКЕ И ДРУГЕ........420
Александр Бек. УМНЫЙ И НЕЖНЫЙ ХУДОЖНИК ...423
Г. О. Казакевич. ЧИТАЯ ЕГО ДНЕВНИКИ, ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПИСЬМА.........425
B. Каверин. Э. КАЗАКЕВИЧ............445
Составители:
Галина Осиповна Казакевич, Бернгард Савельевич Рубен