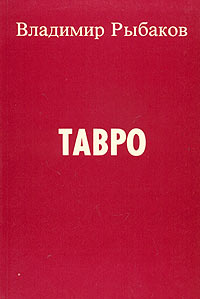
Владимир Рыбаков
ТАВРО
Роман
Посев
© Possev-Verlag, V.
Gorachek K.G., 1981
Frankfurt a. M. Printed in
-------------------------------------------
OCR: Александр Белоусенко; вычитка:
Давид Титиевский; октябрь 2006.
Библиотека
Александра Белоусенко
Глава первая
ПОД МОСТОМ АЛЕКСАНДРА III
Святослав Мальцев стоял на Елисейских
полях, так поместив свое неловкое в быстротекущей толпе тело, чтобы глаза могли
обстреливать город то в сторону Триумфальной арки, то по направлению к Обелиску
на площади Согласия. То, что во Франции называлось зимой, сыпало медленный
дождь на его ушанку и московское пальто. Скоро Мальцеву придется в шестой раз
видеть, как день, лишенный горизонтов, уйдет из Парижа.
Мальцев прислонился к фонарю. Еще три дня назад он продал часы, обручальное
кольцо: или его обманули, или золото действительно мало стоило в этой стране...
— в кармане у него оставалось два франка.
Мимо него торопились, нервно-медленно продвигались вперед толпы
автомобилей. Он увидел: парень, выпустив руль, небрежно прижался лицом к шее
сидящей рядом девушки. Мальцев отвернулся, и мысль, рожденная паршивенькими
чувствами, стала словами:
— Хорошо живут, сволочи.
Толстое пальто медленно впитывало воду, падающую с французского неба, и
озноб, охвативший Мальцева, был скорее нервным.
Нужно было куда-то идти, как-то жить в этом мире... Он прошел мимо
светящегося английского ресторана, свернул в какую-то боковую улицу и
остановился у витрины гастрономического магазина. Мальцеву куда ближе и
понятнее был Лувр, чем эта витрина, загроможденная яствами и вместе с тем
изысканная до непонятного. И она олицетворяла этот чужой, холодный для него
мир.
* * *
Месяц назад Святослав Мальцев вышел из Мурманска в море на борту уже
знакомого до мелочей рыболовецкого траулера.
Не бросалось в глаза, что после каждого рейса он тратил на берегу все до
копейки — это делал весь экипаж, кроме двух чеченцев, собиравших деньги на
невест. Можно было бы придраться к тому, что Мальцев брал с собой в кубрик
толстое, хорошего качества пальто. Могли спросить: а зачем? Ответ бьш давно
готов и обдуман: без блажи нет настоящего человека — посмотришь перед сном на
дорогую материю и вспомнишь подругу, дорогу на танцы, подумаешь о качке не
палубы, а тел.
В рейс, ставший для него последним, Мальцев отправился безо всякой надежды,
злым. Оставшиеся после получки тридцать рублей он отдал проститутке Тане (с
которой до того додружился, что и спать с ней не мог). Она всплакнула, взяла
деньги — для нее мелочь — и сказала на прощанье банальщину:
— Ты хороший. Я буду тебя ждать не так, как других.
Устраиваясь на работу, Мальцев знал, что ему, родившемуся за границей, не
выйти и через десять лет из внутренних вод; да и лицо его не кричало о
благонадежности, а борода, с которой Мальцев не желал расстаться, доказывала
любому начальнику отдела кадров, что ее хозяин может совершить непредвиденное.
Но рабочих рук не хватало, и на малый траулер Мальцева все-таки взяли. Когда
шла рыба, люди работали зачастую по двадцать часов. Потом наступали дни пустых
сетей. Команда изнывала. Мальцев валялся на койке, вспоминая странное свое
прошлое и обдумывая опасное будущее. За год до демобилизации его из армии мать
добилась разрешения вернуться на Запад. Она уехала, уплатив квартплату за
полтора года вперед. Святослав часто с усмешкой гадал: вернется ли его мать
после долгой жизни-житухи в Советском Союзе во французскую компартию или не
вернется? Ведь она могла себя по праву считать старой коммунисткой.
Дембельнувшись, Мальцев вернулся в Ярославль. Дверь квартиры отворилась без
романтического скрежета, и он как был, в шинели, повалился, не смахнув с
покрывала пыль, на материнскую кровать.
Ему хотелось, чтобы мать вернулась в компартию: змея кусает себя в хвост,
человек ест сам себя.
Пыль, поднятая телом, еще оседала, а Мальцев уже видел себя парижским
пацаном, идущим в школу по улице де Птит Эколь, будто не существовало ни
времени, ни памяти; видел себя убегающим из интерната, видел мать, приучившую
его пить молоко (и прочую детскую гадость) за здоровье Сталина. Все в той
стране Франции было умытым. Стены домов страдали только чистой старостью, нищие
были наглыми, а честные люди — столь обеспечены, что могли быть добродушными. В
общем, для Мальцева, — меньшее зло на земле.
После множества суток беспробудного пьянства, налитого стремлением к свинству,
пришло письмо из Ярославля в Ярославль. Без обратного адреса и без подписи.
Письмо сказало Мальцеву, что в трубе газовой плиты лежит его французский
паспорт. Он там действительно и был — синий, республикански-опасный. На его имя
и фамилию, но чистый, без виз и других важных помарок. Святослав вновь рухнул
на материнскую кровать, в которой спала какая-то девица с трикотажной фабрики.
Спала так, как спят молодые женщины в выходное субботнее утро: тело не
подчиняется ни будильнику, ни гудку — только мужскому прикосновению. Мальцев
сказал, обращаясь к спящей:
— Дура ты! А старуха моя — вот это женщина. Достала в Москве для меня
паспорт. Непонятно, как французы его дали: двойного гражданства у нас ведь нет.
За этот кусок картона мне грозит в случае чего не меньше трех лет тюряги или
другого санатория. Сжечь, съесть или сохранить? А? Спишь? Спи.
Голова с похмелья не болела, рядом лежал завтрак, просыпаясь бубнила что-то
женщина, — решение можно было отложить.
Уже когда Мальцев работал грузчиком в городской хлебопекарне, пришел из
Парижа от матери первый вызов. За отказом шел другой отказ. Знакомые евреи
приходили весело прощаться, обещали прислать открыточку из покоренного Каира, а
он все ждал.
Затем пришла весть, что мать повесилась.
Мальцев вытащил извещение из ящика, когда возвращался с ночной смены, неся
в себе не дающую сна усталость. Перечитав извещение несколько раз, пока смысл
слов не стал ясен, Мальцев бросил в стены сгустки ругани, проклятья неслись по
подъезду. Ему хотелось, чтоб по всей земле прокатилось, дошло до спокойного уха
последнего дурака.
Все обрушилось. Не будет больше Франции. Никто его больше не вызовет в эту,
ставшую ненавистной своей внезапной недосягаемостью, страну. Он зря отравлялся
свободой. Веревка, выдержавшая там, в Париже, тело матери, опутала его по рукам
и ногам здесь, в Ярославле. Мальцев уже догадывался, что от свободы нет
противоядия. Все эти годы он старался выжить, а яд выползал из всех пор,
требовал честности, открытости. Он же запихивал его обратно в себя, скрывал от
окружающих опасное знание, и в этой борьбе против себя, против свободы в себе,
часто бывал жестоким: издевался над добротой, оскорблял искренность, старался
искалечить надежду, где бы ее ни встретил.
Оказалось — все глупо, все зря. Теперь нет нужды в этой измотавшей его
борьбе, теперь можно заорать, рвя голосовые связки, что ничего не вышло, что
преступно были в нашей стране истреблены люди без числа. Заорать и пойти куда
пошлют...
„Окаянная веревка... может, и не намылила... торопилась".
Мальцев в отчаянии и бешенстве ворвался к себе в квартиру, бросился к
печке, чтобы, достав, изжевать, разорвать, уничтожить свободную французскую
бумагу. Пальцы побежали по заслонке — и застыли вместе с образовавшимся в
отчаянии решением.
Через неделю Святослав Мальцев, выписавшись из Ярославля, улетел в
Мурманск.
Когда он впервые поднялся по трапу на борт траулера, море под ногами
хмельно шептало ему об успехе. Оно продолжало его в этом уверять так же пьяно и
нежно много времени спустя.
Ему успели в драках сломать нос и порезать бок, а он умудрился убить
человека. Его взяли на „куклу": милая потаскуха повела его по темным
улочкам до безархитектурного подъезда; там поджидали четверо. Боясь попортить
костюм, они решили покончить с добычей без поножовщины, голыми руками. После
первого, неудачного из-за спешки, удара Мальцев без колебаний выхватил из
кармана тяжелую свинчатку: левая рука ударила самого ретивого в лоб —
подбородок приподнялся — и правая, с грузом свинца, пройдя короткое расстояние,
сломала горло. Когда оставшиеся на ногах увидели мертвые глаза друга, они
отступили и ушли. Мальцев убил бы их всех. Потому что переставал себя любить и
ценить.
С борта траулера он по-прежнему рейс за рейсом видел горизонты из советской
воды и неба. Московское пальто с зашитым под подкладку паспортом все еще
ожидало удобного случая.
Но вот как-то рыба пошла да пошла. Траулер гнался за косяками, почему-то
невзлюбившими территориальные воды СССР. И — ударил шторм.
Когда гонимое ветром и взбесившейся водой судно совершило преступление
невольным переходом государственной границы? Плевать. Уходящий день делал шторм
темным. Не светлее было у Мальцева на душе.
Слева по борту была Норвегия, и только моторы мешали течению погнать
траулер к фьордам. Когда-то там ждали конунги и викинги на драккарах, ждало
рабство. Теперь там Мальцева ждало, как он мечтал, наименьшее зло.
Шторм начал уставать. Мальцев, убедившись, что в такую погоду никто не
высунет носа на палубу, потащил к корме давно припасенные старые сети. Его
сбила с ног волна. Подумалось: смоет или не смоет? Когда ему удалось запутать
сетью винт, вокруг уже была черная ночь. Ему мешали не только шторм, темнота и
холод, но и навязчиво-липкое слово саботаж, связывавшее его движения сильнее,
чем вода из моря.
Мальцев затрясся при виде буксира, спешившего к траулеру, к нему.
После схватки со страхом — некоторое время траулер бесновался — команда,
вспомнив о редкости острых ощущений, об открывающейся возможности рассказать на
берегу случившееся и о приближающемся норвежском береге, развеселилась.
Показывая пальцами на матросов буксира, орали друг другу:
— Гляди на того длинного! Верно, старый волк. Небось, на берегу качается.
Без водяры пьян.
Рыбаки со стажем с насмешкой смотрели на молодых.
Капитан, грызя ногти, сказал:
— На берег не сходить, запрещено. Они, эти самые норвежцы, посмотрят, что у
нас там с винтом стряслось, — и в путь.
Раздался свист:
— Вот-вот, попадаешь в первый раз за границу, так даже поглядеть не
успеешь, а у них, говорят, бабы размером больше, чем в Сибири.
Мальцеву вдруг захотелось послать все свободы ко всем чертям, позубоскалить
с ребятами и завалиться спать до утра. Захотелось быть как все... и он злобно
усмехнулся невозможному. Известно ведь — от себя не убежишь. Грустная эта мысль
владела им до прибытия траулера в маленький порт. Траулер, частица Советского
Союза, болтался метрах в семи от Норвегии. Нужно было проплыть эти метры в
ледяной воде, чтобы превратиться из государственной собственности в свободного
человека. Семь лет мечты стояли перед семью метрами воды.
Мальцев вышел из кубрика на палубу, когда на вахте должен был стоять
москвич Серов, потомственный алкоголик, человек, больше всего презирающий
трезвых и работающих.
Мальцев был гол, его тело, казалось, светилось в черноте воздуха и воды:
одежда, пальто, маленькая летная сумка, завернутые в брезент, дрожали в руке.
Серов, закутавшись в офицерскую плащ-палатку, сладко сопел. Чувствуя, что
теряет секунды, — тело могло одеревенеть, — Мальцев отчаянным, испуганным
усилием воли заставил себя решиться. Перед тем как соскользнуть за борт, рука
Мальцева впервые за все свое существование сделала на груди знак креста, а
мысль, последняя мысль Мальцева в СССР, была обращена к спящему Серову:
„Прощай, забулдыга, больше пей, да меньше думай!"
Пришел в себя Святослав уже в Норвегии. Вытащив из кармана пальто
припасенную бутулку водки, он, не отрывая губ от горлышка, высосал ее. Мальцев
праздновал и грелся. Он был как будто на свободе.
К нему никто не подходил, не арестовывал. Мальцев оделся, разорвал
подкладку пальто, вытащил паспорт и стодолларовую бумажку — только за нее могли
дать по закону, что остался позади, несколько лет лагеря! А тут хоть бы хны! Не
может такого быть! Не может. Его должны остановить. Надеть наручники, узнать,
не шпион ли он. И он тогда закричит, что требует политического убежища.
Кругом было тихо. Наверное, следят уже, фотографируют. Может, самому пойти
в ближайший... как это у них называется? полицейский участок, что ли? Вообще-то
надо.
Но Мальцев не хотел сидеть в тюрьме и часа, минуты даже. Видение
захлопывающейся с лязгом двери, нар, особой темени камеры — в ней черно
человеку, несмотря на яркий свет — накатилось, овладело им. Нет. Пусть следят.
Пусть сами берут.
На автобусной станции было чисто. Люди спокойно занимались своими делами, и
не мог Мальцев распознать шпиков. Он сжал рукой дрожащую челюсть. Меняя свою
бумажку на местную валюту, сидя в автобусе, он ничего не видел и не чувствовал,
кроме руки, которая, должна была вот-вот упасть на его плечо. Он жалел, что не
пошел к полицейским, что выбрал свободу... Мальцев поискал другое слово, не
нашел и чуть не заплакал...
Только уже в Осло, выйдя из французского посольства, где его встретили, как
героя, поздравлениями, он впервые обратил внимание на витрину какого-то
гастронома, мимо которого шли и шли люди. Витрина этого магазина была
неестественной — слишком богатой. Мелькнула дикая мысль — для пропаганды, что
ли? Эта мысль успокоила Мальцева. Так уж сделан человек... он любит понимать —
и быстро. Непонятное раздражает; хотя неизвестное манит. В Осло все магазины были
такими, но Мальцев не захотел вновь поднять этот наглый вопрос. К дьяволу!
* * *
И вот он вновь стоит перед витриной — на этот раз на Елисейских полях, — и
вновь не понимает, откуда взялось такое обилие. Мальцев не мог уже заявить
себе: этот магазин для капиталистов — цены были вывешены. А что такое франк, он
уже примерно знал.
Французы с раскованными выражениями лиц — будто никто не ожидал подвоха от
жизни — равнодушно шли мимо выставленного богатства. Мальцев все не мог отойти
от витрины. Он думал о том, что за свободу есть досыта и вкусно с создания мира
отдавали жизнь миллионы людей, за свободу излагать свои мысли вслух — одиночки.
Наименьшее зло и есть всеобщее счастье. Нашел ли он его? Мальцев желчно
расхохотался. Он пока был далек от возможности попользоваться тем, что
выставляла эта витрина с копченым окороком посредине. Ему и ночевать-то было
негде. Последнюю крупную бумажку Мальцев отдал совершенно пресной проститутке.
Был бы он эмигрантом, иммигрантом, политическим беженцем — ему помогли бы различные
организации, дали бы и денег. А так французский паспорт давал ему право
выбирать президента республики, но не передохнуть.
Руки болтались вдоль тела, но мысленно Мальцев сжал ими голову. Так он
дошел до мертвого фонтана, бросил тусклый взгляд на большие дома-дворцы,
торчащие по обеим сторонам улицы, и вышел к мосту Александра III. Устало растянул
рот в усмешке. Этот мост в Париже носил имя самого националистического русского
царя, монарха, как-то сказавшего: „Когда русский царь удит рыбу, Европа может
подождать". Разве не смешно? Он вспомнил, что при Александре III был заключен
франко-русский союз.
В каком-то учреждении, набитом иностранцами, ему предложили поехать на
север страны и там, на автомобильном заводе, полировать на конвейере
французское железо. То, что он француз, сказали Мальцеву, поможет ему очень
быстро продвинуться по службе. Мальцев был слишком уставшим, чтобы рассмеяться
им в лицо. Он повторил, что профессия его — сварщик, что он — специалист. Он не
сказал, что закончил было истфак, — все равно не поймут.
Его пожелание было куда-то записано. Но деньги давали не тем, кто искал
работу, а только людям, ее потерявшим, так что вышел он оттуда в парижский мир
богаче не деньгами, а отчаянием.
Ирония судьбы: тепло душе и спокойствие нервам давал не французский
паспорт, доказывающий, что он — свободный гражданин свободной страны, а
московское пальто, тяжелое и верное, и вот этот русский мост, под которым он
ляжет и забудется до никчемного утра.
До падения темноты на Париж оставался пустяк времени. Последний свет ударял
в грязную воду Сены, скользил и, пробив насквозь двух бродяг-клошаров,
прижавшихся спинами к парапету, уходил в камень, в город. Они сидели, эти
клошары, в одинаково неподвижных позах. Возле каждого стояла пластиковая
бутылка красного вина. Один был толст, другой — худ. Первый был нагл лицом,
второй — грустен... Будто в них жили два характера нищеты.
Вода Сены стала блестяще черной. Мальцев, усевшись рядом с парижской
нищетой, стал третьим бродягой-клошаром.
— Можно?
Открылся наглый рот толстяка:
— А чего спрашиваешь? Сел, ну и сиди. Только смотри, жопу не проморозь.
Рот лгал, из грубо говоривших губ выходил добродушнейший голос сытого
человека.
Худой и грустный клошар тоже подал голос:
— Ну чего? Шум да шум. Могу я поспать в этом грязном городе?.. или мне на
другой берег перейти?
У этого человека был сходный с лицом печальный голос.
Мальцев, встрепенувшись от неожиданной мысли, спросил:
— Полицейских не боитесь? Мы же в центре города сидим. Могут нас забрать? А
если заберут, то что будет?
Сытый голос расхохотался:
— Откуда ты такой взялся? Не бойся. А если лягавый и пришкандыбает — он
только вой со скуки подаст да и потурит нас на другой участок. Но редко это
бывает, лягавые — они воды боятся. Ты новенький, сразу видно. Ничего, свыкнешься.
Вот я...
— Давайте спать, а? Выпьем и будем дрыхнуть, — сказал грустный голос.
В наступившей ночи раздался звук проникающего в горло вина. Причмокивание
было долгим. Затем опустилась тишина — оба клошара прыгнули без разгона в сон.
Мальцев закутал лицо шарфом, но не закрыл глаз — ему вполне хватало одной
темноты. Он вновь мысленно сжал руками голову... и мышцы, послушно уловив
веление, нудно заныли. Мальцев по-детски обиженно почувствовал боль в бессильно
разбросанных руках.
Впервые за много лет по лицу Святослава Мальцева потекли слезы. Он вспомнил
рыжую голову одного своего друга, с трудом терпевшего насилие, человека,
любившего мечту о социализме с человеческим лицом и получившего за эту мечту
семь лет строгого режима. Что он делает в эту минуту? Спит себе, небось, на
положенном месте в лагерном бараке, переваривает баланду... мысль отдыхает,
подсознание рисует и рисует сны о свободе, любви, быть может, о том социализме,
которого он никогда не увидит... подсознание все может.
Мальцеву не было холодно. Дождь ушел вместе с днем. Еще влажный воздух
тепло касался лица. Камень парапета немного студил тело, но это было такой
чепухой... Слезы свободно текли. Жалость к себе была острой, болезненной.
Происходило то, чего только и боялись когда-то жившие здесь галлы — небо падало
на голову Мальцева. Судьба зло смеялась над ним, а жизнь, казалось, отнимала
последние иллюзии.
Его друг, ставший зэком, спал в бараке и наверняка продолжал верить в
социализм с человеческим лицом. А ставший свободным Мальцев лежал с двумя
клошарами под мостом, носящим имя русского царя, и терял веру в себя, надежду,
мечты, веру в ценность страдания. Французский документ в кармане позволял ему
свободно разъезжать по миру, свободно переезжать с квартиры на квартиру,
свободно говорить, орать, писать... свободно, свободно, свободно. Будь все
проклято! Он, Мальцев, лежал здесь — и завтра, если полиция не заберет, нужно
будет найти чего-нибудь поесть.
Было же еще не так давно существование, лишенное проблемы выбора. Была
комната-квартира на улице им. Ленина. Ни съехать, ни переехать. А если разрешат
— дадут то же. Квартира — собственность государства, ты — собственность
государства, — и никаких забот. Была работа как работа. Главное — не
перевыполнить норму, иначе снизят расценки. Работай как все, побольше
перекуров, болтовни и поменьше пота. Усилия не вознаграждаются, покорность —
иногда, но лучше, спокойнее, быть где-то между услужливым рвением и равнодушной
покорностью. Частая смена предприятий пачкает трудовую книжку — начальники
отдела кадров этого не любят и, кроме того, одно предприятие похоже на другое,
завод — на завод, фабрика — на фабрику, расстояние между ними в десять тысяч
километров ничего не значит: все — собственность государства, и ты —
собственность в этой собственности, и все заранее предопределено. Те, кто знают
или чувствуют, что они могут добраться хоть до первой ступени иерархической
лестницы, — те карабкаются, скользят, топят и давят других, думая при этом, что
живут, а не существуют. А может, желание быть рабом освобождает от рабства.
Хорошо тому, кто не только не видит своих цепей, но и не подозревает об их
существовании. Он — счастлив. Одному холодильник бы да денег собрать на отпуск.
Другому — немного бы хрусталя в доме, и счастье с порога — да в комнату.
Воистину счастлив человек, не знающий о существовании свободы.
А он, Мальцев, разве он не был счастлив... рыбалка, охота? Не стояло
проблемы выбора. Не было веры в Бога или в коммунизм — все одно. Не было и
безверия. Была крыша над головой. Был хлеб...
Да — был. Антисоветская это пропаганда говорит, будто хлеба нет. У нас в
СССР последний раз помирали от голода в начале пятидесятых годов. После — нет.
Мальцев подумал это, будто спорил с кем-то. Ему, Мальцеву, дали проблему
выбора, и он увидел свои цепи. Мысль стала словом, слово — действием, и вот —
он здесь, у парижского моста, ночью, с двумя клошарами. Что говорить? Кому
орать? И вечно-русское — что делать?
Вот как бывает: руки стынут на плитах набережной, и это же бессилие сильнее
всякой силы сжимает виски отчаявшегося человека.
Мелькнула сквозь слабость
мысль-зацепка: а может, вернуться? Ну посадят, ну отсижу, а там видно будет.
Что будет видно? Что опять нужно бежать?
Клошары храпели ровно, без страдальческих присвистов нездоровых от
безалаберной жизни людей. Спят себе в центре столицы, чтобы, проснувшись,
поносить и поносить власть. Серегу бы сюда, вот где он пожил бы! Сержант
Серега, как его называли соседи, уже более тридцати лет ежедневно скакал по
улице детства Мальцева к Волге. Одна нога — протез, другая — от земли до культи
— из воздуха, зато под мышкой отполированный костыль. На груди сержанта Сереги
болтались медали и чем-то дышали ордена. Над ними смеялись: в конце
шестидесятых годов не было человеку выгоды напоминать о своих былых подвигах на
фронте.
Он спускался к пристани в своей бессменной гимнастерке и часами что-то
говорил реке. Когда бывал болен или уставал — не спускался, усаживался на
обочине и переговаривался с водой издалека.
Одна бабка из соседнего двора любила рассказывать, как избежал сержант Серега
через год после окончания войны кары за то, что стал калекой. Тогда, говорила
бабка, всюду ездили люди от советской власти и хватали бездомных инвалидов,
портящих своим видом государству настроение. Голод был, страна отстраивалась, и
эти горемыки были как-то ни к чему. Всех забрали, и никто назад не вернулся. А
Серега — спасся. Он, как увидел тех людей в „газиках", шмыгнул за штабель
дров, протез свой небрежно выставил, сушившийся на веревочке пиджачок на плечи
накинул, стал как хозяин поленья перебирать. Те не заметили, уехали... Так и
остался Сереженька единственным одиноким калекой района.
Мальцев не помнил, сколько раз забирали сержанта Серегу в отделение
милиции. Никто не считал. Но раз Мальцев удивился необыкновенному: два румяных
милиционера со смехом закидывали инвалида в воронок, и медали на груди дяди
Сережи не зашумели, не звякнули, а как-то стонуще позвали друг друга. Тогда
Мальцев был уже болен свободой — потому и услышал.
Мальцев пошевелился... чувство неприязни к сытым клошарам возникло неожиданно,
но он был почти уверен, что звал и ждал его, это чувство. Вот сравнил сержанта
Серегу с этими двумя сладко храпящими существами — и стало легче на душе и
немного стыдно за слабостью
Божественное сравнение. И проклятое. Именно появление сравнения было первым
признаком заразного заболевания, называющегося свободоманией. Нет сравнения —
нет сомнения. Был бы теперь Мальцев по-прежнему счастливым рабом, героическим
рабом, готовым защищать собственные цепи, готовым по приказу надевать их на
чужие тела и мысли, хотя бы этих самых французов. Не было бы поисков
наименьшего зла, не было бы броска в свободу. Что с ней, кстати, делать?
Образ сержанта Сереги дал Мальцеву каплю бодрости, но беспомощность перед
чужим миром все же не хотела уходить. Знание французского языка не помогало, и
отсутствие иностранного акцента только подчеркивало нелепость житейской ямы, в
которую он попал. Давеча Мальцев зашел в кафе и попросил соку. Ему дали чашку
кофе. Откуда он мог знать, что нужно заказывать фруктовый сок, потому что слово
„сок" на жаргоне означает ,,кофе". На него тогда смотрели насмешливо
и еще как-то странно оскорбительно.
А автобусы, чтоб им... Он стоял на остановке как бедный родственник и
смотрел, как один за другим они проплывали мимо, не останавливаясь, перед его
белыми от ненависти глазами. Откуда он мог знать, что нужно поднять руку? Он
был свободен, а все вокруг издевалось над ним, унижало, оскорбляло...
Еще в старину говорили, что для путника нет страшнее неведомых мелочей.
Мальцев ушел в сон без снов. Короткое забытье не принесло ему сил, но
рассвет цвета пролившегося на землю молока потребовал у тела движения.
Храпели клошары, уродливые и несчастные под видимым небом.
Нужно было что-то делать. Голод — не тетка.
Глава вторая
СЕРЕБРЯНАЯ БАШНЯ
На ходу побрившись механической бритвой, Мальцев ускорил шаг, двигаясь на
доносящийся гул. Посредине открывшейся ему площади возвышалась мраморная или
гипсовая лжегреческая женщина. Площадь была наполнена возбужденным народом,
живые колонны продолжали вытекать из улиц. Люди орали: долой! надоело!
Выступающих с громкоговорителями никто не слушал. Молодежь, добравшись до ног
каменной женщины, довольно-таки похабно жестикулировала.
На лжегреческую бабу никто не обращал внимания, все упивались своей
собственной вольностью. Вблизи от Мальцева происходило совсем непонятное: кучка
полицейских защищалась от группы парней, вооруженных дубинами, цепями, камнями.
Несколько „лягавых" было уже ранено. На головах парней ладно сидели
мотоциклетные шлемы. Это было настолько неправдоподобно, что Мальцев сначала не
захотел верить своим глазам. Полицию избивали демонстранты! Что же это за
государство, позволяющее всякой анархии избивать своих людей? Почему такое? А
может, на Западе так и положено? Может, это и есть демократия? Вопросы сталкивались,
ответы не рождались, лишь из глубины его существа поднималось одинокое решение,
и Мальцеву оставалось беспомощно наблюдать, как выползало оно, спокойное,
тихое. При этом Мальцев чувствами наблюдал за своим лицом: твердели желваки на
скулах, глаза пустели, губы кривились презрением: „Подумаешь, раскричались
сосунки. Разбушевались, видите ли... сюда бы небольшой взвод. Да что там
взвод... моего отделения бы хватило, даже без пулеметов бы обошлись. Несколько
автоматных очередей, несколько десятков трупов — и дело в шляпе. Остальных и
пулей бы не догнать!"
Ход мыслей Мальцева прервал шлемастый малый, — отступая, он ударил его
спиной в грудь. А-а-а-а! Радость бешено бросилась в руки. Нашлось наконец на
ком сердце сорвать. Кулак Мальцева, описав дугу, ударил в шлем парня, в то
место, под которым скрывался висок. Парень упал; как противник поднимался на
ноги, Мальцев не видел — движение толпы отнесло его. „Может, затопчут
гада", — мелькнуло радостное предположение.
Уходя, Мальцев оглянулся на каменную женщину, прочел название площади:
„Площадь Республики". В республике и на Площади Республики у памятника
Республике люди, требуя свободы, избивают полицейских?
Навалилась усталость. Мальцев спросил себя: куда я попал? Заболела голова,
затрещала хуже, чем с перепоя. В глазах проступили слезы отчаяния. Чего бы он
только ни отдал, чтобы увидеть в Москве, Мурманске, или хоть бы на Чукотке
подобное тому, что только что происходило на этой площади... может быть, и
жизнь — лишь бы увидеть...
Но и стрелял бы в эту толпу, здесь свободных, а там, в Москве, внезапно
освободившихся людей. „Вот она, двойственность творенья, — пробормотал Мальцев.
— Я там, в Союзе, был болен свободой, а теперь несвобода не отпускает меня. Вот
ударил парня — хорошо хоть в шлеме он был. Бедняга, так ничего и не узнает. Он,
наверное, лопнул бы от удивления, если бы сказали ему, что не переодетый
полицейский, а человек, только-только сбежавший из-под железного занавеса,
врезал ему по мозгам".
Мальцев пытался улыбнуться, но лицо было непослушным. Он не понимал ни
себя, ни мира вокруг. Себялюбие и гордыня, так помогавшие ему все эти дни,
таяли. Он не хотел более сопротивляться своей душевной усталости... и он был
очень голоден.
Мальцев нашел наконец скамью — их оказалось мало в Париже, а урн на улицах
почти вовсе не было. Первые дни было противно кидать окурки на мостовую.
Мальцев знал: глупо, будучи в гостях, ругать хозяев за все им свойственное, а
тем более навязывать, даже неслышно, свое.
Мальцев уговаривал Мальцева немного опустошить то место в груди, где сидела
гордыня, чтобы наполнить то место в желудке, где должна быть пища на
сегодняшний день.
Рука вытащила записную книжку, перелистала, глаза нашли нужную фамилию:
Булон. И только тогда он признался себе в том, от чего отказывался последние дни,
— он не смог оправдать в собственных глазах звание вольного человека. Он
оказался бессильным, как щенок, перед внезапной свободой. Десятилетия
существования в Советском Союзе так не унизили его, как последние несколько
дней жизни. Он будет вынужден молить о помощи. Он оказался слабым.
Господин Булон был долгое время крупнейшим колониальным чиновником. Теперь
— всего-навсего сенатор. Так, давая адрес и номер телефона этого человека,
говорила Мальцеву мать. Слова произносила со внятной иронией: „Когда-то мы были
друзьями, учились вместе. Наши пути разошлись. Мы стали врагами. Но наш мир
глуп, быть может, он тебе и поможет".
Тогда в Ярославле ирония матери казалась понятной: коммунистка и чиновник
французских колоний! Теперь в окружающем его безумном мире все было
расплывчато. На одной лестничной площадке соседствуют коммунист и антикоммунист
— для Мальцева эта мысль была столь же дикой, как вера в загробную жизнь.
Помучившись с телефоном более получаса. Мальцев наконец дозвонился. Ответил
безликий женский голос. Его сменил еще более безликий голос мужской — из трубки
так и воняло канцелярским равнодушием. Мужской голос сказал Мальцеву,
напрягающему мышцы руки, чтобы не бросить трубки:
— Так вы, значит, Святослав Мальцев? Я вас помню совсем крошечным. Думаю, вы
хотите со мной встретиться?
Из двух голосов первый — вероятно, принадлежавший секретарше — вдруг
показался Мальцеву чуть ли не родным. „Поговорить бы с ней о погоде", —
помечтал он.
— Да.
— Знаете, я всю неделю буду занят. Если у вас есть время сейчас, мы могли
бы вместе пообедать. Так я вас жду!
Булон жил на улице Тильзит. Название для русского не очень приятное. „Было
бы лучше Бородино, — мрачно размышлял в метро Мальцев. — Бородино и для
русских, и для французов — большая победа. Каждый врет по-своему — и все
рады".
В метро было жарко в московском пальто, но снимать его не хотелось — оно
как-то защищало своего хозяина от Запада, через него едва проникал парижский
дух. Город словно обтекал пальто.
Лицо Булона было столь же безлично, как и голос, но что-то все же отличало
этого человека от многих французов, встретившихся Мальцеву. Его безликость была
особой. Определение мелькнуло, но объяснение определения так и не пришло: мысль
попыталась зацепиться, найти опору, развернуться — да тут же и бросила...
Большая квартира, завешанная гобеленами, большого впечатления на Мальцева
не произвела, в ней не было небрежности, необходимой для красоты уюта. А вкус
без капли небрежности — не вкус. Этому Святослава научили в детстве, он в это
поверил, затем, борясь с верой, захотел опровергнуть... не удалось. Так и
осталось.
Уже в машине Мальцев подумал, что квартира Булона похожа на хозяина, то
есть безлична. Мальцев был уверен, что такие люди часто встречаются в Советском
Союзе; он там их видел. Но где, где он мог встретить в Ярославле, в Москве или
в Ленинграде людей, внутренне похожих на французского сенатора?
Булон вел свой черный автомобиль без лихости. На его гладком лице была
маска мягкой задумчивости — с подобной расслабленностью черт гуляют люди по
лесу, забыв о времени. Мальцев про себя отметил, что человек с такой здоровой,
как у Булона, кожей, никогда в жизни не недоедал. В этом не было, правда,
ничего зазорного, однако... „сытый голодного не разумеет", и Мальцеву было
приятно знать заранее, что с Булоном найти общего языка не удастся.
Сенатор, не отвернув взгляда от ветрового стекла, сказал:
— Я вас представлял себе ниже ростом и уже в плечах. Вы гораздо выше ваших
родителей. Вы, наверное, часто ели там гречневую кашу. Каша — ведь там основное
блюдо, не так ли?
— Нет, в Советском Союзе очень трудно достать гречневую крупу. Она —
дефицит.
— Неужели? — Голос сенатора, поиграв ноткой удивления, произнес: — Кстати,
мы как раз проезжаем мост русского царя Александра III.
Мальцев едва не выругался. Сдержался, но желание поставить сенатора в
неловкое положение возникло сразу. Выпалить скабрезность? Сказать с присвистом
пошлость? Автомобиль был излишне чист, старик прилизан, а он сам не на месте. И
он заставил себя сказать:
— А кто поднял трубку, когда я вам позвонил? Я только отметил красивый
женский голос. Ваша секретарша?
Договорив, Мальцев устыдился своей беспомощности. Неприятное чувство к
этому миру, давшему ему свободу, неуклонно росло.
Булон с вежливой улыбкой ответил:
— Нет. Моя младшая дочь. Она будет рада с вами познакомиться. Вы много
интересного сможете рассказать ей и ее друзьям.
„Наверное, дура и ...", — подумал Мальцев...
Автомобиль остановился. Рядом текла Сена к Нотр-Дам, рядом же стоял большой
опрятный дом — угадывались толстые стены. Это был ресторан „Серебряная
Башня", один из самых шикарных в Париже. Мальцев читал о нем в каком-то
романе.
Столик почти касался окна, собор был виден во весь рост — огромный и
странно легкий. Но обилие вилок и ножей убивало то малое от чувства красоты,
что оставалось еще в Мальцеве. Поколебавшись, он решил пользоваться одной
вилкой и одним ножом и вообще решил, плюнув на все и вся, не есть, а жрать.
Пусть любуются!
На лице сидевшего напротив Булона рождалась гримаса удовлетворения. Он
смотрел на Мальцева с явным удовольствием.
— Знаете ли, Святослав, я давно, еще будучи студентом, мечтал пригласить
вашу мать в такой вот ресторан. Мне тогда казалось, это должно ослепить ее. Я
хотел спасти молодую девушку от глупостей. Не вышло. Мы не стали врагами, хуже
— чужими. Недавно, после стольких лет, я вновь встретил Мальцеву и вновь
пригласил ее в ресторан, в этот самый. И она вновь отказалась. К вашей матери,
Святослав, у меня необыкновенное чувство. Она была сильной женщиной...
Голос сенатора по-прежнему был ровен. Мальцев еще раз всмотрелся,
постарался вспомнить. Точно! Булон никогда не смотрел человеку в глаза, его
взгляд упирался в кость лба. Ну да, Булон же государственный чиновник.
Биологический отбор. Как он сразу не догадался? Меняются политические режимы,
системы, века текут, а государственный чиновник остается государственным
чиновником. Век — случайность. Авторитарный, тоталитарный или
буржуазно-либеральный строй — тоже случайность. Раса, пол — не имеют значения.
Глаза, лицо, вернее, скрытое выражение остаются неизменными. Разницу может
принести только одно — степень силы государственного аппарата.
Везде, в советских министерствах, на крупных предприятиях, в обкомах партии
— Святослав Мальцев видел лицо французского сенатора: худое, толстое, узкое,
квадратное, длинное, короткое, — но все же его.
Булон продолжал говорить:
— ...И вот я сижу с вами, ее сыном. Простите, но это для меня маленькая
победа. Услышав ваш голос, я сразу подумал о ней, о моей этой карликовой
победе.
Мальцев, пытаясь разобраться в возникших в нем противоречивых чувствах, не
заметил, как стол оказался нагруженным нагретыми тарелками. Салат, мясо,
картошка — все таяло во рту. Вино было приятным, давало силу. Хотя Святослав
стремился к одному — утолить голод, — он не мог не признаться себе, что не ел
еще в жизни подобного. Насытившись, Святослав продолжал есть. Он не подозревал,
что в поджаренном куске мяса могло таиться столько удовольствия. И хотя он,
защищаясь от окружающего блеска, нарочито громко жевал, царапал ножом о дно
тарелки, — внимания на их стол не обращал никто. А вместе с тем он чувствовал,
как его мышцы напрягались, как все его существо ожидало нападения. Обороняться
было не от чего, но наваждение продолжалось.
Булон продолжал глядеть ему выше глаз. Святослав спросил:
— Если моя мать была сильной, почему ж повесилась?
Прилизанный старик-сенатор сморщился:
— Видите ли, она сделала то, что сделала, не по душевной слабости. Вашу
мать настигла самая тяжкая для интеллектуала болезнь — скука. Эта хворь у таких
людей неизлечима. Она боролась со своей болезнью до конца и прибегла к
радикальному методу.
Люди часто играют словами, выдавая их за мысли. Булон же высказал не
общепринятое суждение. Этот чиновник может себе позволить говорить то, что
думает! Сенатора не отучили самостоятельно думать. Слежка за чиновниками, за их
частной жизнью, видимо, в этой прекрасной стране не была, как у нас,
государственной необходимостью.
Приятное вино лилось ручейком в глотку Святослава. Собор за окном светлел,
европейски легкое небо синело, скатерть стола белела, лицо угощавшего его
человека хорошело... а мысль о чиновниках все скакала-рылась.
Вот Коробов, хороший в общем человек. Мальцев знавал этого директора
совхоза. Его совхоз — треть Франции. Сам Коробов из крестьянской семьи, голодал
в детстве, затем кормился с отцовского приусадебного участка. Ну как забыть:
кончалась не обозримая глазом государственная земля — пшеница на ней едва-едва
закрывала колено; начинался участок отца — там в пшенице мог, не сгибаясь,
спрятаться взрослый человек. Став чиновником, Коробов стал совершенно искренне
расхваливать преимущества коллективной собственности. И искренне ругал крестьян
за лень, и искренне не видел того, что видел раньше, — богатых результатов
труда человека, работающего на себя. Коробов в конце сороковых годов с чистой
совестью расстреливал за экономический саботаж, чтобы в конце пятидесятых с той
же непомраченной совестью жалеть о перегибах времен „культа личности".
Мальцев хорошо его помнил, хорошего человека, совсем, по сути, незлобивого.
Святослав опомнился, огляделся. Булон произнес.
— А власть сейчас ослабела. Быть может, по нашей вине. Нужно было вести в
колониях другую политику. Необходимо было сделать из местного населения колоний
потребителей. Я пытался, но мне Париж мешал и мешал, не давал.
Мальцев сказал Булону:
— Да.
А что „да"? Сытость растекалась внутри тела, вызывая приятную тяжесть
уверенности в себе.
Что, в сущности, мог он сказать этому сенатору? Что он там еще бормочет?
— ... Я пытался объяснить свою жизнь вашей матери. Отказалась слушать, от
всего отказалась...
Чиновник гордится своей попыткой непослушания власти. Только этого еще не
хватало. Он, видите ли, хотел... Власть, конечно, бывает обязана допускать
иное, чтобы соблюсти приличия, но допускать свободомыслие у чиновника — это уж
слишком...
Булон, чиновник слабой власти, все же начинал нравиться Мальцеву. От
выпитого вина у сенатора ослабели мышцы лица. Он продолжал говорить о матери
Мальцева, как мальчишка, покинутый своей первой женщиной.
,,Эх, старикан ты, старикан, — подумал сытый Мальцев. — Нет, не так уж
дурно жить. А если он так любил покойницу-мать, то, может, на ужин деньжат
подкинет?"
— Простите, вы не могли бы одолжить мне нескольку сот франков? Я, знаете
ли, недавно приехал, еще не устроился: нет ни работы, ни квартиры.
Булон грустно уперся взглядом в испачканную скатерть. Он, видимо, жалел,
что столь прозаично были прерваны его воспоминания, и именно тем, кто их
вызвал:
— Сожалею. Я принципиально не одалживаю денег. Сожалею.
Мальцев добродушно кивнул головой:
— Это славно иметь твердые принципы.
Было странно глупо, но Святослав не обиделся. Ему даже захотелось
хихикнуть, словно он каким-то образом оставил Булона в дураках.
На улице сенатор спросил, как он сможет найти Мальцева в будущем. Наверное,
дочь захочет пригласить его на вечеринку.
— Брижит будет настаивать.
— Пускай напишет до востребования на главпочтамт, — посоветовал старику
Святослав. — Нет, нет, я пройдусь. Прощайте.
Глядя на отъезжавшую черную машину, он пробормотал :
— Бедолага. Принципы у него. Двухсот франков не дал. И я его еще хотел
унизить... п-ф-фэ!
Долго стоял Святослав Мальцев, любуясь собором. Ресторан „Серебряная
Башня" остался за спиной, и оборачиваться не хотелось.
Глава третья
СТАРЫЙ СТРАХ
Мальцев очутился к началу ночи на многолюдной маленькой площади. Прочел:
„Пигаль". Порылся в памяти — ничего не нашел. Более суток прошло с тех
пор, как Булон угостил Мальцева обедом в одном из самых шикарных ресторанов
этого большого города. Погуляв до темноты, Мальцев вернулся к знакомому мосту.
Клошаров не было. Но одиночество не давило. На дворе потеплело, тело не кричало
о пище. Он проспал до утра сном человека, относящегося с уверенным равнодушием
ко всему.
В полдень Мальцев смотрел, как старуха кормила лебедей в парке Монсо. Сев
на лавку, он закрыл глаза и долго их не открывал. Под веками проходили одна за
другой одинаковые флегматичные спирали. Было спокойно и больно, и Мальцев
подозревал, что, если оба эти ощущения соединятся в нем, — что-то произойдет,
быть может, непоправимое. Такое — нечеловечно.
Вечером Мальцев вновь стоял на углу Пигаль. В горле рос комок. Хотелось
разрыдаться в чьи-то теплые колени, почувствовать ласковую руку на волосах. Он
столько лет старался не влюбиться, чтобы его никто не ждал и чтобы не страдать
от разлуки... теперь некого было вспоминать, ни в одних глазах он не мог
вообразить нежности понимания, участия сильной женщины.
Он свернул в сторону, углубился в лабиринтик кривых улиц. Запахло грязной
жизнью. Чем дальше шел он, тем безлюднее становились тротуары, звонче шаги...
равнодушие и отчаяние бродили в Мальцеве в поисках друг друга.
Плечо толкнуло что-то живое. Двое молодых парней небольшого роста о чем-то
просили. Рядом стоял высокий человек. Мальцев, не извинившись, хотел пройти
мимо. Его взгляд охватил четыре глаза с расширенными зрачками. Малорослые
ребята явно не хотели пропустить его. Высокий спокойно отступил, перешел на
другую сторону улицы. Один из парней сказал Мальцеву:
— Хочешь сдохнуть? Ну? Давай-ка быстро деньги, часы, кольцо!
Это было сказано на парижском жаргоне, но Мальцев все же понял. Но
во-первых, у него не было ни денег, ни часов, ни кольца. Во-вторых, они
начинали ему действовать на нервы. В-третьих, эти суки, судя по зрачкам,
накурились дури — рефлексы у них, значит, никудышние, да и оба вместе они
весили не больше ста килограммов. В общем — гнилая шантрапа.
Мальцев привык презирать людей, предпочитающих водке наркотики. В армии он
курил анашу, чтобы спастись от голода и мороза. Там было иное, наркотики
служили для спасения тела.
Когда Мальцев протянул руку, чтобы отодвинуть в сторону мешающую ему пройти
человеческую рухлядь, — рухлядь ожила. Один вытащил нож, другой — короткую
цепь. Вид направленного на него стального лезвия вызывал в нем сызмальства — с
первой же кровавой встречи — истерический страх, мгновенно перерождающийся в
крайне злобную отчаянность. Несжатая рука, изменив направление, сильно ударила
человека с ножом по лицу. Свист цепи второго француза заглушил шум падения
тела. Удар пришелся по Мальцевой спине и был смягчен тяжелым московским пальто.
Человек с цепью не успел выпрямиться, удар по печени заставил его согнуться.
Святославу осталось только взять его двумя руками за волосы и нанести два удара
коленом, между глаз и под подбородок. Во время драки Мальцев успел,
оглянувшись, убедиться, что отошедший на другой тротуар высокий парень ему не
опасен: небрежная поза и расслабленность тела говорили, что он зритель, и
только.
Не имея привычки драться с наркоманами, Мальцев не знал, что они менее
подвластны боли. Это едва не стоило ему жизни. Но ему вновь повезло. Живая рухлядь
с ножом поднялась на ноги. Лезвие в дрожащей руке вонзилось в спину Мальцева,
натолкнувшись на кость, соскользнуло. Повернувшись, Мальцев, потерявший от
страха желание оставлять кого бы то ни было в живых, увидел в темноте кровавый
глаз шатающегося парня и одну из его рук, бережно охраняющую член. По ней
Святослав и ударил концом ботинка. Человечек не успел поднять нож. Впервые за
секунды драки раздался вопль. Длинный. Лезвие упало, тело начало медленно
сгибаться. Левая рука Мальцева ударила терявшего сознание парня по лбу, в то
время как кулак правой руки понесся к его горлу. Ужас в Святославе был,
вероятно, слишком силен: кулак вместо того, чтобы убить парня, сломал ему
ключицу. Не как в Мурманске.
Спокойный длинный человек перешел улицу и подошел к Мальцеву, когда тот,
разбивая подошвой лицо лежащего, избавлялся от все не уходящего страха. Человек
сказал:
— Перестань. Ботинки испачкаешь.
Как в американских романах.
Мальцев выпрямился, глубоко вздохнул, как делают люди после окончания
тяжелой работы.
Он чувствовал себя еще более одиноким и готов был даже продолжать... был
готов на все, лишь бы бродившее в нем отчаяние не застыло.
— Чего!? Ты тоже хочешь? А ну, подойди! Человек отступил:
— Чего ты! Я же ничего... Я не с ними был. А им так и надо. Эти два идиота
должны были мне денежку, потому и стоял. Я — ни с кем. Но как ты их разделал!
Это было красиво.
Потоптавшись, видимо, что-то решая, человек спросил, где Мальцев живет, и
предложил подвезти его.
Мальцев хмуро ответил:
— Нигде не живу. Ты вот ни с кем, а я нигде... Понял?
В вопросе была невольная угроза. Длинный человек ее услышал и успокоительно
рассмеялся:
— Да успокойся ты, ведь я не хочу тебе ничего плохого... да и знаешь что,
пойдем-ка отсюда, пока лягавые не набежали. Обычно их здесь не бывает, но кто
его знает...
Вновь хотелось есть, спать, забыть о настоящем. Мальцев сел в машину,
сказав себе с уродливым смешком: „Вот тебе и поиски наименьшего зла".
Узнав, что Мальцев русский, человек резко затормозил и начал тараторить,
что он сам славянин, что болгарского происхождения. Зовут его Тодор Синев. Он
хочет, чтобы Мальцев пошел к нему. Он приглашает. Он поможет.
Мальцеву вдруг захотелось все рассказать.
Синев слушал внимательно, не прерывая. Потом покачал головой:
— Я тебя понимаю. Но здесь свобода — это деньги. Без них свобода — говно.
Ты скоро поймешь. Не бойся. Тод все устроит. Знаешь что, будешь пока у меня
жить. А дальше видно будет.
* * *
Теперь Мальцев ощущал себя в этом чужом, местами вообще не спящем городе,
как во время отпуска. Приятному бездумью мешала лишь будившая порою по ночам
навязчивая мысль о грозящей ему опасности.
Приютивший его француз болгарского происхождения держал себя радушным
хозяином. Проснувшись поздно утром, Святослав бродил по трехкомнатной квартире
Тода, готовил себе в сверкающей кухне завтрак, выпивал стакан ледяной водки,
затягивался сигаретой и думал, что не может же на самом деле честный человек
обладать вот так трехкомнатной квартирой. Кроме того, Синев как-то небрежно
бросил, как в колодец, слова: „Я делаю дела". Эти слова затаились в
возрастающем недоверии Святослава к этому человеку. Вечерами Синев приводил
распутных молоденьких баб — у некоторых были расширенные зрачки — вытаскивал из
холодильника бутылки, пил и повторял время от времени, что надо быть милым с
советским гостем. Мальцев, пьянея только телом, всматривался в Тодора — в его
длинное, не лишенное смазливости лицо — с неясной тревогой.
С наступлением ночи Синев указывал одной из девиц на Мальцева... Эти
француженки Святославу не нравились. Они кричали страстными голосами глупые
слова, называли его цыпленком, капустой... Они торопились, жадничали, принимая
любовь за взрыв, неистовство. Из их тела была изгнана нежность, без которой
страсть суха.
Утром Мальцев брезгливо отодвигался от женского тела. Уходящий Синев хлопал
его по плечу, давал денег, жизнерадостно двигался:
— Гуляй! Мне не жалко. Трать! Отдашь, когда сможешь... Так, для формы,
подпиши расписочку.
Подписанные Мальцевым бумажки он запирал в секретер.
Выйдя на улицу, Мальцев долго бродил, глядя на город и прислушиваясь к
себе. Деньги для него уже становились силой, и он не хотел с нею расставаться.
Это было удивительно, странно ново.
Мальцеву, всем его друзьям, знакомым, родным в жизни всегда недоставало
нескольких рублей: на рубашку, на еду, на бутылку. За деньгами гнались, чтобы
сразу обменять их на необходимое, потому и обыденное. Сами по себе деньги не
имели ни цены, ни силы — на них можно было обменять-купить ограниченное число
товаров. В основном, все давала или не давала власть. Те, у которых было много
денег, радовались и страдали. Купив все, что можно было купить, и привыкнув к
купленному, страдали от избытка денег, даже получестно заработанных. Что
купить? За страданием от избытка приходило страдание от страха: власть не любит
богатых, от сытости до недовольства — шаг один, быстрый, часто незаметный.
Власть считает: человек должен надеяться на лучшую участь — не искать и не
добиваться ее. Поэтому — злая судьба — могут спросить у тебя, а не у соседа,
откуда достаток. Поэтому не сосед, а ты покатишься туда, куда Макар...
Нет, деньги не имели большой силы и не давали власти. Тут действительно до
коммунизма как будто недалеко.
Мальцев вспомнил, как в спорах с друзьями он утверждал, что на земле
существовало и существует два и только два рода власти: власть власти и власть
денег. Друзья, разумеется, считали, что должна властвовать справедливость.
Он остановился перед уродливым зданием ЮНЕСКО, покачал головой и излишне
громко выпалил со злостью: „Потому вы все — в лагере, а я — в Париже!"
Мальцев чувствовал, как полны силы эти сотни франков у него в кармане.
Деньги были здесь кровью жизни. О них люди говорили с почтением. Их жаждали, не
боясь, не презирая. Они могли дать спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
Он был рад понимать.
Это было единственное, что пока радовало. Остальное было темным, зыбким.
Приютивший его француз болгарского происхождения вонял за версту западней.
Хорошо, что тот считает его наивным советским парнем. Все-таки жаль, он оказал
ему, Мальцеву, гостеприимство.
Собранные деньги Мальцев положил в сберкассу. Он уже знал, что может
открыть счет в банке, но боялся этого капиталистического слова — банк.
Советскому рядовому гражданину госбанк, как волку луна. Мальцев никогда не
бывал в подобных учреждениях — проходил мимо ворот и стоящих милиционеров,
ощущал неприятное почтение и забывал. Теперь мир перед глазами был другой, а
чувство — прежнее.
Он дождался того вечера, когда Синев с невниманием в глазах сказал:
— Слушай, сделай одолжение. Да и тебе же интересно будет. Поезжай в Турцию.
Дам тебе адрес моего друга. Будешь жить у него. Он даст пакет. Привезешь его
мне. Сам бы махнул, да времени нет. Если согласен, выедешь этак через недельку.
Как?
Небольшим усилием Мальцев заставил свой голос остаться прежним:
— О чем речь... это же бесплатная туристическая поездка! Конечно...
Отвернувшись, Синев улыбнулся... Мальцев все же разглядел угол его рта. На
кухне Мальцев, пробормотав: „Сволочь, ну и сволочь", — проглотил большой
кусок сливочного масла. Поездка в Турцию, расширенные зрачки тех парней,
которых Мальцев покалечил, и тех девиц, с которыми переспал, — все сходилось и
выливалось в вывод: его принимали за дурачка.
В тот вечер Мальцев был в ударе. Заставлял девиц и Синева пить по-русски, и
накачал их всех. Выпил он много — но масло спасло. Оставшуюся на ногах девицу
пришлось утомить не водкой, а собственным телом.
Под утро Мальцев, добыв из кармана брюк Синева ключи, открыл секретер,
нашел расписки... Выходя из квартиры обернулся и сплюнул.
Он был вновь победителем.
Рассвет втискивался в улицы. Мальцев шел размашистой походкой, но все в
нем, ежесекундно ожидая нападения, продолжало оставаться напряженно твердым.
Умом он знал себя в безопасности, но привычка была сильнее. „Если не считать
тех двух насосавшихся наркотиков самоубийц, эта бывшая столица мира — просто
рай земной", — думал Мальцев. На самых темных улицах Парижа, когда ему
доводилось встречаться с молодыми веселыми парнями, мышцы напрягались до
боли... парни проходили мимо. Однажды хиппиобразный малый толкнул его — и извинился.
Мальцев простоял с открытым ртом несколько минут.
Где же, черт подери, ежесекундная преступность в этой анархической людной
Европе? Люди здесь были веселы, это он видел: ни ругани в метро и автобусах, ни
очередей... и создавалось впечатление, что французы не боятся власти. Это было
невероятно. Этого Мальцев понять не мог, силился — и не мог.
Как-то Синев отматерил стоявшего на перекрестке полицейского. Мальцев
сжался, ожидая погони и ареста. Ничего не произошло. Не бояться власти казалось
ему опасной глупостью. Общество, живущее в демократии и не боящееся власти, —
теряет в конце концов инстинкт самосохранения. Люди, выбирающие власть, должны
ее опасаться, — и быть сильнее ее. Пренебрежение к власти рождает диктатуру...
не один народ так проморгал свою свободу. Кому-кому, а русскому это известно.
Пронизывая мыслями запрещенное прошлое своей страны, Мальцев чувствовал,
как возвращается к нему бодрость. Забытое не существовало. А он знал и помнил.
Это спасало его от тоски и скуки в самые тяжелые дни жизни. Без крамольных идей
Мальцев давно уже либо совершил бы непоправимую глупость — сказал бы,
подчиняясь безумной необходимости, опасную для власти правду, либо попросту
спился бы, как множество других, не знавших, но глубоко ощущавших невыгодность
несправедливости.
Шагая по улицам Парижа, Мальцев в то утро забыл, что крамольных мыслей в
этой стране почти не существует. Когда он вспомнил, где он находится,
жизнерадостность уже прочно сидела в нем.
„Надо жить, а там видно будет", — подумал он, устраиваясь в маленькой
гостинице неподалеку от площади Нации.
* * *
У Мальцева оставалось совсем мало денег, когда на улице он увидел двух
парней в плащах... они шли к нему. „На морде это у них написано", —
подумалось Мальцеву. Он прожил в этой гостинице неделю, тихо-мирно, как на
пустынном пляже. Это не могло долго продолжаться.
— Месье Мальцев?
— Да.
— Простите, мы из Министерства внутренних дел. Мы вас ищем вот уже
несколько недель... Вы же недавно прибыли из Советского Союза? С вами хотели бы
поговорить, задать несколько вопросов, так, ничего особенного, рутина.
„Как они вежливы, эти сволочи, как вежливы". Эта мысль бешено
приходила, уходила и возвращалась. Он пока что боролся с нахлынувшим страхом,
но не знал, надолго ли ему хватит сил. Когда с ним в детстве родители
разговаривали с вежливой сухостью, он знал, что наказание будет долгим. В школе
голос учительницы, становящийся свистяще вежливым, означал также неприятности
до морковкина заговенья. В армии хлесткая вежливость офицера толкала неприятный
приказ. А затем... затем он, Мальцев, всегда предпочитал здание милиции —
зданию КГБ. В милиции орали, угрожали, иногда разбивали губы и нос, но он знал
наверняка, что выйдет, и скоро, из этого шумного и грязного дома. Сама повестка
из КГБ была чище милицейской, здание было холодным, спокойным, и какой-то
неведомый запах был сильнее запаха канцелярии. Мальцев по пьянке как-то сказал,
что такое опасное для души зловоние может быть порождено только встречей
всесильной власти с беспомощным отчаянием. Он никогда не знал, выйдет ли из
этого помещения, а если и выйдет, то когда. Мальцев каждый раз, входя в здание
КГБ, смотрел на плющ, обвивающий его стены, и старался заставить не дрожать
свое тело. Он входил в склеп, нет, в склепе хоть орать можно. Он входил в ту
власть, где нет закона, кроме желания власти.
Его всегда заставляли ждать в коридоре несколько часов. Мальцев знал, что
это было обычной тактикой, что нарочно коридор был пуст, без стульев, скамей.
Знание не помогало.
Его вызывал человек без улыбки, встречал человек с улыбкой, спрашивал о
работе, затем спрашивал, почему товарищ Мальцев хочет уехать за границу, иногда
даже жалел, что товарищ Мальцев не еврей (было бы проще), затем, покурив, вновь
спрашивал, почему товарищ Мальцев хочет уехать во Францию. Иногда он говорил не
„почему", а „для чего". В воздухе кабинета тогда повисала тонкая
колючая угроза. Иногда улыбающийся человек смотрел на Мальцева с презрительной
жалостью. Мальцев, выходя из здания КГБ, невольно смотрел в ближайшей витрине
на свое лицо... видел его серым и жалким.
Двое в плащах ждали ответа. Вежливо. И тут вежливо. Мелькнула мысль: „Не
посерел ли я? Не видят ли это французские гебисты?"
— Да, конечно, я к вашим услугам. Когда? Двое в плащах улыбнулись:
— Можно сейчас. У нас машина тут, и если вас это не побеспокоит, то...
Мальцев захотел найти в глубине улыбок грязную усмешку. Он знал, что к
удаче нельзя привыкать, что свобода окружающих его людей не для него. На этот
раз посадят! Он, уже сидя в машине, спросил себя: „А за что?"
Короткие спазмы рвали в Мальцеве ком, в котором сосредоточено отчаяние и в
котором отчаяние в этот раз захихикало, принося дополнительную боль. Лицо
скривилось, как от кислого: „Если было бы за что, давно посадили бы". Всю
дорогу его тихонько знобило.
Коридоры министерства были живыми. Их строгость не шептала угроз. Люди
приятно хлопали дверьми, громко переговаривались... У некоторых едва ли не на
плечи падали завитушки.
Парни в плащах сдали Мальцева двум коллегам, вежливо простились и ушли,
по-детски оглядываясь. Мальцеву начало казаться — кто его знает этих французов,
— что он, пожалуй, выйдет из этого здания через парадный подъезд... если...
если, конечно, они уже выполнили, к примеру, план по сдаче государству
советских шпионов. Должны же они доказывать тут вышестоящим необходимость
существования своего учреждения, — это как пить дать. Строй — строем, режим —
режимом, а если платят за то, что арестовываешь людей, то стало быть — надо
арестовывать. Демократия — демократией, а логика — логикой.
Надежда на скорое освобождение стала в Мальцеве таять. Когда человека
задерживают прямо на улице и среди бела дня, это не для того, чтобы погладить
по головке, дать водки и девок. Даже в Париже.
Те двое, задержавшие Мальцева, были в одинаковых плащах, эти двое в
кабинете — в темных костюмах. Некая постоянность, свойственная всем
репрессивным органам... И она дала Мальцеву ощущение привычной опасности. Нужно
было взять себя в руки и постараться понять игру господ-товарищей.
Кабинет был уютен — разбросанные там и сям бумажки, небрежно брошенный на спинку
кресла плащ, на окнах светлые занавески. Оба следователя держали себя просто,
безо всякого напряжения и разглядывали Мальцева с обыкновеннейшим любопытством.
„То, что здесь не бьют, ясно! — подумалось Мальцеву. — Плохо это или хорошо
— черт его знает. Ничего не понятно. Методы допросов у французов совсем другие,
чем у нас, во всяком случае первый психологический удар: серая обстановка,
взгляд не зацепится, морда следователя — кирпич мягче, занавески на окнах —
через пять минут забываешь, ночь или день на дворе, — они не подготовили.
Посмотрим. Так, сейчас один будет задавать вопросы, глядя в глаза, а другой,
мучая своим присутствием спину допрашиваемого, повторит вопрос, видоизменив
его. Давайте, черти, все одно..." Тот, кто выглядел постарше, заговорил
первым:
— Вы уже давно, месье Мальцев, пересекли, так сказать, советскую границу.
Мы бы хотели узнать, каким образом?
Мальцев готов был поклясться, что француз был несколько смущен. Подобная
непрофессиональность мог да быть только очередной уловкой.
Выслушав рассказ Мальцева, вопрос задал француз помоложе:
— Значит, у вас остался советский паспорт для внутреннего потребления? Где
же он?
— Я его сжег. На всякий случай. Следователи искренне улыбнулись:
— На всякий случай? Что это значит? „А может, они просто маменькины
сынки?" — подумалось Мальцеву.
— Это значит, господа, что я опасался, не отправят ли меня, найдя советский
паспорт, назад. Следователь помоложе продолжал удивляться:
— Но почему же? Норвегия никогда не выдает. Вот если бы вы попали в
Финляндию... Вы разве не знали?
Проснувшееся в Мальцеве раздражение стало вытеснять осторожность:
— Что я должен был знать? Не впервые самые либеральные и демократические
страны Запада выдают беглецов. Береженого — Бог бережет.
Следователь не переставал изумляться:
— Это клевета. Франция никогда никого не выдавала, и если вы будете
продолжать в таком тоне, то...
Коллега постарше мягко остановил его:
— Ты забываешь, что месье Мальцев — француз, а не иностранец. Печальные
ошибки всегда случаются, они неизбежны. Нужно стараться, чтобы их было как
можно меньше, не правда ли, месье Мальцев?
Невысказанная угроза и чеканная вежливость отрезвили Святослава, напомнили,
что нужно держать ухо востро. „Черт, в Союзе быть иностранцем — спасение. А
здесь? Почему он подчеркнул, что я — француз?"
— Да, да, непременно, а как же... Следователь продолжал с видимым
благодушием:
— Вы устроились в гостинице сравнительно недавно. Скажите, пожалуйста, где
вы жили раньше? Где?
Установившаяся в кабинете тишина хлестнула Мальцева по нервам. Он в глубине
души не верил, — несмотря на светлый кабинет, добродушие следователей и знания
о французской демократии, — что его остановили на улице только для беседы. Он
не мог себе представить, что его, сбежавшего из Советского Союза — из страны
потенциально враждебной государству, которому служили эти люди, — не
подозревают, не считают возможным агентом. Мальцев подготовился к политическому
обвинению... он боялся его, но заранее гордился им. Погибать, так с музыкой,
сидеть, так уж по политической. В Союзе он бы сидел как антикоммунист, здесь —
как коммунистический шпион.
В повторном вопросе „где?" горячечная фантазия прочла то, что до
Мальцева в течение долгих десятилетий читали вереницы допрашиваемых
соотечественников: „Говори, мы все знаем".
Власть всегда все знает, и она любит слушать то, что она знает... и по
привычке, особенно не задумываясь, он понял, что стоявшим перед ним
следователям известно, при каких обстоятельствах он познакомился с французом
болгарского происхождения, что представляет собой Синев, его деятельность, что
для них не тайна предложение Синева поехать в Турцию... наркотики. Мысль, что
его посадят как уголовника, потрясла Мальцева. Медленно поднялась волна
отрицания нелепости существования. Рискуя жизнью, сбежать, чтобы сесть во французскую
тюрьму! Нет, к черту Синева, к дьяволу благодарность... своя рубашка ближе к
телу...
И он заговорил срывающимся фальцетом:
— Я жил у одного... его фамилия Синев. Случайно познакомился с ним. Он
болгарского происхождения. Вскоре я стал подозревать, что он занимается
контрабандой наркотиков... Когда Синев предложил мне поехать в Турцию что-то
кому-то передать и что-то от кого-то получить — я ушел... терпеть не могу
уголовников, тем более людей, связанных с наркотиками... вот и все. Если хотите
— дам адрес. Но это — мои предположения. Доказательств у меня нет.
Следователи переглянулись, вероятно, не понимая, для чего этот человек все
это рассказывает? Почему он боится? И чего? Но в любом случае, решили они,
очевидно, надо воспользоваться создавшейся ситуацией: если парень так быстро
раскалывается и так боится, — надо продолжать.
— Это очень хорошо, что вы, месье Мальцев, так откровенны с нами, мы это
ценим. Дело нас не касается, но мы передадим эти ценные сведения компетентным
органам. Скажите, судя по вашему возрасту, можно заключить, что вы только
недавно отслужили в Советской армии?
Мальцев сказал рассеянно:
— Да, три с половиной года отслужил. А что?
— Да так. И где?
— На Дальнем Востоке.
— Какой номер части?
Мальцев ответил, не задумываясь:
— Этого я вам сказать не могу. Французы остолбенели:
— Что?
Мальцев повторил:
— Этого я вам сказать не могу.
— Но... но почему?
— Я давал присягу.
Тишина длилась несколько секунд, но она звенела. Затем следователь помоложе
буквально взорвался:
— Какая присяга?! Вы нелегально перешли железный занавес! Для советских
властей вы — преступник! и вы — антикоммунист! и вы — француз! Вы не имеете
права не отвечать на вопросы! Где была расположена ваша часть?
Все в Мальцеве, от пальцев до сердца, стало медленно двигаться. Он услышал
свой спокойный голос:
— Ничем не могу вам помочь. Присяга есть присяга. Это все, что могу
сказать.
Оравший следователь рухнул в кресло. Его коллега, неказистый человек с
расплывчатыми чертами лица — смотри хоть час, все равно не запомнишь — начал
успокаивающе танцевать руками по воздуху:
— Спокойно, спокойно. Давайте разберемся. Вы чего-нибудь боитесь? Мести со
стороны КГБ? Во-первых, ничего из этой комнаты не просочится, во-вторых, КГБ
давно перестал применять за границей насильственные меры воздействия, а
в-третьих, то, что вы нам скажете, не представляет же собой государственную
тайну, не правда ли? Или у вас остались в СССР родственники, то есть заложники?
Мальцев устало посмотрел на лоб говорящего:
— Дело не в этом. Дело в принципе. Тут ничего не поделаешь. Присяга есть
присяга — и все тут!
Следователи бились с Мальцевым еще два часа. Тщетно. В конце концов,
утомившись, французы сдались. Они были раздражены, но одновременно у них было
ощущение, что день этот был иным, чем другие — приятное ощущение борьбы
веселило аппетит и красило в яркие тона наступающий вечер. Прощаясь,
следователи дали Мальцеву адрес „Толстовского Фонда" и, улыбаясь, сказали:
— Мы вас еще пригласим, непременно...
Проводили до ворот и отпустили на волю мальцевской судьбы.
Он мысленно сплюнул — тьфу, козлы! Он толкнул плечом прохожего... тот
извинился. „Эх, не так бы я вас допрашивал, — злорадно пробормотал Мальцев, —
вы бы у меня поплясали. Сожрала их свобода, ничего не осталось, одна
оболочка".
Он видел, как обрадовались глаза следователей, когда он стал торопливо
рассказывать о Синеве... мол, тот, кто предал, — предаст еще. Европейцы! В это
слово Мальцев вложил все живущее в нем пренебрежение. Что они знают о
предательстве?!
Париж вокруг был чертовски красив, этакое изысканное спокойствие, а Мальцев
все не мог успокоить мышцы шеи, спины, да и страх был готов сейчас, сегодня,
завтра вцепиться в глаза, расширить их.
Он шел, шаркая подошвами, думал о предательстве.
Правда, измену Ивана Зобина Мальцев как будто понял. Сколько бы ни копошилась
в ушедшей жизни Мальцева память, только в самом раннем детстве она не находила
Зобина. Его сутулая фигура всегда маячила... Сидели вместе за партой, вместе
получали выговоры, вместе падали с заборов, дрались, рубили головы пойманным
крысам, вешали кошек, грабили подвалы, увлекались поэзией, раскуривали первую
сигарету и становились серьезными, — все вместе, и никто не мог сообразить, кто
же из них двоих держит в руках вожжи этой дружбы.
Когда Мальцев демобилизовался, Зобин заканчивал третий курс мединститута.
Все стало как раньше, только уступали друг другу уже не лучшее удилище на
рыбалке, не больший стакан во время попойки, а девушек и женщин. И злость от
того, что дружба оказывалась сильнее тяги к женщине, уходила быстро и
незаметно...
Через полтора года Мальцеву позвонил лейтенант милиции Бойчук. Мать,
готовясь к отъезду во Францию, сочла нужным подкупить Бойчука и, отбывая,
просила, чтобы лейтенант следил за сыном, помогал ему. Мальцев и Бойчук
встретились у заколоченной церкви. Лейтенант усмехнулся:
— Деревенский я. До сих пор тянет — даже в форме — креститься, как прохожу
тут. Моя мать здорово верующей была. Отец нет, он только в зеленого змия верил,
через это и окочурился. Да... Так вот, старик, дела твои становятся
никудышними. Сам знаешь, у нас в Ярославле не так уж много неевреев, желающих
уехать туда, к капиталистам. Естественно, значит, что мы за тобой
присматриваем, так, на всякий случай. Нашему полковнику всегда приятнее сажать,
чем отпускать. Тем более, что стал ты по пьянке все чаще болтать это самое
антисоветское, а это, ох как действует на нервы начальству. Пока приказа взять
тебя за ушко да выставить на солнышко, где будешь загорать в полосочку, — нет,
но ты все же остерегайся провокаций — дома, на улице, на работе, — везде.
Кстати, есть у тебя приятель — Зобин. Поменьше болтай перед ним, он про тебя
всю дорогу телеги катает, уже год этим полезным делом занимается... что мы бы
без таких людей делали?! А? Не веришь, на, почитай.
Мальцеву казалось, что его глаза вылезут из орбит, что голова разорвется,
что... Страницы были наполнены ученическим слогом Ивана — предложения были
короткими, ни запятых, ни точек с запятыми, ни восклицательных знаков. Сплошные
точки. Видно было, что человек старался работать добросовестно. Как говорил
Иван: „Лаконизм является отцом честной продуктивности".
Он удивился, так как почти ничего не произошло, только что-то быстро
сгорело в нем, не оставив ни злобы, ни горечи. Сгорело чувство, а так как место
пусто не бывает, — пришло и удобно разместилось знание.
Что произошло с Зобиным, может случиться с каждым. Вечером в Ярославле
людям храбрым или просто привыкшим отвечать на простое насилие простым же
насилием глупо выходить из дому с пустыми руками. Кто заливает свинцом
спичечный коробок, кто заворачивает в газету напильник... кто, поглупее,
добывает себе кастет или нож. Иван достал кастет. На него при выходе из Дома
культуры напало четверо. Парнями владела скорее всего скука, они не просили
крови и не сразу ее потребовали. Злобное опьянение пришло позже, во время
драки, когда противник стал врагом. Подоспевшая милиция нашла Зобина с
порезанной спиной... из тех двое убежали, двоих отправили в больницу с
поломанными костями. Кастет Иван успел швырнуть в черноту сквера, плохо
защитившего спину во время драки. Все прошло бы гладко — многие в милиции
помнили, что мать Ивана была когда-то любовницей товарища Бремова из
вышестоящих органов, — если бы один дотошный капитан не ляпнул, что Зобин —
лучший друг того самого Мальцева, который собирается за кордон. Одному майору пришла
в голову забавная мысль: он позвонил своему дружку по рыбалке и охоте, кажется,
именно товарищу Бремову из КГБ. Тот выслушал, засмеялся и сказал:
— Почему бы и нет. Валяй! А там поглядим.
Так и пошла жизнь Ивана, как дурной патрон, наперекос. Его вызвали в
майорский кабинет. Пока майор обедал, пока курил, пока в уборную ходил, Иван
стоял, и боль в ногах все сильнее кричала ему о его собственном ничтожестве.
Наконец сержант — его майор любил за красивый голос, — заглянув в кабинет,
доложил:
— Тов-майор, по-моему, клиент в нужной кондиции.
Суровое лицо майора Иван встретил как освобождение. Стал жадно
вслушиваться.
— Я знаю, ты мне скажешь, что голыми руками покалечил тех двоих. У одного
три ребра, у другого скула вдребезги. Где кастет? Молчи! Знаю, что выкинул. Ты
знаешь, что тебя ждет? Молчать! Знаю, что знаешь. Мы все знаем. Тебя сначала
исключат из комсомола, затем из института и наконец влепят три годика как
минимум. Ты же знаешь, что мы это можем сделать?
Зобин честно и грустно ответил:
— Да.
— Но ты знаешь также, что если я с тобой разговариваю, то, значит, тебе дан
шанс спасти твое будущее, что будешь, быть может, лечить людей. Я ведь знаю,
что ты знаешь. Не правда ли?
— Да.
Все это было действительно правдой.
— Друг у тебя есть. Мальцев. То, что он хочет уехать за границу, мы знаем,
но мы еще не решили — враг он или нет, сажать или не стоит. Молчи! Ты уже
знаешь, что будешь нам помогать. Кто знает, может ты этим не только себя, но и
своего сволочного дружка спасешь. Закрой пасть! Перед тем, как ответить,
подумай, хорошенько подумай и ответь себе на один вопрос: если бы мы захотели,
действительно захотели — посадили бы этого Мальцева без твоей помощи? Да или
нет? Отвечай.
И Зобин ответил честно:
— Да.
Ивану оставалось еще раз произнести эти две буквы, другого не было ему
дано. Губить себя ради Мальцева он бы еще мог, но погибать вместе было
бессмысленно. Если КГБ захочет — Мальцева все равно посадят. Все, что мог
сделать Иван, — это писать смягченную правду. Он так и делал. Добросовестно. В
сущности — Мальцев это понял — предательство Ивана вытекало из аксиомы: власть
все может.
Власть была для него судьбой, и Зобин не захотел ей противиться. Никому не
нужно, разве что совести, но ей можно приказать заткнуться. Дело привычки. Не
дохнуть с добром подмышкой, а продолжать искать лучшее существование.
Со странным ему самому спокойствием смотрел Мальцев при встречах в глаза
Ивану. Они не избегали друг друга и продолжали быть друзьями.
Им, этим следователям, рожденным свободными, невозможно это понять. Так думал,
возвращаясь к своей гостинице, Мальцев.
Был ли он доволен своим поведением во французском КГБ? Да. Пожалуй, да.
Возможно, нужно было поступить иначе в этом опасном своей непонятностью мире.
Но поднялся в нем солдат: присяга есть присяга. Ничего не поделаешь. Мальцев
вздохнул — в конце концов то, что он давно не верит в Маркса, — уже хорошо.
В номере гостиницы все было перевернуто вверх дном. Кто-то что-то искал.
Мальцев тяжело сел, не держали ноги. Хуже всего было то, что он никак не
мог решить — понимает он или не понимает происходящее с ним и вокруг него...
все время кому-то что-то было нужно, кем-то и отчего-то было нечто сделано.
Теперь кто-то что-то искал.
Мальцев долго смотрел на следы обыска. Произвести обыск. Арестовать.
Допросить. Посадить. Эти понятия вызывали в Мальцеве старый привычный страх. Он
сам вызывал его в себе весь день, всю последнюю неделю. Он хотел его. Старый
страх защищал его от сумасшествия, давал отдых раскалившемуся до предела хаосу
в мыслях. Мальцев глядел на вещи, выброшенные из чемоданчика, и ему все сильнее
хотелось никогда не выходить из комнаты, в которой он сидел.
Глава четвертая
СТРАННЫЕ РУССКИЕ
Пять суток просидел Мальцев в номере, наслаждаясь видом стен, запертой
дверью. Деньги у него еще были, но мысль о том, что они скоро истощатся, была
невыносимой, как сильный зуд. Он не проветривал комнату, читал Пруста, говорил
себе, усмехаясь, что это Запад проникает в него семимильными шагами, но сделать
ничего не мог. Не смог. Он пошел в Толстовский Фонд, временами оглядываясь, нет
ли за ним слежки. Грязнота улиц подчеркивалась их пустынностью. Бумажки,
колыхаемые ветерком, напомнили Мальцеву фильмы о революции: замерзшие в
ожидании жизни улицы, катающиеся по мостовой растоптанные листовки, и вдруг
стройный топот ног и далекие всепроникающие звуки интернационала. Мальцев
пробормотал:
— Ничего, мы придем, эти французишки всего дождутся. Мы им покажем
социальную справедливость. Будут в очереди стоять не только у кинотеатра и не
только во время войны. Зависть к сытым всегда можно назвать жаждой социальной
справедливости, а ненависть к богатым — поисками этой справедливости. А сами
слабеют. Они, что ли, смогут спасти европейскую цивилизацию от азиатского
способа производства? Смешно.
Последнюю фразу Мальцев сочинил, чтобы придать вес возвратившемуся к нему
презрению к Франции.
Но одновременно он по-отечески жалел французов. И хоть снисходительно
относился к их жажде жить, хоть ни в грош не ставил их любовь к свободе, — ибо,
судил он, свободе нужен гражданин, а не любовник, — все же он чувствовал, что
недопонимает этих людей, более того, что пониманию мешает в нем нечто, путающее
силу с насилием...
Помещение Толстовского Фонда пахло доброй старостью; от женщины, сидящей за
заваленным судьбами людей столом, пахнуло историей — у женщины были полинявшие
чистые глаза, изящная сухость ветхой плоти радовала глаз; когда она заговорила,
Мальцев едва не взвыл от восторга: услышав русскую речь, поразившись необычной
для него театральной чистотой произношения.
„Законсервировал Запад эту бабку, — подумал он. — Эх, аристократка, не
добили вас. Хорошо, что наши вас не утопили всех в Черном море, не перевешали,
не перестреляли, не уничтожили, как класс".
Мальцеву хотелось поцеловать женщину в обе щеки... влага начала щипать
уголки глаз. Смутившись, так и не сев на предложенный стул, он начал
рассказывать все, с ним случившееся. Старался покороче все объяснить, и милая
старушка слушала-слушала, но так ничего и не понимала.
У советского были французские документы, и этот французский советский
героически бежал с борта парохода... для нее было отчетливо ясно прежде всего,
что сидевший перед ней молодой человек — герой. Мальцев повторил, уже не
торопясь, свое повествование.
Жажда быть кратким ушла вместе с робостью. Произносимые слова на родном
языке радовали слух, торопили язык. Он слушал себя с блаженством. Мальцев был
благодарен этой женщине по фамилии Толщева — подперев кулачком подбородок, она
олицетворяла внимание. Звуки текли, рождая в душе мягкость, заставляя все
существо забыть о настороженности. Мальцев теперь уверился, что никто не может
его арестовать за вольное слово. Толщева произнесла на своем чересчур русском
языке:
— Я восхищаюсь вашим мужеством. К великому сожалению, не могу вас оформить
официально — французские документы мне этого не позволяют. Но мы, конечно, вам
поможем. Мы найдем вам комнату и будем денежно вам помогать в течение трех
месяцев. Не беспокойтесь, мы все уладим. У вас, вероятно, нет денег. Вот,
пожалуйста, вы должны прожить на эти деньги месяц... мы не очень богаты. Теперь
другое... не сочтите мой вопрос нескромным, есть ли у вас знакомые или друзья?
— Нет.
Рука Толщевой нежно прорезала воздух и медленно, с плавностью, неизвестной
Мальцеву, возвратилась на стол. В Мальцеве возник, пожил и исчез смутный поток
неудовольствия.
— Так нельзя! В Сен-Жермен как раз происходит выставка русской книги. Вот
адрес. Я позвоню, вас встретят... нет ничего ужаснее одиночества в чужом мире.
Мы — то, что вы называете первой эмиграцией, этого не испытали. После прихода к
власти большевиков нас оказалось за границей более миллиона.
— Так много? — простодушно удивился Мальцев.
— Да, быть может больше, точных цифр нет. Вы все постепенно узнаете.
Приходите через неделю. Я была очень рада с вами познакомиться. До свидания.
Выйдя, Мальцев почувствовал желание оглянуться на дом, на дверь, на
старушку... на свое прошлое новым взглядом.
Старушка была милая, но — вновь прошел поток неудовольствия — она была
аристократкой, графиней или что-то в этом роде.
У Мальцева не было в душе вражды к старому, царскому режиму. Он его не
уважал за слабость — и только.
Будь они до революции в Москве, а не теперь в Париже, подала бы ему так
любезно и от всего сердца руку эта женщина, эта аристократка, были ли они
равными, как теперь, перед мордой изгнания? Как бы не так! Да, да, нынешние
советские бояре, сплошное хамье — от члена политбюро до ректора университета, и
заносчивость этих, заменивших тех, безмерна, но они ведь смехотворны, они из
грязи — в князи, у них нет даже традиций, кроме основной — послушанья. Они по-человечески
смешны. Эта милая женщина, сидевшая на парижском получердаке, была бы
естественна в своей высокомерности... Да, она невыносимо естественна. Нет,
лучше привычное лицемерие.
Мальцев покачал белобрысой головой. „Ну и Бог с ней, вреда от нее никакого,
одна польза. Да и в общем-то чудесная все-таки женщина".
В зале было полно удивительных русских книг. Стенды были необычными,
названия издательств звучали странно и словно бормотали о недозволенном. Бывают
такие слова, что хочется их разорвать и убедиться, что нет в них тайны, просто
спрятанная простота. При мысли о том, что в этих книгах должны быть вместе
свобода и искусство, у Мальцева перехватило дыхание. На одной книге он прочел
фамилию автора: Солженицын. Солженицын? Мальцев рассвирепел на свою память.
„Да, да, была повесть этого типа в одном из номеров „Нового мира"...
это было, кажется, в начале шестидесятых годов. Повесть была о лагерях. Все
тогда искали, добывали, вырывали друг у друга этот номер...". Это было
все, что смогла выжать его память. Тогда все говорили о лагерях. Поговорили,
перестали, но что-то в людях осталось. Но что? Мальцев старался, но никак не
мог вспомнить еще чего-нибудь о Солженицыне, о повести...
Пальцы тронули его плечо. Мальцев обернулся, так и не успев представить
себе существо, увиденное им через мгновенье. Перед ним стояла крепкая девушка.
Короткие толстоватые ноги давили пол, верхняя часть тела была почти мужской.
Русая коса, длинная, сползала с плеча по полной руке к жестким пальцам. Лицо
было милым, темноватые глаза — невыразительными.
— Я вижу, вы со мной уже познакомились.
У нее не было ни иностранного, ни советского произношения. Язык был для нее
родным, но ему не хватало родины.
В Мальцеве протерла глаза ирония:
— Простите, я вас опередил?
Девушка белозубо рассмеялась:
— Какие вы обидчивые все. Меня зовут Таней. Только что звонила графиня
Толщева. Мария Николаевна сказала, что вы у нас будете, рассказала о вас,
описала вас, попросила позаботиться о вас. Нравится вам здесь? Как книги?
Знаете этих писателей, поэтов?
Мальцев немедленно соврал:
— Да, да.
— А Солженицына читали? „Архипелаг ГУЛаг?"
— Нет еще. Это о лагерях?
— Да. Так, значит, не читали. Как я вам завидую!
Эта девица говорила о книге о лагерях с легкостью. Дитя! Это короткое
размышление не изменило доброго выражения его глаз. Таня ему нравилась.
— Скажите, сколько они стоят, эти книги?
— От сорока до шестидесяти франков.
Мальцев поперхнулся.
— Что?! Так дорого? Вы что,
рехнулись? Книга — 60 франков! Да на эти деньги можно в ресторан пойти, рубашку
купить, три дня прожить. Где ж такое видано, чтоб книги столько стоили...
— Во Франции.
Мальцев немедленно запустил в нее подозрительный взгляд. Нет, не
издевается, говорит вполне серьезно. А-а-а, не по душе ей, наверное, Франция.
Может, она левая... Интересно.
Таня просто и мило взяла его за руку, сказала, что он, небось, голоден,
устал. Она же знает, что ему негде ночевать. У нее вечером собираются друзья и
наверняка у одного из парней-друзей найдется для Мальцева кровать и твердая
подушка.
— Почему твердая?
Таня не смутилась:
— Я уверена, что вы из людей, не любящих мягкое, перинное, что ли. Лицо у
вас такое.
Мальцев тяжело вздохнул: „Книжное обилие отвратительно влияет на простые
души. Да, ладно, лишь бы она не заговорила о Джойсе". Сказал:
— Ну раз лицо...
У Тани был автомобиль. И хотя машина была консервной банкой — казалось,
можно проткнуть корпус кулаком, — Святослав почувствовал невольное уважение к
человеку, обладающему такой крупной личной собственностью. В Союзе он к
обладателям автомобилей испытывал либо презрение, либо ненависть. Презрение,
потому что автомобилем мог обладать в принципе только заведомо нечестный
человек; ненависть, потому что эту собственность могла дать человеку только
власть. В честно накопленные деньги Мальцев — впрочем, как и все его друзья и
знакомые — не верил.
Уважение к девушке было приятным — в нем сидела благородная зависть.
Святослав Мальцев ожидал чего угодно, но не такой квартиры: на стенах
висели балалайки, коврики с вышитыми на них сценками из дореволюционной
деревенской жизни, деревянные тарелки, ложки, лубочные картинки, на полу изящно
извивались дорожки, под потолком висели образа, иконки... было и Распятие на
одной из стен.
„Будто хочет всем доказать, что она русская".
— Заходи, заходи. Выпьешь рюмочку за знакомство? Скоро друзья придут.
Садись.
„Выпьешь рюмочку, скоро друзья придут"... кто же теперь так говорит?
Выпьешь, надо говорить, да не спрашивать, а восклицать, либо утверждать. Наши
придут, познакомлю... скоро придут... вот придут! Эта девчонка говорит, как из
словаря слова тащит.
Таня подала Святославу водки в серебряной стопочке, тот попросту
подавился... не выдержал:
— Простите, а стакана у вас нет?
— Есть. Только ты тыкай меня, а? Так ведь проще, не правда ли?
— Правда ли.
Святослав незаметно обалдевал. Очумел он вконец, когда квартирка
наполнилась до краев песнями хора Советской армии. „Путь далек у нас с
тобою" — бил по балалайкам, иконам, лупил молоточками по черепу.
— Слушай, умоляю, поставь все, что угодно, цыганщину, ,,Песню о
Роланде", но избавь меня от этого. Я три года в армии пел эту дурацкую
песню, всю жизнь ее слушал... иногда боялся в уборной спустить воду... — дерну
— вдруг заговорит Хрущев, Брежнев или запоют они свой „Путь далек". У нас
домохозяйки боятся утюг врубить — вдруг оттуда пропаганда слух выест, а ты
магнитофоны для этой гадости покупаешь.
— Это не пропаганда, а хорошая душевная песня. Русская песня.
Таня была явно обижена, уязвлена в своих лучших чувствах.
Мальцев взглянул на нее исподлобья, но в Тане жила-выпирала искренность,
красивая, несмотря на глупость, и он промолчал. „Будучи в гостях, нужно пить и
есть, а не оскорблять хозяев. А то, чего доброго, — добавил мысленно Мальцев, —
подумают эти русские французы, что мы все — сплошные варвары". Он
улыбнулся:
— Ладно, не будем мусолить. Мы же здесь живем в демократии, ты думаешь
одно, я — другое, а дружить все это не мешает.
Молодая женщина попыталась, но не сумела понять:
— А почему это должно мешать? О чем ты?
Мальцев не сказал, что она дура. Он вылил в себя сто пятьдесят граммов и
стал следить за их действием. Начали слабеть мышцы скул, рука потянулась к
воротнику, дернула... пуговица, выдержав, расстегнулась. Сила сигареты во рту
ослабла. Мысли, очистившись, поумнели. Во всем появилась отчетливость.
Но одновременно Таня таинственно и противоречиво стала хорошеть и
становиться родной. Мальцев погладил ее руку:
— Ты хорошая. Сколько я здесь, впервые чувствую радость. Ты свой человек,
своя... Ты понимаешь?
Она кивнула и погладила ладошкой его лицо. Он по-собачьи закрыл глаза.
Мальцев до прихода всех этих людей допил поставленную на стол бутылку
водки. Хотелось еще. Но было ли здесь привычным пойти в магазин за бутылкой? Он
не знал.
У большинства пришедших ребят были длинные волосы, подчеркивающие
беззаботность выражения лиц. Движения бесконтрольно заполняли комнаты, языки
двигались быстрее мыслей. Пришедшие с ними девицы были гораздо скромнее. Все
говорили по-русски с диким выговором. Здоровались по-русски, произносили
несколько русских слов, предложений, чтобы затем перейти, словно отдав кому-то
смутный долг, на французский язык. Они поздоровались с Мальцевым без удивления
— еще один эмигрант. Но узнав, что Мальцев был в Союзе рабочим,
заинтересовались.
Длинный парень с мордой без пятнышка заявил:
— Может, кому-то и плохо там, не спорю, но рабочему классу лучше жить в
СССР, чем при этом дерьмовом капитализме. Там хозяев нет — это факт. А здесь
рабочие медленно подыхают в ожидании пенсии, а дождавшись — живут в нищете.
Ведь правда?
Мальцев мутно, нехотя, взглянул на слишком чистое и слишком мягкое лицо
спрашивающего. Он ждал, тяжело размышляя: „Кто-нибудь должен же поставить
бутылку водки на стол! Да, он о рабочих спросил, этот козел. Черт его знает,
как живут французы на заводах. Врежу-ка я ему в его вопрос свой вопрос".
— Правды нет, есть только труд за две копейки да истина по четвергам в
дождичек. Скажите лучше, у здешнего рабочего имеется прописка? Что, не знаешь,
что это такое? Ну, может он без разрешения властей переезжать с квартиры на
квартиру, из дома в дом, из города в город, из страны в страну?
Мальцев взглянул на парня и подумал: „Козел, открыл бараньи буркалы".
Кто-то женским голосом ответил:
— ...А как же...
— А трудовая книжка у него есть?
— Нет... как же...
— А бастовать он имеет право?
— ...А как же...
— А угрожать забастовкой?
— ...А как же... Если он имеет право бастовать, то угрожать ею и подавно
может. Странный вопрос.
Бешенство вышибло у Мальцева желание выпить:
— Дубье! Недоумки! Вы что, думаете, что раз свобода вам дана от рождения,
то это вам дает право ее презирать? Раз не бьют по затылку, то и оглядываться,
значит, не надо! Так, что ли?! А сравнительным анализом кто будет заниматься?
Пушкин? Вы ругаете то, о чем только мечтают европейцы на востоке. Ни прописки,
ни трудовой книжки и право бастовать сколько влезет! (За зло сморщенным лбом
Мальцева развернулся привычный вопросик: а может, врет этот человечек? Хотя,
будет ли он врать, чтоб затем вранье свое ругать?)
Холодная мысль остудила бешенство. Мальцев опомнился:
— Я делаю разницу между угрозой забастовки и самой забастовкой, потому что
у нас пока никто не намеревается бастовать. Все бастуют только от отчаяния,
стихийно. Поэтому для власти подготовка забастовки была бы страшнее самой
стачки.
Парень как будто обиделся:
— Вы — эмигрант, значит антикоммунист. Ясно, что вы против всего
советского. Вы не можете быть объективным.
К Мальцеву пришло то особенное спокойствие, которое приготовляет человека к
бою:
— Сука, ты хочешь сказать, что я вру?
После этих слов нужно было бить. Или ждать удара. Так было всегда. Дикая
матерщина смягчает оскорбление, уводит от реальности. Простые слова
подчеркивают намерение оскорбить человека.
Мальцев поднялся, выпитое не мешало чувствовать неловкость положения.
Захотелось, чтобы Таня остановила его.
— Да ладно вам... Давайте не будем ссориться. Он, прошептав „слава
Богу", опустился на стул, вытер лоб.
Парень произнес:
— Ну что ты, мы и не думали, так, поспорили немного.
Мальцев окончательно обалдел... Так дернул шеей, что больно затрещали
позвонки. Таня повторила:
— Давайте не будем...
И Святослав весь вечер был ей благодарен.
Мальцев больше ни с кем не разговаривал. Он ждал, будто стоял в очереди,
водки и исчезновения этих взрослых детей, большинство которых были его
ровесники. В это не верилось. Почти у всех была молочная кожа, пухлые губы,
ямочки на щеках, на подбородке, чуть повыше локтя Ему не о чем было с ними
говорить. Они были чужее чужих. Хотелось их назвать предателями. Без причин.
Просто хотелось.
Люди ушли. Нашелся стакан вина, не водка. Мальцев втягивал его в себя по
капле, глядел, как Таня аккуратно, споро и без мягкости занималась хозяйством.
— Понравились тебе мои друзья? Ты просто еще не привык. Ты не знаком еще с
диссидентами? Конечно же, ты их не знаешь. Мне Толщева говорила.
Мальцев слушал ее вопросы и ответы и не хотел, чтобы в нем пробуждался
холод к этой молодой женщине.
Он обнимал ее без уверенности получить нежность…
Лицо Тани было откинуто — из-под опущенных век глупо поблескивали белки.
Мальцев чуть не сказал: "Щас начнет царапать". Отвалившись, Мальцев
повторил слова, произнесенные одной женщиной в сибирском колхозе:
— Вкусен ночной хлеб.
Он видел в уже привычной темноте, как от этих слов у Тани вздрогнул
живот... Мальцев поцеловал его.
В обоих просыпалось невыговариваемое, разбуженное на этот раз словом.
Бывает, человек увидит ложку, из которой его кормила мать в детстве, или
приснится ему колодец, что был у родного дома, и ходит, проснувшись, человек
час, день с чем-то простым и вместе с тем небывалым внутри себя.
Таня охватила голову Мальцева:
— Дорогой, любимый, родной. Ты мой, мой.
Искренность сдирала со звуков их истасканность. То, на что перестал
надеяться Мальцев, случилось — их тела стали текучими. Когда он раздвигал ее
ноги дрожащим от нежности коленом, Тане хотелось забеременеть.
Утром Таня спросила:
— На что будешь жить?
Он взял ее руку. Твердым был только голос.
— Буду устраиваться на работу. Могу переводить, могу слесарем, варить умею.
Таня удивилась:
— Что варить?
— Сталь, дуреха, — Мальцев рассмеялся. — У меня деньги есть, не боись.
— Сколько?
— Чего сколько?
— Денег сколько?
Голос Тани был деловитым. В глазах жил интерес. В интересе не было
жадности.
Ему показалось, что нежность к этой женщине, похожей на свежий пенек,
дрожала в нем давно, когда он жил, не думая о жизни, ощущал с удовольствием
теплоту добра вокруг и не искал наименьшего зла.
— Восемьсот.
— Тебе не надолго хватит. Надо быстрее искать работу. А то снова попадешь
под мост.
— А почему бы и нет?
Она махнула рукой:
— Ну, как хочешь.
Мальцеву стало зябко. Он увидел, что Таня смотрела на него, как на
обреченного. Ласковости не разглядел... как будто немного жалости. Хотя... черт
его знает. Было непонятно.
Но она обняла его, припала головой к груди, начала гладить щетину щек, и
только много времени спустя дыхание стало все более зовущим.
Последующие дни удивляли Мальцева глупостью. Таня рано уходила на работу —
водила советских инженеров по французским заводам. Он читал в это время
„Архипелаг ГУЛаг", и его совершенно не забавляла мысль, что он давно все
это знает: лагеря, пытки, голод, холод, смерть. Все это было известно, но все
сидело неподвижно в памяти, будто и не нужно было этому знанию двигаться,
куда-то идти, что-то искать и тем более находить. Правда, мысль охватывала
отдельных людей с характерами и лицами, или многих людей, но бесплотных, — и к
ним не приставали цифры.
Как-то Мальцев и несколько ребят с истфака, избежав практики, поехали на
заработки. Деньга шла хорошая, и новый коровник, с крыши которого можно было не
без удовольствия видеть Обь, строился быстро — за скорость и качество начальство
платило, не скупясь. По вечерам пили любую гадость — лишь бы давала хмель.
Старик, в доме которого они остановились, не был местным и к совхозу никакого
отношения не имел. Он получал свою пенсию, копался в огороде. Люди звали его
Коркой — десны его беззубого рта были способны раздавить самый твердый сухарь,
но старик, заявляя, что он городской,
подчеркнуто ел только мякиш, уничтожая при этом пальцами корку. Он перетирал и
вновь перетирал ее, и злобливость его пальцев совсем не сходилась со спокойным
от природы выражением лица и с его глазами цвета грязной голубой майки. За
жилье Корка брал мало, от водки, пива или браги никогда не отказывался, всегда
бывал словоохотливым, но ругал власть только тогда, когда выпивал. Он
рассказывал о ему самому непонятном, и его пальцы упорно разрушали до пыли
очередную корку хлеба.
— Не власть, а бардак. Вот, например, — вас тогда отец с матерью еще не
сработали, когда у нас врагов народа было навалом. Меня тогда в ВОХРу послали,
на Колыму. Дрянно там было, дрянно и сейчас, вы поверьте. Тогда дорогу там
прокладывали, колымской трассой она теперь называется. Врагов народа туда
нагнали видимо-невидимо... кишело ими. Я грамотный был и приказ понимал
правильно. У нас ведь есть такие, что им прикажут, а они, суки, еще что-то думают.
Такие не годятся... Старшиной я стал — потому знаю. Трудно было стране, не то
что сейчас. Кругом были враги. Хлеб у нас они почему-то уничтожали, а мы —
врагов народа. Они были саботажниками, их и заставляли вкалывать... пулю на них
не тратили. Тогда вдоль будущей дороги делали лагеря, забивали бараки и ждали,
пока дорога не подойдет. По плану каждый лагерь должен был сработать нужный
начальству кусок трассы. Когда из лагеря на работу перла партия врагов народа,
— их списывали с довольствия. Через несколько дней (не помню, сколько) на место
шла спецкоманда и возвращалась с инвентарем — мертвецам он все равно не нужен —
и телогрейками. А когда врага народа списывают с довольствия, то одежда и та
самая обувь ему нужна только на чуть времени. Вот, и на работу отправлялась
очередная партия. Так пустели лагеря, и так прокладывалась трасса. Время ведь
было трудное, каждый и выполнял положенное. Враги были врагами. Все было ясно.
Мы иногда даже кому-то и помогали — патрон тратили. Хоть против народа человек
пошел, а все — жалко бывает. А потом власть заявила, что враги народа не были,
оказывается, врагами народа, что, мол, ошибка вышла. Хороша ошибка! Что это за
власть такая, что ошибается? Мы тогда правду говорю, ошалели. Некоторые думали,
что нас самих в расход пустят, что на нас, маленьких, вину за ошибку свалят.
Нет, дурною власть стала. Уничтоженный враг должен врагом и оставаться.
Глядите, что нынче творится. Никакого порядка! Да и как все понимать? Сегодня
враги, завтра не враги. Хорошо, я на пенсии. Но несправедливо с нами поступили.
Мы порядок охраняли, приказы выполняли, трассу проложили, а власть нам в лицо
плюнула — мол, не враги народа они были. А кто же они были, друзья что ли?
Бардак, говорю вам, бардак!
Корка произносил слова с обычной старческой ворчливостью. Мальцев слушал
его с любопытством, хотелось даже посочувствовать этому симпатичному мерзавцу.
Жила себе крыса, но вот пришли, немного подмели ее царство, и стала потихоньку
убивать ее чистота.
Так тогда думал Мальцев. Теперь, читая ему как будто знакомый „ГУЛаг",
он увидел пальцы Корки. Умеющие истреблять. Хлебная пыль падала к земле —
каждая пылинка превращалась в орущую голову. Крыса была жива, и чистота не была
чистотой. Забавно было, что Мальцев обо всем этом знал давным-давно... и вместе
с тем не знал.
К часу дня Мальцев отправлялся к площади Трокадеро. Там его ждала Таня.
Вместе обедали. Она платила за себя, в метро доставала свой билетик, даже у
кассы кинотеатра говорила: одно место. Делая покупки, Таня вела какие-то
мудреные расчеты; и со всей серьезностью повторяла, что там-то и там-то бананы,
мясо или рыба стоят дешевле на столько-то. Когда речь шла о ценах, лицо ее
менялось до неузнаваемости. То же превращение происходило с ее друзьями,
знакомыми: кожа на скулах слегка натягивалась, глаза становились
пронзительными, губы начинали шевелиться так, будто сдерживали сильное
волнение.
Мальцеву было противно. Появившаяся было любовь к деньгам уходила из него.
Бумажки, которые он еще несколько дней назад голубил, копил, делали Мальцева
похожим на этих людей. Они говорили о ценах — не о том, как достать больше
денег, не о том, что делать с деньгами, — только о ценах.
По вечерам Мальцев покупал несколько бутылок вина и слушал разговоры
приходивших к Тане французов. Они говорили о ценах, о еде, о ценах, об
автомобилях, о ценах, о „комбайне" с выносными динамиками, о ценах, о
женщинах и иногда о политике.
Чего-то хотели, так, мимолетного, но в основном все презирали, требовали
разрушения всего видимого, а о невидимом не думали и вместе с тем желали всего.
Мальцев лил в себя вино. Ему было тяжко. Все вокруг него родились
свободными. Это было красиво. Он прикинул и отчетливо подумал, что люди,
которым не нужно защищать свободу, перестают ее ценить. Вот этот долговязый
орет об эксплуатации. А-а-а-а!
От впечатлений чугунным звоном пухла голова. И было больно быть таким
нищим. В Москве хотят всеми потрохами того, чего не ценят эти все оценивающие
люди.
Он уставал; едва последний гость уходил, валился на кровать и тяжело
смотрел, как раздевалась Таня. Становилась неприятной ее молочно-желтая кожа на
пятках.
Вместе с очередным утром пришло решение: надо уходить. Но куда? Тело Тани
не надоедало, хотя она сама была чужее чужих. Можно было остаться, ждать
случая, дождаться его... но... Таня и та княгиня, или графиня, — и он. Небо и
земля. А ведь все они одного племени — русские. Проклятье! Даже поговорить не о
чем. Да и деньги кончались. Да. Мальцев мысленно подписался под своим решением.
Делать нечего.
Обедая с Таней на Трокадеро, он заговорил о Февральской революции. Он любил
ее, великую и незадачливую, слабую и все перевернувшую.
При мысли об Учредительном собрании Мальцев немного пьянел. Таня
воскликнула:
— Будь она проклята! Посмотри, что она сделала: Россию погубила, храмы
разрушила, родины меня лишила.
Мальцев раздраженно ответил:
— Брось ты, на родине и живешь. Я тебе говорю о Февральской революции, а не
об октябрьском перевороте. Черт знает что — я там информацию по кускам
доставал, зубами выдирал из контекста, из старых людей клещами вытягивал, а вам
здесь только и пойти в магазин да книжку купить, только прочесть наше советское
и ваше российское да анализ сделать, и при этом не боясь ребят из органов. Чего
там... А вы?
Она удивилась:
— Что это с тобой сегодня? Чего ты у меня такое спрашиваешь? Что я тебе
сделала?
— Не хнычь, не хнычь.
— А я и не плачу. Не хочешь, пожалуйста. Скатертью дорога. Все вы,
советские, хамы. А хочешь о своем социализме поговорить, — пойди к Топоркову.
Он такой, как ты, только старый, как мама, эмигрант.
Глаза Мальцева изумились:
— Да ну, старый социалист, говоришь? Дай адрес. И не сердись. Ничего, если
я к нему приду? Не выгонит?
Мальцев не глядел ни на свои быстро мелькавшие ноги, ни на трусивший по
сторонам город. Он был занят своей радостью. Он будет говорить с русским человеком,
бывшим социалистом до возникновения советского государства! Вот это — да! Для
француза равноценной была бы, наверное, встреча с человеком, видевшим взятие
Бастилии. Мальцев вспомнил свои запрещенные и потому труднодоставаемые книги,
вечера раздумий, обмысливания событий: от того вечера, когда бабка школьного
друга, жившая в Петрограде, сказала, что как-то в октябре все, как всегда,
легли спать, чтобы утром узнать, что большевики взяли власть, — и до той
минуты, когда Мальцев в Ярославле сделал вывод, что даже скандинавский
социализм, будучи во многом более демократичным, чем либеральная форма
капитализма, опасен для народа, живущего в демократии.
Только чтоб узнать — приблизительно — историю своего народа, ему
понадобилось десять лет опасных исканий. Он не был борцом или, как их называют,
диссидентом или инакомыслящим. Он молчал... почти. Но он упорно хотел узнать,
он копался. И не менялся с каждой истиной, выдранной из истории, с каждым
фактом. Мальцев просто-напросто искал дальше. Не зная, для чего. И те, что
следили за ним, — тоже не знали. Возможно, Мальцев был олицетворением
молчаливого большинства — самого опасного зверя. Диссидента можно арестовать,
убить. Его можно понять. Он — открытый враг. Но те, что молчат и копят
запрещенные знания? Что? Почему? Когда?
Мальцев ни на миг не подумал, что пытается оправдать свое бездействие.
Впрочем, он всегда считал, что героем или мучеником становятся, когда нет иного
выхода.
Дверь открыл человек, легко переживший свою старость, — были видны на лице
следы уходивших морщин. Он был из довольно редкой породы совершенно здоровых
людей, умирающих от чрезмерного долголетья. Быстрый взгляд, легкие движения —
все невесомое. Такие обычно задолго видят и предсказывают приближение смерти.
Один такой дяденька сказал Мальцеву, что смерть для него подобна тигру,
гуляющему по городу. Он был в одном конце — тигр в другом. Когда же они
встретились в одной комнате, то... стали жить вместе. Дружно и спокойно.
Топорков, взглянув на Мальцева, сразу же заговорил по-русски:
— Заходите. Узнаю, так сказать, соотечественника. Раньше такого не было.
Мальцев забыл поздороваться:
— Как это так, не было?
Человек улыбнулся длинной тонкой улыбкой, провел посетителя в комнату.
Мальцев поискал следов присутствия тигра. Не нашел — мебель была живой и, по
всей вероятности, не скрипела по ночам. Мальцев ждал ответа.
— Да, видите ли, молодой человек, до революции Россия составляла
естественную часть общеевропейской культуры и существовала в цикле, именуемом
христианской цивилизацией. Поэтому русского человека, гуляющего по Парижу в
хорошем французском костюме, можно было легко принять за местного жителя — его
не выдавали ни выражение лица, ни походка, ни что-либо другое. Но с тех пор,
как Россия стала СССР и была отрезана от европейской культуры, человек, в ней
живущий, стал видоизменяться. Образовался, если хотите, новый биологический вид
русского человека. Скажите, вы своего соотечественника узнаете на ходу?
— Конечно... метров за двадцать.
— Каким образом?
— Взгляд... нагруженный, походка... тяжелая, ленивая и с пуглинкой.
Любопытные глаза на нелюбопытной шее. Ну, что еще? Вы лучше мне скажите, как вы
все Россию не отстояли. Я не говорю о монархистах, защищавших живой труп. Но
вы, социалист-антимарксист (ведь правда?), вы были победителями в феврале? У
вас было большинство в Учредительном собрании. К вам в руки шла страна, и вы ее
проворонили...
Мальцев хотел разбудить в собеседнике ярость или хотя бы желание
вдохновенно поспорить. Топорков даже не мигнул. Лицо его оставалось будто вне
времени, слова вне ума, так сильно было впечатление, что этот человек смеется
над мыслью, чужой и своей собственной.
— Вот-вот, молодые теперь все норовят цифрами лупить. Последовательность
примитивной логики заманчива своей легкостью. В начале века я был студентом в
Петербургском университете. Между лекциями мы сидели всей студенческой братией
на подоконниках длинных коридоров. Справа от нас бесилась маленькая кучка
черносотенцев, слева — такая же кучка марксистов. Мы смеялись и над теми и над
другими. Монархисты и революционеры были нам одинаково чужды и смешны. Монархия
отмирала, а марксизм в то время уже становился на Западе очередной едва ли не
академической теорией, чем-то вроде нового „Города Солнца" нового
Кампанеллы. Он уже уходил, почти все так думали, в архив истории. Началась
война, монархия не умерла, а унизительно издохла. Это произошло так быстро, что
даже те, кто этого долго ждал, не осознали, не успели понять: после анархии
должна прийти диктатура. И мы вместо того, чтобы бороться против еще не
определившейся диктатуры, начали строить легальнейшим путем демократическую
Россию. Это была политическая ошибка. Но была еще ошибка психологическая.
Человек всегда разыскивает в будущем неизвестные ему выгоды. И когда в трудные
времена ему предлагают те или иные преимущества, человек сравнивает настоящее с
предлагаемым будущим, и часто это будущее так заманчиво, что человек-человечек
соглашается ради него поступиться частью своей политической, экономической и
личной свободы. Но мы, социалисты, были все равно обречены.
— Почему?
— Потому что еще никто не ответил на вопрос: может ли рождающаяся
демократия победить рождающуюся диктатуру.
Мальцев скривился:
— Однако вы не оптимист. Спасибо, что приняли. Я подумаю над вашими
словами.
Топорков ничего не ответил. Этот паренек вызвал в нем тоску по чему-то
позабытому и сладостному. Это не память по родной земле надела маску чувства...
да и было ли такое время, когда он стоял, а хотелось упасть от отчаяния, глядя
на поезда, уходящие на восток, в Россию. Он тогда, кажется, плакал. Болело
раненное красными плечо... он ли не хотел социализма? Они были на одних
выборных листах с большевиками. Союзники!
Топорков перестал перелистывать в уме свое прошлое и ставить, где
подсказывала мысль, восклицательные знаки. Он так и не узнал, что только что
ушедший советский человек вызвал своими резкими движениями и голосом отрывок
юности: его ветхому телу захотелось попасть в ту баньку, куда он ходил с давно
позабытым лучшим другом более полувека тому назад - они делали тоги из длинных
полотенец и, расхаживая по предбаннику, упорно занимались переустройством
общества... Много говорили о Жоресе.
То приятное, что только ворохнулось в груди и ушло, имени своего не назвав,
оставило Топоркова равнодушным. Он не верил ни в жизнь, ни в смерть. Ему было
только любопытно наблюдать за окружающим его миром — и потому он хотел это
делать как можно дольше.
Мальцев спускался по лестнице дома русского социалиста хмуро-задумчивый.
Дверь парадного подъезда не открывалась. Мальцев с силой рванул. Не
поддавалась. „Даже выпить не дал. Чаю не предложил. Старая коряга!"
Вспомнив, что во Франции для того, чтобы открыть дверь, необходимо нажать
кнопку, Мальцев выругался. Нажал. Вспыхнула над головой лампочка. Сплюнул.
Нажал другую. Дверь щелкнула замком и выпустила его восвояси. „Будь ты
проклята!"
Что? Кто?.. Не дверь же.
Топорков все же поразил воображение Мальцева. Тучка точно над его головой
сильно побурела. Мальцев улыбнулся ей своими толстыми губами — глазами не
захотел. Тучка выцвела. Она играла с ним свою игру с помощью солнца. Пусть. Не
забавлялся ли с ним Топорков с помощью истории? Действительно ли марксизм
становился в конце века очередной философией, умело критикующей настоящее и
наивно возвышающей будущее? В конце концов народные массы взаимодействуют не
через сочинения философов.
Десятки месяцев учил Мальцев „передовое учение". Многих покоряла
нехитрая сложность марксизма. Молодых людей, сызмальства лишенных возможности
сомневаться, пленяло быстрое открытие законов, обусловливающих развитие
человеческого общества. Это знание поднимало человека на вершину из вершин — на
путь, ведущий к власти по праву знающего истину. Мальцев видел, как его друзья,
не любящие власть, продолжающие к ней относиться саркастически, наливались
уверенностью... Они легко, произвольно обращались с философиями — они уже
знали, к чему шла мысль тысячелетия. Один паренек — он потом стал парторгом на
одном крупном заводе — прямо сказал Мальцеву за кружкой ерша:
— Слушай, Свят, скажу я тебе истину истинную: марксизм, хошь не хошь,
является легитимацией нашей говенной власти — и с этим ничего не поделаешь.
Мальцев же был горд тем, что учение не сумело его победить. Он боролся с
ним, искал как мог и где мог слабые его места, ночи напролет пытался доказать,
что классовой борьбы не существует, что сами классы — фикция. Подобные мысли
казались порой дикими ему самому. Идти против Маркса! Спрашивать себя, не
сумасшедший ли он, не казалось Мальцеву нелепостью. И он невольно уважал
великое учение: за силу, за неизбежность.
То, что сказал этот не живой и не мертвый социалист смутило Мальцева.
Выходит... не было неизбежности.
Мальцев был серьезен. Как человек, который по привычке знает, что за особое
им не произнесенное слово его могут лишить свободы на много лет... если оно
будет произнесено.
Теперь поздно. Теперь это все — лишнее знание. Он может орать, надрывать
глотку. И его не арестуют, не посадят, не будут допытываться — откуда? как?
Хуже. Его не будут слушать.
Счастливая Франция. Чтоб ей...
В тот день Мальцев долго бродил по узким вихляющим коридорам города. Глядел
по сторонам, прислушивался к себе. За одной маленькой площадью следовала другая
— совсем другая. Город словно размышлял век за веком этими площадями.
Мальцев куда-то торопился, слушал нетерпеливо свою жизнь, а она ему
отвечала усталостью, стукающей изнутри в ребра. „Хватит! Надо передохнуть. Не
то, друг, рехнешься". Да, да. Нервы расползались волокнами. „На работу, на
работу. И надеть шоры. Нагруженный сном валиться на кровать. Эх!"
Проходя мимо дома Гизов, Святослав Мальцев с нежностью погладил шероховатую
высоченную стену.
Через несколько часов он наткнулся на главпочтамт, машинально зашел,
подошел к окошку до востребования. Ему дали письмо. Не из Союза от друзей, как
подсказывала глупая надежда, а из Парижа в Париж.
„Мой старик мне рассказал о тебе.
Давай познакомимся. Каждую субботу мы с друзьями собираемся у старика. Адрес ты
знаешь. Жду. Пока. Приходи после восьми.
Бриджит".
Мальцев сразу вспомнил сенатора Булона, старика, влюбленного во все еще
юную для него мадам-товарищ Мальцеву. Бриджит. „А что, в сущности, эта девчонка
вполне могла быть дочерью моей матери, — со смешинкой подумал Мальцев. — Надо
будет познакомиться. Ей повезло, что мадам-товарищ Мальцева была
коммунисткой... и мне тоже".
Мальцев в мягкой задумчивости стал искать путь к улице Тани — бездумие
рисовалось ему счастьем.
Ночью, положив щеку на ее крепкую руку, он подбирал нужные слова.
Таня молчала, погрузившись в несчастье. Мальцеву она стала чужой, он не
любил ее. Она знала это с первой ночи, но согласилась узнать только теперь.
Почему он? В сущности, Таня считала себя русской ради забавы, но только изредка
отдавала себе в этом отчет. То, что она захотела ребенка от этого советского
парня, было неестественным — она знала, что он не женится на ней.
Мальцев искал что-то, не ее и не в ней. Во сне он часто стучал зубами, как
от страха, произносил отрывистые слова, полные грязи. Иногда стук переходил в
скрежет, будто его сон дышал злобой. Таня тогда гладила его лицо, не понимая,
откуда в ней такое острое чувство. Ей было больно долгой болью — она не могла
раньше подозревать, что сны других людей могут приносить столько страданий.
Раз, когда он стонал, раскинувшись на кровати, мешая ей своим большим телом,
Таня заплакала. Она уже была беременна. Потом она высушила поцелуями свои слезы
на его лице. Мальцев лежал, и она боялась, как бы он, проснувшись, не услышал
жизнь ребенка — его ухо было точно над будущей головой его сына. Она назовет
его... Таня так и не придумала — тревога оказалась сильнее надежд.
Мальцев проснулся и замолчал. Куда делось ее легкое пренебрежение к его
угловатости, презрение к его глупой страсти к демократии? Теперь Таня
благодарила Бога: она не сказала, что голосует за левых. Он бы не простил. Было
страшно подумать. „Скатертью дорога", — говорила она еще так недавно. „Не
смогу я без него", — думала она теперь.
Когда Мальцев заговорил, мышцы ее живота под его ухом сильно напряглись:
— Вот что, надо же что-то делать... — (Таня старалась, зажмурив глаза до
красных точек под веками, внушить ему слова: „Давай поженимся, давай поженимся,
давай поженимся!")... — да, вот, дело такое, что не могу же я ловить ветра
в поле и ждать, пока манная кашка с неба в рот свалится. Деньги кончаются, Фонд
помогает, но, сама знаешь, жить на эти копейки нельзя. Буду работу искать. Я
все-таки был сварщиком четвертого разряда. Не могу я дольше у тебя жить, еще
несколько недель — и нахлебником стану. Ты мне поможешь устроиться на работу?
Таня постаралась втиснуть в свой голос легкомыслие:
— Конечно. Не беспокойся, все будет хорошо. Но почему тебе непременно нужно
искать другую квартиру? Живи здесь. Места, как видишь, достаточно. Квартирная
плата высокая. Не вижу, почему тебе надо искать другую крышу над головой. А
работу я тебе найду. И для чего быть рабочим?
Переводчики нужны. У тебя французские документы. Знакомых у меня много.
Неужели ты не хочешь быть переводчиком?
Голова Мальцева резко оторвалась от ее тела. Опустевшему месту стало
холодно.
— Нет! Не хочу! Ясно?! Не для того я родину бросил, от нашей власти ушел,
чтоб на нее на свободе работать. Хоть миллион дай — не буду! Я на завод пойду.
Хочешь — помоги, не хочешь — сам выкручусь. А жить у тебя не буду. Ты должна у
меня жить, не я у тебя. Так было, так есть и так будет.
— Консерватор.
— Что? Что ты хочешь этим сказать? Может, ты коммунистка?
Таня испугалась, стала целовать.
— Глупый, ты, глупый, глупый...
Когда страх его потерять растворился в нежности, она сказала с тем женским
мурлыканием в голосе, перед которым не может устоять мужчина:
— Нет, я просто думаю, что патриархат слишком уж силен...
И Мальцев нарочито рассмеялся.
Глава пятая
ОТ РАБОТЫ КОНИ НЕ ДОХНУТ
Марна. Он смотрел на грязную воду с легким недоумением. Это сильное имя не
подходило к тщедушной речонке. Мальцев не счел увиденное очередным
разочарованием — ну, мелкая вода, вот и все. Вообще было странным, что люди,
жившие в стране близких горизонтов, смогли превратиться в большой народ. Глядя
на Марну, Мальцев вспомнил, что он встречал многих, ценивших французов за то,
что они взяли Москву. Один колхозник, ловивший с ним рыбу на берегу Волги, даже
уверял, что „если бы французы нас тогда победили, то, значит, крепостного строя
давным-давно не было бы, до срока его бы изничтожили, и тогда, сам понимаешь,
землю бы поделили по-человечески — и не было бы теперь у нас дурной власти...
во, даже не клюет". Мальцев так и не понял, почему Наполеон, даже если б
решился отменить крепостное право, сделал бы это „по-человечески". Но было
ему не более понятно, откуда подобная мысль проникла в череп колхозника. В
сущности этот не старый еще дядька мечтал о том, чтобы парень с Марны приволок
с собой в Россию французскую революцию. Подумав об этом, Мальцев усмехнулся:
„Мы теперь как будто поменялись ролями. Если мы притащим сюда свою революцию,
то уж вы попоете".
За спиной Мальцева тянулись здания конвейерного завода. Таня сказала, что,
прежде чем быть принятым, он должен пройти экзамен. Дрожь толкала кожу спины
вверх и вниз. Идя по широкой бетонной полупустой автомобильной стоянке, он
старался думать о власти, государстве, демократии, авторитарности,
тоталитарности, о внерыночном распределении прибавочного продукта — но в его
зрачки обеими руками продолжал упираться образ промышленника с цепью на
животе-шаре, только початой сигарой в слюнявом толстом рту и хитрыми
беспощадными глазами.
Новое наважденье! Перед этим образом были бессильны знания Мальцева о
развитом либерально-буржуазном обществе. Он понимал — и именно это приносило
боль. Изо рта капиталиста вылетали и повторялись издевательские слова: „Хочу —
выгоню, хочу — не выгоню". Мальцев потеребил свою большую белокурую
бороду: „А, будь что будет". Анонимные акционерные общества были для
Мальцева абстракцией. Он шел к заводу и не мог не думать о его хозяине. В Союзе
хозяином везде и всюду было государство. Хозяин был безличным. Директор завода
подчинялся хозяину, похожему на судьбу. Директор выгонял как хотел, но и его
могли перебросить, выгнать, даже посадить. Капиталист же был свободен. Опять
свобода. Он хотел ее, а она застревала в глотке.
Мальцева не заставили долго ждать, он не успел ни глупо уставиться в
воображаемую точку на стене, ни поменять положение потных ладоней на
беспокойных ляжках. Поздоровавшись с вежливостью спекулянта, начальник отдела
кадров спросил:
— Значит, вы хорошо знаете русский язык?
— Простите, я хочу работать сварщиком. Причем тут русский язык?
— Мы вас и принимаем на работу как сварщика. Но нам бывает иногда нужен
переводчик, чаще всего для устного перевода, но и для текстов. Так что будете у
нас причислены и к трудовому классу, и к интеллигенции. Что же касается варки,
то пройдете небольшое испытание, так, для проформы. Ну, мы, кажется, поняли
друг друга и пришли к обоюдному согласию.
Этот начальник отдела кадров напоминал Мальцеву советского парикмахера —
прилизанный, ловкие движения, уверенность в будущем — вот-вот попросит на чай.
Пока Мальцев подготавливал будущую фразу: „Варить буду, но советским чиновникам
ничего переводить не стану. Не для того я..." — собеседник добавил:
— Пока будете получать что-то около трех с половиной тысяч, а там видно
будет.
Мысль Мальцева запнулась... не договорила. Три с половиной! Жрать же надо!
Начну, а там видно будет. Как-нибудь выкручусь, не впервой... Да и власть денег
лучше ведь, чем власть власти.
Мальцев всегда любил себя оправдывать с помощью слов, перед глубиной
которых его собственная вина казалась ничтожной, не заслуживающей цепкого
внимания.
В мастерской его встретил явно мастер своего дела. Они, мастера, узнаются с
первого взгляда в любой стране и во все века. Он ворчливо сказал:
— Это правда, что вы советский? М-м-м, вы же этим идиотам нужны не для
сварки. Вы хоть когда-нибудь этим делом занимались?
— Да.
— М-м-м, что ж, попробуем. Валяйте.
Мальцев сумел скрыть волнение. Электроды были схожи с советскими, но сам
аппарат был легче. „Черт его знает, как они тут работают, — думал он. — Эх,
была не была".
Он любил варить сталь. Цепляя шлем, Мальцев как бы предвкушал бой. Глядя,
как под рукой металл становится жидким, как он сливается в сварочную ванну, как
„ванна" превращается в шов, Мальцев всегда ощущал рождение чего-то нужного
и вместе с тем необычайного. С непривычки ему с трудом удался потолочный шов.
Но в общем, Мальцев остался доволен.
Подошедший мастер слегка раскрыл рот и оставил его неподвижно полуоткрытым
нудное мгновенье. Потом взял в руки успокоившийся металл:
— Но это же отличная работа! Молодец. Ничего не скажешь. Скажите, вы ведь
не только электросварку знаете?
— Знаю газопрессовую, кузнечную, газовую, электрошлаковую, термичную...
Француз взглянул на Мальцева с нескрываемым любопытством:
— Вот это да! Но почему вы, советские, так плохо работаете? Я видел:
никакого качества. Слушайте, обед уже. Пойдем, заморим червячка. У нас неплохое
красное винишко есть.
Мальцев с недоверием поглядел на рабочего, называющего капиталистов
идиотами и предлагающего незнакомому человеку выпить с ним вина на территории
предприятия. За это его должны были бы сразу взять на карандаш... а у этого
человека есть, как будто, что терять.
Когда, давненько, уже мало во что верящий и уже много чего опасавшийся
Мальцев стал рабочим, его почти сразу научили жить: он разгружал с тремя
парнями грузовик с железными болванками. Во время второго перекура перед ними
вырос ни более ни менее, как директор завода:
— Чего расселись! А ну!
В голосе не было ни нотки сомнения — только власть. За заводом начиналось
поле. Мальцеву захотелось утонуть в нем, стать маленьким, незаметным растением.
Он стал бочком искать местечка за грузовиком. Трое работяг не шевельнулись.
Один лениво сплюнул.
— Кому говорю! А ну! За работу! Вы у меня увидите премиальные!
Мальцев не видел, кто из работяг заговорил. Голос был такой, будто парень
жевал что-то скучное:
— Слуш, тов директор, не виш, курим. Ну так чего?
— Чего?! — голос директора долез до фальцета. — Всех выгоню! Всех! По сорок
седьмой! Вы меня еще вспомните!
Мальцев выглянул — трое работяг беззвучно хохотали:
— Да ну? Выгонишь!? Давай, давай. Кому хуже будет, а? Вытуривай! Ну и дает.
Премию? Да я на нее на... хотел. Давай, ищи других дураков.
Директор в ставших нелепыми шляпе и плаще молчал. Он показался Мальцеву
чужеродным телом на этом заводском дворе. Так и не произнеся более ни слова,
директор ушел. Голосом, спрыснутым доброй иронией, один из троих позвал
Мальцева:
— Вылазь, зелень. Ушел он, ушел. Чего перетрухал? Теперь у нас директоров
больше, чем нашего брата, грузчика. Нам-то терять нечего, понял? Мы себе завтра
пахоту найдем, а ему новых лошадок искать, а они на дороге не валяются, а без
них — не видать ему его вшивого плана. Понял? Ты понял? Слушай и запоминай,
зелень пузатая.
Мальцев тогда слушал и приходил в восторг. Они были гигантами, эти трое
рабочих, Прометеями. Вот она — свобода. Он решил быть грузчиком всю жизнь.
Восхищенный, он объявил о своем намерении трем парням.
На этот раз гогот был громким и невеселым:
— Сопля. Свобода, а! А когда у тебя жена будет, когда твоей соплячке нужно
будет ботинки купить, когда захочешь ей мяса хоть раз в неделю дать... тогда
что? Ты бы тогда с этой сволочью так не разговаривал! Ге-ро-о-й. Нам терять
нечего, кроме своих цепей. Это понимать надо.
Мальцев понял. И не женился. Теперь, идя рядом с пожилым французским
рабочим, он вновь старался постигнуть: этому человеку было что терять — лицо,
движения, уверенный голос говорили об этом, а вот был ли необходим он заводу,
капиталисту? Вряд ли. При высокоразвитой промышленности и при нынешней
безработице квалифицированных рабочих в этой стране должно быть пруд пруди. Так
в чем же дело? Неужто какая-то особая свобода есть... — или капиталист — не
капиталист.
Он не успел додумать: то, что он увидел с порога столовой, забило ему
воздухом глотку.
Он все еще не мог пройти равнодушно мимо мясной лавки. Все его рассуждения
об обществе потребления разбивались вновь и вновь о подавляющее воображение
богатство.
В столовой готовились к обеду. Бледно-розовый дух разливался до каждого
уголка, лез в ноздри. С ним боролся запах чистоты. Раздача блестела. Но более
всего поразили Мальцева ряды бутылок пива и вина. На этом заводе рабочие могли
покупать во время обеда спиртные напитки! Это было невероятно. Почему
начальство доверяет своим рабочим? Чертова страна!
Мастер чокнулся с Мальцевым и повторил свой вопрос: почему в СССР плохо
работают?
— Хорошо — не выгодно.
Француз не понял. То, что говорил этот советский, было лишено смысла.
— Работаешь качественно или менее качественно — все одно, зарплата одна.
Главное ж — план. Поэтому ОТК пропускает некачественную продукцию. План есть
бог труда.
— Значит, главное у вас — количество?
— Нет. План. Когда рабочий перевыполняет план более, чем, скажем на 120%,
тогда автоматически снижают расценки... нет выгоды ни от качества, ни от
количества.
— Почему они так делают?
Мальцев полуискренне ответил:
— Не знаю. Но думаю, что дело в политике.
Рабочий хмыкнул, будто поверил. Обычно, когда человек описывает нечто, ему
самому непонятное, — ему верят.
Столовая стала наполняться народом. Глядя на лица, походки, движения рук
входящих и шумно усаживающихся людей, Мальцев впервые и по-настоящему
почувствовал себя дома — эти рабочие могли быть советскими... но как только они
заговорили, земля стала небом. Работяги без всякого смущения и скорее весело
ругали все подряд: начальство, цены, правительство. Мат, которым небогат
французский язык, тёк, лишенный надрыва, по помещению. Мальцев отметил, что
бифштексы были толще пальца.
„Рассказать бы это все ребятам", — подумал Мальцев. Но сразу же
грустно решил: „Все равно бы не поверили. Я сам бы не поверил".
Рабочий хлопнул его по плечу:
— Чего задумался? Или мясо плохое? Они иногда здесь всякое г... готовят.
Это бывает.
Мальцеву пришлось уговаривать себя: нет, нет, рабочий не потешается над
ним.
* * *
Таня с удовольствием лежала на животе. Маленькому она этим еще не мешала;
скоро ей нужно будет засыпать, лежа неудобно: на боку. Поэтому было так приятно
вдавливаться грудью в кровать. Слезы, по-детски обильные, стекались ко рту.
Свят ушел. Она сама подыскала ему мансарду. Уходя, он смотрел на нее
рассеянно. Она не встретится больше с ним, сама воспитает маленького... или
выйдет замуж за Игоря Короткова (что он плохо говорит по-русски — не беда).
Игорь давно ее любит, и он чуткий, не то что эта советская сволочь! Игорь
все-таки адвокат. Игорь сумеет воспитать ее ребенка.
Запах Игоря Короткова еще не ушел из комнаты. Таня в него, пришедшего,
уцепилась двумя руками, целовала до крови на губах. Отдалась ему жадно. Он
удивлялся, старался чему-то верить.
От мысли, что все ее горе оставило бы равнодушным Мальцева, у Тани вдруг
завыло внутри — застыла в обиде грудь, затем опустошилась вытянувшимся из нее
злобным звуком: у-у-у-у! Брызнули слезы, зубы бешено рванули наволочку.
У-у-у-у! Советская свинья!
* * *
Окно-люк в неподвижно падающем потолке мансарды лезло в глаза отдыхающего
Мальцева. Десятичасовой рабочий день утомлял его. Из окна-люка можно было,
высунувшись, увидеть стоящего на одной ножке гения революции и кусок площади
Бастилии. То, что конец потолка был почти у ног, раздражало Мальцева. Все было
не так, все было непонятным.
Французы при встречах как бы подскакивали перед ним, ускользали, не давали
взгляду зацепиться, мысли углубиться, хотя бы остановиться. Что в печенках у
этих картезианцев, чем живут, чего хотят, кто такие? Кто он, этот народ, чей
язык не знает слова совесть? Тогда, встретившись с работягами, Мальцев было
вздохнул спокойно, увидев знакомые до мелких черт обличья, но... На второй
день, свыкнувшись с цехом, он решил устроить перекур. Подошел к молодому
парняге — тот во время работы время от времени подбадривающе подмигивал
Мальцеву:
— Что, пойдем перекурим? От работы кони дохнут.
Мальцеву сначала показалось, что он перепутал, произнес эту фразу
по-русски. Но растерянность в глазах парня сменилась сосредоточенностью. Он
немного скривил шею, чтобы увидеть сбоку лицо Мальцева, и, так и не произнеся
ни слова, вновь принялся за работу. Чувствуя себя оплеванным, Мальцев так и не
устроил себе перекура. Боятся они или не боятся капиталистов? Если они их и
страшатся, то как-то странно, не с простой опаской... может быть, с той
трусостью, которую человек часто называет осторожностью. Они часто произносили:
„Да, месье, да, месье".
Как будто угодливости в этих словах было много. Да и большинство людей
немного горбилось, разговаривая с начальством. Как бы то ни было, здесь
кони-человеки от работы не дохли. Им, значит, бьшо выгодно тянуть плуг труда к
наивысшей зарплате. Но отказываться от перекура — это уж слишком. Неподалеку
стоявший молодой коммунист тоже работал на своем станке, как проклятый. Он
как-то подошел во время обеда к Мальцеву. Губы его были так по-революционному
забавно сжаты, что Мальцев едва сдержал хохот. Подумалось: „Ну, сейчас начнет
пропагандировать!" Тот сухо спросил:
— Скажите, вы — антисоветский?
— Нет.
Парень улыбнулся не без растерянности, глаза спросили: „Ну, так чего же ты
тут делаешь?" Но рот остался без звуков. Молодой коммунист крепко пожал
руку Мальцеву и, напрягая спину, медленно завернул к своему, полному крови,
куску мяса.
— Эх, люди!
Произносить эти слова было ему легче, чем разводить в недоумении руками.
Недели через две, попав за один стол с тем молодым коммунистом, в общем-то
неплохим парнягой, Мальцев не сдержался, рассказал советский анекдот:
— Малец дергает отца: „Пап, а пап, мне сказали, что до коммунизма у нас
были деньги. Что это такое — деньги?" Отец скребет затылок: „Деньги,
понимаешь ли, ну, как бы тебе это сказать, это были такие вот бумажки,
маленькие, большие, красные, зеленые... всякие. С этими бумажками ходили в
распределители и обменивали эти самые деньги на, скажем, килограмм масла".
Малец опять дергает отца: „Пап, а пап, а что такое масло?"
Мальцев ожидал всяческого, но не этого человеческого безветрия. Вялость
окутала лица, на них только медленно хлопали веки. Шквала — смеха, гнева — не
последовало. Они стали есть, будто истребляли живое. Жевать, сузив глаза.
В тот день у заводских ворот Мальцева поджидал парень, спросивший, не
антисоветский ли он:
— Эй, русский, пойдем, выпьем?
В его глазах Мальцев прочел жестокость. Нужно было не думать, а решать. К
лицу подобралось, пришедшее издалека, одно из первых появлений весеннего ветра.
Он этак погладил расторопно, прошелся по нижней губе, как ловким женским
мизинцем.
— Пойдем.
Мальцев заказал водку. Перепробовав разного вина и коньяка, он пришел к
выводу, что лучше „пшеничного вина" ничего человечество не придумало. На
Западе же люди наливали водки в стопочки так мало, что приходилось ее не пить,
как должно, а прихлебывать. Хмель приходил быстрее обычного, но и уходил
ходко-ходко, как через уши. Молодой коммунист был зол:
— Ты почему меня обманул? Я сказал своим товарищам, что ты — свой. Что они
теперь подумают?
Водка стала тепловатой.
— А? Мы хотели тебя пригласить. Ты бы нам рассказал, какие недостатки
существуют в СССР... мы знаем, что их еще достаточно. А ты меня обманул. В
столовой поставил меня в смешное положение. Ты что, боялся мне сказать, что ты
против коммунизма? Что ты против трудящихся? Что ты антисоветский?
Водка, несмотря на усилия, лилась в рот слишком быстро. Слишком уж свыклась
рука опрокидывать стакан. Мальцев всмотрелся в говорившего черт-те что парня.
Он был искренен, этот француз! Он произносил штампованные фразы с полной
убежденностью в своей правоте. Такого он еще не видел. Мелькнуло: „Опять у нас
бы не поверили. Член партии не поверил бы... не мог бы он, сам партиец, понять
такую искренность". У парня зарозовели костяшки пальцев. Нужно было
ответить.
— Спокойно, спокойно. Я вам не соврал. Я действительно не антисоветский.
Советская власть, именем которой большевики совершили Октябрьский переворот,
была уничтожена теми же большевиками немного спустя. Вы защищаете
коммунистическую власть в моей стране, а истории ее не знаете. Лозунгом
большинства послереволюционных восстаний крестьян и рабочих было: „Мы за
советы, но коммуны не хотим. Да здравствуют советы! Долой большевиков!"
Парень слушал Мальцева и время от времени повторял: „Врешь, врешь".
— Не было бы большевиков, не было бы и вас. Учиться надо. Так, кстати,
говорил Ленин. А его, вам же об этом говорят, слушаться надо.
Может, и переборщил Мальцев. В общем-то, паренек был ему люб не люб, а все
же симпатичен. Глупая вера — если бывает она такая — поражает, но... но
искренность — тоже на дороге не валяется.
Поэтому Мальцев сочувственно добавил:
— Надеюсь, вы теперь понимаете, почему я — не антисоветский?
Молодой коммунист вдруг успокоился. Встал, произнес рядовым голосом: „Ты
еще об этом пожалеешь", — и, не попрощавшись, ушел. Поглядев ему вслед,
Мальцев произнес: „Да-а-а, все-таки наш человек. Пригласил и ушел, не
расплатившись".
Ветер. Он снова пробежался по лицу, нырнул в глаза, зашептал в самую
перепонку, зашлепал нижней мальцевской губой, подергал бороду. А плащ не
тронул. Тент кафе за спиной не шелохнулся.
Глава шестая
НАПАДЕНИЕ ФРАНЦУЗОВ
Прошедшие дни были все же вкусной пищей для жизни Мальцева. Он в этом
отдавал себе полный отчет. На работе он не перетруждался, хотя знал, что от
яростного трудолюбия его существование может только обогатиться, но именно от
этой сознательной рабочей нерадивости и появлялась у жизни почти постоянная
смачность.
Через месяц он купил телевизор и губкой впитывал все дебаты подряд. И
пьянел. И хлопал себя по бокам: „Ну и дают! Вот это да!" Иногда он
произносил эти фразы с восхищением, иногда — с презрением, когда французы
спорили о режимах, знакомых Мальцеву. В том, что в богатой стране может быть
много утопистов левого толка, он не сомневался. Чтобы мечтать о социализме с
мордой ангела, нужно прежде всего быть сытым и проживать не под дождем. „Из
достатка люди прыгают в мечту. Больше как будто неоткуда — говорил в Ярославле
старенький профессор, друг матери. Его давно изъел страх, а он взял да и вывел
его водкой. Он добавлял, злорадно потирая руками: — Ей-ей, хрупок Запад,
хрупок. Они гордятся своей системой да как дети балуются с ней. А ведь бахнет
по ним разом инфляция процентиков эдак на сорок, больше и не нужно, — вот и нет
демократии. Сами от нее откажутся. Ей-ей".
Тогда Мальцев не доверял старику — разве можно доверять человеку,
презирающему себя самого за слабость.
Сам Мальцев видел тогда в западных людях потомков буйных греков,
ссорившихся и дравшихся на агоре в то время, как к стенам подходили стотысячные
армии, и вдруг превращающихся в граждан, сознательно соглашающихся подчиниться
дисциплине, чтобы сразу после победы вновь превратиться в орущих людей, вечно
недовольных, вечно не доверявших своим ими же выбранным правителям. Такими
видел Мальцев из Ярославля нынешних французов, англичан, американцев...
вспоминал и вспоминал единственную в России республику — Господин Великий
Новгород — вздыхал, восхищенно завидовал и рисовал себе картины взбудораженного
современного веча.
Так было. Затем, в армии, Мальцев стал с пренебрежением относиться к
западным гражданам — они как будто боялись умереть и убивать. Это пренебрежение
осталось, но Мальцев не был уверен в его обоснованности. Работяги на
французском заводе не любили говорить о военной службе, отмахиваясь, и Мальцев
не знал — опять! — как понимать это молчание.
Глядя на хлипкого, стоящего на одной ноге гения, собирающегося сорваться с
конца памятника революции, Мальцев себя спрашивал, чего он сам хочет: чтобы
гений этих французов улетел или упал? — и горестно признавался мертвому Иосифу
Виссарионовичу, глядевшему на него из гроба закрытыми глазами — снимок Мальцев
нашел в старой газете — что да, хочется, чтоб гений хайло себе разбил... Пусть
наступит очередь и этого доброго народа. Одному Мальцеву было неприятно на душе
от этого злорадного желания, другому Мальцеву — он выглядывал из первого — было
приятно-забавно от подобных привычных мыслей.
В конце концов он приустал от саморазговора. Потому и очутился одним
субботним вечером на улице Тильзит. Утомившись звонить, Мальцев собрался уйти,
но подумал, что как раз, когда уходишь, и открывается обычно дверь.
В нее просунулось усталое женское лицо:
— Его нет!
Мальцев молчал. Ему было совершенно наплевать, что Булона нет дома. Лицо
спросило:
— А почему это вам наплевать?
Значит он не молчал. Мальцев с приятным волнением глядел на приближающиеся
зеленые глаза. Под красивой переносицей немного морщился курносый нос.
Он хотел сказать этой девушке, что он — Святослав Мальцев, но она спросила:
— Вы случайно не Святослав Мальцев? Тут, кивнув головой, он весело
улыбнулся, но она опять опередила его:
— А я Бриджит. Пошли.
Она была чуть выше маленького роста, не вертлявая и могла показаться худой
только на первый взгляд. Чуть кривоватые ноги давали фигуре выражение милой,
шаловливой детскости. Губы были тонкими. „Это для поцелуя", — подумал
Святослав, хотя его больше всего занимало совсем другое: он думал, а она
говорила то, что он думал, и наоборот.
Перед Мальцевым в ложном полумраке сидела около кресел золотая молодежь
Парижа — по крайней мере так рисовал ее себе годами Мальцев. Все одеты в
побелевшие от времени джинсы, с длинными, но чертовски аккуратными прическами.
Ленивые умноватые физиономии. „Эти не орут по городу моторами мотоциклов, не
разбрасывают по ветру волосы, не притворяются голодными. Эти знают, чего хотят,
— они ничего не хотят. Мальцев вгляделся, и увиденное как будто не обезобразило
уже давно освоенный образ. Но он заставил себя не обрадоваться. Да и Бриджит
была как бы не совсем такая... Многие были босы, и их белевшими пальцами
шевелила вытекающая из потолка музыка.
„Опять что-то такое начинается. Устроили, понимаешь, пантомиму".
Бриджит дала ему стакан спиртного, сказала:
— Вот, представляю — Святослав. Советский. Сумел бежать. А это — не шутка.
Мой старик был очень дружен с твоей матерью. Да?
— Как будто. Она мне рассказывала так, отрывками... да, здравствуйте все!
Они кратко, с подчеркнутой ленцой ответили на приветствие Мальцева.
Вежливость или равнодушие? Выпив несколько стаканов — виски было вкусно, — он
проклял все вопросы, все ответы. Прошел час. За это время музыка сильно
поглупела, вероятно потому, что осталась той же. Люди — тоже. К нему подошли
трое.
— Скажи, а почему сбежал? Да и правда — что сбежал?
Мальцев обомлел. Он никак не мог понять, как это сын капиталиста, министра,
сенатора, архитектора, адвоката или еще чего мог произнести подобное.
— Скажите, а кто ваши родители?
— Что? А что? А-а-а... А что?
— Ничего. Вы что — коммунист?
— Да. И этим горжусь.
Мальцев вновь всмотрелся. У всех троих были гладкие, сытые и умные лица.
Один из них спросил:
— Вы — антисоветский?
— Нет.
— Так почему же вы сбежали? Я с Франсуа не согласен. Настоящего социализма
в России нет. — При слове Россия Мальцев не удержал усмешки. — Но он все же
есть. У вас страной правит народ, а не кучка привилегированных.
Мальцев устало произнес:
— У нас страной правит Государство. Аппарат государственной власти.
— Нет.
Франсуа закричал:
— Врет он. Он — реакционер. Чего с ним говорить!?
— Да подожди ты. Дай сказать. Вы говорите — Государство.А коммунистическая
партия куда делась?
Мальцев выпил стакан виски и устал еще больше:
— Партия после восемнадцатого съезда стала составной частью госаппарата.
— Врешь!
— ...У гражданского общества нет ни малейшего контроля над Государством, а
так как у нас нет частной собственности, то вся полнота власти в системе
распределения находится в руках именно у Государства. Выводы можете делать
сами. А сбежал я потому, что хотел быть свободным. Чего же проще?
В разговор втерся третий голос:
— То, что вы говорите, не соответствует действительности. Советский
коммунизм был несомненно лучшим выходом для России. И именно потому, что она
была страной аграрной, большевикам пришлось применить насильственный способ
соцнакопления.
Мальцев посмотрел на подходившую Бриджит:
— Причем соцнакопление? При Петре I Россия выплавляла больше чугуна, чем Англия. А о Франции
и говорить не приходится.
Мальцев вспомнил первый вечер у Тани. Те хоть не очень богатые были. А эти
— маменькины и папенькины сынки. В масле катаются. А ему до сих пор как-то
неудобно проходить мимо мясной лавки, каждый раз поворачивается он спиной к
этой чрезмерной зажиточности. Нечего ему делать в этой Франции. Да и вообще,
где же правые в этой капиталистической Франции? Разве что Булон... Ха!
Бриджит сказала:
— Хватит. Мешаете слушать музыку. Чего вы хотите от него? Довольно
политики! А ты, Франсуа, заткнись. Не на собрании своей секции.
Но тот заорал:
— Сама заткнись! Вы все тут реакционеры. А мы взорвем ваш гнилой мир! Всю
трухлятину! Будут у нас колхозы! Будут! А ты, ты — ренегат!
Мальцев ничего толком не увидел и не почувствовал, но губы его оказались
вдруг разбитыми. Франсуа оттащили. Бриджит быстро сказала:
— Прости. Он просто налился. Они у себя на факультете больше всего любят
баррикады строить.
Мальцев все чего-то не понимал. Наконец дошло: ему набили морду. Так. Что
же надо делать? А ничего... Ну и пусть. Мысль о том, что он получил по личности
за то, чтобы были в этой стране колхозы, растянула губы. Попытался их удержать,
но серьезность все равно ушла. Он расхохотался. Как давно этого не делал. С
чудовищным облегчением. Хоть тут, с этим Франсуа, все было ясно. Когда Бриджит
пачкала его кровью платок, чмокнул ее в руку. Все еще смеясь, сказал:
— Пора мне. Я пошел. Колхозы — это не для меня.
— Я провожу тебя.
Городской воздух, очистившись от шума дня, чем-то пах. Мальцев определил:
сырой корой. Осмотрелся. Деревьев не было. Тогда он понял, что пахла мокрым
лесом идущая рядом Бриджит. Он, было, открыл рот, но...
— Какая тишина, а? И ветер удивительно свежий. Так и кажется, что дома
волнуются. Как в лесу деревья и трава.
У самого уха Мальцева будто яростно щелкнули пальцами... понимание
творящегося сорвалось с места: „Я здесь... ты здесь... хорошо, что ты здесь, а
я рядом". Вот что происходило в воздухе, объединяющем их головы.
Он не сдирал и даже не снимал глазами Бриджитину одежду — он принимал ее
всю до последнего хлястика. Мальцев подумал, что она должна прийти к нему
сейчас, этой ночью, и она попросила его адрес. После новой тишины, мягкой, но
неудобной, как новый матрац, он подумал, что зря не ответил тогда ударом на
удар, и Бриджит спросила:
— Чего ты засмеялся, когда Франсуа тебя ударил? Я думала, что ты на него
сразу, без слов, набросишься. Знаешь, он искренне хочет изменить мир. Не
рисуется.
Мальцев потерянно улыбался — он уже не помнил, от чего заливался. Начал
придумывать ответ, чтобы он был занятным, оригинальным, но не успел... Он уже
сказал:
— Добрые фанатики хуже всякого зла. Их не бить надо, убивать.
Бриджит приостановилась. Она почувствовала больше, чем заинтересованность.
Этот русский ее приятно испугал. Он показался вначале забавно-неуклюжим,
топчущимся на месте и вместе с тем топчущим все... так, потому, что иначе не
может.
Бриджит увидела — свет фонаря как раз сыпался на лица — его растерянную
улыбку, а затем услышала эти его слова. Его голос делал их окончательными,
неизменными — он был ровным.
Они уже отходили от фонаря, и беловатый луч осветил напоследок глаза еще не
опомнившегося Мальцева: они были напряжены, как страхи детства, когда отец с
матерью уходили в театр, нянька отлучалась к дворнику, а Бриджит оставалась
наедине с темнотой и знала, что стоит ей посмотреть вперед, к стене, чтобы
увидеть страшные глаза кого-то очень злого. Детство. Давно оно с такой силой не
возвращалось к ней. Было так хорошо! Бриджит впервые за много лет захотелось
обнять шею отца. Она, пытаясь задержать это желание, дождалась следующего
фонаря и вновь заглянула в глаза парня. Они были нежными, и тогда она,
вздохнув, поцеловала Мальцева в щеку, — то ли из благодарности, то ли потому,
что все же нужно было кого-нибудь поцеловать. Старого отца уже не хотелось.
Взбираясь на свой чердак, Мальцев бормотал:
— Ну и Булониха. Вот это Булониха. Забулонила она меня, что ли?
* * *
Он не скрывал восторга. До сегодняшнего вечера французы и французские
русские были скорее тенями, чем живыми людьми. Они менялись в глазах Мальцева в
зависимости от освещения. Даже Таня, несмотря на ее явную привязанность к нему,
несмотря на ночи, была будто под мутным стеклом. А Бриджит вот освободила его
от наваждения. Он увидел в ней все, что происходит вокруг него. Да, да, он понял:
здесь люди боролись за несерьезную жизнь. Это и был их идеал, их коммунизм.
Правда, может быть, не только поцелуй Бриджит, но и кулак того типчика помог
ему понять эту простую истину. Глаза уже переставали видеть свет за веками, как
появилось желание обнять Бриджит, прижать к себе ту, которую... которой кто-то
разрешил ловить и повторять его мысли.
Утром ветер, отделившись от стоящего на одной ноге гения, ударил Мальцева,
предупредил его с силой о неприятностях, но тот не понял. Свободный гражданин Святослав
Мальцев думал только об одном — собрать побольше денег и уехать на несколько
дней с Бриджит к морю. На заводе во время обеда он был настолько поглощен своей
мечтой, что не сразу сообразил: услышанное им только что — совершенно
необычайно! Он верно ослышался! Сидевшие вокруг него рабочие ворчали, что
забастовка им совершенно не нужна.
— Чтоб ее черт побрал. Надоело. Я плачу в рассрочку в трех местах, моя
буржуйка вопит, что никак не укупориваем дырищ в бюджете, да и до отпуска не
так далеко. Бастовали ведь не так давно. Зарплату нам повысили. Так чего же? А?
Я вас спрашиваю?
— Ладно, ладно, не ори. Сами понимаем. Не больше, чем тебе нужна нам эта
забастовка.
— Слушайте, чего глотку драть, ничего не попишешь, придется бастовать.
— Ладно. Чего об этом говорить... Ты на каких лошадей сегодня поставишь?
Мальцев вмешался:
— Простите, я что-то никак не пойму: кто бастует? когда? и почему вы
недовольны? Забастовка же дело добровольное: кто хочет — бастует, кто не хочет
— работает! Разве не так?
Громкий смех был ему ответом.
Мальцев почесал в затылке и в овладевшей им беспокойной озадаченности пошел
в цех. Там шла размеренная работа. Ему оставалось пожать плечами и уйти в мир
податливого железа. Только к концу дня замаячили перед машинами пьяные от вина
или от избытка сил какие-то люди. Но они находились как бы на ничейной земле.
Когда Мальцев вышел за ворота, над его головой медленно и душно собирался
уже летний дождь. Усталость спокойно давила на плечи, давала уверенность в
завтрашнем дне. Вот я — твоя плата за зарплату! Мальцев ласково улыбнулся.
Улицы, по которым он шел, кишели магазинами и людьми, и все было нагружено
добром.
Здесь сполна платили за усталость, и, в сущности, можно было постараться
понять, почему этот народ хотел и добивался, чтобы платили и за усталость.
В кармане у него вновь теснились деньги. Чтобы сполна осознать радость
своего трудового утомления, он стал переводить свою зарплату на рубли. В Союзе
ему нужно было три-четыре месяца, чтобы столько получить.
Мальцев пошел первый раз в жизни на завод еще совсем сопляком. Потел, как
раб, ждущий вольной. Ему с теплотой сказали:
— Сколько годов тебе?
— Пятнадцать.
— Вот. Так слушай и запоминай. Мы все умеем вкалывать. Но — нельзя.
Понимаешь? Если наработаешь больше, чем Бог велел, сразу же расценки снизят.
Понял? И тогда всему цеху плохо будет. Так что иди и гуляй поболее.
Мальцев слушал, но не понял и не запомнил. Так что свершилось через
определенное время неизбежное: руки спокойно поймали его за шиворот и сапоги с
нарастающей, но крепко сдерживаемой злобой — это был урок, а не наказание —
намяли ему зад и бока.
— Дуралей ты, раз русского языка не понимаешь, раз старших не слушаешься! В
башку через башку не дошло, авось через жопу дойдет. Но мы тебе все-таки еще
раз в ухи поясним. Ты знаешь, что сделал со своими ста шестьюдесятью процентами
выработки? Не знаешь? Мне, к примеру, за каждую трехлямундию давали девять
копеек, теперь будут давать семь. Вот что ты сделал, чертов сын! Ты знаешь,
сколько нам теперь, чтоб выколотить ту же деньгу, нужно будет лишнего времени
вкалывать? А? Дубье! Ты, может, думал, тебе корешки, а нам вершки будут. Так и
тебе, сучке, расценки понизили. Вот, от земли два вершка, а туда же прет!
Мальцев тогда задумался, но никак не мог сообразить, почему, работая в
полную силу и от души, будешь получать столько же или меньше, чем если бы
работал лениво, вполсилы. Он ломал себе голову довольно долго... пока его не
избили, на этот раз довольно серьезно, хотя, конечно, били так, чтобы не
покалечить мальчонку. С тех пор, где бы Мальцев ни был — во Львове или во
Владивостоке, где бы ни работал — на маленьких фабриках или многокилометровых
заводах, он никогда не перевыполнял план более, чем следует, и это наказывал,
угрожал или вбивал кулаками в головы молодым. Правда, это приходилось делать
очень редко... Он, бывало, не раз удивлялся своей былой неразумной
непокорности.
В последние месяцы Святослав Мальцев с нарастающим восторгом наблюдал за
работой, в которой отсутствовал этот таинственный закон, и с каждой зарплатой
он все благодушней относился к французам.
В ночь очередной получки он глядел на танцующего далеко напротив гения,
подмигивал ему обоими глазами, наливал себе еще стопочку, тянул к ничто руки до
сладкого хруста, читал гению что-то из Верлена и с удовольствием вспоминал
виденных им мастеров, скажем, на Урале.
У некоторых рабочая родословная была толщиной в три века. У них в крови
было знание металла — могли и впрямь блоху подковать. Но и они перекуривали, с
ленцой делали, что требовалось, и даже равнодушно относились к браку: „А чо, ни
горячо, ни холодно. Еще батя говорил, что, мол, Костя, когда тебе в душу
рабочую плюют, так и ты не забывай харкнуть". Некоторым было с рождения
непривычно плохо работать, но они старались. Иначе человек становился либо
дураком, либо холуем. Так было и есть. А вот он, Мальцев, нашел страну, в
которой сколько много ни трудись — все на радость повышения жизнеустройства,
как сказал бы тот работяга. „А если, — подумал он улыбаясь, — наступит предел,
тогда и я забастую...".
Ворота были наглухо закрыты, но Мальцев в рассеянной спешке врезался не в
них, а в большую человеческую грудь. Он услышал насмешливое:
— Эй, старик, куда это ты так спешишь? Ворота охранялись крепким рабочим
людом. Мальцев посмотрел на их добродушные лица:
— Как это куда? На работу. А в чем дело?
— Шутишь? Иль не знаешь? Забастовка. Ты, парень, в какую игру играешь, а?
— Ни в какую. А кто бастует?
— Не морочь голову. Проваливай. Профсоюз бастует... тебе что, рисунок
сделать?!
Мальцев видел, как благодушие покидало стоящих перед ним людей. В глазах
некоторых кроткая скука сменялась охотничьим азартом. Но он уже твердо верил,
что нашел здесь в работе кусок от наименьшего зла на земле, потому и вцепился в
него по-бульдожьи:
— Я в ваш профсоюз не записан. Хочу бастую, хочу — не бастую. Мы живем в
демократии, нет? А я вот хочу вкалывать!
Мальцев говорил искренне и, в волнении, совершенно забыв вчерашний разговор
рабочих в столовой, он никак не мог понять, почему его не пускают на завод. От
непонимания росло в нем злобное раздражение — такое, когда рвешь с мясом
незастегивающуюся пуговицу.
Сжав зубы, он оттеснил плечом одного, второго — подумаешь, видали таких!
Его схватили три руки, тряхнули. Кто-то прошипел в ухо:
— Беги, сволочь. Ты что, журналистов ждешь? Сколько тебе дали за
провокацию?! Беги, пока тя в паштет не превратили!
Угрозы и слово „провокация" хлестнули Мальцева. „Ты что, против
советской власти пошел? Провокатор. Сгноим!" Много раз он это слышал,
хотя, признаться, ни разу не шел против власти. Хотя... была по-трезвому в
мыслях, а по-пьяному на словах всякая критика.
Но услышать подобное на Западе было так неожиданно, что он оцепенел; его
обожгла обыденная еще для чувств беспомощность, тут же превращенная парижским
воздухом в яростное отчаяние.
— А-а-а-а-а!
Мальцев бросился в промежуток пространства, которое обычно бывает между
людьми, и схватился за ворота... Удар в голову отшвырнул от ворот, другой — в
грудь — бросил на землю. Он ударил ногой чьи-то ноги, попытался встать, но на
этот раз его хватил и отбросил черный туфель — „такие в Москве за дешево не
достанешь". Мальцеву не было больно, но его сознанию вся эта чепуха
надоела, и оно выключилось.
Когда открытые его глаза обрели зрение, они увидели — в крупном неприятном
плане — голову и приближающуюся ладонь парня-коммуниста, того самого, который
хотел мстить за поруганное доверие.
— Эй!
От сильного дыхания боль стала бить в ребра, отозвалась в голове. „А? Ну
да". Парень держал его голову:
— Не бойся. Я, понимаешь, не успел. Сказали, что провокатор пришел. Чего
ты, чего ты, я знаю, что ты не... В общем, когда я их остановил, то они успели
тебя помять. Они сожалеют. Ты же говоришь без акцента — откуда было знать.
Кто-то вызвал „скорую". Не шевелись. Знай, я не хотел этого.
Мальцев закричал (вышло — нормальным хриплым голосом):
— Вы все психи! У нас нельзя бастовать, но на то и тоталитаризм. А у вас
нельзя не бастовать. Это что, а? Демократия наоборот? Гады!
Возле них остановилась полицейская „скорая помощь". Люди с
крестьянскими лицами спросили.
— Что происходит? Кто вам это сделал?
Мальцев видел появившуюся на лице парня слабую бледность и, пересилив боль,
сумел превратить гримасу в улыбку:
— Да вот напоили, хотели, наверное, обобрать — или просто баловались. Вот,
человек помог. Спасибо.
Последнее слово было обращено к беспомощно стоящему рабочему-коммунисту.
Лежа в „скорой", ожидая в больнице результата рентгена, Мальцев
вспомнил. Ветер его предупреждал, а он не понял. Хотя что-то в Мальцеве
говорило ветру: „Не такой уж я несведущий. Опасность витала, я ее чуял, но
ничего хозяину не сказал. Ему же лучше. Он ведь уже недели две мучается. Теперь
все разрешилось само собой".
Мальцев решил не возвращаться на завод. Хватит! Да и... его не так давно
вызывали в управление и предупредили, что вскоре нужно ожидать приезда
советской делегации. Тогда Мальцев просто кивнул головой, но вернулся он в цех
с холодными потрохами. „Не для того я... Так-то оно так, но...". Теперь,
приняв решение, он тут же подумал, что он не стал бы никогда помогать власти,
от которой ушел и которую не любил.
Ныло тело, боль и запахи начали все крепче разносить усталость. В запахе
больных людей всегда таится душок умирания.
Врач говорил, будто спор выиграл:
— Ну, вот, молодой человек, два ребра у вас — крак! Хорошо, что только
нижние сломали. А на черепе просто пустяковина. Болит?
— Голова гудит. Но тошноты нет. Врач рассмеялся:
— А вы знаток. Сотрясения у вас, действительно, нет. Полежите у нас
несколько дней — и все устроится.
Тени болезней, запах больницы вызвали душевную изжогу. ,,А сколько
капиталисты возьмут за лечение?"
Он замотал головой:
— Нет. Не останусь. Пойду домой. Не люблю больниц.
Врач не настаивал, но предложил все же подписать какую-то бюрократическую
бумаженцию... чтоб в случае чего ответа ни перед кем не держать — так понял
Мальцев последние действия врача. Они и были ему понятнее всего. Полицейские
удивили Мальцева гораздо больше: они были непривычно вежливы. С круглыми от
короткой стрижки головами они казались ему большими детьми. "Черт! Как они
умудряются поддерживать порядок? Даже не обыскали". Они записали фамилию,
адрес. Вели себя так, что в Мальцеве привычное ощущение беспомощности перед
властью чуть не дало трещину. „Они все приняли на слово. Даже(!) не проверили
документы". Добрая тетка сжала толстым бинтом ребра Мальцева, но он ее не
поблагодарил, хотя и подумал о необходимости быть вежливым. Он промолчал, сжал
зубы и пошел, не оборачиваясь, к выходу. Мальцев в эту минуту хотел бить по
щекам все эти... эти демократии. Его сначала унизили свободой, а затем ему, не
понимающему ее, ударили по губам и сломали вот ребра. Мальцев решил защититься
от себя и от них.
Всю длинную дорогу ветерок снисходительно трепал его лицо, а Мальцев только
и мог, что опускать голову к груди. Ступеньки, поднимающиеся к чердаку,
издевательски скрипели, и словно не ноги несли Мальцева, а ребра. По лицу
потекло несколько слезинок. Когда он открыл дверь, его встретило одиночество,
одетое во все новое. Мальцев лег, расслабился, подождал ухода боли. Место
заняло шершавое сиротство — оно сидело на люке, рядом, на полу, на обложке, на
которой было написано „Смерть Ивана Ильича", но более всего — на висевшей
на голой стене грязной кастрюльке. Там сиротство странно шушукало.
„Где-то сквозняк, где-то сквозняк". Нужно было встать и тронуть
пальцем черное железо. Но он только взглянул спокойно вокруг: „Ну и
пусть", — и впал в легкое забытье.
Из забытья Мальцева вытащил стук в дверь и голос:
— Есть тут кто-нибудь?
Он прохрипел:
— Нет никого! Ни...
Привыкшими к темноте глазами он молча наблюдал, как Бриджит искала
выключатель. Прищурившись от света, не заметил ни ее приближения, ни как она
разглядывала бинт на груди. У него кружилась голова, хотелось плакать, и от
жалости к себе, и от раздражения к этой скульбе по себе.
Бриджит села совсем около его груди. Топчан не шевельнулся, но по нему к
Мальцеву пошла Бриджитина теплота. Он сильно задышал, скривился. „Ребрам-то
плевать".
— Что случилось? Кто тебе это сделал?
Он повернул лицо, но ничего не увидел, только ее запах показался ему очень
красивым и нежным. Ветер дул из кастрюльки, на которой сидело одиночество, и
дул теперь так, что Бриджитины теплота и запах смешивались, входили в него,
пробивались дальше до счастья. Мальцев пробормотал:
— Чего, а? Чего?
— Что с тобой? Я же Бриджит Булон. Ты что, по-русски со мной
разговариваешь?.. Да у тебя жар!
Холодная ладошка коснулась век, и Мальцев на этот раз рассмотрел трещинки
на пальцах и сквозь щели пальцев — Бриджит.
— Привет. Каким ветром тебя ко мне занесло? Как поживает твой отец?
— Не знаю и знать не хочу. Ну?
Мальцев показал зубы:
— Чего ты нукаешь. Я не лошадь. Случилось, что меня лягнула ставшая на
голову демократия.
Бриджит слушала внимательно. Не улыбаясь. Не смеясь. Сказала задумчиво:
— Тебя ведь могли убить. Вот попал бы между рабочими и мусорами — и все!
Как ты до такого додумался? Пошел один на профсоюз! Таких иностранцев у нас
нет. Вы что там думаете?
— О многом думаем, о многом догадываемся, кое-что знаем. Интеллигенты — не
все, некоторые, — думают, например, что свобода — это прекрасно. Другие —
многие, но не имеющие времени для мыслей, — думают, что свобода — это выгодно.
— А ты что думаешь?
— Что выгодно.
— А!
— Я и хотел сегодня воспользоваться свободой. Но пока вот выходит обратное.
Я всю жизнь провел в утопии наоборот — и ничего. А тут мне сразу захотелось
быть умнее... не понимаешь? Я, в сущности, по-марксистски отнесся к вашей
демократии. Захотелось заработать, чтоб с тобой на пляже позагорать. Вот и
заработал.
Бриджит мягко и осторожно погладила его по щеке:
— У тебя жар. Не сердись, все пройдет, увидишь. Я тебя не оставлю одного. У
меня каникулы. Да и вообще, к черту университет.
Она нагнулась, положила вторую руку на лоб. Получилось — обняла его голову.
Мальцев захотел сказать, что она ничего не понимает, но Бриджит начала тихо
уговаривать:
— Успокойся. Ты просто еще многого из нашей жизни не знаешь, — (Мальцев
встрепенулся, вспомнил вечер знакомства с ней, колдовство, и сразу ослабел,
видя всем своим существом приближение необходимого), — все это придет. Что там
у тебя точно?
— Сломаны ребра да череп еще тихонько трясется. В больнице сказали, что
ничего страшного. Хотели меня там оставить, но я ушел.
— Ты правду говоришь? Почему ты не остался?
— Правду, правду. Она, впрочем, стоит три копейки, но это ничего. Не люблю
больницы, воняет душами. Не обращай внимания, это я зря пошутил. Но, если
позволишь сказать честную банальность, твой запах я люблю.
Он обнял ее — от боли по лицу поползли желваки. Руки Бриджит почувствовали
эту боль. Это было так неожиданно, что она прижалась к этому русскому, чтоб он
не так напрягал руки и грудь.
Не покидавшие его враждебные мысли к миру огибали Бриджит. Она
сопротивлялась долго, но едва уловимыми движениями. Два раза он видел ее усилия
— она хотела и не могла убежать. Пальцы сжимали его руки, но не дергали их,
зная, что закричит он, отпустит ее и сам скрючится. Раскаленные ребра его стали
нервами, по которым била ее борьба. Руки у нее только раз задрожали, когда она
стала звать его движениями бедер. В Мальцеве все росла радость, боль только
царапалась, скользила. Он чуть не сказал: „Я тебя люблю".
Мальцев был покрыт холодным потом и должно быть сверкал бы на солнце.
Бриджит пошарила рукой, так, чтобы он не заметил, по полотну под ними. Ничего.
Она поискала еще. Ничего. Она изумилась, но еще более обрадовалась.
— Что ты ищешь?
— Тебя.
Бриджит была совершенно потеряна, искала в себе понимание случившегося. Он
заинтересовал ее, этот советский, русский. Странный! Был бы худым, все равно
казался бы тяжелым. Когда он в тот вечер у нее дома сел в кресло, все вокруг
него показалось воздушным. В нем была — казалось, можно ее тронуть — густая
сосредоточенность. На его лице бродила неподвижность — она чаще всего лежала на
лбу и щеках.
Когда его ударили, он искренне рассмеялся. Советский... он же европеец и —
совершенно чужой. В нем есть нечто резко расходящееся, принадлежащее к двум
разным мирам. Кто на него в Париже обратит внимание? Никто. Она о нем забыла
быстро — трудно, да и не хочется долго думать о странностях незнакомых людей.
Но нечто осталось — с ним было интересно. Только обедая с отцом, Бриджит захотела
вновь увидеть Мальцева.
— Да, был у меня твой советский парень. Ни-чего-о.
В глазах сенатора Булона появилось незнакомое дочери выражение.
— Не хочу его больше видеть. Когда-то я очень любил его мать. Он на нее
внешне похож, но, кроме этого, — ничего. Груб, хам. Он спокойно и презрительно
интересовался...
— Чем?
— А? Да так... ерунда. Но я не хочу его больше видеть. Ясно?
В тот же вечер Бриджит пошла к Мальцеву: „Стоит повидать того, кто такое
сотворил со стариком Булоном". Менее всего она думала о Мальцеве как о
мужчине, — толкало любопытство, хотелось расспросить о женщине, влюбившей в
себя никого не любившего Булона, старого скептика.
Святослав лежал в своей конуре раненый, беспомощный — но и сильный. Бриджит
никогда не боялась стать женщиной, и если долетела до своих двадцати одного
года девственницей, то только потому, что считала банальным вот так отдаться
какому-нибудь кретину. Да и страсть делала людей либо мелкими хищниками — лишь
бы укусить, либо слизняками — взгляд расползался, покрывался маслом. К этому
прибавилось в свое время неудобство быть совершеннолетней девственницей. Она
была уверена, что ее первый мужчина посмеется над ней, всем расскажет,
повторит... как он испачкался с этой дурой, с ней. И не горело потому ее тело,
не требовало любви.
Бриджит взглянула исподтишка: Святослав стоял голый у люка, что-то говорил
по-русски ночи, подмигивал. Он был такой, какими бывают люди, внезапно
закончившие долголетнюю работу. Она еще поискала нетерпеливой рукой — на
простыне крови не было. Святослав был далеко от нее, в десятке сантиметров.
Поздно ночью случилось для нее удивительное: она пожалела, что храпящий
рядом мужчина не знает, что он — первый.
Глава седьмая
САМОСУД
Даже сломанные ребра не могли омрачить радугу в Мальцеве: „Вот так Булониха!
Бриджит. По правде, совершенно дурацкое имя. Эх, даже не вздохнешь полной
грудью из-за этих ребер! Но какова женщина, ни лишнего движения, ни лишнего
слова. Что это она со мной такое сделала? Да, побили меня французы, побили.
Сначала свободой оглушили, затем в морду дали, потом ребра сломали. Добила же
меня вот эта девчонка. Не влюбился ли я? Во француженку, представительницу
гнилого Запада, дочку капиталиста, сенатора?".
Мальцев расхохотался, но боль пониже подмышки пихнула смех к стону.
Святослав погладил локтем бинт: „Что вы, ребрушки, за Бриджит обиделись? Я ж
шутейно. Не бойтесь, она для меня самое что ни есть светлое". Он лег щекой
на место, где еще недавно было ее тело. Ощущение полного счастья длилось на
этот раз дольше, чем ночью, — тогда мешало стремление овладеть ее телом, и не
оставить никому и кусочка, даже воздуху. Он ласкал, не щадя ни себя, ни ее.
Теперь Святослав чувствовал, что, обладая Бриджит, он на деле прятался за нее,
что влюбился в нее, чтоб отдать в жертву, кинуть в пасть преследующим его с
детства вопросам: что делать и кто виноват? Чтоб не искать больше, чтоб забыть.
Мальцев с беспокоиством ощущал эти мысли, но прочесть их не мог.
От счастья уже давно не было и следа, когда он вспомнил о записочке Тани.
Нашел под дверью: „Приходи немедленно. Ты мне нужен по очень важному
делу". „Бедная Таня, — подумал самодовольно Мальцев. — Нашла бы себе
кого-нибудь. Чего там". В конце концов Бриджит должна была прийти только
вечером, день впереди был цел и пуст.
На дворе лето горело вовсю — синий свинец над головой, пучившийся асфальт
под ногами. „За городом умирает от жары трава, валяются дохлые кузнечики, а мне
все равно хорошо". Мальцев был впрямь радостно спокоен, как корова,
вылезшая из трясины на сочный луг, и ему казалось, что он будет теперь вот так
вечно жевать жизнь.
Лицо Тани было покрыто мелкими кровоподтеками, раздутая щека подпирала
глаз, в котором поблескивал страх. Мальцев машинально положил руки на то место,
под которым начинали срастаться ребра. Подумав, что покой нам только снится, он
спросил:
— Что случилось? Кто тебе это сделал? Бывает хуже.
Таня смотрела на него с ненавистью. Он ее бросил, нашел себе, наверное,
другую. А ее, беременную, избили. Вдруг она заметила на его губах
снисходительную улыбку. Поперхнувшись от резкого рыдания, Таня яростно
выпалила:
— Что? Некрасивой стала, перестала нравиться, да? Тебя любят, а тебе все
равно, да? Да! Сволочь! советская! Ничего от тебя не хочу. Еще не поздно.
Мальцев испугался. „Э-э, дело пахнет керосином. Еще немного, и она из меня
сделает мерзавца. Пора переходить в контрнаступление". Он подошел,
схватил, прижал ее к себе и сильно крикнул от боли.
— Что с тобой, почему ты так побледнел? Мальцев расстегнул рубашку, показал
бинт:
— Ребра мне сломали.
— Он?
— Кто?
— Ты разве не знаешь?
— Нет. Только знаю, что лежал на своем чердаке в жару и думал о тебе.
Трудно мне без тебя, ты же знаешь. Но пока не буду достаточно зарабатывать,
жить вместе не будем. Успокойся.
Она расслабилась, и слезы ее стали легкими:
— Вчера пришел какой-то высокий человек и попросил у меня твой адрес. Я
спросила, кто он; вместо ответа он стал меня бить... ничего я ему не сказала.
Уходя предупредил, что тебя все равно найдет... мне было так страшно.
Мальцев поцеловал мокрые щеки, глаза. „Черт, неужели она меня действительно
любит. Совсем спятила баба. Фью".
Таня прижалась к его здоровому боку. „Ишь ты". Он уже почти чувствовал
себя покровителем этого слабого существа — и вообще было чертовски приятно, что
в этой чужой стране его любили одновременно две женщины... Но внезапно его
пронизала мысль: „Я же жертва, меня ведь преследуют. Меня будут снова бить,
может быть, даже убьют". Он мгновенно забыл и о Тане, и о Бриджит.
Мальцев стоял посреди комнаты и под удивленным взглядом Тани прислушивался
к себе. Нет, не страх, а злобная решительность овладела им. „Да-да, нет добра
на свете". Уходило наваждение. Волшебство Бриджит ослабло. „Кто? КГБ? Уже
ищет предателя родины, незаконно покинувшего пределы социалистического
государства? Нет, больно уж грубая работа... высокий... Синев! Конечно же,
Синев! Французский болгарин. Не посадили его значит, выплыл. Ай-яй-яй, как
нехорошо". Таня видела: Святослав показывал зубы волчьим движением губ.
Глаза сузились, как от улыбки. Он был страшнее, чем тот, длинный. Может, со
временем она смягчит его. Он успокоится. Правы были отец и мать, когда
говорили, что большевики — звери. Вот что они сделали с ее Святославом! Он же
пропадет без нее. Только он этого не знает. И пусть не знает.
— Ты в полицию заявляла?
— Нет.
— Почему?
— Ты что меня допрашиваешь. За тебя боялась, вот почему.
— Не знала, кто прав, а кто виноват? Не плачь, не плачь, я пошутил. Только
нехорошо это, что я с тобою говорю по-русски, а ты мне отвечаешь по-французски.
Она смущенно улыбнулась:
— Ничего, зато дети двуязычными будут.
„Все туда клонит". Мальцев вновь обнял Таню. Подумал: „Да и лучший
способ от нее избавиться — ее спасти. Ну ладно, за зуб оторвем всю
челюсть".
— Ты у меня мужественная. Кстати, я у тебя видел толстый посох из железного
дерева. Он есть еще... нет, что ты! Ребра болят, ходить трудно. Что же касается
этого мерзавца, не знаю, кто он такой, но больше тревожить тебя он не будет.
Танин голос взял озноб:
— Что ты хочешь сделать? Ты болен, останься.
— Нет. Мне нужно уйти, я, может, даже на время уеду из Парижа. Кстати, я
теперь безработный, так что, ежели найдешь что-нибудь для меня, буду
благодарен. Только на больших предприятиях пахать больше не буду — сыт.
Озноб перекинулся на тело — это Мальцев отметил с удовлетворением. „Как я
ее все-таки охмурил". Пока Таня ходила за палкой, Мальцев выпил водки,
почистил и укрепил принятое решение. „Другого выхода нет". Старый
красноватый посох весил около пяти килограммов. Мальцев обрадовался его весу и,
опираясь на него сильнее необходимого, пошел к выходу.
— Я буду ждать тебя.
Он подумал, что можно было обойтись без этого патетического прощания.
Мальцев насильственно улыбнулся ей.
На улице его ждал человек. Скрипнув от боли зубами, Мальцев крепче сжал
палку, но увидев на лице подходящего к нему парня покорность и просьбу,
расслабил мышцы.
— Вы — советский? Вы — Святослав? Простите, это я отнес вам записку от
Тани...
— Кто вы такой?
— Русский я, только по-русски не говорю. Игорь Коротков. Мы с Таней с
детства дружим... Я вам правду скажу — не знаю, чем вы ее взяли, но несчастна
она с вами... Я не буду драться с вами, только прошу — оставьте ее в покое.
„Да бери ты ее со всеми потрохами". Эта мысль позабавила Мальцева. Он
повнимательней взглянул на стоящего перед ним человека. Тонкий, скорее хрупкий.
Открытый взгляд угольных глаз. Нервные движения, но в их быстроте была
уверенность в своей правоте. В общем, это был открытый, честный и влюбленный
человек. „Начитался, олух, Труайя".
Мальцев усмехнулся:
— Действительно, драться не стоит, у нас явно разные весовые категории. Вы
Таню любите?
— Можно и так сказать. Я живу с ней, но к вам она испытывает болезненное
чувство.
Мальцев ощутил себя сразу меньше, гнусней собеседника. Нужно было
освободиться от этого, не время было ходить с гадостным чувством к себе.
— Вы, небось, из знатной семьи?
— Да... как будто... но какое это име...
— Это мое дело.
„В случае чего, руки мне бы не подал. Белоручка. Строит из себя
Ромео". Из этого нарочитого размышления что-то все-таки вышло. Этот парень
не мог ему быть несимпатичным. Но сама жизнь ему давала и дает возможность быть
благородным, а этого Мальцев простить не мог:
— Я за Таней не ухаживал, она сама ко мне лезет. („Боже, какая грязь! Чего
не сделаешь, чтобы унизить ближнего своего!") Может, ей хочется говорить в
кровати по-русски. Спокойней, я вам уже говорил о весовых категориях! Оставьте
пылкие чувства для Тани. Постарайтесь завоевать ее, вот, например, расскажите
ей о нашем разговоре. Желаю успеха. У меня дела поважнее...
Мальцев отошел, и вдруг от только что совершенного у него стало в груди
больно. Сила, должно быть совести, согнула его, выпрямила и снова согнула. Он
нажал пальцами на больные ребра. Совесть слегка отступила. Тогда с облегчением
стукнул — внутренний молчаливый крик стер стоящий перед глазами контур
содеянного. „Что делать, жизнь прожить — не поле перейти".
Оставив дома записку: „Жди меня, и я вернусь", — Мальцев направился к
дому Синева. Он не испытывал к нему злобы — потому и было ему неприятно сделать
то, что задумано.
Но Синева нужно было убрать, иначе спокойствие будет действительно только
сниться. Он это понимал, как понимал и действия Синева. Как раз это понимание
не давало возможности французскому болгарину избежать своей судьбы.
Мальцев сел в кафе напротив дома Синева и приготовился к долгому ожиданию.
Синев мог уехать, заболеть, переменить квартиру, наконец. Мальцев не успел
пожалеть об отсутствии прописки в этой стране — из дома вышел Синев; он весело
наполнял руки плечами, талией, шеей сопровождающей его женщины. Начинал
приближаться длинный летний вечер. Глядя им вслед, Мальцев думал без всякой
иронии, даже как бы ободрял Синева: „Погуляй напоследок, хорошо погуляй".
Но что французский болгарин был так рад жизни, озаботило его. Это наверняка
означало, что Синев вернется не один. От мысли испугать его спутницу Мальцев сразу
и бесповоротно отказался. Уйдя в поиск решения, он выронил тяжелую палку: стук,
похожий на стук в дверь, повернул к себе голову Мальцева. „Условный рефлекс.
Конечно. Что делает человек в своем парадном? Смотрит, нет ли писем".
Мальцев перешел в другое кафе, по дороге купил пачку конвертов. День начинал
сильнее темнеть. Опрокидывая стопочки водки и смакуя коньяк, Мальцев размышлял
о том, как с годами становится, должно быть, жестче к людям. Но что делать,
если Синев совершил глупость — напал не на него, а на безвинную Таню? Глупость
ли? Может быть, Синев хотел ему нанести психологический удар? Был случай в
жизни Мальцева, когда противник его обезоружил вот так, психологическим ударом.
Шел ему тогда семнадцатый год. Увлекся он в ту пору теорией правого
коммунизма и превозносил Бухарина до небес. С троцкистом и старым другом Костей
они спорили тогда до хрипоты, до кулаков. Уехав за длинным рублем на целину,
Мальцев продолжал с ним ссориться в письмах. Половину двухкомнатной квартиры
Кости занимала его сестра с мужем и тремя детьми. Муж сестры, маленький
серенький человечек, работал чернорабочим в пекарне, зарабатывал гроши, пил
только самогон и уже лет десять, как безуспешно умолял горсовет дать ему
квартиру. Костя не понимал, почему сестра вышла замуж за такое ничтожество, а
Мальцев понимал — чтобы властвовать.
Этот забитый человечек нашел письма Мальцева и тотчас отнес их в КГБ. Через
три недели после возвращения Мальцев получил повестку и пошел, обмирая, а
главное, ломая себе голову о причинах вызова. Офицер с университетским ромбиком
поговорил с Мальцевым о жизни, о политике, расставляя кое-где довольно грубые
ловушки, и, наконец, когда тот начинал уже серьезно холодеть, положил на стол
его письма:
— Послушайте, вы хоть и рабочий, но, я знаю, интеллигентный человек. Как
интеллигентный человек интеллигентному, скажу вам: я вас понимаю. Сам прошел
через это. Согласитесь, что теперь мало кто может поговорить о Бухарине. Но...
ай-яй-яй, писать вот такие письма. Как неосторожно. Я вам советую, забудьте
Бухарина, по крайней мере, не пишите о нем. Для вашего блага вам так говорю.
Сегодня вы спокойно покинете этот кабинет. Но мы будем помнить о вас. Вы не
хуже моего знаете, что Николай Иванович не реабилитирован.
Ужас в Мальцеве сменился ненавистью: „Кто? Кто!? Кто!!! Какая сволочь его
выдала? Костя не мог, следовательно... это ничтожество? Не может быть! А все
же..."
— Товарищ майор, а кто вам мои письма принес? Воротков?
Мальцев знал, что офицер не скажет, поэтому, спрашивая, искал ответа только
в глазах. Они машинально ответили „да". Сам же майор насмешливо развел
руками:
— Не ждал я от вас такой грубой работы. Сами знаете, государственная тайна.
Да у нас сама конституция гарантирует тайну переписки. Разве не знаете?
Офицер — Мальцеву уже казалось — у майора много морщин — рассмеялся своей
шутке.
Затем, прекратив смех движением рта, он спросил:
— А почему вы такой бледный?
— Душно.
— Что вы, у меня в кабинете всегда прохладно... Подумайте, если бы эти
письма к нам пришли, когда еще жил Иосиф Виссарионович, то...
Мальцев договорил за него взглядом: „Знаю, был бы расстрелян". Офицер
ответил ему взглядом: „Это была бы еще не худшая из бед". И Мальцев
потупил глаза: „...Да...".
Майор неопределенного возраста сказал Мальцеву на прощанье:
— Вы интеллигентный человек. Так подумайте. Для чего вам жизнь портить. Она
у вас впереди. На всякий случай с вами не прощаюсь. До свидания.
Вечером того же дня Мальцев подождал, пока Воротков пойдет в ночную смену.
Он думал, глядя на плюгавого человека, шаркающего подошвами ботинок по асфальту
безлюдной улицы: „Раздавлю как гадину. Гадина и есть. Убью. Неизвестно,
скольких он уже продал".
Его трясло. Что-то похожее на кровь стояло перед глазами.
Воротков оказался как бы вздернутым на два крюка. Он бил своими тонкими
руками по плечам Мальцева. В его жестах было много девичье-беспомощного.
— Что? Узнаешь, сука?! Узнаешь!
Кулак уже поднялся, уже искал самое чувствительное место на лице человека,
но Воротков перестал сопротивляться. Мальцев видел, как мелкие и остренькие
черты его лица набирали величия. Глазенки сверкнули:
— Сам ты сука. Предатель Родины. Против советской власти пошел! Да, я это
сделал, я. Ну, бей, убивай. Все равно буду бороться против таких предателей,
как ты. Чего ждешь, бей!
Совсем молодой тогда Мальцев сильно изумился, развел руками — Воротков
выпал из них. Совершенно ошеломленный, Мальцев спросил:
— Ну чего ты ее защищаешь, советскую власть? Чего? Что она тебе дала?
Живешь хуже собаки, твои дети мясо видят раз в три месяца, ютишься с семьей во
вшивой клетушке. А на работе, а? Мордуют тебя, гонят вот в ночную, а платят —
негры в Африке больше зарабатывают. Да я же получаю в три раза больше тебя.
Скажи, ты хоть раз ездил в отпуск к морю, в горы? Молчишь? Нет у тебя никаких
прав, только обязанности, тебя ежедневно унижают, оскорбляют, а ты ее
защищаешь. Ну чего, чего?!
На это Воротков ответил:
— Ты — враг советской власти.
Мальцев потряс его:
— Проститутка попугайская. Заладил. Да ты котелком повари. Чертов
недоносок.
Все было тщетно. Чем сильнее тряс и оскорблял его Мальцев, тем более
Воротков тянулся к венцу мученика. Вконец обескураженный, не знающий, что и
думать, Мальцев рассеянно подтолкнул человечка:
— А, иди ты на ...
Отошедший Воротков закричал:
— Ты, контра, так не отделаешься! Подохнешь там, где тебе положено, — в
лагере!
Не раз Мальцев вспоминал Вороткова и пытался понять его. Этот обычный в
сущности советский человечишка не был идейным, и советскую власть он не любил,
и даже высмеивал ее иногда в анекдотах. Он, как все, обворовывал государство,
как мог, — пекарня давала ему все же какие-то возможности. И Воротков не был из
тех, кто думал, что „человек" — это звучит уродливо. Он был самым что ни
есть середняком. В конце концов материалист Мальцев сказал себе, что очевидно в
каждом человеке есть метафизическая пустота, которую он стремится наполнить
своим духовным „я", и что „я" духовное должно быть больше „я"
бытового — каким бы ни было бытие. И Мальцев решил, что Воротков на него донес
в КГБ, чтобы наполнить свою метафизическую пустоту, и по той же причине так
героически ему противостоял. Поняв Вороткова и связанную с ним истину, Мальцев
искренне пожалел, что не убил его. Хотя, что мог сделать другого Воротков?
Обласкать своих плохо обутых и не имеющих игрушек детей, которые завидовали
другим детям и потому не любили отца? Дать десять копеек нищему, чтобы их
пропил нищий, а не он, Воротков? Обнимать жену, которая приказывала ему это
делать?
Стоя на парижской улице, Мальцев долго не мог понять: почему всплыло именно
это воспоминание? Понял. Чтобы сравнить Синева с Воротковым, и уйти, сразу, не
оглядываясь. Синев честнее. Он весь наружу со своим желанием отплатить сволочи,
предавшей его в ответ на доброту, за то, что приютил, накормил, денег дал,
женщин. Не любит человек быть одураченным, да еще так похабно. Может, уйти и
подождать, пока Синев нападет? Не брать греха на душу?
Ночь как бы почистила парижскую улицу. В темноте дома казались более
стройными, люди — более изящными. Нигде не было запаха опасности. Подождать
французского болгарина, отдать ему деньги, сказать, что может продать он
миллион тонн наркотиков, ему, Мальцеву, все равно... Сказать, что им делить
нечего. Он считал советского эмигранта добродушным тупицей, сырьем, из которого
можно сварганить что угодно, негром, попавшим впервые в цивилизацию...
„Э-э, траву я курил, когда за тобой еще мама бегала, чтоб не простудился. А
использовать дурачков у нас умеют — не вам чета. Это я бы мог дать тебе пару
уроков психологии. Сопляк".
Было бы дело в Союзе, Мальцев ушел бы. Все равно живешь в напряжении —
немного меньше, немного больше, какая разница. Ну я тебя, ну ты меня. Все равно
свобода да богатство дальше, чем пайка и лагерь.
Но здесь Мальцев хотел стать частью окружающего его спокойствия. Здесь он
хотел отвыкнуть жить в ожидании удара — кулаком, кастетом, законом. Нет, Синева
нужно выбить из колеи — хотя бы на несколько месяцев. А там видно будет.
Мальцев проник в подъезд, бросил несколько пустых конвертов в почтовый
ящик, концом палки так погнул дверцу, чтобы ключ не влез в замок, и спрятался в
конце коридора, за углом, там, где дверь вела в подвал. Быстро обследовав
ходы-выходы, он убедился, что на улицу вела только парадная. „Как говорят
милиционеры в Союзе: к нам войти — ворота широки, а вот выйти — узки". В
течение долгого времени Мальцев изучал расположение электрической кнопки,
открывающей спасительную дверь. Затем выключил мысли.
Синев размашисто вошел в подъезд, к его боку устало прижималась девушка.
Синев прошел мимо почтовых ящиков, хмыкнул, попытался открыть свой ящик,
выругался:
— Б... Какие-то сволочи погнули дверцу! — Повозился. Проворчал девице: —
Чего вылупилась? Иди, иди, нечего тебе тут делать. Пшла!
Мальцев ждал. Когда услышал захлопывающуюся дверь, стал бочком подбираться
к Синеву — тот старался руками отогнуть дверцу. На стене холодно горела
лампочка. Мальцев, держа дыхание, чувствуя в себе спокойный мороз, ударил по
ней палкой. Вместе со звоном и темнотой крутнулось тело Синева. Рука Мальцева
повисла — ожог от ножа пронзил ее, испугал, заставил Мальцева отпрыгнуть, но он
мгновенно сумел обрести над собой контроль. Дыхание не вырвалось из груди. Он
продолжал ждать. Из темноты пришел победный хрип. „Почувствовал, зверь, кровь
на ноже". Мальцев изо всех сил ударил на хрип тяжелой палкой, изменив по
пути траекторию так, чтобы зверя не смог спасти предупредительный свист оружия.
Синев упал; вместе с ним, крикнув от боли в ребрах, упал Мальцев. Где-то
раздался шум, хлопнули двери. Вскочив на ноги, Мальцев споткнулся о тело,
саданул его палкой несколько раз — удары были, как о матрац, нашел вслепую (с
первого тыканья) нужную кнопку, вышел на улицу, прижал к груди палку, низко
нагнул голову и пошел медленно, куда глаза глядят. От страха он больше часа
заставлял себя не торопиться. Вокруг было пусто, сонно. Из его руки лениво
сочилась красная жизнь, больные ребра напоминали о себе толчками. Губы Мальцева
зашевелились. Если б у асфальта были уши, он услышал бы тягуче-жалобное:
„Мама". Мальцев не заметил этого своего слова, не понял движения своих
губ, не разобрал глубины безнадежности в себе.
Посидев в милом скверике, он перевязал руку платком. Успокоился. Подумал о
Синеве: „Гад. Контра. Настоящий урка. Небось, килограммами свою гадость детям
продавал". Мальцев осветил конец палки зажигалкой. Он был в крови. Хватило
пучка травы. „Лучше, чтобы он, а не я лежал в больнице — или в морге. Что это
со мной? Будто за мной вина какая! Запад-Запад, он, не иначе, как он,
заставляет нюни распускать. Синев избил Таню, а по закону следовало, видите ли,
чтобы он избил или убил меня и чтобы я потом искал доказательства. Дудки!
Иногда нарушить закон безопаснее, чем ему подчиниться. Кто-кто, а мы,
советские, это знаем. Синев — не знал, что я знаю. Тем хуже для него. Да и
вообще ему со мной не везет".
Это была последняя мысль Мальцева о Синеве. И он сразу вспомнил о Бриджит.
„Может, еще ждет? Господи, есть Ты или нет Тебя, — сделай, чтоб ждала! Я устал,
истощен. Мне хочется покоя. Для этого приехал в эту страну. Она меня встретила
свободой, да я никак не могу стать свободным человеком. Все борюсь с собой. Я
устал. Пусть Бриджит будет для меня наименьшим злом и пусть свобода оставит
меня на месяц в покое. Дай!"
Провидение послало ему такси, в нем он вспомнил о любовнике Тани и
рассмеялся, спокойно, даже нежно, как о грустноватом прошлом.
На чердаке Промысл оставил ему спящую Бриджит. Может, и много нужно
человеку для счастья — но в эту ночь Мальцев во всяком случае его обрел легко.
Глава восьмая
ЛЮБОВЬ ФРАНЦУЖЕНКИ
Найдя записку Мальцева и повертев ключом, Бриджит собралась, было, пожать
плечами и уйти, но непонятность написанного — „Жди меня, и я вернусь" —
запретила ей это сделать. Слова были написаны по-французски, без ошибок, каждое
слово было ясным и понятным, но вместе они составляли что-то темное и странное,
как сам Святослав. Когда он вернется? В десять? В двенадцать? „Жди" и
„вернусь" стояли слишком близко друг к другу, и Бриджит захотела ощутить
их странную недоговоренность, их русскую мистику. Она сразу подумала о
существовании в Мальцеве таинственной славянской души, и спокойствие вернулось
к ней. Славянская душа — это было привычно, доступно, внятно. Понятие это
ничего и вместе с тем все объясняло. На чердаке Бриджит долго разглядывала
приколотые к косой стене фотографии Ленина и Сталина. Она встречала в жизни,
особенно в университете, парней и девиц всевозможных политических воззрений. У
многих из них тоже висели дома ленины и сталины. Но они любили их или
преклонялись перед ними, цитировали их произведения. А Святослав, она это
знала, был антикоммунистом. Так почему же? Других фотографий не было. Зачем
прикреплять к стене фотографии своих врагов?
Она легла и призналась себе, что Мальцев утомляет ее. Даже — когда молчит.
От него постоянно веяло массивной мрачностью, за всем, что бы он ни делал или
говорил, тянулся вкус морского тумана. Бриджит знала, что она никогда к этому
не привыкнет, что вряд ли жить им вместе. Когда она думала о Святославе, в
голове варилась каша из медведей, цыган, революций, царей, мужиков, броненосцев
Потемкиных, толстых, троек, татар, водки, закусок. Подобная чепуха, близкая
разве что мещанам, раздражала, бесила даже, но ничего кроме нее и вездесущей
славянской души не хотело прийти к ней, жаждущей понять Святослава. Уснула
Бриджит довольно быстро и проснулась от его стона. Мысль, простая, нежная,
будто она жена его давным-давно, пришла сама собой: „повернулся на больной
бок". Тихонько встала, включила свет и безмолвно ахнула: из руки тяжело
спящего Святослава шла кровь. „Он революционер!" Сначала ребра, теперь
рука! Мысль, что Мальцев может быть нечестным человеком, бандитом, не коснулась
взбудораженной Бриджит. „Да, но получается, что он... что он
антикоммунистический революционер!" Она никогда о подобном не слышала, и
Бриджит почувствовала восторг от того, что Святослав стоит вне закона; от того,
что спрячет его, вылечит; от того, что она придумала такое название —
антикоммунистический революционер, и еще от того, что этот особый человек — ее
первый мужчина. Она молча, гордясь безмолвностью, промыла резаную рану,
обмотала ее куском своей рубашки, затем разбудила, обняла Мальцева и отпустила
его из рук много времени спустя. Они лежали, теплым молчанием благодарили друг
друга за радость в необычайной ночи. Он с грустью всколыхнул воздух:
— Напали, понимаешь, хулиганы. Не знал я, что у вас в Париже ночью так
шумно. Их было двое... часы хотели снять, бумажник тоже самое. Не дался, и вот
— порезали.
Бриджит кивала головой и растроганно думала: „Давай, старик, ври дальше. Ты
будешь притворяться, я буду притворяться — и все будут рады. Давай,
давай".
— Надоело мне все это, устал. Деньги у меня еще есть... давай поедем к морю
на недельку-другую. Очень уж хочется. А?
— Давай, давай.
— Что?
Бриджит прижала голову этого советского, которого любила, к груди. Она была
уверена, что спасет его. „Не дам его".
Она трагически выгнула руки, пробежала пальцами по тяжелому лицу, наклонилась,
чтобы скрыть его от мира:
— Конечно. Тебе надо отдохнуть. У нас дачка есть в Вандее, на самом берегу
океана. Ты машину водишь?
— Еще во дворце пионеров научили, в армии доучили. Но прав у меня нет.
— Не беспокойся, это я так спросила. Сама буду вести. А в Вандее ты был?
Там, знаешь, красиво. Он грустно усмехнулся:
— Нет, не был, но знаю: шуаны, Фротте, Кадудаль, битва при Шоле. Ну и синий
террор, маленький, милый, убивавший людей, а не рынок, не товаро-денежные
отношения. Понимаешь?
Бриджит не понимала и, в общем, думала, что сам Святослав не понимает того,
что говорит.
Он махнул рукой:
— Ладно. Все это ерунда. Спасибо тебе. Когда едем?
— Завтра. А теперь спи.
Он рухнул в сон. Бриджит смотрела на него, бледного от потери крови, и
жалела, и боялась его. Но сильнее всего была нежность к этому странному
человеку. Ей все казалось, что она любит, не может не любить.
* * *
Автострада не произвела на Мальцева сильного впечатления — Бриджит отметила
это сразу. Он даже с неудовольствием что-то бурчал по-русски.
— Чего ты?
— Никакого вида. Могли и об эстетике подумать! А еще французы. А в общем,
едем быстро. Бриджит рассмеялась:
— Это потому, что будний день. В выходные и автострады полны.
— Вот-вот, проклятый капитализм.
В голосе была ирония, и ей захотелось его уколоть. Бриджит прибегла к его
же не так давно высказанной мысли:
— Ты мечтаешь о том, что для нас естественно. Мы родились свободными,
поэтому для нас настоящая свобода там, где-то впереди.
Бриджит наслаждалась его замешательством. Он взглянул на нее с восхищением,
и ей стало еще сладостней. В ладонях, лежащих на руле, защекотало — хотелось
обнять хмурого Мальцева. Он неуклюже сидел, оберегая ребра, глядел на асфальт,
шевелил рукой на перевязи, бубнил свое, раздувал щеки. Он был похож на упавшего
с дерева мальчишку.
После Тура начиналась обычная дорога. Расплачиваясь за проезд по
автостраде, Бриджит машинально прокляла ее:
— Вот сволочи, с каждым годом все дороже. Жрут, жрут и никак не насытятся.
— А ты чего недовольна? Ты же дочь сенатора. Что, денег у тебя нет, что ли?
Бриджит искренне не поняла:
— Причем тут это? Если деньги есть, значит можно не замечать дороговизны?
Тогда бы и денег не было. Пришел бы к нам твой любимый коллективизм. Ладно,
ладно, я пошутила... не сердись, но ты иногда задаешь такие вопросы...
— Ты что, жадная, что ли?
Бриджит не выдержала, расхохоталась так, что машина стала писать зигзаги на
гладкой дороге:
— Ты вправду мальчишка! Ну разве можно такие вопросы задавать. Ой, уморил.
„Он как из другого мира: то старик, то дитя".
Мальцев с неудовольствием сказал:
— Развеселилась. Ты что, разбиться хочешь?
— Ты же не боишься. „Он и в самом деле не боится".
Дача была в двух километрах от океана и высилась среди других домов. Старик
Булон любил холодную воду Атлантики и, в отличие от своих знакомых, не
стремился к Лазурному берегу. Он странен, этот папаша, — заключила Бриджит, —
из-за него ведь она познакомилась со Святославом... который без оживления
оглядел двухэтажное здание и протянул:
— Н-нда, богато живете.
В его голосе послышалась издевка. И тут ничего не выходило! Обычно
иностранцы из бедных стран восхищались, завидовали, из вежливости хвалили...
ощупывали добро глазами, руками, ногами...
Мальцев прошелся по дому, нашел кухню, вернулся в гостиную с суховатым
ломтем хлеба, стал жевать. Поймав ее взгляд, улыбнулся и пробормотал что-то
по-латыни. Бриджит захотелось обнять его и оттолкнуть, понять его и ничего не
понимать. И она отказывалась признаться себе, что мечтает видеть Святослава
французом.
Ночью она пыталась вдавить в себя Святославово тело — глаза перестали
видеть, ум понял, что не нужен. Когда опомнилась, плечо Мальцева кровоточило.
Это была для Бриджит кровь, которую она с опаской искала и не нашла в их первую
ночь.
— Прости. Не знаю, как это... не знаю.
— Ничего. Было не больно.
То, что она из его плеча взяла свою кровь, Бриджит не удивило. Тайна не
нуждалась в пояснении, только в любви. Но что Святослав был одновременно чужим
и самым близким, толкало ее к частому отчаянию.
„Господи, — подумала она, — что я Тебе сделала. Ведь он только ответил,
спокойно, даже равнодушно и оставил меня в тишине. А мне так тяжело".
Ощутив соль в глазах, Бриджит сообразила, что нужно заплакать.
Слезы меняют время и чувство в человеке. Счастливый, плача о горе другого,
непременно уйдет в собственное прошлое и начнет точить слезы о себе.
Бриджит же была только и всего что грустна в любви. Потому-то, плача над
собой, скоро решила использовать оставшиеся слезы. Она всхлипнула, застонала.
Он не шевельнулся. Утомившись плачем, Бриджит легла на Святослава, заглянула и
раздраженно убедилась, что он спит. Под тяжестью ее тела Мальцев лишь
шевельнулся и захрапел.
А к ней сон не торопился. Храп Святослава становился с каждой минутой все
несносней. Бриджит встала, постаралась легко, по-девичьи, подбежать к окну —
вышло неуклюже да еще резанул слух скрип половицы.
Не была она подготовлена к жизни с таким человеком! Все, что он ни делал,
ни говорил, давило на нее, как и его взгляд. Он — чужой.
Бриджит не замечала, что уже который день повторяла эти слова с тайным
желанием убедиться, что они пусты, или хотя бы слабы. А они вот ложились с
прежней отчетливостью и насыщали действительность.
Она быстро открыла окно и глотнула свежей духоты. Мягкий воздух пах вялой
травой. Ничего не чирикало. Она прислушивалась к своему сердцу. Стук должен был
быть тоскливым, бесприветным.
„Если мое сердце имело бы шею, оно бы крутнулось, оглянулось на тот миг,
когда я вошла в мансарду Святослава. Только у сердца нет шеи, у него ничего
нет, кроме счастья с этим, храпящим, как мужик, типом. Но если любовь — светлое
прошлое и задыхающееся настоящее, то и сердце и вся эта история мне уже
надоели. Хорошего понемножку. Завтра же уеду! А там видно будет".
Решив уехать, она уснула как пролетарий. Первое, что Бриджит увидела утром,
было его лицо. Она прижалась к нему, и только за завтраком, увидев открытое
окно, вспомнила и рассердилась на свою слабую волю.
— Мне нужно — я вот только ночью вспомнила — быть дома. Дел невпроворот. И
с учебой, и отцу надо помочь. Хорошо так было, что позабыла обо всем. Ты уж
прости.
Мальцев не моргнул, только взгляд его сделался еще более весомым, чем
обычно. Бриджит, все еще колеблясь, подождала его слов.
Он сказал:
— Память, она по-всякому ошибается. Можно лаской, можно и молотком.
У Бриджит удивленно выравалось:
— Я только что об этом подумала... ну почти. Он крепко сморщил лоб:
— Это иногда бывает. И это всегда о чем-то говорит.
— Да, может быть, — ответила она рассеянно.
Ее поразило, что Святослав отнесся равнодушно к неожиданному ее решению
уехать. Бриджит заставила себя продолжить начатый разговор. Каждое слово было
жалким, и сквозь лохмотья игры повсюду проглядывала ложь. Она была уверена, что
Святослав уже насмехается над ее беспомощностью.
— Останься. Сколько хочешь. Пока выздоровеешь. Ты же еще болен. Деревенский
воздух пойдет тебе на пользу. Запасов еды в этом бараке много. Я вернусь —
уверена, что смогу, — через недельку. В доме есть велосипеды. Осмотришь
окрестности...
— Ты будто извиняешься.
— Нет, но как-то неудобно.
— Неудобно штаны через голову надевать.
— Что? Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего. Хорошо. Спасибо. Останусь на недельку. Только ты скажи соседям, а
то еще за вора примут.
Мальцев некрасиво улыбнулся, но она предпочла увидеть в сказанном шутку и
рассмеялась.
Когда, прощаясь, поцеловала его губы, сомнение вновь затронуло ее. Она
замялась. Мальцев погладил ее по волосам сильно, успокоительно, как это делают
с собаками.
— Ты хочешь что-то спросить? Нужно быстро найти вопрос, пока Святослав не
понял, что ее можно быстро и легко отговорить:
— Да. Почему у тебя висят портреты Сталина и Ленина?
— Ленина и Сталина? — Он растерялся и ответил напыщенно: — Потому что они
большие враги моего народа.
Бриджит толком не расслышала Святославова ответа, чмокнула его в щеку и
быстро уехала.
Проехав километров двести, она решила, что ничего уже не может измениться.
Разве что избавиться ей от наваждения, изменив Святославу. Идея показалась
ей вначале неплохой, но представив придавливающее ее грудь чужое тело, Бриджит
почувствовала резкое желание вернуться к своему раненому русскому. Но она
нажала еще сильнее на педаль акселератора.
Глава девятая
ОТКРОВЕНИЕ
В последующие два дня Мальцев постигал, с каким превеликим трудом мысли
облекаются в словесную оболочку.
Размышления не создавали твердой ткани, такой, когда человек спокойно
разговаривает с самим собой. Нити натянуто тонко визжали и рвались, но без
безнадежной сухости, а оставляя со всех сторон тянувшиеся друг к другу руки.
„Сейчас пойму... себя".
Подобное состояние держалось до вечера. Мальцев читал заголовки всех
попадающихся на глаза книг — думалось машинально, что в Союзе он был бы от них
в восторге: „Только от этой кучи Агаты Кристи и Сименона я был бы счастлив в
Ярославле целый год, не меньше".
С темнотой приходила тоска, густая, и он, решив схитрить со своим мозгом,
уходил во двор разжигать костер. Глядел на пламя. От его желтизны и искр ему
становилось легче: костры везде одинаковы.
Мальцев в сердечной простоте решил, что Бриджит действительно нужно было
уехать — она заранее, конечно, знала об этом, но решила сыграть нужную игру:
увезти его в деревню, дать ему там радость и вылечить заодно. „Они умеют лучше
нашего врать для добра". Мальцев верил, что душа женщины глубже, хрупче и
нежнее внутреннего мира мужчины. Мальцев уже не помнил, почему и откуда пришла
эта вера, но его природа была ею пропитана, и она знала, когда все началось. У
характера человека имеется своя особая память; она спасает мысль от невыгодных
воспоминаний.
Тогда Мальцев был пареньком. Он шел по осенней улице какого-то поселка. Она
напоминала, эта улица, — впрочем, похожая на уйму других, — изнурительную
болезнь, пожалуй, медвежью. К ней, казалось, стекалась грязь мира. Она уходила
из тела улицы во все возможные дыры земли, но другой мерзости прибывало взамен
еще больше. Мальцев шел, поплевывая от бесшабашности: достал по блату у одной
девки из сельпо восемь банок тушонки и три полушки уже официально не
существующей „Московской" — и потому топал себе в кирзухах весело и
заманчиво по этому свету, каким бы он ни был. Движок в те сутки работал
исправно — то ли солярку подвезли, то ли механик был трезвым в тот вечер. Света
хватало на квартиры, телевизоры, часть деревянного тротуара и кусок улицы.
Веселый Мальцев утробно хохотнул, увидев привычное: бабу, тащившую своего
мужика. Широкое пальто делало ее большой. Муж все соскальзывал с плеча. Баба
останавливалась, пыталась вновь устроить его у себя на спине, уйти в темноту и
не провалиться в тракторный след. „Молодец баба... дает!" Сползший платок
лежал на воротнике пальто, а кепка мужика занимала весь ее лоб. Торчал
неправдоподобный козырек. „Как у американских туристов". Кепка на голове
бабы позабавила Мальцева, она придавала происходящему оттенок лихачества.
Поэтому Мальцев оторопел, когда услышал тягучий стон и увидел, как женщина
сбросила ношу с плеча на дорогу, как наклонилась и вдавила голову мужа в жидкую
грязь. Мальцев тихо подошел и услышал: „Жри, сволочь, шамай, паскуда,
жри!"
Неприязнь к женщине сразу загребла Мальцева. Вот они, суки! Пользуется, что
тот выпил. Вот!
— Чо, помочь те?
Резкое движение ее испуга было противно Мальцеву. Мужик, лицо в дороге, не
ворохнулся.
— Ты смотри, копыта откинет. А чо, а?
— Ты кто такой?! Кто?!
В голосе у нее был то звонкий, то хрипящий страх, будто женщина
ежемгновенно меняла возраст. Мальцев подошел вплотную:
— Не бойсь, чужой.
Он вгляделся. На лице бабы было сильное утомление, отчаяние, следы горя.
Мальцев мягко повторил:
— Чужой. Не бойсь, дай помогу.
— Что ты, что ты!
— Ладно, дай. Сказано ведь — чужой я. Сказано ведь — не бойся.
Мальцев взвалил человека на спину.
— Показывай дорогу.
В доме, положив на лавку спящего человека, он повнимательней осмотрел бабу:
на вид лет сорок, на деле, наверное, двадцать с небольшим. Морда — стандарт —
через минуту забудешь. Вот стерва. Может захотела вот так мужа угробить.
Утопить. Такое бывает. Запросто.
— Что, прогонишь теперь или выпить дашь? Тяжелый он.
— Нету у меня. Ладно, сядь.
— Сама сядь. У меня свое, во! есть. Посуду дай.
— Я не буду.
— Ничо. Немного можно... раз дают. От крепкого и покрепчаешь.
Баба села, выпила, сморщилась и заплакала. Мальцев махнул рукой:
— Все вы такие. То угробить хотите, то плачете. Середины нету, а?
Она зарыдала, захлебываясь. Отпила еще, стала икать.
— Хороши судить. Вы! Он все, все прогулял. Деньги, гусей, поросенка, уток.
Мне через неделю за корм — корова осталась — маслом платить надо. Чем буду
совхозу платить? А дети? А долги? Будь он проклят, проклят, проклят.
Мальцев промычал: „Н-н-нда. Нехорошо". И опустил голову, ощущая, как
стыд покрывает щеки, как совесть где-то между животом и грудью заболела долгой
болью. Пробормотал:
— Чего он так? Может, чего случилось?
Ему захотелось ее обласкать, сказать, что все будет хорошо, что, ну,
бывает. Еще больше ему хотелось уйти и снова повеселеть. Мальцев вытащил тогда
из сумки пять банок тушонки, но сразу же подумал, что четыре или пять, какая же
разница, и оставил бабе четыре. Он уснул в ту ночь с трудом, но утром был
уверен, что сон пришел к нему легко.
Мальцев быстро забыл этот случай, но отношение его к женщине вообще с тех
пор изменилось. Уважения не прибавилось, но появилась жалость, которую он часто
путал с пониманием.
Костры из заготовленных, ровных как на подбор, поленьев горели иногда и
днем, но только третьей ночью произошло тайно ожидаемое.
Он любил Бриджит, ее глаза с их легкостью помогали жить, тело — приятно
существовать. Но она не была наименьшим злом, которое он искал. Франция тоже им
не была. Значит, свобода не наименьшее зло? Что же тогда? Столько лет насмарку,
что ли? И шкурой своей рисковал для чего, а? Что ж теперь?
Он зачарованно глядел на синь костра, зачастую освобождающую человека от
шелухи бытия, знал, что ответ в нем сидит уже давно — может, и до первого его
дня на свободе. Да, может, он еще там, в Союзе, все знал, но не слушал
невыгодного, смертельно невыгодного...
Он отвернулся от огня и запретил себе беседовать с собой. „Это все от
одиночества. Кругом чужое. А она уехала! Бросила. Напьюсь".
Выбрав из запасов сенатора Булона что-то сорокаградусное, Мальцев стал
представлять себе этот дом своим, а море, что рядом, — нашим.
Новой ночью, облевав пол гостиной, он едва добрался до постели.
Ему снилась мать. Насмешливо улыбаясь, она била сына молотком по голове и
спрашивала, уверенная: „Ну что, вступишь в партию?".
Утром Мальцев, спасаясь от головной боли и чувства внутренней нечистоты,
бродил по комнатам, трогал мебель и пил пиво.
„Пойду на пляж", — решил он.
Потоптавшись, Мальцев подошел к зеркалу, всмотрелся. „Все-таки любопытно
быть робким марсианином. А ведь никто не скажет — за скандинава, арийца или
даже за латинянина могут принять. А ты ведь не просто варяжонок-славянин. Э! Ты
из другого мира. Ты ренегат, потому что пошел против власти — она ведь
продолжает сидеть в тебе. Ты хочешь свободы, а в тебе продолжает сидеть
непримиримость к ней. Ты — урод, хотя этого никто не увидит".
Пиво начало побеждать головную боль.
„Я все равно пойду на пляж, а через несколько дней поеду назад и найду
работу".
Мальцев говорил себе все, что знал давно и наизусть, но он вновь и вновь
раскрывал перед собой свои истины так, как человек ест перед особенно тяжелым
трудом.
Почище одевшись и пробормотав „смело мы в бой пойдем", Мальцев пошел к
калитке. Проходящая пожилая женщина в ответ приятно оскалила зубы.
— Хороший день сегодня, правда? А как месье Булон, у него все хорошо?
Мальцев автоматически перевел ее слова на русский, и получалось, как у
Чехова, когда говорят слуги.
— Я приехал не с ним, с его дочерью.
„Чего она спрашивает? Да здесь так принято. Но чего она все-таки
спрашивает?" Мальцев старался быть вежливым, но ответ прозвучал все же сухо.
Женщина воскликнула:
— С мадемуазель Бриджит! Помню ее еще совсем маленькой. Как время бежит.
Очень хорошие люди, вежливые, предупредительные. Хорошие соседи... да,
заболталась я. Хорошего вам дня.
„Хо-ро-ше-го в-ам д-ня. — Так говорит, будто леденец жует". Мальцев
долго смотрел женщине вслед. „Может, она деньги Булону должна? Чушь, здесь люди
всюду вежливы. Благополучие рождает вежливость и равнодушие. Им бы
революцию". Мальцев скривился. „Тебе бы только революции".
По дороге Мальцев вошел в запах хвойных деревьев и сразу же сделал юношески
быстрое движение. Появившаяся в ребрах боль притупила зрение. Он похватал ртом
богатый солнечной и хвойной чистотой воздух. „Как рыба, как рыба". Резкое
движение избивающих его ног, гневные французские лица над ним, бессмыслица
случившегося у заводских ворот сумели вызвать в Мальцеве мгновенную жажду
мести. Встречавшиеся люди улыбались и улыбались. „Ничего, посмотрим, как будете
шкириться, когда наши танки придут". Мягкий песок пляжа играл его ногами,
тянул, дергал. Бинт под рубашкой елозил тупой пилой. По лицу растекался
холодный пот. А люди продолжали ему уродливо улыбаться. Мальцев сел на песок —
он почувствовал себя нелепым существом с искривленной душой. Только когда
появилась тучка, закрывшая солнце, он понял: свет, отскакивающий от моря и
пляжа, жмурил глаза и растягивал рты. Никто не смеялся. И Мальцев тогда
улыбнулся этим людям, а на обратном пути к дому подумал несколько раз, что нет,
он не хочет видеть тут советские танки, что не он этого хотел, а его глупость,
его отчаяние. Он был готов просить прощения у хвойного запаха.
Это искреннее желание принесло Мальцеву облегчение. В конце концов он
никому в этой стране не хотел зла, наоборот...
Проходя по улице сонливой деревни, он увидел
в одном из дворов фермера, копающегося в моторе своего трактора. Жилистые
мощные руки и кепчонка на затылке говорили о доброте и усердии. Мальцев ощущал
в себе дружелюбие, потому ответил на бесшумный зов:
— Привет. Может быть, я смогу вам помочь?
— К черту!
По-детски обиженный Мальцев зашагал в сторону. Его догнал медленный сочный
голос фермера:
— Это я не вам — этой дряни, заводиться не хочет!
Мальцев почти подбежал к трактору. Умиление текло в нем. И так хотелось
ему, чтобы трактор завелся, а наши танки не пришли.
Перед Мальцевым стоял крепкий мужик с красным лицом; взгляд его был
оценивающим:
— Что? Вы разбираетесь в этой дряни?
— Немного. Но я много копался в такого рода машинах в армии. Дайте
взглянуть.
Вдоволь поковырявшись, Мальцев подумал, что добьется лишь посрамления. Стыд
напомнил ему старшину Фоменко. „Это не магнитофон, сучье племя, а магнето. А
когда наше магнето выходит из строя, им продолжают пользоваться. Ясно? А когда
сучья труха в нем отказывается принимать ток — не как ты водку, — тогда его
нужно брать прямо из горла, то есть найти прямой контакт. Смотрите, а то не так
сконтачите и получится саботаж".
Мальцев решил рискнуть. И взревел вместе с мотором. Восторг душил,
доказательство его мирных намерений к этой стране жило в урчащем моторе. Он
сделал черным маслом знак креста на лице. И только после этого понял, что
сделал.
Фермер спросил:
— Сколько я вам должен? („Вот дубина. Идиотина".)
— Да что вы, это я вас должен благодарить. Фермер был явно рад:
— Ладно. Пойдем ко мне, выпьем. Не думал, что вас так хорошо в армии учат.
Тебя как зовут?
— Святослав.
— Сва — что? Что это за имя такое?
— Русское. Я русский... советский. А что?
Фермер замотал головой:
— Нет, ничего. Просто у вас акцента нет. А так ничего, у нас тут несколько
русских есть. Заходите.
Мальцев мыл руки пахучим жидким мылом, вдыхал воздух деревенской кухни, пил
домашнее вино, смотрел на кряжистую женщину, крепко бегающую из двора на кухню,
все хотел о чем-то спросить фермера, — но вопрос юлил, хотя и был важным.
— Ты в деловой поездке?
— В командировке? Нет, я эмигрант.
— Так ты — белый русский? Мальцев рассмеялся:
— Нет, я не беляк. Им мог быть мой дед. Пожалуй... Я знаю, что у вас во
Франции не принято спрашивать о политических умонастроениях собеседника, так
что я у вас ничего не спрошу, вы у меня ничего не спросите — я просто отвечу: я
не коммунист.
Фермер промолчал, подлил вина, вдохнул с шумной вежливостью:
— Да, не был я в России. Да что там, на недельный отпуск времени нет.
Мальцев хотел ему сказать, что нужно ему непременно побывать в Союзе, как
вопрос перестал изворачиваться.
— Вы... вы сказали, что здесь живут русские. Какие русские? Где? Откуда?
— Не знаю. Наверное, во время войны к нам пришли. Одна живет близко, в двух
километрах. Ее зовут Катя Соже. Вы выйдете на Национальную, повернете направо.
Увидите дом с красной крышей и резными ставнями. Это там.
Фермер попрощался с большой душевностью. „Честно или радуется, что денег с
него не взял?"
Но в общем, этот дядька понравился Мальцеву. В нем было четким уважение к
себе, чувство собственного достоинства и, пожалуй, эгоизм, признающий эгоизм
других. „Кулак, настоящий кулак". Хотя фермер пригласил его заходить,
когда ему вздумается, Мальцев все же пожалел, что ляпнул о своем
антикоммунизме. „Еще подумает, что я ренегат, предатель или еще чего".
Дорогой он думал о тракторе, о доме, о хозяйстве. „На себя работает". На
душе стало на редкость радостно, свежо. Ему захотелось уткнуться в шею Бриджит.
„Где ты там?" Он все оглядывался по сторонам, и праздник в нем раздувал
восторги. „Хорошо живут. Ухаживают за своим добром. А что, у своей коровы вымя
не режут. Они сумели сохранить землю и ее цену, вот главное".
Увидев русскую народную резьбу на ставнях белого дома с красной черепицей,
Мальцев вздрогнул. Подходя к калитке, он дал себе слово, что погладит ставни.
Звонку ответил лай собаки. Ему показалось — залаяла по-русски. Затем
появилась громадная женщина, стоящая на пороге мощной старости.
— Что такое?
Славянский акцент был настолько силен, что Мальцев решился забыть
французский:
— Простите, мне вот сказали... я вот и... здравствуйте.
Женщина встрепенулась, замахала руками, закричала:
— Русский! Как я рада! Заходите же, заходите. Как рада!
Она подбежала к Мальцеву, вцепилась в его руки, ощупала взглядом крепче,
чем руками, нечаянно стукнула локтем больные ребра, да так, что слезинки
выбросились из мальцевских глаз, и наконец, поддавшись выплеснувшемуся порыву,
поцеловала нежданного гостя в щеку. И смутилась, покраснела, как старая дева.
Приглашала, вела в дом с подчеркнутой вежливостью — и путая языки. После фермерского
вина Мальцеву для серьезного хмеля нужен был пустяк. Баба же стукнула об стол
бутылкой водки. Сама выпила стакан. И заговорила без передышки. Она видела в
Мальцеве свое детство, отрочество. Родное село казалось ей теперь
бело-красивым. Подсолнухи возле хат, яблоневый дым по утрам, смеющаяся мать. „Я
раз ездила в Россию. Давно уже. Туристкой. Но во сне все довоенную жизнь
вижу".
Хорошо было... детство... потом немцы пришли. Председатель стал старостой.
Для отправки в Германию она была маленькой по возрасту, но староста все равно
записал — вместо своей дочери. Самым ужасным воспоминанием была остриженная
немцами голова. А однажды на заводе, когда волосы уже отросли, начал ее лапать
мастер с нацистской повязкой на руке. Катя ударила чем попадя, и только затем
подумала о наказании. О смерти как-то не думалось. „У нас камеру называли
стеной — можно было только стоять. Я простояла трое суток. Когда выносили,
услышала, что сердце мое еще бьется". Мальцев удивился:
— Странно. А почему вас не расстреляли?
Катя не знала. Хотя, конечно, одну подружку из ее барака — умирала от
туберкулеза — приказали закопать. Та только отходила, но еще не отошла. Они
хотели ее тайно ударить лопатой, но не осмелились. Во-первых, грех, во-вторых,
увидели бы немцы — в ту же яму могли скинуть. Но была одна немка — у нее была
парикмахерская — что Кате есть давала, а однажды даже прическу ей сделала. Это
был самый счастливый день в ее жизни. А почему она здесь — произошло за
несколько месяцев до освобождения. Тогда американцы сильно бомбили.
Воспользовавшись одной такой бомбежкой, и взял француз ее невинность. Лесок.
Свист и взрывы. Хотелось больше всего зарыться в землю, а француз — она с ним
уже несколько раз танцевала — ...
— Что? Как это: танцевали? Вы что, на курорте там были, что ли?
— Мы с голоду умирали, ну а потанцевать немцы иногда разрешали.
В общем, француз как бы прикрыл ее своим телом. Она от страха и не
заметила, как стала женщиной. Потом до прихода американцев Роже больше не
появлялся, зато у Кати появилось брюхо. Когда пришли танки со звездами — ей
было все равно, американские или советские они — она кричала от радости меньше
других. К ней подошел длинный негр с руками полными гостинцев. Хотел ее
поцеловать. Острейшее воспоминание — первый раз увиденное черное лицо приближалось:
она завизжала. „Он отпрянул, грустно улыбнулся, дал мне печенье, шоколад и
молча ушел. Хороший оказался дяденька". Катя хотела вернуться домой, к
матери, но...
— Но вы знали, что вас у нас ждет? Да?
— Что? Да. Я не могла вернуться из-за пуза — мать меня не приняла бы, или
во всяком случае, всю жизнь бы попрекала. Стыдно мне было.
Мальцев слушал, отпивал из стакана. Какой негр? Какое пузо? Тогда ведь
миллионы людей возвращались... Одного из них Мальцев встретил в Верхоянске.
Старик был прорабом, боялся всего и бредил о плане. Мальцев ему втолковывал,
что при —60° заниматься электросваркой нельзя, швы лопнут. Старик отвечал, что
он об этом знал еще до Святославова рожденья, но что варить все равно надо,
потому что рабочий день есть рабочий день, а план есть план. Швы, как им и
положено, лопались, вся работа шла насмарку, а старик искренне жалел план и
Мальцева: „Бывает хуже. Надо всегда думать, что бывает хуже".
Старик в свое время отсидел в немецком лагере три года, а после в нашем —
двенадцать. „Да, знал я, еще будучи у фрицев, что нас ждет. Так и думал, что
отсижу свою десятку, а после, если повезет, буду жить. Как щас. Я ж тебе
повторяю, что „бывает хуже". Почему? Что почему? А куда мне было деваться,
в ихней Германии остаться или еще чего. Дурак ты, все равно не поймешь. Время
такое было".
А Кате помешало ехать пузо. Малец, что там сидел, спас жизнь себе и своей
мамаше... ей было, видите ли, стыдно.
— Не знаю, что случилось бы. Может руки на себя наложила бы. Только взял
Роже и вернулся за мной. Привез сюда и забросил. Я по-французски не выражалась.
Когда — я уже тогда первого родила — вызвали меня в мэрию, и я увидела там
поджидавшего советского офицера, сразу решила, что поеду домой. Офицер начал и
так, и сяк, и по-всякому. Мол, примем вместе с ребенком, мать-родина
позаботится. А после сказал вдруг, что будет мне прощение. За эти месяцы много
чего произошло, стала я и бабой, и матерью, и с жизнью здесь ознакомилась. Я
офицеру и сказала, что меня прощать не за что. Это я, может быть, должна
кому-то прощать. И ушла. Так и осталась. Троих родила. Роже пил, изменял. На
мне было все хозяйство. У нас люди спиваются не так, как в России. У меня отец
от водки помер. Еще перед войной. Здесь пьют целый день спокойно, тихо пьют, и
это даже им не мешает работать. Вот Роже за два десятка лет печень свою и
угробил. Оттого и помер.
Сквозь марево опьянения Мальцев все же ощутил некую странность в разговоре
и поведении этой женщины. Она говорила по-русски с усердием. О французах
говорила „нас" — и это было естественным. И она ни о чем не спрашивала,
только вспоминала.
— А много у вас земли?
— Двести пятьдесят гектаров.
— Много.
— Ничего. Роже был деловым, меня научил. Только вот хозяйство передать
некому. Один сын стал профессиональным футболистом, два других — моряками, в
море ходят.
„Молодец стерва. Богатая. Как же она может с таким добрым лицом батраков
эксплуатировать?"
— А много вы платите своим рабочим? Катя рассмеялась:
— Сколько положено. Вы что, хотите поработать? Остались бы, век уже
русского не видела.
— Тоскуете по родине?
Женщина засмущалась, сникла. Розовое поползло по щекам.
— Как вам сказать... нет, пожалуй. Привыкла уже. И русский стала
забывать... Нет, нет, не наливай, голова уже закружилась. Да, так о чем... да,
свое все стало здесь.
„Преда... черт, гадость всякая в голову лезет".
Мальцев сам смутился, но все-таки спросил:
— Но не хотели бы вы эту землю иметь у себя в деревне? Ну, чтоб, как здесь,
хозяйкой быть?
Мальцев увидел: погрустнели встревоженные водкой глаза, зашевелились,
хватая будущее, руки, заколыхалась грудь, вздрогнуло несколько раз тело.
— Как это ты додумался до такого? Не, не вижу я себя в той, в нашей
деревне. Не представляю. Когда поехала повидать своих, так мать побоялась со
мной встретиться, побежала просить разрешения у председателя. Я тогда сильно
обиделась. Тетя пришла, не на меня смотреть — на одежду. Не обо мне спрашивала
— о ценах. Помню хотелось поскорее домой вернуться, сюда. Все было там чужим и
вместе с тем родным. Но больше чужим. Вечером ушла я в поле, села прямо в
пальто на землю и заплакала. Так, как в одну довоенную ночь. Тетя работала при
складе — была более сытой, чем мы. И вот как-то сказала она мне прийти к ней за
темнотой. Мать помолилась, повторила, что мы, может быть, с голоду-таки не
помрем. Мне было тогда лет четырнадцать или пятнадцать; темноты боялась до
ужаса. Но пошла. Тетя открыла дверь, дала кулек муки, но не дала мне долго
увидеть свет, что у нее в доме был. А я так надеялась привыкнуть к нему, прежде
чем снова уйти в темь. Заплакала я и пошла со слезами, со страхом. Плакала
от...
— От жизни.
— Да, — согласилась Катя. — Осень была, еще до заморозков, грязь была
большая. И вдруг — как теперь помню — почуяла, что мука по руке потекла. Кулек
из газеты был, вот и прохудился местами. Я хотела быстро заткнуть дыру пальцем,
но руки не слушались, потому как от голода распухли. Я стояла и думала, что
убьет, непременно убьет меня за это мамаша. Двинуть рукой боялась — вся мука
могла уйти на землю. У нас тогда в деревне не то что фонарика, спичек не было.
Если б пропала мука, лучше мне было утопиться, чем домой идти. Тут мне пришла в
голову догадка — наклонить кулек. Смеешься? Это сейчас кажется проще простого.
А газета-то могла ведь совсем порваться. Но я наклонила, и ничего не произошло.
Ну, подумала, жизнь моя спасена. И заплакала, уже от радости. Хотела дальше
шагать, но ведь мука-то по пальцам текла, значит она, хоть какой-то вес, у ног
лежит. Хотела переступить, но от жадности не смогла сдвинуться с места. Упала
на колени, стала шарить языком. Все грязь попадалась. А потом от боли в спине
повалилась на бок, держа руки с кульком протянутыми. Снова заплакала от горя, а
когда язык нашел муку — от счастья. Пока вставала, опять... Утром нашла у себя
седой волос, первый в жизни.
Да-да, об этом я вспомнила, когда приехала в Россию. А тетя, та самая,
просила материал на платье. Я ей послала. Но больше в деревню не ездила и
матери не видела.
Катя Соже внимательно поглядела на Мальцева, на бутылку, закрыла глаза.
Мальцеву все время казалось, что он падает со стула. Голова тяжелела. Он,
сам себя не слыша, ворчал. „Нет, нет, так дело не пойдет. А Бриджит, она —
сука. Все — суки. Не хочу быть здесь".
Катя сказала с тяжелым удивлением:
— Странно, никогда не вспоминала за последние годы о том, как голодно,
холодно было в России. Я ведь в Москве, в Ленинграде была. Красиво там.
Замечательно. Я одна здесь, сыновья по своей жизни разошлись. Одна радость,
Россию помнить. А ты вот — я буду тебе тыкать — заставил меня и о ней плохо
подумать.
Мальцев покачался на стуле и, как бы отвечая, схватил стакан и со всей
силой разбил его об стену. Закричал:
— Надоело! А ты... — лицо Мальцева сморщилось, — Россия, Россия. Я домой
хочу, в Ярославль. Понимаешь? Себя ищу, доброе зло ищу? Домой хочу, пусть
посадят. Дома, небось, за то, что работать хочу, ребра не покалечат. А, правды
боишься?
Его мягко схватили две огромные руки. Он попытался их отодрать, но тут же
прижался к ним лицом, пьяно поплакал и, продолжая жалеть себя, слабо ругал весь
мир, пока не уснул.
Мальцев проснулся в пахнувших чистой водой простынях. В голове шумело, но
отвращения к себе он против ожидания не почувствовал. Порылся в памяти. Провал
был большим — сидел, пил, слушал... и все. Как добрался до постели, как
разделся, как уснул... „Ладно, дом-то цел". Но когда Катя вошла, он на
всякий случай потупил глаза.
— Проснулся питух? Да, да ты впрямь питух и петух. На. Это — рассол.
Мальчишка вызывал в Кате порывы острой жалости. „Изнервничался он, бедняга.
Я тоже была такой, потерянной. Я плакала, а он посуду бьет".
Мальцев выпил рассол с наслаждением, взглянул на Катю с кроткой
благодарностью. Подчиняясь чувству, она наклонилась и прижалась к его лбу
губами.
За завтраком Катя стала расспрашивать гостя, хорошо ли он отдохнул.
— Ты как баба-яга: накормила, напоила, спать уложила, а допрос начала на
следующее утро. Только баньки нетути.
Катя промолчала, выслушала короткий рассказ об удивительной жизни гостя,
сказала машинально:
— Меня вывезли, ты сам убежал. А кому все это нужно? Хотя...
И только увидев омрачившееся его лицо, добавила, придав своему большому
лицу лукавство:
— ...хотя бы нужно потому, что у меня есть и баня.
— Настоящая? Не может быть?!
— Может.
Пар был сухим, белым, чистым, сильным. Веник — березовым, полка — из сосны,
в жбане в предбаннике — настоящий квас. Почти кипящий воздух въедался в тело,
буравил, делал усталость из неприятной приятной, пробирался к размышлениям,
давая спокойствие бурным мыслям, острым догадкам. Мальцев скосил глаза — борода
как бы дымилась.
„Затопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого свету отвык..."
„Мы не свиньи, ко всему привыкаем, даже к чужим мирам. Я тоже привыкну.
Тетка Катя вот не только освоилась — русскую баньку в Вандее завела. А с
памятью западная жизнь сама словчила: перебрала с годами все пласты — злое
убрала, доброе, красивое нагромоздила, как будто как попало, а на деле с
умыслом. Так, чтобы от детского цветка на лужайке все по чудесной молодости
ступать. Так голод превращается во вкусную черствую горбушку черного хлеба,
беззубый рот матери — в плотно сжатые суровые, но любящие губы, холод — в
красивую зиму. Чего люди не помнят — не было. Достаточно забыть неудобное.
Просто. Вот Катя и поехала в Союз за доказательствами своего былого счастья,
своей чудесной молодости.
Ничего, я ей покажу, она у меня узнает свою молодость. Жалко, правда, немного.
Баба все-таки, женщина. Потому, наверное, я ей и сказал — когда мило спросила,
— что не привязан к Бриджит. Соврал. Глупо это как-то — влюбиться во
француженку.
Сказал бы парилочным корешам: влюбился не просто, а в дочь сенатора, и она
у меня что думаю — читает и повторяет. Они бы удушились на месте, а вообще —
просто не поверили бы. А чему бы поверили? Что есть люди, верующие в коммунизм,
что ли? Или что в булочной хлеб заворачивают в тонкую бумагу да еще спасибо
говорят?
Мальцев спустился с полки, просунул руку в предбанник, зачерпнул квасу.
Облился холодной водой — ледяной не было. Пар боролся с водой, не принося телу
свежесть. Он слегка обеспокоился, но затем решил, что летом в парилке нужной
прохлады все равно не найти ни во Франции, ни в Сибири — и потому нечего искать
в Западе причину, очередную, отсутствия внутреннего благозвучия.
Мальцев медленно осознавал, насколько он соскучился по парилке. С детства
пар занимал в его жизни и в жизни его друзей особое место. Там они ощущали себя
взрослыми, затем становились ими без хвастовства: „Удивительно, я здесь могу
говорить о бабах как о людях". Когда начали появляться опасные мысли,
каждый мог доверять их уху друга — не будучи на взводе — только окруженный
мокрым паром, этой белой стеной, скрывающей лица, мир, власть, страх.
Здесь пар был сухим, но и бояться было как будто нечего. Безопасность
казалась глуповатой... какой толк говорить недозволенное, когда все дозволено.
Мальцев, тревожась за себя, постарался легкомысленно улыбнуться: „Какая
чушь!"
Он стал думать о Бриджит, скучать по ней, мягко, с легкой тоской. Незаметно
приплыли груди, бедра, руки, иногда лица женщин, оставшихся там. Вместо
позабытых имен к движениям плеч, шей прилеплялись прозвища: Добрая, Ласковая,
Продувная, Еще, Истерика, Корова. Вперемежку приходили слова, запахи, брови
тех, которых Мальцев не добился — не нравился, поленился, не понял, не было
денег на ресторан, на бутылку, на кино. Теперь он был рад своим былым осечкам —
в них гнездилась чистота честных неудач. Женщины, ушедшие из прошлого, не
пробудили в Мальцеве желаний, пар был сильнее.
Бриджит вытеснила образы из настоящего, встала — „бесстыдница" —
по-особенному приоткрывая губы, зовя внезапной слабостью шеи. Но желание в
Мальцеве пробралось только к рукам — создало пальцами по горячему воздуху свой
рисунок-отражение и вновь спряталось.
Одеваясь в предбаннике, он с ленцой размышлял о роли женщин в его
существовании. Нашел, что, в общем-то, он их в прошлом недооценивал. Подобно
многим ребятам из послевоенных поколений, Мальцев попал мальчишкой на
широченную сорокалетнюю женщину. Рука первой любовницы, казалось, закрывала
половину его спины. У нее, в отличие от большинства изголодавшихся по ласке
баб, был и муж, и довольство. Но раненый и тоскующий по своему истребителю
летчик — трудный для семейной жизни человек. На жене не полетишь, а если к тому
же часть черепа заменена металлической пластиной, под которой боль
перекатывается, кружит голову, ослабляет спину, то жена не только не мила, но
часто ненавистна своим цветением, доступностью. Жесткость и страстная
отчужденность — он их нагнетал, разнообразил — стали пищей для чувств мужа к
жене. Она же тосковала не так по мужчине, как по нежности, а полные обожания
глаза мальчишки-соседа делали ее счастливой. Истома длилась, пока она ощущала
на себе его взгляд, потом спокойная горечь вновь овладевала жизнью. На работе
она видела себя старой вещью, к которой льнут другие старые вещи. А Мальцев
слишком часто приходил просить соль, масло. Раз, не договорив, набросился, сам
ужаснулся, стал целовать руки. „Да, — часто думала она, — стоило дожить до этих
дней. Стоило".
Их связь длилась долго. Уже будучи мужчиной, Мальцев наведывался, гладил,
обнимал. Когда он исчез, женщина убедилась, что, оказывается, она уже давно
старая. И повторяла с улыбкой ушедшей зрелости: „...суета сует".
Мальцев привык видеть в женщине любовницу, жену и мать. Ровесницы его не
интересовали — их мысли и тела не знали глубины жизни. Они говорили о любви,
грубо захлебываясь, их руки были сухи от страсти или мокры от неопытных усилий.
Мальцева, как и многих его товарищей, тянуло к бабам, в которых, как они
говорили, сочеталась азиатская коварная покорность, европейская независимость и
русская жалость. А тут говорят, что русские бабы грубы.
А что делать женщине, которую напасти едят, словно густая пелена
неистребимых вшей? Найти отдушину, куда можно было бы свалить разом все
накопившиеся и не находящие выхода диковинные чувства. А злых ощущений даже
мало выходит на день толкотни в автобусах, поездах, везде; на рабочие часы, когда
только черное может победить серое; и на очереди, бесконечные, вездесущие,
мрачно спокойные, мрачно истеричные — не дающие человеку передышки до работы, в
перерыв, после работы. Мужик, изматерившись, закуривает, наголодавшись по
недоступным и чудесным по своей простоте ощущениям — напивается. Придя домой,
сваливается на диван, болеет за свою команду. У женщины нет передышки, ей
некогда отойти от грубости, хамства, злобы — не дают времени ни мига. Только ее
ребенок может... а если нет его, если уже вырос и ушел? Но вот — отдушина. Он,
Мальцев, или другие. Да, ему везло. Когда в глазах и теле женщины
сосредотачиваются нежность, любовь и страсть... В жизни нет чудес, есть только
то, что случается часто, и то, что случается редко. Необычайное мешало Мальцеву
увидеть красоту в обыденном.
„А что, хорошее было время, когда я не знал, что не свободен". Мальцев
вышел из бани во Францию, поглядел на ее опрятность, поискал в себе радость,
подумал, что нечего искать, и выругался погрязнее. Вспомнил свои мысли о мужчинах
и жадно закурил. Напишет Бриджит ему или не напишет? Любит он ее или
прикрывается ею?
Ветер подул в бороду. „Не напишет". Катя звала с крыльца, махала
ручищами. Мальцеву хотелось сжать плечо Бриджит. Ему казалось, что он сам
создает этот проклятый ветер, дующий, дующий. Спрятавшись от него, он сразу
подумал, что любит Бриджит и прикрывается ею.
За ужином Мальцев уплетал устриц и улиток так, что приглашенный Катей
пожилой француз только моргал, не понимая, как можно наедаться закусками. Он
часто поднимал бровь, подмигивал Кате, в конце концов развел руками, но, считая
учтивость превыше всего, заговорил о другом:
— Да, я всегда уважал русских. Без них мы бы немцев не разбили.
Мальцев доедал сороковую улитку.
— Вы много потеряли людей во время войны, но вы, русские, победили. Тут
многие стали поговаривать, что только американцы выиграли войну. Это неправда.
Я помню, как немцы не взяли Москвы. Такого раньше не бывало — когда они
выходали на дорогу, ведущую к какому-нибудь городу, то всегда брали его. Для
нас известие, что они не взяли Москву, было большим праздником. А Сталинград!
Вино приятно захватило Мальцеву нёбо.
— А американцы без нашего маки ничего бы не смогли сделать. Наши партизаны
били немцев сзади. Каждый день они исчезали. До сих пор следов нет, а я знаю —
вот неподалеку — несколько местечек, где, если копнуть...
Мальцев слушал с нарастающим раздражением.
— ...Мы, маки, тоже были не без работы. Мы тоже свое дело сделали. Не
правда ли? Вы там, в России, об этом знали, слышали? Партизаны у вас тоже хорошо
поработали. Правда?
„Нашел чем хвастаться! У нас эта дурь хоть обязательна, а здесь же он легко
может разобраться в этом вопросе, найти данные, сравнить, выводы сделать. Так
нет, старый хрыч!"
Но Мальцеву все же захотелось раззадорить старика-француза, а заодно дать и
первый урок ума-разума благодушно кивающей Кате. „Врезать по-матушке под
дыхало".
— Прошу прощения, но я с вами совершенно не согласен. Вам как раз повезло,
что партизанское движение было во Франции совсем слабым. Вы своей разумностью
спасли от бессмысленной гибели, от разрушений, от страданий миллионы людей.
Француз подскочил, глаза выпучились, краска поползла к белкам:
— Как! Как вы смеете! Вам должно быть стыдно, молодой человек.
Бессмысленная? Люди пали за свободу! Нацисты убивали, жгли, вешали.
Мальцев внутренне хихикнул. „Дает. Как лектор на партийном собрании".
Написав на лице снисходительное превосходство, Мальцев возразил:
— Воевать надо как положено — в обмундировании, с погонами на плечах, со
знаками отличия в петлицах, и с оружием в руках. А не проходя в гражданском
мимо солдата, стрелять ему после в спину. Солдат должен гибнуть в бою с врагом
— в форме, как и он. Законы войны и так слишком часто нарушаются, чтобы
преступить и этот — главный — состоящий в легко-привычном опознавании врага...
Катя убежденно сказала:
— Война — это преступление!
Мальцев широко улыбнулся. Он веселился вовсю.
— Напротив, она естественна. Она часть природы. Как жизнь. Как смерть.
Сколько было мирных лет за последние четыре тысячи лет? Если найдете века два,
я вас награжу орденом Ленина. Что война теперь стала глупой болезнью
человечества — с этим я согласен, раз производить, покупать и продавать стало
выгоднее, чем отбирать силой и тратить на удержание завоеванного больше
средств, чем стоит захваченное. Но это относится к высокоразвитым странам, к
тем, предпочитающим стрелять не снарядами, а деньгами, бросать не бомбы, а
конкурентоспособные товары. Такая страна — ваша Франция. Моя же страна может
защищаться лишь идеологией, лишь штыком, раз ее государственная система не
может давать качественную продукцию. Потому-то единственный ее
конкурентоспособный товар — вооружение. Из этого следует, что для Запада война
— глупость, но для Востока — теоретическая необходимость. А необходимость не
может быть глупа. В общем, война еще живее живого. А раз так, то надо соблюдать
ее законы. Убивать друг друга нужно упорядоченно. Нет ничего хуже анархии, даже
тоталитаризм лучше.
Мальцеву было приятно следить за ходом своей мысли. На этот раз он это
делал без самолюбования. ,,А что, если будет война, их раздавят как клопов. И
меня вместе с ними. Надо было в США бежать... может, я и от этой мысли прячусь
за Бриджит?"
Мысль была безобразной, будила старые страхи.
— Много я встречал людей, проклинающих партизан. Да, более сорока лет
прошло, но не время же им вернет погибших жен, детей, матерей. Отцы — черт с
ними, мужики же... Эти люди, эти солдаты, бывшие на передовой, ждали годами
смерть каждую секунду — ни атаки противника, ни снаряды, ни бомбы, ни
отказывающийся работать карабин и еще тьма разных видов гибели не просят ни
позволения, ни прощения, ни отдыха. Да, представьте себе, вы, думающие, что
единственный противник или враг — ваше правительство...
Хриповатыи голос Мальцева перешел на фальцет:
— Солдатам даже казалось порой, что они привыкли к запаху страха. И эти
люди, вернувшись домой, узнали, что в то самое время, когда их гнали на минные
поля, какой-то кретин вылез из лесу и пристрелил уснувшего на посту часового, и
что противник, стремясь обеспечить свой тыл, взял и умертвил их разными
способами. Заведомо невинных — чтоб все боялись! Среди заложников были матери,
жены, дети солдат. А? А партизан вернулся в свой лес. Если он и погиб, то по
глупости или из-за предательства.
Мальцев резко перевел дыхание. Он был мысленно не за катиным столом, а в
полупустой деревне, слушая слова оставшихся в живых.
— ...Партизан не пьянел от ста граммов, чтоб в очередную атаку идти. Нет.
Знаете, как было дело? Немцы забирали у крестьян часть продовольствия, а
партизаны — все остальное. Дети пухли и мерли, а партизан жрал. Вы мне скажете,
что он все же убивал вражеских солдат и тем приближал победу? Чушь! Вы сами
должны знать, что при удачных военных операциях сдавались в плен когда десятки,
когда сотни тысяч немцев, то есть гораздо больше, чем убитые партизанами за всю
войну...
Мальцев видел с уже грустноватым злорадством, что собеседник доходит до
ручки. Француз, багровый от вина и злости, ударил кулаком по столу:
— Мы сыты по горло иностранцами... Все себе позволяют. Вы ж ничего не
знаете. Мы были вынуждены уходить в маки, чтобы не быть посланными в Германию.
У нас не было другого выхода. А продовольствие мы брали только у богатых
фермеров. Они, сволочи, благодаря черному рынку, разбогатели во время войны...
Вы врете! А коммуникации, а поезда, пущенные под откос, — это что, говно, что
ли?
Катя молчала, лицо ее тяжелело на глазах. Она была по-матерински грустна.
Мальцеву было ее жаль, но он не мог остановиться. Что-то в нем стремилось
разрушить спокойный мир этих людей, вселить в них неуверенность в прошлом,
настоящем, будущем.
— Все это очень красиво, но способствует скорее успокоению национальной
гордости, чем выявлению правды. Разрушение мостов не может остановить
продвижение армии — понтоны выдуманы не вчера, и не партизаны могут прервать
переправу регулярной армии. Что же касается железной дороги, каждая собака
должна знать, что военный эшелон никогда не прет без прикрытия порожняков.
Взлетают в воздух они, кроме того, каждый эшелон толкает платформы, груженые
песком... таким образом, дорогой месье, из ста поездов, объявленных пущенными
под откос, едва ли можно отыскать два-три настоящих. А ждать у полотна, чтобы
самому сконтачить взрывное устройство под нужным вагоном, равносильно
самоубийству. Но я имел в виду другое, не бои партизанских отрядов с
регулярными войсками, а террористические акты, ведущие к уничтожению населения.
У нас, в Советском Союзе, даже оставляли на местах людей, которые должны были
разжечь всеми способами партизанскую войну — зверски убивать солдат
оккупационных войск, сваливая вину на население, или, переодевшись в немецкую
форму, сжечь несколько семейств, отрубить голову всеми уважаемому человеку в
деревне и т.д. Последствия партизанской войны известны. Например, в Белоруссии
погиб каждый третий человек — партизаны же скрывались в непроходимых болотах.
Мужчина должен остановить и разбить врага, а не мстить за вторжение. Вы и
сейчас должны об этом подумать... Объективно, при всем моем уважении к
патриотизму, сволочь, перешедшая на сторону победителя, делает соотечественникам
меньше вреда, чем пламенный патриот-террорист.
Тут Мальцев понял, что ляпнул лишнее. Француз выпрямился, поклонился
хозяйке торсом, потерявшим гибкость, сказал: „Спасибо за вечер, но мне здесь
больше делать нечего", — и ушел, не оборачиваясь.
Катя тяжело заплакала. Мальцев молча последовал примеру француза. Он шел к
дому Бриджит, глубоко дыша, стараясь всем существом впитать свежесть ночи.
„Прямо мания какая-то. Стараюсь испоганить все, к чему прикасаюсь. Куда я лез?
Бросал ему в морду правду чужого мира. А люди и своей правды не выносят. Только
правдоподобие. А я ему... тьфу ты".
Мальцев вспомнил старую поговорку: „Если хочешь дружить с бедуином, никогда
не рассказывай ему о горах". Было жаль Катю, но он продолжал против воли
веселиться.
От Бриджит писем не было.
Думая о ней, он ощутил какую-то перемену в себе, будто принимала форму
какая-то определенная идея. Забавно, но мысль быть повешенным как предатель не
смущала больше. И недавнее поведение в Министерстве внутренних дел казалось
теперь глупо-смешным. Присяга. Какая присяга? И все же...
Ему неожиданно подумалось, что в будущей борьбе, даст Бог, заложников не
будет. Мальцев уснул, так и не поняв, откуда в нем такие странные мысли.
Его разбудила Катя. Как ни в чем не бывало. Позвала завтракать.
— Хочу устриц и улиток с утра до вечера. — Под катин смех Мальцев добавил:
— Лягушатники! Я тоже хочу быть лягушатником.
Пока он ел, Катя с грустью наблюдала за его жадными движениями. Он не мог
быть голодным, однако насыщался, как она во время войны. Катя не понимала его
резкости, порывов злобы, желания уколоть, унизить людей. Он весь словно дрожал
от противоречивых чувств. А лицо у него симпатичное, даже доброе. Мог бы
жениться тут. Поработать несколько лет, а там купить себе хорошую лодку — рыбы
еще много — и быть себе хозяином. „Как мы все".
— Чего тебе надо? Почему ты так себя вел вчера? Я не понимаю. Не обижайся,
я ведь троих, как ты, родила.
Ребра у Мальцева болели уже гораздо меньше. Он легко передвинулся и
поцеловал Катю в щеку. Но вдруг Мальцев грязно выругался.
Катя замялась. Она еще ночью решила, что у мальчика все горе от ума.
Теперь, уверившись в этом, она еще больше хотела ему помочь, спасти. А Мальцеву
захотелось, неудержимо, сказать этой женщине всю чистую правду. Ему показалось,
что, слушая себя, сам что-то важное поймет.
— Ладно. Я еще до института понял, что наша система самая устойчивая из
всех, известных истории. Работа привела меня к заключению, что наименьшее зло
находится на Западе. Запад и стал моей целью. Поверь, я к ней стремился всеми
потрохами и на пути потерял много от того, что называется честью, совестью,
душой, достоинством. И вот я здесь. Казалось бы, можно зажить, надо зажить,
хватая жизнь двумя руками. Я и пытался, а она, свободная жизнь, мне все время
жопу показывает. И наименьшего зла не нашел. Этот мир свободен, но не мой. Вот
бродят, не находя слов, вопросы и ответы, я их ищу, а они убегают непонятные по
непонятному миру. Я уж было решил, что любовь должна мне дать не найденное.
Потом показалось, что не любовь, а страх перед нашими — придут сюда и мне
первому скрутят голову. Оказалось, что не боюсь этого, не то чтобы не верю в
это, а — не боюсь. Ответ все гуляет. Теперь ты понимаешь?
Договорив, Мальцев почувствовал себя на редкость спокойным, уверенным,
умным. С ним, он вспомнил, подобное произошло, когда, впервые в жизни, после
недель буйной нерешительности, он, самоуверенный в общем школьник, решился
дотронуться до женской груди. Парта девочки была в самом углу, и многие
смеялись, когда он оборачивался, чтобы увидеть самое красивое лицо на земле.
Она в парке ответила на поцелуй, а после раздвинула концы пионерского галстука,
чтобы он мог легче увидеть и найти рождающееся, кругловатое. Она сказала
по-особенному „Святославик". А он от этой груди под школьной формой светло
и радостно умнел.
„Лицо забыл. Забавно. Живем и не знаем, как может мужчина умнеть от
прикосновения к женщине".
Он лихо чмокнул Катю в щеку. Мальцев был уверен в долговечности своей
радости.
Катя почти ничего не поняла. „Что-то он ищет". Ночью она плакала, но
под утро решила, что все к лучшему — не выйдет она замуж за того француза. Не
ее он хочет, а землю, чтоб старость удобно прожить. „С его землишкой не
отдохнешь, ее слишком мало, даже рабочих не наберешь. Самому придется до смерти
работать. Вот он и старался. Вот раздразнил его этот Святослав, и выявил месье
свою сущность. И как я сразу не сообразила?" Катя была благодарна
Мальцеву. „Хоть он и грубый".
— Знаешь, оставайся пока здесь, а там видно будет. Ребра твои скоро
зарастут. Поработаешь у меня, деньги всем нужны. А пока что гуляй, лечись, на
рыбалку походи. Можешь с моим сыном в море выйти. Ты же работал в море!
Согласен?
Мальцев кивнул. Он был рад соглашаться, кивать, целовать щеки. „Исповедался
как мальчишка. А что? Жизнь хороша! Имею я право ею воспользоваться? Имею. А во
Франции ли я или на Сатурне — не все ли равно? Вперед — и никаких
гвоздей".
Глядя ему вслед, Катя машинально подумала, что парень он крепкий, привыкший
к нелегкой жизни — наработает, и что можно будет ему платить не слишком много.
Последующие дни были полны беззаботностью. Ветер, и тот был за него —
шевелил небрежно волосы, гонял курчавые облака взад и вперед, залезал приятно
под рубашку. Ночь не приносила воспоминаний, костер отражался в глазах
незаметно, шашлыки кипели под вином, язык причмокивал, как в детстве, и хотя
Мальцев иногда напевал: „Мы всю Европу оденем в галифе, закроем к ... матери
кафе и на статуе свободы напишем: мир, освобожденные народы!" — в нем не
было противоречий. Незаметно он стал сыпать в магазинах пожалуйстами, спасибами,
до свиданиями, добрыми днями, сам взгляд уменьшился как будто в весе. И если,
катаясь на велосипеде, Мальцев насвистывал „Интернационал", то только
потому, что эта мелодия приходила сама, без усилий.
Вечерами Мальцев сидел в ближайшем кафе, говорил о ценах, женщинах,
автомобилях, внутренней политике и почему-то склонялся в сторону
социал-демократии скандинавского типа, хотя тот, другой Мальцев, считал, что
эволюция этого самого демократического вида социализма приводит к все же
опасному усилению роли государства. По Бриджит он скучал довольно спокойно.
Каждое утро, находя почтовый ящик пустым, он с улыбкой повторял по-французски:
„Нет новостей — значит все в порядке", и в течение дня знакомился хотя бы
с одной женщиной и, так как он переводил с русского методы знакомства,
получалось оригинально. Но дальше игривости не шел — женщин, вообще, ему
хотелось только во сне. В остальное время он любил Бриджит; по-хозяйски думал
иногда, как бы купить дом в рассрочку. В парилке он однажды поймал себя во
время перечисления марок автомобилей — и рассмеялся.
Так дни наполнялись приятной игрой-неигрой — Катя была изумлена столь
резкой переменой, искала подвоха и не находила. Святослав вполне серьезно стал
рассуждать о росте цен, о местных выборах, при этом вставляя с нарочитым
изяществом в свою речь французские обороты. Катя против воли стала меньше его
уважать, в его слишком быстрой перемене чувствовалась бесхребетность, но должна
была признать, что Святослав перестал ее раздражать.
Работать на комбайне Мальцев научился удивительно быстро.
— А я на целине был, в Казахстане. Это было время! Никто не понимал, как те
агрегаты действовали. Казалось, комбайн сам должен был на запчасти рассыпаться.
А все-таки убирал, правда, может, только половину, может немного больше. Но это
никого не волновало — весь урожай никогда не собирался, не хватало ни людей, ни
машин. Потом при перевозке много зерна оставалось на дороге — так что советские
птицы в это время года самые сытые в мире. А у тебя не комбайн, а швейцарские
часы — сам работает, горбушки за собой не оставляет.
— А я не помню, как было. Комбайнов не помню. Но почему так, почему люди не
возмущаются, ведь столько денег пропадает?
Мальцев рассмеялся, обтер тылом ладони пшеничную пыль:
— Велика ли власть, ничтожна ли — пусть разбираются потомки. Современнику
нужно выжить. Чтобы были потомки.
Катя постаралась что-то понять. Бросила.
— Я тебе поесть принесла. У меня тут все в машине.
— Вы, французы, ведь в час, кажется, обедаете. И я буду в час. Как
коллектив, так и я.
— Так ведь уже час, — ответила Катя.
— Ну? Вот что значит горб гнуть на благо капитализма. Время бежит быстрее
денег.
Мальцев с беспокойством прислушивался к своей искусственной насмешливости.
— А почему в России такие плохие урожаи?
Ей нужно было что-то спросить — она почувствовала к этому парню ненависть.
Он будил опасные для спокойствия ощущения и воспоминания. Чтоб
подавить волнение, стала быстро резать хлеб, и оттого, что были на поле и
говорили по-русски, Катя прижала буханку к груди, как не делала уже много десятилетий
и стала глубокими округлыми движениями отсекать ломтища. Вспомнилась
удивительно ярко бабушка, умершая неизвестно когда. Ее глаза, старше лица,
призывали себя соблюсти, их умная угрюмость приказывала быть чистой и бояться
Бога в любви к Нему и к людям.
— Почему? Просто без выгоды для человека земля не может полностью себя
отдать для урожая.
Полная тревоги насмешливость немного меняла его голос, но Мальцев как будто
ничего не замечал. Он поцеловал Кате руку. Вернулся к комбайну и вырубил мотор
только с наступлением темноты.
За ужином Мальцев восхищался французской техникой, спрашивал о ценах на
землю, о формах кредита. Катя, легко управляя своим огромным, лишенным капли
жира, телом, несла на стол блюда и подливала ледяную водку в большой стакан уже
по привычке.
Голова Мальцева быстро нагрузилась хмелем, невеселым и не дающим забытья.
Глаза потускнели и стали глядеть внутрь себя. Он стал издеваться над собой:
— Садитесь, прошу вас. Прекрасная сегодня погода, не правда ли? Что вы, что
вы, дождя нынче не будет. А коммунизм не за горами, уверяю вас.
— О чем ты?
— О чем, о чем. Водка у тебя плохая, вот о чем. Ох,
пардон, мадам, она божественна. Катя стерпела. Сказала мягко:
— Не любишь, не пей. Он захихикал:
— Гадость и делают для того, чтоб ее пили. Вкусное каждый может. Ты вот
доброй хочешь почему-то быть. Давай, только тебя не надолго хватит. Да и
вообще...
Он становился омерзительным, Катя пыталась этого не видеть. „Он несчастный.
Надо ему помочь. Трудно ведь. Я ж тоже намучилась".
Катя погладила его волосы, плечи. „А я уж подумала, что он французом стал.
Мужик он, настоящий мужик".
Мальцев резко сбросил ее руку. Сквозь побеждавшую его водку он хотел
понять, почему он вышел из такой приятной роли быть легким, здешним, привычно
вежливым человеком.
Начала тихонько кружиться голова. Он покачал ею, сильно, долго. „Не, ничего
у меня не выходит ни в этой стране, ни в этом черном мире. И ничего не выйдет.
Ни-че-го".
Скривив лицо, Мальцев поднял глаза на хозяйку:
— Что, хорошо жить на этом белом свете, а? Хо-ро-шо-о-о. Глаза у тебя, ну
прямо телячьи.
Мальцев хотел ей сказать, что он вконец запутался, что не только ответы не
приходят, но и вопросы исчезают. Приходит пустота, а с ней — скука. Но вместо этого он вновь захихикал:
— Я вот возьму и стану чиновником. Настоящим. А ты останешься между двумя
стульями вместе с твоим имением. Нет, понимаешь, ничего, лучше, чем не думать и
считать, что это и есть полнота жизни. А ты вот, скажу тебе, невезучая. Здесь
тебя все равно иностранкой считают, хоть тресни. Уверен, даже твоим детишкам
неудобно, что их мамаша — русская. Ты везде чужая. В Союзе была бы
лягушатницей. Ты — пустое место.
Обида в Кате свирепела, клокотала. Мысли путались. Она глядела, как Мальцев
нажимал пальцами на глаза, тряс щеками, плечами, будто старался что-то
сбросить. Он вяло повторил:
— Пустое место.
Она пожалела, что не может его ударить — не научили, что не может даже его
оскорбить. „Почему не могу?" Стала искать, рыться в памяти. И произнесла
вдруг слово, которого никогда не произносила, которого, она была в этом
уверена, не могло быть в ее памяти:
— Антисоветский ты. Антисоветский.
Катя это слово выговорила с медлительностью и неуклюжестью ребенка, который
начал учиться читать.
Мальцев не расслышал. Он засыпал. Он уже спал. Так и не успев напоследок закусить
— изо рта у него торчал маленький кусок черного хлеба.
Катя хотела прикоснуться к нему — не зная для чего — и бросилась бежать.
Лежа в постели, так и не дождалась слез.
Голова Мальцева раскалывалась. „Вот это перепой! Чем бы опохмелиться?"
В бутылке на столе была еще водка, и Святослав, помучившись над ней несколько
минут, выпил залпом граммов сто, затрясся привычно. „Теперь надо повкалывать, с
потом все и выйдет. Ну и врезал же я. С чего бы это?"
Мальцев почти без перерывов просидел за баранкой весь день. Только первый
час от каждого толчка боль перепойная кочевала в нем, искала места понежнее.
Затем сила вернулась. „Эх, даешь, не даешь". Было приятно слушать ровное
гудение комбайна под собой. Да, здесь земля была послушной — рожала что надо и
сколько надо. Ровно ложились золотые квадраты. Мальцев оглядывался, улыбаясь,
щурился.
Во время короткого перекура он подумал, что ему сегодня больше, чем вчера,
хочется увидеть Бриджит, перекинуться с ней мыслями. Страсть будто иссякла, и
нежность сильнее заиграла своими тайнами. Мальцев ощущал их силу и повторил
себе, что не сделает первого шага. Он останется здесь, насоберет денег за
несколько лет, купит кусок земли, комбайн вот такой в рассрочку, будет со
своего порога мудро глядеть на закат.
Проходя мимо катиных окон, прислушался к тишине, поглядел на темноту.
„Зайти, извиниться? Но за что? Ну, выпил... Нет, не сегодня". Он вместе с
ночью зашагал к бриджитиному дому. Усталость прогоняла мысли, и Мальцев с ней
соглашался.
Катя смотрела ему вслед, звала вернуться, но рот не открывался, и рука не
дотрагивалась до занавески. Он хорошо работал, пусть закончит начатое, она
заплатит сполна, больше, чем португальцам, и пусть уезжает. И тут же решила
поехать в Ленинград.
После уборочной Катя закатила пир. Во дворе был зажарен на вертеле ягненок.
Мальцев, у которого зажили ребра, весело прохаживался между столами, потягивал
водку по-французски, мелкими глотками, приударял за пышной блондинкой, беспечно
говорил о себе, как о ком-то в прошлом:
— На Западе, видите ли, вкушают крепкие напитки языком и небом, в Советском
Союзе — горлом и потрохами. В этом вся разница. Вкус водки, например, ясен
русскому, только когда ее след еще живет в глотке, а она сама уже растекается в
груди. Именно поэтому в России пьют залпом и помногу разом. В Европе это
привычка, а в Сибири — необходимость. Помню, раз в тайге во время охоты на
волков я заблудился...
Мальцев разошелся, выдавал ножевые раны на груди и руках за следы волчьих
ласк, начал рассказывать о лагере, в котором никогда не сидел. К ним подошел
старший сын Кати.
— Я Клод. Мать мне о тебе много говорила.
Он был выше Кати и много мощнее в плечах. Уважение человека сильного к еще
более сильному сразу вошло в Мальцева. Так бывало раньше, и ни разу ему не
приходилось разочаровываться. Взаимное уважение бывает лучше дружбы, уважение
не требует доверия. Грубое лицо Клода обладало злым выражением, и одно плечо
изредка подергивалось. Они быстро нашли общую тему — море.
— Мать рассказала, как ты добрался до суши. Понимаю. Иногда ведь встречаю
ваши суда. На берег советские сходят редко. Я знаю, нет у вас там свободы.
Плохо там жить. У тебя там никогда не было своего судна?
Мальцев покачал головой:
— Нет. Запрещено. Частная собственность на средства производства запрещена.
Идеология говорит, что с ней человек эксплуатирует человека.
— А без нее?
— Государство эксплуатирует человека. Но это я говорю, не идеология.
Клод поморщился:
— Какая там эксплуатация! Я вкапываю с утра до вечера. И это мое судно. Что
мое — мое. Горбом заработал — несколько лет выплачивал долги. Конечно, и у нас
во Франции сволочей полно, акул сухопутных, но мы свободны. Куда хочу — туда
хожу, за кого хочу — за того и голосую, если вообще хочется голосовать. Трудно
было, не скрою, но теперь — корабль мой. „Русский" — так я его назвал,
потому как меня самого так кличут. Нет, не чувствую себя русским и не говорю
по-русски, просто из-за матери меня так зовут. Мне не жалко. Я просто хотел
тебе сказать, что понимаю, почему ты сбежал оттуда.
„Что мое — мое. Хорошо сказано. Только сколько людей так думало, пока им
головы не поскрутили".
— Слушай, Клод. Я бы хотел вспомнить, что такое море, вернее океан. Ты
сможешь меня взять с собой?
Тот подергал плечом:
— Конечно, только работаю один — платить не смогу. Каждый день выхожу в
семь утра. Без выходных. Сможешь меня найти в порту напротив булочной. Ладно,
потопаю, а то мать уже сердито смотрит. Так, значит, когда захочешь.
В Кате не было веселья. Урожай был хорош, год — знатен, а радости вот не
было из-за этого советского мальчишки. К Кате шел сын, а она видела
приближающуюся старость. Мальчишка стоял, а она видела приближающийся холод.
Душевный. Это было хуже зубной боли. Впрочем, у нее никогда не болели зубы.
Гостей было много, и Катя рьяно бросилась на кухню — тащить людям радость и
забыть о себе.
Всю ночь, весь долгий сон дул по Мальцеву беспокойный воздух; кто-то
раздувал щеки, прищуривался и бросал человека к гигантской пасти истины и нужно
было проскочить между ее кривыми зубами.
Наутро Мальцев был в просыпающемся порту. Прохлада пробиралась под одежду.
От сна остался лишь маленький испуг, похожий на чувство, живущее под ложечкой
каждого моряка, давно не выходившего в море. Каждый раз в Мурманске он смотрел
на влажный горизонт с надеждой, зная, что за ним вода, опять вода и так до особой
суши, запрещенной и прекрасной. Мальцев разочаровался не в ней, а в себе. Эта
чужая земля была ни при чем, но так хотелось ее проклинать!
Выходили лодки с хмурыми людьми на них. Это было знакомо Мальцеву. После
запах моря вызовет жажду, азарт. „Русский" был довольно маленьким
суденышком, казался хрупким. „Беззащитный дурак на беззащитной посудине".
У подошедшего Клода при виде Мальцева развеселилось лицо:
— Так ведь уборочная еще не кончилась. Надоело быть мужиком? Соскучился?
Смотри, а то сегодня ветер силен... хотя у вас там и не такой бывает. Ну,
здравствуй. Я, в общем-то, рад, что ты пришел. Но смотри, старуха будет в
бешенстве, она ведь говорила, что ты хороший работник.
Мальцев махнул рукой:
— Я не нанятый, я — свободный человек.
Он не верил ни одному своему слову, но в ту минуту это не имело значения.
На суденышке не было и следа сетей.
„Может, браконьерствует? Динамиту, небось, достать тут не так трудно. Черт,
а морда ведь у него честная, непохоже как-то".
Мысль взлететь на воздух показалась ему вполне естественной.
— От той войны мины остались? Не довелось тебе парочку выловить?
Клод вертел штурвал, опытно проходил к выходу из порта.
— Нет. Давно их нет. Вообще война была на радость рыбам. Рыбачить было
запрещено, она и разводилась до невероятного количества. Мне рассказывали, что
уловы были потрясающими, правда, и цены стали никудышними.
— Что мало, то и дорого. Это банально, но именно поэтому мы любим больше
всего самих себя.
— Что ты говоришь?
— И пытаемся себя понять, и лелеем свои чувства.
— Что ты там болтаешь?
Мальцев замолчал. „Русский" выходил, подпрыгивая, в открытый океан.
Тело вспоминало, приспосабливалось, находило точки опоры, начинало следовать
ритму палубы. Мальцев увидел на палубе несколько ящиков, края были утыканы
крючками. Он понял: переметы. Рядом валялись запасные буйки.
„Как мило. Парень ловит рыбу переметами. Как в старое доброе время".
Клод объяснил, что знает неглубокие места, где водится... Мальцев не
запоминал названия рыб, а если и удерживались они в памяти, то он не мог перевести
их на русский. Были сорта, стоившие пятьдесят и больше франков за килограмм —
на них Клод и метил. В нужном месте его ждут десять переметов. При нормальной
удаче выходило до полсотни килограммов за утро. Жить можно. Для него это не
только работа, но и охота. Без нее существование было бы серым.
— Бывает у вас наоборот — что рыбаки идут кормить рыб?
— Конечно, бывает. Как везде, правда? И не только непогода, поломки. В
перемете тоже смерть прячется. В прошлом году я закидывал, так один крючок мне
руку и пробил, а груз был уже за бортом. Я успел схватиться за мачту, иначе...
И так держался более часа: груз тащит крюк, а крюк — руку за борт, на дно, а
другая рука держит мачту. Ни отпустить, ни схватить нож, бритву — сразу бульк.
Наконец крючок сломался о кость. Был бы я послабее — жена была бы уже замужем
за другим несчастным кретином.
Мальцев посмотрел на Клода с восхищением: „И здесь растут с кишками в пузе.
Молодец, сучье вымя".
Клод одновременно и управлял судном и проверял свои снасти. Груз тащил леску
с крючками, на которых жили-манили рыбу маленькие крабы, а система поплавков
поднимала леску со дна на нужную высоту, ту, что посещает дорогостоящая рыба.
Мальцев быстро втянулся в работу — напрягая все мышцы, тянул двадцатиметровую
леску и дрожал от восторга, чувствуя рывки. Забываясь, говорил с Клодом
по-русски. Улов был большой. Палуба уже жила местами рыбьим умиранием. Мальцев,
смеясь, бил тушки ногой по головам, шептал:
— Ух вы, мои хорошие, ух вы, мои милые.
Особенно ретивой рыбине он придавливал хвост и водил любовно концом
резинового сапога против чешуи.
Клод несколько раз повторил, топнув о палубу:
— Он „Русский", ты русский, а мне, французу, везет.
Солнце только-только начинало уставать, когда распаренный Мальцев выбросил
за борт последний буек последнего перемета. Ему не хотелось возвращаться на
землю, там его могли ждать старые страхи или их ожидание. А океан, которого он
так остерегался и к которому его так тянуло, не принес нового. Ничего не
произошло. Клод ему дал штурвал, и Мальцев с невольной детской радостью —
большая игрушка — повел судно к порту. Он с дружбой во взгляде наблюдал, как
Клод хозяйственно перебирает рыбу, взвешивает ее на руках, шевелит губами:
— Рано мы сегодня закончили. Хорошо пошла. Я угощаю.
Большая плотная масса его тела четко выделялась на фоне неба и воды, грудь
жадно заглатывала воздух. Мальцев подумал: „Вот как надо жить! Сам себе
хозяин!"
Мираж длился весь день до позднего вечера. Они пили какую-то белую муть под
названием пастис, запивали пивом, коньяком, арманьяком, маром, кальвадосом.
Мальцев рассказывал московские анекдоты, разные случаи из жизни, опять
показывая шрамы, но врал на этот раз мало — было ощущение, что здесь все свои и
могут потому легко обличить. Обниматься не обнимался, но долго хлопал Клода по
плечам, говоря по-русски: „Ты свой в доску. В доску. Не боись". Тот не
понимал, но лопотал: „Ну что, мы корешки?"
Возвращаясь на Булонову дачу, Мальцев шептал нараспев: „Не боись, не боись,
боись, боись".
Велосипед выписывал кренделя, встречные машины шарахались, а он весело
смеялся, и мысли его были не пьяными и не задними, у них была просто форма
велосипеда, и они шуршали об асфальт. Тоже счастье.
Когда опасность миновала и фары перестали трогать ночь, Мальцев запел,
сначала по-русски:
Я служу на границе,
Где полярная мгла.
Ветер в окна стучится,
Путь метель замела...
Затем по-французски „Марсельезу". Подъезжая к дому, он уже завывал
одну из татарских песен, выученных в Казани.
Мальцев окончательно проснулся на следующее только утро опять в порту и не
без удивления посмотрел на велосипед под собой. Походил взад-вперед, стараясь
понять, для чего он тут... пожал плечами.
Через два часа Святослав Мальцев полетел за борт. Ветер появился быстро
из-за угла горизонта, нагнал судно, стал издеваться.
Клод, морща перепойное лицо, вцепился в штурвал:
— Ерунда. Скоро стихнет. Небо, гляди, почти чистое. Хорошо мы вчера
побаловались, а?
Мальцев с трудом вспомнил обрывки разговоров, веселья, что пел на разных
языках, что цеплялся как будто за французский. Для чего?
Задумавшись, он отпустил штангу и стал прикуривать. Как раз ударила волна и
поверху ее тугой воздух. Взгляд прыгнул вбок, вниз, подмел борт. Пальцы в узких
непромокаемых сапогах скрючились, захотели въесться в палубу; руки замахали,
умно, но очень некрасиво, и как раз, когда тело Мальцева стало возвращаться к
равновесию — лопнул тросик. Он был ветхим давно, еще до рождения этой глупой
лодки, на которой он, натянутый до предела, должен был сделать вид, что
поддерживает не нужную никому мачту. Он все же постарался — по должности —
выдержать и на этот раз, но ветер, родившийся над лагерем, в котором должен был
бы сидеть Мальцев, пришел, ударил из-за угла, резко и ядовито. Лопнув, трос,
толкаемый качкой, ветром и собственной силой, ударил его.
Мальцев знал, что везение есть часть всеобщей уравновешенности, но вспомнил
об этом много позже. Удар пришелся по самой безопасной части горла.
Мальцев не потерял сознания; выплюнув воду, он поглядел на быстро
исчезающую лодку, поднял, мыча, глаза к небу.
Ни падения, ни как вошел в океан, Мальцев не почувствовал — лежащее в нем
откровение, от которого он так долго защищался, взорвалось, как любовь
подростка. В кусочек времени — падал, летел, упал — врезалось странное своей
ясностью понимание того, что наименьшее зло на этой чертовой земле надо искать
там, откуда он убежал. В Союзе. Понимание остановило дыхание. Мальцев услышал в
себе шум, напоминающий удар человеческого затылка о камень. И застонал — и
жалко, и угрожающе.
Он лег на спину. Ноги заработали сами. „До ближайшего берега — километров
двадцать. Либо надо плыть до Америки. Через океан. Снять сапоги, что ли? Все
равно ведь все наоборот в этой дурацкой жизни. Все зря. Так пусть и будет все
зря и дальше".
Все старания, весь риск были, значит, лишены смысла. Все, что он делал,
благородные поступки и подлости, изнурительные и поедающие компромиссы были
глупым насилием над самим собой. „Я, что ли, себя самого всю жизнь
обманывал?" Вопрос был занятным, но чтобы ответить на него, нужна была еще
одна жизнь.
Действительно трудно оценить, сколько в тебя, а главное, что в тебя вложено
воспитанием, и сколько родилось понятий, твердых концепций в результате борьбы
с ним. Он обо всем этом думал, будто сидел в Ленинской библиотеке.
Намокшая одежда тянула вниз, ноги уже с трудом работали в набравших воду
сапогах. „Закурить бы!" Его потянуло забыться, обрести полный покой. Нужен
был для этого пустяк — перестать двигаться, а там, под водой, будет
судорога-другая глупого тела — и все.
А мысли продолжали спокойно катиться в такт очередной волне. Он подумал,
что ведь никогда не шел открыто против власти, что он всегда предпочитал
унижения лагерю. Только раз он еле сдержался.
Мальцев тогда устроился в одном приуральском совхозе механиком. Деньги шли
хорошие, одиноких женщин было много, да и самогонка текла — дешевая — в той
дыре. Мальцев решил остаться подольше, и все было бы славно, если б не умер Хо
Ши Мин...
Мальцев оторвался от воспоминания, чтобы удивиться своему спокойствию и
решить: „Это оттого, что вдруг пустым стал. Забавно все-таки, мне, может,
осталось несколько минут жизни, а я себе думаю о том вьетнамце с козлиной
бородой... у того, который меня скоро примет, тоже будет такая борода, только
побольше — как пить дать... А вода все-таки теплая".
В мехмастерской устроили тогда по Хо Ши Мину поминки. Это был чудесный
повод выпить, и хохот ребят поднимался, казалось, над всем Уралом. Самогон и
огурцы тащили ведрами.
— Ну, за старика Хо Ши Мина! А что, нарубил, б..., дров! Что, скажешь нет?
— Все равно выпьем! Сам знаешь — слава Богу и не дай Бог, вот тебе и вся
мыслишка.
Пили трое суток. Не так много, но Мальцев все же забыл об осторожности. Он
начал:
— Эй, халва, слушайте. Вон видите самогонку? Чиста она? Чиста. Крепка?
Крепка. Чище и крепче водяры за четыре двенадцать. А почему? А? Почему левая
работа лучше сделана, чем законная? А? Что? Да брось ты, говорю, что есть.
Подумаешь, великое дело... Знаешь, был такой французишка Бомарше; так он
написал: „Без свободы порицания не бывает лестной похвалы". Понял?
— А мне нечего это самое... Только у шишек другая мыслишка в черепушке
записана: „Начальство надо любить, а не критиковать". Знаешь?
Мальцев не захотел и тогда расслышать очередного предупреждения судьбы. Он
был пьян, молод и самодоволен — три недостатка, которые, встретившись,
становятся взрывчатыми.
— Знать не хочу. Что я, тля или человек? То-то.
А вы о Бухарине слышали? Неучи. Тупые, как сибирские валенки!
Он довольно долго приоткрывал перед собравшимися завесы над запрещенными
знаниями.
Наконец, кто-то сказал:
— Красиво. Только брехня все это. Кто тебе всего такого понарассказал?
По-твоему, выходит, что кулачье — настоящие работяги, а буржуи вообще хорошие
люди. Слышал я в жизни анекдоты, но такого...
Мальцев вновь оторвался от прошлого, почему-то нужного в этом глубоком
вандейском море. Тело уставало быстро, но сил в нем было еще много. Он хотел,
было, решить, стоит все-таки или нет бороться за жизнь, а голова стала уже
вертеться по сторонам, отыскивать лодку Клода — тот должен же в конце концов
заметить, что гостя нет более на палубе.
„А, цепляешься за свою шкуру". Он рассмеялся неожиданно просто и
весело. „А что, одна только душа и останется, а она у меня, небось, не такая уж
белая, чтобы вот так по собственному желанию белый свет покидать... Что же я
тогда тому кретину ответил?"
Он тогда в Сибири ответил парню и всем, морщившим лбы:
— Вы — безбородые козлы. Научили вас, мальчишек, любить добро и ненавидеть
зло, а что это такое — вам подсказали, затем застолбили в мозгах. А дело на
самом деле в другом. Дело в глупости. Когда власть глупа, она неспособна вести
хозяйство, и это, поверьте, гораздо хуже, чем нерадивая домашняя хозяйка, хуже,
чем горькие щи. Глупая власть невыгодна. А потому для нас буржуй выгоднее, чем
морда из обкома. Понимать надо. Первый, умный, будет вынужден отдать тебе кусок
своей выгоды, а наша шишка возьмет себе, сколько ему положено, а если он шишка
в квадрате, то сколько хочет — и плюнет тебе в душу. Он же материально не
заинтересован, как буржуй. Председатель колхоза, будет урожай или нет, свое
возьмет, а кулак знает, что погибнет вместе с работником, или уж во всяком
случае потеряет очень многое. Нет ничего хуже невыгодной сильной власти. Это
понимать надо. Дубари чертовы! Это же истинная диалектика!
Уже тогда Мальцев повторял свои доводы о существовании некрасивого, но все
же наименьшего зла, которое куда человечнее кровавых, а главное, глупых поисков
красивого добра.
Его арестовали через несколько дней. Оперуполномоченному, вероятно,
сказали, что здесь политических процессов никто не хочет. Чтобы было логично:
раз поймали политического, значит, он не один... значит, мучайся, ищи статьи,
находи свидетелей, устраивай сложнейшее следствие. Кроме того, могут сказать:
они, что, вчера стали политическими, а? Куда смотрели? Где была бдительность?
Явно приказали оперу: посадить гада, но дать ему уголовный срок. Тот и
старался, но найти ничего не мог. Во-первых, Мальцев вел себя осторожно — не
считая поминок по Хо Ши Мину, — а во-вторых, теперь уже не те были времена,
чтобы люди со страху говорили сразу, что подскажешь. Нужно было самому
выпутываться. Все допросы без пристрастия ни к чему не привели, гад ко всему
еще и осторожно издевался. Пришлось прибегнуть к более радикальным мерам.
— Признавайся!
— Не в чем.
Удар кулака разбил губы Мальцева, а еще удар вызвал обильную кровь из носа,
затем в щеку вонзилось грязное от засохших чернил перо. Он постарался
усмехнуться распухшим ртом... Это ему легко удалось. Было, в общем, привычно
получать удары. Удовлетворение платить ударом за удар было роскошью, а драка
один на один была редкостью, поэтому быть избитым не было позором. Нужно было,
судя по возможностям, либо бить, пока хватит сил и равновесия, либо терпеть,
пока не надоест бьющему или пока он не обессилит. Оперуполномоченный, которому
давно надоело быть лейтенантом и прозябать в этой районной дыре, скоро понял:
сволочь! не брыкается, не даст повода! Желание быть сильнее и победить
захлестнуло оперуполномоченного. Он нежно сказал, вытирая мокрый от крови
кулак:
— Ты здесь не в Москве, где с вами нянчатся. Я тебя научу уважать советскую
власть.
— А я ее и так люблю. Почем знаете?
— Смейся, смейся.
Пока двое в гражданском заходили в кабинет, пока, повинуясь жесту
оперуполномоченного, крутили руки Мальцеву, лейтенант пил воду из графина на
столе. Кивнул.
— Вода. Ты даже не представляешь, насколько она нужна прогрессивному
человечеству.
Когда он, идя к Мальцеву, стал медленно расстегивать ширинку, тот почти все
понял. Мальцев рванулся и, ощутив, что те двое его держат вполсилы, понял на
этот раз все и вся до мельчайших подробностей. Для него это был один из еще
неизведанных видов издевательства. Тем более трудно было сдержаться, что его
все-таки держали четыре руки — когда легко ломаешь, казалось бы, большую силу,
это всегда вызывает бешеную радость. Да и опер был плюгавым...
„Неужели это было?". Мальцев закрыл глаза, чтобы не видеть больше
французского неба над собой. Он вновь с удивлением отметил отсутствие страха в
себе. „Было. Было. Нельзя забывать". Тяжесть ушла из ног, мышцы приучались
к постоянной работе в воде. „Утонуть?" Он уже знал, что будет бороться до
последнего глотка кислорода.
...Его заставили стать на колени, и, когда лейтенантова моча ударила в
лицо, Мальцев закричал от боли в руках — судорога бешенства перекинулась на
скулы. Умереть он был согласен, но примириться с поражением не мог. Шея
вздулась, кровь в ней одурела, бросилась к глазам. Он упал, ударившись
подбородком о пол. Когда глаза обрели зрение, Мальцев увидел лейтенанта и
поразился невольно грузной усталости, охватившей только что
злобно-торжествующее лицо. Оперуполномоченный сказал с неподдельной грустью:
— Видишь, до чего дошли? Даже такую гниду, как ты, раздавить не могу. Ты же
враг. Куда страна катится? Эх... Ладно, что делать, убирайся, и чтоб я тебя в
районе больше не видел. На случай, если ты дурак, предупреждаю: никто тебя
здесь никогда не видел... Эх, что будет, если такие, как ты, выходят отсюда.
Пошли времена...
„Я тогда не понял, что он не только жалел о своей слабости. На деле он
инстинктивно боялся за власть, с которой связана его жизнь, его будущее. Он, в
сущности, меня боялся. А я не понял, не понял".
Мальцев погрузил голову в океан и провел несколько раз рукой по щекам,
словно продолжал смывать мочу лейтенанта. „Какая чушь. Это он просто из страха
обоссался. Только и всего".
Мальцев с удовлетворением ощутил на себе подводный ветер, улыбнулся,
перевернулся на спину и, увидев взволнованные глаза Клода, стоящего на палубе с
багром в руках, подмигнул самому себе, прошедшему разговору с прошлым.
У Клода от изумления отвисла челюсть, но он все же профессионально
отреагировал: подвел „Русского" вплотную к этому русскому психу, бросил
багор и рывком, вцепившись в одежду улыбающегося чудака, вырвал его из воды.
Тот встал на ноги, покачался, привык к палубе и уже на этот раз не
подмигнул, а кивнул:
— Привет. Как дела? Клод перевел дух:
— Нахальный ты малый, вот что я тебе скажу. Откуда ты такой взялся? Знаю,
из России. Что там, все такие? А если б ты утонул, знаешь, какие у меня были бы
неприятности!
— Не знаю. Знаю только, что у меня их бы не было.
— Что? Ты рехнулся? Это еще хорошо, что оглянулся посмотреть, что ты там
делаешь. Главное не знал же, когда именно ты упал за борт. Судя по расстоянию —
прошло четверть часа. Это я теперь могу более или менее вычислить... Но ты
спятил! Ты даже сапоги не скинул, куртку тоже. Тебе что, сдохнуть захотелось?
Так и скажи, я тебе тогда помогу, но не здесь, не на моем корабле. Ясно?
Мальцев задумчиво склонил голову на плечо:
— Четверть часа. Всего пятнадцать минут? Может ли такое быть? Мне кажется,
прошло больше времени, чем я вообще прожил. Столько всего случилось. Закурить у
тебя нету?
Клоду этот чудила нравился, хотя всяких интеллигентов он терпеть не мог.
Этот русский был странным, но его странность не отталкивала, скорее привлекала:
от нее даже можно было с нетерпением ждать чего-то интересного для себя — такое
бывает, когда тащишь перемет.
Он обнял Мальцева за плечи:
— Я тебя понимаю. Для океана мы все — женщины, которых можно то баловать,
то насиловать. Кстати о птичках: я тебя сегодня поведу к мировым шлюхам. У них
— во!
Мальцев сделал жест, выражающий безразличие:
— Ладно. А то я завтра уезжаю. В Париж возвращаюсь. Выпить у тебя ничего
нет?
— Нет. На работу никогда не беру... Нужен тебе Париж. Оставайся.
— Не могу.
Мальцев прищурился:
— А аптечки у тебя нет? А в той аптечке спирту нету?
— Есть.
— А ты говоришь, что выпить нечего.
Клод поднял глаза наверх и плюнул вниз. Входя в порт, он, не удержавшись,
заметил:
— Ты бы хоть шею помазал — она ж у тебя вся разодрана. Теперь на всю жизнь
шрам будет. На память.
Мальцев выдохнул спиртной дух, помахал ладошкой перед белым изнутри ртом:
— Чего? Добро переводить?! Еще чего. А насчет шрама не беспокойся. С тех
пор, как я в твоей благословенной стране, меня бьют без передышки все подряд.
Настал черед французской демократической стихии, только и всего.
Клод нахмурился:
— Не нравится тебе Франция?
— Нет, не нравится.
— А что тебе нравится?
— Россия.
— Так нечего было тогда оттуда бежать.
Мальцев не ответил, не усмехнулся, не нахмурился. Он только подумал, что
быть живым не так уж плохо. А шрам на шее... что же, шрам — украшение для
воина.
Благодаря спирту в крови, неглубокая рана болела слабо. И случилось так,
что он как бы наблюдал за собой со стороны. Пока Клод по прибытии в порт
отдавал на базе рыбу, Мальцев решал, идти или нет с ним к шлюхам.
Для него русская матерщина не имела реального значения, звуки
произносились, но мозг не регистрировал их смысла, потому грязь и оскорбления,
живущие в мате, не чувствовались.
Но мат Клода, а матерился он без передышки, Мальцев переводил с французского,
и это его коробило.
— Знаешь, я все-таки чертовски устал. Поеду домой. Да и завтра мне ведь в
дорогу. Но спасибо за приглашение. В другой раз.
Клод хлопнул его по плечу.
— Понимаю. Ты не думай об этом, с каждым может случиться. Приходи, когда
хочешь.
Мальцев спокойно следил, как тот затерялся в толпе. Затем стал следить, как
он сам медленно пошел к магазинам, как, используя все бездумные выражения
вежливости, купил вино, хлеб, сыр, при этом тщательно выбирая. Некоторые
посетители поглядывали на его еще не совсем высохшую одежду, на шею. Мальцев
отметил их неназойливое любопытство и подумал с удовлетворением, что на их
месте поступил бы так же. Ему стало забавно, что он добился внешней схожести с
французами, как раз когда ему на голову — и на этот раз окончательно —
свалилась своя, советская истина. Мальцев с уже привычной полуулыбкой
расплатился, вышел, на каждом шагу извиняясь, из магазина и, отыскав велосипед,
отправился на Булонову дачу доживать в ней последний вечер и ночь.
В дверь постучали — открыли. Мальцев в то время спасался от спирта
неторопливой силой вина: ноги просыпались, вены под кожей на висках невидимо
темнели. На глаза нажимало изнутри злое спокойствие. Катя неприятно наполнила
собой комнату.
— Ты почему на работу не выходил последние два дня?
— А я не нанятый. Может, уволишь за прогул или по милости только объявишь
строгий выговор с занесением в трудовую книжку? А ежели за тунеядство захочешь
посадить, то учти — три месяца надо прожить без государственной
жизнедеятельности, чтобы можно было за ушко взять да на солнышко выставить, и
то, в данном неполитическом случае, тебе трудно будет — я справку с места
работы куплю.
Издевательство в голосе Мальцева не ускользнуло от Кати. Она действительно
была возмущена тем, что Святослав не вышел на работу — было потеряно много
времени, а значит и денег, и она было решила не заплатить ему. „Пусть пеняет на
себя". Затем задумала дать — выплюнуть с презрением — максимум.
Вложив в конверт деньги, она побежала к Святославу. Ей хотелось широким жестом
бросить на пол конверт, смотреть сверху вниз, как он будет нагибаться, брать,
нервно считать.
Но холодное глумление Мальцева не давало возможности бросить конверт. Катя
поняла, что его можно ранить только каким-нибудь словом. Наугад вытащила
нужные:
— Знаешь, в конце концов все это не так важно. И без тебя все сделали. Но я
хотела побыстрее справиться с хозяйством. Я ведь на будущей неделе поеду в
Ленинград. Хочешь поехать со мной?.. Ах да, я забыла, прости, что ты никогда
больше не сможешь вернуться в Россию. Хочешь, я тебе подарок привезу?
Мальцев потихоньку перевел дыхание, расслабил мышцы, разжал пальцы, легко
коснулся двумя пальцами переносицы — и все вышло очень хорошо: он ничего не
разбил, не угробил эту женщину, ничего не понимающую, не подозревающую, что
только громадным усилием воли он заставил себя сдержаться. „Скажи спасибо, что
— дура".
Он с удовольствием услышал свой спокойный голос:
— Счастливого пути. Только почему в Ленинград? Впрочем, понимаю. К чему еще
могут тянуться такие отщепенцы, как ты? Люди, которые ни за, ни против и только
перетаскивают всю жизнь свой живот с места на место? Люди, видишь ли,
потерявшие ощущение своей страны до того, что ездят туда туристами? Конечно, в
Питер. В этот фальшивый, дутый, уродливый, глупый город. Так что — понимаю.
Кате казалось, что и во время войны она не испытывала такого унижения, как
сейчас. Тогда мучились все, и всегда рядом находился человек, страдающий
больше, сильнее. Теперь она была одна, не хотела ни есть, ни найти тепло, ее
жизни никто не угрожал, однако она ощущала — себя не понимая, — что с ней
происходит страшное. Катя впервые могла по-настоящему, не только на словах,
убить человека. Она побелела до синевы. Не было времени вспоминать привычно
доброго Бога детства, всесильного дедушку, Бога-ощущение отрочества и
подсознательного Бога-совесть сегодняшнего дня. Нужно было выдержать, подождать
и все-таки бросить на пол конверт. Непременно. Катя до слов Мальцева не
представляла себе силы своей привязанности к Ленинграду. Она, конечно, любила
говорить об этом замечательном городе своим знакомым, перечислять поименно
своих многочисленных друзей там, среди которых было много интеллигентов — это у
нее, родом из вонючей деревенской дыры. А как светло бывало на душе, когда, идя
по Невскому зимой, под легким снежком, она чувствовала взгляды, скользившие по
ней, по шубе. Все было ее, стоило только раскрыть руки. Кругом была русская
речь, и она шла сквозь нее совершенно выделяемая на общем фоне. Как-то ее
попросили продать зажигалку либо шариковую ручку. Она вытащила легкомысленным
жестом из сумки ручку и отдала ее, добродушно отказавшись от денег. Тот человек
— он был молодой — долго шел за ней, прося, как он выражался, телефончик,
встречи. Катя привезла с собой подарки, вызывающие восхищение, а там, на
Невском, заходила в валютный магазин и вновь покупала подарки. Везде ее
встречали с радостью, для нее небывалой. Сам город был волшебным своей
стройностью, красотой, изяществом, своей гостеприимностью. Он был любим ею, а
эта сволочь, да, да, предатель... наверняка предатель... и так все испоганивший
— душу... все... и эту красоту хочет осквернить.
Неистовое мычание все же не вырвалось из горла Кати. Она спросила, прижав
руки к груди:
— А почему это Ленинград такой, как ты говоришь?
„Ишь, как волнуется, аж хрипит. В Питер хоца, а? Быть нашим-вашим хоца.
Иностранцем богатым погулять. Ладно!"
Мальцев не замечал, как его насмешка становилась добродушной. Простое в
сущности знание о необходимости борьбы за возвращение в Россию лишало его
постепенно чувств по отношению к иностранцам, советским или нет, к
приспособленцам, к которым он, того не подозревая, принадлежал еще вчера. Боль
от Катиных слов оставалась, но уже относилась не к прошлому — к хандре, тоске,
отчаянию, а к будущему — к закипавшей решимости. Но об этом, для него еще
безумии, Мальцев не думал. Ему казалось, что он просто сводит счеты с
Ленинградом, а заодно и с этой, в общем, милой женщиной. „Ладно, я те покажу.
Давно ведь хотел".
— Я постараюсь тебе объяснить попроще и покороче. Не буду подробно и банально
описывать строительство этого города, скажу только, что никогда в Европе на
основании города не погибло столько народа. Он стоит на костях. Это банально,
но все же не чепуха. Его строили, как рыли древнекитайские или наши советские
судоходные каналы, то есть не считаясь с потерями в человеческом материале.
Далее: элементарное знание истории, географии и политики подсказывает, что
строительство столицы государства на его границах — глупость, а тут, учитывая
климатические условия и болотистую местность, — отвратительная глупость.
Мальцев видел, что Катя не верит ни одному его слову и что внимание ее
занято чем-то другим. „Думает, как бы мне поменьше заплатить".
— Какой самый красивый город в СССР? Конечно, Ленинград! Да ты свернула
хотя бы с Невского, углубилась — нужно пройти метров двести вбок, не больше — в
улицы с тупыми сырыми красными домами... поглядела, как большинство людей
живет. Так нет, небось попрешь по Невскому, как голодная на мужика! Противно.
Последние слова Мальцева разбудили все разом. Она встала, захлебываясь от
ярости, возмущения за Ленинград, от злобы на оскорбителя, на мерзавца, которого
она приютила, накормила, которому работу дала и который отплатил самой черной
неблагодарностью. Увидев на шее Мальцева рану, захотела ударить по ней, но
вместо этого вынула наконец конверт и с силой бросила ему в лицо. Закричала
истерически:
— На! Заплатила! Тебе! Тебе!
И выбежала из Булоновой дачи. Слезы яростной желчи окрасились грустью. Было
удовлетворение от того, что последнее слово осталось за ней. Но из-за этого
человека Катины чувства стали шире, чем раньше, и теперь нечем было наполнить
опустевшее место. Только в кровати, читая Есенина, она поняла, что ей нужно:
поехать как можно скорее в Ленинград.
Мальцев задумчиво потер нос. „Чем меня только не били, но чтоб деньгами,
это уже действительно впервые. Надо было сказать, что есть там все-таки
Эрмитаж, сразу успокоилась бы".
Благодаря конверту, он мог спокойно вернуться в Париж, не спеша устроиться
на работу, встретить, не теряя лица, Бриджит и решить, что же ему делать, чтобы
вернуться домой.
В поезде он, громко и весело рассмеявшись, сказал себе: „Чтоб вернуться
домой, друг Мальцев, нужен пустяк — всего-навсего свалить самый сильный из
тоталитарных режимов в мире".
Глава десятая
РЕВОЛЮЦИИ ПОКА НЕ БУДЕТ
Приехав в Париж, Мальцев остановился перед витриной мясной лавки и
постарался истребить появившееся завистливое восхищение. Не вышло. Он тогда
попытался представить себе такую витрину в Москве. Перед внутренним зрением
мелькнули закрытый распределитель, валютный магазин, но и то — они были
победнее. Тогда Мальцев перенес лавку в колхоз — она не переносилась. Мальцев
вновь попытался — глаза сильно зажмурились — изобразить туши, ловко
разделанные, и возвращающуюся с поля тетю Пашу... тетю Пашу, думающую, что
взять на ужин — бифштекс, антрекот, филе или еще Бог знает что. Получилось, что
Мальцев в Париже издевается над ничего не подозревающей в Пензе тетей Пашей. А
туши так и остались перед его лицом.
Мальцев, к своему удивлению, не рассердился. Зависть к мясной лавке была
спокойной.
Пожав плечами, он пошел прямо к Тане, к этой французско-русской женщине,
считающей его разновидностью русско-советского фольклора. Он был готов
отправиться к черту на рога, лишь бы не уступить, не пойти на поклон к Бриджит.
Истина, которую он нашел или которая нашла его в океане, перла теперь впереди,
огромная, орущая, но вместе с тем неясная, мутная. Он же, Мальцев, плелся
позади, думая, как бы притянуть к себе свою цель, заставить ее обрести
четкость... получалось, словно он вяло шаркал подошвами по мостовой, в то время
как рядом бодро вышагивал его духовный скелет (требовал мяса себе, жил, нервов
— души, мол недостаточно для живого). ,,И то неплохо, начало есть".
Мальцев, толком не замечая, вышагивал уже легкой походкой, не напрягая спины,
не ожидая инстинктивно возможного удара. Легкие глаза западноевропейцев не
смущали его более, и толпы не злых на бытие людей не удивляли.
Таня с первого взгляда отметила, что Мальцев резко изменился.
„Самодовольный стал".
— Что с тобой? Где был? Что с тобой случилось? Мальцев шутливо подвигал
глазами:
— Гулял. Туды-сюды. А если честно, то за это время я из микрокосмоса
перелез в макрокосмос. Понимаешь?
— Нет. Водки хочешь?
— Хочу.
Идя на кухню, Таня подумала: „Не надо было предлагать. Сейчас напьется эта
советская дубина на мою голову".
После того как ее избил Синев, Таня обнаружила в себе страх к Мальцеву. Он
как бы все расталкивал вокруг себя, бессмысленно и зло. Таня стала вдруг ценить
свою жизнь, что была до знакомства со Святославом. Она казалась теперь
нежно-упорядоченной, легкой, без безобразного надрыва. В ней не было нужды быть
вечно начеку, готовой к неожиданному. Тогда, после ухода Мальцева, к ней зашел
Коротков, ее маленький Игорь, который был давно в нее влюблен и с которым ее
водили в детстве в церковь. Он зашел, и Таня, увидев его, почувствовала себя
красивой. Ее коротковатое крепкое тело словно удлинилось под взглядом
Короткова, стало изящным. В Тане проснулось чудесное стремление к сдержанному
кокетству. Он ее обнял, и она облегченно заплакала. Она возвращалась издалека к
нормальной жизни.
Теперь, когда Мальцев пришел и только и сделал, что вежливо сел, у нее было
такое впечатление, что он мимоходом пробил кулаком потолок, сдернул со стола
скатерть, перебил посуду, разорвал шторы. „А если он еще водки захочет...?"
Вернувшись в комнату с бутылкой, Таня встретила открытый дружелюбный взгляд
Святослава. Это было так на него непохоже, что Таня мгновенно ослабела в своем
решении решительно противостоять его будущим домоганиям. „Все равно недолго
ведь осталось..."
Он выпил стопку и от второй отказался. „Господи, как он изменился. Но что,
что его могло так переродить?.. Или кто? Может он влюбился?" Догадка эта
показалась Тане неприятной. „Ну и пусть!" Несколько замявшись, Святослав
начал:
— Тань, мы... м-м-м-м... с тобой друзья, правда? И...
Таня, торопясь, перебила его:
— Конечно, мы друзья. Тем более, что я выхожу замуж. Знаешь, за кого? За
Короткова. Ах да, ты ведь его не знаешь. Он хороший.
Мальцев улыбнулся. Он понял, что она защищается нападением.
— Это редкое качество. Поздравь его за меня. Таня прошила взглядом его лицо
— всюду было странное для Святослава добродушие.
— Не смейся, Свят, это ведь так важно. Нужно, наверное, быть женщиной,
чтобы это понять. Кроме того, только это пока тайна, ты это учти, я —
беременна. У меня будет ребенок от Короткова. Я очень счастлива. Не бойся, я
подсчитала, что, слава Богу, не от тебя. От него.
Мальцев облегченно вздохнул. „Как хорошо, что у нас с ней все так мило
кончается. А еще находятся козлы, утверждающие, что счастье банально".
— Я рад, я правда очень рад за тебя, правда! Слушай, давай еще выпьем по
этому случаю. И вот, что еще тебе скажу: я знаю, что ты из-за меня испытала
много неприятностей... и от меня тоже. Прости меня и будем друзьями. Трудно,
знаешь, вот так привыкнуть к жизни в совсем чужой стране. Нервы, они не
железные. Вот и валял дурака... Теперь все это в прошлом — становлюсь, так
сказать, серьезным человеком. Как? Договорились?
Таня не выдержала:
— Да, да, конечно! Но, слушай, что с тобой произошло? Ты что, влюбился?
Мальцев был далек от желания говорить Тане правду, его только уколола
невозможность быть искренним даже, если бы он захотел, — на Танином лице
появилось агрессивно-кошачье выражение, хотя она и пыталась оставаться только
другом, желающим блага другу.
„Как же, как же, люди часто хотят искренности, чтобы потом мстить за нее. А
бабы — в особенности. Я тебе про Бриджит скажу, а ты потом — не нарочно,
невольно, просто сильнее тебя станет — мне гадость устроишь. За то, что другую
люблю, а потом за то, что меня не любишь. Избавлю тебя, суку-скуку, от
греха".
— Какое там, мне не до этого всякого такого. Не для этого драпанул же из
Союза.
— А для чего?
— Для свободы.
„Все-таки красивое слово, ничего не скажешь, но до чего же
истасканное". Таня скептически улыбнулась:
— Ладно, но что же все-таки с тобой произошло?
— Я был реалистом и стал утопистом.
— То есть?
— Я хочу стать диссидентом, э-э, революционером.
Таня презрительно рассмеялась:
— Во Франции это легко!
Голос у Мальцева не изменился, был ровным и весело добрым:
— Понимаю, что ты хочешь сказать. Нет, не думаю, что я в Союзе трусил,
боялся лагеря. Я бы чувствовал. Дело в другом. В чем — пока не знаю. Так что,
помоги на работу устроиться, — только не на завод, сыт. И дай мне адреса людей,
диссидентов всяких, лучше всего мест, где они обычно собираются, говорят,
спорят, ну, думают о будущем, что ли. А? Можешь меня рекомендовать?
Таня ощутила непонятное облегчение. „Будешь еще, будешь..." Она не
хотела более дотрагиваться до Мальцева, испытывать на себе его жизнь, уставать
от его долгого присутствия, но мысль об исчезновении Святослава была все же
неприятна — он должен был нуждаться в ней, стремиться к ее помощи, как это
делал раньше и теперь. В сущности, ей хотелось постоянных доказательств, что он
слабее, чем ему кажется.
— Хорошо. Я постараюсь. Приходи завтра.
„Ты еще точнее время мне назначь. Стерва. Вот-вот, уже мстит. А может, она
права?"
Таня поглядывала на дверь, думая о Мальцеве и ожидая Короткова. Ей как-то
подруга, встречавшаяся с советскими эмигрантами, — любопытство было тогда
острым — сказала: „Знаешь, они совсем того, психи. Они еще большие психи, чем
палестинские террористы, — те хоть могут на что-то надеяться. А эти? А? Ну
честно?"
Подруга, наверное, была права. „Но он все равно хороший, и я ведь правда
его любила. Хотя он с другой стороны, все-таки сволочь. А-а, наплевать".
С Коротковым не надо было думать, сторожить — только жить полной жизнью.
Найти квартиру получше, ребенка родить да воспитать. В прошлую ночь они с
Коротковым тихо шептались о будущей мебели для детской — была ночь, и было
светло от тихой долгой радости.
Вообще-то после многочисленных встреч с советскими и бывшими советскими в
Тане появилось легкое отвращение к ним... во всяком случае если не отвращение,
то нечто сильнее обыкновенного презрения. Они мерзки, вечно бранятся, упоминая
в своей словесной грязи Бога и Божью Матерь. Можно не верить в Бога, но зачем
Его все время оскорблять, а вместе с Ним и Россию. Чем больше встречалась Таня
с советскими, тем слабее было ее хорошее чувство к России, словно исчезал
красивый воздушный замок детства. В церковь Таня продолжала ходить, но без
прежнего прилежания. После того как Таня стала Коротковой и после того как
Мальцев окончательно ушел из поля ее зрения, она стала избегать встреч с
советскими. И когда приходилось все же встречаться с ними, у Тани неизбежно
портилось настроение, когда на вечер, а когда и на целые сутки.
Мальцев, уйдя от Тани, пошел домой, к Бастилии, весьма довольный своими
дипломатическими способностями. Гений был на прежнем месте. Он ему кивнул. Как
равному.
На чердаке его ждала под дверью повестка из Министерства обороны. Мальцев
повертел ее, надул губы и произнес французское пренебрежительное:
— Бофф.
Еще немного — и он увидел бы себя въезжающим в Москву на белом коне. Цель
превращалась в ряд радуг, бешено любопытных. Они выходили из Мальцева и
заканчивались на наименьшем зле. Посередине была Москва, а Москва охватывала
весь Советский Союз.
Мальцев потряс, хохотнув, головой. „Да ты, брат, рехнулся!" После с
серьезным удовольствием подумал: „А почему рехнулся? Тогда получается, что
Владимир Ильич был до самой февральской революции сумасшедшим. Он тоже почти в
одиночку пер на самую большую в мире империю. Все дело в анализе. В правильном.
Только быть сегодня русским революционером, это значит быть правым или
левым?"
Мальцев опять рассмеялся и решил отпраздновать самого себя. Он спустился в
наступающую вечернюю парижскую осень, подышал самодовольно так, нарочито шумно,
выпятив грудь, и закинул голову наверх. Крякнул: „Ну, вперед к сияющим
вершинам..." — и пошел по кафе, густо расставленным вдоль улиц.
Перепробовал, не останавливаясь, все спиртные напитки, которые ранее пил и не
пил, о которых слышал и не слышал. Груз хмеля ложился на Мальцева без вражды,
только рука несколько раз лезла в карман и трогала-переворачивала полученную
повестку. В одном кафе он спросил для забавы:
— Дайте, пожалуйста, двести граммов коньяку.
— Как?
— Двести граммов.
— Не понимаю.
— А чего не понимать. Это значит — стакан. Нормальный стакан.
Бармен вежливо покосился:
— Месье иностранец?
— Да.
— Месье хорошо говорит по-французски. Только у нас не дают большой стакан
коньяку. Не имею права. Могу дать двойной коньяк... или тройной. Могу вам дать
десять тройных коньяков, а сразу большого стакана дать не могу.
— Хорошо. Дайте мне пять тройных коньяков и большой пустой стакан.
— Не могу. Извините, но не могу. Мальцев посмотрел в глаза бармену и со
вздохом сказал:
— Ладно, пусть будет
пять тройных подряд. И простите, что я заморочил вам голову.
— Это входит в мою работу, месье.
„Не человек, а автомат". Мальцев поглядел вокруг. „Эх, кто не видел
закусочной, тот ничего не видел".
Ему вдруг захотелось выпить именно двести граммов самогонки, закусить
кислой капустой, мануфактурой либо анекдотом, сказать что-то как будто неясное,
но что все понимают с полуслова и до конца, потом махнуть рукой, собраться
уйти, но остаться, потому что предложили еще кружку пива.
„Это, Мальцев, тоска-хандра по пьянке говорит. Ты ее не слушай! У тебя
теперь работа для всей твоей жизни есть. И плюй на то, что тебя в военкомат
вызывают. Ты свое уже отслужил. Хватит. Лучше выпей еще виски, кальвадоса и
настрой свой понятийный аппарат на веселый и благородный лад".
Он следил за тем, чтобы его губы не шевелились, и время от времени напрягал
мышцы лица.
Выходило, по его мнению, недурно. Так он и шел из кабака в кабак на
твердых, негнущихся ногах. „Начинается новая пора, имею же я право это
отметить, как положено!"
К началу ночи он очутился на улице Тильзит под окнами Бриджит. Поглядел на
черные проемы.
„Что я стою тут, как пацан? Гитары только не хватает!"
Она спала, может, с кем-нибудь, здесь, близко, стоило шагнуть сквозь стену,
взять ее за плечи — конечно же, она одна — и сказать, что, мол, терпи меня, раз
я такой и ты меня любишь. Покорись и будешь счастлива от своей слабости, как я
от своей силы. Мальцеву нужна была больше, чем раньше, ее поддержка, потому что
бродить в себе в поисках неясного и манящего можно одному, — не то — взбираться
на гору с тяжестью чужих и собственных ошибок на спине.
Ему было тоскливо от того, что не может постучать, подняться, попросить за
что-то прощения или потребовать, чтобы она просила прощения — и быть сытым
простой радостью. Представив свою голову на Бриджитином плече, Мальцев резко
вздрогнул.
„А что я бы сейчас делал в Союзе? Может, пульку бы записывал, может, орал
бы до хрипоты о достоинствах товарища Бухарина или о том, что маоизм является
разновидностью троцкизма и что сейчас китаезы идут по сталинскому пути, но,
может быть, без культа личности над головой и что они, со своей стороны, правы.
Витька в ответ орал бы патетически, как всегда, что Российская империя идет к
гибели; Мишка — что, как это ни парадоксально, только Израиль способен спасти
христианскую цивилизацию. А потом — кто остался бы ночевать на стуле, а кто
из-за жены или матери поплелся бы домой, ворча о мещанстве".
„А что? Жизнь казалась полной, раз за каждое слово могли дать пятерку на
восток".
Для Мальцева теперь все это было красивым, добрым, сентиментальным, для его
же друзей особые слова остались в Союзе силой, необходимой для уважения своей
тайной жизни.
Он пошел, не оглядываясь, подальше от чистых зданий. Ночь еще не
соскучилась, когда он вошел на Монмартре в кабачок, который, казалось, еще пах парижской
коммуной.
— Дайте мне ерша.
— Мы не готовим горячих блюд. Могу дать бутерброд или — бармен подмигнул,
как это делают трезвые пьяным — ладно, могу сосиски вам сварганить.
— Да нет. Ерш — это национальная советская смесь. Водка с пивом и немного
пепла посередине. А сосиски все-таки дайте.
— Вы советский? Я был у вас. В Средней Азии. Замечательно.
„Ишь, как клюнул. Он наверняка против колониализма и наверняка, если только
думал об этом, считает Среднюю Азию нашей колонией, однако, естественно, думает,
что я там у себя дома. Это с моей стороны казуистика, но этот француз невольно
таким образом утверждает, что мы представляем собой нацию... таки налакался
сегодня".
Он пил водку, запивал пивом, а мысли все продолжали лезть на Олимп, кружили
тяжелую голову: „И люди будут свободны и богаты — вот она истина". Мальцев
даже сделал движение, будто собирал складки тоги. „Я буду счастлив и без
околдовавшей меня француженки". Он был мощным и добрым, суровым и
великодушным. Он был мир, и мир был в нем. Только немного икалось.
Звук пощечины привлек его внимание: на другом конце стойки молодой парень
бил, кисля лицо, защищавшуюся ладонями женщину. В Союзе подобное зрелище было
бы сразу окружено рассуждающей толпой: за что бьет, правильно ли, что бьет,
сильно или слабо, и кто виноват. А потом вмешались бы — избиение само по себе
не интересное зрелище, потому отвлекает. Здесь люди просто слегка отвернули
лица и молча ждали конца... В Союзе, интеллигентничая, Мальцев поиграл бы в
равнодушного или пресыщенного человека. Но в эту ночь ему стало до слез жалко
этой бедной девушки, несчастного создания, беззащитного перед грубой силой. Он
не допустит несправедливости.
Мальцев подошел и постарался, чтобы его французский язык был как можно
более высокомерным:
— Что вы делаете? Вам не стыдно? Сейчас же прекратите!
К нему через стойку протянул руку бармен:
— Послушайте, не...
Мальцев, радуясь своему спокойствию, его перебил:
— Нет. Вы хороший парень. Так не мешайте. У нас в России не дают такой
гадости происходить.
Он верил в эту минуту своим
словам. Удары прекратились. Парень посмотрел с удивлением на Мальцева и сказал
бармену:
— Ты, тебе не давали слова. Так закрой пасть. Затем Святославу:
— А ты, ублюдок, проваливай, пока могешь. Ты что, п..., может, хочешь, чтоб
я те сломал зубы?
Он не смог выполнить свое предложение только потому, что был еще пьянее
Мальцева... но он все же широко размахнулся. Драка пьяных всегда забавна своей
бестолковостью. Противники падают от пустяка, встают, пытаются удержать
равновесие и вновь, по-женски махая руками, бросаются друг на друга и бьют,
едва ощущая получаемые и наносимые удары.
Мальцеву в конце концов удалось тюкнуть противника так, чтобы большой палец
влез в ухо — после подобного удара человек обычно терял координацию движений.
Но пары хмеля опять все попутали — молодой человек только закричал от боли,
отскочил и выхватил из кармана рукоять, из которой с резким звуком выскочило
лезвие. Оно бросилось к Святославовым глазам. Мальцев успел отпрянуть и
нагнуться. Лезвие незаметно порезало кожу лба. Он схватил вновь
поворачивающегося к нему противника за оба запястья, попытался свалить его с
ног, но кровь со лба уже лилась на глаза. Мальцеву показалось, что он ослеп.
Теперь его более не интересовала драка, только спасение жизни. Это желание
вытеснило даже оставшиеся в нем обрывки мыслей и внутреннее рычание. Он молча и
быстро сделал то, что до него делали и после него будут делать люди в подобной
ситуации — откусил кончик носа врага, затем одновременно с его воплем ударил
головой по ране и, когда, теряя сознание, молодой человек покачнулся, Мальцев,
подскочив, добил его ударом ноги в грудь. Только после этого он осознал, что не
ослеп.
— Что смотрите! Дайте хоть зеленки! Забывшись, Мальцев орал по-русски.
Девушка парня закричала:
— Сволочь! Грязная сволочь!
— Блядь! — завизжал Мальцев.
Опять по-русски.
Внезапно посетители быстро пошли к выходу. Первой выскочила из кабака
девушка, обругавшая Мальцева за то, что он ее спас от побоев. Он услышал
потрошившую воздух долгую сирену. Ворвавшись, полицейские уставились на
лежащего на полу вдоль стойки молодого человека, затем один схватил платком
валяющийся нож, другой — плечо Мальцева.
— Это он?
Бармен нехотя кивнул. Его лицо выражало спокойное неудовольствие.
— Что произошло? Знаю, знаю. Ты ничего не видел, ничего не слышал... Ну?
Бармен продолжал молчать. Тогда полицейский подошел к Мальцеву:
— Ну, чего не поделили?
Мальцев не слушал, а если услышал бы — не понял. Он был скован старым
страхом. „Хана... я ведь не хотел...". Безволие разом захватило все
остальные чувства и одело их во все серое.
Оставалось ждать, пока его отправят куда следует. Оправдываться не имело
смысла, тем более спорить или ругаться. Это тайное знание, о котором Мальцев
долго не подозревал — до первого ареста... давным-давно, в какую-то эру — теперь
вновь беразлично вышло, как палач, и заняло свое место. „Сколько дадут? Три или
пять?" Святослав посмотрел лицо лежащего парня. „Семь лет дадут, не
меньше". Мальцев мог быстро отрезветь, но решил не стараться.
Зэк в нем (он никогда не сидел, но нужно ли сидеть, чтобы в потрохах засел
мудрый зэк) знал, как будто от начала новой истории человечества, что первые
часы после перехода на полное государственное обеспечение бывают психологически
самыми трудными — так что, если добрый Боженька подарил тебе тупое забвенье, не
отказывайся от него.
Бармен с изумлением посмотрел на Мальцева, прочел обречение на его лице и
не выдержал. Он быстро оглянулся и подозвал к себе полицейского:
— Слушайте, я не знаю, что теперь происходит с этим месье, почему он ничего
не говорит, ничего не поясняет. Я вам скажу, но ничего не подпишу. Чтобы это
было ясно — я ничего не подпишу. Вы уйдете, я останусь — а, — бармен указал
пальцем на окровавленного парня на полу, — Жерар вернется и без носа будет еще
злее. Так вот, этот месье — советский, и я его вижу впервые. Он просто не
понял, так я понимаю. Жерар давал урок поведения Жаннет, ну той самой, что
работает тут на углу, а месье, вероятно, чего-то не понял — иностранец — и
вступился в ее защиту. Ну, Жерар психанул, вытащил перо... тогда и месье
рассердился. Вот и результат. Вообще-то Жерар последнее время психовал по
всякому пустяку, так что так и должно было рано или поздно кончиться... но я
ничего, учтите, не видел, не слышал... и ничего не подпишу.
Полицейский кивнул головой и озабоченно обратился к Мальцеву, глядевшему на
свои безжизненно висевшие руки:
— Вы не ранены? Простите, вы не ранены, плохо себя чувствуете?
— Нет, нет. Хорошо, хорошо.
— Вам нужно будет пойти с нами. Не беспокойтесь, не надолго.
Мальцев услышал новый вой и задрожал, будто к нему съезжаются со всего
Парижа сотни, тысячи милиционеров. И вдруг чувство, заставившее тело задрожать,
будто остановилось. Из памяти Мальцева стало выходить странное знание,
утверждающее спокойно, что он — в безопасности. Мальцеву показалось, что пришло
успокоение из-за того, что страх не усиливается. На деле страх уходил,
съеживаясь под силой дружеского лица бармена, под теплыми интонациями в голосе
полицейского. Мальцев еще не успел понять, что с ним происходит, как в нем уже
начинала растекаться уверенность в безнаказанности.
Это было похоже на сказку, когда с узника сами падают узы. Мальцев случайно
потряс головою, как раз когда мимо него проносили носилки.
— Так вы его, значит, не знали? И что он сутенер и хулиган, вы тоже не
знали?
Мальцев поморщился, силясь понять, что за чепуху городит полицейский.
Потом, через секунду, до него дошло:
— Как, значит эта, эта женщина...
— Проститутка.
— А он значит...
— Сутенер.
Лицо Мальцева взяла сильная оторопь, полицейские расхохотались, и он хохотал
вместе с ними. Он понял, что смех полицейских не притворный, а его собственный
не усиливает вины. Он, странное дело, знал уже, что вины нет и, главное, что
это имеет большое значение.
В черном воронке полицейский похлопал его по колену:
— Так вы советский? Невесело там жить, а?
— Да, невесело.
— Да-а. Не беспокойтесь, он не сдохнет. Хотя вы его хорошо отделали. Это
что, русский прием — откусывать нос?
Полицейский еле сдерживал смех — на лбу Мальцева красовался тонкий
элегантный пластырь.
Мальцев нахмурился. Полицейский начинал его раздражать:
— Нет, человеческий. Я бы хотел поглядеть, что вы бы сделали на моем месте.
Дал бы ему еще секунду — остался бы без глаз. Не у меня нож был.
Полицейский кивнул:
— На ваше счастье. Иначе...
Мальцев его не слушал. Он уже сдерживался, чтобы не обругать их всех,
представителей власти. В его освобожденных чувствах само это слово — власть —
означало теперь всего-навсего неприятное напоминание серых обязанностей.
Когда черный ворон остановился у полицейского участка, Мальцев нагло
поглядел на окружающих его людей в форме и, чуть не пихнув одного из них, пошел
резким шагом к входной двери. „Подумаешь, они меня еще благодарить должны.
Освобождаю их от всяких альфонсов. Тоже мне!.."
За столом в кабинете сидел усталый человек в штатском. Он спросил
безразличным голосом:
— Ну что, что такое? Ну?
Мальцев опешил. Ощущение беспомощности, от которого он успел отвыкнуть за
несколько минут, возвращалось. В этом было повинно выражение „человек в
штатском". Оно всегда для него означало злую волю при полной
безнаказанности. Когда говорили: „Да был... в штатском" — означало, что
дело нешуточное и, быть может, не закончится мелкими неприятностями, а —
пропиской в клеточку. От человека, к которому приходил другой человек... в
штатском — привычно отступали и отступались, без шараханий — так, как это
делают со смертельно раненными товарищами.
Ощущение побарахталось в Мальцеве, не нашло себе места и ушло в прошлое.
Мальцеву быстро захотелось сказать усталому человеку: „Ты чего, папаша, в три
смены работаешь? Пошел бы домой, жена пельмени сделает, а?"
Человек в штатском сказал, вяло и скучая:
— Что это за пидар?
Мальцев не обиделся и даже не удивился мысли, что мог бы, почему же нет,
оскорбиться. Но желания не было драть глотку — ему больше всего в эту минуту
хотелось пива. Он мечтал о нем, пенистом и густом, пока подчиненный докладывал
начальнику о происшедшем.
— Садитесь.
„Штатский" смотрел на Мальцева приветливо и не без смущения.
„Чиновник, да еще из органов, а не потерял в себе человека", — подумал с
уважением Мальцев.
— Я, конечно, хотел бы, чтоб нас избавили таким образом от всех сволочей...
но ведь тогда все больницы были бы переполнены. Да и вам в другой раз может не
повезти. Так что будьте осторожны. Я не знаю, как у вас там в СССР такие дела
обстоят, но здесь вам повезло, что были свидетели и что они высказались в вашу
пользу. Бывает и по-другому.
„Если бы ты знал, папаша, как у нас бывает. Трояк бы дали запросто, со
свидетелями или без. Если б ты знал, что у нас и сидеть-то не грешно... от сумы
да от тюрьмы...".
Он ответил:
— У вас демократия, а у нас ее нет.
Тот усмехнулся. На его лице без резких черт изобразилось расплывчатое
презрение, будто привычка презирать привычно устала:
— Не демократия, а дерьмократия.
„Ты смотри! Он как будто нашим лягавым завидует. А что, добрый-добрый, а
дай волю — слопает и подумает, что так и должно. А вот нету у тебя свободы мою
свободу сожрать. Хорошо".
— Слушайте, у вас нет пива? Дайте пива!
Лицо полицейского в штатском обострилось, глаза расширились, покрытые
алкогольным загаром щеки побуровели:
— Что!? Искалечил человека, нарушил общественное спокойствие в общественном
месте... посадил человека в больницу... Законы есть! Они для всех! Пива! Да у
тебя, я вижу, дикое хамство. Знаешь что, подпиши вот тут и проваливай, пока я
не передумал. Вот это да! Если иностранцы будут себе такое позволять!
На улице Мальцев, нагло посмотрев на осеннее предутро, на его нищую
белизну, пошел искать кафе с немецким пивом.
Опохмелка делала усталость легкой, желание спать — приятным, уверенность в
себе — железной.
К Министерству обороны Мальцев подошел с самым что ни на есть здоровым
оптимизмом. Ему вспомнился полицейский. „Чиновник всегда думает, что из-за
слабости его полномочий страна идет к анархии. Вчера вот они, если б могли,
врезали бы на всю катушку. Хоть для самоутверждения. Да-с, мусью, сила этой
страны в слабости ее исполнительной власти... не надо, конечно, ничего
преувеличивать, но факт есть факт — именно их слабость позволяет им оставаться
людьми на подобной работе".
Раньше он говорил „я имею право" с недоверием, теперь это казалось ему
странным. „Я свои права знаю" — не было, как раньше, весьма эфемерным
способом самозащиты и самовнушения, а спокойным утверждением законности.
Мальцев уже начинал понимать самодовольный возглас алкоголика, узнавшего, что
красное вино подорожало: „Не буду больше за Него голосовать!"
Он долго ждал в одном помещении, затем в другом. „Все военкоматы
одинаковы". Наконец, его ввели в кабинет к скучно сидящему за столом
молодому офицеру.
— Я должен вам объявить, что вы дезертир и что как таковой будете судимы
военным трибуналом.
Мальцев остолбенел и глупо раскрыл рот. Когда он вернулся в Ярославль после
демобилизации, военком, старый знакомый, сказал: „Вернулся, значит. Контрик,
мать твою. Да еще с лыками. Так. Не добили тебя. Жаль. Ничего, мы доконаем. Не
думай, что вы все будете с советской властью вот так вечно играть. Поверь, тебя
еще трибунал приголубит. Даю слово настоящего коммуниста". „Неужто
Филиппенко, мой милый полковничек, который, должно быть, локти кусал, когда
узнал, что меня надо с учета снимать, вот так взял да и влез в шкуру этого
французика. Прямо родственная душа! Только зубы коротки".
— Послушайте...
— Мне нечего слушать!
В Мальцеве не было и капли опасения. Изумление сменилось возмущением.
— Как? Вы должны все-таки объяснить мне, в чем дело. Я имею право знать!
„Вот так и никаких гвоздей!" Мальцев был рад за себя. Все у него вышло
естественно. Тайный голос не шептал ему трудно выговариваемых слов.
— Да, имеете. Вы жили за границей, но как только вам пришла повестка, вы
должны были немедленно вернуться во Францию и отслужить, как все. Вы этого не
сделали, на основании чего являетесь дезертиром. Много вас таких... смотался, а
другие расхлебывай.
Мальцев посмотрел на офицерика, будто тот дружественно предлагал ему
застрелиться.
— Что? Да вы хоть понимаете, что говорите?
Вы знаете, где я был?
— Это меня не касается.
— В Советском Союзе. Не в Англии, не в Канаде и даже не в республике Берег
Слоновой Кости. Да я даже не знал, что я француз.
Взгляд офицера забегал, но он храбро повторил:
— Это меня не касается.
Тут Мальцев разошелся:
— Потому что вы чиновник, а не солдат. Это вам так не пройдет. Я свое
отслужил. Я требую разговора с вашим начальником. Немедленно! Это вам так не
пройдет. Нет, да вы посмотрите, что говорит этот человек! Вы что, может быть,
хотели, чтобы я из Москвы приехал в Париж, отслужил и затем вернулся в Москву?
А? Вы что, не знаете, что такое Советский Союз? Вам что, рисунок сделать?!
„Он думает, что человек, которого хотят отдать под суд и который себя так
ведет, явно чувствует за собой какую-то силу. И он решил не связываться, чем
черт не шутит. Отступит. Извинится".
Но офицер покраснел от ярости:
— Это не мне, а вам так не пройдет. Выйдите и ждите в коридоре.
Мальцев прождал часа четыре. Несколько раз он решал уйти и каждый раз
решение было как будто бесповоротным, но всякий раз, доходя до лестницы, он
останавливался — появлялась неуверенность в своей правоте, а собственная
наглость мнилась безмерной. Когда его наконец вызвали, Мальцев был уже более,
чем обеспокоен: „Вылезет мне все это боком. Вчера лягавые, сегодня вояки за
шкирку хватают. Это Франция меня по своим кругам пуляет. Как будто проверяет на
крепость. А что, возьмут и посадят! За дезертирство, небось, и тут конфетами не
кормят. Не может же так везти в жизни. Фортуна — шлюха и баба вертлявая, раз да
и отворотит рыло. Что тогда?"
Полковник средних лет вежливо попросил его сесть, молча углубился в досье.
„Мое дело листает старик. Посадить, не посадить? Будем надеяться, что
любовница этой ночью ему хорошо подмахивала. Господи, опять начинается! Я же
прав, прав и имею право не бояться! Имею! Чуть не сел за то, что защитил
проститутку от сутенера, был избит за то, что хотел работать, а теперь... не
хватало военного трибунала. Хана, други, хана".
В Мальцеве стал подниматься истерический смешок. Вся его свобода ушла в
разговор с тем офицериком-лейтенантом. Он вновь превращался в старого Мальцева.
Тело съежилось, голова стала падать на грудь, мысли затряслись. Но тут в черепе
что-то щелкнуло, будто заработал запасной мотор, новый, свежий. Мальцев шумно
вздохнул: „Пусть сажают, гады. В конце концов должен я, наверное, через это
пройти".
— Бофф.
Полковник поднял голову:
— Простите?
— Нет, ничего. Я жду.
— Ах да, простите. Да, значит вот... Офицер, с которым вы разговаривали,
допустил ошибку, он не разобрался. Конечно, вы не могли прибыть из СССР для
исполнения своих воинских обязанностей. Ну, а раз вы уже отслужили в другой
армии, то не переслуживать же вам во французской, не правда ли?
— Совершенно с вами согласен.
Этот полковник был на удивление неподходящим для своего звания — от
военного в нем была разве что самодисциплина, манерами и словесными оборотами
он походил скорее на адвоката, но Мальцеву почему-то подумалось, что он, должно
быть, профессионал, то есть холодный и храбрый человек. Правда, он не раз видел
офицеров, спокойно играющих со смертью, но панически боявшихся начальства. В
общем, Мальцев не почувствовал к полковнику неприязни, тем более, что тот ничего
не мог против него. Почему, он сам не знал, — новая победа над самим собой еще
спала в подсознании.
— Я понимаю. Вас оскорбили, но вы должны понять, что офицер счел, что вы
ловкач, увильнувший от службы. У нас многие так делают — уезжают за границу и
думают, что отделались. А вы, значит, воевали на китайской границе?
— Да. В общем, если так можно выразиться.
— И в каком звании?
— Довели меня до старшего сержанта.
Полковник заинтересованно поглядел на советского сержанта и предложил ему
пойти выпить. Спросил, хочет ли он водки. „Банально". Мальцев не стеснялся
и заказал тройную и поморщился, когда бармен достал бутылку „Выборовой". И
объяснил удивленному полковнику:
— Это не настоящая водка, она слишком вкусная. Водка должна бороться с
человеком и только постепенно побеждать его. Пить водку — это, если хотите,
битва, а не женское удовольствие. Вы, французы, пьете водку, как коньяк.
Полковник улыбнулся:
— Ну, это не значит, что мы женщины. Исторически мы вообще воинственная
нация. Скажите, что вы думаете о нашей армии?
Мальцев поколебался.
— Давайте, я не обижусь. Интересно же знать, что о нас думает советский
сержант.
Мальцев молча выпил: „А почему бы ему не сказать, что думаю. Можно,
конечно, но возьмет и психанет, как тот, которому говорил о партизанах. Каждый
со своей колокольни глядит... А-а-а, хочу и скажу — да ничего обидного и
нет".
— Да знаете ли, я, естественно, интересовался западноевропейскими армиями.
Когда служил, часто говорили, что нам придется с вами воевать. Скажу честно,
что мы, в общем-то, были не против. Мы были уверены, что будет гораздо
интереснее воевать с вами, чем с китайцами, но, с другой стороны, мы знали, что
наш первый долг воевать именно с китайцами. Нам иногда говорили офицеры — после
политдолбежки — что в случае перманентной войны с желтыми братьями мы, быть
может, будем вынуждены сделать все, чтобы не воевать на два фронта, а это
значит — завоевать без применения ядерного оружия все, еще оставшиеся
независимыми, страны Европы. Мы не считали вас врагами. Но приказ есть приказ.
— И что?
— А то, что вера в победу в несправедливой войне есть, с военной точки
зрения, высшее достоинство солдата. Это значит, что солдат достаточно воспитан
и научен, чтобы убивать и умирать, не руководствуясь идеалами.
— Это не ахти как морально то, что вы говорите.
— Требовать от солдата другой морали, кроме ведущей его к выполнению
приказа, есть преступление, вследствие чего может быть завоевана его страна. И
не думайте, что я милитарист. Терпеть не могу войну — она прежде всего грязь,
вши, холод, голод, жара и жажда, а не пули и осколки. Мы почти все в СССР, кто
за и кто против режима, не хотим войны. Только за нынешний век мы ей дали
больше, чем все остальные страны вместе взятые.
— Так что же? То вы не против, то против войны. Вы противоречите себе.
Мальцев выпил еще водки и поглядел на полковника с усмешкой:
— Вы же знаете, что в моих словах нет противоречия. Еще Юстиниан сказал,
что виноват в войне не тот, кто первый напал, а тот, кто начал первый к ней
готовиться. А к ней готовятся все. И все говорят о мире и разоружении. Однако в
этом также нет противоречия. Вы же знаете, что в нынешних условиях сверхдержавы
и высокоразвитые страны не могут сознательно стремиться к большой войне и
потому вынуждены — даже в том случае, когда это явно безрезультатно — использовать
своих союзников и сателлитов для борьбы с противником, стремясь потеснить его,
ослабить, но ни в коем случае не загнать его в угол, — другими словами, всегда
оставлять противнику дипломатическое пространство для отступления, компромисса.
Вся беда в том, что никто не знает точно, где начинается и где кончается это
пространство и что же точно для противника будет роковым углом. Поэтому у нас
сознательно или подсознательно большинство считает, что война неизбежна.
Поэтому мы, как вы говорите, бываем против и не против войны.
— Вы, кажется, не успели закончить ваше ученье в университете?
„А он усердно пролистал мое личное дело. Даю голову, что по привычке, да и
слушает он, чтобы как-то провести время. Скучно ему в своем кабинете".
— Какое это имеет значение?
— А то, что теоретически можно с вами во многом согласиться. Но есть и
факты, например, тот, что Красная армия не воевала уже около тридцати пяти лет.
— И хорошо, что не воевала. На ваше счастье. Полковник с неудовольствием
повел плечами:
— Ваш патриотизм мне, конечно, понятен, но...
— Это не патриотизм, а реализм. У вас, простите, солдат остается во время
службы гражданским лицом, оказавшимся почему-то в военной форме. Он не хочет ни
служить, ни воевать — что вполне понятно и законно. Никто этого не хочет. Все
дело в том, что солдата необходимо на время службы заставить забыть, что он не
хочет служить. Необходимо изменить его психологию, необходимо произвести
временное насилие над его личностью. Независимость страны стоит этого.
— Вас французы не поймут.
— Я именно об этом и говорил. Люди забывают, что в современной войне, как и
тысячи лет назад, воин дает силу оружию, а не наоборот. Люди теперь вообще
хотят забыть, что война возможна. И люди также забывают, что сделать из плохого
солдата хорошего не так уж трудно.
Полковник уже не слушал. Мальцеву тоже стало скучно бросать слова на ветер.
„Но правда ведь, так хочется, чтобы демократия была сильной. Не моя же это
вина".
Полковник допил свою водку нарочито длиннющим глотком, почмокал губами. А
когда заговорил, в его голосе было презрение:
— С таким, как вы, в правительстве, у нас была бы завтра революция. Мы
здесь — свободные люди. А с вашим образом мыслей, не в обиду будь вам сказано,
не нужно было уезжать из вашей страны. Хотите, я вас устрою в Иностранный
легион? Там вам и место.
— Спасибо, но вы уже потеряли свои колонии.
Полковник вежливо попрощался и ушел, не оглядываясь.
„Колонизатор несчастный. А, впрочем, чего я его ругаю, не посадил же меня,
даже не ругался. Милый человек, чего там. А то, что ему не по душе критика его
армии иностранцем, вполне естественно. Люди вообще любят задавать вопросы
только потому, что заранее ждут удобных ответов, ответов, сходящихся с их
мнением. Ладно, хоть водки выпил — и то хлеб".
Но из кафе Мальцев вышел в толпу более чуждую, чем она была утром.
Обвинение полковника в наличии в нем тоталитарной сущности незаметно оскорбило
его, тайно считавшего, что победил в себе несвободу — сильную, жуткую, верную,
приятную покоем и отсутствием необходимости решать. Он даже был уверен, что
прикончил в себе героического раба, а тут — вот те раз: человек, которого он
видит впервые и с которым начал серьезный разговор, дает понять, что он,
оказывается, занимается самообманом.
„Не буду больше заниматься делами людей, родившихся свободными. Спасение
утопающих — дело рук самих утопающих. Мы же давно на дне и рвемся наверх. Я
здесь все-таки гость...".
А французский полковник вернулся в свой кабинет в весьма недобром
настроении — он злился, что в глубине души, и как офицер, и просто как человек,
был вполне согласен с этим чудаком, бывшим советским сержантом. И завидовал ему
потому, что он никогда не сможет, не осмелится сказать и доли того, что только
что ему наивно выложил этот русский.
А русский в то время звонил Тане и легким голосом спрашивал, нашла ли она
для него приятную работенку, благодарил, записывал адрес, желал всего хорошего
и отправлялся в один из близких пригородов бывшей столицы мира.
Таня нашла ему место в какой-то мастерской: „Жоэль хороший парень и
замечательный хозяин". Это оброненное слово „хозяин" грызло
настроение Мальцева: „Хозяин! Может, ему еще в ножки поклониться?"
Двор, домик, позади еще двор — посередине широченная черешня, а за ней
мастерская. Из нее вышел человек, похожий на колобок на пружинах.
— Да, мне жена говорила. Пойдемте. Что вы умеете делать? Токарное и
фрезерное дело вам знакомы?
От человека веяло силой, и он смахивал на одухотворенный механизм.
— Да. Я, конечно, прежде всего сварщик, но знаком с разными станками, я
даже несколько месяцев вкалывал на токарном.
— Это в СССР?
— Да.
— И учились вы бесплатно?
— Да.
Мальцев так и не понял, понравилась ли французу его немногословность. Да и,
в сущности, ему было на это наплевать. Он был уже внутренне готов отвечать на
каждое грубое слово двумя, а за малейший грубый жест отправить этого
капиталиста в больницу, несмотря, разумеется, на всю возникшую симпатию к нему.
Сообразив эту свою готовность, Мальцев широко улыбнулся.
Тот прищурился:
— А? Вы не беспокойтесь, у меня варки полно будет, а насчет остального спросил
так, на всякий случай, если кто-нибудь приболеет или вдруг появится срочная
работа. Мы, ремесленники, должны все уметь делать, быстро и хорошо — иначе нас
все: правительство, капиталисты, промышленники и всякое остальное говно слопают
без соли. Так что, давайте-ка посмотрим, что вы умеете делать. Не обижайтесь, у
нас так положено.
— Я знаю.
Мальцев получал чисто эстетическое удовольствие всякий раз, когда встречал
человека, открыто ругающего власть. Но он привык, чтобы это делалось с
надрывом, желчной яростью, свойственной утомительной беспомощности. В этой же
стране он повсюду видел людей, сволочивших власть с высокомерным презрением. И
к этому Мальцев никак не мог до конца привыкнуть. Он продолжал в глубине души
недоумевать, видя плюющего на полицейских пьяницу-оборванца, умиляться,
услышав: „Вы у нас взлетите на воздух". Жесты, слова, выражения лиц словно
кочевали с оборванца на хорошо одетого студента, с его профессора на добротного
рабочего. Еще более удивительным было для Мальцева, что все эти люди вовсе не
считали себя свободными и особенно сильными.
Теперь перед ним был промышленник, ругавший промышленников, капиталист,
ругавший капиталистов. „Ремесленник? Уже то, что человек обладает частной
собственностью, делает его автоматически и принципиально антикоммунистом, а
если он к тому же эксплуатирует рабочих — пусть даже только одного — то как же
его назвать, как не промышленником и капиталистом?"
Так подумалось ему, идущему вслед за Жоэлем в цех-мастерскую. Там работало
пять человек. Они свободно оторвались от станков и сгрудились вокруг Мальцева —
тому дали на пробу задание для новичков.
Шов лег ровный, легкий, почти воздушный. Потолочный шов вышел у него с
первого раза. Вокруг одобрительно кивали головами. Кто-то из рабочих обратился
к хозяину:
— Неплохо, совсем неплохо, а, Жоэль?
Все захохотали.
— Ознакомьтесь со всеми и всем тут, а я скоро... Рабочие, все еще смеясь,
смотрели вслед хозяину.
— Жоэль не так уж плох, уверяю тебя.
Мальцев усмехнулся, сказал работягам:
— Меня это не интересует. Я иностранец, и единственное, чего мне хочется —
это спокойно работать. Платят тут хорошо?
Рабочие переглянулись:
— Достаточно никогда не платят. Сам увидишь.
— Ну, а сколько? Приблизительно.
Лица перед ним слегка покривились:
— Мало. Нужно было бы больше.
Мальцев, мысленно послав их к черту, наблюдал несколько часов за жизнью
цеха, людей и машин. Он убедился хоть в одном — тут неразумных забастовок не
бывает. Он был даже умилен: между рабочими и хозяином существовала настоящая
дружба. Они были равны. Здесь не было, как на том заводе, подчеркнутого
почтения, даже заискивания перед начальством во время рабочего дня. И злобы
тоже.
Он еще больше утвердился в этом мнении, когда Жоэль пригласил его обедать.
Мальцев не без любопытства ждал появления хозяйки дома и, услышав чистый
московский говорок, вздрогнул. Жоэль жирно расхохотался.
Женщина была на первый взгляд стройна, ее выпуклые глаза послали цепкий
короткий взгляд и успокоились. „Таня мне ничего не сказала, стерва".
Работать в эмиграции на русских — Мальцев на это никогда бы не согласился.
Женщина рассмеялась. В этих краях вообще много смеялись.
— Удивлен? Мне о тебе Таня рассказала. Все знаю. Добро пожаловать. Не
бойся, здесь тебе будет хорошо.
Мальцев едва удержался, сильно хотелось ее обматерить. И было неприятно
слышать здесь русскую речь. Он ответил по-французски:
— Да, не ждал. Вы из Москвы?
— Угадал. Да ты мне тыкай, свои же люди, чего там. Ладно? Водки хочешь?
Ее французский был свободен и неправилен. Жоэль вновь расхохотался:
— Да-да, водки. Я ее люблю, так, стаканчик, после обеда. А так мы вино
пьем. Женщина спохватилась:
— Меня Светой зовут. Теперь часто будем видеться... я, правда, часто в
Союзе бываю, не могу без Союза жить. А ты?
— Как видишь.
Обед тянулся по-французски долго. Жоэль пил вино стакан за стаканом, не
пьянел, все радовался чему-то, вероятно жизни. Как только он ушел, Света вновь
перешла на русский и стала рассказывать о себе.
Вышла замуж в Москве за негра. И до того гуляла с иностранцами — шмутки да
валюта. Он ее, закончив Лумумбу, вывез в Париж. Стали жить. Когда бедняга
получил пост в родной африканской стране, строящей социализм, Света себе
сказала: „Если он считает меня за дуру, то парниша глубоко ошибается. На-ка,
выкуси! Мне и тут хорошо". Развелась. Черный парень плакал белыми слезами,
умолял, боготворил. Она не хотела ему плохого, знала, что никто больше не будет
так сильно ее любить и окружать почтением. Но не менять же из-за этого Париж на
какую-то дыру! Он уехал строить африканский социализм, а Свете пришлось
устраиваться на работу.
„Работать в Париже?! Рехнуться можно!"
С Жоэлем познакомилась в муниципальном бассейне. „Он на меня знаешь как
смотрел! А я тогда уже не могла больше. Я что, сюда приехала секретаршей
вкалывать? Выкуси!" Теперь Света раз в год ездит в Москву, к маме, брату.
Туда идут шмутки, оттуда — меха, серебро.
— Может, думаешь, что я спекулянтка? А это неправда! Все ведь радуются. Сам
знаешь: когда спекульнешь, то продавцу это по душе, а покупателю совсем нет. А
у меня все рады. И в Париже, и в Москве, все говорят, что дешево продаю.
Мальцев тоже рассмеялся:
— Да нет, ничего я не подумал. Твоя жизнь — как хочешь, так и живи.
— Ты женат?
— Нет еще. Скоро буду.
— Здешняя?
— Да.
На прощание Света сказала:
— Ты у нас хорошо заработаешь. Но вкалывать здесь надо, как в Париже, не
как в Москве... И вот еще что — ты, это самое, не доверяй очень-то людям, с
которыми горб наживаешь. Они только так, на вид вежливые.
Мальцев пошел домой задумчивым. „Ладно, я ж эту Свету не буду ведь
практически видеть. А она, в общем-то, ничего девка. Ну, обыватель, ну,
спекулирует, ну, себя до скуки любит. Что, не имеет права? Имеет. Она полна
собой. На здоровье. А если для нее спекульнуть — высшее удовлетворение,
духовная радость, цель в жизни, красота души, а?"
Он чувствовал, что цель его — лучшая на свете. Иначе не мог бы он так
добродушно отнестись к Свете и вообще к неприятным мелочам, тем самым, что так
часто и так сильно задевают чувства. „Был ли я таким?"
Дома под дверью было письмо от Бриджит. Ее почерк сразу разбудил милую
боль. Мальцев ее продлил: повертел письмо, прошелся по чердаку, посмотрел на
гения, выпил водки.
„Я в больнице. Я тебя прошу, если хочешь и можешь, приходи. Я тебя жду и
люблю. Бриджит".
Долгожданная усталость полилась в Мальцева. Если б люди могли за ней
наблюдать, они назвали бы ее особой силой. Он долго пытался прочесть сквозь
адрес на конверте название хвори, вспомнить до мелочей лицо дочери сенатора.
Оно оказалось бледным и лишенным былой подвижности, и более чудесным, чем
память о нем, так оно было бесповоротно обращено к нему, Мальцеву.
Но были еще глаза, от которых он стал надолго счастливым — на целых
несколько минут. И впервые за много лет стали в голове Мальцева собираться
добрые слезы. Он не стал их сдерживать.
Бриджит больше всего хотела невозможного: встать, подойти и стать ему
второй кожей. После всего пережитого и передуманного она видела, насколько вся
ее борьба с собой и Мальцевым была бессмысленной. Увидев слезы любви на его
щеках, Бриджит по-детски заплакала детским рыданьем. „Произошло третье чудо. Оно
произошло".
Мальцев не знал, для чего, идя в больницу, он купил „Путешествие на край
ночи". Он понял позже: чтобы выдержать и оставить себе лазейку для
неизвестного будущего. Он не мог все отдать Бриджит — цель обязывала и
заставляла.
— Привет. Ты Селина любишь? Знаешь, у нас он даже был издан. Мне его дал
прочесть на первом курсе один преподаватель. Хороший человек. А знаешь, почему
его издали у нас в Союзе? Почему цензура пропустила? Просто по глупости. Они
решили, что раз Селин анархист, то значит можно. Они только после спохватились
и поняли, что Селин-то анархист, но только правый. Они его и прикрыли, но тираж
первый уже разбежался. Так что читай и думай, что, быть может, эту же книгу
читает какой-нибудь колхозник на Колыме. Чем глуше у нас библиотека, тем чаще
можно в ней найти интересные книженции.
— Ты хочешь меня поцеловать?
Мальцев подошел с осторожностью, стараясь не делать шума. Он хотел
прикоснуться к ней с нежностью ее взгляда. Бриджит едва сдержала крик, когда
руки сжали ее плечи. Боль в спине становилась все сильнее. Он долго ее целовал.
„Еще, еще". Бриджит боялась, что вместе с болью и его губами уйдет и
больше не вернется то необыкновенное, что было только что создано их слезами.
Оторвавшись, Мальцев смущенно провел рукой по лицу:
— Э-э-э, а почему ты все-таки написала? Я уж думал, что...
То, что он говорил, должно было все разрушить, он сам должен был стать ей
неприятным, пусть на мгновенье. Но необыкновенное оставалось и, не меняясь,
проникало все глубже в жизнь Бриджит. Она сразу узнала, почему осталось это
чудесное: губы Мальцева дрожали, и любовь не могла дать Бриджит большего
подарка. Она рассыпала волосы по плечам:
— Я думала, ты меня забыл. Что ты сначала обиделся, когда я уехала, а после
— забыл. Но позавчера отец между прочим сказал, что видел тебя под нашими
окнами — ночью, и ты был пьян, и ты долго стоял, и ты смотрел на наши окна. Я
тогда решила, что третье чудо все-таки произошло. Тогда я и написала тебе это
письмо.
Мальцев нахмурился:
— Какие еще такие чудеса?
Она погладила медленно вытянутой ладонью его щеку, а он медленно
перецеловал ее пальцы. „Это же банально. Это же такая прорва сентиментальности.
Увидели бы меня тут — весь Ярославль бы хохотал. Но почему нет неловкости,
почему самопутаницы нет?"
Мальцев нарочито прицелился носом в ее мизинец: „Ну?" Он повторил это
„ну" несколько раз, но все продолжало быть обыкновенно замечательным.
Как большинство его соотечественников, Святослав Мальцев прожил свои
детство и отрочество во дворе и на улице. Приученный к некритическому освоению
прочитанного, Мальцев был уверен в тщетности борьбы бытия против любви.
Первые чувства к девочке с бантиком нуждались только во взгляде да в куске
бумаги для записки. Уличный привычный мат столбенел, как только речь шла о
Клаве, Свете или Наташе, которую он защищал когда мечом, когда на истребителе,
а после увозил на коне к чему-то волшебному. Оборона своей возлюбленной подчас
действительно кончалась разбитыми губами, синяком, педсоветом, выговором с
занесением в пионерскую книжку, тройкой в четверти по поведению. Но зато он
покупал ей пирожное и смотрел лучисто, как она ест. С годами та рука, что в
руке, начинала странно сжиматься. Он сам недоуменно начинал искать другую
теплоту. И тут начиналось: в парке вечером было страшно — изобьют, разденут, а
то и хуже.
Днем было слишком много людей, в скверах дежурили дружинники, в подъездах —
дворники, к ней не пойдешь, к нему не пойдешь, к другу не пойдешь — парень со
своей комнатой слишком уж большая редкость. О гостинице никто и не думает —
даже если бы нашли свободный номер, то с ярославской пропиской в ярославскую
гостиницу все равно не попадешь, а если уехать в другой город, то свидетельство
из загса подавай. Так любовь, нуждающаяся в подтверждении телом, уходила в
подземелье. Когда дворник выгонял с оскорблениями и угрозами из подъезда, шли
глубже, в подвал. И там они, стоя, калечили друг друга. Она боялась темноты,
крыс, грязи, беременности — из школы или университета выгонят, да и стыдно было
вот так, вот здесь. Он, проклиная все на свете, неуклюже и резче, чем хотел,
пользовался руками, всем телом. Вечные слова повторялись, но они постепенно
пустели. Для храбрости, потом для забытья выпивалась одна, потом несколько
бутылок. И приходило незаметно отвратительное — привычка. Никто не заметил, в
какую ночь они вышли из подвала не такими, какими в него вошли. Для многих это
было добровольное отшвыривание красоты, как лжи; часто на всю жизнь. Навечно.
А теперь Мальцев никак не мог уловить глупость, неправдоподобие, лицемерную
лживость происходящего. Более того, он чувствовал секунда за секундой, что нет
тут ничего, кроме искренности. Кругом пахло больницей. Он попытался схватиться
за этот запах, чтобы суметь сказать хоть какую-нибудь пошлятину. А вместо этого
нечто похожее на обожание к этой больной француженке едва не становилось
словами. Но он сумел себя сдержать и стал слушать.
Лицо Бриджит еще более побледнело от остроты испытываемой радости:
— Я все тебе скажу. Уехала, потому что была уверена — мы слишком разные,
чтобы жить вместе, не просто противоположные, а — разные. Понимаешь? Ну, когда
совсем ничего нельзя найти... Приехала в Париж, думала, быстро тебя забуду. Я
старалась...
— Не надо было. Не старалась бы — забыла. Бриджит не обратила внимания на
очередную попытку Мальцева уйти от нее.
— ...Что? Не знаю. Я тогда решила изменить тебе. Ты его не знаешь. Пошла с
ним в хороший ресторан, а после к нему. Я была почти в доску, но мне все равно
не понравились его руки на мне. Я не могла его выдержать, хотя он очень хороший
парень. Вырвалась и убежала. Сердилась тогда не на него или на себя. На тебя.
Ты был для меня во всем виноват. Я, наверное, гнала машину очень быстро. Помню
улицы, перекрестки — и все. Очнулась здесь. На мне было надето что-то вроде
гипсового халата, он был холодный, все было холодным, а главное спина и кровь.
Сквозь туман умирания видела фигурки людей, расплывчатые, как под водой. Это
делало меня далекой от них. Оставались только я, Он и ты. Я знала, что у меня
сломан позвоночник...
Мальцев подумал, что сходит с ума. Потому что не решил сразу и бесповоротно
вежливо уйти и больше никогда не возвращаться. Она будет всю жизнь в коляске. А
к нему только и прибавилось, что нежности. Нет ничего глупее любви. „А кто это
„Он"?"
— ...Придя в себя, я долго молилась. И поняла, что всегда верила в Него и
что Он меня не забывал, хотя я Его с детства не помнила.
— Кого?
— Бога. Я долго молилась и просила меня простить. И мне сказали через
несколько дней, что не только буду жить, — уже тогда я об этом догадывалась, —
а что выздоровлю через несколько месяцев. Не сломан у меня позвоночник, не
сломан, слышишь? Мы сможем быть счастливыми. Это было первым чудом. Я осталась.
А потом мне сказали, о чем я и мечтать уже не могла: что и он остался. Я была
уверена, что убила его. Но Бог сохранил.
— Кого его?
— Нашего ребенка. Это — второе чудо. А третье — ты. Уверена была, что тебя
потеряла. Молилась за тебя. Ты вернулся.
„Теперь мне только чудес еще не хватало. Это уж точно. Меня избивали и
пролетарии, и лягавые, и блатные, только вот недавно чуть не зарезали, чуть не
забрали в армию, чуть не посадили, чуть не отправили под трибунал. Меня
демократия поставила вниз головой. Только нашел землю, так мне подсовывают
Бога, ребенка и чудеса разные. И еще хотят, чтоб не рехнулся. Господи! Это уж
слишком, слишком, слишком!" Мальцев говорил себе что-то еще, повторял, но
ничего не мог с собой поделать — он стал на миг блаженным: ткнулся лицом в
Бриджитин живот и долго шевелил ртом, словно жевал глубокую красоту
случившегося.
Когда застывшее время ожило в палате, Мальцев подумал: „Хоть бы не
спросила, верующий ли я".
— Святослав, вы, русские, христиане, только мы католики, а вы православные,
да?
— Да.
— Как, значит ты веришь?
Мальцев с детства, как и все окружающие его люди, знал, что Бога нет, и
вопрос, верит ли он в Бога, привел бы его раньше в недоумение, только и всего.
Он пожал бы плечами и не ответил на этот глупый вопрос, который, кстати, никто
никогда и не задавал. Мальчишкой он порой, ради шутки, забегал с друзьями в
церкви, еще оставшиеся открытыми, издевался над старухами, заставлял пожилых
сторожей гоняться за собой, иногда нужно было для этого даже плюнуть на икону.
В этом было что-то более притягательное, чем красть яблоки в чужом саду.
Как-то, проходя мимо собора, он сказал стоящему на паперти священнику:
„Здравствуйте, товарищ поп". Тот вежливо ответил: „Здравствуй, господин
дурак". Ребята долго издевались над Мальцевым: „Ох и врезал он тебе. Так
морда у тя и попятилась". Но родилось в нем уважение к этому странному,
почему-то еще не вымершему, племени богослужителей. А после, еще в школе, он
себе задал вопрос: „Что легче представить себе: бесконечность или конечность
вселенной?" Так родилось сомнение. Это было началом пути к холодному
знанию существования высшего.
Бриджит смотрела на него с беспокойством.
— Я, понимаешь, скорее оптимистический агностик. Но очень уважаю верующих
людей. У нас, как ты знаешь, их преследуют. Кстати, я сам за веру пострадал.
Ну, если можно, конечно, так выразиться.
— Расскажи, я хочу знать.
Мальцев был рад заползти в любое воспоминание, тем более в приятное.
— Это произошло во время осенних учений. У всех было умиротворенное
настроение. Не было ни духоты лета, ни зимнего ветра. Когда были отстреляны
последние снаряды и выкопаны последние окопы, наступило то затишье, когда
хочется, простирнув гимнастерку, повесить ее сушиться на ствол гаубицы.
Довольные хорошей стрельбой офицеры будто случайно уточнили, что сбор будет
только к вечеру, и все, радостные, устремились к короткому забвенью военной
жизни. Кто валялся на траве, задрав нос к синеве, кто, смастерив леску из
суровых ниток и крючок из булавки, шел к речушке, кто вытаскивал из потайных
мест тягача бутылку самогона, чтобы отпраздновать короткую волю. Я и еще
четверо парней из моего расчета решили исследовать окраины полигона, тем более,
что несколько дней тому назад разведка донесла, что в двух километрах от наших
позиций чернеет большой сруб. Из нас городскими были я и Сверстюк, парень, на
которого нужно посмотреть раз сто, чтобы его запомнить. Сруб оказался
заброшенной церковью. Крест на ее крыше косо падал и никак не хотел упасть.
Тишина вокруг сруба была странной, какой-то глубокой и мягкой. Такое ощущаешь,
когда проваливаешься в милый сон, или когда вспоминаешь особенную чистоту
детства. Глядя на церковь, я почему-то уверился, что построили ее первопроходчики.
Был у них, у русских первопроходчиков, обычай: сначала строить церковь, потом
баню и только напоследок жилище. Оглянувшись на ребят, я заметил, что все,
кроме Сверстюка, сняли пилотки. Затем пришла ко мне мысль о собственной
неснятой пилотке, стало стыдно... я резко обнажил голову. Мне, неверующему,
было странно ощущать этот стыд, странно испытывать уважение к срубу. Захотелось
избавиться от этих тревожных чувств. В церкви пахло старым деревом. Икон не
было, только на полу в углу валялся толстый грубый крест. От распятого на нем
Христа оставалась только скорбно свесившаяся голова того, кого вы зовете
Спасителем. Хотелось почтительно стоять. Я сделал усилие, сломал в себе
почтение и сел на пол. Сверстюк выругался матом и добавил громко: ,,Ну и дыра.
Воняет тут".
Остальные трое парней остались стоять. Я спросил: „Чего стоите? Верующие,
что ли?" Они ответили: „Нет". Сверстюк мешал тишине. Он нагло шаркал
сапогами, бил подкованными сапогами по стонущему дереву. Во мне росло
раздражение. Одновременно хотелось встать, и вместе с тем мне, человеку,
который не знал, почему люди ходят в церковь, этот жест, этот поступок казался
странным.
Сверстюк подошел к лежащему на полу кресту и, звонко засмеявшись, помочился
на него.
Я до сих пор себя уверяю, что только уважение к памяти первопроходцев
заставило меня вскочить на ноги, выволочь Сверстюка из церкви и там, в мягкой
тишине, избить его.
От этого случая у меня осталась острая память, у Сверстюка — сломанный нос.
Что творилось в душе тех трех парней из моего расчета — то знают они. По
прибытии в часть Сверстюк написал на меня жалобу и сам лично рассказал обо всем
замполиту. Трое ребят, бывших со мной и Сверстюком в церкви, сказали, что
Сверстюк врет. Нос он себе сломал, споткнувшись в лесу о корень. На меня наклеветал
по злобе. Без свидетелей преступления не получилось. Замполиту пришлось
проглотить горькую пилюлю. Сверстюку — тоже. Правда, через несколько дней
замполит, придравшись к пустяку, дал мне от имени командира части пятнадцать
суток гауптвахты.
Мальцев умолк, немного удивленный, что его память не оказалась закопченной
временем. На деле он избил Сверстюка прямо в церкви, но, повинуясь чутью,
изменил эту подробность.
Бриджит, помолчав, неуверенно сказала:
— Я не знаю, но, мне кажется — то, что ты сделал, замечательно. Только,
может, не нужно было его бить.
„Хорошо, что не сказал, что ко всему отбил ему копчик и что с большим
удовольствием вздернул бы этого Сверстюка на тот самый косой крест".
— Наверное, ты права, но я был все-таки в армии, а не в богадельне. Да, и
кроме того, изгнал же Иисус плеткой торговцев из храма, так что если то же
самое делает советский солдат, только кулаком, то, право, не стоит на него
обижаться.
В Бриджитиных глазах зашевелились слезы:
— Ты обиделся? Прости, но после того, как я чуть не убила нашего ребенка,
не могу спокойно думать о насилии. Я знаю, дорогой, что ты поступил так, как
велела совесть, и поступил правильно. Ведь не выдали тебя друзья. Они тебя,
наверное, любили.
— Терпеть не могли. Я был их сержантом.
Бриджит радостно воскликнула:
— Вот видишь! Тем более. Не нужен был Иуда.
— Иуда всегда нужен!
— Что?
— Я пошутил. Выздоравливай. Буду часто к тебе заходить. Поженимся, когда
хочешь... если хочешь.
— Почему тебе грустно?
— Я, право, не знаю, почему они меня не выдали. У меня вообще ощущение, что
мне нужно все время начинать все сначала. У меня теперь ты... и он. Но я также
должен думать о своей стране. Я постараюсь тебе все это как-нибудь объяснить.
Дочь сенатора Булона понизила голос и сказала не без лукавства:
— Ты — антикоммунистический революционер. — И сразу ответила его
изумленному взгляду: — Я это давно знаю.
Он обнял ее с силой, и счастье в нем помешало сделать ей больно.
— Все-то ты знаешь. Скажи тогда, почему мне иногда кажется, что я зверски
левый?
— Скажу. После. Как-нибудь. Поцелуй меня.
Глядя с материнской нежностью на закрывающуюся за Мальцевым дверь, Бриджит
подумала: „Это у него пройдет. Все станет на свои места. О, Господи, сделай,
чтобы так было". Она уже не так сильно верила в Бога, как полчаса тому назад,
но все же искренне повторяла свое это обращение, пока не уснула.
Бриджит лежала в отдельной палате в окружении цветов, горок экзотических
фруктов, телевизора, ряда всевозможных кнопок, но всего этого Мальцев не
заметил, — вернее, принял как должное. Только поднявшись к себе на чердак, он
подумал об удивительной способности человека приспосабливаться к различным
условиям существования. „А что? зажить да забыть! Чего там. Если разобраться,
то с дочерью французского сенатора не пропадешь. Найдет мне клевую работенку,
такую, чтоб от безделья все-таки не подохнуть. Лафа. Будем ездить в их Вандею
или даже на Ривьеру. В общем, жить-поживать да приплод ожидать".
Мальцев покрутил головой, задвигал, чтоб не рассмеяться над собой,
по-чаплински ногами и решил искренне: „Какая гадость". Он долго, как уже
давно не делал, смотрел на гения, серьезно, не подмигивая и даже почти не
мигая. ,,Надо делать революцию". Теперь он был уверен в зрелости своего
решения. Спокойствие в нем было крепким.
* * *
Спустя год, уже муж и отец, он продолжал сохранять целеустремленную
невозмутимость. Встретившись со многими эмигрантами, он быстро убедился, что в
них пребывает живейшее отталкивание от политики. Они рвались, как пьяные, к
личной свободе, не находили ей конца, но все перли к ней, считая малейшее
препятствие ужасающим преступлением. Так, Мальцев видел людей, выехавших из
Союза после долгих лет борьбы и унижений и устраивавших дикие скандалы
французским или американским властям, если не получали в двадцать четыре часа
нужную им въездную или выездную визу. Мальцев, встречая эмигрантов, своих
сверстников и постарше, видел, что все они искренне хотели всеобщего счастья.
Они делали очень многое — это Мальцев признавал. Благодаря их деятельности,
некоторых людей пока не арестовали в Москве или Ленинграде, иных даже
выпускали. Также отчасти благодаря им, люди, родившиеся свободными, начинали
кое-где и кое-как понимать, что зло не обязано жить исключительно у них под
боком.
Он же, Мальцев, видел у них на лицах тавро власти. И, забывая о себе,
Мальцев бесился.
Он говорил Бриджит:
— Они так инстинктивно боятся власти в себе, что шарахаются от всего, ее
напоминающего. В сущности власть привила им такое отвращение к себе, что они ее
знать не хотят, отказываются ее видеть в себе. Слово „партия" в них будит
тошноту, „политбюро" — спазмы, „политика" — брезгливость,
„организация" — изжогу, „анализ" — равнодушие. Они согласны быть
западниками или славянофилами, либералами или демократами, говорить о расизме,
антисемитизме, национализме — о чем угодно, лишь бы от них не требовалось
конкретного, ясного последовательного политического действия. Потому что оно
для них и есть олицетворение всего того, от чего они убежали. Скажи им о
необходимости создания единой программы — лица искривятся, будут кричать: „Что?
опять? Опять партия, партийная дисциплина?!" Что поделаешь? Что?
Бриджит слушала мужа с удовольствием. Она спокойно ждала. Он должен был
рано или поздно забыть свою революцию и свое желание свергнуть режим, которого
боится весь мир. Он должен будет согласиться покинуть этот грязный чердак и
поселиться в одной из квартир отца. И бросить эту дурацкую, недостойную его,
работу. Отец хорошо относился к Святославу, а во внуке вовсе души не чаял. Все
будет хорошо. „Они все-таки не очень цивилизованные люди. Столько людей убили,
чтобы жить в нищете". Святослав должен был это понять. Нужно было ждать.
— Бри, ты понимаешь?
— Да, но не вижу выхода.
— Надо найти.
Бриджит улыбнулась — она каждую ночь хотела сказать, что досталась ему
девственницей. Но она боялась: он не поверит. Он вообще мало чему верил. Потому
она будет ждать. Пусть ищет. Все будет не как он, а как она хочет — для него
же.
Жоэль был доволен работой русского, более того, он хотел, чтобы русский
непременно остался. После свадьбы, когда русский женился на дочери этой сволочи
сенатора, пришлось увеличить Мальцеву зарплату. Чтоб не ушел, и потому все же,
что зять сенатора. Хороший работник, ничего не скажешь, только непонятный,
совсем не похожий на Свету. Жоэль, в общем-то, думал, что они все, как китайцы,
одинаковые. Похвалишь — обрадуется, чтобы за спиной над тобой поиздеваться,
поругаешь — испугается, чтобы за спиной проклясть французов. Русский во время
работы обычно молчал, в обед читал. Жоэль ему как-то сказал:
— Это хорошо, что ты с другими не болтаешь. От них ничего путного не
дождешься. Я им даю отличный заработок, но они все равно, если б могли,
задавили бы дело. Я его, дело, своими руками создал, своими способностями. А
они, кретины, писать толком не умеют. Вот и завидуют. Ты их не слушай.
Мальцев ему ответил:
— Это тебя не касается. Не твое дело. Что хочу, то и делаю. Я знаю свои
права и обязанности. Договорились?
Жоэлю ответ понравился:
— Договорились! Это я так тебе сказал, на всякий случай.
Мальцеву также пришелся по душе ответ хозяина. Чем дольше он работал в этой
мастерской, тем больше это ему было по сердцу. Кроме Светы. Ему вначале даже
показалось, что московская жена хозяина будет ему, как бельмо на глазу,
каким-то подпольным доказательством никчемности его жизни. Света любила восклицать:
„Не говори, лапоть — это лапоть. Я знаю. Не говори, сам знаешь, чего больше
всего на свете хочет Иван. Знаешь? Чтобы у соседа Петра сдохла корова. Понял?
Так было, так есть, так будет, точно так же, как Ленин жил, Ленин жив и Ленин
будет жить. А что, он хотел людей сделать. А что с народом таким сделаешь? Вот
отца помню — зарплату до дому никогда не доносил, сам на весь мир зол бы. Нам
тоже доставалось. Пускай они, как хотят, а мне и так хорошо. Понял?"
У французов есть одна хорошая пословица: „Нужно всего понемножку, чтобы
создать мир". Мальцев каждый раз повторял Свете эти слова, но пояснения не
давал. К чему? Никогда дерьму не докажешь, что оно не золото. Когда он
рассказал об этом Бриджит, та нашла выгодные для мужа слова:
— Почему ты так говоришь об этой женщине? Подумай, она ведь жертва...
„Хороша жертва! Блядь и спекулянтка".
Но все же Мальцев соглашался с женой. Не только для жены, но и для себя
тоже, для красоты, будь она проклята! А мастерскую он почти полюбил. В ней было
уютно. Гудели станки, в одном углу стоял вечный ящик с пивом, рядом —
проигрыватель, немного дальше — радиоприемник. Все друг другу помогали —
платили ведь по часам и за своевременно сделанную работу. У работяг была
неприязнь к хозяину, который был их другом, а хозяин, зная об этом естественном
нерасположении к нему, испытывал к ним искреннее доброжелательство и
добродушное презрение. Мальцев сначала испугался результатов своих наблюдений.
Но быстро успокоился. Разве сам он не испытывал наждачного ощущения, видя
Жоэля, садящегося в свой шикарный автомобиль, разве не хотелось ему, чтоб Жоэль
разорился и стал нищим, когда тот спускался в мастерскую в десять утра с
мордой, распухшей от вчерашнего позднего веселья... а через час испытывал к
нему чувство локтя и приятно переживал существующее между ними равенство перед
каждодневной жизнью.
Бриджит с мягким упорством толкала Святослава к переезду. Старик Булон,
волнуясь за внука, — не простудился бы,— тоже настаивал. Он с каждым месяцем
все более наслаждался этим „крошечным сапиенсом" и все больше давал денег
Бриджит. Глядя внимательно на ребенка, он вспоминал мать Мальцева. Булон после
рождения внука стал чаще думать о ней с нарастающей любовью: „Вот, был бы у нас
теперь внук". Он искал подчас в мальце черты лица покойной — которая так и
не досталась ему тогда. Теперь он случайно, но взял все-таки реванш. „Не
хотела, а вот — у нас с тобой один внук на двоих". Дел у Булона
становилось все меньше, мемуары были уже написаны. Ему только и оставалось, что
продолжать бороться с собственными воспоминаниями — до полного их искажения.
Мальцев был не против переезда, но он был еще рад, когда, глядя на
танцующего духа, чувствовал в себе появление умного ветра.
Бриджит пришлось подождать еще год. За это время муж попал в полицию всего
два раза, и тоненький шрам на его лбу наливался от пьяной ярости всего раз
десять. Муж иногда кричал, что не может жить без снега, что Франция гнилая
страна, где водка стоит дороже коньяка и где люди столь примитивны, что ценят
Пикассо и ругают Селина. Затем он извинялся и вновь погружался в книги, бурча,
что никто пока ни в чем не разобрался. Но Бриджит умела ждать, впрочем, как и
все женщины, убежденные, что их терпение — залог счастья.
Преподававший Мальцеву диамат профессор Туполев был человеком, любящим
почтение к себе. И когда ему нравился студент, который, по его мнению,
недостаточно его уважал, профессор считал себя вынужденным быть временно
искренним. Он жил в хорошем старом доме, ходил в пышном халате, культивировал в
себе жесты русского барина и с иронией относился к своим биографическим данным.
То, что он родился уже после революции в крестьянской семье, было для него
„царской охранной грамотой". Собою профессор гордился: „Я, знаете ли,
экзаменов на мандарина никогда не сдавал". И добавил: „Покой покоя
просит". Официально и неофициально он никогда ни за кого не заступался и
подписывал все, что от него требовалось или что у него настоятельно просили.
„Раз им кажется, что им виднее". На упреки некоторых отчаянных студентов
(профессор на них никогда не доносил) Туполев отвечал: „Нельзя человеку
отказывать в желании стать мучеником". Мальцев видел вначале в поведении
своего преподавателя лишь не лишенный манерности цинизм. „Я не тот Туполев,
который летает, и это только вам мнится, что я хожу на земле. Я — крот".
Пригласив к себе Мальцева, профессор попросил внимательно его выслушать:
„Если ваше поведение не изменится, молодой человек, то вас скоро исключат из
университета. Надеюсь, что вы об этом догадываетесь. И это будет только началом
крестного вашего пути — люди, начав, не успокаиваются, пока не повиснут на
кресте. На моих лекциях вы скучаете — и правильно делаете. Вы — антимарксист с
полным на то основанием. Но вся беда в том, что ваши чувства сильнее мысли. Вам
необходимы интеллектуальные упражнения. Вы знаете марксизм, но не понимаете
Маркса. Не он первый хотел доказать, что история является наукой. Его постигла
неудача, а неудача такого рода порождает утопию, та — идеологию, идеология —
систему. Но дело в том, что государственная система, всякая, не может быть утопичной,
даже если базисом ей служит утопия. Следовательно... Надеюсь, что вы меня
поняли. Вам необходимо серьезно поработать. Тихо, в одиночестве. Будьте кротом.
Во всяком случае до ясного понимания вами происшедшего и происходящего".
Кротом Мальцев так и не стал, но стал крепко уважать Туполева, разумеется,
к скрытой радости последнего. Этих чувств они оба не потеряли, даже когда
профессор Туполев дал свой голос за исключение Мальцева из университета. Но
только теперь Мальцев по-настоящему понимал, что холодный, добрый и трусливый
старик был во многом прав.
Бриджит Мальцева беспокоилась. Муж часто уходил на какие-то собрания,
скрытничал, ночами писал, иногда уезжал на несколько дней, возвращался усталым
и радостным. Раз как будто из Финляндии он вернулся помятым, но с особой
победной лихорадочностью в глазах. На разодранное свое плечо Святослав смотрел
даже с удовольствием. Правая нога была, словно он продирался сквозь колючую
проволоку.
— Знаешь, я согласен переехать, не будем же мы вечно жить на этом чердаке.
Пусть мансарда останется приятным воспоминанием. И... если твой отец найдет для
меня работу, которая забирала бы у меня меньше времени, чем нынешняя, и давала
заодно больше денег, то и тут я не откажусь. Даже спасибо скажу от всего
сердца.
Бриджит сделала вид, что обрадовалась, скрыла волнение. Она боялась его
потерять. Она любила его, и он стал добрым, спокойно-сильным, срывы случались
все реже и реже. Но она видела, что не просто умение владеть собой было в
Святославе, когда дело касалось его борьбы. Он становился холодным,
расчетливым. В нем был тот холодный расчет, который, сливаясь с внутренним
пламенем, делал решение приговором. Святослав не хотел зависеть от ее отца, не
хотел он также сладкой жизни. И вдруг! „Может, он задумал что-то ужасное, безумное
и пытается прежде, чем ЭТО случилось, возвратить меня к прежней жизни?"
Бриджит поговорила с отцом.
— Я должна знать, что у него на уме. Живу в вечном страхе. Узнай, выведай,
делай что хочешь, но узнай. Слышишь?
— Ты так его любишь?
— Да. Тебе этого не понять.
Старик улыбнулся.
— Должно быть. Твоей матери подобные чувства показались бы ярко выраженной
невоспитанностью, а мне — потерей времени. Хотя... Хорошо, я постараюсь.
Мальцев привык к дому Булона. Обычно он здоровался с сенатором, болтал с
ним о пустяках и шел в библиотеку, оставив старика с дочерью и внуком. В
воскресенье после обеда старик часто, предложив сигару и коньяк, рассказывал о
своем прошлом, и Мальцев терпеливо слушал. Рядом сын играл на ковре, в кресле
блаженствовала Бриджит. Она улыбалась тихой, не сходящей с лица улыбкой.
Кресло и ковер были пустыми, когда Мальцев вошел в салон. Он не удивился.
После последнего разговора с женой он ожидал вопросов Булона.
— Где они?
— Пошла к подружке, скоро вернутся.
— Она вам сказала, что мы...
— Да. Это не проблема. Я рад, что вы наконец решились, давно пора. Но об
этом мы поговорим подробнее в другой раз. У меня много друзей. Не беспокойтесь.
Меня сегодня интересует другое, и с моей стороны, надеюсь, вы поймете
правильно, это не пустое любопытство. Немного коньяку?
— Да, спасибо.
Булон внимательно, с несвойственной ему назойливостью, осмотрел зятя:
— Вы сильно изменились. Скажу откровенно, вначале мне казалось, не
наладится у вас жизнь с моей дочерью. Но теперь вы — настоящий европеец.
Мальцев шевельнул иронически губами:
— Я им всегда был. Европа тянется до Урала.
— Да, да, но я имел в виду другое. „Нет, не другое. Ты хотел сказать, что я
теперь — цивилизованный варвар. Пусть, мне это не мешает".
— Я понимаю.
— Конечно, конечно. Но вот в чем дело: я знаю, вы занимаетесь политической
деятельностью. Можете ли мне рассказать о ней подробнее? Для меня это важно не
только потому, что вы муж моей дочери. Для того, чтобы рекомендовать вас моим
друзьям и знакомым, я должен знать, какие цели вы преследуете.
— Не беспокойтесь, ничего противоречащего законам этой страны я не делаю. Я
просто понял несколько простых истин. Прежде всего, что нам, русским, нужна в
оппозиции политическая сила. Затем, что революции не подготавливаются, можно
только в редких случаях ускорить революционный процесс. Важнее всего быть
готовым к ней. Тактика Ленина была в эмиграции правильной. Но ему было легче,
так как он боролся с авторитарным режимом, а нам нужно — с тоталитарным.
Поэтому я думаю, что, став свободными здесь, мы должны добровольно отказаться
от свободы для создания партий. Увы, у нас еще не налажена даже естественная
для вас политическая жизнь. Наша цель быть готовыми к действию, как только
власть ослабнет. Вот и все.
Бриджит была счастлива. Пол мансарды был загроможден ящиками, чемоданами.
Отец спросил Святослава:
— Но ведь политизация требует много времени и усилий.
И Святослав ответил:
— Да. Но ведь все равно другого выхода нет. Бриджит напевала ответ мужа,
скандировала его. Сын смотрел на мать и смеялся.
— И ты рад? Папа скоро придет, а ты еще не спишь.
„Когда он уволится, мы поедем куда-нибудь, далеко. Это будет нашим
свадебным путешествием". Она приготовилась к ночи немного более тщательно,
чем обычно. Постояла над сыном. „Теперь и второго можно".
Мальцев пришел чуть подвыпившим. Она подумала: „Отмечал".
Его улыбающийся взгляд был необыкновенным, весь для нее. Он сказал:
— Отмечал. Надо же было.
Он пригнулся, ткнулся лицом в ее грудь, взял на руки, покрутил. Уверенность
в будущем спокойном счастье заполнила Бриджит. „Он со мной. С нами. Никуда не
уйдет. Никуда! Я знала, знала, что так будет". Она уснула, прижавшись
щекой к его плечу. „Господи, сделай так, чтоб это было правдой".
Мальцев тихонько высвободился, встал к люку, стал прощаться с гением одной
из французских революций. Утром семья Мальцевых переезжала на новую квартиру.
Он сумел обмануть жену. Он вовсе не был радостным и был сильно пьян.
Мальцев достал бутылку водки, налил полный стакан. Обратился мысленно к гению:
„Ты же знаешь, что со мной. Дунь, что ли, на меня умом, подскажи". Ему
показалось: гений отвернулся от него, давно с ним простился. Он сказал отцу
Бриджит, что нужно добровольно отказаться от свободы здесь для того, чтобы она
была когда-нибудь там. Правда ли это? Мальцев быстро допил бутылку. „Может...
Легко отказываться от того, чего нет. Может, нет во мне свободы?"
Он лег, но сон не охватывал его, давая лишь расслабленное полузабытье.
Он прошептал: „Я их всех люблю, зачем же?" Но сидящий у него в мозгу
майор Потапенко, его бывший комполка, снова заорал: „Вы что, приказа не слышали
— разнести Париж по камешку! Повторите приказ!" Мальцев, послушно повторив
приказ, машинально сказал себе тихо: „Приказ должен быть выполнен".
Спохватившись, гаркнул: „Разрешите идти?" — „Идите. Об исполнении
доложить".
„Что за черт? Да лучше застрелиться! Или лучше застрелить Потапенко. Где
он? А, спрятался уже. Не дам чужую свободу убивать".
Но Мальцев видел себя уже бодро подходившим к танкам! „Вперед на полную
катушку. Приказано развалить городишко. Давай!"
При первом выстреле Мальцев открыл глаза. Широко. Затем растянул рот,
подумал, но так и не понял, почему улыбается ночи.
Париж, 1980 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава первая. Под мостом Александра III
Глава вторая. Серебряная башня
Глава третья. Старый страх
Глава четвертая. Странные русские
Глава пятая. От работы кони не дохнут
Глава шестая. Нападение французов
Глава седьмая. Самосуд
Глава восьмая. Любовь француженки
Глава девятая. Откровение
Глава десятая. Революции пока не будет