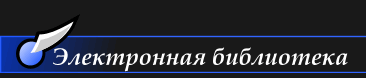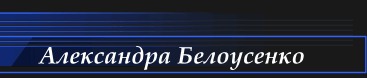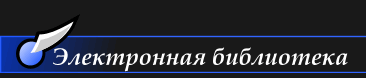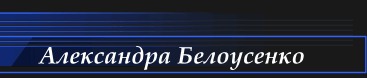|
|

Арсений Борисович БЕРЕЗИН
(1929-2020)
Арсений Борисович Березин – физик-ядерщик, знакомый с самой Жаклин Кеннеди. Писатель.
Родился в 1929 году в простой ленинградской семье. Первые литературные опыты, как ни странно, были связаны с редактурой и цензурированием. А случилось это так. Школу, в которой учился Арсений Борисович, во время финской войны оборудовали под госпиталь. Ученики ходили туда навещать раненых, помогали им писать письма домой (у многих были обморожены, а то и ампутированы руки). Записывали под их диктовку длиннейшие письма на родину, но соображали, что письма этих ребят нуждаются в редактуре с оглядкой на военную цензуру. Все прекрасно понимали: то, что рассказывают раненые, находится в вопиющем противоречии с фронтовыми сводками.
Учился будущий учёный хорошо. Но в девятом классе начались некоторые трудности – на литературе стали проходить Толстого: "В девятом классе у меня начались некоторые трудности. Стали проходить Толстого". Арсений Борисович его хорошим писателем не считал. Во-первых, ему казалось излишним обилие текстов на французском. Никто из русских писателей такого себе не позволял. Во-вторых, сама позиция автора, его назидательность... Всё преподносится как истина в последней инстанции, даже описания природы. И, наконец, сам язык с его громадными, необъятными фразами (скорее, характерными для немецкого языка) с множеством сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. Ну как можно было так писать после Гоголя? Вот поэтому у Березина возникали трудности с учительницей литературы. Отношения не сложились. Он получал свои пятёрки, но они всегда были какие-то скандальные.
В 1946 году Березин поступил на физический факультет, и началась другая жизнь. В основном она шла за стенами университета. Арсений Борисович подружился с молодыми художниками, писателями, музыкантами. Открыл для себя много нового – мир джаза, новую литературу, таких писателей как Дос Пасос, Селин, Хемингуэй. От последнего Арсений Борисович был просто в восторге. Перед лаконичностью его прозы, где всегда больше смысла, чем слов.
В институте Березин сочинял сценки для физтеховских капустников. Довольно неуклюжие, зато неподцензурные. Физики всегда считали себя свободолюбивыми, и академики это всячески приветствовали. Например, академик Пётр Леонидович Капица приходил к ним, потирая руки: «Дайте-ка мне что-нибудь запрещённое почитать, обожаю читать запрещённые вещи!» Как-то Арсению Борисовичу предложили написать репризы для эстрады. Но ничего толкового не вышло. Так литературная стезя на долгие годы закрылась. А открылась вновь уже в начале двадцатого века, когда учёный своему сыну-студенту пытался рассказывать к месту и не к месту всякие истории из жизни, о людях, с которыми довелось встречаться, – знаменитых учёных, покойном патриархе Алексии Втором, Вячеславе Михайловиче Молотове, Жаклин Кеннеди... Сын сказал: «Знаешь, старик, вот ты лучше напиши всё это дело, мы напечатаем, а потом будет время – прочту. Потому что ты зря тратишь на меня время, расходуешь свой порох. Сядь и напиши». Так были написаны первые рассказы, которые печатались в журнале "Звезда". Березина отметили как молодого начинающего писателя.
В той же «Звезде» его стали убеждать, что надо издать сборник. И профессиональные критики советовали. Случилось так, что первое предложение поступило от Геннадия Комарова, главного редактора издательства «Пушкинский фонд» (тоже физика, кстати). И сын сказал: «Давай-давай, я это дело профинансирую по мере своих скромных возможностей». Возможности оказались неплохими, и книжка очень быстро вышла, и весь небольшой тираж – 500 экземпляров – автор забрал с тем, чтобы его дарить своим друзьям, близким, тем, кому это могло быть интересно. Арсений Борисович не хотел продавать свою книжку. Не хотел, чтобы она становилась предметом купли-продажи.
О жанре, писатель говорит: Наверное, это рассказы-мемуары. Иногда я описываю реальные события абсолютно точно, как я их помню; некоторые мои истории являются комбинацией реальности и вымысла. То есть описывают события, которые не происходили, но могли бы происходить. При этом иногда правда бывает фантастичнее вымысла.
(Из проекта "LiveLib.ru")
Сборник "Самоорганизация материи. Рассказы и истории" (2011, 512 стр.) (pdf 9,9 mb)
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
Мемуары физика, международного переводчика, начиная с 1940 г. до 1990-х. В том числе о знакомстве с Алексием Ридигером в конце 1980-х и издании Толковой Библии Лопухина.
(Аннотация издательства)
Содержание:

I. ПИКИ-КОЗЫРИ
Детство
Бизе – сюита «Арлезианка» ... 9
Если завтра война ... 16
Визит к окулисту ... 21
Воспитательница Люда ... 33
За хлебом ... 39
Амурские волны ... 47
Разъезд Тчанниково ... 55
Чёрная боровина ... 64
Комиссия ... 70
Подпасок ... 77
В спецшколе ВВС ... 88
Кошки-мышки ... 99
Отец ... 112
Тридцать лет спустя ... 121
Ленинградский Физтех
Кролики и генералы ... 135
Пики-козыри ... 142
Бугор и его слово ... 149
Зигзаг ... 153
Небулий ... 158
Зальцбург 1961 ... 162
Булат Окуджава ... 180
Синхронный перевод ... 188
Европейское физическое общество ... 213
Тарасюк
Тарасюк – кавалер ордена Почётного Легиона ... 223
Марсельеза ... 228
Дуэль Лермонтова ... 232
115 лет спустя ... 232
Принц Гамлет – чемпион ... 239
Жаклин ... 243
II. САМООРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИИ
ГТО второй ступени ... 255
Майк – плантатор ... 260
Идеализм в физике ... 267
Старшина Щербина ... 271
Дух Физтеха ... 281
Виктор Овсянников ... 283
Борис Полоскин ... 285
Снежный Барс ... 288
Санта Лючия ... 292
Хоми Баба – брамин и директор ... 296
US NAVY ... 300
Тунгусский метеорит ... 305
Tombe la neige ... 312
Люда и Олег ... 330
«Сулико» ... 339
Чаттануга – чу-чу ... 346
Атлантик-Сити ... 360
Check Point Charlie ... 374
Ядерная зима ... 384
Keep Smiling Attitude ... 390
Программа «Вести» ... 395
«Прелюды» Листа ... 399
Исаак Гликман и другие Иваны, не помнящие родства ... 409
Два концерта ... 414
Владыко ... 424
Дикси – кот сиамский ... 436
«Трансвааль, Трансвааль, страна моя...» ... 440
Есть за границей контора Кука ... 446
Физики путешествуют ... 454
Иосиф Абгарович Орбели ... 475
Лев Андреевич Арцимович вчера и сегодня ... 481
Первые экситоны ... 492
Самоорганизация материи ... 499
Фрагменты из книги:
ТАРАСЮК – КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОЧЁТНОГО ЛЕГИОНА
Тарасюк ушёл на войну в 1943 году годным, необученным, а вернулся после германской и японской кампаний негодным, с двумя нашивками за ранения, в звании старшего сержанта и со множеством медалей за взятие разных городов. Последним местом службы был Дайренский гарнизон в Корее. Тарасюка могли бы задержать ещё на год, возраст позволял, но начальство опасалось, что его постоянные конфликты с местным населением могут в конце концов окончиться кровопролитием. Тарасюк приходил в ярость, когда местное население прежде чем зажарить собак по-корейски лупило их палками, чтобы мясо отошло от костей и было бы мягким. Иначе по-корейски не получалось. Собаки при этом выли «нечеловеческим» голосом, а Тарасюк хватал первую попавшуюся дубину и бежал лупить поваров. Иногда ему помогали солдаты его разведвзвода. Возникала потасовка. Командование проводило разъяснительную работу среди личного состава и призывало не вмешиваться в исполнение национальных традиций, но при первом же собачьем вое всё повторялось снова. Контуженный Тарасюк со своей природой совладать не мог. Постепенно вокруг него образовалась стая собак-инвалидов национальной кухни, и когда он стоял на посту у комендатуры, с десяток недобитых чау-чау располагались у его ног и с обожанием смотрели на него. Местное население, проходя мимо, облизывалось на несостоявшееся жаркое и бросало злобные взгляды на бравого сержанта. Любовь к армии-освободительнице подвергалась серьёзному испытанию. Тарасюка досрочно демобилизовали.
Впервые я встретил его на занятиях в университетской секции фехтования. Высокий, стройный, элегантный, с роскошными усами он представлял собой тип идеального фехтовальщика. В отличие от многих ветеранов, он не носил ни медалей, ни колодок, только какую-то маленькую бусинку в петлице пиджака. Однажды, когда уже не одна рапира была сломана на тренировках, я спросил его: «Что это за значок?» Он ответил: «Это не значок, а орден Почётного Легиона». – «Откуда?» – выдохнул я изумлённо. «Оттуда» – сказал он просто. И вот что рассказал.
10 мая 45 года, после официального окончания войны, когда, по словам Верховного Главнокомандующего, «...отдельные части вражеской армии ещё доколачиваются нашими войсками в районе Чехословакии», группа разведчиков с Тарасюком за старшего ехала на двух джипах по лесной дороге в этом самом районе. Цвела весна, чирикали птички, разведчики дремали после вчерашнего. Вдруг за очередным поворотом дорога упёрлась в ворота из колючей проволоки. Над воротами вышка, на вышке эсэсовские пулемётчики. За проволокой какая-то суматоха, крики, кого-то тащат, кого-то бьют, заливаются лаем псы, как будто и не было всей этой безмятежности минуту назад, за поворотом. Вмиг протрезвевшие разведчики тормозят машины, передёргивают затворы, скашивают пулемётный расчёт на вышке и, протаранив ворота, выкатываются на плац. А там уже лагерники сами расправляются с охраной и овчарками. Через несколько минут всё кончено. Из толпы выходит человек в кителе и командует по-французски. Лагерники выстраиваются, и видно, что это не несчастные доходяги-хефлинги, а привыкшие к строю военные. Старший сержант Тарасюк выстраивает своё отделение лицом к освобождённым, француз командует «смирно» и по лагерной грязи печатает шаг по направлению к нашим. Тарасюк, приложив руку к пилотке, идёт ему навстречу и видит, что у француза на замызганном донельзя кителе генеральские лычки. Генерал останавливается в пяти шагах от Тарасюка и рапортует, что, мол, личный состав штрафлагеря французских военнопленных номер такой-то выстроен для того, чтобы приветствовать своих освободителей, доблестных воинов Красной армии, которые за минуту до расстрела оказались здесь и выполнили свой союзнический долг. Генерал не ожидал никакого ответа на свою торжественную речь и уже готовился повернуться, но не на такого напал. Если Тарасюку выпадал момент, он его не упускал. И, может, такого момента он ждал все три года своей фронтовой жизни. «Моп general!»– взревел он. И потом несколько минут на великолепном французском языке рассказывал им, как он и его les amis combattants счастливы тем, что принесли liberte своим freres по оружию. Французы сошли с ума. Генерал бросился к Тарасюку и стал душить его в объятиях. Вскоре и французский генерал, и русский сержант, и все разведчики взлетели в воздух. Откуда у этих французов только силы взялись! Когда всё немного успокоилось, генерал принёс из барака спрятанный орден, маленький, как капелька крови, и прикрепил его на пропотевшей тарасюковской гимнастёрке. Он записал фамилию сержанта, его ленинградский адрес и пообещал, что патент на орден будет выслан, как только он встретится со своим другом генералом Де Голлем.
Прошло два года. Генерал, видать, всё никак не мог встретиться с Де Голлем, и Тарасюк по-прежнему носил в петличке орден, не имеющий законной силы. И вдруг как-то под новый 1948 год, когда наши отношения с Тарасюком уже переросли формальные границы, он рассказал мне, что его вызывали в ректорат и сообщили о том, что его приглашают явиться в Москву во французское посольство и получить документы на французский орден. «Но вы понимаете, – объяснили ему, – сейчас уже не 45 год, сейчас уже идёт «холодная война» и Франция находится в стане наших врагов. И нам не надо наград от наших врагов!» «Не надо, не берите, – согласился Тарасюк, – но их вам никто и не предлагает, а я свою заслужил в бою и от боевых наград отказываться не намерен». – «Ну смотрите! – предупредили его. – Вам же ещё учиться три года, и вы могли бы поступить в аспирантуру как ветеран и отличник. А как политически незрелый студент вы вряд ли долго продержитесь на идеологическом факультете. В конце концов скажитесь больным». – «Тогда они приедут сюда и вручат мне документы у моей постели. Мы напрасно теряем время. Награда нашла своего героя, и он её получит».
Бумаги были замечательные. Они были подписаны президентом Французской Республики. Имелось ещё личное письмо генерала Де Голля Тарасюку, на которое он и ответил. Так началась длительная личная переписка между студентом, впоследствии младшим научным сотрудником Эрмитажа, и президентом Франции генералом Де Голлем. Но это уже совершенно другая история, и пускай её лучше рассказывают историки Франции и отставные советские перлюстраторы."
* * *
Выйдя на станции «Охотный ряд», я направился на Красную площадь. Там царило какое-то оживление, не похожее на обычное воскресное. Люди, в основном молодые, сновали туда-сюда, сбивались в кучки, снова разбегались, но эпицентром этой суеты было, без сомнения, Лобное место. Я протолкался поближе к нему и увидел, как на него залезают несколько человек и двое из них разворачивают плакат «Руки прочь от Чехословакии!». Сначала я подумал, что он адресован каким-нибудь империалистам или агрессивному блоку НАТО и всё это очередная комсомольская агитка. Но тут же мысль застопорила и повернула в другую сторону. Во-первых, империалисты и НАТО не так уж и лезли в Чехословакию, чтобы заставить махать лозунгами напротив Кремля. Во-вторых, не таким уж и комсомольским был возраст митингующих. Возникла бредовая мысль, что это киносъёмка, а всё окружение – массовка. Но как возникла, так и исчезла. Не видно никаких осветительных приборов, ничего не огорожено, никто не орёт в мегафон. И тут дошло – что это демонстрация, политическое выступление на Красной площади, первый раз за сорок лет. «Руки прочь...» маячили недолго. Запрыгнувшие на Лобное место крепкие молодые люди в летних рубашках вырвали плакат у митингующих, заломили им руки за спину и поволокли к подъехавшим «Волгам», обыкновенным светлым «Волгам», и запихнули туда этих, которые... Тут же другие молодые люди стали хватать тех, кто стоял поблизости. В одном из них я узнал Павла Литвинова по фотографии в «Newsweek» и всё понял. Павел говорил: «Только без рук, только без рук...» и сам направился к ожидавшей его «Волге», слегка подталкиваемый в спину. Машины всё подъезжали и заполнялись. Толпа у Лобного места заметно поредела, люди рассеивались кто куда. Некоторых из них хватали уже «в рассеянии».
Я беспрепятственно прошёл мимо собора Василия Блаженного к главному входу в гостиницу. Зубы не стучали, озноб не тряс, но сердце билось учащённо. Я поднялся на один из верхних этажей, постучал в номер. Эрик тотчас же открыл. Вид у него был взъерошенный. Он махнул рукой – давай, мол, проходи – и побежал к подоконнику. Там стоял его приёмник «Sony» с вытянутыми за окно усами антенны. «Sony» у Эрика работал с 13 метров и через «железный занавес» ходил как хотел. Вот и сейчас он сообщил нам, что русская служба ВВС продолжает свою экстренную передачу из Праги и Москвы. «Вы слышите рокот советских танков. Они приближаются к Вацлавской площади. Через несколько минут советские солдаты займут здание чешского радио. Это последние минуты нашей свободы. Это последние минуты и вашей надежды на свободу». И полились звуки симфонической поэмы Бедржиха Сметаны «Моя Родина». В последние минуты свободного чешского радио на весь мир, на всех волнах зазвучала величественная и печальная музыка Сметаны. Никогда раньше она так не звучала, никогда раньше она не обращалась к миру с таким скорбным посланием. Эрик повернулся ко мне: «Что у вас там на площади?» Первой мыслью было – откуда он знает? И, как бы отвечая на мой вопрос, он добавил: «Это правда?» Я рассказал ему о только что увиденном. Внезапно радио замолчало и тот же взволнованный голос сообщил: «Танки только что прошли Вацлавскую площадь, но к нам ещё никто не вломился. Нам только что сообщили из Москвы – демонстрация на Красной площади разогнана. Они несли лозунг «За нашу и вашу свободу». Лозунг разорван и растоптан, организаторы демонстрации арестованы. Мы прощаемся с вами, наши советские радиослушатели, но прощаемся не навсегда. А пока слушайте последние звуки свободного чешского радио на волнах ВВС». И снова полились звуки симфонической поэмы Сметаны. Так она и осталась в памяти. Не как опус №47 среднеевропейского композитора, а как прощание чехов со своей свободой. В 1945 освободили, а теперь – задушили."
* * *
В третий раз я столкнулся с тайными гастрономическими вожделениями Кремля в Латвии. В начале перестройки, когда Михаил Сергеевич на совещании в Смольном разрешил гражданам иметь свои садики-огородики, но не дачи, я обозлился и купил хутор в Латвии, в самом восточном её районе, в глухом лесном краю, настоящий хутор с хлевом, амбаром и прудом, за 600 рублей. Два местных алкоголика вырыли колодец, и мы зажили на своём хуторе вдали от цивилизации. В конце лета к нам продрались трактора и стали косить луг. Тут же налетели аисты и начали ловко выхватывать из свежескошенной травы ошалевших лягушек. Крик и квак стояли несусветные. В один из таких дней приехал Аудрис и сказал:
– Отвисит от погоды, но если будет ночью дождь и ветер, поедем на озеро за Ним.
Я не стал спрашивать, а может, стоит подождать, когда будут луна и звёзды. Аудрису виднее. Аудрис ведал всё и всё умел. В Алуксне его знала каждая собака, тем более что у него своих было шесть. Все – таксы, или считавшиеся таковыми. Когда в субботу или воскресенье мы приезжали к Аудрису погостить и услышать ещё что-нибудь, кроме курлыканья журавлей, хрюканья кабанов и рёва лосей, Аудрис давал мне погулять со своей главной собакой Сысиком в парке у озера. Гуляющие показывали пальцем в нашу сторону и говорили:
– Вон, Сысик идёт.
Сысик навытаскивал в лесу из нор для Аудриса лисиц, енотов и барсуков на целый дом и две машины. Как я потом понял, Аудрис доверял мне Сысика не без задней мысли. Он хотел, чтобы меня запомнили как лицо, приближённое к Сысику, а следовательно, и к его хозяину, на случай возможных межэтнических конфликтов.
В Алуксне я услышал версию известного латышского анекдота:
«– Аудрис, а Аудрис, зачем ты поливаешь розы машинным маслом – ведь цветы засохнут.
– Цветы засохнут, зато пулемёт не заржавеет».
На самом деле никакого пулемёта у Аудриса не было. По должности он был лесник, а по призванию охотник. Когда в Кремле намечался званый обед или ещё какое-нибудь обжорство, из Управления по снабжению звонили в Алуксне и заказывали свежекопчёных угрей. Из Горсовета перезванивали Аудрису и передавали заказ. Он обычно отвечал:
– Ёхайды! (Непереводимая игра слов.) Это от меня не отвисит. По заказу только триппер поймать можно, а угорь сегодня либо пойдёт, либо нет.
Аудрис лукавил. У него всегда были дежурные угри, дожидавшиеся кремлёвского обеда в пруду за загородкой. Но приказ сверху давал возможность увеличить запасы. Между озером Алуксне и речкой Вайдой существовала протока, по которой в ненастную ночь и шли угри, начиная своё безумное путешествие в Саргассово море. Прямо на протоке стоял бетонный амбар, в котором находились водозатвор и рыбоприёмник. Ключи были у Аудриса. Когда поступал заказ, он отпирал амбар, поднимал затвор и ждал, когда в сетку начнут скользить угри. На это дело Аудрис обычно брал с собой Сысика и ружьё с картечью. Своих браконьеров он не боялся, но могли приехать гурманы из соседней Эстонии или Псковской области. В общем, как везде – там, где рыба, там и стреляют.
Ночь была – ненастней не придумаешь. Даже Сысик поджимал хвост при всполохах молний и громовых раскатах. Я бы тоже поджал, имей я хвост. Угорь шёл, как на демонстрации. Заполнив две сетки, мы заперли свой блиндаж и отправились домой. Там жена Аудриса Мара уже растопляла в огороде коптильню. Аудрис стал сортировать угрей.
– Этот, самый жирный и толстый, для нас. Посидит пока в пруду. Этот, потощее и пошустрее, поедет в Кремль.
Вскоре вся кремлёвская закуска улеглась на прутьях коптильни. Мара накрыла её толстой холстиной. Над округой поплыл аромат копчёного угря. В Пскове на вылет готовили дежурный вертолёт. Лётчик предвкушал, как ему в Алуксне передадут для личного пользования завёрнутого в промасленную коричневую бумагу ещё тёплого короля закусок. Жизнь шла по наезженной колее, невзирая на вскрики гласности и выстрелы в Карабахе.)"
Страничка создана 1 сентября 2023.
|