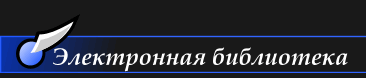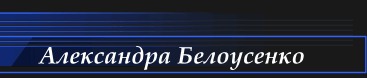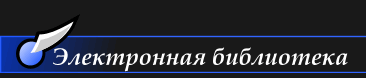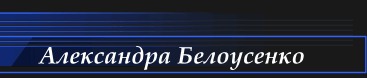Произведения:
Сборник "Последний день лета: Повести" (1985, 384 стр.) (pdf 13,2 mb) – декабрь 2024
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
Новый сборник повестей продолжает нравственную проблематику предыдущих работ Анатолия Макарова. В них рассказывается о том, как в минуту житейского кризиса, на распутье жизненных дорог и поддержкой, и духовным ориентиром служит нам дружба, идейное и моральное родство с теми людьми, которым мы дороги и интересны тем, что мы – это мы, одноклассники, однополчане, старые друзья. Дружба как одна из высших ценностей нашего бытия, вопросы единства поколений, их ответственности друг за друга и друг перед другом – вот как можно определить нравственный пафос этой книги.
(Аннотация издательства)

Содержание:
Человек с аккордеоном ... 3
Одноклассники ... 117
Ночью на исходе зимы ... 130
Снимок на обложку ... 222
Последний день лета ... 265
Фрагменты из книги:
"– Играй, падла! – вдруг закричал Савка, с ним так случалось, пена выступала у него на губах, и трясти его начинала та неведомая сила, которая вселилась в него в тот момент, когда разорвалась рядом с ним в развалинах дома немецкая фугаска. – Играй, сука, а то я щас всю твою фисгармонию раскурочу к ядрене матери!
Закричали женщины, и уже кто-то из мужчин бросился к Савке, чтобы унять его, схватить за руки, но не тут-то было – он размахивал длинными, тяжёлыми своими руками, он хрипел и выл, он готов был убить и сам умереть не боялся тоже, и это останавливало в недоумении самых смелых. Мне захотелось зареветь, убежать, спрятаться где-нибудь на чердаке или под лестницей, только бы не видеть этого унижения дорогих мне людей. Дядя встал, неожиданно легко снял с плеча инструмент и так же неожиданно небрежно брякнул его на скамейку.
Даже если совсем чужого человека при мне били, я потом месяцами не мог забыть его лица, часто бегал по улице, стараясь убежать от самого себя куда-нибудь, и во сне дёргался. Дядя Митя подошёл к Савке, он был ниже почти на голову, и я зажмурился, чтобы не видеть, как тяжёлый Савкин кулак опрокинет его на асфальт.
– Ударить не знаешь куда? – не своим, совсем не тем голосом, каким только что пел, хрипло спросил дядя Митя. – На вот, сюда бей. Верно будет. Меня сюда уже били. Из батальонного миномёта, всего только двадцать осколков сидит.
Раздался странный треск, и я открыл глаза. Дядя стоял перед Савкой, и грудь его была распахнута. Это он сам рванул у себя на груди рубашку так, что с визгом полетели пуговицы, и галстук лопнул с немного надрывным, тоскливым звуком. Лицо у дяди Мити стало совсем не такое, как дома во время выпивки и закуски. Я никогда не был на войне и потому не видел, как выглядят люди, решившиеся на всё до конца, до самой смерти, – теперь я думаю, что у дяди было тогда как раз такое лицо.
Савка вдруг обмяк и опустил бессильно свои огромные руки. Потом он повернулся и побрёл домой в свой полуподвал, выходящий окном в закоулок. Глядя ему в спину, я впервые почувствовал тогда, что он и впрямь инвалид.
А дядя стоял в растерзанной на груди рубахе, и не было на лице его никакого торжества и никакой победы. Он попытался застегнуть воротник, но пуговицы оборвались, и тогда он, поёживаясь, запахнул поглубже отвёрнутые борта пиджака."
* * *
"Дядя вошёл во двор, ступая по каменным потрескавшимся плитам, окружённым вокруг высокой и свежей травой. Лето в этом году стояло жаркое и богатое короткими проливными дождями. От ступенек крыльца и покосившихся перил тянулся еле заметный пар. Весь этот особняк являлся, в сущности, одной огромной коммунальной квартирой, а потому входная дверь – с порочными лилиями на матовом стекле – никогда не запиралась. Каждому жильцу запирать полагалось собственную комнату. И почтовые ящики – пронзительно голубые и зелёные – висели прямо на комнатных дверях – некоторые из них были, между прочим, отделаны красным деревом. А кухня имелась одна общая на весь дом – как войдёшь, налево. И когда дядя Митя вошёл, он по оставшейся с детства привычке первым делом заглянул в кухню. В глубине, возле окна, выходящего в хилый палисадник, стояла его мать. Она накачивала примус и время от времени останавливалась, чтобы передохнуть. У неё были тонкие руки с большими синими переплетениями вен. В детстве он очень боялся, что эти вены не выдержат однажды и лопнут. Ситцевый старенький платок сбился на сторону, и видна была прядь волос, седоватая и редкая, лучом солнца просвеченная насквозь. Дядя Митя прислонился к притолоке и не мог вымолвить ни слова. Похоже было, что один из невынутых осколков поднялся из каких-то тайных глубин его груди и встал поперёк гортани. Дядя облизывал сухие, воспалённые губы. Мать разожгла примус и поставила на огонь кастрюльку – дядя узнал её, купленную лет десять назад в рабочем кооперативе. На ногах у матери были парусиновые башмаки, похожие на мальчиковые. Дядя впервые подумал, что возвращаться надо, как в спектакле, с закрученными усами и с орденами, нестерпимо сияющими на груди. Из плохо прикрытого крана в поржавевшую раковину капала вода. Пахло керосином и стиркой. Мать сняла кастрюлю с примуса и принялась мыть посуду – гранёные стаканы из копеечного зеленоватого стекла и глиняные потрескавшиеся блюдца. Она вытирала их аккуратно суровым полотенцем и что-то напевала при этом – какую-то совершенно неизвестную ему песню, которая почему-то ей запомнилась. А мать никогда не пела, даже не напевала на людях раньше – это дядя знал наверное. Она потихоньку пела теперь, еле слышным, дрожащим голосом, и в такт этой странной песне текли, вероятно, какие-то её привычные мысли.
– Мам, а мам,– проглотив комок, хрипло позвал дядя, – здравствуй, вот я и пришёл."
* * *
"Он взял её руку, узкую с длинными лёгкими пальцами, – было время, когда одно лишь прикосновение к этой руке представлялось ему целью бытия. Он повернул её кисть ладонью вверх и поцеловал её в излом руки, в самое запястье, в то место, где незащищенно и упруго пульсирует голубая вена.
– Спасибо, Лёля,– сказал дядя, – спасибо, что так сказала. Не ожидал. Только ведь я, правда, не себя имел в виду, я, Лёля, вообще не в счёт.
Вновь послышалась музыка, раздались голоса и шаги – Лёлю искали, остря что есть сил и распахивая при этом двери разных комнат. Она вздрогнула и вот уже не просто уходила из кабинета, а словно на поезде отъезжала, медленно набирающем скорость, – дядя видел, как её лицо отдаляется и отдаляется от него, как неразличимы в темноте делаются его черты и как оно исчезает за дверью, словно растворяясь вдали.
Дядя Митя не помнил, как собрался, как уходил, как спускался по лестнице. Он опомнился только на Кировской – один посреди совершенно пустой, белой улицы. Вновь посыпался неслышный кружащийся снег, он сопровождал дядю всю дорогу до дому, сухой, вспыхивающий под фонарями, засыпающий неровности московского асфальта и прочие изъяны нашей жизни.
Дядя Митя не узнал свой двор. Зимней ночью он сделался чист и уютен, словно рождественская открытка, висевшая до войны над комодом, в детстве дяде всегда хотелось очутиться в ней, в её милом и задушевном пейзаже. С этого начинались многие фантазии – вот он становится совсем маленьким и попадает в этот нарисованный мир, так удачно вобравший в себя все несбывшиеся мечты о земном уюте.
Дядя смахнул снег со старой пенсионерской скамьи и сел под ещё более старой липой.
Ни в одном окне не было света. Только железный фонарь метался и скрипел на своём, не видимом сейчас, проводе. Свет его, как у звезды, был призрачен и далёк. Дядя Митя вспомнил, даже не вспомнил, а во второй раз увидел, как отдаляется от него – неспешно, но неумолимо – Лёлино лицо, бледное, с расширенными глазами, постепенно теряющее черты, угасающее, как солнечное пятно. И такая безвыходная грусть пронзила вдруг дядино сердце, что через несколько мгновений он даже удивился тому, что остался жить. Он снял варежки, с трудом расстегнул схваченные морозом защёлки футляра и вытащил аккордеон. Он заиграл сначала совсем тихо, а потом громче, он играл, и слушал сам себя, и склонял голову набок, и откидывал её назад, и нажимал на басы и клавиши, не чувствуя холода. Он не задумывался над тем, что он играет, это была импровизация, как когда-то давным-давно, в подвальном красном уголке, только тогда он был всемогущ и счастлив, тогда он парил над весенней Москвой, а теперь он мотал головой, укачивая свою тоску, как несчастного больного младенца.
Дядя Митя ничего не замечал. Кое-где в окнах зажёгся свет, из своей пристройки вышел и плюхнулся рядом с ним на лавку татарин Джафар, которого во дворе звали просто Женей. Под сторожевым коротким тулупчиком виднелась у него расстегнутая на груди нижняя рубаха.
– Ты что? – участливо спросил хриплым со сна голосом Женя. – Перебрал, что ль, по этому делу?
Дядя Митя не отвечал. Он всё играл, и ему казалось, что никогда в жизни он не играл так хорошо, и никогда ещё аккордеон не был так ему послушен, и никогда ещё всё то, что он чувствовал, не совпадало до такой степени со звуками аккордеона.
Татарин Женя поскрёб под тулупом голую грудь и, как всегда затейливо, выругался:
– Всё, разбередил ты меня, зараза, теперь ни за что не усну. – А через мгновение добавил: – Ну вот, радуйся, второе отделение концерта у Плетнёва.
Так звали здешнего участкового. Дворничиха тётя Феня уже злорадно тянула его во двор. Она была довольна, что не любимый ею и непонятный ей дядя Митя, хоть в чём-то проштрафился и был застигнут ею на месте преступления, чего с местной шпаной, несмотря на всю её дворницкую бдительность, никогда не случалось.
– Ночь, полночь, – упиваясь своею служебной праведностью, кричала тётя Феня, – а им, паразитам, всё ничего – законы не писаны, нарушают покой трудящихся! Хулюганы, черти...
– Погоди, погоди, – прервал её Степан Иванович Плетнёв. В его совершенно конкретной милицейской практике это был совершенно непонятный случай. В три часа ночи дядя Митя играл на аккордеоне, и сам этот факт являлся несомненным и вопиющим нарушением общественного порядка. Однако играл он так, что у лейтенанта милиции Плетнёва рука не поднималась его остановить, потому что у самого него от этой музыки какая-то незнакомая грусть защемила в груди. Он злился на себя за эти сантименты, за неположенный во время дежурства либерализм, переминался с ноги на ногу, покашливал и медлил – ничего не говорил. А татарин Женя ёрзал на скамейке, вскрикивая, бил себя кулаком в тощую обнажившуюся грудь и причитал:
– Реветь хочу, реветь... Зачем разыгрался, Митя, не вовремя? Поллитра сейчас нигде не достанешь...
Наверное, после сомнений и борьбы долг всё же возобладал бы в душе участкового над эмоциями, и ему под давлением зудящей тёти Фени пришлось бы применить власть, но, к счастью, этого не потребовалось.
Мать дяди Мити в большом сером платке и в тапочках на босу ногу спустилась во двор. Некоторое время она молча смотрела на дядю Митю и вытирала концом платка беззвучные слёзы. Лицо дяди было бесстрастно и спокойно, но ей казалось, что это он плачет, она обняла его за плечи и потянула за собой, всё время приговаривая: «Ну что ты, сынок», «Ну что ты, сынок», – и дядя покорно пошёл вместе с нею, не переставая играть и унося с собою еле слышную, будто бы угасающую мелодию.
Татарин Женя шёл сзади и тащил футляр от аккордеона."
Сборник прозы "Человек с аккордеоном" (1976) (html 762 kb) – сентябрь 2007
– прислал Инклер

Повесть Анатолия Макарова «Человек с аккордеоном» рассказывает о трагической и высокой судьбе артиста, которого «война догнала» спустя двадцать лет после победы. Это повесть о послевоенной Москве, о её окраинах и переулках, о её буднях и праздниках, о её музыке, которая озаряет собою жизнь целых поколений. Это повесть о подвиге человека, нашедшего в себе силы, несмотря на все тяготы судьбы, нести людям радость – своим искусством и щедрым своим сердцем.
(Аннотация издательства)
Повесть «Человек с аккордеоном», напечатанная в журнале «Юность», была отмечена хорошими отзывами критики и, что ещё важней, была замечена читателем.
На мой взгляд, повесть и в самом деле большая удача автора. Непрерывность лирической интонации сочетается в ней с графической чёткостью письма, нигде не переходящей в сентиментальную размытость или в ложную патетику. Улыбка и лёгкая ирония сопровождают повествование, уместно появляясь в нужный момент.
Стиль вызывает доверие к идее. А идея повести значительна и ответственна – большая жизнь рядового человека. Повесть лишний раз убеждает нас в том, что богатство душевной жизни и есть истинное богатство человека. Никакое другое богатство не заменит этого, скудодумие души ничем нельзя заменить и заполнить.
Душевная щедрость – вот что делает личность значительной, на какой бы ступени общественной лестницы она ни стояла.
Все эти и подобные им мысли возникают при чтении повести «Человек с аккордеоном».
Рассказы подтверждают стиль повести, её интонационные особенности. И хотя они совсем о другом – о жизни студентов строительного отряда, о человеке, потерявшем Родину и вновь её обретшем, об искусстве любви, а точнее, об искусстве жить, мы легко узнаём почерк автора, его руку.
Единство стиля делает книгу книгой.
Но что ещё важней единства стиля – это свидетельство серьёзности нравственных позиций писателя, его человеческой зрелости.
Фазиль Искандер
Содержание:
Человек с аккордеоном. Повесть
«Ars amandis». Рассказ
Поездом двадцать три сорок. Рассказ
Двенадцать маршалов Наполеона. Рассказ
Страничка создана 3 сентября 2007.
Последнее обновление 5 декабря 2024.