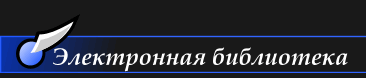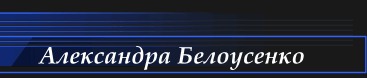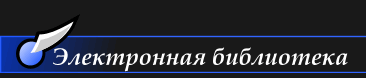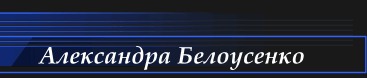«Родился в 1921 г. в Астрахани; в 1929 г. семья переехала в Саратов. Сразу по окончании школы был арестован "за антисоветскую деятельность" и осужден на 10 лет по статье 58 п. п. 10, 11. Отбыв срок на Северном Урале в Базстройлаге, ушел на поселение в новостроящийся поселок – впоследствии г. Карпинск. Работал художником при домах культуры, кинотеатрах, в ярославской реставрационной мастерской. В 1961 г. реабилитирован «за отсутствием состава преступления», вернулся в Саратов. В 1971 г. в связи с делом о самиздате и увольнением с работы после статьи «У позорного столба» в областной газете «Коммунист», вынужден был по «предложению компетентных органов» уехать в Петрозаводск.
Литературой я увлекался со школьных лет. После освобождения с 1951 г. писал рассказы о людях, окружавших меня в лагере. В 1971 г. уже законченная рукопись была похищена, надо полагать, сотрудниками саратовского КГБ. Ее судьба неизвестна до сих пор».
(Из книги Захара Дичарова "Распятые")

Книга "Избранные минуты жизни: Проза последних лет" (1998, 203 стр.) (html 700 kb; pdf 5,3 mb) – октябрь 2008, июнь 2021
"Предотвратим незначительное недоразумение: перед вами – не тот Борис Ямпольский, о котором, очень вероятно, вы подумали, увидев обложку. Автор «Избранных минут» – однофамилец известного советского писателя. Заурядная случайность – но однажды, давно, она, кажется, спасла нашему автору жизнь (как – он расскажет сам), а жизнь в конце концов превратилась в эту вот книжку – и теперь призрак двойника (вполне почтенный призрак вполне симпатичного двойника) почти неизбежно промелькнет между автором и читателем – разумеется, лишь на миг.
Из всех проделок судьбы, из бесчисленных ядовитых шуток, сыгранных ею с Борисом Яковлевичем, эта – самая беззлобная.
Обидней будет, если читатель примет «Избранные минуты» за собрание мемуарных отрывков: обознается опять. А это возможно и даже легко: пробежали первую страницу – отзвуки детства и пронзительная печаль утра, заглянули на последнюю – автобиографические числительные – то ли сложение, то ли вычитание, а взамен итога, в остатке – самоутешительный афоризм; пролистали насквозь – ясно, что и этому человеку, рассказчику, чудовищное наше государство, как многим другим, изломало вдребезги жизнь, а он, как немногие, собрал ее заново из каких-то необыкновенно тихих радостей; видно, что написано хорошо – фразой розановской школы: стремительный синтаксис удерживает события здесь и сейчас, в переживаемом моменте; обаятельный такой лаконизм, как будто читаешь мысли, а не слова... Вот вывод и готов: просто воспоминания – впрочем, талантливые – частного лица; очередное свидетельство очередной жертвы; а впрочем, отрадно, что в непостижимо жестоких обстоятельствах наш автор чудом сохранил свежесть чувств, достоинство и юмор...
Так обойдется невнимательный читатель с этой единственной в своем роде и удивительной книгой – с историей читателя вдохновенного, чья любовь к литературе стала участью, предопределила поступки."
(Из предисловия Самуила Лурье)
Фрагменты из книги:
"Дедушка! Душа моя дедушка! Через годы и годы тропинкой памяти возвращаюсь и возвращаюсь к тебе.
А ты сомневался: «Отдадут тебя в школу, накинут красную удавку, вспомнишь ли когда дедушку своего?»
– Какой красавец-старик! Кто это, Софья Федоровна? – спрашивает у мамы моя учительница французского (от которой все, что осталось, это: «лябаль», «лякок», «эн, дэ, труа, курон, дорэ буа») княгиня Вера Борисовна Туманова, не снимавшая траура по расстрелянным сыновьям и мужу.
– Домовладелец наш, – говорит мама, – в прошлом пароходовладелец Мартемьянов. Красавец, говорите, а видели бы вы его в бобровой боярке, шубе касторовой с бобровым воротником – куда кустодиевскому Шаляпину!
Но в бобровом и я его раз только видел, задыхаясь от нафталина. Няня ему тогда:
– Павел Иваныч, что не наденете никогда? В церковь бы хоть.
– Буржуйскую-то? Сдерут ведь, Ксенья Сергевна. Да еще и в каталажку упекут. Нынче ведь как у нас? У кого в одном кармане вошь на аркане, в другом блоха на цепи, тот и прав кругом."
* * *
"А я уже больше месяца здесь кантуюсь. И отоспался, и отеки опали. Вот-вот выпишут в бригаду опять. Что ни обход – поджилки трясутся.
И дотряслись однажды. Из приоткрывшейся двери дежурки Тегеран Герасимович:
– Ямпольский, зайдите ко мне. Присаживайтесь, – рукой на табуретку у стола. – Дело вот какого рода: на неделе комиссовка. Хочу лекпомом оставить вас – вы как к этому? Придется жаловаться на сердце, на загрудные боли.
Опешив от неожиданности, чуть не заикаюсь:
– Кому я обязан за всё за это?
– Как-как вы сказали? «В борьбе за это»?
И, поколебавшись, выдвигает ящик стола, достает, кладет передо мной зашарпанную огоньковскую книжонку. «Зеленую Шинель» Бориса Ямпольского.
Я оторопел, у меня язык присох.
– Вы чем-то озадачены?
– Это... Это не я.
– Не вы? – его брови поползли на лоб. – Как не вы?! Федот, да не тот! И расхохотался.
– Переживём! Будем считать вас его протеже."
* * *
"В тот незабываемый день с утра пораньше я уже был у себя в мастерской. Трехметровый портрет домалевывал к приходу приемной комиссии.
Распахивается дверь. Входит Николай Васильевич Широков – худрук Дома культуры угольщиков, ссыльный тоже. Вальяжно, руки в брюки. С ухмылочкой взглядывает на меня.
Откидывается в кресле, нога на ногу. Закуривает. Взглядывает на портрет под моей кистью, опять на меня, опять – на портрет.
– Что это вы, милейший? – спрашиваю. Как не слышит.
– Окаймляйте черненьким, – говорит, – черненьким окаймляйте.
– То есть? – ошарашен я.
– Великий кормчий дуба врезал.
– Что за шутки?! – недоумеваю.
– Какие могут быть шутки?
И поднимается лениво, включает над собой репродуктор.
Музыка, музыка... Потом: «...дыхание Чейн-Стокса...»
Насладившись моей обалделостью, комментирует:
– Это залепуха, про дыхание. Дыши бы он еще, не стали бы нарушать нашего беспросветного счастья.
И идет к двери. Уже с порога:
– Я в гастроном. Не составите компанию?
Отмахиваюсь.
Бросаю кисти и... как это бывает, когда, идя по ходу поезда, мчишься не спеша, не спеша мчусь к закадычному однобаланднику своему. Соображая на ходу, что радоваться преждевременно. Чем обернется, один Бог знает.
Но радость так и прет из меня! То есть нет, не радость. Вернее сказать: какое-то возносящее до небес волнение."
* * *
"Вышла я со свидания с того сама не своя.
На другой день прибегаю опять на огороды, а их уводят уже. И он крайний. Оглядывается на меня, оглядывается. Вдруг – я даже не сразу догадалась, чего это он – крестным знаменьем меня осеняет из-под полы. Это папа-то!
На другой день, и через день, и потом их не вывели уже. А в городе расстрелы начались: Деникин – Добровольческая наступала.
За особняком Бестужевых, что Ирочка показывала вам, где теперь стоянка такси, как только добровольцы вошли в город, ров был вскрыт. Удушающее зловоние от рва до самой Думы стелилось. В близлежащих домах форточки не открыть было. А пошли, потянулись опознавать...
Что творилось с людьми, этого я вам передать не могу!
О какой-то княжне Урусовой разговоры помню, расстрелянной, как видно, последней: сверху лежала обнаженная...
Не прекращались слухи и об отправленных заложниками в Гомель, даже пароход называли: «Дедушка Крылов». Так что у нас с мамой надежда оставалась еще.
Пока письмо не подбросили однажды за подписью «Ученики Василия Павловича». Во время уборки в Лукьяновской тюрьме, сообщалось нам в том письме, на стене одной из камер обнаружена надпись: «В ночь с 30 на 31 августа 1919 года расстрелян инженер В. П. Листавничий без следствия и обвинения».
Ну, что с нами было, сами понимаете, можно не рассказывать.
Вдруг Нивин появляется (инженер тоже), не приходил ли Василий Павлович, спрашивает. Рассказывает, что с «Дедушки Крылова» вместе бежали. Через окно уборной. Но пароходишко колесный, мог и под лопасти угодить. А могла и пуля догнать: огонь был открыт.
Но, может, и придет еще.
Ждем. От каждого скрипа калитки вздрагиваем. День, другой, неделя – нет. Нет, нет и нет. Пережили и это – вторые похороны, считай.
Марыся является. В горничных когда-то была у нас. «Что с паном?» – спрашивает. На Тифлисском вокзале, оказывается, когда мужниных родственников встречала, по перрону прохаживалась, бросился ей в глаза старик, одиноко стоящий у подножки вагона, очень напоминающий Василия Павловича. Решила подойти. «Вы не пан Листавничий будете?» – «А вы кто? Откуда вы меня знаете?» Но тут паровоз дал свисток, пан вскочил на подножку, и что уж он прокричал ей, она не расслышала.
А состав, как она узнала потом, шел в Константинополь."
* * *
"«Обстановка в колонии, – рассказывает, – страшная! Воспитанники, например, заталкивают младшего в тумбочку и выбрасывают в окно со второго этажа. А воспитатели „морализуют" с применением ключа по голове или проволочного хлыстика с плексигласовой наборной ручкой по строю вытянутых ладоней. Называется: „давать интервью". Выражение одинаково загадочное как для воспитанников, так и для воспитателей».
Берет Людмила Борисовна мальчика-нарушителя вместе с другими кружковцами в осенний лес. И получает за это выговор. Объясняет начальству: «У мальчика абсолютный слух и чистейшего тембра голос. В кружке он разучивал песенку Чайковского „Осень". Как было не взять? За зоной с мая месяца не был. А нарушение его – чинарики!»
Ей на это: «Тембр, слух сюда не касательно, и прекратите заниматься отсебятиной!»
Больше, чем «отсебятина», раздражала начальство внешность Людмилы Борисовны – «баба в штанах и шибко образована»."
* * *
"Шестнадцати годков не было – под венец пошла. Сказать по-нынешнему, замуж выскочила. А повстречала его, судьбинушку свою, в церкви. На престольный праздник дело было.
Чернявый да румяный стоял он поодаль от меня – ну чистый херувим!
Вышла после службы из церкви, не вижу куда иду. Вижу, иконки продают. Купила я ту, что и сейчас – вон она. Пришла в избу, брякнулась на пол перед ней: «Отдай, Пресвятая Дева, ни за кого не хочу, за него отдай, век молиться на тебя буду».
Она и услышь молитву мою.
А херувим-от мой, как дети пошли, попивать начал, озорничать. Дальше – больше. Ему и слова уж не скажи поперек, отходит тебя сейчас, как знает.
Когда первую девчонку родила (до того все парни были), стою однова вот этак вот, к печке прислонясь, и думаю: не надо бы мне мужика-то больше, на что он теперь, мытарство одно. И к Пресвятой Деве опять: «Забери ты его от меня, заступница, пропусти скрозь машину». Ни мне и никому чтобы! То есть и чужой бабе не достался, значит.
Вчерась подумала этак-то, а сегодня возьми и грянь война!
Полгода не прошло – похоронку получаю.
Слава тебе, Господи, отмучилась.
Да! Так! Ведь, Борис Яколич, поверишь ли, синяки не простывали на мне, детей крадучись кормила, на войну уходил, последний чайник грохнул об пол. Это человек был, я тя спрашиваю?"
* * *
"Подсели ко мне в такси (из аэропорта ехали) две бабенки, товарки по пивбару.
Морды под кремом, не морды, а торты. Ягодицы в тугих юбках, как поросята в мешке, только что не хрюкают.
И в золоте обе. Кольца, серьги, кулоны.
Одна с курорта, другая встречала.
Обе рта не закрывают. Особенно словоохотлива встречавшая.
– Вчера какой-то алкаш прямо в зенки плеснул, всю кофточку залил, сука, только раз одеванную. А домой пришла – от своего фингал схлопотала.
Вдруг засмеялась:
– Зато утром теще: «мамаша»! И заголосила:
– Подружка моя, я тебе советую: никому ты не давай, залепи газетою...
Проезжаем черемуховые заросли.
– Останови, милок! – кричит таксисту. – Дай наломать, и тебе будет, своей отвезешь.
Выхватывает из сумочки пятерку, сует ему.
А мне:
– Вы не очень спешите, товарищ? Извините нас, такие уж мы весёлые.
Милок останавливает. Выбираются. Наломали цветущих веток. Влезли обратно и в два горла:
– Пейте пиво, пейте квас, рожи будут, как у нас. По-ехали."
Страничка Бориса Ямпольского в книге Захара Дичарова "Распятые" (в нашей библиотеке)
Страничка создана 17 октября 2008.
Последнее обновление 13 июня 2021.