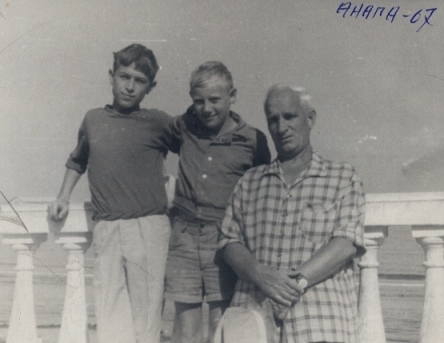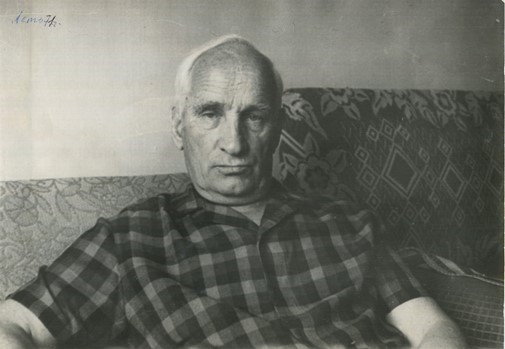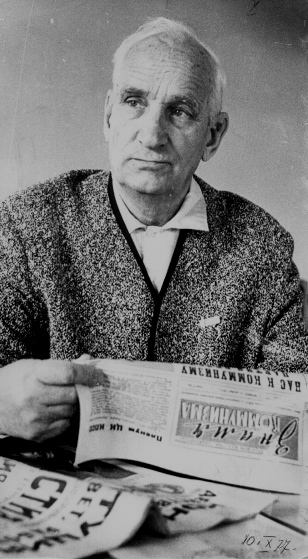Игорь Гергенрёдер
Участник Великого Сибирского Ледяного похода
Биографические записки
Где побывал, что видел и что понял российский немец, родившийся в 1902 году и умерший в 1990-м.
Кого назвали белыми. Чацкий, Евгений Онегин — порождение фон Гольштейн-Готторпов (псевдо-Романовых). Андрей Болконский — подлец. О каких крысах сказал Александр Грин. Предшественник Воланда. Шпик-рецидивист Серый Волк. Кинофильм «Бег» с неграмотным есаулом. Империя лжи.
Пересечение нитей
Одна нить потянулась из деревни, укоренившейся в шестидесяти километрах восточнее Бонна, в Любек, к кораблю, отплывшему в Санкт-Петербург, оттуда нить вытянулась вглубь Российской империи, где в Поволжье завязалась узелком под названием «колония Куккус» и где осела семья, чью фамилию Hergenroether записали по-русски: Гергенредеръ. Было начало царствования Екатерины II.
Немецким колониям присваивались также русские названия. Так, Куккус звалась: село Вольское Новоузенского уезда тогдашней Самарской губернии. Каждая семья переселенцев получала тридцать десятин (десятина – 1,09 га) земли, дом, построенный русскими государственными крестьянами. Вспомним место в «Мертвых душах», где Гоголь описывает усадьбу Собакевича: «деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми или, лучше, дикими стенами, – дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов». Ещё семье предоставлялись лошадь, корова, орудия труда и беспроцентная ссуда триста рублей серебром. (В то время, к примеру, корова стоила девять рублей). Переселенцы на тридцать лет освобождались от налогов и не подлежали призыву на воинскую службу.
Жители немецких колоний официально именовались: колонисты-собственники, с 1871 года их стали именовать «поселянами-собственниками». Тогда же было отменено освобождение от воинской службы.
Вторая нить потянулась из Германии в Одессу, здесь в многодетной семье по фамилии Кунов (Kunov) родилась Хедвига. Феодор (так произносилось его имя) Кунов, по протекции богатых родственников, был принят управляющим имением графа Воронцова-Дашкова в Жмеринке и переехал сюда с семьёй. В хозяйстве имелся сахарный завод, понадобился механик, было дано объявление в газетах. На него откликнулся Филипп Андреевич Гергенредер, уроженец колонии Куккус. Он окончил гимназию в Саратове, после чего освоил несколько профессий.
Шли 1880-е годы, о которых персонаж чеховского «Вишнёвого сада» Гаев сказал: «Я человек восьмидесятых годов... Не хвалят это время, но все же могу сказать, за убеждения мне доставалось немало в жизни. Недаром меня мужик любит. Мужика надо знать!» Гаев подразумевал свою якобы верность либеральным идеям, тогда как время было сумрачное: правительство «закручивало гайки». Однако восьмидесятые годы отличались также ростом машинного производства, развитием техники.
Гергенредер показал себя в Жмеринке хорошим механиком. Управляющий выдал за него свою дочь Хедвигу, когда ей исполнилось девятнадцать. Филиппу Андреевичу было тридцать четыре. Венчал молодожёнов лютеранский пастор.
Пруд у Бессоновки
Филипп Гергенредер решил жить независимо от тестя и, узнав, что в селе Бессоновка под Пензой сдаются в аренду пруд с водяной мельницей и тридцать десятин земли, переехал туда с женой и с их первенцем Владимиром. Семью встретил русский лиричный пейзаж уходящего лета: березнячок, окаймлявший выгон со стадом на нём, околица села, за ним луг, прилегавший к тихому пруду, за которым виднелся лес.
Приехавших принял низенький деревянный серый домик на берегу пруда, здесь родились Павел, Фёдор, Маргарита, мой отец Алексей, Николай, Константин.
Пруд изобиловал рыбой, благодаря чему раскрылась одна из особенностей характера Филиппа Андреевича. Некий купец завёл с ним разговор: куда-де вам управляться и с мельницей, и с землёй, и рыбу ловить. Пусть, мол, мои люди её ловят, а через год я вам заплачу. Мой дед согласился. Работники купца сетями ловили рыбу в пруду, прошёл год, Филипп Андреевич напомнил купцу о договоре и услышал: «Да я же вам заплатил! Как так вы не помните?» Мой дед вне себя обратился в суд, мировой судья задал вопрос: «Где расписка?» Гергенредер ответил, что никакой расписки не брал. «В таком случае ничего сделать нельзя», – ответил судья.
Свойство моего деда, каковое я мягко назову непрактичностью, подводило его не один раз.
Утро жизни
Мой отец Алексей Филиппович Гергенредер родился по ст. ст. 28 ноября 1902 года, как сказано, в селе Бессоновка под Пензой. (В советское время ему выдали свидетельство о рождении, где по небрежности его местом указали город Кузнецк).
Избегая высоких слов, мой отец говорил о своём раннем детстве: «Время было погожее». В сторонке от Бессоновки неказистый домик, где он появился на свет, смотрел окнами на пруд, с трёх других сторон к дому подступало поле. Стоило шагнуть за порог – и ты в поле. В три года Алексей на всю жизнь запомнил запах трав, жужжание божьих коровок, гудение шмелей, стрекотание кузнечиков. Однажды ему, четырёхлетнему, мать в поле показала очаровательные цветки, прочла по памяти:
Колокольчики мои,
Цветики степные,
Что глядите на меня,
Тёмно-голубые?
(и далее)
Алексей быстро выучил наизусть всё стихотворение. Позднее ему объяснили, кто такой был написавший его Алексей Константинович Толстой.
В те же четыре года мой отец выучил стихи-молитвы на немецком языке, даю мой перевод: «Я мал, моё сердце чисто. Добрый Боже, поведи меня» и: «Кого люблю я – спрашиваешь ты меня. Моих родителей я люблю, они также очень любят меня, и я хочу любить их больше и больше».
Надо сказать, что родители моего отца говорили между собой по-немецки, а с детьми – по-русски, и Алексей, его младшие братья немецким языком не овладели.
Итак, дом стоял у пруда, по другую сторону которого несмолкаемо шумела вода, падая на колесо водяной мельницы, построенной из брёвен и крытой дранкой. Рядом располагались хозяйственные постройки, помалкивал подступавший к ним таинственный лес. Брат Фёдор, будучи старше Алексея на три года, пугал его лешим, который живёт на мельнице и умеет исчезать в щелях, становиться невидимым. Алексей слушал, слушал и однажды, придя на мельницу, когда там был отец, стал его расспрашивать. Филипп Андреевич спросил: «Тебе страшно или интересно?» Алексей ответил: «Интересно!»
И тогда мой дед стал рассказывать о троллях – косматых старичках ростом ниже Алексея. Они, становясь невидимыми, проходят сквозь стены, у них каморки внутри плотины. «Мы с тобой сейчас говорим, а тролль на нас из-под колеса глядит», – Филипп Андреевич показал сыну на крутящееся мельничное колесо. «И вода на него льётся?» – спросил тот. «Конечно! Но ему ничего!» В пруду, говорил Алексею отец, живут русалки, а в лесу – волки-оборотни, маленькие крылатые эльфы и крошечные гномы, которые иной раз показываются из своего подземного царства.
Филипп Андреевич повёл сына в лес, мальчик так и глядел по сторонам, задирал голову к вершинам деревьев. В то время они казались ему огромными. «Страшно?» – спросил Филипп Андреевич. «А тебе?» – спросил сын. «Нет!» – «И мне не страшно», – сказал Алексей, хотя, как он потом вспоминал, было ему не по себе, но он полагался на отца. Тот рассмеялся и объяснил – всё, что он рассказал, придумали люди, ничего подобного нет, не было и быть не может. Принялся перечислять выдумки, которые в своей жизни ещё услышит сын. К примеру, что змея любит пить молоко из миски. Никакого молока змеи не пили и не пьют!
Он поймал ужа, сказал, что тот безвреден, и велел сыну взять его рукой: «Сейчас узнаю, трус ты или нет». Алексей коснулся змеи и отдёрнул руку, но потом взял змею. Отец показал жёлтые пятнышки на шее ужа с двух сторон около самой головы. И дал наставление: «Есть пятнышки – безопасная змея уж. Нет пятнышек – опасная ядовитая гадюка. Пока ты не подрос, змей не трогай, а то покажется, что есть пятнышки, а их нет. Бояться змей, убегать не надо – просто, если увидишь змею, не приближайся».
Заставлял Алексея ловить лягушек и, подержав, отпускать. Однажды велел подержать в руке бородавчатую жабу, сказав, что бородавки на руку не перейдут, это выдумка. Брезговать не надо, противных существ не бывает. Убивать, говорил Алексею отец, нельзя ни лягушек, ни жаб, но не потому, что гроза будет. Никакой грозы не будет. Но ты хочешь жить – также и они хотят. Ты не хочешь, чтобы тебе делали больно, – так и им не делай.
Отец учил Алексея представлять, как у него выдирают волосы, отрывают пальцы, топчут его ногами, бьют камнем. «Понял, что почувствуют лягушки, жабы, любые существа, если им делать то же? Нельзя убивать никого, кто тебе не вреден и не нужен для еды. Даже листья нельзя просто так срывать с ветвей».
Алексей помнил, как летом отец пошёл с ним в лес собирать грибы, рядом бежали два пса Ругай и Терзай. Отец объяснял, какие грибы зовутся сморчками, какие – сыроежками, какие – опятами. Вдруг псы залаяли, бросились за деревья, и Алексей увидел убегавшую лису. Отец отозвал собак, сказал сыну: «У меня нет с собой ружья, потому что в это время нельзя охотиться. У животных, у птиц появилось потомство, надо дать его выкормить».
Потом он спросил, не захотел ли Алексей есть. Тот сказал, что захотел, и отец достал из сумки и дал ему небольшой кусок булки со сливочным маслом. Алексей съел, попросил ещё, на что Филипп Андреевич ответил: «От масла слепнут», – и улыбнулся, показывая, что шутит. После этого заговорил серьёзно: нельзя, мол, наедаться досыта, особенно – вкусным! У всегда сытого нет достаточной ловкости, быстроты. Самый лучший завтрак в лесу, в поле, в дороге – кусок чёрного хлеба, политый подсолнечным маслом и посоленный, лук зелёный или репчатый и пара огурцов. Летом – малосольных или свежих, зимой – солёных.
Любимой едой Алексея в раннем детстве были каша из толокна и блюдо, которое по-немецки звалось армер риттер (бедный рыцарь). Сухари смачивались молоком и запекались с нарезанными яблоками.
Поездка в гости
Когда Алексею было пять лет, отец взял его и Маргариту с собой в Киев в гости к родственникам. На поезд садились в Пензе, моего отца не мог не поразить увиденный впервые в жизни паровоз, который медленно двигался вдоль перрона. Мальчику запомнились величина колёс, в колесе – выкрашенный красной краской сектор металла, вызвало любопытство движение дышла и, конечно, то, как из-под паровоза вырывался пар с резким мощным звуком п-п-фу! Алексей, видя, что паровоз, вагоны едут по рельсам, подумал, до чего метко машинист попадает колёсами на рельсы, не съезжая с них. Отец сказал, что дело не в «меткости», объяснил устройство колеса.
Подходя к вокзалу Киева, поезд переехал по мосту через реку столь широкую, каких мой отец не видел и не представлял. Филипп Андреевич произнёс фразу Гоголя: «Редкая птица долетит до середины Днепра». Затем сказал, что фраза – красивое преувеличение, на самом деле многие птицы легко перелетают через Днепр. «Когда ты вырастешь, то поймёшь – без красоты преувеличений не бывает интересных книг», – добавил Гергенредер-старший.
Алексея удивляла и смешила фамилия киевских родственников: Перец. Они занимали целый ряд больших, с высокими потолками, комнат в каменном многоэтажном доме. Мой отец впервые увидел зеркальный паркет с солнечным бликом от падавших в окно лучей и ватер-клозет. Филипп Андреевич указал на бачок, на свисавшую цепь с рукояткой на конце, объяснил: когда-де сделаешь дело, надо сильно потянуть рукоятку вниз. Пришло время, Алексей потянул и от шума хлынувшей вдруг воды в ошеломлении бросился вон из кабины.
Дядя Адам и тётя Фаня Перец встретили гостей обедом, где главным блюдом явился жареный большущий петух. О нём было сказано: каплун. Он оказался вкусным невыразимо. Позднее Алексей узнал, что каплуны – холощёные петухи, которых сажают в висячие кошели из сетки и откармливают выдержанной в парном молоке смесью кукурузной и пшеничной муки. Оттого они столь крупны, столь несравненны на вкус. Моему отцу довелось отведать каплуна единственный раз в жизни.
Восхитила его и хала – длинная плетёная сдобная булка с соблазнительной коричневатой корочкой, усеянной маком. Испечённая тётей Фаней, как маняще хала пахла! К ней тётя Фаня налила Алексею большую чашку бульона, где плавала морковка.
Когда гости собрались возвращаться домой, их нагрузили подарками для всех членов семьи.
Кузнецк
Живя в Бессоновке, Владимир, Павел, а следом Фёдор поступили в реальное училище имени Царевича Алексея в недалёком уездном городе Кузнецке, где две сестры Филиппа Андреевича имели дома. Маргарита поступила в кузнецкую женскую гимназию. Братья и сестра жили у своих тётей, приезжая на каникулы домой. Подошла и Алексею пора учиться, подрастали два младших брата. Отправлять ещё и их к тётям не годилось, к тому же закончился срок аренды пруда с мельницей и земли. В 1908 году семья переехала в Кузнецк. Здесь на улице Конопляновской был взят внаём первый этаж двухэтажного каменного дома. Его снимок сохранился, я разместил его в интернете.
Ф. А. Гергенрёдер стал служить в земстве распорядителем земляных и строительных работ: руководил прокладкой дорог, строительством деревянных мостов, плотин, рытьём колодцев. Жалование было скромным, он получал бы больше, работая на частных лиц. Однако он считал долгом делать посильное для крестьянства. У села Евлашево в месте, где бил родник, устроил водоём, построил православную каменную часовню с нишей для иконы и с узорной оградой. Фотография размещена мной в интернете.
За труд мой дед был 25 мая 1913 года, в 300-летие Дома Романовых, награждён именным орденом, увенчанным Российской короной. На одной стороне ордена изображены три пчелы на фоне сот, символ созидания, на другой стороне под Российской короной дата: 25 Мая 1913, ниже – символ вольных каменщиков, ещё ниже – инициалы, фамилия Ф. А. Гергенредеръ в тогдашнем написании. Я разместил в интернете фотографии обеих сторон ордена.
После переезда в Кузнецк старшие братья Алексея, которые теперь стали жить в одном доме с ним, рассказывали о рыцарях, о том, что лучшее войско из них создал германский король, ставший и императором Священной Римской империи, Фридрих Барбаросса, что значит – Краснобородый. Он совершал походы в прекрасную тёплую страну фруктов и винограда Италию, вместе со знаменитым английским королём Ричардом Львиное Сердце участвовал в Третьем крестовом походе в далёкую Палестину.
Алексей узнал от братьев о тевтонских рыцарях, большинство которых были немцами, их войско разбил на Чудском озере русский новгородский князь Александр Невский. За много лет до него жил киевский князь Олег, который со своими воинами на ладьях доплыл по морю до Царьграда, взял его, прибил к его воротам щит, а также прославился и другими победами.
Русские князья, рассказывали братья, воевали друг с другом, и один из них Святополк Окаянный убил Бориса и Глеба, а Василька ослепил. Его Алексею было особенно жалко.
В семье Гергенрёдеров все были жалостливы, сострадательны, и первая – мать Хедвига Феодоровна. Она вносила вклад в содержание кузнецкой бесплатной для бедных чайной, где с яичницей и булками подавали на выбор молоко, сбитень, взвар, чай с сахаром. Хедвига Феодоровна по очереди с другими дамами бывала подавальщицей.
Алексей внешне походил на мать. Ему, шестилетнему, она прочитала «Маленького оборвыша» Джеймса Гринвуда и «Хижину дяди Тома» Бичер Стоу.
Семилетним Алексей прочитал сам первую книгу – роман Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо – и представлял себя моряком и вообще путешественником. Второй прочитанной книгой стал «Всадник без головы» Майн Рида.
В то время у Алексея уже были друзья-кузнечане – Вячеслав Билетов, Дмитрий Панкратов, Фёдор Леднёв, Константин Ташлинцев. Друзья играли в городки, учились у старших ребят делать воздушные змеи, запускать их, ловили бреднем рыбу в речке под названием Труёв.
Филиппа Андреевича не стало
Весной 1914 года моему деду в больнице Кузнецка удалили камни мочевого пузыря, операцию сделали успешно, но была Пасха, подвыпивший фельдшер, промывая рану, занёс инфекцию, началось заражение крови. Алексей с ребятами играл на улице, когда его позвали: «Скорее! Твой отец умирает!» Алексей прибежал в больницу. Его отец, тяжело, прерывисто дыша, лежал навзничь на кровати, глаза были открыты, но замечалось, что они не видели, он был без сознания и вскоре умер. Прожил Филипп Андреевич пятьдесят три года. Алексею Гергенрёдеру шёл двенадцатый год.
На похороны пришли видные кузнечане, две сестры покойного на поминках причитали: куда же Этвихь (Хедвига, его вдова) глядела? Он мог-де брать выгодные заказы, стал бы состоятельным человеком, а так – остались долги. Алексей вспоминал, что его мать сцепила руки на груди, громко и нервно, не без напыщенности, произнесла: «Он служил России!» С ранних лет мой отец помнил повторявшееся родителями как завет: «Нас переселила в Россию Екатерина Великая, и как она старалась для России, так и мы должны стараться. Россия нас приняла!»
Сёстры Филиппа Андреевича, обе небедные, заплатили долги и помогли вдове открыть булочную с пекарней. Хедвига Феодоровна, дети стали жить доходами от булочной. Алексей, как и его старшие братья, учился в Кузнецком реальном училище. Николай и Константин – в высшем начальном училище (городском четырёхклассном учебном заведении того времени).
Сила Андреев
За городом у речки Труёв Филипп Андреевич, после переезда в Кузнецк, купил землю: чистый луг. От него отрезали часть под огород. Подле мой дед с помощью наёмных работников построил избу, конюшню, хлев, баню и всё это окружил забором.
В избе поселился одинокий человек Сила Андреев, который был наёмным работником Филиппа Андреевича в Бессоновке. Андреев никогда не стриг седые волосы и бороду: волосы доходили до плеч, борода лопатой – до середины груди. Ходил он в лаптях, которые сам плёл. Он занимался огородом, смотрел за жеребцом Ханбеком, стригунком взятым из Бессоновки, держал коз, разводил кроликов, откармливал свиней. Рядом с конюшней и хлевом стояла будка Злодея, большущей лохматой дворняги. Злодей, обычно не сидевший на привязи, мог броситься на чужих, и, если кто-то чужой приближался, о чём пёс оповещал яростным лаем, Андреев сажал его на цепь. То же делал, и когда отлучался из дома.
Гергенрёдерам принадлежал жеребец Ханбек, он был чалый: сам серый, хвост и грива чёрные. Козы, кролики принадлежали Силе Андрееву. Половину заколотой свиньи он отдавал хозяевам. Злодей был общим.
У Андреева имелась для защиты от воров купленная Филиппом Андреевичем двустволка, на которой впечатляло клеймо: «Тульский Императора Петра Великого Оружейный Заводъ». Имел Сила ещё свой собственный пистолет – ветхозаветный кремнёвый, для которого из дуба выточил щёчки рукоятки взамен старых сгнивших. Пистолет редко давал осечку. При выстреле с двадцати шагов в тыквы, положенные одна за другой, пуля пробивала первую тыкву и застревала в середине второй.
Тыквы, арбузы, репа – на огороде росло всё, что родит земля на Приволжской возвышенности. Большую часть огорода вспахивали на Ханбеке под картошку. Андрееву помогали в этом деле, как и в косьбе луговой травы, братья Гергенрёдеры: поначалу Владимир и Павел, затем и Фёдор, а потом и подросший Алексей. Осенью они на телеге перевозили картошку, другие овощи домой в город, оставляя работнику его часть. Ханбека также запрягали в дровни и возили дрова на зиму как Андрееву, так и в город Гергенрёдерам. Возили в пекарню муку от торговца мукой.
На жеребце катались верхом, в седле и без седла, Павел, Фёдор, а когда Алексей подрос, – и он. Самый старший брат Владимир, основательно занятый учёбой, увлекавшийся шахматами, садился на коня лишь изредка.
Иногда Андреев в длинной подпоясанной рубахе, в лаптях, приезжал к Гергенрёдерам верхом на Ханбеке. Мой отец рассказал мне, что пришедший к Владимиру товарищ увидел Андреева, который слезал с коня, и воскликнул: «О, сам Лев Толстой!» В то время в старых журналах, выходивших при жизни Толстого, можно было увидеть шаржи: Лев Толстой идёт за плугом, Лев Толстой подковывает лошадь. Правда, одеваясь под простого крестьянина, граф Толстой всё же носил сапоги, а не лапти.
Войдя в дом, Сила Андреев произносил: «Здравия хозявам!» После чего добавлял: «Вы думали – свежи, а это всё те же!» И усмехался. Хедвига Феодоровна отвечала: «Здравствуйте, Сила. Как и что у Вас?» Он усаживался на стул и начинал с разговора о погоде: «Дождь у вас был? В городе-то он не такой, а вот у меня! – лицо гостя выражало удивление невероятное, будто он за всю свою долгую жизнь не видел подобного дождя. – Сплошной, как дым. Сквозь ничего не увидишь». Затем рассказывал о чём-либо, связанном с пользой: «Я капусту сажал, так слепней налетело! Знать, будем богаты капустой». Или: «На елях шишек нынче много. Это к обильному огурцу», «Опёнка лугового высыпало сколько! Завалимся картошкой», «Мышиный горошек разросся, одуванчик тоже – заяц плодится вовсю. Вашему Павлу поохотиться».
Пока он рассказывал, кухарка жарила для него картофельные котлеты, подавала ему их с вареньем и с чёрным кофе. Сила удовлетворённо кивал, приподняв руки, пощёлкивал пальцами: «Так-с, мои немецкие коклеты! – произносил «к» вместо «т», добавлял: – Пища тем хороша, что и приятная, и в пост можная!» В доме помнили когда-то им сказанное, что впервые он попробовал картофельные котлеты с кофе «у Герген Редеров – и приучился!» Чтобы удобнее было произносить фамилию, Сила делил её пополам и делал ударение на вторых слогах.
До своего ухода из жизни Филипп Андреевич в повозке с лошадью, которые полагались ему по службе, а зимой в санях возил Хедвигу Феодоровну и младших сыновей к Силе Андрееву париться в бане. Мой отец описывал радость – идти морозным вечером к натопленной бане, когда сияет луна, справа и слева от дорожки высятся бело-синеватые в её свете сугробы, пахнет дымком. Раздевшись в предбаннике, хорошо опять выскочить на мороз и, ёжась, броситься назад в баню, где тебя обдаст паром.
Попарившись, пили в избе чай из самовара, всегда с мёдом или с вареньем. От русской печи, которая, как говаривал, гордясь ею, Сила Андреев, «дров берёт мало, а жару даёт много», становилось душно. Алексей и его младшие братья прислушивались к тишине за окном, надеясь, что из загадочной ночной тьмы с её стужей донесётся вой волков. Ложились спать: родители, Андреев и Алексей – на покрытые бараньими тулупами лавки вдоль стен, Николай и Константин – на лежанку печи. Место Алексея на лавке было близко к столу, где стояла керосиновая лампа, и можно было некоторое время почитать. Мой отец рассказывал мне, что в декабре, после того как ему исполнилось десять лет, он прочитал роман Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный», в котором его очаровали мельница в лесной глуши, старый мельник чародей.
Летом бывало ещё интереснее. Алексей и его товарищи отправлялись к Силе Андрееву пешком, учились у него плести верши для ловли рыбы, называемые «мордами», и делать зыбки «на раков». К обручу от бочки крепили каркас из ивовых прутьев, обтягивали его куском сети. Получившуюся зыбку привязывали бечёвкой к концу шеста. В берег у воды втыкали рогатинку развилкой вверх, которая держала шест в наклоне, после того как свисавшая с его конца зыбка забрасывалась в речку. В зыбке лежали две-три подгнившие рыбки или извлечённые из ракушек моллюски, она опускалась на дно. Через некоторое время её доставали, подняв шест: в ней оказывались раки. Андреев и мальчишки ели их сваренными в чугуне, или же Сила, варя уху, добавлял раков в неё, повторяя: «Уха без раков, всё равно что без ершей, – сорт не первый».
Он рассказывал, в пору цветения каких растений вовсю клюёт та или иная рыба, какая наживка хороша для голавля, какая – для окуня, учил «приваживать» рыбу к определённому месту, называя его «привадой», объяснял, как сделать съедобными грибы, о которых думают, что их нельзя есть.
Грибы мальчики собирали частенько, за что их дома хвалили, ибо излишка еды в их семьях не было.
Вещи в доме и другое
Семья Гергенрёдеров не относилась ни к состоятельным, ни к прозябавшим в нищете. Что имелось в семье? В своё время Филипп Андреевич купил велосипед отечественного производства, именовавшийся «самокатом образца 1891 года». На нём ездил Владимир, по большей же части, Павел, который его чинил, смазывал, словом, держал в рабочем состоянии. Павел позволял кататься на велосипеде Фёдору, а потом и моему подросшему отцу.
От Филиппа Андреевича осталось ружьё. Когда-то это была винтовка Бердана 2 с продольно-скользящим затвором, с ложем орехового дерева. После изобретения трёхлинейки Мосина, которой в армии стали заменять берданки, их решили переделывать в охотничьи ружья, рассверливая стволы, и пускать в продажу. Такое ружьё и купил Филипп Андреевич и с ним охотился. Потом с берданкой охотился на зайцев, куропаток и лис Павел, он брал с собой свою тёмно-серую зырянскую лайку по кличке Иргиз. Жил пёс в доме. Куропаток и зайцев Павел приносил, но мой отец не помнил, чтобы брат принёс лису. Позже с ружьём ходил на охоту Фёдор.
К Павлу, с согласия Владимира, перешёл револьвер Филиппа Андреевича – семизарядный бульдог тридцать второго калибра. От Владимира к Павлу, а от него к Фёдору перешла малокалиберная винтовка «монтекристо», предназначенная для спортивной стрельбы подростков. Моему же отцу из наследия моего деда досталось пистонное шомпольное ружьё. Заряжалось оно со ствола с помощью шомпола, затем взводился курок, на так называемую зорьку надевался капсюль (пистон), и можно было стрелять.
Мой тринадцатилетний отец ходил с ружьём в поле стрелять перепелов, но однажды, не рассчитав, засыпал в ствол слишком много пороха, и ружьё разорвало в руках, к счастью, не причинив вреда стрелку.
О каких других вещах говорил мне отец. Владимир и Павел ещё при жизни Филиппа Андреевича имели карманные часы в латунном корпусе, поэтому принадлежавшие моему деду карманные серебряные часы были переданы Фёдору. Моему отцу передали нож деда золингеновской стали с рукояткой из моржового клыка, нож носился в кожаных ножнах.
В совместном пользовании были многочисленные инструменты для плотницких, столярных, слесарных работ и для сапожного дела, в сарае имелась хорошо оборудованная мастерская. У старших братьев Алексей научился печь хлеб, делать колбасу, при помощи вертикального шприца наполняя фаршем хорошо промытые свиные кишки, чинить старую швейную машинку «Зингер» из приданого матери, подшивать валенки, подбивать каблуки, подмётки к другой обуви, паять чайники и самовары, резать и вставлять стекло, вырезать из липы ложки. Он умел плести сети, вялить рыбу, мог смастерить шкатулку, сделать столик, который «не шатнётся», сменить ветхий переплёт книги.
По примеру соседа и товарища Алексея Витуна, который был старше моего отца года на два, тот устроил на крыше сарая голубятню, завёл голубей. Их стайка взмывала в небо, кружилась там – интерес состоял в том, чтобы она заманила (увела) чужого голубя. Прибегал его хозяин-подросток и выкупал птицу. То же делал мой отец, если уводили его голубя. Самого любимого, которого не увели ни разу, отец назвал Арно – именем героя одноимённого рассказа Эрнеста Сетона-Томпсона.
В доме жил принесённый Алексеем с улицы и выросший в матёрого кота Барсик, ловивший в сарае не только мышей, но и крыс. Барсик был разбойник. Однажды зимой кухарка вывесила за окно курицу, привязав её к створке форточки. Барсик снаружи добрался до курицы, сорвал её, изгрыз и бросил во дворе. Кот дрался с другими котами улицы, отчего одно ухо у него осталось порванным, кончик свисал.
Когда Алексей завёл голубей, то принёс к голубятне Барсика, у которого глаза загорелись кровожадным огоньком. Алексей отшлёпал его ладонью, повторяя: «Нельзя! Нельзя!» И кот своих голубей ни разу не тронул.
Луки, воздушные змеи, западки́
Что я знаю о друзьях отца. Алексей Витун был сыном владельца шорной мастерской, Вячеслав Билетов – сыном управляющего делами торговой компании, Фёдор Леднёв – сыном кузнеца, Дмитрий Панкратов – сыном машиниста паровоза. Входил в компанию Саша Цветков, он рос без отца, один у матери, лучшей в городе портнихи. Одиннадцати лет Саша пошёл в ученики к шеф-повару кузнецкого ресторана.
Из друзей Алексея Гергенрёдера учились в реальном училище, кроме него самого, Вячеслав Билетов, Константин Ташлинцев, сын начальника почты, Пётр Осокин из мелкопоместной дворянской семьи, которая жила в деревне, а для него снимала комнату в Кузнецке, и Юрий Зверев, сын врача.
Все друзья моего отца, как и он, прочитали романы Фенимора Купера с главным героем Натаниэлем Бампо и частенько представляли себя индейцами: великодушными делаварами, которые воюют с жестокими ирокезами и гуронами. Лица раскрашивали акварельными красками, в волосы втыкали гусиные и петушиные перья. И делали луки и стрелы.
Для луков подходили ветви ивы, клёна, дуба. Срезав выбранную ветвь, не снимая с неё кору, ей давали повисеть на чердаке или в сарае недели две-три, затем вырезали на концах кольцевые ложбинки для тетивы из шпагата, сгибали ветвь, натягивали тетиву – и метательный снаряд готов. Но существовал и способ посложнее. Ветвь очищали от коры, затем после двухнедельной сушки смазывали конопляным маслом, наносимым на тряпку, снова сушили пару дней, опять смазывали. Так продолжалось довольно долго. Зато лук получался особенно упругим – «дальнобойным».
Как делали стрелы? Брали обрезок сосновой доски подходящей длины, ставили его на торец, топориком или ножом, по обушку которого ударяли молотком, откалывали продольный край. Его обстругивали, делая круглым, придавали ему гладкость, но один конец оставляли прямоугольным и утолщённым. На него с двух сторон наносили зарубки, чтобы можно было крепче сжимать его пальцами, в торце вырезали выемку для упора в тетиву. Другой конец изготовленной стрелы делали просто утолщённым и тупым. Натягивая лук, чтобы пустить стрелу, сжимали большим и указательным пальцами её конец в зарубках, тетивы не касались.
Стреляли на спор, чья стрела пролетит дальше, соревновались в меткости, целясь в пустые банки, в арбузы, в картофелины. Иногда на стрелы насаживали острые наконечники из жести, но ребята понимали, что это опасно, и такими стрелами стреляли только в нарисованные на стене сарая круги.
Все запускали воздушные змеи, для изготовления которых требовались плотная бумага, дранки, клей, шпагат. На прямоугольный лист бумаги наклеивали две дранки крест-накрест, третью наклеивали на край листа, скрепляя её концы ниткой с концами двух других. Эту дранку в нужной степени дугообразно сгибали, стягивая концы шпагатом. К свободным же нижним концам двух закреплённых крест-накрест дранок подвязывали кусок верёвки или старый чулок, от его середины шёл хвост из таких же чулок, которые последовательно привязывали один к другому.
Весьма важен был запас крепкой нитки, которая будет держать змей в воздухе, нитку наматывали на палочку. Конец нитки привязывали к «уздечке» змея подвижным узлом, обеспечивая свободу скольжения.
Умение запускать змей состояло в том, чтобы не бегать с ним, а запустить, не сходя с места, постепенно разматывая нитку. Правильно сделанный змей с хвостом подходящего веса стоял в небе недвижно или подаваясь из стороны в сторону, но не «козыряя», – то есть не описывая кругов. Владельцы змеев стремились закупить побольше нитки, чтобы змей «уходил» как можно дальше и выше. Когда нитка разматывалась до конца и в руках оставалась одна палочка с петлёй, палочку продевали в клочок бумаги, который подталкивали по нитке, ветер подхватывал «письмо», и интересно было наблюдать, как оно скользит по невидимой нитке к змею.
Часто на шпагат, который держал концы вогнутой планки змея, накладывали, сгибая их, треугольники или круги из бумаги, называемые трещотками, края склеивали так, чтобы это не мешало скольжению трещоток по шпагату. Когда змей взмывал, они вибрировали под воздушным напором – разносилось гудение.
Змей с намалёванной рожей, гудящий в небе, несказанно восхищал приезжавших с родителями на рынок деревенских мальчишек, да и самих взрослых. В деревнях подобного не знали.
Иногда нитка обрывалась, и змей медленно падал. Грустное зрелище. Владелец змея, товарищи и просто болельщики бросались собирать нитку.
Непревзойдённым мастером в изготовлении и запуске змеев был Костя Ташлинцев. Он подвешивал к змею рожки́ из бумаги, в которые помещал свечки, после чего зажигал их. Запущенный в сумерки змей Костя держал в воздухе и ночью, восхищая публику сиянием в небе.
Непременным условием уважения среди подростков было мастерство в изготовлении западко́в. Западо́к – клетка из реек и проволочек. Нужно было уметь выточить такие тонкие реечки, провести меж ними обрезки проволоки с такими промежутками, чтобы клетка выглядела как можно более прозрачной – «воздушной», – оказавшись при этом и достаточно прочной. Внутри неё устраивали приспособление из скрученного шпагата и палочки, соединённой с оттянутой книзу дверцей, и устанавливали жёрдочку, после чего, насыпав в клетку зерна, её подвешивали на ветвь дерева. Влетевшая в западок птичка садилась на жёрдочку – дверца захлопывалась.
Чаще всего попадались синицы. Гордостью владельца западка бывало, если попадался воробей. Птиц выпускали или сразу, или, подержав дома в клетке.
Ле Кок, Сипай и другие
Некий купец, любивший в пьяном виде почудить, нанял мальчишку, поручив ему отнести на почту петуха и записку «Отправить в Париж». Начальник почты, отец Кости Ташлинцева, велел сыну вернуть петуха купцу. За Костей, несущим птицу, отправились любопытные мальчишки, к которым по дороге присоединялись другие.
Пьяненький купец притворился возмущённым: «Вот тебе почта! Не может петуха отослать в Париж! А всё потому, что не знают названия петуха на французском. – И купец при публике обратился к Косте с вопросом, заранее торжествуя, что тот не ответит: – Как петух по-французски?» Костя сказал: «Le coq». Шутник был посрамлён, а Костю стали звать Ле Кок.
Его старший брат учился в Московском университете и, как некоторые даровитые студенты в то время, прирабатывал сочинением детективов, которые издавались на самой дешёвой бумаге в мягкой обложке. Студенты нередко заимствовали у Конан-Дойля образ Шерлока Холмса, придумывая для него новые загадки. Брат же Ле Кока выбрал в герои американского сыщика из агентства Ната Пинкертона. Книга восхищала моего отца и других друзей Ле Кока.
Все они, разумеется, не могли не обожать кино, которое тогда было немым, упивались комедиями знаменитого французского режиссёра и актёра Макса Линдера, по несколько раз смотрели французские фильмы ужасов о Фантомасе по романам Марселя Аллена и Пьера Сувестра.
Ребята были своими в городской библиотеке, знали персонажей рыцарских романов Вальтера Скотта «Айвенго», «Талисман», «Квентин Дорвард», могли пересказать «Оливера Твиста» Чарльза Диккенса, поговорить о книгах Густава Эмара, Майн Рида, Александра Дюма, Жюля Верна.
Пётр Осокин при этом любил и русскую классику – мог произнести слова генеральши из романа Достоевского «Идиот»: «Спокоен ли он, по крайней мере, в припадках? Не делает ли жестов?», при случае приводил цитаты из «Тамани» Лермонтова, из «Мертвых душ» Гоголя.
В мировой истории Осокина увлекали восстания: более всего, восстание индийцев-солдат на английской службе – сипаев – в 1857-59 годах. Петя рисовал бородатых повстанцев в их тюрбанах, изобразил штурм Дели и заполучил прозвище Сипай.
Юрий Зверев трудился над изобретением новой противопехотной мины. Он стибрил у отца-врача нитроглицерин, который применялся как лекарственный препарат. Когда мина была почти готова, сработал взрыватель – Юре взрывом обезобразило лицо. В то время можно было услышать, что некто в Лондоне убивал девушек и вспарывал им животы, убийцу называли Джеком Потрошителем, он так и не был пойман. Юрия из-за его устрашающе обезображенного лица прозвали – Джек Потрошитель. (Когда я писал повести по воспоминаниям отца, то отметил: фамилии персонажей подлинные. Однако фамилию Юрия я всё же изменил: Зверев по прозвищу Джек Потрошитель – это слишком. Я написал «Зверянский»).
Моего отца, тощего долговязого, с большой горизонтально удлинённой головой, с выступающим лбом звали Немецкий Бычок или просто Бычок. Когда ребята дрались на кула́чки, что было распространено, мой отец, не выделявшийся плотностью сложения, однако, славился тем, что от его удара противник падал. Бывало, намечалась драка, и кто-нибудь оповещал: «Немецкий Бычок бежит, сейчас будет дело!» От него требовали показать ладонь, чтобы убедиться, что он не зажал пятак в кулаке для придания ему особой твёрдости. Кула́чки увлекали Алексея Гергенрёдера до четырнадцать лет, после чего он, как и многие кузнецкие подростки, потерял к ним интерес.
Ещё о друзьях
В те времена Алексеев звали Лёнями, Дмитриев – Митями, а не Димами, Павлы были Павками.
Вячеслава Билетова звали Вячкой, иногда добавляя «Билет» или «Билетик». Он был болтун, выдумщик, чудила и прекрасный товарищ. Однажды летом мой отец, как обычно, с разбегу прыгнул в речку, а под водой оказалось кем-то брошенное сломанное колесо от телеги. Отец ударился об обод лбом. Встал в воде по грудь, глаз что-то застилает, словно тряпка прилипла. Он было хотел рукой её смахнуть, но Вячка, который был рядом, закричал: «Не трогай!» Со лба Алексея свисал лоскут кожи, текла кровь. Вячка руками вернул лоскут на место и прижал его подтяжкой от носка, охватив ею голову Алексея. Затем отвёл его к нему в дом, где брат Фёдор крикнул, смеясь: «Лёньку гуроны оскальпировали!»
Хедвига Феодоровна облила лоб моего отца водкой, решительно взяла иголку, нитку и пришила лоскут. Всё зажило, но полукруглый шрам на лбу отца, хотя и не очень видный, остался на всю жизнь.
С Вячкой случались несуразности. Как-то ребята наловили бреднем рыбы, решили сварить уху на костре. Вячка откуда-то притащил ведро. Уху сварили, но есть её оказалось невозможно – на дне ведра не заметили застывшую краску. Тогда Вячка убежал и вернулся с корзиной всяческой еды: он опустошил дома кухню и кладовую. Первым возмутился Лёнька Витун: «Ты своих без ужина оставил! Неси обратно!» Витуна единогласно поддержали Джек Потрошитель, Сипай, Ле Кок. Вячка унёс корзину с едой назад.
Надо привести факт, который говорит о кругозоре ребят. Что они, к примеру, знали от взрослых и из книг о еде аристократов на Западе? Знали, что у тех был деликатес – суп из ласточкиных гнёзд, который принято есть в Малайзии. Представляли ребята и королевскую трапезу. Подаются одно за другим сто блюд, и король от каждого вкушает «чуть-чуть чайной ложкой». А китайские вельможи, говорил Саша Цветков, ученик повара, любят паштет из соловьиных язычков.
Саша умел из кусков свежесрезанных ивовых прутьев делать свистки, искусно снимая с куска кору трубочкой, а затем опять надевая, подрезав, где нужно, стержень. Он дарил свистки малышам, как и другие самодельные игрушки. Саша ловчее всех влезал на деревья и на фонарные столбы.
Чем отличались другие ребята. Фёдор Леднёв был удильщиком, тогда как у остальных не хватало терпения сидеть с удочкой, и они ловили рыбу лишь бреднем или вершами. Фёдору служил леской волос, выдернутый из хвоста лошади. Каких только наживок не знал Фёдор! Однажды он протянул через Труёв перемёт, наживив на крючки маленьких рыбок, и попалось несколько щук и сом. Зимой, вызывая уважение взрослых кузнечан, подросток ходил на подлёдный лов.
Были среди ребят музыканты. Пётр Осокин пел и играл на пианино, Митя Панкратов играл на гармони.
Его отец-машинист, степенный добродушный человек с большими, с сединой усами, объяснял мальчишкам устройство паровоза, пускал их в будку, рассказывал о бронепоездах и о знаменитых авариях.
Отец Фёдора Леднёва, кузнец, по просьбам сына, ковал ребятам маленькие топорики, топорища ребята выстругивали сами. Топорики были их «индейскими томагавками», их метали в стены сараев, в дощатые заборы, в подвешенные на деревья деревянные щиты.
Считалось необходимым уметь метать ножи. Метнуть нож надо было, держа его не за лезвие, а за рукоятку. Лучше всех метал нож мой отец. Он отличился также тем, что сделал арбалет.
Огнестрельное оружие продавалось свободно, за исключением принятого в армии. Все друзья моего отца имели уже упомянутые винтовки «монтекристо». Ребята читали книгу Луи Буссенара «Капитан-сорвиголова» о приключениях французских пареньков во время англо-бурской войны и обсуждали описанные Буссенаром германскую винтовку маузер, английскую – ли метфорд, разговоры переходили на мощные револьверы смит-вессон, заполучить которые покамест не улыбалось. Однако у Юрия Зверева, Петра Осокина и Константина Ташлинцева были карманные револьверы. Это не значит, что ребята ходили с ними в карманах, такое было не принято. Лишь от случая к случаю кто-нибудь брал с собой револьвер за город или на свалку – пульнуть в выброшенный горшок или в осколок стекла.
Первый заработок. Устрицы
Моему отцу хотелось тоже заиметь револьвер, на него надо было заработать. Отец взял в сарае точильный станок на колёсиках, стал возить его по дворам, выкрикивая: «Точу топоры, ножи, ножницы!» Знавший его преподаватель гимназии, где училась Маргарита, сестра отца, сказал ему: «Молодец! Как в Америке дети миллионеров учатся зарабатывать: разносят почту, доставляют покупателям покупки на дом».
В своё время о детях американских миллионеров Алексею сказал Филипп Андреевич: «В школу они берут с собой завтрак – кусок чёрного хлеба с капустным листом».
А доктор Зверев рассказал сыну Юрию о самих миллионерах США. Юрий передал это друзьям: «Они приходят к себе в банк или на фабрику и говорят уборщице: «Доброе утро, миссис такая-то». Мужчине-привратнику ещё и пожимают руку». Это, передавал Юрий слова своего отца, учёл наш российский министр иностранных дел Сергей Юльевич Витте, заключавший в США мирный договор с Японией. Приплыв в Америку на пароходе, а затем доехав до города Портсмута поездом, Витте подошёл к паровозу, поблагодарил машиниста за рейс и пожал ему руку. Этим он вызвал доброжелательное удивление публики, завоевал симпатию американской прессы.
Алексей Гергенрёдер в роли ходившего по дворам точильщика, получающего копейки, отпрыском американского миллионера себя не представлял, но унижения не испытывал. Он был горд тем, что заработал четыре рубля. Брат Владимир (Павел был на фронте) и мать добавили денег, и Алексей выписал по каталогу револьвер «велодог» – шестизарядный, под патрон с бездымным порохом, с пулями в никелированной оболочке. Револьвер прислали по почте в красивой коробке с небольшим запасом патронов. Всё вместе с доставкой стоило семнадцать рублей.
Тогда в 1916 году за сорок рублей можно было купить крестьянскую лошадку. За охотничью собаку – чистопородного ирландского сеттера – просили сорок пять. Охотничья берданка стоила двадцать рублей. Отличная германская фотокамера продавалась за семьдесят. Цена булки была одиннадцать копеек. Если перевести тогдашние фунты в килограммы, то килограмм говядины стоил семьдесят копеек. Ещё мой отец помнил, что за пуд солёных судаков давали восемь рублей. Рабочий получал тридцать рублей в месяц, машинист паровоза – девяносто рублей. Комнату можно было снять за три рубля пятьдесят копеек в месяц.
Алексей приставил к стене сарая доску, с десяти шагов прицелился из новенького «велодога» и выстрелил. Пулю удалось выковырнуть из доски гвоздём. А в каталоге револьвер хвалили за «крепкий бой».
К началу 1917 года положение семьи ухудшилось, она переселилась в небольшой старый деревянный дом на улице Песчаной. Владимир поехал к родственникам матери в Харьков поступать в Технологический институт. Фёдор оставил реальное училище, чтобы зарабатывать: его взял к себе счетоводом кузнецкий купец. Хедвига Феодоровна попросила Алексея продать «велодог».
У Алексея в то время уже была цель – стать репортёром, добывающим сенсации. Цель родилась, когда он в тринадцать лет прочитал в газете о раскрытии сети жуликов, которые воровали и продавали крестьянских коров. Он мечтал прославиться, описывая такого рода дела, рассказывая о работе следователей и полицейских агентов. Мечтой также было написать детектив, как брат Ле Кока, а потом книгу, подобную «Путешествию по Африке» Дэвида Ливингстона. Алексей вёл дневник, записывал наброски приходивших на ум сюжетов в школьных тетрадках и на разрозненных клочках бумаги.
Будущее рисовалось полным приключений, а в настоящем доводилось недоедать. Хедвига Феодоровна должна была заботиться о Маргарите, которая стала невестой на выданье, росли два младших брата, и Алексей обычно ел суп без мяса. Приходивший к нему Вячка Билетов это заметил и однажды пригласил его «отведать устриц». Алексей пошёл к нему, но, вместо устриц, оказалась большая миска пирожков с мясом. Мой отец наелся до отвала и на всю жизнь сохранил благодарность Вячке и за пирожки, и за деликатность: боясь, что обидит друга, если позовёт его есть пирожки, Вячка придумал устрицы.
Атмосфера мировой войны
Летом 1914 года, когда грянуло известие о войне с Германией, моему отцу было одиннадцать с половиной лет. Известие пришибло семью, где дети воспитывались в любви к Германии – родине предков. Её видели страной вековой рыцарской славы, страной знаменитых университетов. У Пушкина в «Евгении Онегине» описан помещик:
По имени Владимир Ленской,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты…
«С душою прямо геттингенской» – Гёттинген, германский город, славный своим университетом, где профессора проповедовали отрицание сословных различий, деспотизма.
С 1762 года Российской империей правила немецкая династия фон Гольштейн-Готторпов, принявших фамилию вымерших Романовых. Немками были все жёны российских императоров, начиная с Екатерины II, исключением стала лишь жена Александра III, датчанка Дагмар (Мария Фёдоровна). И вдруг германцев назвали «заклятыми, смертельными врагами России».
Алексей хорошо запомнил, как Владимир и Павел обсуждали причины и начало войны. Завязалось из-за Сербии. Её националисты претендовали на то, чтобы отторгнуть от Австро-Венгрии земли южных славян и создать Великую Сербию. Россия как славянская страна покровительствовала Сербии, а Германия была в военном союзе с Австро-Венгрией.
Группа сербских террористов прибыла в занятую Австро-Венгрией Боснию, в Сараево, и, когда туда приехал с женой наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд, один из террористов убил его и жену. Для Австро-Венгрии это стало предлогом разгромить Сербию. Ей был предъявлен ультиматум, намеренно составленный так, чтобы его не могло принять государство, считающее себя независимым. Сербия приняла ультиматум, за исключением требования впустить на её территорию австро-венгерскую полицию. Тогда Австро-Венгрия объявила войну.
Россия объявила всеобщую мобилизацию, готовясь напасть на Австро-Венгрию. Германия учла, что для полной мобилизации Российской империи необходимы шесть недель, а Германии для мобилизации её армии нужны были две недели. Чтобы не дать России собрать все свои силы, Германия предъявила ультиматум: прекратить мобилизацию или будет объявлена война. Россия мобилизацию не прекратила, и, согласно ультиматуму, в названный в нём срок страны оказались в состоянии войны. Вскоре русские войска перешли германскую границу.
В войну вступили другие государства. Пошла мировая бойня из-за того, что русское правительство решило воевать за Сербию. Конечно, рассуждали Владимир и Павел Гергенрёдеры, справедливость не на стороне Австро-Венгрии, но проливать из-за этого кровь своего народа? Если бы армия, как когда-то, состояла из солдат, которые служили двадцать пять лет, не имели ни семьи, ни хозяйства, их назначением было воевать, то такую армию ещё можно было послать на войну за Сербию. Но теперь – отнимать кормильцев у семей, которые и так жили в бедности, реквизировать лошадей у крестьян. А потом что? Смерть множества кормильцев, сиротство детей, обострение нужды всех тех, кто и так прозябал в ней. Обрекать своё население на такие жертвы ради далёкой страны потому, что она славянская? Но только что она в союзе с отнюдь не славянскими Грецией, Румынией, Турцией разбила, ради захвата земель, славянскую Болгарию. И – ничего. Стенаний из-за братоубийства не прозвучало.
В конце концов на помощь сербам против австро-венгров можно было послать добровольцев, помогать Сербии экономически, но не идти на столкновение и с Австро-Венгрией, и с Германией. Оказалось забыто, что симпатии этих стран в русско-японской войне 1904–1905 годов были на стороне России. Германские пароходы-угольщики обеспечивали углём 2-ю эскадру во время всего её пути от Кронштадта до Цусимского пролива. Ещё до того произошёл неравный бой крейсера «Варяг» с японскими кораблями, австрийский поэт Рудольф Грейнц написал стихотворение «Варяг», опубликованное 25 февраля 1904 в мюнхенском журнале «Югенд». Стихотворение перевела русская поэтесса и писательница Евгения Студенская, была написана музыка, и родилась исполненная героики песня “Гибель «Варяга»”.
Песня полюбилась народу, особенно часто её пели военные моряки – в то время как германцев стали называть кровожадными гуннами, войну с ними объявили великой народной войной. Но такой она могла быть только лишь в случае, если бы произошло нашествие, подобное нашествию войск Наполеона.
«А так я не могу стрелять в немцев!» – сказал Павел Гергенрёдер.
Когда немцы переселялись в Россию, русское правительство обещало им, что ни они, ни их потомки в армию призываться не будут. Впоследствии это условие отменили.
Павел пошёл в армию добровольцем, но попросил военное начальство послать его на Кавказский фронт воевать с турками. Начальство поняло его и просьбу удовлетворило.
Мой отец не помнил, чтобы семью Гергенрёдеров попрекали немецким происхождением. В Кузнецке жили и другие немцы, они считались своими, война с Германией не вызвала ненависти к ним. Друзья моего отца вели себя с ним точно так же, как и до войны. Как и до войны, иногда называли его немчурой – беззлобно, так, как будь он рыжим, сказали бы «рыжий». От взрослых слышали: «Немцы давно живут с нами, а воюем мы с германцами».
В газетах писали о происках шпионов, утверждая, что они есть среди «своих немцев». Шпион мог быть проводником в поезде, где едут военные, и подслушивать разговоры. Мог заниматься тем же самым, служа в гостинице. Мой отец запомнил рисунок в газете: шпион-трубочист слушает через дымоход, о чём внизу в кабинете говорят на совещании люди в форме.
Гергенрёдеров в шпионаже никто не подозревал, но ходили разговоры, что у немцев будут отбирать землю. Сёстры Филиппа Андреевича посоветовали Хедвиге Феодоровне переписать земельное владение у речки Труёв на Силу Андреева, и Хедвига Феодоровна это сделала.
Что в Кузнецке говорили о войне? Говорили, что австро-венгров мы бьём почём зря, берём прорву пленных, но с германцем приходится труднее. Однако, скоро, мол, будет наступление, и мы и Германию разгромим. Раненые, возвращаясь с фронта, рассказывали: германец шарахает до того тяжёлыми снарядами, что рванёт возле окопа и окоп так тряхнёт – наружу вылетишь. Рассказчику указывали: надо окопы рыть глубже, на что он отвечал: надо-то надо, да не всегда удаётся.
Когда в феврале 1917 года император Николай II, который правил под фамилией Романов, на самом деле будучи немцем фон Гольштейн-Готторпом, отрёкся от престола, Алексей Гергенрёдер запомнил: Петя Осокин, чей родственник был гвардейцем и погиб, передал слова своего отца. Царь-де втравил Россию в войну, угробил цвет военных сил, опору государства – и умыл руки, захотел жить-поживать вольным барином. А Юрий Зверев поведал друзьям то, что высказал его отец-доктор: «Царь влез в войну из-за Сербии, так как он немец и боялся – станут говорить, что потому и не помешал австриякам бить славянскую страну».
Самая яркая заря, и…
Алексей не заметил, чтобы кто-нибудь жалел об отречении императора. Вокруг вскипела радость: народ выберет депутатов Учредительного Собрания, а оно решит, какой быть России. Было объявлено, что до созыва Учредительного Собрания власть будет у Временного правительства.
Вскоре прозвучало то, что в Алексея и во всех, кого он знал, вселило гордость, – Положение о выборах в Учредительное Собрание стало самым революционным, самым демократичным в мире. Голосовать могли лица, начиная с двадцатилетнего возраста, в то время как в Великобритании, Франции, Италии, США это право тогда получали в двадцать один год, а в Германии, Нидерландах, Бельгии, Испании – в двадцать пять лет. Избирательные права в России были предоставлены женщинам и – впервые в мире – военнослужащим: причём, им по достижении восемнадцати лет. Все избиратели были равны независимо от того, каким имуществом они обладали, как долго жили в месте голосования, какой веры держались или были неверующими, к какой народности принадлежали, знали грамоту или нет.
25 октября 1917 года большевики совершили военный переворот, объявив, что берут власть до созыва Учредительного Собрания. 12 ноября прошли выборы, за большевиков отдали голоса 24 процента избирателей, а за социалистов-революционеров (эсеров) – 40,4 процента. Право формировать правительство получала победившая партия – эсеры.
Учредительное Собрание открылось 5 января 1918 года в Петрограде в Таврическом дворце. Председателем был избран видный социалист-революционер Виктор Михайлович Чернов. Собрание провозгласило Россию демократической федеративной республикой, отменило помещичье землевладение, призвало к заключению мира со странами – противниками в мировой войне.
И на этом всё было кончено – всенародно избранных депутатов разогнал посланный Лениным вооружённый отряд.
Расстрел безоружных демонстрантов
К Таврическому дворцу двинулись колоннами десятки тысяч мирных демонстрантов с плакатами «ВСЯ ВЛАСТЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ». Крупнейшая в стране газета «Дело Народа», газета эсеров, чей тираж доходил до трёхсот тысяч экземпляров, напечатала в номере от 7 января 1918 года:
«Без предупреждения красногвардейцы открыли частый огонь. Процессия полегла. Стрельба продолжалась по лежащим. Первым был убит разрывной пулей, разнесшей ему весь череп, солдат, член Исполнительного Комитета Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов 1-го созыва и член главного земельного комитета тов. Логвинов. В это время началась перекрестная стрельба пачками с разных улиц. Литейный проспект от угла Фурштадтской до угла Пантелеймоновской наполнился дымом. Стреляли разрывными пулями в упор».
Сам пролетарский писатель Горький, издававший газету «Новая жизнь», в её номере, вышедшем 9 января 1918 года, в тринадцатую годовщину Кровавого воскресенья, поместил статью «Несвоевременные мысли», в которой писал:
«5 января 1918 года безоружная петроградская демократия – рабочие, служащие – мирно манифестировала в честь Учредительного Cобрания.
Лучшие русские люди почти сто лет жили идеей Учредительного Собрания, – политического органа, который дал бы всей демократии русской возможность выразить свою волю. В борьбе за эту идею погибли в тюрьмах, и в ссылке и каторге, на виселицах и под пулями солдат тысячи интеллигентов, десятки тысяч рабочих и крестьян. На жертвенник этой идеи пролиты реки крови – и вот «народные комиссары» приказали расстрелять демократию, которая манифестировала в честь этой идеи».
Горький заявил о большевистской «Правде»:
“«Правда» лжет, когда она пишет, что манифестация 5 января была сорганизована буржуями, банкирами и т. д., и что к Таврическому дворцу шли именно «буржуи». «Правда» знает, что в манифестации принимали участие рабочие Обуховского, Патронного и других заводов, что под красными знаменами Российской социал-демократической партии к Таврическому дворцу шли рабочие Василеостровского, Выборгского и других районов. Именно этих рабочих и расстреливали, и сколько бы ни лгала «Правда», она не скроет позорного факта”.
Буревестник революции подвёл итог:
«Итак, 5 января расстреливали рабочих Петрограда, безоружных. Расстреливали без предупреждения о том, что будут стрелять, расстреливали из засад, сквозь щели заборов, трусливо, как настоящие убийцы».
9 января демонстрацию в защиту Учредительного Собрания расстреляли в Москве. Газета «Известия ВЦИК» от 11 января 1918 года сообщила, что были убиты более пятидесяти человек и более двухсот ранены.
Оговорюсь, что приведённые сведения мой отец в подробностях узнал позднее.
Брат Владимир жил в Харькове, будучи студентом Технологического института, Павел был на Кавказском фронте. В начале зимы Павел вернулся домой в чине подпоручика, а в январе стало известно о разгоне Учредительного Собрания и, в общих чертах, о расстреле мирных демонстраций в его защиту. В Кузнецке провозгласили советскую власть, которую представлял исполком, состоявший, как объяснил Павел, из левых эсеров и большевиков.
Уголовники в помощь исполкому
Большевики Кузнецка, стремясь подчинить себе исполком Совета, чему мешали левые эсеры, телеграфом передавали в близлежащие города просьбу о вооружённой помощи и вскоре её получили. В апреле в Кузнецк вступил пришедший из Хвалынска отряд красногвардейцев с «примесью» уголовников, от которых остальные быстро перестали отличаться.
Отрядом командовал оставивший долгую память Пудовочкин. Начались «реквизиции», быстро переросшие в погромы, убийства. В доме известного в городе купца Пудовочкин изнасиловал его дочь, гимназистку, а отца, который попытался за неё вступиться, застрелил. Не слыханные до того злодейства продолжались.
Как только красногвардейцы вошли в город, Павел, забрав берданку и револьвер бульдог, оставшийся от Филиппа Андреевича, перестал показываться дома. Фёдор малокалиберку «монтекристо» забросил на крышу сарая. Красногвардейцы заходили в дом, забрали шубу Хедвиги Феодоровны.
Кузнечане, побывавшие на фронтах Первой мировой войны, стали ядром тайно готовящегося выступления. Павел был одним из его организаторов. Внезапно восстав в день Пасхи, горожане уничтожили отряд красногвардейцев.
Пользуясь услышанным от отца, я написал повесть «Комбинации против Хода Истории» (http://belousenko.com/wr_Hergenroether.htm). Мой отец в ней – голубятник Ванька Щипцов. Он видел, как на улицу вышел без оружия бывший унтер-офицер, фронтовик, а ныне пекарь Фёдор Иванович Медоборов. С ним поравнялись трое проходивших красногвардейцев, и тут раздался набат – сигнал к восстанию. Медоборов выхватил у одного из красных винтовку и поубивал всех троих. Я в точности передал в повести то, что рассказывал мне отец. Красногвардеец отшатнулся к забору, и Медоборов мастерски выполнил приём штыкового боя – штык прошёл врага насквозь, стукнул в забор. В повести Ванька Щипцов смотрел на происходившее с чердака, а мой отец на самом деле был на улице шагах в десяти от Медоборова и красногвардейцев.
Некоторые читатели сделали замечание – унтер-офицер, обучавший солдат, не допустит, чтобы штык вонзился в забор, откуда его не выдернешь. Но в такой ситуации и унтер-офицер мог нанести удар чуть сильнее, чем требовалось. Кроме того, если штык вонзится в забор всего на какой-то сантиметр, звук всё равно послышится.
Так вот, почти всех людей Пудовочкина и его самого убили, но своих кузнецких большевиков не тронули. Павел рассказал дома, что исполком получил из Москвы телеграмму, в которой говорилось о благодарности жителям Кузнецка, «обезвредившим» нерегулярную разложившуюся часть. Павел сам телеграмму не видел. Не придумали ли её горожане, в радости от одержанной над бандитами победы жаждавшие хорошего финала? Во всяком случае, Павел и Фёдор, попрощавшись с домашними, ушли из дома.
Лицо большевицкой власти
Вскоре в Кузнецк вошла теперь уже регулярная часть красных, объявивших приказ: «Всем сдать оружие! За неисполнение расстрел!» Митя Панкратов после того как перебили отряд Пудовочкина, подобрал брошенную винтовку без затвора и в сенях дома, где стоял ларь с мукой, зарыл винтовку в муке, никому об этом не сказав. Красные между тем отправились по домам искать оружие, вошли к Панкратовым. Мити дома не было. Красноармеец открыл ларь, сунул в муку штык, копнул им и поддел винтовку. Отцу Мити, пожилому машинисту, сказали: «Хозяин? Ну, пошли!»
Красноармейцы повели его за железнодорожную насыпь, которая тянулась неподалёку. Тут их увидел Митя, подбежал: «Папа, куда тебя ведут?» Подростка спросили: «А ты сын?» – «Да». – «Идём с нами». И отца, и сына Панкратовых расстреляли за насыпью.
Алексея Гергенрёдера и всех, кого он знал, захлестнула ненависть к красным. У Гергенрёдеров они, разумеется, тоже провели обыск, оружия не нашли – Павел и Фёдор забрали с собой берданку, револьвер бульдог и малокалиберку «монтекристо».
Красноармейцы наведались к Силе Андрееву, который потом рассказал Алексею, что успел закопать на лугу охотничье ружьё и кремнёвый пистолет. Красные реквизировали жеребца Ханбека и живность, оставив Андрееву одну козу. В разговоре с моим отцом он вспомнил: «В девятьсот пятом году тоже была заваруха, ты тогда дитём был». Мужики, по словам Андреева, собрались «вывезти копны» с поля около Бессоновки, которое арендовал Филипп Андреевич. Тот прискакал на кобыле по кличке Зданка, матери Ханбека, «из револьвера бах-бах в небо, кричит: я, мол, сам социалист и справедливость понимаю». (Филипп Андреевич ни в какой партии не состоял). Он сделал упор на то, что он не помещик, а арендатор, и что сам должен отдать половину урожая владельцам земли. Мужики отступили.
Теперь же, сказал Андреев, заваруха такая – хорошо, что Филиппа Андреевича в живых нет. Он бы, мол, Ханбека не отдавал, махал револьвером, и его бы порешили.
Состоятельные люди уезжали из Кузнецка, хотя, по слухам, советская власть воцарилась повсюду. Две тёти Алексея сели в поезд, надеясь добраться до Читы, чтобы оттуда отправиться в Китай. Хедвиге Феодоровне с детьми не на что было куда-либо ехать.
Пётр Осокин рассказал, что в деревне к его родителям, небогатым помещикам, явились крестьяне, увели скотину, вывезли всё со двора, ограбили дом.
Алексей видел кругом безысходность, и вдруг сквозь тучи блеснула радость: в конце мая против большевиков восстал Чехословацкий корпус, который размещался в эшелонах по станциям Транссибирской железной дороги от Пензы до Владивостока.
Народная Армия КОМУЧа
В начале войны с Австро-Венгрией и Германией чехи и словаки, которых немало жило в России, обратились к царю за разрешением сформировать свою воинскую часть в составе Русской армии. Они желали участвовать в войне с тем, чтобы после разгрома Австро-Венгрии была создана республика Чехословакия. Царское правительство пошло навстречу, и появилась Чешская дружина, она тут же отправилась на фронт. В 1915 году в неё стали принимать добровольцев из чехов и словаков, которые были в австро-венгерской армии, попали в плен или перебежали на сторону русских. Таким образом дружина выросла в корпус, состоявший из двух дивизий и запасной бригады.
Чешские эмигранты жили также во Франции, где образовали Чехословацкий национальный совет. По договорённости совета с французским правительством, корпус в России был формально подчинён французскому командованию. Произошло это после Октябрьского переворота. Большевики заявили о мире с Австро-Венгрией и Германией, а чехословаки желали продолжения войны, и французы договорились с ленинским руководством, что корпус по железной дороге доберётся до Владивостока, откуда его на кораблях доставят во Францию. В апреле, по требованию Германии, продвижение эшелонов к Тихому океану было остановлено.
25 мая наркомвоенмор Троцкий отдал приказ разоружить и расформировать Чехословацкий корпус. Чехословаки не подчинились, огнём отогнали красноармейцев от своих эшелонов, а затем в городах, где они стояли, свергли советскую власть. В Сызрани и Самаре было около восьми тысяч чехословаков.
В Самаре оказалось несколько членов разогнанного Учредительного Собрания, и 8 июня здесь было создано противобольшевицкое правительство КОМУЧ: Комитет членов Всероссийского Учредительного Собрания. Началось формирование Народной Армии КОМУЧа. В Кузнецке узнали, что её части появились в Сызрани, до которой сто тридцать пять километров. Моему отцу сказали, что его братья Павел и Фёдор уже в Народной Армии.
Среди его друзей и знакомых раздавалось: «Бежим туда! Будем воевать с красными!» Настроение день ото дня делалось всё более решительным. В августе, когда моему отцу до шестнадцати лет оставалось четыре месяца, он, Вячеслав Билетов, Пётр Осокин, Юрий Зверев, Константин Ташлинцев, Александр Цветков, Алексей Витун, Фёдор Леднёв и другие ребята «побежали» (выражение отца) в Сызрань. В деревнях они рассказывали о том, что натворили в Кузнецке Пудовочкин и его отрядники, как затем показала себя регулярная часть красных, от которых они ищут спасения. Одни крестьяне помалкивали, другие советовали вернуться домой и сидеть тихо, третьи давали паренькам хлеб, лук, молодую картошку, пускали в сараи ночевать.
Жарким днём ребята вошли в Сызрань, у вокзала увидели много военных без погон. Юрий Зверев спросил одного из них: «Народная Армия?» – «Народная, парень!» – ответил военный. Юрий осведомился, где идёт запись добровольцев, и паренькам было указано здание вблизи вокзала. Человек, сидевший за конторским столом, спросил их, кто они такие. «Мы пришли из Кузнецка», – сказал Юрий. «Пешком?» – уточнил человек, окинул ребят взглядом одобрения, начал вносить их в список. Мой отец, как и они все, был зачислен рядовым в 5-й Сызранский полк. Недавно он именовался добровольческим, его продолжали так называть по привычке, и мой отец, поскольку он и его друзья стали добровольцами, «сделал добровольческой» и дивизию, куда входил полк. Отец говорил «2-я добровольческая дивизия». Иногда добавлял: «2-я добровольческая дивизия полковника Бакича».
Из документов же я узнал, что дивизия именовалась 2-й Сызранской стрелковой дивизией.
Ребят после записи проводили к складу, где им выдали гимнастёрки, шаровары, котелки, вещевые мешки, пообещав позднее выдать шинели и ботинки с обмотками. Теперь следовало получить оружие. Солдат привёл новоприбывших к пакгаузу со штабелями винтовок системы Мосина образца 1891 года. Их называли трёхлинейками из-за калибра ствола (три линии – 7,62 мм). Винтовки лежали дулами к глядящим. «Выбирайте те, у которых на дуле медные шайбы», – сказал солдат и пояснил, что это драгунские винтовки, они покороче, полегче пехотных, более подойдут ребятам. К винтовкам выдали по два брезентовых подсумка с тридцатью патронами в каждом.
Новоиспечённые солдаты сложили одежду, в какой пришли, в вещевые мешки и теперь думали о кормёжке, которой пока не было. Мой отец и один из друзей пошли посмотреть на чехословаков, чей эшелон стоял на путях. Бросилось в глаза, что многие чехи сняли с себя гимнастёрки из-за жары, ходили в майках, но впечатления расхристанности не производили, сразу было видно, что это уверенные в себе бывалые солдаты.
Немолодой чех (вспоминая, отец полагал, что тот лишь казался подросткам «немолодым», а, скорее всего, ему было немного за тридцать) заговорил с ребятами, сносно объясняясь по-русски. Его удивляло, зачем «малчаки» идут на войну? Отец и его товарищ отвечали, что должны спасать свободу, ибо большевики совершили переворот, прекратили войну с Германией, Австро-Венгрией и разогнали Учредительное Собрание. Ответ впечатлил чеха, он повёл ребят к вагону, где была кухня, и вынес им по полному котелку пшённой каши с говяжьей тушёнкой.
Этот первый обед, который отец съел солдатом, остался для него одним из самых сильных радостных воспоминаний. (Поразительно, что примерно через год, на станции в Омске, он вновь встретил знакомого чеха. И опять был досыта накормлен).
Отца, его друзей подселили к солдатам в одну из теплушек, которые стояли на запасных путях. Побывавшие на войне учили новичков разбирать и собирать их трёхлинейки, чистить их, заряжать, пользоваться рамкой прицела, прицеливаться. Делалось это при примкнутом штыке, так как винтовки были пристреляны с ним, и, если станешь стрелять, отомкнув штык, в цель не попадёшь. Стрельб не проводили.
К подросткам старшие относились очень доброжелательно, у них вызывало уважение то, что «народ из гимназии» (правильнее было бы сказать «из реального училища»). Обращение солдат друг к другу было: «земляк», «землячок», хотя они могли быть из разных мест. Обращение заменяло принятое у красных слово «товарищ». К офицерам обращались: «Господин прапорщик», «господин поручик». Никаких «благородий», никаких «превосходительств». Встреться генерал, он тоже был бы просто «господин генерал». Моему отцу как-то сказали: «Смотри, Бакич!» Андрей Степанович Бакич вышел из вагона в фуражке с красным околышем, с саблей в никелированных ножнах на поясной портупее. Лицо с чёрными усами и выбритым подбородком выглядело продолговатым.
В другой раз Алексей, сидя в теплушке, услышал: «Какой орёлик идёт!» и увидел молодцеватого статного военного, который проходил по перрону: Павел? Да, это был Павел. Алексей догнал его и сразу же получил взбучку: зачем бросил мать с младшими братьями?! Мой отец вскинулся: «Вы будете воевать, а я – дома сидеть? Все мои одноклассники пошли, а я останусь?!» Брат смягчился, расспросил, как Алексей осваивается, всё ли в порядке, в какой он роте. Сказал, что сам он назначен командовать конной разведкой 2-й Сызранской дивизии, а Фёдор – писарь 5-го Сызранского полка. Объяснил, где найти брата.
Тот был в вагоне, где размещался штаб, здесь, несмотря на жару, горел огонь в железной печурке – на ней стоял чайник. Фёдор напоил Алексея чаем с колотым сахаром и с сухарями. Рассказал, что части Народной Армии некомплектны, в 5-м Сызранском полку всего шестьсот с чем-то штыков, меж тем как штатный состав полка обычно – две с лишним тысячи человек. Везде очень не хватает офицеров. «Но вашим батальоном командует отточенный офицер!» – сказал Фёдор. Алексей впервые услышал этот эпитет, отнесённый к командиру.
В своё время Павел заявил, что не будет стрелять в немцев, но в красных русских он стрелял, увидев, что делали Пудовочкин и его люди в Кузнецке. КОМУЧ провозгласил, что после победы над красными будет возобновлена война с Германией. Я спрашивал отца: и что же делал бы Павел? Отец ответил: вряд ли Павел об этом задумывался. Скорее всего, полагал, что сначала надо победить красных, а уж там, мол, увидим. Сам мой отец думал точно так же.
Соприкосновение с противником
Вскоре Алексей, его друзья и другие новички покинули, по приказу, теплушки, пришли в батальон, чьи позиции располагались к северо-западу от Сызрани близ села Кузоватово. Все новенькие уже обулись в ботинки с обмотками, получили сапёрные лопатки.
Пополнение встретили в батальоне приветливо. Один из солдат сказал: «Какие молодые личности! Хороший знак, с такими не пропадём!» Он оказался бывшим сызранским «крючником» (грузчиком с пристани), звали его Саньком. Санёк, как и положено грузчику, был широкоплечий, кряжистый, носил не винтовку, а английский ручной пулемёт «льюис» с магазином-тарелкой. Другой солдат, кивнув на Санька, подмигнул новеньким: «Медведистый! Во всём полку такого нет!» Тот, кто это сказал, приходился Саньку тёзкой, но его звали полным именем «Александр» или по фамилии «Рогов». Ему, как вспоминал мой отец, было, вероятно, лет двадцать пять. Он участвовал в Первой мировой войне.
Батальон располагался в избах, по которым распределили и пополнение. Алексей оказался в одной избе с Роговым, и тот, в первую очередь, сказал ему, как вести себя в штыковом бою. Бывают-де они редко, но мало ли что. Так вот, мол, обученному солдату заколоть тебя – забава, он это ещё на расстоянии поймёт. Слушай, что надо делать. Оставлять патрон в казённике винтовки запрещено уставом, винтовкой можно обо что-то задеть, и она выстрелит. Поэтому патроны в казённике не держат, и твой противник будет думать, что у тебя там нет патрона. А ты оставь его! И за миг до того, когда штык в тебя войдёт, стрельни в противника в упор. Другой возможности спастись у тебя нет, за неё можно и устав нарушить.
Конечно, рассуждал Рогов, это ты только первого устранишь, но и оно хорошо. Лучше бы наган добыть и держать одной рукой винтовку, а в другой – наган. Может быть, повезёт, и где-нибудь наган попадётся.
Настал момент отправиться на передовую, ею оказалась цепь вырытых в земле ячеек с брустверами перед ними. Солдаты залегали в них посменно, каждый раз возвращаясь в село. Алексей, как и другие, добирался до ячейки перебежками, остаток расстояния проползал.
Впереди было поле с кустарником по дальнему краю, за ним – редкий лес. Оттуда постукивали выстрелы. Алексей уже слышал свист пуль боевых винтовок, когда кузнечане уничтожали отряд Пудовочкина, но теперь некоторые пули пролетали совсем близко. «Звук был, – рассказывал мне отец, – метнувшийся шорох со свистом».
Он залёг в ячейке, которую ему уступил другой солдат, уползая. Я, конечно, спросил: «Было страшно?» Отец ответил, что было препротивное сосущее чувство – вот-вот в тебя ударит. Он посматривал на опытных солдат – они держались «деловито-спокойно». Кое-кто из новичков морщился от звука летящей пули. «Наверное, и я тоже», – сказал отец. Иногда на земле перед ним в некоторых точках что-то едва уловимо «вздёргивалось». Это в землю ударяли пули.
Во второй выход на передовую или в третий – сказать точно не могу – в кустарнике у леса, по словам отца, стали скапливаться фигурки. Командир взвода приказал: «Пехота в кустах, восемнадцать, прямо, по три – огонь!» Это значило, что хомутик рамки прицела надо переместить на деление 18 и, целясь в фигурку, которую различишь вдалеке прямо перед собой, выпустить три пули. Алексей выполнил команду: попал или нет, он не увидел. Перестрелка затихла.
Повоевавшие солдаты учили новиков окапываться, лёжа на земле; ячейки день ото дня углублялись. Красные не атаковали, и 5-й Сызранский полк не получал приказа атаковать.
Однажды на горизонте в правой стороне поднялось дымное облако. Кто-то сказал, что там жгут помещичью усадьбу. Алексей лежал в своей ячейке, когда меж редкими деревьями леса за полем замелькали фигурки, их множество заполонило полосу кустарника, из леса выкатили пулемёт, и он заработал. Затем красные стали приближаться по полю перебежками. По ним открыли частый, то есть беспрерывный огонь, разряжая одну обойму за другой. На позиции подоспел из села Санёк со своим «льюисом», простучала очередь, другая, с правого фланга полка заговорил и станковый пулемёт. Цепи противника залегли на середине поля, долетели крики: «Смерть учредилке!» На том атака закончилась, красные отошли.
Несколько дней спустя 5-й Сызранский полк пошёл в атаку – первую для Алексея. Он, по команде, поднялся и, пригибаясь, как остальные, побежал в цепи вперёд по полю. Уже обстрелянный, «переносил свист пуль, не морщась, но и не без дрожи». Из кустарника, откуда били винтовки красных, понеслись пулемётные очереди. Стрелки Народной Армии залегали, поднимались и вновь делали перебежку. Красные оттянулись в лес, потом переместились влево, предприняли контратаку, грозя обойти полк с фланга. Стрелки возвратились на прежние позиции. В этом бою был убит Фёдор Леднёв.
Как жить на войне
Алексей запомнил, что в его первые дни на фронте личный состав батальона, за исключением тех солдат, которые были на позициях, выстроили за селом. Вдоль строя прошёл командир, имевший тот вид, который, по мнению моего отца, и положено иметь командиру: решительный, деловой. Он был в чине штабс-капитана, «порохом пропах на германской, – сказал о нём Рогов, – ранен не один раз».
«Молодцы! – с ударением на последнем слоге обратился командир к солдатам. – Население – наша опора! Мы армия народная». И объявил, что «обиды населению будут пресекаться без волокиты». Если-де кто-то из крестьян пожалуется и укажет, что вот этот украл, и «у того найдут хоть шмат сала, – расстрел!»
Ещё командир сказал, что воевать надо «без истеричной ненависти», не позволять себе выражений «большевицкая сволочь» и тому подобное; есть, мол, слова «противник», «неприятель», и их вполне достаточно. К пленным надо относиться без злобы, кто-то из них, возможно, одумается и захочет воевать на нашей стороне.
Через некоторое время батальон собрали ещё раз, рядом с командиром стоял незнакомый офицер с видом подчёркнутой суровости. «Все помнят, как карается мародёрство?!» – начал он, и Рогов шепнул Алексею: «Это – контрразведка». Офицер рассказал, что солдаты другой дивизии в Нурлате разграбили сахарный завод. Зачинщики были выявлены и расстреляны. «Кого на чужое потянет, пусть подумает – расстрел на месте!» – заключил офицер, последние слова повторил громко, резко и вынул из кобуры пистолет, поднял его стволом кверху на уровень плеча.
Кормили солдат пшённой, иногда гречневой кашей, в обед кашу заменяли суп с солониной или с нею же – щи, всегда был хлеб, часто – и колотый сахар. Случалось, что каша варилась с салом или с тушёнкой, а если не с тем и не с другим, то кашевары раздавали вяленую воблу, которую следовало очистить и нарезать кусочками в котелок с варевом. Бывало, вместо воблы давали селёдку из бочки. Но очень хотелось овощей, ягод. Полк менял позиции, всегда рядом оказывались огороды, кусты крыжовника, смородины, и, рассказывал мне отец, он и другие «брали» арбузы, огурцы, срывали ягоды. «Берёшь, а поджилки трясутся! Вдруг хозяева подымут шум не на шутку и начальству на тебя: вон тот!»
Но чтобы кто-то украл курицу – такого Алексей не видел (хотя, думаю, это не значит, что подобного вообще не случалось).
Не всегда походная кухня поспевала за солдатами, тогда ели то, что было у крестьян, – им платили ротные командиры деньгами, которые выдавались из полковой кассы. Входя в избу, Рогов весело обращался к хозяйке: «Кормёжка будет оплачена! Добренькая, есть яйки? млеко?» – так он называл яйца, молоко. Молоко обычно бывало только кислое. Рогов, играясь, отвечал: «И энтим довольны!», не забывая, однако с ласково-жалобной миной добавить: «А свежего нет?» Он всегда также спрашивал, есть ли кипячёная вода, и пил её, а не сырую, советуя Алексею брать с него пример.
Учил и другому, что крайне пригодилось моему отцу. Когда-де придётся делать длинные переходы, надо – лишь выпадет тебе зайти в избу – лечь на пол, поднять ноги и прислонить ступни к стене. Ноги «вздохнут» и «пойдут полегче».
Дал настоятельный совет – не приучаться курить. Солдату, мол, и так достаётся чего терпеть: то без еды будешь, то без крыши над головой, а то – и без того, и без другого. А тут ещё изнывай, что курева не найти. «На кой ляд этот излишек нужды?! Я испытал, когда курил, и бросил».
О том, кем он был в мирное время, Рогов говорил, как всегда, пошучивая: «Знают меня в ресторациях города Сызрани». Но на завсегдатая ресторанов он не походил, как и на официанта. Речь выдавала в нём начитанного человека. Он правильно произносил «комиссародержавие», «дипломатия», «интеллигенция», «эксплоатация» (в этом слове в то время употреблялось «о», а не «у»). «Большевики – эксплоататоры темноты нашего народа. Они будят в его низах самое тёмное и ловко эксплоатируют это», – высказал однажды Рогов, возможно, не его собственную мысль. Мой отец запомнил её навсегда.
Рогов читал любую газету, какая ему попадалась, говорил, что «наблюдает цели и качество агитации», критиковал прочитанное. Газету эсеров «Дело народа» называл «нашей», однако и ей от него доставалось, хотя не так, как большевицкой «Правде». Он часто повторял эсеровский девиз: «В борьбе обретёшь ты право своё!»
Крючник Санёк сказал о Рогове, что тот «служил» бухгалтером у богатого сызранского торговца рыбой.
Полезная «свойственность»
Походил на Рогова тем, что, говоря, чуток посмеивался, доброволец Виктор Горохов, которого звали Витьком. Он сообщил Алексею: я, мол, местный – кузоватовский. И, улыбаясь, поинтересовался: «Какая столица в Америке, знаешь?» Алексей ответил: «Вашингтон». Витёк кивнул: «Ага! А другие говорят – Нью-Йорк». Мой отец возразил: те, кто учился в реальном училище или в гимназии, так не скажут.
Сам Витёк, по его словам, окончил только сельскую школу – «но, – добавил, – было у меня ещё учение от родителей и двух дедов». Он повоевал на германском фронте, в Народную Армию вступил с благословения отца. «У нас, – рассказал, – хозяйство справное, дом под жестяной крышей. Отец велел не жениться, пока красных не разобьём, а то, говорит, х...та (обронил матерное слово) безлошадная жизни не даст».
Он объяснял Алексею, как «у сельских разживаться едишкой». Все крестьяне-де очень скупые, ничего не хотят дать, и оно понятно. Каждая морковка достаётся трудом, чего сам не съешь, то скотине пригодится, запас сменяешь на изделия из города, без каких жить невозможно. Так что не дадут. Одно полезно – свойственность. Покажи, что ты из них, что ты сам такой, и получи на даровщинку. «У тебя-то, конечно, не получится, – говорил он моему отцу, – но на меня ты всё же гляди!»
Хозяйку избы, если была пожилая, он называл «мама». Обращался, посмеиваясь: знаю, мол, мама, сало у тебя есть, но не прошу! Ничего не прошу! Я сам-де из села Кузоватово, огород у нас немалый, вот ты мне и скажи, какие растишь огурцы – нежинские, «ерофей» или вязниковские? Витёк подкупал выражением искренней любознательности, хозяйка показывала ему огурцы. «Ну да, вязниковский огурец, – объявлял солдат или называл сорт «ерофей», а иной раз произносил загадочное для крестьян: – Гибрид!» Его слушали, и он говорил: «Эти очень хороши для засола! Есть малосольные – распробовать?» Ему и пришедшим с ним давали малосольных огурцов, они хрустели у ребят на зубах, и Витёк с завидным наслаждением произносил: «А рассол хорош! И укропу положили довольно, и чеснока. А то ведь солят без чеснока, а оно не то». Добавлял непринуждённо: «В эту жару какая приятность – кваском бы запить! Уж, конечно, квасок в этой избе отменный! С зелёным луком и хлебной корочкой идёт в охотку – лучше не бывает!» И хозяйка давала квас, лук, кусок чёрного хлеба.
Иногда он заводил разговор не об огурцах, а о сортах моркови или о редиске – «а не водянистая ли у тебя, мама, редиска?» И опять завершалось «едишкой на даровщинку».
Однажды Виктор Горохов обратил внимание на сопливых детей в избе и назидательно сказал их матери, что с «этим мириться нельзя». Возьми, мол, мешочки, насыпь в них соли, нагрей на печи и прикладывай им к носам, а потом пусть высморкаются, и в ноздри им – по дольке чеснока. И следи, чтобы держали их!
Крестьянка сказала Витьку: «Сколь тебе лет, малый? Поди, двадцати пяти нет, а учишь, как старик».
Витёк, глядя спереди на лошадь, определял на расстоянии по её морде, кобыла ли. И никогда не ошибался. Высмеивал «темноту» – веру, например, в то, что, если навстречу попадётся баба с пустым ведром, тебе не повезёт. Объяснял о другом даже не поверье, а убеждении: «Думают, что у мертвеца на лице щетина начинает расти. Темнота! Человек кончится – и всякий рост в нём кончен. Просто кожа усыхает, проседает, и волос выступает сильнее, вот и всё!»
Как-то Алексей и другие солдаты, оголившись по пояс, умывались перед избой, в которой ночевали, и Горохов, заметив, что на Алексее нет крестика, сказал: «Это не дело!» Мой отец ответил, что он лютеранин. «И крест носить нельзя?» – спросил Витёк. Алексей честно признался, что не знает, об этом ему ничего не говорили, просто в их семье никто не носил крестика. Через некоторое время Витёк принёс крестик, который где-то достал, и надел на моего отца. Тот его носил до времени заключения в Иркутской тюрьме.
Гром и молния
В один из дней второй половины сентября 5-й Сызранский полк, двигаясь по перелеску вдоль холма, по команде приостановился. Метрах в трёхстах впереди встали две пушки Народной Армии, одна выстрелила, послав снаряд за холм. Рогов произнёс: «Последний довод королей!» Алексей знал, что это выражение стало крылатым, после того как кардинал Ришелье приказал запечатлеть его на отливаемых стволах французских пушек. Но Алексею было известно ещё, что девиз перенял прусский король Фридрих II Великий, заменив на пушках слово «королей» словом «короля».
После сказанного Роговым в воздухе что-то провизжало и шарахнуло на расстоянии шагов тридцати – Алексей опомнился, лёжа на земле, прижимаясь к ней. Наплыл смрад сгоревшей взрывчатки, взрыв снаряда свалил и изломал деревья, раненые звали санитаров. Алексей ждал следующих разрывов – второй снаряд ахнул ближе к пушкам. Обе они ответили. Потом стало тихо, пушки неприятеля и свои огонь не продолжили.
К концу сентября силы красных выросли, пушечные выстрелы доносились чаще. Алексей не раз увидел облачка лопнувших шрапнельных снарядов – на его счастье, не прямо над собой.
Переправа
2-я стрелковая дивизия отступала. 3 октября она оставила Сызрань. Последним уходил 5-й Сызранский полк, в арьергарде шёл, растянувшись колонной по насыпи железной дороги, батальон, в котором служил Алексей. Красные наступали на пятки. Солнце стояло высоко, когда батальон проходил станцию Батраки. Впереди показался Александровский мост через Волгу. На нём виднелись фигурки, люди были чем-то заняты. Они побежали по мосту, удаляясь, пропали из виду, и вдруг раздались взрывы «бумбг! бумбг!» Два пролёта обрушились. Это чехи поспешили помешать проходу красных. Батальон оказался отрезанным.
Впоследствии мой отец рассказывал мне: «Жутко было. Именно тот случай, когда говорят про мертвящий холодок в груди». За спинами-де так и чувствовались войска красных, оттуда пальнула пушка, пролетел с надсадным давящим шипением снаряд. Солдаты определили: «Трёхдюймовый! Второй в аккурат по нам придётся!» Началась было то, что отец назвал суетой. Командир батальона крикнул громко и в то же время спокойно: «Слушать меня! Успеем уйти!» На виду у солдат пару минут невозмутимо смотрел в бинокль в сторону неприятеля, будто ничего необычного нет и некуда спешить. Потом приказал: «Вниз к Волге, к пристани!»
Все пустились с откоса вниз. У Алексея к поясу был прикреплён ремешком новенький медный лужёный котелок, его зацепил обломанный куст, котелок оторвало. Подбирать было некогда, скорее бы добежать до причала.
На нём и поблизости не оказалось ни одной лодки. Батальон скучился. Вот-вот красные пристреляются – накроют шрапнелью, насыпь железной дороги усеется их пехотой. Куда деться? Тут увидели плывущий пароход. Командир батальона взял у кого-то из служащих пристани рупор, закричал в него, чтобы судно пристало. Капитан в рупор ответил: «Не предусмотрено! Следую своим курсом». Тогда командир приказал Саньку дать по пароходу очередь.
По словам моего отца, «так и побежал «шов» по борту». Второй очередью вполне можно было стегнуть по рубке.
Капитан велел причаливать. Солдаты бросились на пароход и по сходням, и по переброшенным на борт доскам. Когда все поместились, судно так осело, что, казалось, ещё чуть – и черпанёт воду.
Пароход поплыл прямо к другому берегу, а там причалить негде: заросли камыша, низкий берег. Судно вошло в камыши носом, продвинулось, сколько можно было. Солдаты стали спрыгивать в осеннюю воду, она доходила почти до подбородка. Повыбрались все на сухую землю, командир приказал: «Бегом!» В беге отогревались.
Дивизия Чапаева
У железной дороги застали свой 5-й Сызранский полк, дымили походные кухни. Подбежавшим ещё мокрым солдатам кашевары стали накладывать кашу в котелки. И пожалел же Алексей о своей потере! Вячка Билетов быстро, как мог, съел кашу, отдал котелок Алексею, тому его наполнили – а тут приказ садиться в вагоны. Мой отец глотал кашу на ходу.
Полк перебросили в посёлок Иващенково, и Рогов в избе, где встали на постой, заговорил с хозяином: «Имеешь котелок? Я за него даю иголку». Иголки, нитки в то время были большой ценностью – фабрики, которые их выпускали, не работали. Рогов снял фуражку: оказалось, что в подкладке у него две иголки, которые он, поддев материю, всунул горизонтально, выставив кончики. В ушко каждой иголки была вдета нитка, она опетляла иголку, пропущенная под кончиком и под ушком.
Хозяин избы принёс старый закопчённый котелок, и Рогов, подставив его под рукомойник, проверил, «нет ли течи». Хозяин захотел за него обе иголки, но Рогов сказал, что ты, дескать, в поход не собираешься, чтоб за котелок держаться, а иголка дома нужна, за неё дадут котелок твои соседи. И мужик сдался. Рогов вручил приобретение Алексею, и, когда потом они вышли из избы, произнёс: «Настоящий солдат узнаётся по тому, есть у него при себе иголка с ниткой или нет».
Тут передали приказ занять оборону – к посёлку Иващенково с юга двигался организованный Чапаевым в Николаевске отряд, в конце сентября 1918 года получивший наименование 1-й Самарской дивизии. Красные стремились перерезать железную дорогу от Иващенково на Самару.
Стрелки 5-го Сызранского залегли южнее посёлка на огородах. Издали по ведущей к нему дороге и по сторонам от неё потекла людская масса, ей дали приблизиться. Командир взвода, в каком был Алексей, приказал: «По пехоте левее дороги, шесть, по пять патронов – огонь!» Другие взводы били по красным на дороге и справа от неё. Те стали растягиваться в цепи, пошли в атаку. Командиры взводов приказали их подпустить, после чего скомандовали стрелять залпами: «По цепи залпом, пять, в пояс – пли!»
Несколько залпов остановили красных, они стали окапываться. С их флангов застрекотали пулемёты, в то время как пулемёты полка вели огонь по середине цепи. Бой длился три часа, полк потерял немало солдат ранеными и убитыми. Чапаевская дивизия дралась решительно, имела численное превосходство, она начала охватывать посёлок.
На помощь полку пришло подразделение чехов со стороны Самары, и дивизия Чапаева была отброшена от Иващенково. 5-й Сызранский погрузился в один из эшелонов, направляемых в Самару.
Стоянка в Самаре. Волгари
Железнодорожные пути занимали составы с войсками, паровозы испускали дым и пар. В теплушках и в вагонах разных классов располагалась, среди других частей, вся 2-я Сызранская стрелковая дивизия. Противник наступал с запада и с юга, угрожая ударом и с севера. Сегодня 6-го октября Народной Армии, которая подчинялась уже не КОМУЧу, а Уфимской Директории, предстояло оставить Самару. В здании вокзала и на перроне волновалась публика, желавшая уехать.
Эту картину, описанную мне отцом, я использовал в повести «Рыбарь». По словам отца, стоял серый день.
К теплушке, где были Алексей и другие кузнецкие ребята, подошёл Рогов, сказавший, что встретил сейчас на вокзале сызранца «из хороших хозяев, который навострил лыжи, кажется мне, во Владивосток». Знакомый одолжил «денег без надежды на отдачу». Рогов позвал бывшего крючника Санька и ребят к торговкам, которые должны были где-то тут продавать свежевыловленную волжскую сельдь.
Торговка рыбой нашлась быстро. Два сызранца, советуясь друг с другом, выбрали «самолучшие селёдки», отнесли их в вагон, где помещалась кухня, и попросили повара «изготовить сельдь по-царски». Повар порезал рыбу кусками, стал тушить с луком в чае.
Рогов произнёс: «С Волгой прощаясь, её селёдочку не поесть? Никак невозможно!» Сказал, что кто на Волге родился, другого такого же уважает, как он, к примеру, Санька, а Санёк – его. Есть-де слово «волжане», какое мы не любим. «Мы не волжане никакие, мы – волгари!» И объявил кузнецким ребятам: «Вы тоже!» Петя Осокин возразил, что Кузнецк от Волги далековато. «Да ну! – махнул рукой Санёк. – Я туда сколько раз с возом воблы ездил». А Рогов обратился к Алексею: «Твой род из каких немцев?» – «Из поволжских», – ответил Алексей. «Так-то! Ты – волгарь!» – с неподдельным удовлетворением заключил Рогов.
Когда селёдка была готова и её стали есть с хлебом, сказал: «Те, кто не разбирается, будут толковать, что Волга – это, мол, стерлядь, севрюга, осетры. А на деле, самая важная рыба Волги – селёдка и вобла!» – «Вобла – обязательно!» – поддержал Санёк. Ребята заулыбались: все знали, что у крючников обычно свисает с плеча почти до полу бечёвка с нанизанными рыбами – вяленой воблой. Крючник срывает её с бечёвки, стучит ею обо что-либо, чистит и жуёт.
Рогов перешёл на то, «какими только личностями не отличилась Волга! Керенский – волгарь. Ленин – волгарь. Виктор Михайлович Чернов – волгарь. А Горького кто не знает? Волгарь! Весь цвет момента разных цветов».
Раздалась команда: «По вагонам!» 2-я Сызранская стрелковая дивизия в нескольких эшелонах покинула Самару.
Дивизию направляли в помощь оренбургским казакам, которыми командовал Войсковой атаман, член Учредительного Собрания Александр Ильич Дутов.
Перед отбытием в вагоны взяли привезённую с колбасной фабрики вкусную колбасу, и кашевары, к бурной радости солдат, сгребали горки колбасных кружочков в кашу, варили и густой суп с колбасой.
От Колтубанки до Грачёвки
Составы по железной дороге, ведущей в Оренбург, проследовали станцию Кинель и встали на станции Колтубанка. Дивизия высадилась. Следующей ночью батальон, в котором служил Алексей, получил приказ провести разведку боем, двинулся в сторону красных и столкнулся с их конным подразделением, не выславшим вперёд дозоры.
Стрелки, заслышав конский топот, успели залечь, в темноте прижались к земле и с расстояния не более десяти шагов открыли огонь из винтовок. Выстрелы слились в сплошной грохот, падали лошади, всадники. Алексею впервые довелось метнуть бутылочную гранату, она называлась гранатой Рдултовского, на её жестяной корпус была надета металлическая рубашка, добавляющая количество осколков.
Стрельба продолжалась ещё некоторое время, красные ушли. От тех, кто остался без лошади и попал в плен, стрелки узнали, что на них движется 24-я Симбирская дивизия, гордо называемая красными Железной.
Общая обстановка складывалась в пользу красных, Народная Армия продолжала отступать. Изо дня в день 5-й Сызранский полк, образуя фронт перед противником, вытягивался в длинную цепь, залегал, встречал наступавшую цепь неприятеля ружейным и пулемётным огнём. Красные ложились, и длилась ожесточённая перестрелка. Затем красные сосредотачивались у полка на фланге, оголённом из-за нехватки сил, начинали его охват, и полк отступал. Каждый раз рядом с Алексеем кого-нибудь убивало, ранило.
Однажды командир батальона, передвигаясь ползком вдоль цепи, залёг с биноклем вблизи Алексея, в это время пуля попала в одного из стрелков, он забился в агонии, из раны хлестала кровь. Тут подполз молоденький солдатик, посланный командиром полка, и, глянув в ужасе на умирающего, обратился к штабс-капитану: приказано-де доложить, как у вас? Штабс-капитан ответил невозмутимо: «Держу оборону, несу потери!» Мой отец сказал мне, что это стало для него образцом поведения командира, которое вселяет в солдат уверенность. В любой миг в командира могла попасть пуля, и он сам забился бы в агонии, однако он держал себя так, будто это исключено. Он показывал, будто находиться под огнём – обычное простое дело.
У села Палимовка неприятель не предпринимал обход с фланга, и полк цепью пошёл в контратаку, не имея за собой резервов. Красные начали обстрел атакующих из трёхдюймовых пушек, над стрелками рвались снаряды, осыпая их шрапнелью.
Неприятель в конце концов всё же предпринял охват левого фланга, и дело закончилось отходом полка севернее Бузулука, занятого красными, на восток к селу Новая Тепловка.
Здесь сосредоточилась вся 2-я стрелковая дивизия, один день она держала оборону перед селом. Алексей был в цепи, залёгшей между скирдами ржи. Несколько раз красные, атакуя, оказывались менее чем в ста метрах, но под огнём пулемёта и винтовок откатывались. Время от времени принималась бить батарея противника. Алексей прижимался к земле вблизи скирды, когда в неё угодил снаряд. Скирду разметало, и около Алексея упали окровавленные внутренности добровольца, стрелявшего из-за неё в красных.
К вечеру неприятель усилил артиллерийский огонь. Дивизия, отходя, повернула на север к селу Грачёвка, с тем чтобы неприятель, считая, что она отступает на восток, прошёл в том направлении. Тогда ударом с севера, из Грачёвки, можно было бы отсечь его передовые части от тылов. Расчёт строился на том, что он не узнает о манёвре.
Придя в Грачёвку, дивизия запаслась продовольствием. Алексей и друзья, благодаря Витьку Горохову, который показал «свойственность» хозяевам, наелись, помимо «казённых» обеда и ужина, печёных тыкв.
Ранним утром другого дня разведка сообщила, что красные подходят с запада к речке Ток, на левом (восточном) берегу которой располагалось село. Добровольцы 5-го Сызранского полка, в их рядах Алексей, залегли вдоль левого берега речки. На другой стороне в утреннем тумане показались красные. Витёк шепнул: «Идёте! А мы вот они!» – и, улыбаясь, прицелился. По подошедшим дали залп, затем повели беглый огонь. Они отхлынули.
Тут пришёл приказ спешно занять оборону к югу от села – красные не пошли на восток, как предполагалось, а двинулись на Грачёвку. 5-й Сызранский и 6-й Сызранский полки встретили их цепи огнём, отличились пулемётчики. По команде Алексей вместе с однополчанами поднялся в контратаку.
Как только отогнали красных, наступавших с юга, оказалось, что противник опять подошёл с запада к речке Ток. Алексей, другие добровольцы бегом вернулись на восточный берег речки, плотным огнём вынудили красных отступить. После этого пришлось, оставив здесь полуроту для прикрытия, вновь отбивать атаку неприятеля, наседающего с юга.
За день противник предпринял пять атак с юга и три попытки переправиться через Ток, наступая с запада. Атаки проводились не одновременно, и добровольцы успевали сосредоточиться то против одной части красных, то против другой. День был не летний, но Алексей до того вспотел, что гимнастёрку хоть выжми. Двое пареньков-кузнечан, вместе с которыми он вступил в Народную Армию КОМУЧа, в этот день были тяжело ранены. Ранило в живот Костю Ташлинцева по прозвищу Ле Кок. Когда его несли к санитарной двуколке, санитар шепнул: «Боль страшная, а ни стона тебе!»
К ночи выяснилось, что севернее 2-й стрелковой дивизии нет вблизи ни частей Народной Армии, ни казаков, и дивизия покинула Грачёвку, двигаясь на юго-восток. Она должна была остановить противника у села Покровка.
Оренбургские казаки
Октябрьский день выдался солнечный, тёплый. На гребне невысокой возвышенности вырыли расположенные в линию с юга на север индивидуальные ячейки, несколько ячеек вырыли для станковых пулемётов.
Красные подтягивали резервы, не спешили атаковать. В атаку пошли перед полуднем, без артиллерийской подготовки: снарядов и у них недоставало.
Стрельба продолжалась часа три, у Алексея в глазах рябило от струек пыли, поднимаемой ударами пуль в землю возле него. Ствол станкового пулемёта, установленного в ячейке неподалёку, перегревался – испарялась вода в кожухе, – и пулемётчик звал: «А ну – отливайте!» Алексей и другие стрелки подползали к нему, мочились в кожух, для чего приходилось приподниматься, подставляя себя под прицел красных. Их цепь остановили шагах в ста пятидесяти.
Красные прибегли к неизменному манёвру – обходу с севера, с правого фланга, но здесь их поджидали укрывшиеся за стогами сена и на околице Покровки, за изгородью поскотины, казаки. Под их ружейным и пулемётным огнём красные побежали назад, и казаки, вскочив на коней, преследуя, многих порубили.
Ночью стало известно, что части неприятеля движутся с юго-запада, от села Верхняя Вязовка, стремясь зайти в тыл дивизии, и она отступила.
Брата больше нет
Вскоре Алексей узнал о гибели брата Павла, который командовал конной разведкой дивизии. Сплошной линии фронта не было, Павел и тридцать разведчиков в очередной раз проехали в тыл красных, заночевали в не занятом ими селе Голубовка. Павел, единственный, расседлал свою лошадь. Красные, однако, были в деревне неподалёку, им сообщили о ночёвке конной разведки, и они вошли в Голубовку с разных сторон. Разведчики вскочили на лошадей, успели ускакать, а Павел, седлая кобылу, задержался.
Моему отцу рассказали то, что стало известно от селян. Когда Павел поскакал со двора, под ним убили лошадь. Он бросился в ближние ворота, взобрался на гумно, стрелял из пистолета, нескольких нападавших ранил. В него, вероятно, тоже попали. Патроны у него кончились, он выхватил саблю из ножен, спрыгнул с гумна, встал, шатаясь. Красные были перед ним. Они кричали: «Бросай шашку!» Он не бросил, замахивался, и его застрелили.
Мой отец участвовал в контрнаступлении, когда Народная Армия ненадолго заняла Голубовку. Ему показали место, где погребли Павла. Отец рассказывал мне, до чего больно было сознавать, что брата больше нет. В том, как тот, бывало, скакал на жеребце Ханбеке, катался на велосипеде, грёб на лодке, бегал на лыжах, сквозила небрежность необычайно уверенного в себе человека. Он никого не боялся, и ему нравилось, если что-то ему угрожало. Для моего отца казалось несомненным, что никто никогда не сумеет Павла побить. В нём кипело столько жизни, что она не позволяла поверить в смерть. Он своим обликом, поведением словно бы внушал, что неубиваем. Между прочим, такие, что давно известно, и погибают в первую очередь.
Гибель Павла стала сюжетообразующим началом в моей повести «Грозная птица галка» ( http://belousenko.com/books/Hergenroether/hergenroether_kombinatsii.htm).
Ранение, госпиталь
Рота добровольцев, в их числе Алексей и его кузнецкие друзья, блестяще отразила атаку полка, наспех сформированного коммунистами из рабочих Самары. Меж тем другие неприятельские части обходили 2-ю стрелковую дивизию с севера, и вновь пришлось отступать. В тылу появились отряды красных, и часто приходилось с боем, неся потери, прокладывать себе дорогу к Оренбургу.
В одном из сёл, к которому приближался 5-й Сызранский полк, оказалось довольно много красных, часть их пошла во фронтальную атаку, другие стали заходить за левый фланг полка, по ним был открыт огонь из пулемёта «льюис». Полурота, в которой был Алексей, получила приказ занять горку на юге у правого фланга, на случай, если красные предпримут обход и там.
Стрелки с винтовками наперевес бежали на горку по отлогому склону, когда на неё с другой стороны стали выезжать красные кавалеристы, они понеслись лавой на белых. Стрелками командовал опытный пехотинец, он выказал образцовое хладнокровие перед мчавшимися с шашками наголо всадниками, приказал стрелкам встать тесно в ряд, открыть огонь. Много конников было убито, остальные рассеялись, ускакали.
В таких почти каждодневных боях продолжался отход к Оренбургу. У села Ново-Сергиевка 5-й Сызранский полк, развернувшись в поле цепью с юга на север, встретил огнём наступавших с запада красных. Алексей, сидя на жухлой траве, перезаряжал винтовку, и тут пуля пробила ему левую руку ниже локтя, а затем правую ногу выше колена, не задев, к счастью, кости ни руки, ни ноги. Санитары дотащили раненого до повозки. Фельдшер, осматривая раны, сказал, указывая на ногу: «Здорово тебе повезло! Пуля прошла на волосок от вены сафены – если бы её задела, истёк бы кровью».
Ранен был и Алексей Витун. Его и моего отца с другими ранеными отправили в госпиталь в Оренбург. Когда отец начал ходить, то узнал, что в госпиталь привезли Рогова, раненного в ногу. «Рана не тяжёлая, – сказал тот, – одно страшно – гангреной заразиться». Он сообщил, что личный состав полка сократился, из-за чего произошло переформирование. Санёк, Витёк Горохов, некоторые другие солдаты переданы в другой батальон. И нашего, мол, командира, сказал с сожалением Рогов, перевели другими командовать. «Жалко! Отточенный командир!»
По поводу того, что провозглашена диктаторская власть Колчака, Рогов заметил: «Мы вступали в Народную Армию, а теперь мы в Белой армии. Не знаю: может, оно лучше».
28 ноября белогвардейцу Алексею исполнилось шестнадцать лет.
Атаман Дутов
В Рождество раненых в госпитале навестил Александр Ильич Дутов. Перед его приездом для всех нажарили беляшей с бараниной, раздавали урюк. Дутов обходил палаты, вошёл в ту, где был мой отец. Впоследствии он описал мне атамана: «Невысокий, плотного сложения, покатые плечи, лысеющий, редкие волосы коротко острижены. Лицо простое округлое, усики треугольником посреди верхней губы, тёплый взгляд тёмных умных глаз».
Дутов был во френче, на погонах – по три звёздочки генерал-лейтенанта. Каждому раненому он дал коробку папирос, дал и Алексею. Папиросы фабрики Серебрякова, находившейся в Омске, на коробке – красочная картинка: на ложе с красной подушкой возлежит восточная красавица, держа на отлёте руку с папиросой, из которой вьётся дымок.
Атаман обратился к раненым, спокойно и просто сказал примерно следующее: «Желаю всем возвратиться в строй и участвовать в разгроме большевиков. Всё больше людей понимают, что они губят страну, мы их разобьём».
Алексей, следуя совету Рогова, – правда, лишь отчасти, – выкурил две папиросы, остальные обменял на сахар.
Лучистые звёзды
В начале января 1919 года моего отца выписали из госпиталя, он возвратился в свой 5-й Сызранский полк. Красные наступали на Оренбург с запада, а также с юга: их так называемая Туркестанская армия двигалась по железной дороге Актюбинск — Оренбург и вдоль неё. Ползли поезда с войсками, тянулись сотни саней, а по сторонам простиралась покрытая глубоким снегом равнина. У станций, занятых белыми, неприятель останавливался, начинал артиллерийский обстрел, атаковал в лоб, предпринимал на санях обходы, грозя перерезать железную дорогу позади белых. И они отходили.
Таким образом Туркестанская армия достигла Соль-Илецка. Ещё таких дней пять, и она вступит в Оренбург. Батальон, рядовым которого был Алексей, 12 января направили из Оренбурга по железной дороге на юг – с задачей остановить передовую часть красных.
Хозяин флигеля, где накануне ночевал Алексей, предложил ему свои валенки взамен полученных при выходе из госпиталя ботинок, а также посоветовал обернуть бумагой ступни под шерстяными носками и торс под нательной рубашкой. Кроме того, дал оренбургский пуховый платок – обмотать себя под гимнастёркой.
Некомплектный батальон, проехав поездом станцию Донгузскую, высадился в заснеженной степи. Среди стрелков, кроме Алексея, были его кузнецкие друзья: Вячеслав Билетов, Пётр Осокин по прозвищу Сипай, Юрий Зверев по прозвищу Джек Потрошитель и Александр Цветков, которого звали просто Сашей. Они слушались своего земляка Георгия Паштанова, которому уже исполнилось восемнадцать. Сын столяра-краснодеревщика, Георгий, когда на подводу грузили буфет, один брался за одну его сторону, тогда как за другую брались два грузчика. Паштанов до записи в Народную Армию успел выступить в цирке гиревиком, а затем бросить на лопатки известного борца.
Добровольцы при свирепом морозе принялись создавать линию обороны в степи, разгребали лопатками глубокий снег, добираясь до окаменевшей земли, с невероятным трудом рыли в ней ячейки.
Подошёл неприятельский поезд, красные вышли из вагонов, атаковали залёгших белых цепями, обстреливали из орудия. Бой длился весь январский день, красные вынуждены были отступить.
А белые стрелки оказались насмерть замёрзшими. В живых остался один Алексей – благодаря советам хозяина флигеля, где был на постое.
Опираясь на рассказанное отцом, я написал повесть «Птенчики в окопах» (http://belousenko.com/books/Hergenroether/hergenroether_kombinatsii.htm). Отец говорил, что, когда бой утих, он увидел на небе звёзды. Я взялся за повесть через много лет, и меня осенило: мой герой, глядя на лучистые звёзды на ночном морозном небе, понял, что это ребята, которые только что были рядом. Теперь они – вечно живые в столь близкой вечной выси!
Однако, подумав, я не стал такое писать, боясь, что оно прозвучит фальшиво.
От Оренбурга к Троицку
Подошёл поезд белых с подкреплением, Алексею помогли подняться из окопчика, отвели в санитарный вагон, а потом в вагон с кухней. Мой отец съел две порции горячего заправленного жареным салом супа из пшена.
Прибывшие белые в бой не вступили: Алексей вернулся с эшелоном в Оренбург. Спустя день или два в 5-й Сызранский полк возвратился выписанный из госпиталя Александр Рогов. Мой отец рассказал ему о гибели ребят. Рогов был удручён, проговорил с тоской: «Плохо». Помолчав, добавил: «Раз ты из всей артели один оставлен, жить тебе долго».
В начале двадцатых чисел января 1919 года белые под натиском красных ушли из города, остатки 5-го Сызранского полка в составе 2-й стрелковой дивизии отступали на восток вдоль железной дороги Оренбург — Орск, стремясь закрепиться на каждом полустанке, на каждом разъезде. Алексей участвовал во всех этих ожесточённых боях.
Не удалось приостановить отступление и в Орске, 2-я стрелковая дивизия отходила к Троицку.
Поступавшее пополнение
В конце февраля дивизия заняла оборону на линии от станицы Кизильской на юг, ближайшим крупным городом в тылу был Челябинск. 5-й Сызранский полк, бывший полком только по названию, начали пополнять мобилизованными сибирскими крестьянами. Добровольцы, служившие в полку с лета восемнадцатого года, носили заячьи шапки с длинными ушами, на концах у которых были пуховые шарики (в советское время шапки такого типа, но вязаные, носили дети). На мобилизованных были папахи или деревенские шапки – отличие от добровольцев бросалось в глаза. Но если бы оно состояло только в этом. Крестьяне были из тех мест, где не успела показать себя большевицкая продразвёрстка, необходимость воевать перед ними не стояла, и они возненавидели белых за мобилизацию, уклонение от которой каралось расстрелом.
Полк расположился в деревне, в сторону неприятеля выдвигались секреты, позади них располагались полевые караулы. Когда красные приближались, Алексей и другие стрелки выбегали из изб, шли по снежному полю в контратаку, противник отходил.
Командовать полком был назначен пожилой приземистый подполковник, страдавший болью в ногах. Он их парил в избе, погрузив в таз с водой. Рогов и Алексей часто находились при нём. Добровольцев он называл «мои орёлики», а мобилизованных – «ребятушки» с ударением на «я». По его вызову они набивались в избу, и он, паря ноги, обращался к ним, вздыхая: «Знаю я, что вы воевать не хотите, думаете – пересидеть бы дома, а там будем мирно, спокойно жить. Не будет этого, ребятушки мои дорогие, не получится». И объяснял, что коммунисты – это образованные лжецы, всех, кто за ними пошёл, они обманут. Во-первых, мол, они объявляют себя партией рабочих, а вы кто? Вы крестьяне, и, если они пока не успели у вас хлеб забрать, заберут, когда мы отступим, а там и землю отнимут.
Подполковник вздыхал и продолжал: поглядим, дескать, что во-вторых. Они якобы борются за рабочих, а что сделали с рабочими Ижевска и Воткинска? Заработки понизили, безработицу развели. Были у рабочих огороды подспорьем, так запретили с них овощ продавать. И рабочие восстали, ушли за Каму и семьи на подводах увезли, воюют с красными непримиримо севернее нас под началом нашего Верховного. Ижевская бригада, Воткинская дивизия – лучшие у нас.
Вы думаете, говорил подполковник мобилизованным, я вас агитирую из-за своего интереса? Я, мол, богатый и потому хочу, чтобы красных разбили? Нет у меня клочка земли, и, если победим, буду жить на пенсию. Вот и вся моя надежда.
Голос у него был звучный, с сипотцой. Вы, говорил пожилой офицер, с умом думайте о себе. Не победим – что вас ждёт? Будете батраками на земле государства. Вот и надо воевать, пока не поздно.
Солдаты слушали молча, никто не возражал, но не чувствовалось, что подполковнику верят. «Знайте, ребятушки, – напутствовал он их, – что вы воюете не за веру, царя и отечество, не за великую и неделимую, а за ваш кусок земли и собранное зерно, за то, чтобы ваш хлеб был вашим!»
Когда ему требовалось отправиться к начальству, ординарец седлал спокойную низкорослую лошадь. Рассказал добровольцам, что три года служил с ним на турецком фронте. Командир-де такой, что солдатам друг. Всегда добивается, чтобы снабжали получше, чтобы интенданты не так воровали. Если бы, мол, нынче новобранцы ему верили, много пользы было бы.
Подполковник выходил к залёгшей цепи, шёл вдоль неё, слегка пригибаясь, подбадривал новобранцев, пули посвистывали. Рогов решался ему крикнуть: «Да лягте же вы!» Тот иногда опустится на снег, иногда нет. Как-то сказал: дом у него в Казани, где сейчас красные. Жена и дочь в Москве, там муж дочери служит красным. Если белые проиграют, родные не примут его. «И куда мне старику?» Он погиб в цепи от пули при очередной атаке красных.
Переход в наступление
Весной 1919 года белые перешли в наступление, к Оренбургу двигались 1-й, 2-й казачьи корпуса и IV армейский корпус под командованием Бакича. 2-я стрелковая дивизия, где в 5-м Сызранском полку служил Алексей, была в составе корпуса. Красные откатывались. В иные дни они пытались остановить наступавших, тогда батареи белых открывали огонь, снарядов теперь было достаточно.
Командовать ротой, в которой был Алексей, прислали тощего стремительного поручика, солдаты «меж собой» называли его аристократом: говорили, что он из родовой знати и что чин имел повыше поручика, но был понижен за грубость высокому начальству. Ел он вместе с солдатами: когда в избе, то сажал их с собой за стол, когда в поле – садился с ними у костра. Манера говорить у него была странная: стоило его о чём-то спросить, он с раздражением, морщась, резко выкрикивал: «А?» Думали, он плохо слышит – может быть, из-за контузии, однако выяснилось, что слух у него нормальный. Приказ «в атаку!» он выкрикивал с гримасой, о которой Рогов шепнул Алексею: «Будто запах г… ему в ноздри ударил». Вперёд поручик бросался впереди солдат.
Однажды рота вошла в деревню, из которой красные, было видно, ретировались по дороге после артобстрела. Рота потянулась цепочкой вдоль длинного сарая, первыми двигались разведчики, потом поручик. Вдруг разведчик, глянув за угол сарая, кинулся назад: «Там красные! Много!» Поручик страшно гаркнул: «А-а?!», бросился за сарай с винтовкой наперевес, все услышали его команду: «В атаку!» Солдаты, также и Алексей, кинулись за ним, увидели помчавшихся прочь врассыпную красных. Оказалось, не все они ушли из деревни, за сараем притаилось не менее полуроты. Артобстрел они пережили, а голос поручика и сам он, понёсшийся на них с винтовкой, вызвал необъяснимую панику.
Мой отец рассказывал мне: никогда, мол, не забуду – мчащиеся по полю солдаты неприятеля, догоняющий их наш поручик, а за ним мы в старании не отстать.
Пушки белых выпустили несколько снарядов шрапнели, они взорвались впереди над красными, рота встала. К вечеру взяли группу пленных, один из них, коренастый, бывалый по виду, сказал: «Покажите вашего горластого офицера!» Поручик в это время в натопленной избе брился, раздевшись по пояс, отдав гимнастёрку и нижнюю рубаху постирать. Пленный вошёл, смотрит. Его спросили: увидел, дескать? Он в ответ: «Худющий, глядеть не на что» – «А что же вы рванули, сломя голову?» – «И у меня тот же самый вопрос».
Встреча с единоплеменником
Нередко пушкам белых отвечали пушки красных; после того как артиллерия умолкала, они продолжали держаться в населённом пункте. Тогда белые, в их числе Алексей, атаковали цепью. Когда до красных оставалось шагов сто, те отступали.
Части белых, наступавшие севернее IV-го армейского корпуса, в начале апреля взяли Стерлитамак, а корпус перерезал тракт Стерлитамак — Оренбург и двинулся по тракту и вдоль него к Оренбургу. Была сильная распутица, просёлки так раскисли, что солдаты шли «целиной». Ботинки у Алексея, как и у большинства стрелков, разваливались, обмотки у всех были насквозь мокрые. Солдаты на марше пели:
Пошёл купаться Уверлей,
Оставив дома Доротею.
На помощь пару, пару
Пузырей-рей-рей
Берёт он, плавать не умея...
Когда проходили через один из посёлков, было объявлено, что тут привал. Алексей и другие стрелки вошли во двор с основательными хозяйственными постройками, у каменного дома увидели дюжего справно одетого поселянина. Поручик спросил его, какой скот он может продать. «Имею продать вол», – ответил хозяин, по чьей речи стало ясно, что он немец. В то время многие немцы, жившие в России, особенно сельские, по-русски говорили плоховато. Солдаты, улыбаясь, окликнули Алексея: «Лёнька! Твой соплеменник!»
Немец оглядел моего отца, спросил, откуда он и «из кого». Отец сказал: он из Кузнецка, там у его матери булочная. Поселянин поинтересовался, где булочная находится. Оказалось, он бывал в Кузнецке. Алексей подробно ответил. Немец усмехнулся, явно не поверив, что стоящий перед ним солдатик-мальчишка в дырявой обуви, в шинелишке с заляпанными грязью полами, – сын хозяйки булочной.
Поселянин вывел из хлева вола, с размаху ударил его кувалдой по лбу – вол рухнул на колени, повалился на бок. Хозяин огромным ножом перерезал ему горло, принялся свежевать, несколько солдат взялись помогать ему.
Алексей и другие направились в дом, где хозяйка дала им хлеба с молоком. Спустя некоторое время вошёл со двора хозяин и заметил, что мой отец с вожделением смотрит на пару крепких кожаных ботинок в углу. Немец взял их и унёс в другую комнату.
Когда солдаты выходили из дома, хозяин подал Алексею знак задержаться и тихо сказал ему: «Что тебе надо искать на этой война?» Алексей ответил, что хочет жить в стране, где будут закон и порядок. Если мы не победим красных, продолжил он, они отнимут у вас дом, лошадей, коров, землю. Немец возмутился: «Ты малчышка такой говорить!» Он принёс бумагу с гербом, с печатью, в которой было записано его право на собственность. Мой отец ему напомнил, что бумага получена при царе, а царя-то нет и красные на герб и печать просто плюнут. На это немец упрямо заявил: он ничего не украл, всё то, что у него есть, он получил по наследству и честно заработал сам, «а это любой власть должен уважать».
Солдаты наелись варёного мяса; то, что не было сварено, унесли с собой в заплечных мешках, голову вола и мослы увезли в телеге.
Через разлившийся Салмыш
В середине апреля 2-я стрелковая дивизия в составе IV-го армейского корпуса подошла к речке Салмыш, которая протекала с севера на юг до впадения в Сакмару, а сейчас разлилась, превратившись в широкий бурный поток. IV-й армейский корпус должен был переправиться через Салмыш, нанести неприятелю удар севернее Оренбурга в западном направлении. 2-й стрелковой дивизии предстояло западнее города повернуть к югу и охватить оборонявшую Оренбург группировку красных.
Левый берег Салмыша, где сосредоточилась дивизия, порос смешанным лесом, это в какой-то мере служило прикрытием. Правый берег представлял собой низину, топкую, покрытую лужами, безлесную. За низиной протянулся с юга на север кряж под названием Янгизская гора.
Мой отец рассказывал о моменте, когда солдаты оживились, стали оглядываться: подъезжали всадники, один из них был Бакич, в то время уже генерал-майор. Он разговаривал со спутниками, затем обратился к стрелкам: «Мои орлы!» и объявил задание: в ближних деревнях спускать на воду лодки, сгонять к месту переправы, сооружать плоты.
Немедля взялись за дело. Собрали в ближайшей деревне по дворам топоры – кто рубит деревья, кто волоком тащит лодки к реке. Тут с Янгизской горы стали постреливать две трёхдюймовые пушки красных. Отец вспоминал: «Деревья валим, плоты сколачиваем – вдруг характерный скребущий по нервам звук. Падаем в грязь, в воздухе граната с шрапнелью как рванёт! Слышишь, что кого-то ранило, кого-то убило. Но мысль только о том, чтобы – пока другой снаряд не прилетел – работать-работать поскорее!»
Отцу запомнился возглас Рогова: «Чего начальство тянет? Бакич велел обеспечить тет-де-пон!» Позднее отец спросил, что это такое. Рогов ответил: «Полоса закрепления на той стороне. Иным словом, занятая полочка!»
В начале 20-х чисел апреля на рассвете под орудийным обстрелом, хотя не ожесточённым, стали грузиться на плоты и лодки. Со стороны белых артиллерийского огня не велось: пушек не подвезли.
На правом берегу появились красные, стали «подёргивать» тех, что «скучились на плавсредствах», огнём из винтовок. Белые с левого берега ответили пулемётным огнём; пулемётчики оказались хорошие – быстро «проредили» цепи красных, они отошли.
В этом месте через Салмыш у его впадения в реку Сакмару переправились 5-й Сызранский и 6-й Сызранский полки. Алексею досталось место на плоту. Красные стрельбу из пушек прекратили: вероятно, кончились снаряды.
Белые выслали вперёд разведку – неприятеля она не обнаружила, и далее двинулись походным порядком. Приходилось переходить вброд разлившиеся ручьи, это здорово выматывало. Потом открылось полевое пространство: «тёмная кисельная стихия».
Сакмарская
Вдали завиднелись избы, надворные постройки станицы Сакмарской, показались частые фигурки красных. Полк цепью двинулся на них. Алексей, как обычно, был в роте правофланговым, хотя Рогов предупреждал его: командиры противника, как правило, командуют – целиться в правого с краю, на нём легче сосредоточить огонь.
Так вот, вспоминал мой отец, шагах в семидесяти справа двигался вперёд левый фланг другой роты. Огонь красных стал плотнее, людей выбивало – и цепь залегла на раскисшей земле. Патроны кончались. Из тыла принесли патроны, передали роте, что залегла справа. Фельдфебель, которого недавно назначили в роту, где был Алексей, закричал соседям: боеприпасы, мол, давайте! От цепи быстро приполз солдат, притащил сумку патронов и дал Алексею – чтобы взял себе и передал остальное по цепи дальше. Алексей потом не мог вспомнить, в самом ли деле он замешкался, но только фельдфебель подскочил, матерясь: «Скорей, … твою мать!» – и ударил его прикладом, плашмя, по плечу. Сколько Алексей до того воевал – его ещё никто не ударил.
Вскоре по приказу поднялись, стали наступать на станицу перебежками – красные попятились, но затем заняли оборону. Белые атаковали, ложились в грязь, опять атаковали – измученные, вспоминал мой отец, так, что «уже не только вдали, а и вблизи всё сквозь рябь видишь».
Однако 5-й Сызранский полк занял станицу Сакмарскую после упорного боя на улицах и во дворах. Алексей, как и другие стрелки, бросал в красных лимонки – эти гранаты в Первую мировую войну поставляла в Россию Франция, они именовались F-1, метать их можно было только из-за укрытия, иначе осколки попадут в тебя же. Одну лимонку Алексей бросил из-за сарая, вторую – из-за колодезного сруба.
Красные основательно похозяйничали в станице, съестного у жителей осталось мало. Алексей, другие стрелки с жадностью хлебали постные щи, радуясь уже тому, что они тёплые, хлеба удалось поесть лишь «вполсыта» (чёрного, разумеется).
На другой день 2-я стрелковая дивизия опять наступала, но продвинулась, хотя и захватила трофеи, недалеко, за нею не имелось резервов. Взаимодействовать с ней должна была 5-я стрелковая дивизия, однако рядом её не оказалось, она ещё только переправлялась через Салмыш. Зато красные подтянули подкрепления, двинулись на станицу нескольким цепями. В течение дня станица Сакмарская шесть раз переходила из рук в руки, дошло до штыкового боя, о котором Алексею в самом начале его армейской жизни говорил Рогов. Алексей услышал команду красного командира красноармейцам: «Длинным коли!» Спас моего отца, как он мне кратко сказал, совет Рогова.
В конце концов 2-я стрелковая дивизия отошла на северо-восток в посёлок Янгизский, вернулась на левый берег Салмыша.
Хутор Архипов. Янгизская гора
Поступил приказ вновь переправиться через Салмыш. Дивизия сосредоточилась в хуторе Архипов на левом берегу. 26 апреля, чуть стало светать, Алексей, другие добровольцы начали переправляться на лодках, за ними пошёл паром со стрелками и пулемётами. Белые отбросили неприятеля с правого берега реки за протянувшийся вдоль её поймы гребень горы Янгизской, заняли позиции по гребню. Командование красных спешно направило сюда интернациональный полк, состоявший, главным образом, из венгров, пехоту из рабочих Оренбурга, артиллерийские батареи.
По позициям 2-й стрелковой дивизии открылся массированный огонь: лопалась шрапнель, в землю ударяли осколочно-фугасные снаряды, на Алексея несколько раз падали комья земли от близких разрывов.
Пехота противника скопилась в овраге под самым гребнем, склон был слишком крутым, чтобы с него пули белых могли достать цель. Красные стали взбираться вверх по склону и метать гранаты. А у белых гранат сейчас, когда они до зарезу нужны, не было. Но самое худшее – мобилизованные Колчаком крестьяне начали перебегать к противнику. Добровольцам, в их числе Алексею, не оставалось ничего, как отойти на полосу между несущим мутные воды Салмышом и подножием Янгизской горы. Отсюда стреляли в противника, который теперь был на гребне.
Красные подождали подкреплений и вместе с перебежчиками бросились в атаку, у реки разгорелась рукопашная. Те, у кого были казачьи винтовки, не имевшие штыков, пускали в ход приклады. Алексей едва увернулся от удара прикладом по голове и сумел ткнуть противника штыком в ногу, тот упал. Один из красных размахивал саблей и на глазах Алексея зарубил паренька-добровольца. Рогов заколол красноармейца штыком.
Белые на пароме раз за разом переправлялись на левый берег Салмыша. Рогов, мой отец, группа других солдат переплыли через реку в лодке. В несколько лодок с солдатами попали снаряды красных, по воде плыли обломки, за них держались утопающие. Часть белых сумела перебраться через Салмыш вплавь.
Остаток дня и всю ночь Алексей, другие добровольцы были у берега в охранении, чтобы не дать красноармейцам форсировать реку; всё время длилась перестрелка. Днём красные открыли огонь из пушек, после чего всё же переправились через Салмыш. Тогда из добровольцев 2-й стрелковой дивизии, среди которых был Алексей, сформировалась команда. Её возглавил тощий поручик, она дважды ходила в атаку и вынудила красных вернуться на правый берег.
В обороне. Второе ранение
IV-й армейский корпус, включая 2-ю стрелковую дивизию, потерявшую половину состава, был отведен на тридцать километров на северо-восток к селу Григорьевка, а несколько дней спустя направлен далее на север вдоль речки Абдул-Чебенька. С едой обстояло неважно, и стрелки, увидев в поле юрты кочевников, пошли к ним попросить поесть. Кочевники были казахами, которых ошибочно называли киргизами.
Алексей вошёл в юрту, прищурился от дыма. В полутьме горел огонь под вместительным котлом, в котором побулькивало варево. Вокруг сидели на кошме несколько мужчин, позади них различались женские фигуры. Пожилой казах пригласил солдата сесть к огню, мой отец сел, подогнув под себя ноги. Ему дали полную миску жирного супа с бараниной, и в то время как он, обжигаясь, жадно ел, мужчины сочувственно качали головами: «Ай-ай-ай…» Пожилой казах заговорил на ломаном русском: ты такой-де молодой, убьют тебя на войне. Оставайся, мол, у нас, мы тебя спрячем, невесты для тебя есть. Алексей ответил, что пошёл на войну добровольцем, воюет и сейчас по своей воле. Доев суп, поблагодарил добрых хозяев, встал. Ему положили в вещевой мешок конскую колбасу махан.
Алексей, его однополчане вырыли на невысоком холме окоп, обращённый к северо-западу. Задачей IV армейского корпуса стало в местности, где протекала Абдул-Чебенька, отражать натиск неприятеля со стороны Стерлитамака. Стрелки ежедневно встречали огнём из винтовок цепи красноармейцев. Те ложились метрах в двухстах от окопа, затем, постреляв, отходили.
В середине мая облачным тёплым днём красноармейцы атаковали упорнее прежнего. Когда их отделяло от окопа метров семьдесят, Алексей вдруг увидел, как слева от него один из мобилизованных выстрелил из винтовки в добровольца, который был с ним рядом. Тот упал. Мобилизованные закричали, обращаясь к красным: «Товарищи! Мы за вас!» Алексей выскочил из окопа и сломя голову побежал под гору в тыл. Его сильно ударило в спину, так что он перекувыркнулся. Это был выстрел кого-то из мобилизованных. Пуля угодила Алексею ниже левой лопатки, прошла по лопатке вскользь и вышла у плеча. Если бы Алексей в беге наклонялся чуть менее, пуля в аккурат пробила бы сердце.
Невдалеке перед собой он видел трёхдюймовую пушку и казаков-батарейцев. Вскочив, из последних сил рванувшись к ним, он кричал: «Предатели нас бьют!» Казаки подбежали к нему, подхватили под руки, довели до повозки около пушки. Алексей оглянулся на холм, на котором был только что в окопе. На холме уже толпились красноармейцы, с ними братались мобилизованные.
Казаки пальнули из пушки – над холмом лопнул снаряд шрапнели, и толпу рассеяло. Кто кинулся за холм, кто остался лежать убитый или раненый.
Казаки больше не стреляли, впрягли лошадей, повезли пушку в тыл. Алексея раздели до пояса, перебинтовали торс, а потом опять облачили в гимнастёрку, усадили на повозку с зарядным ящиком. В тылу его передали санитарам, и он был отправлен в госпиталь.
Вокзал в Омске
Во второй половине июля он возвратился в свой 5-й Сызранский полк, который сократился до численности роты. Во время поверки Алексей, мучаясь головной болью, выкрикнул что-то невпопад. Фельдфебель начал поверку вторично, и Алексей опять крикнул что-то не то. Фельдфебель подошёл, посмотрел ему в лицо, сказал: «Бредишь! Сыпняк». Больных тифом набралось на целый обоз, он двинулся в Челябинск. Отсюда Алексея и других в санитарном поезде повезли в Омск.
В середине сентября Алексей был выписан из омского госпиталя с документом об освобождении от службы на полгода: настолько он был худ и слаб. Никакого денежного пособия он не получил. Куда деться, где поесть? Шёл по улице, мимо проезжал на велосипеде сытого вида офицер, остановился, рявкнул: «Почему честь не отдаёшь?» Алексею в его состоянии было не до отдания чести. Офицер выругал его, укатил.
Алексей пришёл на вокзал, решив ехать в свою часть. На перроне он вдруг встретил того самого чеха, с которым познакомился в августе прошлого года на станции в Сызрани. Чех, очень обрадованный, что его знакомый столько времени провоевал и жив, повёл его к своему стоявшему на запасном пути эшелону и, как и в прошлый раз, принёс из кухни котелок пшённой каши с тушёнкой.
Судьба послала моему отцу в тот день ещё одну встречу. В здании вокзала его окликнул кто-то, он обернулся – Алексей Витун! Друзья обнялись. Витун рассказал, что он не долечился в госпитале в Оренбурге, куда попал вместе с моим отцом, и был отправлен в Челябинск. Раненых навещали сотрудники американского Красного Креста, приехавшие в Челябинск на своём поезде. Они обеспечивали госпиталь медикаментами, антисептикой, медицинскими инструментами, перевязочными средствами. Витун познакомился с американцами, после выписки занялся всякими мелкими ремонтными работами в их вагонах, и американцы оставили его у себя. Теперь их поезд в Омске.
Витун повёл моего отца в парикмахерскую, где, как рассказывал отец, «с волосами как посыпались вши! парикмахер менял простыни одну за другой». Потом Витун привёл друга в вагон, где имел купе, накормил «под завязку», напоил американским какао, угостил шоколадом и сказал: «Я с начальником поговорю – тебя тут тоже оставят. Мы скоро во Владивосток поедем, а оттуда меня обещали в Америку взять. И тебя возьмут». Алексей не знал, что сказать, тёзка добавил: «Обязательно возьмут и тебя. Ты вон какой тощий, с лица серый, а у них сострадание».
Алексей представил: он отправится за океан, а то, за что он воевал? Неужели победа невозможна? Он ответил, что должен возвратиться в свой полк. Тогда Витун дал ему денег на дорогу и ещё шоколада. Когда Алексей направился от вагона к перрону, переходя через железнодорожные пути, Витун догнал его и сунул ему в руки банку сгущённого молока, которую попросил у американцев.
Ночью мой отец уже был в поезде, который шёл на Курган к фронту. Через много лет отец, рассказывая мне об этом дне, когда Витун накормил и снабдил его тем, что получил от американцев, а ранее беспризорного солдата накормил чех, взял с полки томик Александра Грина и вслух прочитал написанное им в «Автобиографической повести» о скитаниях по Одессе: «Впоследствии я узнал, что побирающийся и безработный матрос всегда получит у иностранцев горсть белых галет, пачку табаку, кусок мяса».
На запад к реке Тобол
Курган был в руках противника, Алексей сошёл в нескольких десятках километров от города, у линии фронта, проходившей с юга на север поблизости от восточного берега реки Тобол. На железной дороге Алексей увидел бронепоезд белых «Кондор» грозного вида: паровоз, обшитый стальными листами, на бронеплощадках – два трёхдюймовых орудия, шесть пулемётов.
Алексей с попутным обозом направился на юг, где располагалась 2-я стрелковая дивизия. Она была выведена из состава IV-го армейского корпуса, передана 3-й армии. Дорога к позициям дивизии пролегала неподалёку от сёл Лопатинское, Саламатное, поблизости от деревни Хутора, озера Невидим. Всюду там в это время шли бои.
Застав свой 5-й Сызранский полк в деревне, Алексей пошёл в штаб повидаться с братом Фёдором, писарем. В штабе сказали, что Фёдор Гергенрёдер заболел тифом, и его отправили в санитарный поезд, который уезжал во Владивосток.
В полку Алексей доложил о себе новому командиру в чине капитана, потом увидел Александра Рогова, сказавшего: «К нашему наступлению вернулся!» Алексей получил винтовку винчестер (в Первую мировую войну эти винтовки производили в США под русский патрон для поставок в Россию) и английские коричневые ботинки с шерстяными обмотками цвета хаки. Рогов посоветовал остаться в старых «едва живых» ботинках, а новые положить в вещевой мешок – «скоро холода настанут, и они ой как пригодятся!»
Пока же солнце припекало почти по-летнему, летала паутина. Деревня, где стоял полк, была занята только вчера после боя с красными; на запад к реке Тобол простирались поля, пересекаемые частыми перелесками, иногда переходившими в густой лес. Рогов сказал Алексею: разведчики узнали от местных жителей, что красные, ожидая дальнейшего наступления белых, устроили засаду в лесу в том месте, возле которого должен оказаться левый фланг наступающих. «Сегодня ночью пойдём накрывать засаду», – сообщил Александр.
Как только стемнело, Алексей с другими стрелками пошёл за проводником из местных крестьян через кустарник, перелески, болотца на юго-запад. Дорога была длинная, среди ночи вошли в лес, углубились в него. Перед рассветом приблизились к поляне, Алексей увидел на ней шалаш, в котором летом ночевали, видимо, пастухи, косцы; поодаль были размётаны стога сена. Зарывшись в него, спали красные, другие спали в шалаше. Часовой выстрелил, поднимая тревогу, но было уже поздно – белые открыли огонь. Красноармейцы не успели взяться за пулемёты, которых имели несколько.
Не менее тридцати красных было убито, остальные бежали. Рогов признался Алексею: «Вчера я на тебя гляжу и думаю – какой тебе бой! ты и до места не дойдёшь».
Почти весь следующий день 2-я стрелковая дивизия, в которой вряд ли насчитывалось более восьмисот штыков, медленно продвигалась на запад. Цепь противника залегала в перелеске и из винтовок и пулемётов била по цепи белых, приближавшейся по полю. Алексей, его однополчане ложились, стреляли и снова перебежками двигались к перелеску. Красные оставляли его, отходили к следующему перелеску, повторялось то же самое. И всё время на земле оставались убитые – и белые и красные.
Алексей привыкал к новой для него винтовке винчестер. При отличных боевых качествах она была неудобна тем, что вместо расположенного сверху затвора имела скобу-рычаг внизу у спускового крючка. Чтобы выбросить стреляную гильзу, дослать патрон, взвести курок, требовалось двинуть скобу-рычаг вниз и вперёд и вернуть назад. Делать это, когда лежишь ничком, прижавшись к земле, приходилось, опираясь на левый локоть, отклоняясь влево или и вовсе опрокидываясь на левый бок.
Опасный манёвр противника
Выпал день, половину которого пришлось пролежать под артиллерийским обстрелом. Потом на помощь пришла своя артиллерия – не только трёхдюймовки, но и 48-линейные гаубицы. Неприятельские батареи ретировались.
Несколько дней спустя красные перешли в наступление. Левый фланг 2-й стрелковой дивизии доходил до озера, за которым был лес, и лишь километрах в пятнадцати к югу от него стояли части белых. Оттуда пришло сообщение, что наступающий противник обязательно пойдёт через лес, чтобы, обогнув фланг дивизии, зайти ей в тыл, в то время как другие силы красных будут атаковать её фронтально. Так вот, дивизия должна держать оборону, не обращая внимания на обход её левого фланга, в нужный момент подоспеет на конях полк оренбургских казаков и отрежет красных, заходящих в тыл дивизии, от других их частей.
Перед боем замысел «довели до сведения» стрелков. Впоследствии мой отец рассказывал мне: лежим-де в кустарнике, перед нами поле с островками леса, цепь красных приближается, мы стреляем в них, и всё в тебе ноет: «А не придут вовремя казаки? Тогда конец нам!»
Слева, с юга, донеслась стрельба, по цепи белых передалось: «Обходят!» Алексей, уже не боясь пуль со стороны атакующих красноармейцев, приподнялся, поглядел влево – множество фигурок двигалось позади фланга, вливаясь белым в тыл. Но вдруг движение фигурок замерло, они стали ложиться, ожесточённая пальба теперь неслась от леса за озером.
Казачий полк подоспел на рысях с юга в самое время, казаки в пешем строю устремились в лес и отсекли части красных, обошедшие фланг дивизии. Красноармейцы, атаковавшие её фронтально, залегли, теперь их стали с фланга обходить казаки. Цепь, в которой был Алексей, бросилась на противника, он отступил.
Отойдя на два дневных перехода, красные вновь наступали, за первой цепью двигалась вторая. По ним начала пристрелку батарея белых, пушки были установлены в селе, где на колокольню забрался наблюдатель и направлял огонь.
5-й Сызранский полк получил приказ прикрывать батарею, так как в этой местности не было плотных стыков между подразделениями белых, красные могли проскочить лесом или овражками. И их конница так и сделала: проскакав белым в тыл, появилась из леса у села, понеслась к нему, чтобы изрубить батарейцев. На огородах за плетнями поджидали стрелки, в их числе Алексей. Командир полка скомандовал: «Принять изготовку с колена!» Кавалеристы были встречены залпом, после чего стрелки повели беглый огонь. Потеряв много своих, конники умчались.
Понесла большие потери и красная пехота от меткого артиллерийского огня из села.
В последующие дни развивалось наступление белых. Чем ближе подходили к Тоболу, тем чаще встречались протоки, озерки, болотца. Перебираясь через них, Алексей и его однополчане вступали в бой, мокрые до нитки, часто приходилось стрелять, лёжа в воде. Однажды целый день длился бой в лесу, Алексей, как и другие, стрелял стоя из-за дерева, перебегал к следующему дереву.
К 1 октября он со своим полком вышел к Тоболу, добровольцами владело приподнятое настроение, они ощущали себя грозной силой. От командира полка стало известно то, что ему передали сверху: надо ждать подкреплений, чтобы продолжать наступление.
На Тоболе. Отход
Вдоль восточного берега реки тянулись окопы, вырытые белыми летом и оставленные при наступлении красных. Берег был высоким, господствовал над местностью за Тоболом, куда отступил неприятель.
Алексей увидел, что окоп выкопан в полный профиль: можно стоять во весь рост, целясь и стреляя. Белые установили пулемёты, заняла позиции артиллерия.
На участке полка командир оглядел землянку, которую летом бросили, не накрыв накатом, и приказал спилить несколько росших неподалёку деревьев. Он распоряжался работой, когда большая сосна стала падать на солдата, не замечавшего опасность. Капитан подскочил и, чтобы самому не угодить под дерево, склонился в сторону стрелка, вытянул к нему руку, казалось, лишь коснулся его пальцами – того так и бросило из-под дерева. Он растянулся во весь рост, но был спасён.
Рогов шепнул Алексею о командире: «Сила незаурядная». Среднего роста рыжеватый капитан был обычного сложения.
Каждый день завязывалась перестрелка из винтовок и пулемётов, летели снаряды в сторону красных, летели снаряды от них.
Находясь в окопе посменно, Алексей с другими стрелками уходил в деревню невдалеке позади. В этих местах у большевиков ещё не дошли руки похозяйничать, хлеб был в изобилии, жители держали много коров. Отношение к белым было неплохое. Алексей, его однополчане вдоволь ели со сливочным маслом хлеб и варёную картошку, запивали молоком шаньги с жирной сметаной.
Трапеза капитана
По какому-то делу Алексей зашёл в избу, где за столом сидел командир полка в гимнастёрке, в глаза бросились его собранность и властность, хотя занят он был самым простым делом: едой. Перед ним стояла миска с горкой только что сваренных очищенных от кожуры картофелин, над ними курился парок. Рядом в миске поменьше желтело сливочное масло, стояли солонка с крупной солью, кружка молока, лежал нож. Капитан, взяв его правой рукой, левой брал картофелину, рассекал пополам, одну половинку аккуратно ронял в миску, а на срез другой половинки, подхватив кончиком ножа масло, наносил его так, что оно покрывало весь срез. Положив нож, брал щепотью соль и, посолив масло на картофелине, отправлял её в рот; жуя, отпивал из кружки молоко.
Все движения капитана были размеренны, точны, вид строго-бесстрастен – мой отец запомнил сцену на всю жизнь и не раз описывал мне её. В ней была красота. Придёт время, он увидит репродукцию картины Ван Гога «Едоки картофеля» и подумает – написал бы Ван Гог нашего капитана! И была бы картина где-нибудь в Лувре!
Сибиряков надо знать
Солдаты приметили, что местные люди носят обувь вроде тапок из шкуры коровы или лошади шерстью внутрь, звалась обувь «поршни». Мой отец спросил мужика: «И зимой в этом ходишь?» Мужик хмыкнул: «В мороз обуть – стопа камнем станет». Снисходительно усмехаясь, добавил: не видали, мол, нашего мороза, а думаете при нём воевать (подобное Алексей слышал от возчика в Оренбурге).
Сибирские крестьяне и жили в суровых условиях и, в отличие от крестьян европейской России, привыкли к самостоятельной, без надзора начальства, жизни, не голодали, характер имели независимый. Многие не признавали право Колчака проводить мобилизацию, посылать их на смерть. Цель, ради которой воюет Колчак, оставалась для них неясной, они не знали, что их ждёт в случае его победы.
Прибыло пополнение, но тут же стало таять: мобилизованные исчезали, унося с собой винтовки. Приходили известия, что в тылу по всей Сибири собираются партизанские отряды.
14 октября красные двинулись в наступление и южнее позиций 2-й стрелковой дивизии, ударив в стык с соседней частью белых, переправились через Тобол. Дивизия отошла на шесть километров на восток. Стало известно, что на фронте к северу соседи ведут тяжёлые бои и тоже отступают.
Когда день спустя с запада приблизились цепи красноармейцев, дивизия после недолгой перестрелки продолжила отход. Потом были попытки удержать оборону, но как только красные после артиллерийской подготовки, идя перелесками, врезались клиньями в участки фронта, белые откатывались. Дезертирство росло.
За Ишим на восток
Становилось всё холоднее, лили дожди, подул пронизывающий ветер. Алексей обул новые английские ботинки с шерстяными обмотками. С каждым днём нужно было проходить всё большее расстояние. Показалась река Ишим, через неё переплыли на лодках, и началась было подготовка к обороне – рытьё окопов. За участком фронта, который должна была занять 2-я стрелковая дивизия, вернее, её остатки, поблизости не оказалось населённого пункта, и всем стало ясно, что в наступающую зиму не продержаться в окопах без возможности погреться под крышей.
29 октября белые оставили Петропавловск. Алексей в числе других солдат опять шёл на восток. Отступающие части теряли порядок, когда в казачьей станице или в деревне устраивались на ночлег. Говорили о каком-то переформировании, о том, что соединение, в котором отступают остатки 2-й стрелковой дивизии, получило название: Московская группа армий.
Слово «московская» вызвало у Алексея мысль, которой он поделился с Александром Роговым, напомнив ему о войне с Наполеоном в 1812 году: «Мы похожи на французов, топавших из Москвы». Рогов усмехнулся.
Грязь разбитой дороги ночами прихватывал морозец, идти стало легче. Среди солдат распространилось настроение: надо оторваться от противника, а там с востока придут свежие силы, задержат красных, мы передохнём и ударим!
Пришли на железнодорожную станцию Исилькуль. Алексей увидел высаживавшихся из эшелонов солдат, которые выстраивались под хоругвями, оркестр заиграл «Коль славен наш Господь в Сионе…» Оказалось, что прибыла добровольческая дружина Святого Креста и Полумесяца, ожидались ещё дружины. Говорили, что они должны будут образовать фронт и не пустить красных к Омску, столице Белой Сибири.
Однако никто не задержался в Исилькуле, отступавшие потоком текли вдоль железной дороги к Омску, следом за стрелками, с которыми шёл Алексей, отправилась и дружина.
Однажды утром впереди раздались крики – от отступавших требовали освободить дорогу. Алексей, его однополчане подались в сторону в поле. Навстречу по дороге прошли войска в отличном обмундировании с зелёными погонами. Алексей услышал, что это образцовые батальоны егерей, опора и гордость Колчака. На душе полегчало: они остановят красных, бег на восток прекратится, будет передышка, а там и контрнаступление.
Пока же отход не прекращался. Ударил мороз, сократившаяся до нескольких сот штыков 2-я стрелковая дивизия перешла по льду Иртыш. Дороги в Омск оказались забиты повозками, санями, пешим гражданским людом и военными – всеми теми, кто спасался от большевиков. Стрелки дивизии, в их числе Алексей, огибали в потоке отступавших Омск, когда стало известно, что в городе уже красные. Колчак, его штаб на поездах уехали на восток. Была середина ноября.
От Омска до Ново-Николаевска
Вскоре Алексей услышал о том, что генерал Войцеховский застрелил генерала Гривина за то, что тот самовольно приказал своим частям отступить и открыл фронт.
Алексей, другие отступающие двигались по тракту вдоль железнодорожной линии на Каинск. Изо дня в день становилось морознее, сыпал снег. Участки степи перемежались небольшими массивами березняка, смешанного с осинами, нередко приходилось идти не по тракту, а рядом равниной – тракт бывал запружен обозами с ранеными, больными тифом, с беженцами. По обочинам лежали умершие.
В деревнях оказывалось всё труднее устроиться на ночлег – избы бывали уже заняты. И поесть мало чего найдёшь – после тех, кто прошёл тут раньше. Стали встречаться деревни, где избы были как бы составлены из двух изб, расположенных справа и слева от сеней. Рогов сказал: «Так строят старые сибиряки». Входя, он обращался к хозяевам: «Чалдоны, принимайте волгарей!»
В Каинске получили на полк несколько ящиков американских галет. На станции царила толчея, люди в военной форме и гражданские пытались сесть на поезд, а поезда стояли один к одному – по всей железной дороге до горизонта.
Алексей с остатками 5-го Сызранского полка пошёл дальше на восток к Ново-Николаевску (Новосибирску). Солдаты были истощены, измотаны, вши ели поедом, всё время кто-нибудь отставал по пути – у одних уже недоставало сил идти, другие собирались сдаться в плен.
Пришла весть, что егеря заняли оборону перед Барабинском и на сей раз остановят красных.
Солдаты Московской группы армий, среди них мой отец, получили приказ встать против неприятеля фронтом южнее Ново-Николаевска. Остановились в селе, полном войск, и вдруг Алексей, его спутники увидели: те, кто пришёл сюда раньше, уходят из села на северо-восток, по направлению к железной дороге. Вскоре прилетело сообщение, что егеря после боя отступили.
Капитан, командовавший 5-м Сызранским полком, всех, кто ещё был в селе, повёл за ушедшими ранее. По дороге узнали об оставлении Ново-Николаевска, это произошло 14 декабря. Незадолго до того моему отцу исполнилось семнадцать лет. За месяц он прошёл шестьсот километров, отделяющих Ново-Николаевск от Омска.
Мороз, голод, партизаны
Изнурённые солдаты искали виновника их страшных лишений, беспорядочного отступления, переживаемого развала армии и с радостью узнали, что Сахарова на посту Главнокомандующего сменил генерал-лейтенант Каппель. Александр Рогов сказал Алексею: «Теперь мы – каппелевцы!»
У тех солдат, среди которых был Алексей, генерал-майор Сахаров не пользовался уважением. А Владимир Оскарович Каппель запомнился победами на Волге летом 1918 года. Мой отец говорил мне: «Нам не на кого было надеяться, кроме как на Каппеля». Кто-то в войсках знал девиз времён Рима: «Идущие на смерть приветствуют тебя, о Цезарь!» Девиз перефразировали, и распространилось «Ведомые сквозь смерть приветствуют тебя, о Каппель!»
Отступающие при морозе, который стал нещадным, лентой тянулись по дороге, она углубилась в тайгу, слева и справа высились деревья, меж них выросли сугробы: трудно сворачивать и обходить сбившиеся в заторы запряжки, брошенные сани, пушки. Отдельные группы всё же чуть отходили от дороги и, пытаясь согреться, разжигали костры, к ним начинали пристраиваться «чужие», раздавалась ругань.
Алексей шёл с теми, кого знал по 5-му Сызранскому полку: то были добровольцы, воевавшие с лета 1918 года, со времени возникновения Народной Армии КОМУЧа. Командовал неутомимый «двужильный» капитан, он нёс в заплечном мешке деньги полковой кассы. Где теперь остальные солдаты 2-й Сызранской стрелковой дивизии, Алексею уже было неведомо. Державшихся вместе добровольцев он мысленно называл «наша часть», хотя числом они не дотягивали до того, чтобы называться воинской частью.
Когда они, двигаясь к Красноярску, входили в какую-нибудь деревню, хлеба у жителей уже не оставалось, капитан совал деньги, и крестьянки пекли солдатам лепёшки из наскоро приготовленного пресного теста. Калачи со сливочным маслом, шаньги со сметаной остались мучающим воспоминанием.
Было известно, что за грабёж могут расстрелять. Идущий по дороге Алексей однажды видел, как к проехавшим вперёд саням подскакал казачий офицер. В санях сидело несколько солдат. Офицер выхватил из кобуры наган, закричал: «Вы сейчас лошадь в селе забрали?» Солдаты принялись объяснять: «Нет, господин сотник, мы на этой лошади вторую неделю едем, она от кавалерийского дивизиона». Офицер объявил во всеуслышание: «Найду, кто лошадь забрал, – убью! Не хватало, чтобы всё население стало против нас!»
О нападениях партизан слышали постоянно. В один из дней Алексей и его «часть» увидели впереди группу солдат, к чьим папахам сбоку были прикреплены еловые веточки – оказалось, это знак сибирского «таёжного» патриотизма, солдаты были сибиряками. Ими командовал капитан, который обратился к капитану сызранцев: недалеко от дороги в тайге партизаны заняли деревеньку и оттуда нападают. Не поможете их уничтожить?
Добровольцы со своим капитаном, в их числе Алексей, согласились. К деревне можно было пройти просекой, но проводник сибиряков знал кружной путь, более длинный. Капитан добровольцев заявил: «Некогда нам вкруговую ходить, пойдём просекой!»
Двинулись вместе с сибиряками по просеке, тайга расступилась, вот и избы. Морозно, и из труб столбами поднимается дым. Алексей со своими побежал за капитаном к избам, двери стали распахиваться, защёлкали выстрелы. Белые не остановились. Мой отец рассказал мне: «После всего перенесённого была такая ожесточённость, что идёшь на пули во весь рост». Стрелять начали навскидку с короткого расстояния. Партизаны бросились из изб в тайгу, добежать до неё удалось отнюдь не всем. Алексей среди убитых партизан увидел на двоих странно рыжие шапки и штаны, ему объяснили, что они – из телячьих шкур.
У добровольцев один убит, один легко ранен, у сибиряков – двое тяжелораненых.
В избах повезло поесть щей; кроме того, у жителей оказался запас мороженой рыбы. Капитан заплатил, и Алексей, как и другие, унёс в вещевом мешке две рыбины. Возвратились на тракт, после часа-другого ходьбы разожгли костёр, Алексей разрезал рыбины по брюшку на половинки, испёк их вместе с внутренностями на угольях и съел всё, оставив лишь чешую, обсосав косточки.
Красноярск. По льду Енисея
И снова переход за переходом сквозь тайгу, ночёвки в избах, где измученные солдаты лежали вповалку на полу на соломе. Начался январь 1920 года, в ботинках не простоишь и четверти часа, только ходьба спасала ноги от обморожения.
Приблизились к Красноярску. С железной дороги, вдоль которой тянулся тракт, кто-то принёс весть: в Красноярске – измена, в город впустили отряды красных партизан. Вскоре узнали больше: передовые части Красной армии, войдя в Красноярск раньше белых, соединились с партизанами.
Алексей, его спутники-добровольцы во главе с капитаном ранним утром пошли в обход Красноярска на восток. На дороге и поодаль стояли большими скоплениями те, кто, видимо, собрался сдаться в плен красным. Впереди показалось неширокое открытое заснеженное пространство, с него стала видна в стороне городская окраина, оттуда понеслись выстрелы, в морозном туманце различились фигурки стреляющих. Добровольцы продолжали скорым шагом идти по дороге, вблизи чаще и чаще посвистывали пули. Капитан приказал дать залп с колена по красным. Тут их группа появилась и на дороге, открыла огонь. Капитан вёл своих прямо на неё. Алексей и другие по команде стреляли стоя и вновь шли на противника. Красные рассеялись.
Некоторое время спустя добровольцы застали в маленьком посёлке колонну белых, которые, как они сказали, миновали Красноярск также под обстрелом, сдаваться они не намерены, идут на Иркутск. Вместе с ними Алексей и его часть пришли в большое село Чистоостровное, сюда подтягивались колонны белых, обогнувшие Красноярск другой дорогой.
Движение продолжилось по льду Енисея, местами занесённому снегом, местами – чистому, по льду реки Кан. Вдоль берегов стояла невиданно суровая тайга. Несколько суток не встречалось жилья, ночевали под открытым небом у костров. Повезло, что попалась замёрзшая туша лошади, – Алексей и другие, отрезав от неё куски, питались строганиной, хлеба негде было достать.
Перед станцией Канск узнали, что власть там взяли восставшие против Колчака и требуют сложить оружие. Добровольцы, Алексей среди них, вместе с другими белыми с ходу пошли в бой – после первых же выстрелов красные уступили дорогу.
Она по-прежнему пролегала через первозданную тайгу. Алексей видел ели такой невероятной высоты, лиственницы столь могучие, какие представлял в детстве, читая романы Фенимора Купера о североамериканских индейцах. Деревья казались непоколебимыми часовыми величия, маня духом непобедимости.
Лента отступающих двигалась вдоль железнодорожной линии, всё так же путь преграждали скучившиеся запряжки, всё так же разносилась ругань схватившихся из-за места у костра, в деревнях набивались в избы, просили и требовали у жителей поесть. Ходили слухи о расстрелах за грабежи населения, за то, что с тепло одетых беженцев снимали одежду. Алексей и его спутники-добровольцы не позволяли себе никаких, как они выражались, «недоразумений», выделялись спайкой в общем потоке.
Лютовали морозы, Алексей оттирал занемевший нос снегом. Переход следовал за переходом, и одолевать их без полноценного питания было неимоверно трудно. Однажды капитан увидел уходящую от тракта в тайгу узкую дорогу, повёл по ней, сказав: «Чего-нибудь найдём».
Вышли к хутору: всего три избы, но большие, добротные, кругом – хозяйственные постройки. Около одной стоял кряжистый бородач сурового вида в лисьем треухе, истый сибиряк, с длинным ножом в руке. Оказалось, он только что разделал тушу зарезанной коровы. От денег, выпущенных правительством Колчака, он отказался, но в заплечном мешке капитана нашлись царские ассигнации, к которым крестьянин отнёсся совсем иначе. Капитан заплатил столько, сколько тот запросил.
Крестьянки принялись варить еду, а добровольцы набились битком в три избы, выставили часового, повалились замертво кто на лавку, кто на пол на тулуп, на попону или на солому и до вечерних сумерек спали непробудно, настолько все были вымотаны.
Поднявшись, набросились на варёное мясо, ели, сколько влезет, и снова заснули. Однако чуть свет были уже на ногах, и тут ждала поистине неожиданность. Сибирячки с вечера наварили щей с говядиной, в разной посуде выставили на ночь на мороз. Превратившиеся в лёд щи поразбивали на одинаковые куски, завернули их в отрезки рядна и раздали солдатам. У каждого вещевой мешок оказался набит порциями замороженных щей.
Когда после трёхчасового перехода остановились в попавшейся на пути деревне, то попросили у хозяек лишь горшки, вытряхнули в них по куску льда из рядна и немедленно поставили на огонь. Впоследствии мой отец говорил мне, что от первой же ложки горячих щей захотелось запеть.
Почти неделю подкреплялись щами из вещевых мешков, а там снова – недоедание, поутру – тошнота от пустоты в желудке. Непомерно тяжёлой казались винтовка и сохраняемый небольшой запас патронов.
Смерть Каппеля. Не остановите!
Перевалил за середину январь. На пятки наступала Красная армия, по сторонам и, как слышно, впереди множились красные повстанцы. Были получены сведения, что они в Нижнеудинске, до которого один переход. Алексей, его спутники приближались к станции, готовые к бою, видели стоявших поодаль от тракта людей с винтовками – кто одет по-крестьянски, кто в военной форме без погон, но все в валенках. Люди следили за проходящими, не стреляли.
Каппелевцы, пройдя без задержки Нижнеудинск, двигаясь дальше на восток, узнали, что впереди сосредотачиваются силы партизан, в Иркутске уже их власть, что генерал-лейтенант Каппель, ведя армию на повстанцев, обморозил ноги, заболел воспалением лёгких и умер. Говорили, что преданные солдаты в голове колонны несут на носилках его замёрзшее тело. «Ведомые сквозь смерть приветствуют тебя, о Каппель!» Армию возглавил генерал-майор Сергей Николаевич Войцеховский.
В один из последних дней января на подходе к станции Зима добровольцы, в их числе Алексей, получили по сто патронов. Алексею и другим сказали, что из Иркутска на станцию Зима отправлен поездами крупный отряд партизан, его необходимо разбить, чтобы идти далее.
Часть, в которой был Алексей, двинулась к станции в колонне войск, по сторонам тракта ширились вырубки, впереди открылись снежные поле и возвышенность с домиками на ней. Раздалась команда: «От середины в цепь вправо!» Наступать пришлось по снегу, в который нога уходила почти по колено. С возвышенности зачастили выстрелы, а вот и характерное та-та-та пулемёта. В цепи вскрикнул один, второй раненый. Добровольцу, который шёл слева от Алексея, пуля попала в горло, солдат упал навзничь на снег, кровь так и брызнула, руки, ноги дёргались.
Пули рвали морозный воздух – залечь невозможно, окоченеешь в снегу и не встанешь. Справа высились сосны, ели, которые обошёл топор дровосека: Алексей и наступавшие вместе с ним солдаты по команде устремились под защиту деревьев. Около них уже был приземистый полковник с белыми от изморози усами, он, энергично шагая по снегу, хрипло крикнул, под свист пуль, добровольцам: «Не кланяться, молодцы!» Александр Рогов крикнул в ответ: «Кланяться мы забыли, господин полковник!»
На возвышенности из-за домиков показывались красные – все в полушубках и наверняка в валенках. Можно было заметить и тех, что стреляли, лёжа за сугробами. Алексей, его сослуживцы вели по ним огонь из-за деревьев, подвигались вперёд перебежками. Стужа проникала под шинели, нужно было как можно скорее добраться до домиков.
Пошли в атаку по склону, который становился всё круче, на миг упав на колено, стреляли в залёгших на холме. Хотя они и в полушубках, а долго тоже не полежишь.
Белые подвигались в гору слева и справа от Алексея, немало солдат шло позади. Красные, вскакивая, подавались к домикам, стреляли из-за них. Алексей в цепи атакующих выбрался на холм, били в красных с расстояния не более пятидесяти метров. Когда и оно сократилось, партизаны стали отбегать за посёлок в ельник по другую сторону холма.
Алексей, несколько других добровольцев вбежали в избу – ожидали контратаки партизан, готовые стрелять в них из двери, из окон. Меж тем в тылу красных раздавалась густая пальба. Вскоре с юга, где наступал правый фланг белых, прискакал казак, крикнул: «Красные разбиты!» Тут только Алексей ощутил, как дрожит от холода – аж зубы стучат.
Этот бой произошёл в трёх километрах к западу от станции Зима.
(Уже позднее Алексей узнал: командование чехословаков, которые контролировали железнодорожную линию, признало Иркутский Совет, взявший в городе власть 24 января. Совету, куда, помимо большевиков, вошли выступавшие против Колчака эсеры и меньшевики, было разрешено направить отряд на станцию Зима против идущих на Иркутск белых, преследуемых Красной армией. Через два часа после начала боя командир одной из чешских частей приказал ударить по отряду с тыла, большинство красных сдались в плен. Их отпустили по распоряжению чешского командования, но лишь тогда, когда путь к Иркутску для белых был открыт).
Станция Зима. Черемхов
День спустя после боя Алексей и его часть застали на станции Зима бойко торгующий рынок. Прохаживались одетые в новую отличную форму чехи с винтовками, наблюдали за порядком. Александр Рогов сказал: «Глядите – у них трофейные австрийские винтовки последнего образца!» И объяснил, что эти винтовки «манлихер» отличаются от всех других с продольно-скользящим затвором тем, что для выстрела затвор нужно двинуть не назад, вперёд и вправо, а лишь назад и вперёд. Выигрыш в скорострельности.
Были чехи и среди множества покупателей. Алексей увидел также солдат и офицеров в иностранной форме других видов. Рогов пояснил, что это поляки и румыны.
Все приценивались, торговались, покупали мясо, мороженую рыбу, сушёные грибы, тёплые вещи. Продавалась среди прочего тёмно-красная медвежатина, её Алексей видел впервые. Продавец предупреждал, что из медвежьих лап «студень не варится». Возглавлявший добровольцев капитан купил бы медвежатину, но, во-первых, её негде и некогда было варить, а, во-вторых, у продавца её не осталось столько, чтобы хватило на сорок с лишним ртов. Капитан купил по фунту свиного сала и по четыре диска замороженного молока на каждого.
Продолжился поход по Сибирскому тракту на восток. Иногда оказывалось известно расстояние между пунктом, откуда вышли на рассвете, и тем, где остановились на ночёвку. Расстояние, по словам капитана, бывало – более сорока километров. Когда днём по пути встречалась деревня, в ней чуть задерживались, чтобы погреться, перекусить. Алексей, войдя в избу, следовал совету, который в своё время ему дал Александр Рогов: ложился на пол навзничь, задирал ноги, прислонял их к стене. Кровь отливала от ступней, становилось легче идти дальше.
По-прежнему повторялись дни, когда нечем подкрепиться. Раз утром, поднявшись, Алексей почувствовал, что идти нет сил. Хозяйка дала ему и другим по куску сушёной лепёшки. Алексей потом вспоминал: «От этого кусочка сухаря я ожил». Очередной переход был осилен.
Достигли станции Черемхов. Алексей здесь увидел японцев в шинелях с меховыми воротниками, ему сказали, что это волчий мех. На шапках у японцев были красные звёздочки вместо кокард.
Привокзальную площадь пересекала группа военных, которые следовали за подтянутым генералом. Алексей заметил, что у него худое строгое, властное лицо. То был тридцатисемилетний генерал-майор Сергей Николаевич Войцеховский.
Алексей услышал, что Войцеховский отдал приказ наступать на Иркутск, и, вероятно, предстоят бои с красными, возглавляемыми Иркутским Советом. Было известно, что чехи передали Совету Колчака.
Иркутская тюрьма. У красных
Алексей со своей частью дошёл до станции Иннокентьевская вблизи Иркутска, и тут у него «всё замутилось перед глазами». Возвратный тиф уложил его в здании вокзала, винтовку, патроны у него забрали. Несколько суток он провёл «валяющимся на полу» (его выражение). Кто-то снял с него английские ботинки с шерстяными обмотками и надел ему на ноги свои развалившиеся.
Белые ушли из Иннокентьевской, чтобы, обогнув Иркутск, перейти по льду Байкала на территорию, контролируемую атаманом Семёновым и японцами. Иннокентьевскую заняли силы Иркутского Совета. Алексея отвезли в тифозный барак, в котором он выжил, и его отправили в Иркутскую тюрьму.
Она была полна белых, попавших в плен. Их выводили на лёд Ангары – колоть его и выпиливать из глыб правильной формы кубы. Из них пленным было велено построить арку для торжественной встречи подходившей с запада V армии красных.
С её приходом пленными занялось следствие. Их по одному стали выводить из камер на допрос. Следователей интересовало, по какой причине ты оказался у белых, не знаешь ли, кто настроен непримиримо к большевикам, зло высказывался о них. А, может-де, тебе известно, кто расстреливал пленных красных?
Алексея водили на допрос дважды. В первый раз допрашивал мужчина, положивший на стол перед собой наган. Испытующе глядя в глаза, следователь опускал ладонь на револьвер. Во второй раз вопросы задавала женщина в гимнастёрке, наган также лежал на столе около её руки. Алексей говорил, будто белые его мобилизовали. Опровергнуть это было некому – тех, кто его знал, в тюрьме не оказалось. Что касалось других вопросов, то он отвечал: «Не слышал. Не знаю».
От сокамерников он время от времени узнавал, что «выявили» такого-то и такого-то. Алексей их больше не видел.
Хлеба в тюрьме выдавали по кусочку, с запасами муки в городе было туго. Зато имелись запасы солёного омуля, и заключённых изо дня в день кормили супом с жирным омулем, так что «есть его стало нельзя, не морщась». Однажды мы с отцом смотрели фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», и я толкнул отца в бок, когда таможенник Верещагин сказал жене: «Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я её каждый день, проклятую, есть!» Отец рассмеялся: «Ну да, представляю!»
Во дворе тюрьмы, который заключённые очищали от снега, Алексей видел Анну Тимирёву, гражданскую жену расстрелянного Колчака. Она в дамских ботиках по талому снегу носила в здание дрова. Что с ней стало впоследствии, осталось неизвестно моему отцу. О расстреле Колчака передавали шёпотом: тех, кто должен был его расстрелять, разозлило, как бесстрашно он держался, и его живым толкнули в прорубь.
За отцом ничего не нашли. Следствие к тому же учло, что ему всего семнадцать лет – «белое зверьё несовершеннолетнего мобилизовало!» И после трёх месяцев заключения его отправили в лагерь на работы, а затем мобилизовали в Красную армию. Он стал рядовым караульного полка ВНУС (внутренней службы) и был поселён в одной из казарм на Петрушиной горе на правом берегу Ангары.
Шло лето 1920-го. Запасы омуля, по-видимому, съели, другого продовольствия подвозили мало, наступила голодная пора. Красноармейцам выдали новое обмундирование, и мой отец выменял на штаны ведро картошки. «Сварю котелок, съем – а голодный! – рассказывал он мне. – Варю ещё, ем, потом ещё. За день прикончил всё ведро, живот набит – не могу нагнуться шнурки на ботинках развязать. А голодный всё равно».
Сказывалось отсутствие жиров. В скудной пище, которую давали, недоставало и витаминов. У Алексея и у других красноармейцев началась цинга – стали кровоточить дёсны, шататься зубы. А начальство не догадывалось организовать ловлю рыбы сетями в Ангаре, устроить поход в лес за черемшой. Черемша – первое средство против цинги.
Голодные страдающие цингой солдаты несли караульную службу. Алексей охранял Иркутскую тюрьму, в которой недавно сидел.
Старый друг
В караульном полку имелся клуб под названием «красный уголок», куда поступали советские газеты, брошюры и где висели портреты Ленина, Троцкого, а также агитационные плакаты. Алексей приходил сюда играть в шахматы. Однажды в клуб вошёл командовавший бронепоездом бывший красный моряк Яков Федоренко, который впоследствии станет маршалом Советского Союза. Алексей как раз выиграл партию у другого солдата – Федоренко это увидел, подошёл, сел: «А ну-ка сыграем!» Алексей стал выигрывать. Федоренко весь напрягся, глаза налились кровью. «Я струхнул, – рассказывал мне отец, – и поддался». Лицо будущего маршала выразило облегчение. «Мат тебе! – бросил он удовлетворённо. – Но играл хорошо!»
Вскоре после этого, собираясь около своего места в казарме на караул, Алексей услышал за спиной: «Говорят, ты хорошо в шахматы играешь». Он обернулся и обомлел – перед ним стоял Александр Рогов в солдатской форме. Рогов прикусил губу, давая понять, что надо помалкивать. «Я теперь тут служу», – сказал и отошёл.
Позже, когда Алексей был во дворе, а рядом никого, Рогов подошёл, сообщил, что «пришёл из ДВР с хорошей характеристикой», добавил: не надо, мол, ни о чём расспрашивать, ни о чём вспоминать. «Всё, что нужно, я сам буду говорить».
ДВР – Дальневосточная демократическая республика – создалась в мае 1920 по договору с кремлёвским правительством как буферное государство, чтобы избежать столкновения с японцами. У власти в ДВР стояли придатком к большевикам крестьянская фракция, немного эсеров, меньшевиков и некоторых других политических образований. ДВР просуществовала до 15 ноября 1922 года – дня включения в состав РСФСР.
Когда Александр Рогов появился в казарме на Петрушиной горе, в ДВР не входили Чита, Хабаровск, Владивосток. Там были японцы и белые. Западная граница республики проходила немного восточнее Иркутска.
Алексей предположил, что Рогов прибыл от белых как разведчик, в ДВР заявив о желании служить в Красной армии. Он остался под своей фамилией, и это было резонно. Встреться ему кто-то из знавших его, то что о нём можно было сказать? Служил у белых, как многие служили. В расстрелах не участвовал. А вот если бы его узнали под чужой фамилией, была бы серьёзная зацепка.
Он быстро обзаводился приятелями среди красноармейцев, поддерживал жалобы на то, как приходится голодать. В «красном уголке» играл с Алексеем в шашки, что давало возможность поговорить. Так, Рогов сказал Алексею, что у него есть прокламации из перепечатанных выступлений Максима Горького зимой 1917-18 гг. в газете «Новая Жизнь», потихоньку давал прокламации почитать. Для вида играя с Алексеем в шашки, Рогов называл большевиков «большачками». Он сказал: «Просрались большачки со своим коммунизмом. Везде, где они, голод страшный. Неизбежно должен народ восстать». Также напомнил: «Атаман Семёнов в Чите. Дутов с отрядом в Китае у границы. И у нашего Бакича отряд. Мы ещё отыграемся».
Однажды Алексей, сдав пост, возвращался в казарму, у входа его обогнала группа людей. Он вошёл в помещение своей роты и увидел, что эти люди там. Все красноармейцы стояли, чувствовалось беспокойство. Потом люди ушли. Красноармеец по фамилии Свинухов, бывший пленный, который общался с Роговым, шепнул Алексею: «За Роговым пришли, а его нет. А только что тут был».
В октябре моего отца перевели в писари, он и другой писарь по фамилии Пашовкин получили комнату в бывшем доходном доме, забранном у купца. В те дни был совершён побег из Иркутской тюрьмы. Отцу рассказали следующую версию побега. Белогвардейских офицеров, которых ждал приговор к расстрелу, вывели на прогулку в тюремный двор, было их человек десять или больше. У одного из них оказалась бритва, очевидно, переданная ему кем-то из охраны. Офицер бросился на караульного, перерезал ему горло, все кинулись к ограде. Возле неё в траве лежала кем-то заранее принесённая лестница. Офицеры приставили её к ограде, стали перелезать. По ним открыли стрельбу, нескольких убили, остальные убежали.
Мой отец был уверен, что Рогов участвовал в подготовке побега. Позднее отец встретил его на улице. Рогов в пальто, держа руки в карманах, шёл по другой её стороне. Он вынул правую руку из кармана, согнул в локте, поднял к переносице и ребром ладони как бы рассёк перед собой воздух ото лба книзу, словно открывая путь вперёд. Прошёл, не останавливаясь, не поворачивая головы.
Находка. Кошовочники. Двойники
Я упомянул, что мой отец и писарь Пашовкин получили комнату, раньше в ней жила одинокая старушка, недавно умершая. Всё в комнате покрывала пыль, ею заросла люстра. Мой отец встал на табуретку, стал снимать люстру, чтобы протереть, и вдруг из неё свесилась цепочка. В люстре оказались золотые часы. О такой удаче только мечтать! На часы выменяли на рынке довольно много сала, засолили его, стали добавлять к рациону, и цинга прошла. Алексей и Пашовкин заводили знакомства с девушками, устраивали с ними «чаепития» и сами ходили к ним в гости.
В свободное от службы время красноармейцам разрешали посещать Иркутский драматический театр, чьё здание восхитило Алексея архитектурой. Кругом царили разруха, красный террор, голод, а театр жил. Коммунисты вообще отводили театру наряду с кино огромную роль в пропаганде, они организовывали массовые театральные представления, и 1 мая 1920 моего отца, тогда ещё арестанта, привлекли, как и других признанных неопасными арестантов, к участию, вместе с тысячами людей, в грандиозном действе «Борьба труда и капитала». Так что отец, таким образом, был как бы уже приобщён к театру.
Отца захватывали постановки «Потопа» Хеннинга Бергера, «Принцессы Турандот» Карло Гоцци – пьесы, в которой он бывал, опять же, статистом, изображавшим с другими переодетыми красноармейцами жителей Пекина.
В январе или феврале 1921 года Алексей тёмным вечером шёл из театра к себе на квартиру. В ту пору по Иркутску ходили слухи о бандитах, называемых кошовочниками. Они ездили ночами на санях-кошовках и, заметив одинокого прохожего, приближались к нему, набрасывали на него аркан, после чего гнали лошадь, волоча несчастного за собой. Затем его добивали и раздевали.
Так вот, мой отец, идя безлюдной улицей вдоль высокого забора, услышал позади конский топот, скрип саней. Он отпрянул к забору, плотно прижался к нему спиной и затылком, чтобы нельзя было ему на голову набросить петлю. Сани поравнялись с ним, в них сидели трое. Один весело крикнул: «Ишь, хитрый! А будь на тебе шуба, думаешь, спасся бы?!» Раздался раскатистый хохот, кошовка унеслась.
После этого довольно долго не удавалось посетить театр, и вдруг красноармеец Свинухов шепнул Алексею с таинственным видом: «Рогов играет в театре!» Алексей, поражённый, молчал. Свинухов прошептал: «Его видели, кому можно верить!»
Лишь только выдался случай, мой отец и Свинухов поспешили на спектакль. На сцену вышел актёр, игравший второстепенную роль. Рогов! В самом деле он! Дождались антракта, побежали за кулисы – актёр оказался не Роговым.
Какое-то время спустя знакомые красноармейцы поведали, что Рогов – проводник в московском курьерском поезде. Алексей и они ходили удостоверяться, нашли проводника – разительно похожего на Рогова, но и только.
В разгар лета 1921 года политработник, навестивший караульный полк, рассказывал на занятиях красноармейцам, как успешно идёт борьба с «белогвардейскими недобитками», «организаторами восстаний» и, в частности, сообщил, что в тайге захвачена банда, которую возглавлял матёрый контрреволюционер Рогов. Он расстрелян. Сидевший на занятиях рядом с моим отцом Свинухов побледнел. И спросил политработника: «Он из кулаков был?» Политработник ответил: «Он был есаул, каратель из подручных атамана Красильникова».
После занятий Свинухов сказал Алексею: «Слава Богу, не наш Александр».
Бежица. Служба в милиции
Когда мой отец стал красноармейцем, он послал письмо матери в Кузнецк. О том, что с ним происходило, не писал, а только сообщил, кто он сейчас. Мать ответила, что Маргарита вышла замуж за лесничего по фамилии Смарагдов, который взял к себе в дом её и младших сыновей. О Фёдоре, написала мать, вестей нет, о Павле была ужасная весть. Владимир, к счастью, живёт благополучно.
Владимир, в своё время поступивший в Харькове в Технологический институт, в Гражданской войне не участвовал, он страдал язвой желудка. Шахматист, он в кафе играл в шахматы на деньги и жил на выигранное. С окончанием войны стал инженером-технологом на паровозостроительном заводе «Красный Профинтерн» в посёлке Бежица около Брянска, был оценён как специалист, получил комнату. Хедвига Феодоровна написала Владимиру об Алексее, после чего Владимир позвал его к себе в Бежицу. Мой отец счёл, что будет лучше поехать туда, нежели возвращаться в Кузнецк, где известно о его уходе в Народную Армию КОМУЧа.
В середине или в конце 1921 года Алексея демобилизовали, и он приехал к брату в Бежицу, где, умолчав о том, что был у белых, устроился рядовым сотрудником в уездную Рабоче-Крестьянскую милицию.
Многие люди, вместе с которыми стал служить мой отец, хорошо знали уголовный мир. Знали по той причине, что сами пришли оттуда. Хотя почему «пришли»? Некоторые в нём и оставались. Каких-то бандитов ловили, с другими «договаривались».
Как-то под охраной милиционеров с железной дороги на склад доставили большое число бидонов с керосином. Вскоре на склад проникли грабители, связав сторожа, и вывезли бидоны. Милиция получила от своего осведомителя сообщение, где грабители находятся. Мой отец рассказал мне, как он и его коллеги окружили дом, ворвались в него и застали преступников в сильной растерянности оттого, что украденные бидоны только пахли керосином, а была в них вода. Оказалось, что керосин украли на пути к складу.
Между тем дал о себе знать введённый нэп: крестьяне свободно везли в город муку, мясо, яйца, овощи. В Бежице появлялись закусочные, открылся ресторан. Алексей и коллеги заходили в него заказать цыплёнка табака, попить пива. Но нельзя было, как выражалось начальство, «банкетничать» – устраивать пирушки. Зато знакомые некоторым милиционерам блатные «банкетничали» вовсю, будя острую зависть дружков.
Играла она свою роль или нет, но милиционеры иной раз исполняли свой долг.
Им сообщили, что в деревне скрывается известный опасный бандит Серёга Козёл. Стояла зима, и человек десять милиционеров, среди них мой отец, отправились в деревню на нескольких санях. Кого-то оставили на карауле во дворе указанной избы, другие вошли внутрь, застали старика, который сказал, что он тут один. Главный в команде по фамилии Рябов спросил, где погреб. И велел одному из своих спуститься в него, поглядеть там. Милиционер спустился и закричал снизу: «Нет тут никого!» Но как только вылез, сказал, что кто-то посреди кучку наложил. Рябов крикнул: «Выходи, Козёл-засеря!» Из погреба стрельнули раз-другой, но милиционеры стояли в стороне от люка, пули не могли никого задеть. «Как хочешь! – крикнул Рябов. – Сейчас гранату бросим!»
Из погреба, выбросив наверх револьвер, показался парень – Рябов схватил его за волосы, выволок и ударил под дых. Милиционеры встали в круг, принялись избивать пойманного. Он выкрикивал яростно: «Ну, погоди, сука рябая!»
Его увезли в Бежицу в тюрьму, откуда он через пару дней сбежал, явно благодаря помощи кого-то в милиции, с ним скрылись несколько арестантов. Другие не захотели бежать и остались.
На воле Серёга Козёл присоединился к бандиту, прозванному Птичкой. Слава о нём, нападавшем на инкассаторов, грабившем кооперативы, разнеслась далеко за пределы уезда. Кто-то из уголовных, видимо, имея на то свои причины, «капнул», что Птичка и Козёл собрались на станцию, чтобы уехать куда-то поездом. Когда многочисленная милицейская команда прибыла на вокзал, бандиты уже вошли в вагон. Рябов приказал дюжине милиционеров (Алексею в их числе) встать по обе стороны вагона, а двум группам войти в вагон с его концов. С одной из групп пошёл сам Рябов.
Птичка и Козёл сидели друг против друга у прохода, глядя в него в противоположные стороны, держа руки в карманах. Оба мгновенно поняли, что за люди приближаются по проходу с двух сторон, выхватили из карманов револьверы, стали стрелять. Тут же открыла пальбу и милиция. Мой отец говорил мне, какие крики, женский визг раздавались внутри вагона, пули попадали в окна, сыпались осколки стекла. Наконец выстрелы прекратились. Наружу вынесли окровавленные трупы Птички и Серёги Козла, трёх милиционеров, нескольких пассажиров, попавших под огонь. Сколько-то милиционеров и пассажиров были ранены.
Рябов держался победителем. Кто с ним был, рассказали потом, что он за спины не прятался, а вот остался цел и невредим. Бывший моряк, он – правду говорили или не совсем – отличался в Гражданскую войну тем, что вставал во весь рост перед атакующими казаками, разряжая в них десятизарядный кольт.
Избитый – будущий герой Великой Отечественной
Как-то Рябов и большая группа милиционеров, с ними Алексей, по доносу накрыла хозяйство подпольного самогонщика. Согласно традиции, пару бутылей разбили рукоятками наганов, из других щедро угостились под закуску, поданную хозяином. Прихватив самогонку и с собой, ему оставили то, что уцелело. Когда, весёлые, шумные, шли по улице, перед ними возник всадник в шинели, на боку – кобура.
«Кто главный? Документы!» – закричал он.
Рябов, как человек большой уверенности в себе, к тому же под парами, глубоко оскорбился. Ярость исторгла из него возглас: «А ну…» – сопровождаемый рядом жёстких выражений.
Он бросился к всаднику, которого при энергичной поддержке своих людей стащил с лошади. Того обезоружили, стали дубасить. Милиционер с уголовным прошлым Сеня Миганов узнал в нём чекиста Медведева, о котором рассказывали страшное. В голод, когда крестьянам запрещалось возить хлеб в город на продажу и его в деревнях отбирали по продразвёрстке, голодающие горожане добирались на крышах вагонов туда, где можно было на какие-то вещи выменять муку, картошку. Заполучив мешок, они, называемые мешочниками, отправлялись домой, и тут на станциях чекисты устраивали на них облавы. Пойманных в Брянске приводили в кабинет зам. начальника Особого отдела Брянской уездной ЧК Медведеву, и тот, сидя за столом, убивал их выстрелами из нагана.
В минуты, когда Медведева, не зная, кто это, били, Сеня Миганов шёпотом назвал его Алексею и добавил: «Замочим его под шумок». Оба в потасовке старались ударить чекиста в висок, били его по почкам, однако убить не смогли. Он кричал что-то, его не слушали, но, когда приволокли в милицию, посмотрели его документы, сконфузились.
Дмитрий Николаевич Медведев был переведён из Брянска куда-то в другое место, а теперь приехал в Бежицу по делам или навестить родителей, живших здесь. О его влиятельности говорило то, что ему предоставили верховую лошадь. В Великую Отечественную войну он прославится, командуя партизанским отрядом, станет автором книги «Это было под Ровно».
А тогда в 1923-м за злосчастную встречу с ним бывший моряк Рябов получил три года, наказали и остальных. Мой отец и Сеня Миганов, отсидев две недели в кутузке, были уволены из милиции. У них и у их товарищей отобрали только что выданное на новую форму сукно, о чём мой отец особенно сожалел: «Ведь больше двух лет в отрепьях ходил, в них и остался».
Сеня Миганов сказал ему, что отправляется в тайгу за Енисей: «Буду там жить, как староверы-отшельники». По его словам, в «среде, какая образовалась», противно существовать. Она, дескать, будет только хуже, власть ещё такое наделает, что по царской каторге заплачешь. Отец передавал мне слова Сени Миганова с матерным новообразованием: «Что такое – это государство? Власть палачей и наёбщиков и верящие им недоумки».
Он позвал моего отца отправиться с ним, «взяв с собой баб поздоровее». Предложение сулило так много неизвестного, что отец не решился принять его. Однако мечта о жизни в таёжной глуши осталась с ним. Он, по его признанию, «буквально с азартом» читал вышедшую тогда повесть Владимира Арсеньева о таёжном кочевнике «Дерсу Узала».
Завод, родственники
Алексея донельзя интересовало умение жить в тайге. Его душевно грела фраза монаха Ферапонта из дореволюционного издания «Братьев Карамазовых» Достоевского: «Я-то от их хлеба уйду, не нуждаюсь в нем вовсе, хотя бы в лес, и там груздем проживу или ягодой, а они здесь не уйдут от своего хлеба, стало быть, черту связаны». Отец Ферапонт имел в виду обитателей монастыря, где он жил, говоря «от их хлеба», а Алексей относил эти слова к так называемым советским людям и тем, кто ими правил.
Но жизнь ставила свои условия. Он устроился охранником на завод «Красный Профинтерн», поступил на вечернее отделение машиностроительного техникума и, окончив его, получил диплом мастера по обработке металлов резанием. Стал рабочим, жил то у одной, то у другой молодой женщины; в той действительности было нелегко встретить спутницу на всю жизнь.
Переписывался с матерью и с сестрой Маргаритой. Они и младшие братья Николай и Константин теперь жили неподалёку от Пензы на реке Узе близ посёлка Шемышейка, окружённого лесом, здесь муж Маргариты служил лесничим. Из писем матери мой отец знал, что со времён Гражданской войны нет вестей от родственников по фамилии Перец, живших в Киеве. Алексей съездил в Киев, нашёл дом, в котором когда-то побывал. В квартире родственников теперь жило несколько семей: узнав, кто его интересует, говорить с ним не стали. Старик же дворник сказал: «В войну съехали».
Мой отец съездил в Одессу, где родилась его мать, никого, кто помнил бы что-то о семье Кунов, он не нашёл. Снял угол в квартирке у старушки, жившей рядом с Греческой площадью, гулял по знаменитым Дерибасовской, Ришельевской, купался в море, подрабатывал грузчиком. Жизнь преображал нэп, соблазнительный аромат нёсся из булочных, закусочных, кафе; отец ел кефаль, жаренную в кляре по-одесски, скумбрию, запечённую в горчично-соевом соусе, плацинды – лепёшки из дрожжевого или слоёного теста с разной начинкой, как то: брынза, творог, тыква, яблоки. Пил вино, которое задёшево продавалось на каждом шагу, знакомился с девушками. Послал матери открытку с видом Ланжерона.
Когда вернулся в Бежицу, мать написала, что получила письмо от Фёдора, он живёт под Хабаровском. Владимир и Алексей стали переписываться с Фёдором, который сообщил, что участвовал в «последнем наступлении рати, потерпевшем фиаско», попал в плен, «потянул лямку, как положено». После освобождения поселился в селе Бичевая Лазовского района Хабаровского края, работает бухгалтером в подсобном хозяйстве лесодобывающего предприятия, женат.
Мой отец знал, что в сентябре 1919 Фёдор в тифе был отправлен с санитарным поездом во Владивосток. После выздоровления он, очевидно, служил в белой части, а потом пошёл в Земскую Рать, созданную Правителем Приамурского края Михаилом Константиновичем Дитерихсом летом 1922. Последнее наступление, о котором написал Фёдор, поначалу имело успех, белые продвигались вдоль Уссурийской железной дороги на север, разбили красных под Хабаровском, но с началом октября потерпели поражение под Спасском, отошли к корейской границе и во Владивосток. Видимо, где-то под Спасском или при отступлении, когда на белых нападали партизанские отряды, Фёдор и попал в плен.
Весть о Ле Коке
Фёдор сообщил, что в Земской Рати встретил Константина Ташлинцева, которого в Кузнецке ребята звали Ле Кок. Для моего отца это была радостная новость. В октябре 1918 в бою у Грачёвки Костя был ранен в живот и увезён на санитарной двуколке, мой отец и его друзья думали, что он умер. А Костя выжил. Его, должно быть, отвезли в тогдашний тыл, в Оренбург, а оттуда, скорее всего, отправили далее на восток, он вылечился и, в конце концов, оказался в Земской Рати. В плену Фёдор его не встречал – значит, Костя эвакуировался с белыми войсками из Владивостока на японском или американском корабле, а, может, ушёл через Корею в Китай.
Мой отец вспоминал детектив, написанный старшим братом Кости Ташлинцева. Пережитого накопилось столько, что хватило бы на книгу, которая не уступила бы тому детективу.
Минувшая опасность
Продолжая работать по полученной специальности на заводе, отец начал пробовать себя в литературе. Сосредоточившись на этом подобно Мартину Идену, герою Джека Лондона, он не позволял себе ни рюмки водки, бросил курить. Читал каждую свободную минуту книги, которые брал в библиотеке, а также покупал.
К Владимиру в Бежицу приехал брат Николай, ставший членом ВКП(б), устроился на работу, женился. Жену, еврейку, звали Фаня – так же, как помнившуюся моему отцу с детства родственницу, к которой он ездил в Киев.
Во второй половине 1920-х годов проводилась партийная чистка, когда требовалось сказать о родственниках, чем-либо запятнанных. Николай сообщил, что его брат Алексей был у белых. И Николая исключили из партии. А Алексей не пострадал – сталинский террор тогда ещё не развернулся, да и целью проверки был не он, а брат-коммунист. Бюрократия должна действовать по конкретному заданию; было бы задание – выявлять бывших белогвардейцев, мой отец, безусловно, попал бы под метлу.
Поворот
Тогдашняя пора жизни была сносной. Отец рассказывал мне, что «Красный Профинтерн» по договору с сельским кооперативом получал продукты для столовой. В обед здесь давали наваристые щи с мясом, на второе – большую рубленую котлету с подливкой и с гречневой ли кашей, с лапшой или с картофельным пюре, на третье – сырники со сметаной или просто творог со сметаной, кисель или компот.
Но вот в декабре 1927 года вышла газета «Правда» с заголовками: «Курс на коллективизацию». Курс провозгласили на XV-м съезде ВКП(б). И на другой же день, по рассказу отца, вместо мясных щей оказался «супец» с ломтиками картошки и парой рыбёшек, да тарелка пшённой каши, в ней у края чайной ложкой была сделана вмятинка, куда «капнуто» подсолнечное масло. «И с этого рациона, – сказал отец, – мы уже не слезли, если уж не говорить о временах, когда становилось похуже».
Фраза Панаита Истрати
Отец читал в газетах о приезде в СССР пишущего по-французски писателя-румына Панаита Истрати. Выходец из нищей семьи, из-за лишений заболевший туберкулёзом и пытавшийся покончить с собой, он начал писать по совету Ромена Роллана, прославился книгой о своих скитаниях и был назван «балканским Горьким». В 1927-м, в десятилетие Октября, Истрати посетил Москву, Киев. Через год приехал ещё раз, побывав на родине Горького в Нижнем Новгороде, потом в Баку, в Батуми, в других местах.
После отъезда он написал книгу об увиденном, где рассказал о произволе советских бюрократов, о фактическом бесправии трудящихся, об их эксплуатации «государством рабочих и крестьян». Писатели Запада, Анри Барбюс и другие, известные как друзья СССР, объявили Панаита Истрати предателем. Советская печать принялась навешивать ему ярлыки «очернителя» и «фашиста», в доказательство приводя фразу Истрати об СССР: «Сам чёрт создал эту страну для диктатуры».
Мой отец ни прочитать, ни увидеть произведение Панаита Истрати не мог, но сказал себе, а спустя много лет мне, что одна эта фраза выказывает такой ум, долю которого не худо было бы призанять тогдашним корифеям, певшим Советскому Союзу дифирамбы.
Перемены в жизни. Литературный институт
Отец снял угол у большой рабочей семьи, имевшей при избе сараюшку для кур, огород. Он с членами семьи завтракал и ужинал за доплату: ели, главным образом, овощи – летом свежие, зимой солёные. Иной раз бывали яйца; особенно же выручала квашеная капуста.
Человек крепкого здоровья, Алексей любил физические нагрузки, движение – стал заниматься боксом, который разрешили в 1927 году.
В 1930-м женился, жену звали Анастасия. От завода дали комнату в небольшом одноэтажном доме. Прилегающая к дому земля была поделена жильцами на участки. Алексей и Анастасия, как и другие, сажали на своём участке картошку. Иногда Алексей с кем-либо из приятелей ловил бреднем рыбу в реке Десне, ему запомнился случай, когда он принёс домой щуку более метра длиной.
В 1931 году родилась дочь, названная Маргаритой (Ритой) в честь старшей сестры Алексея. Позже родилась дочь Наталья.
В 1936 году мой отец поступил на заочное отделение Литературного института Союза Советских Писателей в Москве. Свои первые рассказы он писал, разумеется, с позиции советского автора.
Одним из его сокурсников оказался перевоспитавшийся преступник. Тогда гуляло слово «перековка». Власть «перековывала» воров в примерных тружеников. В газетах писали, как такой-то рецидивист сделался сталеваром, другой – агрономом. Тот, кто учился с Алексеем, получил престижную в то время профессию шофёра и должен был ещё и стать писателем.
Узнав, что Гергенрёдер из Брянска, он отозвался на это: «О, в тех местах я пожил!» Алексей в разговоре коснулся истории с Медведевым и, хотя не сказал, что участвовал в ней, сокурсник, похоже, предположил такую вероятность, это расположило его в пользу моего отца. Историю сокурсник знал. Оказалась небезызвестной для него и фигура Сени Миганова. Алексей сказал, что работал с ним в милиции, спросил, не слыхал ли студент, где он теперь. Тот ответил: «Я слышал – он ушёл в леса Урянхая. Может, живёт там». Урянхай – тогдашняя Тувинская Народная республика.
Учёба
Преподаватели в Литературном институте получили образование до 1917 года, и им было что передать студентам. На моего отца в высшей степени повлияло ознакомление со старыми текстами: к примеру, с языком «Кормчих книг» (сборников церковных и светских правил). В описании осады турками Константинополя в 1453 году отца поразили слова о видении: об упавших на город багровых каплях дождя, крупных, яко воловье око. Он с восхищением повторял сравнение: «Яко воловье око». (Позднее отец обнаружил это сравнение в романе саратовского писателя Григория Коновалова «Былинка в поле»: «…всю ночь сек его дождь крупный, яко воловье око»).
Сильно воздействовала на отца эпическая поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Созданная в XII веке, не сохранившись в оригинале, но являясь литературным событием непреходящего значения, она, переведённая на русский язык, открывала перед студентами широту и глубину показа великой исторической эпохи. Работа с поэмой учила построению сюжета, обогащала проникновением в её образы, приобщением к выразительности деталей. Тем пошлее казалась отцу острота одной из студенток, упрямо ею повторяемая: «Шо-то пили, шо-то ели, Шота Руставели».
Студент Гергенрёдер убедился, насколько значим для творческого человека Шекспир. Занятия по его трагедиям проводил известный шекспировед профессор Александр Абрамович Аникст, и эти занятия подтолкнули Гергенрёдера к самостоятельному осмыслению образов. Он пришёл к выводу, что официальная трактовка образа Офелии – как чистой невинной девушки – сентиментально-слащава, неверна. Её отец, ловкий корыстный царедворец Полоний, наверняка из целей выгоды не раз предлагал Офелию власть имущим и, уж конечно, – отцу Гамлета и Клавдию. Таким образом, имеет право на жизнь и соответственная постановка спектакля. Однако высказывать эти мысли, которые противоречили официальной трактовке, было опасно, и мой отец держал их при себе.
Запомнилось ему одно из обсуждений «Евгения Онегина» на семинаре. Преподаватель поведал, как к роману Пушкина отнёсся Лев Толстой. Тот указал на три известных строки:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя…
После чего Толстой задался вопросом – отчего-де крестьянин торжествует? Быть может, он едет в город купить себе соли или махорки? И как, мол, можно чуять снег?
Преподаватель считал, что Толстой придрался зря. Крестьянин торжествует оттого, что едет не в телеге по грязи, в которой вязнут колёса. Лошади гораздо легче тянуть дровни, скользящие по снегу. И снег она вполне может почуять, это иной человек не улавливает запаха снега, но не животные. Главное же – лошадь знает разницу между грязью и снегом.
Казалось бы, всё стало ясным, но мой отец обратил внимание на то, мимо чего прошёл придирчивый Толстой.
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Рысь – это бег. Как можно плестись бегом? Тут уж Пушкина можно было бы и укорить. Далее – более серьёзное:
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Вообразимо ли, чтобы собачка сидела в салазках, которые тянет за собой мальчик? Да она тут же выскочит, будет прыгать вокруг мальчика, резвиться, играть. Пушкин нарисовал картину, совершенно неправдоподобную, нереальную! Интересно, что Толстой это проглотил. Когда мой отец высказался, преподаватель заявил, что семинар, собственно, посвящён другим вопросам.
Много внимания требовали семинары по мастерству. Постулатом было: надо учиться писать так, дабы слова передавали то, что передают зрение, слух, а в нужных случаях – обоняние. Читатель должен ясно видеть, слышать отображаемое и даже ощущать запахи.
Запомнились Алексею занятия, посвящённые определению понятия. Преподаватель предложил дать определение понятия «лев». Зазвучали варианты: то чересчур многословные, то неточные, а чаще – с тем и с другим подобным недостатком. После подробного разбора преподаватель привёл своё определение: «Грива и огромная пасть, укреплённая на мощных лапах». Его спросили: а как же, мол, шея, грудь? Он ответил: «Вам не представятся сами шея и грудь?»
О Льве Толстом
Говоря о портретах, в которых выражалась бы связь деталей внешности с характером, преподаватель назвал как образец портрет Льва Толстого, созданный австрийским писателем Стефаном Цвейгом. Публикация на русском языке увидела свет в 1929 году в Ленинграде в книге литературоведа Бориса Эйхенбаума. Мы с отцом нашли эту работу «Лев Толстой», глава «Портрет» в сочинениях Стефана Цвейга, изданных гораздо позже.
Привожу поразительную выдержку:
«Чтобы распознать духовным оком наготу и сущность этого скрытого лица, необходимо устранить заросль бороды (его портреты в молодости, безбородые, оказывают огромную помощь для таких пластических откровений). Сделав это, приходишь в ужас. Ибо совершенно очевидно, совершенно неоспоримо: контуры лица этого дворянина, человека высокой культуры, выточены грубо, они ничем не отличаются от контуров лица крестьянина. Приземистую избу, дымную и закопченную, настоящую русскую кибитку, избрал себе жилищем и мастерской гений: не греческий Демиург, а нерадивый деревенский плотник соорудил вместилище для этой многогранной души. Неуклюжие, неотесанные, с толстыми жилами, низкие поперечные балки лба над крошечными оконцами-глазами, кожа – земля и глина, жирная и без блеска. В тусклом четырехугольнике нос с широкими открытыми звериными ноздрями, за всклокоченными волосами дряблые, точно приплюснутые ударом кулака, бесформенные, отвисшие уши; между впалыми щеками толстые губы, ворчливый рот; топорные формы, грубая и почти вульгарная обыденность».
Далее, продолжая прибегать к впечатляющей образности, Цвейг задаётся вопросом исследователя о признаках духа, ума в этом лице:
«Тень и мрак повсюду, придавленность чувствуется в этом трагическом лице мастера, ни намека на возвышенный полет, на разливающийся свет, на смелый духовный подъем – как в мраморном куполе лба Достоевского. Ни единого луча света, ни сияния, ни блеска – идеализирует и лжет тот, кто отрицает это: нет, лицо Толстого, несомненно, остается простым и недоступным, оно не храм, а крепость мыслей, беспросветное и тусклое, невеселое и безобразное, и даже в молодые годы Толстой сам отдает себе отчет в безотрадности своей внешности. Всякий намек на его внешность «больно оскорбляет его»; он думает, что «нет счастия на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами».
Цвейг прекрасно понимает стремление Толстого заслониться от того, что его угнетает: «Поэтому еще юношей он прячет ненавистные для него черты лица под густой личиной темной бороды, которую поздно, очень поздно старость серебрит и окружает благоговением».
К словам австрийского писателя добавим, что Толстой ловит людей на удочку, выбрав себе наряд: длинную рубаху, подпоясанную верёвкой, крестьянские штаны, заправленные в сапоги. Он хитро использует невыносимую для него внешность, дабы внушать, что он принял её ради проповедуемой им философии опрощения (мало кто представит, как он выглядел бы в модном костюме светского барина). Так, может быть, философию опрощения он изобрёл с тем, чтобы одеться простолюдином и оправдать свою внешность?
Цвейг замечает: «Когда он едет рядом с седобородым слугой, то нужно основательно разобраться по фотографии, кто, собственно говоря, из двух сидящих на облучке стариков граф, кто кучер».
Это просто замечание писателя, замечание без вывода. А вывод таков. Люди, глядя на фотографию, восхищаются: Толстой сумел, согласно своему учению, опроститься до того, что он, аристократ, неотличим от простого слуги. И никому не приходит в голову, как аристократ стесняется своего природного вида простолюдина, к тому же низкорослого (фотографируясь с Горьким, он встал на положенную наземь доску).
У него чувственная натура, его влечёт к красоткам, и он мучается тем, как он выглядит в физической близости с красивой девушкой. У неё, изводит его внутренний голос, не может быть радости от роли любовницы такого мужчины.
Известно, что молодую жену-немку Софью Андреевну, урождённую Берс, он ознакомил с дневниковыми записями о своих сексуальных связях. Момент, мимо которого прошёл Стефан Цвейг и на котором останавливались многие. Они осуждают Толстого за желание причинить жене боль, обвиняют его в садизме. Истинной же причины не видят. Толстой хотел доказать ей, что им отнюдь не пренебрегали, что он – Дон Жуан. Наблюдая её переживания по мере того, как ей открывалась его сексуальная жизнь, он наслаждался: цель достигнута, измученная жена осознала, какой пресыщенный любовью самец выбрал её.
Вести себя действительно, как Дон Жуан, Толстой не мог себе позволить из страха показаться смешным. Легко представить, какую зависть вызывал у него Пушкин с его любовными похождениями. Толстому оставалось обрушиваться на женщин как на греховодниц, проповедовать воздержание. Неимоверно самовлюблённый, тщеславный, он подавлял свои инстинкты и самоутверждался, благодаря огромному литературному таланту, находил спасение в славе, в попытках развенчать других великих. Мог ли ему нравиться Шекспир – автор «Ромео и Джульетты»?
Умением Толстого проникать взглядом в души людей Цвейг восхищён в высшей степени. Он ссылается на Горького, который испытал на себе действие толстовских глаз: «Горький, по обыкновению, находит для них самое меткое определение: «У Л.Н. была тысяча глаз в одной паре». В этих глазах, – пишет Цвейг, – и благодаря им, в лице Толстого видна гениальность».
Цвейга «охватывает ужас, когда он (Толстой) направляет этот серый, стальной меч на себя: его лезвие жестоко вонзается в глубочайшие глубины сердца». Писатель приводит признание Толстого: «Я испытываю истинное наслаждение при виде страданий умирающего животного», – сознается он, расколов сильным ударом палки череп волка, – и лишь при этом торжествующем крике кровавого наслаждения начинаешь подозревать о грубых инстинктах, которые он подавлял в себе всю жизнь (кроме бешеных юношеских лет)».
Толстому подошло бы нечто подобное словам Сергея Есенина:
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.
Толстой – не поэт, а какими словами заменить слова «мошенник» и «вор» – сообразительный человек найдёт.
Однако на кое-что из высказанного Цвейгом можно возразить. Он пишет о взоре Толстого: «едва лишь открылось веко, этот взор, немилосердно бодрствующий, неумолимо трезвый, точно под властью принуждения ищет добычи. Он опрокинет всякий обман, обличит каждую ложь, разобьет всякую веру: перед этим проникающим вглубь оком все обнажено».
Всё ли? Анна Каренина, решившись на самоубийство, бросилась под поезд. Шаг, психологически неоправданный. Красивой женщине не может быть безразлично, какой её увидят после смерти; тем более, что она знает – её увидит любимый. Бросившись под колёса, превратиться в изуродованный расчленённый труп? Нет. Она предпочла бы яд, как Эмма Бовари. Но Толстой, чей роман «Анна Каренина» вышел в свет через двадцать лет после выхода романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари», не хотел обвинения в заимствовании.
Можно счесть изъяном в романе Толстого и то, что самоубийство героини он предварил смертью сцепщика вагонов в самом начале произведения; это кажется нарочитым.
Нарочито нравоучительна книга Толстого «Воскресение», начиная с названия. Это типично немецкий Bildungsroman (роман воспитания). Он скучен, читать его так же утомительно, как одолевать роман «Будденброки» Томаса Манна. Но у Льва Толстого есть вещи несравненные: повести «Смерть Ивана Ильича», «Холстомер», «Поликушка», рассказ «Хозяин и работник».
Поздний Лев Толстой
Ему было дано то, что даётся никак не многим писателям: сопереживание чужим народам, страдающим от твоего государства. Уже благодаря этому, повторял мой отец, Лев Толстой – мировая величина. Его сознание, которое объемлет весь мир, его дух, который сливается с душой всего человечества, выразились в рассказе «За что?», написанном в 1908 году, за два года до смерти.
Русский граф с внешностью крестьянина, обладающий земной страстной натурой безудержного русского размаха, мощи и подавленной жестокости, написал:
«Только люди, испытавшие то, что испытали поляки после раздела Польши и подчинения одной части ее власти ненавистных немцев, другой — власти еще более ненавистных москалей, могут понять тот восторг, который испытывали поляки в 30-м и 31-м году, когда после прежних несчастных попыток освобождения новая надежда освобождения казалась осуществимою».
Толстой безоговорочно на стороне поляков. «Но надежда эта продолжалась недолго. Силы были слишком несоразмерны, и революция опять была задавлена, – сказав это, он говорит о жалких мотивах тех, кто распоряжался подавлением восстания, о покорности многих других, кто им подчинялся: – Опять бессмысленно повинующиеся десятки тысяч русских людей были пригнаны в Польшу и под начальством то Дибича, то Паскевича и высшего распорядителя — Николая I, сами не зная, зачем они делают это, пропитав землю кровью своей и своих братьев поляков, задавили их и отдали опять во власть слабых и ничтожных людей, не желающих ни свободы, ни подавления поляков, а только одного: удовлетворения своего корыстолюбия и ребяческого тщеславия».
Надо отметить, как Толстой видит «вину» участников восстания: «Росоловский, так же как и Мигурский, так же как и тысячи людей, наказанных ссылкою в Сибирь за то, что они хотели быть тем, чем родились, — поляками, был замешан в этом деле, наказан за это розгами и отдан в солдаты в тот же батальон, где был Мигурский».
Читаешь, как несчастных, обнажённых по пояс, тащили меж рядов солдат с розгами, которые со свистом рассекали воздух и рвали человеческую кожу, и повторяешь вопрос Толстого: за что? за то, что они хотели быть тем, чем родились, – поляками.
Бессмысленно скомкана жизнь Мигурского и беззаветно любящей его жены Альбины, несчастен и казак, виновный в этом. Это значит, что винтики государственного механизма оказались на месте, он сработал к торжеству царя:
«Николай же Павлович радовался тому, что задавил гидру революции не только в Польше, но и во всей Европе, и гордился тем, что он не нарушил заветов русского самодержавия и для блага русского народа удержал Польшу во власти России. И люди в звездах и золоченых мундирах так восхваляли его за это, что он искренно верил, что он великий человек и что жизнь его была великим благом для человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все его силы».
Сочувствие к покоряемым горцам Кавказа, обличение деспотизма Николая I вылились в повесть «Хаджи-Мурат», которую Толстой не опубликовал при жизни. Через два года после его смерти её напечатали с цензурной правкой в Москве, но в том же году она была издана без купюр в Берлине.
Останется всегда актуальным то, что Лев Толстой написал в 1900 году в статье «Патриотизм и правительство»:
«В руках правящих классов войско, деньги, школа, религия, пресса. В школах они разжигают в детях патриотизм историями, описывая свой народ лучшим из всех народов и всегда правым; во взрослых разжигают это же чувство зрелищами, торжествами, памятниками, патриотической лживой прессой; главное же, разжигают патриотизм тем, что, совершая всякого рода несправедливости и жестокости против других народов, возбуждают в них вражду к своему народу, и потом этой-то враждой пользуются для возбуждения вражды и в своем народе».
Александр Беляев
Разговоры студентов вызывал замечательный писатель-фантаст Александр Романович Беляев. Из-за тяжёлой болезни он должен был постоянно лежать в гипсовой кровати, как в футляре, тело ниже пояса не чувствовалось, двигались только руки. Это состояние подвигло его написать рассказ «Голова профессора Доуэля», опубликованный в 1924 году в популярной газете «Гудок», где печатались И.Ильф, Е. Петров, М. Булгаков, В. Катаев, Ю. Олеша, К. Паустовский, М. Зощенко.
Рассказ покорил моего отца. Своё физическое страдание, свою страшную немощь Александр Беляев воплотил в огромное творческое достижение. Автора признали как выдающегося самобытного фантаста. Произведения Беляева стали выходить в журналах, в альманахах, его ещё более прославили романы «Остров Погибших Кораблей», «Человек-амфибия», вышедший отдельной книгой «Властелин мира».
Вскоре, однако, фантастику сочли малополезным для строительства социализма жанром, и Беляев с семьёй впал в нужду. Правда, здоровье его несколько поправилось, он смог ходить. В начале тридцатых семья переехала из Ленинграда в пригород Детское Село (ныне город Пушкин).
Студенты литинститута говорили о встрече Беляева с Гербертом Уэллсом, который приезжал в Ленинград в 1934-м, о чём в своё время сообщили газеты. Кое-кто высказался, что есть и другие жанры, помимо фантастики, почему бы советскому писателю не попробовать себя в них? Беляев на это не пошёл, не боясь, как будет понят отказ: время изобиловало арестами, процессами.
А болезнь вновь приковала его к постели. В 1938 году он выступил в защиту научной фантастики: «Литературная газета» опубликовала его статью о положении фантастики под заголовком «Золушка». За этим должен был бы последовать арест, но Беляева не тронули. Мой отец считал, что его спас недуг: не выносить же на носилках из квартиры неходячего человека. И как его держать в камере? Вызывать на допросы? При том, что никакой реальной вины за ним не было.
Александр Грин
Этого писателя спасло от расстрела то, что его унёс рак в 1932 году, до перехода власти к планомерному широкомасштабному истреблению людей. Студентам литинститута было известно, что Грин «не сливается с эпохой строительства социализма», его вещи перестали печатать. В последние его годы ему не на что было жить. Грин с женой поселился в городке Старый Крым. Среди студентов ходили разговоры о том, что в глинобитном домишке был земляной пол и что голодающий Грин охотился с луком и стрелами на чаек.
Он просил помощи у Союза писателей – ему ничего не дали. Влиятельная Лидия Сейфуллина заявила, что «Грин – наш идеологический враг» и ему нельзя давать ни копейки.
Мой отец слышал, что умирающий Грин попросил пригласить священника и исповедался. Отец сказал мне в 1970-х: «Можешь представить, с какими мыслями он уходил из этой страны в тот мир?» Я продолжил мысль: «Ему и Беляеву родиться бы в Америке, в Англии. Они – таланты для тех мест».
Пишущие о Грине проходят мимо того факта, что его отцом был польский шляхтич Stefan Hryniewski / Стефан Гриневский. Посему Грин – не Степанович, а Стефанович. Отец Грина – участник восстания 1863-64 гг. против русского господства, сосланный бессрочно в Тобольскую губернию и получивший дозволение переехать в Вятскую. Родившийся здесь Александр рос с мечтой вырваться из места ссылки отца, из российской глуши с её порядками, стать мореплавателем, увидеть удивительные страны. В ранней юности он отправился в Одессу.
Как мог он относиться к российской власти, против которой его отец в своё время выступил с оружием в руках? Александр примкнул к эсерам, они фигурируют в его первых рассказах.
Малинник Якобсона
В ранних вещах Грина, чего не будет в его более поздних произведениях, даются русские персонажи. Выделяется некой характерностью рассказ «Малинник Якобсона», увидевший свет в журнале «Всемирная панорама» в 1910 году. Русский голодный бродяга Геннадий с завистью смотрит на жизнь чистого уютного эстонского городка, где оказался, просит хлеба у сидящего перед своим домом старика-эстонца. Его портрет нарисован с симпатией: «Лицо, изъеденное ветром и жизнью, пестрело множеством крепких, добродушных морщин».
Геннадию дают хлеба, съев который, он видит позади дома за забором малиновый сад. Уже описание забора передаёт прелесть этого уголка. Низ щелей меж досками «скрывался в репейнике и крапиве, середина зеленела изнутри, и изнутри же верхние концы щелей пылали нежным румянцем, словно там, в огороженном небольшом пространстве, светилось вечерней зарей свое, маленькое, домашнее, пятивершковое солнце».
Это «домашнее солнце» – символ творения, которое зажёг неустанным трудом и заботой его созидатель. Деталь прекрасная. Впечатляюще дана реакция чужака:
«Угрюмое любопытство бездельника, которого раздражает всякий пустяк, подтолкнуло Геннадия». Любовно ухоженный уголок благополучия будит у бродяги злобу, он перелезает через забор. «Оборванный, исхудавший, трясущийся от ненависти и страха, он напоминал крысу, облитую светом фонаря во тьме погреба», – пишет Грин. Обратим внимание, что персонаж – бездельник и подобен крысе.
Геннадий бросается уничтожать сад: «через две-три минуты малинник напоминал вороха разбросанной, гигантской соломы». Бродяга хочет убежать, но перед ним Якобсон: «Горло старика клокотало и всхлипывало, как у человека с падучей, он хотел что-то сказать, но не смог и бешено обернулся к искалеченным кустам сада. Тогда Геннадий увидел, что рыжие вихры Якобсона тускнеют. На голову старика садилась таинственная, белая пыль: он быстро седел».
Старик поседел, глядя на своё уничтоженное творение, – малинник, чьё изобилие сочных ягод только что пронизывало солнце. Творец и творение, над которым варварски надругались, – вот о чём рассказ.
Случайно ли, что человек, который десять лет трудолюбиво взращивал сад, – эстонец, а тот, кто из зависти и ненависти сад уничтожил, – русский? Мне не известно, чтобы кто-либо из знавших творчество Грина касался этого вопроса. Писателя вернули в литературу таким, каким он был приемлем. «У нас, – нередко повторял мой отец, – любят мёртвых. Они же не шевельнутся, если их показать так, как это удобно».
При Хрущёве, в 1961 году, появились фильмы «Человек-амфибия» по роману Александра Беляева и «Алые паруса» по повести Александра Грина. Повесть красивая, но простая, и потому её сделали визитной карточкой писателя. Стоит сказать: «Грин», и вам тотчас ответят: «Алые паруса». И никаких «Малинников Якобсона»! Грина представляют автором для подростков.
Победа Петра Шильдерова
У Грина есть ещё один русский, который, подобно Геннадию, покинул родные места, но не в поисках пропитания. Пётр Шильдеров – так назвал писатель героя рассказа «Далекий путь», впервые напечатанного под названием «Горные пастухи в Андах» в литературном приложении к журналу «Нива» в 1913 году. Фамилия образована от немецкого слова Шильдер / Schilder (вывески). Этого человека встретил в горах Южной Америки, в Андах, русский путешественник, от имени которого ведётся рассказ. Пётр Шильдеров не обрадовался соотечественнику, поначалу он сказал:
«– Я – здешний и не понимаю вас».
Но рассказчику всё-таки удалось «разговорить» его, тот поведал свою историю. Сообщив, что его звали (не зовут, а звали) Пётр Шильдеров, он сказал: «Город, в котором я жил с семьей, был страшен и тих. Он состоял из длинного ряда домов мертвенной, унылой наружности – казенных учреждений».
Человек служил столоначальником в Казённой Палате, то есть был обеспечен. Он добавляет штрихи к характеристике города, говоря о жилых домах: «Деревянные дома, выкрашенные в серую и желтую краску, напоминали бараки умалишенных. Осенью мы тонули в грязи, зимой – в сугробах, летом – в пыли».
Кто окружал героя рассказа? «Общество, доступное мне, состояло из людей-моллюсков, косных, косноязычных, серых и трусливых мужчин».
В уста Петра Шильдерова Грин вкладывает слова:
«Разнообразие земных форм вместо глухой русской равнины казалось мне издавна законным достоянием всякого, желающего видеть так, а не иначе. Я не люблю свинцовых болот, хвойных лесов, снега, рек в плоских, как иззубренные линейки берегах; не люблю серого простора, скрывающего под беспредельностью своей скудость и скуку».
То, чего не любит герой, очень похоже на места, где находился в бессрочной ссылке отец Грина и где родился и рос писатель. Напоминают они и край, куда ссылали его самого. Через созданный им образ он выражает собственные чувства.
Герой рассказывает, как подействовала на него картинка «Горные пастухи в Андах», и объясняет: «Невыразимая тоска овладела мной, как будто чудесной силой был вырван я и брошен из этих мест, полных красоты, величия и свободы, в рабство и нищету». Вести жизнь чиновника значило для него жить в рабстве и в нищете общения, в духовной нищете. И он оказался в плену своего желания быть там, куда потянуло его всей душой, где он «нашел вторую, настоящую родину».
Грин выделяет названием «Разрыв» главку, посвящённую тому, как Пётр Шильдеров вырвался из России. Тёплым июльским вечером он сидел у ворот своего дома на лавочке, напротив возвышалось здание исправительного заведения, из его решетчатых окон пахло кислой капустой и кашей. Жители улицы, которая зовётся Косой улицей, сидели на лавочках и «грызли в идиллическом настроении семечки». Арестанты в здании напротив запели «Отче наш». «Торжественные звуки молитвенного пения создавали в тишине вечера настроение благости и покоя».
Когда пение окончилось и раздались зычные выкрики надзирателей, нервный трепет овладел героем, он увидел, что «свободен, ничем не связан и волен распоряжаться собой». Он пошёл из дома, зная, что уже не возвратится. Через границу, по его словам, он перебрался удачно, хотя и слышал, как свистят выпущенные из винтовок пули.
Он помнит долгие дни голода, ночлеги в трущобах и под открытым небом, томительные пешие переходы в знойные дни, полицейские участки, случайную работу на виноградниках. «Все это мне мило и радостно», – говорит он. Ему открылась славная даль морей, довелось услышать, как звенит летний прибой, гудит мистраль. Он побыл матросом, вместе с неграми в сырых лесах добывал каучук; заболев лихорадкой, «умирал, но не умер». И, наконец, оказался в Андах среди людей, которые были охотниками, пастухами, их костюмы «состояли из полосатых шерстяных одеял, перекинутых через плечо», «сорочек из бумажной ткани, широких поясов и брюк, обшитых во всю длину бахромчатыми лампасами из перьев или конского волоса». У некоторых висели на бедре в кобурах револьверы, у других – старинные пистолеты. И сам герой, сообщает рассказчик, «был в пестрой грубой одежде, вооружен короткоствольным штуцером».
Свою историю он закончил словами:
«Простите, дорогой – не соотечественник, дорогой иностранец, – прошло десять лет».
Эта фраза подчёркивает разрыв героя с русскими, они для него иностранцы. Грин ещё более усиливает данность словами рассказчика: «мой удивительный собеседник, «русский», – или как было его назвать теперь?» смотрел на знакомую девушку из местных.
Она назвала его Диас. Теперь и рассказчик называет бывшего Петра Шильдерова этим именем. Он задаёт ему обдуманный вопрос:
«– Как вы чувствуете себя в этой стране?
– Очень хорошо и приятно».
Его история, говорит Грин словами рассказчика – «глубоко-человеческая повесть об одной из немногих побед, побед блестящих и бескорыстных». Победа – то, что он перестал быть русским, став «здешним» в Андах. Рассказчик говорит: «Диас есть Диас. Никакими усилиями воображения не мог я представить его русским, но, может быть, и не был он им, принадлежа от рождения к загадочной орлиной расе, чья родина – в них самих, способных на все».
Победа Диаса бескорыстна, ибо он – не искатель золота. Он сделался нерусским ради трудной, полной риска жизни среди скал и ущелий – жизни бедняка, но бедняка свободного. Грин произносит устами рассказчика:
«Я обдумывал рассказ Диаса. Он ушел, оставив мне тихое волнение радости». Произведение завершается восхитительными словами о том, что люди, подобные Диасу, – безумцы, возлюбившие пустыню, проникающие в неисследованные места, «дети труда, кладущие основание городам в чаще лесов. Их кости рассеяны за полярным кругом и в знойных песках черного материка, и в дикой глубине океана». Остановить их может только смерть. «Своей смертью, – написано в рассказе, – они умножают везде жизнь и трепет борьбы».
Сопоставим это со словами: «Разнообразие земных форм вместо глухой русской равнины казалось мне издавна законным достоянием всякого, желающего видеть так, а не иначе».
Добавив к этому описание города, откуда ушёл Пётр Шильдеров (который, может быть, и не был русским, как и сам Грин), мы видим выраженное напрямую, без обиняков, отношение к России. Дав образом своего героя, порвавшего с ней, пример, Грин словно показал на фасаде своего творчества её и его Шильдер / Schilder – вывески. Здесь объяснение, почему писатель творчески вырывался из России, создавая свой нерусский мир. Будучи русским, быть тем, кто умножает везде жизнь и трепет борьбы, по Грину, невозможно. Он настойчиво заостряет внимание читателя на том, что Пётр Шильдеров стал нерусским Диасом.
Прочитайте весь шеститомник Грина – ни одного сильного русского характера, ни одного привлекательного русского вы не найдёте.
Зурбаганский стрелок. Создание Аспера
Однажды (в семидесятые годы) говоря с отцом о Грине, я заметил, что не может быть по достоинству оценён его рассказ «Зурбаганский стрелок». Группа людей с винтовками остановила в ущелье целую армию и спасла город, куда она двигалась, не ради построения великого будущего, не для освобождения угнетённых или чего-то подобного. Горстка людей желала доказать и доказала, что она сильнее превосходящей их в несчётное число раз силы. Александр Грин утверждал свободный от какой-либо власти, от какого-либо долга индивидуальный героизм, воспевал дерзания независимой личности.
Надо сказать то, что до сего дня не сказано о рассказе Грина «Создание Аспера». Для героя этого произведения жизнь и собственная смерть – искусство. Он создаёт образы, добиваясь, чтобы массовое сознание воспринимало их как реальных живых людей. В очаровании тайны читаешь о «Даме под вуалью», которая появлялась в приёмных прокурора, министра юстиции, военного министра, инспектора полиции, обещая сделать сенсационные разоблачения. Дама каждый раз скрывалась, не дожидаясь приёма. О ней возникали шокирующие предположения, в ней олицетворялись подкуп, разврат, интрига, происки партий, трусость и предательство. Утверждали, что она – «морганатическая супруга принца В».
И вот итог ажиотажа публики: остановились на том, что она не кто иная, как «Марианна Чен – символ всего темного, что есть в каждом запутанном и грозном для множества людей деле», – поведал создатель таинственной дамы.
А второе его создание – поэт-самородок Теклин? «В редакциях стал появляться застенчивый деревенский гигант, предлагая приличные для необразованного человека стихи; на него обратили внимание, а через год он писал уже значительно лучше». Мы проникаемся жизнью этого человека, узнавая его вкусы, следуя за его переездами из края в край.
Третье творение создателя – «идеализированный разбойник» по имени Аспер. Он «романтик, гроза купцов, друг бедняков и платоническая любовь дам, ищущих героизм везде, где трещат выстрелы». В рассказе высказано любопытное замечание: «Как это ни странно, но, ожесточенно борясь с преступностью, общество вознесло над жуликами своеобразный ореол, давая одной рукой то, что отнимало другой.
Потребность необычайного, – может быть, самая сильная после сна, голода и любви».
Игра в Аспера тянулась шесть лет, создатель достиг того, что в окрестностях стали петь «много песен, сложенных молодежью в честь Аспера». Но в конце концов он должен окончить своё поприще – окончить так, чтобы его смерть была признана реальной смертью реального героя. Его создатель готов умереть ради этого и умирает. Надо углубиться в смысл сказанных им перед этим слов:
«У меня особое отношение к жизни; я считаю ее искусством: искусство требует жертв; к тому же смерть подобного рода привлекает меня. Умерев, я сольюсь с Аспером, зная, не в пример прочим неуверенным в значительности своих произведений авторам, что Аспер будет жить долго и послужит материалом другим творцам, создателям легенд о великодушных разбойниках.
Теперь прощайте. И помолитесь за меня тому, кто может простить».
Слова перекликаются со сказанным в начале рассказа: «высшее назначение человека – творчество. Творчество, которому я посвятил жизнь, требует при жизни творца железной тайны. Имя художника не может быть никому известно; более того, люди не должны подозревать, что явления, удивляющие их, не что иное, как произведение искусства».
Это манифест Александра Грина. Истинный творец должен быть готов не только умереть ради жизни своих творений, но и не надеяться на посмертную славу – имя его останется неизвестным.
Если мир, который мы посетили, есть пишущееся Высшим Творцом произведение, в котором рождаются, развиваются и отходят в прошлое цивилизации, страны с их историей, а также жизни личностей, то рассказ «Создание Аспера» – маленькая точная модель этого, открытая гением Александра Грина. Смерть создателя, названного судьёй Гаккером, не напоминает ли смерть на кресте?
Произведение провидца
А до чего поразителен своей глубиной и образностью рассказ «Крысолов». Замученному несчастьями герою рассказа, благодаря встрече с девушкой, которая, как и он, продаёт из нужды книги, и помощи Крысолова, открывается суть положения, грозившего ему гибелью. Крысолов говорит ему: «Вы были окружены крысами» (не их ли сородич уничтожил малинник?).
Герой был окружён крысами в Петрограде весны 1920-го, на третьем году Советской власти.
Рассказ оказался провидческим. В нём крысиная цитадель – банк, и разве не с банков началось открытое обогащение, господство крыс во времени, наставшем после того, как Ленсовет сменило Санкт-Петербургское Городское (Законодательное) собрание? Крысы «собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это».
Крысы правят бал по всей стране: «Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии».
Грин был чужеродным явлением в Советской России, которую он заклеймил, в рассказе «Крысолов» показав Петроград, – «колыбель революции». Отметим, что Крысолов, его житель, – нерусский, он О. Иенсен, имя его дочери – Сузи.
Россия, русские Грина не вдохновляют. Те же «Алые паруса» приплывают не в российскую гавань. Даже в произведениях о Первой мировой войне у Грина фигурируют только нерусские персонажи.
Предшественник Воланда
Есть у Грина рассказ «Фанданго», написанный о советском времени. Повествование ведётся от имени сообщающего о себе: «я знаю испанский язык, как русский, хотя никогда не был в Испании». Потом мы узнаем, что его зовут Александр Каур. Будет также упомянуто, что его дед по матери родом из Толедо.
В начале рассказа показан Петроград января 1921 года. «Под белым небом мерз стиснутый город. Воздух был неприятно, голо прозрачен, как в холодной больнице. На серых домах окна были ослеплены инеем. Мороз придал всему воображаемый смысл: заколоченные магазины с сугробами на ступенях подъездов, с разбитыми зеркальными стеклами; гробовое молчание парадных дверей, развалившиеся киоски, трактиры с выломанными полами, без окон и крыш».
Жители борются за топливо, как за бесценную добычу: изнемогающие женщины и подростки тащат заледеневшие брёвна, оборванные люди продают связки щепок «для тех, кто мог позволить себе крайне осторожную роскошь: держать, зажигая одну за другой, щепки под дном чайника или кастрюли, пока не закипит в них вода».
Возница, идя рядом с нагруженной дровами подводой, стегает кнутом детей, таскающих на ходу поленья. В одном из дворов люди выламывают из каменного флигеля деревянные части. В другом месте описаны развалины с холмами из щебня, с множеством грязных следов, с валяющимися тряпками, замёрзшими нечистотами.
А было время, когда Александр Каур, приходя в ресторан, «сидел, слушая «Осенние скрипки», «Пожалей ты меня, дорогая», «Чего тебе надо? Ничего не надо» и тому подобную бездарно-истеричную чепуху, которой русский обычно попирает свое веселье».
Определив то, что обычно слушает русский, рассказчик сообщает, что давал дирижёру оркестра, румыну, купюру, и тот говорил оркестру:
– Фанданго!
«При этом энергичном, коротком слове на мою голову ложилась нежная рука в латной перчатке, – рука танца, стремительного, как ветер, звучного, как град, и мелодического, как глубокий контральто».
Грин противопоставляет «бездарно-истеричной чепухе» мелодию, о которой пишет: «Фанданго» – ритмическое внушение страсти, страстного и странного торжества. Вероятнее всего, что он – транскрипция соловьиной трели, возведенной в высшую степень музыкальной отчетливости».
Читатель некоторым образом подготовлен к тому, что он увидит в «Доме учёных», куда направляется герой в надежде получить право на продуктовый паёк. У ворот в группе людей выделялся «высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем». Рассказчику показалось, что «за острой, блестящей фигурой этой, покачиваясь, остановились закрытые носилки с перьями и бахромой. Три смуглых рослых молодца в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу, молча следили, как из ворот выходят профессора, таща за спиной мешки с хлебом. Эти три человека составляли как бы свиту».
Александр Каур слышит:
«– Это тот самый дом, сеньор профессор! Мы прибыли!
– Отлично, сеньор кабалерро! Я иду в главную канцелярию, а вы, сеньор Эвтерп, и вы, сеньор Арумито, приготовьте подарки».
Разговор «произошел на чистом кастильском наречии», и герой решил, что прибыла делегация из Испании.
Он вошёл во двор с кладовыми, где тем, кто получил на это право, выдавали порции продуктов на неделю. Старик, которому дали несколько лещей, и он поместил разорванный мешок с ними на салазки, обнаружил, что забыл дома бумагу, без какой не дадут сахарного пайка, заспешил за ней, таща санки, и от резкого движения из дыры выпал в снег лещ. Рассказчик поднял его, закричал старику, что он потерял рыбу, но тот уже скрылся в воротах.
Некоторое время спустя в Доме учёных имела место весьма важная сцена. Александр Каур «увидел Афанасия Терпугова, давно знакомого» ему «повара из ресторана «Мадрид», они разговорились, герой спросил, какое повар нашёл себе место. Тот ответил: «– Впрочем, вы этого дела еще не знаете. Одно вам скажу, – приходите завтра в «Мадрид». Я снял ресторан и открываю его. Кухня – мое почтение! Ну, да вы знаете, вы мои расстегаи, подвыпивши, на память с собой брали, помните? И говорили: «К стенке приколочу, в рамку вставлю». Хе-хе! Бывало! Вот еще польские колдуны с маслом…»
Случайно ли названо последнее – как знак сытого досуга, изобилия? Польские колдуны с маслом… Это любимое блюдо Грина? Читаем далее:
«– Однако, Терпугов, – сказал я, поперхнувшись от изумления, – вы соображаете, что говорите?! Что, вам одному, противу всех правил, разрешат такое дело, как «Мадрид»? Это в двадцать-то первом году?»
Январь 1921 – время военного коммунизма, когда было строжайше запрещено частное предпринимательство, мы только что прочитали, что стало с магазинами, с киосками, с трактирами. Растерянно удивлённый герой слышит:
«– Там как вы хотите, а приходите. Ко всему тому отдайте-ка мне леща, а я вымочу, вычищу – да обработаю под кашу и хрен со сметаной, уж будете вы довольны! Я думаю, что у вас и дров нет».
Рассказчик, считая, что повар говорит чепуху, всё же отдал ему рыбу и услышал: «Так не забудьте, завтра в «Мадриде» в восемь часов открытие!»
Простившись с поваром, герой слышит разговор об увиденном давеча сеньоре профессоре:
«– Этот испанский профессор – странный человек. Говорят, большой оригинал и с ужаснейшими причудами: ездит по городу на носилках, как в средние века!»
Зовут странного испанца: профессор Мигуэль-Анна-Мария-Педре-Эстебан-Алонзе-Бам-Гран. Рассказчик будет называть его кратко: Бам-Гран (обратим внимание: Гран – это почти Грин). Оказывается, он со своей свитой привёз не из Испании, а с острова Куба дары людям, получающим пайки в Доме учёных: врачам, инженерам, адвокатам, профессорам, журналистам и «множеству женщин». Называются тысячи килограммов кофе и шоколада, маиса, количество вагонов сахара, бочек оливкового масла, апельсинового варенья, хереса. Александр Каур замечает о глазах Бам-Грана: «Его черно-зеленые глаза с острым стальным зрачком направились на меня взглядом, напоминающим хладнокровно засученную руку, погрузив которую в мешок до самого дна, неумолимо нащупывает там человек искомый предмет».
Ощущение сверхъестественного становится всё сильнее. Мы узнаём, что продукты были уже взвешены и погружены в кладовые, а перед столом лежали тюки, которые заключали вещи, и Александр Каур перевёл сказанное Бам-Граном, что с разрешения пайковой комиссии, он «будет иметь честь немедленно показать собранию все, что есть в тюках».
Читаем: «руки испанцев, с уверенностью кошачьих лап, взвились из-под плащей, сверкнув узкими ножами; повернув тюки, они рассекли веревки, затем быстро вспороли кожу и холст».
Запомним – «с уверенностью кошачьих лап».
«Еще три тюка распались под движениями острых ножей. Появились куски замечательного цветного шелка, узорная кисея, белые панамские шляпы, сукно и фланель, чулки, перчатки, кружева и много других материй, видя цвет и блеск которых, я мог только догадаться, что они лучшего качества. Разрезая тюк, испанцы брали кусок или образец, развертывали его и опускали к ногам. Шелестя, одна за другой лились из смуглых рук ткани, и скоро образовалась гора, как в магазине, когда приказчики выбрасывают на прилавок все новые и новые образцы».
А теперь сравним: «в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов парижские женские платья. Это в одних витринах, а в других появились сотни дамских шляп, и с перышками, и без перышек, и с пряжками, и без них, сотни же туфель – черных, белых, желтых, кожаных, атласных, замшевых, и с ремешками, и с камушками». Это из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, из главы «Черная магия и ее разоблачение».
Читая «Фанданго» Александра Грина и знаменитый роман Михаила Булгакова, видишь, что Воланд и его свита выросли из Бам-Грана с его свитой. «Фанданго» был напечатан в альманахе «Война золотом. Альманах приключений», М., 1927. Михаил Булгаков начал работу над «Мастером и Маргаритой» в тридцатые годы. Он взял у Грина идею визита сверхъестественной силы в советскую действительность.
Смысл посещения Бам-Граном Петрограда в январе 1921 и Воландом – Москвы тридцатых годов совершенно разный. Говорящий по-испански профессор и его помощники привезли бедствующим жителям Петрограда прекрасное покрывало, на котором были вышиты латинскими литерами имена двенадцати девушек. Герой рассказа прочитал публике написанное на бумаге, приложенной к покрывалу:
«Далекие сестры! Мы, двенадцать девушек-испанок, обнимаем вас издалека и крепко прижимаем к своему сердцу! Нами вышито покрывало, которое пусть будет повешено вами на своей холодной стене. Вы на него смотрите, вспоминая нашу страну…»
Сказано, что, когда Александр Каур кончил переводить, «некоторое время стояла полная тишина». Рассказчик повторяет: «Далекие сестры…» Была в этих словах, читаем, грациозная чистота смуглых девичьих пальцев, прокалывающих иглой шелк ради неизвестных им северянок, чтобы в снежной стране усталые глаза улыбнулись фантастической и пылкой вышивке. Юг кивнул Северу. «Он дотянулся своей жаркой рукой до отмороженных пальцев». Эта рука, пахнущая розой и ванильным стручком, – легкая рука нервного создания, носящего двенадцать имен, «внесла в повесть о картофеле и холодных квартирах наивный рисунок, подобный тому, что делает на полях своих книг Сетон Томпсон: арабеск из лепестков и лучей».
Интересно, как воспринимает дары гражданин, назвавшийся статистиком Ершовым. Грин оставляет нам вопрос – а не согласны ли с Ершовым другие? Тот кричит, покрываясь красными пятнами: «– Я в истерике, я вопию и скандалю, потому что дошел! Вскипел! Покрывало! На кой мне черт покрывало, да и существует ли оно в действительности?!»
Бам-Гран спрашивает, что кабаллеро Ершов имеет против него.
«– Что я имею? – вскричал Ершов. – А вот что: я прихожу домой в шесть часов вечера. Я ломаю шкап, чтобы немного согреть свою конуру. Я пеку в буржуйке картошку, мою посуду и стираю белье! Прислуги у меня нет. Жена умерла. Дети заиндевели от грязи. Они ревут. Масла мало, мяса нет, – вой! А вы мне говорите, что я должен получить раковину из океана и глазеть на испанские вышивки! Я в океан ваш плюю! Я из розы папироску сверну! Я вашим шелком законопачу оконные рамы! Я гитару продам, сапоги куплю. Я вас, заморские птицы, на вертел посажу и, не ощипав, испеку!»
Ершов стал топать ногами, и Бам-Гран вздохнул, качая головой.
«– Безумный! – сказал он. – Безумный! Так будет тебе то, чем взорвано твое сердце: дрова и картофель, масло и мясо, белье и жена, но более – ничего! Дело сделано. Оскорбление нанесено, и мы уходим, уходим, кабаллеро Ершов в страну, где вы не будете никогда!»
Затем он обратился к герою рассказа: «Вы же, сеньор Каур, в любой день, когда пожелаете, явитесь ко мне, и я заплачу вам за ваш труд переводчика всем, что вы пожелаете!»
После ряда приключений наступил финал огромного значения. Герой оказался в дне: 23-е мая 1923 года. Это уже нэп. Открыты магазины, киоски, кафе и рестораны. Александр Каур помнит приглашение Афанасия Терпугова. «Я достиг «Мадрида» почти бегом». Терпугов обрадован:
«– Вот и вы, – сказал он. – Присядьте, сейчас подадут. Ваня! Ихнего леща! Поди, спроси у Нефедина, готов ли?»
Официант принёс кушанье, открыл бутылку мадеры. На тарелке шипел поджаренный лещ.
Произведение, начатое звучащей в сознании героя мелодией фанданго в ледяном Петрограде, заканчивается в Петрограде майском, в ресторане под названием «Мадрид», обедом с мадерой. Ресторан, где в досоветское время наслаждался Александр Каур, названный именем жаркой испанской столицы, возродился при нэпе.
В 1927 году, когда был опубликован рассказ, ещё не знали, что нэп вскоре будет отменён. Для Грина он – избавление от военного коммунизма, при котором появляется говорящий на «кастильском наречии» маг-профессор Бам-Гран, посланец лучезарного Юга с кофе и шоколадом, с маисом, с оливковым маслом и апельсиновым вареньем, а также с гитарами и мандолинами, с роскошным шёлковым полотном, на котором кубинские девушки, неустанно трудясь, вышили пожелание счастья.
По Грину, помощь пришла извне. Испанцы в рассказе вызывают симпатию, русские — нет.
Сказав о нэпе как о возрождении танца фанданго в Советской России, Грин более не упоминал о ней. Гордый, как истый поляк, он попросту игнорировал её, создав свой живущий при капитализме нерусский мир. Сам псевдоним писателя «Александр Грин» словно пришёл из-за границы. По всему вышесказанному коммунистка Лидия Сейфуллина вполне правомерно назвала его идеологическим врагом.
О Булгакове
Приезжая в Москву, мой отец ходил в театры: смотрел в Малом театре спектакль по драме Шиллера «Коварство и любовь», в Большом театре слушал оперу Чайковского «Пиковая дама», где роль Германа исполнял драматический тенор Никандр Сергеевич Ханаев.
Смотрел отец и пьесу Булгакова «Дни Турбиных», которая сезон за сезоном шла в МХАТе. В литинституте имя Михаила Афанасьевича Булгакова слышалось часто. Говорили о том, что его резко критиковали в печати многие литературные знаменитости; было известно, что он написал сатирические вещи, которые не печатают. Однако «Дни Турбиных» не раз глядели Сталин и члены правительства.
Рассказывали, что у автора слава за рубежом, что его приглашают на приём в американское посольство. Он хотел уехать за границу, написал письмо Сталину о том, что его не публикуют и ему не на что жить. Сталин позвонил ему на дом, обещал помочь, но из СССР не выпустил. После этого Булгаков был режиссёром в МХАТе, затем либреттистом в Большом театре. Обсуждалось то, что он с женой ужинает в ресторанах гостиниц «Метрополь» и «Националь», содержит жену, её сына с воспитательницей и домработницу.
Было ясно, что Булгаков не смог бы так жить, если бы ему не благоволил Сталин. Казалось бы, это было странно – автор не являлся борцом за социализм.
У моего отца имелось объяснение: для Сталина таили опасность авторы, которые гордились заслугами перед советской властью, пользовались авторитетом в среде коммунистов. То есть считались своими, а Сталина могли не признать. Меж тем Булгаков жил, только пока его терпели, с заткнутым ртом он не мог агитировать против режима. Да, некоторых белых он подал симпатичными, однако, прежде всего, он показал их обречённость. Начало романа «Белая гвардия», который перевоплотился в пьесу «Дни Турбиных», вышло в журнале «Россия» в 1925 году, большевики видятся в нём как положительная сила.
В 1928 году в МХАТе готовились к постановке пьесы Булгакова «Бег», цензура запретила её, поскольку наверху посчитали, что показ обречённости «класса эксплуататоров» дан не с должной силой. Тем не менее, о белых сказано ясно. Вот разговор генерала Хлудова и архиепископа Африкана.
«Хлудов. Вы мне прислали Библию в ставку в подарок?
Африкан. Как же, как же...
Хлудов. Помню-с, читал от скуки ночью в купе. «Ты дунул духом твоим, и покрыло их море... Они погрузились, как свинец, в великих водах...» Про кого это сказано? А? «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя...» Что, хороша память?»
В литинституте обсуждали создание Булгаковым пьесы о юности Сталина и то, почему этой вещи не дали хода. Мой отец говорил на сей счёт: представим, что кто-то о ком-то захотел написать пьесу, назвав героя его реальным именем. Герой непременно потребует показать работу ему и выскажет замечания. Что-то ему не понравится, он захочет изменить это и это. Словом, совершенно исключено, чтобы герой принял целиком «на ура» написанную о нём пьесу.
На что же надеялся Булгаков? Уж коли его посетила идея написать хвалебную вещь о Сталине, надо было сначала выяснить – согласен ли тот вообще на появление такой вещи. В случае положительного ответа следовало тщательно согласовывать с ним или с теми, кому он это поручит, всю работу, пока не будет поставлена последняя точка.
Булгаков же стал сообщать, какое яйцо он снесёт, читать знакомым незаконченную пьесу. Известие о ней разнеслось с понятной быстротой, люди решили, что пьеса создаётся с одобрения Сталина, в ряде театров уже собирались её поставить. Сталин с его хитростью наверняка усмехнулся – драматург, наделив его романтической юностью, решил купить этим великого вождя и учителя. Будь пьеса разрешена, на какую недосягаемую высоту был бы вознесён сам Булгаков! Все взахлёб восхваляли бы вещь, потому что она – о Сталине. И кем считался бы автор? Конечно, такое не могло быть позволено.
Преподаватель литинститута сказал студентам, что автор получил объяснение из ЦК партии, почему вещь не будет поставлена. Нельзя показывать вождя в придуманных сценах, вкладывать ему в уста придуманные слова.
Но вождь не осудил желание драматурга воспеть его юность, превознести его. Сталин нанёс визит в МХАТ и отозвался о Булгакове благосклонно, после чего там решили ставить его пьесу «Александр Пушкин». Об этом драматург узнал слишком поздно. Как только ему, ехавшему в поезде в Батуми, передали телеграмму, что пьеса о юности Сталина не пойдёт, его поразил ужас ареста. Был август 1939, аресты стали обыденным явлением, а Булгаков не отличался психическим здоровьем. Постоянно ожидая звонка в дверь, он прибегнул к морфию, пристрастием к которому страдал в молодости. Организм стал быстро разрушаться, отказывали почки, и 10 марта 1940 Булгаков умер.
Отец говорил мне, что в литинституте ходили слухи о некоем романе Булгакова про похождения дьявола в Москве. О том-де, чтобы опубликовать это произведение, нет и речи.
Но прошло время, и роман «Мастер и Маргарита» в сокращённом виде напечатали в журнале «Москва» в номерах 11 (1966 год) и 1 (1967). В 1973 году он был выпущен в полном объёме издательством «Художественная литература». Ещё когда я школьником прочитал журнальный вариант, отец объяснил мне, что Булгаков вдохновенно поострил над Союзом писателей в Москве, представленным как МАССОЛИТ, любовно запечатлел свою жену Елену Сергеевну в образе Маргариты, всё это соединив с библейскими, в авторской интерпретации, персонажами, привнеся в произведение отзвуки западноевропейской мистики, незнакомой советскому читателю и подстегнувшей интерес.
Несомненно, о романе в своё время сообщили Сталину, и тот, не исключено, увидел намёк на себя в образе Воланда. Воланд таков, что параллель не могла не польстить Сталину.
Не стесняющийся Алексей Толстой
То, что Алексей Толстой взял у итальянского писателя Карло Коллоди сказку о деревянной кукле Пиноккио, которого преобразовал в Буратино и вручил ему золотой ключик от двери, надо понимать, в счастье социализма, разумеется, знали в литинституте. Изделие, получившееся у Алексея Толстого, проще, неинтереснее Пиноккио.
Но мой отец открыл ещё одно доказательство того, что Алексей Николаевич не стеснялся заимствований. Роман Алексея Чапыгина «Разин Степан» начинается сценой: на площади закопана в землю по плечи женщина, убившая мужа, который издевался над ней. У неё вырывается: «Да ведь муж-от мой аспид был».
В романе Алексея Толстого «Петр Первый» так же читаем о закопанной на площади женщине, которая называет убитого ею мужа зверем. У Чапыгина Степан Разин откапывает и спасает женщину, у Алексея Толстого царь Пётр велит её пристрелить. Роман Чапыгина вышел в свет в 1927 году. Алексей Толстой приступил к работе над «Петром Первым» в 1929 году, печатать роман начали в 1934-м. Фон, на котором разворачивается действие, схож с колоритом времени, запечатлённым в романах Чапыгина «Разин Степан» и «Гулящие люди». Но язык персонажей Чапыгина самобытнее, ярче.
О Горьком
В Литературном институте об Алексее Максимовиче Горьком говорили – конечно, мол, он великий пролетарский писатель (иногда добавляя: «хотя и грешивший богостроительством»). Мой отец слышал передаваемое шёпотом, что Горький ещё и «огнепоклонник», что в молодости его заворожило произведение Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». Ницше взял для своего героя имя древнеперсидского пророка Зороастра, основателя религии огнепоклонников, в чьих храмах горел священный огонь, и в рабочем кабинете Горького якобы тоже всегда горели свечки.
Алексей Гергенредер слышал, что портреты Горького и Ницше разительно похожи. Мой отец портрета Ницше не видел, но заметил то, о чём никто не заикнулся: большевик ли Павел Власов, главный герой романа «Мать», который был написан в 1906 году? Павел на суде говорит:
«– Мы — социалисты».
Затем, продолжая свою речь, произносит:
«– Мы — революционеры».
Социалисты-революционеры – это эсеры. Горький в романе показал их, побуждавших рабочих к борьбе за право на достойную жизнь. В отличие от большевиков, эсеры полагали, что при капитализме имеется довольно возможностей улучшать положение тружеников. Фабрики, заводы отнимать у их владельцев не надо, это гибельный перехлёст. Достаточно ввести прогрессивный подоходный налог, установить восьмичасовой рабочий день и гарантировать законом право предъявлять капиталистам те или иные требования. Если же заводы, фабрики будут в руках диктатуры, никаких требований не предъявишь. Так и оказалось.
Горький не пришёл в восторг от того, что большевики вооружённой силой свергли Временное правительство, а что уж говорить о расстреле мирных демонстраций в защиту Учредительного Собрания. Именно Горький, который в своё время поддерживал большевиков деньгами, бросил им: «5 января расстреливали рабочих Петрограда, безоружных. Расстреливали без предупреждения о том, что будут стрелять, расстреливали из засад, сквозь щели заборов, трусливо, как настоящие убийцы».
То, почему Горький в юности стал противником царского режима, Алексей Гергенрёдер понял, прочитав его автобиографические повести «Детство», «В людях», «Мои университеты», а также читая разные свидетельства о жизни населения при самодержавии. Российская империя отнюдь не отличалась уважением к правам и свободам человека. До созыва Первой Государственной Думы в 1906 году лишь Россия и Черногория, из всех стран Европы, включая Турцию, не имела народного представительства.
Одним из примеров варварства являлась юдофобия. В 1881 году, когда Горький был подростком, народовольцы убили Александра II, а газеты обвинили в его убийстве евреев. В Елизаветграде, Киеве, Белой Церкви, Одессе, в других городах разразились погромы, а поведение властей было таково, что в массах распространилось убеждение: евреев дозволено громить.
Погромы вспыхивали и позже. В дни Пасхи 1899 года три дня длился погром в Николаеве. В Пасху 1903 года в Кишинёве погромщики убили 49 евреев.
В 1911 году правые политики и чиновники, сам министр юстиции И. Щегловитов ухватились за ложь о ритуальном убийстве, в котором был обвинён заводской приказчик еврей Менахем Мендель Бейлис. Следователей, которые не хотели участвовать в подтасовке фактов, отстраняли от расследования. Бейлис два года пробыл в тюрьме, пока, вопреки усилиям прокурора, не был оправдан судом присяжных.
А разве могли не возмущать Горького расстрелы рабочих, выходивших на демонстрации? В 1900-1903 годах разразился кризис, в стране закрылось три тысячи предприятий, и более ста тысяч рабочих оказались без средств на кусок хлеба. 7 мая 1901 по протестующим рабочим Обуховского завода в Петербурге был открыт огонь. Там же, в столице, 4 марта 1901, власти жестоко разогнали студенческую демонстрацию у Казанского собора. В ответ на это Горький написал «Песню о Буревестнике» – журнал «Жизнь», который её напечатал, закрыли.
Расстрелы демонстраций продолжались. 11 марта 1903 года были убиты 60 рабочих Златоустовского оружейного завода. Огонь открывался по рабочим Екатеринбурга, других городов. 9 января 1905, в Кровавое Воскресенье, от стрельбы по мирному шествию рабочих Петербурга погибло 1200 человек.
Сколько было ещё преступлений самодержавия, пока ему не пришёл конец в Феврале 1917 года. Алексей Гергенрёдер помнил, как радовались его братья, друзья, он сам и другие люди, когда в Кузнецке стало известно Положение о выборах в Учредительное Собрание. Легко было представить, что чувствовал тогда Горький и что он почувствовал потом, при тирании народных комиссаров, которая явилась, по сути, контрреволюцией. Он писал, что Ленин, Троцкий и их приспешники отравились гнилым ядом власти, позорно глумятся над свободой личности, свободой слова, над всеми правами, за которые боролась демократия. Они слепые фанатики и бесстыжие авантюристы, которые мчатся якобы по пути к «социальной революции», а на самом деле это путь к гибели пролетариата и революции.
Алексей Гергенредер запомнил слова Горького о том, что народные комиссары относятся к России как к лошади для опыта, которой учёные прививают тиф. Комиссары проводят заранее обречённый на неудачу опыт, не заботясь о том, что лошадь может издохнуть. Горький написал, что пока он может, он будет твердить русскому пролетарию: тебя ведут на гибель, тобою пользуются как материалом для бесчеловечного опыта.
Мой отец вслед за двумя братьями пошёл воевать против этого, а Горький, действуя печатным словом, с первых дней был в бою впереди всех – вплоть до закрытия его газеты «Новая жизнь» в июле 1918 года.
Он работал на будущее
Войну белые проиграли, моего отца подломила сила победителей, и у него вызывала понимание занятая Горьким позиция. Формально признав власть большевиков, он с неимоверной энергией занялся просвещением масс, стремясь сеять семена духовного роста, свободомыслия. Он добился продуктовых пайков для учёных, писателей, поэтов, переводчиков. Когда в 1919 году Александр Грин лежал в тифозном бараке, Горький послал ему хлеб, чай, мёд. Выздоровев, Грин, благодаря Горькому, получил академический паёк и комнату в «Доме искусств» на Невском проспекте.
Горький утвердил идею: издавать для народа образцово переведённые произведения всех заметных авторов мира. Этим не занималось и не занимается ни одно государство.
Горький вступался за лиц, страдавших от советской власти, он был костью в горле у большевиков. Их верхушка летом 1921 не позволяла больному голодающему Александру Блоку выехать в Финляндию – Горький хлопотал за него. Наконец, разрешение было получено, но Блок на другой день умер, не успев им воспользоваться.
Мой отец не сомневался, что самого Горького в 1921 году выпроводили из страны, сообщив, будто он выехал на лечение. В 1922-м он обратился к председателю СНК Алексею Рыкову, который сменил на этом посту заболевшего Ленина, с просьбой помиловать двенадцать членов ЦК партии эсеров, обвинённых в подготовке покушения на первых лиц государства. Эсеров приговорили к смертной казни, но, благодаря кампании в их защиту, расстрел заменили пятью годами тюрьмы.
Не было похоже, что советская власть кончится, и мой отец, который в своё время был вынужден примириться с реальностью, понял Горького, когда тот в 1929 году возвратился из-за границы. Писателя восхваляли, подавая его творчество так, как это нужно власти, замалчивая всё то, что ей вредило, и ему, весьма честолюбивому, уже некуда было деться. Однако он не написал ни одной прозаической вещи, в которой отразил бы достижения «побеждающего социализма». От его имени публиковались высказывания в её пользу, а он и пальцем не мог пошевелить.
Конечно, он и сам приспосабливался, превознёс строительство Беломорско-Балтийского канала, но делал он это, считал Алексей Гергенредер, ради того, чтобы ему позволяли растить новые творческие силы. Горький создал в 1930 году журнал «Литературная учёба» в помощь рабочему и крестьянину, пожелавшему стать литератором. В первом номере журнала Горький писал: «Наша задача — цели нашего журнала — учить начинающих писателей литературной грамоте, ремеслу писателя, технике дела, работе словом и работе над словом».
Мой отец полагал, что, по мысли Горького, лучшие из литераторов увидят пороки диктатуры и найдут возможность «размывать» её. В любом случае, образованный творческий человек не поддастся увлечению утопией. Таким образом, Горький прививал системе почки передовой культуры, и это стоило сделки с властью. Угождая ей, опускаясь, что греха таить, до подлостей, писатель впадал в заблуждения – написал драму «Сомов и другие» о вредителе, но сам почувствовал её неубедительность и от постановки отказался.
Сталин, можно полагать, постоянно давил на Горького с тем, чтобы тот послушно исполнял его волю. Уже после смерти писателя один из однокурсников моего отца сказал ему по секрету о где-то услышанном: в последний год своей жизни Горький просил Сталина отпустить его в Италию, чтобы поддержать уходящее здоровье, а Сталин ответил – в Крыму климат не хуже, чем в Италии.
Мой отец не сомневался – Горького умертвили по воле Сталина. Впоследствии явилось доказательство. В 1964 году, в издательстве «Советский писатель» в Москве, вышла книга: Илья Шкапа. «Семь лет с Горьким. Воспоминания». Там сказано, что Горькому разрешалось выезжать из Москвы только в Горки и в Крым. Писатель поведал автору: «Устал я очень… хотел бы побывать в деревне и даже пожить, как в былые времена… Не удается… Словно забором окружили – не перешагнуть!... Окружен… Обложили… ни взад, ни вперед!»
В августе 1936 состоялся так называемый Первый Московский процесс, на котором ленинские соратники Зиновьев, Каменев и ещё 14 «троцкистов-террористов» обвинялись в убийстве Кирова и в заговоре с целью убийства Сталина. На очереди был арест и расстрел Генриха Ягоды, с которым Горький поддерживал дружеские отношения. Как это воспринял бы писатель? К нему мог обратиться кто-либо из иностранных корреспондентов, из литераторов с вопросами и о процессе, и о Ягоде. Неизвестно, что мог ответить не сломленный до конца Горький. Пресекать встречи с ним под тем или иным предлогом? Проще было, чтобы он навсегда умолк. И Горький умирает 18 июня, его останки кремируют, дабы в будущем никто не смог открыть причину смерти. Но на воре шапка горит – вождь остерёгся слухов об умерщвлении и обвинил в нём тех, кто был предусмотрен его планами.
Об одном кочевье
Алексей Гергенрёдер познакомился со студентом – представителем одной из народностей Крайнего Севера, обсуждал с ним популярную в то время книгу Тихона Сёмушкина «Алитет уходит в горы», хотя описанные в ней места были довольно далеки от родины студента – тундры с низкогорным Уральским хребтом, который тянется до Карского моря.
Студент, говоря о своих соплеменниках-кочевниках, сообщил, что было одно кочевье сплошь из русских мужчин – из бывших белогвардейцев, с которыми были молодые женщины из местных. Не признавшие советскую власть люди перегоняли стадо оленей через Уральский хребет с запада на восток и назад, жили в чумах, покрываемых оленьими шкурами, по образу жизни ничем не отличались от тамошних кочевников.
Алексею стоило труда не показать волнение, он невольно вообразил себя в чуме среди единомышленников. На его осторожные расспросы студент отвечал, что более ему нечего сказать, и, если НКВД не добрался до белогвардейцев, они кочуют и сейчас.
Мой отец сфотографировался с рассказчиком: тот вызвал симпатию тем, что говорил о белых без неприязни к ним.
Среда, в которой после Гражданской войны вынужден был жить Алексей, оставалась для него чуждой. Продолжая считать, что он и его друзья, добровольцы Белой армии, боролись за свободную, демократическую Россию, он таил от окружающих своё неприятие советского режима, вынужден был приспосабливаться, быть «своим среди чужих».
Французский бульвар
Учившийся в Литературном институте одессит позвал моего отца съездить в Одессу – познакомиться с «одним редким камушком». Отец побывал в Одессе в 1925 году, а теперь было лето 1936-го. Изобилие еды, которое дразняще помнилось, исчезло; только что отменили карточки на хлеб – товарищ рассказал Алексею, как голодно жила Одесса в начале тридцатых. Товарищ жил в Слободке с родителями, на участке при их доме рос виноград. Прежде всего, гостя принялись кормить виноградом – «объедаешь гроздь за гроздью, а их полный таз».
Потом пошли к «редкому камушку», жившему неподалёку. Алексей знал о нём от товарища: «Эсер с самой ранней юности и притом писатель, спорил с Куприным, дружил с Андреем Соболем».
Мой отец запечатлел в памяти: тихий день в накале жары, белёный дом, крытый красной черепицей, во дворе у коровника – по-рабочему одетый старик с вилами, подвижный, энергичный; ярко седые густые волосы, совершенно белые широкие брови. Приглядевшись, ему можно было дать немного за шестьдесят. Товарищ обратился к нему: «Исак Исакович! – и кратко представил Алексея: – Это мой друг, он тоже пишет».
Исак Исакович кивнул. Он убирал за двумя коровами в коровнике, гости помогли ему закончить работу. Жил он с дочерью, с внуками и внучками, жена умерла. Раньше он преподавал в еврейской школе, но его уволили, учтя эсеровское прошлое. Доступным занятием стал уход за коровами: в частных дворах, оказалось, разрешали держать одну-двух коров.
«Обедаю я здесь на воздухе», – сказал он гостям, его дочь вынесла из дома, постелила на травке ветошь, на которую сначала прилёг хозяин, а затем и гости. Обед состоял из принесённой из летней кухни свежесваренной горячей кукурузы, соли и молока из погреба. В разговоре Алексей, обращаясь к хозяину, назвал его Исааком Исааковичем. «Второго «а» не надо, – поправил тот, добавив: – Я это и Куприну указал». – «Куприну?» – ухватился Алексей.
Старик до конца обработал зубами кукурузный початок, отпил из кружки молока, произнёс: «Ввёл я его в жестокую досаду, но только не этим замечанием… Я ему сказал, на чём он играет». И Исак Исакович взялся за рассказ Куприна «Белый пудель», написанный в 1903 году. Бродячие циркачи, старый Мартын Лодыжкин, мальчик Сергей, пудель Арто, идя вдоль побережья Крыма, дают перед дачами нехитрые представления. Зарабатывают этим копейки, а то и вовсе ничего. В одном из домов донельзя избалованный хозяйский сынок хочет заполучить пуделя Арто, за него предлагают триста рублей.
Исак Исакович, по памяти приводя цитаты, привёл слова дворника, обращённые к Лодыжкину: «Ты подумай только: три сотенных! Ведь это сразу можно бакалейную открыть…» Нищим бездомным старику и мальчику улыбнулась сказочная удача. Исак Исакович напомнил: о чём Лодыжкин мечтал как о несбыточном? Купить Сергею розовое трико с золотом, атласные туфли. Всего-то. Меж тем в руки идут деньги, во сне не виданные, бакалейная лавка начнёт приносить доход, у бродяг будет жильё, они будут сыты. Но нужно отдать собаку. Отдать не на живодёрню, а в богатый дом. И что же? Исак Исакович произнёс: «Куприн описывает нам гордый отказ нищего старика. Отказ – без раздумий, без тени колебаний. Для него, мол, продать пуделя – то же самое, что продать брата или верного с детства друга. Вы читали, вы помните, как старик – само благородство – отбривает дворника».
Алексей и его товарищ закивали, а Исак Исакович объявил, что Куприн «грубо сфальшивил». Лодыжкин в этой сцене ни в коей мере неправдоподобен, перед нами не нищий бродяга, а резонёр, притом такой, для кого триста рублей – не диковинка.
«В вашем литературном институте вам об этом, конечно, не говорили», – сказал гостям бывший эсер и перешёл к тому, почему публика восхитилась рассказом. Куприн сыграл на том, что небедные люди, окружённые удобствами, хотели видеть простых людей душевно прекрасными. «Отчего такое? – продолжал Исак Исакович. – В верхних слоях под влиянием культуры развилась неловкость оттого, что они беды не знают, а остальные живут тяжким трудом и не всегда сыты». Бывший эсер добавил, что давно занимается вопросом о неловкости бывших имущих. Гости, помня об обстановке, воздерживались от вопросов, натирали солью кукурузные початки, работали челюстями, попивали молоко.
Хозяин пригласил их в дом, ввёл в небольшую уютную комнату с окном, глядевшим в огород, у окна стоял письменный стол. Исак Исакович сказал, что пишет воспоминания об одесском народовольце 1870-х годов Илье Рубановиче, которого выслали за границу, и он там ещё более прославился как революционер. Затем писатель кивнул на висевшую на стене кошёлку: «Бельё, сухари. Каждый час жду…»
Мой отец в острой грусти прощался со старым человеком. Потом с товарищем ходил на пляж, в Зелёный театр в парке Шевченко, гулял по Французскому бульвару, где оглядывал Одесскую киностудию, осматривал также Одесский русский драматический театр. И снова, уже один, возвращался на Французский бульвар, думая: Исак Исакович как эсер должен бы одобрять рассказ Куприна – провозглашаются чистота души, гордость, достоинство человека из народа. Но писатель в Исаке Исаковиче сильнее революционера и восстаёт против фальши образа.
Каков же, на самом деле, народ, по невысказанному мнению прожившего жизнь человека? Народ такой, какой признал советскую власть, признал не только разорение и убийства людей небедных, но и отправку в тюрьмы, в лагеря своих неимущих братьев.
По прошествии времени товарищ-одессит тихо сказал моему отцу, что Исак Исакович был арестован в январе 1938 года и расстрелян.
Невский проспект
С другим своим однокурсником, ленинградцем, Алексей в 1939 году ездил в Ленинград. Приятель показал гостю гостиницу «Астория» напротив Исаакиевского собора. В Литературном институте можно было услышать рассказы о дармовом пиршестве, какого в «Астории» удостоились писатели, приглашённые на экскурсию по Беломорско-Балтийскому каналу в 1933 году. Однокурсник, знавший «всё из первых рук», говорил моему отцу: «Представь: блюда тебе одно за другим – больше полсотни! Так и цари нечасто ели. Индейка с шампиньонами, бефстроганов в вине и сметане… А десерты! Плод фейхоа – слышал про такой?» Мой отец слышал и только. И знал, чем стал знаменит тридцать третий год: деревни на огромной территории вымирали от бесхлебицы.
Банкет писателям устроило ОГПУ, взявшее на себя вообще все заботы об экскурсии, дабы советские люди могли прочитать об отлично организованном труде заключённых, которые прокладывали канал, о хороших условиях их жизни, о досуге, о занятиях художественной самодеятельностью.
«Какому ещё государству так нужны писатели?» – сказал ленинградец моему отцу, и тот мысленно продолжил: «Кто, как не они, построят в своих творениях социализм, какого реальная жизнь вряд ли дождётся?»
Наверное, потому, что писатели столь нужны, заботливый хозяин не забывал о прореживании. Был расстрелян Владимир Зазубрин, в романе «Два мира» не пожалевший чёрной краски для колчаковцев при описании, с позиций большевика, той самой борьбы, в которой участвовал и Алексей Гергенредер. Расстреляли Бруно Ясенского, в чьём романе «Человек меняет кожу» восхваляется строительство новой жизни в Таджикистане. Писатель был на банкете в «Астории» и затем написал, что требовалось, о Беломорско-Балтийском канале. Расстреляли Ивана Макарова, автора повести «Рейд Черного Жука», где живописуются зверства белогвардейцев, делавших набеги из Китая на территорию СССР. Тот же конец постиг Артёма Весёлого, большевика с марта 1917 года, добровольцем ушедшего воевать с Деникиным, работавшего в ЧК, автора романов «Страна родная», «Россия, кровью умытая». Расстреляли Георгия Никифорова, чей роман «У фонаря» выдержал 18 изданий; автора обвинили в участии «в заговоре писателей». Уничтожили как «врага народа» Виктора Кина (Суровикина), который в 1918 году стал комсомольцем, в 1920-м — членом партии, летом того же года добровольцем ушёл на польский фронт, участвовал в подавлении восстания Антонова, после чего был заслан на Дальний Восток, занятый белыми, для подпольной работы и прославился написанным на этом материале романом «По ту сторону».
Расстреляли поэтов Павла Васильева, Бориса Корнилова, которые в своих стихах клеймили кулаков.
Скольких ещё литераторов не спасло от злой участи служение коммунистическим идеалам… То, что получил пулю Борис Пильняк, автор нашумевшего романа «Голый год», неудивительно – своей «Повестью непогашенной луны» он указал, что Сталин устранил Фрунзе.
Однокурсник повёл Алексея на Невский проспект, тогда он назывался проспектом 25 Октября, но питерцы не отказались от исторического названия. «Здесь гуляли гоголевские поручик Пирогов и майор Ковалёв, ковылял капитан Копейкин! – воскликнул приятель. – Зайдём туда, куда и они бы зашли», – и указал на закусочную. В то время самообслуживания не знали: официантка подала друзьям хлеб, сосиски, чай, что стало для моего отца событием.
Ленинградец пожаловался ему: «Жаль, нам не по карману съесть то, что едал Чичиков в гостях у Собакевича, – да и нет здесь той еды». Тогда мой отец высказал свою давнюю мысль о Собакевиче: не похож он на мёртвую душу. Алексей имел в виду, что, в принятом понимании, мёртвые души – все персонажи одноимённого произведения. Но Собакевич – полный сил и здоровья раблезианец, надёжно устроивший свою жизнь, хитрец, независимый характер. Что мёртвого в нём, который так относится к служащим государства? О губернаторе заявляет:
«– Первый разбойник в мире! Дайте ему только нож да выпустите на большую дорогу — зарежет, за копейку зарежет! Он да еще вице-губернатор — это Гога и Магога!»
А вот (для точности привожу по книге) характеристика полицеймейстера и других должностных лиц:
«– Мошенник! — сказал Собакевич очень хладнокровно, — продаст, обманет, еще и пообедает с вами! Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья».
Алексей сказал, что мы-де восхищаемся обличителем Гоголем, чей гротеск обрамляет правду: «весь город там такой: мошенник на мошеннике…» Но мы, мол, не видим, что Собакевич свободно высказывается в царствование Николая I, известное нам подавлением свободомыслия. «А попробуй…» – начал он было фразу и осёкся.
Взгляд товарища говорил, что тот его понял: «А попробуй сейчас отнести слова Собакевича к первому и второму секретарям обкома, к начальнику милиции, к прокурору, попробуй сказать о городских властях: «Я их знаю всех: это всё мошенники…» Какой срок тебе влепят за ярую антисоветскую агитацию!»
Друзья направились в Эрмитаж, где пробыли до вечера. Потом в комнате друга в коммунальной квартире ели суп с рыбками-снетками, высушенными, как щепочки. Товарищ сказал, что к его знакомым приезжала родственница из Латвии, её муж – рабочий на фабрике, сама она домохозяйка. Так вот, у них на завтрак – белый хлеб со сливочным маслом, сыр, на обед нередко – свинина с горохом, ветчина. «Как у нас было при нэпе», – заключил товарищ, и мой отец кивнул со вздохом.
День за днём занимали прогулки по Ленинграду. Алексей прошёлся по Аничкову мосту через Фонтанку, любуясь его скульптурами, гулял в Александровском саду, глядел на Медного всадника, осматривал Петергоф.
Приятель повёз Алексея к знакомому «кое-что почитать». У того оказались воспоминания поэта и драматурга Анатолия Мариенгофа о его веке, молодости, друзьях. Мариенгоф, друг Есенина, был в то время нестар, мой отец о нём слышал. Воспоминания его не издавались, их переписывали и передавали друг другу знакомые.
Алексей читал часа два, ему запомнилось, как Есенин и Мариенгоф во время Гражданской войны жили в Москве в нетопленной квартире, спали на одной кровати и через объявления находили девушек, которые грели бы им постель, перед тем как друзья в неё лягут. Одна девушка полежала в постели и страшно возмутилась, что от неё более ничего не требуется. Уходя, она изо всех сил хлопнула дверью.
Мариенгоф написал и о том, как Маяковский в Госиздате плясал чечётку, «выбивая» гонорар. После чтения Алексей, его товарищ и хозяин квартиры «перемыли косточки» Маяковскому: что, мол, за строка «по длинному ряду купе и кают…» Купе имеются в вагоне, каюты в пароходе, как может быть в одном ряду и то, и другое? А уж фраза «я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза» – прямое обозначение похабного жеста.
А чего стоит строка «Я люблю смотреть, как умирают дети»? Маяковский был неспособен зачинать детей, то есть, при способности к половым актам, мужчиной он считаться не мог. Это его доставало и вылилось в приведённую строку.
Надежда на малое и отлучение
Попрощавшись со знакомым однокурсника, Алексей на другой день попрощался и с ним, уехал в Москву. Он окончил Литературный институт в начале 1941 года. К тому времени несколько его рассказов опубликовал «Орловский альманах». О чём мечтал мой отец? О том, что аресты прекратятся, вернётся нэп, и можно будет, зарабатывая гонорары, не отказывать себе в хорошей еде, иногда ездить по стране.
Незаурядно одарённый, он и при прежних условиях мог бы стать писателем (таким, каким тогда только и можно было стать, – советским). Хотя, как он сам мне говорил, сильные произведения у него не вышли бы. Для них необходим внутренний огонь, а в нём горел огонь неприятия окружающей действительности и насаждаемой идеологии. Работать, подавляя этот огонь, говорил мне отец, всё равно что глядеть на свежее мясо, которое тебе нельзя сварить, и чистить картошку.
Я спросил: а если писать о животных? Он ответил: «О Тузике? И как бы ты о нём написал?» В мои детские годы я и другие ребята кормили появившуюся откуда-то собаку с выколотым глазом, её назвали Тузиком. Для неё сколотили конуру. Но нашлись взрослые, которые вызвали так называемого собачника. Он приехал в телеге, запряжённой лошадью, на телеге стоял большой дощатый ящик. Собачник подманил Тузика, накинул ему на шею петлю, затянул её, поднял собаку и опустил внутрь ящика. Мы, дети, видели это и слышали, как Тузик, висящий в петле внутри ящика, бьётся о его стенки. Никто не мог вмешаться, потому как собачник приехал по заявлению, делал своё дело согласно советским законам. Трупы собак использовались для изготовления мыла, которое продавалось коричневыми кирпичиками и, к радости потребителей, стоило копейки.
Вернусь, однако, ко времени, когда мой отец окончил Литературный институт. Вскоре началась война, и немцы были отлучены от печатного слова, а потом отца и вовсе лишили права что-либо писать.
Начало войны, её послания
В тридцатые годы мать Алексея жила с дочерью Маргаритой (Ритой) и её мужем в селе Кугеси Чувашской АССР, мой отец несколько раз приезжал к ним. В 1937 году от Маргариты, вторично вышедшей замуж, пришла весть, что Хедвига Феодоровна умерла.
Самый младший брат Константин, отслужив в армии, жил в Воронеже и заочно учился в Москве в Коммунистическом институте журналистики. Член ВКП(б), он при партийной чистке умолчал, что его брат Алексей воевал на стороне белых, и никак не пострадал.
Перед войной Рита с недавно родившимся сыном переехала в Бежицу к братьям. Мой отец не раз вспоминал это, повторяя мне, что в воздухе пахло войной, она не грянула внезапно, как потом уверяли. «Неожиданным для Сталина было нападение Германии 22 июня, но люди вполголоса говорили, что скоро будет война, – рассказывал отец. – А Рита возьми и переберись из Чувашии! Там была бы в безопасности». Мне кажется, он не учитывал, что она тосковала в чужой среде.
На второй день войны объявили приказ: сдать радиоприёмники и огнестрельное оружие. Имелись в виду охотничьи ружья, так как за хранение иного оружия и в мирное время полагалась тюрьма. Мой отец ничего огнестрельного не имел, как и брат Владимир. Младший же брат Николай, охотник, свою двустволку «искалечил» ударами о камень и сдал обломки. На фронт братьев не призывали: они были нужны на паровозостроительном заводе.
В небе стали появляться германские самолёты; однажды, выходя на работу, отец замер у крыльца, засмотревшись на воздушный бой. Вдруг что-то ударило о крыльцо и подскочило. То была пуля: выпущенная из пулемёта и не попавшая в самолёт, она исчерпала ресурс полёта и упала с большой высоты на крыльцо.
Ночами с кровати поднимали очереди выстрелов из зениток, взрывы бомб; небо, казалось, вибрировало от рёва моторов. В темноте отец и соседи, выскакивая во двор, стали замечать ракеты, в разных местах выпускаемые из ракетниц и летящие в сторону вокзала и завода. Это германские агенты указывали бомбардировщикам цель.
Заводу доставалось от бомб и ночью и днём: на месте того, другого цеха оказывались руины, однако жизнь шла, не исключая привычных дополнительных способов пропитания: женщины ходили в лес за ягодами и грибами. Как-то работницы принесли на завод известие: они встретили в лесу нескольких немцев в военной форме. Те, произнося немецкие слова, жестами указали: убирайтесь, мол, быстро. Немцы, конечно, были парашютистами, сброшенными с каким-то заданием. Послали ли солдат на их поиски, отец не узнал.
Как отслужившего в армии, его привлекли к занятиям с ополченцами: он учил их обращаться с винтовкой, стрелять.
Всех трудоспособных направляли на рытьё окопов, иногда над людьми пролетали германские самолёты, чей задачей было бомбить объекты Бежицы, Брянска. На скопления просто людей они бомб не тратили. Однажды показался только один германский самолёт, он снизился над рывшими окопы и сбросил что-то – люди легли, ожидая взрыва бомбы, но его не произошло. Самолёт улетел. Мой отец и другие подошли к сброшенному предмету, то был мешок, в котором оказался мёртвый мужчина лет пятидесяти. Погиб он от удара о землю, из уголка рта вытекла кровь. На груди нашли бумагу со словами: «Последний еврей…» – далее следовало название населённого пункта, которое отец мне, кажется, называл, но я его забыл.
Отец ошеломлённо смотрел на мёртвого человека, на бумагу с надписью на его груди. Привыкшему к лжи советских газет и радио, отцу до этого момента не верилось в злодеяния фашистов. Но вот он увидел «прозаически простой» в своём ужасе пример. И понял: Германия ведёт не ту войну, какой была Первая мировая. Германия ведёт небывалую расовую войну.
Не зная ещё, что война расовая, отец считал, что Германия проиграет. С её ограниченными ресурсами, как материальными, так и людскими, невозможно победить Великобританию при её колониях и СССР. «Но теперь, – сказал мне отец, – я отвлёкся от ресурсов. Для меня было очевидным – тот, кто убивает евреев, не победит ни за что и никогда. Мне стало, – говорил он, – нестерпимо не по себе оттого, что немцы, как я увидел, делали с евреями, и я хотел верить, что многие немцы в Германии вступаются за евреев, укрывают их. Я думал, – повторял он, – что немцы убьют Гитлера, жадное ожидание этого жило во мне всю войну».
Выброшенный хлеб
В августе 1941 германские войска подходили к Брянску, Бежицкий завод «Красный Профинтерн» эвакуировали в Красноярск. Для моего отца и его братьев Владимира и Николая эвакуация совместилась с выселением по причине национальности. Через много лет я после запроса получил 06.05.93 АРХИВНУЮ СПРАВКУ из ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА Управления внутренних дел исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов.
Текст справки:
«В архивном фонде личных дел спецпоселенцев, в анкете гр. Гергенредер Алексея Филипповича, 1902 г. рождения, уроженца г. Кузнецка Пензенской области, имеются сведения, что он действительно в августе 1941 г. был выселен из Брянской области в г. Красноярск».
Перед выселением мой отец был в разводе с женой Анастасией, она с дочерями Маргаритой и Натальей уехала к родственникам в деревню, все трое остались на Брянщине, вскоре занятой германскими войсками. Осталась и сестра отца Маргарита с сыном.
Мой отец рассказал мне об одном из эпизодов своего отъезда из Бежицы в Красноярск:
«Окна квартиры забил досками крест-накрест, запер дверь, ушёл. Была ночь. На станции мы прождали до рассвета, нам говорят: в ближайшие три часа состава не будет. Я воспользовался – хотелось в своё жильё ещё раз заглянуть. За квартал от него вижу – валяется на дороге мой томик Гамсуна, дальше – Фёдор Сологуб лежит, Гаршин… Двери настежь, окна распахнуты, кругом раскиданы мои книжечки. Всё остальное унесли: одежду, постельное бельё, посуду, мебелишку, даже электропроводку содрали… Книги не понадобились. Мне идиотская мысль пришла: если бы меня сейчас убивали и спросили моё последнее желание, я бы сказал – могилу поглубже и положить со мной мои книги!»
Отец получил место в вагоне, куда погрузили хлеб для едущих в эшелоне рабочих и работниц, буханки были сложены штабелями. Двух-трёх человек назначили присматривать за ними и распределять их.
Поезд помчал отца в места, через которые он прошёл с винтовкой во время Великого Сибирского Ледяного похода. Воля судьбы.
На первой остановке к вагону стали подходить рабочие за хлебом, им его давали. Но на следующей остановке распределители сказали: «Кончился хлеб. Нет больше хлеба». Между тем его запас уменьшился разве что на двадцатую долю. Отец слышал разговор ответственных товарищей: они собирались на станциях распродавать хлеб. Но это не удалось, по перронам ходили патрули. Хлеб заплесневел, и всю ночь распределители выбрасывали буханки из несущегося поезда.
Отец говорил мне: «Должен я был вмешаться? Донести? Но я был поднадзорный немец, против меня и обернули бы всё, обвинили бы в клевете».
По его словам, его не перестаёт донимать вопрос: бывало ли в Германии, чтобы от своих утаили хлеб, надеясь его продать, а потом выбросили его?
Новый 1942
В Красноярске отец работал на эвакуированном заводе контрольным мастером, жил в общем помещении барака. Вместе с двумя братьями встретил новый 1942 год: по этому случаю было разрешено купить водки. Братья ещё купили на рынке медвежатину (отцу вспомнился рынок на станции Зима в 1920 году, тогда медвежатину он увидел впервые). Брат Николай, ходивший в брянских лесах на охоту, знал, как готовить медвежье мясо: прежде всего, срезал с него весь жир, затем изжарил мясо на сухой сковороде. Праздник вышел на славу, но на красноярский рынок больше не ходили – было не с чем.
Отец запомнил открытое партийное собрание, на котором секретарь парткома объявил запись на фронт добровольцев, имевших бронь. В ответ – молчание. Секретарь обратился к одному коммунисту, к другому. Те приводили разные причины, почему не могут идти на фронт. Секретарь стал кричать: «Клади партбилет на стол! Вон из партии!» Мой отец встал: «Я записываюсь». Его тут же поставили в пример: «Вот на кого посмотрите, на беспартийного! И постыдитесь!»
В своё время выслушав рассказ отца, я спросил его – почему он вызвался идти воевать за эту власть. Он ответил, как отмахнулся: «Не идти – дурной вкус». Меня удивило выражение, и он объяснил. Любой струсивший ухватится за довод – разумеется, не открыто, – что не хочет воевать за эту власть, за этот строй. Пошлое оправдание, причина-то – трусость. Ты возьми в руки оружие, воюй, а после победы будет видно. «И потом – я хотел воевать не за власть. Я хотел воевать против государства, которое вело расовую войну», – сказал отец.
Итак, он записался добровольцем, шло время, а его не вызывали в военкомат. Он сам пошёл туда. Сотрудник достал бумаги о нём, сказал: «Мы вас вызовем, когда понадобитесь». Отец понял, что решение есть, причина – национальность.
Брат Фёдор. Трудармия
В апреле 1942 Владимиру пришло письмо от жены Фёдора из Хабаровского края: Фёдор арестован и расстрелян. Владимир и мой отец предположили одно и то же: в условиях войны в НКВД, проявив рвение, учли, что Фёдор был в Белой армии, притом он немец. И ему пришили статью 58.
В интернете есть справка о нём:
Гергенрёдер Фёдор Филиппович (1899, Пензенская обл., с.Безсоновка---1942.03.24) немец, Хорский ЛПХ, старший бухгалтер, житель: Хабаровский кр., Лазовский р-н,с.Бичевая Арест: 1941.11.05 Арест. Лазовским РО НКВД по ДВК Осужд. 1942.02.21 ОСО при НКВД СССР. Обв. по ст. 58-10 УК РСФСР. Расстр. 1942.03.24. Место расстрела: г.Хабаровск. Реаб. 1989.07.28 По заключению Прокуратуры Хабаровского края, основание: по Указу ПВС СССР от 1989.01.16 [Книга памяти Хабаровского края]
А отца так и не вызвали в военкомат. В архивной справке Управления внутренних дел Оренбургского исполкома указано об Алексее Филипповиче Гергенредере: «В ноябре 1942 г. был мобилизован в трудармию и прибыл на спецпоселение в г. Бугуруслан Чкаловской области». (С 1938-го по 1957 год Оренбург носил название Чкалов, и область соответственно именовалась Чкаловской).
Мой отец оказался вблизи тех мест, где в юности проходил с боями солдатом Белой армии.
Владимир
Брата Владимира, который, помимо язвы желудка, заполучил туберкулёз, оставили в Красноярске на должности главного технолога «Красного Профинтерна». Владимир Филиппович участвовал в соревнованиях по шахматам и становился чемпионом Красноярского края в 1945, в 1946 и в 1947 годах. Он остался в истории советских шахмат. Умер в 1949 году.
Сведения о нём приведены: Александр Бельский. Орловский шахматный словарь. ГЕРГЕНРЁДЕР Владимир Филиппович (1894—1949), шахматист. С 1919 года жил в г. Бежице Орловской губернии. В 1936 году он поделил первое — третье места в зональных шахматных соревнованиях РСФСР в Архангельске. С 1941 года жил в Красноярске. Возглавлял шахматный отдел в газете «Красноярский рабочий». (Стажков М. А. Шахматисты Брянского края. — С. 14, 16-17). (http://www.proza.ru/2013/07/23/963).
Также в публикации: А пушки еще гремели. «Красноярский рабочий». «В 1944 году в Красноярске был проведён очередной чемпионат края по шахматам /…/ Владимир Александрович Левенштейн вспоминает:
– Инженер-технолог В. Гергенредер в начале войны был эвакуирован в Красноярск из города Бежицы Брянской области вместе с заводом «Красный профинтерн» (ныне ЗАО «Сибтяжмаш»). Он участвовал в довоенных первенствах Российской Федерации. Помимо незаурядной практической силы, Владимир Филиппович довольно плодотворно работал в области теории шахмат. В частности, он имел свои разработки в шотландской партии за четырёх и меня каждый раз огорошивал новыми ходами в этом дебюте!..
А вот как наш чемпион ещё в 1924 г. выиграл партию в матче городов Бежица — Орёл с помощью следующей эффективной комбинации».
Приведена партия Гергенредер — Вайт и дан комментарий. Подпись: Эдуард ЗАРУБИН. (http://www.krasrab.com/archive/2005/04/15/28/view_article).
Николай, Константин, Алексей
Брата Николая отправили в лагерь в Краснотурьинск на севере Свердловской области, в этом лагере трудармейцы оказались вместе с уголовниками. Они урезали и без того скудный паёк Николая. Мой дядя слабел день ото дня, превратился в доходягу, впереди маячила смерть. Мимо группки лагерников проходил начальник, спросил: «Кто стёкла умеет вставлять?» Дядя Коля отозвался. Начальник привёл его в контору, показал на разбитое окно, и тот сказал, что надо бы всю раму сменить, она подгнила. Сменил раму, вставил стекло, и начальник дал ему котелок супа, хлеба, позволив есть в конторе, чтобы уголовники не отобрали. Нашлось, что из мебели отремонтировать, другое сделать. Дядя Коля умел всё и, таким образом, съедая в конторе заработанное, оклемался, выжил.
Жена тётя Фаня с двумя дочерями ждала его. Выпущенный из лагеря, он жил с ними в Краснотурьинске, работал прорабом. В 1949 году семья приняла одиннадцатилетнего Владимира, сына Маргариты Филипповны.
Самый младший Константин, живший в Воронеже, ещё раньше был выселен в Челябинскую область, в Копейск. Он избежал лагерной жизни, его назначили редактором местной газеты, учтя, что он окончил Коммунистический институт журналистики, состоит в партии. Позднее его перевели на шахту заместителем управляющего. С ним жила семья: жена Клавдия, русская, и сыновья Павел и Александр, записанные под фамилией их матери.
Моего отца в Бугуруслане назначили старшим бригадиром так называемой колонны №1 трудотряда треста «Бугурусланнефть», а позже – начальником колонны №1.
Трудармейцы, выкопав и покрыв землянки, поселившись в них, выходили на разного рода тяжёлые работы. Мужчины, большей частью, трудились на буровых, добывая нефть. Все жили впроголодь. В указанное время шли в поле сажать картошку, свёклу, полоть, убирать урожай и тогда, пользуясь случаем, выгоняли сусликов из норок, заливая их водой, привезённой в бочках от ближайшего водоёма. В одиночку не получалось добыть суслика, и каждого приходилось делить, но люди мечтали и о той чуточке мясного, которая доставалась несколько раз в год. Я показал это в одной из глав моего романа «Донесённое от обиженных».
В Трудармии в 1943 году мой отец познакомился с Ирмой Яковлевной Роккель (урождённой Вебер).
Второй брак
До войны Ирма Яковлевна жила в Сталинграде с первым мужем и дочерью, была бухгалтером. Её муж Виктор Иванович Роккель, тоже бухгалтер, немец Поволжья, участвовал в Гражданской войне на стороне красных. Человеком он был аполитичным, в партию не вступал. В 1938 году его арестовали как врага народа и приговорили к десяти годам без права переписки (так маскировался приговор к расстрелу, о чём ходили слухи). Ирму Яковлевну с дочерью выдворили из квартиры, они поселились в комнате коммунальной квартиры у матери Ирмы Яковлевны.
После начала войны, по указу от 28 августа 1941 года, немцев Сталинграда отправили на баржах вниз по Волге, а затем далее поездами в Юго-Восточный Казахстан. Там в 1942 году И. Я. Роккель, работавшая на шахте, была мобилизована в Трудармию и отправлена в Бугуруслан, где познакомилась с моим отцом. Когда после войны Трудармию упразднили, они жили вместе. Зарегистрировать брак не могли, ибо моя мать не имела свидетельства о смерти своего первого мужа: давно расстрелянный, он числился живым, «отбывающим десять лет без права переписки».
В так называемую хрущёвскую оттепель, после запроса моего отца, было получено свидетельство о смерти Виктора Ивановича Роккеля вместе с документом о его посмертной реабилитации. В свидетельстве написали, что он умер от менингита в лагере в 1944 году. (Лишь во время перестройки и гласности на новый запрос пришёл ответ с правдой: Виктора Ивановича расстреляли в 1938 году, в год его ареста).
А тогда, когда было прислано первое свидетельство о его смерти, мои родители 31 июля 1956 года зарегистрировали де юре свой существовавший де факто брак. Моя мать взяла фамилию моего отца.
Нужно, однако, вернуться к первым послевоенным годам. Мой отец жил с Ирмой Яковлевной, её дочерью от первого брака и матерью в кое-как приспособленном под жильё сарае. Тут моего отца разыскала его бывшая жена Анастасия и приехала с дочерями в Бугуруслан, но мой отец остался со своей новой семьёй. Выяснилось, что Анастасия и дочери, а с ними сестра отца Маргарита и её сын Владимир побывали в Германии.
Маргарита с сыном вернулась из Германии в Брянский район, в 1949 году её арестовали, а родных оповестили: кто готов растить её сына? Согласились Николай Филиппович и его жена – Владимира отправили к ним. Маргарита Филипповна умерла в лагере.
В педагоги. Борьба с бедой
Мой отец работал на должности инженера в проектно-сметном бюро и чувствовал, что это не его призвание. Ему не давал покоя вопрос – каковы новые поколения? Есть в них что-то от молодёжи, к которой некогда принадлежал он сам? Чтобы видеть подрастающую смену, он решил пойти в педагоги и в 1947 году поступил на заочное отделение педагогического института в Чкалове (Оренбурге).
До конца 1955 года выселенным немцам воспрещалось без официального разрешения покидать место жительства, и отец для поездки в Чкалов на экзамен получил соответствующий документ от спецкомендатуры НКВД, предъявил его для отметки в пункте прибытия. То же проделал при возвращении. И это неукоснительно повторялось каждую поездку.
В 1952 году он окончил пединститут с отличием, стал учителем русского языка и литературы в школе №12 города Бугуруслана. Зарабатывал теперь меньше, чем в проектно-сметном бюро, но зато его жизни придало смысл стремление распознать среди своих учеников тех ребят, которые походили бы по своему духовному складу на его друзей, добровольцев Народной Армии КОМУЧа. Учитель мечтал о возрождении (о «возвращении») тех погибших.
К тому времени семья получила комнату в коммунальной квартире двухэтажного сборного финского дома без водопровода и канализации.
15 сентября 1952 года родился я, в десять месяцев стал ходить, а в одиннадцать месяцев заболел полиомиелитом. Врач в Бугуруслане не сумела поставить правильный диагноз, сказала, что я «переел зелени» и меня надо «посадить на голод». Между тем тогда уже имелось средство против полиомиелита, и, если бы оно своевременно было мне введено, я был бы излечен.
Мой отец неустанными устными и письменными просьбами, обращениями в инстанции выхлопотал (так тогда говорили) разрешение НКВД на то, чтобы мать повезла меня к врачам-специалистам в ближайший большой город Куйбышев (ныне Самара). Там врач поставил диагноз перенесённого заболевания и немедленно отправил меня с матерью «в карантин». По истечении его срока матери объяснили, что я поражён параличом и не смогу ходить.
Родители начали борьбу за меня, делали мне массаж сами и нанимали массажистку, занимались с мной физическими упражнениями, погружали в ванну – носили вёдра с водой на второй этаж, потом выносили.
Отец постоянно писал заявления в различные высокие инстанции, добиваясь для меня врачебной помощи в лечебных учреждениях, о которых наводил справки. Мать оставила работу и возила меня в Куйбышев, в Оренбург, в Свердловск (Екатеринбург). Мне очень помогло бы пребывание в одном из санаториев на Чёрном море, но путёвки туда добиться не удалось. Единственный курорт, оказавшийся для меня доступным, был санаторий Озеро Горькое в далёкой от Чёрного моря Курганской области.
В четыре года я «пошёл» – стал ходить, хотя полностью ноги не восстановились и развился сколиоз. Наблюдая за моей ходьбой, требуя упражняться в езде на детском трёхколёсном велосипеде, отец занимался и моим умственным развитием: читал мне сказку Киплинга о Маугли, сказки Вильгельма Гауфа «Карлик Нос», «Холодное сердце», «Маленький Мук».
Упорными письменными запросами отец добился, что летом 1958 года меня положили в Центральный научно-исследовательский институт протезирования и протезостроения в Москве, я пробыл там год. Институт мне ничем не помог, разве что я познал жизнь в заключении. Впоследствии я описал пребывание там в автобиографической повести «Дайте руку королю» (http://belousenko.com/books/Hergenroether/hergenroether_king.htm).
После заключения в институте
Мать привезла меня из Москвы, и отец в прелестный день августа отправился со мной на лодочную станцию на реке Кинель, взял напрокат лодку, и мы поплыли меж заросших деревьями берегов, причаливали то тут, то там, располагались на траве то под солнцем, то в тени, ели взятые с собой бутерброды, варёные яйца, пили квас из бутыли.
Царил какой-то несказанный уют – благодатная идиллия, по определению отца.
Дома нас ждало приготовленное мамой лакомство конца лета: нарезанные румяные помидоры и лук в миске с подсолнечным маслом, которое в то время изготовлялось в Бугуруслане без каких-либо примесей. Мы набросали в миску ломтики белого хлеба, они напитались маслом и помидорным соком.
День спустя отец повёл меня в краеведческий музей, я рассматривал чучела двух волков: светло-серого с желтизной степного волка и бурого лесного. Оглядывал чучело огромного тёмно-бурого степного орла, чучело осетра.
Потом я не раз бывал в музее, экспонаты снились мне живыми. «Природа твоих родных мест», – говорил мне отец. Я узнавал от него также о городе Бугуруслане. При царях он был центром местной хлеботорговли, с тех времён высится элеватор около железной дороги. Затем были открыты месторождения нефти, газа.
Надо мной с линейкой
До того как я пошёл в первый класс, отец прочитал мне «Маленького оборвыша» Джеймса Гринвуда, как когда-то ему прочитала эту книгу его мать. Я живо представлял жизнь бездомных детей и услышал, что, если бы мальчик умел писать, это было бы огромным выигрышем для него. Он записывал бы, пусть кратенько, огрызком карандаша на обрывках бумаги, то, что было в тот, в другой день и потом прославился бы.
В школе моя учительница сказала отцу, что мне никак не даётся разборчиво писать буквы. Это было так – из-за перенесённого полиомиелита у меня дрожали руки. В первые же зимние каникулы отец велел мне сесть за стол, на котором лежали школьная тетрадка, ручка с пером, стояла чернильница. Взяв большую линейку, папа встал за моей спиной, начал диктовать. Я пытался ровно выводить буквы и слышал: «Ровнее! – он замахивался линейкой. – Ещё эту букву! Ещё!»
Так продолжалось все каникулы, и, когда в школе я написал упражнение, учительница растерялась: «Это не ты!» Почерк у меня сделался образцовым, по чистописанию пятёрка следовала за пятёркой, и мне в награду был вручён роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» – его я читал уже сам.
Позднее, научившийся подавлять дрожь руки, я взялся обрить наголо парня вдвое старше меня, предводителя дворовой братвы, который меня предупредил: «Порез будет – ухи откручу!» Порезов не оказалось, о чём ребята сообщили отцу: он был безмерно удивлён и горд за меня.
Немецкий язык
Отец считал своим большим минусом то, что не овладел немецким. Моя мать немного говорила по-немецки, но не знала правил, не умела писать. И папа принялся заботиться, чтобы я выучил язык. Купил мне русско-немецкий разговорник, нашёл в книжном магазине сборник немецких пословиц и поговорок, находил другие книги на немецком языке. Я должен был под его наблюдением читать их вслух, учить наизусть отрывки, переписывать. В школе немецкий нам стали преподавать с пятого класса, к этому времени у меня уже были успехи.
Занятия со мной, хлопоты обо мне, работа в школе – вот то, что составляло жизнь отца в пятидесятые, в шестидесятые годы и позднее. Он не бывал в компаниях, не ходил на вечеринки, не пил спиртного, не курил. Как-то он услышал об одном человеке, что тот пьёт, но очень любит своих детей. Отец сказал: «Какая там любовь, если он тратит на водку деньги, которые мог бы потратить на детей. Не может быть, чтобы у них было абсолютно всё, что им нужно».
Воскрешение чёрточек ушедшего
Мне и моим первым друзьям Толе Шеферу и Косте Долженкову, жившим в одном доме с нами, отец сделал свистки из кусков свежесрезанных ивовых прутьев: он снимал с куска кору трубочкой, а затем опять надевал, обработав стержень ножом. Этим умением в пору его отрочества отличался Саша Цветков.
Отец вырезал из липы кораблики, на которые ставил маленькие мачты с реями, прикреплял бумажные паруса. Он с нами запускал эти судёнышки на недалёком озере под названием Кирпиха.
Число моих друзей росло, ими стали Юра Мухаметзянов и Саша Шахов из барака рядом. Отец показал нам, как делать луки и стрелы (стрелы обязательно с округлёнными концами).
Наша семья и другие жильцы имели для хозяйственных нужд отделения в длинном дощатом сарае, стоявшем через двор напротив дома. Друзья и я под наблюдением отца повесили на стене нашего отделения раскрашенную мишень из фанеры и стреляли в неё из луков. Иногда мы пускали стрелы ввысь. До чего увлекательно было узнавать, стреляя, какой лук «бьёт» сильнее – из ивовой ветви, из ветви клёна или из ветви дуба?
Отец постарался и изготовил арбалет. О нём разнеслась такая слава, что посмотреть на него и, дождавшись очереди, выстрелить приходили мальчишки из мест километра за два от нас.
А потом отец стал клеить воздушные змеи. Запускать змей на лугу за городом, где тянулась полоса лесопосадки, отправлялась целая процессия. Едва ли не каждому из ребят хотелось нести змей, это право получали по очереди.
Как-то раз, когда мы со змеем проходили мимо продуктового магазина, к нам присоединился мужчина. Он сказал отцу, что приехал в Бугуруслан в командировку и вот увидел то, чего не видел никогда – воздушный змей. На лугу он заворожённо наблюдал, как Саша Шахов запустил змей, распускал нитку. Мужчине дали подержать её, послать по ней «письмо». Он поделился с моим отцом: «В детстве не пришлось поиграть, хоть сейчас поиграл. А вы, конечно, тоже пацаном не играли?» Отец улыбнулся и неопределённо пожал плечами.
Был и такой случай. Запустили змей с намалёванной рожей, с трещотками, а ветер дул свежий, и змей, подаваясь в небе из стороны в сторону, весьма звучно «гудел». Мы не заметили, как к нам подошёл старик – видом деревенский. «Ба-а! вон оно чего!» – сказал нараспев, задирая голову. И рассказал, что пас стадо за холмом и увидел «чего-то вверху, что гудит». Нитку он издали не разглядел, но сообразил, что откуда-то странной штукой управляют. Оставил стадо, пошёл на холм и обнаружил нас.
Живущему близ города старику 1960-х годов оказалось неведомо то, что было обычным для городских ребят до 1917 года. Позднее отец сказал мне с горьким сожалением: «Ушла культура российского уездного города».
Но старания воскресить её чёрточки мой отец не прекращал. Летом 1964 года, к моему возвращению из санатория Озеро Горькое, он приготовил подарок, вызвавший у меня восторг: пневматическое ружьё для стрельбы по мишеням. Тем самым он как бы воссоздал атрибут своего отрочества: малокалиберную винтовочку «монтекристо». Моя сестра Нелли, работавшая медсестрой в больнице, стала приносить множество пустых пузырьков из-под пенициллина, и я, мои друзья соревновались в стрельбе по ним. К стене нашего отделения сарая была пристроена лавочка, на неё мы клали перевёрнутую картонную коробку, на коробку ставили пузырёк и в него стреляли с пятнадцати метров. Надо ли говорить, что двор всегда был полон ребят.
Интересное разнообразилось. Отец мастерски делал западки́, мы подвешивали их на ветви деревьев в палисаднике около двора. Надо сказать, что, когда деревья посадила коммунальная служба, о них никто из жильцов не заботился. Один мой отец их окапывал и поливал, таская по два ведра воды от колонки за сто метров. Так вот, в западки попадались синицы, которых мы всегда потом выпускали. Отец внушал нам, что нельзя ломать ветки, рвать листья. Мы это соблюдали и, играя в индейцев, «вигвам» устраивали из реек и картона.
Ребята, знавшие романы Фенимора Купера и Жюля Верна, открыли для себя, благодаря моему отцу, рассказы о животных Сетона-Томпсона, книгу Луи Буссенара «Капитан-сорвиголова».
Отец, я, мои друзья ездили на электричке на станцию Степановку, недалеко от неё располагались в лесу на берегу речки Кинель, протягивали через неё перемёт, наживив на крючки червей, а если удавалось добыть мальков, то и их. На червей нередко клевали окуни, на мальков изредка – то жерех, то щука, то сом.
Мы привозили с собой зыбку, как те, какие в детские годы отца мастерил Сила Андреев, подбирали подходящую жердь и опускали зыбку в воду. Пойманных раков клали в уху, как когда-то делали мой отец и его друзья по примеру Андреева. Отец объяснял и другое, что узнал от него: какие приманки годятся для тех и иных рыб, рассказывал о поре появления пролесков и жарков, горчанок и купав, учил жарить на сковороде, поставленной на треногу над костром, маслята, обабки, боровики, спрашивал – какие грибы вкуснее. Он учил меня, моих друзей зажигать костёр с одной спички.
Он не желал, чтобы моим сверстникам осталось неведомо то, что умело и чем увлекалось в отрочестве его поколение.
Где был бой
Муж моей сестры Иван был шофёром грузовика с закрытым кузовом. Летом 1963 года Ивана послали по делам в село Грачёвку, он взял нас с отцом. В сентябре мне должно было исполниться одиннадцать; отец ещё не рассказывал мне о своём участии в Гражданской войне.
В Грачёвке он, я и Иван переночевали в доме местных жителей; помню, что простыней не имелось, что ночью было невыносимо душно. Зато необыкновенно понравилось мне кислое молоко с деревенским хлебом – хозяйка его испекла и подала на стол.
Ходили мы с отцом на речку Ток. Наша река Кинель шире и полноводнее. На другом берегу Тока я видел реденький лес. Отец сказал, не вдаваясь в подробности, не уточняя ничего: «Вот эти самые места». Фразу я запомнил.
Потом отец повёл меня через Грачёвку на околицу за южной стороной села. Впереди справа я видел пасшееся стадо коров, там же виднелись кустарник, высокая трава, редкие деревца. Впереди и влево расстилалось поле, через него от села уходила вдаль грунтовая дорога. Её перебегали суслики. Помню ещё на околице полувысохшие лужи со следами копыт. Отец, кивнув на них, напомнил мне о сказке, в которой братец Иванушка просит разрешения у сестрицы из копытца напиться…
Иван с моим отцом купили в Грачёвке овцу, где она стоила дешевле, чем на рынке в Бугуруслане.
Через год с лишним отец расскажет мне о длившемся весь день бое за Грачёвку, когда часть красных наступала с запада из-за речки Ток, а другая их часть предпринимала атаки на село с юга.
Журналистика. Ученик в доме
Когда отец был в Трудармии, там под угрозой строгого наказания запрещалось вести какие-либо записи, отчего он очень страдал, ухитрялся иногда тайком записывать что-нибудь безобидное. Он не мог жить без карандаша и бумаги, без работы над словом, творчество было для него жизненной необходимостью.
В пятидесятые и в более поздние годы он, за неимением иной возможности, писал то, что разрешалось. Его заметки, корреспонденции о школьной жизни, очерки о коллегах-учителях, об отличившихся «на трудовой вахте» нефтяниках, а также рассказы печатали районная газета «Бугурусланская правда», чьим внештатным корреспондентом он стал, и оренбургские областные газеты «Комсомольское племя», «Южный Урал». Рассказы передавались по городскому радио Бугуруслана. Отец был принят в Союз журналистов СССР.
В 1958 году весьма урезанная редакторами повесть моего отца под названием «Никиша Голубев», написанная о Гражданской войне с позиций советского автора, вышла в коллективном сборнике «Рожденные в пламени» (Чкаловское книжное изд-во).
Писатели, журналисты Оренбурга хорошо знали Алексея Филипповича Гергенрёдера. Известный уважаемый человек в Бугуруслане, он в школе №12 был любимым учителем, бывшие ученики помнят его до сих пор.
Знакомя класс с литературным произведением, он свободно углублялся в историю, ученики узнавали о походах князя Святослава, о печенегах, хазарах и половцах, о подвигах Евпатия Коловрата, Осляби и Пересвета.
О чём отец остро сожалел, так это о том, что нельзя говорить ученикам об оде Гавриила Державина «Бог». Папа считал это произведение величайшим достижением русской духовной лирики, «Пушкин до него не поднялся…» – иногда бормотал он.
Мне был им открыт щекочущий чувства мир прекрасного писателя Бориса Житкова. Каждый его рассказ после прочтения долго не отпускал меня. Рассказ «Над водой» я с закрытыми глазами «просматривал» в памяти, лёжа в ванне, которую родители наполнили водой, грея её на плите, и едва не захлебнулся. Мне виделся паренёк Федорчук, ученик механика, который бесстрашно выбрался на крыло аэроплана. Его мотор засорился и заглох, налетает свирепый ветер, машина теряет высоту над бурным холодным морем… Благодаря мальчишке, мотор заработал, десять пассажиров, пилот и механик были спасены, но спаситель сорвался с обмёрзшего крыла.
Незабываемое нервное напряжение вызвал у меня рассказ «Под водой», в котором упоминаются манёвры русского флота в 1912 году. Молодой капитан подводной лодки, которая возвращалась в порт после успешного участия в манёврах, приказал не огибать пароход на пути, а погрузиться и пройти под ним. Но глубина оказалась недостаточной, лодка прилипла к вязкому дну и не может всплыть.
Папа обсуждал со мной рассказ. Тринадцать человек команды, говорил он, уже воображали себя весело отдыхающими на берегу, и вдруг им остаётся лишь час жизни, они задохнутся. Посмотри, продолжал отец, как они ведут себя, когда капитан признаёт свою вину и просит застрелить его. Нервничает только механик; мичману, как и всем, страшно, но он внешне весел, принимает судовой журнал у капитана, ведёт записи: капитан застрелился, оставив записку: «Я не имею права дышать этим воздухом».
В мои восемь лет я болезненно жалел капитана, чуть не плакал из-за весёлого мичмана, который задохнулся.
Отец поискал на этажерке книжку, раскрыл её, прочитал мне стихотворение:
«Спокойно трубку докурил до конца. / Спокойно улыбку стёр с лица. / «Команда, во фронт! Офицеры, вперёд!» / Сухими шагами командир идёт. / И слова равняются в полный рост: / «С якоря в восемь. Курс – ост. / У кого жена, брат – / Пишите, мы не придём назад».
Отец прочёл ещё и закончил: «Адмиральским ушам простукал рассвет: / «Приказ исполнен. Спасённых нет».
Вот тебе, сказал мне отец, отчётливое мужество, тут слово «героизм» не подходит, в нём крик, а тут лишь сухость тона, так идущая истинному величию.
Через несколько лет он рассказал мне, что автор стихотворения (баллады) Николай Тихонов учился поэзии у Николая Гумилёва, был под сильным влиянием Редьярда Киплинга. Потом он опустился, став лизоблюдом властей предержащих, но «Баллада о гвоздях» живёт своей жизнью. Баллада об английских моряках в Первой мировой войне.
Помимо книг
Отец любил шахматы, вёл в школе шахматный кружок и, конечно, очень рано приобщил меня к шахматам. Первое, что я усвоил, это защита Петрова, дебют четырёх коней, ферзевый гамбит. Отец также организовал в школе драматический кружок, я помню работу над сценами из комедии Мольера «Тартюф».
Когда я учился во втором классе, в зимние каникулы произошло то, что стало для меня и праздником, и испытанием. Я с отцом отправился в городской театр драмы на спектакль по пьесе Горького «На дне». В театре я оказался впервые в жизни, и всё в нём представлялось мне праздничным. Но до чего трудны были мои попытки вникать в то таинственно интересное, что произносили люди на сцене. Потом отец не один день терпеливо и доходчиво объяснял мне, о чём пьеса, растолковывал характеры героев.
«Ночлежки были, нищета-с!» – тихо говорил он, хмыкал, хотел, казалось, что-то добавить, но не добавлял.
И ни я тогда, ни кто-либо другой не знал, как его возмущает убогость действительности. Он был убеждён, что не будь Октябрьского переворота, разгона Учредительного Собрания, в стране установилась бы демократия – и нация не оказалась бы обезглавленной. Сколько пользы и какой принесли бы миллионы людей, которых коммунисты изгнали, расстреляли, уморили голодом, сгноили в лагерях. Государство, будь все эти люди живы и свободны в своём труде, стало бы процветающим, и лишь присниться могло кому-то, что учителя, врачи ютятся в бараках, в коммуналках.
Посвящение
Мне было двенадцать, когда я, в очередной раз, заговорил с отцом о кинофильме «Чапаев». В нём меня впечатляло зрелище «психической атаки». Красиво шли густые, сплошь офицерские, цепи... Отец остро, внимательно посмотрел на меня своими глубоко сидящими глазами, помолчал – и взял с меня слово хранить строжайшее молчание о том, что он мне расскажет.
«Офицеры, говоришь... Их аксельбанты тебе тоже понравились?» Мне живо вспомнились шнуры, свисающие с погон, и я подтвердил: конечно, понравились, почему же нет?
Так вот, объяснил отец, аксельбанты носил только флигель-адъютант – офицер связи, один на полк. Как и зачем собрали столько именно флигель-адъютантов?.. Они под чёрным знаменем с черепом и скрещёнными костями… Лишь неразвитые люди поверят, будто белые для устрашения придумали такое.
Красные в фильме говорят, что это каппелевцы, но Чапаев и Каппель никогда не сталкивались, оба всегда воевали на разных участках фронта.
Я узнал, как не хватало Колчаку офицеров для командирских должностей: какая уж там отдельная офицерская часть. Ничего подобного «психической атаке» и в помине не было. Фурманов в своей книге «Чапаев» о ней не пишет.
Она попросту немыслима, объяснял папа, из винтовок ведут прицельный огонь с трёхсот метров. Представь-де солдат, залёгших цепью. По ним идущие плечом к плечу не стреляют, зато они спокойно целятся и бьют. Сколько они и без пулемёта уложат атакующих тесным строем, пока те пройдут триста метров. Обороняющимся это ясно, они будут видеть, как падают и падают поражённые их огнём, как быстро редеют ряды атакующих – какой там страх? какое психическое воздействие?
Создатели фильма, по словам моего отца, желая показать стойкость чапаевцев, умение пулемётчицы, фантастически польстили белым. Те из них, кому довелось посмотреть картину, наверняка упивались. Ещё бы! Они показаны презирающими смерть – какой шаг! во рту папиросы. Никто не проговорится, что это чушь собачья.
Мы, говорил отец, не были ни офицерами, ни послужившими солдатами, одеты были неприглядно и в атаку шли перебежками, пригибаясь, держась на расстоянии друг от друга. В нас стреляли, и всё время кто-то падал от тебя справа и слева, и чем более ты приближался к неприятелю, тем выше была вероятность, что в тебя сейчас попадут.
У меня вырвалось: «Какое нужно бесстрашие!»
«О нём не думаешь, – сказал отец, – ни о чём не думаешь. Делаешь то, чего нельзя не делать». И добавил: «В кино это не выглядело бы эффектно».
Он рассказывал о войне, и для меня начиналась новая жизнь – пройденное им становилось как бы и моим прошлым. Готовя уроки на завтра, я предвкушал за этим нудным занятием, как, улёгшись в кровать, буду, пока не усну, воображать себя белым добровольцем, сжимающим в руках драгунскую трёхлинейку или американскую винтовку «винчестер», выпускавшуюся под русский патрон, или японский карабин «арисака». И то, и другое, и третье отец описывал мне до мелких деталей.
Из его рассказов об оружии я запомнил, что приклады русских трёхлинейных винтовок были из орехового дерева, что штык трёхлинейка имела четырёхгранный игольчатый. Что пулемёты «максимы» были зелёные, а пулемёты «кольты» – чёрные. Что сабля на поясной портупее вызывала к офицеру большее уважение, чем шашка на перевязи – пусть и в узорных ножнах.
Узнал я и то, что Англия поставляла в армию Колчака полупальто на меху кенгуру, изготовляемые в Австралии. Доставались они счастливчикам из высших офицеров – в основном же, оказывались в руках тыловых спекулянтов.
Отец хотел сохранить представления, мысли о том, за какое будущее он и его друзья пошли воевать летом 1918 года и как они воевали. Я должен был стать наследником, который воспринял бы всё то, во что отцу верилось, что ему помнилось и что скрывалось от других. Он передавал мне опыт пережитого, осмысленного, развивал меня, стремясь вырастить журналиста (а, может, и писателя), который даст жизнь услышанному. Он был мастером, а я подмастерьем. Обладая прекрасной памятью и талантом рассказчика, он в подробностях воскрешал передо мной эпизоды Гражданской войны с её участниками, выстраивал галерею замечательных портретов.
Если рассказы о детстве отца я слышал от него с моих ранних лет и изложил их здесь, то с двенадцати лет я стал слушать рассказы о его участии в Гражданской войне и о последующем. Всё это, вместе с тем, что идёт собственно от меня, я привёл и продолжаю приводить.
Какую делали жизнь
Отец, постоянно возвращаясь к борьбе белых с красными, рассказывал, как жили при коммунистах. Голод на недолгое время сменила сытость, которую дал нэп, затем потянулось недоедание, перемежаясь голодом. Режим держался на страхе расстрела. В народе ходило переиначенное «Яблочко»:
Эх, яблочко, куда котишься?
В губчека попадёшь – не воротишься.
Однажды отец прочитал по памяти тоже ходившее в народе:
Был царь, была царица,
Была рожь, была пшеница.
Посадили холуя –
И не стало ни …
Недоставало всего, чего в прежние времена было вдоволь, люди носили заплатанное старьё, и я услышал о любопытном случае на заводе «Красный Профинтерн» в Бежице. Приехавший на завод из Москвы высокопоставленный чиновник демонстративно расхаживал по цехам в рваных ботинках. Рабочих старались оболванить, показать им, будто и высокое руководство разделяет их нужду, но мало кто верил, что у московских чиновников нет нормальной обуви и одежды.
Гость выступил перед рабочими с речью, в которой повторял, что нехватка необходимого – это временное затруднение. О том же писали газеты. Люди же, поведал мне отец, тайком передавали друг другу обновлённый закон диалектики: «Всё течёт, всё изменяется. Остаются без изменения только временные затруднения».
Когда объявили об успешном выполнении первого пятилетнего плана, что оказалось ложью, загулял куплетик:
Кто сказал, что Ленин умер?
Я вчера его видал –
Без портков, в одной он кепке
Пятилетку догонял.
Отец рассказал о подковырке тех времён, направленной против начальства. От весьма распространённого слова «доклад» отнимали по букве: «Что делаем? Доклад. Что получаем? Оклад. Что ищем? Клад. Что провозглашаем? Лад. Что имеем? Ад».
В фойе кинотеатров можно было увидеть высказанное Лениным: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Лозунг переделали: «Из всех даров для нас важнейшим является ярмо».
После убийства Кирова 1 декабря 1934 года в Ленинграде появилась острота: «Обычно медведь ест ягоду, а тут ягода съела медведя». Подразумевалось, что был снят начальник Управления НКВД по Ленинградской области Медведь, приговорён к трём годам (затем расстрелян), а возглавлял в то время НКВД Ягода. Кое-кто, разумеется, понимал: не Ягода «съел» Медведя, а Сталин.
Укреплявший свою власть Сталин развернул массовый террор. С середины тридцатых годов мой отец каждый день и, в особенности, каждую ночь ждал ареста.
Срыв и чудо
Отец говорил мне о процессе над так называемыми участниками «военно-фашистского заговора». Процесс проходил в июне 1937 года. Специальное Судебное Присутствие Верховного Суда СССР судило маршала Тухачевского, командармов 1-го ранга Якира и Уборевича, командарма 2-го ранга Корка, комкоров Примакова, Путну и прочих. Их обвинили в связях с фашистской Германией, в намерении захватить власть в СССР и расстреляли.
Эти деятели, считал отец, заслужили свою участь: заслужили тем, что на крови утверждали диктатуру коммунистов. Но у них, закоренелых поборников большевизма, не могло быть цели восстановить капитализм. И с Германией они, конечно, не сговаривались. Сталин устранил их, подозревая, что его могут сбросить с трона, хотя, по мнению моего отца, если бы такое и произошло, тирания большевиков никуда бы не делась.
Приблизилось 7-е ноября – 20-летие того, что называли Великой Октябрьской Социалистической революцией. Николай, младший брат моего отца, пригласил его к себе на празднование этого события. Папа знал, что сестра Фани, жены Николая, работает в НКВД. За несколько дней до визита отец начал внушать себе: «Следи там за каждым словом! Прежде чем что-то сказать, обдумай то, что скажешь!» Он предпочёл бы не ходить, но это навело бы на подозрение: «Советских праздников не признаёт?»
Младшая дочь отца болела, и жена осталась с ней дома. Отец минут десять стоял перед зеркалом, сосредотачиваясь на том, каким надо быть осторожным. Прихожу, рассказывал он мне, к Николаю, квартира уже полна гостей, тут и моя свояченица, сотрудница НКВД. Все улыбаются, и я бодро улыбаюсь. Николай, охотник, рыбак, позаботился – на столе куропатки, рыба. Завели патефон, поставили пластинку:
С неба полуденного
Жара не подступи,
Конная Буденного
Раскинулась в степи…
У отца, по его словам, тут же возникло в сознании имя Примакова, который прославился, командуя Первым Конным корпусом Червонного казачества, а после июньского процесса был расстрелян. Отец и до этого думал о процессах над высшим руководством, подумал и сейчас: «На что Сталин напрашивается? Если в банде вожак возводит клевету на именитых урок и их убивает, другие поймут – и с ними он так же поступит. Они улучат момент и прикончат такого вожака».
Тут провозгласили тост за победу труда над капиталом. Я, рассказывал отец, выпил стопку, отправил в рот ложку ухи и будто со стороны услышал себя: «А Сталин — дурак!» Вокруг все как умерли, ни шороха. И пластинка, доиграв, смолкла.
«Я не то что опьянел от стопки водки и сказал такое, – объяснял мне папа. – Я перенапрягся, внушая себе про сверхосторожность, и у меня произошёл внутренний срыв». Чувствую себя, продолжал он, в каком-то провале: а, что-де теперь терять? И инстинктивно веду себя как ни в чём не бывало, спрашиваю Николая: «В уху ершей клали?» Он в ответ: «Сазан, лещи, окуни. Ни один ершишка не попался». Я говорю: «Соли не мешает добавить, перцу».
Выпили по второй, по третьей, все едят, а меня, говорит отец, словно не видят. Вернулся, вспоминает, домой и жду: сейчас за мной придут. В окно выглядываю, на порог выхожу: не едет машина?
Позже, рассказал он, на заводе Николай подошёл, передал, что сестра его жены сказала ему: «Твой брат — отпетая, до мозга костей контра!»
Папа делился со мной: почему она не сообщила о нём? Понимала, что может пострадать семья её сестры. Сказанное о Сталине прилюдно было таким неслыханным выпадом, что её саму родственницу могли уволить из НКВД, если не посадить. А то вышло бы и похуже. У следователей мог возникнуть вопрос: а что это была за компания, если в ней не побоялись произнести то, что было произнесено? Наверное-де там царила соответственная атмосфера, велись подобные разговоры. Следствие могло создать дело о контрреволюционной группе, организации.
Скорее всего, считал мой отец, каждый из гостей учёл такое и воздержался от доноса.
В любом случае, то, что отец в 1937 году при людях, в присутствии сотрудницы НКВД, произнёс: «А Сталин — дурак!» и нисколько не пострадал, было чудом. «Евреи меня не выдали, – говорил отец. – У меня в голове повторялся еврейский анекдот, в котором – всепобеждающее бессмертие евреев. Рабиновича в шесть утра в понедельник поднимают с постели и ведут на расстрел. Он говорит: «Ничего себе неделя начинается!»
У тебя будут опасные ситуации, говорил мне отец, – повторяй этот анекдот, пусть он будет твоим девизом.
Ненависть до скрипа зубов
Однажды, вспоминал отец, его «опалило ненавистью». Был у него приятель-рабочий, вместе с которым они в своё время учились на вечернем отделении техникума, в заводской столовой обедали за одним столом. Товарищ знал об отце, что тот служил в Иркутске в Красной Армии, потом в Бежице работал в милиции.
Так вот, рассказал мне отец, летом 1938 года ему и приятелю дали путёвки в дом отдыха, они поехали поездом до станции Комаричи. Товарищ заговорил о том, что дом отдыха расположен в бывшей дворянской усадьбе: «Во всём огромном здании, в роскоши, жила одна лишь семья». В октябре девятнадцатого, сказал рабочий, он был в этих местах в боях с белыми. За год до того, мол, крестьяне не хотели идти в Красную Армию, укрывались, а теперь весь полк, считай, был из крестьян (мой отец знал, что приятель сам из села). Деникин, сказал этот человек, возвращал землю помещикам — «и пошли за землю кровушку лить. Сколько наших полегло!»
Тут, по словам моего отца, лицо приятеля, обычно добродушное, вдруг изменилось, зрачки сузились, он сжал кулак, проговорил с бешенством: «Попадись мне бывший беляк – глотку ему порву!»
Отец понимал, что это не к нему относилось, но чувство было весьма неприятное. Между прочим, напомнил он мне, Учредительное Собрание, которое разогнали большевики, отменило помещичье землевладение.
Молчи, скрывайся и таи…
Кругом исчезали люди, и о них говорили «забрали». Отец, по его рассказам, не мог отделаться от некоторых строк стихотворения Фёдора Тютчева «SILENTIUM» («МОЛЧАНИЕ»). Мысленно, говорил он, произносилось: «Молчи, скрывайся и таи / И чувства и мечты свои». Скрываться было негде, но у Тютчева это слово употреблено не в прямом значении.
Люди, таясь, умели выразить пароль времени. В то время существовали (к примеру, в Москве) магазины Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами (сокращённо: ТОРГСИН). В этих магазинах те, кто имел вещицы из золота, серебра или валюту, могли покупать чёрную и красную икру, крабов, другие деликатесы. Голодный народ, которому дорога в магазины ТОГСИНа была заказана, по-своему расшифровывал слово ТОРГСИН: «Товарищи Остерегайтесь Россия Гибнет Сталин Истребляет Народ».
На таких примерах мастер показывал мне, подмастерью, действительную историю «Страны Советов», говорил выстраданную правду, и она выворачивала наизнанку мифы коммунистов. Мастер объяснял: нужна каждодневная выдержка, дабы не проговориться, что ты не веришь власти, которая держит людей в оглуплённом состоянии неволи и речами учителей, словами учебников, передачами по радио, всеми прочими средствами лжёт тебе, будто ты счастлив, что родился в стране социализма.
Знание правды, искренние чувства мне следовало умело таить, как это делает разведчик во вражеском государстве. Отец повторял тютчевские строки: «Лишь жить в себе самом умей — / Есть целый мир в душе твоей».
Он объяснял мне: пока судьба хранит тебя, надо жить для того, чтобы развивать творческое «Я». Ибо жизнь или, если взять конкретнее, – история страны – есть своего рода роман, который создало и продолжает создавать Творческое Начало. Необходимо войти в его полноводную реку, соединиться с её течением, и тогда самые трудные ситуации окажутся пищей и энергией творчества.
Мастер повторял подмастерью: господство лжи, необходимость приспосабливаться к ней надо воспринимать как ниспосланное свыше условие Ученичества. Путь Ученичества предполагал войти в круг тех, кто стряпает для масс, и ждать возможности открыть, что это за стряпня.
Маленков
Отец рассказывал мне, что «своими глазами» (он делал ударение на этих двух словах) видел простых людей, в их числе немок, прошедших Трудармию, которые «плакали реальными слезами», когда 5 марта 1953 было сообщено, что умер Сталин. «Пресс пропаганды! – произносил отец, подняв указательный палец. – А людская масса, когда мозги под прессом, – овечье стадо».
Он считал, что Сталину «помогли окочуриться» те, кто стоял к нему ближе других и кого он, похоже, собирался расстрелять: Молотов, Берия, Маленков, Хрущёв.
Держа власть, Сталин всё время уничтожал тех, кто, как он предполагал, мог попытаться заменить его. Дряхлея, он понимал, что ближайшее окружение подумывает о его устранении, но на сей раз не успел обезопаситься.
После его смерти на слуху стали имена Берии, Маленкова, Хрущёва. Вскоре Берию убрали, и тут же родилась частушка:
Берия, Берия
Вышел из доверия,
И товарищ Маленков
Надавал ему пинков.
Сообщалось, что Берия в июне был арестован, его держали в заключении, вели следствие, в декабре судили и расстреляли вместе с рядом его бывших помощников. Мой отец этому не верил, считая, что его застрелили тогда же в июне, на заседании в Кремле, куда он был вызван.
Председателем Совета министров стал Георгий Маленков. Он был почти ровесником моего отца, родился в Оренбурге, там окончил гимназию, ходили слухи, будто он из дворян. Но служил он в Красной Армии в Туркестане, там в 1920-м вступил в партию, стал политработником, учился в Москве, сделал удачную карьеру. Она ему ни в коей мере бы не удалась, если бы он не участвовал в сталинском истреблении людей. Он ездил по стране с заданием проводить так называемые чистки, при которых были расстреляны сотни тысяч.
После устранения Берии Маленков в июле 1953 произнёс на Пленуме ЦК партии слова «культ личности Сталина», эту формулу позднее обкатает Хрущёв.
В августе Маленков на сессии Верховного Совета выступил в защиту разорённой Сталиным деревни, с колхозников списали недоимки прошлых лет, в два раза снизили сельхозналог. Были увеличены приусадебные участки, колхозники смогли выращивать скот на продажу. Селяне долго с благодарностью вспоминали Маленкова.
По-доброму отзывались о нём, по словам моего отца, и горожане. Он взялся за расширение производства товаров для населения, в особенности – продуктов. В магазинах больших городов, как слышали мои родители, стали появляться ветчина, копчёные колбаса, сосиски, кета, сёмга, даже красная икра. Нередкими бывали шоколадные конфеты, халва.
Газета Совета министров «Известия» обещала рост благосостояния народа. Были также известны слова Маленкова «разрядка международной обстановки». Но 14 сентября 1954 в Тоцких военных лагерях прошло испытание атомной бомбы. Цель этого чудовищного эксперимента в густонаселённой Оренбургской области, в ста километрах от Бугуруслана, – результаты влияния взрыва на людей, чтобы можно было программировать ход будущей ядерной войны. Среди результатов, в частности: страшный скачок числа раковых больных. Число это, разумеется, скрывалось, однако власть не могла скрыть, что после испытания бомбы люди в Оренбургской области заболевают раком, белокровием сплошь и рядом.
Вина лежит на Первом секретаре ЦК КПСС Хрущёве, на главе правительства Маленкове, на военном министре (так тогда именовался министр обороны) Булганине, на военных и учёных, требовавших «натурных испытаний» (об этом я рассказываю в романе «Солнце больше солнца»).
Победил плебей
Но о пагубности испытания Тоцкой атомной бомбы страна не знала. Сельское население радовалось облегчению жизни, городское – продуктам в магазинах. И Хрущёв резонно предположил, что Маленков, делом подтверждая, что он хочет и может удовлетворять потребности народа, станет любимым вождём. Однако Хрущёв сам лез в таковые и оказался, будучи проще, вместе с тем, хитрее. Маленков уравнял в зарплате первых секретарей обкомов партии и председателей облисполкомов. Хрущёв стал возвращать отменённые надбавки секретарям и получил их поддержку. Маленков терял власть, в январе 1955 он перестал возглавлять правительство.
Потом мой отец говорил мне: «При режиме плебса выигрывает самый ярко выраженный плебей». Хамство Хрущёва выплёскивалось в самых разных видах, взять хотя бы то, что слово «молодёжь» он произносил с ударением на первом «о» и с «е» вместо «ё» в конце.
Он объявил, что страна живёт при угрозе войны и потому главное – рост тяжёлой и военной промышленности. Это, естественно, отразилось на производстве товаров народного потребления. Он урезал приусадебные участки колхозников, запретив держать скот, заявив, что мясо должны давать колхозные и совхозные стада. Провозгласил цель – догнать и перегнать США по поставкам сельхозпродуктов. В народе мигом родилось: догнать, мол, хорошо бы, а перегонять нельзя. Почему? Увидят, что у нас ж… голые.
Стремясь выполнять невыполнимые планы поставок, колхозы и совхозы сдавали не выращенную, не откормленную до нужных требований скотину («кости и жилы»), начальники разных уровней погрязали в приписках, занимались очковтирательством.
Хрущёв обещал изобилие за счёт освоения целинных и залежных земель, которое началось в 1954-м. На целину съезжались десятки тысяч людей, там создавались зерновые совхозы-гиганты. Поначалу урожаи оказались сверхвысокими, но к их приёму ничего не было подготовлено, огромные горы зерна «горели» под открытым небом, зачастую его сваливали в овраги. А затем из-за эрозии почвы её плодородный слой стал уноситься ветром, пыльные бури 1961-62 гг. достигали Бугуруслана. То, что стала давать земля, не возмещало посеянного.
Хрущёв, продолжая куролесить, распорядился резать лошадей: село, мол, должно обойтись техникой. Приказывал сеять кукурузу там, где издавна выращивались пшеница и рожь. Словом, натворил такое, что, вопреки его обещаниям, отнюдь не потекли молочные реки в кисельных берегах. Деревня ненавидела Хрущёва. Досталось от него государственным структурам, лихорадило партийно-советский аппарат.
Хрущёв и его миссия
По отношению к народу он был преступником, как все деятели советского государства, считал мой отец, говоря о Хрущёве. С молодости он нашёл в системе своё место и служил ей ради карьеры. Решил крепко держаться за Сталина, с чьей женой Надеждой Аллилуевой учился в Промышленной академии. Он увяз с головой во всём бесчеловечном, что творил Сталин.
Однако после смерти Сталина Хрущёв выступил представителем тех руководителей, которые не желали признавать за кем-либо, кто выдвинулся из их рядов, право истреблять их по своему личному усмотрению. А Сталин это делал, опасаясь за свою личную власть, укрепляя её, устраняя не столько, может быть, даже реальные, сколько кажущиеся угрозы ей.
Отец называл данные, зная их наизусть: к 1938 году из пяти Маршалов СССР Сталин уничтожил троих, из семи командармов 1-го ранга были расстреляны трое. Это звание в 1938-м получили Федько и Фриновский, а в 1939-м оба также были расстреляны.
Сколько ещё деятелей разного калибра распрощалось с жизнью. Они приносили зло народу, но перед системой виноваты не были, они с нею росли, ей служили. По указанию же Сталина их объявляли шпионами, вредителями, желающими восстановления капитализма. Ложь эта требовалась одному Сталину, а не системе, которую ослабляло утверждение, будто в её руководство сплошь и рядом проникали враги. Могла ли она воспитывать новые поколения на лжи, что прославленные вершители революции, достигнув высоких постов, возжелали возвращения капитализма? Их имена следовало вернуть истории советского государства. Следовало также показать, что система будет гарантировать безопасность лиц, которые ей служат, которые перед ней не виновны.
По этим причинам Хрущёв на закрытом заседании XX съезда КПСС в феврале 1956 года выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». От народа уже не скрывали, что при Сталине осуждали невиновных. В 1961 году тело Сталина убрали из мавзолея и снесли все памятники ему.
Служа, таким образом, всё тому же советскому государству, Хрущёв объявил жертвами террора не одних лиц, принадлежавших к элите, но реабилитировал массу расстрелянных, уморённых в лагерях простых людей, миллионы выпустил из лагерей. Он возвратил на их родину выселенные Сталиным народы: не вернул лишь крымских татар и немцев, но, тем не менее, снял их с комендантского учёта и разрешил покидать места поселения.
Разумеется, есть основания, рассуждал мой отец, обвинять Хрущёва, что он не сделал ещё того-то и того-то. Но он не собирался снимать удавку с шеи народа, а лишь ослабил петлю, и уже это принесло огромное облегчение обществу. Оно оживало, и одним из глотков бодрящего воздуха стал Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 года.
Правдивость проникла в искусство, воплотившись в прекрасный, без дёгтя идеологии, фильм Михаила Калатозова «Летят журавли».
Хрущ разноликий
Однако Хрущёву, которого народ называл сокращённо-уничижительно – Хрущ, – нельзя простить, что он принялся закрывать и разрушать уцелевшие с тридцатых годов церкви, монастыри; были известны случаи, когда монахов сажали в психбольницы, верующих избивали милиция, дружинники.
Далее. Реабилитируя невинно осуждённых, он не давал пощады тем, кого считал виновными. В конце мая 1962 года были на тридцать процентов повышены цены на мясо и мясные продукты, на двадцать пять процентов – на сливочное масло. Официально объявили, будто это сделано по просьбе трудящихся. Возмутились жители Новочеркасска, забастовали, публично сожгли портрет Хрущёва, толпа народа двинулась к горкому партии. По безоружным людям открыли огонь из автоматов – двадцать шесть человек было убито, после чего стали выявлять зачинщиков выступления, семерых расстреляли, десятки людей получили лагерные сроки.
Папа узнал обо всём этом, слушая «Голос Америки», Би-би-си, «Немецкую волну», радио «Свобода». Хрущёв, делал вывод отец, защищал дееспособность системы и, естественно, свою власть, посягательство на которую было реальным. Но он не развернул кампанию арестов за отпущенное в его адрес худое слово, о нём безнаказанно рассказывали анекдоты, ходила частушка с обращением к Гагарину:
Юра, Юра, ты могуч,
Ты летаешь выше туч!
Соберёшься на орбиту,
Захвати с собой Никиту,
Чтобы этот пидарас
Не е... рабочий класс!
Террор, подобный сталинскому, не возобновился. В народе рождались, как впрочем, и прежде при терроре, язвительные отклики на плоды советской пропаганды. После того как в 1961 году сорвалась высадка на Кубе противников Фиделя Кастро и он согласился на размещение советских ракет, появилась песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Куба – любовь моя». Первым её исполнил Йосиф Кобзон. В народе же, и, что примечательно, в среде школьников распространилась пародия:
Куба, отдай наш хлеб.
Куба, возьми свой сахар.
Куба, отдай установки ракет.
Куба, пошла ты на …!
Рассказ моей сестры
То, что Хрущёв осудил, хотя и не в полной мере, сталинский террор, оценили люди, которых он коснулся. От моей матери я знал, как арестовали её первого мужа, как она носила в тюрьму передачи и их принимали, хотя он был уже расстрелян. Особенно же на меня подействовал рассказ моей сестры Нелли – в ночь ареста её отца ей было семь лет.
Моя мать, её муж и дочь жили, как я уже писал, в Сталинграде, квартира была в новом большом доме. Однажды моя сестра напомнила мне всем известное стихотворение о детях в городском дворе, которые сообщают друг другу, кто о чём:
– А у нас огонь погас –
Это раз!
Грузовик привёз дрова –
Это два!
Сестра сказала, как это так – «огонь погас»? Горели в печи дрова и вдруг погасли? Если же они все сгорели, тлеют угли, да и не говорят «огонь погас», говорят «кончились дрова». Другой мальчик объявляет, что у них в квартире газ. Ещё один – что у них водопровод. Но ведь дети собрались в одном дворе – значит, живут в одном доме или, скажем, в близких соседних. И что же – у кого-то квартиру отапливают дровами (кстати, дело происходит летом), у кого-то есть газ, у третьих водопровод, но нет газа, если о нём сообщают как о новости. Какая-то белиберда, глупо вымышленная сцена.
«Мы тоже собирались во дворе, – рассказывала моя сестра, – но не вечером, а утром. Я помню каждое утро летних каникул тридцать седьмого года. Кто-нибудь шептал, что ночью у таких-то забрали… Забрали отца. Те среди нас, у кого забрали раньше, чувствовали на себе взгляды, отворачивались. А если во двор выходил или выходила та, у кого забрали в эту ночь, все опускали глаза. Никаких игр не было, говорили только тихо».
Сестра рассказала о ночах. Автомашин в то время было немного, и когда ночью на улице раздавался звук мотора и замирал напротив дома, она просыпалась и «буквально чувствовала», что весь дом не спит. На улице горел фонарь. Мать, вспоминала сестра, вскакивала с постели, на цыпочках подходила к окну, осторожно, чуть-чуть отодвигала занавеску. «Не в наш подъезд», – шептала с облегчением.
И конечно, на подъехавшую машину глядели из всех окон. Машина – «чёрный ворон» – походила на автофургон, в каких в магазины развозили хлеб. Из неё выходили четыре-пять человек, направлялись к подъезду. И во всех квартирах подъезда вслушивались в шаги на лестнице.
«Однажды, – рассказала сестра, – они замерли на нашей лестничной площадке. Был март тридцать восьмого. В дверь постучали. Я никогда не забуду слова: Эн Кэ Вэ Дэ!» Сестра добавила: «Сказали – не Эн Ка Вэ Дэ, а Эн Кэ Вэ Дэ!»
В комнате включили верхнюю лампу, отец запомнился стоящим в свежей белой рубашке, люди выбрасывали из шкафа вещи, с полок сбрасывали книги, переворачивали матрасы, сестра запомнила отрывисто произносимое: «Где золото? Ценности? Меха?» Ни золота, никаких ценностей не было. Отца сестры увели.
После этого рассказа написанное Солженицыным об арестах не явилось для меня открытием.
Хрущёвская волна в литературе
Хрущёв бульдозером своротил затор, который перекрывал ручей, и ручей заструился. В 1960 году Александр Твардовский, тогдашний главный редактор «Нового мира», печатая в его номерах свою поэму «За далью даль», опубликовал главу «Так это было», где заговорил о деспотизме Сталина. Таким образом, разоблачение «культа личности» (термин Хрущёва) нашло воплощение в поэзии: «Когда кремлевскими стенами / Живой от жизни огражден, / Как грозный дух он был над нами, – / Иных не знали мы имен».
Твардовский указывает на факт: это имя звучало в ряду со словом Родина и становилось равным имени божества. Ему приписывались все свершения народа, меж тем как многие вершители, «что рядом шли в вначале, / Подполье знали и тюрьму, / И брали власть и воевали, – / Сходили в тень по одному».
Сказано, казалось бы, негромко, но сильно, полагал мой отец, сильно ещё и потому, что сказано в эпической поэме. И добавлял: эти сошедшие в тень знали бы тогда, когда воевали с нами, какая им уготована, после их побед, конечная победа.
Отец цитировал слова о Сталине:
Не зря, должно быть, сын востока,
Он до конца являл черты
Своей крутой, своей жестокой
Неправоты.
И правоты.
Припечатано хлёстко, говорил мне отец, но заметь: после слова «Неправоты» поставлена точка и добавлена новая строка: «И правоты». То есть открыто поле для рассуждений: то-то делал неправильно, а то-то, наоборот, правильно. Здесь и выигранная война, и созданные колхозы. Кстати, замечал отец, цену им Твардовский называет, и в этом его подлинная человечность: «за дальней звонкой далью» он видит на своей малой родине тетку Дарью «С ее терпеньем безнадежным, / С ее избою без сеней, / И трудоднем пустопорожним, / И трудоночью – не полней».
«То, что это было опубликовано, не заслуга ли Хрущёва?» – говорил отец, добавляя, что в 1961 году Твардовскому за поэму «За далью даль» присудили Ленинскую премию.
В 1962 году «Новый мир» напечатал одобренную Хрущёвым повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Мой отец хранил журнал с повестью, не раз рассуждал о ней. Она написана с советских позиций, но таких, какие пришли в соответствие с политикой Хрущёва. Поскольку народу открыли, что от сталинского террора пострадало много людей, верных советской власти, Солженицын нарисовал пример тому.
Иван Денисович, бывший колхозник, фронтовик, трудится в лагере, точь-в-точь как охваченный энтузиазмом передовик производства, воспеваемый в какой-нибудь газетной корреспонденции под заголовком «Умножим свершения». Он доволен лагерной пищей, тем, что сегодня каша хороша, а баландой прямо наслаждается, мысленно восклицая: «Хор-рошо!» Сказано, что сейчас он ни на что не в обиде: ни что срок долгий, ни что день долгий. Вышел герой из столовой «с брюхом набитым».
Папа покачивал головой и над такой подробностью: кто-то, мол, «не доест и от себя миску отодвинет». Не могу вообразить, говорил отец, чтобы в нашем трудармейском лагере кто-нибудь свою порцию не доел. Сказать бы это брату Коле.
Автор приводит воспоминания героя о жизни в колхозе: картошку-де ели целыми сковородами, кашу – чугунками, «а еще раньше, по-без-колхозов, мясо – ломтями здоровыми. Да молоко дули – пусть брюхо лопнет».
Отец произносил: «Ладно, до колхозов были сыты, если не считать поедание трупов и людоедство двадцать первого года. При колхозах то же делалось в тридцать третьем году. А то, что было в другие колхозные годы…» – он морщился, вспоминая увиденное, и присовокуплял: «Не очень сходится с тем, что пишет Твардовский о тётке Дарье».
К словам о колхозной обжираловке Солженицын пристегнул мысль героя: «А не надо было так, понял Шухов в лагерях». Тут папа опять вспоминал брата Николая, умиравшего в лагере от истощения, цитировал: «Что́ Шухов ест восемь лет, девятый? Ничего. А ворочает? Хо-го!»
Я запомнил слова отца: «Бодренькая фантастика! Но именно потому, что она заменила правду, вещь понравилась Хрущёву». Тем не менее, огромный её плюс в том, что показано: в лагерях сидели невиновные, главный герой, при том, что от его умозаключений разит фальшью, вызывает сочувствие. Произведение, первое такого рода в советской литературе, подкрепило и, в определённых рамках, проиллюстрировало развёрнутое Хрущёвым осуждение сталинского террора.
Папа прочитал и дал прочитать мне «Повесть о пережитом» Бориса Дьякова, вышедшую в 1964 году в журнале «Октябрь», «Барельеф на скале» Андрея Алдан-Семёнова, напечатанный в том же году в журнале «Москва». Понятно, что самое ужасное не показано, говорил отец, но в основном страдания людей, без вины брошенных в лагеря, отображены. Произведения, по мнению отца, были написаны безупречно выразительным языком.
В отличие от Дьякова, Алдан-Семёнова и других авторов, взявшихся в то время за лагерную тему, Солженицын создал «Архипелаг ГУЛАГ», доказав, что причина террора не в «искривлениях периода культа личности». Причина – само построенное террором советское государство. Исследование его природы, говорил мне отец, – немалая заслуга Солженицына.
Про «Архипелаг ГУЛАГ», который был издан осенью 1973 года в эмигрантском издательстве ИМКА-Пресс, папа узнал, благодаря зарубежным радиоголосам. Когда Солженицына в 1974 году выслали из СССР, папа заметил, что из библиотек исчезли журналы с его произведениями, которые у нас дома бережно хранились. Помимо «Одного дня Ивана Денисовича», то были напечатанные в «Новом мире» рассказы «Матрёнин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела», «Захар-Калита».
Ходатай
С началом хрущёвской оттепели отец стал, по просьбам людей, писать ходатайства о реабилитации их арестованных родных. Дело это отнимало время, но он ничего не брал за помощь, говоря: «Да ну, ерунда – письмо написать».
Неподалёку от нас жила в комнатке барака старушка-немка Фрида Ивановна. До войны в республике Немцев Поволжья она была колхозницей, муж её умер, а двоих сыновей-конюхов девятнадцати и восемнадцати лет арестовали в 1938 году и расстреляли по обвинению в контрреволюционной троцкистской террористической деятельности. Саму Фриду Ивановну выселили в 1941 году, она попала в Бугуруслан. По-русски она говорила плохо, писать, кажется, не умела. Мой отец, помню, сказал: «Лев Толстой о ней мог бы написать второй рассказ «За что?» У него поляки страдали из-за того, что хотели быть поляками, а Фрида Ивановна вряд ли задумывалась, хотела ли она быть немкой».
Отец посмотрел имевшиеся у неё документы, отправил в Москву прошения о реабилитации сыновей. Их через некоторое время посмертно реабилитировали. Но одинокая старуха не получала пенсии, нянчила чужих внуков и жила тем, что ей за это платили. Отец принялся хлопотать, как это тогда называли. Он, разыскивая почтовые адреса, запрашивая справки с мест работы Фриды Ивановны и, в конце концов, собрал необходимое для подтверждения её полного трудового стажа. Она стала получать пенсию; часто приходила к нам, словно к своим единственным родным.
За взбучкой дело не станет
На улице, где мы жили, на прилегающих улицах не было асфальта, зимой на них нарастал слой льда и снега. По ним проезжали запряжённые лошадьми сани из деревень, а то и всадники. Они обычно останавливались у продуктового магазина номер 4, который находился наискось от нашей двухэтажки, за дорогой. Я насмотрелся на лошадей самых разных мастей. Отец мне объяснял: это муругая, это чалая, пегая и т.п.
Лошади, конечно, были не чистопородные. Отец говорил: в этой кровь башкирской породы, в этой – кровь вятской, а эта почти чистая казанская порода, а вот тебе сибирский маштачок. Ну, а я (в дополнение) воображал себе английских верховых, орловских и донских коней (опять же, по отцовским описаниям и по снимкам в Энциклопедии).
Скажу об одном случае. Подъехал в санях к магазину мужик в тулупе, явно подвыпивший, лошадь привязал к столбу, купил в магазине, что ему было надо. Мороз стоял такой, что у лошади морда покрылась инеем. Мы с отцом проходили неподалёку. Мужик полуулёгся в санях, стал лошадь разворачивать и так вожжи натянул, что удила врезались ей в угол рта. Отец подбежал к саням в ярости: «Морду тебе набить, негодяй?! Ты ей рот рвёшь!» Мужик посмотрел на него, ослабил вожжи, уехал, а отец мне сказал: «Лошадь не его – колхозная. Что ему до неё, если он от природы дрянь?»
Если бы мужик вздумал огрызаться, то мой отец, хотя уже немолодой, выполнил бы угрозу и с успехом. Дома он упражнялся с гантелями, с эспандером, когда-то занимался боксом.
Однажды ночью в дверь нашей квартиры сильно постучали; пока папа вставал с постели, раздался хрусткий удар – середину двери пробил нож и так, что показался его кончик. Отец распахнул дверь, увидел какого-то мужика и нанёс ему апперкот в подбородок, отправив в нокдаун. Отобрал нож, сказал: «Сам спустишься или тебя спустить?» (Напомню, что мы жили на втором этаже). Незнакомец ретировался.
На другой день вечером он пожаловал к нам с бутылкой водки, отец впустил его, пригласил в кухню. Человек был трезв, рассказал, что вчера перепутал-де дом: оказывается, шёл к подруге, причём, подозревая, что она не одна, и хотел «им устроить». У отца он попросил извинения. Папа кивнул моей матери, она поставила перед гостем стакан, тарелку с оставшейся от ужина варёной картошкой, полила её подсолнечным маслом, нарезала лук. «Я не пью, а вы пейте, – сказал папа человеку, – в милицию я не заявлял и не заявлю».
Тот выпил, закусил, спрашивает: «А нож мой?» – «Нож не отдам!» – ответил отец и заметил гостю, что, не перепутай он дом, мог бы тюремный срок схлопотать; неизвестно, мол, как бы вас с ножом приняли и что вы бы натворили. «Да я понимаю…» – нехотя согласился человек и, попрощавшись, унёс недопитую водку.
Нож был настоящей бандитской финкой с «усиками», с наборной, из разноцветных колец, рукояткой. Папа отнёс его в школу учителю труда: «Мой трофей», – рассказал о случае, они обсудили, что сделать с ножом. Учитель укоротил лезвие, превратил остриё в округлый конец, убрал «усики» и заменил наборную рукоятку деревянной. После этого отец пользовался ножом, как одним из своих перочинных; ножи он любил с детства.
Моральные установки
Зимним днём отец возвращался из школы домой; от улицы, по которой он шёл, вправо уходил переулок, к нему прилегал заснеженный городской сад. Вдруг раздался хлопок выстрела, за ним крик – по переулку, выскочив из сада, побежал подросток, за ним гнался старик, крича: «Держи его!» Подросток пересёк улицу перед моим идущим отцом, тот пустился за ним, догнал, схватил его. Подбежавший человек вцепился пареньку в горло, повалил его наземь, стал душить. Папа отнял его руки от горла поверженного беглеца: «Душить нельзя!»
У старика по щеке текла кровь, он, задыхаясь, с хрипом выдыхал: «Убить хотел…» Оказалось, в саду подросток стрелял из так называемой поджиги. Как она делалась? Находили подходящую медную трубку, её конец расплющивали молотком, загибали, в трубку заливали немного расплавленного свинца, чтобы, застыв, он образовал «дно». Затем с помощью напильника и гвоздика или толстой иглы проделывали в трубке сбоку маленькое отверстие. Трубку укрепляли проволокой и изоляционной лентой на подобии пистолета, выпиленного из доски. Поджига готова. В её ствол засыпали серу, соскобленную со спичек, загоняли пыж, клали кусочек свинца или обрубок гвоздя, после чего зажигали «присыпку» в отверстии на боку трубки (ствола), и происходил выстрел.
Паренёк с поджигой в безлюдном зимнем саду вряд ли целил в проходившего по переулку человека; скорее всего, попал в него случайно. Виновника надо было вести в милицию. Пострадавший требовал этого, но папа сказал: «Мы ему пострашнее сделаем. Я знаю его отца – тот пьёт, а пьяный он – бешеный. Расскажу ему, и он негодяя изобьёт до полусмерти». Старик удовлетворился, но дал пареньку пару раз кулаком по лицу.
А мой отец вспомнил, что действительно знает семью подростка, хотя не ведал, пьёт ли родитель и бывает ли страшен во хмелю. Отпустив пойманного, отобрав у него, конечно, поджигу, папа вечером нанёс визит родителям, потолковал с ними о том, что ждёт их сынка, если они им не займутся как следует.
Между прочим, я сам, учась в четвёртом классе, воспользовался инструментами, которые были у нас в отделении сарая, изготовил поджигу и стал, улучая момент, когда вблизи никого, стрелять из неё за сараем. Папа поджигу нашёл и сказал мне: «Стреляй, но если она взорвётся и глаза лишишься или пальцев, для тебя это будет чересчур. Я удушу тебя подушкой». Выражение лица у него было более, чем серьёзное. Потом я, правда, стрелял, но весьма уменьшал заряды и вскоре потерял к поджиге интерес.
Был ещё случай, относящийся к моральным установкам отца. Я с нашей дворовой компанией шёл по улице, и один из ребят пульнул из рогатки в севшего на забор частного дом воробья. Камешек в птицу не попал, пролетел дальше и разбил в доме окно. Вся компания мигом убежала, а я бегать не мог, и меня схватил хозяин. Я ему сказал, что камня не кидал, но он отвёл меня в милицию. На месте оказался начальник, его жена была учительницей в нашей школе, и он хорошо знал моего отца. Начальник велел человеку, который меня привёл: «Отпустите его!»
Потом зашёл в школу к моему отцу, сказал, что у него лежит заявление о разбитом окне. В том, что разбил не я, начальник милиции не сомневался, но не сомневался он и в том, что я знаю, кто разбил. Папа сказал: «Вы хотите, чтобы он нарушил неписаное правило: «не выдавай»? Вы не знаете, как ребята относятся к таким, кто выдаёт? К счастью, он у меня такой, что, если я ему велю выдать, он этого не сделает!»
Начальник ничего не сказал. А мне отец объявил: «Ты увидел, что твои приятели – подлецы? Убежали, зная, что отвечать будешь ты. Но тебя они будут уважать за то, что ты никого не выдал».
К моральным установкам, каковые отец мне преподал, надо отнести и отношение к животным. В отделении сарая у нас был устроен закуток, в нём родители откармливали поросёнка и с началом декабрьских морозов закалывали его. Мяса, а особенно сала хватало нам надолго. Когда мне было лет пять, папа заметил, что я почёсываю поросёнка, стараюсь с ним подружиться, и сказал: «Не приучай его к себе и сам к нему не привыкай! Мы его держим только для того, чтобы зарезать и съесть. Заигрывать с ним – значит, лицемерить». Он досконально объяснил, что это такое – лицемерие.
Была у нас кошка, которую я котёнком принёс с улицы и назвал Багирой. Я знал, что хлеб она не ест, и однажды за ужином потыкал в котлету катышком хлебного мякиша, дал Багире. Она тут же его съела. Отец рассерженно выговорил мне: «Обманул кошку – ай да умник! Издеваться над теми, кто зависит от тебя, кто слабее тебя, – это подлость!»
Гадости и один успех
Сбоку от дома, где мы жили, был устроен палисадник с тремя десятками клёнов, они росли плохо. Мой отец окопал их, и, поскольку в доме не имелось водопровода, носил воду от колонки, находившейся за сто метров, и выливал под деревья. За вечер он трижды приносил под каждое по два ведра. Больше никто этого не делал. Клёны выросли, стали раскидистыми.
Четыре дерева были посажены на улице вдоль так называемого тротуара – полосы земли, утоптанной прохожими. Отец и их поливал, большими стали и они. С некоторого времени под крайним деревом в его тени стала располагаться мороженщица, державшая мороженое на металлическом ящике со льдом. Лёд таял, обращаясь в раствор соли – замораживали воду с солью. Когда мороженое бывало распроданным, мороженщица выливала солёную воду с остатками льда под дерево. Оно начало сохнуть. Мой отец уговаривал женщину выливать воду в нескольких шагах в стороне, однако мороженщица делала по-своему, и дерево засохло.
В другое лето она поместилась в тени под зеленеющим деревом, и его тоже поила раствором соли. Мой отец написал в газету, заметку напечатали, но никакого действия это не возымело. Второе дерево погибло, как и первое. По той же причине засохло третье, а четвёртое сломал, наехав в него задом при развороте, грузовик.
Вспоминая, как погибли четыре дерева, отец морщился и произносил: «Гадость». Гадостью было и другое. В нашем доме, как и в соседних домах и бараках, отсутствовала канализация, и жилицы выливали наземь во дворе вёдра помоев с комками женских волос, с картофельными очистками, с яичной скорлупой, с селёдочными головами и внутренностями, с детским калом. Меж тем в тридцати метрах стоял общественный нужник, и яма под ним предназначалась и для помоев. Туда их выливала только моя мать. Отец сдерживался и ничего не говорил соседкам, зная, что это без толку, его лишь люто возненавидят.
В одно лето на улице перед домом, между проезжей частью и так называемым тротуаром, оказалась мёртвая большая собака. То ли её сбила машина, то ли кто-то убил её как-то иначе. Труп разлагался, много людей проходило мимо, не выказывая признаков беспокойства. От трупа до открытых окон первого этажа было не более пятнадцати метров. Можно представить, какой воздух втекал в комнаты. Мы жили на втором этаже, и труп собаки лежал не напротив наших окон, но запах несло и к нам, окна пришлось держать закрытыми. Отец ходил в домоуправление, там ему ответили, что «улицей мы не занимаемся». Ему не удалось выяснить, кто же занимается ею.
А надо сказать, что рядом с общественным нужником стоял огромный дощатый ящик, куда бросали всякие отбросы. Иногда на телеге, запряжённой лошадью, приезжал человек, вилами перемещал отбросы из ящика в телегу и увозил на помойку за город. Приезжал человек в разное время, но мой отец, при его занятости, подкараулил его, дал ему рубль двенадцать копеек на бутылку яблочного вина, и тот, подъехав к останкам собаки, поддел их вилами, отправил в телегу и увёз.
Поездки в деревни
Отец постоянно старался показать мне что-то новое. Недалеко от Бугуруслана расположена деревня Аксаково, в 1960-е годы там ещё была цела усадьба, в которой провёл несколько детских лет видный писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Нас с отцом не один раз возил в деревню владелец легковушки «Москвич-400», человек, с чьим сыном мой отец у нас дома занимался русским языком, подготовил его к поступлению в институт.
Мы осматривали усадьбу, отец рассказывал о творчестве Аксакова, о славянофилах и западниках.
Тот же шофёр несколько раз в одно-другое лето отвозил нас в Пилюгино, что на речке Малый Кинель, в деревни по другую сторону от Бугуруслана, рядом с которыми были лес, речка: Коптяжево, Нойкино. Мы останавливались в избах с сохранившейся русской печью, и отец заводил с хозяйками разговор о доколхозном времени, когда из таких печей доставали рогачом чугунки с топлёным молоком, покрывшимся густо-розовой плёнкой. Щи варили с говяжьей мозговой костью, на которой оставляла часть мяса, добавляли и мясо кусками. Потом сваренным щам давали ещё и несколько часов «потомиться» в русской печи, отчего они становились невероятно вкусными. Из горячей кости добывали лакомство – мозг.
Из разговора отца и хозяйки, которую звали Галина Прокофьевна, я узнал, как «томили» в печи и гречневую кашу, которая, делаясь совершенно рассыпчатой, приобретала тёмно-красноватый оттенок. «Не каша – малина!» – подсказал отец хозяйке, и та растрогалась. Она рассказала, что, когда Сталин умер и «заступил Маленков», люди думали – услышаны их молитвы. Маленков уменьшил налог, разрешил увеличить приусадебные участки и разводить свой скот. «Я тогда корову с тёлкой держала и пять овечек», – вспоминала Галина Прокофьевна. Недолго, мол, радовались – Хрущёв взял свою силу, скотины лишил, оставил огороды и кур.
Когда я стану постарше, отец скажет мне: в деревне, мол, жизнь хуже, чем была при крепостном праве. Тогда крестьяне несколько дней в неделю работали на барина, а несколько – на себя, они держали скот. А теперь барщина длится всю неделю, доярки ходят доить колхозных коров за километры. В своё время, по рассказу отца, как расшифровывали ВКП(б)? Всероссийское крепостное право большевиков.
Хозяйка варила нам яйца всмятку, пару раз отец покупал у неё куриц для супа. Однажды он попросил у неё позволения испечь хлеб. Она изумилась, переспросила его, он с улыбкой подтвердил: «Да, хлеб!» Она нехотя позволила, стала наблюдать. Отец замесил тесто и испёк на поду хлеб – Галину Прокофьевну это потрясло: «Чтобы мужчина да городской сам хлеб испёк! И нисколечко не дал подгореть! Во дела-а!»
Я был горд за отца и нашёл, что ещё не ел такого вкусного хлеба. Хозяйка признала, что он не хуже, чем её хлеб.
Мы с отцом ходили на речку купаться, а потом – в лес, искали грибы и как-то набрали лукошко грибов с сиреневато-бурыми шляпками. Галина Прокофьевна мотнула головой: «Их не едят, это сорные синички!» – «Рядовки сорные, – поправил мой папа, помня уроки Силы Андреева. – И они вкусные!»
Он варил рядовки пятнадцать минут, отвар вылил, а грибы поджарил на подсолнечном масле. Мы их с аппетитом ели, а хозяйка глядела в страхе, ожидая, что нам станет плохо. Когда прошло время и с нами ничего не случилось, она и сама отведала рядовок. К отцу прониклась величайшим уважением.
Ездили мы и в деревню Баймаково с её прудами, где разводились карпы. Они заменяли нам мясо, брали за них недорого. Жарили их нам, как здесь принято, в сковородах, куда наливали воду с добавкой подсолнечного масла, так что карпы, скорее, тушились, а не жарились. Жители коптили карпов впрок. Мы привезли домой «полпуда» (выражение отца) копчёных карпов.
И надели мы белые шляпы
Достать для меня путёвку в черноморский санаторий родители отчаялись и решили, что отец поедет со мной на море «дикарём». Выбрали Анапу, отправились туда из Бугуруслана в конце июня 1965 года. С собой мы взяли моего племянника Сергея, сына Нелли, падчерицы моего отца.
В то время аэропорта вблизи Анапы не было, мы сошли с поезда на станции Тоннельная, и автобус по горной дороге, прозванной «тёщиным языком», привёз нас в Анапу. Папа снял за два рубля в сутки одну из комнат частного дома по проспекту Шевченко, 194. Проспектом звалась тенистая сельского вида улица: за изгородями утопали в зелени сплошь частные одноэтажные дома.
Перед тем как пойти на пляж, папа купил нам и себе шляпы из белого мягкого, похожего на вату, материала. В них мы увидели море с его волнами, которые у берега обламывались и обращались в языки, лижущие песок. Я тогда жадно читал Грина и подумал о нём, когда он, приехав из вятского захолустья в Одессу, взглянул на море, которое перед ним, как и передо мной в Анапе, уходило к небу и по которому можно было плыть и плыть на корабле до проливов, до других морей и опять проливов – и так обплавать весь свет.
Детское сознание нахально побуждало меня сопоставлять себя с подростком Грином: как и он, я приехал к морю из места ссылки отца, и если отец Грина выступил против царской власти, то мой воевал против советской. Грин был поляк в России, я – немец.
Впервые я видел юг: солнце каждый день, песчаный пляж, тёплое море, фрукты, виноград. Город уютный, жизнерадостный. Мой отец, превосходный пловец, принялся учить меня плавать. С Сергеем заниматься этим не пришлось – ему было восемь лет, но он вбежал в море и поплыл. Ко мне успех пришёл, кажется, на вторую неделю. Я, инвалид, стал уверенно держаться на воде, а затем под командой отца, плывшего рядом, стал одолевать не менее полуста метров. К концу месяца я плавал самостоятельно.
У нас разыгрывался аппетит, но тут мы встречали весьма неприятное. Жильцов у наших хозяев, которые на лето переселялись во времянку, было достаточно, и готовить в кухне не удавалось. Мы ходили то в одну, то в другую столовую, но везде приходилось выстаивать долгую, иногда поболее часа, очередь. А будь разрешено частное предпринимательство, всюду вывески зазывали бы позавтракать, пообедать. Но чего не было, того не было.
Мы посетили в Анапе краеведческий музей, посмотрели на стадионе два футбольных матча, ходили в кинотеатры «Родина» и «Россия».
После возвращения домой мне был куплен фотоаппарат «Зоркий-6» и всё нужное для изготовления фотографий. Я освоил дело и во второе наше лето в Анапе (1966) сделал много снимков. Мы трое плавали на каботажном судне «Диабаз» в Геленджик с заходом в Новороссийск, и я отснял несколько плёнок во время этого путешествия.
Вскоре нам довелось узнать, что такое землетрясение. Вечером мы и другие жильцы были во дворе, собираясь идти спать, как вдруг цементное покрытие двора под ногами задрожало, завибрировал столб, поддерживавший кровлю веранды, с крыши дома слетели кирпичи от развалившейся печной трубы. И – стихло.
Жильцы всполошились, повыносили постельные принадлежности во двор и на огород, заночевали там, к ним пристроился Сергей. И лишь мы с отцом спали под крышей. Я спросил его, бывал ли он при землетрясении. Он ответил: «Не бывал, но читал». – «Тебе не страшно?» – «Вспомни подземный толчок на острове Робинзона Крузо. Как он к нему отнёсся? И потом по-прежнему жил в своей горе, никаких толчков больше не было».
Я был удовлетворён. Утром сфотографировал трещины цементного покрытия двора, следы других небольших разрушений.
Пляж в тот день оказался неузнаваемо малолюден: одни отдыхающие уже успели уехать, другие стояли у билетных касс в нескончаемых очередях. Папа произнёс: «Падок народ на панику». Я заснял пляж в его странном виде, а на другое утро на нём снова было тесней тесного.
По возвращении в Бугуруслан я отпечатал все фотографии, и отец сказал: «Одна профессия у тебя уже есть!»
Зимой он вышел на пенсию, но продолжал работать учителем несколько месяцев в году, разрешённых законом.
Фома Ягнёнок
В наше третье анапское лето, когда мы остановились у тех же хозяев, что и прежде, соседнюю комнату занял человек, приехавший на тёмно-серой «победе». Мой отец внешностью седовласого интеллигента внушал симпатию к себе, с ним охотно разговаривали, и я не удивился, когда сосед спросил его, играет ли он в шахматы. Отец с улыбкой кивнул. Шахматы мы взяли с собой в Анапу и нередко в них играли. Вечером перед сном сосед сразился с отцом, одну партию проиграл, вторая окончилась вничью.
Звали человека Григорий Александрович, он был чуть ниже моего отца, считавшегося высоким, но шире в плечах, крепче сложением. Отцу было шестьдесят два, Григорий Александрович выглядел заметно моложе; ему, наверно, было лет пятьдесят. Русые без седины волосы он зачёсывал со лба назад.
Утром он предложил нам поехать с ним в посёлок Джемете у моря – там-де на пляже людей гораздо меньше, можно в сторонке костёр разжечь, «сладить пикничок». Отец взглянул на меня и Сергея: «Едем?» Мы кивнули.
Григорий Александрович сначала повёз нас на рынок, купил, предварительно его понюхав, зарезанного ощипанного петуха, авоську репчатого лука, картошку, морковь. Потом мы неслись по асфальтированной дороге, «победа» свернула на грунтовку, которая вилась меж зарослей тростника, вскоре перед нами открылось море. Проехав с километр по песку, машина встала меж двух небольших пологих холмов, поросших кустиками. От набегавших на берег волн нас отделяла полоса песка метров сто шириной. В сравнении с анапским пляжем, здесь было, можно сказать, пустынно: там-сям расположились группки загорающих, в море виднелось несколько купальщиков.
Наш новый знакомый достал из багажника машины чугунный казан, чайник и произнёс: «С ним была чугунная сковорода – не единственная отрада его в путешествиях». Он изменил фразу Лермонтова «со мной был чугунный чайник – единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу». У моего отца, на которого он смотрел выжидательно, вырвалось с искренним одобрением: «Ого! – после чего папа добавил: – Думаю, вы очень давно читали «Бэлу», а помните». Григорий Александрович не без удовольствия сообщил: «Года на два младше вашего сына был, когда читал». Он уже знал из предыдущих разговоров, что отец – учитель, а кто он сам, тот его не спрашивал.
В багажнике оказались канистры с водой, запас дров. Взрослые развели костёр. Григорий Александрович сказал: где, мол, найдётся компания, которая на природе не шашлык бы жарила, а варила суп с петухом? И заключил, что все любят жареное, а варёное лучше! По своей жизни-де убедился, «в самых тяжёлых случаях силы давало варево».
Мы разделись, я невольно глянул на внушительные бицепсы Григория Александровича. Меня привлекли татуировки. На правом бицепсе была изображена голова человека с бородой Карла Маркса, увенчанная короной с зубцами. На левой руке пониже плеча я увидел изображение циферблата с чёрточками вместо цифр. Часовая стрелка застыла над чёрточкой, заменявшей «3», минутная была на чёрточке, подразумевавшей «7». Таким образом, указывалось время: примерно без двадцати пяти три. Имелась ещё одна татуировка – тарантул на правой руке над кистью. Тарантулов я повидал в поле за окраиной нашего города.
Я заметил, что Григорий Александрович, у которого виднелись шрамы на теле, обратил внимание на следы ранений на ноге, руке и спине моего отца. Наш приятель спросил его: «В каком звании вы воевали?» Отец ответил, что воевать не воевал, а подростком попал под перестрелку, такое было время. Григорий Александрович не стал расспрашивать.
Мы пошли купаться. Отец заплыл довольно далеко, но наш друг так удалился, пропав за волнами, что мы ждали его возвращения минут пятнадцать. Суп ещё не был готов, и взрослые начали партию в шахматы. Григорий Александрович показал знание их истории, назвал имена Хосе Рауля Капабланки, Макса Эйве, отметил: «Наш Алёхин умер непобеждённым». Мой отец вставил: его фамилия произносится через «е». Григорий Александрович, помолчав, кивнул с видом, говорившим: уж теперь он не ошибётся, произнося фамилию Алехина. И спросил отца, знает ли он, кем Алехин работал до того, как покинул СССР. Папа сказал: «Следователем в Московском уголовном розыске».
Григорий Александрович взглянул на отца с какой-то особенной зоркостью. О морских разбойниках, сказал он, рассказываете ученикам? Папа улыбнулся: тема, мол, увлекательная, но, увы, не входит в школьную программу. Наш приятель спросил: а могли бы-де рассказать о Фоме Ягнёнке? Отец ответил: конечно, а вот найти теперь эту книгу, наверное, невозможно. «У меня она была, – сказал наш друг и проверил отца: – Почему корсара звали Ягнёнком?» – «У него был дворянский герб с изображением агнца», – был ответ.
Разговор шёл о книге французского писателя Клода Фаррера «Фома Ягнёнок» («Тома Ягнёнок»).
«Рос я в Казани при нэпе», – сказал Григорий Александрович. Тогда, мол, и хорошие книги и другое хорошее было. «Короткая пора процветания. Двадцать пятый, двадцать шестой годы – верх изобилия! Вы помните?» – спросил он отца, тот кивнул. Нашего друга не отпускало воодушевление – в магазинах, говорил он, чего только не было! зайду с родителями, и продавцы за полу хватают, не выпустят: это поглядите, и это! Улыбки, любезность, цены низкие.
Поспел суп, мы начали есть, а Григорий Александрович вспоминал: «Везде кондитерские, кафе! Мать водила меня в одно, заказывала мне чашку куриного бульона с куриной ножкой. – Он прикрыл глаза, с трогающей грустью произнёс: – Как трепетно это помнится!»
Мы отдавали должное супу, поделённому на четверых петуху, и наш друг сказал: «Описать бы время нэпа честно – без осуждений, без подмочки!» Я переглянулся с отцом, и Григорий Александрович спросил его: «Вы пишете?» – «Это неважно», – обронил отец. «Почему не были на фронте?» – «Я немец Поволжья, меня мобилизовали в Трудармию». – «Понятно, – отметил наш приятель, перевёл взгляд с отца на меня, на Сергея, спросил: – Кому добавки?» Мы поблагодарили и из вежливости отказались, но он разлил нам и себе остатки супа, после чего сказал, что прошёл всю войну и «видел там то, чего никто не видел. Нэп!» – «Нэп?» – спросил отец с сомнением. «Именно и не иначе!» – произнёс с торжеством Григорий Александрович и взялся за рассказ.
Работала, мол, организация поблизости от линии фронта, восстанавливала, строила – короче, обслуживала потребности армии. «Люди получали зарплату, да какую! Хо-хо! – рассказчик раздвинул большой и указательный пальцы руки, показывая толщину денежной пачки. – Награды получали! Ну и работали хорошо. А организация-то была чисто частная!» – «Невероятно», – отозвался с недоверием мой отец, на что рассказчик ответил: не хотите, мол, не верьте. И добавил, что организацию уже после войны подвела случайность. «Узнали, что никому она не подчинялась, кроме как одной умной голове. Расстреляли человека, но ещё живы те, кто поминает его добром».
Папа ничего не сказал, и Григорий Александрович обратился ко мне: тебе, дескать, надо научиться описывать людей так, как описывал Горький, и тебя найдёт большой герой из тех, о ком официальные писатели не пишут. Он, мол, станет тебе рассказывать, ты «возьмёшь на карандаш, выпечешь роман и всегда будешь при достатке». Отец возразил: такой роман не издадут. Наш друг объяснил: главное, чтобы он был написан и герой знал – его жизнь сохранится на бумаге. Кому надо, те прочтут. И ни герой, ни они не допустят, чтобы писатель нуждался. «Были выдающиеся люди, – Григорий Александрович выдержал паузу, – из другого мира… их дела не остались. А интересному влиятельному человеку, который сознаёт себя, нужна память о нём».
Я не нашёлся, что ответить. Отец сказал: «Искупаемся и в шахматы?» На сей раз Григорий Александрович выиграл одну партию, две проиграв.
Разъяснения
Отец, чтобы не быть в долгу за обед, по возвращении из Джемете купил бутылку коньяка, шоколад, виноград, сливы, пригласил Григория Александровича в нашу комнату, а мы с Сергеем пошли в недалёкий кинотеатр «Россия». Потом мы с отцом наедине поговорили о нашем приятеле. Знания об уголовном мире отец почерпнул, работая в милиции, и ещё больше узнал от студента литинститута, с которым учился: уголовника в прошлом.
Я услышал, что значат татуировки Григория Александровича. Циферблат и показанное на нём время: без двадцати пяти три – это для непосвящённых. У изображения есть тайный смысл. Человек заявляет о решимости трижды пойти на преступление, за которое приговор – двадцать пять лет. «Несоответствие не прощается носителю татуировки», – сказал отец, со значением подняв указательный палец.
А что значит голова человека с бородой пещерного жителя, увенчанная короной? Среди блатных бытовала легенда о царе древности, который ушёл в лес и стал там жить в одиночестве, питаясь грибами, ягодами, кореньями. Смысл: «Лучше жить со зверями, чем с людьми, даже будучи их царём».
Отец заключил: «Татуировка означает непримиримость к обществу с его установлениями».
Сказал он и о тарантуле на руке над кистью. Осенью, когда тарантул наиболее ядовит, его укус убивает козла. Татуировка несёт в себе лозунг: «Смерть козлам!» Я понял, кто имеется в виду, ведь настоящие козлы весьма симпатичны.
«Ты заметил шрамы у него на спине и на боку? – спросил меня папа. – Это ножевые ранения». Григорий Александрович – фигура! Скорее всего, он сам работал в той самой частной организации, о какой поведал. Отец сказал, что сначала слова о ней счёл фантазией, но за коньяком наш друг привёл «немаловажные подробности». Пересказывать их мне папа не стал, обронив лишь, что организация, очевидно, была взаправду.
Я спросил, почему человек, если он матёрый преступник, говорит о том, что должен бы скрывать. «А он это объяснил», – ответил отец и напомнил слова Григория Александровича: «Интересному влиятельному человеку, который сознаёт себя, нужна память о нём». Ему хочется расположения обычных членов общества, продолжал папа. Его мучит жажда почувствовать, что он что-то значит в мире, что он может быть своим для симпатичных ему образованных людей. Стоя за шторой, он немного отодвигает её: «А такого вы меня признаёте?»
Меня, конечно, заинтересовало, надо ли «признавать» Григория Александровича. Я услышал: он отнёсся к нам любезно, он нам доверился, помог нам приятно провести время, видно, что у него нет намерения нас обмануть. Значит, для нас он хороший человек. А то, что он, может быть, банк ограбил или состоял в организации, которая обворовывала государство, так это его личные отношения с государством.
Папа ответил и на то, стоит ли мне в будущем, если представится случай, взяться писать о герое, о каком сказал Григорий Александрович. «Писать, приспосабливаясь, – мученье, – были слова отца. – Писать же в угоду не государству, а некой личности – падение».
Мы не раз вспоминали Григория Александровича, поездки с ним в Джемете, которых было ещё несколько.
Перекидной мостик и Несбывшееся
В последнюю нашу неделю в Анапе мы увидели афишу фильма «Фантомас». Папа улыбнулся: «Ого – перекидной мостик!» Он имел в виду, что в отрочестве смотрел картину «Фантомас», а теперь фильм под тем же названием вышел на экраны в моё отрочество. Мы поспешили в кино. Я, Сергей, да и отец были в восторге от фильма, отцу в особенности понравился Луи де Фюнес.
Папа напомнил то, что раньше рассказывал мне о немом фильме «Фантомас», который должен был нагонять ужас. Теперешний же фильм режиссёра Андре Юнебеля – искромётная комедия, но обе картины появились, благодаря романам Марселя Аллена и Пьера Сувестра. Живое искусство соединило мостком удалившиеся друг от друга отрезки жизни.
Я думал потом не раз, что по тому же мостку пришли в наше с моими друзьями детство луки, арбалет, воздушные змеи, западки́, рассказы о животных Сетона-Томпсона и другое.
Успели мы посмотреть в Анапе и тогда только что вышедший на экраны советско-болгарский фильм «Бегущая по волнам» Павла Любимова по мотивам романа Александра Грина. Сценарий написал Александр Галич. «Это уже не яркие «Алые паруса», приоткрыт грустный и куда какой серьёзный Грин», – сказал папа и стал со мной обсуждать кинокартину. Заметь, говорил он, Бутлер вёл незаконный гешефт за спиной Геза и убил его как искателя приключений, мечтателя. Бутлер признаётся, что перестрелял бы всех мечтателей. С каким удовольствием он разрушил памятник Фрези Грант, и толпа рукоплескала.
«Что этим всем сказано? – спросил меня отец и ответил: – Конец мечтам – конец свободе творить. Мы живём без свободы творчества».
Потом он размышлял о Несбывшемся (привожу отрывок по книге).
«– Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты?
Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня».
Отец сказал об этих мыслях: «Какие гениальные слова найдены, чтобы выразить то, к чему мы внутренне стремимся, хотя и без толку, – Несбывшееся. Его высокие, туманные берега».
Он замолчал, думая о своём Несбывшемся. Я понял, о чём он думает, с догадками соваться не стал, но запомнил сказанное им тогда в Анапе, когда мы возвратились в нашу комнату из кинотеатра: «Грин приоткрыт, но всю подоплёку его творчества, то, почему он не писал о советской жизни, никогда не будут открывать».
К боевому прошлому
Благодаря сложной комбинации, наша семья обменяла жильё в Бугуруслане на двухкомнатную квартиру в городе Новокуйбышевске Куйбышевской (ныне Самарской) области. Переезд состоялся в декабре 1967 года.
Город оказался загазованным: нефтеперерабатывающий комбинат, завод синтетического спирта, нефтехимический комбинат отравляли своими выбросами атмосферу, но квартира, в отличие от бугурусланской, была «с удобствами»: имелись ванная и туалет. Располагалась она на втором этаже, и весной из окна мы разглядели вдали Волгу во время разлива. До неё от дома по прямой оказалось шесть километров. В окно виделась полоска леса у Волги.
Пойдя под гору по направлению к ней, окажешься на маленькой станции Липяги, за железной дорогой лежит деревня того же названия. А далее – поле, озеро, ещё озерки и Волга. Вот на этом пространстве между железной дорогой и рекой летом 1918 года были бои: с одной стороны чехословаки и Народная Армия КОМУЧа, а с другой – красноармейцы, их в то время разбили. В октябре через эти места мой отец с 5-м Сызранским полком, после боя под Иващенково, проехал в Самару.
Судьба в Великую Отечественную войну привела отца в Красноярск, в края, известные ему с Гражданской войны, затем в Оренбуржье, по которому он проходил белым добровольцем, а теперь определила ему жить у места других боёв белых с красными.
В Новокуйбышевске он стал временами, оставаясь на пенсии, замещать какого-либо учителя в школах №15 и №18, начал писать зарисовки, очерки для городской газеты «Знамя коммунизма», был принят в число её внештатных корреспондентов. Публиковала работы отца и областная газета Куйбышева (Самары) «Волжская коммуна». Он купил с рук пишущую итальянскую машинку Olivetti с русской, естественно, клавиатурой, которая не пылилась без дела.
На письменном столе перед ним, как в Бугуруслане, стоял в рамочке на подставке портрет Льва Толстого, на другой стене висел портрет Чехова. Рамки отец сам изготовил из дерева, покрыл краской. На стене над диваном висел арбалет его изготовления, привезённый из Бугуруслана.
В новокуйбышевском литературном объединении, куда приняли отца, он встретил Михаила Ивановича Лаврентьева, вместе с которым учился в Москве в Литературном институте Союза Советских Писателей. Михаил Иванович рассказал, что, когда после окончания института вернулся к себе домой в Куйбышев, на него написал донос некий куйбышевский поэт, и оклеветанный человек отбыл в лагерях пятнадцать лет. При Хрущёве его реабилитировали, предложили вступить в партию, дабы он показал этим, что не таит зла на режим. Михаил Иванович вступил в партию, о пережитом в лагерях предпочитал молчать.
Папа нередко ходил к нему в гости, тот приходил к нам, они говорили о писателях того времени: к примеру, о так называемых «деревенщиках». Звучали имена Василия Белова, Валентина Распутина, Василия Шукшина.
Мой отец и его товарищ обсуждали, как пробиться к читателям. Михаил Иванович, одарённый прозаик, работал старшим бухгалтером автотранспортного пассажирского предприятия, имел дачу, где росли яблони, смородина. Он заготавливал наливки и на протяжении двух лет принимал на даче двух сотрудников Куйбышевского издательства, от которых зависело издание книг. Эти люди приезжали на дачу в пятницу вечером и до вечера воскресенья вкушали шашлыки, пили наливки, к которым хозяин «прикупал водочки». Итог: издательство стало выпускать сборники детских рассказов хозяина. По его словам, только гонорар за третий сборник восполнил истраченное им на дачные приёмы.
Если бы не они, читатели не узнали бы о талантливом писателе.
Приятное и неприятное на турбазе
В Новокуйбышевске нашлась и знакомая моей матери, эта женщина жила с дочерью, которая была замужем за добрым человеком Николаем Семёновичем. Семья подружилась с нашей семьёй. Николай Семёнович в летнее время заведовал туристической базой нефтехимического комбината и летом 1968 пригласил на турбазу моего отца, меня и Сергея. Катер, который назывался «пээска» (ПС: пассажирское судно) доставил нас и других отдыхающих по реке Кривуше до её впадения в Волгу, которую пересёк, и мы оказались на лесистом берегу с песчаным пляжем. Неподалёку была пристань Шелехметь, за нею виднелись Жигулёвские горы. Впоследствии я описал эти места в повести «Стожок на поляне» (http://belousenko.com/books/Hergenroether/hergenroether_kombinatsii.htm).
Нам дали палатку и раскладушки с постельным бельём. Хлеб на турбазу ежедневно доставляла пээска, на ней же приплывала мама, снабжая нас картошкой, пшеном для каши, макаронами, консервами и прочим.
Утром искупавшись, папа, я и Сергей отправлялись за ерик в Жигулёвский заповедник, где в лесу открывались идиллические поляны со стожками сена, в выси кружили ястребы. Мы собирали грибы, потом около палатки жарили их в сковороде на костре, а иногда варили суп с ними и с консервами.
На турбазе отдыхали деловые мужики, ночью они заходили с бреднем в Волгу, безнаказанно занимались браконьерством. От них мы узнали в подробностях то, о чём слышали раньше. После того как Волгу поперекрывали плотинами, в ней не стало белуги, севрюги, белорыбицы – того, чего в детство, к примеру, моей мамы, выросшей на Волге, имелось в изобилии. А какой вред нанесли реке недалёкие от турбазы предприятия нефтепереработки и нефтехимии Новокуйбышевска! Поначалу после их пуска отсутствовали очистные сооружения, и отходы сбрасывались напрямую в реку Кривушу, которая несла их в Волгу.
Купаясь, беря из реки воду для чая и приготовления еды, мы успокаивали себя тем, что подобного уже нет.
Рыбакам попадались окуни, подлещики, карпы, щуки. Отец спросил, ловится ли волжская селёдка. Они, по их словам, о ней только слышали.
Отдыхавшие на турбазе матери семейств, располневшие тёти в трусах, разделившись по двое, ходили с отрезами марли по отмелям, методично вылавливали мальков, которые были не длиннее спички, и стряхивали их в вёдра с водой. Мой отец, подойдя, мягко сказал:
«Через год это была бы рыба, а сейчас это что же?»
«Хорошая рыба!» – непреклонно возразила тётка.
«Да что же там есть?!» – сдерживаясь, сказал папа.
«Заготовим, засолим и будем класть в суп!» – заявила она.
Отец уговаривал женщин прекратить их занятие – ответом было упрямое враждебное молчание, на него не глядели. Он отошёл и в сердцах сказал мне:
«Какой страшный народ! С такой алчностью уничтожать природу и индустриально, и вручную! Не могу это видеть, хоть беги, куда глаза глядят!»
Кому досталась река, которая должна бы быть прекраснейшей на земле.
Река истории
Когда мы с отцом прогуливались вдоль Волги, он вернулся к известному уже мне воспоминанию о том, как 6 октября 1918 года Александр Рогов на станции Самара устроил прощание с Волгой, как ели свежую селёдку, тушённую в чае с луком. В то время, сказал отец, на берегу Волги прямо-таки пахло рыбой. Вяленой воблы было – завались!
Незаметно разговор перешёл на полыхавшее в Поволжье пятьдесят лет назад – папа по доступным источникам изучил, что происходило на участках, где сам он не был. Воевали одна с другой белая и красная флотилии, а какие победы одерживала Народная Армия КОМУЧа! 22 июля Каппель, тогда ещё подполковник, взял Симбирск, а 7 августа – Казань, окружив немало красных, они сдались. «Латышский полк с командиром сдался! – с торжеством произнёс папа. – А латыши у красных слыли самыми стойкими бойцами».
Каппель заполучил огромные трофеи: вооружение, боеприпасы, амуницию, а, главное, золотой запас государства: слитки золота, платины, миллионы золотых рублей в монетах и миллионы рублей кредитными знаками. Все эти громадные средства оказались в распоряжении Колчака, когда он был объявлен Верховным правителем России, и он не сумел употребить их на пользу делу. Раненые, выходя из госпиталей, не получали никакого пособия. Если при царе семьям убитых на первой мировой войне солдат назначалась пенсия, то при Колчаке семьи павших за белое дело не получали ничего.
Вышло так, будто Колчак сберегал золотой запас для кремлёвской власти – почти весь он попал в руки Иркутскому совету и был доставлен эшелоном в Москву.
Отец хвалил Дутова, Войцеховского и с особенным восхищением вспоминал своих непосредственных командиров: штабс-капитана, с которым познакомился у села Кузоватово, и с капитаном, кому представился после возвращения на фронт из омского госпиталя.
Пробыв на турбазе до середины августа, мы с папой отправились на теплоходе «Семнадцатый год» вверх по Волге в Чебоксары, в гости к тёте Лине (тёте моей матери) и её мужу Александру Андреевичу Рожкову. Он много лет руководил леспромхозами в Вурнарах Татарской АССР, в Козловке Чувашской СССР, а когда вышел на пенсию, семья поселилась в Чебоксарах.
Рожковы имели дачу у Волги, в этих местах ещё водилась стерлядь. На даче мы более недели ели стерляжью уху, причём раз тётя Лина приготовила её по тому рецепту, о котором рассказывала моя бабушка: стерлядь варилась в курином бульоне. Когда мы съели по тарелке этой замечательной ухи, хозяйка, разлив остальное в тарелки, поставила их на столик в прохладу. Уха превратилась в желе – обильно поперчённое, оно оказалось, по выражению моего отца, первейшего вкуса.
Отец и Александр Андреевич говорили о лесе, о разведении пчёл в нём, рассуждали, можно ли в одиночку прожить в глухом лесу. Александр Андреевич подарил папе свой внушительный яркий значок отличника лесной промышленности.
Ещё папа увёз из Чебоксар складной ножичек, имевший два лезвия, штопор, напильничек для ногтей и маленькие ножнички. Почти из каждой поездки отец привозил складные ножи для собираемой коллекции.
Летом следующего 1969 года мы с ним поплыли на «метеоре» в Ульяновск к дяде Воле (дяде моей матери) и его жене тёте Нине. Дядя Воля был ровесником отца, который знал от моей матери, что её мать и другие родные при царе и во время Гражданской войны жили в Камышине на Волге. Когда в городе установилась советская власть, у моей бабушки отобрали дом, где она жила с моей матерью, тогда ещё ребёнком, и с другой дочерью.
Летом 1919 года Камышин заняла Кавказская армия белых, и дяди моей матери, Воля и Ваня, гимназисты, вступили в неё. В августе белые под натиском красных начали отходить, дядя Ваня в отступлении заболел тифом, попал в больницу в Царицыне (ныне Волгоград). К городу приближались красные, белые не успевали вывезти всех раненых и больных, им сказали: «Кто может идти, уходите! Или коммунисты убьют на месте!» Дядя Ваня кое-как поплёлся из больницы, на улице его сбил и переехал трамвай. Брат же дядя Воля сумел затеряться в городе, а затем вернуться в Камышин.
Моему отцу он не говорил об уходе с белыми, но сказал, что хорошо помнит отца моей матери Якова Вебера, которого запомнил кавалерийским офицером, уезжавшим на Первую мировую войну. Потом, во время Гражданской войны, он воевал на стороне белых и пропал без вести. Его отец, мой прадед Лукиан Иванович Вебер, был расстрелян красными как весьма богатый человек, основатель хлеботорговой компании «Вебер и сыновья».
Вернувшись из Ульяновска, мы с отцом, взяв Сергея, опять отправились на турбазу. На сей раз во время похода по Жигулёвскому заповеднику мы видели лося: он зашёл на просторную поляну с другого её края, постоял и не спеша удалился в лес.
Матери удалось раздобыть пятнадцать банок дефицитной говяжьей тушёнки, и отец варил с нею пшённую кашу, рассказывая, как в свою солдатскую юность радовался, если бывала эта еда. Он вновь вспоминал, сидя у костра и понизив голос, о первых боях, о переправе через Волгу, об отступлении к Оренбургу, о нескончаемо страшном походе к Иркутску.
В это лето я, инвалид, научился грести и катал отца на лодке, вызывая его похвалы.
Братья
Мой отец переписывался с братьями Николаем и Константином. Весной 1956 года мой отец с моей матерью и со мной ездил в гости к Константину Филипповичу. Вскоре для меня была получена путёвка в санаторий Озеро Горькое в Курганской области, и на пути туда отец, мать и я опять побывали у дяди Кости.
Зимой 1958-59 годов, когда я находился в Москве в Центральном научно-исследовательском институте протезирования и протезостроения, дядя Костя с женой и с сыном Александром (по-домашнему Шурой) приезжал погостить к моим родителям в Бугуруслан.
В августе 1963 года к нам в Бугуруслан приезжал Николай Филиппович, гостил с неделю. Мой отец, благодаря школьным каникулам, был свободен, братья подолгу сидели за столом с нарезанным ломтями арбузом. Дядя Коля рассказывал, как медленно погибал в лагере, пока вдруг его руки не пригодились начальнику. После освобождения, в начале правления Хрущёва, дядю Колю восстановили в партии. Обе его дочери стали детскими врачами, вышли замуж, поселились в Новосибирске. Племянник Владимир, окончив техникум в Краснотурьинске, уехал в Забайкалье, в Шелехово, поближе к местам, где погибла в лагере его мать, память о которой он свято хранил.
Дядя Коля, рыболов и охотник, описывал, как вершами ловит щук, хариусов в реке Каква, как однажды ему попался таймень. Вместе с другими охотниками он в конце осени – начале зимы «ходит» на лосей, осенью по чернотропу охотится на зайцев, ставит капканы на барсуков. Он приглашал нас с отцом к себе зимой, обещая угостить студнем из лосиных ног. К тому времени он, овдовев, жил со второй женой.
Приглашение, хоть и нескоро, мы приняли: в зимние каникулы, в начале 1970 года, приехали с отцом к дяде Коле и его жене Полине, на балконе квартиры ждали замороженные лосиные ноги. Студень мы вкушали с хреном, с солёными помидорами и огурцами. Попотчевали нас хозяева и зайчатиной, нашпигованной свиным салом и чесноком. Мой отец сообщил, что ел её в Бессоновке и в Кузнецке, и дядя Коля кивнул: «В Кузнецке ели, точно!» Жизнь в Бессоновке он не помнил, был слишком мал.
Отец спросил его, нет ли в здешней тайге отшельников. Дядя Коля ответил, что в здешней нет, а «подалее на север» есть одиночки, от знакомых слышал.
Я сфотографировал застолье. Мне была подарена шапка из шкуры зайца-русака, и отец заснял меня в новой шапке, при этом напомнив мне наедине, что заячьи шапки носили добровольцы Народной Армии КОМУЧа. В Новокуйбышевск мы вернулись преисполненные впечатлений.
Летом к нам приезжал Константин Филиппович, они с отцом договорились съездить в Кузнецк – посмотреть, сохранились ли дома, где они жили, и здание, где находилась булочная. Возвратившись, рассказали, что уцелел лишь каменный дом на улице Конопляновской. Следов кладбища, на котором был похоронен их отец, не нашли.
Вспоминая разговоры моего отца с братьями, а говорили на самые разные темы, замечу: никогда не было произнесено ни слова об участии отца в Белом движении и ни разу не упоминались Павел, Фёдор, сестра Маргарита.
Сравнение наград
Весной 1970-го, по инициативе директора школы №15 Михаила Григорьевича Будылёва, моего отца наградили Юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Я помню, как отец, сидя дома за письменным столом, выдвигал ящик, доставал именной орден, которым наградили Филиппа Андреевича Гергенрёдера, и ленинскую медаль, держал обе награды на ладони, будто взвешивая, задумчиво смотрел на них и убирал в стол.
В нескольких ящиках стола хранилась коллекция ножей – большей частью, складных ножичков, некоторые были в чехольчиках. Оглядывая коллекцию, отец говорил о ноже, который когда-то был у него в Кузнецке: «Золингеновская сталь, рукоятка из настоящего моржового клыка».
Из-подо льда
Прекрасно зная, насколько несвободны в своём творчестве писатели в СССР, мой отец отмечал тех, чей талант проявлялся, несмотря на условия. Любимым его писателем, к примеру, был Андрей Платонов, слово которого росло среди окружающей стужи, чтобы пробиться из-подо льда. Отец перечитывал его изданный в конце пятидесятых годов сборник рассказов «В прекрасном и яростном мире», где простым карандашом чуть заметно подчеркнул восхищающие его места и со вздохом говорил: «Вообще-то подчёркивания недопустимы».
В рассказе Платонова «Фро» отца приводила в восторг фраза: «– Посторонитесь, гражданка! – сказал носильщик двум одиноким полным ногам».
Как своеобразно, восклицал отец, выбрана деталь и как выразительно подана!
Он медленно повторял: «двум одиноким полным ногам». Деталь открывает нам полную сил и чувств молодую тоскующую женщину, оставленную мужем, захваченным его работой.
В рассказе «Такыр» отца потрясал смысл описания упорно растущей в степи чинары, чья кора, «изболевшая, изъеденная зверями, обхватанная руками умиравших, но сберегшая под собой все соки, была тепла и добра на вид». Героиня рассказа «заметила еще, что на высоте ствола росли камни». Помню слова отца: «Ты вдумайся!» И он зачитывал далее: «Должно быть, река в свои разливы громила чинару под корень горными камнями, но дерево въело себе в тело те огромные камни, окружило их терпеливой корой, обжило и освоило и выросло дальше, кротко подняв с собою то, что должно его погубить». И вот, произносил отец с ударением, — венец! Он читал о мысли героини: «Пусть горе мое врастет в меня, чтобы я его не чувствовала».
Уже закрыв сборник, отец заключил – у кого, кроме Платонова, найдёшь подобное: «сказал двум одиноким полным ногам», «въело себе в тело»?
Греющие огни
Из писателей более позднего поколения отец выделял Юрия Казакова, чей рассказ «Арктур – гончий пес», увидевший свет в 1957, называл «прекрасной вещью, которую не устанешь перечитывать». Слепого от рождения бездомного пса накормил, а потом оставил у себя одиноко живший доктор. Отец сказал мне: «Исполнен романтики – ты только посмотри! – и полон значения момент, когда доктор дал имя собаке».
Я представил описанный деревянный дом с заросшим садом, террасу, вечер и прочитал: «Доктор задумчиво поднял глаза: низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда». Человек пробормотал слово: «Арктур…» И далее: «Пес шевельнул ушами и открыл глаза». Глаза его, напомнил отец, не видят! Но он, услышав «Арктур», открыл их. Всё полно значения!
Нельзя переоценить другую чёрточку портрета собаки: «морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопросительность».
Попав однажды в лес, пёс, несмотря на слепоту, становится тем, кем родился: гончим. Его хозяин – не охотник, и Арктур в одиночку гонится за лисами, оглашая лес призывным лаем. Нет поощрения, нет похвалы, награды, а о том, какая у него слава среди местных охотников, гончий пёс не ведает. И одиноко погибает, верный открытому счастью предназначения.
Юрий Казаков не внёс в рассказ ни нотки идеологии, и необыкновенно задушевно звучат его слова: «наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды!»
Другой отмеченной отцом «за чистоту» книгой стала изданная в 1971 году повесть Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо». Да, писатель считается советским, рассуждал отец, но как виден сволочизм действительности, в которой скитается собака! Что за дрянь – наши советские люди! И никакого тебе хорошего конца – Бим погибает из-за них.
Арктур и Бим – греющие огни в потёмках знобкой жизни. В той действительности истинно восхищающие герои оказываются среди собак.
Добавлю от себя: что там советские люди, если Николай II, развлекаясь, убивал кошек и собак. Запись в его Дневнике за 1905 год.
«8-го мая. Воскресенье.
День простоял холодный и серый.
В 11 час. поехали к обедне и завтракали со всеми. Принял морской доклад.
Гулял с Дмитрием в последний раз. Убил кошку».
Иван Кемеров приводит данные: «Так, в тот же год мишенями Его Величества стало 899 бродячих собак и 1322 кошки!»
Жестокостью к животным Россия резко отличается от Запада. Например, в Германии жизнь кошек и собак охраняется законом, бездомных животных здесь спасают, а не убивают. Бима поместили бы в приют до возвращения хозяина, и никаких мытарств на долю собаки не выпало бы.
Серый Волк
Мой отец следил за печатным словом, выписывая «Правду», «Известия» (с приложением «Неделя»), «Комсомольскую правду», «Труд», «Сельскую жизнь» (ради печатавшихся в ней очерков), «Литературную газету», также получал областную газету «Волжская коммуна» и городскую «Знамя коммунизма». Он желал знать, хотя бы и по советской печати, о политике, о жизни страны, старался читать между строк.
Наблюдая литературный процесс в стране, выписывал так называемые толстые журналы «Новый мир», «Знамя», «Москва», «Октябрь», «Наш современник», газету «Литературная Россия». Скромный в потребностях, привыкший обходиться самым необходимым, он выкраивал деньги и на подписку, и на покупку вызвавших его интерес книг. Кроме того, брал книги в нескольких библиотеках Новокуйбышевска.
Чтобы передать, что он говорил о заметных произведениях, нужна отдельная объёмистая работа. Здесь же я коснусь его мнения о самых выделившихся вещах.
В журнале «Москва» в 1968 году вышли «Записки Серого Волка». Автор Ахто Леви. Мой отец, принявшийся читать их, проговорил с расстановкой: «Эстонец. Родился в буржуазной Эстонии, где говорили по-эстонски. Русского языка в школе не учил, а неплохо овладел литературным русским языком? Интересно!»
Я прочитал вещь вслед за отцом, и мы стали обсуждать её. Написана она от первого лица о том, что пережил Ахто Леви. Он мальчиком жил на острове Сааремаа, когда Эстония была занята германскими войсками. Его отец, оставивший мать ради другой женщины, пошёл воевать в эстонском легионе на стороне немцев. Мальчишке скучно учиться в школе, он, его друзья, читая книги о приключениях, играли в искателей сокровищ. Ахто Леви называет книгу о Виннетоу, также роман «Банда Желтого Дьявола», рассказывает об «известном испанском пирате» по имени Себастьян дель Корридос, о его быстроходном корабле «Черный Альбатрос».
Мой отец в его детство и я в моё этих книг не знали. Лишь взрослым я узнал, что Виннетоу (Виннету) – вождь апачей, герой книг немецкого писателя Карла Мая. А в буржуазной Эстонии эти произведения были переведены и изданы.
Мальчишки решили путешествовать, что понятно и естественно; они надеялись добраться до Африки, а, может, и до Америки. Для начала же отправились в Германию.
1944 год, герою тринадцать лет. В Германии он работал у садовника, бежал от него, бродяжничал, служил во вспомогательных частях люфтваффе. Ему очень мешало незнание немецкого, он не понимал команд. После разгрома Германии он менял там способы зарабатывать на жизнь. В конце концов вернулся на Сааремаа, где свои порядки устанавливали коммунисты, где все знали об НКВД. Отчий дом оказался занят чужими людьми, что с матерью паренька, они не знали. Он встретил приятеля своего отца, бывавшего некогда у них в доме, и услышал, что отец после прихода советских войск стал одним из «лесных братьев», которые, скрываясь в лесу, продолжали воевать с коммунистами. Отец погиб от рук коммунистов.
Рассказавший это человек, которого звали Роосла, нелегально жил в городе под именем Орас, он был связан с группой «лесных братьев», которую называл «12 апостолов», и сказал юнцу, что надо мстить за отца. Ахто пошёл в лес к «апостолам», стал их разведчиком, доставлял им продукты, обеспечивал их связь с Орасом. Автор описывает, как они вешали сельских активистов, насиловали их жён, а главное – грабили, стараясь набрать побольше колец, браслетов, других ценностей.
Однажды парня послали к Орасу сообщить ему, что группа меняет своё место нахождения. Он в сильной усталости зашёл в чужой дом, по случайности пустой, заснул там. Вернувшиеся хозяйка с хозяином застали его, и – о чудо! – хозяйка оказалась той самой женщиной по имени Лиль, к которой некогда ушёл отец мальчика. Она его узнала. От неё и её мужчины Ахто услышал, что его отца убили вовсе не коммунисты. Мужчина сам служил в эстонском легионе, откуда дезертировал, прятался в лесах, поселился у Лиль. Когда кончилась война, явился в милицию, рассказал о себе, и его простили.
Осенью 1944 года в их с Лиль доме появился тяжело раненный отец Ахто и попросил отвезти его в больницу. Мужчина на телеге отвёз его в город. По дороге отец рассказал ему, что находился в лесу с компанией Роосла, что это бандиты, грабящие население, предающие Эстонию. Группа распалась на две враждующие части, которые в один прекрасный день перестреляли друг друга. В отца стрелял Роосла, то есть Орас. Отец умер в больнице.
После этого Ахто пришёл к Орасу и, мстя за отца, ударил его ножом, после чего Орас ударил его чем-то тяжёлым по голове и ушёл.
С «апостолами» Ахто не порвал. Они, двенадцать человек и он, собрались на лодке уплыть в Швецию со всем тем, что награбили. Уже сдвигали лодку в воду, как вдруг раздалось: «– Руки вверх! Бросай оружие!» Беглецы залегли, стали отстреливаться. Пограничники, как написано, открыли бешеный огонь. Юноша решил уплыть, но его мучило, куда девать тетрадку с записями? Под бешеным огнём он думает не о почти неминуемой смерти, а о записках. Ахто зарыл их глубоко в песок, разделся, заполз в воду, поплыл, держась параллельно берегу; сзади, пишет он, всё ещё слышались выстрелы. Очевидно, по его словам, «апостолы» не собирались сдаваться.
Никто из них не попытался бежать, скрыться, как скрылся он. Решили погибнуть героями? Это несколько странно для бандитов, какими их нарисовал Ахто Леви.
Герой нагишом углубился в лес, вышел по тропинке к одинокому домику и, никем не замечаемый, неделю жил на чердаке, спускаясь к свинье, которой приносила корм хозяйка. Гость питался этим кормом. Затем он раздобыл в доме кое-какую одежду и вернулся на то место, где была лодка, когда пограничники окружили «12 апостолов». Ничто не напоминало о недавнем бое. Он с трудом разыскал свои тетради.
После этого он отправился в город к школьному другу, с которым некогда сидел за одной партой, и тот накормил пришедшего. Ахто оставил у него свои тетради с записями и пошёл в кофейню. Войдя в первый зал кофейной, увидел за ближайшим столом трёх мужчин в милицейской форме, лица их были ему знакомы, и, что хуже, пишет он, им знакомо было его лицо. Он попытался убежать, но его настигли.
Милиции не было известно о его принадлежности к «апостолам». Начальник стал говорить с ним «по душам». Нам-де нетрудно доказать, что ты воришка, ты малолетний преступник, у тебя нет родителей. Чтобы избежать канители, возьми, мол, на себя несколько небольших краж, мы от них избавимся, а тебя ненадолго направят в детскую колонию, а оттуда на волю.
В результате Ахто, не поняв, как он пишет, почти ничего, что говорилось в суде, узнал, что получил шесть лет «каких-то ИТЛ». В КПЗ он стал мочиться под себя, притворился больным, его положили в больницу, приставив охрану, он бежал, был пойман, и началась его тюремная жизнь.
Его, вора по кличке Серый Волк, воры с кличками Румяный и Ташкентский начали усиленно обучать русскому языку, и, в частности, блатной речи, он узнал, что «мелодия» – это милиция, «лопатник» – кошелёк, а «фрайер» – личность мужского рода, недоразвитая. И ещё многое другое. В главе, над которой указан 1951 год, Ахто Леви, которому двадцать лет, признал, что читать по-русски не умеет. Одному политическому заключённому был выделен для работы кабинет с книгами на столе. «Я, – пишет Ахто Леви, – наугад взял одну со стола и стал листать (читать по-русски не умею)».
Когда ему удавалось вырваться на свободу, он в гостиницах с помощью отмычек проникал в номера, обворовывал спящих постояльцев. Он залезал в квартиры, а также, вооружённый пистолетом, останавливал такси на трассах между городами и грабил ехавших.
О своей жизни преступника автор написал и правду, и неправду, считал мой отец. Замечательна смелость, с какой Ахто Леви поднялся, пожалуй, вровень с Виктором Гюго, у которого епископ заявил, что сам подарил Жану Вальжану украденные им серебряные подсвечники. У Ахто Леви женщина в такси, им ограбленная, завела с ним душеспасительный разговор, упоминая любовь, честь, а потом протянула ещё денег: я, мол, вам отдала не всё, вот остальные. Мне не денег, мне вас жалко.
После этого, написано автором, он выбросил пистолет и перестал грабить пассажиров такси. А почему не написать, что раскаяние наступило раньше и он в такси вернул женщине деньги? Тогда он превзошёл бы Виктора Гюго.
Описана случайная (опять случайность!) встреча с Орасом на вокзале в Таллине, дружки Ораса принялись следить за Ахто, сюжет обретал всё большую остроту.
Вопросы и выводы
Этот человек, до двадцати лет не умевший читать по-русски, не мог сам написать вещь, сказал мой отец. Я продолжил в подтверждение. Там, где описывается жизнь Ахто в Германии, одной из глав дано название маленького немецкого города «Егерь» (Jдger – охотник). Когда-то это слово пришло в русский язык и освоилось с мягким знаком на конце – «егерь». В немецком языке «р» всегда твёрдое. Ахто должен был видеть, как написано название города, и слышать, как оно произносится немцами. Передавая его по-русски, он не добавил бы мягкий знак. Его добавил тот, кто не владел немецким, не слышал названия города по-немецки, но знал русское слово «егерь».
Скитаясь по Германии, Ахто забрался в тендер паровоза, полный угля, так что стал чёрным. Увидевший его немец спросил: «Ду, нигер, вас махст ду хиер?» (Ты, негр, что делаешь ты здесь?) По-немецки фраза пишется: «Du, Niger, was machst du hier?» В немецком языке «e» после «i» не произносится, слово «hier» немцы произносят «хир». Ахто слышал часто это слово, тем более что запомнил обращённый к нему вопрос, и не написал бы «хиер». Написавший, которому дали фразу на немецком, просто заменил буквы русскими буквами, ибо, повторяю, не знал немецкого.
Мой отец, выслушав мои объяснения, заключил: это уже конкретные доказательства, что писал вещь не Ахто Леви. Язык лёгок, местами ироничен. Работал профессионал. Поручить ему дело могла только высоко стоящая инстанция. Но каким образом записки одного из десятков тысяч преступников, если эти записки существовали, привлекли внимание руководства? Кто стал читать написанное по-эстонски или на ломаном русском и передавать влиятельным людям? Да мало ли чего пишут и преступники, и не преступники.
«Он оказал органам большую услугу», – сказал мой отец об Ахто Леви.
Папа обратился к тексту. Итак, парень, случайно попав в дом сожительницы его отца, узнал, что того убили не коммунисты, его смертельно ранил «лесной брат». Узнал и якобы сказанное отцом, что компания Роосла – это бандиты, грабящие население, предающие Эстонию.
Теперь Ахто должен мстить за отца не коммунистам, а Роослу (Орасу). Ахто пришёл к нему и ударил его ножом. Орас упал, но лёжа ударил парня ногой, потом нанёс ему удар чем-то тяжёлым по голове, парнишка потерял сознание. Очнулся он, лёжа в крови, голову ломило. Вероятно, пишет Ахто Леви, Орас подумал, что убил меня, «и ушёл, чтобы не возвращаться». Откуда Ахто известно, что тот решил не возвращаться?
В домике оказалась бутылка водки – словно нарочно для того, чтобы парень облил себе пораненную голову.
Это и то, что Ахто попал в дом бывшей сожительницы своего отца, – конечно, выдумка. Она нужна для того, чтобы читателю стало ясно – бывший легионер убедился, кто такие на самом деле «лесные братья». Это бандиты, предающие Эстонию.
Главный вопрос вызывает попытка «апостолов» отплыть в Швецию. Пограничники накрыли группу так, что ясно – они знали место и время. От кого? «Да от Ахто!» – сказал мой отец. Самого Ахто там не было: умиляющее закапывание тетрадей в песок под бешеным огнём пограничников и то, что было потом, – явная фантазия. Тропинка, словно в сказке, привела его к лесному дому, где вблизи нет соседей, нет собаки. Хозяйка целую неделю не замечала, что на чердаке кто-то живёт. Она глухая? Вынося корм свинье, она что – больше не показывалась и потому не наткнулась на парня, который спускался с чердака поесть из свиного корыта? А как он добыл в доме кое-какую одежду? Связал хозяйку, а, может, задушил?
А то, что он от школьного друга отправился в кофейню? Без гроша? Или друг одолжил ему денег? Словом, правдой выглядит лишь то, что пограничники накрыли группу и был бой, в остальное поверит только глупый.
Таким образом, сказал мой отец, заслуга Ахто перед властью велика. Уничтожена группа в двенадцать отчаянных людей, вооружённых автоматами, пулемётами, гранатами. Парню простили его участие в делах группы. Скорее всего, его послали куда-нибудь учиться, приобретать профессию, но систематический труд был не по нему. Он воровал ещё в Германии, стал воровать и в СССР. То, что он выдал группу «лесных братьев», не освобождало его от необходимости не нарушать закон, – он попадался, его сажали. И он доносил и на воров. Такое, сказал отец, не редкость: вор, воруя, в то же время поставляет информацию органам о других преступниках, получает за это поблажки. В тех же записках Ахто Леви рассказывает, как воры были на деле, а когда их сцапали, одного почему-то отпустили. Сходка решила, что он дело уже заранее «заложил».
Папа перешёл к фигуре Ораса. Случайно встретив Ораса на вокзале в Таллине, Ахто определяет, что тот живёт, не опасаясь ничего и вполне акклиматизировался. Надо же! И тому, конечно, известно, что Ахто выслан в дальние края. Чем подкреплена эта уверенность? По мнению Ахто, Ораса надо теперь опасаться. Почему? Тот думает, что бывший знакомец может его выдать? Так и выдал бы, не откладывая, для этого много времени не требуется.
Словом, Орас поручил дружкам выслеживать Ахто. А тот встретил свою любовь. Мой отец знал от студента литинститута, бывшего уголовника, как воры в местах заключения любят повествовать о своей жизни. Во всех историях непременно присутствует порядочная девушка или женщина, часто – дочка или жена генерала, – которая влюбилась в вора.
Неудивительно, что и у Ахто Леви случилось подобное. Однажды в Таллине из одного магазина выпорхнула девушка со свёртком в руках. Получилось, по словам автора, что он налетел на неё, а она на него. При этом она уронила свёрток, в котором была ваза, а ваза-де, как положено всякой стеклянной посуде, раскололась. Он и она вместе собрали осколки, а спустя время он стал проникать в её квартиру, разглядывал фотографии в её фотоальбоме. Мужчины на снимках не понравились, кроме одного. Это «военный, положительно симпатичная личность, и глаза тоже симпатичные». А что иное можно сказать о советском военном? Разумеется, симпатичный.
Однажды Ахто заснул в квартире, как с ним уже случилось в чужом жилье. Девушка оказалась женой симпатичного военного, жить с которым не захотела, оставила ему их дочь, а вот вора приняла, зная, чем он занимается, что его ищут. Автор пишет, что квартира у неё маленькая, из двух комнат. Ну не в коммуналке же она должна обитать, если ей суждено принять Серого Волка? А вообще, в то послевоенное время, наверное, нормальным было иметь на одного комнаты три-четыре.
Её звали Сирье, она уговаривала Ахто повести честную жизнь, преданно ждала его, когда он отправлялся на промысел, сидел за решёткой.
Между тем его выследили дружки Ораса, они вышли на Сирье, а он бежал. Когда вернулся, узнал, что Сирье убили ударами ножа в грудь. Почти как в песне:
Ни на кого не променяв,
Я каждый шрам его любила,
Красавца-вора моего
От финки грудью заслонила…
Серый Волк познакомился у скупщика краденого с вором по кличке Лис, который позвал в свою компанию. Волк и Лис шли на лыжах через леса, болота, забрались в глушь, где хутор носил название Трясина. Здесь Лис представил приведённого компании, и – вновь игра случая! – это оказалась компания Ораса. Лис не подозревал, что тот знаком с Серым Волком. Старые знакомые обменялись рукопожатием, Ахто стал уверять, будто сам искал эту группу, чтобы вступить в неё, и ему поверили. Группа, пишет автор, называла себя Союзом, его члены-де подделывались под идейных, зная, что эстонцы бандитов не поддерживают, а тут «борцы за свободную Эстонию».
Серому Волку предложили пойти на лыжах в колхоз по соседству и убить женщину, ярую коммунистку, которая, как объяснили Ахто, немало навредила «союзу». Интересно, чем и как она могла навредить? Ахто, хотя он был вооружён, дали ещё парабеллум, с ним отправились трое.
Шли, читаем, гуськом. Один из людей Ораса впереди автора, двое сзади. Когда-де отошли от хутора километра на три и втянулись в густую еловую чащу, где наблюдать за Ахто из-за густой заросли ельника почти невозможно, он, улучив минуту, упал в снег и открыл огонь по его провожатым.
Вопрос: на каком расстоянии друг от друга они шли, что из-за зарослей ельника, какими бы густыми они ни были, стало почти невозможно видеть Ахто? Те же заросли, однако, не помешали ему убить двоих, третий спасся бегством. Люди Ораса повели его на убийство, дабы проверить его. Потому они не должны были бы спускать с него глаз, а они дали ему залечь и открыть огонь.
Последующая сцена на хуторе, говорил мой отец, избита не в одном приключенческом произведении. Орас в комнатке, сидя за круглым столиком, рассматривал какую-то фотографию. Двое других, сообщает автор, лежали, один на полу, другой на кровати, и, по-видимому, спали. Наставив на Ораса парабеллум, Ахто тихо окликнул его, и, когда он обернулся, выстрелил. Кино! На выстрелы двое других вскочили и, ничего не соображая, уставились на Ахто. «Лонг мне был не нужен, но Каллиса я превратил в решето. Поклонившись Лонгу, я закрыл дверь», – разве же автор не великолепен? Чем не Джеймс Бонд? Увы, мы тогда о нём не знали.
Мой отец счёл, что Орас, скорее всего, придуман или образ весьма далёк от прототипа. Конечно, никто из «лесных братьев» не стрелял в отца Ахто, и тот не говорил, что они бандиты, которые грабят население и предают Эстонию. Умер он, видимо, раненный в перестрелке с советскими военными. Ахто выдал «апостолов», чтобы заслужить прощение за то, что был с ними, и получить выгоды.
Органы никогда не оставят без внимания того, кто оказал им услугу. Ахто продолжали использовать, он внедрялся в уцелевшие группы борцов за независимость Эстонии и проваливал их, чередуя это с отсидками за кражи, когда доносил на уголовников. Он был своим и для КГБ, и для МВД. Сам он пришёл к идее стать писателем или ему её подсказали – главное, он должен был показать, что «лесные братья» – это ворюги, бандиты, а, во-вторых, следовало изобразить перековку уголовника.
Никаких записей, и находясь в Германии, и потом он, конечно, не делал. Задним числом стал писать по памяти, как мог, или шла запись на магнитофон. Шефы решали, что из действительно бывшего приклеить к выдумкам таким, каким оно было, а что, подклеивая, подогнать, подкрасить, покрыть лаком. Таким образом, была сделана вещь по принципу: «Умных нет, возьмут за правду!»
Перековавшийся Ахто Леви
В 1970 году «Записки Серого Волка» были изданы отдельной книгой. Именитая Мариэтта Шагинян написала предисловие, в котором немало знаменательных слов, к примеру: «главное, что привлекает в дневниках Серого Волка, что представляет для нас наибольший интерес в них, – это яркое, ясное, убедительное впечатление особенности труда в нашей стране, как нового в своем качественном различии от труда в стране капитализма и от абстрактного труда вообще».
Это сказано о труде зеков в лагерях. Вот так-то! В 1972-м вышел на экраны двухсерийный фильм Владимира Басова «Возвращение к жизни» по мотивам произведения. О Сером Волке узнали уже не только читатели.
В 1973-м в журнале «Москва» вышло продолжение «Записок Серого Волка» под названием «Улыбка Фортуны». Мы с отцом взялись рассматривать произведение. В центре повествования – Серый, в котором узнаётся Серый Волк. Рассказывается, как он приобщался к трудовой жизни на воле, как работал в зоопарке, кормя животных, и как однажды решающую роль в его дальнейшей жизни сыграли «Записки Серого Волка».
Однажды зоопарк посетил известный столичный журналист. Серый, как написано, подошёл к нему именно в тот момент, когда журналист со своей свитой стоял у верблюжьего загона и одна рыженькая остроносая дама громко гадала – плюнет в него верблюд или постесняется. Они, мол, не знали, что верблюд был хорошо воспитан.
Конечно же, всё так и было! Неужели же нет? Серый сказал журналисту о своих записках, и тот согласился их почитать. «На следующий день утром, когда Серый пришел в гостиницу, чтобы получить обратно свою тетрадь, он застал рыжую даму и журналиста сидящими с опухшими лицами у стола, уставленного приспособлениями для дегустации местных вин. Хотя было видно, что занимались они всю ночь чем угодно, только не чтением дневников Серого Волка, известный журналист тем не менее сказал, что он с ними “бегло” ознакомился».
По мнению моего отца, все эти подробности, ирония призваны сыграть на доверительность. Журналист «мимоходом» дал Серому адрес своего учреждения в Москве. А уж там-то… Предваряя то, что произойдёт, автор сообщает, что Серому обычно везло в жизни. Ну и когда он «шагал бесцельно по улицам, он увидел кошку, удиравшую изо всех сил от желтого зверя неизвестного происхождения. За желтым зверем тоже изо всех сил бежал почтенный пожилой товарищ. Кошка мчалась быстрее всех. Желая ей добра, Серый наступил на волочившийся за зверем поводок, за что подбежавший пожилой гражданин, уцепившись мертвой хваткой в поводок, начал благодарить с таким пылом, как будто он вытащил из-под поезда его ребенка».
Чем не сцена из кинокомедии? «Когда Серый поинтересовался, что это за зверь такой, он узнал, что это настоящий чау-чау; тибетская сторожевая собака, а этих тибетских на всю Москву если штук тридцать наберется – Москва может лопнуть от самомнения».
Юмор нас не покидает. Гражданин, названный «почтенным», спросил «на свою беду, Серого, кто он такой и где остановился» («на свою беду» – подтруниваем над собой!), и «Серый получил приглашение, если ему все равно, переночевать в кабинете хозяина зверюги на каком-то сундуке с колорадскими жуками». Как весело! Какая острота насчёт колорадских жуков!
В подъезде дома, куда привели Серого, «попахивало гнилью. На втором этаже им открыло дверь веселое розовое существо в розовом халате, с розовыми пятками, мелькавшими из тапочек, надетых на босу ногу, круглое и добродушное. Эта молодая и жизнерадостная женщина сунула Серому свою ручку, сказала «здравствуйте» и представилась:
– Сюзя».
Это шаржирование, сказал мой отец, лишь с натяжкой назовёшь добродушным. Сюзя (Сюзанна) – жена гражданина, каковой оказался профессором. И тут мы узнаём, что колорадские жуки – вовсе не острота. «Хозяин зверя оказался известным ученым, занимался насекомыми».
Серого поселили в квартире, и «в отсутствие хозяев он съел сметану, которую они, придя с работы, везде остервенело искали, а куда она делась – он постеснялся объяснить» (искали «остервенело»!) В другой раз ему не повезло с вишнёвым компотом. «За три дня, проведенные хозяевами в загородном доме отдыха, он уничтожил пятилитровую банку. Возвратившись, хозяева ему объяснили, что дело не в компоте: зачем было разбрасывать косточки по всей квартире?»
Зачем, сказал мой папа, рисовать героя таким идиотом? Затем, чтобы решили: если уж он о себе столь некрасивую правду пишет, значит, и всё остальное – правда.
Написано, что учёный, которого звали Евсей Карпович Русаков, водил Серого «по городу и знакомил с разными людьми, нажимал на всевозможные «кнопки» и разрабатывал вместе с другими «понимающими» товарищами варианты». «Записки», мол, следовало «социально осмыслить и положить на стол главному редактору такого-то журнала; если же тот не захочет их взять – главному редактору другого журнала».
Мой отец рассуждал: над кем и над чем иронизирует автор? Что это – перепев «Двенадцати стульев», «Золотого теленка» Ильфа и Петрова? Нет, это якобы объяснение, каким образом «Записки Серого Волка» пришли к читателю. Папа рассудил, что, начиная со знакомства с журналистом в зоопарке, всё придумано до слов: «”Записки” были приняты одним из центральных журналов столицы» (как мы знаем, журналом «Москва»). Но добился этого не бежавший по улице за своей собакой профессор. На рычаги мотора, который был запущен, надавили другие.
Описывается, как Серого, когда «Записки» ещё не увидели свет, пригласили к генералу МВД и к самому министру. «Ирония, насмешливость куда-то исчезли», – заметил мой отец.
Серому дали в Москве однокомнатную квартиру. Это при том, что те времена коренной москвич, отбывший срок, лишался права жить в Москве и вблизи. Происшедшее с Серым абсолютно невероятно, нереально (если не учитывать его заслуги).
Ахто Леви действительно улыбнулась Фортуна (пусть не просто так и даже совсем не просто так). У него слава, ему не надо изо дня в день к восьми или к девяти утра спешить на работу, средств и так достаточно, чтобы покупать вещи, развлекаться, ездить по стране. И что совершенно закономерно для такого человека в таких условиях – его поразил алкоголизм. Об этом рассказано в романе «Бежать от тени своей», вышедшем в журнале «Москва» в 1973 году. Показ страданий от алкоголизма и борьбы с ним признавалось нужным. Писал, разумеется, опять же, не сам Ахто Леви, но чувствуется, что показана пережитая лично им реальность. Как она страшна! Мой отец, размышляя, сказал: «Вот тут мы тебе верим, Ахто Липпу! – он назвал реальную фамилию, Леви – это псевдоним. – Тебе невозможно не сопереживать. Помучился ты и, видимо, мучаешься до сих пор».
Преследуемого известной жаждой героя, говорится в романе, неожиданно включили в делегацию, отправленную в ГДР. Делегатам на приёмах предлагались не только прохладительные напитки, но себя приходилось сдерживать. И только в гостях у немца, названного Томасом, герой дал себе волю и не помнит, как оказался не в квартире Томаса, а на незнакомой улице Берлина. Из телефона-автомата он позвонил Томасу и, следуя продиктованным указаниям, вернулся к нему.
В 1983-м я купил роман «Бежать от тени своей», выпущенный книгой, и заметил, что в эпизоде, о котором говорю, имя немца Томас заменено именем Пауль.
Правда-матка
Переехав в Германию, я жил в Берлине, когда в 1997 году оставшееся от времён ГДР издательство Volk&Welt («Народ и мир») предложило мне перевести и издать книгой мою автобиографическую повесть «Дайте руку королю». Переводили признанный лучшим переводчиком ГДР Томас Решке и его жена Ренате. Я пригласил их в гости, мы ужинали, Томас говорил о переведённых книгах и назвал «Записки Серого Волка» Ахто Леви:
«Он был у меня, когда прилетал с делегацией».
Я встрепенулся.
«Вы – не тот ли Томас, из чьей квартиры он пропал ночью и позвонил из автомата, что заблудился?»
«Да, это я», – оживился и Томас.
Я сказал, что эпизод описан у Ахто Леви в романе «Бежать от тени своей». Этого произведения Томас не знал. Он рассказал, что, когда Ахто Леви вновь оказался в его квартире, ему надо было выпить чего-нибудь покрепче и побольше. Томас повёз его к своему другу, у которого в гараже имелся запас спирта. Ахто его заметно убавил.
Через несколько дней, в течение которых Ахто Леви не обходился без выпивки, хотя всё же держался в сносном состоянии, делегация отбывала домой. Томас поехал в аэропорт с Ахто Леви. Улетавших провожали ответственные товарищи, в их числе офицеры госбезопасности, которых в ГДР называли «штази» от слова Staats/sicherheit (государственная безопасность). Вдруг, рассказал Томас, Ахто Леви указал мне на них и потребовал: «Переведи, что я им скажу! Но только всё! И слово в слово!» Он заговорил, и Томас перевёл: «Вы провожаете меня как гостеприимные хозяева, но вы не хозяева. Ваша Восточная Германия существует благодаря Москве. Хозяева там, а вы только их слуги!»
Тогда, сказал Томас, офицер говорит мне: «А сейчас переведите, что я ему скажу – слово в слово!» И обратился к Ахто Леви: «Да, мы сотрудничаем с московскими коллегами, и они информировали нас о тебе. Мы знаем про тебя всё! Ты выдал лесных братьев, твоих друзей, и потом ты выдавал других. Ты предатель и провокатор! Любые хозяева презирают таких, как ты!»
Томас сказал, что после этих слов Ахто Леви как онемел, он больше рта не раскрыл.
О не наших войнах
Мой отец, рассказывая о своей жизни солдата, нередко обращался к роману Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Главный герой Пауль Боймер и трое его одноклассников ушли на фронт добровольцами. Их было четверо, говорил папа, а нас, друзей из реального училища, пятеро: я, Вячка Билетов, Джек Потрошитель, Ле Кок, Сипай. Герои Ремарка были, по тогдашним нашим понятиям, совсем взрослыми: им по девятнадцать.
Отец сравнивал других героев романа – слесаря Тьядена, рабочего-торфяника Хайе Вестхуса, крестьянина Детеринга, умницу Станислава Катчинского, душу отделения, с крючником Саньком, с крестьянином Витьком Гороховым, с бухгалтером Александром Роговым. Чем схожи немецкие и русские солдаты? Чем различаются? Вот немцы довольны, что их желудки набиты фасолью с мясом, даже на ужин каждому досталось по полному котелку. И у нас, говорил папа, точно так же случались праздники. Фасоль мы не видели, у нас была каша; в наш последний день в Самаре нам отмерили в неё и в суп столько колбасы на каждого! Ешь под завязку! А при наступлении, когда на роту был куплен вол, мы два дня наедались мясом до отвала. На Тоболе набивали желудки шаньгами со сметаной.
Словом, отмечал отец, то, что в первую очередь важно для солдата, Ремарк показал отлично. Он сказал о тех, у кого всегда самый большой аппетит, но у нас у всех был такой. «У меня – не меньше, чем у Тьядена, самого прожорливого солдата в роте». Потом у немцев стало с едой хуже некуда – «и также и у нас в сибирском походе».
У Ремарка написано о ботинках из жёлтой кожи, высоких, до колен, со шнуровкой доверху. «И я, – сказал отец, – получил такие ботинки, когда меня выписали из госпиталя в Оренбурге. Я их отдал за валенки – в стужу в степи они спасли меня». Весной вместо валенок отцу выдали обычные солдатские ношеные ботинки, которые стали разваливаться. «Ещё как я понимаю восторг Мюллера от вида великолепных ботинок! – говорил папа. – Ремарк знал, что такое обувь для солдата, посмотри – чудесным ботинкам он посвятил не один абзац, и вокруг них – драма!»
Отец обращал моё внимание и на нечто иное, нежели еда и обувь. Ремарк пишет, что война представлялась его героям в идеализированном, в романтическом свете. Они стали солдатами по доброй воле, из энтузиазма, но десять недель муштры сделали всё, чтобы выбить из них это чувство. Папа зачитывал: «нам уже не казалось непостижимым, что почтальон с лычками унтера имеет над нами больше власти, чем наши родители, наши школьные наставники и все носители человеческой культуры от Платона до Гёте, вместе взятые. Мы видели своими молодыми, зоркими глазами, что классический идеал отечества, который нам нарисовали наши учителя, пока что находил здесь реальное воплощение в столь полном отречении от своей личности, какого никто и никогда не вздумал бы потребовать даже от самого последнего слуги».
Унтер-офицер Химмельштос заставил Пауля Боймера зубной щёткой выскоблить пол в казарме.
Правда, полный произвол унтер-офицера пресекался. Однажды он приказал Боймеру и его товарищу очистить от снега весь двор казармы, а во двор случайно заглянул лейтенант, который отослал ребят в казарму и здорово распёк Химмельштоса. Тот ещё более люто возненавидел их, но после того как ему пригрозили, что потребуют расследования, он отступился. Потом они отвели душу, втихаря избив его.
Ребята от всех возможных видов казарменной муштры стали «черствыми, недоверчивыми, безжалостными, мстительными, грубыми — и хорошо, что стали такими: именно этих качеств нам и не хватало. Если бы нас послали в окопы, не дав нам пройти эту закалку, большинство из нас наверно сошло бы с ума», – пишет Пауль Боймер, от чьего имени ведётся повествование.
Отец объяснял мне, что в романе видят антивоенную направленность, за неё его и прославили, однако сколь о многом говорят слова: «самое главное это то, что в нас проснулось сильное, всегда готовое претвориться в действие чувство взаимной спаянности; и впоследствии, когда мы попали на фронт; оно переросло в единственно хорошее, что породила война, — в товарищество!»
Запомни, указал отец, Пауль Боймер, после ранения побывав в отпуске в родительском доме, вернувшись в свою часть и оказавшись со своими фронтовыми друзьями, пишет: «Здесь я на своем месте».
Я понял, что отец наверняка думает о том, как он, выписанный в Омске из госпиталя с освобождением от службы на полгода, поехал на фронт в свою часть, хотя Алексей Витун звал его остаться в вагоне у американцев.
Отец не раз повторял мне основное, что отличало героев Ремарка от ребят из Кузнецка. Молодые немцы должны были вести войну в интересах правящих кругов. В этом можно найти и объяснение муштры с её невообразимым глумлением над человеческим «я». Нас же, говорил не раз отец, повело на войну страстное чувство, которое потом никуда не ушло. Мы слышали от взрослых, что Россия – отсталая страна, и вдруг все узнали, что в ней принят самый передовой в мире закон о выборах в Учредительное Собрание. Но выбранных народом делегатов разогнали вооружённой силой, демонстрации безоружных людей расстреляли. Потом в Кузнецке, повторял отец, мы увидели, что творили красногвардейцы Пудовочкина. У большевиков было оправдание, что это не регулярная часть Красной армии. Но пришла регулярная, и кормильца многодетной семьи машиниста Панкратова с его сыном Митей просто убили без суда, без всякого разбирательства, – потому что в ларе с мукой в сенях оказалась винтовка без затвора, негодная к применению.
Для нас, говорил отец, зло стало ясным во всей его свирепости, мы должны были противостоять ему. И никакая муштра, даже если бы нас ей и подвергли, не повлияла бы на нашу страсть биться со злом. Бывалые солдаты обучили нас самому необходимому, они нас искренне уважали. Возмущение насилием большевиков породило товарищество, к которому герои Ремарка пришли через муштру, через издевательства над ними.
Отцу была близка книга Стивена Крейна «Алый знак доблести» о Гражданской войне в США 1861—1865 годов. Её юный герой Генри Флеминг и его друзья тоже воевали против ясного возмутительного зла. Юг страны отделился, желая сохранить у себя рабовладение, – право владеть, торговать не только людьми с чёрной кожей, но и теми, у кого чернокожими были лишь дед или бабка, и это в век пароходов и железных дорог! В книге Крейна нет ни слова об издевательствах при обучении военному делу, «старички» доброжелательны к юным, необстрелянным. Отец просил меня перечитать слова о герое книги: «Он ни на минуту не забывал, что рядом с ним его товарищи. Им владело неизъяснимое чувство военного братства, более притягательного, чем даже цель, во имя которой они сражались. Чувство таинственного родства, сотворенного пороховым дымом и смертельной опасностью».
Это чувство помогло ему обрести храбрость после того, как он поддался панике и побежал.
Я понимал отца – Генри Флеминг был счастливчиком, он оказался победителем в войне, а моему отцу осталась только чувство военного братства, чувство таинственного родства с теми, кто погиб.
Об их и о нашей жизни
Отец всегда следил за тем, какие книги зарубежных авторов издаются в СССР. В середине шестидесятых годов его тронул роман Джона Апдайка «Кентавр», где в описание провинциальной американской жизни очаровательно вплавляется древнегреческий миф. Отца привлекала некая схожесть с ним героя романа, стареющего школьного учителя, чей сын-подросток страдает псориазом, хотя между псориазом и последствиями перенесённого мною полиомиелита – дистанция огромного размера.
Семья учителя бедна. Он носит клетчатое пальто с благотворительной распродажи, вязаную шапочку, которую нашёл среди выброшенных вещей. «Но у него, – высказал папа, – есть автомобиль! Будь у нас автомобиль, чего бы мы только не повидали!» При том, что мои отец и мать всю жизнь трудились, скопить на автомашину не было никакой возможности. Такова была пропасть между советской и американской провинциальной жизнью.
Одним из любимых произведений отца стала повесть колумбийского писателя Гарсиа Маркеса «Полковнику никто не пишет», выпущенная вместе с повестью «Палая листва» издательством «Прогресс» в 1972 году. Отец, опять же, видел перекличку своей судьбы с судьбой полковника, который, собственно, не настоящий полковник: стал им в двадцать лет. Юнцом он вместе с другими юнцами участвовал в гражданской войне в Колумбии. «Революционный батальон состоял в основном из подростков, сбежавших из школы», – написано в повести. Полковник и его друзья поверили обещаниям победившей власти, и ветеран влачит жалкое существование в городке, который связывают с внешним миром речные суда.
Папа, размышляя о жизни полковника, произносил: «Представь…» И я представлял крытое пальмовыми листьями убогое жильё с земляным полом, окружённое зарослями, страдающую астмой жену ветерана, которая не в силах подняться на ноги. Сам полковник в его семьдесят пять лет, потеряв единственного сына, ждёт назначения пенсии. Но сообщения об этом не приходит.
«Стойкий, прямой характер показан с участливой грустью!» – говорил папа. Ещё он отмечал: ветерану в городке нет нужды скрывать, за что он воевал. А я про себя радовался, что мы живём не в сырой хижине, что на фабрике-кухне у матери знакомые, кому она относит скапливающиеся у отца прочитанные газеты, их используют вместо дефицитной обёрточной бумаги, и за это маме без очереди отпускают свежее тесто. У нас на завтрак – пышки со сметаной, яйца всмятку, а раза два в неделю – беляши. У нас полная банка кофе, а не остаток, как у полковника, который скоблит дно банки, «вытряхивая в котелок последние крупинки».
Отец рассуждал о ветеране: из-за старости он не может работать, пенсии не получает, жена тяжело больна, и, однако же, они как-то живут. Чем? И отец прочитал мне вслух, что жена полковника помешивает «варившиеся в кастрюле нарезанные кусочками плоды этой тропической земли». В отсталой бедной Колумбии, проговорил папа, можно без труда прожить плодами земли. Там не знают смерти от голода?
А я попытался представить жизнь в нашей стране, появись в ней такая власть, которая хотя бы только пообещала пенсию участникам Гражданской войны на стороне белых.
Опыт отшельника в Америке
О плодах же земли, которыми можно прожить отшельником, выращивая их, отец прочитал в произведении Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу», которое выпустило в 1962 году издательство Академии Наук СССР. Я часто видел отца с этой книгой, отлично изданной, снабжённой иллюстрациями.
Торо описал свою жизнь не совсем отшельника – его навещали друзья, он дружил с лесорубом. Однако его никто не стеснял. Помню, с каким смакованием отец мне зачитывал: «Хлеб я пек из смеси ржаной муки и кукурузной, которая всего вкуснее и удобнее для выпечки. В холодные дни было очень приятно печь из нее, по одному, маленькие хлебцы, поворачивая их так же тщательно, как египтяне — яйца, из которых они искусственно выводили цыплят».
А как отец любовался тем, что Торо выразил о книгах: «В них наверняка есть слова, предназначенные именно нам, и если бы мы только могли услышать их и понять, они были бы для нас благотворнее утра и весны». И: «Для многих людей новая эра в их жизни началась с прочтения той или иной книги».
Подвижки в кино о Гражданской войне
Я уже писал, что отец поведал мне, двенадцатилетнему, как лжив кинофильм «Чапаев». Позднее отец открывал мне лживость других советских кинокартин и останавливался на том, как повлияло на кино время, наступившее после XX съезда КПСС и названное оттепелью.
К примеру, в 1927 году была экранизирована повесть Бориса Лавренёва «Сорок первый», чьё действие начинается в среднеазиатской пустыне во время Гражданской войны. Маленький отряд красноармейцев двинулся по ней на соединение со своими. Самый меткий стрелок отряда – девушка Марютка, за свою жизнь на войне она убила сорок белогвардейцев. Отряд захватил караван киргизов, как тогда называли казахов, при нём оказалось несколько белогвардейцев. В бою Марютка промахнулась в белого офицера – возможного сорок первого. Теперь он пленный.
Отряд вышел к Аральскому морю. Комиссар отправил Марютку, пленного и двоих красноармейцев на рыбачьем боте через зимнее море к устью Сыр-Дарьи, где должен быть штаб фронта красных. Налетел шторм, спаслись только, выбравшись на безлюдный остров, Марютка и белый поручик, чьё имя Говоруха-Отрок. Марютка отогрела и выходила его.
Так вот, рассказывал мне отец, в кинофильме 1927 года режиссёра Якова Протазанова белый поручик, который вместе с красными ел плов, украдкой вытер пальцы о спину сидящего рядом. В повести такого нет, это «доработка» создателей картины. На острове Говоруха-Отрок ведёт себя с девушкой, которая вернула его к жизни, барски снисходительно.
В 1956 году фильм по повести «Сорок первый» снял Григорий Чухрай. У него Говоруха-Отрок предстаёт иным, пальцы о спину красноармейца не вытирает. Мы с отцом смотрели картину не один раз, отец указал мне на детали, каких не было в повести и в прежней экранизации: Марютка укрывает пленного, а не себя тёплой буркой (в повести написано, что Марютка толкнула поручика под кошму, сама привалилась сбоку). В фильме видим искреннюю взаимную любовь героев на острове. Говоруха-Отрок, которого играет Олег Стриженов, статен, красив и безмерно счастлив – носит Марютку на руках. Этого в повести нет, как и момента: умирая от выстрела Марютки, поручик шепчет: «Маша…»
Таким образом, впервые в советском кино был создан яркий образ привлекательного белогвардейца. Это стало радостью для моего отца, он повторял: «Офицер великолепен! Наконец-то поняли, что можно показать белого, который остаётся белым, но при этом симпатичен зрителю».
В 1967 году мы смотрели по телевизору сериал «Операция «Трест» режиссёра Сергея Колосова, и отца порадовало, что белая русская эмиграция показана «без мстительного чувства». Его тронула сцена в парижском ресторане «Русский уголок», когда посетитель, слушая исполняемый лирическим тенором «Вечерний звон», залился слезами.
Актёра Игоря Горбачёва, который играет Якушева, отец назвал «родившимся в рубашке своего героя». Папа был буквально покорён тем, как Якушев, услышав от официанта, что есть гурьевская каша, воскликнул: «Гурьевская?» У отца так и вырвалось: «Какая исторически характерная деталь! Вот он – барин! – и папа добавил о создателях фильма с восхищением: – Материалом владеют!»
Я спросил, что это такое – гурьевская каша, и отец рассказал: она из манной крупы, измельчённых грецких и других орехов, каймака, абрикосов в сиропе, жареного миндаля «и прочих составляющих, готовится сложно, название получила от фамилии графа Гурьева, который был министром финансов после войны с Наполеоном». Я поинтересовался, ел ли отец эту кашу, и он ответил, что один раз ел. Кашу приготовила Хедвига Феодоровна для гостей, когда Филипп Андреевич Гергенрёдер был награждён именным орденом.
Что ещё сказал отец в связи с «Операцией «Трест». Сказал, что Артур Христианович Артузов, которого сыграл Армен Джигарханян, и Владимир Андреевич Стырне, сыгранный Алексеем Сафоновым, были в 1937 году расстреляны по приказу Сталина, как и ряд их сослуживцев. О Стырне кстати, добавил папа, известно, что до ареста он сам участвовал в расстрельной работе так называемых «троек».
Реабилитация белогвардейцев
В 1969 году мы с отцом глядели в кинотеатре фильм «Новые приключения неуловимых», который снял режиссёр Эдмонд Кеосаян. Отец, улыбаясь, с чувством, тихо произнёс: «Да-аа…» – когда Владимир Ивашов в роли белогвардейца Перова, адъютанта полковника Кудасова, спел проникновенную песню «Русское поле» Яна Френкеля на стихи Инны Гофф. Когда мы вышли из кинотеатра, отец сказал: «Белый поручик беззаветно любит русскую землю! Хороший трогательный знак».
Пятисерийный телефильм Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства», показанный в том же 1969 году, мой отец охарактеризовал кратким выводом: «Реабилитированы!» Уже не один белогвардеец, а почти все персонажи из белых привлекательны. Образец «офицерской косточки» ротмистр Волин, сыгранный Олегом Голубицким, вызывает подлинное сочувствие своей несчастной судьбой.
А как восхитил нас с отцом Валентин Смирнитский в роли «везучего капитана» Ростовцева! Про Игоря Старыгина, сыгравшего поручика Микки, папа сказал: «Ведь это парень нынешних дней, а как перевоплотился! Прямо один из наших ребят (имелись в виду сверстники отца – добровольцы Народной Армии КОМУЧа)». Папа добавил о Микки: «Самый светлый, чистый из белых».
Враки
С кино связан ещё один момент, поистине поразительный. Осенью 1971-го, учась в Казанском университете, я посмотрел фильм Александра Алова и Владимира Наумова «Бег», восходящий к одноимённой пьесе Михаила Булгакова. В фильме есть эпизод, когда генерал Хлудов просит есаула Голована почитать ему Библию, а есаул виновато отвечает: «Я неграмотный».
Приехав на зимние каникулы к родителям в Новокуйбышевск, я спросил отца, мог ли бы встретиться в 1920 году неграмотный есаул. Папа удивился, с чего я задаю такие вопросы. Мы заговорили о казачьих чинах, повторяя уже известное мне. При царе нужно было окончить казачье юнкерское училище, чтобы получить чин хорунжего, который соответствовал чину корнета в кавалерии или чину подпоручика в пехоте. Следующим был чин сотника, равный чину поручика, затем чин подъесаула и потом – есаула. В кавалерии ему был равен чин ротмистра, в пехоте – капитана (что соответствовало званию советского майора).
Позднее мы вместе с отцом посмотрели «Бег». Папа, услышав слова есаула Голована, в сердцах прошептал в кинозале: «Чудовищно!» Возвращаясь домой, мы вспомнили, что консультанты картины – генерал армии, генерал-полковник, генерал-лейтенант. Тут только руками развести.
Создатели фильма, по словам отца, свели образ есаула Голована к образу денщика в кинокартине «Чапаев». Хлудов говорит офицеру «ты».
Ещё мы вспомнили указанное в титрах: «Творческое объединение писателей и киноработников». Отец заключил: «Обкакались товарищи творцы!»
Но они не хотели очернять белых, добавил отец, вестовой Крапилин, генерал Чарнота, ещё пара образов, при всём их неправдоподобии, призваны вызывать симпатию.
Главным для создателей фильма, понимали мы, было навязать зрителям идею, для которой они подобрали слова из Библии. Их прочитал Хлудов, уж коли есаул Голован неграмотен: «Если слепой поведёт слепого, оба упадут в яму». Дескать, политически и нравственно слепые вожди белых вели массу «слепых», впечатляющий представитель которых – «неграмотный есаул».
У Булгакова в пьесе «Бег» есаул Голован вполне грамотен:
«Возле Хлудова, перед столом, на котором несколько телефонов, сидит и пишет исполнительный и влюбленный в Хлудова есаул Г о л о в а н.
Х л у д о в (диктует Головану). «…Запятая. Но Фрунзе обозначенного противника на маневрах изображать не пожелал. Точка. Это не шахматы и не Царское незабвенное Село. Точка. Подпись – Хлудов. Точка».
Г о л о в а н (передает написанное кому-то). Зашифровать, послать главнокомандующему».
Хлудов обращается к Головану на «вы». Сцены в купе, когда Хлудову видятся слепые, у Булгакова в пьесе нет. В пьесе Хлудов говорит архиепископу Африкану, что читал Библию, когда ехал в купе, но приводит он совсем не те слова, которые внесены в фильм. Нет у Булгакова и фантасмагорического эпизода, когда три офицера решили покончить жизнь самоубийством и, заказав гробы для себя, оплатили свои похороны.
Ложь с чушью
Телесериал о том, что Гражданской войны не касалось, но, однако, было моему отцу небезызвестно, вызвал у него иронию. Я говорю о фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», который вышел на экраны осенью 1979 года и сразу захватил публику.
Папа остановился на образе главаря банды Горбатого. Чтобы сделаться главарём, необходимо выделиться в уголовной среде, но, выделившись, нельзя не стать известным и органам. То есть им станет известна главная ярчайше выраженная примета: горб. Горбатого заметят за квартал и запомнят. Выследить такого преступника проще простого. В любой округе люди знают, есть ли здесь горбун. После первых же преступлений его поймали бы, он ни за что не дорос бы до главаря банды.
Второе, что сказал отец и о чём я и сам думал. Могут ли бандиты поверить, что в ограбленном складе оперативники хотят провести следственный эксперимент? Он придуман лишь для того, чтобы спровоцировать банду на нападение, более ни для чего он не может быть нужен.
Но прежде всего бандиты, узнав, что попались Фокс и его шофёр, о котором им не могло быть известно, что он убит, немедля покинули бы всё, о чём те могут сказать. Создатели фильма рассчитывали на веру публики, будто в МУРе не пытают. Но уголовники-то знали, что, попадись кто из банды, его «размотают до шпульки». Они убивали оперативников, и уж им покажут небо с овчинку. Кто выдержит, когда член сдавят пассатижами?
Представить только – в руках у МУРа двое из банды (ну, хотя бы даже один Фокс, которому о банде всё известно), а его дружки пьют, наслаждаются жизнью на прежней фатере, уверенные, будто он их не выдаст. И ещё они держат деньги в сберегательной кассе, не опасаясь вызвать подозрение крупными суммами, и один из них снимает деньги со счёта перед поездкой на склад, где намечено нападение на оперативников. Сберкасса, между прочим, не открывается раньше восьми утра – так когда же банда прибудет к месту нападения?
Всё это чушь, какую не разжуёшь (а советский зритель, однако, и разжевал и проглотил. Вспоминаются слова Сени Миганова о недоумках, верящих на…бщикам).
Мой отец всё же не был донельзя критичен, отметив допустимую, как он сказал, натяжку. Агент угрозыска мгновенно умер от удара заточенной отвёрткой в сердце. Но человек не умрёт, не шелохнувшись, не изменив позу, – вонзись ему в сердце отвёртка или нож. Обязательно будет агония, будут подёргивания тела. Однако в фильме для эффекта можно показать такую смерть, какая показана.
Собственно, ради эффекта придуман и главарь-горбун. Такой злодей-страшилка интереснее, «завлекательнее» для инфантильного сознания, нежели мужик с обычной фигурой. Вообще же, по мнению папы, сериал «Место встречи изменить нельзя» – «ложь и чушь, прикрытые игрой талантливых актёров».
Надувательство
И уж, конечно, не раз мы с отцом говорили о популярнейшем телесериале «Семнадцать мгновений весны». Максим Максимович Исаев фигурирует в книге Юлиана Семёнова «Брильянты для диктатуры пролетариата», где говорится, что разведчик выполнял задания Дзержинского в штабе Колчака. После этого Исаев действовал в Эстонии. И лишь потом он появляется в Германии. Каким же образом он смог выдать себя за истого арийца? У него должны были быть родственники-немцы, хотя бы дальние, знакомые его родителей, соседи, немцы, с которыми он учился. Поскольку он офицер службы безопасности, всю его родословную должны были проверить особенно тщательно, вплоть до середины XVIII века – не в последнюю очередь для того, чтобы убедиться, нет ли в нём еврейской крови. И что же? Проверили и установили, что всё чисто, характер «нордический».
Надувательство предпринято, дабы польстить русскому национальному самолюбию. И то, что население СССР на это дружно клюнуло, говорит о его внушаемости, о беспомощности перед стремлением обмануть его.
Если бы это относилось только к телесериалам! Когда СССР развалили, колоссальной цены собственность, которая декларировалась как общенародная (во всяком случае, она была общегосударственной) присвоила, без какого бы то ни было противодействия масс, кучка жуликов. Суля населению выгоды, какие оно получит от рыночных отношений, от него скрыли то, что обеспечивает социальное равновесие во всех цивилизованных странах: прогрессивный подоходный налог. Люди, поверившие в горбатого главаря банды, в русского Штирлица и в прочую ложь, не знают, что чем выше прибыль, тем больший процент её должен идти государству в виде налога, на чём держится система социальной защиты. Необходим и налог на роскошь.
Цивилизованные ли страны – Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты? Их руководители, во всяком случае, не ограбили свой народ, а, благодаря природным ресурсам, обеспечивают ему уровень жизни повыше западноевропейского.
Непреходящее
Увиденное в кино, прочитанное, а также дорога побуждали моего отца обращаться к его боевой юности. Мы с ним, живя в Новокуйбышевске, ездили в каникулы в Бугуруслан к Нелли, моей сестре по матери. На станции Новокуйбышевская садились в поезд, который на пути к Куйбышеву (Самаре) проезжал станцию Липяги, над нею на возвышенности за лесом стоял дом, где была наша квартира.
Станция в конце 1960-х годов представляла собой ветхий деревянный домишко, сохранившийся с царских времён. Я уже писал, что в октябре 1918 через эти места мой отец с 5-м Сызранским полком проехал в Самару. Когда мы с ним, проезжая этой же дорогой, глядели в окно вагона на зданьице станции, я напомнил, что новокуйбышевскую школу №15, где я учился, посетил комсомольский поэт из Куйбышева и прочитал стихи, посвящённые десяти комсомольцам, погибшим при защите станции от «тридцати тысяч белочехов». Папа тут же сказал, что в Сызрани, Самаре и прилегающей местности было всего восемь тысяч чехословаков и не могли они собраться вместе для захвата станции Липяги. А если бы, допустим, даже и собрались, то десять человек с винтовками они просто бы не заметили. Я внёс свой вклад в изобличение брехни, сказав, что бои в этих местах шли летом 1918 года, а комсомол был создан 30 октября.
Разговоры о Гражданской войне возникали у нас с отцом, и когда мы в августе 1972-го приехали из Новокуйбышевска в Челябинск, чтобы отправиться в Копейск к брату отца Константину (моему дяде Косте). Папа вспоминал, как больной тифом был поездом отправлен из Челябинска в Омск.
Побыв неделю у дяди Кости, мы направились с пересадками на Северный Урал в Краснотурьинск к дяде Коле, у которого гостили в январе 1970-го. Если тогда он попотчевал нас добытым на охоте, то теперь показал себя рыболовом. Его приятель водитель вездехода ГАЗ-69 повёз нас к реке Какве, там у островка дядя Коля ставил верши. По дороге он рассказал, что однажды в вершу попал таймень – «дома измерил: сто тридцать сантиметров». Когда извлёк тайменя из верши, пришлось на него сесть, чтобы не соскочил в воду, но сильная рыбина и под рыбаком двигалась к воде. Дядя Коля, по его словам, достал из кармана большой складной нож, но был холодный осенний день, мокрые пальцы «задубели», нож не удавалось раскрыть. «Раскрыл в момент, когда ещё бы чуть – и съехал на таймене в реку». Дядя Коля всадил нож рыбине в «загривок». Теперь отправляясь рыбачить, он носит с собой не складной, а охотничий нож: тот в ножнах висел у него на поясе.
ГАЗ-69 выехал на лесной берег, метрах в пятнадцати был островок. Дядя Коля перевёз на него меня и папу на надувной лодке, стал извлекать из реки верши, которых было три, отец помогал. С каким азартом я смотрел на каждую, стараясь угадать, что в ней. Вот бы попался таймень! В двух вершах оказалось по щуке, довольно крупной, в третью угодил хариус. Папа проговорил мечтательно: «Жить бы в лесу, вот так ловить рыбу…»
В другие дни водитель «козлика» возил дядю Колю, папу и меня в лес за грибами, домой мы возвращались с лукошками, в которых грибы возвышались горкой. Жена дяди Коли тётя Поля (Полина) пекла с ними вкуснейшие пироги. Она была вторая жена: первая, которую мой отец знал до войны, умерла.
В 1972 году я был студентом-второкурсником Казанского университета, в Копейск и в Краснотурьинск мы ездили в мои каникулы. В течение же учебного года отец приезжал ко мне в Казань. Он рассказал, что его пригласили работать «на общественных началах» в т.н. детской комнате милиции, он посещал неблагополучные семьи, беседовал с детьми и родителями. Как в Бугуруслане его знали многие, так и в Новокуйбышевске он сделался известным уважаемым человеком. Ему было семьдесят, но он с успехом заменял уходящего в отпуск или болевшего редактора многотиражной газеты завода синтетического спирта «Химик».
В 1973-м моего отца, внештатника, новокуйбышевская городская газета «Знамя коммунизма» направила в командировку в Нижнекамск, где, как и в Новокуйбышевске, действовал нефтехимический комбинат. После поездки отца в газете вышли две его развёрнутые корреспонденции о комбинате.
Я, после окончания университета в 1976 году и работы в областной газете Мордовской АССР, опять жил у родителей в Новокуйбышевске, назначенный зав. отделом газеты «Знамя коммунизма». В свободное время пробовал писать рассказы в жанре фантастики – отец строго разбирал мои вещи, критиковал без всякого снисхождения, но иногда восклицал: «Смело! Отлично!» – и с горечью добавлял, что именно поэтому вещь не примут. Помимо собственно цензуры, объяснял он, царит цензура неписаная, предварительная: первый же низовой сотрудник, к кому попадёт рукопись, увидит что-то неординарное и тотчас её отклонит. Такие книги, как «Белый Бим Черное ухо», выходят, благодаря чему-то редкостному. Подобную вещь молодого никому не известного автора ни один журнал не примет, а про издательство и говорить нечего. Необходимы связи.
Отец рассказал, что он узнал о карьере одного необыкновенно видного писателя. Тот был киргиз, но киргизским языком не владел, писал по-русски; его рукописи «не проходили». Тогда он нашёл переводчицу на киргизский, дал ей свою написанную по-русски вещь, а затем представил перевод как якобы написанное им по-киргизски произведение. И оно вышло, сочтённое произведением национальной литературы. Затем писатель подал и вариант на русском языке, будто это перевод с киргизского, и дело пошло.
Мой отец после того, как издали его повесть («повестушку» – как он говорил) под названием «Никиша Голубев», которую сам он называл «слащаво-приспособленческой», и опубликовали несколько подобных рассказов, не мог заставить себя писать в том же духе. Но с журналистикой он не порывал, его корреспонденции печатали та же «Знамёнка» и областная газета Куйбышева (Самары) «Волжская коммуна». И лишь я один слышал его устные воспоминания и размышления, темой которых оставалась Гражданская война. Он не доверил бумаге ни слова из того, что понимал и чувствовал.
Его тянуло узнавать окрестности не только ближние, но и те, что подалее, бывать в деревнях, но без автомобиля он был лишён этой возможности. Нанимать же какого-либо владельца машины было не по карману.
Мысли о сенсациях
Отца захватила публикация в одной из центральных газет о семье Лыковых, которые одиноко жили в Саянской тайге и в 1978 году были обнаружены геологами. «Они скрылись от советской власти!» – сразу же сказал папа о Лыковых. В 1982-м о них начал рассказывать в «Комсомольской правде» журналист Василий Песков, знаток природы, которого мой отец весьма ценил. Он стал вырезать публикации и собирать в отдельную папку, относясь к истории с пристальным вниманием.
В середине 1930-х годов Карп Осипович Лыков и его жена Акулина с сыном одиннадцати лет по имени Савин и совсем маленькой дочерью Натальей отправились в таёжную глушь жить отшельнической жизнью. Они сумели соорудить хижину у горного притока реки Еринат в двухстах пятидесяти километрах от ближайшего населённого пункта, собирали грибы, ягоды, кедровые орехи, выращивали картошку, репу, лук, горох, рожь, коноплю. Огонь добывали с помощью кремня и кресала. Огнестрельного оружия не имели. Во что одевались? Конопля давала им нитку, ткали одежду на ручном ткацком станке. Из берёсты изготавливали обувь, в которую для утепления клали сухую траву.
Родились сын Дмитрий и дочь Агафья, росли, взрослели. Никакой связи с людьми, пишет Песков, не было.
Мой отец задавался вопросом: можно ли в самотканой одежде (одежде из мешковины) выживать в тайге долгими зимами, когда морозы доходят до сорока градусов? Ходить в обуви из берёсты? Он вспомнил свой вопрос жителю деревни на Тоболе о поршнях: «И зимой в этом ходишь?» Мужик усмехнулся: «В мороз обуть – стопа камнем станет». А поршни изготовляли из шкуры коровы или лошади шерстью внутрь.
Песков застал в живых только Карпа Осиповича и Агафью и, ссылаясь на их слова, пишет, что семья охотилась на лосей, маралов, кабаргу. Цитата: «В Москву я привез подарок Агафьи – жгутик сушеной лосятины».
Охотились каким образом? Рыли ловчие ямы, куда попадали животные. Так, размышлял папа: с тем, что могла упасть в яму кабарга и попасться, согласиться можно. Но вырыть яму, из которой не выбрался бы лось? Марал? Это сколько же времени надо рыть, не имея хороших лопат? В конце концов, допустим, выроешь, а добыча обойдёт яму стороной?
Был, оказывается, ещё один способ охоты, владел им Дмитрий. Песков не указывает, кто именно сказал о Дмитрии, Карп Осипович или Агафья, что «марала он мог преследовать целый день, догонял и закалывал пикой». Журналист описал это оружие: «Копье с лиственничным древком и самодельным кованым наконечником».
Теперь представим марала. Мой отец взялся за справочную литературу: рост в холке до 168 см, вес до 350 кг, рога вырастают до 108 см, марал развивает скорость 50-55 км в час. В справочной статье сказано также, что марал без проблем может защитить себя от волка и от медведя. Папа отметил фразу: «У раненого марала невероятно огромная сила, он в состоянии покалечить и даже убить охотника».
Песков между тем привёл эпизод из охотничьей эпопеи: «Дмитрий однажды, догоняя марала, шел двое суток», добавлена фраза, опять же, неизвестно кому принадлежащая: «Ушел вельми далеко. Марал утомился, упал, а Дмитрий ничего».
Папа покачал головой: «Небылица!» Можно допустить, что Дмитрий преследовал самку марала: самки на двадцать процентов мельче. Но и её человек не загонит до того, чтобы она в тайге – своём родном доме – упала без сил.
«Вынослив Дмитрий был поразительно, – сообщает Песков. – Случалось, ходил по снегу босой. Мог зимой в тайге ночевать. (В холщовой «лопатинке»-то при морозе под сорок!)». Журналист пишет, что «лопати́нки» шили из конопляной холстины, «между подкладкой и внешней холстиной клали сухую траву – власяницу». Приводится объяснение Агафьи: «Мороз-то крепок, деревья рвет». Ага, и от такого мороза спасала рубаха на подкладке из сухой травы.
Уж мне-то, сказал отец, не надо про мороз толковать, за зимний день в степи пятьдесят восемь наших ребят замёрзло, я один уцелел – и отнюдь не благодаря рубищу из мешковины с подкладкой из сухой травы. Он вспомнил и поход через тайгу: «Несколько ночей мы провели под открытым небом, но – вокруг костра!»
Так неужели, рассуждал со мной отец, Песков не понимал, что рассказывает чепуху? Между тем он подводит читателя к правде об уходе семьи в отшельники, пишет, что Карп Осипович «в драматически трудных 30-х годах принял решение удалиться от «мира» как можно глубже в тайгу». Фраза – намёк на то, что семья ушла от коллективизации, от колхоза.
Лыковы были старообрядцы, а те издавна накопили опыт, как тайно поддерживать друг друга, преодолевая большие расстояния. Семья, по мнению моего отца, найдя убежище в тайге, оповестила единоверцев, которые потом скрытно, от случая к случаю, доставляли им мясо, кожу и иное, без чего не выжить. Доставляли, конечно, по минимуму – столько, сколько в силах пронести на себе два-три, ну, четыре человека, двигаясь через тайгу много дней.
Песков не пишет, что видел Лыковых зимой; он бывал у них только летом. И как бы принял на веру, что зимами они ходили в самотканой одежде. Он упоминает о лабазе на двух высоких столбах, приводя пояснение Карпа Осиповича: «для береженья продуктов от мышей и медведей». Мой отец был уверен, что в этом лабазе наверняка хранилось для зимы кое-что потеплее «лопати́нок».
Журналист не написал, видел ли он сам ловчие ямы. «Возможно, – полагал мой отец, – в лабазе или ещё где-то было припрятано ружьё, и из него, а не копьём убивались лоси, маралы, кабарга». В самом деле, когда новые друзья привезли Лыковым ружьё, из него без страха стала стрелять Агафья (что Карп Осипович не испытал затруднений, неудивительно).
Тайну своей жизни Лыковы оберегали, но Песков, папа не сомневался, уяснил многое или всё. Ему было невыгодно раскрывать правду их жизни: пропала бы сенсационность истории, к тому же она приобрела бы нехорошее звучание – тайная сектантская сеть… гм. И журналист подал материал так, как подал. Назвал историю «Таежный тупик». Люди, мол, провели жизнь в тупике, а могло быть иначе. Слова Пескова: «В «миру» Карп Осипович, несомненно, достиг бы немалых высот. На селе был бы не менее как председатель колхоза и в городе шел бы в гору».
Читателю указано на ошибку выбора Лыковых, но будится не осуждение, а сострадание к этим людям, симпатия. «Очаровательная журналистика!» – заключил мой отец.
Он взял книгу Генри Дэвида Торо о его жизни в лесу, погладил обложку: тут-де никаких загадок, самое необходимое Торо приобретал у людей, да и в хижине его слышался шум поездов.
Песков написал в «Таежном тупике», что сказал Карпу Осиповичу о полётах людей на Луну. Лыков не поверил. Мой отец не поверил тоже, хотя по иным, чем у Карпа Осиповича, соображениям.
А все верили
Летом 1969 года папа (мы с ним были на турбазе на Волге) узнал из привезённых газет о сенсации: американский космический корабль «Аполлон-11» вышел на окололунную орбиту, астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин посадили лунный модуль корабля на Луне. Первым ступил на её поверхность Нил Армстронг, через пятнадцать минут ступил и Олдрин. Оба провели на Луне более двух с половиной часов, после чего посадочная капсула взлетела и доставила астронавтов на ожидавший их на орбите корабль, которым управлял Майкл Коллинз.
Отец, я помню, задумался. На родную Землю, сказал он, невозможно посадить корабль, одна выброшенная капсула опускается в пустыне или в океане и не всегда благополучно, а на Луну, где никакой помощи нет, и сели и с неё взлетели.
Событие имело место 21 июля. За первым последовало ещё пять полётов американцев на Луну, на ней, таким образом, побывали двенадцать астронавтов – и всё прошло как по маслу. Обо всём этом сообщали советские средства массовой информации, а им всегда верили. Но мой отец после первого же сообщения о благополучном полёте сказал: «Такого просто не может быть!» Затем он не раз повторял это. Он не знал аргументов, которые за рубежом приводили те, кто тоже не верил в эти полёты: почему на Луне, где нет атмосферы, колыхался флаг, почему не осталось углубления в грунте от прилунившегося модуля и других. Для моего отца было достаточно убеждения: не получится шесть раз слетать на Луну, где столько неизвестного и где никто тебе не поможет.
Я спросил его, почему Кремль принял обман? На это отец сказал: чтобы ответить, нужно знать тайные пружины отношений между Москвой и Вашингтоном. То, что столь успешные полёты на Луну не возобновляются, он посчитал ещё одним доказательством – да не было их!
Кругозор писателя Пришвина
Отец знакомил меня с малых лет со всемирной историей, помогал представлять то и иное время с присущими ему средствами транспорта, связи, вооружения. Он предлагал нужные книги, многое рассказывал сам. Ученику первого класса, мне было известно, например, что во времена Колумба не было аркебуз, а во времена Магеллана они уже были.
Я помню, что, когда учился в четвёртом классе, отец попросил меня рассказать о морском сражении в Абукирском заливе. Я сказал, что на французский флот, который доставил в Египет генерала Бонапарта с войсками, в Абукирском заливе напал английский флот под началом адмирала Нельсона и почти полностью потопил его. «Когда это произошло?» – спросил отец. Я сказал, что в августе 1798 года. «И как тогда плавали корабли?» – был следующий вопрос. «Под парусами».
После этого я должен был сказать о первом пароходе. Мне пришёл на ум пароход Фултона, «который вышел в первое плавание, кажется, в 1807 году». Отец кивнул и добавил, что другое судно с паровым двигателем впервые пересекло Атлантический океан в 1819 году, но почти всё время шло под парусами. И только в 1838 году английский пароход «Сириус» впервые переплыл Атлантический океан без помощи парусов, хотя они и оставались на судне.
«Во времена Робинзона Крузо пароходы уже были?» – спросил папа. «Не было никаких пароходов, – сказал я, – тогда плавали только парусники». Даниэль Дефо, продолжил я, описал не одно путешествие и лишь под парусами. Вспомнил я и «Остров сокровищ» Стивенсона, где описываются одни только парусные суда: «А это было позднее времени Робинзона Крузо».
И тут я услышал нечто неожиданное: «А что ты читал у Пришвина?» – «У Пришвина?» – переспросил я. «Да, у Михаила Пришвина». Я хмыкнул и перечислил рассказы «Говорящий грач», «Предательская колбаса», «Лисичкин хлеб», ещё несколько.
Папа опять кивнул и показал мне в книге Пришвина произведение «Школьная робинзонада», прочитал первую фразу: «Да, были светлые часы высокого самосознания на том Робинзоновом острове, куда закинули меня житейские волны».
Робинзоновым островом писатель назвал заброшенную усадьбу, где ему довелось жить, когда после Гражданской войны царило разорение, не было многого, в том числе, спичек. Из древесных грибов приходилось делать трут, огонь высекать, ударяя обломком напильника по куску яшмы. Особенно трудно справляться с этим было ночью, когда к кровати подбирались крысы.
Но вот однажды, пишет Пришвин, подъехал первый «красный купец» с иголками, ситцами и всякой всячиной:
«Я бросился к нему и купил бензин и зажигалку – какое это было счастье, и рассказать невозможно, это было, как Робинзону первый показавшийся вдали дымок парохода».
Папа прочитал строки вслух и дал прочесть мне. Это написал, сказал он, школьный учитель, к тому же, печатавшийся в журналах. Я услышал, что сам Пришвин учился в классической гимназии, а также в реальном училище, потом в Рижском политехникуме, позднее окончил университет в Лейпциге, получил диплом инженера-землеустроителя. «Стал видным писателем, который много путешествовал, наблюдал, записывал. А в его «Робинзонаде» так и остался Робинзон, увидевший дымок парохода», – подытожил мой отец. И добавил, что не следует доверять авторитетам, надо критически смотреть на всё, что читаешь.
Малограмотность — не порок
Учась в девятом классе, я стал читать «Один день Ивана Денисовича» в хранившемся у нас номере «Нового мира» за ноябрь 1962 года. И показал отцу фразу: «Завстоловой – откормленный гад, голова как тыква, в плечах аршин». Надо было, сказал я, написать «в плечах косая сажень». И привёл примеры употребления этого фразеологизма. «Молодец! – похвалил меня отец. – А я просмотрел». Аршин, вспомнили мы, равен 0,71 м, а косая сажень равна 2,1 м – потому и возник такой фразеологизм, гипербола сразу даёт представление о ширине плеч.
«Аршин» на месте в других фразеологизмах: «Мерить на свой аршин», «стоит, будто аршин проглотил», «видит на аршин в землю».
Позднее, в 1970-е годы, я предлагал отцу послушать Высоцкого: пластинки и магнитофонные записи. Когда звучала песня про жирафа и антилопу в жёлтой жаркой Африке, папа нахмурился после слов:
И ушли к бизонам жить
С жирафом антилопа.
Бизоны, сказал он, обитают, как мы знаем, в Северной Америке, а в Африке – буйволы. Слушая «Ещё не вечер», отец нахмурился, когда было пропето:
Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза,
Чтоб не достаться спрутам или крабам,
Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах
Мы покидали тонущий корабль.
Кольты, произнёс он, носили американские ковбои с середины XIX века, во времена корсаров револьверов не было.
Слушая в другой песне:
По выжженной равнине –
За метром метр –
Идут по Украине
Солдаты группы "Центр"…
отец поморщился и в сердцах воскликнул: «Ну нельзя же так!» Он имел в виду то, что по Украине шли солдаты группы армий «Юг», а солдаты группы армий «Центр» шли на Смоленск, на Москву. Незнание этого его покоробило.
Всё же он продолжал слушать песню за песней и улыбнулся, покачал головой, услышав:
И рассказать бы Гоголю
Про нашу жизнь убогую, –
Ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы.
А потом Высоцкий пропел:
Наши мёртвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые...
Отражается небо в лесу, как в воде, —
И деревья стоят голубые.
У отца вырвалось: «Самобытно! Великолепно!» Я был поражён. Отец объяснил, что в высшей степени восхитился образным: «Отражается небо в лесу, как воде, — / И деревья стоят голубые».
Он с взволнованным вниманием прослушал песню ещё раз и сказал на взводе: «Хрен с ними — с группой «Центр», с кольтами, бизонами! У него всепроникающая задушевность!» Подошёл к окну и долго глядел вдаль на полоску луга у Волги.
У Высоцкого — голубое небо, а у него, догадывался я, — морозные звёзды. «Наши павшие — как часовые…»
С того дня он стал время от времени слушать песню «Он не вернулся из боя».
Роковое плавание
На жизнь моего отца пришлись роковые моменты истории, о которых он говорил мне, по мере того как я взрослел. Потом я сам стал вызывать его на эти разговоры, особенно после того как после окончания университета в 1976-м и работы в газете «Молодой ленинец» в Саранске, жил у родителей, заведуя отделом в газете «Знамя коммунизма». Я говорил отцу то, что узнал к тому времени, и ставил вопросы, которые у меня возникали. И много лет спустя я занимался всем тем, что наметилось в разговорах с отцом, и буду в дальнейшем приводить факты, до которых дошёл самостоятельно, когда отца уже не было в живых.
Раз за разом мы с ним, а потом и я один обращались к царствованию Николая II. Он был монарх «самодержавный и неограниченный». Ему нераздельно принадлежало право издавать законы. Существовал Государственный Совет, куда царь назначал высших сановников. Он обсуждал с ними проекты законов и мог согласиться либо с мнением большинства, либо с мнением меньшинства, или же отвергнуть и то, и другое. В области исполнительной ему тоже принадлежала неограниченная полнота власти. А ещё он являлся главой Русской православной церкви.
После вступления на престол Николай II обратился 17 января 1895 года к земским депутациям: «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления; пусть знают все, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранял его мой покойный незабвенный Родитель».
Напомню, что в то время, в конце XIX века, лишь две страны Европы не имели народного представительства: Черногория и Российская империя. Что это, как не вопиющая отсталость, которая заслуживает слова «варварство»? Порядок управления российским государством следовало менять, к труду на благо страны было готово много образованных одарённых людей на разных общественных уровнях, но их участие в переустройстве России напрочь отвергалось. Мой отец говорил: «На капитанский мостик взошёл не тот капитан» и добавлял, что и «предыдущий не годился».
В стране бурно росла промышленность, развивались науки, меняющаяся жизнь выдвигала задачи, которые бессильно было решать самодержавие. Оно давило живую жизнь, и тут символична Ходынская катастрофа 18 (30) мая 1896 года. В давке на Ходынском поле погибло 1379 человек, отметив коронацию Николая II.
Зная о происшедшей катастрофе, царь, не изменив программу, участвовал с царицей в празднестве в Кремлёвском дворце, затем они обедали у его мамы и отправились на бал во французское посольство, где танцевали. Николай II оставил запись в дневнике: «Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали в 2 ч.» Личность государя, таким образом, проявляется отчётливо.
Фиаско монарха на востоке
Перед государством стояли вопросы освоения входивших в него необъятных территорий: в 1860 году был присоединён Уссурийский край, начал строиться Владивосток, в 1873-м империя включила в свой состав Южный Сахалин. Однако, вместо освоения земель, Николай II думал о новых приобретениях, стремился далее и далее. Его манила Маньчжурия, которую в 1895 году Япония отняла у Китая. При поддержке правительств других стран, царь добился вывода японских войск из Маньчжурии, включая Ляодунский полуостров. Россия взяла его у Китая в долгосрочную аренду, заняла своими войсками, начала строительство Порт-Артура. Царь вложил в освоение Маньчжурии двести тысяч рублей личных средств, ожидая немалых дивидендов. К Порт-Артуру от Китайско-Восточной железной дороги, строившейся с 1896-го по 1903 год, была проведена ветвь. Япония восприняла всё это как пощёчину. Россия же проникла и в Корею, заполучив у её королевского двора право на лесоразработки.
Сергей Юльевич Витте, который одно время был председателем Совета министров, в «Воспоминаниях» писал: «У нас в России в высших сферах существует страсть к завоеваниям, или вернее к захватам того, что, по мнению правительства, плохо лежит». Япония предложила царю: пусть вашим будет Ляодунский полуостров, но Корею оставьте нам. Николай II ответил отказом. Осведомлённый о том, что Япония готовится к войне, он не сумел подготовить к ней свои войска, известно, что он презрительно называл японцев «жёлтыми макаками».
По совету отца, я шестиклассником прочитал книгу о русско-японской войне «Цусима», автор которой Алексей Новиков-Прибой участвовал в плавании 2-й Тихоокеанской эскадры к берегам Японии и в бою с японским флотом, а также книгу Александра Степанова «Порт-Артур». Отец задавал мне вопросы о прочитанном, комментировал описанные факты.
Мы останавливались на том, что, как пишет Новиков-Прибой, после разрыва Японией дипломатических отношений с Россией не могло быть сомнений в войне. 26 января 1904 в Порт-Артур прибыл на английском пароходе японский консул и эвакуировал из города всех подданных Японии, среди которых, разумеется, были агенты. Япония получила сведения о крепости и о расположении кораблей 1-й эскадры, мимо которых проплывали лодки с японцами. Русское командование, однако, этим не озаботилось. Написанное в «Цусиме» подтверждают другие источники, история войны известна во всей полноте.
В ночь на 27 января японские миноносцы атаковали российские корабли, несколько из них сильно повредили. Российская эскадра не смогла помешать высадке войск Японии в Корее, а затем и в Маньчжурии. Порт-Артур был отрезан от России, оказавшись в осаде.
Японская армия в Маньчжурии атаковала Русскую императорскую армию и при Ляояне, в сражении, длившемся с 11-го по 22-е августа 1904, одержала победу. Гораздо позднее моих бесед с отцом я нашёл подробности, которые привожу здесь. Русских при Ляояне было 170 тысяч, японцев – 120 тысяч. У их армии отсутствовала кавалерия, а русская армия ею располагала. Средний рост японского солдата составлял 157 см, поэтому винтовки для них изготовлялись, для уменьшения веса, меньшего калибра, чем русские винтовки и винтовки европейских государств и США.
В следующем сражении, которое продолжалось с 22-го по 30-е сентября, японская армия отбросила русские войска за реку Шахэ (270 тысяч русских солдат сражалось против 170 тысяч японских; у русских было 758 орудий, 32 пулемёта, у японцев 648 орудий, 18 пулемётов).
20 декабря 1904 сдался гарнизон Порт-Артура, осаждавшийся японской армией с начала августа. Корабли 1-й эскадры были потоплены их командами, причём на неглубоком месте, и верхние палубы остались на виду. Лишь командовавший броненосцем «Севастополь» капитан 1-го ранга фон Эссен вывел свой корабль на бой, продлившийся недолго, и затопил его на двадцатисаженной глубине. Японцы подняли все корабли и включили их в свой флот, в их числе знаменитый «Варяг», затопленный у Чемульпо.
14 мая 1905 произошло генеральное сражение при Мукдене, русская армия в беспорядке отступила на север, потеряв десятки тысяч убитыми и сдавшимися в плен, японцам достались сотни пушек, тысячи винтовок, множество лошадей, боеприпасов, провианта и прочего имущества.
Русскими солдатами были посланные на войну крестьяне старших призывных возрастов, в основном, многодетные, они не хотели воевать в чужих далёких краях «за веру, царя и отечество».
Направленная из Балтийского моря в Порт-Артур 2-я эскадра достигла острова Мадагаскар, и тут стало известно, что Порт-Артур и 1-я Тихоокеанская эскадра потеряны. Можно ли было надеяться, что 2-я эскадра, неподготовленная к боевым действиям, одна разгромит японский флот? Следовало остановить её и, используя как козырь, начать переговоры о мире. Однако Николай II, наделённый полной ничем не ограниченной властью, этого не сделал. 15 мая 1905 эскадра, пришедшая к Цусимскому проливу, была частью потоплена, частью сдалась в плен. Сдался и командовавший ею «бездарный комедиант» идиотствующий хам вице-адмирал Рожественский, показав позорнейшую бестолковость.
23 августа 1905 в американском городе Портсмуте был подписан мир: Российская империя потеряла Ляодунский полуостров, Южно-Маньчжурскую железную дорогу, лесные концессии в Корее и южную половину Сахалина. Планы Николая II «ногою твёрдой встать» на Жёлтом море были развеяны, в империи заполыхала революция.
История преподносила нагляднейший урок: не может самодержавная неограниченная власть безнаказанно передаваться по праву рождения. Бывший одно время председателем Совета министров Сергей Витте в своих «Воспоминаниях» писал, что Николай II «не был создан, чтобы быть императором вообще, а неограниченным императором такой империи, как Россия, в особенности. Основные его качества – любезность, когда он этого хотел (Александр I), хитрость и полная бесхарактерность и безвольность».
С революцией дано было, в конце концов, справиться, хозяйственная жизнь страны шла в рост, председатель Совета министров Пётр Столыпин в 1909 году произнёс: «Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней Poccии». Однако были те, кто требовал, чтобы монарх, получивший на востоке сокрушительный удар, дополненный революцией, нацелил взгляд на Запад.
Франция, Англия, Германия
Когда во время Крымской войны 1853-56 гг. корабли Франции и Англии блокировали все порты Российской империи, необходимое для обороны ей поставляла Пруссия через восточно-прусскую границу. Об этом, как вспоминал мой отец, нередко говорили его старшие братья, родители.
Во время русско-турецкой войны 1877-78 гг. Англия поддерживала Турцию. Вел. князь Александр Михайлович, внук Николая I, по матери – внук великого герцога Леопольда Баденского, – двоюродный брат Александра III, пишет в «Книге воспоминаний», вышедшей на русском языке в Париже в 1933 году: «русская армия в действительности вела жесточайшую кампанию против британской империи. Турецкая армия была вооружена отличными английскими винтовками новейшей системы. Генералы султана следовали указаниям английских военачальников, а флот Ее Величества королевы английской угрожающе появился в водах ближнего востока в тот момент, когда взятие Константинополя русской армией являлось вопросом нескольких недель».
Александр Михайлович обвиняет Бисмарка, взявшего на себя роль посредника, в том, что он не помешал премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли навязать русской делегации в Берлине «условия мира, позорные для России». Вел. князь при этом добавляет весьма и весьма важное: «Однако, нет оправдания и русской дипломатии, которая, вместо того, чтобы нейтрализовать шаг Дизраэли русско-германским союзом, стала способствовать бессмысленному, даже фатальному сближению России с Францией и Великобританией».
Далее Александр Михайлович размышляет о Первой мировой войне:
«Те из нас, которым пришлось быть свидетелями событий 1914 года, склонны упрекать Александра III в том, что в нем личные чувства антипатии к Вильгельму II взяли перевес над трезвостью практического политика. Как могло случиться, что русский монарх, бывший воплощением здравого смысла, отклонил предложения Бисмарка о русско-германском союзе и согласился на рискованный союз с Францией? Этому можно найти очень простое объяснение. Не будучи провидцем ошибок, допущенных в иностранной политике в царствование Николая II, и последствий неудачной русско-японской войны и революции 1905 г., Александр III кроме того переоценивал наше военное могущество.
Он был уверен, что в Европе воцарится продолжительный мир, если Россия морально поддержит Французскую республику, предостерегая таким образом Германию от агрессивности 1870 г. Возможность вмешательства Франции в решительную борьбу между Англией и Германией за мировое владычество на морях — просто не приходила Царю в голову.
Если бы он остался долее у власти, он с негодованием отверг бы роль франко-английского парового катка, сглаживающего малейшую неровность на их пути, каковая роль была навязана России в 1914 году».
Франция, разбитая Пруссией, мечтала о реванше, нуждаясь в гарантии, что войну с Германией она не проиграет. Вел. князь употребляет выражение «морально поддержит Французскую республику», в то время как России был предоставлен крупный заём, и между нею и Францией были подписаны соглашение и секретная военная конвенция, которую в 1894 году ратифицировали русский император Александр III и французский президент. Россия, в случае войны Франции с Германией, должна была выставить от 700 до 800 тысяч солдат для действий против Германии с востока.
Мой отец полушутливо говорил, что заём займом, но Александром III владела «страстишка переруситься», свойственная многим российским немцам. Придуманное отцом слово «переруситься» означало – стать русским более самих русских. Хорошо устроившиеся в России немцы истово желали, ради сохранения благ и дальнейших перспектив, чтобы об их происхождении было забыто, и неизменно кляли Германию. Александр III – пример.
Немцев бить!
Герцен в «Былом и думах» с возмущением пишет, как в Москве на обеде в честь приезжего панслависта один славянофил воскликнул: «Упьюся я кровью мадьяров и немцев». То было в конце тридцатых годов XIX века. Можно сказать, что полвека спустя возглас отражал душевное движение не одного и не двух русских.
Явление в его развитии изящно подал Чехов. В 1883 году был опубликован его рассказ «Патриот своего отечества». В нём написано о маленьком немецком городке: «Хорошее пиво, хорошеньких служанок и чудный вид вы можете найти в отеле, стоящем на краю (левом) города, на высокой горе, в тени прелестнейшего садика». Мы узнаём, что «на террасе этого отеля, за белым мраморным столиком, сидело двое русских». Оба приехали сюда на воды «лечиться от большого живота и ожирения печени». А у подножия холма играла музыка, немцы что-то праздновали. Кругом было так уютно, так мило, что русские «подперли свои русские головы кулаками и задумались».
Многозначительное указание «задумались»! О чём они задумались в немецком городке, где всё так хорошо? Не содержится ли ответ в строке Высоцкого: «Но мне очень больно и обидно…»?
Праздничная процессия приблизилась к отелю, и русским захотелось в ней участвовать. «Они взяли свои бутылки и смешались с толпой. Процессия остановилась на полянке за отелем. Вышел на средину какой-то старичок и сказал что-то. Ему аплодировали». Один из русских, Петр Фомич, пишет Чехов: «умилился. В груди его стало светло, тепло, уютно. При виде говорящей толпы самому хочется говорить. Речь заразительна. Петр Фомич протиснулся сквозь толпу и остановился около стола. Помахав руками, он взобрался на стол. Еще раз помахал руками. Лицо его побагровело. Он покачнулся и закричал коснеющим, пьяным языком: «Ребята! Не… немцев бить!»
Рассказ оканчивается фразой: «Счастье его, что немцы не понимают по-русски!»
Александр III подыгрывал настроению и хотел быть впереди. Он написал в письме Победоносцеву: «Есть господа, которые думают, что они одни Русские, и никто более. Уже не воображают ли они, что я Немец или Чухонец?» Александр III заявлял: «Россия – для русских и по-русски!», проводил русификацию Прибалтики, произносил «моя русская душа», в России – «исконно русская власть», а окружающие посмеивались за его спиной. Они-то знали, что он немец фон Гольштейн-Готторп.
Мой отец повторял фразу об Александре III, не помня, кому она принадлежит: «Дабы доказать свою «русскость», он отказался от братской дружбы с Германией и стал слугой республиканской Франции». Когда в 1891 в Кронштадт прибыла с визитом французская эскадра, монарх-самодержец лично её приветствовал и в Петергофе во время обеда стоя выслушал исполнение французского революционного гимна «Марсельеза». Сына Николая он хотел женить на французской принцессе Елене, дочери Луи-Филиппа Альбера Орлеанского, наследника французской короны в 1842-1848 годах, внучке короля Луи-Филиппа. Однако, Николай категорически воспротивился.
Кто друг России и кто — не очень
Германия надеялась на дружбу с Россией при Николае II. Обращусь к книге А. Б. Широкорада «Россия — Англия: неизвестная война, 1857–1907». В ней приведено, что на другой день после нападения японцев на Порт-Артур рейхсканцлер граф Бернгард Брюллов передал русскому послу в Берлине: «Российский Император может видеть в Германии честного и лояльного соседа» (43. С. 527). В феврале 1904 посол сообщил царю: «Не могло быть никаких сомнений в чувствах императора Вильгельма, благодаря его расположению к нам Германия осталась для нас благожелательным соседом, поведение которого явилось ценным залогом для нашей безопасности по всему протяжению европейской границы» (43. С. 527).
А что делает Франция? В книге «Цусима» описано, как французские власти запрещали в портах своих колоний загружать углём с германских угольщиков корабли 2-й эскадры.
Дакар. «Из столицы союзной нам Франции пришел наконец ответ, категорически запрещающий производить какую бы то ни было погрузку в пределах территориальных вод». Намечалась стоянка в порту Диего-Суарец (Мадагаскар), туда же должны были прийти угольщики. «Но под давлением японцев и англичан французы отказали нам в гостеприимстве». Камранг (Индокитай). «8 апреля контр-адмирал Жонкиер заявил Рожественскому, чтобы мы в течение двадцати четырех часов покинули территориальные воды французской колонии. После разгрома русской армии под Мукденом Франция еще меньше стала считаться с нами и, поддаваясь требованиям Японии, вышибала нас даже из самых глухих своих владений бесцеремонным образом».
Николай II, тем не менее, подчинялся требованию Франции держать войска у германской границы и не снял ни одной части из западных округов для отправки в Маньчжурию.
Об Англии. Она открыто поддерживала Японию, предоставляла ей займы, отправляла ей нужные грузы.
В книге А. Б. Широкорада приведено: 27 октября Вильгельм II телеграфировал Николаю II, что Англия намерена помешать Германии снабжать углём русский военный флот. Кайзер предлагал совместно положить конец этим поползновениям, образовать «мощную комбинацию» против Англии и сообща принудить Францию присоединиться к России и Германии для солидарного отпора ей. 16 октября Николай II ответил: «Германия, Россия и Франция должны объединиться. Не набросаешь ли ты проект такого договора? Как только мы его примем, Франция должна присоединиться к своей союзнице. Эта комбинация часто приходила мне в голову» (21. Т. II. С. 563).
Ответ Вильгельма гласил: «Дорогой Ники! Твоя милая телеграмма доставила мне удовольствие, показав, что в трудную минуту я могу быть тебе полезным. Я немедленно обратился к канцлеру, и мы оба тайно, не сообщая об этом никому, составили, согласно твоему желанию, 3 статьи договора. Пусть будет так, как ты говоришь. Будем вместе» (21. Т. II. С. 563).
К посланию был приложен проект союзного договора. «В случае, если одна из двух империй подвергнется нападению со стороны одной из европейских держав, — гласил проект, — союзница ее придет к ней на помощь всеми своими сухопутными и морскими силами. В случае надобности обе союзницы будут также действовать совместно, чтобы напомнить Франции об обязательствах, принятых ею на себя согласно условиям договора франко-русского союза» (21. Т. II. С. 563).
Николай II 7 июля 1905 послал императору Вильгельму II приглашение посетить финские шхеры (Сергей Ольденбург «Царствование императора Николая II). 10 июля 1905 г. из Кронштадта в залив вышла императорская яхта «Полярная звезда», на борту которой находился Николай II, и направилась к Бьёрке.
Царь записал в дневнике 11 июля: «Проспал подъем флага и встал в 9. Погода была солнечная, жаркая, со свежим SO*. В 10 ч прибыл Вильгельм к кофе. Поговорили до 12 ч и втроем с Мишей отправились на герм. крейс. «Берлин». Осмотрел его. Показали арт. учение.
--------------------
* SO — это направление ветра — зюйд-ост (юго-восточный) (прим. автора — И.Г.).
Завез Вильгельма к нему и вернулся на «Полярную». Было полчаса отдыха. В 2 ч у нас был большой завтрак. Слушали музыку Гвар. Эк. и разговаривали все время стоя до 4. Простился с Вильгельмом с большой сердечностью» и: «Вернулся домой под самым лучшим впечатлением проведенных с Вильгельмом часов!»
В ночь с 10 на 11 июля на борту «Гогенцоллерна» оба императора подписали секретный договор:
«Их императорские величества — император всероссийский, с одной стороны, и император германский, с другой, — в целях упрочения мира в Европе пришли к соглашению по следующим пунктам договора, нижеизложенного и определяющего оборонительный союз:
Статья I. Если какое-либо из европейских государств нападет на одну из империй, другая договаривающаяся сторона обязуется помочь своему союзнику всеми имеющимися в ее распоряжении силами на суше и на море.
Статья II. Высокие договаривающиеся стороны обязуются не заключать сепаратного мира с какой-либо из враждебных стран.
Статья III. Настоящий договор входит в силу с момента заключения мира между Россией и Японией и может быть расторгнут только после предварительного предупреждения за год.
Статья IV. Когда настоящий договор войдет в силу, Россия предпринимает необходимые шаги, чтобы осведомить о его содержании Францию и пригласить ее как союзника подписаться под ним.
Подписано:
Николай.
Вильгельм» (18. С. 43).
Ольденбург в 1939 г. писал: «Бьеркский договор устанавливал взаимное обязательство для России и для Германии оказать друг другу поддержку в случае нападения на них в Европе. Особой статьей указывалось, что Россия предпримет шаги для привлечения Франции к этому союзу. Договор должен был вступить в силу с момента ратификации мирного договора между Россией и Японией. Острие договора было явно направлено против Англии».
Победа галломанов и англоманов
Договор должны были подтвердить своими подписями сановники. Вильгельм II дал расписаться высокому чину Министерства иностранных дел фон Чиршки, а Николай II велел поставить подпись, не читая документ, морскому министру адмиралу Бирилёву.
Возвратившись в Петербург, царь некоторое время скрывал договор от своего окружения, зная, что оно будет защищать интересы Франции. И действительно, министр иностранных дел граф Ламздорф, отчаянный русский патриот, лишь только узнал о договоре, выступил против. К нему присоединились другие агенты влияния Франции.
И Николай II написал Вильгельму II, что договор может вступить в силу лишь после переговоров с Францией, но замысел кайзера был в том, чтобы поставить её перед свершившимся фактом. Кайзер писал царю: «Мы подали друг другу руки и дали свои подписи перед Богом», «Что подписано, то подписано» (21. Т. II. С. 576). Призывы ничего не дали.
Прав историк А. Б. Широкорад, считающий, что союз Германии и России был жизненно необходим обеим империям, но профранцузская клика правила бал на берегах Невы.
Англия, подписавшая в 1904 договор с Францией о Entente cordiale (сердечном согласии), подписала в 1907 такой договор и с Россией. Таким образом, окончательно оформилась Антанта.
Николай II, вместо того чтобы дать российскому населению, чьё большинство прозябало в нужде, 20 лет покоя, стал усиливать гонку вооружений. Её пытался сдерживать председатель Совета министров и одновременно министр финансов Владимир Коковцов, тогда царь 30 января 1914 лишил его обеих должностей.
Направление главного удара русских по Германии от Нарева на Алленштейн было определено ещё в 1912 году. В апреле 1914, при том, что эрцгерцога Франца Фердинанда убьют в Сараево только 28 июня и это станет поводом к войне, российское военное министерство и генштаб провели оперативно-стратегическую игру. На ней отрабатывалось вторжение в Восточную Пруссию силами двух армий Северо-Западного фронта с востока и юга. Планировалось взять германскую армию в «клещи» и, разгромив её, обезопасить свои войска от удара во фланг при наступлении из Варшавского выступа через Познань на Берлин.
Монархи и Шаляпин
Мой отец интересовался биографиями людей искусства и обратил моё внимание на встречи Фёдора Шаляпина с английским королём Георгом V и с кайзером Вильгельмом II, которые великий артист описал в книге «Повести о жизни». Он побывал в странах, которые вскоре предались побоищу. После гастролей в Париже Шаляпин в июне 1913 года приехал в Лондон с труппой Сергея Дягилева. «Нашими спектаклями, – пишет Шаляпин, – заинтересовался король, он приехал слушать «Бориса Годунова» и так же горячо, как публика, аплодировал нам. После сцены с «видением» король захотел «видеть меня». Король «ласково изъявил мне удовольствие, вызванное у него прекрасной оперой». Этим встреча исчерпалась.
Позднее Шаляпин выступал в Берлине, играя в «Севильском цирюльнике» Дон-Базилио. «Император, – пишет он, – посещал каждое представление, не стесняясь хохотал на весь театр, перевешивался через барьер ложи и вообще вел себя, как добрый немецкий бурш». Он пригласил в ложу Шаляпина, о чём тот написал:
«Войдя в ложу, мы увидали Вильгельма, стоявшего, опираясь на правую ногу, с рукою на эфесе шпаги. Острые глаза серовато-синего цвета и вся его фигура говорила о большой энергии и настойчивости.
– Ведь вы – русский артист? – обратился он ко мне на французском языке.
– Да, я артист императорских театров».
Кайзер взял футляр из рук какого-то высокого человека во фраке и вынул из футляра золотой крест Прусского Орла. Он сам хотел приколоть мне орден на грудь, но ни у кого не нашлось булавки». Тогда «улыбаясь, он передал мне орден в руки».
Шаляпин имел в виду Орден «Чёрного Орла» (Schwarzer-Adler-Orden) — имевший статус высшего ордена Королевства Пруссии.
А Николай II однажды прислал в подарок Шаляпину часы, оказавшиеся дешевле тех, которые тот носил, и артист отослал их обратно, велев передать: «Бедноватые они какие-то». Тогда царь прислал часы подороже.
Диалог кузенов
Я уже писал, что старшие братья моего отца обсуждали начало Первой мировой войны. Повторив кое-что, добавляю уточнения, о которых мы говорили с отцом, а также то, что я выяснил позднее.
Привожу телеграммы, которыми обменивались Николай II и германский кайзер – его кузен, крёстный отец наследника Алексея, Вильгельм II перед началом войны.
Царь – Кайзеру, 29 июля 1914 01:00 (№1)
Петергоф
Sa Majestй l'Empereur
Новый Дворец
Рад, что ты вернулся. Призываю тебя помочь мне в столь серьёзное время. Бесчестная война была объявлена слабой стране. Возмущение в России, полностью разделяемое мною, огромно. Предвижу, что очень скоро давление сломит меня и я буду вынужден принять чрезвычайные меры, которые могут привести к войне. Чтобы избежать такого бедствия, как общеевропейская война, я прошу тебя во имя нашей старой дружбы сделать всё, что в твоих силах, чтобы остановить твоих союзников, прежде чем они зайдут слишком далеко.
Ники
Кайзер – Царю, 29 июля, 01:45 (№2)
Эта и предыдущая телеграмма пересеклись. 29 июля 1914
С глубочайшей озабоченностью слышу я о том впечатлении, что производят действия Австрии против Сербии в твоей стране. Та беспринципная агитация, что велась в Сербии годами, вылилась в ужасающее преступление, жертвою которого пал эрцгерцог Франц Фердинанд. Дух, который внушил сербам убить собственного короля и его жену, всё ещё господствует в стране. Несомненно, ты согласишься со мной, что мы оба, ты и я, равно как и все иные Государи, разделяем общий интерес: настоять на том, чтобы все, кто несёт моральную ответственность за это смертоубийство, получили заслуженное наказание. В этом случае политика не играет вовсе никакой роли. С другой стороны, я вполне понимаю, как трудно тебе и твоему Правительству сдерживать напор вашего общественного мнения. Посему ввиду нашей сердечной и нежной дружбы, которая связывает нас обоих с давних пор крепкими узами, я использую всё своё влияние, чтобы убедить австрийцев сделать всё, чтобы прийти к соглашению, которое бы тебя удовлетворило. Искренне надеюсь, что ты поможешь мне в деле сглаживания тех противоречий, что всё ещё могут возникнуть.
Твой крайне искренний и преданный друг и кузен,
Вилли
Кайзер – Царю, 29 июля, 18:30 (№3)
Берлин, 29 июля 1914
Я получил твою телеграмму и разделяю твоё желание установить мир. Но, как я сообщил тебе в своей первой телеграмме, я не могу считать действия Австрии против Сербии «бесчестною» войною. Австрия на собственном опыте знает, что сербским обещаниям на бумаге совершенно нельзя верить. Я разумею так, что действия австрийцев следует оценивать как стремление получить полную гарантию того, что сербские обещания станут реальными фактами. Это моё суждение основывается на утверждении австрийского кабинета о том, что Австрия не желает каких бы то ни было территориальных завоеваний за счёт сербских земель. Потому я полагаю, что Россия вполне могла бы остаться наблюдателем австро-сербского конфликта и не втягивать Европу в самую ужасную войну, которую она когда-либо видела. Думаю, что полное взаимопонимание между твоим Правительством и Веной возможно и желательно, и, как я уже телеграфировал тебе, моё Правительство прилагает усилия, чтобы этому поспособствовать. Конечно, военные меры со стороны России в Австрии были бы расценены как бедствие, которого мы оба хотим избежать, а также они подвергли бы риску моё положение посредника, которое я с готовностью принял после твоего воззвания к моей дружбе и помощи.
Вилли
Царь – Кайзеру, 29 июля, 20:20 (№4)
Петергоф, 29 июля 1914
Спасибо за твою примирительную и дружественную телеграмму. В то же время официальное сообщение, представленное сегодня твоим послом моему министру, носило совершенно иной оттенок. Прошу тебя объяснить это различие! Было бы правильным поручить решение австро-сербской проблемы Гаагской конференции. Верю в твою мудрость и дружбу.
Твой любящий Ники
Царь – Кайзеру, 30 июля 1:20 (№5)
Петергоф, 30 июля 1914
Сердечная тебе благодарность за быстрый ответ. Сегодня вечером посылаю Татищева с инструкциями. Военные меры, которые сейчас вступили в силу, решено было начать пять дней назад в целях защиты от опасности, вызываемой австрийскими приготовлениями. Всем своим сердцем надеюсь, что меры эти никоим образом не помешают твоей посреднической деятельности, которую я чрезвычайно ценю. Нам нужно сильное давление на Австрию с твоей стороны, дабы согласие с нами стало возможным.
Ники
Кайзер – Царю, 30 июля, 1:20 (№6)
Берлин, 30 июля 1914
Большое спасибо за телеграмму. Не может быть и речи о том, что язык моего посла мог не соответствовать тону моей телеграммы. Графу Пурталесу было поручено привлечь внимание твоего правительства к той опасности и печальным последствиям, которые влечёт за собой мобилизация; в своей телеграмме к тебе я сказал то же самое. Австрия выступает исключительно против Сербии и мобилизовала лишь часть своей армии. Если, как в теперешней ситуации, согласно сообщению с тобою и твоим Правительством, Россия мобилизуется против Австрии, моя роль посредника, которую ты мне любезно доверил и которую я принял на себя, вняв твоей сердечной просьбе, будет поставлена под угрозу, если не сказать – сорвана. Теперь весь груз предстоящего решения лежит целиком на твоих плечах, и тебе придётся нести ответственность за Мир или Войну.
Вилли
Кайзер – Царю, 31 июля (№7)
Берлин, 31 июля 1914
По твоему призыву к моей дружбе и твоей просьбе о помощи я стал посредником между твоим и австро-венгерским Правительствами. Одновременно с этим твои войска мобилизуются против Австро-Венгрии, моей союзницы. Посему, как я тебе уже указал, моё посредничество сделалось почти что иллюзорным. Тем не менее, я не собираюсь отказываться от него. Я сейчас получаю достоверные известия о серьёзных военных приготовлениях на моей восточной границе. Ответственность за безопасность моей империи вынуждает меня принять превентивные защитные меры. В своём стремлении сохранить мир на Земле я использовал практически все средства, бывшие в моём распоряжении. Ответственность за несчастье, которое теперь угрожает всему цивилизованному миру, не будет лежать на моём пороге. В сей момент всё ещё в твоей власти не допустить этого. Никто не угрожает чести или силе России, равно как никто не властен свести на нет результаты моего посредничества. Моя симпатия к тебе и твоей империи, которую передал мне со смертного одра мой дед, всегда была священна для меня, и я всегда честно поддерживал Россию, когда у неё возникали серьёзные затруднения, особенно во время её последней войны. Ты всё ещё можешь сохранить мир в Европе, если Россия согласится остановить свои военные приготовления, которые, несомненно, угрожают Германии и Австро-Венгрии.
Вилли
Царь – Кайзеру (№8)
Эта и предыдущая телеграммы пересеклись.
Петербург, Дворец, 31 июля 1914
Sa Majestй l'Empereur, Новый дворец
Сердечно благодарю тебя за твое посредничество, которое ныне даёт мне надежду, что всё ещё может решиться миром. Технически невозможно остановить наши военные приготовления, которые являются необходимым ответом на австрийскую мобилизацию. Мы далеки от того, чтобы желать войны. До тех пор, пока продолжаются переговоры с Австрией по сербскому вопросу, мои войска не произведут никаких провокационных действий. В этом торжественно даю тебе моё слово. Уповаю на свою веру в Божью милость и надежду на твоё успешное посредничество в Вене и верю, что они обеспечат благополучие наших стран и мир в Европе.
Твой преданный Ники
Царь – Кайзеру, 1 августа (№9)
Петергоф, 1 августа 1914
Sa Majestй l'Empereur
Берлин
Получил твою телеграмму. Понимаю, что ты должен объявить мобилизацию, однако желаю получить от тебя ту же гарантию, какую я дал тебе, что эти меры не означают войны и что мы продолжим переговоры ради блага наших стран и всеобщего мира, столь дорогих нашим сердцам. Наша давняя крепкая дружба должна, с Божьею помощью, предотвратить кровавую бойню. С нетерпением и верою в тебя жду ответа.
Ники
Кто на кого напал
Именной Высочайший указ Правительствующему Сенату о мобилизации. Дан в Петергофе 16 июля 1914 года.
На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою подписано: НИКОЛАЙ.
16 июля по ст. ст. – это 29 июля. Согласно источнику, первоначально ряд военных округов получил телеграмму о начале мобилизации 17 (30) июля 1914 года, что и было использовано как непосредственное руководство к действию (составлялись призывные списки, назначались места сбора призываемых и т.п.). Однако ее официальное начало было перенесено на 18 (31) июля. В мобилизационной телеграмме за подписью военного, морского министров и министра внутренних дел, направленной Генштабу 17 (30) июля 1914 года, говорилось: «Высочайше повелено привести армию и флот на военное положение и для сего призвать чинов запаса и поставить лошадей согласно мобилизационному росписанию (так в тексте – И.Г.) 1910 года точка первым днем мобилизации следует считать 18 сего июля 1914 года».
Итак, в ночь на 31 июля 1914 в России была объявлена всеобщая мобилизация. Общая численность населения империи на 1 января 1914 г. составляла 178 905,5 тыс. человек. В Германии жило 67 млн. Мобилизация в России требовала шести недель до полного завершения, после чего на Германию накатился бы, как говорили на Западе, «русский паровой каток» – армия, которая числом значительно превосходила бы германскую. Германия не могла этого ждать и потребовала прекратить мобилизацию в течение 12 часов.
1 августа германский посол в России Фридрих фон Пурталес явился в министерство иностранных дел и спросил его главу Сергея Сазонова, согласна ли Россия отменить мобилизацию. Министр ответил отказом. Взволнованный посол задал этот вопрос ещё дважды и получил два отрицательных ответа. «В таком случае я должен вручить вам этот документ», – произнёс посол и вручил министру ультиматум в двух вариантах. В первом говорилось, что, если мобилизация будет отменена, оба государства остаются в мире друг с другом. Во втором – если нет, то с 6 часов вечера 1 августа Германия будет находиться в состоянии войны с Россией.
Министр Сазонов описывает сцену: «Он был бледен и заметно нервничал. Для начала он трижды переспросил у меня патетическим тоном: «Можете ли вы заверить, что Россия прекращает мобилизацию?» Услышав отрицательные ответы, посол Пурталес произнёс, что «от имени империи принимает вызов и настоящим объявляет состояние войны с Россией». Мертвенно бледный Пурталес, – пишет Сазонов, – не мог более справляться со своими чувствами. Он прислонился к окну и начал часто всхлипывать. «Кто бы мог подумать, что мне придется покидать Петербург в таких обстоятельствах…» Я поддержал его, мы обнялись на прощание, и я выпроводил его».
Над сценой стоит поразмышлять. У германского посла теплится надежда, что мобилизация может быть отменена, он трижды задаёт свой вопрос. И вручает Сазонову и второй вариант ультиматума, дабы была полная ясность – отмена мобилизации означает мир, к России никаких претензий. Интересно, что Сазонов отвечает отказом, ничего не сообщая государю.
Посол страны, объявляющей войну, всхлипывает, а Сазонов явно удовлетворён тем, что война объявлена. Можно представить, что он мысленно потирает руки.
Через шесть часов Вильгельм II отправил Николаю II ещё одну телеграмму:
Кайзер – Царю, 1 августа (№10)
Берлин, 1 августа 1914
Благодарю за твою телеграмму. Вчера я указал твоему правительству единственный способ избежать войны. Хотя я запросил ответ к сегодняшнему полудню, никакой телеграммы от моего посла, подтверждающей ответ твоего Правительства, мне ещё не пришло. Поэтому я вынужден был мобилизовать свою армию. Немедленный, точный, ясный утвердительный ответ твоего Правительства – вот единственный способ избежать бесконечных невзгод. Увы, пока я такового не получил, а значит, я не в состоянии говорить по существу твоей телеграммы. По большому счёту я должен попросить тебя немедленно приказать твоим войскам ни в коем случае не предпринимать ни малейших попыток нарушить наши границы.
Вилли
Таким образом, Вильгельм II предложил Николаю II ещё одну возможность предотвратить военные действия, помириться. Царь на телеграмму не ответил, окончательно выбрав войну, доказав свою вину в том, что последовало как в России, так и за её пределами.
17 августа 1914, не дожидаясь, когда войска будут отмобилизованы, Россия силами 1-й армии перешла границу и вторглась в Восточную Пруссию. 20 августа германскую границу перешла 2-я армия. Оперативно-стратегическая игра апреля 1914 претворялась в реальность.
1-й армией командовал Павел фон Ренненкампф, 2-й армией — Александр Самсонов. Немцы, численно уступавшие русским, отступали, и это, опять же, говорит о том, что они не собирались нападать. 21 августа Ренненкампф выиграл у них Гумбиннен-Гольдапское сражение. Но 27-29 августа была разбита, загнана в болота 2-я армия, большая её часть попала в плен, генерал Самсонов застрелился. Затем была «выдавлена» из Восточной Пруссии и 1-я армия.
Более не буду повторять достаточно известное. Главное, что Николай II, не откладывая, начал переговоры с союзниками о том, что он хочет получить в итоге войны. 1 сентября 1914 французский посол Морис Палеолог телеграфировал из Петрограда своему министру иностранных дел Теофилю Делькассе, что «Россия присоединяет нижний бассейн Немана, восточную часть Галиции, Восточную Познань, Южную Силезию и западную часть Галиции».
В телеграмме от 8 ноября 1914 президенту Франции Пуанкаре посол отчитался о своём разговоре с Николаем II о территориях: по Германии – присоединение к Российской империи Восточной Пруссии, Познани и польской Силезии; по Австрии – присоединение к России Галиции и Буковины.
Вскоре Николай II заговорит и о проливах. То есть заступаясь за Сербию, не забывали и о захватах.
Обман народа
Мы с отцом говорили о том, почему публика пылко приветствовала начало войны с Германией, тогда как ничего подобного не было при известии о войне с Японией. Не в том ли дело, что русские ненавидели нас, «внутренних» немцев? По тому, что семья Гергенрёдеров в уездном городе Кузнецке не испытывала неприязни к себе, наверное, нельзя судить о настроении в столицах.
«Ненависть к немцам возбуждалась сверху, – вспоминал мой отец. – Верхи через служившую им печать разожгли военный психоз».
Вот открытка (представил Сева Пежемский) с подписью: День объявления войны государем императором, 20 июля 1914 года, в Зимнем дворце. Репродукция открытки, СПб.,1914 (https://ok-inform.ru/obshchestvo/history/10897-patrioticheskij-pod-em-peterburg-1914-j.html).
Огромная толпа собралась в Санкт-Петербурге перед Зимним дворцом 20 июля (2 августа по новому стилю). Николай II выступил с балкона с речью, толпа пала на колени.
Татьяна Боткина, дочь личного врача царя, записала, что толпы проникали «на дворцовую лестницу. В первых рядах держали огромные портреты царствующих особ». Царь «выходит к собравшимся в зале. Он подхватывает старую формулу, с которой еще в 1812 году Александр I обращался к российскому воинству: «Сражаться с мечом в руке и с крестом в сердце».
Николай II повторяет слова Александра I, которые тот произнёс во время нашествия Наполеона: «Я никогда не подпишу мира, пока хоть один вражеский солдат будет попирать русскую землю!»
При Александре I в 1812 году русскую землю попирало шестьсот тысяч наполеоновских солдат, и можно понять, почему война была названа Отечественной. 2 августа 1914 года на русскую землю не вступил ни один вражеский солдат. Это русские солдаты перешли германскую границу 17 августа.
Царь воспользовался фразой Александра I для утверждения лжи, будто Германия напала на Россию так же, как на неё некогда напал Наполеон. Эту ложь принялись укоренять в сознании народа обозначениями «Великая народная война» и «Вторая Отечественная война». Большинство населения поняло так, что немецкие войска идут по их родной земле.
Бывший председатель Совета министров Витте, по свидетельству французского посла Палеолога, заявил: «Это война – безумие!» Затем предложил, в частности, поговорить «о выгодах и преимуществах, которые нам может принести война. Чего можно от нее ожидать? Расширения территории? Боже милостивый! Разве империя Его Величества недостаточно велика? Разве у нас нет в Сибири, Туркестане, на Кавказе и в самой России огромных пространств, которые еще предстоит открыть?» Заключил Витте словами: «Лучше помолчу о том, что нас ждет в случае нашего поражения… Мой практический вывод таков: нам следует как можно быстрее покончить с этой дурацкой авантюрой».
Когда 28 февраля 1915 Витте умер от менингита, Николай II записал по этому поводу в дневнике: «Смерть графа Витте была для меня глубоким облегчением». Царь назвал «знаком Божьим» смерть того, кто призывал его прекратить войну, предупреждая, к чему она приведёт.
Григорий Распутин, узнав в родном сибирском селе о подготовке к войне, послал царю телеграмму: «С войной придет конец России и тебя самого, и ты потеряешь всех до последнего человека».
У кого слёзы, у кого восторг
В Высочайшем указе о мобилизации сказано: «поставить в войска лошадей, повозки и упряжь от населения в количестве, потребном для укомплектования частей». Об исполнении пишет участник Первой мировой войны Иосиф Ильин в дневнике «Скитания русского офицера»:
«Слезы навертываются на глаза при виде, как крестьяне некоторые отдают последнюю лошадь». Действительно, весёлого мало:
«Выходит баба. Муж мобилизован, теперь отдает лошадь. Неумело нукает, дергает лошаденку и тупо смотрит.
– Взята!
Баба передает лошадь солдату, мнется, смотрит на комиссию и говорит:
– Васькой зовут, Васькой, барин, не забудьте!»
Кто-то расстроен, растроган, а кто-то в подъёме бодрого чувства. Историк российской журналистики Михаил Константинович Лемке, который во время войны будет служить в царской ставке, оставил записи о военном психозе в Петербурге, который вскоре будет переименован в Петроград. Нимало не смущённый своим немецким происхождением, своей немецкой фамилией, Лемке пишет, что народ «рад свести счеты с немцем, которого давно ненавидит; именно народ знал его всегда с самой неприглядной стороны как управляющих имениями или помещичьих приказчиков, мастеров и администраторов на фабриках и т.п. Еще со времен крепостного права, когда немцы-управляющие угнетали крестьян, ненависть эта таится, а временами и обстоятельствами то росла, то проявлялась».
Обратим внимание: крестьян, оказывается, угнетали управляющие, а не господа владельцы. Но это частность. Главное – сказано о давней ненависти к «внутренним» немцам.
Немцы в Российской империи
О месте немцев в Российской империи я пишу в моём романе «Донесённое от обиженных» (http://www.belousenko.com/books/Hergenroether/hergenroether_donesennoje.htm) и в статье «Антинормандская Великорось» (http://samlib.ru/editors/g/gergenreder_igorx_alekseewich/antinorm.shtml).
Привожу высказанное А. И. Герценом в статье «Русские немцы и немецкие русские»:
«Не знаю, каковы были шведские немцы, приходившие за тысячу лет тому назад в Новгород. Но новые немцы, особенно идущие царить и владеть нами из остзейских провинций, после того как Шереметев «изрядно повоевал Лифлянды», похожи друг на друга, как родные братья».
Раздражение Герцена, чья мать, между прочим, была немкой из Германии, усиливается, по мере того как он углубляется в задевающую русское самолюбие тему:
«Собственно немецкая часть правительствующей у нас Германии имеет чрезвычайное единство во всех семнадцати или восьмнадцати степенях немецкой табели о рангах. Скромно начинаясь подмастерьями, мастерами, гезелями, аптекарями, немцами при детях, она быстро всползает по отлогой для ней лестнице – до немцев при России, до ручных Нессельродов, цепных Клейнмихелей, до одноипостасных Бенкендорфов и двуипостасных Адлербергов (filiusque – и сына – лат.). Выше этих гор и орлов ничего нет, то есть ничего земного... над ними олимпийский венок немецких великих княжон с их братцами, дядюшками, дедушками».
Это высказывание дополняет представитель другого идеологического направления Ф. М. Достоевский. В романе «Бесы» он говорит:
«Андрей Антонович фон Лембке принадлежал к тому фаворизированному (природой) племени, которого в России числится по календарю несколько сот тысяч и которое, может, и само не знает, что составляет в ней всею своею массой один строго организованный союз. И, уж разумеется, союз не предумышленный и не выдуманный, а существующий в целом племени сам по себе, без слов и без договору, как нечто нравственно обязательное, и состоящий во взаимной поддержке всех членов этого племени одного другим всегда, везде и при каких бы то ни было обстоятельствах».
Обратимся к фактам более позднего времени. В канун войны с Японией русским посланником в Токио был барон фон Розен. В ближайшем к Порт-Артуру китайском городе Чифу находилось консульство России. Кто консул здесь? Тидеман. Во главе министерства иностранных дел стоял граф Ламздорф, морским министерством управлял Авелан (этот швед). Должность начальника Морского походного штаба Наместника Алексеева занимал Эбергард. Комендантом Порт-Артура был генерал-лейтенант барон Стессель, командиром порта крепости Порт-Артур – контр-адмирал Греве. На самой важной позиции под названием Высокая Гора обороной руководил генерал Ирман. Когда гарнизон был всё-таки вынужден капитулировать, хлопоты по сдаче возложили на генерала Фока. Через несколько лет отношения с Японией потеплели, японцы воздвигли памятник защитникам Порт-Артура – на открытие прибыл русский генерал Гернгрос.
Тихоокеанской эскадрой в начале войны командовал адмирал Старк (этот из шведов). Сменивший его русский Макаров пробыл в должности пять недель, погиб, и всё вернулось на круги своя. Во главе эскадры встал адмирал Витгефт. Когда Витгефта убил японский снаряд, командование кораблями в Порт-Артуре перешло к Вирену. Тралением, очисткой от мин рейдов Порт-Артура руководил Рейценштейн, в начале войны командовавший отрядом крейсеров во Владивостоке. После того как японцы сокрушили флот, в его восстановлении отличился адмирал фон Эссен.
Обращаюсь опять к книге «Цусима». Новиков-Прибой пишет в ней: «Остзейский край насыщал царский флот немалым количеством разных баронов. Были среди них хорошие и плохие, умные и глупые. Но все они, как правило, зарекомендовали себя во флоте большими формалистами. Когда-то их предки участвовали в крестовых походах. Они гордились этим и ко всем русским офицерам, а тем более к матросам относились с нескрываемым презрением. Царское правительство, однако, дорожило ими. Ведь никто так не подавлял всякое стремление к свободе, к критике морских порядков, как эти буквоеды законов и циркуляров».
Последним фразам противоречит описание Новиковым-Прибоем одной фигуры, на которую мой отец любил ссылаться. Это командир контрминоносца «Быстрый» лейтенант Отто Оттович Рихтер. Он ходил по кораблю босиком, хромая на правую ногу: ступня была беспалой. Рихтер носил матросскую фланелевую рубаху, на груди болталась боцманская дудка, при этом он был в золотом пенсне. Общался с командой запанибрата, вместе с матросами стирал своё бельё. Бывая на берегу в матросской форме, отдавал честь офицерам. Такое поведение вряд ли оказалось бы допустимо, но отец Отто Рихтера, генерал-адъютант, принадлежал к свите Николая II, и когда тот был наследником, Отто воспитывался с ним и играл.
Броненосцем «Орёл», где служил Новиков-Прибой, командовал капитан 1-го ранга Николай Викторович Юнг. Старшим офицером был капитан 2-го ранга Константин Леопольдович Шведе, выведенный под фамилией Сидоров, о чём сообщается в сноске. И Юнг, и Шведе признаны героями Цусимского сражения, Новиков-Прибой рассказывает о них, особенно о Юнге, не без симпатии.
Восхищение автора вызывает командовавший броненосцем «Ослябя» капитан 1-го ранга Владимир Иосифович Бэр: «Командир Бэр, несмотря на разгорающийся вокруг него пожар, не покидал своего мостика. Для всех стало ясно, что он решил погибнуть вместе с кораблем. Казалось, все его заботы теперь были направлены только к тому, чтобы правильно спасались его подчиненные. Держась руками за тентовую стойку, почти повиснув на ней, он командовал, стараясь перекричать вопли других:
– Дальше от бортов! Черт возьми, вас затянет водоворотом! Дальше отплывайте!
В этот момент, перед лицом смерти, он был великолепен».
У Новикова-Прибоя показаны подлинными героями погибшие в бою командир миноносца «Громкий» Георгий Керн и командир броненосца «Наварин» Бруно Фитингоф.
Крейсером «Изумруд» командовал капитан 2-го ранга барон Ферзен. Когда контр-адмирал Небогатов отдал приказ о сдаче японцам, Ферзен не подчинился, повёл крейсер вперёд, прорвался сквозь строй японских кораблей и оторвался от них, направляясь к Владивостоку. Однако затем впал в панику: боясь встречи с японскими судами, миновал порт Владивосток, вошёл в залив Святой Ольги, где крейсер сел на камни. Ожидая нападения японских кораблей, которые так и не появились, Ферзен приказал команде высадиться на берег, а крейсер взорвать. Николай II наградил Ферзена золотым оружием за храбрость.
В армии
Насыщены немцами и войска на суше. Например, 2-й Маньчжурской армией сначала командовал Гриппенберг, которого заменили бароном Каульбарсом. Отход армии после Мукденского сражения в феврале 1905 прикрывала дивизия под началом генерал-лейтенанта Гершельмана. Каульбарса на посту командующего армией сменил барон Бильдерлинг. Восточным отрядом командовал генерал-лейтенант граф Келлер. Военным министерством в то время руководил Редигер.
В 1914, перед началом Первой мировой войны, из шестнадцати командующих русскими армиями семеро имели немецкие фамилии и один – голландскую. Четверть русского офицерства составляли одни только остзейские (прибалтийские) немцы.
Известный генерал Брусилов в своих воспоминаниях написал, что в канун войны «немец, внешний и внутренний, был у нас всесилен, он занимал самые высшие государственные посты, был persona gratissima при дворе». Насчёт «немца внешнего» генерал явно загнул, другое дело – немец внутренний.
Таким образом, многие русские, в особенности, генералы и честолюбивые сановники, радовались войне с Германией как возможности избавиться от конкурентов немецкого происхождения.
Фон Гольштейн-Готторпы
Вышеупомянутый М. К. Лемке добавляет несколько фраз к описанию торжества, которым народ встретил объявление государем войны: «Как легко править таким народом! Каким надо быть тупым и глупым, чтобы не понять народной души, и каким черствым, чтобы ограничиться поклонами с балкона… Да, Романовы-Гольштейн-Готторпы не одарены умом и сердцем».
Однажды я услышал от отца, когда учился в пятом классе, что с 1762 года Российской империей правили не Романовы – правила германская династия фон Гольштейн-Готторпов. Отец раскрыл книгу историка Евгения Тарле «Наполеон» и дал мне прочесть о том, что требовались преобразования, «для того, чтобы обратить рыхлую полувосточную деспотию, вотчину семьи Гольштейн-Готторпов, присвоивших себе боярскую фамилию вымерших Романовых, в европейское государство с правильно действующей бюрократией, с системой формальной законности».
В этом высказывании для нас сейчас важно то, что Российская империя названа вотчиной семьи Гольштейн-Готторпов, присвоивших себе фамилию вымерших Романовых.
Евгений Тарле подтвердил данность, которая должна быть известна знающим историю России XVIII-XIX веков. У Петра I Романова был сын Алексей, которого отец приказал убить. Оставшийся внук Петра I, названный Петром II, умер пятнадцати лет от оспы. С ним мужская линия Романовых оборвалась. Остались две дочери Петра I – Анна и Елизавета. Анну выдали замуж за немецкого герцога Карла Фридриха фон Гольштейн-Готторпа, и она в городе Киле родила Карла Петера Ульриха фон Гольштейн-Готторпа, спустя три месяца умерев от родильной горячки. Карлу Петеру Ульриху было одиннадцать, когда умер его отец. Карл Петер унаследовал трон, стал государем герцогства Гольштейн.
Российской империей правила Елизавета, вторая дочь Петра I. У неё не было детей, и она пригласила в Россию юного Карла Петера Ульриха, которому, при его фамилии фон Гольштейн-Готторп, дала вдобавок фамилию Романов. Оставаясь герцогом Гольштейн-Готторпом, государем герцогства Гольштейн, он стал российским императором Петром III. Вышедшая за него замуж Софи́я Авгу́ста Фредери́ка, дочь князя А́нгальт-Це́рбстского, была объявлена императрицей Екатериной II Романовой.
С этой парой в России воцарилась новая династия – германская династия Гольштейн-Готторпов под фамилией Романовы. Министр иностранных дел Германии фон Ягов в меморандуме на имя кайзера от 2 сентября 1915 писал, что русская раса является враждебной по отношению к германо-латинским народам Запада – «несмотря на влияние западной цивилизации, открытое для нее Петром Великим и германской династией, которая последовала за ним». Хочу выделить – «германской династией, которая последовала за ним».
Фон Ягов пишет о германской династии в России как об известном факте.
Чем ознаменовалось самое начало правления этой династии? Издавна русские дворяне владели крестьянами потому, что служили государям: будь служба военная или гражданская. Дворянин служил – крестьяне его «кормили».
18 февраля (1 марта) 1762 года Петр III объявил манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», по которому впервые в истории России дворяне освобождались от обязательной гражданской и военной службы, могли по своему желанию выходить в отставку, ехать в свои имения или в какой-либо город, так же и за границу, получая доходы от труда крепостных. Эту меру наверняка подсказали Петру III умные советники: он купил превеликую симпатию русских дворян, дав им право жить праздной ничем не стесняемой частной жизнью за счёт крестьян.
То есть дворянам была дана жирная взятка за воцарение в Российской империи германской династии. Екатерина II подтвердила манифест в 1785 году Жалованной грамотой дворянству. Таким образом, Гольштейн-Готторпы в своих интересах превратили «крепостных ради державы» в рабов частных лиц.
Мы с отцом задавались вопросом: кто-нибудь рассматривал Евгения Онегина, «наследника всех своих родных», «лишнего человека», как порождение законодательной деятельности фон Гольштейн-Готторпов? Точно так же можно взглянуть и на Чацкого, о чьих крепостных спорят, триста их у него или четыреста. Вернувшись в Москву после трёх лет жизни за границей, он произносит высокоморальный тезис: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». У него есть прекрасная возможность с комфортом идти «искать по свету, где оскорблённому есть чувству уголок». Нигде не служит «положительный герой» Толстого, владеющий доставшимися ему тысячами крестьян, Пьер Безухов.
Освобождённые русскими дворянами места стали занимать остзейские (прибалтийские) немцы и немцы из германских государств, другие иностранцы. Они становились опорой Гольштейн-Готторпов, которые давали им чины, продвигали по службе. Немцы преуспевали на глазах у всех. Цари из казённых и монастырских земель выделяли им владения, превращая, таким образом, в помещиков российских губерний, но немцы в свои деревни не уезжали. У Пушкина в «Капитанской дочке» помещик Гринёв праздно живёт в своём имении, в то время как его друг-немец, дослужившись до генеральского чина, не покидает армию, несмотря на старость.
Немудрено, что немцы зарабатывали ордена. Знаменит ответ отличившегося генерала Ермолова императору Александру I на вопрос, какой он хотел бы награды: «Произведите меня в немцы!»
Здесь стоит взглянуть на карьеру Беннигсена. В 1773 году он перешёл из подполковников ганноверской армии на службу в Россию, которая в то время вела войну с Турцией. Отличился при штурме Очакова и при взятии Бендер. В 1792 году, во время действий против польских конфедератов, командовал особым летучим отрядом, участвовал в битве под Миром, а затем вместе с генералом Ферзеном взял замок Несвиж. По окончании войны получил крупные имения, 1080 душ, в Слуцком уезде Минской губернии. В 1796 году участвовал в войне с Персией и отличился при взятии Дербента. 14 февраля 1798 года произведён в генерал-лейтенанты.
После поражения от войск Наполеона под Фридландом 26 июня 1807 года был заменён на посту главнокомандующего армией графом Буксгевденом.
Беннигсен имел награды: Орден Святого апостола Андрея Первозванного — за сражение при Прейсиш-Эйлау (1807). Алмазные знаки к Ордену Святого апостола Андрея Первозванного — за бой под Тарутино (1812). Ордена Святого Георгия 1-го, 2-го и 3-го класса. Ордена Святого Владимира 1-й, 2-й и 3-й ст. Орден Святого Александра Невского. Орден Святой Анны. Золотую шпагу «За храбрость» с алмазами. Беннигсен не говорил по-русски.
40 лет министром иностранных дел Российской империи и 16 лет также и канцлером был Карл Нессельроде. Он имел 5373 крепостных, удостоился всех высших российских орденов. При этом, как и Беннигсен, не владел русским языком.
Для сравнения: адмирал Фёдор Ушаков, добывший мировую славу русскому флоту, скончался в родной деревеньке Алексеевке Тамбовской губернии, имея 19 крепостных.
С ответом Ермолова государю-императору трудно не согласиться.
Первую основательную работу о «России, захваченной немцами», увидевшую свет в 1844 году, написал Филипп Вигель, друживший с Пушкиным известный в своё время русский путешественник и литератор. Но до сего дня ни один критик, ни один историк не сказал правды о сути романа Тургенева «Накануне». Тургенев в романе, иронизируя над русскими, приводя в пример борьбу болгар за освобождение от турок, показывает, как хозяйничают в России немцы (см. анализ романа «Накануне» в моём упомянутом романе «Донесённое от обиженных»).
Екатерина II начала приглашать и немецких крестьян в Российскую империю: в ней стали создаваться островки жизни, не похожей на жизнь русской деревни: «Господи боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода». (И. А. Бунин. Деревня).
Заселяя землю, где были часты засухи, колонисты устраивали пруды, изготовляли из глины трубы, которые обжигали в открытых очагах во дворе. Сети этих труб, отводимых от прудов, пронизывали поля и поили растения, когда наступала засуха. Голода немецкие колонии не знали.
Пётр Столыпин, принявшись за аграрную реформу, по сути, приближал русских крестьян к тому образу хозяйственной жизни, который давно вели немцы-поселяне в России. Если они, переселяясь в Поволжье, получали по тридцать десятин на семью, то русские крестьяне при Столыпине, переселяясь в Сибирь, получали по сорок пять десятин. Жаль, что до сих пор не сравниваются те условия, которые создавались для русских крестьян-переселенцев, с теми, какие предоставлялись немецким колонистам. Полезно было бы так же сравнить успехи тех и других.
Известны достижения в животноводстве переселившихся в Сибирь крестьян, их сливочное масло, и не только оно, шло на экспорт.
Если бы Столыпин совместил наделение крестьян землёй в Сибири с передачей им части помещичьих земель в Центральной России, русские крестьяне, ставшие фермерами, и немецкие поселяне сблизились бы по уровню жизни, и началась бы ассимиляция немцев.
Расхожее непонимание
Мой отец посмеивался над утверждением, которое приходилось слышать: Ренненкампф, дескать, намеренно не пришёл на выручку армии Самсонова, чтобы, будучи немцем, обеспечить победу Германии. То же самое нередко заявляли и о других немцах на службе России. Мой отец любил поговорить на этот счёт, я слышал его объяснения ещё в пятом классе.
Какой смысл был бы российскому генералу-немцу подыгрывать немецкому генералу? Во-первых, тот и другие германцы ни за что не признали бы, что победа одержана ими не благодаря их талантам, их умению воевать, а потому, что помог русский немецкого происхождения. И чем они могли бы его вознаградить? На что он мог рассчитывать? В Германии все должности распределены меж своими, там своим тесно.
А в России генерал-немец принадлежал к привилегированному слою, он обладал поместьем, а, может, и не одним, российская власть – это его власть. Россия – его страна в буквальном значении слова. Его сделал тем, кто он есть, монарх-самодержец. Лев Толстой написал в «Божеском и человеческом» о генерал-губернаторе Южного края: «здоровый немец с опущенными книзу усами, холодным взглядом и безвыразительным лицом». Его прототип Тотлебен в 1879 отправил на виселицу троих народовольцев, обвинявшихся в подготовке покушения на Александра II. Толстой говорит, что немец вспомнил «чувство подобострастного умиления, которое он испытал перед сознанием своей самоотверженной преданности своему государю». Своему государю!
Немцы фигурируют в произведениях всех без исключения русских писателей: Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Данилевского, Толстого, Лескова, Мамина-Сибиряка, Гаршина, Григоровича, Гончарова, Чехова, Куприна… Фигурируют потому, что германская династия Гольштейн-Готторпов отпустила русских дворян со службы и пригласила служить иностранцев: главным образом, немцев, превратив Россию в поднемецкую страну. Любопытно, как у Толстого в «Войне и мире» немец-полковник русской службы держит себя с русским генералом:
«– Я не кавалерист, полковник, но я русский генерал, и ежели вам это неизвестно…
– Очень известно, ваше превосходительство, – вдруг вскрикнул, трогая лошадь, полковник и, делаясь краснобагровым. – Не угодно ли пожаловать в цепи, и мы будете посмотрейть, что этот позиция никуда не годный. Я не хочу истребляйть своя полка для ваше удовольствий».
У Куприна в рассказе «Конокрады» немец-колонист отрубил у попавшегося незадачливого вора пальцы на обеих руках, приговаривая: «Не воруй, коли не умеешь». Это – в конце девятнадцатого века! Учинить подобный самосуд в Германии немцу не пришло бы в голову, за него пришлось бы отвечать по закону. В Российской же империи немец являлся «белым» человеком. (А как поступили бы с конокрадом «небелые» мужики? Они забивали конокрадов кольями, затаптывали насмерть. Был и особенный вид расправы. Раздетого донага крепко связанного конокрада, загнав ему кляп в рот, отволакивали в лес и клали на муравьиную кучу).
Немец-колонист предстаёт не столь уж и жестоким. Во всяком случае, ему делать что-либо для Германии, где «белым» человеком он бы не был, делать в ущерб его (именно в прямом смысле его) России, никак не годилось. Жизнь большинства людей определяют материальные интересы.
Вот когда немцы в СССР стали народом ущемлённым и оказалось, что Германия готова их принять и что-то дать, тогда они почти все уехали в ФРГ. Материальные интересы!
Чего ещё не понимает обыденное сознание. Нападение гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941 года накладывается на 1914 год, и представляется, что «и тогда немцы напали на Россию». Немцы-де, известное дело, агрессоры, насильники и т.п. Не учитывается различие между гитлеровской Германией и Германией кайзеровской. При кайзере в Германии евреи являлись депутатами рейхстага, занимали государственные должности. В Первую мировую войну в немецкой армии насчитывалось две тысячи офицеров-евреев, наряду с капелланами в воинских подразделениях были раввины. А в русской армии раввин вообразим?
В местностях Польши и Литвы, куда вошли немцы, разрешалась политическая, профсоюзная, культурная и иная деятельность евреев. В Польше при немецкой оккупации свободно действовали отделения Бунда и еврейских профсоюзов. В занятом немцами Каунасе немецкие евреи были введены в руководство еврейских организаций. Около девяти тысяч евреев, укрывшихся от русской депортации, при немцах вернулись в Каунас. В синагогах Львова, Тернополя, Черновиц молились за успех Австро-Венгрии и Германии.
А страны Сердечного Согласия отметились до войны: Франция – делом Дрейфуса, Россия – делом Бейлиса. В войну Россия продолжала отмечаться. Арон Симанович, автор книги «Распутин и евреи», пишет о юдофобии Верховного Главнокомандующего сухопутными и морскими силами великого князя Николая Николаевича в Первую мировую войну: «за сотни тысяч казненных и убитых евреев он один перед Богом несет полную ответственность». Арон Симанович сообщает и о генерале Рузском: «При отступлении с Карпат Рузским были учинены преследования евреев, по своей жестокости не имевшие примера в прошлом. Действия солдат и казаков не поддаются описанию. Еврейское население там просто истреблялось. Знакомый полковой командир рассказывал мне следующий показательный случай.
Несколько казаков под начальством урядника были посланы на разведку. Маленький отряд вернулся лишь через три дня. Все уже думали, что они попали в плен или перебиты. Урядник доложил, что они все это время были заняты избиением евреев».
Из книги Сергея Ольденбурга «Царствование императора Николая II»:
«Было предпринято массовое выселение евреев из Галиции и из прилегающих к фронту русских областей /.../ Десятки тысяч, а затем и сотни тысяч евреев из Галиции и Западного края получили предписание в 24 часа выселиться, под угрозой смертной казни, в местности, удаленные от театра военных действий».
В книге Дмитрия Леховича «Белые против красных» сказано: «патриотическое рвение с примесью юдофобства дошло до абсурда: началось выселение в глубь России не только своих, но также австрийских евреев из Галиции. Тысячи этих несчастных, попав в чужую страну, двигались на восток с толпой беженцев, встречая на своем пути недоброжелательство и злобу местного населения».
Очень многие сегодня не знают об обращении царской армии с евреями, а надо бы это помнить, чтобы полно представлять, что такое была Великая народная война.
Средство решения немецкого вопроса
Войны с Германией желали царские генералы русского происхождения, ненавидевшие немцев за их особое положение. Безграничной ненавистью к немцам прославился генерал Скобелев. Высказывание генерала Брусилова я уже приводил. В романе «Донесённое от обиженных» я говорю о вполне понятном желании русских генералов как о национально-освободительном устремлении.
Когда проигрыш войны с Японией остановил продвижение на восток, военачальники побуждали царя в 1912 году начать войну с Турцией. Тевтоны могли бы позавидовать их страсти к битвам. Прозорливому Распутину в этот раз удалось отговорить Николая II.
Давление на него продолжалось, дабы втравить страну в войну с Австро-Венгрией за интересы «братской» славянской Сербии и, главное, – в войну с союзником австрийцев Германией. Николай II должен был доказывать, что он «русский царь – брат славян». О захвате новых территорий, где только можно, о том, что хорошо бы «сесть» на проливах Босфор и Дарданеллы, он помнил и сам.
Итак, главным было стремление верхушки русского происхождения, начав войну с Германией, устранить в России немецкое присутствие, и потому представители этой верхушки являлись славянофилами, галломанами и англоманами. К ним присоединились и «перерусившиеся» немцы.
Умело организованный «всенародный» восторг по поводу провозглашения войны с Германией был результатом того, что военные овладевали долгожданным средством решения немецкого вопроса. Науськанная толпа ворвалась в покинутое германское посольство, подожгла его, убила оставленного здесь привратника. Начался разгром принадлежавших немцам магазинов. Тост: «Упьюся я кровью мадьяров и немцев» материализовался.
Стали приниматься государственные меры. Немцев принялись выселять из Прибалтики, из Сувалкской губернии. В мае 1915 разгорелись немецкие погромы в Москве, в Нижнем Новгороде, в Одессе, в Екатеринославе, а 1 июня 1916 председатель Совета министров немец Борис Штюрмер подписал, а царь утвердил положение «Об Особом комитете по борьбе с немецким засильем».
Вот оно – доказательство основополагающей цели войны России с Германией. Борьба с немецким засильем! Намечалось проведение в жизнь мер «по освобождению страны от немецкого влияния во всех сферах народной жизни». Готовилось выселение немцев-поселян из Поволжья и других местностей. Отлично обустроенные немецкие хозяйства намеревались передавать русским крестьянам; в частности, собирались обещать землю немцев воюющим солдатам по возвращении с войны.
Немцев-промышленников также хотели лишать собственности, тем самым устраняя их как конкурентов.
Всё это должно было изменить отношение к войне народа, который был раздражён поражениями, не видел в ней смысла. Она велась ради Франции, Англии, Сербии, и при этом французский посол Морис Палеолог писал о России: «Россия – одна из самых отсталых стран на свете. Сравните с этой невежественной бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные; это сливки человечества».
Росли долги России союзникам, те требовали в залог золото, и его отправляли во Францию и Англию десятками тонн. Когда захватившие власть большевики откажутся возвращать долги, это золото с лихвой окупит их.
Так вот, земли, имущество сотен тысяч российских немцев – это тот кусок, который собирались бросить населению страны, дабы она продолжала войну. Но военным русского происхождения нужно было устранение немцев с командных постов в армии и флоте и с государственных должностей, а уверенности, что Николай II это осуществит, не было. Правда, командование прислушалось к предложению депутата Государственной Думы Яниса Голдманиса, латыша, создать национальные части из латышей, которые будут храбро сражаться с Германией, чтобы после победы избавиться от немцев-баронов на своей земле. Царь летом 1915 дал согласие на формирование латышских стрелковых батальонов. Но осуществил ли бы он их чаяния?
Генералы рассчитывали избавиться от царя без латышей, и те в своё время найдут себе хозяев – большевиков.
В романе «Донесённое от обиженных» (сноска 25) я подробно пишу, как генералы воспользовались выступлениями масс в Петрограде и принуждали Николая II к отречению от престола. За отречение высказались начальник штаба Верховного Главнокомандующего Михаил Алексеев и все Главнокомандующие фронтами, а также командующий Балтийским флотом адмирал Непенин. Царь, который совершенно себя дискредитировал, оказался перед угрозой – в разгар антинемецкой истерии всенародно объявят, что он не Романов, а самозванец Гольштейн-Готторп. Что тогда станется с ним и его семьёй? И он «прозаично» отрёкся.
8 марта 1917 в ставке в Могилёве его арестовали, в тот же день командующий Петроградским военным округом генерал Лавр Корнилов арестовал в Царском Селе семью Николая II. 9 марта его привезли сюда. От него отказалась его многочисленная родня. Уже через неделю после его отречения епископы заменили поминовение монархии поминовением народовластия. 10 апреля 1917 правительство английского короля Георга V, кузена Николая, внешне разительно на него похожего, отказалось принять его и семью. Спросить бы царя, чуть перефразируя Гоголя: «Помогли тебе твои союзники?»
Николай II не мог пожаловаться на нежданные удары судьбы. Ему было дано предупреждение – проигранная война с Японией и революция. Но он из этого не извлёк необходимого урока, который извлёк бы мало-мальски мыслящий человек, и втравил страну в новую войну с более сильным, чем прежний, противником. И всё повторилось с возросшим по силе результатом.
Германия не хотела войны на два фронта, она нуждалась в мире с Россией. План Шлиффена был разработан по жестокой необходимости – из-за военного союза России и Франции, направленного против Германии.
У Николая II была не одна возможность сохранить мир для России. Прежде всего, он мог не подписывать указ о всеобщей мобилизации, ибо именно это послужило причиной войны. Но и после объявления мобилизации он мог её отменить. После того, как Пурталес вручил Сазонову требование отменить мобилизацию или страны будут в состоянии войны с 6 часов вечера 1 августа, Вильгельм II послал Николаю II, как уже было сказано, ещё одну телеграмму с просьбой отдать своим войскам приказ не переходить германскую границу. Царь остался глух. На него оказывали давление военные, но в его воле было воспротивиться, удержать страну от войны, и Россия двигалась бы по пути мирного созидания и экономического роста. Напасть на неё не мог никто. Лишь малоразвитые люди могут верить, что Германия, изготовившись к удару по Франции, напала бы ещё и на огромную Россию – одного фронта мало?
Скорее всего, Германия разбила бы Францию, отобрала бы у неё заморские колонии. Англия вряд ли стала бы воевать. В любом случае, Россия выигрывала бы за счёт поставок многого необходимого воюющим сторонам. Германия не понесла бы поражения и последующего унижения, и о Гитлере никто бы не узнал, не было бы никакого холокоста. История обошлась бы без имён Ленина, Сталина. Всё это совершенно понятно, и об этом уже не раз писали.
Остаётся вопрос: а что сталось бы с Сербией? Тут уместен другой вопрос: не слишком ли дорого стоило её спасение? То же можно сказать и об избавлении от немецкого засилья. Не дороговато ли стоило средство – война с Германией и Австро-Венгрией?
Засилье и маленькое «но»
Манифест Петра III и Жалованная грамота Екатерины II позволили русским дворянам бросать службу и жить праздной жизнью за счёт крестьян-рабов. Были дворяне, которые от такого отказались и продолжали служить. Но почему многие другие этого не сделали и предпочли уступать места службы немцам?
Русский писатель Иван Александрович Гончаров исследовал и превосходно запечатлел характеры Ильи Ильича Обломова, русского человека, и Андрея Ивановича Штольца, русского наполовину (по отцу – немца). В романе «Обломов» показаны и отцы главных героев. Отец одного, не случайно тоже Илья, – продукт всепоглощающей лени. Отец другого, немец Иван Штольц, – практик, неустанным трудом созидающий свою судьбу.
Илья Ильич Обломов – самый красноречивый пример дарованной дворянам вольности и свободы, он лежит на кровати, меж тем как Штольц деятелен, идёт в гору. Обломова обжуливает его русский приятель Тарантьев с дружками, но Штольц спасает Илью Ильича от разорения. Роман Ивана Гончарова – модель полезного вживания в русскую жизнь немецкого элемента. Штольц – немец наполовину, его и Ольги дети – немцы уже только на четверть. С ними вырастет и сын Обломова, вырастет не Обломовым, а человеком деловым. Тут уже не кровь, а воспитание.
Таким образом, немецкое засилье предстаёт явлением положительным. Или лучше засилье Тарантьевых?
Об огромном вкладе немцев в науку, в культуру России написано достаточно, ещё что-либо говорить излишне. Разве что добавлю об изделии, вошедшем в историю. Исаак Бабель в рассказе «Учение о тачанке» написал: «колонистские тачанки пришли к нам из самарских и уральских приволжских урочищ, из тучных немецких колоний. На дубовых просторных спинках колонистской тачанки рассыпана домовитая живопись – пухлые гирлянды розовых немецких цветов. Крепкие днища окованы железом. Ход поставлен на незабываемые рессоры. Жар многих поколений чувствую я в этих рессорах, бьющихся теперь по развороченному волынскому шляху».
Хозяйства немцев звали к подражанию. Уже и при колхозном строе АССР Немцев Поволжья была первой в СССР по поставкам зерна государству, производимые в республике горчичное и подсолнечное масло шло на экспорт. После её ликвидации 28 августа 1941 Саратовская область в передовых не ходила.
Но вернёмся к засилью в военной среде. Для военных русского происхождения было несомненно, что русские на местах, занимаемых немцами, само собою разумеющееся благо. Но для кого? Для государства ли? Командовавший 1-й армией немец Ренненкампф 21 августа 1914 выиграл у германцев Гумбиннен-Гольдапское сражение, затем под их натиском вывел армию из Восточной Пруссии. А командовавший 2-й армией русский Самсонов свою армию не спас от окружения и застрелился.
Обратимся вновь к русско-японской войне. Мы видели, как много немцев было в русских войсках, но командовал Маньчжурской армией, а затем стал главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, задействованными против Японии, русский – генерал-адъютант Куропаткин. Сражения при Ляояне, на реке Шахэ и при Мукдене проиграны по его вине.
Во 2-й Тихоокеанской эскадре было немало немцев-офицеров, но погубил эскадру русский вице-адмирал Рожественский и позорно сдался в плен. Принявший командование русский контр-адмирал Небогатов приказал кораблям сдаться. Не подчинился приказу и прорвался сквозь строй японских кораблей на крейсере «Изумруд» немец Ферзен.
Контр-адмирал Энквист, немец, оказался нерешительным и, будучи на крейсере «Олег», послушался его командира капитана 1-го ранга Добротворского, согласился не продолжать бой с японцами, а увести три оставшихся у него крейсера в нейтральный порт. После этого по возвращении домой он до самой смерти не показывался на людях.
Новиков-Прибой в «Цусиме» пишет о двух офицерах, нечистых на руку. Оба русские: старший ревизор броненосца «Орёл» Бурнашев и командир миноносца «Бедовый» Баранов, который к тому же и трус.
Кое о чём говорит сравнение войны России с Германией в 1914-1917 и в 1941-1945 годах. В Первую мировую войну, при насыщенности русской армии немцами-офицерами, немцами-генералами, Германия смогла взять Ригу лишь через три года боевых действий. Минск, Псков взять не сумела, они были переданы ей по Брестскому миру. В 1941 году Красная Армия отдала Минск на шестой день войны, Ригу – на восьмой день, Псков – на семнадцатый день.
9 мая 1942 Сталин телеграфировал представителю Ставки на Крымском фронте Л. З. Мехлису: «Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова кем-либо вроде Гинденбурга. Но Вы не можете не знать, что у нас нет в резерве Гинденбургов».
Отметим – Сталин не возражает против того, что Козлова надо заменить кем-либо вроде Гинденбурга. Просто нет Гинденбургов.
Красные русские генералы, пусть побиваемые германцами, пусть расстреливаемые Сталиным, избавлены от зависти коллегам-немцам. Нету их! Путь без немцев поистине славен.
А был ли путь иной? Надо было избавляться от засилья немцев или не надо?
Избавляться надо было и вовремя от самодержавия – тогда, по крайней мере, отпал бы вопрос о том, что немецкая династия покровительствует немцам. На должности назначала бы людей всенародно избранная власть, и не имелось бы почвы для подозрений, что немцы преуспевают из-за протекции.
Александр II собирался ввести Конституцию, но его убили. Ввести конституционное правление мог и должен был Александр III, но великая историческая задача оказалась не по нему. Он заботился лишь об укреплении своей власти самодержца, в чём, по его мнению, ему поможет русский шовинизм. Ум Александра III был неспособен вместить, что Россия в конце XIX века не может быть его вотчиной. Он, воспитывая подраставшего сына Николая, бил его по физиономии, и тот в точности усвоил отношение к стране как к вотчине и, уже будучи царём, написал о себе: «Хозяин земли русской».
Страна удачливая
Известен связанный с немецкими «псами-рыцарями» лозунг Drang nach Osten (натиск на Восток). Окончился натиск завоеванием Прибалтики в XIII веке. Но Drang nach Osten был и у Московской Руси. Все знают, что Иван Грозный в 1552 году взял Казань, но остаётся в тени, что ещё до этого началось покорение марийцев.
Привожу почерпнутое в источниках. После падения Казани марийцы продолжали войну. Зимою 1553-54 гг. воеводы Микулинский, Шереметев и Курбский истребили, по свидетельству летописца, 10 тысяч неприятелей и более 20 тысяч, в том числе 15 тысяч женщин и детей, захватили в рабство. Мстиславский и Глинский захватили 1600 знатных марийцев и всех умертвили.
Жестокость завоевателей, облагавших население грабительским ясаком (данью), оказалась невыносимой, и летом 1552 вспыхнуло восстание татар, поднялись и чуваши. В конце 1552 было повешено 74 предводителя чуваш (См., в частности: М. Фехнер. Великие Булгары, Казань, Свияжск. М., 1978).
Летом 1554 снова восстали марийцы во главе со своим героем Мамич-Бердеем. Война шла два года. Только предательски захватив Мамич-Бердея и убив, московские воеводы в 1556 году сумели переломить ход войны в свою пользу. Тогда же было покорено Астраханское ханство.
В 1571 году Качак, сын Мамич-Бердея, возглавил восстание, когда вместе с марийцами поднялись татары, чуваши, удмурты, мордва. Подавлено оно было лишь через три года.
Зимой 1581-82 гг. началась третья война с марийцами, восставшие нанесли несколько поражений московской рати. До конца своих дней в марте 1584 года Иван Грозный так и не успел увидеть смирение непокорных марийцев. Их восстание было окончательно подавлено только в первые годы царствования его сына Фёдора, при фактическом правителе Борисе Годунове.
«Сии дикари свирепые, — писал Карамзин о марийцах, воевавших за свою независимость, — озлобленные, вероятно, жестокостию царских чиновников, резались с московскими воинами на пепле жилищ своих, в лесах и вертепах, летом и зимою; хотели независимости или смерти».
У марийцев отобрали их лучшие пахотные земли вдоль Волги и Вятки, что объясняет ожесточённость сопротивления марийцев. Им было запрещено оставаться в городах в тёмное время суток.
Вновь и вновь поволжские народы восстают против московского владычества в начале XVII века. Не успели воеводы разбить их под Свияжском и Чебоксарами, как через год, в 1609-м, началась освободительная война татар под предводительством Еналея (Джан-Али). Борьба длилась десять лет на землях от Казани до Нижнего Новгорода и Вятки, а также – распространившись в Поволжье на юг.
Чтобы помешать угнетённым вооружаться, Москва запретила поволжским народам заниматься кузнечным делом (и запрет оставался в силе до XIX века).
Волга, на которой жили татары, чуваши, марийцы, удмурты, стала зваться великой русской рекой. Меж тем как по-татарски, например, Волга зовётся Идель.
В 1581 началось покорение Сибири Ермаком. Прекрасная иллюстрация – картина Василия Сурикова. Казаки стреляют из пищалей, татары – из луков. Интересно, а было ли огнестрельное оружие у марийцев, чувашей, удмуртов? Навряд ли. Не было его и у башкир, которые в XVII-XVIII веках девять раз восставали против колонизаторов, отбиравших у них землю.
Русский Drang nach Osten не желал остановки и затмевал славу «псов-рыцарей». Первый председатель Бурятского национального комитета Элбэк-Доржи Ринчино, исследуя прошлое сибирских народов, писал: «Источники категорически свидетельствуют о том, что не может быть и речи о присоединении Сибири путем «естественного расселения». Сибирь была завоевана, но не Ермаком, а в течение последующих после него 200-250 лет «огнем и мечом». Ни одна из крупных народностей Сибири, по словам исследователя, не подчинилась добровольно бородатым завоевателям. Против них десятилетиями вели настоящую партизанскую войну татары, киргизы, монголо-буряты, якуты, тунгусы и даже камчадалы и чукчи на крайнем севере.
Э.-Д. Ринчино: «У сибирского крестьянства нет иного отношения к инородцу, как «твари бездушной»; крестьянство систематически, из века в век путем открытого насилия и захвата лучших земель загнало инородцев в степи, тундру и горы».
В 1697 году сибирский казак Владимир Атласов возглавил экспедицию на Камчатку для покорения местных племён и обложения их податью. В 1710 году камчатским приказчикам было послано указание Петра I – «поделав суды, какие прилично», тамошних людей приводить под царскую руку «и ясак с них сбирать с великим радением». Спустя год отряд атамана Данилы Анциферова и есаула Ивана Козыревского высаживался на курильских островах Шумшу и Кунашир, жившие на Шумшу айны попытались оказать казакам сопротивление, но оно было сломлено. В 1713 году Иван Козыревский возглавил вторую экспедицию на Курильские острова. На Парамушире айны дали казакам три боя, но были разбиты. Впервые в истории Курил их жители заплатили ясак и признали власть России.
Добрались русские и до Хоккайдо, ещё не заселённого целиком японцами, на его северном берегу жили айны. Полностью Хоккайдо стал частью Японии в 1869-м, а в 1778-1779 годах русские собирали с айнов ясак, то есть попросту грабили их.
В 1745 году шитик «Св. Евдоким» компании купца Чебаевского, как сообщается в источнике, впервые вошёл в контакт с алеутами, населявшими так называемые Ближние острова. Устроившись на зимовку в бухте на острове Атту, промышленники разграбили и уничтожили два алеутских селения, оставив в живых только молодых женщин — «для услуг». Промышленники впоследствии оправдывались тем, что они приняли местных островитян за воинственных чукчей, которых опасались из-за их многочисленности и свирепого нрава.
Населявшие полуостров Чукотку чукчи, сообщает другой источник, несмотря на то, что они могли противопоставить мушкетам и саблям лишь стрелы и копья с костяными наконечниками, оказали русским отрядам ожесточённое сопротивление. В марте 1730 года они напали на отряд Шестакова и разгромили в битве при Егаче, убив самого казачьего голову. В 1731 году начался карательный поход второго отряда под началом майора Павлуцкого. Отряд прошёл свыше двух тысяч километров, провёл с чукчами три крупных сражения, и хотя «побили их чюкоч немалое число», но так и не покорили.
В феврале 1742 года Сенат по предложению иркутского вице-губернатора Лоренца Ланга постановил «на оных немирных чюкч военною оружейною рукою наступить, искоренить вовсе… оных, также жен их и детей, взять в плен и из их жилищ вывесть и впредь для безопасности распределить в Якуцком ведомстве по разным острогам и местам между живущих верноподданных».
Окончательное решение чукотского вопроса вновь возложили на Павлуцкого, который в середине 40-х годов совершил три безуспешных похода на чукчей. 14 (25) марта 1747 при реке Орловой произошла битва, которая закончилась уверенной победой чукчей, Павлуцкий был убит. В чукотском национальном эпосе он запомнился в образе лютого злодея по прозвищу «Якунин» (Jakуннiн), что можно примерно перевести как «жестокий убийца».
Источник свидетельствует, что «в 1763 году новый начальник Анадырской партии Фридрих Плениснер с немецкой тщательностью подсчитал стоимость ведения войны с чукчами и доказал ее бессмысленность».
Историк Александр Зуев пишет, что «в 1778 году армейский капитан Т. И. Шмалев при помощи крещеного чукчи Н. И. Дауркина заключил в Гижигинской крепости первый письменный договор с одним из чукотских тойонов — Омулятом Хергынтовым. Хотя этот договор имел локальный характер, поскольку распространялся только на те чукотские стойбища, которые признавали власть Омулята, Шмалев, а с его подачи и правительство расценили данное событие как признание подданства всеми чукчами.
В результате в 1779 году Екатерина II официально объявила чукчей подданными Российской империи, хотя и после этого ясак чукчи давали только по собственному желанию и только в обмен на подарки».
То, чего добились чукчи, не удалось добиться алеутам. Занимая Алеутские острова, русские промышленники, указано в источнике, проявляли «жесткость при сборе ясака по отношению к местному населению, которое оказывало сопротивление. Особенно значительным было восстание алеутов Лисьих островов в 1763-1765 годах, когда были почти полностью уничтожены экипажи четырех купеческих судов. В результате карательного рейда промышленники под командой Степана Глотова уничтожили от 3 до 5 тысяч алеутов, включая женщин и детей».
Позже появился документ о превращении местного населения в категорию зависимых каюров (аналог илотов, которые в древней Спарте считались собственностью рабовладельческого государства).
В 1791 году уже на американском материке был основан форт св. Николая. В 1792-1793 гг. экспедиция промышленника Василия Иванова достигла берегов реки Юкон. C 9 июля 1799 по 18 октября 1867 года Аляска с прилегающими к ней островами находилась под управлением Русско-американской компании. Согласно источнику, «в ходе освоения земель Аляски русские натолкнулись на ожесточенное сопротивление индейцев-тлинкитов. В 1802-1805 годах разразилась Русско-индейская война, которая закрепила Аляску за Россией, но ограничила дальнейшее продвижение русских вглубь Америки».
30 марта 1867 года правительство Александра II продало Аляску Соединённым Штатам Америки. «Территория площадью 1 миллион 519 тысяч кв. км была продана за 7,2 миллиона долларов золотом, то есть по 4,74 доллара за кв. км.»
На остров Сахалин Россия претендовала вместе с Японией, собирая ясак с местных жителей нивхов. «По Симодскому трактату (1855 года) между Российской империей и Японией Сахалин был признан их совместным нераздельным владением. Неясность такого статуса была очевидна для обеих сторон, и по Санкт-Петербургскому договору 1875 года Россия получила в собственность остров Сахалин, взамен передавая Японии все северные Курильские острова».
Drang nach Westen и в другие стороны
Но Россия, всем известно, захватывала земли и на европейском юге и западе. В 1721 году итогом Северной войны стало присоединение Лифляндии и Эстляндии – тамошние немецкие бароны, потомки рыцарей, которые когда-то отправились в Drang nach Osten, сами оказались завоёваны, присягнули на верность царской короне и из поколения в поколение верно служили империи. Многие из них участвовали уже в русском Drang nach Osten.
Австрия, Пруссия и Россия, продолжившая натиск на Запад (Drang nach Westen), провели три раздела Польши: в 1772-м, в 1793-м и в 1795 годах. После каждого раздела наибольшая часть доставалась России. В результате последнего раздела Австрия получила 47 тысяч кв. км, Пруссия – 55 тысяч кв. км., Российская империя – 120 тысяч кв. км.
В 1783 году она, не забывая и о юге, завоевала Крым. В 1799-м направила войска в Италию, чтобы в союзе с Австрией и другими государствами, по договору с Англией, «положить предел успехам французского оружия». Что такое этот поход, которым прославился Суворов, как не агрессия, окончившаяся отходом? В 1805-м Россия, вновь в союзе с австрийцами, выступила против Наполеона, обе армии были им разгромлены при Аустерлице.
Относительно той кампании У Льва Толстого в «Войне и мире» дипломат Билибин замечает: «Православное жестоко грабит» (имеется в виду «православное воинство»). Есть ещё штрих. Полковой командир спросил капитана Тимохина о Долохове, разжалованном в солдаты, и услышал в ответ:
«– По службе очень исправен, ваше превосходительство... но карахтер…»
Полковой командир хочет уточнения, и капитан говорит:
«В Польше убил было жида, изволите знать...
– Ну да, ну да, – сказал полковой командир, – все надо пожалеть молодого человека в несчастии».
Так что вступление армии Наполеона в Россию в 1812 году – отнюдь не нападение на сугубо мирную страну. Тут две поговорки на выбор. Что посеял, то и пожнёшь. И: долг платежом красен.
В «Войне и мире» Андрею Болконскому принадлежат фразы: «я не брал бы пленных. Что такое пленные? Это рыцарство. Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, и оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все, по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить».
Это сказал тот, кто сам побывал в плену у французов, был ими излечен после ранения и благополучно вернулся домой. После этого говорить то, что он сказал, – подлость, которая пятном ложится на русское дворянство. Исполнитель предложенного Андреем Болконским – Долохов, убивающий пленных французов. Первый был героем при Аустерлице, второй – сволочью, а в 1812 году оба сошлись, как слово и дело.
Между прочим, чей дом шли разорять войска, с которыми был Андрей Болконский, когда упал на аустерлицком поле? Он не желал захвата Парижа? Россия весьма интересовалась не своими домами. С 1806-го по 1812 год она воевала с Османской империей, присоединила Бессарабию. В итоге войны со Швецией 1808-1809 гг. присоединила Финляндию.
Хорошо известно, как Российская империя покоряла Кавказ, его завоевание длилось с 1817 по 1864 год. Солдаты вырубали леса, сжигали поваленные деревья, сжигали аулы, строили крепости, продвигаясь шаг за шагом. Лев Толстой описал это в рассказах «Рубка леса», «Набег». Воюя на Кавказе с чеченцами, империя воевала за новые приобретения с Персией в 1826-1828 гг., с Турцией 1828-1829 гг. и захватила восточную часть Армении, а также восточный берег Чёрного моря.
Не был оставлен в стороне Туркестан. Здесь Россия вела войны с 1847 по 1864 год, с 1865 по 1868-й, с 1873 по 1881-й, когда была взята крепость Геок-Тепе (Ашхабад). Всех, кто сдался, перебили. Русские дошли до Памира и там под давлением англичан притормозили.
У С. Ю. Витте в многотомнике «Воспоминания» сказано, что Российская империя была не прочь прибрать и Абиссинию (Эфиопию) в Африке:
«Так как Абиссиния, в конце концов, страна полуидолопоклонническая, но в этой их религии есть некоторые проблески православия, православной церкви, то на том основании мы очень желали объявить Абиссинию под своим покровительством, а при удобном случае ее и скушать».
Витте советует купить в книжных магазинах краткую историю (с атласами) развития Российской Империи для детей среднего возраста и пишет: «пробежав карты развития России со времен Рюрика, каждый гимназист убедится, что великая Российская Империя, в течение тысячелетнего своего существования, образовалась тем, что славянские племена, жившие в России, постепенно поглощали силою оружия и всякими другими путями целую массу других народностей и таким образом явилась Российская Империя, которая представляет собой конгломерат различных народностей, а потому, в сущности говоря, России нет, а есть Российская Империя».
Страна неудачливая
Их исторической родине не достались такие слабые соседи, какие оказались у русских. Голландцев, французов, поляков не поработишь. Веками немцы жили крошечными государствами, на территорию некоторых, как шутили, двумя ногами не встанешь. А население росло, не редкостью было десять детей в семье. Не имевшие земли служили батраками, ютились в чужом жилье, но и крестьянина, владевшего участком, который его кормил, не отпускала кручина. Росли у него, скажем, три сына. По наследству земля достанется старшему – её хватает лишь на прокорм одной семьи.
И вот второму, а потом и третьему подросшему сыну отец справит башмаки покрепче, подбитые железом, вырежет посох, мать напечёт пирожков с тыквой, положит их со шматом сала в заплечный мешок – и прощай! Идти в армию к своему государю? Но она укомплектована, в ней ровно столько солдат, сколько может содержать маленькая отчизна. И парень отправляется туда, где идёт война. Он – ландскнехт (военный батрак). Пообещает ему платить за свою защиту голландский город – будет воевать за него. А то посулит плату шведский король. Нужны солдаты и русским царям. Воевать надо храбро, дабы о ландскнехтах шла слава как о хороших вояках, тогда их будут охотно нанимать. У Шекспира в «Генрихе VI» сказано: «Эдуард из Бельгии вернулся во главе драчливых немцев…» У Пушкина в «Борисе Годунове»:
Я было смял передовую рать —
Да немцы нас порядком отразили;
А молодцы! ей-богу, молодцы,
Люблю за то — из них уж непременно
Составлю я почетную дружину.
Многие немцы уезжали в Америку, в Австралию. В XVIII веке стал звать к себе в Пруссию её король Фридрих II (1712-1786). Пруссия была исключением среди германских государств – имела свободные земли. Получай надел, обрабатывай. Фридрих вёл войны, расширяя свою территорию, армия требовала пополнения.
Пруссия в 1864-м, повоевав с Данией, отняла у неё Шлезвиг. Гольштейн забрала Австрия. Пруссия стремилась объединить вокруг себя германские государства, на ту же роль претендовала Австрия. В 1866-м Пруссия разбила Австрию, и был создан Северогерманский союз. Гольштейн отошёл к Пруссии.
Против объединения Германии был французский император Наполеон III, стоявший за гегемонию Франции в Европе. В 1870-м началась франко-прусская война. Армия Северогерманского союза разгромила французскую в 1871 году, вошла в Париж, и была провозглашена Германская империя. Франция утратила Эльзас и Лотарингию и выплатила пять миллиардов франков контрибуции. Германии, наконец, улыбнулась удача, стала бурно расти промышленность, страну всё более украшала архитектура. За морями захватывались земли, которые ещё не успели захватить Англия, Франция, Испания, Португалия, Бельгия, Голландия.
В 1884 году из земель, приобретённых бременским коммерсантом Адольфом Людерицем, была образована Германская Юго-Западная Африка. В том же году появились колонии германское Того и Германский Камерун, а через год – Германская Восточная Африка. Вскоре к ним прибавилась колония Виту, позднее ставшая страной Кенией. В 1885 немцы захватили в Океании Новую Гвинею, Архипелаг Бисмарка, тихоокеанский остров Науру, принудили Китай сдать им в аренду порт Циндао, в 1899 заставили Испанию продать им микронезийские Каролинские острова и Марианские острова (кроме Гуама). В 1900 году немцы завладели западной частью островного королевства Самоа. В 1911 году Германия, после дипломатической войны, получила малоценную часть территории Французской Экваториальной Африки.
Приобретённые колонии были малы для стремительно развивающейся Германской империи. Имперский статс-секретарь иностранных дел Бернхард Бюлов произнёс 6 декабря 1897 года: «Те времена, когда немец оставлял одному из своих соседей землю, другому уступал море, а за собой оставлял лишь небо, где царствует чистая теория, прошли. Мы не хотим никого отодвигать в тень, но и себе мы требуем места под солнцем».
Самым сильным флотом в мире являлся английский. Германия поставила целью создать флот не хуже, он был надобен для защиты колоний, для овладения заморскими рынками. В 1898 году рейхстаг утвердил программу строительства 19 линкоров, 8 броненосцев береговой обороны, 12 тяжёлых и лёгких крейсеров. В 1900 году была принята новая программа, увеличившая этот план вдвое.
Франции не нравился захват немцами Того и Камеруна, в чём виделась угроза её колониям в Западной Африке. Не нравилось и то, что германские банки успешно конкурируют с французскими. Главным же было желание взять реванш за проигранную войну и вернуть Эльзас и Лотарингию. Со своей стороны, Германия готовилась ещё раз разбить Францию, завладеть её колониями.
Французы и англичане были потенциальными противниками немцев, но ни в коей мере не русские. От России немцы хотели лишь невмешательства. Однако Россия, вмешавшись, помогла французом и англичанам отнять у Германии все названные колонии.
Не стоит село без праведника
Как немцы воспринимали русских, мешавших своим союзом с французами разрешить спор Франции и Германии? Воспринимали как ненасытную силу, которая, некогда вылупившись из-под Золотой Орды, вела войны одну за другой, захватывая земли слабых племён и народов, и разрослась в гигантскую империю. Ты взяла себе то, что хотела, думали немцы, дай взять и нам. Какое тебе дело до французских, до английских колоний? Французы и англичане не любят тебя, и они это откровенно показали, когда ты воевала с Японией. А мы снабжали углём твою 2-ю Тихоокеанскую эскадру. Если бы нам было нужно на тебя напасть, то какой подходящий момент представился, когда тебя, побитую японцами, парализовала революция, твои солдаты бунтовали вдоль транссибирской железной дороги. Но мы остались твоими добрыми соседями.
Наши рыцари столкнулись с твоими новгородцами в 1242 году на Чудском озере, и с тех пор была только одна война части нашего народа с русскими: война Пруссии с твоей армией в 1757-60 гг., когда с нею вместе выступили саксонцы, австрийцы, французы и другие страны и тебе за участие в войне Австрия платила миллион рублей ежегодно.
Немецкие солдаты никогда не вступали на твою землю, зато французы вошли Москву в 1812 году, в 1854-м вместе с англичанами высадились в Крыму, взяли Севастополь. Высаживались французы и англичане и на Камчатке. И одна только Пруссия поставляла тебе нужное для войны. Так какие же мы заклятые враги? Ты вступилась за сербов, с которыми никогда не имела общей границы, ты позволила Франции и Англии использовать тебя при их презрении к тебе. Ты захотела захватить нашу Восточную Пруссию – тебе мало всего тобою захваченного? Именно ты, а не мы – беспредельно алчная орда, тёмная сила. А ведь наш кайзер – двоюродный брат твоего царя, шеф двух твоих полков: 13-го гусарского Нарвского полка и 85-го Выборгского пехотного полка. Он посещал их в их форме, он подписал с царём договор в Бьёрке – ради чего договор превратили в пустую бумажку?..
Что могла на это честно ответить Россия? То, что её военные русской крови ненавидят своих русских немцев и завидуют им, завидуют и тебе, Германия, успешно набирающей мощь, и хотят, сломив тебя, свести счёты у себя в стране с теми, в ком течёт германская кровь. Потому тебя очерняют, на тебя клевещут, называют злейшим врагом.
Но нашлась в России чистая душа – славный русский поэт Марина Цветаева. Когда начинался четвёртый месяц войны, она написала стихотворение:
Германии
Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам,
Ну, как же я тебя оставлю?
Ну, как же я тебя предам?
И где возьму благоразумье:
«За око — око, кровь — за кровь»,
Германия — мое безумье!
Германия — моя любовь!
Ну, как же я тебя отвергну,
Мой столь гонимый Vaterland*,
Где все еще по Кенигсбергу
Проходит узколицый Кант,
Где Faust neuen schon** лелея
В другом забытом городке —
Geheimrath*** Goethe по аллее
Проходит с тросточкой в руке.
Ну, как же я тебя покину,
Моя германская звезда,
Когда любить наполовину
Я не научена, — когда, —
— От песенок твоих в восторге —
Не слышу лейтенантских шпор,
Когда мне свят святой Георгий
Во Фрейбурге, на Schwabenthor****.
Когда меня не душит злоба
На Кайзера взлетевший ус,
Когда в влюбленности до гроба
Тебе, Германия, клянусь.
Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном — Лореляй.
1 декабря 1914
* Отечество (нем.) — Ред.
** Фауста нового уже (нем.) — Ред.
*** Тайный советник Гёте (нем.) — Ред.
**** Швабские ворота (нем.) — Ред.
Марина Цветаева читала стихотворение в Москве, не боясь ненависти публики и уличных толп. Она была тем праведником, который спасает честь России. Та стояла и стоять будет, пока у неё есть такие, как Марина Цветаева. (Но есть ли они?)
Несостоятельный Февраль и пикантные следствия
Отречение Николая II спасло немцев-крестьян от выселения, но те, кто ненавидел Германию, продолжали её ненавидеть. Военная верхушка и большинство думских деятелей были за верность союзникам, за войну до победного конца. Рюмки, бокалы продолжали звенеть под тост: «Упьюся я кровью мадьяров и немцев». Но солдаты, матросы в 1917-м воевать не желали, понимая, что их заставили и заставляют умирать за чужие интересы. Грянула расправа над командным составом Балтийского флота. Матросы убили главного командира Кронштадтского порта адмирала Вирена, начальника штаба порта адмирала Бутакова, командующего Балтийским флотом адмирала Непенина, коменданта Свеаборгской крепости генерал-лейтенанта Протопопова.
К 15 марта в Гельсингфорсе было убито 45 офицеров, в Кронштадте – 24, в Ревеле – 5 и в Петрограде двое. Пали жертвами расправ также не менее 12 офицеров сухопутного гарнизона Кронштадта.
Так началась расплата за войну, в которую не следовало ввязываться.
Временное правительство рассчитывало на революционные новшества: возникновение солдатских комитетов на фронте, введение «равенства» между солдатами и офицерами, которым более не надо отдавать честь. Теперь, казалось верхам, войска охватит революционное воодушевление, подобное тому, которое охватило французов в 1792 году, когда они с пением марсельезы устремились на армии Первой коалиции.
Ничего похожего в России не произошло. Министр иностранных дел П. Н. Милюков подготовил ноту, одобренную всеми членами Временного правительства, о продолжении войны ради приобретения Константинополя и контроля над проливами Босфор и Дарданеллы. Обнародование ноты всколыхнуло людей, но вовсе не так, как ожидалось наверху. Улицы заполнились толпами, над которыми поднимались плакаты: «Милюкова в отставку!», «Долой войну!», «Долой Временное правительство!» Армия на фронте разлагалась, солдаты убивали офицеров; всё это известно.
Говорят, что страна оказалась не готова к демократии, к свободе и нужен был диктатор. Да, нужен, но не такой, каким мог стать Корнилов, желавший во что бы то ни стало продолжать войну с Германией. Обстановка ясно показывала, что за такими, как он, массы не пойдут. Требовался диктатор, который сумел бы незамедлительно вывести Россию из войны, упредив тем самым Ленина и большевиков. Вывести из войны и мобилизовать все силы на укрепление порядка, на развитие частного предпринимательства, на рост прогрессивного буржуазного государства.
Такой личности в России не оказалось. Военные, которые позднее стали вождями белых, были за войну с немцами. Во Временном правительстве военный министр генерал-майор Александр Верховский 18 октября 1917 по ст. ст. выступил за заключение сепаратного мира с Германией, однако с ним не согласились, и он попросил отставки.
Большевики заключили с немцами мир, прозванный «похабным», но отнюдь не были сметены за национальное унижение. Те небольшие силы, которые выступили против них, провозглашали возобновление войны с немцами. Провозглашали – и при этом пользовались плодами «похабного» мира. Вышедший из Румынии трёхтысячный отряд Дроздовского двигался к Ростову через Украину, занимаемую немцами и австрийцами. Те дроздовцам не мешали. Германская 20-я дивизия 1 мая 1918 вошла в Таганрог, и, не дожидаясь её, большевики срочно ушли из Ростова. Дроздовцы вступили в Ростов 5 мая, а 8 мая в него вошла 20-я дивизия, и никаких вам эксцессов.
Появились в Ростове и добровольцы Деникина. Русские офицеры ходили с немцами по одним и тем же улицам, сидели в ресторанах, запамятовав о войне до победного конца. Донской атаман Краснов завязал с немцами дружбу, получал от них оружие и передавал деникинцам, которые его применяли против большевиков. Осенью немцы в Киеве стали спасать русских офицеров, которых беспощадно убивали петлюровцы. Об этом пишет Роман Гуль, спасённый немцами.
Леонид Зуров, писатель Русского Зарубежья, в своей вещи «Древний путь» рассказывает, как в феврале 1918 с фронта возвращается на родную Псковщину вольноопределяющийся. Из усадьбы его родителей крестьяне забрали хлеб, неподалёку убиты отставной пристав и его жена. Вчерашний фронтовик, его отец и мать, спасая свою жизнь, бегут. Куда? В Псков, взятый немцами по условиям Брестского мира. Там спокойно.
В апреле 1918 немцы заняли Крым и быстро пресекли грабежи, обратили в бегство разгулявшихся краснофлотцев. Очевидец, подполковник 6-го Морского полка и Пограничной стражи Н. Н. Крищевский, в своих воспоминаниях пишет, что убийцы с награбленным добром лезли в транспорты, наполняя их свыше меры.
В Крыму советская власть содержала под стражей в имении Ай-Тодор вдовствующую императрицу Марию Фёдоровну, в Чаире – великого князя Николая Николаевича, в Дюльбере – других великих князей и близких им людей. Уже упомянутый мною вел. князь Александр Михайлович отметил в «Книге воспоминаний», что начальствующий над стражей матрос хорошо относился к арестованным, защищал их от желавших с ними расправиться негодяев из Севастопольского совета. Когда в Ялту вошли немцы, матрос попросил вел. князя вступиться за него.
Александр Михайлович пишет, что никогда не забудет изумления прибывшего в Дюльбер немецкого генерала, которого он попросил оставить отряд матросов для охраны Дюльбера и Ай-Тодора. «Он, вероятно, решил, что я сошел с ума. «Но ведь это же совершенно невозможно!» — воскликнул он по-немецки, по-видимому, возмущенный этой нелогичностью. Неужели я не сознавал, что Император Вильгельм II и мой племянник Кронпринц никогда не простят ему его разрешения оставить на свободе и около родственников Его Величества этих ужасных убийц? Я должен был дать ему слово, что я специально напишу об этом его Шефам и беру всецело на свою ответственность эту безумную идею. И даже после этого генерал продолжал бормотать что-то об этих русских фантастах!»
(Кронпринц Германский и Прусский Фридрих Вильгельм Виктор Август Эрнст Прусский (Вильгельм III), старший сын германского императора Вильгельма II — племянник вел. князя Александра Михайловича).
Каково: никогда не простят разрешения оставить на свободе и около родственников Его Величества этих ужасных убийц.
Может ли что-либо более ярко показать, как Вильгельм II и германский кронпринц относились к членам семьи Николая II?
Бывший также в Дюльбере Феликс Юсупов записал о времени после прихода немцев: «Старики вздыхали с облегчением, но все ж и с опаской, а молодежь просто радовалась жизни. Радость хотелось выплеснуть. Что ни день, то теннис, экскурсии, пикники».
Немецкие принцессы
Русские историки писали, что Вильгельм II мог надавить на большевиков, и отрёкшийся Николай II с семьёй был бы передан Германии, однако-де кайзера более интересовало получение зерна и другого продовольствия из России. Но почему должно было быть иначе, когда население воюющей Германии голодало? Да и не получалось у неё «надавить» при тяжёлом положении на Западном фронте – в 1917 году в войну против Германии вступили США.
Главное же: почему вообще кайзер должен был вступаться пусть за своего двоюродного брата, но такого, который вызвал войну с Германией и который предал сотни тысяч немцев, чьи предки доверились его предкам и переселились в Россию?
Другое дело – семья отрёкшегося царя, она не виновата. Александра Фёдоровна в письме к фрейлине Вырубовой от 3/16 марта писала: «Такой кошмар, что немцы должны спасти всех и порядок навести. Что может быть хуже и более унизительно, чем это? Принимаем порядок из одной руки, пока другой они все отнимают. Боже, спаси и помоги России!» (Оказывается, это немцы всё отняли у царя и его семьи. – И.Г.)
Следователь Николай Соколов в книге «Убийство царской семьи» пишет, что уполномоченный московской монархической группы Нейдгардт в конце апреля 1918 встречался с германским послом графом Мирбахом, который сказал, что «судьба русского царя зависит только от русского народа. Если о чем надо думать, это об ограждении безопасности находящихся в России немецких принцесс».
Когда в Брест-Литовске подписывался мирный договор, одновременно был подписан договор дополнительный со статьёй 21, гласящей: «Гражданам каждой из договаривающихся сторон, которые сами или предки которых являются выходцами из территорий противной стороны, должно быть предоставлено по соглашению с властями этой стороны право на возвращение на родину, из которой происходят они или предки, в течение десяти лет после ратифицированного договора».
Немцы включили в договор и статью 23: «Каждая из сторон предоставляет всем подданным противной стороны полное освобождение от наказания за совершенные в пользу этой стороны наказуемые деяния и за проступки против исключительных законов, изданных по отношению к подданным враждебного государства».
Договор был ратифицирован 15 марта 1918 года. В обеих статьях речь идёт о лицах, которые сами или их предки родились в Германии. Таким образом, Александра Фёдоровна и её дети подпали под защиту международного соглашения.
10 мая 1918 граф Мирбах говорил о них с представителями Ленина, после чего сообщил в Берлин:
«Не рискуя, конечно, выступать как защитник свергнутого режима, я, тем не менее, сказал комиссарам, что мы надеемся, что с немецкими принцессами будут обращаться со всем возможным уважением, без мелких придирок, не говоря уж об угрозе их жизни. Карахан и Радек, которые замещают отсутствующего Чичерина, восприняли мое заявление с пониманием».
Бывший царский камергер Владимир Иосифович Гурко писал в воспоминаниях о своём убеждении, что «германцы неоднократно требовали от московской центральной власти доставления к ним Государя. В последний раз произошло это как раз после убийства их посла Мирбаха, когда они заявили намерение ввести в Москву части своих войск. Большевики этому самым решительным образом воспротивились. Тогда немцы отказались от этого намерения под условием передачи им русского императора. Большевики на это согласились, одновременно тогда же решив, что уничтожат всю царскую семью, сваливши ответственность на какие-нибудь местные учреждения».
21 июня 1918 в письме Ленину посол большевиков в Берлине Адольф Иоффе жаловался: «Что делается с б[ывшим] Царем — я ничего не знаю. Кюльман — министр иностранных дел Германии вчера об этом заговорил, и я сказал ему, что не имею никаких сведений, почти не сомневаюсь в том, что его убьют, ибо на Урале германофобское настроение, Царя считают немцем, чехословацкое восстание еще более вызывает германофобство, и, кажется, поэтому там не смогут справиться — произойдет подобная расправа. Не доказывая, что это нам страшно навредит, я доказывал, что мы будем невиновны, а вина падет на случай. Если действительно что-нибудь произойдет, можно опубликовать вполне убедительный сериал, доказывающий нашу непричастность».
Так готовилась почва для ликвидации узников. Через несколько лет после убийства следователь Николай Соколов и полковник Эрих Фрейберг встретились с сотрудником германского посольства в России в 1918 году Куртом Рицлером и попросили сообщить имеющиеся у него сведения по делу об убийстве Государя Императора и Его Семьи. Курт Рицлер передал документы на немецком языке о том, что: 1) между Кюльманом и Рицлером, с одной стороны, Чичериным и Иоффе и иногда Радеком – с другой, велись переговоры, причём германское правительство настаивало на ограждении жизни Царской Семьи; 2) что эти переговоры велись в июне и июле месяцах 1918 года; 3) что они имели место и после 17 июля 1918 года; 4) что большевики после 19 июля признавали перед немецкими представителями факт убийства Государя Императора, объясняя его убийство опасением, что он будет спасён чехами; 5) что они скрывали перед немецким представительством факт убийства ими остальных Августейших Особ».
Рицлер представил документ о том, что посольство Германии в Москве после убийства Мирбаха и известия о расстреле Николая II пыталось выяснить судьбу царицы, царевича и царевен: «Посольство в Москве. Министерству иностранных дел. Июль 1918 года. Сделал снова соответствующее представление в пользу царицы и принцесс германской крови с указанием на возможное влияние цареубийства на общественное мнение. Чичерин молча выслушал мои представления. Рицлер».
Таким образом, Ленин и его люди обманули немцев. Мы с отцом не раз говорили о том, что бывшего царя ликвидировали с тем, чтобы монархистские силы не имели фигуры, вокруг которой могли бы группироваться. С этой же целью истребили и всех членов семьи. Большевики видели в этом военную и политическую необходимость. Ленин ещё и удовлетворил чувство мести за повешенного Александром III брата.
Жаль дочерей бывшего монарха, пронзительно жалко Алексея. В Великую Французскую революцию гильотинировали Людовика XVI и Марию Антуанетту, однако на жизнь их дочери и сына не посягнули.
Я помню, мне было двенадцать, когда отец сказал с волнением, с тихим бешенством: «Какая гнусность – застрелить мальчишку-калеку! И трупу убийцы поклоняются!»
4 апреля 1917 года, в третий день Пасхи Марина Цветаева написала:
За Отрока — за Голубя — за Сына,
За царевича младого Алексия
Помолись, церковная Россия!
Очи ангельские вытри,
Вспомяни, как пал на плиты
Голубь углицкий — Димитрий.
Ласковая ты, Россия, матерь!
Ах, ужели у тебя не хватит
На него — любовной благодати?
Грех отцовский не карай на сыне.
Сохрани, крестьянская Россия,
Царскосельского ягненка — Алексия!
Перманентная экспансия
Ленин и его люди, совершив контрреволюционный переворот, вернули страну к временам опричнины, которая, по команде сверху, карала и грабила часть населения, объявленную земщиной. Большевицкие Советы, ревкомы, ЧК – это всё опричнина, противостоящая частным собственникам, духовенству, офицерам, служащим прежнего государства. Воссоздалась модель Московского царства под властью Ивана Грозного, и была провозглашена цель – мировая революция. Суть этой формулировки – маниакальное стремление к мировому господству, выросшее на инстинкте захвата, который подвигал Московское царство, а затем Российскую империю к завоеванию новых и новых земель. Если экспансия империи именовалась борьбой за освобождение единоверцев от османского ига, защитой славян от австрийцев и венгров, то теперь войны должны были освобождать людей труда от эксплуататоров.
Весной 1919 в России, в Украине бушевала Гражданская война, а ленинская клика уже замыслила поход через Румынию на помощь возникшей в марте Венгерской Советской республике, и только майское восстание в Херсонской губернии советской дивизии под началом Никифора Григорьева сорвало агрессию.
Летом 1920 Красная армия, воевавшая с поляками, вошла в Польшу, и Ленин объявил, что война оборонительная перешла в наступательную. Тухачевский провозгласил: через «труп Польши» – на Запад! Прежней России не удалось разбить Германию, и теперь вторгнуться в неё предстояло под знаменем борьбы с капиталом. Ленинцы рассчитывали, что им помогут рабочие и прочие недовольные властью внутри Германии. И как царские генералы надеялись войти через месяц в Берлин, так и большевики ждали столь же скорой победы. Многие бывшие царские офицеры, которые уклонялись от службы в Красной Армии, теперь вступали в неё.
В Польше, вместо классовой войны, повелась война между двумя нациями. Юзеф Бек, соратник Пилсудского, скажет, что поляки знают и царский империализм, и империализм большевиков.
Исаак Бабель рассказал о наступлении Конармии Будённого в Польше в 1920 году. Перечитаем рассказ «Мой первый гусь». Начальник дивизии обращается к прибывшему в неё служить кандидату прав Петербургского университета:
«– Ты из киндербальзамов, – закричал он, смеясь, – и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки».
Нетрудно понять, что начдив увидел перед собой еврея, и уведомление «режут за очки» означало: режут за еврейскую внешность.
Бабель с выразительными деталями описал, как издевательски встретили вновь прибывшего конармейцы. «Молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом» выбросил его сундучок за ворота. «Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки». Герой рассказа «лег на землю, чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моим ногам, парень потешался надо мной без устали».
В рассказе «Берестечко» вновь упоминается Коминтерн. «На столбах висели объявления о том, что военкомдив Виноградов прочтет вечером доклад о Втором конгрессе Коминтерна. Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.
– Если кто интересуется, – сказал он, – нехай приберет. Это свободно…»
Американский историк Брайан Мойнехен в книге «Святой, который грешил» написал о царской армии в Первой мировой войне: «Евреев вешали по ложным доносам, а их дома, лавки и синагоги грабили. Черносотенные газеты обвиняли их в «посылке золота немцам».
В старорежимной армии о Коминтерне не слыхали, а в Конармии слышат. Различие, надо признать, пребольшое. А сходство?
В мае 1939 Исаака Бабеля арестовали, а в январе 1940 расстреляли.
Проглотить то, что отрыгнулось
Красная армия была разбита на Висле и обращена в бегство, тогда решено было попробовать силы в другом месте.
Мы с отцом находили любопытной книгу Герберта Уэллса «Россия во мгле», там есть рассказ о том, как Зиновьев, Бела Кун, англичанин Том Квелч и другие «ведущие коммунисты» в 1920-м поехали в Баку «поднимать пролетариат Азии». Если в России рабочий класс составлял десять процентов населения, то что сказать о Востоке? Герберт Уэллс с иронией пишет, что Зиновьев и его спутники «отправились воодушевлять классово сознательных пролетариев Персии и Туркестана. В юртах прикаспийских степей они искали фабричных рабочих и обитателей городских трущоб. В Баку был созван съезд – ошеломляющий калейдоскоп людей с белой, черной, желтой и коричневой кожей, азиатских одежд и необыкновенного оружия. Это многолюдное сборище поклялось в неугасимой ненависти к капитализму и британскому империализму».
По словам писателя-фантаста, он пытался выяснить, чего добивались на бакинском съезде, и пришёл к выводу, что цель непонятна самим организаторам, «если не считать смутного желания нанести через Месопотамию и Индию удар английскому правительству в ответ на те удары, которые оно наносило Советской республике при помощи Колчака, Деникина, Врангеля и поляков. Это контрнаступление почти так же неуклюже и глупо, как английское наступление, против которого оно направлено. Трудно себе представить, чтобы большевики могли надеяться, что между ними и разношерстной толпой недовольных, собравшихся на съезде, установится классовая солидарность».
Уэллс поверил, будто действительно «большевики непоколебимо придерживались учения Маркса» и «обращали взоры на Запад, немало удивляясь тому, что «социальная революция» произошла не там, где она ожидалась, а значительно дальше на Восток». Уэллс пишет: «Теперь, когда они начинают понимать, что их привела к власти не предсказанная Марксом революция, а нечто совсем иное, они, естественно, стремятся установить новые связи».
«Нечто совсем иное» – это жажда власти над миром, всё тот же инстинкт захвата. Фантаст не осознал, что марксизм служит ленинцам лишь для наукообразного привлекательного оформления невиданной экспансии, войн за мировое господство. Делается ставка на бедноту вообще, на низы любого цвета кожи – на всех тех, кто не прочь ограбить и перебить своих богатых. И произошла «социальная революция» именно там, где должна была произойти: в Российской империи, чья история – непрерывное расширение территории за счёт захватнических войн. Победи коммунисты, допустим, в небольшой стране вроде Норвегии, им не могла бы прийти в головы идея экспорта революции. Она пришла в головы россиянам, сменившим тех россиян, которые провозглашали тост: «Упьюся я кровью мадьяров и немцев», тем, которые звали захватить проливы Босфор и Дарданеллы.
Неудачная война, отказ народа вести её привели к тому, что страсти к экспансии на все будущие времена был придан новый вид при цели: восстановить всё, как было, и брать больше, больше.
Восстание матросов в Кронштадте, восстания крестьян по стране вынудили Ленина ввести нэп, который сразу же дал народу ощутить вкус жизни. Если бы нэп не пресекли, если бы дали расти частному предпринимательству, Россия превратилась бы в капиталистическое государство без ужасов голода. Но тогда – прощай, экспансия! Такая страна не смогла бы завоёвывать другие страны, и, главное, ей это было бы не нужно. Что, в таком случае, делать маниакальным властолюбам – «ведущим коммунистам»?
Нэп обязательно отменил бы Ленин, будь он жив; за него принял меры Сталин, выражая чаяния земшарных империалистов – самых убеждённых агрессивных большевиков. Они готовили страну к войне, не только производя вооружение. Прежде всего, они лишили собственности жителей страны, сделав их всецело зависимыми от своей власти, а власть не могла не сконцентрироваться в руках одного лица. Им оказался Сталин, но мог оказаться и кто-то похожий. Суть в том, что безграничная личная власть питалась устремлением к перманентной экспансии и, в свою очередь, питала её, превращая население в армию. Указ от 26 июня 1940 запретил увольнения по собственному желанию, самостоятельный, без санкции руководства, переход с одного предприятия на другое, а также ввёл судебную ответственность за прогулы. За прогул без уважительной причины рабочие и служащие карались исправительно-трудовыми работами по месту работы сроком до 6 месяцев с удержанием 25 процентов заработной платы. Прогулом считалось опоздание на работы на 20 минут и более.
И вот этим российские коммунисты хотели прельстить рабочих в других странах? Опыт с Польшей показал, что не прельстят, как не прельстят крестьян обещанием дать им землю. Поэтому благодеяния социализма оставили лишь в виде вывески, ставка же делалась на вооружённую силу. Ленин учил, что противоречия между капиталистическими странами были и будут, и этим надо пользоваться. В двадцатые годы СССР начал секретно сотрудничать в сфере вооружения с Германией, которой после поражения в Первой мировой войне было запрещено развивать авиацию, танкостроение. Держа камень за пазухой, коммунисты получали выгодное для себя.
Они стремились подготовить почву для вторжения в приграничные страны. С начала двадцатых годов в Эстонии инспирировали движения против существовавшего строя, 1 декабря 1924 организовали мятеж, который был подавлен. После подписания известного пакта между СССР и Германией в августе 1939 пошла форсированная подготовка для прямого захвата Финляндии и стран Прибалтики. В войне, длившейся с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940, Финляндия себя отстояла (но Сталин запланировал повторную попытку).
14 июня 1940 года СССР потребовал от Литвы допустить на свою территорию его войска, распустить правительство и заменить его просоветским, а также арестовать нескольких министров. Президент страны А. Сметона был за организацию вооружённого сопротивления, но его не поддержал главнокомандующий армией генерал В. Виткаускас. Советские требования были приняты, Сметона покинул страну.
15 июня 1940 ночью отряд истребительной группы НКВД перешёл латвийскую границу, сжёг кордон Масленки, захватил пленных, второй отряд напал на кордон Бланты и тоже захватил пленных. Это была увертюра, после которой отряды НКВД ненадолго вернулись на свою территорию.
Для проведения Прибалтийской кампании СССР выделил 3 армии, 7 стрелковых и 2 кавалерийских корпуса, 20 стрелковых, 2 мотострелковые, 4 кавалерийские дивизии, 9 танковых и 1 воздушно-десантную бригады. Кроме того, войска НКВД выделили для операции один оперативный полк и 105-й, 106-й, 107-й погранотряды.
17 июня 1940 в 10:20 силы РККА: 2-я и 27-я танковые бригады, 121-я и 126-я стрелковые дивизии и другие части перешли латвийскую границу. В тот же день советские войска вошли в столицу Эстонии Таллин, на рейде встали корабли Балтийского флота, высадили десант. Были запрещены народные собрания, у населения в течение 24 часов изъяли оружие.
Таким было мирное добровольное вступление республик Прибалтики в СССР.
В июне 1940 РККА заняла Бессарабию, Северную Буковину и район Герца, навязав Румынии соглашение от 28 июня о новой границе. Если Бессарабия ранее входила в состав Российской империи, то Северная Буковина российской не была, её намеревался присоединить Николай II. Теперь за него её захватил Сталин. Николай II замахивался и на Восточную Пруссию. Её, опять же, присоединил Сталин после падения нацистской Германии. У побиваемых американцами японцев он отнял Курильские острова, закреплённые за Японией договором от 25 апреля (7 мая) 1875 года.
Таким образом, СССР захватил больше того, чем владела Российская империя, если не считать Финляндию. Казалось бы, перманентная экспансия закончилась. Однако…
В апреле 1978 произошла революция в Афганистане, власть взяла так называемая Народно-Демократическая партия, причислившая себя к марксистским партиям, её лидер Нур Мухаммед Тараки захотел тесной дружбы с СССР. 5 декабря 1978 года в Большом Кремлевском дворце был подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой Афганистан.
Статья 4 договора предусматривала «возможность принять соответствующие меры в целях обеспечения безопасности, независимости и территориальной целостности обеих стран». В Афганистане, феодальной стране с пережитками родоплеменного строя, разгоралась гражданская война, и в конце 1979 года СССР, чьи десантники убили афганского лидера Амина «как ненадёжного», оккупировал Афганистан, прикрываясь статьёй 4.
Здесь нельзя не вспомнить описанный Гербертом Уэллсом «танец, исполненный джентльменом из окрестностей Баку. В отороченной мехом куртке, папахе и сапогах он стремительно и искусно танцует что-то вроде чечётки. Вынув два кинжала, он берет их в зубы и устанавливает на них два других, лезвия которых оказываются в опасном соседстве с его носом. Наконец, он кладет себе на лоб пятый кинжал, продолжая с тем же искусством отбивать чечетку в такт типичной восточной мелодии. Подбоченясь, он изгибается и идет вприсядку, как это делают русские казаки, все время описывая медленные круги и не переставая хлопать в ладоши».
Герберт Уэллс отмечает: «Я пытался установить, был ли он типичным азиатским пролетарием или символизировал нечто иное, но так и не добился ясности» и добавляет: «Я с удовольствием воскресил бы Карла Маркса специально для того, чтоб посмотреть, как он будет глубокомысленно разглядывать его поверх своей бороды».
Советские солдаты, названные «воинами-интернационалистами», воевали отчасти в союзе с подобными джентльменами, отчасти – против них. Факт тот, что Российская империя закончила своё расширение на Памире к 12 сентября 1895 года, а СССР это расширение продолжил. Точнее, попытался продолжить. От того, что последовало, лучше отвлечься танцем джентльмена с кинжалами.
Инстинкт захвата
Вспоминаю ребят, с которыми рос в Бугуруслане. Мы повторяли услышанные анекдоты о Хрущёве. Потом, когда наша семья переехала в Новокуйбышевск, от здешних друзей я слышал анекдоты о Брежневе. К примеру: «На «б» начинается, со всеми целуется, обнимается. Отгадай, что это?» Доставалось и Ленину. Ходил анекдот о том, как отмечали 100-летие со дня его рождения. Мебельная фабрика выпустила трёхспальную кровать «Ленин всегда с нами», на винных ларьках повесили вывеску «Ленин в разливе». Доводилось слышать песенку: «Жили-были три бандита: Гитлер, Сталин и Никита, один бил, другой давил, третий голодом морил…»
Не помню, чтобы кто-то из ребят возмутился анекдотом ли, песенкой. Городская дворовая среда была настроена к режиму скептически. Милицию ненавидели, про КГБ мало что знали. Однако подростки, молодые люди, даже в глумливой неприязни к властям, к режиму, никак не посягали на право СССР властвовать над другими странами. Летом 1968, ещё до ввода советских войск в Чехословакию, подросткам, молодёжи было известно, что «там против нас возбухают». Должностью Александра Дубчека, Первого секретаря Компартии Чехословакии, не интересовались, знали его фамилию и то, что он «главный». В связи с этим родилась остротка. Что, мол, надо сделать, чтобы Чехословакия на нас не вякала? Дуб срубить, а ЧК оставить.
Когда в ЧССР вошли войска соцстран, распространились примечательные мифы. Не от одного рассказчика я слышал следующее. Советские танки едут по улице, а жители перед ними, в знак протеста, ложатся. Наши-де вылезают из танков, оттаскивают людей, а те плюются, вырываются, в драку лезут. А наши всё по-доброму хотят.
Едут танки немцев ГДР, перед ними, как и перед советскими танками, сплошь чехи лежат. Немец из башни высунулся, кричит: «С дороги! С дороги! Опасно для жизни!» И после прямо по лежащим людям едут.
Эта фантазия доставляла, можно сказать, чувственное удовольствие и рассказчику, и слушателям. «Наши» представали добрыми и через свою доброту страдающими (это так приятно сознавать), а немцы, известное дело, жестокие, но чехи сами нарывались. Получили?! Один рассказчик живописал: проедут-де танки по лежащим, а потом немец возле танка стоит и сапёрной лопаткой мясо с гусеницы соскребает. Картинка! Злодей в роли, вызывающей внутренний восторженный возглас: «Вот, сволочь, даёт!»
Ещё один рассказ курсировал не только в Новокуйбышевске, но и в Бугуруслане, куда я приезжал к родным. Шёл, мол, в Чехословакии патруль: наш советский солдат и немец из ГДР, оба, как положено, с автоматами. А навстречу – толпа молодёжи, смеются, поют, приплясывают. Окружили патрульных, «обжали» и дальше пошли. А наш солдат наземь опустился, в бок ему нож всадили. Немец увидал, повернулся к толпе, «встал на колено и весь рожок, тридцать патронов, в неё выпустил». Опять, понятно, аплодисменты слушателей.
Я передавал все эти россказни отцу, он только головой качал.
Песня Галича про «наши танки на чужой земле» вошла в историю, но много ли говорят (если вообще говорят) о мифах, которые я привёл? А они – голос народа, выражение того инстинкта, который никуда не делся.
Герцен, издавая в Лондоне свой «Колокол», поддержал польское восстание против царизма в 1863-64 гг., и возбудил ненависть не только известных русских националистов, реакционеров, славянофилов, но и либеральных кругов. Былые друзья, люди, писавшие для «Колокола», отвернулись от Герцена, тираж журнала безнадёжно упал. Победил тот инстинкт, который через много лет проявил себя в мифах о желанном: о танках немцев, едущих по людям в Чехословакии.
Запускаемые слухи
Однажды отец пришёл из школы №18, где замещал учительницу русского языка и литературы, и сообщил, что в учительской говорили об академике Сахарове, который в то время был в ссылке в Горьком. Одна учительница заявила, что настоящая фамилия Сахарова – Цукерман.
Отец дома сказал, что не поверил. «Явная утка, нехорошо пахнущая». Спустя недолгое время я был на сборе журналистов Куйбышевской области в доме отдыха «Дубки», там перед нами выступал сотрудник КГБ с докладом о подрывной деятельности иностранных спецслужб против СССР. После доклада один из журналистов задал вопрос: «Правда, что Сахаров на самом деле Цукерман?» Гэбэшник с извиняющимся видом ответил: «Не могу сказать, не знаю», – и развёл руками. По тому, что он не опроверг ложь, легко было понять, откуда она пошла.
Шоры на глазах
Национальное самолюбие не позволяет русским историкам признать факты, которые показывают Россию не такой, какой им хочется её видеть. Для них унизительно то, что великая Российская империя с 1762-го по 1914 год была поднемецкой. Но ведь не взяв это во внимание, не найдёшь правильного объяснения тому, что происходило со страной в XX веке и отразилось на сегодняшнем дне.
Я не хочу переубеждать людей массового сознания, они всегда будут видеть свою страну только в выгодном для неё свете, им это жизненно необходимо. Но, думаю, среди россиян найдутся апологеты исследований, кого заинтересует взгляд моего отца и мой на Россию – точка зрения немцев, которые в ней родились и выросли, а мой отец в ней ещё и воевал.
Подводя итоги, подчёркиваю следующее. Германская династия фон Гольштейн-Готторпов сразу же предоставила русским дворянам право не служить, вести праздную жизнь, при этом владея крестьянами, землёй и её недрами. На освободившиеся места стали приниматься остзейские (прибалтийские) немцы, немцы из германских государств, голландцы, шведы, другие иностранцы. Формировался правящий слой нерусского происхождения. Что в этом отрицательного, а что положительного? Для сбора и изучения всех «за» и «против» понадобится труд не одного историка. Мне остаётся пожелать, чтобы за такой труд принялись. Иначе же просто глупо – рассуждать об истории России, не видя, что в ней сформировался правящий слой нерусского происхождения.
Самодержавие императоров-немцев, наличие многих немцев в государственных структурах предполагали дружбу с Пруссией и другими германскими государствами. Так оно и было. Когда 2 марта 1855 окончил свои дни русский царь Николай I, берлинские газеты писали: «Умер наш император».
После провозглашения германской империи в 1871 году, Бисмарк и кайзер Вильгельм I были за дружбу с Россией.
Вспомним, что попытка наступления германцев на русские земли, Drang nach Osten, окончилась в 1242 году, когда под лёд Чудского озера провалилось двадцать рыцарей и шестеро попало в плен. Событие было невероятно раздуто. Война Елизаветы Петровны с Фридрихом II не в счёт: против Пруссии тогда воевали Австрия и другие немцы.
И никаких более столкновений германцев с русскими не было!
Против «внутренних», своих немцев неприязнь имелась, о ней я написал предостаточно и здесь, и в романе «Донесённое от обиженных». Но могу добавить. У Тургенева в романе «Отцы и дети» Павел Петрович Кирсанов говорит: «я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру». Однако он уезжает лечиться к немцам в Дрезден и остаётся жить там на доходы, получаемые от крепостных. Павел Петрович не стар, но давно не служит по праву, которое дали его дедам, родителям и ему немцы фон Гольштейн-Готторпы. В Дрездене он «знается больше с англичанами», они «находят его немного скучным». Тургенев замечает: «Он придерживается славянофильских воззрений», причём «ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя».
Таких вот людей, которым немцы «не по нутру», становилось в России с течением XIX века больше и больше. Немец Александр III этого заопасался и ударился в дурно пахнущую театральщину, говоря о господах вроде Павла Петровича: «Уже не воображают ли они, что я Немец или Чухонец?» Дабы доказать, что «он – не немец», Александр III «отклонил предложения Бисмарка о русско-германском союзе и согласился на рискованный союз с Францией», о чём пишет вел. князь Александр Михайлович, не называя, правда, причины такого шага. Он признаёт, что «нет оправдания» русской дипломатии, которая «стала способствовать бессмысленному, даже фатальному сближению России с Францией и Великобританией».
Вел. князь не увидел или не захотел увидеть, что причиной фатального сближения был страх Александра III перед набирающим силу русским национализмом. Об этом течении в его более поздний период написал С. Ю. Витте в воспоминаниях: «после того, как мы поглотили целую массу чуждых нам племен и захватили их земли – теперь в Думе и «Новом Времени» явилась полукомическая национальная партия, которая объявляет, что, мол, Россия должна быть для русских, т. е. для тех, которые исповедают православную религию, фамилия которых кончается на «ов» и которые читают «Русское Знамя» и «Голос Москвы».
Типичный представитель русского национализма по фамилии Завалишин показан Куприным в рассказе «Корь», напечатанном в 1904 году. Завалишин выбился из бедности и наслаждается в Крыму богатством.
«Над белой каменной оградой, похожей своей массивностью на крепостную стену, возвышалась дача, затейливо и крикливо выстроенная в виде стилизованного русского терема, с коньками и драконами на крыше, со ставнями, пестро разрисованными цветами и травами, с резными наличниками, с витыми колонками, в форме бутылок, на балконах. Тяжелое и несуразное впечатление производила эта вычурная, пряничная постройка».
Под стать даче её владелец: «На балконе показался Завалишин в фантастическом русском костюме: в чесучовой поддёвке поверх шелковой голубой косоворотки и в высоких лакированных сапогах». Через весь живот у него – «толстая золотая цепь».
Куприн детально описывает обстановку, в которой обедает его герой: «вся столовая мебель и утварь отличались тем бесшабашным, ерническим стилем, который называется русским декадансом. Вместо стола стоял длинный, закрытый со всех сторон ларь; сидя за ним, нельзя было просунуть ног вперед, – приходилось все время держать их скорченными».
Приведу ещё выдержку о посуде: «Жбаны для кваса, кувшины для воды и сулеи для вина имели такие чудовищные размеры и такие нелепые формы, что наливать из них приходилось стоя. И все это было вырезано, выжжено и разрисовано разноцветными павлинами, рыбами, цветами и неизбежными петухами».
Кто не представлял тип русского националиста в созданном им мирке, теперь его представит. А вот его убеждения:
«Я – русский и потому имею право презирать все эти ренессансы, рококо и готики! – кричал он иногда, стуча себя в грудь. – Нам заграница не указ. Будет-с: довольно покланялись. У нас свое, могучее, самобытное творчество, и мне, как русскому дворянину, начихать на иностранщину!»
В чём причина таких эмоций? Не в ущемлённости ли оттого, что быт его народа, нередко голодающего, проигрывает в сравнении с бытом Западной Европы?
Обида рождает бунт: «– Горжусь тем, что я русский! – с жаром воскликнул Завалишин». Основание для гордости – наверняка те огромные пространства, которыми владеют русские. Сознание размеров страны, а, значит, и её силы подвигают его страстно защищать вид его жилища и предметы, которые, на самом деле, смешны:
«– Если я истинно русский, то и все вокруг меня должно быть русское. А на немцев и французов я плевать хочу».
Снедаемый обидой злобящийся герой говорит о знаке своего времени:
«– Слава богу, что теперь все больше и больше находится таких людей, которые начинают понимать, что кургузый немецкий пиджак уже трещит на русских могучих плечах; которые не стыдятся своего языка, своей веры и своей родины; которые доверчиво протягивают руки мудрому правительству и говорят: «Веди нас!..»
И мудрое правительство вело…
Куприн написал это за десять лет до 1914 года. Если бы правительство действительно было мудрым, оно прекратило бы политику экспансии, избежало войны с Японией и занялось внутренним переустройством государства. Обществу были бы даны политические свободы, евреи уравнены в правах с остальными гражданами, была бы отменена черта оседлости. Было бы сокращено помещичье землевладение с передачей земли крестьянам, как позднее это сделали в королевской Румынии: там помещику осталось не более ста гектаров. Был бы введён прогрессивный подоходный налог, и получаемые, благодаря ему, средства направлены на борьбу с нищетой. Проводилась бы политика невмешательства в международные конфликты. Положение России стало бы наивыгодным. Германия не могла напасть на неё хотя бы потому, что тем самым она подставила бы себя под удар Франции и Англии. Не могла бы напасть на Россию и Англия, ибо России помогла бы Германия. Таким образом, международная расстановка сил гарантировала России безопасность и возможность мирно развиваться, как развивались Швейцария, Швеция, Норвегия.
Однако русские историки не в силах убрать с глаз шоры – войну с немцами 1941-45 гг. – и не отождествлять гитлеровскую Германию с Германией кайзера. Между тем различие так и зовёт к его рассмотрению.
Второй Райх
Немецкое слово Reich (империя) произносится: «Райх». О концлагерях в гитлеровском Третьем Райхе знают все. Но такими ли были лагеря для пленных в кайзеровской Германии – в Райхе Втором?
Почитаем о привлекающем внимание человеке, который ехал в бричке по донской степи. Это «мужчина в пиджаке городского покроя и сдвинутой на затылок серой фетровой шляпе», возле «его ног лежал желтый саквояж и мешок, прикрытый свернутым пальто». Казак Степан Астахов, персонаж «Тихого Дона», возвращается домой из германского плена. Рассказывает, как попал в него:
«– Ранили в двух местах, а казаки… Что казаки? Бросили они меня… Попал в плен… Немцы вылечили, послали на работу…»
На вопросы, как жилось в плену, отвечает:
«– Вначале скучал, а потом привык. Мне хорошо жилось. — Помолчав, добавил: — Хотел совсем остаться в Германии, в подданство перейти. Но вот домой потянуло — бросил все, поехал».
Выясняется, «что Степан будет по окончании службы жить на хуторе, дом и хозяйство восстановит. Мельком упомянул он, что средства имеет».
Пленный вернулся из кайзеровской Германии со средствами на восстановление дома и хозяйства.
О русском пленном в Германии написал Иван Шмелёв. Рассказ назван – «Чужой крови». Пленник Иван отдан в работники германскому крестьянину Брауну. Иван думал: «голодом морить будут. Нет, ничего кормили. Даже вечером ели с салом, а в праздник крошила немка соленую свинину. Ел Иван во дворе, – немцы в доме. Приносила обед тонкая, золотушная Лизхен, говорила пискляво: «Драстуй», а Иван отвечал: «Данкашен, майнэ фройлайн!»
Пленному выдавалось жалованье. «Справил себе Иван крепкие башмаки на гвоздях, куртку и синюю кепку: ходил герр Браун в какой-то «ферайн», сам выбрал. Да еще выдал Ивану жалованья остаток. В праздник как-то вырядился Иван в немецкое платье, закурил сигаретку и пошел по деревне. Смотрели на него немки из садиков, смотрели крадучись-жадно, а часто встречавшаяся розовенькая, тоненькая Тереза кивала ему светловолосой головкой. Сказал ей Иван, молодцевато козыряя:
– Гутен таг, майнэ фройлайн!»
Всё умеющий труженик, Иван становится своим в семье: «Другой год кончался, как работал Иван на немца. В работу втянулся, говорил чужой речью, и уже сажали его немцы с собой обедать».
Пленный наблюдает быт немецких крестьян, с самым живым интересом относится к нему: «Пел Иван немецкие песни, ловко умел ругаться и даже заходил в кирку. Даже один езжал в город. Говорили про него в Грюнвальде:
– Русский Иван – золотой парень, парень – сила. Из него выйдет хороший немец».
Крестьяне не бросаются словами, и слова Брауна имеют цену:
«Сказал немец к концу второго года:
– Кончится война, на родину не езди».
И таких, как Браун, российские газеты с 1914 года называли заклятыми врагами, называли гуннами.
Никто из историков до сего дня не указал, на какую ложь пошёл царь 2 августа 1914, повторив сказанное Александром I о нашествии Наполеона: «Я никогда не подпишу мира, пока хоть один вражеский солдат будет попирать русскую землю!»
Ложь о том, будто немцы в 1914 году напали на Россию, перейдя её границу, так и осталась в массовом сознании, укрепляясь фактом нападения гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941. Между тем цепь событий, разворачиваясь, потянулась к этому дню от 30 июля 1914 года, когда был объявлен Высочайший указ о всеобщей мобилизации.
В интернете есть фотографии: убогие крытые соломой жилища, приютившиеся на голых, без деревца, пространствах, крестьяне, кормильцы семей, которые отсюда уходят на войну, отдав последнюю, может быть, лошадь. В своих жилищах крестьяне чёрный хлеб ели не досыта, повседневной пищей была пшённая так называемая «ройка», ложка которой без глотка воды «вставала в горле». Их посылали умирать за Сербию, чьи крестьяне жили в каменных домах, окружённых плодовыми деревьями, и не обедали без виноградного вина. Кричать о долге спасать братскую Сербию пристало таким, как Завалишин, которые ели московского молочного телёнка, кавказских фазанов, ладожских сигов, пили вино «орианда».
Что им русский мужик?
Иди и гибни безупрёчно.
Умрёшь не даром, дело прочно,
Когда под ним струится кровь.
Нашими, мол, станут проливы Босфор и Дарданеллы. Станут ли? Действительно Англия и Франции позволили бы России заполучить их, удержись она в войне до победы?
Получила Россия то, что получила. Лишилась Германии как союзника, друга, предназначенного судьбой. Будь они вместе, какая это была бы мировая мощь! Как рос бы в России уровень жизни населения, оставайся немцы его составляющей! Их можно уподобить пересаженному органу. Те, кому следовало заботиться о том, чтобы он прижился, — немцы Александр III, Николай II — поступали наоборот, и произошло отторжение. Не знак ли вины Николая II — страшный конец его и семьи?
Сколько раз сказано, как Ленин и его партия на германские деньги разлагали русскую армию, как проиграл Керенский, как был совершён Октябрьский переворот, развернулся красный террор, разгорелась Гражданская война, сколько рассказано о неисчислимых преступлениях, о сталинизме и прочем, прочем…
Но надо задуматься, поразмышлять, что всего этого (всего-всего-всего этого!!!) не было бы, не согласись Николай II 30 июля 1914 года объявить всеобщую мобилизацию.
О ком никто не пишет
Открывая в 1970-е годы «Огонёк», отец считал портреты Брежнева. В одном номере насчитал девять. Перелистывая следующий номер, воскликнул: «Одиннадцать!» Когда население, сказал он, зажато, когда ему лгут, правитель не может быть просто деловым человеком, он обязательно – идол!
Отца интересовало, как при «идолах» обстояло дело с порядком в их странах. Однажды он сказал, размышляя вслух: «Муссолини придавил мафию или это оказалось ему не по зубам?» Но то были теоретические вопросы, а отцу не давала покоя повседневность. Мы с ним нередко прогуливались, и его выводили из себя разбитый уличный фонарь, сломанная скамейка, повреждённое деревце. «Так изо всего раздражаться – никаких нервов не хватит», – говорил я ему, но он, разумеется, оставался самим собой.
Его библиотекой пользовались желающие почитать, нередко кто-нибудь не возвращал книгу, отец сетовал, огорчался, но продолжал давать книги. Он обёртывал их бумагой, чего люди не понимали, полагая, что книга «в плохом состоянии». Если же кто-то из любопытства снимал обёртку, то, видя, что книга новенькая, удивлялся.
У отца было отличное зрение, до восьмидесяти лет он читал без очков. Вообще он не был обижен здоровьем, семидесяти лет мог с места вспрыгнуть на стул. Регулярно занимаясь гимнастикой, он не сутулился, не толстел, был «лёгок на ногу», подтянут. В старости его рост составлял 174 см. Волосы, когда-то тёмные, стали белым-белы, но лысины не появилось.
Когда я глядел на него, в сознании возникали фразы Гарсиа Маркеса о его герое-полковнике: «Это был крепко свинченный, сухой человек», «его глаза были полны жизни».
Отец продолжал сотрудничать с газетами, писал о том или ином учителе, о местном шахматисте, о садоводе, а мне думалось: так ли замечательны эти люди, их жизнь, по сравнению с ним и его жизнью?
Герою Маркеса никто не писал, но о нём, был он или не был, написал Маркес и сделал известным на весь мир.
О жизни описанного Маркесом полковника знали все в его городке, а о прошлом моего отца со всем разнообразно интересным в нём не знают. Не подозревают, что пятнадцати лет от роду он пошёл воевать за свободу, стал участником Великого Сибирского Ледяного похода.
Отец в отглаженной матерью рубашке, заправленной в брюки, выходил на улицу, и я мысленно повторял: «Тот, о ком никто не пишет».
К счастью, никто не знал его мыслей о стране. В начале 1980-х в газетах набросились на Рональда Рейгана, который заявил, что СССР – империя зла. «Империя лжи – точнее!» – сказал мне отец.
В 1980-е годы я жил уже не с родителями, а в Кишинёве, где женился. Родилась дочь, и мы с женой в 1986-м привезли её в Новокуйбышевск. Мой отец брал внучку на руки, носил её по комнате; он был очень доволен.
Мы неизменно приезжали и в последующие годы, я регулярно переписывался с отцом.
Его возраст давал себя знать, развивался атеросклероз, начались головокружения. Осенью 1990 года отец упал в квартире, сломал несколько рёбер, они благополучно срастались. 11 декабря (28 ноября по ст. ст.) ему исполнилось 88 лет. Были перебои с подачей горячей воды, и, когда он, моясь в ванне, захотел добавить горячей воды, она не потекла. Он открыл кран полностью, и вдруг горячая вода хлынула. Он не успел вовремя завернуть кран, получил сильный ожог. 30 декабря 1990 года А. Ф. Гергенрёдер скончался в больнице от ожога, поразившего «двадцать процентов туловища» (свидетельство о смерти).
Тогда о нём написали. Журналистская организация Новокуйбышевска опубликовала в городской газете «Знамя коммунизма» извещение о смерти члена Союза журналистов СССР Гергенрёдера Алексея Филипповича и выразила соболезнование семье и близким покойного.
Он немного не дожил до развала СССР. Я в детстве слышал от него, как ему преподавали историю России, он передавал своими словами, что говорили о поездке послов к варягам. Послы им сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите к нам и правьте нами».
Сколько было опровержений в советское время! Один автор написал, что варягами называли русские племена. Ну, никак не хотелось, чтобы считали, что русскими правили иноземцы. О правлении немцев вообще не говорится.
Но вот перед нами история Советского Союза. Он пребывал в безваряжском состоянии, и развалили его сугубо русские люди.
Берлин, 24 июня 2019 года
© И. Гергенрёдер
Приложение с фотографиями